На сером в яблоках коне
МОЙ УЧИТЕЛЬ ГРИША ПАНИН Рассказ
1
В первые же дни на заводе я нажил себе врагов.
И вообще с самого начала все было не так, как я думал.
Прежде всего сам цех, куда оформили меня учеником: это был не обычный производственный корпус, стеклянный и гулкий, как полагается, а обыкновенное белое школьное здание, приспособленное под цех. Дальше на территории стояли настоящие закопченные корпуса, но мне, когда я спросил инструментальный, указали идти к этой самой школе. И будто я опять, как десять лет подряд, бежал сентябрьским утром к первому уроку.
Я поднялся на каменное крыльцо, тоже точно такое, как школьное, и очутился в тесном коротком коридоре, вроде вестибюльчика. Справа стояла открытой дверь в просторное — там было светло от желтого утреннего солнца — помещение: сразу можно понять, что это и есть цех.
В нашем школьном вестибюле обычно висели по стенам плакаты, доски с фотографиями отличников, расписанием уроков, и здесь я тоже увидел красную Доску почета с фотографиями, и точно так же подписи были напечатаны на машинке, и буквы уже выцвели. И еще плакаты, и еще доска, табельная, утыканная гвоздиками, пока пустая, всего с двумя-тремя жетонами. Мне еще нечего было на нее повесить.
Я постоял, ожидая, что кто-нибудь сейчас появится, встретит меня и, может, отведет куда нужно, но нет, пусто и тихо. Только крепко пахло холодным машинным запахом цеха.
Я еще раз огляделся и вошел в ту открытую дверь справа.
В цехе тоже было тихо, пусто и очень светло, окна шли в два ряда, одно над другим — видно, здесь сняли перекрытие между первым и вторым этажами, чтобы вышло высокое помещение.
Вокруг тесно, так и сяк, будто налезая друг на друга, мертво стояли станки, тянулись вдоль стены верстаки слесарей с круглыми, как для пианино, только замасленными табуретами перед ними.
И — ни души.
По стенам висели пыльные выцветшие плакаты по технике безопасности: рисунки, на которых показано, как не надо работать, перечеркивал жирный красный крест. И еще сильнее пахло металлом и маслом.
Я стоял на одном месте, не зная, что делать, боялся, что сейчас придет кто-нибудь, застанет меня и еще выгонит, пожалуй. Кто его знает, может, мне одному и нельзя сюда?
Потом я услышал, как за станками шаркает метла, и скоро в той стороне появилась старуха уборщица. Она двигалась среди толстых желтых снопов света и махала голяком, насаженным на длинную палку, будто улицу мела. Я посмотрел на пол — густо-черный, мягкий, пропитанный маслом, он поблескивал въевшейся в него мелкой стружкой, как подошва стертыми гвоздями.
Я снова огляделся. Как я тут буду, где окажется мое место? И почему это никого нет? Выйти мне пока, что ли?
И тут появился еще один человек. Я стоял спиной к двери и вдруг услышал позади густой голос:
— Чего табель-то не повесил, Ваня?
Я обернулся. На пороге стояла толстая тетка в теплом платке и сером халате, щурилась от света, бившего в глаза, и смотрела сердито. Это была, как я понял, табельщица.
— Глядеть за вами, за кажным! — Она уже чуть сбавила тон — видно, успела окинуть меня взглядом и увидела мои наглаженные брюки (я аккуратно срезал внизу бахрому, а штанины еще до сих пор холодно-сыроваты после моей усердной глажки) и начищенные ботинки. — Чего-то не призна́ю, новенький, что ля?
Я кивнул.
— Небось десятилетку кончил?
Я опять кивнул.
Она, наверное, еще бы что-нибудь сказала, но там, за нею, в коридоре, стукнула дверь, кто-то вошел, и она повернула туда голову.
— Егоровне — наше! — Мне было видно, как вошедший повесил в коридоре на доску свой номерок.
Табельщица отступила, давая дорогу.
Вошел румяный парень, сразу видно — весельчак, плечистый, бодрый такой, рукава у рубашки закатаны. Они с Егоровной улыбались друг другу, парень ткнул ее походя в толстый живот. Егоровна заколыхалась. Я почувствовал, что тоже улыбаюсь, как они, будто тоже участвую в их разговоре и хочу, чтобы они увидели мою улыбку. Парень скользнул по мне веселыми глазами — они у него ярко-голубые, — вот сейчас (я даже подался вперед) скажет что-нибудь, поздоровается, спросит. Но он не задержал шага — прошел мимо, точно меня и нет.
Я растерялся. Стоял как дурак, глядел ему вслед. Егоровна пошла в коридор — там опять хлопнула дверь. Может, он сейчас вернется? Нет, парень скрылся за станками.
Часы показывали пять минут восьмого, дверь стала хлопать беспрерывно. Мимо меня один за другим пошли рабочие. То молодой совсем, вроде меня, парень в надвинутой на глаза кепке, то свежевыбритый загорелый высокий дядька с мокрыми зачесанными волосами, то какой-то щуплый, небритый, с хозяйственной сумкой. Один прихрамывал, другой был с усами, третий в гимнастерке со споротыми погонами. Почти у всех белели под мышкой или из кармана завернутые в газету завтраки.
Я раньше не заметил, вдоль стены стоял ряд узких длинных ящиков — раздевалка, как в бане. Гремели замки и замочки, у каждого свой, открывались узкие дверцы, за ними переодевались: кто, прыгая на одной ноге, влезает в комбинезон, кто натягивает спецовку, кто башмак, мелькнула чья-то широкая загорелая спина. Громыхали дверцы железных тумбочек — такая тумбочка возле каждого станка, — оттуда доставали инструмент, мятые, захватанные чертежи. Обмахивали станки щетками и тряпками.
— Здоров, Вася!
— Иван Иванычу!
— Ну, как вчера-то?
— Кто сверло тиснул?
— Гляньте, Бабкин-то, Бабкин! Сам пришел!
Цех ожил в пять минут. И только до меня по-прежнему никому не было дела. Я стоял на самом виду у входа, все шли мимо меня, и хоть бы что, будто сговорились, будто я столб какой. Я ожидал чего угодно: что меня окружат, станут рассматривать, может, посмеются, как бывает с новенькими, или заставят силу показать, спросят, что умею. Но меня просто не замечали.
Конечно, все торопились, я видел, что торопились, но все равно… Лишь один сутулый старик кинул на ходу: «Ученик, что ли, опять?» — и тут же отошел, да еще вертлявая, с накрашенным ртом молоденькая работница, за эти десять минут раз пять успевшая пробежать мимо меня туда и сюда, с любопытством стрельнула глазами.
Наконец появился человек, мне знакомый: пожилой, осанистый, лицо выбритое, мясистое — мастер Дмитрий Дмитрич. В кожаной потертой куртке и кожаной кепке, похожий на старого боцмана, тем более что не выпускал изо рта короткую трубку. Я разговаривал с ним в отделе кадров. Вернее, он присутствовал, когда я говорил с инспектором, сонно, начальственно кивал, а потом сказал нехотя: «Ладно, оформляй, поглядим».
Теперь я обрадовался, шагнул навстречу, но и он всем видом дал понять: сейчас не до меня. Попыхивая трубкой, подошел к большому щиту — я его тоже раньше не заметил — и, оглядев сразу весь цех, собственноручно двинул снизу вверх здоровенный рубильник. В цехе уже не было суеты, и каждый находился на своем месте — кроме меня, конечно. Мастер включил ток, и сразу как бы подземный гул, живой и сильный, наполнил здание, и тут же оглушительно (как в школе) загремел звонок — мне с моего места видно было, как толстая Егоровна в коридоре, протянув руку, тоже нажала там кнопку или рубильник и так стояла в важной позе. И вот уже завыли, набирая обороты, моторы, и заскрипело, завизжало железо.
На часах было семь пятнадцать.
— Товарищ мастер, — сказал я Дмитрию Дмитричу, когда он оказался рядом со мной, — а, товарищ мастер?..
Его, наверное, никто так никогда и не называл, он сердито глянул и буркнул на ходу:
— Вижу, подождешь…
Да… А я думал, все будет не так.
2
Нас, новеньких, оказалось четверо: Титков, Мирошниченко, Володя Беляев и я. В ноябре некоторые ребята из цеха уходили в армию, и нас поэтому взяли на замену. Титков и Мирошниченко уже отслужили, оба носили еще гимнастерки и сапоги; Володя вроде меня пришел из школы, только он успел год поработать: возил на мотофургоне торты по булочным; ему надоело, и он решил идти на завод.
Это был парень что надо. Он сразу сумел себя поставить, не то что я или, например, Мирошниченко. О нем уже все знали, когда я пришел. Его послали сначала на резку, резать заготовки, к Пилипенко. Резальная — отдельная тесная каморка, заваленная круглыми, метра по полтора длиной, тяжеленными стальными болванками. Стоял один маленький резальный станок, и вся работа заключалась в том, чтобы заложить в станок стальной брус и отреза́ть заготовки разных размеров. Станок пилил сам, только присматривай, подвигай брус. Пилипенко в полчаса объяснил Володьке всю нехитрую технику. «Понял, милок?» Он всех так называл: «милок». Он был кругленький, низенький и беспечный; высокий, модно подстриженный Володька головы на две его выше. «Ну, милок, я пошел», — сказал Пилипенко Володьке через полчаса после знакомства, и чуть не до обеда Володька его больше не видел.
Это Володька сам потом рассказывал, как дело вышло: брус, говорит, неподъемный, его в одиночку и не сдвинешь (он весь размечен мелом, и, когда один кусок отвалится, надо станок остановить и подвинуть заготовку, пока другая белая отметина придется под пилу). Весь потом обольешься, пока справишься. Хорошо, люди все время в резку заходят брать материал — кто-нибудь помогал. А Пилипенко приходил на минутку, вытаскивал из карманов спецовки латунные пластинки, проволоку, винтики, перекладывал к себе в пиджак и хитренько подмигивал. Володька сразу понял, что это он подмигивает. «Телевизор, что ли, собираете?» — спрашивает. А тот «ха-ха» да «хи-хи»… И вот так покрутится две минутки, спросит: «Ну как, мол?» — и опять: «Ну, милок, я пошел».
И вот Володька (я бы, конечно, ни за что так не сумел) на третий, что ли, день, с утра, пока Пилипенко переодевался у своего железного ящика, быстро запустил станок, отер руки ветошью и небрежно сказал старикану: «Ну, милок, я пошел». Тот так и остался с открытым ртом, а Володька — к начальнику цеха.
И в тот же день его прикрепили к Водовозову, хорошему токарю.
Всю эту историю узнал я, к сожалению, много дней спустя.
Но самое интересное, что вместо Володьки послали на резку Мирошниченко, и тот там так и застрял. Мирошниченко был совсем другой человек — долговязый, сутулый, с длинным прыщавым лицом, ходил в распоясанной гимнастерке и шаркал ногами, как старик. Он ленился даже разговаривать и двигался медленно и сонно. В цехе ему живо приклеили прозвище: Секундомер. Лучше не придумаешь. Другого такого покладистого подмастерья Пилипенко, наверное, в жизни не видел: молчит и молчит.
Лучше всех устроился третий из нас — Титков. Мастер Дмитрий Дмитрич родственник ему или из одной деревни, и Титкову сразу дали станок, учили как полагается. И сам он старался изо всех сил. Он был здоровый, загорелый, лицо круглое, курносое. «Сразу видно, с чистого воздуха человек», — сказал о нем кто-то. Но стоило только поглядеть, как он вился перед тем же Дмитрием Дмитричем. Мастер подойдет, и — руки по швам, глаза выпучит, а сам в одной майке, весь потный от усердия, блестит, волосы на лбу прилипли. «Ну чего ты, чего ты? — забормочет мастер. — Работай, я так, поглядеть». И старается побыстрее отойти, самому неудобно, а тот еще стоит и вслед смотрит. Я, когда узнал, что он тоже ученик, не поверил: настолько Титков был уже свой человек, всех знал, всех величал по имени-отчеству.
Сам я работал на обдирке. В тот первый день меня так и не нашли, куда приткнуть, и лишь на другое утро Дмитрий Дмитрич подвел меня к двум большим станкам в самом углу, к двумя старым, облезлым «вандерерам». Между станками, на ящике, прислонясь к стене, сидела и дремала белобрысая, полная, лет двадцати, девчонка в брезентовом фартуке и растоптанных мужских ботинках без шнурков на босу ногу. Она нехотя разлепила глаза, медленно поднялась. «Покажешь ему!» — пересиливая шум цеха, крикнул мастер. И все, весь разговор. Я с интересом глядел даже на эти старые — видно сразу, что старые, — гробы, а Тома — ее звали Тома — уставилась на меня и молчала. Станки скрипели и сотрясались, как на привязи. Обливая их, струясь вверх паром, текла из трубочки белая эмульсия, брызгала Томе на фартук и ботинки. Сыпались толстые, обрубленные, как мелкие осколки, стружки. Круглая болванка была зажата в тиски, и толстая фреза со скрежетом медленно ползла по ней. Это и была обдирка — сдирать с куска стали лишний толстый слой, чтобы получалась заготовка. Тома показала мне, как ставить и снимать фрезу, крепить деталь, пускать станок на самоход. Ничего хитрого, и на другой день, запустив станки, мы уже вдвоем сидели на ящике: она дремала, я глядел в одну точку.
Я проходил мимо токарей и видел две склонившиеся над станком головы — голову Водовозова в кепке и Володькину с тонким обручем, чтобы держать волосы: хоть у него была короткая стрижка, но он уже успел завести себе стальной зажим, какие бывают у некоторых парней в цехе. Володька уже что-то вытачивал, сам запускал станок, подмигивал мне издали. Рукава засучены. Я хмуро отворачивался, завидовал. Когда же меня-то начнут учить по-настоящему?
Вообще-то по всяким документам считалось, что меня должен учить фрезеровщик седьмого разряда Панин Г. П., но Панин был в отпуске.
«Панин, Панин…» — только я и слышал. Дня через три, набравшись смелости, я подошел к Дмитрию Дмитричу, а потом к другому, молодому мастеру, которого все звали просто Мишкой, в пиджачке с нарукавниками, как у инженера или технолога, в галстуке, повязанном на ковбойку. Я решил спросить, когда же дадут мне какое-нибудь дело. Дмитрий Дмитрич стоял спиной, покачивался, попыхивал трубочкой и даже не обернулся на мой голос. Отросшие на затылке светло-седые волосы мастера колечками завивались на край кожаной кепки, толстые плечи под кожаной курткой были как стена. Не меняя позы, он пальцем поманил к себе пробегавшего мимо парня с новеньким, еще в бумаге и масле, длинным сверлом в руке.
— Второе, что ль, нынче?
— Первое, Дми-Дмитрич, ей-богу, первое. — Парень испугался, залебезил, противно было смотреть.
— Ври!
— Чес-слово, Дми-Дмитрич, хоть у кого спросите…
— Ладно, чеши!
Парень побежал, суетливо оглянувшись, а мастер, хмыкнув, медленно пошел следом. На меня так и не обернулся. Ну, не свинство? С кем-нибудь другим так бы не обошелся.
Мишка же, молодой мастер, вечно в отличие от Дмитрия Дмитрича спешащий, болтливый, с одним и тем же радостным, оживленным выражением толстогубого лица — он со всеми запанибрата и даже как бы заискивает перед рабочими, — остановился на бегу, весело хлопнул меня по плечу, бодро, ликующим своим голосом объяснил:
— Ну что ты? Тебя же Панину дали-то. Вот вернется Панин, и порядок будет. Не тушуйся. Панин — человек!
Он хлопал по плечу, тараторил, но сам тоже смотрел куда-то по цеху, торопился, и, наверное, спроси его через минуту, какой такой я из себя, он и не скажет. Все спешка, спешка, норма… А мне тоже хочется давать норму, спешить, а не слоняться и не сидеть с Томой на ящике…
Я носил от Пилипенко к своим станкам на пузе тяжелые заготовки через весь цех, по скользкому полу, а когда заикнулся, что, мол, нет ли какой-нибудь тележки, меня осмеяли. Я сказал, что это нехорошо — гнать металл в стружку, — надо выточить какой-нибудь спичечный коробок, а металла берут с почтовый ящик, — мне ответили: не твое дело, без тебя знаем, будут еще тут всякие молокососы свои порядки заводить. Я подходил в обед к играющим в «козла» или к какой-нибудь группе, где хохотали и что-то рассказывали, подходил с готовой тоже улыбкой, но все тотчас замолкали и иронически глядели на меня — до тех пор, пока я, краснея, не поворачивал обратно. Один парень подкрался к моей Томе сзади и облапил ее, продев руки под фартук. Она крутилась, молча отбивалась, я подбежал, крикнул: «Ты что?» Парень обернулся, загоготал, не выпуская Тому, повернул ее и толкнул на меня: «Твоя, что ли? На!»
Тот самый голубоглазый веселый малый, Володька Мороз, которого я увидел в цехе первым и который казался, мне вообще-то симпатичным, ни с того ни с сего крикнул мне как-то в спину: «Эй, интеллипупция! Покажь ладошки!» И толсторожий Титков, оказавшийся рядом, подобострастно загоготал. Табельщица Егоровна — она каждого называла Ваня — кричала мне свирепо: «Ты что ж, Ваня, опять табель не снял?» Она стала просто караулить меня — я всякий раз забывал про этот чертов табель.
Я убирал чужие станки и выносил из цеха на горбе в железном ящике стружку. Я поссорился даже с Секундомером: унес какой-то кусок стали, чужой, ему за это попало, он меня обругал, я тоже сказал: «Да пошел ты!» — и самому стало противно.
В обед я выходил из цеха и шел не в столовую, где была давка и все свои, а к проходной. Тут, сразу за заводскими воротами, шла обыкновенная улица, торопились прохожие, гремели трамваи, стояла очередь за арбузами и капустой. Все знакомое, привычное. Тут же, неподалеку за углом, точно спрятавшись от чистого, торжественного входа на завод, тесно стояли, слепившись друг с другом, пивнушки, шалманчики, павильончики всякой масти, величины и класса. После работы здесь не протолкнуться, позади тесного фасада пивных, на задках, среди ящиков и бочек, пили пиво и притаенную водку, колотили о край бочки воблой, вели, размахивая руками, долгие разговоры. Иногда затевался скандал или драка — ссору разбирали сами, не допуская ни милиции, ни дружинников.
Я покупал в одной из палаток, чинных и скучных сейчас, днем, две теплые пузатые сардельки или тройку мятых, резиновых пирожков с печенкой или повидлом, садился на скамью в соседнем чахлом скверике и одиноко глядел, как ребята с завода, чумазые, промасленные, вырвавшиеся на перерыв, гоняют по пожелтевшим, замусоренным газонам мяч. Перерыв — сорок пять минут — как раз тайм. Бегали и тоже на ходу жевали. Я бы и сам с удовольствием погонял, постукал, но и без меня хватало желающих, да и куда вообще мне лезть? И я сидел один на скамье, осыпанной сухим листом, глядел на чистое небо, исполосованное молочными полосами реактивных, и на новенькие, белые, из силикатного кирпича, длиннющие трубы соседнего завода, из которых шел то черный, то оранжево-красный дым. Старик с девочкой стояли рядом на дорожке, глядя на футбол: где-то неподалеку, гремя, падая, будто низвергаясь, проносилась электричка; тяжело ухало на заводе; за высоким каменным забором железно скрежетал трамвай. Взять вот и не возвращаться больше. Что я себе работы не найду?.. «Васька, пас!», «Женечка, откинь!.. Сзади, сзади!» — кричали играющие. Я едва проглатывал свои тугие сардельки. Ну отчего так? Всем чужой, никому не нужен. Женщина катила по дорожке коляску с малышом в розовом чепчике. Она так поглядела, будто хотела спросить: «Что это, мол, паренек, с тобой, чего ты?» Я отвернулся.
Еще этот Панин! Я ждал его не знаю как; казалось, произошло какое-то недоразумение, а вот придет Панин («Панин — человек!»), сразу во всем разберется, все поймет — и все станет на свое место.
3
Пока Панина не было, на его станке работал Филя Зуев. Станочек маленький, аккуратный, новенький, самый точный на всем фрезерном участке, на нем делали особо тонкие и сложные детали. Не дай бог к нему притронуться кому-нибудь. Филя нервный, крикливый, с ранней лысиной, вид всегда замученный. Я уже через два дня знал, что у него больная жена, трое детей, живет он за городом на частной квартирке — он без конца жаловался и говорил об этом: о своей больной жене, детях и плохом жилье. Он все время отлучался — то в завком, то в партком, вел там переговоры насчет квартиры, детских яслей, пособий. Работал он, как мне казалось, бестолково, неряшливо, суетливо. Я смотрел и думал, что сам, когда научусь, лучше буду работать. Правда, возле этого станка без конца толпился народ, Филю подгоняли. Шел как раз какой-то сложный штамп, и на сборке уже ждали эту деталь, которую Филя вытачивал четвертый или пятый день подряд. Подбегал мастер Мишка, степенно подходил Дмитрий Дмитрич, являлись с четвертого этажа (там за окнами видны белые рулоны на подоконниках, чертежные доски с кульманами) молодые технологи в галстуках и еще некто самый главный, огромного роста, толстый и чистый, пахнущий одеколоном. Все собирались вокруг станка, оттеснив Зуева, тыкали пальцами в деталь, делали замеры микрометрами, лезли под самую фрезу, едва не стукаясь головами, а Зуев суетился за их спинами, заглядывал. После смены на станке оставалась стоять зажатая в тисках, как и вчера и позавчера, плоская круглая матрица, вроде бы обыкновенный кусок металла, а на самом деле сложнейшая деталь: в ней десятка четыре крупных и мелких отверстий, в отверстия загнаны сверла, чтобы матрицу не сжало, и она похожа на крохотный стальной лес. Мастер Дмитрий Дмитрич говорил: «Смотри, Филька, смотри у меня, если запорешь. Панина-то нету…»
«Панин, Панин…» Где же ты, Панин?
А тут вышла со мной, перед самым возвращением Панина, еще одна глупая история. Я два дня потом глаз ни на кого не поднимал от стыда. Как-то утром мастер Дмитрий Дмитрич послал меня в инструменталку — в кладовую, где хранятся и откуда выдают сверла, фрезы, метчики, ключи, напильники и тому подобное. Туда пришла новая партия инструмента, и надо было помочь разложить все из ящиков по полкам, пересчитать и составить списки, сколько чего получено. «Все равно болтаешься», — сказал мастер мрачно, как будто я был виноват, что болтаюсь.
Инструменталка — узкая, длинная комната; кроме полок, там стоял письменный стол и на низком подоконнике электроплитка с чайником. Заведовала всем этим Лена, молодая женщина с накрашенными губами, сильно затянутая в синий халат. «Это я сама попросила, чтобы мне тебя прислали», — сказала она сразу, как только я переступил порог. Она усадила меня за стол, а сама села на него, так что ее обтянутые тонкими чулками колени оказались у меня прямо перед глазами. И она не закрывала больше рта ни на секунду. Рассказала мне всю свою жизнь: и что она выгнала мужа-пьяницу, и что у нее двое детей, а мать-старуха не хочет ехать из деревни в город, и что все ей завидуют и думают о ней бог знает что. Я расчувствовался. Мне тоже хотелось рассказать ей о себе и пожаловаться, только ни словечка нельзя было вставить.
Лена включила плитку, в инструменталке стало жарко, мы пили чай с конфетами-подушечками. Рабочие приходили и стучали в фанерное окошечко, в которое Лена выдавала инструмент, но она не открывала и кричала, что у нее переучет, инвентаризация и все такое.
В конце концов рабочие пожаловались мастеру. Дмитрий Дмитрич явился и стал стучать трубкой в дверь. Лена открыла. Ввалилось сразу человек десять. Лица у нас обоих пылали от чаю, жара плитки и наших разговоров, списки лежали на столе пустые, ящики стояли раскрытые, неразобранные, блестели промасленной бумагой. И еще эти стаканы на столе, конфетки в кулечке. Вошедшие за спиной мастера давились от смеха. «Опять ты мне тут черт знает что устраиваешь?» — сурово сказал Дмитрий Дмитрич Лене, а мне кивнул на дверь, чтобы уходил. Я едва протискался, не поднимая глаз, мне вслед говорили: «Ну как, парень? Как тут насчет инструменту-то, в порядке?»
Потом Володька Мороз подошел ко мне со старым сверлом и напильником в руке и невинно попросил: «Эй, новенький, может, сходишь сверлышко сменяешь, а то у меня Ленка не берет. А тебе-то даст небось, а?» И тут же подошедшие как бы случайно вместе с Володькой другие ребята дружно загалдели: «Ему-то? Даст, ясное дело. Даст!» И потом — «гы-ы-гы! Го-го-го!» Хоть плачь.
Но вот, наконец, появился Панин. Я не ожидал его в тот день, не думал. Он, правда, пришел просто так, как бывает, когда до конца отпуска остается еще два-три дня, но человек уже вернулся в город и заходит на работу узнать, как и что, какие новости. Мы волокли с Томой от Пилипенко тяжелый ящик с заготовками, и я вижу, у Филиного станка столпились наши фрезеровщики, еще подумал, опять что-нибудь проверяют, но потом смотрю, среди них один незнакомый парень в белой рубашке, невысокий, смуглый, черноволосый, смеется, и все вокруг тоже смеются, и понятно, что это они его окружили. Он ладный такой, крепкий, хоть и маленького роста, и на вид лет двадцать пять, не больше. Я и не подумал, что это Панин, но там, в их группе, когда мы с Томой приблизились, кто-то, видимо, сказал обо мне, все повернулись в нашу сторону, и этот, в белой рубашке, тоже. Может, еще начальство какое или по комсомольской линии, а я до сих пор на учет не стал?..
— Здорово, Томка! — крикнул он издали.
Томка заулыбалась, быстро глянула на меня: мол, видишь, кто пришел-то, и направилась туда, ко всем. Хоть бы сказала, дурища, что это и есть Панин. Я наклонился, выгружаю заготовки из ящика как ни в чем не бывало, но самому интересно, и чувствую, они тоже на меня посматривают и говорят там обо мне. Уж не Панин ли? Все побросали свои станки, стоят покуривают, и видно, что рады ему. Слышу, кто-то спрашивает:
— Так ты, Гриш, с женой был-то?
Он что-то отвечает, и все опять смеются. Гриша? Неужели Панин на самом деле? И симпатичный такой, нестарый. У меня сердце заколотилось. Надо же, Панин!
А тут кто-то из них кричит:
— Э, новичок, поди-ка!
Я еще медлю, не верю.
— Меня, что ли? — спрашиваю.
— Ну да, иди, познакомься.
Я подошел, они расступились, пропуская меня к Панину. Он руку протянул. Я наспех оттер свою ладонь от масла, мы поздоровались.
— Ну, здоров, — сказал он. — Григорий меня зовут, Гриша. Мне, значит, тебя дали?
— Да, как будто вам. — Я едва смог пролепетать эти слова, волновался. Уже потом Томка рассказывала: «Ты чудак какой-то все-таки, прямо побледнел весь, как будто сейчас заплачешь». И она же рассказывала, что, когда мы подошли со своим ящиком, Панин у ребят спрашивает: «А это что, новенький, что ли?» — «Ну да, — говорят ему, — четверых взяли». — «Мне, что ль, опять?» — спрашивает Панин. «Тебе». — «Вот елки-моталки. Ну и как малый? Из десятилетки, что ли?» — «Точно». — «Фу ты, черт!» Тут Томка вмешалась: «Да вы позовите его, он и так все спрашивает, когда Панин придет. Хоть познакомиться». — «Успеется», — сказал Панин. «Да ладно, позови», — сказал еще кто-то, и тут меня позвали.
Сам Панин маленького роста, а голова, лицо — крупные, брови и глаза черные, черты лица точные, и весь он быстрый, живой, заметно отличимый от всех, и видно, что крепкий, уверенный в себе человек, немножко небрежный. Когда я сказал ему «вы», тут кто-то сбоку, кажется, Филя, объяснил, посмеиваясь, про меня:
— Он у нас вежливый. Культурный малый.
— Профессор!
Это уже гоготнул Володька Мороз. Он теперь перестал называть меня «интеллипупция», а перешел на «профессора». Я все время таскал с собой в цех книги, читал в трамвае или в перерыв; я ведь мечтал об университете, об истфаке, учил самостоятельно латынь. Тот же Володька небрежно, походя, по-хозяйски взял у меня однажды в обед из рук книгу, стал смотреть обложку. «А ну поглядим, что тут читает наш профессор». — «Ладно, отдай», — сказал я. «Ладно, не съем», — ответил он довольно мирно, раскрывая книгу. Это были записки Цезаря о Галльской войне. «Ого, даешь! — сказал Володька. — Это который кинжалом там кого-то запорол, Цезарь-то?» — «Это не он, а его». — «А-а, ну да, я помню, я учил. Дашь почитать?» Я пожал плечами. «Ну ладно, не надо», — тут же согласился Володька и, паясничая, с поклоном отдал мне книгу, держа ее двумя руками.
— Чего профессор? — возразил еще кто-то. — Гвардеец!
Это было другое мое прозвище. Я носил оставшийся от отца военный китель с желтыми пуговицами, он сидел на мне мешком, и рукава я подвертывал, и синие офицерские брюки с кантом, которые мне подарил сосед-майор, Федор Алексеевич. Брюки перешили, а кант не выпороли. Вот за этот наряд меня и назвали гвардейцем.
Они посмеивались сейчас надо мной, но я видел, что на этот раз без злобы, добродушно, и сам тоже робко улыбался.
— Ты в инструменталку сам теперь не ходи, — сказал Панину Юрка Корольков, еще один наш фрезеровщик. — Его посылай, он тебе все достанет.
Все на разные голоса загоготали. Я залился краской. Панин оглядывал всех с вопросом, ожидая, чтоб ему рассказали, в чем дело.
— Ой, умру! — стонал Володька. — Чаем поила!
— Да ладно вам! — сказал Панин. — Ленка, что ли, опять?
Филя быстро, привирая, рассказал ему, как Лена со мной заперлась в инструменталке, и вроде уж чуть ли никто в цехе и не работал, все бегали в щелку смотреть, как мы там с ней чаи распиваем и прочее.
— Да ну, не так это все, — сказал я хмуро.
— А как? А как? — подскочил ко мне Филя. — Обжал ты ее, обжал?
— Да ну вас! — сказала Тома.
— Она сама кого хочешь… — сказал Юрка. — Уж я-то знаю.
— Ты-то что, ты-то, конечно! — сказал Панин, и опять все загоготали, глядя на Юрку, вспомнили уже, видимо, какую-то другую историю, насчет Юрки.
Вот так благодаря Панину в первый раз стоял я вместе со всеми, участвовал в общем разговоре и почти не чувствовал себя чужаком, не думал мучительно и растерянно, как все время думал, что я будто с луны сюда свалился. И еще я почувствовал, что не до такой уж степени существую здесь сам по себе, никем не замечаемый, — все, оказывается, обо мне знали, все видели, приглядывались. Что ж, был рад. Мне стало легче.
— Я в понедельник выйду, — сказал мне Панин. — В вечернюю. Давай договорись с мастером, выходи в вечер тоже.
Я вечерами сидел в читальне, потом на мне была обязанность забирать в шесть братишку из детского сада, но сейчас я об этом не вспомнил.
— Хорошо, — сказал я. — Ладно. Обязательно.
И в следующий понедельник вышел в вечернюю смену.
4
Стол Дмитрия Дмитрича стоял на другом конце цеха, у окна, ничем не огороженный, всегда чистый: чернила, ручка, какой-нибудь чертеж на углу, прижатый новенькой деталью, и ничего больше. Мастер редко сидел за столом. Сейчас, пожалуй, впервые за три недели я видел его на своем месте. И к тому же без кепки и в очках. Он подписывал наряды. Привинченная к стене лампа — точно такая, какие укреплены на станках, только на раздвижном штативе, как у чертежников или слесарей, — освещала стол. Мастер перекладывал наряды справа налево, из одной аккуратной горки в другую, исписанным вниз, чтобы никто не заглядывал, какие он ставит расценки. Мы подошли к его столу вместе с Паниным.
— Ну? — строго спросил мастер. Он прикрыл ладонью лежавший перед ним наряд и нетерпеливо глядел на нас.
— Я вот что. На станок надо парня поставить, — сразу сказал обо мне Панин. — Сколько ж ему…
— Поставим! — оборвал мастер. — Знаю.
С этим надо было и уйти. Но Панин не ушел.
— Сегодня, Дмитрич, надо поставить, — сказал он терпеливо.
— Ты видишь, да? — мастер кивнул на наряды.
— Понятно, — Панин тоже кивнул. — Там «вернер» пустой стоит, на котором днем этот, тоже новенький, работает, как его?..
— Титков, — подсказал я тихо.
— Вот, Титков. Так он пустой стоит. Я его, — Панин кивнул на меня, — на «вернер» поставлю.
— Успеет!
— Ну, Дмитрич…
— Успеет! Все равно сбежит через год.
Вот оно что! А я-то, дурак, ходил за ним, просил…
— Почему это? — сказал я хмуро.
— А то у нас таких не было, мы не знаем! — Мастер обратился к Панину: — Ты сколько того Валеру своего учил? А где он? В мячик играет? То-то…
Я даже растерялся, непонятно было, почему он говорит так зло и старается меня обидеть. Панин, чуть склонив голову, слушал.
— Придут, понимаешь, на два дня… Больно много ученых развелось, работать ни черта не хотят. — Мастер снял очки, мясистое лицо его покраснело, он перевел теперь глаза на меня и глядел, ей-богу, с ненавистью. — Вот ты? Я тебя насквозь вижу. Книжки в голове. Рабочим, что ль, будешь? Как вот он, — толстым пальцем в Панина, — или как я? Что в колхозе, что здесь. Все учатся, учатся… А горб гнуть — дядя…
— Ну ладно, Дмитрич, все мы теперь учимся…
— Ты не ладь — учимся! У меня план. А мы на этих цуциках каждый год теряем…
— Ладно, Дмитрич…
Я уже не мог больше. За что он так? Что я-то ему сделал? Если в университет хочу, так все равно на заочное, а на завод я по-настоящему пришел и никакой работы не боюсь. Может, я… Но даже если так, ему-то что? Я уж и без того наслушался всяких таких слов от соседа Федора Алексеевича, довольно. Вот, мол, каждый должен трудиться, руками должен что-то делать, вот этими вот руками своими, ручками, чтобы мозоли и чтобы на чужом-то хлебушке не сидеть… Он мне старые штаны с кантом подарил, и вообще они нам помогали, так что Федор Алексеевич считал себя вправе быть мне вроде бы вместо отца. А я слушал покорно, и кивал, и только молча, про себя, отвечал ему, что надо быть дураком, чтобы говорить всякие такие вещи в двадцатом веке при современной системе разделения труда. Просто ослы, честное слово!
А мастер все продолжал насчет «щипанной интеллигенции» и тому подобного.
— Ученые тоже нужны, — угрюмо сказал я.
— А! — Он махнул в сердцах рукой. — Ученые! Чужой хлеб жрать вы нужны!
«А врачи? А вот эти станки, а машины, а эта лампа?» — хотел я сказать первое пришедшее в голову и совсем было раскрыл рот, но Панин глянул искоса: молчи, дескать, и я ничего не сказал.
— Так договорились, значит, Дмитрич? — сказал Панин опять очень терпеливо.
Мастер отбуркнулся и уткнулся в наряды: Панин подмигнул мне, и мы отошли.
Так я получил станок.
Как мне нравилась вечерняя смена! Цех становился красивым: уютно горят лампы над станками, освещая только рабочую часть станка и руки, все на своих местах, никакой лишней суеты, людей мало, чисто. Не видно ни технологов, ни мастеров, никто не останавливается у станка, не глазеет, не говорит тебе под руку, так ты работаешь или не так. Оглядишь весь цех — все спокойно, мирно, немного загадочно. Все заняты делом, и ты тоже наравне со всеми — что может быть лучше.
За то время, пока я слонялся по цеху, я все-таки понаблюдал, кто и как работает, кое-что заметил, и Грише не пришлось объяснять мне все с самого начала. Он просто давал мне чертеж, говорил, каким инструментом лучше работать, когда сменить фрезу на сверло или наоборот, на какой скорости лучше резать ту или иную сталь. Если у меня не ладилось, я подходил и спрашивал. И он сам несколько раз за смену отрывался от своего станка, наведывался ко мне. Постоит, посмотрит, скажет одно-два слова и отойдет. Так я выточил свои первые детали: небольшие кубики, пластинки, и все было в порядке, наряд оформили на мое имя, детали принял ОТК, и они пошли дальше в дело.
Мой «вернер» был большой, солидный станок, еще не старый, послушный. Гриша говорил, что опытный человек любую работу на нем может делать, от самой грубой до самой тонкой. Я не меньше часа тратил в первое время в конце смены, чтобы вычистить станок, протереть, смазать, и он стал совсем как новенький. Титков, мой сменщик, как я заметил, тоже оставлял мне станок безукоризненно чистым. Тумбочка нам тоже полагалась на двоих, сначала нам нечего было в ней держать: я клал книги, тетрадки, Титков бутылки из-под молока и чистую ветошь и тряпки, которые он потихоньку собирал по цеху, а потом уносил домой. Через какое-то время нам выписали личный инструмент — ключи, штангенциркули, напильники и прочее, и тумбочка стала такой же, как у всех: там и инструмент, и чертежи, и масленки, и недоделанная деталь, и пирожок с рисом — все твое хозяйство. Я, как было у Панина, выстелил тумбочку чистой бумагой, все укладывал аккуратненько, Титков сначала тоже, но потом опять забил свой ящик тряпками, бутылками, запихивал туда хозяйственную сумку, с которой ходил на работу.
Гриша был чистюля. Стоило только поглядеть теперь на его станок — Филе и не снилась такая чистота. Когда у меня не было работы, я стоял рядом с Гришей, смотрел, как он работает, и он по ходу дела объяснял мне, что и как, иногда просил что-нибудь подержать, поделать, я тут же бросался и подавал, приносил. Но это редко. Иногда я видел, что он хочет меня за чем-нибудь послать, попросить, но стесняется. Один раз я говорю: «Ты устал, давай я тебе станок уберу, все равно ничего не делаю». — «Ну вот еще! — отвечает. — Не вздумай!»
Нравилось мне смотреть, как он работает. Быстро, ловко, легко, не то что Филя. И все время ветошь из рук не выпускает, так и держит комочком в левой руке и все время отирает то деталь, то станину, то рукоятки. Без конца замеры делает, чтобы все было точно, чтобы ни одной заусеницы на детали не осталось. Иногда ему приходилось минут сорок-час отлаживать станок, устанавливать фрезу, чтобы потом за минуту провести одну какую-то бороздку, — я бы поленился, честное слово, зажал бы деталь в тиски да махнул напильником, а он нет. Маленький, в чистом комбинезоне, сосредоточенный, быстрый — таким и вижу его. И не отмахнется, как ни занят, не зарычит, не выругается. Очень красиво работал — можно просто стоять и смотреть.
Я ему без конца что-то рассказывал, меня как будто прорвало — и о себе, и о школе, об отце, о книгах, которые читал. Он работает, двигается быстро, меняет сверло через каждые пять минут, а сам слушает, улыбается, поддакивает. Я облокочусь о станину поближе к нему и треплюсь, треплюсь, даже самому странно. «Я тебе не мешаю?» — спрашиваю. «Нет, валяй, интересно». Если к слову придется, он тоже расскажет что-нибудь — про армию, как служил, про жену или про дочку — у него уже дочке было шесть лет, а самому не двадцать пять, как мне показалось, а тридцать два. «Я сам всегда, знаешь, кем хотел быть? — рассказывал он мне с усмешкой. — Геологом. Очень хотел. Теперь вот, когда там в кино где-нибудь или по радио про геологов, я всегда иду смотрю, вроде родственное что-то. Но не вышло. Из ремеслухи сразу на завод, потом вроде зарабатывать стал, а там армия, женился, ну вот такая петрушка…»
«Послушай! — подозвал он меня как-то. — Поди-ка, может, знаешь…» Я подошел. Он разложил на своей тумбочке довольно большой чертеж — коричневая синусоида ползла через лист — и тут же на обрывках бумаги что-то высчитывал. Сбоку лежал еще раскрытый на логарифмических таблицах справочник. «Чего-то не соображу», — сказал Гриша. Мы стали разбираться вместе — оказалось просто, тригонометрию я любил — и скоро нашли ту цифру, которая нужна. «Надо же… — сказал Гриша и добавил: — А ты у меня молоток!» Я растаял.
Он показал мне дорогу в опытный цех. Мы, инструментальщики, были, оказывается, частью этого цеха, филиалом, что ли, а опытный — главная база. Все «старики» — Пилипенко, Водовозов, Филя, Дмитрий Дмитрич, сам Гриша — там раньше и работали, пока их не перевели сюда, в «школу». И работали мы в основном на заказах опытного — все наши детали шли туда. А там, в свою очередь, стояли станки, каких у нас не было, и, например, так называемую разметку, когда надо точно нанести предварительно размеры на ту или иную деталь, делали только в опытном. И термитка была там и многое другое. Гриша как раз отправился делать разметку и спросил, был ли я уже в опытном. Нет, я и знать о нем не знал. «Ну что ж ты», — сказал он.
Мы шли по заводу, он рассказывал мне, какой где цех: вот этот недавно выстроен, а вот этот горел два года назад, такой пожарище был, не дай бог, а асфальт и деревца — это совсем недавно, при новом директоре. Мы поговорили еще насчет того, что наш завод делает, — до этого никто со мной об этом не говорил. Мы шли быстро, деловито, и все, кто нам встречался, тоже двигались так же.
Опытный меня поразил. Вот это был цех! Огромный, чистый, теплый, станки стоят просторно, рядами, под одним углом к проходу. Светло, как на улице. Возле окон кадки с фикусами. Парни и девчата почти все в одинаковых комбинезонах, в беретах — не цех, а картинка! Ездят желтенькие немецкие автокары, развозят к каждому станку заготовки, забирают готовые детали. А высота, а воздух! Надо же, совсем рядом, пять минут ходьбы, наша шарашкина контора — и такая красота! «Год только после реконструкции, — объяснил Гриша. — Поддерживают, видишь. А раньше тоже друг на дружке сидели, грязь по колено…»
Ну и цех! И огромный, из одного конца другой не видно, а главное, эти фикусы! Как будто я в другой стране побывал, честное слово. «Сюда бы надо попасть, — думал я. — Тут бы по-другому было». Мне казалось, что и люди здесь другие и работа. Но ничего, теперь у меня Панин, ничего.
После смены мы выходили вместе, нам было по пути: Грише на электричку, мне на трамвай. Уже зарядили дожди, мы торопливо шагали по темной улице, по мерцающим под фонарями лужам, и опять я что-то говорил, рассказывал — я теперь ему все мог сказать. «Да, брат, — задумчиво отвечал он. — Да-а. Ну пока, до завтра». Расстанемся, попрощаемся, и я бегу дальше, и настроение у меня прекрасное. Стою потом в толпе на остановке — народу много, все со смены, — и если увижу кого-нибудь из наших, из цеха, кивну, как своему, или переброшусь двумя-тремя словами. Хорошо все-таки, повезло мне, не зря я столько ждал, он именно такой человек, как я думал, просто отлично, что я к нему попал, просто здорово.
Возбужденный, приезжал домой, нарочно гремел погромче крышками на кастрюлях, отыскивая, что бы поесть, мать просыпалась — у нее прямо-таки условный рефлекс на звон кастрюль, — я присаживался возле нее на пол и быстрым шепотом рассказывал, какой Панин человек. «Ты свой китель и штаны в коридоре повесь, — говорила она, — от тебя очень заводом несет, работяга…» — «Да? — переспрашивал я. — Правда?» Мне нравилось, что от меня пахнет заводом.
Как я вдруг выяснил, он Горького не читал. Я очень удивился: первый раз видел человека, который Горького не читал.
— «Челкаша» не читал?
— Это да, это вроде помню.
— А «Дело Артамоновых»?
— Это в кино, кажется, видел.
— А «Двадцать шесть и одна»?
— Ну, говорят же тебе!
— Ну как же, Гриша!.. А «Фому Гордеева»?
— Ну вот чудак, ей-богу, говорю тебе.
Ему, видно, стало неловко. А я никак не мог понять: человеку тридцать два года, он Горького не читал. И на другой же день я принес ему и рассказы, и «Дело Артамоновых», и «Фому Гордеева». Я сам тогда очень любил Горького.
Гриша аккуратно завернул книги в газету и спрятал в тумбочку.
— Только я медленно читаю, ничего?
— Да пожалуйста, держи сколько хочешь.
Он опять усмехнулся.
— Вот жена у меня вроде тебя тоже. Она в больнице работает, когда дежурит, делать нечего, тоже читает. Жутко культурная стала. Музыку по радио слушает. Я говорю: выключи ты ее к черту, она обижается. То ли притворяется, то ли вправду что понимает. Теперь стихи даже стала читать. Спать ложимся, а она с книжкой. «Ты послушай, послушай», — говорит. Я послушаю чуточку и сплю. Она опять обижается…
Я слушал и смотрел на него во все глаза. «Гриша! — хотелось мне сказать. — Да ты что, Гриша!» Ну, пусть бы Володька Мороз так говорил, или Юрка, или Титков, наконец, но Гриша!..
— Не привык я, понимаешь, как-то все некогда, да и книжки попадаются муровые… Пока придешь, пообедаешь, газету прочтешь, с дочкой там поиграешь, а там телевизор или в кино жена потащит — уже и спать надо. А в воскресенье тоже — то сад, то братаны приедут в гости, то там матрас надо перетягивать. Я за все лето на футболе-то всего раза три был, все некогда…
У меня был вид, наверное, ошарашенный. «Матрас перетягивать, на футболе…» — повторил я про себя.
— Ну чего ты? — спросил он, глядя на меня с усмешкой. — Первый раз слышишь, что ли?
Я молчал, не зная, что сказать.
— Так что ты учись, пока можешь, читай свои книжки, — сказал Гриша весело. — А то потом, когда работать всерьез станешь, семейку кормить надо будет, тоже тогда тово… Вспомнишь тогда…
Я долго потом был под впечатлением этого разговора. Мне хотелось что-то сделать, помочь Грише, мне казалось, это несправедливо — иметь те знания, которые имею я, мальчишка, когда он их не имеет. Или, может быть, думал я потом, здесь они ему не очень-то и нужны, как не нужны они, кажется, здесь и мне самому. В самом деле, разве мне нужна здесь моя десятилетка, мои книги, «Записки Цезаря»? Лучше бы я знал что-нибудь другое, лучше была бы у меня сила, как у Титкова, или нахальство Володьки Мороза, или Гришина сноровка, его опыт, его седьмой разряд. Подумаешь, профессор! «Клима Самгина» два раза читал. Ну и что? К мастеру Дмитрию Дмитричу не придешь и не скажешь: давайте мне, мол, самые сложные и дорогие шаблоны делать, я «Клима Самгина» читал. Пошел ты, скажет, со своим Климом куда подальше, мне рабочие нужны, а не профессора. Но все равно я постараюсь, я буду носить Грише книги, рассказывать то, что знаю сам, помогать.
Я принес Грише книги, но что-то не заметил, чтобы он их читал. Мы перешли снова в утреннюю смену, я опять встретился с Томой, Володькой Беляевым и Володькой Морозом, с Секундомером — до этого мы виделись по нескольку минут только на пересменках.
Была середина месяца, заказов шло все больше и больше, даже мне мастер дал работу по четвертому-пятому разряду. Разгуливать и разговаривать стало некогда. «Чтобы сегодня сдал», — говорил Дмитрий Дмитрич хмуро, и я старался. Гриша уходил в обед играть в домино, после смены обычно задерживался. Как-то Филя Зуев, Мороз, еще кто-то позвали его с собой в столовую, и он пошел; я стоял тут же, но мне никто ничего не сказал, и Гриша тоже — скользнул взглядом, и все. Однажды я подошел, облокотился на его станок, хотел что-то рассказать или спросить. Он суетливо, не глядя на меня, пробормотал: «Ты вот что, ты иди на свое место, сейчас некогда, а то, знаешь, мастер и все такое…» В другой раз я решил его подождать после работы, он уже убирал станок, торопился, а у меня все было сделано. «Я тебя подожду, Гриша».
Он оглянулся: «Чего? Нет, не надо, я тут зайти еще должен…» И я видел, как потом они с Зуевым, мастером Мишкой и Дмитрием Дмитричем вместе повернули к одному из наших шалманчиков с пивом. Я постоял, поглядел, пока они не скрылись, и пошел своей дорогой. Что ж, не стоит надоедать, хотя я тоже мог бы в «козла» сыграть и пива выпить, что ж тут такого. С Дмитричем пошел, надо же, тоже мне друг-приятель.
Шестнадцатого мы получали зарплату. Это уже во второй или третий раз давали мне деньги. Мы стояли в очереди в кассу вместе с Володькой Беляевым. Володька совсем преобразился, ходил в новеньком комбинезоне, держался хозяином. Когда кто-то полез без очереди, он заорал громче всех.
— У тебя наряды были? — спросил он, когда мы получили каждый свои одиннадцать рублей, если считать на новые деньги.
— Были.
— Много?
— Ну, штук шесть-семь, не больше.
— На сотню набежит?
— Не знаю, вряд ли, мелочь всякая…
— Ну все равно, пошли к мастеру.
— Ты что?
— Ничего, пошли. Я сотни на полторы настрогал, где они?
— Брось ты, у нас же ученические.
— Пошли, чего ты боишься. Я ему сейчас скажу, паразиту. Я корочки хотел купить с получки, понял? Такие корочки есть, без шнурков, австрийские…
— Брось, Володь…
Он потащил меня чуть ли не силой. По дороге я спросил — давно хотел его спросить, — думает ли он, куда поступать учиться.
— Да ты что? Мне школа-то в печенки въелась. Хватит. А ты что, учиться, что ль, хочешь?
Я пожал плечами, промолчал.
— Учиться! — Володька гоготнул. — Нет уж! Я через пару лет тут больше инженера зашибать буду. Как мой Водовозов или твой этот, как его?
— Панин! Что уж ты, Панина не знаешь?
— Да знаю, забыл! Всех сразу не запомнишь. Он ничего вроде у тебя мужик, да?
Я хмыкнул и показал большой палец.
Мы вернулись в цех (зарплату получали в опытном) — и сразу к столу мастера. Но тут уже бушевал Филя Зуев. Красный, растрепанный, щупленький, он наскакивал, махая длинными руками, на Дмитрия Дмитрича и кричал:
— …она мне поверит, да? Это деньги, да? Пацанам на калоши не хватит, да!
Мастер сидел за столом совершенно спокойный, попыхивал трубочкой и пролистывал толстым пальцем пачку сшитых на уголках черной ниткой нарядов. «Не визжи!» — время от времени повторял он презрительно.
— Я тоже счет веду, не маленький, знаю, сколько положено…
— Не визжи!
— Кому все, а кому шиш! Кому за счет малолеток мастер делает, а кому…
Тут Володька ткнул меня в бок: слышал? — и решительно шагнул к столу.
— Чего ты так орешь-то? — нахально сказал он лысому Филе. — Мастер небось лучше знает… Точно, Дми-Дмитрич?
Да, с этим Володькой не пропадешь! Мне даже слушать было стыдно, как он говорит с мастером, а ему хоть бы хны. Я держался в сторонке.
— У нас тут нарядики были, Дми-Дмитрич, нам как за них, причитается? — Володька говорил это с небрежной, панибратской улыбочкой, вихлялся, опершись обеими руками на стол, невинно глядел мастеру в лицо.
— Вот-вот! — крикнул Филя. — Вот они, сами пришли!
— Ты не визжи! — опять сказал ему мастер. — А вы, молодой человек приятной наружности, еще малэ́, понятно?
— Это мы, конечно, понять можем, — тут же игриво ответил Володька. — Но, знаете, ботиночки хотелось купить, просто выйти не в чем, а там нарядики были, или это, может, в фонд обороны идет или там еще куда?
— Малэ еще! — повторил мастер, усмехаясь. Было видно, что он очень доволен Володькой.
— Ну что ж, малэ так малэ! — согласился вдруг Володька. — Подождем другого раза. Может, тогда баланс будет в нашу пользу, а?
— Дожидайтесь! — закричал опять Филя. — Дождетесь вы у него!
— Пока разряда не получите, вам полагаются только ученические, ясно? — сказал нам мастер, даже не взглянув на Филю.
— Всё поняли, — сказал Володька. — Спасибо за внимание.
Мы отошли. Володька закурил и в том же быстром ритме, в каком он вел весь разговор, сказал:
— Сволочь, жук. А лаяться с ним нельзя. Себе дороже. Понял?
Я ничего не понял. Не полагается — значит не полагается. И нечего было лезть. И только потом до меня дошло: в самом деле, нам же дают работу по нарядам, и там расценки стоят, и мастер их закрывает, куда же деньги-то идут?
— Ладно, мы свое вернем, — сказал Володька. — Черт с ним пока. Пойду своего Водовоза найду, надо ему поставить.
— Чего? — спросил я.
— Здрасьте! — сказал Володька. — Ты своему этому… опять забыл… да, Панину, не ставил, что ли?
Я смотрел на него, как дурак.
— Нет, ты тюфяк, просто тюфяк! Беги скорее, позови его, скажи: так и так, айда, отметим с получки…
— Пить, что ли?
— Нет, кашку манную есть.
— Ты в самом деле думаешь?
— Слушай, не смеши эту самую, как ее… публику. Иди скорее.
Володька открыл свой шкафчик, стал торопливо одеваться, а я, похрустывая деньгами в кармане, пошел искать Панина. Может, в самом деле так надо?.. Я слышал, конечно, что полагается угостить мастера или того, кто тебя учит, но как это? И зачем? Что ж, приду я к Грише и скажу ему?.. Чудно́! Да нет, это стыдно просто. И кому, Грише? Нет, это не укладывалось у меня в голове. Я уже заранее краснел, думая об этом… Да! А может, он потому как-то вроде сторонится меня, что я до сих пор этого не сделал, а? Может, я нарушил какое-то правило, традицию?.. Выпить я могу, но вот так, вдруг, ни с того ни с сего? И главное, Панин…
Но теперь это новая мысль не давала мне покоя: вдруг на самом деле он на меня обиделся, что я его не угостил? С одиннадцати рублей не разгуляешься, конечно, но все равно. Может быть, дело просто в жесте, в символе, так сказать? Вон Володька угощает же своего Водовоза, и тот, видимо, угощается? Нет, надо и мне. Мы встретились с Гришей у моего станка.
— Ну как, получил свой миллион? — спросил он весело.
Я оглянулся, рядом никого.
— Вот он, как же! — Я вынул на ладони деньги из кармана, другой ладонью лихо прихлопнул. — Пойдем выпьем, Григорий Петрович? Что нам, малярам!
— Угощаешь? — Гриша подмигнул.
— Ну, спрашиваешь.
— Ну что ж, давай!
«Батюшки, как все просто-то, — думал я потом по дороге, когда мы действительно быстренько собрались и шли вместе к проходной, а потом через дорогу, за угол. — Как просто, оказывается! Вот так Володька, ну что за парень!» Я оживился, что-то громко говорил, махал руками и старался не думать, сколько я сейчас должен буду истратить и сколько привезу потом домой: одиннадцать рублей были тогда для нас приличные деньги.
На дворе сыпал дождь, вился ветер, было холодно и уже почти темно — весь народ набился внутрь тесных палаток, мы едва втиснулись. Пивные кружки плыли над головами на вытянутых руках. Гул и туман стояли, как в бане. Кисло воняло пивом, табаком, мокрой одеждой, колбасой.
— Ты найди место, — сказал Гриша. — Я сейчас.
Он чуть не с каждым здоровался, кивал, все были свои, заводские.
— Давай я, — мне было неловко, что он сам идет к стойке.
— Ладно, а то до морковкиных заговен простоим.
— Деньги-то, Гриша?
Но он уже не слышал. Я протиснулся к подоконнику, дождался, пока допьет свое пиво круглый, розовощекий парень, и занял место.
— Эгей, там нету у тебя местечка?
Я оглянулся. Возвышаясь надо всеми, ко мне протискивался с кружками в руках Секундомер. Лицо его было мрачно и красно, он ходил уже в зимней солдатской шапке, сейчас она едва держалась у него на затылке.
— Нету! — ответил я.
— Давай, давай! — Я узнал голос Пилипенко, самого его видно не было. — Ходи, милок!
«Вот вам, пожалуйста, — подумал я, — то же самое, обычное дело».
Я поднимался на цыпочки и поверх голов глядел, где мой Гриша. Черт возьми, глупо вышло, что ему придется сейчас платить. В пивной противно, но я радовался, что попал, наконец, сюда. Пусть кто-нибудь скажет теперь, что я профессор или еще что-то такое.
— Эй, ты где? — позвал меня Гриша, и я ответил ему:
— Сюда, здесь я!
Он вынырнул из толпы с двумя кружками, с бутербродами, а потом достал из пальто откупоренную и ополовиненную поллитровку: видно, только что разлили с кем-то пополам. И один стакан.
— Водку пьешь? — спросил Гриша.
Я терпеть не мог водку, мы с ребятами пили тогда сладкие вина или ликеры, но я, конечно, не признался.
— Ладно, — сказал Гриша. — Раз в жизни, с получки, сам бог велел.
Я быстро сосчитал, сколько все это может стоить, и старался больше об этом не думать, но все равно думал и думал, сколько мне надо отдать и сколько останется. Даже неприятно.
Мы выпили, стали есть бутерброды с салом и потягивать пиво. Я даже не поморщился от водки, махнул чуть не целый стакан, и хоть бы что.
— Гриш, а деньги-то? — сказал я и полез в карман.
У него рот был полон, он замычал и стукнул меня по руке. Потом прожевал и сказал строго:
— Ты что это, шуток не понимаешь?
— Ну как же, Гриш?
— Да ты что, в самом деле?
— Ну… я думал… Я же сам… Ну и вообще обычай есть такой…
— Обычай! Ты сначала заработай на водку — понял? — а потом угощай.
Я что-то промямлил. Все равно глупо вышло.
— То-то же! — опять строго сказал Гриша.
Нам стало жарко, мы расстегнули пальто, Гриша сбил кепку на затылок. Народ все подходил, нас сжимали, кто-нибудь выныривал с кружками и подозрительно глядел: допили мы или так стоим, лясы точим без дела. Гриша сказал, чтобы я приезжал как-нибудь к нему в гости, там можно посидеть спокойно.
Потом мы ушли, на улице еще похолодало, и дождь сыпал, но мне стало тепло, хмельно и не хотелось домой. Я проводил Гришу к электричке, и мы стояли на платформе под навесом и все разговаривали. Я говорил в запале, что не пойду теперь в институт, буду всегда работать на заводе, научусь и стану зарабатывать как следует, а история — что ж, я и так могу учиться и читать, что хочу, было бы желание, а знать буду не меньше, чем другие, подумаешь! И пусть мастер на меня не косится и не болтает, что я сбегу. Латынь я и сам выучу, и греческий, если нужно, и вообще я не собираюсь быть, например, учителем истории, а меня интересует наука. И например, у меня есть одна идея насчет истории России, и если б мне только добраться до книг, засесть за них по-настоящему…
— Ну ладно, — сказал Гриша. — Ты не кричи, народ смотрит. Я поеду, а то поздно уже…
— Да-да, сейчас. — Я торопился. — Понимаешь, страны, как звезды, понимаешь, они затухают и вспыхивают вновь…
— Хорошо, — сказал он. — Вон моя гудит. Ты давай тоже домой сразу.
Подлетела мокрая электричка, слепя прожектором и шипя тормозами. За мокрыми стеклами горел свет, люди уютно сидели в тепле, кто книжку читает, кто прислонился к стеклу и смотрит сюда, на улицу, какая станция. Я пошел по мокрым доскам, подняв воротник, сунув руки в карманы.
— Это все ты не выдумывай! — крикнул Гриша, и двери захлопнулись.
— Чего? Чего? — кричал я. Он там делал какие-то знаки за стеклом, крутил головой, но я так ничего и не понял, и электричка ушла. Но он имел, конечно, в виду ученье, так я подумал, что же еще, кроме ученья: все, кто не учился, говорят: учись, а кто учился, бывает, наоборот: зачем, мол, это надо?..
5
Нас посылали от цеха на картошку — меня, Секундомера, Тому, еще троих ребят. На целую неделю, до ноябрьских праздников. Тогда без конца посылали из города на картошку. Мастер Мишка подошел с двумя списками: в одном — кому ехать, а в другой заносил желающих пойти на оперу «Травиата».
— Чего он там наработает, — сказал про меня Гриша. — Кто это там придумал? Пусть остается, он мне нужен.
— Ну что ты! — сказал я испуганно. — Зачем? Я не отказываюсь.
— Да ты копал ли когда?
— Там копать не надо, — как всегда, весело ответил за меня Мишка, — там картофелекопалка — подбирай только.
— Ты мне не объясняй, — Гриша сердился, видно, недоволен был, что я влез в разговор. — Сам бы и ехал или Титкова вон посылал.
— Только там, наверное, сапоги нужны, — сказал я. — А у меня нет.
— В колхозе дадут, — сказал Мишка и обернулся к Грише. — Ну, писать тебя?
— Ну, пиши, что ли, а что за пьеса-то? Сроду не ходили, надумали!
— А как же, — ответил Мишка. — «Травиата», опера, говорю же, как одна там была вроде дешевки, что ли, а потом завязала это дело. Про любовь в общем.
— Гм. Почем билеты?
Мишка назвал разные цены. Гриша глянул на меня, повел глазами в сторону, опять хмыкнул.
— А сапоги там ни черта не дадут, не трепись, — сказал он Мишке.
— Конечно, кто ж ему даст, — вдруг согласился Мишка, — откуда там сапогов наберутся? Так писать, что ли?
Гриша смотрел на меня, а я на него. Потом я сказал:
— Это красивая опера, грустная такая.
— Ты видел?
— Да, слушал.
— Оперы еще… — Гриша усмехнулся и махнул рукой. — Ладно, валяй, какие получше, где наша не пропадала!
Мишка стал записывать, примостясь тут же, на станке.
— Два?
— Два, конечно, один, что ли, я пойду? А сапоги, — он обратился ко мне, — я тебе принесу. Ты какой носишь?
Я сказал.
— Ну, в самый раз. И еще бушлат у меня есть брезентовый.
— Ну вот, видали! — сказал Мишка не то про оперу, не то про бушлат.
— Когда уж это кончится. — Гриша опять хмурился. — Прошлый год ребята ездили, из-под снега уже ее доставали, и обратно…
— Шефство! — ответил Мишка. — Помощь города селу!
— Пошел ты! — сказал Гриша.
На другой день он принес мне бушлат и сапоги.
Крепко меня выручила Гришина одежка!
Я не буду рассказывать про ту неделю в деревне — скажу лишь, что вернулся я и все никак не мог забыть эту картошку, которую мы действительно выбирали уже из-под снега, из грязи, а потом она смерзалась в ворохах, потому что ее не вывозили: машины буксовали, их самих вытаскивали тракторами, а снег сыпал и за ночь заметал все, и по бесконечному белому полю, как могильные курганы, стояли белые бугры, которые мы накануне натаскивали, насыпали ведрами. И зачем нас только посылали, отрывали от работы, кормили, гоняли машины?.. Тома у нас там заболела, и ее положили на печь, а до этого все мы спали в избе на полу, и тут же на полу сушилась у хозяев рассыпанная картошка.
Снимая вечером и натягивая утром тяжелые сырые сапоги (Секундомер меня учил, как накручивать портянки), я всякий раз вспоминал добрым словом Гришу.
Мы вернулись под праздник, пятого или шестого, на работу вышли девятого. Я бежал, спешил, оказывается, успел соскучиться, и не терпелось повидать Гришу, Володьку, узнать, как там прошел их культпоход на «Травиату». Мне вроде тоже обрадовались, и Гриша.
Про «Травиату» он сначала не стал много рассказывать, видно, не хотел меня обидеть.
— Да, красивая вообще штука — эта опера, — а сам усмехался. А потом сказал: — Поют там, понимаешь, и ничего сперва не разберешь, вроде не по-русски, я только под конец вник, улавливать стал. Вчетвером как затянули каждый свое — где тут понять? Но вообще интересно, конечно…
А про колхоз, когда я стал рассказывать, Гриша слушал хмуро и раза два выругался, хотя редко ругался при мне.
— Я сам два года в эмтээс проработал, знаю это дело, — сказал он. — Но ты, ладно, не думай много, мозгов не хватит.
Он даже руку положил мне на плечо — мы сидели рядом на подоконнике — и подержал ее так немного у меня на плече.
— На земле самая тяжелая работа, — добавил он, будто успокаивая меня. — Еще тяжелее, чем наша. (Разве наша такая тяжелая? Я еще не понял в ту пору.) У меня вон три сотки всего, садик вшивенький, и то все время рук требует…
Я молчал. Гриша умолк тоже, и мы еще недолго так посидели.
— Ладно, — сказал он потом. — Давай работать.
Я еще сказал ему спасибо за сапоги.
— Да ну, чего там! — Он поднялся и немного постоял, задумавшись. И мы пошли работать.
6
Как-то в пересменку, когда все рабочие были в цехе, созвали собрание: дело шло к концу года, годовой план решали выполнить до срока, выступали с речами начальник цеха, парторг, мастер Дмитрий Дмитрич, народ густо сидел на верстаках, ящиках, прямо на полу, иные стояли. Потом пошло разное, насчет дисциплины, прогулов, чистоты, спецодежды и тому подобного. Говорили, что мы хуже всех на заводе, и когда уже хоть душ нам сделают. Потом о читке газет. Что вот, мол, десять раз постанавливали читать в обед газеты, летучки делать, и все равно дуются в «козла», и никакой политработы нету. Стали кричать:
— И без того все грамотные!
— Что уж, мы сами газет не читаем!
— Не детский сад!
— Пустой разговор!
Однако постановили: газеты в обед читать и поручить это дело новеньким, грамотеям, это значило — мне и Володьке Беляеву.
Так появилась у меня общественная нагрузка.
Уже на другой день я, усевшись повыше на верстак, развернув газету, скороговоркой вычитывал самые интересные новости. Вокруг меня собиралось человек двадцать: разложив на коленях завтраки, жевали, хрустели бумагой, пили молоко и кефир, слушали. В другом конце, у окна, за столом мастера, все-таки играли в «козла». Володька Мороз был, конечно, там и время от времени, грохнув фишкой о стол, кричал мне: «Ты давай погромче, ты давай нас тоже охватывай!» Его утихомиривали: «Ладно! Помолчи! Тише там!»
Ничего особенно интересного в газете не было, я за пять минут прочел все, что можно было, а люди расположились надолго, по-серьезному и расходиться теперь, видно, не хотели. «Надо других газет штуки две брать», — сказал кто-то. Потом кто-то еще спросил, вспомнив прочитанное: «А вот как она сейчас вообще, Дания?» — и стали говорить про Данию. И никто ничего, оказывается, не знал про Данию, а старик Пилипенко и вовсе спросил: «Где это?» Я стал рассказывать, что помнил, меня слушали.
Потом настала очередь Володьки Беляева.
Володька в подробности не вдавался — прочтет заголовок и говорит: «А, это мура, это неинтересно!» — «Да ты читай давай!» — крикнут ему, а он: «Что вы, ей-богу, как маленькие, читай вам, больные, что ли?»
Потихоньку дело с чтением газет заглохло — должно быть, до следующего собрания, но за мной осталась слава, что я много чего знаю и хорошо рассказываю. Когда я заходил, например, потом в резальную и там вдруг почему-то оказывался Пилипенко, то он семенил мне навстречу и говорил: «Ну давай, милок, расскажи чего-нибудь…» — «Да что вы, что я расскажу?..» — «Ну-ну, расскажи-ка давай, расскажи…» — «Да о чем?..» — «Ты ему про американцев давай, — прогудит Секундомер. — Он про американцев любит». — «А может, про русских рассказать?» — говорю я. «А что про русских? — удивится Пилипенко. — Чего, новости, что ль, какие?..»
И вот однажды, пока Секундомер, втянув в станок болванку, отрезал сталь, которая была мне нужна, я действительно решил рассказать старику о русских: меня распирало в ту пору от прочитанного, я проглатывал том за томом Костомарова, Соловьева, Ключевского, все было не так, как говорили в школе, все переворачивалось в голове.
Почему-то я начал о самом эффектном, должно быть, только что прочел, и картины эти еще стояли перед глазами: как Степан Разин гулял по Каспию, разоряя берега от Дербента до Баку, как вернулся в Астрахань и был так богат, что веревки и паруса на стругах висели шелковые, и как хотел вроде бы повиниться перед государем, но передумал и «учинил дурость» в Царицыне, и как пришел к нему Васька Ус, а потом, весной, они вместе двинулись на Астрахань, разбив перед тем московских лопатинских стрельцов.
Я рассказывал, как воевода астраханский, князь Прозоровский и митрополит Иосиф ждали Разина, как на валах и раскатах ставили пушки капитан «Орла» Бутлер и полковник англичан Фома Бойль, и как от «воров»-разинцев пришли «прелестные грамоты», и в том числе Бутлеру на немецком языке, а Разин стоял в это время у Жареных Бугров с семитысячным войском…
Резальный станок давно отпилил заготовку, вокруг меня, кроме разинувшего рот Пилипенко и Секундомера, появились еще слушатели — каждому, кто входил, говорили «тише!», и вошедший оставался. Мне давно бы надо было вернуться на свое место, но я уже не мог остановиться. Я рассказывал, как изменили астраханцы воеводе, как вместо того, чтобы лить на врагов, приступивших к стенам с лестницами, смолу и метать копья и камни, принимали их прямо с этих лестниц в объятия, как сами пошли резать и грабить своих «начальных людей». Не забыл я и о последнем оплоте астраханцев, о Капсулате Муцеловиче Черкасском и его девяти пушкарях, которые засели в пыточной башне и стреляли по разницам, когда вышел свинец, медными деньгами.
Я волновался, я словно видел перед собой этот званый обед у митрополита Иосифа, когда Иосиф, друг убитого на паперти Прозоровского, позвал к себе Разина, и ввалилось сто казаков, и Иосиф угощал их, кланялся в пояс и улыбался, а потом выдал скрывавшуюся у него в кельях жену Прозоровского с княжатами, и княжат повесили за ноги на стене — одному было шестнадцать, и он смело отвечал Разину, а другому восемь.
— Это еще что здесь у меня такое? — вдруг рявкнули за моей спиной.
Явился Дмитрий Дмитрич. Слушатели мои быстренько потекли в дверь, я тоже бросился за своей заготовкой. Мастер смотрел свирепо, и трубка его пыхтела. Старик Пилипенко засуетился:
— Да это так, милок, это он так, ничего…
— Ты смотри у меня! — сказал мастер. — А то я за ноги-то тебя повешу!
И мне было стыдно, что он опять меня не за делом застал.
Минут через десять Пилипенко проскользнул мимо мастера к нам на участок, уцепился за мой рукав:
— Ну а дальше-то, милок?
Я уже поставил тиски, заготовку, затягивал болты, мне не до Разина было.
— Как-нибудь в другой раз… — пообещал я ему.
Он подкатил к Панину и стал — я видел издали — хвалить меня, покачивать головой. Гриша тоже спешил, он кивнул раза два, соглашаясь, глянул в мою сторону, подмигнул одобрительно и продолжал работать.
Володька Беляев сказал, что он все выяснил насчет наших нарядов и что все очень просто. Мастер, конечно, не кладет этих денег себе в карман, но он заинтересован, чтобы лучшие рабочие, которые делают основную работу, получали больше, чем другие. Они и сами зарабатывают, конечно, но если есть возможность им «подкинуть», то почему не подкинуть? И вот мастер делит наши ученические деньги на тех, кто, по его мнению, этого заслуживает. Там, конечно, не бог весть какие суммы, но все-таки. «Два плюс один, — как сказал Володька, — это уже будет три».
— Что же, выходит, что и Панин, значит? — Я усмехнулся и пожал плечами.
— Вот как раз, наверное, твоему Панину в тот раз и пришлось. Водовоз но получал, Филя — ты сам видел, как орал. — И Володька назвал еще три-четыре фамилии семиразрядников, кто, по его мнению, тоже мог бы получить деньги по нашим нарядам, но не получил.
— Брось ты! — сказал я. — Не поверю.
— Дурак ты, дурак! — сказал Володька.
Но этого действительно не могло быть, я не верил: Гриша и какие-то денежные махинации, нет, не верю. Может, мастер сам так делает, но тайком от всех? Может, так надо? От ученика какой толк? А если уйдет, допустим, Гриша или даже Филя Зуев, то кто сможет сделать то, что они делают? Мастер у нас, конечно, крокодил, что говорить, но за производство болеет, это все знают. Наверное, он старается, как лучше. Панин вообще-то получает раз в шесть-семь больше меня, на то он и Панин. Как-то недавно мы вместе делали шаблоны, он и я, шаблоны почти одинаковые, но ему заплатили за них вдвое больше, чем мне, я сам видел наряды. Ну и что такого? Я ж не обиделся. Он лет двенадцать работает, а я без году неделя. Нет, зря это Володька, я, например, не стал бы. Пусть. Интересно только, врет он или нет? Берет Гриша э т и деньги или не берет?
Я потом улучил минуту и прямо спросил:
— Гриш, скажи, пожалуйста, а вот эти деньги, что по моим нарядам и вообще учеников?..
— Да-да, — он перебил меня. — Да, будешь получать теперь, я мастеру сказал. И разряд пора давать тебе. Техминимум сдашь и разряд получишь…
— Правда? Это бы здорово! — Я обрадовался. — А то куда они раньше шли?
— Кто?
— Ну деньги эти. Говорят, будто мастер…
— Ну да, верно, он их раскидывал…
— Как?
— Ну, раскидывал тому, другому… — Гриша стоял ко мне боком и все хотел уйти, а я каждым новым вопросом задерживал его, и потому он отвечал с досадой.
— Но ведь это несправедливо, — сказал я. Сам не знаю, зачем вдруг так сказал, ведь думал до этого, что, наоборот, справедливо и ничего особенного в этом р а с к и д ы в а н и и нет.
— Да ты не волнуйся, я ж тебе сказал, что получишь…
— Я ведь не волнуюсь, Гриш, я вообще, понимаешь…
— Чего вообще?
— Ну вообще. Так. Не из-за себя, понимаешь. Я и не знал. Нет и нет. Но вообще противно, когда…
— Ну все!..
Он хмыкнул и отошел, не поглядев на меня. Я остался стоять. Я понял, что Володька не врал. Он не врал, но Грише тоже неприятно, я же вижу, что неприятно. Ну ладно, ничего. А насчет разряда — это здорово!
7
Как-то, хоть и случайно, я попал к Грише домой. Не то чтобы в гости, но почти что. В конце смены ему позвонила жена, Галя. Это редко случалось, чтобы кого-то звали к телефону, а тут один слесаренок, из тех, кто поближе к столу мастера, прибежал и кричит: «Панин, к телефону!» Гриша пошел и вернулся сердитый. Я спросил: «Ты что, случилось, что ли, что-нибудь?» — «Да мура! — отвечает, а сам хмурится. — Затеяла тоже!» Оказывается, жена в мебельном магазине стулья купила и ждет Гришу, а Гришин брат Леха, с которым вместе везти договорились, не пришел, и вот она волнуется, просит, чтобы Гриша кого-то с собой взял, кому до дому по пути. А то на такси не увезешь. Тут я, конечно, вызвался помочь, я рад был для Гриши что-нибудь сделать, даже пусть стулья нести, и еще мне интересно было на его Галю посмотреть, а то жена, а какая она, я так и не видел. Сначала Гриша отказывался: «Да ну что, ей-богу, брось ты!» — а потом согласился: «Ну ладно, хоть до электрички поможешь, там недалеко…»
Мы подъехали к мебельному на троллейбусе — большущий магазин на полквартала. Я еще никогда ничего в мебельном не покупал, мне интересно было. Тут, как всегда, стояли вдоль тротуара автофургоны — в один из них человек пять затаскивали голубой диван, модный такой, из двух половинок. Прямо на грязном тротуаре выстроились светленькие шкафы, а улица — серая, осенняя, с растаявшим снегом, и у шкафов оказался жалкий, озябший вид. Прохожие отражались в зеркалах, и мы с Гришей тоже отразились по очереди раз пять: он сердитый, в кепке и своем коротком полупальто, а я в куртке и все еще без шапки, с синими от холода щеками. Тут толклись все больше женщины, возбужденные, крикливые, и мельтешили «вась-васи», ища, кому что поднести, подвезти, и толкались шоферы, грузчики, сами мебельщики-продавцы в синих халатах, и у них, особенно у мебельщиков, тоже был яро-деловой вид, глаза горели, каждого то и дело куда-то кто-то отзывал, договаривался, держал за пуговицу халата, заглядывал в глаза, а они слушали нетерпеливо и уже глядели в сторону — словом, это был настоящий торг, азартный и шумный, и народу толпилось, входило и выходило множество. «Во жуки-то, во жуки», — сказал Гриша даже как будто изумленно.
Галю мы нашли где-то в середине магазина, возле горы обернутых в бумагу стульев, возвышавшейся чуть не до потолка. Худенькая, очень молодая женщина, щеки горят, красное пальто расстегнуто, платок съехал с головы, она отгибала бумагу с сиденья стула и начала сразу: «Гриша, ты погляди только, ты погляди, какие, и задешево совсем». — «Ну ладно, ладно, вижу, — сказал Гриша сердито, — не могла уж тут кого срядить, вот парня пришлось просить…» Он сразу сказал ей обо мне, чтобы она здесь не очень-то распространялась. И она смешалась, улыбнулась, запахнула пальто и протянула мне руку — знакомиться. Я глядел весело, приветливо, мне не хотелось, чтобы они стеснялись меня.
Стулья оказались солидные, крепкие, с ярко-красными, в крапинку, мягкими сиденьями, не какие-нибудь там тонконогие, на трех ножках, чашеобразные модники, а обыкновенные, приличной тяжести, хоть и отечественные изделия. «Ничего вроде», — неуверенно сказал Гриша и поглядел на меня. «Тебе-то как?» — спросил он потом у Гали. Я бодро сказал, что вполне приличные стулья, а Галя быстро стала объяснять, что она пошьет на них чехлы, что стулья в самый раз для комнаты, она полдня за ними стояла и взяла чуть ли не последние полдюжины. «Ну, порядок тогда, — сказал Гриша, — давай мотать отсюда. — И, опять обращаясь ко мне, сказал виновато: — Совсем сидеть дома не на чем, люди приходят, неудобно даже». — «Доску кладем, — добавила Галя, — по соседям табуретки собираем», — и тоже улыбнулась, как Гриша.
Мы взяли по два стула и отправились. Гриша хотел найти такси, но Галя сказала, что в легковом не повезут, а грузовое дорого, да и не отыщешь сейчас. Едва мы вышли, к нам бросились сразу два-три типа, но я, пристраивая стулья на голову, сказал, что мы сами управимся. Так мы и пошли, даже в троллейбус не стали садиться. Гриша держался следом за мной, он взял у Гали еще стул и нес три. «Прибарахлились, — смеялся он сам над собой. — Мебель отрываем!»
На перроне, пока мы ждали электричку, Гриша сел на стул, скрестил на груди руки, надул щеки и стал изображать барина. «Жана, — дурачился он, — подай мне шаньпаньского!» Я его ни разу еще не видел таким. «Ну, ну, взялся, обалдуй!» — укоряла его Галя и радостно смеялась.
Я поехал с ними, сами они свою мебель не дотащили бы, и Гриша опять хмурился. Мы ехали в тамбуре, Гриша сказал: «Хорошо, хоть стемнело, а то сейчас потянемся по поселку…» — «Да мы что, украли, что ли?» — сказала Галя. «Ну ладно, ладно…» И что он так стеснялся этих стульев?
Мы шли потом от станции минут десять, под ногами чавкала грязь, а крыши и деревья в палисадниках белели от снега, фонари стояли далеко друг от друга, и пахло морозцем, прелым листом, вечерним дымом. Теперь Гриша шел впереди, торопился, и Галя сильно отстала от нас. Мы пришли раньше, и, когда сбросили, наконец, стулья на крыльце маленького, высоко стоящего дома с высокими окнами, светившими уютным красноватым огнем, Гриша тихо выругался и сказал вдруг: «Вот не люблю я это как-то, прямо удавился бы…» — «Да что? Что тут такого?» — сказал я не очень искренне, потому что сам сильно презирал всякие блага жизни. «Да ну!» Он не умел объяснить, но я понимал, чувствовал, в чем тут дело: мне бы самому, если бы пришлось вот так нести с в о и стулья, тоже было бы неловко.
На крохотной застекленной терраске, пропахшей яблоками, Галя, быстро скинув пальто, стала раскручивать со стульев бумагу, стружку, вытирала их чистой тряпкой от выступившего на полированном дереве тумана. Ей помогала не старая еще женщина, которую Гриша называл тетя Поля, — его теща, такая же худенькая, как Галя, и моложавая. Тут же вертелась смуглая, с темными глазами — вылитый отец — девчонка в черных валеночках. Это и была Гришина семья. Все они мне понравились.
Гриша переворачивал каждый стул, постукивал, щупал, рассматривал бумагу и как уложена в ней стружка, покручивал головой и говорил: «Чисто все делают, черти». Потом он сказал строго: «Ну ладно, насмотритесь еще, поесть бы нам дали». И Галя спохватилась, стала приглашать в комнату, сама бросилась на кухню. Минут через десять мы уже сидели за столом.
В комнате было чисто и тесно от вещей. Когда я осмотрелся, переводя взгляд с укрытого вышитой салфеткой телевизора на диванные подушки-думочки, на этажерку с немногими книгами, на большой сундук, покрытый ковриком, на швейную машину и выпиленную лобзиком полку с вазочкой, в которой стояли восковые розы, и на другие вещи, Гриша, потирая подбородок, сказал: «Вот так, значит, и живем, такое наше хозяйство». Я торопливо улыбнулся и сказал, что мне очень нравится, потому что в Гришином тоне опять мне послышалось извинение или досада даже, словно он стеснялся, что я вижу, как он живет.
Обедали все вместе, и было весело и хорошо: Галя рассказывала, как стояла в очереди и какие там, в мебельном, порядки; тетя Поля все ужасалась, как это я хожу без шапки и больно уж худой, не кормят меня, что ли, совсем; девочка сначала долго, в упор, рассматривала меня, а потом, когда я ей надоел, стала приставать, скоро ли включат телевизор. Все, кроме девочки, выпили по две рюмки вкусной домашней рябиновой настойки, и я с голоду, что ли, или от тепла, от радости, захмелел и был совсем счастлив, что познакомился с такими хорошими людьми, и что Гриша — душа-человек, и жена его Галя — славная, и это замечательно, что они купили себе стулья, шесть крепких красных стульев, которых им хватит на много-много лет.
Потом мы с Гришей стали говорить о заводе, и было очень здорово, что мы сходимся во мнении о знакомых нам людях. Титков — барахло? Барахло. Секундомер — чудак, но добрый парень? Да, так оно и есть. Дмитрий Дмитрич — волкодав или не волкодав? Но тут Гриша меня остановил: «Ты не понимаешь, — сказал он. — Дмитрич всю жизнь тут, он с двенадцати лет работает, ему комар носа не подточит. Ты не думай, на нем все больше, чем на начальнике цеха, держится. Чего-чего, а за производство Дмитрич болеет, как за свое, это каждый скажет». — «За производство он болеет! — почти крикнул я. — А с людьми он как обращается? За людей он болеет?» — «Ну, это что… — просто сказал Гриша, — у него главное — план. А люди — что ж… Уж он так привык, не переделаешь…» Галя стояла тут же, собирая посуду, и сказала вдруг: «Барбос он, твой мастер, еле уломала к телефону тебя нынче позвать, прямо рычит, будто ты свое не отработаешь…» — «Ну ладно, — сказал Гриша, — ты еще! Все станут звонить, что будет?..» Я понял, что больше не стоит говорить о Дмитриче.
Гриша пошел проводить меня до станции. Прощаясь, тетя Поля все хотела надеть на меня старую Гришину кепку, я еле выскочил на крыльцо. Галя говорила, чтобы обязательно приезжал к ним еще. Когда мы пошли, Гриша тоже сказал: «Похолодало, смотри, мозги-то свои ученые простудишь». — «Черт с ними, — сказал я. — Зачем они мне?» — «Брось, брось, — ответил Гриша, — а то вот будешь, как я…» — «А что ты? Я б хотел, как ты». — «Ладно, хотел… Я сам живу, живу, а потом, бывает, думаю… Ну да что тут!..» Мы проходили как раз под фонарем, я сбоку поглядел на Гришу, лицо у него было огорченное. Чего это он? Я вспомнил, как он сидел на своем обернутом в бумагу стуле на перроне и изображал барина, смеялся. «Ну ладно, — сказал он опять, будто самому себе. — Жизнь — она большая…» Я вроде понимал, о чем он говорит, и не понимал, мне хотелось ему ответить, и я не знал, что́ и нужно ли, и мы молча прошли остаток улицы. Было десять часов, но улица стояла темная, во многих домах уже спали — завтра рано на работу. Прощаясь со мной, Гриша тоже смачно зевнул, покрутил головой и опять, уже с беспечностью, сказал: «Ну ладно, чего там! Бывает! Прости уж за стулья-то эти чертовы, тяжелые ведь были…» — «Всю макушку отбил», — признался я. Мы рассмеялись. «Имущество!» — сказал Гриша. «А как же», — сказал я и пошел вверх по переходной лестнице, потому что вдали засветил огонь и глухой, автоматически включающийся женский голос прогундосил над путями: «Внимание, идет поезд на Москву, осторожнее!»
«А как же?» — повторил я про себя. А что «а как же?», почему «а как же?», черт его знает…
8
Дурацкая зима — снегу почти нет, но холодно, ветер, гололед. Я вместе с остальной толпой — народу много, все со смены, — жду на остановке свою «двойку». Темно, фонари давно погасили, только светятся позади голубая стеклянная витрина гастронома да пустые телефонные будки. Вспыхивают светофоры на перекрестке. В глубине витрины разноцветно горит огоньками крохотная елка. И еще там муляжная колбаса. Сейчас бы кусок колбасы с булкой. Мою куртку насквозь пробивает ветром, перчаток у меня нет. Где этот проклятый трамвай? Надо бы попрыгать, но я так устал, и так хочется спать. Я все время сплю: приеду домой, поем — и спать, даже в цехе в обед ухитряюсь прилечь на подоконнике и сплю — хоть двадцать минут, хоть десять. Никогда в жизни так не уставал.
Где же трамвай, а то сяду сейчас на корточки, привалюсь к столбу и засну. Ноги гудят, и в руках дрожь, будто я продолжаю сжимать рукоятки станка. Только теперь, когда мне дали разряд и я уже не ученик, я узнал настоящую работу. Нас завалили. Конец месяца, конец квартала, конец года. Аврал. Теперь у нас не две смены, а три. Я сейчас приеду, высплюсь после вечерней, а завтра снова выйду в утро. Никаких перекуров, хождений, разговоров, ни одной свободной минутки. В уборную бежишь бегом. И главное, все появилось: и сталь, какая нужна, и инструмент. Даже начальник цеха весь день на глазах, а бывало, неделями его не увидишь. Сегодня Лена сама разносила из инструменталки сверла, а Пилипенко и Секундомер развозили на тележке заготовки — вот до чего дожили. Я еще когда, помню, говорил о тележке. Всё умеют найти и организовать, когда надо, когда прижмет. Давай, давай!
Вот, слава богу, наконец, трамвай тащится. Все вокруг задвигались, сбились теснее. Трамвай подошел. Витрина, колбаса, елка… «Жми, жми!.. По одному! Куда прешь?» Влезли. Я плюхнулся на свободное место, мне далеко ехать, и поскорее закрылся воротником, отвернулся к окну, чтобы никому место не уступать. Вот какой обезьяной стал. Но если какая-нибудь женщина появится или старик, все равно встану, не усижу. Но пока вроде одни парни рядом. Ладно, поехали. Витрина, елка.
Я прикидываю, сколько получу к Новому году денег, — выходила небывалая сумма. Но зато мы и работаем. Мы так работаем, что ого-го! Сегодня мы с Титковым стояли на обдирке в опытном — там тоже зашиваются не хуже нас, грешных. Мы не разгибались всю смену. Я даже не поглазел на свой любимый опытный, как всегда, — некогда.
Титков работал голый по пояс, спина и плечи мокрые, волосы на голове тоже мокрые от пота, как после бани. Мастер подошел, говорит: оденься, не положено, стружкой обожжет или еще чего. Титков, который перед всяким начальником — руки по швам, только оскалился, даже ладони с рычагов не снял. Он здоровый, как бык, и то взмок, а я в два раза тоньше — вот и сплю теперь. Но он только на плитку меня обошел. У него было семнадцать за смену, а у меня шестнадцать. Ну и деньки!
Трамвай бежит быстро, колышется из стороны в сторону, колеса бьют. Я совсем сплю. Сплю, а перед глазами все мелькает и мелькает облитая эмульсией фреза, летят белые дюралевые стружки. А вчера я запорол одну штуку. Шесть часов провозился и запорол. Дмитрий Дмитрич чуть меня не загрыз, и Гриша тоже подскочил: «Что ж ты, так тебя, делаешь!» Я сам готов был стукнуться башкой о станину, и они еще навалились. «Ну хорошо, хватит!» — сказал я грубо. И метнул эту проклятую железку — отличная была железка, похожая на маленькое лекало, уже отшлифованная по одной плоскости, тонкая и еще теплая, — я метнул ее в ящик со стружкой и пошел за новым куском стали. Начал все сначала, а Дмитрий Дмитрич являлся ко мне через каждый час.
Я сплю, трамвай гремит, народу все меньше. Не проехать бы. Я достаю из-за пазухи книжку. «Между тем вследствие благоприятных известий из Польши Петр решился оставить Пруссию и ехать дальше на запад. К нему навстречу спешили две образованнейшие женщины Германии: курфюрстина ганноверская Софья и дочь ее, курфюрстина бранденбургская Софья-Шарлотта…» Мелькает фреза, летят белые стружки… Перевернул страницу, а что прочел — не помню. Я уже вторую неделю читаю заграничное путешествие Петра и не могу сдвинуться с места. Да, курфюрстины принимают молодого царя. «Очень люблю кораблеплавание и фейерверки». Он показал свои руки, ставшие жесткими от работы.
Я тоже люблю кораблеплавание — то, что мы делаем у себя в цехе, у себя на заводе, плывет потом по всем морям и океанам. Я еще не видел моря никогда. И кораблей и фейерверков. У меня руки тоже стали жесткими от работы. Сухие и твердые ладони. Я еду домой. Завтра вот так же, еще в темноте, до рассвета, я опять буду трястись в этом трамвае. Я не могу читать. Я сплю. Мне навстречу спешат две образованнейшие курфюрстины, одна просто Софья, а другая Софья-Шарлотта, ее дочка. Симпатичная такая девчонка с белыми буклями и в платье колоколом. Я показываю ей свои жесткие от работы руки. Она говорит, что это ничего. Она машет веером. Я просыпаюсь, потому что книга валится на пол, мокрый и грязный решетчатый трамвайный пол. Я приникаю к темному стеклу. Слава богу, не проспал, моя следующая.
9
Это было уже в последний день, тридцать первого. Мы успели, мы все сдали тридцатого, и в этот день уже не работали — чистили станки, потом было собрание, начальник цеха читал приказ директора, там нашему инструментальному тоже, среди других, объявляли благодарность. Все похлопали. Собрание было коротенькое, спешили домой. Цех оставался пустой, чистый, и солнце светило в окна, совсем как в то первое утро, когда я пришел. Еще утром, по дороге, я подобрал на улице еловую ветку, приткнул ее на свой «вернер», чтобы тоже чувствовался Новый год. Надо мной посмеялись. И вот мы стояли уже одетые, собирались идти, когда появился этот длинный парень, прежний Гришин ученик, Валера.
— Ого-го! — закричали все. — Смотрите-ка!
Парень был как из кино — он, идя к нам, пожимал всем на ходу руки, а мы стояли своей кучкой, глядя на него, и он издали махал Грише, и можно было его рассмотреть. Он и махал так, как машут в заграничных фильмах: подняв ладонь и поводя ею из стороны в сторону. На нем — светлое короткое пальто, и брюки в струнку, и шарф узлом, и голова не покрыта — красивый такой, длинный парень. «Нет, ты видал?» — сказал Володька Мороз Грише и растерянно и глупо захохотал. Я спросил, кто это, Гриша, словно бы смутясь, ответил: «Да так, он работал здесь у нас, теперь мастер спорта, чемпион». Вон что! А я уж думал, артист какой-нибудь. Эффектный парень. Наконец он подошел, почти все, с кем он здоровался, потащились сюда, за ним, улыбались, переглядывались. «Валера-то, Валера, а?» Валера долго тряс руку Грише, все, обступив, смотрели на них, они хлопали друг друга по плечу. «Ну, ты даешь! — говорил Гриша. — Ничего так. Пижон». — «Да ладно тебе, Григорий Петрович, — отвечал Валера. — Чего там! Как у вас-то?»
Валера поставил ногу на станину, и все увидели, какие у него ботинки и какие носки, он расстегнул пальто и размотал шарф, и все увидели, какая белоснежная у него рубашка, и муаровый галстук бабочкой, и золотая медаль на пиджаке. Как-то и слова ни у кого не шли изо рта, все разглядывали ослепительного Валеру, и он давал себя разглядывать. Закурили. Он всех угостил американскими сигаретами из красной коробочки, и коробочка пошла по рукам, ее крутили, вертели, рассматривали со всех сторон — жалко, Валера был не с коробочку ростом, а то бы его тоже можно подержать в руках, рассмотреть и ощупать как следует. Разговор шел такой: «Ну как ты?» — «Ничего, по-старому. А ты?» — «Да вроде тоже ничего». — «Да где ничего, смотри какой!» — «Да ну, чего там!» — «А что? Прямо артист!» — «Да ладно тебе, это все зола. Ну а вообще-то как вы тут?» — «Да ничего…» Видно, Валере цех казался странным и смешным, он все осматривался, глядел на стены, потом кивнул на мой «вернер»: «Стоит?» — «А куда он денется?» Мне хотелось, чтобы он спросил, кто теперь работает на его станке, но он не спросил.
Валера был баскетболист, и Володька Мороз завел с ним разговор насчет игр, чемпионата и когда, мол, мы уже выиграем у американцев. Потом подошел мастер Дмитрий Дмитрич, и все расступились. «Привет мастеру!» — сказал Валера и как бы усмехнулся, и мастер тоже глядел на Валеру, прищурившись и с усмешкой, а все вокруг заулыбались — видно, они в свое время не очень ладили. «Ну вот, видел, какой король!» — сказал Дмитрий Дмитрич. «Виноват, исправлюсь», — ответил Валера, совсем как Володька Беляев. Все засмеялись. «Исправишься ты! Небось забыл, какое сверло-то из себя».
«Он долго работал?» — спросил я потихоньку у Гриши. «Года три, что ли». Между тем мастер спрашивал у Валеры, сколько он получает и делает ли еще что-нибудь, кроме того, что бегает за мячиком. «Мячик — тоже работа», — сказал Валера. «Да уж! — мастер вынул трубочку изо рта и засмеялся. — Работники! А еще есть книжки читают, тоже работа». — «Ну ладно, пошли, — сказал Гриша. — А то Новый год все-таки сегодня».
На улице возле наших шалманчиков уже толпился народ. Валера и Володька Мороз полезли без очереди за водкой. Филя Зуев, мастер Мишка, Дмитрий Дмитрич и еще человек пять пошли занимать места в пельменной, мы с Гришей остались у палатки, ожидая Валеру и Володьку.
«Видал?» — спросил Гриша про Валеру. «Силен», — сказал я. «Вот так и ты когда-нибудь придешь, — сказал вдруг Гриша. — Или не придешь?» Мы стояли в сторонке, на снегу, солнце слепило Гришу, в своем куцем зимнем полупальто и широкой шапке он казался совсем маленьким. «Почему это? — сказал я. — Чего мне приходить?» — «А что ж ты весь век здесь будешь?» — «Не знаю. Но я, во всяком случае, не собираюсь…» — «Да ты брось, — сказал Гриша. — Тебе учиться надо, понял?» — «Да ты что?» — «Ничего. Я давно хотел сказать. Ты не втягивайся, понял?» — «Да ты что?» — опять сказал я. Чего это он вдруг? Почему? Наоборот, я привыкать стал, обжился и работаю как будто неплохо, стараюсь, никто не скажет. «Да я и не думаю уходить», — сказал я. «Уйдешь все равно. А не уйдешь, я сам тебя выгоню, понял?» — Гриша засмеялся. «Да ты что?» — сказал я в третий раз. «Ученые тоже нужны. — Он подмигнул весело. — А из тебя лучше ученый выйдет, чем работяга, понял?» — «Что ж я, плохо работаю?» — «Не в том дело…»
В это время от палатки донеслись шум, крики, из толпы вырвались Валера и Володька с бутылками, а за ними какой-то коренастый в кепке и замасленном ватнике. Он был уже под хмелем. «Стиляги проклятые! — орал он. — Я две смены отстоял не жрамши, и то в очереди топчусь, а вы гуляли, паразиты, всю ночь!» — «Дай ему! — подзуживая, кричал в ответ Володька. — Врежь ему, стиляге! Бей их!» — «Посмеешься! — орал пьяный. — Паразиты чертовы!» Володька даже приседал от хохота, забавляясь. «Брось, пошли», — сказал Валера. Двумя пальцами, вытянув шею, он поправил свою бабочку. «Чего вы там?» — спрашивал Гриша. «Да так, зола», — сказал Валера.
Я думал о том, что услышал от Панина. Что это он вдруг? Почему? Я хуже других, что ли? Мне уходить, а Титкову, Секундомеру, Володьке Беляеву? Мы все вместе пришли. Я задавал себе этот вопрос и вдруг понимал, что Титков, Секундомер и даже Володька никуда теперь из цеха не уйдут. Они не уйдут, а я? Вот так, если честно, положа руку на сердце? Не знаю, если честно, не знаю. Ерунда какая-то. И зачем он об этом сказал?
«Ну ты что? — спросил меня Гриша, когда мы входили в пельменную. — Чего надулся?» — «Я не надулся». — «Я тебе точно говорю, летом в институт пойдешь». — «Да брось ты, знаешь!» Я начал злиться. «Чего вы?» — спросил Володька. «Учиться не хочет!» — сказал Гриша. «Профессор, как вам не ай-яй-яй! — Володька состроил дурашливую мину. — В ученье — свет, как сказал Александр Сергеич Пушкин…»
Наши уже сидели за столиком, и Филя махал нам оттуда белой карточкой меню. Мы сдали пальто и во главе с шикарным Валерой вступили в зал. Под потолком висели елочные гирлянды, и пахло хвоей, шел Новый год.
МОРСКАЯ ТОРГОВЛЯ (ИЗ ДНЕЙ ВОЙНЫ) Рассказ
— Запри хорошенько, мы пошли! Нинка, не беги одна, кому сказали! И чтоб открывать не смел, понял?
— Понял!
— Кастрюли не упусти, голову оторву! Подкидывай по совочку, пусть так и кипит тихонько.
— Знаю!
На лестнице тьма-тьмущая, дымом воняет и прогорклым маслом, на котором весь дом дранки жарит. Теперь оттепель, тяга в трубах плохая, печи дымят, да еще вся вонь, что застоялась в подъезде за зиму, оттаяла — так и бьет в нос. Как война началась, так, кажется, лестницу и не мели ни разу. А в квартире еще хуже вонь: мать поставила рубец варить.
Побелел, блеснул в лестничной тьме таз, что мать под мышкой понесла, поплыл вниз — ушли, наконец, слава богу!
— Запри хорошо!
— Ладно, ладно!
Бормочу уже здесь, в коридоре, запираюсь. Замки тоже отпотели — скользкое, противное железо. Один замок с ключом, потом еще задвижка тяжелая и еще крючок. Дверь обита старой клеенкой, из-под клеенки грязная вата клочьями, а сама клеенка тоже мокрая, будто вся сырость и вонь на нее осели и текут густыми каплями. В коридоре дрова, ведра: вода до четвертого этажа не доходит, вниз ходим или на колонку, как всю прошлую зиму. Еще бочка с капустой, на замок висячий запертая. Это Ивантеевых бочка: они наберут миску капусты, когда надо, и опять бочку на замок. Еще рогожи свалены, еще ящик с картошкой — ларь. Дранки-то из картошки делаем: натрем на терку, слепим, мучки подбавим, если есть, и печем, как лепешки. Эх, надоело мне все!
Они теперь три часа не придут — хорошо! И отчего к бабам в баню всегда очередь больше? Мы с Петрухой, бывает, тоже стоим-стоим, сперва на улице выстоишь хвост, потом в дверь влезешь, в тамбур, — это уж счастье; потом туда подвинемся, где касса и где старуха сидит, а у старухи шайка с нарезанным мылом. Она на каждый билетик кубик мыла дает, маленький, со спичечный коробок, как будто это для детской игры мыло. А потом уже вступаем на лестницу — мужское отделение наверху. На лестнице многие без шапок стоят, пальто нараспашку, тут уже близко. Сверху проходят вымытые: красные, жаркие, баней пахнут. У самой двери караулит Петюня, банщик-старик: навыпускает, навыпускает оттуда, потом в дверь просунется и кричит, спрашивает. На лестнице стоя, уже слышишь голос Петюни и слышишь, как ему из предбанного отзываются другие банщики, от одного к другому, словно во дворце: «Одного давай! Двоих давай!» И вот Петюня запускает — тех, которые дошли. Они впереди, по стеночке стоят, покорно, и Петюня их, как самых послушных и заслуживших, отсчитывает и пропускает. Отсчитывает пятерых-шестерых и руку вперед — раз! Стоп, погоди, довольно! Тот, на ком счет остановился, еще попробует на Петюню нажать, но Петюня уже дверь собою припрет, — не сдвинешь. Делать нечего, покрутит человек головой в досаде, снова к стеночке привалится. Но зато он теперь первый, считай, в порядке.
Вообще-то тоже долго, конечно, да еще пока место найдешь, шайку, а Петруха еще пар любит: в мыльне народу, как не знаю где, а в парилке и вовсе, пар редко, только в субботу бывает — в общем, долго. Но все же с женским не сравнить. Если вместе идем, то мы с Петрухой, бывает, уже выходим, а мать с девчонками только до старухи дотопают.
У них волосы длинные, и стирают они там, в бане, — вот это отчего.
Опять же девчонки: матери, например, до себя еще Нинку надо вымыть с Люськой да постирать о них. Долгая история. Три-то часа — это железно.
А я люблю дома один. Свобода. Делай, что хочешь. Никто не орет, не ругается, не мешает. Мне так люди надоели, просто смерть! В школе мы по трое на парте сидим, дома мать, Нинка, Люська, Петруха — мой брат старший, он на «Серпушке» работает, да еще бабка с нами жила, все болела, болела, осенью померла, слава богу! А еще Ивантеевы, собаки! А еще целый день по очередям по этим стою — эх, и надоело!
Поставил я на самый верх, на открытую заслонку валенки сушить, сам в носках хожу. Печка у нас в комнате сложена, у Ивантеевых тоже так, хотя на кухне общая плита есть. Через комнату — веревки, на веревках белье сохнет, бьет мокрым по морде: Петрухины черные от завода подштанники, материна юбка, простыня рваная, посеклась вся от старости. Печка потрескивает, на печке синяя полуведерная кастрюля, а в ней вонючий рубец, как животный какой: буль, буль.
Я послушал немного, подождал, не вернется ли кто, и давай шуровать.
Мать думает, мы не знаем, где у нее что лежит, а мы знаем! Мы поели только что, но все равно жрать хочется, и главное — вкусненького бы чего! У матери наволочка есть такая, вся перевязанная, как вьючный тюк. В один угол гречка насыпана, и завязано, пузырь получился, вроде рыбьего, в другой угол — пшено, третий пузырь — соль, а последний — сахар. Она эту наволочку то за печку спрячет, то в чемодан, то в комод, а один раз Петрухе в ноги в кровать засунула. Но мы найде-о-ом!
Я пошуровал, пошуровал и мигом нашел! Надо же, куда заткнула! Где пальто, телогрейки висят, там внизу ящик стоит со всяким старьем, туда засунула, ишь ты! Но мы найде-о-ом!
Взял я большую ложку, приготовил, сел прямо тут, на ящик, примостил наволочку на колени, пощупал, где что, чтоб не перепутать, стал разматывать.
Сначала гречку размотал, руку запустил — гречка там теплая, живая и пахнет хорошо. Люблю! Зачем только ее варят, сырая даже лучше. Вытащил жменю, набил полон рот, сижу, жую. Мать нам сроду не доверяет гречку перебирать: обязательно ополовиним, потом кашу варить не из чего. Но это ладно, гречка — что!
Теперь надо гречку замотать, а сахар размотать. Да узелок сделать такой же, как у матери. Если узнает, то можно, конечно, отпереться: не трогал, мол, знать не знаю, без меня, что ли, мало народу? Но если немного взять и завязать, как было, то и совсем безопасно, не заметит. Она обычно берет весь мешок сразу в руки, ощупает, повешает на ладонях и на нас поглядит: лазали, мол, или нет? А сама, значит, не чувствует, сомневается. А если много взять или завязать не так, сразу прищучит. «Я, паразиты, вам же, проклятые, берегу! Ненажоры! Век бы вас не видеть!» И пойдет!..
Я решил сахар размотать, ложку отсыпать, а потом еще гречки пожевать немного, потому что сейчас она мне весь рот забила, дышать тяжело, а потом-то опять захочется. Гречки побольше, чем сахару, незаметно будет. Поэтому я не стал сразу гречку заматывать. Одной рукой зажал пузырь с гречкой, другой сахар разматываю, мешок коленками вверх поддал и зубами помогаю.
В это время рубец на плите как булькнет — я чуть мешок не выронил. Ах ты, проклятый! Но стал дальше развязывать. Потом вдруг чувствую: что-то не то. Спохватился и прямо похолодел: не ту тряпку размотал, слышу, гречка прямо из-под руки уходить начинает. Куда? В сахарное отделение. Ах, ёкэлэмэнэ! — как Петруха скажет. Зажал скорее это место, где у них слияние, у гречки с сахаром, откуда я тряпочку-то стянул, и сижу, не знаю, что делать. Как вот теперь? Эту руку отпустить нельзя и эту нельзя. Вот петрушка. А самому уже представляется, как там гречка в сахар втекла и все перемешалось. Хоть плачь, честное слово! И помочь некому, один проклятый рубец на весь дом.
Но потом я встал, потихоньку мешок на ящик пристроил (ящик мягким застелен) и, не отнимая одной руки, начал гречку из ее пузыря ссыпать на ящик, на старый плюшевый обносок, — скатерть это, может, была или коврик.
Высыпал.
Теперь дыру к сахару открыл, вижу, действительно, много гречки перешло, но все-таки не очень. Стал потихоньку выгребать — гречку с сахаром. Щепотку наберу и в рот. Потом еще. Потом по зернышку.
Тут я уже успокоился, только побыстрее старался орудовать — не дай бог, придет кто-нибудь, а гречка-то горкой на ящике лежит!
Скоро я все сделал, ложку сахару все-таки отсыпал, пристроил ее в сторонке, тут же, на ящике, завязал крепко сахарное отделение. Потом взял другую ложку, принялся гречку на место засыпать. Засыпаю, а сам думаю, куда там теперь их очередь в баню подошла, а может, сегодня народу меньше, или вода горячая кончилась, — мало ли что! Вот вдруг вернутся?..
Торопился, но все-таки долго канителился. Наконец, все засыпал, завязал, только, смотрю, теперь оба пузыря, сахара и гречки, чудные какие-то стали: у матери тугие были и гладкие, как два острых рыбьих пузыря, а у меня вышли обвисшие, мягкие, и руками я их своими измусолил. Наволочка и раньше не больно чистая была, а теперь совсем как портянка. Эх, и будет, ну, будет мне теперь! И зачем я только полез!
Начал я пузыри исправлять, материю натягивать, — еще хуже сделал. И тут слышу: в батарею стучат. Игорешка! Ах, черт! Сунул я мешок на место в ящик — ладно, авось пронесет! — схватил ложку, которой гречку засыпал, и — к батарее, к окну. Мокрые штанины с веревки по лбу меня — хлоп, хлоп!
Мы уже и забыли, когда они грели, батареи отопительные. Уж в ту зиму, когда война началась, от них только мертвый железный холод шел. И теперь так. Они только и годятся, чтобы нам с Игорешкой перестукиваться. Игорешка за стеной живет, но не в нашей квартире, а в другой, через второй подъезд надо идти. Летом просто: он в окно высунется, и я высунусь, — можно поговорить, а зимой никак: стучи по батарее. Ну ладно. Он отстукал три раза, это, значит, спрашивает: можно к тебе? Я тоже три раза: значит, можно, давай!
Тут я вспомнил про печку, бросился к ней. Рубец не булькает, будто помер, печка молчит. Открываю дверцу — уголь сверху весь потемнел, провалился, только в глубине розовое еще держится. Давай я его кочергой, кочергой, раскидал немного, сквозь поддувало угольки и недогарки на железный лист перед печкой посыпались; потом зачерпнул из ящика свеженького угля совком и бросил на самый жар. Ничего, разойдется.
Взял потом щепку, поддел крышку с кастрюли — такая вонь пошла, смерть просто! «Ну, что ты, собака? — говорю. — Кипи, требуха несчастная!» Мать за рубцом на мясокомбинат ездит, часами стоит, как в баню, я и сам сколько там стоял, и вообще в щах он ничего, когда выварится, но все равно надоело! Подохнуть можно, какая вонища!
Пока я с печкой ковырялся, слышу, Игорешка уже стучит. Бегу открывать. Хотел по дороге сожрать скорее сахар из ложки, а потом передумал. Лучше мы его вместе сварим. Я ведь зачем за сахаром полез? Чтобы сварить. Открыл бы печку, сунул ложку к огню и варил. Стал бы сахар потихоньку плавиться, а я бы смотрел. Он бы пополз, пополз по ложке, сделался прозрачным, в середине только маленькая сахарная льдина оставалась бы, а вокруг вскипало бы пузырями. Пузыри закоричневели бы, а потом весь сахар стал цветом, как йод. Тут бы я ложку вытащил и капал бы на холодное блюдце густыми шоколадными каплями. От них тянулась бы длинная, вязкая паутина, тут же стыла бы, делалась ломкой, я бы ловил ее языком. Потом отковырял бы застывшие капли, блестящие, как пуговицы, и ел их, как самые лучшие конфеты. Пришли бы девчонки из бани, я им дал бы тайно по пуговке…
Нет, пихнуть ложку в рот и, торопясь, взахлеб, проглотить сахар, чтобы успеть съесть до Игорешки, чтобы нарочно долго ковыряться с замками и мычать в ответ на его «ну, что ты там?» — нет, это не дело. Сварим лучше вместе.
— А я твоих встретил, — сказал Игорешка, когда вошел в комнату. — Из булочной бегу, и они как раз. В баню, что ли?
— Ага. В баню пошли.
— А Петруха?
— Он эту неделю в вечернюю.
— А… Сырость-то, а? Прям тает. А чего это у вас вонь такая?
Игорешка прибежал без пальто, в одной шапке. В руках его брезентовая полевая сумка — мы все ходили в школу с такими сумками.
— Ага, — сказал я, — жутко тает. Снимай ботинки. Это у нас рубец варится.
Он сел на ящик, где лежала ложка с сахаром.
— Потише! Не видишь? — сказал я и взял ложку.
— Это чего? — спросил Игорешка.
— Чего! Сахар! Ослеп, что ли? Сахарочек!
— А…
Он стал расшнуровывать свои мокрые ботинки и говорил, что мать его отпустила ко мне уроки делать. Я пока слизнул несколько сахаринок и ходил с ложкой, отстранял другой рукой белье, высматривая, куда ложку пристроить. Носки у Игорешки были мокрые и рваные, он их снял тоже и держал, не зная, куда деть. Я пристроил ложку на свой подоконник, где мой угол и лежат все вещи и книжки, подложил под черенок тоненькую арифметику, чтобы не просыпалось.
— Открой духовку да повесь на дверцу, — сказал я Игорешке.
Он так и сделал: повесил носки на дверцу. Я нашел ему Петрухины тапочки: их все носят, пока Петрухи нет.
— Да ничего, пол теплый, — сказал Игорешка.
— Надевай, надевай, простудишься, — сказал я. — И так вечно сопли текут.
— У кого?
— У меня!
Он, правда, тщедушный очень, болеет ползимы, они еще хуже нашего живут. Мне вон дранки надоели, а он рад, когда моя мать ему дранку даст.
— Я бегу, — сказал Игорешка, — а как раз ваши идут…
— Ага, — сказал я. — Они в баню пошли. Теперь три года не придут. Ну, в морскую?..
— Давай, я тут принес, — и Игорешка вернулся к ящику за своей сумкой.
Я полез под кровать и достал свою коробку, потом мы сдвинули на одну сторону стола все, что на нем стояло, — грязные тарелки, стаканы, кастрюли, задрали клеенку и покрыли стол газетой. Разложили свои тетради и учебники. Но уроки, конечно, делать и не собирались — только так, для маскировки все разложили.
Игорешка уже сидел на корточках перед коробкой.
— Доставать?
— Сейчас, — сказал я от стола. — Я уже.
И вот мы оба примостились на корточках перед большой коробкой и начали все вынимать и выкладывать на пол. Все, что надо для морской торговли.
Никто не знал, что мы с Игорешкой играем в морскую торговлю. Я бы в жизни никому не признался, что вообще во что-то играю. Смех же! И я ни с кем больше не могу играть в эту игру, только с Игорешкой.
И вот мы достали из коробки четыре больших парохода, грубо выструганных из поленьев, — это были тяжелые грузовые пароходы с глубокими трюмами, выбитыми стамеской. Мы достали старый электрический утюг, вернее, часть утюга, нижнюю, служившую ледоколом. Потом еще яркие цветные банки из-под американской колбасы, наполовину срезанные и соединенные цепочкой, — баржи. Потом множество других коробочек, банок, щепок, лодочек из коры и картона и всякой другой мелочи и блестящего хлама.
За годы войны наши пацаны чего только не приносили в школу! Плоские немецкие штыки, патроны, гранаты «лимонки», каски и противогазы, шлемофоны, погоны и махорку, немецкие кресты и наши медали. У меня был даже короткий и тяжелый немецкий танковый перископ. Но все это нам надоело. Теперь в моей коробке ничего такого не было. Здесь хранилось самое дурацкое на первый взгляд барахло, но для нас с Игорешкой какой-нибудь замызганный бочонок от давно растерянного лото представлял большую ценность.
Выложив вещи из коробки, мы расползлись по разным концам комнаты и принялись первым делом за строительство. Игорешка строил Англию, а я СССР. Надо было построить порт, причалы, подъездные пути, установить грузовые краны, склады — да мало ли! Мы перешли на торжественный и вежливый дипломатический язык.
— Вам эта катушечка не нужна?
— А можно у вас взять вот эту проволочку?
— Нет уж, эту коробку вы не трогайте, у нас на ней маяк будет стоять.
Комната наша сразу стала огромной. СССР — за печкой. Англия под старым комодом, между ними всего шагов шесть, но теперь их разделило море. По мере того, как выстраиваются тот и другой порты, расстояние это все увеличивается. И уже нельзя просто так попросить катушечку или проволочку.
— Не можете вы нам отгрузить вон ту палку? Мы сейчас пришлем быстроходный катер.
— Вам вон тот камень не нужен? Мы сейчас пароход пришлем.
Я ползу на коленях, толкаю перед собою пароход, а сам вижу, что у Игорешки уже почти все готово и его порт маленький и аккуратный. Надо побыстрее, а то я расположился чуть не подо всей печкой. Ну, да ведь СССР небось побольше, как же иначе!
Наконец все сделано, и можно начинать по-настоящему. Мой главный, самый большой пароход называется «Москва». Он подходит к причалу под погрузку. Открываются трюмы. Мы везем в Англию лес и уголь. К пароходу прицепляются еще баржи, они тоже нагружены щепками. «Москву» сопровождают два эсминца — на всякий случай, хотя сколько мы ни плавали, до военных нападений дело как-то не доходило: весь интерес в том, что ты привезешь и что тебе привезут.
У нас торговля честная: мы друг перед другом стараемся привезти на тот край моря что-нибудь самое интересное, что-нибудь равнозначное тому, что тебе привезут. Если из Англии прибывают мешки с мукой, то мы им посылаем арбузы — зеленые шарики от мозаики. Сейчас, например, кроме леса и угля, «Москва» повезет лошадей. Может, конечно, лошади и не нужны англичанам, но зато интересно.
Итак, караван двинулся. Плывем долго и медленно. День проходит и ночь. Небольшой шторм настигает «Москву» у Петрухиной кровати. Но вот уже и отвесные скалы комода, это опасное место. Но английский маяк сигналит, чтобы шли спокойно, путь открыт. (Все-таки сравнительно легко добирался я тогда до Англии!) «Москва» медленно и устало входит в порт, и начинается разгрузка.
Затем очередь Игорешки. Он проводит к нам сразу два транспорта. Наша подлодка встречает их в открытом море и ведет за собой.
— Мы вам привезли бочки с селедкой, сгущенку и бинты для раненых.
— Бинты? Это хорошо, спасибо. Сейчас наша санитарная машина их первым делом заберет…
В морскую торговлю я научился играть весной в больнице, когда скарлатиной болел. Там был один хороший мальчишка Кушнер, жутко умный. Наши койки рядом стояли, а мы еще нарочно их поближе подвинем, бывало, и играем. Сначала в войну играли, бумажными солдатиками. Настоящих солдатиков не было, все олово на пули пошло, а стали продавать такие альбомчики бумажные, и там нарисованы солдаты, и конница, и мотоциклисты, и танки. Вырежешь, склеишь из двух половинок солдата, подставочку еще картонную приклеишь, и играй себе. Но потом нам надоело. Кушнер лежал, лежал, заложив руки за голову, а потом придумал. «Ну, говорит, ее к черту (это про войну), давай, знаешь, во что играть…» И стали мы играть в морскую торговлю.
А теперь вот с Игорешкой всегда играем.
Уже два или три рейса сделал я в Англию и обратно, когда вспомнил вдруг о печке. Ах ты, господи! Кинулся я к ней, но уж поздно, все прогорело, и рубец умолк, будто замер. Я туда, сюда, Игорешка сидит посреди пола и смотрит испуганно, а мне, выходит, опять надо лучину колоть, растапливать. Я дул, дул в пустую, темную печку, ни черта не выдул, только глаза на лоб полезли. И уже чувствую, что пропала наша игра, и от этого злость меня еще сильней берет.
И тут в дверь забарабанили: наши вернулись. Эх! А ведь я хотел все хорошо сделать, посуду помыть, чайник согреть к их приходу, чтобы мать после бани — она после бани добрая — сидела, чай пила, чтобы все хорошо было.
Я Игорешке дал знак: убирай, мол, скорее, сам побежал дверь открывать, нарочно долго с замками возился; Нинка с Люськой первые ворвались, меня обогнали — и в комнату. И мать следом вошла. На ней теплый платок на голове, под ним еще другой, белый платочек, а там еще полотенце — волосы замотаны, голова большая, круглая, а лицо розовое и чистое, и глаза добрые. Но она, как вошла, повела взглядом по комнате, тут сразу и началось! Игорешка не успел, растяпа, все убрать, только Петрухины тапочки со страху скинул, стоит босиком и глаза таращит. Ох, и началось!
— В игрушечки играть! — кричала мать. — В пароходики! Да у людей пацаны работают у станка, идол ты проклятый! Печку, паразит, не мог доглядеть! Когда уж я сдохну, чтоб глаза мои вас не видели! Свистодуй американский! Учиться — так из-под палки, а портки по полу тереть — пожалуйста! Что у тебя, руки поотсыхали, в печку-то подбросить? У-у, отродье!
Все еще, может, обошлось бы без драки, криком одним, но тут Люська на окне ложку с сахаром нашла — совсем забыл я про ложку. Вернее, не забыл, а как раз перед этим хотел ее Игорешке отдать, чтоб он нам из Англии сахар привез, а в последний момент из головы выскочило.
Мать как увидела ложку, совсем в лице переменилась.
— А! — закричала. — Ты вон еще чего! — и тут она полезла в ящик, вытащила наволочку, щупнула ее на ходу — и ко мне. И вот тугим этим мешком, уж не знаю, чем там приходилось, солью или гречкой, она меня по уху, по башке. Я скорчился, побежал, под Петрухину кровать полез, а она все колотит. А потом ногами — по пароходам нашим, тяжелым сырым валенком в галоше — по Англии, по СССР. Полетели маяки и причалы. Я сквозь слезы из-под кровати смотрю, как она на баржи и на катера наступает, как Игорешкины босые ноги к дверям мелькнули. И что-то такая обида меня взяла, плачу, остановиться не могу. Знаю, что сам виноват, за дело она меня, знаю, за наволочку-то, это верно, но морская торговля при чем? Лучше бы всю жизнь мне в больнице лежать, с Кушнером, никто не трогал, никто не мешал… Докатился до меня замызганный бочонок от лото — это из Англии в таких бочонках Игорешка только что масло привез, — зажал я его в кулаке и реву. Никогда, чувствую, не играть мне больше в морскую торговлю…
— Вылезай, паразит! — кричит мать. — Что ты там забился, грязь собирать? Болван здоровый! Обревелся, убили его!..
Слышу, уже спускается со своего топа, уже самой, наверное, жалко меня стало, но от этого еще обиднее. Плачу, а сам кричу:
— Надоели вы мне, надоели!..
ТРОЕ Рассказ
Л. Тараканову
1
С утра прошли не больше шести-семи километров, но было жарко, идти пришлось низиной, без тропы, сквозь сырой, темный ельник, потом всходили на сопку, спускались, так что порядком устали. Их было трое, и они шли цепочкой, метрах в двадцати друг от друга, двое мужчин и женщина, которая была старшей в их маленьком отряде.
Она была вынослива и крепка, их начальница, седьмой сезон проводила в тайге, а они первый, но сегодня даже у нее лицо было красное и потное, недовольное, и шаг тяжелый. Горев и Воронов не привыкли видеть ее такой.
Сойдя с сопки, шли опять молодым тесным лесом, еле продирались. Солнце пекло, и тайга не спасала, парило. Рубахи на спине и под ремнями пропотели, края косынок потемнели на лбу от пота.
Горев, самый молодой, шел последним, нес мешок с образцами.
Это хуже всего — нести мешок: прыгнешь через валежину или просто оступишься, и тут же какой-нибудь камень в мешке выпрется и вопьется в спину. Тогда все время потряхивай на ходу спиной, чтобы там улеглось: трюх, трюх, а там, наоборот, еще хуже и давит уже не в одном месте, а в трех, и рубаха совсем приклеилась, а по холке еще стучит лежащее поперек ружье в чехле, привязанный чайник, и все сползает к чертям.
Нет, он не устал, если нужно, будет идти так день, ночь, еще день, — пожалуйста. Впервые попав в тайгу и работая уже по-настоящему, Валя Горев и держаться старался заправским геологом. Жара — пусть жара, лес стеной — тоже хорошо, или вот эти камни в мешке: больно, конечно, но, в сущности, ерунда, то ли еще можно вынести.
Впрочем, он думал теперь не об этом. Время было встретиться речке, и он знал, что начальница разрешит искупаться и передохнуть у воды. Тем более что и сама она сегодня выдохлась. Нет, речка — это вещь, соображал он, да и пожевать что-нибудь пора. Ему все время хотелось есть. «Расту я еще, что ли?» — думал он.
Он шел последним и все время видел среди чащи голубоватую косынку начальницы. Два или три раза она оборачивалась красно-хмурым лицом. «Оксана-то совсем что-то», — думал он. Начальницу звали Оксана. Оксана Семеновна.
Наконец стало слышно речку. И будто потянуло свежестью. Горев прибавил шагу и почти догнал начальницу. Теперь отчетливо, хоть и негромко журчала вода.
— Речка! — сказал Горев.
Оксана Семеновна отмолчалась. Они вдвоем остановились, а Воронов трещал кустами уже впереди. Горев передернул плечами, опять примащивая на спине рюкзак.
Они продрались следом за Вороновым и — все вместе — встали на самом берегу среди зарослей. Приятно обдало сырой прохладой, чистым речным запахом. Речка была неширокая и мелкая, чистая, сквозь воду просвечивало белое галечниковое дно. Невдалеке, на повороте, воду рябило, и она сверкала, как чешуя. В тени, слева, в масляно-гладкой зеленой от леса воде фотографически-четко отражались береговые высокие ели. Тишина стояла сказочная, только вода журчала. Все трое затихли, еще тяжело дыша и горбясь каждый под своей ношей, и глядели на уютное это место. На той стороне, как раз на солнцепеке, чуть наискось, желтела отмель.
Они перешли речку вброд, не снимая сапог. Однако как ни мелко было, а сапоги залили.
— Теперь так и так сушиться надо! — опять весело крикнул Горев, намекая насчет привала, но Оксана Семеновна и без того, кажется, не возражала.
На отмели с удовольствием, с покряхтыванием сбросили рюкзаки, потом разделись, отвернувшись в разные стороны. Горев, пока начальство отвернулось, показал Воронову, какая, мол, Оксана наша сегодня хмурая: сделал такую же, как у нее, мину, но Воронов не улыбнулся — тоже был серьезен. Что только с ними поделалось от небольшого нынешнего перехода?
Раздевшись, нашли место поглубже — чуть выше пояса, стали купаться.
— А как же сегодняшние километры? — поддразнивая Оксану Семеновну, закричал Горев.
Оксана осталась в синем купальнике с вышитой на груди белой чайкой, подобрала вверх волосы, стала не похожа на себя — красивая. Быстро, не замешкавшись, сошла в воду и тут же присела, окунулась по самые плечи.
От купания усталость как рукой сняло, и вылезать из воды не хотелось. Только Воронов в своих длинных черных «семейных» трусах, над которыми посмеивался Горев, вышел пораньше, в кустах натянул брюки и, пока Оксана Семеновна и Горев еще плавали, или, вернее, ползали по дну в мелкой воде, брызгались и шумели, принялся расшнуровывать рюкзак с консервами и раскладывать костер.
— Валя! С ума вы сошли! — кричала начальница и бежала из воды, высоко вскидывая белые полные ноги, а Горев бил сзади ладонями по воде, брызгая со спины, нагоняя ее, спотыкаясь и тоже смеясь.
Без одежды Горев был совсем мальчишка — тощий, длиннорукий и длинноногий, с рыжими веснушками на руках и спине, с рыжей слабенькой бороденкой, которую еще с весны взялся отращивать. Против Воронова — щепка щепкой. Воронов — приземистый и широкий, смуглый, с широкой спиной и грудью, с тяжелым черным чубом на большой голове. Даже Оксана Семеновна как-то сказала: до чего, мол, вы разные. Воронову, разумеется, и в голову не пришло бы вот так забавляться.
Они смеялись, и эхо разносилось над речкой.
— Ой, Толя, спасите!
Воронов и без того не отводил глаза, смотрел, как голым телом она перед ним мелькала, обтянутой мокрым купальником фигурой.
Они вышли наконец из воды, Горев бросился животом на песок возле Воронова.
— Теперь и дальше можно! — сказал он.
— Ладно тебе! — сказал Воронов. — Торопыга.
Он стоял на коленях перед рюкзаком, доставал оттуда хлеб. Костер уже горел. Оксана Семеновна подошла тоже и остановилась по ту сторону костра. Воронов не успел отвести глаз, и она заметила, к а к он смотрит.
И опять, как утром, и вчера, и третьего дня, почувствовала волнение и скованность. «Нет, это уже невозможно», — сказала она себе. Рано или поздно, а скорее вот-вот, все это должно как-то разрешиться. Воронов делал вид, что ни о чем ином, кроме работы, и не думает, и она приняла эту маскировку, сама вела себя так же, но в глубине души понимала, что в этой непростоте, подчеркнутости, сухости уже есть фальшь и все не так просто. Может быть, она оттого так устала сегодня, была раздражена и несобранна, что вместо работы в голову все время лезло одно, а она не хотела этого. И ничего не могла поделать с собой. И вот снова — тяжелые, убегающие его глаза.
— Я свинину не буду открывать — жарко, — сказал Воронов. (Нужно ему это спрашивать, про свинину!)
— Подумаешь! — ответил Горев. — Давай-давай!
— Да, конечно, — ответила тоже Оксана Семеновна, не особенно вникая в то, что говорит. Она уже лежала спиной на песке.
Костер разгорелся, и Горев пошел с чайником к воде. А Воронов двинулся сюда, к ней. Что ему надо?
— Часика два, может, тут останемся, пока жара спадет, а? Место-то какое…
(Нельзя было оттуда, от костра, спросить?)
Она давно обратила внимание: он не называет ее по имени-отчеству. Вот и сейчас так. И остановился в двух шагах, мнется, а глядит вбок, как будто интересно ему, как Горев, стоя по колено в воде, полощет чайник.
— Может быть, — ответила она, — посмотрим…
Он не отошел, продолжал стоять, тень его касалась ее ног, и ей хотелось подобрать ноги, отодвинуться.
— Пойти косынку простирнуть, — пробормотала она и, не глядя на Воронова, поднялась.
— Место-то что надо… — сказал опять Воронов.
Она машинально отряхнула прилипшие сзади песок и травинки и знала, что Воронов глядит, глядит на красные полоски, оставленные этими травинками на теле.
Горев шел навстречу ей с чайником, улыбался — в одной руке чайник, в другой крышка.
— Ох и водичка, ох и чаек будет!
— Что?
— Водичка, говорю!
— А-а. Да, место тут ничего, — сказала она рассеянно и подумала, что, слава богу, Гореву и в голову не приходит.
Через полчаса, когда поели, она осталась на отмели одна — Воронов отправился по берегу за ягодами, Горев ушел по воде с фотоаппаратом — аппарат был не его, Воронова, как и ружье, но снимал и стрелял, а потому и носил эти вещи Горев.
Разомлев на солнышке, она задремала. Обедали весело, Горев острил, она чуть успокоилась и даже посмеялась вместе с Горевым над Вороновым, как он уплетал надувая щеки, сухари с тушенкой. А теперь солнце пекло, и не хотелось ни думать, ни двигаться. Казалось: юг, море, пляж. Да и что, в самом деле, такого, ну подумаешь, ей-богу, еще столько времени впереди, что лето портить.
Очнулась — и, открыв быстро глаза, увидела совсем близко повязанную косынкой голову Воронова. Он стоял рядом на коленях, в обеих сложенных ковшом ладонях нес что-то — ягоды, догадалась она. Машинально закрылась, потянула на себя угол одеяла, на котором лежала, защемила в кулак расстегнутый ворот ковбойки, Воронов улыбнулся — улыбка вышла жалостной:
— Вот, насобирал….
У нее, наверное, тоже лицо было не свое, и она быстро, радостно притворилась, приподнялась:
— Ой какие!
Она подставила ладони, и Воронов пересыпал ей теплые ягоды, землянику, и она стала есть ртом с ладоней.
— А себе-то?
— Ну уж тоже! — Он все так же стоял рядом на коленях, осевши только чуть назад, глядел, как она ест.
Ей было ни подняться, ни повернуться — он слишком близко был от нее, и она, доев ягоды, устав опираться одним локтем, опять откинулась и легла, улыбаясь ему благодарно.
— Оксана, — сказал он глухо, не глядя, будто позвал, и она точно провалилась от волнения и уже знала, что он скажет дальше. Она скользнула взглядом по сторонам, по блестящей реке, до самого ее поворота, боясь, что Горев рядом и…
Воронов наклонялся, а она чуть отползла на спине в сторону от его лица, от рук, тянувшихся к ее плечам.
— Толя, вы что?
Лишь потом она поняла, что говорит шепотом, будто в комнате. Нет, это нельзя было, тут, на пустом, открытом месте, на солнце, нельзя. Она еще отползла и села, и он едва не ткнулся в песок, потеряв равновесие и дыша тяжело, как от бега.
Оксана Семеновна опять огляделась, ища Горева, и быстро встала.
— Где же Валя? Надо идти…
Не то, не то, совсем другие надо было говорить слова — грубо, резко, поставить его на место. А она шептала испуганно, и теперь вот тоже, будто ничего не произошло, говорила не те слова.
Между тем Горев видел всю сцену. Он ходил по реке, фотографировал, радостно представлял себе, как зимой, в ванной у друга Сани, когда за окном будет снег да мороз, он увидит медленно выступающие на фотобумаге ели, пихты, вспомнит этот жаркий светлый день, блеск реки, отмель. Потом он выбрался на берег, сразу вступил в лес — поверху летала с одной еловой лапы на другую маленькая белка или бельчонок, ему хотелось сфотографировать ее. Чем-то острекал ногу — кожу пекло, как от ожога, он опять ступил в воду и пошел назад. Еще издали увидел, как тихо идет Воронов к спящей Оксане, неся перед собою сложенные ковшиком ладони. Вот щелкнуть их сейчас! И он стал вдоль берега осторожно приближаться, изготовив фотоаппарат. Но что-то было в лице Воронова, в его крадущейся походке такое, отчего Горев насторожился. Вот Воронов почти подошел, стоит, смотрит, опускается на колени. Так. Горев сделал еще несколько тихих шагов. Да, это уже было, он уже испытывал как-то недавно, совсем случайно, такое же неприятное, ревнивое чувство, что-то однажды показалось ему подозрительным, какой-то их взгляд, или взгляд Воронова, или Оксаны. Нет, не может быть… Он увидел, как испуганно проснулась Оксана, но потом поднялась на локте, ела ягоды. (Хоть и далеко было, но он сделал один за другим два снимка.) Нет, кажется, ничего особенного. Но вдруг Воронов наклонился, протянул руки, заслонив Оксану. И тут Горев отвернулся и перестал смотреть.
Черт знает что! Он стоял по колено в воде, в трусах и рубахе. Куда деваться? Сразу чувствуешь беспомощность и одиночество. Что теперь? Стоять в воде с этим дурацким аппаратом на шее и ждать? Чего?
«Ну и сволочь, — говорил он про себя о Воронове. — Надо же, а!» Он тут же вспомнил, как уезжали, сидели все вместе у Сани в последний вечер, и Толя Воронов был со своею Лидочкой и, когда уже все выпили, Толя стоял за столом, обняв Лидочку за плечи, и кричал: «Осенью всех приглашаю на свадьбу, поняли?» Лидочка, опустив глазки, улыбалась, все орали «горько! горько!», и они целовались, будто это уже и была свадьба. А Оксана? Может, это у нее система, каждое лето вот так?.. В какой это книжке парень кричит: «Перестаньте проституировать!» Выйти сейчас к ним и закричать бы так.
Почти злорадно, сурово он стал думать, как все это может отразиться на работе. «Ну что за гады!» — он опять вспоминал Лидочку, чистенькую и симпатичную Лидочку с третьего курса, и как они с Вороновым целовались. Нет уж, условия им еще создавать, что ли? Он вышел из своей засады, стал насвистывать и, еще не глядя туда, двинулся к отмели.
Гм! Тут все, однако, оказалось нормально. Толя, сидя на песке, быстро пеленал ногу в портянку, второй сапог был уже надет. Оксана сидела, уткнувшись в карту на коленях.
— Валя! Где же вы? — крикнула она ему как ни в чем не бывало.
Вот это да! Почудилось, что ли? Впрочем, нет, наверное: слишком злое, каменное у Воронова лицо, слишком он быстро, резко все делает, не похоже на него — торопится уйти с привала.
Но все-таки хорошо, что так, от сердца отлегло. Слава богу, честное слово!.. Он бегом выбежал на песок, засуетился, стал собираться. Все нормально, значит, в порядке, ну и хорошо.
2
Горев шевелил палкой в костре. Загорится палка, сунет ее в землю, собьет пламя и снова подравнивает головни. Булькала в ведре каша, пахло распаренным пшеном, сушились вокруг костра развешанные на колышках портянки. Вечер полз по тайге: внизу уже совсем темно, стволов не различишь, а верхушки еще четко рисуются на небе. Воронов, сидевший с той стороны костра на поваленном стволе и читавший книгу, потянулся, зевнул:
— Темно, буквы сливаются.
Горев не ответил. До чего любит читать человек! И хоть бы на пользу шло чтение-то.
— Ну как там? — спросил Воронов про кашу. — Будить да ложки нести? — Он захлопнул книгу и поднялся.
Горев не ответил. Оксана Семеновна спала, закрывшись от комаров в палатке, а ложки лежали на земле рядом с Горевым, но ему даже об этом не хотелось сказать. Пусть сходит, черт с ним. Воронов что-то медлил. Опять потянулся, зевнул — Гореву противно было это потягивание, зевание, ленивый голос.
— Эх, и пожрем сейчас!
Хоть бы ты шел уж, будил свою Оксану!
— А ты что смурной такой?
Ну вот, объясни ему. Горев пошевелил в костре палкой, заглянул в ведро, не отвечая, сказал:
— Буди, вроде готова.
— Ну-ну, — сказал Воронов и пошел к палатке.
Горев смотрел в огонь, на розовые, тонкие от жара угли, и думать ни о чем не хотелось. Да и что думать? Он и так слишком много думал все об одном и том же всю неделю, с того привала у речки Каменки. «Думай не думай, а рубль — не деньги», как скажет примитивный философ Толя Воронов. Философ. Книгочей. Взрослый человек. Мужчина. И что это тоска такая, отчего?
Он услышал, как в палатке засмеялись (Толя, конечно, влез туда, так просто не мог ее позвать), заговорили глухо, опять засмеялись. Горев нервно прислушивался. Наверняка смех этот не относился к нему, но все-таки казалось, что Воронов говорит там о нем и они посмеиваются. Да и в самом деле смешно. Он увидел себя со стороны, свою согнутую у костра несчастную фигуру, себя — со всеми своими длинными речами, которые мысленно обращал к ним с презрением. Смешно. Тоже святой нашелся, моралист, уж не станешь ли ты силой растаскивать их в стороны. А может, они влюблены? Горев усмехнулся.
Из палатки гудел голос Воронова — такой, словно он говорил лежа и в подушку. Горев опять заглянул в ведро. Пуф! Пуф! — тяжело дышала каша.
— Идите, что ли! Готово! — позвал он сердито. Бросил в костер обгорелую палку, отряхнул пальцы. Никак не насмеются, не натешатся.
За ужином Оксана Семеновна — розовая и благодушная после сна — вспомнила:
— Да, Валя, вам завтра с утра в поселок, не забыли? А то у нас и хлеб уже кончается.
У них на пути, километрах в пятнадцати левее маршрута, был поселок Еремеево. Воронов предлагал всем свернуть к нему, но Оксана не согласилась. Теперь посылала туда Горева. Это на целый день, пока туда да обратно. Они и раньше так делали, заходили за продуктами, если попадалась на пути деревня, и ничего особенного в этом не было, но сейчас Горев подумал, что от него хотят отделаться.
— Я помню, — сказал он сухо.
И вдруг обрадовался, решил, что это кстати — побыть денек одному, не видеть их и не слышать, а то уже невмоготу. Все раздражает: как едят, как сидят, как смеются, как говорят. За каждым словом чудилась ему теперь фальшь, в любой фразе и шутке тайный смысл. Он все время как бы переводил их слова про себя, молча отвечал им. «Вот мы, бывало, в армии…» — начинал, например, Воронов, и Горев тут же готов был заорать: «До чего надоел ты со своей армией!..» Оксана Семеновна, обращаясь к Воронову, говорила: «А мы тогда, Толя, сделаем завтра с вами одну важную штуку», и Горев злорадно думал: «Знаю я эту вашу штуку!»
Наевшись, Воронов предложил: «Заспиваты, што ля?», и сейчас Горев снова про себя ответил: «Пой, пой, лирик, нужны тебе эти песни!» Нет, так дальше нельзя, хорошо, что он уйдет завтра, а то злость задушит.
Вечер был теплый, хотя днем прошел дождь и от земли тянуло сыростью. На костер навалили ельника, но комары все равно лезли, здоровые и злые. Воронов мыл миски, потом до блеска вытирал их пучком травы, пел басом «Дывлюсь я на нэбо». Оксана Семеновна тоненько подпевала. Горев лежал на спине, курил трубку, смотрел на медленно выступавшие в небе звезды. Черт возьми, как все могло бы быть хорошо. Дураки, им хочется быть вдвоем и шептаться, а ему хочется быть втроем и петь. Вот как сейчас. А может, ничего нет, может, он все выдумал? Если бы…
Вспомнилось вдруг прошлое лето, Крым, белые горы, их сумасшедший грузовик, на котором гоняли вечером в Бахчисарай, Галечка. Галечка, Галечка… Как она его целовала, как падала, валя его за собой, тогда в пещере, а он все-таки скрепился, сел, сказал глухо: «Я не могу, я не люблю тебя, ты должна знать…» Она села тоже, опомнясь, запахивала на груди рубаху — да, на ней была рыженькая, в мелкую клетку ковбойка с коротким рукавом и пуговицами до низу. Он, наверное, чего-то не понял тогда. Уже потом, зимой, в институте, она как-то вспомнила, смеясь, сказала: «Ты все-таки дурак, Горев». Он ответил хмуро что-то насчет того, что лучше, мол, быть честным дураком. «Чем подлым умником?» — подхватила Галечка и, усмехаясь, сказала, что это еще неизвестно, а он просто ханжа. А ведь он был прав тогда, в пещере, прав ведь, а? Как будто ему не хотелось быть с ней — да, но не так, зачем же просто так? Но разве ему не хотелось? Вот честно, положа руку на сердце, разве не хотелось? Ну конечно, что говорить, но мало ли что. Надо же быть людьми, а не животными. Нет, он правильно поступил, он и теперь гордится, что так поступил. А Толе Воронову этого, конечно, не понять. Ему вообще, наверное, все равно, кто бы ни подвернулся. «Чому я нэ сокил, чому нэ литаю». Где уж, Толя.
— Все это прекрасно, — сказала Оксана Семеновна. — Но завтра рано вставать, особенно Валентину…
— Да, можно и бай-бай, — сказал Воронов.
— Вы за меня не беспокойтесь, — ответил Горев.
— Я, собственно, не беспокоюсь, я вам даже не сказала, кажется, что вы зря лежите на сырой земле…
— Да, действительно, как же это вы, а?
— Да так уж, сам не маленький, должен соображать.
Горев быстро поднял голову, посмотрел, но в темноте, за дымом, не увидел ее лица, только фигура темнела на бревне.
— А-а-а! — Он сказал это многозначительно и почти обрадованно. — Да, конечно…
Палатка у них была одна, четырехместная, спали обычно вместе, покатом. Сейчас Горев поднялся, пошел в палатку, взял свой спальный мешок. Это уже была, конечно, демонстрация, он понимал, но черт с ними, намек ведь тоже, как он думал, был довольно прозрачный.
— Ты чего? — остановил его Воронов, он тоже подошел к палатке.
— Так просто.
— Да ты что? Я не хочу. Комары сожрут, да и сыро. — Воронов говорил вполголоса.
— Так ты спи себе там, кто тебя неволит?
Воронов дурашливо хмыкнул:
— Ну, ты соображаешь?
Горев отмахнулся, сказал твердо:
— Да ну, Толя, будет, чего там…
Он сказал это громко, и Оксана Семеновна, наверное, слышала. Он так и хотел, чтобы слышала. Пусть оценит его сообразительность.
— Выпендриваешься, — сказал Воронов.
— Ну а хоть бы и так?
Он решил лечь у костра, подальше и стал натаскивать ельник к тому самому бревну, где сидели за ужином Воронов и Оксана. Она теперь поднялась и смотрела в темноте, что он делает.
— Вы что, на улице решили лечь? — спросила как ни в чем не бывало. (А Гореву слышалось: «Вы что, решили одних нас оставить? Это очень мило, конечно, с вашей стороны, но зачем же так сердито?»)
— Если это называется улица… — вполне галантно пошутил он в ответ, а про себя чуть не кричал: «Да, да, и делайте там, что хотите, ну вас к черту!»
— Ну, Валя, в самом деле? (А перевод такой: «Видите, я все слышала и все понимаю, но не обижаюсь и делаю вид, что вовсе не понимаю ничего, и вообще пусть все будет тихо и мирно».)
— В самом деле, Оксана Семеновна, в самом деле. («Оставьте меня, наконец, в покое, видите же, что я вашего тона не принимаю, и вообще мне все противно»).
— Ну-ну! — сказала она так же, как давеча Воронов, и это опять-таки означало: «Ну, смотрите, дело ваше, я хотела по-хорошему».
Она отошла, Горев слышал, как они коротко сказали что-то друг другу, после чего Толя с ворчанием полез в палатку и, повозившись там, выбрался наружу. Горев уже раскладывал, расправлял на ельнике свой мешок. Воронов подошел сюда, тоже неся мешок и одеяло.
— Ты мне, что ли? — быстро сказал Горев. — Мне не надо, неси обратно.
— Иди ты, знаешь… Тебе! Мне, а не тебе! — Он свалил постель на бревно и тоже стал раскладываться рядом.
Горев усмехнулся. Это ему уже нравилось. Это уже кое-что, если они его боятся. Значит, он ведет себя правильно. Да и как можно иначе? Подхихикивать им, что ли?
Когда легли и закурили, Горев смело сказал:
— Слушай, Толя, это, конечно, дело твое…
— Что? — спросил Воронов нехотя.
— Ну все это, что происходит…
— Что происходит-то?
— Что ты дурачка строишь?
— Ну?
— Так вот, это дело твое…
— Ну мое…
— Ну так вот, это твое, а я…
— А тебе-то что, если мое?
— Как?
— Тебе-то, говорю, что за печаль?
Горев приподнял голову и посмотрел во тьму, на близкий огонек папиросы.
— Вон что! — сказал он со значением.
Воронов не ответил.
— Ну, тогда, конечно, тогда я молчу. — И Горев действительно умолк. «Вот, значит, вы как, товарищ Воронов, припекло вас, уже, выходит, и друзей побоку. Ну что ж, спасибо, по крайней мере, все ясно…»
— Ты как будто только что из яичка вылупился, — сказал Воронов. — Все, понимаешь, романтика играет… Вот у нас во взводе тоже один был такой, я, кажется, рассказывал…
— Знаешь, только не надо про армию, надоело! И вообще, по-моему, все ясно…
— Ты, Валька, просто псих. И всегда был псих. Понял? — Воронов явно не хотел ссориться.
— Зато ты нормальный.
— Я нормальный.
— Слишком нормальный.
— Какой есть.
Гореву жарко стало в своем мешке, он чувствовал: еще несколько слов, и он встанет, оденется и уйдет. К черту! Куда угодно. «Из яичка вылупился…» Сейчас он еще скажет: «Поживи с мое, доживи до моих, тогда посмотрим, какой ты сам будешь…» Чем только не оправдывают люди свою подлость! А это ведь подлость, элементарная подлость, больше ничего. И ради чего? Ради чего надо обманывать самих себя, его, предавать хотя бы ту же Лидочку? Они ведь не делают этого в открытую, прячутся, самим стыдно. А потому стыдно, что подлость. А у меня, видите ли, романтика играет. Да я не был никогда никаким романтиком! Что за манера еще появилась, самую обыкновенную честность называть романтикой. «О, да вы романтик, идеалист!» Вот так же говорили ему зимой после институтского комсомольского собрания, когда он вылез на трибуну и орал против этого сукиного сына доцента Кудова. «Валя, ты идеалист, с кем ты борешься?» «Совесть просто надо иметь и не испытывать внезапной застенчивости при виде подлости. Это не мое дело, то не мое дело… Что ж, человек не вправе высказать или хотя бы выказать свое отношение к тому, что делается рядом? Да еще с людьми, которые не безразличны? Мне никакие люди не безразличны! Если я молчу, значит, потакаю — молчание знак согласия. А я не хочу потакать и не буду, потому что мне противно. Почему я должен улыбаться, если мне противно?
Да, было не только противно, но и обидно. Как будто обокрали. Все шло так хорошо, дружно и весело, он им верил, он видел в них людей, а они? Самая пошлая похоть оказалась сильнее и дороже добрых человеческих отношений. Плевать им на него, на все его чувства, на его мнение, на то, хорошо ему от всей этой истории или плохо. Или он действительно такой дурак в свои двадцать один год, ни черта не понимает? Но что понимать, разве и без того не ясно?
— Вальк, ты спишь? — позвал Воронов тихо.
Горев не ответил. Да, он спит, спит, говорить не о чем. Завтра он уйдет — и делайте тут, что хотите. А потом вообще не услышите ни одного слова. Надоело. И действительно, хватит об этом, надо спать. Вон звезды какие. Чего стоит вся эта штука перед звездами? Зола. Пустяк.
— Правда, что ль, спишь? — опять, чуть погромче, позвал Воронов.
Горев чуть повернулся и ровно, громко, чтобы Анатолию слышно было, задышал, будто во сне.
Две минуты такого дыхания успокоили его, и скоро он на самом деле заснул. Подумал еще немного о звездах, вспомнил «чому я нэ сокил» и заснул. Заснул и как будто тут же проснулся. Однако звезды над головой были уже другие. Он вытянул из мешка руку с часами. Третий час. А уснули, наверное, в двенадцать, в начале первого. Было неразличимо темно, но он сразу понял, что лежит здесь один. Мешок Воронова находился шагах в двух, до него было не дотянуться, но все равно, можно не проверять, ощущение одиночества не могло его обмануть. От этого он, наверное, и проснулся.
Он тут же представил себе, что там сейчас в палатке. И почувствовал, как его начинает бить дрожь. Он понял, что хочет знать наверняка, даже подробности, готов вылезти и босиком, крадучись, пойти туда. О чем они говорят, как они говорят, что можно говорить в их положении? Впрочем, какие уж там слова! Слова — это ведь средство человеческого общения.
А может, Толя здесь? Может, он отошел по нужде и сейчас вернется и, кряхтя, поеживаясь, нырнет в свой мешок?
Горев подождал.
Глухая, сырая ночь была вокруг, горько, едко воняло сырым костром, в лесу, как всегда, что-то дышало, потрескивало, осыпалось. Подняв голову, он напряженно глядел в сторону палатки и, казалось, различал там некое движение. Что-то белое осталось лежать на крыше палатки, и по этому белому он угадывал весь ее контур. Потом ему начинало мерещиться, что это лицо или рубаха. Он все-таки выполз из мешка наполовину, дотянулся до ложа Воронова.
— Толя! А Толь! — позвал шепотом.
Мешок Воронова был пуст.
Горев влез обратно в тепло своего мешка, закрылся с головой, съежился, чувствовал, как его колотит. Сейчас была обида, больше ничего. Дикая обида. Хоть плачь. Что за люди? Ну что за люди? Ну почему так? Видит же, чего ему стоит, неужели нельзя быть хоть капельку добрее…
Утром, чуть свет, он ушел в Еремеево. Воронов похрапывал в своем мешке, Оксана тоже не проснулась, хотя он у самой палатки осторожно высыпал камни из своего рюкзака, чтобы принести в нем хлеб.
3
Странная вещь — свобода. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Что там общество! Между двумя-тремя людьми, которые живут изо дня в день рядом, делают одну работу, возникает такое множество связей, зависимостей, отношений самых разнообразных и неожиданных, что каждому в отдельности нельзя уже и думать о свободе. И чем крепче эти связи, тем меньше свободы. Надо быть или совершенно равнодушными друг к другу, что, впрочем, невозможно в маленьком коллективе, либо испытывать то высокое уважение человека к человеку, которое дают только понимание и любовь — вещи, как известно, редкие. Только тогда возможна свобода. А если нет ни равнодушия, ни уважения?..
Это было похоже на ночной студенческий спор в общежитии. Горев снова и снова перебирал в голове эти не новые и в его нынешнем изложении, в том, как и к чему он их применял, наивно (он сам это чувствовал) звучавшие истины. Но его это успокаивало и даже убеждало как будто. Жалко, не было под рукой книг: хотелось броситься сейчас в читалку и зарыться в книги. Может, там нашелся бы нужный ответ. Вынув записную книжку, он наскоро записывал то, о чем думал.
Он лежал на боку на вершине двенадцатиметровой скалы, на теплом, заросшем плотным мхом камне, на самом краю. Он едва вскарабкался сюда. Ни за что не полез бы, даже на пари, если б не нужно было. Но работа есть работа, и он лез и тащил сюда за собой мерную тесьму. Никогда никакая опасность и страх не мешали ему работать и делать то, что нужно.
Он должен был дождаться здесь Оксану Семеновну, которая ушла к следующей скале. Слава богу, они много работали. Да здравствует работа, которая все может вылечить. Горев снял рубашку и подложил под локоть, чтобы было удобней писать. Сейчас ему было легко. Вот она, свобода-то. Когда лежишь один на скале, а вокруг виден весь мир километров на двадцать. В последние дни он вообще старался как можно больше бывать один. Это помогало. По крайней мере, он чувствовал себя опять членом маленькой трудовой группы, а не человеком, от которого прячутся, который может что-то узнать, помешать. Он, усмехаясь, называл теперь себя «дамоклов меч».
Он очень уютно устроился на этом камне. Мягкие лучи солнца грели голую спину, ноги отдыхали. Он решил раскурить трубочку и оглядеться. Тайга, тайга. Зеленое руно. Все удивительно чисто и ясно. Сзади и справа громоздились скалы — серые, расцвеченные темно- и светло-зелеными, красными, коричневыми, серыми лишайниками. Этакий подводный мир, таинственный и красочный. Далеко слева в дымке виднелись мягкие контуры увалов, и среди них, как сталь, поблескивали длинные пластинки двух озер. Среди зелени, словно нарисованные простым грифелем, темнели палы — сгоревший лес. Впереди, далеко поднимались, как из труб остановившихся паровозов, два конуса — дымы лесных пожаров. Это было как раз на их пути — через день-два подойдут к пожарам вплотную. Хорошо, если пожары не разойдутся. Тайга, тайга. К самой скале тоже подползали, карабкались, как он сам только что, по склону деревья, но им подъем был тяжел, и бедняги взбирались на карнизы и выступы такими измученными, что даже могучий кедр не в силах был подняться с четверенек. Кричали кобчики. Пахло летним разогретым лесом — еловым и смолистым духом.
Горев писал карандашом-огрызочком — чернила в авторучке экономил подписывать образцы, и, пока раскуривал трубку, этот огрызочек куда-то запропастился. Он искал, искал его, пошарил вокруг, так и не нашел. А он еще хотел отмахать тут, ожидая начальницу, письмишко другу Сане. Надо же хоть как-то душу излить, кому-то все рассказать. Мол, мы с тобой, Санька, дураки и идеалисты, на свете все просто, и права твоя сестричка Альбина, которая в свои шестнадцать смеется над нами, когда мы начинаем что-то всерьез говорить о любви. Да, он бы написал веселое, ироническое письмо, без нытья. Что ныть, в самом деле? «Жизнь прекрасна и удивительна», и стоит ли отравлять ее переживаниями по поводу того, кто с кем спит. Вот Саня — добрый человек. Он бы смущался и делал вид, что ничего не видит, не понимает, и все были бы довольны. Довольны, черт побери! Хотя думал бы он совсем иначе и про себя презирал их еще больше, чем я. Но все были бы довольны. А впрочем, к черту!..
Он вспомнил нынешний утренний разговор. Толя после завтрака, за которым Горев не сказал ни слова, сделал важное лицо и произнес торжественную, явно не свою фразу: «Тебе не кажется, Валя, что плохое настроение друга может испортить настроение двум другим?» Горев даже опешил слегка. «Настроение… друга…» Он еще считает себя моим другом? И ее другом?
Он ничего не ответил Воронову, не нашелся, только плечами пожал. А надо было вот что сказать. Надо было сказать так же важно: «И это ты учишь меня коллективизму?» И Толя бы умылся.
— Горе-ев! Валя!
Это Оксана Семеновна кричала снизу. Он пригляделся, нашел среди зелени ее голубую косынку, помахал рукой. Жаль, конечно, но надо идти. Он оглядел тайгу еще раз, задержал взгляд на пожарах и с трубкой в зубах, завязав рукава рубахи на шее, сделав из рубахи как бы плащ, насвистывая, стал спускаться.
— Стихи писали или дневник? — спросила Оксана Семеновна, когда он подошел. Она ждала его, сидя под лиственницей, разув одну ногу, запустив руку в сапог — видимо, нащупывала там гвоздь.
— Неужели похоже, что я могу стихи писать?
— Ну а почему? В вашем возрасте еще пишут.
— А что мой возраст? Возраст как возраст… Что у вас там?
— Гвоздь. Да два сразу, кажется. Возраст у вас самый такой… как сказать… лучше не надо…
— Давайте я, может? — Горев взял у нее еще теплый сапог и запустил в него руку. — Да, ничего себе, как же вы ходите?
Он стал оглядываться, ища камень. Оксана протянула ему свой молоток на длинной ручке.
— А я писала стихи. И дневник вела. Довольно долго. Лет до двадцати пяти. А вы ведете дневник?
— Нет, никогда этим не занимался. — Горев поставил сапог на бугристый корень, принялся колотить внутри молотком. Что-то не похоже на нее, чтобы стихи писала. Если только в альбом. «Бом-бом, начинается альбом, хи-хи, начинаются стихи».
Оксана Семеновна чуть откинулась, оперлась спиной о ствол, скрестила ноги — одну босую, другую в сапоге, вполне мечтательно усмехнулась:
— Да, а я писала. Тетрадок пять осталось. Смешно.
— Ну отчего же? Романтическая были девушка, должно быть…
— Очень! — Она будто обрадовалась. — Очень! Тоже думала: буду скакать по жизни на сером в яблоках коне. — И опять усмехнулась: — Не верится, наверное, да?
— Ну отчего же? — опять сказал Горев, и это прозвучало совсем насмешливо.
Он перестал колотить, снова запустил руку в сапог и не глядел на Оксану Семеновну. Она промолчала.
Потом, когда с гвоздями было покончено и Оксана Семеновна обулась и поднялась, а Горев стоял, ожидая, она спросила у него за спиной:
— Вы как будто за что-то сердиты на меня, а?
— Что вы! — легко и быстро сказал Горев. — За что ж мне на вас сердиться?
Удивительно, до чего хорошее, свободное было у него сейчас настроение. Давно такого не было. Он повернулся к ней и смотрел прямо, насмешливо, чуть склонив голову. Она усмехнулась. Ей бы надо смешаться под его взглядом, растеряться, а она смеется. Ну, да бог с ней! Поэтесса!..
4
Третий день волокло по лесу дым — впереди разрастались пожары. Солнце мутно глядело с неба, и было нечто зловещее в его желтом, как бы через силу, свечении, в криках уходящих от пожара птиц, в испуганном шорохе бегущих мимо ежей, мышей и другой живности, спасающейся от огня. Два раза слышался рокот «аннушки», видимо, облетавшей зону пожара. Дым, дым — днем и ночью. Белые волокна осторожно выползали из лесу на поляну, где стояла палатка. Руки, спальные мешки, хлеб — все пропиталось горечью. Но, однако, горело еще довольно далеко, ждали, что ветер переменится, и потому не уходили, не сворачивали в сторону, продолжали работать.
Оксана Семеновна говорила, что ничего, дескать, страшного, каждое лето так бывает, работать можно. И они работали, как прежде. Только в дыму. И вдвоем: Воронов заболел, два дня не ходил в маршруты. Днем спал, отлеживался, готовил обеды, заботливо кормил Оксану Семеновну и Горева, с завистью глядел, сидя рядом, как они едят. Сам ничего в рот не брал. Он сильно похудел, ослаб, совсем зарос черной крепкой щетиной. Он как будто чувствовал себя виноватым — Оксана и Горев возвращались до того измотанными, что едва хватало сил, чтобы поесть. Оба кашляют, лица темные, глаза красные — дым разъедал глаза.
Кажется, они оставили в эти дни друг друга в покое, — во всяком случае, Горев ничего такого не замечал. Да если и было — наплевать, он устал думать об одном и том же и все время быть в напряжении.
Случайно — он заснул как убитый после ужина, забравшись в палатку, а они остались сидеть у костра — он услышал разговор, вернее, конец разговора.
— Подожди! — вот первое, что донеслось, когда он проснулся. Это был голос Воронова. И где-то совсем близко замерли шаги. — Ты не так поняла…
Горев впервые слышал, что Анатолий называет ее на «ты», и тут же сон как рукой сняло, он напряженно вслушался. Это нервное, обостренное состояние возникало уже как будто помимо его воли, он ненавидел себя в эти минуты — то, как замирает, слушает, ждет, как начинает колотиться сердце. Хотелось крикнуть: что ж вы, гады, со мной делаете? Самое противное было, что он х о ч е т знать, хочет слышать.
Что это она там у него не так поняла, о чем они?
— Господи, что тут понимать! — сказала Оксана. — Не дети же, слава богу…
— Бу-бу-бу, — что-то обиженно прогудел Толя.
— Не люблю, когда начинают накручивать на пустом месте. — Это опять было сказано очень отчетливо.
«Ого, как она с ним», — мельком отметил Горев. Он рад был, что проснулся и слышит этот разговор. Они явно ссорились. Это было приятно. Он даже приподнялся и приник к брезентовой стенке, чтобы ничего не пропустить. Толя опять что-то пробубнил, Горев не расслышал. Толя, видимо, оставался у костра, а Оксана Семеновна была почти рядом.
— Ладно, оставим, — сказала она. — Мне надо выспаться.
Она закашлялась и, кашляя, отошла — видимо, опять к костру. Звякнул чайник, кружка. Пока она пила, Воронов что-то говорил — не разобрать.
— Ерунда! — ответила она громко. — Просто я баба, самая обыкновенная баба, вот и все.
Что-то вдруг произошло. Горев не сразу понял, что именно, но произошло. С ним. Не там, не с ними, а с ним. У нее был тон, каким она с Горевым, например, никогда не говорила. Он услышал разговор в з р о с л ы х людей, Его как будто отбросило. Он словно в одну секунду уменьшился и оказался маленьким мальчиком. Он всегда считал себя взрослым и уж, во всяком случае, думал, что все понимает. Сейчас у него было такое чувство, как если бы он подслушал разговор матери и отца. Они говорят, он слышит и понимает, но его дело маленькое, его не спросят, и лучше ему не лезть, не показывать даже вида, что слышал. Поразило отчетливое, ясное ощущение разницы: они и он, он и они.
В одну минуту он увидел себя — каким был на протяжении последнего месяца: надутый, важный, презирающий их обоих. На каждом шагу показывал свое превосходство. Тьфу! Он чего-то не понимал? Чего-то главного? Как же так? Он не имел права лезть не в свое дело. Чему он хотел их научить? Держался этаким воспитателем, моралистом. Черт, какой стыд! Как будто они без него не знают, что там у них и как. Ну да, конечно, сам он все равно бы так не поступил, но почему другим непременно надо поступать, как ему кажется правильным? На то они и другие. Смешно.
И дело даже не в этом. Дело в том, что он выглядит жалким, надутым дураком. Барышня, при которой — ах! ах! — нехорошо выругались. Но ведь выругались? Выругались. А ругаться — неприлично. Господи, как стыдно, как дико стыдно. Неужели я действительно ханжа? И как я этого раньше не понимал? Почему? Надо бы тут же выбежать к ним, засмеяться, сказать, чтобы не обращали на него внимания, что он просто дурак. Э, нет! Он-то дурак, пусть, но они-то все равно от этого не чище.
Он услышал, как Воронов вдруг сказал теперь что-то насчет молотков: «где молотки» или «вот молотки». Горев сам отнес их к ручью, положил замокать. Завтра они опять уйдут с Оксаной в маршрут. Толя останется. Пусть коптится, может, пройдет наконец у него живот за три дня. Договорились идти на три дня, надо торопиться, черт их знает, эти пожары, как они себя поведут дальше. Им-то идти в сторону пожара, навстречу.
Оксана Семеновна тоже говорила теперь что-то насчет карты, продуктов: какие положить продукты. Все эти дни они ходили налегке, а завтра опять придется тащить тяжелый рюкзак, ружье, чайник. За три дня будет, наверное, удобный случай поговорить, он ей даст понять, что ему все равно, пусть не думает, не такой уж он дурак, а она, наверное, вообще считает его идиотом. Это она не зря тоже, должно быть, спрашивала тогда насчет стихов и дневника. Ну конечно. И с подковыркой, видимо, спрашивала, а он, кретин, не понял, продолжал изображать из себя дамоклов меч. Стыдобушка, ну и стыдобушка. Как будто не двадцать один год, а пятнадцать, честное слово. Ну ладно, довольно. Завтра в маршрут, и все. Портянки постираны, молотки замокают, ружье вычищено. Все в порядке, как у юного пионера. Спать. Еще бы ветер…
Потом Горев снова повторил про себя их разговор, то, что слышал, и стал соображать, о чем это они говорили. Пришли и устроились рядом в палатке Оксана Семеновна, а за ней Воронов, и Горев подумал впервые, что это тоже не сладко женщине — быть вот так все время с мужиками, спать с ними бок о бок, все делать с ними наравне, не отличаться от них. Как это она сказала? «Просто я баба…» И никого у нее нет: ни семьи, ни детей, и ходит вот так с весны до глубокой осени. Нет, спать, спать, сказал он себе, что это я разжалобился?
5
Они не успели достроить шалаш — ливень обрушился сразу, плотный, в грохоте грома. Непрестанно блестели синие и розовые молнии. Последние ветви набросали кое-как, накинули сверху еще прозрачную длинную пластиковую штуку, вроде скатерти, которая у них была с собой, забились, уже мокрые, подхлестнутые дождем, горячие от поспешного своего строительства в тесный, пахнущий хвоей и дымом шалаш. Гроза копилась и густела весь день, они еще страшились, поминутно глядя в небо, не прошла бы стороной, и теперь рады ей были, но уж что-то она слишком.
Шалаш пробило тут же, длинно закапало, только под этой пластиковой покрышкой и можно было спастись, и они сидели, тесно прижавшись плечом к плечу. У Горева так и остался топор в руке, а Оксана Семеновна все продолжала смеяться, как смеются застигнутые дождем. Пусть льет, не жалко и промокнуть! Было только семь часов, но потемнело по-ночному, и молнии били одна за другой, и в их блеске толстые прямые струи стеклянно вспыхивали то синим, то красным. Все скрылось вокруг в водяном дыму, гудела под ливнем тайга.
Оксана Семеновна стянула с головы мокрую косынку, волосы ее рассыпались, она подобрала их кверху, как тогда, на отмели у Каменки. Лицо горело, и глаза блестели весело, только с каждым ударом грома она пригибалась, и видно было, что боится. А Гореву хотелось орать и прыгать, потому что гроза всегда действовала на него, как вино, он весело дурел и рвался бежать, орать, влиться в это могучее столпотворение. С каждым особенно сильным ударом он радостно и победоносно поглядывал на Оксану Семеновну.
— У меня мать говорит — грозы грешники боятся…
— А я грешна, батюшка, грешна. — Она потешно перекрестилась.
Оба дня, что они находились вдвоем в маршруте, они вот так разговаривали — опять шутливо, легко, подтрунивая друг над другом, как в самом начале. И это было хорошо — и он и она чувствовали, что хорошо.
Думали, что ливень прольется и кончится, но не тут-то было: они сидели минут сорок, ожидая, а дождь не затихал. Откуда только бралась его сила?
Потом Горев полез на корточках в глубь шалаша, пытался изнутри подправить крышу, но работа его была без толку: где он прикасался, оттуда сразу начинало лить. Он совсем вымок.
Похоже было, что зарядило на всю ночь. Как же спать тут?
Они открыли банку тушенки, поели с хлебом, погрызли сахару. Дождь уже не радовал. Пока ели — молчали. Гроза постепенно отошла, гремело теперь далеко — где-то как раз над Толей Вороновым (как-то он там, бедолага?), — лило, хоть и не с такой силой, но все равно густо. Надо было устраиваться на ночь. Но как? Да и вообще спать не хотелось. Хоть и устали — день тянулся длинный, душный, но сейчас все прошло. Достали чехлы от мешков, со смехом стали примериваться, как лучше лечь, где меньше льет.
— На двоих никак не хватает, — сказала Оксана Семеновна.
— По очереди придется, — ответил Горев, и что-то ему вдруг стало не по себе.
Шалаш они поставили на взгорке, под высокими елями, лес уходил дальше вверх по склону сопки, а книзу шла небольшая лысинка с высокой травой, и еще ниже ложбина, густо заросшая молодняком, — там Горев рубил ветки для шалаша. В этой ложбине сейчас вовсю гудела вода. Трава на поляне полегла в одну сторону, как мокрые волосы, и среди травы поблескивали бегущие вниз потоки.
Горев вдруг сообразил, что делать.
— А, все равно мокрый, была не была! — крикнул он и в секунду стянул через голову рубаху. Оксана Семеновна не успела крикнуть: «С ума вы сошли!», как он выскочил под дождь в одних трусах и заплясал перед шалашом.
— Ого-го-гой! Улю-лю! — Он вопил что есть сил.
Оксана Семеновна, схватившись за голову, хохотала, кричала:
— Ой, умру!
Он прыгал, задирал ноги, делал стойку на руках, катался в напитанной водой траве.
— Хватит! Хватит! — звала Оксана и махала из шалаша приготовленным ему полотенцем.
Вот это был душ! Он растерся, глотнул отдающей пластмассой водки из фляжки и, очутившись в своем спальном мешке, закурив, заурчал от удовольствия. А она за ним ухаживала, помогала. Вот это жизнь!
— Сейчас бы на танцы какие завалиться, гулять всю ночь! — сказал он.
Оксана Семеновна, согнувшись, ползала на коленях, примащивалась рядом.
— Тоже еще заяц во хмелю! — ответила она. — Подвигайтесь-ка лучше, разлегся, как барин!
Он схватился, подвинулся, по ногам тут же стало тюкать: кап-кап, кап-кап…
— И отвернитесь или закройте глаза!
— Да господи, тьма такая…
— Все равно…
Он отвернулся, слышал, как она раздевается — рубашка, сапоги, брюки — как бормочет:
— Черт, все мокрое, как завтра надевать?..
И вот тут он услышал, как начинает частить его сердце.
Голова Оксаны Семеновны была совсем рядом — он слышал ее дыхание, запах мокрых волос.
— Как над вами, каплет, товарищ коллектор? — Она проговорила это чуть не в самое ухо.
— Я уж молчу, товарищ начальник, — отшутился он. А слова выталкивались с трудом. Он как будто еще ничего не понимал.
Дождь вдруг пошел сильнее, громко бил по прозрачной пленке.
— Ого! — сказали они разом. Голос у нее был по-прежнему веселый. Неужели она притворяется?
— Ну ладно, спокойной ночи, Тарзан Иваныч! И перестаньте уж дымить, ради бога!
— Да, простите. Спокойной ночи! — сказал он поспешно. И кажется, слишком поспешно: она умолкла и — он это почувствовал — чуть отстранилась.
Больше они не сказали ни слова, и она, кажется, скоро заснула.
А Горев не мог спать. Нет, он совершенно не мог спать. Он чувствовал, что происходит нечто страшное. Просто страшное. По-настоящему. Он лежал затаив дыхание. Все его прекрасное настроение исчезло. Он слишком ясно понял, чего ему хочется. Он снова и снова представлял себе, что и как он сейчас сделает. Это желание ошеломило его. Больше того — оскорбило, обезоружило, раздело, перевернуло, растоптало. «Как же так? — говорил он себе, не в силах остановить ни одну мысль. — Как же так? Я, выходит, такая же сволочь, что ли? Почему это? Что они со мной сделали? Я ведь не хочу. Не хочу?!» И он снова видел, как она лежит сейчас здесь в одном купальнике, а может, и не в купальнике, и если он протянет руку, вот так, чуть-чуть, он коснется ее, да, он может протянуть руку как бы случайно, во сне, а чехол тонкий, совсем тонкий.
Но что же это?.. Разве он не чувствует к ней брезгливости и презрения, разве она хоть чуть-чуть похожа на ту женщину, девушку, которую он мог бы любить? Неужели э т о сильнее всего, и ничего не стоят ни презрение, ни уважение к самому себе? А Толя?.. Что Толя? Толя не стелил бы сейчас двух чехлов, вот и все… Как? Да, вот так, если протянуть руку… Нет, это чудовищно, можно с ума сойти. Но разве не она сама виновата?.. Неужели она может спать? Значит, ей все равно, она ничего такого не думает. Но я-то, я-то! Дамоклов меч! Ох-хо-хо! Нет, я должен уйти. Встать и уйти… Нет, я буду спать, мне холодно, я придвинусь ближе, вот так. Нет, мне жарко. Я только коснусь ее, и все, потому что я не могу так больше. Что ты делаешь, Горев? Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты представляешь, как она будет на тебя завтра смотреть? А Толя? Это ведь Толино, ты забыл?.. Что Толино? Почему? Такое же Толино… Ах, вот как ты стал говорить?.. Но я только коснусь, вот так, и все, вот тут ее плечо, да… Он дышал очень спокойно, сонно и как будто случайно, во сне, забросил руку, и она не пошевелилась, не услышала, и он оставил руку, и, наверное, прошло еще полчаса, прежде чем он подвинул руку с ее плеча чуть ниже… Нет, это было выше его сил. Если бы она сама, пусть бы она сама, и пусть бы смеялась и презирала потом, все равно. А он не может. Это не трусость. Он ведь человек, в конце концов. Но где, где эта сила, которая помогла бы ему сейчас? Отрубить палец, как отец Сергий у Толстого? Но разве дело в этом? Дело в том, что оно явилось, это желание, что оно есть, что оно побеждает.
Она вдруг пошевелилась и вздохнула. Это было как гром. Кажется, никогда в жизни он не ощущал такого панического страха. Он не мог шевельнуться и не убрал руку. Она поворочалась и легла на бок, лицом к нему, и ткнулась головой прямо в его плечо. Он замер. Неужели она не спит? Неужели она идет на помощь? Он прислушался. Нет, она спала. Это доверчивое движение — головой в плечо, это ровное, тихое дыханье, запах пахнущих дымом волос… А он как бандит с ножом, как вор… Но почему? Откуда это? Разве он хотел? И разве виноват? Он и не думал никогда и ту же Галечку в Крыму сам отцепил от себя, разве не так? А теперь вот, что это?.. Он до боли закусил палец, глядел во тьму и вдруг, впервые за два, наверное, или три часа, услышал, как шумит, не слабеет дождь.
Потом он уснул. Ему снилась война. Тысячи каких-то новых бомб, узких и длинных, как сосульки, с шумом дождя летели прямо на него, а он лежал на земле, распластавшись, лицом к небу, и не мог пошевелиться. Ощущение неотвратимости, гибели было таким сильным, как бывает только во сне. Он бессилен, а бомбы несутся с бешеной скоростью. Конец.
— Валя! Валя! — Оксана Семеновна встревоженно звала его, трясла за плечо. — Валя, проснитесь, что с вами?
— Что? («Господи, какое счастье, всего только сон!»)
— Вы так плакали! — Она дотронулась до его лица, и он тоже сразу испуганно провел ладонью по глазам. Лицо мокрое, и на губах соленые слезы. И стало так жалко себя, что он не удержался и опять всхлипнул. Как маленький.
6
В избе было накурено, слепо, и, хотя на дворе еще не стемнело, хозяин, тощий молодой мужик, уже пьяненький, разговорившийся, велел жене нести лампу. Лампу поставили на стол среди бутылок, консервных банок, мисок с капустой, она неярко осветила лица. Горев воспользовался тем, что прервался длинный бестолковый разговор насчет того, что геологи ищут да что находят и зачем, и вышел на крыльцо. У двери его качнуло — он тоже выпил порядочно. Они отмечали возвращение на базу.
После бани, одевшись во все чистое, да еще после такого ужина, и еще оттого, что сидели за столом, в доме, как полагается, настроение стало благостное, ленивое.
Он сел на ступеньку и снова набил трубку.
Дверь осталась открытой, чтобы вытянуло табачный угар, оттуда лился тенорок хозяина и бас Воронова. Толя доказывал, что миллионы, которые тратятся на поиски и разведку, обязательно окупаются, да еще как. Оксана Семеновна тоже вставляла словечко время от времени. Хозяин же, потрясенный суммами, которые здесь назывались, вовсе разволновался и все клонил к тому, что вот, мол, ему бы хоть малую толику этих денег, он бы один все запасы разведал. Потом там, видно, налили по очередной, и Воронов крикнул: «Вальк, иди, за геологов!» Вставать было лень, да и пить больше не хотелось — он чувствовал, что с него хватит. «Я пропущу!» — крикнул он в дверь. Там опять завели прежний разговор, потом Воронов снова звал его, кричал: «Да иди ты сюда, какого черта!» — и наконец сам вышел на крыльцо с двумя стаканами в руках, совсем пьяный.
Он плюхнулся рядом, отдал Гореву стакан и освободившейся рукой тяжело обнял за плечи, приблизив лицо к лицу. «Сейчас спросит: ты меня уважаешь?..» И едва он это подумал, как Воронов с пьяной значительностью сказал: «Вальк, ты мне друг, а?» — «Друг, друг…» — «Нет, ты скажи, ты мне друг?» — «Ну, друг…» — «Давай выпьем!» — Он с силой стукнул стакан о стакан. «Ну, подожди, мне не хочется, я совсем уж…» — «Нет, если ты друг, ты выпьешь, и все!» Он тяжело навалился. Горев отстранил его. «Я зна-аю! — пьяно подмигнул Воронов. — Я все знаю, что ты думаешь». — «Иди ты к черту!» — «Нет, ты скажи, я ведь все вижу, думаешь, не вижу?» — «Ты потише». — «А что потише, почему? Из-за Ксанки, что ли? Да это все — тьфу, понял!» — «Шел бы ты спать!» — «Я не хочу спать. Я хочу знать, друг ты мне или нет?» — «Отвяжись, идем лучше выпьем еще». — «Во! Это разговор. А бабы — дерьмо, понял?..» Горев все время оглядывался через плечо: слышно там или нет? «И она — тоже, понял? Воображает! Сначала сама, а потом — совесть, то-се, дрянь!» — «Ну прекрати! Не хочу, понял?» — «Ладно, ладно. А только, чтобы ты мне друг, и все. Четыре года мы на одной парте… — Воронов захихикал. — На парте? Не на парте, а на этом, как его, на аудитории…»
Они с трудом поднялись и вернулись в избу. Горев чувствовал, как щеки у него горят. Опять эта тема, будь она проклята.
В избе Воронов полез теперь чокаться с Оксаной Семеновной. «Ксана, а Ксана, — шумел он, — выпьем за все хорошее, Ксана». Оксана Семеновна растерянно оглядывалась. Горев, чтобы не смущать ее, снова вышел. Все это было смешно. Он опять сел на крыльцо, закрыл глаза, голова кружилась, кружилась, будто он летит. Кто-то ходил мимо, хозяин пришел и сел рядом, завел опять старую волынку: сколько, да почем, да что можно сделать. Потом появилась Оксана Семеновна, сказала: «Он уже совсем, его надо уложить». Горев подумал, что это она о нем, но, оказывается, о Воронове, и они пошли его укладывать, и Горев оступился и упал на крыльце на колени, а Оксана сказала: «Э, голубчик!»
Потом он пил у колодца ледяную воду, и лил себе на голову, и вдруг вспомнил, что болтал спьяну Воронов, и подумал: «Значит, она его все-таки отшила». Но теперь это как-то все равно. Он помнил, Оксана сказала: «Я хочу с вами поговорить», но он ждал-ждал, стоя среди двора, а она не появлялась. Он пошел в избу — она спала на высокой хозяйской кровати, лицом к стене. «Ну и слава богу, — подумал он. — О чем там еще говорить. Ты мне друг или ты мне не друг? И без того все ясно».
Где-то в поселке слышалась музыка — баян или, может, просто радио, гулянка, наверное, — и аккуратно причесав мокрые, длинно отросшие волосы, Горев пошел искать, где это играют. Темнело, пахло пылью, травой и парным молоком. Окошки желто светились, и на улице почти никто не встретился: только маленькая девчонка прошла с хворостиной, гоня гусей. Гуси галдели железными голосами. Вдруг он услышал что-то знакомое, приостановился даже, не показалось ли? Нет, правда, где-то далеко кричал паровоз. Он улыбнулся и пошел дальше — в ту сторону, откуда уже отчетливо доносились постанывание баяна и высокий, выпевающий частушку голос.
МАЛЮТКА Повесть
1
Сегодня она опять схватила двойку по химии. Ну, пойди докажи, что химичка просто невзлюбила ее и цепляется, весь класс это знает, а сделать ничего нельзя. Лена как-то раз прямо сказала Кларе: «Вы просто меня не любите, не знаю, почему, вот и все». Но от этого только хуже стало, — всегда, когда правду скажешь, еще хуже получается, — Клара рассвирепела, и с тех пор совсем житья нет. Ну и конечно, кому захочется учить, когда учи не учи — один черт.
Лена идет из школы по мокрой светлой улице, идет, не застегнув пальто, забросив за плечо свою папку на ремешке, как ходят ребята, — все равно все говорят, что она — видите ли! — неженственная. Даже мама. «Лена, не груби!.. Лена, не свисти!.. Лена, ты топаешь, как слон, у девушки должна быть легкая, нежная походка, старайся не наступать на пятки…» Как это можно, ходить и не наступать на пятки, балерина она, что ли? И разве она виновата, что у нее толстые ноги и уже тридцать седьмой размер? Она вообще большая какая-то, некрасивая, нос маленький, уродский, и еще эти прыщики на лбу, которые лезут и лезут. Конечно, она не может вроде Маечки Барской встать в уборной на высокий подоконник, приподнять спереди юбку, прохаживаться, как манекенщица, и говорить: «Ну? Скажете, плохие ноги? Папка говорит, мои ноги годика через два вполне можно снимать в любом фильме…» Идиоты они вместе с ее папкой. Маечка всю жизнь воображала, и отец, наверное, такой же. Но ноги у нее, конечно, ничего, вообще-то довольно красивые.
Лена идет и думает то о химичке, то о Маечке и еще о том, что ей, наверное, опять влетит: все поехали на экскурсию в Музей Горького, а она не поехала, сказала, что была уже, а сама не была. Но сегодня Алеша должен прийти. Вот тоже глупо, зачем ей Алеша? Конечно, хочется его увидеть, но потом ведь только хуже будет, и все.
Маринка проводила Лену до угла, хотела идти с ней до самого дома — они всегда провожают молча друг друга, когда какие-нибудь неприятности, — но потом Лена сказала: «Ладно, иди». Маринка еще постояла, помолчала и пошла в свой Комсомольский, а Лена отправилась дальше одна. Все равно уж теперь, не поможешь, двойка так двойка.
Странный свет на улице — низкие тучи над самой головой, а светло-светло, лужи блестят, как жесть, — будто весна. Лена идет прямо по мелким лужам, потому что туфли у нее на толстой микропорке, не промокают, она нарочно каждый раз просит такие, она любит ходить напрямик и всегда, если лужа, канава или набросаны доски, трубы, лежат кучи глины, идет прямо. Идет, пробирается и бормочет одни и те же слова своего любимого Маяковского: «Но скажите, вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легше?» Это не потому, конечно, что она себя великой считает, но просто очень подходят стихи: лезешь, пробираешься, а они сами выговариваются и помогают.
Ветер раздувает пушистые — только вчера мыла голову — короткие волосы, лепит их ко лбу и щекам. Довольно прохладно, но платок она наденет только в подъезде или перед самой дверью, чтобы мама не охала, не ахала, — Лена любит ходить с непокрытой головой. По лужам, нараспашку и с непокрытой головой.
На улице она забылась немного, даже повеселела: этот свет, афиши, лужи, люди, машины, — сколько раз ни ходи одной и той же дорогой, все равно интересно. Она даже напевала потихоньку. Но, подходя к дому, опять все вспомнила. И что за восьмой класс, честное слово! Кошмар какой-то! Два месяца не проучилась, а у нее уже четвертая пара! И почему это? Хорошо еще дома дневник не спрашивают. Впрочем, там сейчас не до нее, закрутились совсем вокруг Вики с Алешей, Вика, Алеша, Вика, Алеша, будто больше ничего и нет на свете.
По лестнице, на свой четвертый этаж, Лена поднимается медленно-медленно, словно старуха с авоськами. Хорошо бы увидеть Алешу не дома, а здесь, и идти потом с ним вместе. Она глядит то вверх, то вниз через перила, в узкий темный колодец, раскачивается, ухватясь за поручень. Дом очень старый, стены толстые, лестница крутая и узкая. Давно не делалось ремонта. Облезлые стены цвета плесени, потеки, царапины, всякие нехорошие слова, надписи. Вон полузатертая углем старая надпись про нее и Котьку, теперь и не поймешь, что написано. Как давно это, еще в пятом классе! С самого пятого класса она ни в кого больше не влюблялась.
Вот здесь, на лестнице, они ее тогда и остановили. Котька остался внизу, стеснялся, а они — Петька Машечкин, Сенька Барабан и еще кто-то — обступили, дорогу загородили и спрашивают: «Хочешь с ним дружить?» — «Не ваше дело», — сказала она им сразу. А Барабан, самый маленький, говорит: «Ты в него влюбилась, да?» У нее еще хватило выдержки, чтобы усмехнуться и сказать: «Дурак! Я люблю только маму, деда и Вику». — «От дуры слышу! — тут же заорал Барабан. — Сама ты жиртрест-мясокомбинат!..»
Она стояла выше их всех на две ступеньки, в руках у нее была хозяйственная клетчатая сумка, а в ней бидон, и вот она этой сумкой с бидоном и хлопнула Барабана по голове. На том все и кончилось. Смешно.
Но Котька, конечно, ей очень нравился. И никогда в жизни она не забудет тот вечер — это уже позже, — когда во дворе играли в волейбол, не через сетку, а в кружок, и Котька все время подавал мяч только ей, а она только ему, а потом они сидели на этих высоко наложенных железках, из которых сделали ограду — как раз тогда обносили двор новой железной оградой, — и ели мороженое. Котька сбегал и сам купил мороженое, себе — эскимо, а ей — в вафельном стаканчике. Даже жалко было его есть, хотелось хоть стаканчик оставить на память.
Они сидели вдвоем, все ребята со двора побежали на сквер, а они остались, и вечер стоял такой чудесный, теплый, все окна на всех четырех этажах открыты во двор, а Котька ей, как товарищу, говорил, что собирается подавать в техникум, — как раз закончил седьмой класс, была весна… Они и мороженое съели давно, и стемнело, в окнах загорался свет, а по-прежнему сидели, и казалось, еще долго-долго могут сидеть, но Вика появилась в окне кухни и крикнула протяжно на весь двор: «Малютка-а, домо-ой!»
Потом Котькин отец поехал работать в другой город, в Семипалатинск, и Котька уехал. Он обещал написать письмо, но так и не написал, и вот уже прошло сто лет с тех пор. Даже Барабан, хотя у него все такие же толстые красные щеки, за которые он получил свое прозвище, вырос совсем, стрижется под ежик и курит вовсю, как большой. Да, сто лет прошло. У Лены осталась только нежность к городу Семипалатинску.
У самой двери, уже нажимая на звонок, она опять вспомнила про двойку и про Алешу, нахмурилась и приготовилась быть такою, какой всегда бывает, когда у них Алеша.
Дверь открыли сразу. Вика. Румяная, глаза блестят, напудренная, духами пахнет, в своем лохматом зеленом клетчатом костюме и желтой кофте.
— А… это ты… — сказала разочарованно и сразу пошла назад в комнату.
Лена хмыкнула, бросила под вешалку, на калоши, папку и нарочно повесила свое пальто на Викино — голубое с белым воротником (как только можно ходить в таком попугайском пальто?). Она сразу, не глядя на вешалку, поняла, что Алеши еще нет.
С Алешей Вика познакомилась этим летом, в доме отдыха, в Пестово. Сначала она только без конца рассказывала об Алеше: какой он красивый, какие у него ресницы, как он не любит носить галстук, и что он на последнем курсе в энергетическом и уже бывал в Братске и на других знаменитых гидростанциях. По телефону Алеша всегда говорил очень вежливо: «Будьте добры, попросите, пожалуйста, если можно, Викторию…»
Лена ничему не верила: что он красивый и про Братск. Вика наговорит. Ей просто замуж скорей хочется. «Он такой милый, такой симпатичный, такой деликатный», — твердила она в прошлом году про своего Петра Петровича, а пришел худенький, с завязанным горлом, в очках, напился у деда на дне рождения и разбил окно в кухне.
Однажды, во время какой-то ссоры, Лена крикнула вдруг сестре — да с такой злостью крикнула, сама от себя не ожидала, — что та женихов ловит. Вика ей чуть глаза не выцарапала, а потом рыдала целый час. Лена тогда прощения просила и сама заревела, ей жалко Вику стало, но вообще-то, если по правде, ведь так оно и есть! Вика два года назад закончила педагогический, по распределению не поехала, год сидела дома, а теперь работает только три дня в неделю, и у нее одно на уме, это уж точно. Даже Маринка понимает. А поди скажи.
Но потом Алеша пришел к ним и правда оказался красивый и без галстука, очень веселый, и эти его смешные ресницы. И тогда она сразу… Что сразу, ничего сразу, и вообще все это глупости. Просто он очень хороший человек, он как старший брат, Лене всегда хотелось, чтобы вместо Вики у нее был старший брат.
— Ах, это ты, Малютка? Ну, что в школе?
Это мама. Она проходит из комнаты в кухню с чашками от сервиза и вот так, проходя, спрашивает, что в школе. Знала бы она. На маме тоже ее единственное парадное черное платье с большим кружевным воротником — такие носили, наверное, еще девяносто пять лет назад. Видно, что она только что причесалась, туго заплела и уложила на затылке косу. Как будто Алеше все это нужно, их наряды, их сервизные чашки, он же совсем не такой человек, ему все это, наверное, в тягость — просто стыдно, честное слово.
— Малютка-а! Деточка-а!
Это мама из кухни. Лена не выдержала и вдруг заорала:
— Сколько просить! Не называйте меня этой дурацкой Малюткой! Какая я, черт возьми, Малютка!
— О-о! — простонала мама в кухне, а Вика — Лена еще не успела рта закрыть — явилась на пороге:
— Не смей орать! Сколько вот, лучше скажи, тебя просить, чтобы ты не грубила маме? Что ты орешь, как бык?
Она пришивала к груди на кофту букетик тряпичных фиалок (тоже цветы!), изогнувшись, откусила нитку и потому, что Лена дернула плечом и хотела уйти, закричала страдальчески, как будто от себя что-то откусила:
— Господи, что ты за существо! Откуда это хамство!
— И не слушай! — противным голосом ответила Лена. — Я вообще не с тобой говорю. Подумаешь! Ушко девическое в завиточках-волосках! Ты у нас зато очень вежливая. Сю-сю-сю, му-сю-сю…
— Ну, знаешь! Да ты просто идиотка какая-то!
— А ты… ты… знаешь, кто ты?
— Лена! Вика! — закричала, выбегая из кухни, мама. — О боже!
Белка, маленькая, белая, уже пожилая, с зажелтевшей шерстью собачонка, забилась под тахту и оттуда, из комнаты затявкала. Дед с газетой в руках высунулся из спальни, глянул поверх очков и быстро скрылся, затворив за собой дверь. Вика двинулась к Лене, отстраняя маму, а Лена скрестила на груди руки и, усмехаясь, ждала. Неизвестно, чем бы все кончилось, но тут раздался как раз звонок — длинный и два коротких. Алеша!
— Ну вот, всегда так! — Вика едва не всхлипнула. С ненавистью взглянула на Лену, метнулась к зеркалу, поправила свой букетик на груди и полетела к двери.
Мама, поджав губы, тоже недовольно посмотрела на Лену и топнула на Белку — та устремилась в прихожую. Лена быстро пошла в комнату и слышала, как Вика поет ласковым, интеллигентным голосом, каким разговаривает только по телефону:
— Да-да, Алеша, ну конечно, входи, пожалуйста!
Слава богу, хоть на «ты» стала называть, а то «вы» да «вы» — просто слушать было невозможно.
Лена подхватила на руки Белку и вошла в спальню к деду.
Она немного постояла просто так, глядя в окно, поглаживая Белку. Часто стал ходить Алеша, частенько. Чем все это кончится? Недели две назад Маринка на уроке взяла у нее зачем-то историю, учебник, открыла — там на одной странице, сверху вниз, на полях, большими буквами синими чернилами было написано: «АЛЕША». Лена даже не помнила, когда написала. Задумалась как-нибудь и машинально написала. Маринка увидела и с испугом на нее вытаращилась. А у Лены щекам горячо стало, она выхватила книжку, как дура, захлопнула. Надо бы сделать безразличный вид, а она как дура, просто как дура.
Дед лежал, заслонясь газетой. Лена стала переодеваться. В соседней комнате громко пели голоса, слышался веселый басок Алеши. Белка встала на задние лапы, царапала дверь и умоляюще оглядывалась.
— Сейчас! — сказала ей Лена. В самом деле, надо же пустить собаку, мало ли что ей нужно. Да и есть очень хочется.
— Пришел, что ли, кто? — спросил дед.
— Алеша ее пришел! — небрежно сказала Лена.
— А, Алексей, божий человек! — Дед сел, спустив ноги с кровати. — Электрификация всей страны… Белка! Тапки!
Тапочки стояли у самой кровати. Белка поглядела на них, потом на деда, вздохнула и не сдвинулась с места — надоел ей дед со своей дрессировкой.
— Ты лежи, лежи! — приказала Лена. — Хочешь, я тебе чаю принесу?
Если деда выпустить, он сейчас начнет: божий человек, а потом про энергетику, как Днепрогэс строили, как раньше не было света, а теперь есть, и прочее. А чаем его можно обмануть: он любит чай, а мама строго следит, чтобы лишней жидкости он не пил. Лена же считает, что дед не маленький, сам знает, сколько можно, сколько нельзя. Надо ему принести, он попьет тут потихоньку, никому мешать не будет. Пускай уж разговаривают, дьявол с ними.
Она нарочно надела свой самый обычный наряд: спортивные шаровары с чернильным пятном сзади и выцветшую футболку. Но тут же подумала: стоит ли уж так? Это пятно, эта обтягивающая футболка.
Дед послушно улегся, опять захрустел газетой, Лена еще подумала, сняла футболку, надела Викин желтый свитер с оленями, хотя в доме было жарко, взяла опять Белку на руки и решила, что пройдет прямо на кухню. Нет, если бы не проходная комната, она даже не стала бы показываться им на глаза, честное слово.
Они все сидели справа, рядышком на тахте, в комнате пахло уже дымком сигареты, и Лена даже не взглянула бы на них, но мама жеманно сказала:
— Леночка, ты бы все-таки поздоровалась, видишь, Алеша пришел…
«Алеша пришел, Алеша пришел…» — колотилось в самом сердце. Однако Лена обернулась удивленно: мол, ах, у нас кто-то есть, я и не знала, мне это так безразлично, — и сказала равнодушно:
— А, здравствуйте, Алеша!
— Здравствуй, Малютка!
У Алеши ресницы очень интересные, ни у кого таких нет: черные, длинные и очень густые, им просто тесно на веках, многие реснички торчат вверх и вниз; когда Алеша смеется или просто улыбается, прищуривается, нижние и верхние ресницы сходятся, слипаются, глаза из них остро блестят. Когда он так смотрит весело из своих ресниц, кажется, насквозь все видит и понимает, что ты притворяешься, врешь, изображаешь из себя неизвестно что.
Лена не выдержала, покраснела, сгорела со стыда в одну секунду: эти дурацкие штаны, эта дурацкая важность, и — дура, дура, опять дура! — бросилась из комнаты.
И чего вдруг, чего?..
Уже из кухни она слышала, как они там засмеялись, мама говорила что-то шутливым, извиняющимся тоном.
Она так двинула ящиком с ложками-вилками, что лязг пошел по всему дому, загремела крышками, едва не смахнула на пол сервизную чашку — они, приготовленные, уже стояли на столе. «Ну что я какая, что за дикарка! Они тоже все хороши, и Алеша этот тоже, черт бы вас всех побрал!..»
Потом она немного успокоилась, поела, послушала передачу по радио — на стене в кухне висел репродуктор, передавали беседу для работников сельского хозяйства про рацион для поросят и хранение картошки, как будто сами работники не знают, как картошку хранить. Потом там запели: «Ой, подружка моя Таня, расскажу тебе секрет» и «Уральскую рябину».
Лена попробовала несколько раз — выбирала, с какой миной ей лучше пройти через комнату: с презрительной или равнодушной? И пошла. Но они уже так были заняты своим разговором, что и не остановили ее.
В спальне Лена решила было снять свитер, но это было бы совсем глупо: то в свитере, то без свитера. Потом снова прошла в кухню, хотела взять для деда кусок торта (еще и торт), но не взяла, намазала ему булку шоколадным маслом. Алеша, она слышала, рассказывал веселое. Теперь ей не хотелось сидеть с дедом или здесь, под репродуктором. Надо бы учить уроки, но какие теперь уроки.
— Малютка-а! Леночка-а! — протяжно позвала мама. Зачем она-то с ними сидит, как не понимает, ей-богу!
Лена пропустила «Малютку» мимо ушей, явилась тут же, но все-таки немного хмурилась, словно ее оторвали от важных дел.
— Леночка, деточка, поухаживай за нами, организуй чай! Там все на столе, будь добра…
«Ах, ах, ти-ти-ти, силь ву пле, подумать только! Ну уж ладно, чай и я с вами буду пить».
Вика пришла ей помогать — добрая, оживленная, щеки горят. Она уже не помнила давешнюю ссору. Оглядела Лену и весело сказала:
— Фи, Малыш, что за наряд! Надела бы платьице!
— Ну вот, ходила-ходила в штанах, а теперь выряжусь…
— Но поверь мне, так плохо. Если угодно, просто смешно…
Лена вздохнула. Говорит-то как! «Поверь мне… Если угодно…» Нет, как ни крути, а Вика взрослая, красивая… Лене бы так говорить, так ходить, повиливая фигурой, ноги бы еще такие! У Вики ноги — никаким Маечкам не снилось! И отчего это родная сестра — человек как человек, а она уродина, полено. Будто стали высекать из полена, как Буратино, и бросили на полпути. Как это поет папа Карло в детской радиопередаче? «Из него может выйти что-нибудь, вроде ножки для стола». Вот и из нее вышла ножка для стола, не больше…
Лена опять вздохнула и все-таки пошла переодеваться.
Когда все уже сидели за столом, она вышла в темно-вишневом платье, которое всегда надевает в театр и на школьные вечера, и туфлях на низком каблучке, которые Вика отдала ей весной. Туфли, правда, светлые, но что поделаешь.
И все-таки все обратили на нее внимание. Мама гордо, еще прямее села на своем стуле — она всегда сидит прямо, как милиционер на мотоцикле, Вика сказала глазами: ну вот, мол, совсем другое дело, и даже дед пробурчал что-то вроде: «Эх ты, ух ты!» (Дед все же выполз из спальни, услышав, что гремят чашками.) Алеша улыбнулся, подмигнул, и ресницы у него слиплись. Лена в который раз подумала, что чем-то Алеша похож на их любимого Владимира Борисовича, физика, Володечку — тот такой же молодой, все понимает и с ребятами всегда на доверии. Это потому, наверное, что сам еще не очень давно таким был, как они, не забыл, не то что Клара-перекись.
Долго пили чай, разговаривали обо всем на свете, от международной политики (это мама) до собачьей дрессировки (это дед), и Лена видела, как мама наслаждается тем, что все у них так чинно, чисто, хорошо, и Вика тоже наслаждается, да и Алеше, кажется, приятно, что за ним ухаживают с двух сторон, подкладывают, подливают. Он, правда, больше смотрит на Вику, говорит для Вики, и они то и дело переглядываются. Но если не обращать внимания, то это даже не очень заметно. Лена старается не обращать. Алеша сидит напротив, и она может смотреть на него сколько угодно; в конце концов ей тоже становится весело и приятно.
Алешин взгляд говорит: «Все это немного смешно: и мама с ее светскими манерами, и дед, но мне хорошо, у вас вообще хорошо». Лена тоже взглядом отвечает: мол, да, я понимаю, но вы не должны смеяться, так уж у нас принято, это мамина слабость.
На дворе давно стемнело, они так долго сидят за столом, что Лена даже устала. И все-таки она довольна и ни на кого не сердится. Она вышла зачем-то в кухню и там увидела свое отражение в черном стекле. Немного важничая, она качнула плечами и сказала томно:
— Да, если угодно, но поверьте мне…
Она чувствовала, что щеки ее пылают теперь, как у Вики, и что она не такая уж уродина, и как будто не видно даже прыщиков на лбу.
В половине десятого Алеша собрался уходить, дед совсем сомлел и скрылся в уборной, мама тоже устало качала головой, пучок ее был уже не так туг, и шпилька торчала из него. Вика пошла проводить Алешу и прогулять Белку. Лене тоже очень хотелось пойти, она сняла свое пальто, освобождая Викино, держала его, прижав к себе, но понимала, что она не может с ними пойти, она им не нужна, это только казалось, что они все дружно сидят за столом и Алеше в их доме все одинаково интересны. И опять Алеша все понимал и сказал глазами: «Я понимаю, тебе охота погулять, но ведь поздно, поздновато для тебя». И Лена отводила скорее взгляд и едва не кивала головой, что, мол, да, конечно, я и не хочу, не надо.
В прихожей опять долго стояли, Алеша был выше всех, Белка скулила и бросалась на дверь, ей говорили: «Сейчас, сейчас». Лена сказала, что пойдет спать, чтобы встать пораньше и уроки сделать. Алеша пожал ей крепко руку и сказал ласково:
— Спокойной ночи, Малютка!
Наконец они ушли, дверь закрылась, и Лена еще немного постояла, слыша, как они спускаются, разговаривают, смеются и как Белка визжит, натягивая, должно быть, поводок.
Они ушли, сразу стало пусто, надо было убирать со стола, мыть чашки. Ни к чему стало платье, туфли и все хорошее настроение. Даже химичка снова вспомнилась.
Потом Лена сидела на кровати в одной рубашке, смотрела задумчиво на свои полные розовые ноги. «Вроде ножки для стола…» И все-таки душа радовалась, и было приятно вспоминать, как они говорили с Алешей глазами и хорошо друг друга понимали, — кажется, одна Маринка умеет так понимать, а больше никто. Вот как приятно и странно.
Мама пришла поцеловать ее на ночь.
— Ложись, доченька, спи, Малюся…
— Мамочка, ну сколько можно просить… Ну, правда, не называй меня так, какая я Малютка?
— Ну хорошо, хорошо… Спи. Такие они у меня стали взрослые, такие взрослые…
В кухне дед включил радио и слушал последние известия, а Лена — ведь завтра действительно надо пораньше встать — никак все-таки не могла уснуть. Потом стала засыпать-засыпать и вдруг опять очнулась. Увидела, как они все стоят в прихожей, Алеша выше всех, он без шапки, ресницы его перепутываются друг с другом, он улыбается и ласково говорит: «Спокойной ночи, Малютка». Воротник пальто поднят, белая рубашка, красивый такой и все-все понимает. Это он именно ей желает спокойной ночи.
Потом Лена слышала, как вернулась Вика, как бегала, стуча когтями, и отряхивалась Белка, как мама шепталась с Викой. Она увидела потом силуэт сестры на фоне окна. Вика, подняв руки, всеми пальцами с затылка вверх вскидывала, расчесывала волосы. Потом потянулась с ленцой и тихо, довольно засмеялась.
2
Снег, снег, в комнате ярко и бело от снега. Очень снежная стоит зима.
Интересно, отчего человек просыпается? Сам по себе? Никто его не будит, не трогает, а он просыпается. Есть в мозгу, наверное, такая кнопочка автоматическая: раз — и включилась, да будет свет!
Как она поздно проснулась, уже десятый час! А, совсем забыла, ведь сегодня к третьему уроку, так что можно чуточку полежать. Лена прислушалась: что в доме? В ванной шумит вода, на кухне, как всегда, включено радио, мама, конечно, уже ушла на работу. Нет, в самом деле, отчего просыпается человек? Вот она теперь будет думать об этом без конца. Странно устроена голова: о какой-нибудь чепухе она может думать и думать часами, а если надо сосредоточиться на чем-то серьезном, например, составлять план к сочинению, то она никак не может об этом долго думать, а обязательно отвлечется. Вроде передышки получается, только передышки длиннее, чем само дело. Ужас, какая дурацкая голова. Например, стоит начать представлять себя невидимкой, и хватит хоть на полдня, и не надоест нисколько. Ей даже стыдно бывает теперь думать про невидимку, не маленькая, и, как только невидимка «приходит», она хватает книжку или начинает слушать радио — тем и спасается.
В ванную, конечно, залезла Вика, это ясно. Значит, тем более можно полежать, пока она не выйдет. Все-то она моется, накручивается, намазывается, зеркала из рук не выпускает — что значит делать нечего.
Нет, все-таки надо вставать. Еще геометрию повторить — сегодня как-никак контроша, пришить воротничок к форме, подмести, поесть, то-се. Дед-то дома или уже пошел гулять с Белкой?
— Белк! Белк! — позвала Лена.
Белка не явилась — значит, ушли. Это хорошо — стало быть, дед сам зайдет в булочную и в молочную. Ура! Но все равно пора. Да, ведь еще разминка! Вон висит за шкафом на гвоздике ракетка, дожидается. Оп! Вставай, Елена! Вставай! Это Алеша подарил ей ракетку. Она как-то обмолвилась, что хотела в теннис научиться, просто так сказала, а он взял и купил. Прямо со стипендии. Мама с Викой раскудахтались: «Ах, ну зачем это, зачем, что ты ее балуешь! Все равно через полмесяца эта ракетка будет валяться за сундуком!» А вот фигушки! А не было бы ракетки, Лена не пошла бы в секцию, не занималась бы уже третий месяц, а теперь ходит и очень рада. Она даже похудела, а тренер Володя говорит, что из нее выйдет толк, что она упорная и сильная. «Вперед! Вперед! — кричит он. — Ближе! Ближе! Хорошо!» В майке, трусиках и кедах она мечется по корту, туго стучат мячи, справа и слева тоже стучат и летают, пот течет по лбу градом, а Володя знай покрикивает: «Не ленись! Не ленись! Ближе! Хорошо!..» Вставай, Елена, живо! Рубашку долой, где там вся амуниция? Так. Ракетку в руки — раз! Фортку настежь — два! Батюшки, а снегу опять намело, снегу! Да, снежная, снежная зима стоит, весь двор завалило. Малыши катаются на санках с покатой крыши котельной, когда-то и Лена там каталась, хорошо!.. Брр, прохладненько! А ну-ка вперед! Вперед, Елена! Выпад, наклон, удар, выпад, наклон, удар! Не ленись, не ленись!..
Развернуться тут негде, мячом можно стучать только об пол, но она отрабатывает удары без мяча. Только разочек, коротко можно послать мяч в стену; он отскакивает, она отбивает его снова… Э, к черту все эти шкафы и кровати, будь они неладны!
В большой комнате зазвонил телефон. Лена в два прыжка очутилась там, сняла трубку. Телефон стоит на подоконнике — ей опять виден двор, толстая снежная подушка за стеклом на карнизе, и весело, что так много снегу. Звонит Алеша.
— Малютка? Приветик! Как она там, жизнь?
— Приветик! — закричала Лена звонко. — Все отлично! А вы что обманываете, где же книжка?
Алеша обещал книжку про Маяковского, где всякие его письма, но не несет и не несет.
— Я не обманываю, я просто понял, что тебе еще ни к чему.
— Что значит ни к чему?
— Молодая еще, нос не дорос.
— Ну, Алеша, это просто…
Тут Лена увидела Вику, которая нагишом, с тюрбаном из полотенца на голове и с прижатой к груди рубашкой выскочила на порог ванной.
— Меня?
— …это просто… просто… как вам нехорошо!
— Меня, что ли? — повторила Вика.
— Тебя, тебя. Вот Вика тут, Алеша. Я и сама могу достать, если так, подумаешь!
Вика уже подошла, оставляя мокрые следы на полу, нетерпеливо тянула руку.
— Как ты все-таки разговариваешь, — успела она прошуршать. — Он тебе не мальчик!
— Подумаешь!
Лена отдала трубку, тут же запулила мячом в стену, поймала его ракеткой и принялась кричать и прыгать.
— Трам-па-ра-рам!
Молодая я еще? Хорошо! Нос не дорос? Хорошо! Теперь вы целый час будете болтать? Ладно! Удар, удар, удар! Так, так! Трарам!
— Что? Я ничего не слышу, минуточку, Алеша… Лена, да прекрати ты свое идиотство, дай поговорить!..
— Ты теперь час будешь говорить, что ж мне и не дышать теперь! Трам! Па! Рам!
— Не твое дело!.. Нет, Алеша, я не тебе… Да, она… Все этот ваш дурацкий теннис. Что?..
— И не дурацкий! И не дурацкий! Па! Ра! Бам!.. С тебя целая лужа натекла, учти, я подтирать не буду!
— Да, я слушаю… Что?.. Закрой там форточку, слышишь?
— Трам-па-па-пам!
До чего она розовая вся, гладкая, чистенькая, не только прыщика — родинок и тех нет. Еще даже видно немного, где летом не загорело. Но не толстая, просто плотная такая. А ноги-то! Так даже красивее, когда их целиком видно. А коленки продолговатые, как у статуи. Венера Аполлонская!
— Трам! Па! Выпад!
И отчего это она становится такая противная, когда слышит эти их бесконечные разговоры по телефону? Сама чувствует, какая вредная и противная. Но и в самом деле, неужели нельзя сказать, что я, мол, из ванны, стою голая, позвони попозже. Такие важные дела — куда там!
— Вик, если ты долго, я сейчас ванну займу, учти!
— Отстань!.. Да ну, как не ругаться, я уже просто не могу с ней, честное слово! Хорошо тебе говорить! Это же идол какой-то, а не человек!
— Сама ты идол! Венера Милосская!.. Алеша! — заорала Лена издали. — Она голая, она простудится!
Викино тело уже не блестело от воды и из розового превращалось в мраморное.
Нет, ничего не помогает, говорят и говорят. Как приклеенные. Хлопнуть бы ракеткой по мягкому месту!
Лена закрыла форточку, сходила в ванну, принесла оттуда халат, бросила его Вике на плечи.
— Я и в самом деле иду под душ, слышишь?
— Да иди, иди, оставь меня, ради бога, в покое. Спасибо. Иди.
— Ради бога, ради бога! — все-таки отдразнилась Лена.
Она взяла прыгалки и стала скакать в прихожей и петь:
— Вот и смена караула, трам-па-па-ра, трам-па-пам!..
Вика не выдержала больше, потащила за собой телефон, дотянулась до двери и так пнула ее своей античной ногой, что весь дом загудел, будто не нога, а пушка.
— Псих! — крикнула Лена в последний раз уже в закрытую дверь и пошла наконец умываться. «Ну и вредина я, ну и вредина», — говорила самой себе с удовольствием. Будто важное дело сделала.
Но уже в школе, на уроке, перед самой контрольной, когда и листок лежал на парте, и условия задач были написаны на доске, и надо было думать об этих задачах, Лена вдруг взглянула в снежное окно — она сидела у самого окна слева, а Маринка справа, — и ей внезапно пришло в голову, что она нехорошо себя ведет, недобро и глупо. Она тут же увидела себя с ракеткой, как прыгала и орала, и стало вдруг стыдно. У них все-таки любовь, все серьезно, она, конечно, может думать что угодно, подходят они друг для друга или не подходят, но, в конце концов, ее никто не спрашивает, не ее это дело, а вредничать ни к чему. Любовь — это как праздник, вон они какие все время, что Вика, что Алеша, а она ходит на этом их празднике злая и надутая. Вот была бы она сама на месте Вики, а кто-нибудь без конца язвил и надоедал, да она бы голову оторвала, Вика еще молодец, старается не обращать внимания. Нет, пусть, пусть им будет хорошо, чего уж, пусть.
И с этой минуты Лена решила, что будет доброй и внимательной, станет им помогать, будет их любить, она и теперь их любит. Да, пусть будут счастливы, а уж она… она может уйти. Вообще уйти, исчезнуть, она уже не маленькая, можно уехать куда-нибудь, пусть живут здесь, поселятся в маленькой комнате, нет, пусть даже в большой. Они не узнают, где она, и, может быть, только через пять или десять лет, взрослая совсем, она приедет к ним. Она войдет, высокая, знаменитая, — может быть, станет чемпионкой и только что вернется откуда-нибудь из Америки или из Индии или, может, станет физиком или геологом, словом, это неважно, но она войдет, и они будут сидеть и пить чай, как всегда, и, конечно, ее не узнают сначала… Нет, не так. Они увидят ее портрет в газете или услышат по радио, и Вика закричит: «Подумать только, это ведь наша Малютка!», а Алеша с грустью скажет: «Да, как странно, это она…» А Лена усмехнется и скажет им: «Простите, что я так глупо себя вела, но я ведь была совсем девчонка, помните, меня еще называли Малюткой?» — «Нет, — скажет Алеша, — я уже тогда понимал вас и понял, что вы помогли нам…» — «Да, мне было нелегко, — признается Лена. — Но, впрочем, теперь это все в прошлом. Я рада, м о й д о р о г о й, что вы счастливы…»
— Ты что, с ума?.. Ты что сидишь?
Это Маринка. Она толкнула Лену ногой под партой, шепот ее был сердит. Лена опомнилась. Она почувствовала, что в глазах стоят слезы — не дай бог, если Маринка увидит! Скорей, скорей, что там? «Дан равнобедренный треугольник…» Да-да, она теперь будет другой, они увидят, что она не маленькая, что у нее хватает ума… Пусть, ей самой ничего не надо… «Отрезок АД равен основанию АС…» Они увидят…
Кажется, никогда она не была такой доброй, сердце в груди размягчилось, стало горячо, и хотелось плакать оттого, что она стала такой хорошей. «Всегда, всегда буду такая, как хорошо!»
Но в тот же вечер вот что получилось.
Алеша пришел в восемь часов, не пришел, а прибежал и сказал, что взял на всех билеты в кино: новый фильм, итало-французский, первый день идет. Мама только что пришла с работы (еще не сияла своего больничного платья, и от нее пахло эфиром и йодом), она устала и, поблагодарив Алешу, отказалась, дед вообще никогда в кино не ходил. Вика стала быстро собираться. Лена как раз кончила уроки, складывала на столе учебники и тетради в папку.
— Ну а ты что же, Малютка? — сказал Алеша. Он стоял в пальто, только снял шапку и посматривал на часы.
— Да, Малыш, ты что? — сказала Вика тоже.
— Ну что вы! — ответила Лена спокойно. — Зачем? Идите одни…
— Идем, идем, брось! — сказал Алеша и посмотрел внимательно: мол, что это с тобой, что-то новое, кажется?
— А там детям до шестнадцати можно? — спросила мама.
— Ну что ты, мам, в самом деле! — Лена едва не покраснела. Ей хотелось держаться значительно и строго, чтобы Алеша понял, что она теперь совсем другая.
Алеша засмеялся и сказал:
— Евгения Павловна, Джульетта, Суламифь и Наташа Ростова тоже были дети до шестнадцати…
Он посмотрел на Лену: мол, так я говорю, Малютка?
— Ну, Алеша, Алеша! — сказала мама укоризненно и, должно быть, — Лена стояла к ней спиной, но наверняка знала, что так оно и было, — показала глазами на нее, на Лену: мол, как вы можете такое при девочке говорить. Алеша опустил свои ресницы и, усмехнувшись, стал теребить шапку. «А вот кто такая Суламифь? — подумала Лена. — Джульетту я знаю и Наташу, а это кто?»
— Разные времена, — стала говорить мама. — Нельзя сравнивать. В наше время Джульетты еще носят пионерские галстуки, вы сами знаете. Если они о чем и думают, то о лишней порции мороженого…
Алеша вскинул ресницы на секунду, глаза у него смеялись.
— Ну что вы, Евгения Павловна! — сказал он с коротким смехом.
— Ты просто не знаешь этого поколения! — крикнула из прихожей Вика. — Это мы еще были детьми даже в восемнадцать лет, а эти!.. Лена, ты идешь?..
Лена вопросительно посмотрела на маму, как она? Ни к чему затеялся этот разговор, теперь, пожалуй, и не пустит в кино. Мама уже увлеклась спором и Лену не замечала.
— Ну отчего же? — говорила она. — Отчего же я не знаю? Вот наша Лена, Мариночка, Зоя с Катенькой (это тоже подруги Лены, из класса), Петя Машечкин, все хорошие, нормальные дети.
— А, ну что ты знаешь! — сказала Вика. — Дети… Лена, идешь ты, наконец, или нет, мы опаздываем! Сколько там, Алеша?..
«Раз они сами зовут», — подумала Лена и во второй раз, уже умоляюще, посмотрела на маму.
— Поздно кончится, Лена… — сказала мама, как бы возражая, но таким тоном, что Лена сразу засуетилась и бросилась одеваться.
В другой раз Лена бы, конечно, вмешалась и рассказала кое-что о тех же Зое с Катенькой или о Петьке Машечкине, который пришел, например, пьяный на новогодний школьный вечер, то есть он, конечно, хороший мальчишка, да и Зоя с Катенькой тоже хорошие, но насчет галстуков и мороженого — это просто смешно, не третий ведь класс, восьмой все-таки, а Петька и вовсе в десятом! Ах, мама, мама, всегда вот она так. Но сейчас спорить незачем было, да и не хотелось.
Лена надела платок, выбила из-под него на лоб прядку — в платке и с прядкой она взрослее выглядит, вообще ее уже пускают на вечерние сеансы, тем более она идет не с девчонками, а со старшими, но все-таки небольшая маскировочка не повредит. Они втроем быстро помчались вниз по лестнице — мама еще что-то кричала вдогонку, сверху, с площадки, но они уже не слышали, только Алеша вежливо отвечал:
— Да, да, конечно, не волнуйтесь, Евгения Павловна, спокойной ночи!
Итак, все было хорошо, они вместе спешили по улице, скользили, Алеша шел посредине и держал Лену и Вику под руки, смеялись над мамиными словами. Бежали мимо Чистопрудного катка, там играла музыка, было светло от огней, полно народу, ширканье коньков слышалось даже сквозь шум машин и трамваев.
— Сколько вашего брата влюбленных Джульетт на этом катке! — сказал Алеша.
— Вашей сестры, — поправила Вика.
— Нашего! — сказала Лена. — А вашего как будто нет!
— Лена! — Вика посмотрела и покачала головой.
— А что я сказала?
— Ничего, ничего, верно, — Алеша засмеялся. — Ромеов тоже хватает…
В кино, когда занимали свои места, Лена села рядом с Викой, слева, хотя ей хотелось сесть с Алешей; таким образом, она оказалась между двумя парочками: с одной стороны Алеша и Вика, с другой — мужчина и женщина, которым Алеша продал лишние билеты, — они так радовались этим билетам и без конца говорили, что фильм должен быть очень хорошим. Женщина была в красивой шубе, от нее пахло заграничными духами, она с интересом смотрела на Алешу, какие у него ресницы.
Едва погасили свет, и те и другие, как магниты, склонились, пригнулись друг к другу. Лена видела, что Алеша взял руки Вики в свои, и слева был шепот, и справа шепот. Лена сидела прямо и смотрела только на экран, но ничего не могла понять и лишь к концу журнала немного сосредоточилась, но тут журнал кончился, снова зажгли свет, Алеша и Вика отстранились друг от друга, разняли руки, и мужчина с женщиной тоже, у всех сделался равнодушный вид, но на самом деле они только и ждали, когда пробегут и усядутся опоздавшие и свет снова померкнет, — тогда опять можно прижаться плечом к плечу и схватиться за руки.
Лена уже не помнила, о чем думала утром, и ничего не соображала из происходящего на экране, она знала только, что они держатся за руки, и один раз Алеша как будто наклонился и поцеловал Вике руку — Лена не смотрела, изо всех сил старалась не смотреть, но все равно понимала всякое их движение и шепот. Лена сидела неподвижно, и они совсем о ней забыли. А ей ничего не лезло в голову, и было так одиноко — полон зал людей, а она одна среди них, никому но нужная, зачем только она пришла сюда? И она увидела то, чего никогда не видела в кино: ровные ряды темных голов и плеч, красные огоньки над дверями, белые лучи, которые, расширяясь, тянутся через зал. Нет, она не могла смотреть этот фильм.
С каждой минутой она чувствовала все большую ненависть к сестре и к Алеше тоже и отчаяние, что она тут ничего не может, ничего… Ей стало душно. Она вдруг превратилась в комок злости. Она их ненавидела, ненавидела и не могла больше быть с ними. Что бы сделать, что бы такое сделать! Невыносимо. «Мне еще никогда так не было, никогда. Голова у меня сейчас лопнет… Ненавижу!»
Вдруг весь зал захохотал — над каким-то смешным эпизодом, но Лена не поняла, в чем дело, над чем смеются, пропустила, стала оглядываться и встретилась глазами с Викой — глаза у Вики блестели из темноты мягко и странно, и как бы издалека, и счастливо нарядно белел в темноте воротник ее пальто. Лена поняла, что Вика тоже пропустила смешное и не понимает, что там на экране. Лену стала бить дрожь, она не могла бы выговорить сейчас ни слова. Сама не понимая, что делает, — ей было теперь все равно, — она полезла вон из ряда.
— Куда ты? Малютка? Что с тобой? — зашептала Вика испуганно.
— Н-никуда. Пустите, пожалуйста, — Лена пробиралась мимо женщины в шубе, та — тоже хороша! — не сразу переменила позу, на коленях ее лежали шапка и шарф мужчины. В другой раз она бы нагрубила, сказала, что ерунду какую-то показывают, смотреть не хочется, отомстила бы и этой надушенной шубе тоже, но теперь все это казалось такой мелочью.
Это всегда так странно — уходить одной оттуда, где много людей и никто еще не уходит, а ты уходишь, от этого одного такая берет тоска, так становится одиноко — совсем уж, совсем. Лена побежала через фойе, где уже собрались люди на следующий сеанс, и на нее с любопытством посматривали, почему это человек уходит, но она пролетела быстро и всех их ненавидела тоже, и, наверное, никто не мог понять, какое у нее горе. Да и кому какое дело? Все они будут держаться в темноте за руки, сидеть тесно друг к другу, а она одна, у нее никого нет, и никто не нужен, никто.
Она не пошла вдоль катка, где было весело и огни, а свернула в переулок, тихий и темный, сначала почти бежала и задыхалась, а потом убавила шаг. Никогда она еще не чувствовала себя такой злой. Что это? Откуда в ней было это? И не проходило чувство несчастья. Слезы сами катились из глаз. Они иногда с Маринкой наревутся вдвоем — это у них называется «плакать на тему», например, что экзамены не сдадут, или на тему «меня никто не любит» — напридумают, наговорят, такая в конце концов грусть возьмет, что невольно заплачешь. А теперь и придумывать ничего не надо, и тема очень простая: «Я одна, я одна на всем свете, никому я не нужна, никому до меня дела нет, все люди сидят парами и держатся за руки, им тепло, а я одна на темной улице… Как было бы хорошо умереть! Пусть бы они тогда почувствовали, пусть бы лили слезы, но поздно…»
Когда Вика вернулась в двенадцатом часу домой, Лена еще не спала: стирала в ванной над умывальником чулки и воротнички. Вика заглянула в ванную и, будто что-то вспомнила, вошла. Выражение у нее сделалось решительное, она затворила за собой дверь и крючок набросила. Остановилась у Лены за спиной. Они видели друг друга в зеркале — у Лены лицо, распухшее от слез и угрюмое, на голове неуклюже повязана косынка ситцевая, Вика румяная с мороза, красивая, рот свеженакрашен (наверное, в подъезде, у самой двери красила).
— Хорошо, что ты не спишь, я хотела с тобой поговорить.
Взгляд у сестры был отчужденный, изучающий. Лене не по себе стало; показалось, что Вика сейчас будет ее уличать в чем-то. Злость уже прошла, и было какое-то бессилие и безразличие. Зачем она дверь закрыла, что-нибудь это значит.
— Твое поведение недопустимо. Я понимаю: переходный возраст и все такое, но надо же приличия хоть какие-то соблюдать.
Лена продолжала стирать и не смотрела больше в зеркало, она боялась, что Вика заговорит сейчас про Алешу.
— Что тебе не нравится, почему ты как зверек какой-то все время?.. Ты не думай, я не собираюсь тебя ругать, но мне… Я же все-таки твоя сестра, могу я знать, что с тобой происходит?..
Лена взглянула в зеркало: Вика поправляла прическу, чуть повернув голову и красуясь. Ее вид так не соответствовал ее тону и тому, что она говорила, что казалось: это не она произносит слова, а кто-то другой. Вид ее изменился в две минуты — стоило ей эти две минуты провести перед зеркалом. И даже голос смягчился. До того она нравилась себе.
— Вот мы говорили сейчас о тебе с Алешей, он очень…
«Ах, вот что, с Алешей! Это он, наверное, ее и надоумил! Но что он мог про меня говорить?!» Она представила, как они выходят из кино, как идут мимо катка и Алеша говорит о ней, о Лене.
— И ты должна знать, что есть люди, с которыми ты можешь поделиться… Что ж мы, враги тебе? Слава богу, я сама была в твоем возрасте, сама была такая…
«Трудно поверить, что ты была такая. Ты, наверное, была вроде Маечки Барской…»
Лена отжала чулки, положила их на угол умывальника и сидела теперь на холодном краю ванны, запахнув халат и глядя в пол. Ей опять хотелось плакать. Место у зеркала освободилось, Вика стала ближе и могла смотреть на себя без помех.
— Пойми, я тебя не ругаю, но ты моя сестра, а я, в сущности, не знаю, что с тобой, ты никогда не поделишься… Ну что ты молчишь?..
«А что говорить, чего она хочет?» Лена слушала, а сама считала шашечки на полу, сколько белых и сколько коричневых, и все равно она была одна.
Вика вдруг взяла Лену за подбородок и подняла ее голову. Это было неожиданно, и Лена встретилась с сестрой глазами.
— Ты плачешь? Да что с тобой, в самом деле? Лена?
— Не надо, пусти…
Глаза у Вики были большие, темные и глядели издалека, как недавно в кино, но вдруг переменились, и Лена увидела в них жалость и участие. Ей вдруг захотелось уткнуться Вике в живот и зареветь изо всех сил.
— Лена!
— Пусти, пусти!
Вика пыталась присесть перед ней на корточки, но Лена вырвалась, схватила свои чулки, слезы так и катились, было стыдно, и она вытирала лицо мокрыми чулками.
— Я с тобой по-человечески…
— Не надо… никого мне не надо… пусти…
Нет, е й Лена не могла ничего объяснить — объяснить можно тому, кто понимает. Вон Маринка, с нею молчишь, а она все равно понимает, или Алеша… нет-нет, никакого Алеши больше нет, не хочу, все обман, измена, она ему нужна, как собаке пятая нога, это ведь все из-за Вики, только из-за Вики он с нами хороший и добрый, мы сами ему не нужны. Да и что объяснять, как будто она сама знает, отчего плачет? Просто все ужасно, такое горе, и она сама ужасная, она, наверное, очень плохой человек: ведь хотела быть доброй, помогать им, любить, а вон что вышло. Какое в ней было зло, какое страшное зло! И Вика, конечно, в сто раз лучше ее.
Лена легла и боялась, что Вика придет, сядет, будет продолжать свой разговор и увидит, что Лена по-прежнему плачет.
Она накрылась с головой и чувствовала себя опустошенной и затравленной. И вдруг быстро заснула, словно провалилась.
3
Алеша говорил, что ничего особенного не надо устраивать, никакой пышности, что вообще можно пойти в ресторан, заказать там два-три столика или даже отдельный кабинет, тем и обойтись. «Чтобы посуду потом не мыть», — говорил он. Лена тоже смеялась, хлопала в ладоши и кричала: «В ресторан, в ресторан!» (она еще ни разу в жизни не была в ресторане), и у них с Алешей был как бы заговор. Маму это так обижало, что она выходила из комнаты: ей хотелось торжества и чтобы было белое платье у Вики, гости, пироги, белые розы.
Вика настаивала, что надо идти регистрироваться во Дворец бракосочетаний, Алеша говорил, мол, это пошло, и Лена опять была согласна, что пошло. И как это она тоже пойдет туда — родственница все-таки и будет участвовать в церемонии и фотографироваться там с дурацким лицом? Потеха!
Вика бегала по ювелирным магазинам, искала какие-то особенно тонкие обручальные кольца и подарок для Алеши. Алеша же говорил, что ни за что в жизни не станет носить кольцо, разве что в носу. Он без конца шутил и иронизировал, искал у Лены и Маринки сочувствия, и они держали его сторону, но все равно свадьба готовилась, как хотели мама с Викой.
— Люди добрые, что вы делаете! — смеялся Алеша. — Совсем ведь денег нет, жениху папку для диплома не на что купить!
Однако покупались простыни, новое белье для Вики, шилось все-таки белое платье, и сам Алеша купил себе костюм — правда, не черный, как хотели мама с Викой, а темно-серый и очень дешевый. Мама продала облигации трехпроцентного займа — они хранились у нее лет восемь, но за это время ни одна «не отыгралась», как она говорила. Дед сиял какую-то порядочную сумму со своей сберкнижки, Алешина тетка тоже прислала ему сто рублей. В Столешниковом заказали терт («О, господи боже мой! — закричал Алеша, когда услышал. — Куда я попал!»). Алешин товарищ Базаров приволок загодя магнитофон.
Кстати, этот Базаров, очень надменный, насмешливый, с усиками и куривший прямую длинную трубку, то ли потому, что сам был такой, то ли потому, что подражал тургеневскому Базарову, обо всем имел свое мнение и говорил такие вещи, особенно о политике, что мама едва в обморок не падала. Она бы этого Базарова, конечно, и на порог не пустила, не будь он лучшим другом Алеши. А Лене с Маринкой Базаров нравился. Лена раньше всех Базарова узнала — после Вики, конечно. Когда Базаров принес магнитофон и Вика стала что-то щебетать ему о свадьбе, он, усмехаясь, сказал: «Я ненавижу семью, частную собственность и государство».
Это были чумовые дни. Лена зубрила урывками химию, потому что Клара заявила: если Лена не ответит «по всему», химию ей оставят на осень (они так и проругались весь год). С десятого мая тренер Володя перенес тренировки на открытые корты в Лужники — приходилось три раза в неделю ездить в такую даль. (Алеша с Викой приезжали смотреть, как она играет, и Алеша сказал, что у Лены уже профессионализм появился.) А тут еще свадьба! Но до Лены как-то не доходило, что Алеша с Викой женятся.
Кажется, за всю жизнь она еще столько не хохотала, как в эти дни. В школе просто с ума все сошли: Маринка покажет Владьке Пирогову палец на уроке, и тот как загогочет, а за ним весь класс, и вот так целый день. Чему смеялись, отчего? Просто как дураки. Все было смешно. Идут с Маринкой из школы и через каждые два шага останавливаются и корчатся от хохота, просто падают, о стены опираются. После майских холодов наступили наконец теплые дни, все зазеленело, солнце целый день, хотелось гулять, шатались после уроков по набережным, зубрить собирались на скверике, человек по десять, и опять, конечно, «стояла ржа». Какая там свадьба, у кого свадьба?..
Но, конечно, Лена участвовала в общей суматохе, даже Маринка помогала. Два дня подряд они бегали с сумками по магазинам — то одно надо было, то другое. Но вообще Алеша был прав, Лена с ним согласна, и, когда мама, например, кричала: «Ах, салат, салат!», Лена говорила сердито: «Да зачем он, ей-богу, кто его будет есть, лучше оставить огурцы целенькие». Но мама, конечно, и слушать не могла о таком кощунстве.
В субботу Алеша с Базаровым пошли закупать вино и позвали с собой Лену. В прихожей Алеша с Викой едва не поссорились. Вика говорила, что надо купить побольше сладкого и сухого вина и поменьше водки, а Алеша смеялся и отвечал, что, может быть, Вика как-нибудь уж доверит ему эту закупку и не будет кипятиться. Алеша улыбался и шутил, но Лена понимала, что ему неудобно перед Базаровым. Как Вика этого не видела, что за человек, честное слово!..
Дверь была открыта, Базаров в пестрой рубашке навыпуск, с трубкой и со спортивной длинной сумкой на ремне через плечо уже вышел на площадку. Лена тоже была готова, а Вика еще продолжала раздраженно говорить, чтобы сделали так, как она хочет. Вика была в фартуке, руки в тесте, на красном лице мука, волосы плотно стянуты косынкой.
— Принцесса, какой тон! — Алеша смеялся. — Что будет завтра, когда вы станете королевой!
— Ну, ей-богу, Алеша, мне не до шуток, ты же видишь, я уже с ног сбилась…
— А я говорил…
Алеша, согнув колено, балансируя на одной ноге, поставил на колено довольно большой желтый чемодан, с которым собрался идти за вином, и проверял замки. На Алеше была белая рубашка, узкие светлые брюки; красиво подстриженный, он выглядел рядом с Викой мальчиком, веселым и легкомысленным. И совсем они не были похожи на жениха и невесту — никакой степенности.
— Мама будет недовольна, если…
— Простите, — опять Алеша весело и мягко улыбался. — Это чья свадьба: мамина?
— Ну как хочешь, пожалуйста!
Вика повернулась, чтобы идти, но Алеша, бросив чемодан, задержал ее.
— Вик!
— Ну что?
— Викочка…
— Оставь, мне некогда, ты же видишь…
«Боже мой, боже мой, ну что она за человек, просто стыдно, как не понимает!.. И еще Базаров стоит…»
— Погоди! — Алеша положил ладонь на шею Вике, другой рукой отер белое пятно с ее подбородка — Вика капризно отстранялась. — Я что-то тебе скажу…
Улыбаясь, он стал шептать ей на ухо. Вика хмыкнула, но все-таки лицо у нее смягчилось, и она сделала губы, как обиженный ребенок. Просто смотреть тошно на эту комедию!
Лена, стоявшая в дверях, отвернулась и вышла на площадку, Неужели она будет его женой? Завтра уже станет его женой? На всю жизнь. Как завтра? Завтра? Неужели завтра?..
Алеша сказал — теперь уже не шепотом:
— А ты?
— Ты противный, злишь меня в такой день! — опять тоном обиженным, но уже ласковым ответила Вика. («Ах мы такие капризные, такие капризные — что за противный народ женщины, в самом деле, неужели я тоже такая буду?»)
— Ну что, Елена, — это Базаров, — не пойти ли нам на солнышко?
Он держал во рту трубку, выставив челюсть, и, как показалось Лене, посмеивался. Стыд, просто стыд, честное слово.
— Нет, а ты? — повторял позади Алеша.
— Да, пойдемте! — строго сказала Лена Базарову и ступила на лестницу, а сама еще слышала, как они там смеются и говорят негромко. Странно, уже давно ей не было так неприятно видеть Вику и Алешу вместе и слышать их воркованье и, главное, перед Базаровым было неловко. «Неужели они поженятся завтра? Как они будут жить? Ничего не понимаю, хоть убейте. Я и то его лучше знаю, чем она. Зачем только люди женятся?»
— «В тот вечер он не пил, не ел, он на нее одну смотрел, как смотрят дети, как смотрят дети…» — напевал позади Базаров.
Алеша с чемоданом, прыгая через три ступеньки, догнал их в самом низу. Вид у него был довольный.
— Совсем, бедняга, замучилась, — сказал он легким голосом, как бы давая понять Базарову, в чем было дело. — Дай, что ли, Вовк, трубочку курнуть?..
— Жалко девки, да не погубить бы парня, есть такая российская поговорочка, — отвечал Базаров. — Сейчас в киоске купишь курево.
Лена повернулась и посмотрела на Алешу угрюмо. Он понял и ответил ей взглядом: «Ну да, да, но что я мог сделать, как будто ты не знаешь, но вообще все это ерунда, мне все равно весело».
— Бармалей! — сказал он Базарову.
— Сам дурачок! — Базаров был невозмутим. — Хотя на, курни, тебе на сигареты-то небось не выдали?..
— А вот по шее, а? — Алеша держался сзади за плечо Базарова и прыгал со ступеньки на ступеньку, Базаров покачивался и подставлял Алеше лицо, чтобы тот сам вынул у него изо рта трубку.
«Не зря мама плачет и говорит, какой он муж! — подумала Лена. — Совсем мальчишка, и все». Она чувствовала себя сейчас строгой и гораздо старше Алеши.
Все вместе — Лена впереди — они вышли из темного и прохладного подъезда на солнце; горячее и яркое, оно, казалось, свалилось к ним во двор и теперь клубится здесь, заливает все нестерпимым светом. Дворник Коля в желтой майке и фартуке обмывал из шланга деревья, высокая струя била по кронам, пропадала в них, сыпалась вниз дождем. Мальчишки скакали под брызгами и в восторге орали. Мокрый шланг был угольно-черен на залитом солнцем асфальте — самая черная вещь во всем дворе. Мелкая, молодая, еще желтоватая листва на тополях уже загустела. Сквозь железный высокий забор было видно улицу, зеленый сквер. Светло и весело. Неужели завтра все жильцы соберутся здесь смотреть, как приедут бракосочетавшиеся Алеша с Викой? Нет, Лена никогда не выйдет замуж — это ведь просто стыдно. Все смотрят, все видят. Ужас, просто ужас…
— «А я все помню, я был не пьяный», — продолжал свою песенку Базаров, и почему-то она звучала как насмешка над Алешей.
Через каменную арку вышли на улицу — улица тоже гремела, пестрела, неслись машины с опущенными стеклами, белая мороженщица везла через дорогу рядом с собою свой голубой ящик, гремящий подшипниками — тянула его на ремне, словно большую послушную собаку вела у ноги. В витрине ателье напротив тонкая, как игла, кукла-манекен с ресницами, закинутыми на самый лоб, была переряжена в летнее платье. С афишного щита красные огромные буквы кричали, ослепляя как солнце: «Праздник на льду».
Базаров пел и ехидно посматривал на Алешу, и Лена тоже посматривала, как Базаров, а Алеша шел между ними и усмехался: мол, давайте, братцы, давайте…
Втроем они занимали полтротуара, встречные люди обращали внимание на Алешин чемодан, на трубку и черные очки Базарова, которые он теперь надел, на красивую, белую с огромными розами летнюю сумку, которую несла Лена, — это была Викина сумка. А может быть, они обращали внимание на то, что Алеша шел с Леной, обнявшись? Когда переходили улицу, Алеша обхватил правой рукой Лену за плечи, они побежали перед троллейбусом и теперь продолжали идти так, Алеша как будто забыл свою руку на ее плече. Лена стеснялась, это было новое, странное и приятное ощущение, и гордилась, что идет так, — это свободное объятие как будто делало ее взрослее. Пусть бы кто-нибудь посмотрел с осуждением — она бы таким взглядом ответила, тошно стало бы! Алеша, конечно, и не подозревает, что она чувствует, он сделал это машинально, может, ему просто удобно держать так руку, он болтает себе с Базаровым, ему все равно. А в Лене все странно затихло под его рукой. Что это такое, есть этому название или нет? Вот сейчас Алеша ей совсем как брат, как самый близкий человек.
— Думай, думай, Ананий! — иронически говорил Базаров. — Еще не поздно…
Алеша усмехается и в тон ему отвечает:
— Горацио, я гибну, ты жив, поведай правду обо мне…
Он глядит вперед, улыбается, ресницы его слиплись, вид у него беспечный, и говорит он беспечно, и беспечно размахивает пустым чемоданом. Он нарядный и веселый. Но все не так просто, Лена знает, что все не так просто. Зачем она не взрослая и не может ему все сказать как друг! Этот дурак Базаров, что он смеется, может, надо говорить что-то совсем другое, разве он не чувствует? Пристал, как банный лист.
Лена повернула к Алеше голову и сказала ему глазами: «Вы не обращайте на его смех внимания. Я с вами. Хотите, я его выругаю?» Алеша улыбнулся и сжал ей слегка плечо.
Лена сбросила сумку к локтю, чтобы она болталась на руке, и положила свою ладонь на Алешину руку. «Я с вами, я ваш друг. Видите, я смелая какая, потому что я вас люблю и вы мне как брат». Ей стало жаль его, зачем Базаров над ним смеется? И по сторонам она смотрела с вызовом, как будто кто-то мог Алешу обидеть.
Алеша глядел на нее, улыбаясь, он все-все понимал, такая у него была улыбка, и Лена чувствовала, что он ей благодарен. Очень хорошо им было идти, так дружно, просто удивительно. И как это люди не понимают, что им нужно, а что не нужно, разве не просто понять, чего ты сам хочешь, отчего тебе хорошо? Вот это я хочу, а это не хочу, это понимаю, а этого не понимаю, это мое, а это не мое. Так просто. Я сейчас стала совсем большая, я чувствую себя равной с ним и с Базаровым или даже старше.
Когда уже было куплено вино и они шли назад, Базаров зашел в табачный, разрисованный, как деревянная ложка, магазин за табаком, а Лена с Алешей ждали его на солнцепеке, поставив свою тяжелую ношу с бутылками у ног. Народу вокруг было полно, рядом толпилась очередь за клубникой, плетеные корзиночки из-под клубники, красные внутри, горой лежали на асфальте. Звенели и шипели, отмеряя воду, красные блестящие мокрые автоматы с газировкой. В табачной витрине пестро лежали коробки с папиросами и трубки с профилями Мефистофеля.
— Алеша, а мы давайте всегда с вами будем дружить, а? — сказала Лена.
Алеша смотрел на нее ласково и немного грустно.
— Конечно, Малютка, непременно. — В голосе его была радость, что они так говорят, и Лена тоже чувствовала радость, и смелость, и свободу, потому что она любила его совсем не так, как зимой, а по-другому, и это была важная и хорошая любовь.
— Я вас, правда, очень люблю, — сказала Лена и немного отвернулась, смотрела на табачную витрину — там на одной большой коробке запорожцы писали письмо турецкому султану.
Алеша взял ее за плечо, и подвинул к себе, и поцеловал легонько возле брови, там, где кончается бровь, у виска. Очень просто и хорошо поцеловал — как Малютку и не как Малютку. И Лена тоже быстро поцеловала его снизу в подбородок, потому что ей очень захотелось его тоже поцеловать. И они смотрели друг на друга очень хорошо, очень.
— Ах ты, человечек! — сказал Алеша и еще погладил ее по голове.
И Малютка не знала, что делать с этим морем доброты и растроганности, которое теперь заполняло ее. «Всегда, всегда, всегда, — повторяла она про себя, — праздник на льду, праздник на льду. Почему праздник на льду, когда такая жара? Он замечательный человек. Всегда, всегда, всегда».
Вышел Базаров, надел опять черные очки и сказал:
— Не купить ли ребенку мороженого?
— Пива хочу! — сказала Лена.
Алеша с Базаровым засмеялись, сказали, что она правильный парень, и, подняв с асфальта свои тяжести, пошли искать пиво. Все прохожие смотрели на Лену, на ее висок, на ее бровь, где Алеша поцеловал, и все знали, что он ее поцеловал, но Лена не стыдилась и держала голову гордо, потому что стыдиться было нечего, а даже совсем наоборот.
4
Через месяц после свадьбы они уехали на Каму — Алеша получил туда назначение на строительство гидростанции. Последние три дня перед отъездом они жили здесь, у Вики, — Лена на эти дни переселилась к Маринке. Она старалась не приходить домой — никогда не думала, что счастливые люди могут быть так неприятны. Слепые, глупые люди, объевшиеся счастьем. Злость брала глядеть на них весь этот месяц. Особенно Алеша — он совсем уж ничего не понимал. Они без конца где-то шатались по пляжам, пароходам, по чужим дачам, по лесам, электричкам, обгорели, похудели, у Алеши стало совсем тощее цыганское лицо. Ему говоришь что-нибудь, а он не понимает, не слышит, улыбается, как тихий помешанный. Медовый месяц! Слово-то какое противное: медовый. Сахарный, паточный, глюкозный. Глюкозный месяц. Медовый пряник. Пряничный месяц. Фруктоза-сахароза. Повидло. Что ни говори, а есть что-то стыдное в этих женитьбах, свадьбах, поздравлениях, улыбочках. Как это взрослые, умные люди могут на это соглашаться. Просто смешно!
Лена пришла домой утром накануне их отъезда (мама позвонила к Маринке и сказала, что Вике надо помочь со сборами, кроме того, Лена хотела взять себе платье на смену), открыла своим ключом дверь. Она думала, что нет никого, что они опять умчались куда-нибудь загорать — в свое любимое Пестово, где у них все началось, или в Кунцево, или в Серебряный бор. (Ни разу, черти, никуда с собой не взяли, даже не предложили.)
Лена тихо вошла в дом.
Алеша в одних трусах, черный и худой, стоял посреди кухни и пил молоко из бутылки, задрав голову. Из репродуктора прямо на него неслась бодрая музыка и будто облучала его. Он, кажется, никогда не слушал радио — оно его раздражало, а теперь, смотрите, ничего! Лену он не заметил.
Вика сидела в постели в раскрытой на груди пижамной курточке, растрепанная, жевала бублик и листала журнал мод.
— А, очень хорошо, что ты пришла, — сказала она Лене, — у меня кошмар сколько работы!
«А что ж ты сидишь-то голая в десять часов?» — хотела огрызнуться Лена, но промолчала.
Всюду стояли засохшие цветы, чашки с кофейной гущей, на столе гора белья — приготовлено гладить, на полу и на тахте раскрытые чемоданы. Чем-то неуловимо незнакомым пахло в доме — может быть, табаком, одеколоном чужим. Возле телефона была брошена развинченная электробритва, среди комнаты валялись мужские остроносые туфли, на полу возле кровати стояло блюдечко с окурками. Дома я или не дома?..
Лена прошла в маленькую комнату, открыла шкаф, долго бессмысленно смотрела на платья: забыла, зачем открыла шкаф. «Да, вот так погибают короли», — как говорил Базаров.
— Алешка, я нашла! Пойди сюда! — кричала Вика в той комнате. — Посмотри, какая прелесть!..
Несчастные мещане, совсем с ума сошли! И Алеша хорош, тоже мужчина — моды разбирает, тьфу! Лене слышно было, как прошлепали босые ноги Алеши, как он одобрительно бубнит с набитым ртом. Жалкие люди!
— Это будет вот так, вот здесь открыто…
— Вот здесь?
— Перестань! Обормотина, как не стыдно!..
— Ну, Вик…
— Ты спятил! (Шепот.) Ленка ведь…
— Где Ленка?
Да, он так и не услышал, что Лена пришла. Слепые, совершенно слепые, просто противно.
— Елена, ау!
Лена не отозвалась. Потом спряталась за дверцу шкафа и, когда Алеша встал на пороге, сердито сказала:
— Не входите, пожалуйста, я переодеваюсь.
— Ах, ах, простите! — сказал Алеша дурашливо. — А как вообще дела?
— Благодарю, все в порядке.
— А мы, между прочим, завтра в четырнадцать ноль-ноль отбываем.
— Это уж вся Москва знает. Счастливого пути!
— Ого! Вы страшно суровы сегодня, Малютка!
— Какая есть.
— Что-нибудь случилось?
Лена промолчала.
— Лен?
— Ну что?
— «Ну что!» Да что ты, в самом деле?
— Ничего.
— Странно.
— Вам странно, а мне не странно.
Скорей бы вы уже уезжали. Все бы наконец кончилось, и дом был бы опять похож на дом, и вернулась бы старая, нормальная жизнь. Маринка права, Алеша даже поглупел за последнее время. В самом деле поглупел. Смешно, она могла когда-то реветь из-за него.
— Алеш, а там ателье уже есть, как ты думаешь?
Это Вика продолжает насчет платья.
— Я думаю, там нет даже бани, лапочка.
— Бани?
— Ну да, бани. Хорошо, если дороги проложили, ведь самое начало…
— И не жалко тебе свою молодую жену?
— Я сам тебе построю ателье…
Вот-вот, вместо ГЭС будете ей строить ателье. И еще парикмахерскую. И ванную не забудьте, она не может без ванной. Венера!
— Малютка, поехала бы с нами, а? Там, знаешь, места какие? Ты сроду не видела!
— Спасибо, вам и без меня хорошо.
— Нет, она сегодня просто того, наша Елена, просто черт знает что такое! Но хоть писать ты нам будешь?
— Я не люблю писать. Но если напишете, отвечу, конечно…
— Н-да…
На другой день они уехали. Лена со злостью перегладила все Алешины рубахи, но хорошо погладила и сложила аккуратно. Она весь день ходила с недовольным, презрительным лицом, и на вокзал поехала с холодным принужденным выражением, и вообще показывала, что все они ей безразличны со своей лихорадочной радостью, бестолковыми сборами и волнениями. Лена вошла в роль, и ей нравилось играть в превосходство. Мама без конца причитала и охала: как и где они будут жить, что там за места, какие люди и есть ли там врачи.
Лена сурово сказала:
— Миллионы людей на стройках живут, и ничего.
— Ты черствая, Лена, — запричитала мама. — Ты бесчувственная, я удивляюсь, какая ты черствая.
— Да, да, я черствая, и очень хорошо! — холодно ответила Лена и подумала еще: «Неужели лизаться буду, как твоя Викочка?»
Но как захотелось на вокзале, у поезда, когда уже были погружены в душное купе чемоданы и все вышли опять на залитый солнцем жаркий перрон, тоже ехать, ехать — на Каму, на стройку, куда угодно, в неведомые края. «Поезда, поезда…» Но Лена и виду не подала, продолжала быть строгой и надменной. Маринка, которая тоже приехала провожать, — тоненькая, в голубом безрукавном платье и в очках — даже турнула Лену в бок и спросила тихо:
— Ты что?
Вика плакала, у нее текли ресницы, она обнимала всех подряд, а Лена и теперь точно окаменела, холодными губами целовала сестру и не чувствовала ничего, кроме холода и превосходства. Так лучше, а то бы тоже разревелась, и все.
Алеша острил, смеялся, но было видно: волнуется. Он держал в руках пиджак и все время проверял карман, где лежали деньги и документы. Они долго и крепко жали друг другу руки с Базаровым, посмеивались, подтрунивали, потом все-таки обнялись. Базаров подарил на прощанье Алеше свою прямую длинную трубку и отдал кожаный кисет с табаком.
Мама, поднявшись на цыпочки, поцеловала Алешу и сказала, чтобы он берег Вику, что она доверила ему самое дорогое. Всем стало неловко от этих ее слов, и Алеша, чтобы исправить эту неловкость, опять пошутил:
— Зато я вам скоро телевизор куплю, Евгения Павловна. С первой же премии.
Дед тоже обнялся с Алешей.
— Ну, брат, помни: плюс электрификация! Чтоб, значит, порядок был!
— Ну дак понимаем! — в тон деду ответил Алеша.
Подошла очередь Лены прощаться.
— Позвольте, матушка, хоть плечико поцеловать! — сказал Алеша.
Лена не удержалась и хихикнула глупо как-то, Алеша обнял ее одной рукой, прижал к себе.
— Ну, прощай, Малютка!
Он наклонился и поцеловал ее в щеку, а потом еще раз. Все на них смотрели, одна Маринка отвернулась.
— Приезжай к нам, слышишь?
Лена кивала и изо всех сил старалась сделать прежнее ироническое лицо. Она даже «спасибо» не могла сказать — не выговаривалось. Вдруг подумала, что надо ему напомнить про рубашки: что это она гладила, пусть знает, когда будет надевать. Странная стала голова. Она взяла и вытерла щеку после Алешиного поцелуя — как маленькая. Все засмеялись. Вот и хорошо, этого она и хотела:
— Пишите!
— Не забывайте!
— Дайте сразу телеграмму!
— Счастливо!
— Малютка, береги маму!
— Салют!
— Вика, Викочка!..
— Пока, братцы!
Очень жарко было на перроне. Лена навсегда запомнила, что было очень жарко, дышать нечем, от нагретого вагона несло жаром, столб, за который она держалась, белый, алюминиевого цвета, был раскаленный, асфальт мягкий, и со всех сторон протяжно, в одном ритме кричали мороженщицы:
— Одиннадцать, пятнадцать, девятнадцать! Тринадцать, двадцать восемь, двадцать две! Есть сливочное в стаканчиках, есть «Ленинградское»! Одиннадцать, тринадцать, девятнадцать!
5
Прошел год. Снова было лето. Лена собиралась на Всесоюзную школьную спартакиаду в Минск — ее отобрали, это было такое счастье. Целый месяц они жили в спортлагере на Рыбинском водохранилище. Все время тренировки, тренировки, она стала сухая и коричневая, как негр, и совсем отвыкла от дома. А теперь снова надо уезжать.
Она сидит в шортах и майке в кухне на подоконнике и, подложив под листок книгу, пишет на коленях письмо. Время от времени она смотрит вниз, во двор: во-первых, вот-вот должен прийти Сережка, они вместе поедут в Лужники; во-вторых, во дворе, под деревьями, стоит желтая обтекаемая коляска — там спит Юрка. Ему уже четыре месяца, Лена стала тетей. Когда он еще не родился, Алеша уже называл Лену в письмах «тетя Малютка». Смешно! Юрка толстый, все время спит, и у него густые черные ресницы. Все это, между прочим, довольно грустно.
«…Ваш Юрка спит во дворе в коляске, я за ним смотрю. Вика, если вам интересно, бегает уже насчет работы, и, кажется, ей обещают, с сентября начнет — в соседней с моей школе. Если хотите знать, я еще раньше думала, что так все и выйдет. Спросите Маринку — мы уже тогда знали…»
Вся кухня увешана желтыми и белыми пеленками, ползунками и чепчиками. На столе стоит бутылка с соской — Юрку уже прикармливают, потому что Вика хочет отнять его от груди, когда пойдет работать. Вика стала злая и независимая. Она думает взять Алешу измором: не пишет ему и хочет разводиться, если он не бросит свою стройку. «Базаров почему-то может работать в Москве, — говорит она, — а этот дурак…» Вообще они с мамой такое говорят об Алеше — слушать противно. До чего нелепая, до чего обыкновенная история — чуть не каждый день в газетах пишут. Вот и у Вики с Алешей так. Глупо! Но об этом ему писать, конечно, не стоит.
«А я послезавтра уже еду в Минск, я вам писала ведь, так вот уже все, послезавтра едем. Я жутко, Алеша, волнуюсь, просто хоть отказывайся, честное слово! Погорю я там, вот увидите, там из Латвии такие классные девчонки приедут, одна Расма чего стоит — о ней целая статья была в «Комсомолке», не читали?..»
Корт, желтый корт. Сетка. За проволокой — тысяча лиц, все гудят, ахают, дышат. Белый мяч, ракетка. Как будто Лена перед огромным зеркалом играет: там, за сеткой, такая же, как она, девушка в белом свежем костюме с загорелыми ногами, так же схвачены обручем волосы, так же перетянуты бинтами запястья, так же летает она с угла на угол, отбивает мяч. Удар, удар, удар! Угол, центр, угол! Вперед! Спокойно, спокойно, сейчас будет моя подача…
«Вот если бы вы могли приехать поболеть за меня! Сережка только издевается, подшучивает, ему-то что, он классный игрок, в Москве один Карпов лучше его играет, ему победа обеспечена. Знаете, он, по-моему, в меня совсем за этот месяц влюбился. Смешно, правда? А про Карпова читали? Тоже в «Комсомолке» — было про Карпова и Сережку…»
В самом деле было бы здорово, если б Алеша приехал. Какой он стал? Он приезжал на три дня, когда родился Юрка. Очень строгий и грустный. Очень серьезный. Они шли с Леной из роддома по набережной. Вика вернула им апельсины, которые они послали ей с передачей, и Лена ела апельсин, а Алеша не ел. Он курил базаровскую трубку и смотрел на реку. Он ни разу не пошутил. Он рассказывал, какая река Кама, какая тяжелая была зима. Он говорил, что не может задержаться ни одного дня, потому что никто там не сделает за него его работу. Вода в реке была апрельская, мутная и стояла высоко. Лена бросала апельсиновые корки; яркие, они долго были видны на воде и неслись быстро.
«Помните, как вы приезжали весной! Вот еще бы так приехали. Или нельзя? А я к вам обязательно приеду. Как только кончу весной школу, так сразу поеду, можно ведь, правда?»
Ужасно хочется туда поехать, к Алеше, — все посмотреть, как там люди живут, как он там работает. Она бы ему помогла, она бы не пищала и не сбежала, честное слово. Она бы выстирала и выгладила ему все рубашки, она бы их помирила с Викой. У Вики бы это прошло, она бы поняла тоже, что так нельзя, что смешно быть маменькиной дочкой. Лена вернулась бы и все ей рассказала, разжалобила бы ее. Нет, она обязательно поедет. И если даже Вика не захочет, и уже забудет про Алешу, и они с мамой будут говорить о нем всякую ерунду, Лена все равно поедет.
— Аля-улю! Ленка!
Лена посмотрела вниз. Там стоял среди двора Сережка, тоненький и высокий, в белый брюках и рубашке, с ракеткой в чехле под мышкой. Лена сделала ему знак, чтобы он не орал, показала на коляску в тени. Потом помахала, чтобы шел наверх, все равно еще надо дождаться Вику.
«Я вам еще напишу из Минска. До свидания, Алеша. Крепко вас целую. Ваша Лена».
«Ваша Лена, ваша Лена… Ну и почерк у меня, просто стыд!»
ИРТУМЕЙ Рассказ
Лера прилетела в Иртумей в конце дня. Это был небольшой поселок в тайге, на берегу реки; и с вертолета прежде всего открывался простор этой застывшей реки, серой в наступавших сумерках. На берегу темнели лесосклады, стояли машины и тракторы, черные на белом снегу; наезженная за зиму дорога наискось шла по льду на ту сторону.
Вертолет повис над единственной длинной улицей поселка, над крышами в шапках снега. Вон тупоносый трактор тащит от тайги длинные бревна — хлысты; бегут, махая руками, мальчишки к тому месту, куда нацелились приземлиться; остановилась и глядит в небо женщина с коромыслом и пустыми ведрами в руке. Поселок как поселок — кажется, уже слышишь запах дыма и собачий лай.
Для Леры Иртумей был примечателен лишь тем, что здесь уже два года работали ее однокурсницы по медицинскому институту: Лариса, которая заведовала в поселке больницей, и Соня. А теперь и самой Лере предстояло жить здесь почти три месяца, работать, делать операции, оборудовать операционную. Она слегка волновалась оттого, что увидит сейчас Ларису и Соню: настроение у нее стало получше, чем утром, — два часа полета развлекли ее, — и все-таки тоска брала при виде этого Иртумея, серой реки.
Больницу можно было угадать сразу: во дворе сушились на веревках простыни, и по количеству простыней было понятно, что здесь больница. Дом небольшой, крыша тоже в снегу.
«Да, тут много не наберешь», — сказала себе Лера, оглядывая сразу весь поселок и соображая, что работы здесь, как она и думала, окажется мало. Ей, как никому другому, нужна практика, а ее ткнули в этакую дыру! Не удалось ей отвертеться от Иртумея.
Еще утром она сидела в своей больнице — это был четырехэтажный новенький корпус, в узкой и длинной «говорилке», комнате, что рядом с операционными, на диване с чистым чехлом. Было тепло, уютно; хирурги весело, как всегда по утрам, болтали. Лера и не думала об Иртумее. Сновали уже в перчатках и масках сестры, готовили сразу все три стола, в том числе и для Леры. Она уже с неделю знала, что ее посылают, и давно собралась (надо так надо), но то погоды не было, то еще что-то случалось, и она надеялась: может, так и обойдется. Сегодня на дворе тоже было сыро, пасмурно, в отделении всюду горел свет. Лера глядела с четвертого этажа, как ветер гнет и качает одинокие сосны на пустыре, несет мелкий снег, думала: «Нет, сегодня опять не улетишь…»
Лишь кончался февраль, а ее посылали до двадцатого мая, до первого парохода («Ты у нас самая молодая, самая мобильная!»). Это обычная практика: на время распутицы и метелей райздрав забрасывает хирургов в медвежьи углы, чтобы не гонять потом в случае чего и не оплачивать дорогие экстренные рейсы вертолетов. А что хирург будет там делать, никого не касается.
У Леры было с утра две операции, обе — почки, за работой она совсем забылась.
Однако к полудню тучи разнесло — солнце светило вовсю. Хирурги обедали в ординаторской, опять смеялись, острили, а потом кто на машинке, а кто от руки сели писать операции — кто что сегодня сделал. Лера сидела за машинкой, спиной к окну, солнце грело совсем по-весеннему. Вот тут и позвонили, сказали, что вертолет пойдет и ее ждут.
На «скорой помощи» она заехала домой, переоделась, взяла вещи, потом — аэродром, и вот, пожалуйста, — Иртумей!
Стали снижаться. Вертолет качало, как люльку. Лера застегнула деревянные палочки-пуговицы на куртке и нахлобучила ушанку. Глянула в последний раз наружу и увидела: от больницы уже бежит Лариса в белом халате и шапочке, в пальто внаброску — кажется, это старое знакомое зеленое пальто, — бежит, не разбирая дороги, и лицо у нее такое, будто боится: прилетела или не прилетела?
Винты еще махали, а Лера, не слушая летчика, уже выпрыгнула и, пригибаясь, выскочила из-под винтов к Ларисе.
Пока они обнимались, и говорили разом и бессвязно, и оглядывали друг друга, а из вертолета выгружали ящики и Лерины вещи — чемодан, связку книг, лыжи, — возле вертолета собралась негустая толпа. До Леры донеслось:
— Да врач это, хирург. Говорят тебе, хирург прилетел!
— Да и где ж он?
— Да вон же!
— Вон то, что ль? Девка, что ль, в штанах?
— Ну!
— Болтай!
И еще чей-то голос:
— Да где, где?
И еще:
— Лыжи-то, глянь, красные!
— Оно как раз сейчас на лыжах, по грязе́.
Лере не привыкать было, что ее за хирурга не принимают. Оглянувшись, увидела мальчишек, старух, обратила внимание на одну нарумяненную красавицу в белом пуховом платке — видно, сердцеедка местная; красавица посмеивалась, бросала в рот кедровые орешки и глядела с вызовом.
Хотели идти, но тут появилось еще несколько человек, видимо, начальство, стали знакомиться. Один грузный, краснолицый, в полушубке генеральского покроя, с выпушкой, другой тощий, в очках, в длинном кожаном пальто, совсем пожилой, третий — коренастый молодцеватый бурят в мохнатой ушанке. Он поиграл узкими глазами и выпрямил спину, словно на коне гарцевал. Лера запомнила: фамилия бурята Тонгуров.
Потом, когда они с Ларисой уже почти дошли до больничного крыльца, где стояли и приветливо, радостно смотрели навстречу несколько молодых сестер в белых халатах, у вертолета поднялся шум — там, стоя перед летчиком, махал руками, будто просился лететь, высокий парень без шапки, бородатый, видно, пьяный, — все смеялись. На парне — ватник нараспашку, высокие сапоги и красный, пушистый, нарядный шарф. Может быть, из-за этого неожиданного шарфа парень казался весьма интеллигентным.
— Паралича́ тут улетишь! — донесся его пьяный, с надрывом голос. — Змею́ тут улетишь!..
Лера остановилась, наблюдая эту сцену, увидела, как пошли в сторону от толпы начальники: полушубок, за ним кожаное пальто и последним — бурят в мохнатой шапке. Бурят все прямил спину и пружинисто ставил ноги в бурках.
— Идем, идем! — сказала Лариса, и Лера поняла, что Ларисе неприятно. — Идем скорее, Соня там…
Они на минутку, только поздороваться, зашли в больницу («Я тебе потом, потом все покажу», — торопила Лариса) и отправились домой, это было рядом.
Лариса и Соня жили в одной комнате в щитовом двухквартирном домике, через дом от больницы. Полкомнаты занимала огромная деревянная кровать — как она только сюда попала? — с пузатым ангелочком в изголовье, с ножками, вырезанными под львиные лапы. Они называли ее «Княгиня Ивановна» и относились к кровати с почтением. (Потом, когда пуржило весь март и из щитового домика выдувало к утру все тепло, они спали на ней втроем, и «Княгиня Ивановна» выдерживала.)
Соня была все такая же, ни чуточки не изменилась, маленькая, большеносая и такая же добрая и тихая. В институте про нее говорили, что у нее глаза толстовской княжны Марьи; и верно, было похоже: добрые, мягкие глаза и всегда добрая, тихая улыбка. Зато высокая красивая Лариса будто еще покрупнела; она и прежде держалась уверенно, осанисто и казалась взрослой женщиной среди девчонок на курсе, а теперь и вовсе выглядела солидно. Лицо у Ларисы красивое и чистое, но, как говорится, холодное. Ее всегда побаивались. Теперь Лере показалось, что она мягче стала, появилось что-то новое, нельзя только вдруг понять что, — но словно бы Лариса держалась с прежней уверенностью по привычке или потому, что велит себе быть такой.
Но как же они были рады Лере, хотя и за этой радостью она тоже чувствовала что-то новое, потому что в институте не была с ними в большой дружбе, если честно вспомнить. Как они были рады!
Лариса летала из кухни в комнату — полы и стены дрожали — и говорила без остановки, а Соня в черном свитере — она недавно грипп перенесла — сидела с ногами на кровати и смотрела на Леру добрыми тихими глазами. Лера разглядывала их жилье и вдруг подумала: как, должно быть, одиноко и трудно им здесь, что бы они там ни говорили. И ей захотелось обнять их, сказать нежное, ласковое. Но она не умела этого. Она только ходила следом за Ларисой в крохотную прихожую и кухню, где жарилась на плите рыба, или садилась на кровать к Соне, обнимала ее и спрашивала:
— Ну как ты, носатик, как ты-то?
Они рассказывали об Иртумее: все прекрасно, все очень хорошо, они довольны, к врачам относятся просто замечательно; люди, правда, всякие, и жизнь, конечно, нелегкая, но они рады, очень рады. Шестьсот человек в поселке, леспромхоз, лесоповал, склады, строители — рокадную дорогу строят. Клуб есть, танцы, кино бывает.
— Смотрите, кино! — сказала Лера. — Так у вас тут просто рай!..
— У нас здесь кто хочешь есть! — кричала Лариса из кухни. — Кержаки, украинцы, эстонцы, буряты…
— Еще туни, — сказала с улыбкой Соня.
— Кто?
— Да туни, туни. Не знаешь?..
— Тунеядцы, что ли?
— Ну!
— Народ у нас есть дикий, татуированный, — смеясь, продолжала Лариса из кухни. — Напьются, друг дружке уши, брови обкусывают. Будет тебе что зашивать, не бойся.
Соня улыбалась, Лариса, мол, шутит, но вообще бывает.
— Я за два года все видела, не волнуйся! — крикнула Лера в кухню Ларисе.
— Мы тоже, — тихо и опять с улыбкой сказала Соня.
Лера с Соней пили портвейн, а Лариса — разбавленный спирт. Стол у них ломился: Лера колбасы привезла, печенья, конфет. Потом Лариса торжественно вынесла из кухни шипящую сковороду.
— Омуль в сметане!
Это, конечно, был не омуль, но они сразу вспомнили свои турпоходы на Байкал, костры, уху из хариуса, свое студенчество.
— Давайте выпьем, девочки! — говорила Лариса. — Тыщу лет не пировали! Еды-то, еды…
— А она тут не очень? — с улыбкой спросила Лера у Сони и кивнула на Ларисину рюмку и колбу со спиртом. — А то бывает…
— Ты с ума сошла! — ответила сама Лариса. — Зимой иногда, от холода только.
Соня покачала головой: мол, нет, не очень.
— А то ведь пьют небось в вашем Иртумее?
— Ну что ты! — ответила Лариса. — В рот не берут.
Они рассмеялись.
Потом они пели, потом достали альбом. Когда кончали институт, собрали деньги и сделали одинаковые альбомы на память: фотографии курса, групп, профессоров, зданий института. У Леры тоже был такой альбом, но она давно в него не заглядывала. Вспомнили, кто где: почти весь их курс распределился в самые медвежьи углы, только некоторые, вроде Леры, попали в города, да двое остались в ординатуре.
— Боже мой, девочки, давно ли все это было, а кажется, тысяча лет прошла!
Потом Лера с Ларисой пошли смотреть больницу. Больница маленькая, на двадцать коек, очень чистая. Молоденькая сестра подала им пахнущие морозом халаты, тапочки. Лариса как будто стеснялась, что хозяйство ее такое крохотное, и все время повторяла:
— Здесь, конечно, не как у вас. У вас там, конечно, не так.
Лере даже неловко стало, будто она инспектор.
— Брось ты, в самом деле, прибедняться! — сказала она.
Больных лежало пятеро: три женщины и двое мужчин. Один, молодой парень, уже спал, другой, бородатый дядька с костылем, курил в форточку. Лариса прикрикнула на него, он покорно уселся на койку, улыбался из бороды. Среди женщин была одна роженица с мальчиком.
Выбрали сразу комнату для операционной, посмотрели регистрационную книгу: намечено десять плановых операций, две под вопросом.
— Я так и думала, — сказала Лера, — на неделю хватит еще, а потом пшик.
— Ничего, будешь поносы лечить, — сказала Лариса. — А уж геморроев мы тебе сотню наберем. Сонька уж какой гинеколог, а все лечит, что придется.
— Утешила! — сказала Лера.
Больничка ей понравилась: видно, что девочки завели здесь строгие порядки, и было приятно за подруг.
Когда вернулись домой, в комнате, кроме Сони, находился тот самый бородатый парень, который шумел возле вертолета. Повсюду в прихожей и комнате остались мокрые следы его огромных сапог. Ватник валялся на полу при входе — гость оставил его у дверей, будто калоши. Соня все так же сидела с ногами на кровати, вид жалобный, а парень устроился напротив, и они играли в карты. Он сильно взмахивал и кричал, шлепая картой:
— Хрясь! Змею́ тебе, царевна Софья! Хрясь, хрясь! Ага! Стеклела бы ты, дева!
Лариса быстро прошла вперед, обернулась и сказала:
— Ты не бойся, он ничего, я его сейчас выгоню. Раздевайся, раздевайся…
Лариса как будто опять волновалась.
— А, хирургиня! — воскликнул парень. — Спустившаяся с небес! Разрешите приветствовать вас от имени тунеядцев населенного пункта Иртумей, а также от себя лично!
Они познакомились. Его звали Борис Чагин. Он был сильно навеселе и говорил без остановки, то и дело выкрикивая: «Хрясь! Стеклела бы ты, дева! Паралича́!»
Он был высокий и красивый, глаза очень красивые, и борода ему шла, но развинченный, расхристанный, в обвисшем черном свитере, от которого разило табачищем. И говорил он и пошатывался слитком театрально. Смешно, неожиданный экземпляр для Иртумея. Лариса хмурилась и как будто стеснялась перед Лерой Чагина, а ему все время говорила, чтобы шел спать. Соня перебирала на кровати желтые замусоленные карты и не поднимала глаз.
— Все зола, девочки! — шумел Чагин. — Выпьем за знакомство с богиней, опустившейся с небес! Хирургиня, вырежь мне сердце, а?
Лариса пыталась отнять у него колбу со спиртом. Он кричал:
— Стеклела бы ты, дева! Я за твою подругу выпить хочу, а ты против? Что у нас, сухой закон, что ли? Отменили! Все отменили! Вырежь, хирургиня, а? Доброе, понимаешь, слишком сердце, жить нельзя…
— Язык тебе надо вырезать! — сказала Лариса.
— Ну пусть человек выпьет, Лариса! — Лера смеялась. Ей хотелось показать, что она не против Чагина, даже забавно, и зря они смущаются. — И мы давайте по капельке…
— Паралича́ с ней выпьешь! — Чагин махнул рукой. — Заведующая!
Лариса ушла на кухню, вроде ставить чай. Чагин выпил один и, выпив, на секунду протрезвел и огляделся в смятении.
— Ларис! — позвал он. — Ларис!
Лере не по себе стало, до того вдруг потерянное у него сделалось выражение.
А потом он опять куражился и говорил в прежнем пьяном тоне:
— Взял бы он меня, я б улетел сегодня. Вот как есть, взял и улетел. Все равно! — Он обращался к Ларисе. — Хрясь — и все! Поняла? А он не взял, сволочь! Змею́ тут улетишь! Отменили! А жить нельзя! Нельзя тут жить, слышь, хирургиня! Это только вот такие дурочки-комсомолочки могут здесь жить.
— Нам надо спать, Чагин, — сказала Лариса. — Она работать приехала, а не на тебя смотреть. Выкатывайся давай!
Но прошло еще полчаса, прежде чем они его подняли, наконец, с места и проводили. Он шатался, бормотал извинения, сказал Лере, что влюбился в нее с первого взгляда. Лариса помогла ему надеть ватник и сердито застегнула до горла. Он покорно, и уже закрыв глаза, кивал и продолжал бормотать:
— А то, может, в картишки, а? Дамский преферанс, по копеечке? Хрясь! Хрясь! Отменили, да? Ну извините…
Лариса вывела его на крыльцо, сердито говорила, а он опять выкрикнул там, как ребенок:
— Ларис!
Лера вернулась в комнату. Ей под руку попался институтский альбом, она стала листать его. Всюду на фотографиях Лариса, и везде у нее одно и то же гордое, уверенное выражение, не похожее на нынешнее.
Соня сказала с болью:
— Ну что она там ему говорит, он же завтра все равно ничего помнить не будет.
Чагин, оказывается, был ленинградец, но не кончил институт, где-то работал, потом месяцев пять болтался без дела: у него дед умер, он продал его библиотеку, кутил с дружками. Потом попал в скандал, а тут как раз указ о тунеядцах, о выселении пьяниц, вот его и выгнали на два года. Он было удрал, его опять вернули. Сейчас работает у Тонгурова, на строительстве рокадной дороги, но тоже скандалит все время, ругается с начальством, и его, наверное, и отсюда выгонят. Странный, не поймешь, что ему надо. А вообще, говорила Соня, очень добрый, неглупый.
— Типчик! — сказала Лера.
— Нет, ты не знаешь! — И Соня стала защищать Чагина.
— Ну, у тебя, носатик, все хорошие.
Вернулась Лариса, тут же принялась прибирать со стола, мыть посуду, говорить о завтрашнем дне, с чего Лере лучше начать, будто никакого Чагина не было. Только потом сказала:
— Ты не думай, он что-то сегодня вообще уж! Но, когда трезвый…
— Да что ты! — сказала Лера. — Что я, маленькая? Пьяных не видела? Очень даже красивый парень…
Они легли вдвоем, Соня — на сундуке, и еще часов до двух проболтали: об институте, о Лериной городской клинике, об Иртумее.
Они выписывали несколько газет и журналов, у них стоял приемник. И даже теперь, когда приехала Лера и они улеглись, Соня включила его, чтобы послушать последние известия. Они расспрашивали Леру о новостях, книгах и фильмах, будто она была каким-нибудь кинорежиссером или писателем и приехала к ним прямо из Москвы, из Министерства культуры. Она и половины не знала из того, о чем они спрашивали, к ней самой все новости и события попадали обычно через «говорилку», а газет она по месяцу не брала в руки. И все-таки Лера чувствовала превосходство над подругами, их интерес к новостям и событиям наводил грусть. Чудились ей в этой жадности провинциальность и тоска иртумеевская. Надо же чем-то жить, кроме своей маленькой больнички.
Вот так она сама собирает дома гостей. Лера вспомнила свою комнату, как она еще днем стояла там, прощаясь, в сапогах и ушанке, как чужая.
Комнату ей дали недавно, комната была хорошая, второй этаж, окно широкое и выходит на улицу. Она оклеила ее, новенькими обоями, поставила модное кресло на растопыренных ножках; больничный электрик дядя Коля сделал стеллаж для книг и торшер из неоструганной молодой пихты. Ей казалось, у нее очень уютно, хотя кто-то однажды сказал, что жильем там не пахнет. Иногда Лере хотелось выглядеть светской и женственной. Она знала, что слишком много работает, увлекается и что-то упускает — двадцать пять все-таки скоро, — и вот она звала гостей, надевала черные китайские, с белыми цаплями, брючки, варила кофе, брала у соседей проигрыватель с пластинками.
Гости — все это были врачи — приносили с собой выпить, кофе отходил на второй план. И говорили опять об операциях, грудных, полосных, черепных, о зобах, о фибромах. И Лера, забыв о взятом тоне, тоже кричала, спорила и, выключая проигрыватель, бросалась к стеллажу за книгами.
Потом опять ночевала дома через двое суток на третьи, не подметала, ела всухомятку, расстелив газету на клеенке: то дежурство, то холодно, буран, идти не хочется, то лекция, то вызов. Но все равно она любила свою комнату и теперь с грустью вспоминала о ней.
Утром поднялись чуть свет. Лера предложила Ларисе, прежде чем идти в больницу, пройтись по поселку: она еще толком его не видела. Было сумрачно, сыпалась морось и застывала на земле. Унылым показался Лере Иртумей. Ни деревца, ни куста. Да и зачем, когда тайга кругом?.. Они скользили, едва не падали на заледеневших деревянных тротуарах. Лариса объясняла, где кто живет, и говорила, что хорошо здесь летом, — вернее, когда еще мошки́ нет.
Возле леспромхозовской конторы — двухэтажного деревянного дома с внешней застекленной лестницей и галереей по всему второму этажу, с башенкой и на ней — флажком, отчего дом казался старинным теремом, — стояли восемь или десять крытых грузовиков — «будки», в каких повсюду ездят на работу и с работы. Тут же урчали два вездехода на гусеничном ходу, выкрашенные в зеленую военную краску. Один за другим подходили и исчезали в «будках» рабочие, лесорубы и строители — все одинаково в толстых штанах, ватниках и брезентовых робах поверх ватника. Каждый здоровался с Ларисой и Лерой. Лера проследила за одним, как он шел, как взбирался потом по лесенке в кузов, и сказала Ларисе:
— Явная грыжа. Надо будет потом найти его.
— Все равно, знаешь, хорошо, что ты приехала, — вдруг сказала Лариса. — Честное слово!
— Ладно тебе! — сказала Лера и ударила ее слегка по плечу. — Идем!
Ей хотелось поскорее работать. Она чувствовала, что мглистое, будничное это утро и вид Иртумея наводят уныние. Нет, работать — и все, и не думать ни о чем. Да и в чем дело? Поселок как поселок, подумаешь. «Отменили» — вспомнила она словечко Чагина и подбодрила им себя. Еще этот Чагин! Отменили.
Она поглядела сбоку на Ларису — у той лицо спокойное, розовое. «Красива, черт!» — подумала Лера.
— Ты что? — Лариса повернула к ней голову.
— Красивая ты, черт! Завидки берут.
Лариса неопределенно пожала плечами: мол, что с того, чему завидовать.
Их стали обгонять одна за другой «будки», сзади из дверей глядели лица рабочих, дымивших первыми папиросами. «Работать, работать!» — говорила себе Лера.
Дни покатились один другого быстрей. Что-что, а работать Лера умела. Она почти два дня сидела над схемой автоклава — надо прежде всего установить автоклав — и еще просидела столько бы, да узнала, что тот самый бородатый дядька с костылем — его звали Тришин Федор Карпыч — механик, а Паша, паренек, лежавший с подозрением на аппендицит, — электрик. Она быстро включила обоих в дело. Автоклав установили во дворе, в пристроечке, — в больнице негде, — и Лера бегала по морозу туда-сюда. И Тришин, которому жена принесла шапку и тулуп, ковылял тоже. Он обрадовался работе, все время улыбался из косматой своей бороды и только осторожно спрашивал про ногу:
— Не повредю?
— Нет, дядя Федя, не волнуйся! — отвечала на бегу Лера. — Не поскользнись, смотри, а так ничего. Срастется, ты еще вон какой молодой!
— Ишшо ничего, — соглашался Тришин. — Ишшо есть маленько…
Соня вышла на работу и тоже возилась в новой операционной, и Лариса помогала, и сестры: и все гордились, что у них будет теперь операционная, и глядели на Леру так, будто она действительно спустилась к ним с небес.
В эти же дни Лера принимала первых больных: мальчишку, которому на льду рассекли клюшкой лоб (и здесь в хоккей играют, чем Иртумей хуже других), старика, который руку зашиб топором, а потом всех запланированных Ларисой старух.
Первой вошла длинная сутулая старуха с долгим желтым лицом. Видать, недобрая и еще немалой силы старуха; но теперь она жалостливо горбилась, охала и старалась петь елейно, как поют все старухи, придя к врачу:
— Дочка, деушка, мне бы к хирургу. Дуська-то сюда мне показала к хирургу.
— Я и есть хирург. Садитесь, пожалуйста. Как фамилия ваша?
Старуха глядела непонимающе.
— Садитесь, садитесь.
— Да как же это? Мне хирурга надо ба.
— Говорю же, я хирург. Садитесь.
— Нет, деушка! — Старуха распрямилась и охать перестала. — Я к тебе не пойду, господь с тобой! Мне ба мужчину-хирурга ба…
— Ничего не поделаешь! — Лера держалась строго. — Нету мужчины…
Еле удалось ей уломать старуху, усадить и выяснить, с чем та пришла.
Другие бабки, хоть и прослышали, какой такой прилетел к ним хирург, тоже входили с опаской и непременно спрашивали: «Деушка, мне ба к хирургу, милочка…»
Зато потом, когда она вырезала первый зоб, мать оперированной, тоже старушка, но крепенькая, круглая, в теплой шали и бархатном жакете, пришла, принесла кусок сала в чистом полотенце и пятерку денег. Она дождалась, пока Лера выйдет в прихожую, и посунулась к ней с подарками.
— Да вы что! — прикрикнула Лера. — Порядка не знаете! Нельзя это! Нам государство деньги платит!
Старуха не испугалась.
— Да ты отведай, милая, отведай, — говорила она деловито. — Государства она государствой, а мы тоже хотим уважение сделать…
— Да нельзя это, бабушка, нельзя! И не люблю я это сало, ей-богу!
— Да как же, деточка, ты ба покушала, вон тощая какая, поправилась ба.
— Ладно, бабушка, некогда мне! — и Лера вышла из комнаты.
Старуха долго обиженно жаловалась сестре Дусе и все-таки оставила ей сало. Денег Дуся не приняла.
— Это уж так заведено, — сказала потом Лариса. — С этим ничего не поделаешь. Мы с Сонькой берем, больных подкармливаем. А то такая обида.
Лера не заметила, как пролетела за делами неделя. В школе, потом в клубе она прочла две лекции по хирургии, приглашала приходить, не бояться. К этому времени операционная была готова, автоклав работал. Мальчишки-школьники сделали полочки, шкафчики стеклянные, как Лера научила, покрасили все белой краской. Больных набралось теперь четырнадцать человек; их надо было кормить хорошо; полдня просидели с Ларисой, калькулировали: на больного в день полагалось расходовать сорок три копейки, а у них выходило по рубль шесть.
— Под суд я с тобой пойду! — сказала Лариса, но потом махнула рукой и так оставила: по рубль шесть.
Все-то им троим некогда было в эти дни, весело и легко. Лариса бегала и суетилась без конца. Соня глядела на Ларису с радостью и сказала как-то:
— Лариса-то, Лариса!..
— Что?
— Ну видишь, какая, а то совсем уж в последнее время…
«Что?» — хотела спросить Лера, но промолчала.
В субботу они отправились в клуб на танцы. За неделю Лера в первый раз не брюки надела, а платье и тонкие чулки. Вот тут она поглядела на иртумеевское общество. В клубе оказалось холодно и пахло угаром от черной высокой голландки, скамейки составили к стенам и на тесную высокую сцену. Играла радиола. Под ногами скрипела ореховая скорлупа и белели расплющенные окурки. Парни толпились и курили в одной стороне; девчата танцевали, скинув на плечи платки и расстегнув шубейки — почти все в коротких овчинных шубейках, и лишь несколько мелькнуло бордовых и зеленых пальто в талию. Когда вошли врачи, шепоток пролетел по залу.
— Теперь неделю только и разговоров будет, что мы на танцы ходили, — сказала Лариса.
Она одна без охоты отправилась в клуб и теперь оставалась недовольна и скованна.
Лера потанцевала два раза с одним парнем, молоденьким, лет двадцати, развязным. На нем сиял голубой, глупый галстук, и блестела над губой щетинка белесых усишек. Он был навеселе, глядел победоносно и все подмигивал кому-то из своих. Когда музыка кончалась, парень приобнял Леру, задержал и сказал:
— Не пушшу вот, а?
Лера подняла на него глаза.
— Ну не пушшай, — сказала она, не делая никакой попытки вырваться и вздохнула равнодушно.
Парень тотчас опомнился, убрал руки.
Да, скучно. Главное, Лера уже тысячу раз видела такие или подобные танцы, таких парней и девчат, слышала эти же пластинки.
— Нет, танцы — это не пойдет, — сказала она, вернувшись от своего кавалера. — Отменили! — Потом огляделась и добавила: — Да, пофлиртовать у вас не с кем.
Лариса усмехнулась. Соня взглянула испуганно.
В дверях, когда выходили, — не больше часа провели в клубе, — столкнулись с Чагиным. Он вел впереди себя, обняв за плечи, девушку в белом платке — Лера узнала ту самую красавицу, что стояла возле вертолета. Ее, как она уже слышала, звали Галей. Чагин задержался, а Галя гордо прошла вперед и обдала их духами, морозом, целым облаком своей красоты, наведенных глаз, накрашенных губ и таким вызывающим взглядом, что смешно стало.
— А, Боб Чагин! — сказала Лера весело. — Персона нон грата!
— Вы что же? — спросил Чагин не очень бойко. — Уходите. А то потанцуем, а?
— Отменили! Интеллекту не хватает.
— Ларис! — сказал Чагин неуверенно.
— Танцуй, танцуй! — Лариса обошла его и толкнула дверь.
— Ларис!
— Приветик, Борис Николаевич! Приходите в «дурачка» играть! — сказала Лера, и они с Соней вышли следом за Ларисой.
За эту неделю Чагин появлялся у них два раза, как будто трезвый, его не поймешь; говорил о Ленинграде, играли в «подкидного дурачка». Чагин наколол им дров, потом сидел на полу перед печкой, пел блатные песни — все грустные и на один мотив.
Еще раз он зашел в больницу поглядеть новую операционную и опять ругал Иртумей и занимался самобичеванием. Лера раскладывала в то утро инструменты в новые стеклянные шкафчики; от шкафчиков еще пахло свежей краской; Чагин сел к столику у окна и, паясничая, вытаращив глаза, разглядывал ножи, зажимы, иглы. Сестра Дуся, молоденькая круглолицая женщина, бывшая в больнице как бы сестрой-хозяйкой, помогала Лере.
— Эскулапство! — говорил Чагин. — Орудия смерти! Работаете, да? А я вот скоро, хирургиня, подохну, тоска по родине — ностальгия. Можно вылечить ностальгию? А то повешусь! Был Чагин — нет Чагина! Отменили! Не вышло у него жить на этом свете, не получилось…
— Ты только руками там ничего не трогай! — сказала Лера и усмехнулась, поглядев на Дусю; та не удержалась и фыркнула, слушая Чагина.
— Помрете, девки исплачутся! — смеясь, сказала Дуся.
— Стеклела бы ты, дева! — отозвался Чагин. — Отменили девок! Я, правда, хирургиня, жить совсем не могу. Не хочется…
— Хватит трепологию разводить, — сказала Лера. — И скальпель положи, а то обрежешься!
— Нет, ну, в самом деле, спроси только себя, зачем здесь жить, зачем? Бессмысленно!.. Да и вообще! Иртумей! Смешно!..
Чагин уже настолько привык к своему шутовскому тону, что не понять было, серьезно он говорит или так — дурака валяет. Лере казалось, что он и хочет всерьез говорить, но уже не умеет — разучился. Поэтому и сама не могла отвечать ему по-настоящему — пошучивала.
— Чем вам Иртумей нехорош? — опять сказала Дуся. — Не деревня — поселок, на реке стоим, пароходы ходят.
— Ду-ся! Золотко! — пропел Чагин. — Дай я тебя поцелую, столичный ты житель!
— Да ну вас! — Дуся отмахнулась.
— Я сама сибирячка, — сказала Лера. — Мне Иртумей не в диковину.
— Вот то-то, что всем нам он не в диковину! А жить нельзя…
— Живут же! Всю жизнь живут.
— Всю жизнь? Нет уж! Лучше сразу хрясь — и все!
— Ну, кто как, — сказала Лера.
— Хрясь, хрясь! — опять сердито передразнила Дуся. — Только и знают…
— Подохнуть надо, подохнуть, — сказал опять Чагин напоследок.
— Ну-ну, — ответила Лора.
Он ушел. Дуся сердито вытерла после Чагина белую табуретку, на которой он сидел.
— Подохнуть еще! — бормотала она. — Этакий мужик, порет невесть чего! Псих! Еще и впрямь удавится, Валерия Павловна, с этим станется. И Ларисе Николаевне-то голову морочит. А все ведь водка…
— Не удавится, — сказала Лера. — Не бойся.
— Еще Галька Глушкова, зараза, клинья под него подбивает, — вспомнила Дуся. — Он с ней в открытую ходит.
— Ладно, Дуся! — сказала Лера. — Поди-ка спроси у Ларисы, не даст она нам еще клеенки метра два-три?
Странно, но теперь ей самой стало неловко перед Дусей за Чагина; в самом деле, здоровый мужик, на нем воду возить — поди объясни Дусе, отчего он такой?
К ночи в субботу, когда они вернулись после танцев и уже легли, за ними прибежала дежурная сестра: с той стороны реки, из деревни Кили, отец-шофер привез мальчика с приступом эпилепсии. Мальчик Сережа, худенький, синий, одиннадцати лет, был очень плох. У него оказалось еще и воспаление легких. Они с Ларисой провели возле него полночи, потом пришла обеспокоенная Соня. Отец хотел ехать назад. Лера велела ему подождать: случай был слишком тяжелый.
Утром Лера с Ларисой пошли спать и встретили Тонгурова, начальника строительства дороги, того самого бурята в мохнатой шапке. Он уже дважды за это время останавливал свой вездеход возле больницы, заходил и спрашивал, нет ли в чем нужды. «Батюшки, что это с ним сделалось!» — удивлялась Лариса, и они с Лерой смеялись. Теперь он пришел пригласить их к себе на вторник, на Восьмое марта. Он стоял у крыльца, подрагивал на выпрямленных ногах и прищуривал узкие глаза, так что они совсем превращались в щелки.
— Что? Куда? — рассеянно сказала Лера. — Вы извините, мы не спали, нам надо выспаться.
У Тонгурова сразу переменились и поза и выражение. Он озабоченно спросил, что Случилось, не нужна ли помощь. Они отказались и быстро отошли от него.
— Нас приглашают по великим праздникам, — объяснила Лариса. — Кажется, это называется «для оживления». Там весь наш бомонд будет, посмотришь…
— Не пойду я никуда, — сказала Лера и заговорила о Сереже: все ли они сделали?
Когда они уже легли, Лариса вспомнила про Тонгурова.
— Как не пойдешь, что ты! Я теперь два дня есть не буду, там такая вкуснятина! Вертолет-то одни твои ящики, думаешь, вез? Правда, бабы все эти, кажется, терпеть нас не могут. Особенно меня, конечно…
— Ладно, спи, — сказала Лера.
Следующую ночь они опять не спали, провели ее в больнице возле мальчика, сделали все, что могли, перерыли все книги, но напрасно. В восемь утра Сережа умер. Соня заплакала и ушла домой, Лера с Ларисой вышли к отцу в приемную. Он спал там, положив голову на подоконник. От тулупа его на всю комнату пахло бензином, машиной. Волосы у него были такие же русые, как у мальчика, и руки похожи — длинные и худые. Ему было лет тридцать пять, не больше. Они постояли с минуту, глядя на него, — как его будить? — потом Лера позвала тихо:
— Товарищ Гайденко…
Он сразу поднял голову, поглядел на них — на одну, на другую. Наверное, целая минута прошла в молчании.
— Мы все сделали, что можно… — сказала Лариса.
Он как будто не слышал и продолжал так же переводить взгляд с одной на другую. И лицом сын был очень на него похож: худощавый, тонконосый. Вдруг губы шофера зло покривились, взгляд стал ненавидящим.
— Эх, врачи! — Он выругался. — Врачи! — И опять назвал их словом, которое значило, что не им бы, девчонкам, людей лечить.
— Пойдем, Лариса, — сказала Лера, и они вышли, а он вдогонку крикнул им, какие они есть врачи.
Днем Лера делала запланированную операцию аппендицита Паше-электрику, а вечером — им нужно было подтверждение диагноза — вскрытие. Лариса пришла ей помогать. Худенький, накрытый простыней труп мальчика лежал лицом вниз. У них не было анатомической пилы. Они попросили Дусю, не впуская ее в комнату, принести ножовку.
— Нам ножки у табурета отпилить, — почему-то сказала Лариса.
Диагноз был верный, они действительно не в силах были ничего сделать, и это хоть немного успокаивало. Лера потом несколько раз мыла руки спиртом — ей все казалось, что они нехорошо пахнут.
Когда пришли домой, там опять сидел Чагин. Лере не хотелось никого видеть, и она приготовилась, если Чагин станет плести свою ахинею, послать его к черту. Но Чагин глядел на них с состраданием, притих и молчал. Крутил регулятор приемника, когда они вошли, — там тихо попискивало, потрескивало, пробивались музыка и голоса. Увидев Леру с Ларисой, Чагин тотчас выключил приемник.
— Включи, пусть, — сказала Лера.
Соня приготовила им чай. Лера с удовольствием выпила горячего черного чаю, одной заварки, а потом закурила, взяв у Чагина папиросу.
— Все-таки, девчата, работенка у вас!.. — говорил Чагин как бы сам с собой, потому что никто не отвечал ему. — Как вы только это умеете?.. Тут руку рассадишь, кровь потечет, и то весь сморщишься. Вот из меня бы, наверное, ни за что врач не вышел. Впрочем, куда мне! Да… — Он вздыхал и говорил все тише и тише. — А все-таки как ни крути… Н-да…
Потом Чагин с Ларисой ушли на кухню. Потом Лариса проводила его на крыльцо. И долго не возвращалась. Лера с Соней легли и уснули, не дождавшись ее.
Следующий день прошел в суматохе: к ним без конца приходили поздравлять с Восьмым марта и приносили подарки. Все время смеялись. Федор Карпыч Тришин доковылял самовольно до дому, вернулся оттуда навеселе и принес в подарок клетку с темно-рыжей белочкой.
— Ишшо молоденькая векша-то, вроде меня, — сказал он Лере, смеясь из бороды.
Вечером, нарядившись, отправились к Тонгурову: он опять приходил, приглашал, отказаться было неловко. Лера сделала начес, несколько раз протерла духами руки, надела свое черное, узкое, без рукавов и с вырезом «лодочкой» платье, завернула с собой в газету длинные, модные, на «гвоздиках» туфли.
— Ну, Лерка! Ну, Лерка! — кудахтала Лариса.
Соня тоже смотрела с восхищением. Лера сама чувствовала, как идет ей платье, какая она в нем тоненькая, и как выигрывают ее светлые волосы в высокой прическе с этим открытым платьем.
— А сама-то! — отвечала она Ларисе.
На Ларисе был шерстяной коричневый костюм, волосы хорошо уложены (Соня целый час трудилась), а на шее крупные темные керамические бусы.
Одна Соня надела черную юбку и зеленую кофту с блузкой, но в последнюю минуту, когда Лера с Ларисой заметили, что она идет в теплых толстых чулках, и накричали на нее, натянула черные Лерины чулки. Натягивала и испуганно глядела то на свои ноги, то на подруг.
— Ничего, ничего, все в порядке, — сказала Лера. — Только я не знаю, зачем это мы вырядились? Разве что для себя…
— Убьем мы их теперь! — закричала Лариса. — Одни трупы к утру будут валяться…
Они не вспоминали вслух о Сереже и его отце, но Лера все время думала и знала, что Лариса с Соней думают то же. «Ну ладно, ладно, хватит! — говорила она себе. — Не в первый же раз. Врач ты или не врач, или, может…» И она вспомнила, как их обозвал шофер Гайденко.
У Тонгуровых в двух больших комнатах, заставленных раскидистыми фикусами, действительно собралось все местное «высшее общество». Были тут строгий краснолицый директор леспромхоза Михайлов, тощий пожилой бухгалтер Ежаков (которого Лера видела в кожаном пальто), главный инженер Чинцов — толстый веселый мужчина, душа общества, остряк, его дочь с мужем Митей, прорабом, и еще жены начальников — все дородные, в летах, степенные женщины, одетые в красные и салатные китайские кофты с вышивкой. Одна жена главного инженера была худощава — сам Чинцов без конца острил насчет ее худобы — и куталась в белую меховую накидку: кажется, это был песец — Лера ничего в мехах не понимала.
Они пришли, когда все были в сборе. Лере, как только взглянула в комнату, тут же захотелось бежать назад, но их встретили радушно.
— Посидим немного и уйдем, — шепнула Лера Ларисе.
— Да-да, — испуганно сказала Соня.
— Вы на стол посмотрите, дурочки! — ответила Лариса и первая смело вошла в комнату.
Да, такого стола Лера в жизни не видела, разве что на выпускном вечере, когда закупили целый зал в ресторане. Откуда что взялось в заброшенном на край света Иртумее. Шампанское, венгерское вино в оплетенных бутылках, яблоки, икра, семга.
— Нет, у нас сегодня не пельмени, извините, — говорила хозяйка. — У нас чебуреки.
Хозяйка, полная красивая женщина лет сорока, очень легкая, живая, когда прищуривала глаза, то напоминала своего мужа, Тонгурова. Все называли ее Саша. Странно, но Лера почувствовала, будто сама чем-то похожа на эту Сашу, это было неприятно, тем более что Тонгуров опять глядел на Леру, поигрывая глазами, был внимателен.
Опять радиола играла те же пластинки, что и в клубе. Леру с Ларисой наперебой приглашали танцевать, и Чинцов, приглашая, расшаркивался и отставлял ножку, а после танца ручку целовал. Женщины шушукались, ревниво оглядывали их наряды, фигуры — особенно Леру. А когда она взглядывала в их сторону, деланно ласково улыбались. Соня не танцевала и прятала под стул ноги в черных чулках. К ней, как Лера заметила, женщины относились с особой предупредительностью. Прораб Митя без конца кричал «минуточку!», все замирали в тех позах, в каких заставал их крик Мити, ярко вспыхивала лампа, а Митя щелкал фотоаппаратом.
Лерино место оказалось между Тонгуровым и Ежаковым. Она чувствовала, что именно ее все молча выбрали королевой вечера, и следовало бы стряхнуть с себя давешнюю тоску, забыться, разойтись, показать этим толстухам «класс», но что-то ее не пускало, она уже взяла другой тон, на губы просилась усмешка. Она поняла вдруг, что вообще давно не веселилась так, как когда-то в институте, — не хохотала до упаду, не отплясывала целый вечер подряд, и внезапно увидела, что жила два года очень напряженной, трудной и серьезной жизнью, занятая одной работой, и что эта жизнь уже наложила на нее свой отпечаток. «Старая стала», — сказала она себе. Ежаков, добрый старик, все показывал ей сломанные и искривленные когда-то, в войну, два пальца на руке и говорил, что врачей он вообще не уважает, а хирургов уважает. Подвыпивший Тонгуров, обратившись к Лере с каким-то вопросом, как бы невзначай положил ей на ногу руку. Платье было обтянуто, и Лера почувствовала, какая осторожная и горячая у него ладонь. Она помедлила секунду, а потом подняла на Тонгурова глаза и поглядела, как на того парня в клубе. Тонгуров совсем спрятал свои глазки, прищурясь, и руку убрал.
Лариса сидела с Митей и Сашей. Саша подкладывала ей в тарелку еду, быстро, негромко говорила. Лариса пожала плечами и вздохнула: наверное, Саша тоже спрашивала о болезнях. Лицо у Ларисы, однако, было розовое и спокойное. Совсем трезвая Соня откуда-то с конца стола глядела на всех с доброй улыбкой. «Милые вы мои», — неожиданно подумала Лера. Ей захотелось поскорее уйти, остаться втроем, залезть с ногами на «Княгиню Ивановну». Пусть бы и Чагин пришел, с ним все-таки интересно. Лера теперь немного стыдилась за себя и девочек, что они нарядились и будто на что-то надеялись, чего-то хотели, идя на этот вечер, стыдно своего платья, своей прически.
Митя, взобравшись на стул, опять кричал «минуточку!», Чинцов в десятый раз острил: «Шпокойно, шнимаю, шпортил!» Лампа ярко вспыхнула, и в ее свете все лица показались Лере уродливыми. Странно, она прежде не умела судить людей и думать о них так, как сейчас думала, и не могла держать себя так уверенно и просто. Может быть, она уже знала теперь цену самой себе и поэтому могла судить и оценивать других?..
В половине двенадцатого прибежала сестра из больницы: привели пьяного с пробитой головой.
Лера просила Ларису с Соней остаться, но те не захотели. Пока они одевались, Лера выскочила на улицу и побежала прямо в «гвоздиках» по скользкому тротуару. Шел снег, и где-то вовсю горланили: «Бродяга Байкал переехал…»
Голову пробили огромному детине Васюку, лесорубу, рана была большая. Лера обрабатывала ее два с лишним часа; казалось бы, десять раз надо потерять сознание, а Васюк только покряхтывал и вновь рассказывал Лере, как он троих повалил, а четвертый-то, паразит, с кирпичиной набежал.
— Кабы я шапку-то не обронил, — жалел он, — то бы и ничего…
— Да молчите вы! — приказала Лера. — Нельзя вам говорить, у вас сотрясение, может быть.
— Натуральное сотрясение, — шутил Васюк. — Кирпичина-то, знаешь, какой…
Кроме Васюка, поступила потом еще одна жертва веселья — с ножевой раной в боку, — тот самый парень, который танцевал с Лерой в клубе. Звали его Гешка Малых. Рана пустяковая, скользящая, только кожа вспорота, и держался парень храбро и никак не хотел штаны снимать.
— Это я сам напоромшись, — твердил он. — Сам, слышь!
Он опять был выпивши, и тот же галстук голубой на нем, и усишки блестели.
— Какого черта сидишь! — закричала Лера. — Ну-ка, живо! «Напоромшись»!
Вместо запланированных безобидных и спокойных старушечьих зобов и фурункулов пришлось обрабатывать настоящие раны — вот тебе и Восьмое марта!
А прямо из лесу, с лесоповала, доставили еще одного надорвавшегося на работе — там два дня прогуляли, а потом аврал пошел, — вот этот Малинин и надорвался. Ох уж Лера и честила этого испуганного, одуревшего от боли мужичонку и тех, кто его привез!
Потом, когда мужичонка потерял сознание, она спохватилась — и вовремя! Случай оказался ужасный: желудочное кровотечение, резекцию делать нельзя — человек исходит кровью.
— Малинин! Малинин! — кричала Лера над его земляного цвета, заросшим щетиной безжизненным лицом.
На секунду почувствовала растерянность, вдруг поняла, что и этот вот сейчас, через час-два, может умереть.
— Ну, нет!.. — крикнула она со злостью, и сестра Дуся отпрянула от нее.
Лариса находилась тут же. Лера взглянула на нее, та все поняла, и лицо у нее дрогнуло:
— Неужели, Лер?
— У тебя какая группа? — быстро спросила Лера, не отвечая.
— Вторая.
— У него тоже. Хоть бы немного, а?
— Давай, конечно, — и Лариса стала тут же снимать халат.
— Ой, Лариса Николаевна! — запричитала было Дуся, сообразившая, что Лера будет делать переливание крови. — Ой, что ж это, а?..
Лера глянула на нее — Дуся осела.
Опять целые сутки провела Лера возле этого Малинина. Переливание крови пришлось делать второй раз. Но уже ясно было, что спасли, спасли!..
— Ай да Иртумей! — говорила она Ларисе. — Ай да райский уголок!
Лариса лежала дома, Соня без конца поила ее чаем, а на приемнике стояла ваза с яблоками, которые прислал Тонгуров. Лариса смеялась и рассказывала Соне, как Лера ругалась, когда привезли Малинина. Лера чувствовала себя победительницей.
А через несколько дней Малинин, которому не давали ни есть, ни пить, добрался до графина с водой и выпил его почти весь — хорошо, что Лера была в больнице. Она вбежала, увидела, как его рвет, его ошалевшие, глупые глаза и стала его бить, просто схватила и стала бить кулаками, не разбирая, и сама заплакала от ярости, и ругалась не хуже того шофера Гайденко.
Прошло недели три, прежде чем у Леры появился первый пустой день, затем второй, третий. Она знала, что рано или поздно так будет, что ж поделаешь. Выписались Тришин и Паша-электрик, сам ушел из больницы Васюк, Гешка давно уже по всему поселку выдирал рубаху из штанов, показывал, приотлепляя марлю, шов и хвастал:
— Красиво заштопала, а? На память Геше от Леры! Я с ею ишшо танцевал тогда, помнишь?..
Три-четыре дня подряд было много больных у Сони: женщин с лесоповала и строительства дороги, Лера помогала ей, но потом и здесь делать стало нечего. Она действительно, как предсказывала Лариса, принимала теперь всех больных, дежурила и даже пошла однажды к «будкам»: высматривать, у кого грыжа.
Она по привычке рано вставала, отправлялась вдоль реки на лыжах — должно быть, здесь действительно хорошо летом, в жаркий день, — или, наоборот, лежала, читала: для лыж погода слишком холодная, ветреная. В Иртумеевской школе оказалась неожиданно большая библиотека — из тысячи книг, которые собрали по всей стране для великой сибирской стройки, многие разослали потом по местным библиотекам и школам. Она взяла «Сагу о Форсайтах», там стоял штамп их медицинского института. Может, эту самую книгу она читала на первом курсе?
По улице мимо дома шли «будки» или тяжело громыхал трейлер, потом бежали в школу дети, ехал кто-нибудь на санях, и слышалось повизгивание полозьев, мягкие удары копыт и фырканье лошади. Дяди Федина белочка, которую они принесли домой и поставили на шкаф, уютно пощелкивала орешками и прыгала в деревянной клетке, стуча коготками. Они называли ее Векша.
Лера читала о прекрасной и сильной любви, а потом откладывала книгу и думала о себе. Она бы не могла так любить, у нее не хватило бы времени, сил и, главное, веры. И вообще ей казалось, что так сильно и красиво любят все-таки только в книгах. Она вспоминала свою, пережитую ею любовь, которая тянулась три года, еще в институте, от которой остались теперь только стыд и горечь, — нет, нет, и вспоминать не стоит! Он был преподавателем у них в институте, очень скоро Лера стала тяготить его, он испугался, когда увидел, что это любовь, а не просто так…
Потом Лера быстро одевалась, в доме стоял холод, шла к сараю колоть дрова, не жалея теперь рук, топила печь. Завтракали и ужинали дома, а обедали в больнице, там все равно готовили для больных, и они тоже вносили деньги за обед, чем вызывали большое удивление у Дуси.
Лера чувствовала себя теперь как в отпуске, и, как обычно во время отпуска, томилась от скуки и не знала, что делать.
Ей пришло в голову, что она есть самый типичный узкий специалист: у нее только работа и работа, а если отнять работу, что останется?.. А с другой стороны, ни в каких клубных танцах, книгах, в этой праздности тем более она не находит того, что находит в работе, и все ей неинтересно. «И ведь я не какая-нибудь одержимая, — думала она. — Но все равно».
Как-то утром за нею заехал на вездеходе Тонгуров, он обещал показать ей свою рокадную дорогу. Он застал Леру, когда она несла охапку дров в дом, увидел топор, ее разгоревшееся лицо, нахмурился и сказал, что как же так, мол, они сами колют дрова? Лера хотела ответить, что Лариса с Соней две зимы сами колют себе дрова, что ж он раньше не заметил, но промолчала. (На другой день пришли двое рабочих, напилили, накололи и чинно сложили дрова в сарае.)
На вездеходе Лера поехала, ей хотелось посмотреть знаменитую дорогу. Очень нравилось ей это военное название: рокадная. Но это была, конечно, не специальная военная дорога, а обычная — узкий путь в тайге из оструганных, как шпалы, и плотно пригнанных, лежащих поперек бревен. В иных местах дорога поднималась над землею, на сваях, как мост. Она оказалась красивая, эта дорога, как и ее название. Они ехали не меньше часа, прежде чем добрались до строителей. Лера сидела рядом с водителем, Тонгуров сзади; показывая и объясняя ей, что к чему, он почти клал свой подбородок Лере на плечо. От него пахло одеколоном, и этот запах вызывал у нее представление, как он собирался нынче утром, брился, а красивая быстрая Саша, наверное, еще не причесанная, полуодетая, готовила ему завтрак, кормила и, может быть, проводила его в прихожую, и он поцеловал ее, уходя, в теплую щеку. Она так и видела их обоих в этой большой комнате с фикусами.
Но все-таки было ей весело, вездеход упорно и быстро шел вперед и оглушительно, как вертолет, рокотал — Тонгурову почти все время приходилось кричать. На елях и лиственницах красиво лежал снег, и хотя солнце не появлялось, но день выдался светлый, безветренный, а в вездеходе и вовсе было тепло.
На участке они зашли в будку мастера, в крепенький, из темных бревен домик на толстых, заметенных снегом полозьях, с флажками и красным плакатом над дверью. А на самой двери прикололи листок-«молнию»: на одной стороне цветными карандашами неумело нарисованы три румяных богатыря, вздымавшие кирки или молоты; от их фигур валил пар, и крохотный дед-мороз испуганно убегал в сторону; сделанная красным карандашом надпись сообщала: «Силуянов, Флянгольц и Чижиков зарабатывают доверие так!» А на другой половине листка был изображен спящий под настилом дороги красноносый человек без шапки, в обнимку с огромной бутылкой. На бутылке, чтобы ни у кого не возникало сомнений, отчетливо вывели: «Водка, 40°». А надпись, уже черными буквами, гласила: «А Чагин вот так!» Тот же дед-мороз дул на Чагина изо всех сил. Бедный Чагин!
Лера зашла погреться, а Тонгуров на улице кричал на прораба. И после того как она целый час слышала его мягкий, ласковый голос, ей было неприятно теперь, как он резко и грубо кричит с неожиданно сильным акцентом: «Тэбэ в дэрмэ копаться, а нэ дорогу строить! Болван!»
Лера подумала, что, в сущности, не знает Тонгурова, его жизни и всех подобных ему, кого она видела на Восьмое марта: они прожили другую, не похожую на нынешнюю жизнь.
Потом Тонгуров с прорабом уехали дальше в лес, а Лера осталась в будке одна. Расстегнувшись, грелась у жаркой, с красными боками железной печурки и думала о Чагине, и Ларисе, и опять о Тонгурове, его жене, о себе.
Она ожидала увидеть здесь Чагина, но никто в течение полутора часов не появлялся. Только заглянула круглая, закутанная, с очень красным лицом девушка, увидела Леру, вскрикнула «ой» и скрылась.
На обратном пути, видя, что Лере понравилось, Тонгуров уговаривал ее насовсем остаться в Иртумее, уверял, что они запросто уладят это с райздравом, а если надо, то и с облздравом: все равно хирург нужен в больницу. Голос его опять был мягок, и глаза поигрывали.
— Вы лучше стоматолога себе просите, — сказала Лера с усмешкой. — Вашим старухам зубы лечить некому.
Она оттого усмехнулась, что ей хотелось сказать: «Не болтай, начальник, зачем я тебе насовсем-то?..»
Поездка ее, однако, развлекла, весь день у нее оставалось потом хорошее настроение, и вечер они тоже провели прекрасно. Вечером они, во-первых, отправились втроем к Дусе, в баню. Дуся жила на том краю поселка, их крепкий высокий дом стоял над самой рекой, семья была большая: мать, отец, брат Дуси с женой, двое их детей и еще две младшие Дусины сестры. Они чинно посидели в красном углу, под иконой, в огромной чистой горнице с желтым крашеным полом, поговорили со стариком, пока Дуся и ее невестка Зоя бегали во двор к бане и обратно, изо всех сил стараясь сделать все самым лучшим образом. Дуся, видимо, заразила всю семью своим благоговением перед Ларисой, перед врачами, а теперь и перед Лерой. Надо сказать, что Лера вообще чувствовала в последнее время по отношению к себе сестер, больных и даже самих Ларисы и Сони, что она стала как бы старшей в больнице. Ларису и Соню в доме уже знали, но встречали все равно торжественно, чуть не с поклонами.
— Ты у нас узнаешь настоящую баню! — несколько раз шепнула Лариса.
— А то я не сибирячка, — отвечала Лера.
— Ты узнаешь, узнаешь! — повторяла Лариса.
Соня молча улыбалась.
Баня была чистая, выскобленная до желтизны, с низким потолком — Лариса едва не доставала до него головой, — но не черная; было светло от двух ярких керосиновых ламп, крепко пахло теплом, жаром, можжевельником, стояли белые эмалированные тазы и светлые новенькие ведра. Дуся постеснялась идти с ними, только забегала, заглядывала; но потом они ее заманили своим визгом, хохотом, криками о помощи, и вчетвером они уже едва поворачивались в тесной бане. Какие они были разные, какие молодые! Тела их мокро и чисто блестели, мокрые волосы падали на лица, в пару мелькали руки, спины, груди. И Лариса была краше всех — с полными белыми ногами, с мягкими плечами, красивой шеей. Леру за самую тонкую талию выбрали «мисс Иртумей», повесили ей мочалку через плечо, а из намыленных волос сделали высокую, под потолок, прическу. Дурачились, как маленькие. Лариса кричала: «Душно, помираю!» — и валилась на пол, Соня, схватившись за живот, сползала от хохота с лавки. Лера хлестала Ларису веником и выкрикивала:
— Хрясь! Хрясь! Вот тебе, вот! Чтоб дурой не была, идиоткой не была! Чтоб соображала!..
Потом Лера забралась на полок, командовала оттуда:
— Дусенька, поддай! — и рычала: — Ну, кто узнает баню, кто узнает?
Они мыли головы талой водой, они плескали на каменку квасом, они выскакивали на мороз и валялись в снегу — Лариса с Лерой, потому что Соня никак не хотела выбегать нагишом из бани. Высокая и розовая Лариса вставала потом на пороге с лепешками быстро тающего снега на плечах, и Лера, как бы падая в обморок при виде ее, выкрикивала:
— Где Рубенс, господи, где Рубенс?!
— Что Рубенс! — разудало отвечала Лариса. — Где хоть кто-нибудь?
— Что-о?! — Лера опять угрожающе хваталась за веник, и все снова хохотали.
Ужинали они у Дуси, пили чистую хмельную брагу цвета топленого молока, ели розовое, с мороза сало и такие пельмени, каких Лера давно не пробовала. В доме чисто, тепло и пахнет чистым: все за столом глядят на гостей с радостью, стараются угодить и вроде жалеют их, что они, такие молодые, красивые, образованные, живут здесь бездомно, бессемейно, спят кое-как, едят кое-как и даже в баню-то должны ходить в чужую.
— А ведь как же ваши отцы-матери-то, живы ай нет? — спросила Дусина мать, на вид совсем старуха, но высокая, с плоским сильным телом, очень чистая и в чистом платочке; глядя на нее, не верилось, что меньшей, девочке, Дусиной сестре, только двенадцать лет.
— Живы, а как же!
И они рассказали, что у Леры и Ларисы родители живут в городе, и квартиры у них есть, а у Сони — в деревне, и тут же между собой стали вспоминать, как ездили в одно лето к Соне в деревню целым кагалом, после второго или третьего курса. И они не могли уже вспомнить, после какого именно курса, и заспорили.
— Ах ты, господи, господи, что делается! — вздохнула мать Дуси. — Ведь молоденькие вы ишшо какие…
— Где там, — сказала Лера весело, — У нас уже все позади!
Дома они продолжали дурачиться, завесили поплотнее окно и прыгали кто в пижаме, кто в рубахе по кровати. Лариса плясала на столе, высоко задирая подол, по приемнику поймали твист в самом бешеном ритме, падали в изнеможении от хохота, и «Княгиня Ивановна» пораженно трещала. Векша металась по своей клетке в полном исступлении.
— Ой, девочки, ой, умираю! — то и дело кричал кто-нибудь из них.
Взглянули бы теперь на своих строгих озабоченных врачей иртумеевские старухи, иртумеевские дамы или, не дай бог, райздравское начальство!
Они не отпустили в этот вечер Соню на сундук и уснули втроем, обнявшись, — прекрасный вышел день!
А следующий вечер был совсем другой. Явился Чагин в красном шарфе, стал вытаскивать из карманов бутылки.
Лариса зло сказала еще в прихожей:
— Что тебе здесь нужно?
Чагин опять был пьян. Он пытался взять Ларису за руку и говорил:
— Прости, меня, Галя… то есть, тьфу, черт, Лариса… Ты прости меня, я дрянь и больше ничего…
И еще раз он оговорился и назвал Ларису Галей. Лариса, кажется, вот-вот готова дать ему пощечину.
— Уходи отсюда! — сказала она. — Я не хочу тебя видеть. Ступай к своей Гале, пей с ней!
— Ларис, прости, — твердил он, чуть не становясь на колени.
— Тогда я уйду! — крикнула Лариса и выбежала, схватив пальто.
Соня пустилась следом. Это была уже настоящая ссора: Лариса, такая сдержанная, вдруг кричит, чуть не плачет при всех, убегает. Лере даже не по себе стало, что она присутствует при этой сцене.
— Ты бы уходил, в самом деле, — сказала она Чагину.
Он плюхнулся на стул у дверей, сгорбился и бормотал:
— Черт, тоска, не получается ничего… Я все про себя понял. Понимаешь, вот вдруг взял и понял. Я лишний человек. Онегин — лишний человек, Печорин… Кто там еще? Вот и я так. Серьезно. Не усмехайся, в России всегда были лишние люди…
Вчера еще Леру позабавило бы такое признание, сейчас же Чагин раздражал ее. Она думала, что девчонки, и она сама тоже, слишком цацкаются с Чагиным, как с маленьким, все прощают ему, привыкли, что он такой, а это ведь все напускное, за этими шуточками и расхлябанностью должно же быть что-то… «Ты не думай, он не такой», — сказала Лариса. Какой же? Лера его еще другим не видела. Главное — Ларису жалко, мучается из-за такого охламона.
— Я горжусь, думаешь? — продолжал Чагин. — Я не горжусь! Паралича́! — теперь это свое «паралича́» он выговаривал с насмешкой над собой, с иронией. — Или Галька мне, что ли, нужна? Чепуха! А что делать-то тут? Ну? Пусто ведь, пустыня.
— Сам-то ты пустыня, — сказала Лера. — Напустил дурь на себя, слушать противно!..
— Это точно! — подхватил Чагин. — Это ты верно! Пустыня я, лишний человек, я ж говорю… Пустыня! Это ты железно… Нету ничего. Я за двадцать семь лет не сделал ни черта, никакой пользы, понимаешь? Даже никакой табуретки не сбил. Хорошо это? Нехорошо. От меня один вред, точно! Отца с матерью несчастными сделал, жене жизнь испортил, а баб сколько… Э, что говорить! Думаешь, я добрый, да? Нет! У меня сын есть, в Ленинграде. Знаешь, сын у меня, маленький еще, три года, Андрюшка. Я ему за два года копеечки не послал, поняла?.. Галька! Зачем она мне, Галька! Так просто, тоска… Не понимаете вы ни черта!..
— Где уж нам! Иди, Чагин, иди… А вообще мог бы подумать о Ларисе, в какое ты ее положение ставишь… Да и сам тоже! Не надоело? Над тобой же все здесь смеются… — Лера вспомнила Дусю, плакат, прибитый на избушке в лесу.
— Здесь? — Чагин поднял лицо, засмеялся. — Здесь! Эхе-хе-хе!
Лера не хотела больше с ним говорить, рукой махнула.
— Вам хорошо, — сказал Чагин, — вам что! Вы в чужих кишках ковыряетесь, о геморрое весь вечер можете разговаривать и довольны! Счастливы! А я, конечно… Я зачем тут нужен, в этой дыре собачьей? Никто здесь не нужен. Волк с медведем здесь нужен! Смеются! Ах, ты!..
— Я ухожу, — сказала Лера.
— А ее я люблю, — вдруг сказал Чагин, не слыша Леру. — Она не верит, а я ее люблю… Хотя… все зола, конечно!.. Но больше у меня ничего нет. Если б не Ларка, я б давно уже!..
Лера опять махнула рукой, оставила его и тоже пошла искать Ларису. «Любит! Хорошенькая любовь! — думала она. — Лучше не надо ничего».
Лариса с Соней сидели в пристроечке, возле автоклава. Лариса плакала и говорила:
— Не надо, девочки, уходите, дайте мне одной побыть, не надо…
У нее стояла такая тоска в глазах — сердце сжималось. «Он тебя любит», — хотела сказать Лера, но не сказала.
Надо бы сделать что-то, обнять, помочь. Но как поможешь, чем? Куда легче помогать людям ножом: вскрыла, увидела, вырезала. А здесь что? Как ей помочь? Ларисе, Соне, даже этому неприкаянному Чагину? Ему ведь тоже не сладко, если разобраться: у них хоть работа, а у него что?
Она не умела утешать и не нашла ничего лучше, как сердито крикнуть:
— Да перестань, в самом деле! У него истерика, у тебя истерика. Нельзя же!..
— Да, да, я сейчас. Идите, я сейчас… — ответила Лариса, а Соня вобрала голову в плечи.
Они с Соней немного посидели молча и ушли, оставив Ларису одну, по дороге Соня вдруг всхлипнула.
— Носатик, ну ты-то что, ты-то зачем? — сказала Лера.
Она испугалась, что Соня сейчас тоже станет говорить, что измучилась, что ей надоело. Но Соня не сказала ничего, только поглядела на Леру, и выражение было точно такое, как у Ларисы.
Иртумей стоял тих, темен, и дома за глухими заборами, казалось, нарочно уснули пораньше — им все равно, им безразлично, что с Ларисой, Чагиным, Соней, есть они или нет. А может, Чагин в чем-то прав? Что здесь за жизнь? Ни семьи, ни театра, ни друзей, одна работа, работа, работа… А у Чагина и того нет, чем ему жить? Вот он и бросается. То то, то это, а в сущности, все пустое.
Они вернулись домой и еще из прихожей внезапно услышали крик Чагина:
— Не командуй! Привык, понимаешь! Тебе лишь бы помалкивали да вкалывали — и все! Отменили! Отменили, понял?
С кем это он?
Они бросились в комнату. Чагин сидел на кровати с бутылкой и стаканом в руках, а за столом стоял Тонгуров без шапки, лицо красное. Он подался над столом к Чагину, стукнул кулаком и тоже крикнул с неожиданно сильным акцентом:
— Соплак!
Увидел Леру с Соней, сдержался, но так же зло повторил:
— Соплак! Плэсэнь!
Лере показалось, что и на них Тонгуров взглянул недобро.
— Что вы, что вы? — говорила, суетясь, Соня. — Борис, что ты?
Чагин пытался засмеяться, губы его нервно кривились, в глазах горела ненависть. Борода казалась чужой, приклеенной, из нее выступало его узкое, еще мальчишеское лицо.
— А! Плевал я на твои приказы вместе с тобой! — сказал он. — Отменили!
Тонгуров через силу улыбнулся Лере и вышел, надевая шапку. В дверях он презрительно оглянулся на Чагина: мол, ничего, с тобой мы еще поговорим. Лера вышла за Тонгуровым и извинилась. Он простился сухо, но дал понять, что понимает: Лера не виновата, она не может иметь к этому никакого отношения. В комнате Чагин продолжал выкрикивать:
— Он мне приказывать будет, как жить! А самому что бревно, что человек — один черт!
Лера вернулась и набросилась на Чагина.
— Что ты тут устраиваешь? Нализался? Что ты орешь? Он неплохой человек! Все ищешь, на ком зло сорвать?
— Не говорите мне «орешь», — неожиданно мирно и в своем шутовском тоне сказал Чагин. — Я не могу, это грубо. Вам, хирургиня, он, может, и неплохой, потому что вы ему, так сказать… А нам…
— Пошляк! — сказала Лера.
— Подонок, подонок, — согласился Чагин, — как есть подонок, но только не сволочь, поняла? — Он стал наливать из бутылки, и горлышко стучало по стакану. — Туня я — и все!
— Да какой ты туня, нашел тоже маску, прикрылся! — крикнула Лера.
Господи, неужели только вчера был этот безмятежный, веселый день, думала она, красивая дорога, тайга, Дусина баня, а сегодня такие нервы, тоска — глаза бы не глядели. И будто один Чагин виноват. Так бы и ударила.
А еще через два дня Чагина привезли днем в больницу: на участке разгружали машину с бревнами, бревна раскатились, Чагин не успел отскочить, его ударило по боку, по ногам, ободрало, ушибло, вывих стопы, но можно считать, хорошо отделался.
— Счастливчик! — сказала ему Лера.
— Это точно! — Он согласился. — Кусками просто счастье наваливается. Позови Ларку, а? Пусть посидит хоть возле больного.
— Может, тебе Галю еще позвать?
— Можно и Галю, только не сразу, ладно?
— Эх, Чагин, Чагин!..
— Вот и я себе, знаешь, все время говорю: «Эх, Чагин!..» Ты позовешь?..
— Я скажу, если захочет…
— Скажи, я очень прошу.
Лера сказала Ларисе. Та хмуро и молча выслушала, и Лера подумала, что она не пойдет к Чагину. Но вечером, заглянув в палату, увидела: Лариса сидит на табурете у него в изголовье, Чагин, приподнявшись, полусидя, тихо говорит ей что-то, усмехается. «Ах, дуры мы, бабы!» — сказала себе Лера и пошла домой одна.
А еще через несколько дней она опять ехала по рокадной дороге на вездеходе, но уже по другому ее отрезку, в деревню Сходенку, в сумерках, в пургу. Из Сходенки за нею пришел этот вездеход. Ворвался в больницу огромного роста мужик с широким лицом, в тулупе и длинноухой шапке.
— Девушки, сестрицы! — закричал умоляющим голосом. — Доктора нам! Скорее! Жена помирает!
Лера только что закончила операцию. Она вышла в фартуке и желтом халате, на которых остались кровавые пятна, в перчатках, лишь сдернула вниз маску. И она помнила, что во время операции кровь брызнула ей в лицо, и, наверное, теперь на маске и шапочке тоже пятна. Она остановилась в дверях, и они встретились глазами с приехавшим — тот взглянул ошарашенно. Лера поняла, что там действительно плохо.
— Размываться! Быстро! — бросила она. — Клава, со мной!
Клава была теперь ее лучшая сестра.
И вот вездеход рычал изо всех сил, пробивал сильными белыми лучами снег, бились на стекле «дворники», и водитель, молодой парень в армейской шапке и бушлате, с силой давил на рычаг и совсем прилипал к окну, вглядываясь в дорогу.
— Почему по рации не вызвали? — кричала Лера Аршинову — так звали приехавшего в тулупе.
Аршинов поднимал ухо у шапки и кричал в ответ:
— Чего?
До него не доходило, о чем спрашивают. Он только время от времени понукал парня:
— Давай, Сергуня, давай!
Сергуня отвечал за него:
— Там вызывают! А мы пока поехали, верней дело-то!
— Как она там? — спрашивала Лера, и Аршинов опять чевокал, а Сергуня говорил:
— Плохо, видать, скорчило всю, женское чего-нибудь.
— Ты давай, давай! — шумел Аршинов.
— Давай на Курском вокзале колбасой подавился! — отвечал Сергуня и опять прилипал к стеклу.
Скоро совсем стемнело, они ехали уже больше часа. На каком-то месте Сергуня сполз правой гусеницей с дороги, тут же вырвался обратно и вдруг выругался:
— Костыля́ тут увидишь, ежа́, падла, увидишь!
Лера засмеялась и крикнула:
— Паралича́!
— Богучанская, что ль? — спросил Сергуня, глядя на нее, как на родную.
— Вроде того, — ответила Лера.
Она вдруг успокоилась и решила, что все будет хорошо.
Ночь эта, однако, вышла страшная — может быть, первая такая в ее жизни. Они ворвались в Сходенку. Леру ввели в старую, низкую, грязную избу. Света нет, запах тяжкий, на печи возятся, не спят человек шесть детей. Босая старуха сидит на полу возле кровати и причитает в голос:
— И-и, Мареюшка, и-и, красавица ты наша, и-и, что же над тобой исделали!..
Женщина лет тридцати пяти, большая, видно, высокая, с косой, лежала ничком поверх кучи сбитого тряпья, одеял, на синей, без наволочки, подушке, руки зажаты под животом. На ней рубаха, кофта и черные толстые носки.
Лера быстро осмотрела ее, спросила, что, где, как, — по-видимому, острый аппендицит.
— Спокойно, милая, спокойно, — сказала она женщине обычные слова. — Сейчас все будет хорошо, потерпи.
Везти ее, однако, нельзя, и Леру брало сомнение: аппендицит ли?..
— Стол, свет! — скомандовала она.
За это время в избу набились еще бабы, совсем близко посунулся сухой дед с желтой бородой, с красными, слезящимися глазами.
— Всем уходить, всем! — скомандовала Лера. — Воды! Клава, стол! Стол! — и сама взялась обеими руками за грязный стол, на котором оставались миски, черный чугун, остатки еды, и пошатала его. Стол был крепок.
К нему подставили еще ножную швейную машину, и через сорок минут Лера начала операцию…
Когда она поняла, что это и аппендицит и внематочная беременность, она потребовала к себе Аршинова и Сергуню, не впуская их, велела вызвать по рации Иртумей и срочно ехать за доктором Гусевой — за Соней.
Было десять часов вечера, начало одиннадцатого.
Но Соню она ждать не могла: тут каждая минута была дорога: Маша Аршинова, красавица, здоровая, сильная, молодая, умирала. Она второй час была без сознания.
— Продолжаем, Клава! — сказала Лера.
Ей хотелось спросить сестру, выдержит ли, не устала ли, но сама была собранна, чувствовала себя напряженной и сильной. Голова ясна, и каждое движение такое, как она хотела, — ни страха, ни робости. И она уверена, все получится, хотя операция тяжелая. Она ни о чем не спросила, только объяснила коротко, что будет делать, и Клава поняла.
И вот снова — разрез, салфетки, похрустывание зажимов, отрывистые приказания, уколы, уколы… И время от времени она подставляет лицо, и Клава стирает ей тампоном пот с бровей. Как это было трудно. Пришлось сделать второй косой разрез — у Маши останутся теперь на животе два шрама, два шрама от одной ночи. Но все равно она будет жить, у нее будут эти шрамы, но все заживет, зарастет, у нее будут эти шрамы — не беда, только так, лишь бы она выдержала до конца, приедет Соня, привезет кровь, сыворотку, все будет хорошо, только шрамы останутся.
Они отгородили стол и операционное поле марлей. Лера уже больше часа, наверное, не видела лица Маши. Она только поглядывала на Клаву, на ее глаза над маской — Клава держалась.
Когда приехала Соня, операция была закончена. Лера и Клава, еще в халатах, пили в стороне у печки молоко с черным тяжелым хлебом. По избе уже ходила старуха, с ужасом глядя на стол — там еще лежала Маша, — на кровавые простыни, на таз, полный кровавой ваты и марли, на страшные инструменты, которые теперь не блестели, а лежали мутные от запекшейся на них крови. Лера слышала, как подошел вездеход (окна в избе завешены), и слышала голоса в сенях, голос Сони — Соня уже входила в дом, — но все это как в тумане. Она устала и даже не поднялась Соне навстречу.
Соня в полушубке и ушанке вошла, поставила чемоданчик, взглянула на больную, поняла, что все закончено. Лере показалось, она не видела Соню несколько дней.
Потом они еще с полчаса провели возле Маши, сделали несколько уколов. Вездеход рокотал на улице, и Сергуня заходил, спрашивал, поедут ли назад. Кто-то должен был остаться. Клаву жалко, и Соня вызвалась сама, сказала, что побудет. Лера с Клавой уехали. Метель мела вовсю, опять бились на стекле «дворники», висел на рычагах Сергуня. Лера чувствовала себя опустошенной, хотела и не могла спать. «За месяц одна такая операция, — говорила она себе. — Ничего особенного, что уж я рассыпалась? Все-таки нельзя так, нельзя, сколько меня учили, нельзя так близко к сердцу принимать, ни черта из меня не выйдет, если я так буду!..» Только теперь она понимала, как жалко ей было Машу, как она страдала все эти часы вместе с ней, думала о ее доме, детях, об этой несчастной старухе и потерянном Аршинове. «Все-таки молодая я еще, наверное, неопытная. С настоящими хирургами так, должно быть, не бывает».
Они возвратились, зашли в больницу. Сергуня развернулся и тут же уехал, хотя его оставляли ночевать и накормить обещали. Было без десяти три, но Лариса их ждала, не спала, и Чагин, одетый в больничный халат, с палочкой, сидел с нею в ее крошечном кабинете. И опять Лере показалось, что она очень давно их не видела, что они изменились, и больница изменилась, и кабинет Ларисы сделался меньше обычного. Ничего не произошло, а как будто произошло. Что же?
Она посидела немного с ними, рассказала о Сходенке; надо бы идти домой, но лень было даже одеться. Она пошла в приемную и легла там на кушетке.
Сквозь сон слышала: хлопала дверь, кто-то пришел, говорили о тревожном, различала голоса Ларисы и Чагина, но не могла заставить себя проснуться. Опять рокотал вездеход. Потом Лариса села рядом, осторожно, потрясла ее за плечо и сказала: «Лер, Лера!» И по ее тону Лера поняла, что и на самом деле что-то нехорошо.
— Что? — спросила она, не открывая глаз. — Маша?
— Я не хотела тебя будить, — сказала Лариса. — Соня уже полчаса вызывает тебя по рации. Умирает Маша…
— А!.. — сказала Лера и выругалась.
Открыв глаза, увидела Ларису, Чагина, стоявшего напротив и опиравшегося на палку, заспанную Дусю, которая вышла из кухни с термосом. Действительно, на улице рокотал вездеход, в прихожей было натоптано. Лера стала быстро собираться. Лариса ходила за нею следом, не отпускала, говорила, что Лера не сможет ничего сделать, у нее нет сил, так нельзя, но тем не менее у нее все было готово, чтобы ехать, все собрано, уложено, и вот даже вездеход — теперь уже другой, тонгуровский — стоял у крыльца, и Дуся положила в кабину термос с кофе, бутерброды. На сиденье лежали тулуп и две тощие больничные белые подушки. Лариса хотела ехать тоже. Лера накричала на нее, сказала, незачем.
Лариса и Чагин вышли на крыльцо. Лера уже не хотела спать, вдруг почувствовала себя свежее, только подрагивала. Чагин глядел на нее, как показалось, испуганно. Она хотела что-нибудь сказать ему, но что? Не до него.
— Иди, иди, ложись спать, не волнуйся, — сказала она Ларисе.
Лариса обняла ее и прижалась щекой к щеке.
— Ну смотри там, Лер, ни пуха.
— Да, да, к черту! — сказала Лера бодро и усмехнулась. — Я сегодня как на фронте…
Чагин сделал было движение к ней, будто хотел что-то сказать, но потом остановился, плотнее запахнулся в халат, сжался, Лера уже из дверцы махнула им рукой, чтобы уходили, не стояли на холоде.
И вот снова рокадная дорога, рев и лязг гусениц, и уже рассветает в тайге, и пурга унялась. Только жалко, Сергуни нет. Как это он сказал: «Костыля́? Ежа́?» Лера роняла голову, дремала — она не легла, а села опять впереди, закутавшись в тулуп, — потом ее подбрасывало, она просыпалась и видела перед собой то бороду Чагина, то глаза Ларисы, то избу в Сходенке, где лежит Маша… Что же Маша, что там с ней, как же это?.. И она опять говорила водителю, которого стеснялась, потому что это он возил ее с Тонгуровым и был свидетелем, как Тонгуров кокетничал с нею, а она с ним, — она говорила пожилому водителю:
— Быстрее, пожалуйста! Быстрее!..
Он не отвечал. И ей чудилось, что вездеход идет медленно, хотелось выпрыгнуть и бежать бегом.
Она вошла в избу Аршиновых, и ей все здесь показалось знакомо до мелочей: и печь, и кровать, и стены, а Машу она, казалось, знает сто лет. Маша, покрытая одной простыней в бурых пятнах, все так же лежала на столе, голова ее приподнята, коса свешивалась почти до пола. Лицо серо-зеленое, уже неживого цвета. Соня бросилась к Лере:
— Крови нет, крови нет…
— Погоди! — остановила ее Лера.
Раздеваясь, она продолжала глядеть на лицо Маши. Нет, нельзя было, чтобы она умерла, эта женщина! Вот нельзя — и все!..
И они бились с Соней два часа, а старуха плакала в голос за печкой, и Аршинов стоял и глядел, что они делают, махал рукой, уходил и снова возвращался и стоял. Пришлось взрезать руку, ногу, обнажить вены, и в конце концов Соня побежала к рации вызывать вертолет, а Лера села на табуретку возле Маши и, положив на стол руки, склонила голову. Она знала, что Маша теперь не умрет, она твердо это знала; и она сказала старухе и Аршинову, чтобы они не ныли и не мешали.
Она очнулась оттого, что почувствовала: кто-то гладит ее по голове. Было совсем светло — видно, окна раскрыли, — она увидела пол, свои ноги в валенках, край свесившейся простыни, валявшийся зажим. Опять кто-то слабо провел ладонью по ее волосам. Лера чуть повернулась и посмотрела: это Маша своей бескровной рукой гладила ее по голове. Так неожиданно, так странно. Маша не улыбалась, глаза ее в черных кругах были огромные.
Леру смутила эта ласка. Она сделала вид, что ничего не заметила, огляделась: не видел Ли еще кто-нибудь, как ее, хирурга, словно ребенка, гладили по голове? В избе было пусто, Аршинов в тулупе спал на полу. Она улыбнулась Маше и взяла ее за руку, нащупывая пульс. Кажется, все теперь в порядке, можно возвращаться в Иртумей.
…Она действительно прожила там до двадцатого мая, до первого парохода, и за два других месяца сделала еще сорок одну операцию в Иртумее и близких к нему деревнях.
РАИСКА Рассказ
Раиска проснулась испуганно: гудок! Пароход гудит! Звезды, звезды в глазах, небо ночное, как сажа, а в нем звезды — видимо-невидимо. А засыпала — еще светлые стояли небеса, только река темнела. Села Раиска быстро среди мешков, стянула совсем с головы отцов плащ, вдохнула свежего с реки воздуха, а то под плащом вспотела даже. Плащ пылью пахнет, солнцем, домом, когда-то новый, синий был, прорезиненный, с изнанкой клетчатой, а теперь белесый, вытертый, но тоже резиновым маленько пахнет. Днем на бахче, когда ждали машину, мамка Клава на нем спала, а теперь, на берегу, Раиска. Там долго ждали машину: набрали арбузов три мешка, зашили, вынесли к самой дороге, сели, а машины нет и нет, жарко, пусто, степь сизая, небо сизое, как полынь, нагретым арбузным листом пахнет. Кобылки стрекочут, сон нагоняют, и высоко-высоко, тоже сонно, подорлик кружит, — как не надоест ему?
Мамку сморило, легла у мешка на этот самый плащ, голову платком от мух замотала и спит. Похрапывает. А Раиска в ногах села, платок тоже козырьком на лицо натянула, от голых мамкиных ног арбузной плетью слепней отмахивала, пока не надоело. У мамки ноги круглые, крепкие, до колен загорелые, как красный орех, а повыше, где юбка, белые-белые, нежные, как пыль, — жилочки через кожу голубеют. Она молодая, мамка Клава, здоровая, видная, только молчит да стесняется, словно девушка. Ее отец из-за Волги привез, на той стороне, говорят, все такие: здоровые да молчуны. Раиске мамка Клава мачеха, но хорошая, еще лучше матери: мать, Раиска помнит, больная была, злая, била больно, чем с лежанки дотянется, щипала, а сама плакала со злости. А мамка Клава ничего. Раиска от нее перенимать стала: молчит и стесняется тоже. И работает. Мамка Клава будто заведенная целый день: и дома работа, и в колхозе, а детей четверо: Раиска с братом Федькой, да своих уже двое сопленышей, — так ухойдакается от темна до темна, что где приткнется, там и спит.
А Раиске не до сна: ждала, высматривала в балочке машину, чтобы не пропустить, не дай бог. Ее в город взяли с арбузами, сказали, в Саратов ехать, а может, и до Казани. А Раиска сроду ни в каком городе не была, только в кино видела и в книжках читала. Скорей бы ехать, поглядеть, а там они распродадутся, по магазинам пойдут, по улицам, мамка добрая, чего-ничего, а купит. В Саратов, вон куда!..
Но больше этого, больше города незнакомого, хотелось Раиске на пристань: увидеть опять начальника ее Леонида, высокого, молодого, с черным свисающим чубом. Отец Раиски плотничал там с мужиками, полы на пристани перестилали, еще в начале лета. Раиска с отцом на грузовике ездила, полный день провела, уху мужикам варила и кашу. И купалась повыше пристани, где лодки. На ней только платье и рубашка короткая, она платье сняла, а в рубашке так и пошла в воду. Плескалась одна близко у берега, ракушки ногой в песке щупала, а потом с головой опускалась и рукой выбирала. Смеялась сама с собой, волосы на лицо липли и долго потом водой пахли. И когда выходила на берег, Леонида увидела против солнца: сидел он на краю пристани, на рыжей чугунной тумбе, за которую канат петлей цепляют, с короткой удочкой-донкой, подергивал леску на пальце, а сам сюда, на Раиску глядел веселыми бесстыдными глазами. Давно, наверное, глядел, а молчал. Хорошо ли, когда думаешь, что одна, а глядят, оказывается! И Раиска застеснялась его взгляда, поняла вдруг, как сквозь мокрую, старенькую, истончившуюся рубашку тело ее обнаруживается, грудь облеплена и что коротка вовсе рубашка. Побежала, отлепляя рубашку от себя на ходу и вниз натягивая, а он смеялся за спиной и кричал: «Что ж, такая выросла, а плавать не знаешь!»
И когда обедали потом мужики и подошел, сел с ними Леонид, — не ел, а так, с папироской и разговором, — опять поглядел и засмеялся глазами, будто узнал что про нее, а она виновата перед ним. И хотелось опять бежать от него. Хотелось бежать, а к вечеру, однако, сама стала смотреть, где он есть (уже уезжать собирались), и пошла потихоньку, и издали, не входя в пристань, смотрела — он билеты на пароход продавал: не в окошечко, а стоял в комнатке, где касса, дверь открыл и в дверь выдавал и деньги принимал. Смеялся опять, черный чуб откидывал, отходил от него народ с билетами и тоже улыбался.
И стала думать с того дня и мечтать Раиска про пристань, и не рассказала никому, и дурь ее жаркая обнимала, когда говорили рядом про Леонида, — слушала и хотела, чтобы еще говорили. И тысячу раз снова повторяла и видела про себя одно: как она из реки идет, а он с удочкой смотрит, или как билеты продает. И плыли пароходы в ее предсонных мечтах — нагляделась в тот день, — плыли белые, с музыкой на всю Волгу, нарядные; белые кителя да фуражки, городские люди у перил толпятся, золотые названия блестят, и на кругах названия, и еще на беленьких ведрах, что наверху стоят, тоже названия, по букве на ведро. И когда подходит пароход, Леонид один встречает его, как хозяин.
И вот попала опять на пристань. Проснулась теперь испуганно: как же так заснула? Пароход гудит! Увидела опять вокруг бугристые спины мешков с арбузами, и среди них, там и сям, поднявшиеся столбиками, будто суслики, темные бабьи фигуры, все повернутые в одну сторону лицами, — к реке. Справа, на взгорье, одна горела лампочка на одиноком столбе. Мешки весь берег заняли, как спящая отара, до самой воды. А там, внизу, светился немногими тусклыми огнями дебаркадер, эта самая пристань, а позади, близко от нее, среди водяной просторной тьмы, приступал к пристани боком пароход. Большой, больше пристани, и на нем горят огни ярким, светлым светом. Шипит вода, слышатся уже громкие, по радио, команды. Пароход целиком отражается в черной воде, отчего кажется еще больше. Красные и белые огоньки плывут над ним во тьме, будто сами по себе. Страшно, больно хорош, опять небось не возьмет.
Арбузников туча, все торопятся: пока арбузы первые и там, в верховьях, не вызрели еще, надо успеть продать подороже. Уборку по-настоящему еще не начинали, вот председатель и отпустил пока баб, а кто и не спрашивался — девки да старухи. Весь берег в мешках, да еще корзины с помидорами, обшитые сверху: помидоры тоже пока в цене. Такие ловкачи есть, вон хоть Чурцевы, по двадцать мешков сразу да по десять корзин везут… Мешки у всех аккуратно лежат, один к одному, по пять-шесть в ряд, — только пыльная, под уклон, дорога к пристани осталась незанята. Мешки вниз перетаскивают, когда место освобождается, а только за весь день мало подвинулись. Каждая партия от другой узкой границей отделяется, чтобы пройти можно было и чтобы не перепутались мешки чукреевские и тимонинские, тети Дуни и воронихинские, зуевские, ангеловы, а тем хуже уметовские с чужими, потому что сюда, на пристань, не только из Умета свезли свой товар, но из других деревень тоже. Весь вечер, пока не заснула, слышала Раиска, как мужики и бабы ругались, чья очередь, ночи ждали, потому что капитаны лучше ночью погружают, пока пассажиры спят, — ночь провезут, а к рассвету, глядишь, уже и приедут, выгружайся, арбузники, чтобы никто и духу вашего не чуял.
Ругались мужики и бабы и ходили толпой за Леонидом, а он кричал, что знать ничего не знает, чтоб отстали, и черный чуб его мокро на лоб налипал. А в том еще дело, что многие пароходы вовсе не останавливались, мимо шли, а те, что причаливали, или других уже взяли, а отсюда не брали, или брали, но мало, и мешки с каждым днем скапливались на берегу, некоторые хозяева уже на третью ночь ждать пошли, озверели вовсе. У кой-кого и потекло из мешков.
Вот и не узнать было Леонида: орет, злой, будто ослепший; показалось вначале Раиске, что угадал он ее, прямо глазами наткнулся, — потупилась она, обмерла, а когда поглядела опять, он и не смотрел, орал в сторону матерные слова, — нет, не видел, не признал. Да и где тут! Он загорелый стал, худой, белками на черном лице, как конь, ворочает. То наверху машины принимает, то мимо мелькает, то на пристани на втором этаже покажется, то опять сюда бежит, и все не один, все кучка вокруг него поспешает, все глаза на него глядят. Яростью от него дышит, по́том, бессонницей и слепотой, и кричит он высоким, будто обиженным голосом.
Сжалась Раиска и думать не могла, только глядела.
Народ коряг на берегу набрал, на кострах чай варили или уху, по всему берегу огни, дым. Как табор. Хорошо еще, привыкли, признали, а то когда подъехали на машине, бабы крик подняли: мол, вас еще нелегкая принесла, без вас хватает! И наслушались, нагляделись за день, что совсем без надежды остались. Кто говорит, Леониду — в лапу, кто считает, капитану — в лапу, кто рассказывает, матросам, которые грузят, — по полтиннику с мешка да с корзины. А если мужики сами грузятся, то матросам не нравится, выгоды нет, еще и не посадят. Но Леонид отцу обещал, при всех сказал:
— Лобанов у меня на пристани плотничал? Плотничал. Вот и не орите! И мешков у него всего сколько… сколько у тебя мешков, Александрыч?.. Три?? Ну вот, три, не об чем и говорить!..
Отец, высокий, еще молодой тоже, побрился ради пристани, всех на голову выше, первый силач в Умете (Раиска в него ростом), но тихий, робеет, особенно когда народ кричит, — за то его и в бригадиры не провели. Леонид свое сказал, а он глаза опустил, щеки побритые потемнели, стесняется, что не в очередь. И мамка помалкивает, смотрит только испуганно. Хорошо, хоть тетя Дуня взгоношилась, у этой не задержится:
— Да у их четверо, идолы! Стыда нету, Лексея не знаете! Ей за день обернуться надо! Ехай, Клавка, не спрашивайся! Пропускай ее, Леонид!
— На первый же посажу! — сказал Леонид мамке.
Раиска тут стояла, и в этот момент он будто зацепился за нее взглядом — опять она вниз голову, но нет, ушел, спина клетчатая одна с темным пятном меж лопаток, ушел.
На первый обещал посадить, а вот он, первый! Мужики все вниз убежали, толпятся на пристани, на сходнях, руками машут. Опять гуднул пароход, коротко, два раза: у! у! — пристаю, мол, ждать некогда, готовься, кому надо! И совсем прилип к пристани боком, только нос торчит да корма с повисшим и черным от ночного освещения флагом, вода бурлит, и дым попадает в луч света и голубым светится… Мамки не видно (где ж она, нескладная?), отец еще под вечер в Умет уехал, ему не до арбузов, они навесы под зерно сбивают, опять же ребятишки дома одни, пожару бы не натворили. От мешков Раиске страшно уходить и на пристань, вниз, побежать хочется: как там, будут брать или нет? не обманет Леонид?.. Встала Раиска у своих мешков, как суслик тоже, шею вытянула, ждет. А успела все же плащ свернуть, котомочку затянула, где хлеб, помидоры, сала кусок и с водой бутылка, чтобы все готово, платочек завязала туго и, плюнув на ладонь, мятую юбку пооббила: вдруг возьмут? И дрожала внутри.
И вот зашумело там, внизу, загомонило, толпа то туда, то сюда, даже пристань сильней, чем от парохода, закачало, потому что все на край, на край, где сходни, и по сходням валом на берег, а впереди две белых фуражки плывут, как два светлых блюда. И уже обгоняют их, кто в майке, а кто и в ватнике ради речного путешествия. Весь берег, от пристани до фонаря, встряхнулся, ожил, бабы волчками завертелись каждая на своем месте, и сами мешки будто подняли арбузные головы и уставились, ожидая.
— Никак берут? А, батюшки!
А снизу уже голос Леонида рвется:
— Вот! Вот эти! И вон те! Потом ты, Яшка!
И тут же темные фигуры — за мешки, и уже бабы по двое на плечи поднимают, но чей-то голос в темноте останавливает:
— Спокойно! Сказали, сами грузим!
Кто-то маленький забегает Леониду под руку, тычется, подскакивает, сказать ничего не может, лишь руками трясет, но Леонид как князь идет, поверх смотрит — локтем поведет, и маленького мужики сразу в сторону оттирают, сами, сами к Леониду поближе, на глаза ему, в самую душу заглядывают, не забыл чтобы, не отверг. И слов тут уже нет, если глупый только какой, безнадейный прокричит: «Меня-то! Нас-то! Леонидушка!» — и в грудь себя бьет или еще хуже — Леонида за руку теребит, ну, у этого, считай, дело плохо. А другие — вровень, вплотную, шаг в шаг, как ястребы, наготове, знака ждут. Маленький снова спереди забегает, но его быстро опять вбок. И у Леонида теперь совсем вся власть яростная, вся сила: что скажет, то и будет. Глядит Раиска и обмирает от этой картины.
А рядом с Леонидом, позади на шаг, ступают: один весь белый, важный, с Раискиного отца ростом, но еще пошире, лицо широкое под широкой и твердой фуражкой, сонное, почти и не глядит, брови густые — как есть, самый главный, а другой щупловатый, верткий, остроносый, тоже в белой фуражке, но в пиджаке, на майку надетом, и тапочках на босу ногу. Этот сигареткой затягивается часто и говорит Леониду:
— Ну, хватит! Хватит, слышь?
Но Леонид на толстолицего, на белого взглянет, — тот молчит, будто спит, — и дальше быстро проходит, быстро пальцем тычет:
— Вот эти еще. Тут десять всего… И эти! Зуев!
— Тут мы, тут! — отзывается немедленно Зуев и отпадает ото всех, к мешкам своим перепрыгивает.
Маленький, Раиска разглядела, это Павлушка-Удод, пожилой уже мужичонка, смешной, мастер корзинки плести, у них, у Удодов, все умеют плести, добрый, чудной, — Павлушка этот снова боком всех обежал, снова запрыгал, Леониду перед лицом руками затрепетал, заикается:
— Мменння-то, Лллео… — не успел выговорить Удод, Леонид и не видит его, а мужики опять Удода тут же в себя, в толпу вобрали, будто проглотили, и опять где-то позади всех на дорогу выпихнули.
Это уже совсем близко от Раиски, неужели не дойдут, где ж мамка-то, пес ее возьми, так и хочется крикнуть во всю силу: «Леонид! Леонид! Обещался!»
И тут мамка Клава как из-под земли у мешков встала, платок на плечи упал, дыхание сбилось, высокая, с Леонида ростом, а сказать ничего не может. Но вся куча, что шла, поднималась быстро, примедлилась, словно наткнулась на мамку, и даже тот, сонный, чуть глаза поднял. И по одному взгляду этому догадалась Раиска, что возьмут их. А тут и Леонид выкрикнул:
— Вот у Клавдии еще! У ней мало!
И мамка кинулась, промелькнула в момент руками по мешкам, по Раиске, по котомке, проверяя, все ли на месте, и ее платок как-то сам собой завязался на ее голове, и уже ухватываться стала она за угол переднего мешка, на дорогу его выволакивать, а Раиска сзади подталкивала.
Но тут новые люди явились, целая куча, — в тельняшках, в майках, штаны до колен подвернутые, у каждого за спиной на лямках «коза», на каких грузчики груз носят, все курят, огоньками светят, смеются, все молодые. Один мальчишка совсем, с Раиску ростом, а кто и меньше, щупленький, а еще один с бородой, а третий в очках. Цепочкой по сходням сошли и на горку поднялись, к тем мешкам, что Леонид указал. Двое здесь оказались, окурки в пыль бросили, на руки поплевали.
— Не волнуйтесь, лапочка, — сказал один, — мы сами, — и мамку отстранил от мешка.
— И это все? — сказал второй. — Не разбогатеешь, тетя!
А сверху в эту минуту, с дороги, услышала Раиска густой голос, на другие непохожий:
— Все. Грузи, боцман.
И была секунда тишины, а потом сорвались бабьи крики со всех сторон, загудели мужики, высоко кричал Леонид. Пробежал вниз тот, что в пиджаке, промелькнул тапками на босу ногу. Следом, облепленные, как роем, пошли назад Леонид с высоким — это его был голос, — и их не разглядеть стало за окружавшей толпой, только белая фуражка плыла. Удод опять вперед тискался, парень с «козой» его в спину турнул:
— Ну, дядя! Одурел?..
Теперь те, кому грузиться было указано, скорей старались, чтобы не оплошать, чтобы от других отделиться, остающихся, чтобы кто место не занял, силой не пробился, чтобы Леонид не одумался. Раиска тоже: скорей бы, скорей, все поджилочки тряслись.
Двое веселых грузчиков подняли два мешка на спину — и рысцой под горку, а мамка Клава за ними. Раиска с одним мешком осталась, умирала со страху среди крика, беготни, матерщины. Но скоро вернулся тот, что «лапочка» говорил, и опять Раиску «лапочкой» назвал, и ухватил мешок, побежал, и Раиска побежала тоже, видя перед собой круглый от арбузов мешок и мелькающие голые ноги в ботинках. И ноги эти пробежали по пыльной дороге, по гремучим деревянным сходням, по крашеному новому полу дебаркадера и но другим сходням, коротким, с поручнем, которые уже качало движением парохода и под которыми плескала освещенная вода, и еще по железной палубе. И тут уже ослепило Раиску светом, оглушило криком, обдало запахом парохода, затолкало, понесло вслед за мешком по узкому, железному проходу, — от одной стены несло машинным жаром, как от трактора, и была дверца в освещенную машинную преисподнюю с колесами и толстыми, блестящими сталью поршнями. Мелькали мимо лица тети Дуни, тимонинской Аньки, красного от натуги Чурцева в брезентовом картузе, который в паре с бородатым матросом волок неподъемную корзину с помидорами. А потом Раиска увидела дверь, раскрытую в темноту, и там, на узкой палубе, на воздухе ночном, стояла с испуганным и радостным лицом мамка Клава, лежали в порядке их мешки, и еще мешки, и сидела, выпучив глаза, старуха Зуева. И показалось Раиске, что она целый век не видела мамку Клаву и своих мешков.
Они очутились ближе к корме, к повисшему флагу, на правом борту, все вокруг было забито мешками и корзинами под брезентом, — наверное, еще раньше, на других пристанях, погрузили, но зато хорошо было отсюда видно: и пристань — деревянные ее перила покачивались совсем рядом, прыгнуть можно, и знакомая тумба, на которой сидел в тот далекий день Леонид; и освещенные сходни, по которым тяжело пробегали согнутые фигуры с мешками, а обратно быстрей бежали без мешков; и берег, и одинокий фонарь наверху, и то место, где только что, а как будто давно, спала Раиска на сухой, осыпанной соломой земле.
Раиска стала жадно смотреть, боясь, что уже сейчас, немедленно, уедет, и искала, где Леонид.
Около сходней клубилась толпа, и весь дебаркадер заполнялся, по нему, то исчезая, то появляясь, мужики волокли мешки, напирали — это кто надеялся еще выпроситься, но у сходней и повсюду по палубе дежурили матросы в беретках и еще дядя Митя с пристани, старик в фуражке, что канаты на тумбы набрасывает, и они никого не пускали, покрикивали, отпихивали, кто напирал. Появилось совсем близко перед Раиской потное, ошеломленное, старое лицо Павлушки-Удода, только он находился там, через воду, на пристани, ухватился за поручень, на цыпочки стал, шею вытянул:
— Кклавв, ммместо ессссть?..
А мамка со страху и сказать не знает что. А тут со стороны откуда-то голос:
— А ну не лезь! Вот багром сейчас!
И исчез Удод, будто не было, а через минуту уже на свету, у сходен, явилась мелкая его фигура. Но и оттуда оттерли. А погрузка шла полным ходом. Тот, широкий и белый, не самым главным оказался: самый главный стоял где-то наверху, высоко, и как ни задирала Раиска голову, как ни вывертывала шею, не могла его увидеть, только мелькнул один раз освещенный снизу белый рупор — в этот-то рупор самый главный и командовал сдержанным голосом:
— Веселей! Сейчас будем уходить! Много там еще, Игорь Павлыч?
А Игорем Павлычем назывался как раз тот самый, белый и сонный, только он теперь не был сонным, и белое с себя снял, и фуражку, открыв лысую спереди, загорелую голову, и оделся в синюю форму, какую надевает в школе на уроках учитель физкультуры, и тоже «козу» на спину повесил, бегал, но все-таки следил, сколько мешков несут, командовал, поторапливал. Остроносый в тапочках у входа стоял: грузчики, вступая на палубу, не разгибая спин, только поднимая потные красные лица из-под мешков, кричали: «Боцман, куда?» И остроносый говорил, куда нести, или сам бежал вперед, показывал.
Тут все помогали: свои мешки, не свои — вали давай, потом разберемся! Те арбузники, что раньше ехали и теперь проснулись возле своих мешков, помогали. Два цыгана в пиджаках и длинных рубахах из-под пиджаков, ремешками подпоясанных, тоже помогали (а тощая цыганка, в бусах, серьгах, с босыми грязными ногами из-под длинной юбки, в стороне стояла, ребенка держала, а ребенок, большой уже, черными глазками глядел, а сам рукой у матери за пазухой искал и вынимал на свет длинную, вислую, коричневую грудь, — цыганка, не глядя, по руке его шлепала, запахивалась, а он опять лез). Инвалид, одноногий, на костыле, с круглой остриженной полуседой головой, грязный, мордастый и пьяный, тоже прыгал тут же — помогать, пока не задели его мешком, не осадили на пол. Мамка Клава пошла тоже — со спин снимать, укладывать, перетаскивать.
Вообще-то поздно было, все спали уже на пароходе, главные-то пассажиры, что наверху, и боцман кричал:
— Да тише вы, черти окаянные, что орете-то! Спят люди!
Орали, правда, больше те, что на дебаркадере, у сходен: просили, ругались, канючили; какой-то мужик, застегнувшись, кепку поправив, напустив важности, повторял мальчишке-матросу в берете:
— А я прошу к капитану, и все. С тобой вообще не об чем говорить!
— Да ладно, к капитану! — нахально отвечал мальчишка-матрос и отворачивался.
— Да я один вот иду, и все, нету у меня ничего! — настаивал громче, показывая пустые руки, мужик, чтобы его, наверное, наверху услыхали, где рупор. — К капитану.
Но ему и не отвечали.
А инвалид пьяные слезы по грязному лицу возил.
— С людями как обходятся! — кричал. — С людями! Это что, а?
Леонида нигде видно не было, да и боялась уже его Раиска, боялась попадаться ему, только поглядеть хотела и жалела его теперь, до чего арбузники человека довели.
Тут, в проходе, через который мешки таскали, красивая деревянная лестница начиналась, ступеньки веером вверх шли, а наверху полумрак, покой и тайна, зеркально отблескивали стеклянные двери, и медь начищенная сияла, как золото. На лестнице стояли и глядели на погрузку седая женщина в длинном халате — через руку полотенце толстое, а в руке стакан с зеленой в нем зубной щеткой — и красивый парень, как из кино, с прической городской, в брючках светлых и белой рубашке шерстяной — такая рубашка, что ни у кого у девчат в Умете и кофточек таких нету; у пояса цепочка блестит, а на цепочке еще какая-то штучка, так и переливается то красным, то голубым.
А пониже, под ногами у них, у самого пола, на одну ступеньку задом взобравшись, инвалид пристроился — из-за лаковых балясин свою остриженную, как у солдата, седую голову и грязное лицо выставлял.
А потом из кармана бутылку достал — грязную тоже, захватанную, с желтым — самогон, видно, — туго свернутой тряпочкой заткнутую, стал пить из горлышка, на крутые ступеньки спиной лег, чтобы удобнее.
И вдруг Леонид. Появился. Еще издали его высокий, нервный голос Раиска услышала. Пробивался Леонид сквозь толпу, от последнего Удода отцепился, уже у сходен самых, и сюда прошел, отирая на ходу мокрые щеки и лицо.
— Минуты три еще, не больше, — сказал он боцману и пошел по коридору, куда показывала стрелка со словом «Буфет». Так же слеп он и зол был и, сказав боцману свои слова, еще добавил про арбузников, — так, мол, их! А тут еще чья-то старуха, чужая, не уметовская, стала у него на пути, платочек зубами развязывала второпях, беленький платочек, где, видно, деньги и справки на арбузы, разрешение, кланялась и никак развязать не могла, бормотала:
— Счас, милый, счас, касатик, за заботу твою…
Покривился Леонид, глазами вертанул, как конь, сказал с досадой:
— Да соберите сразу между собой, что еще! — И пошел, отодвинув с пути старуху.
«Леониду — в лапу», — вспомнила Раиска, и еще говорили на берегу, что перепадает, мол, Леониду немало. Но этого не понимала Раиска, хорошо оно или плохо, что «в лапу», а только ждала и дождаться не могла улыбки его и взгляда, каким с тумбы он на нее смотрел, а потом у костра.
Чурцев стал собирать на Леонида: бабы развязывали такие же, как у старухи, платочки, доставали, кто из-за пазухи, кто из чулка, а у кого и просто в потной руке зажато, — денег у всех помалу, на дорогу только в один конец: давали, считая от мешков, кто рубль, кто полтинник. Сколько мамка Клава дала? Тоже небось полтинник, и что-то не по ней, нехорошо было, что ихний полтинник Леониду с другими попадет. Будто рассчиталися и уехали.
Потом Чурцев за Леонидом пошел, не показывались они долго, а там вроде опять на берегу слышался уже крик Леонида, — видно, другим ходом он перебрался.
Раиске глаза стало щипать от света и есть захотелось, но погрузка к концу шла, решила она дождаться Леонида, все равно любила его, хоть и страшно, страшно как-то… А тут женщина в халате у чурцевской бабы спрашивает с лестницы — Чурцева отгрузилась уже, жаркая стояла, красная, в пиджаке, сапогах и платок на взмокшей голове перевязывала, — вот та у нее и спрашивает:
— Почем же продавать будете?
— А рынок покажет! — сказала Чурцева. — Вон в Горьком по рублю, говорят!
— По рублю? Но это же просто безумье!
— А ты их растила? — вдруг скандально закричала Чурцева (даже цыганка невозмутимая повернулась). — Ты их повезешь? Сосчитали! А не сосчитали: тому дай, этому дай, шоферу дай, матросу дай!..
— Чего ты, чего ты? — крикнул на всякий случай боцман, но Чурцева не слышала.
— Да что вы, я ничего не говорю! — Женщина в халате поспешно наверх пошла, придерживала свой халат меж ног, и зеленая щетка в стакане прыгала. А красавец посторонился, но остался.
— Видали, фря какая! — еще свободней Чурцева закричала. — Безумье! Ей безумье, а нам не безумье двое ночей вон на земле-то валяться!..
Она кричала, но особенно никто внимания не обращал. Инвалид тоже кричал, но его голос пропадал в других криках, только грузчиков слышно, как они хрипят:
— С дороги! А ну!.. Сторонись!.. Убью!..
Когда они сбрасывали мешки, то не сразу могли разогнуться, спины мокрые, и шеи, и лица…
— А ну, лапонька, в сторонку, — прохрипел кому-то один, и Раиска еле узнала того веселого, что их мешок нес: худой стал за полчаса, старый, зубы оскалены. Но усмехается.
А тот, что мальчишка, с Раиску ростом, принес мешок, по сходням прошел, а на палубу переступить не может — согнулся, лица не видать, прижало его, и видно, как ноги ходуном ходят. Подскочил боцман, вдвоем с другим мешок снял, своей рукой злобно за плечо схватил и отшвырнул в сторону, чтобы другим дорогу дать, которые уже выстроились и кричат-похрипывают.
— Ну, студент, — боцман заорал, — говорили тебе? Грызь за полтинник захотел?
И паренек вдруг исчез, будто и не стоял здесь сейчас на дрожащих ногах, — застыдился, видно.
— Кончать погрузку! — аккуратно и негромко проговорили сверху.
Негромко, а все услышали. И весь берег и пристань заново ходуном заходили, а на дебаркадере будто вдвое больше стало: кричат опять, сбились, уже и грузчикам пройти не дают.
— Да возьмите, возьмите ж, ребяты!
— Что ж, еще ночь сидеть?
— Авдотья, восемь у тебя, восемь, не растеряй!
— Милаи, да куда ж вы, пять мешочков всего, пять!
— А ну, с дороги! — всех перекрыл небывалый Игоря Павлыча голос, и сам он, без мешка, с «козой» в руке, потный и широкий, свободно прошел через толпу в синем своем физкультурном костюме, и лицо у него, хоть и блестело мокро, опять сделалось сонным и тяжелым. Боцман побежал ему навстречу, стал тихо говорить, а за ним, как ступил он на палубу, сомкнулись береты.
А следом опять Леонид появился, — оттуда, с берега-таки — ему тяжелей было пройти, насели, и он, лохматый, продирался сквозь народ, как сквозь шиповник, дышал тяжело, словно от самого Умета бегом бежал, и кричал на ходу отчаянно:
— Да три еще сегодня парохода, три, будьте вы прокляты! А ну, отлепись к чертям!..
Такой он был, Леонид, — смотреть страшно.
А за Леонидом, как жеребенок за маткой, — несчастный Удод опять: ручками машет, подпрыгивает, наперед забегает. И вроде не заикается больше:
— Вон они, — кричит, — вон онни у мменя уже ггде! Леонид! Ввот они, зддеся, куда ж их?
— А ну тебя к…
Вырвался, выпутался Леонид, перескочил на палубу, остановился с боцманом и Игорем Павлычем.
— Да будь оно все неладно, вот так день и ночь!
— Да, работенка у тебя!
И они пошли в сторону по длинному коридору, опять куда указано: «Буфет».
Грузчики еще последние мешки доносили, но уже не боцман принимал, а другой, с бородой который.
А инвалид опять бутылку достал, выпил, потом костыль в пол упер и, по костылю руками перебирая, как по лестнице, тоже поднялся, встал на ногу свою в брезентовой грязной штанине. И запрыгал тоже в тот коридор.
Минуты не прошло, опять инвалида голос, шум, и вылетел инвалид из коридора. Следом — Игорь Павлыч с красным лицом, боцман, Леонид. Леонид дожевывал быстро и рот ладонью вытирал, боцман вперед выбежал, а Игорь Павлыч загремел:
— А ну, выкинь его к черту, будет тут еще трепаться! Живо!
— Без билета посадили, пожалели! — вскрикнул боцман. — У-у!
И сразу несколько рук подхватили по отдельности: инвалида, костыль, ногу его брезентовую и мигом перенесли все вместе на дебаркадер — там народ молча ужался, место освободил.
— Кончать, уходим! — сказал недовольный Игорь Павлыч и пошел в тот коридор снова.
И тут же началась суета, забегали береты, боцман, рупор наверху еще команду сказал, пошли быстро назад Чурцев — он сам не ехал — и другие, кто помогал да прощался, и Леонид, как бы немного просветлевший, тоже пошел и оглянулся, желая, может, проститься, поглядеть, кто стоит там напоследок. Подалась, чуть не шагнула Раиска вперед, еще надеялась, но и тут он Раиску не увидел, не отличил среди всех.
Как появился Леонид, запрыгал опять на пристани Удод, руками замотал, закричал, другие уж и не просили. А пароход дал гудок короткий: у!.. Леонид уже на сходнях стоял, а отсюда, с парохода, два берета за прикованные к сходням цепи схватились, чтобы тащить, — и вдруг повернул Леонид от Удода, как от чумы, вздохнул как-то, крикнул:
— Да ладно уж, будь ты неладен! — К беретам тут же обернулся, рукой показал; мол, заберите вы его от меня к чертовой матери!
Береты тут же прыгнули вперед, Удод заметался, и вмиг перелетели Удодовы мешки и он с ними на палубу. При виде такого дела завыла опять вся толпа, обнадежилась, нажала, но уж поздно: Леонид на пристань прыгнул, сходни убрали, пробежал по самому краю дядя Митя — канаты с тумб снимать. А Удод — вот он! На мешке сидит, кепкой своей тряпичной лицо отирает, плечи склонил, и не понять по старому его лицу: то ли всхлипывает, то ли смеется так. А все стоят и глядят молча на него: и цыганка, и два цыгана, и красавец с цепочкой с лестницы, и бабка чужая, и другие арбузники.
А тут свет ярче стал, застучало под железным полом, затряслось мелко все вокруг, машиной сильней запахло и дымом.
— Черти! — услышала Раиска и еще всякие слова — это инвалид, сидя на самом краю, орал и костылем тряс, узким концом с шишечкой резиновой кверху его поднял. И там же стоял Леонид в клетчатой рубахе, папиросу из пачки вынимал, и Чурцев в брезентовом картузе, и другие. И не поняла Раиска сразу, в чем дело, а только сдвинулись они все в сторону, закачались вправо и поплыли, будто дебаркадер оторвало и понесло вниз по воде. И вот уже нет Чурцева, нет Леонида, а дядя Митя появился… Пошли! Тронулись!..
Подалась Раиска вперед, сделала три шага и снова всех увидела: Леонида, который закуривал на ветру, ткнувшись лицом в ладони с огнем, костыль и круглую голову инвалида, Чурцева. И тут же опять отплыли они в сторону. Подошла еще ближе Раиска и снова всех увидела — и так несколько раз, пока совсем к низким железным воротцам не прислонилась — воротца эти закрыли, когда сходни убрали.
— Раиска! Раиска! — это мамка ее искала.
— Тут я! — крикнула Раиска, а сама смотрела, не отрываясь, как уходили назад дебаркадер, берег, как все шире становилась черная вода между ними и пароходом.
Потом здесь разбредаться стали, разбираться по местам, цыгане ушли, и красавец, и кто-то уже кипяток в кружке нес, а Анька тимонинская с беретом молоденьким кудахтала. Один Удод так и сидел на мешке, нагнувшись, только кепчонку надел, не шевелился — устал. Появлялись боцман, береты, грузчики толпой прошли. Вышел и Игорь Павлыч, снова в белом, в фуражке, за спиной Раиски с мамкой Клавой остановился — голос его рокотал мягко и сладко. Мамка Клава робела, за Раискино плечо держалась, отвечала еле слышно:
— Чего это надумали, спать нам надо. Пошли, Раиска.
А Раиска все оторваться не могла, смотрела на дебаркадер. Там уже умельчаться стали фигуры, но еще различались и картуз чурцевский, и костыль инвалида. Игорь Павлыч, слава богу, ушел, за ним боцман прибежал, шепнул:
— Все, Игорь, собрались, ждут, делить надо! — и увел.
Потом и Раиска с мамкой ушли — к своим мешкам, к зуевской старухе, которая уже примащивалась спать, настелив сенца на полу под мешками. И отсюда, с кормы, еще лучше стало видно дебаркадер и берег: как разбредаются по горке вверх, к своим мешкам, к фонарю одинокому те, кто остался. И еще стояли на месте и Леонид, и дядя Митя, и инвалид сидел.
А тянуло уже рекой, свежестью, ночь обступала кругом, пароход шел, шел косо от берега и не мог никак дойти до середины, — такая была река, и звезд опять выступило видимо-невидимо: чем дальше отходила пристань, тем шире открывалось над нею небо, больше выступало звезд, а сама пристань делалась меньше и меньше. Но все равно различались и ее два этажа, окна, фонари, фигурки на краю. Раиска ела лениво хлеб с салом, куталась в отцовский плащ, от которого пахло бахчой и домом, и хоть слипались глаза, нащипанные ярким светом, она смотрела и смотрела. Хотелось ей, как прежде, вспомнить Леонида сидящим с удочкой на тумбе, но видела теперь только нынешнего Леонида, как он в мешки пальцем тычет, как чужая старуха платочек перед ним зубами теребит. И жалела его горько и себя, что не узнал он ее.
Она бы, может, так и уснула, но вокруг шла бодрая ночная пароходная жизнь, и вдруг вернулась Анька тимонинская с беретом, еще девчат собрала, и берет повел их пароход показывать. Вскочила и Раиска. И они пошли по коридорам, по лестницам — как во сне шла Раиска — мимо арбузников, Удода, мимо многих дверей с блестящими ручками, по мягким дорожкам, сквозь стеклянные тяжелые двери, мимо мелькающих за стеклом столов под белоснежными скатертями, мимо плетеных кресел, белых ведерок с буквами, окон, закрытых мелкощелястыми ставнями… И вдруг очутилась Раиска на самом верху. Здесь дул свежий ветер, совсем рядом горели на белой косой мачте огни, было просторно, хоть взапуски бегай, а посредине ровно шумела и дышала горячим воздухом белая и огромная, как скирда, труба. Но первое, что Раиска увидела вдали на реке, была пристань: сверху еще лучше гляделось, и не пропало ничего: ни фонарь, ни фигурки.
Девчата осмелели, ложились в шезлонги, как назвал берет деревянные стулья с полосатой материей вместо сиденья, — и Раиска тоже попробовала. Голову откинула, и все небо сразу увидела, все звезды.
— Вот и ночуйте здесь до утра, — сказал берет, — все лучше, чем на мешках.
«Лучше, а только заколеешь за ночь-то на ветру, — подумала Раиска, — там-то поте́пле». Но не сказала.
Когда спускались, Раиска уже знала, в какую сторону глядеть, и через стеклянные двери, через окна отыскивала на реке пристань — та все оставалась на месте, светилась неярким своим огнем. И Раиске уже интересно стало: когда пропадет дебаркадер? Но пристань не пропадала и не пропадала… И чем больше смотрела Раиска, тем лучше различала, что там есть, — словно назад плыла: видела Леонида, Чурцева, инвалида с костылем, того застегнутого, которого так и не пустили к капитану, баб и мужиков, чужих и уметовских. Забывалась Раиска, засыпала почти среди мешков, накрытая холодным плащом, и уже новая, счастливая мысль о Саратове, о завтрашнем дне проблескивала и утешала, но потом поднимала голову и снова видела дебаркадер, светлое пятнышко вдали: нет, не исчез еще. И уже казалось Раиске, что никогда не исчезнет.
В КОНЦЕ АВГУСТА Рассказ
1
Каждое утро тетка будит Тоню одинаково — отворяет ставни. Тоня слышит железный гром болтов, а открыв глаза, видит яркие, в зелени и солнце цветы герани на подоконнике и на стене, над кроватью, с детства знакомые картинки: котят с бордовыми и голубыми бантами из крашеной фольги. И котята эти надоели, и герань, и комната, и само пробуждение всегда в один и тот же час.
Щурясь, еще с пухлыми после сна губами, босиком Тоня идет во двор умываться. На маленьком, чисто выметенном дворе лежит голубиное серое перо, и больше нигде ни щепочки. Теплая шершавая земля греет ступни. Очень яркое белое солнце и ранний утренний зной.
Казалось бы, радоваться надо такому утру, но Тоне все равно.
Она идет к рукомойнику, прибитому на заборе, вода в нем свежая, холодная, начищенный кирпичом рукомойник запотел. Под ним, вокруг старого таза, трава сочная и высокая. Кажется, каждая травинка знакома тут Тоне.
— Эй, на пляже, что ли! — вдруг слышится сверху.
Это сосед Витька. Теперь каникулы, и он только и делает, что гоняет голубей, громыхает по железной крыше. Тоня — на ней одни беленькие трусики и лифчик — торопится и, смутясь, грубо кричит Витьке, чтобы ушел. Тот хохочет и свистит ей, как своим голубям. И этот смех и свист тоже злят ее.
Тоня вбегает в дом.
Она одевается, причесывается, видит в зеркале на комоде — зеркало в форме сердца — свое сердитое лицо, и от этого еще больше хмурится. Ей не нравится свое лицо.
В эту зиму и весну, которые тянулись так долго, она совсем истомилась. Так и стоят перед глазами эти пустые вечера, вставание затемно, протяжная теткина зевота, субботние танцы в пахнущем угаром, холодном и скудно освещенном фойе клуба. Под Новый год вышла замуж подруга Аня, совсем стало скучно, и Тоня тоже решила, что надо замуж. Чтоб был свой дом, и быть хозяйкой, и не работать. Нянчиться с ребятишками, и все. А то что же, неужели всю жизнь ей так и бегать с подносами?
Когда Тоня училась, у них в классе была странная девчонка, Сонька Щерба, только и читала книжки. Сядет, бывало, на переменке с ногами на подоконник, запрокинет голову, как какая-нибудь артистка, и скажет: «Ах, девочки! Чего-то такого хочется! Такого! И сама не знаю, чего… С парашютом бы прыгнуть, что ли!» Все стоят, глядят, как дуры, еще и смеются, а ведь правда: прыгнуть бы, что ли, с парашютом.
Никогда раньше Тоня не испытывала такой тоски. Все всегда было просто. Голодна — поешь, устала — спи, хочешь танцевать — танцуй. Смейся, когда смеется, пой, когда поется. А теперь все ей не так, все надоедает, и тянет, и тянет куда-то. И ни есть ей не хочется, ни пить.
— Ты чего это, Антонина? Нездоровится, что ли? — спрашивает тетка, глядя, как нехотя Тоня ест кашу.
— Здоровится.
— Чтой-то ты молчишь все, скушная больно…
— Все и быть веселой? Двадцать лет веселая!
— Двадцать лет! — тетка смеется и качает головой.
— Да ну! — сердито говорит Тоня.
Пора уходить. Стучат ходики. На подоконниках млеет на солнце герань. Фыркает на кухне керогаз. Со двора слышится посвист — Витька взгоняет голубей.
В кафе, где работает Тоня, кроме нее, еще пятеро официанток. Тоня любит только тот утренний час, когда еще пусто, на вымытых полах лежат и будто дымятся белые солнечные лучи, и на всех столиках весело топорщатся бумажные салфетки. Официантки собираются в уголке, за занавеской, и говорят о своих делах — о мужьях, о детях или обсуждают первых посетителей. Каждый день одно и то же. Все друг о друге всё знают: когда у Таисии Яковлевны, старшей официантки, болеет дочь, когда Аня получает письмо от мужа, когда буфетчица Зоя ругается с соседями. Иногда читают вслух газету: фельетон, или «Из зала суда», или как поп отошел от религии. Или обсуждают своих — повара Савву, жену заведующего, Тоню. Тоня работает уже три года, но к ней относятся, как и в первые дни: считают, что человек она случайный, место ее не здесь. Ей и самой так кажется, но ничего не меняется из года в год, и она привыкла. За три года Тоня стала такою же, как они: научилась быть любезной с теми, кто любезен, грубой с теми, кто груб, но женщины все равно не считают ее до конца своей и осуждают за то, что она отдает до копеечки сдачу, носит на работе босоножки, а не тапочки, и не выходит, такая молодая и симпатичная, замуж. Нынешнее томление ее все замечают и пытаются объяснить Тоне причину с той пугающей откровенностью, какая бывает только в женской компании.
— Наденешь, милая, тапочки, наденешь, — предсказывает Таисия Яковлевна. — Родишь одного-двоих, ножки уж не те будут.
— Подумаешь! — фыркает толстая Паша. — Честная тоже! До дверей бежит — пять копеек возьмите! Нужны они им, твои пять копеек. Прямо видеть я этих честных не могу! Вот и коптишься второй год в своем штапельном.
— Чудная ты у нас, Тошка, правда! — присоединяется к общему мнению Аня. — Обратно все офицеры за твои столы, и так уж к тебе и этак, а ты будто не понимаешь.
— Девка! — вздыхает Таисия Яковлевна. — А у хорошей девки, известно, уши золотом завешены.
Тоня привыкла к этим разговорам, но всякий раз не удерживается — сердится, краснеет, грубит. Ей хочется сказать, что дело совсем не в том, о чем они думают, а просто ей скучно и обидно, что как-то пусто проходит жизнь. Хочется чего-то другого, а как и где найти его, она не знает. Она просто ждет, что все изменится. Вдруг, в один день.
Если б у нее спросили, любит ли она свою работу, она бы не ответила. Чего тут любить или не любить? Работа и работа. Она не ленится, не перекладывает свое на других — что же еще? Другие говорят: фи, мол, официантка! Подавальщица. А побегали бы целый день, повертелись, наслушались разного, наугождались бы всякому — тому того, тому сего, то не так, это не так, — натрепали бы нервы, узнали, что такое официантка. Иной раз придешь домой и не знаешь, куда ноги деть, все стараешься положить их повыше, кверху задрать, как какой-нибудь американец.
В кафе приятно и чисто только с утра. А вечером уже и зайти противно. У буфета стоят бочки с пивом, тяжелые запахи кухни и мойки смешиваются с табачным перегаром. Одноногий инвалид дядя Коля играет на гармошке. Гул, шум, крики, сквозняки, духота. Прежде городишке хватало и одной столовой: местные жители туда почти не ходили, а приезжих было мало. Теперь, со стройкой комбината (его ставят в десяти километрах, в степи), все изменилось. Людей стало будто вдвое, втрое больше, и все торопятся, опаздывают, спешат. Это они в заляпанных грязью сапогах, в забрызганных краской кепках, в вылинявших гимнастерках и спецовках за один год нарушили привычную жизнь Тониного городка: тут разрыли улицу и укладывают в траншеи черные трубы, там огородили забором пустырь и возят туда белые кирпичи и бетонные плиты, в другом месте снесли замшелые сараи и бульдозерами срезают, выглаживают землю. День и ночь дрожат маленькие домишки с резными наличниками от движения тяжелых грузовиков. На Советской открыли новый магазин, на Зеленой варят в черных чанах асфальт. Строители, шоферы, военные, командированные, артисты, колхозники, проезжие — кого только не увидишь теперь в городе. Поэтому-то и единственное маленькое кафе тоже, по сути, пришлось превратить в столовую.
— И от ворон мы отстали и к павам не пристали, — уныло говорит заведующий Леонид Степанович, или, как все его зовут, просто Леня — румяный, упитанный, неопределенного возраста человек.
Он на все махнул рукой и только и расписывается без конца в истрепанной жалобной книге.
Официантки держат сторону заведующего. Буфетчица Зоя, кося глазами, зло кричит:
— Красоты им! Чистоты! В театры пускай ходят за красотами! У нас их вон и так трое висят произведениев — успевай пыль стирать! — И она с ненавистью глядит на засиженные мухами картины — две копии Шишкина и огромный натюрморт с арбузом.
Посетителей не любят. Уборщица тетя Поля говорит о них так: «И всё-то докучают, всё докучают…»
Слушая эти разговоры, Тоня раньше только фыркала или сочувственно улыбалась. Но теперь тоже стала поддакивать: «Мы тут целыми днями — и нам ничего, а они придут на полчаса и начинают!» — и ее брала вдруг такая злость, что взяла бы и переколотила все — нате вам, нате, надоели!
— Ух и зла ты стала, мать моя! — говорила Таисия Яковлевна, пытая Тоню умными глазками. — Видать, вовсе заневестилась, девушка.
— Да ну вас еще! — грубо отвечала Тоня и краснела, потому что Таисия Яковлевна открыто оглядывала ее плечи, грудь и ноги.
На работе все окончательно надоело. Весь день — тарелки, щи, гуляш, компот, сто граммов, двести, два по двести, кружечку пивка, еще кружечку. Надоело!
И решила она уехать.
Утром бежала на работу — это были последние жаркие дни июля — и уже издали, не доходя до угла Советской и Проломной, услышала необычный гул.
Всегда тихо на Проломной. Ставни в домах весь день закрыты из-за жары. Ветра почти нет, и все-таки песок движется, лезет на разбитый плиточный тротуар, душит всякую травку, скрипит под ногами. Ни одного деревца нет на улице, и всей тени — только от узких лавочек, что стоят у ворот. Лежит где-нибудь в этой тени собака, высунув язык, часто дыша, или дремлют, выкопав ямки в пыли, распушив хвосты, куры. Не видно даже детей. Только женщины, укрывая, как в мороз, лица платками, стоят у колонки в очереди за водой. Пахнет пылью, уборными, дымом летних печек. А тут вдруг — веселый человеческий шум, Тоня свернула за угол.
Перед зданием райисполкома собралась большая толпа. Один за другим подходили запыленные грузовики, с них спрыгивали парни и девушки в ковбойках и шароварах, с чемоданчиками, рюкзаками, узелками. Приехавшие смешивались с остальными, кричали, смеялись. Кто-то выкликал по списку фамилии, в другой стороне звучно играл аккордеон, девушки пели, несколько пар танцевало, по пояс окутавшись пылью. Сквозь толпу протискивалась белая мороженщица.
На другой стороне, по которой шла Тоня, стояло несколько прохожих. Согнутая старушка в серых валенках участливо спрашивала двух девушек, сидевших на чемодане под деревом:
— Это куда же вас, милые, опять гонють-то?
— Это не гонят, бабушка, — громко, как глухой, отвечала одна из девушек, — это мы сами. В колхоз, урожай убирать.
— Вона што! В колхоз, значит?.. А, бедныи-и!
Девушки переглянулись и прыснули.
Какой-то парень в фуражке, стоя на мостовой, прищурившись, поглядел на Тоню и подмигнул. Тоня заторопилась. Несколько раз оглянулась. Парня уже не было. Девушки быстро несли вдвоем свой чемодан через дорогу.
«Вот, все едут, — тут же подумала Тоня, — все. Только и слышишь, кто на целину, кто заводы строить, плотины. Кто на учебу. И вообще. Одна я сижу, как клуша, ничего в жизни не видела. «Тетя, дай… тетя, прими…»
На работе в этот день все ее сердило, домой пришла — все показалось маленьким, странным. И вместе с тем что-то словно переменилось, стало легче, и она смутно мечтала, как тоже поедет куда-нибудь.
На другой день, в свой выходной, рано утром она побежала к Ане, чтобы рассказать ей все, посоветоваться и позвать с собой. Аня, в голубой рубашке, с одной голубой, другой розовой бретелькой, сидела в постели и разглядывала фотографию своего мужа Володи, уехавшего в военные лагеря. Она выслушала Тоню и, глядя на фотографию, сказала:
— Четвертый день письма нету.
— Да я тебя о чем спрашиваю-то? — рассердилась Тоня.
— Чепуху ты какую-то городишь! — сказала Аня. — И отвечать-то нечего. Володя каждую минуту может приехать, а меня нету, да? — И она опять уставилась на фотографию.
— Ну и сиди! — сказала Тоня.
— Дурочка! — сказала Аня. — Чего ты мечешься? Что это за колхоз придумала? Бесишься все. Не колхоз тебе нужен…
— Ладно, слышали! — перебила Тоня.
В тот же день она пошла к заведующему.
Когда проходила через кафе без кокошника и передника, с сумочкой в руках, как чужая, все вокруг тоже показалось чужим, словно она уже оставила это место.
— Да, был такой разговор, — плачущим голосом сказал Леня, — требовали кого-нибудь выделить. Но я отстоял. И так работать некому. Не выдумывай, ей-богу. Их отстаиваешь, а они…
— А я не просила меня отстаивать! — Тоня волновалась. — А если не хотите, то я сама пойду и…
— О господи! — заведующий уныло вздохнул. — Что это за шлея тебе попала? Жарища, пылища… Ну ладно, ладно, поезжай! Покопайся там в навозе-то. Но учти — пятьдесят процентов зарплаты только получишь.
«Партийный тоже!» — подумала Тоня и увидела вдруг, что Леня уже старый, волосы у него редкие, а на лбу жирная тяжелая складка.
Через два дня с группой горожан Тоня ехала в колхоз.
Молодежи было немного, но зато в одной машине с Тоней ехал старик Вершинин, кладовщик с нефтебазы, такой балагур и пересмешник, что стоил пятерых молодых. Машина шла третьей в колонне — пыль целый день окутывала ее. Женщины плотно повязались косынками — только глаза остались на лице, мужчины плевали через борт и проклинали шофера: зачем не впереди поехал. Но все-таки ехали весело. Старик Вершинин, сделав из пиджака шатер над головой, подмигивал и пел:
Девушки, девушки, где вы?..Солнце жгло нещадно, Тоня чихала и кашляла от пыли, но, сначала смущаясь, а потом весело кричала вместе со всеми: «Тута, тута!» — отвечая Вершинину, и так радовалась, словно ехала не за сто километров в колхоз, а в самое Москву.
Девушки, девушки, где вы? Тута! А моей Марфуты нету тута!2
Юрка Ляхов гнал машину назад, на ток, гнал так, что бедняга ЗИЛ, перегруженный зерном, стонал и скрежетал, как живой, а ударяя задними колесами в выбоину, так охал, что у Юрки, как ни был он зол, екало сердце: «Ну все, кранты!» Он почти не переключал скоростей, бормотал ругательства и злобно взглядывал на себя в круглое зеркальце сбоку — там прыгало его красное небритое лицо с закушенной папироской во рту и нахлобученной на глаза кепкой. Тоню, тоже сидевшую в кабине, трясло, мотало, голым ногам было горячо от мотора. Она цепко держалась обеими руками за дверцу, подпрыгивала, стукалась то спиной, то бедром. Юрка не обращал на нее внимания.
— Гады, сволочи! — рычал он. — Соревнуйся еще тут! Выкраивай минутки, а потом по два рейса болтайся, как дерьмо, с мусором этим! Ну ладно, я вам покажу!..
Комбайн, работавший на току второй бригады на очистке зерна, замучил всех — то и дело ломался. Двое слесарей из РТС чуть ли не ночевали около него. Юркина машина была не первой, которую возвращали с ссыпного пункта из-за сорности зерна, и Юрка гнал грузовик со злой мыслью: «К черту! Разнесу ЗИЛ, на ремонт лучше встану, чем так работать!» — и он делал такой вираж на повороте, что пыль выскакивала под передние колеса, и зазевавшаяся синегалка едва успевала вымахнуть в сторону.
Скоро должен быть мост — бревенчатый, разбитый, с плохим спуском к нему; третьего дня здесь у одного грузовика так и хрястнули обе задние рессоры. Тоня со страхом ждала: сбавит ли Юрка скорость?
— Доротдел тоже, чтоб вам! — прорычал Юрка, но все-таки выжал тормоз у самого моста.
Тут же слева выскочил, истошно вопя хриплым гудочком, председательский «газик», из радиатора его рвался пар. Сама председательница, Степанида Сомова, сидела впереди. Юрка дожал тормоз.
«Газик» встал чуть впереди и немного баком, словно хотел загородить дорогу тяжелому грузовику, но передумал.
Степанида Сомова, худая, нескладная, с длинным лицом, вылезла из машины, высоко обнажая худые, желтые ноги, и железными шагами двинулась к ним, подтягивая на ходу юбку.
Следом за ней вышел Сазонов.
Юрка развалился на сиденье в вызывающей позе, попрыгивающими пальцами зажег новую папироску, криво усмехнулся.
Степанида рывком открыла дверцу и со страшным выражением заорала:
— Вылезай! Вылезай к чертовой матери! Понаехали помощнички! По миру пустите! Вылезай, говорю! По зернышку у меня все соберешь!
Тоня вздрогнула от этого крика и покраснела, словно тоже была виновата.
Юрка, забыв про всякие позы, выскочил, вытаращив глаза, заорал тоже:
— Лаешься? На нас лаетесь, а сами что же? Зернышки я тебе растерял! А кому они нужны, такие зернышки?
— Он еще голос подает! Он еще мне…
— Молчать, что ли, будем? Ты своих учи!
Так они кричали минуты две, напрасно Сазонов пытался что-то сказать. Наконец втроем двинулись вокруг кузова. От машины горячо пахло бензином, зерном и пылью. Тоня осталась робко сидеть в кабине, только выглянула потом назад.
Вероятно, где-нибудь на ухабе или в сутолоке машин на ссыпном пункте нижние доски старого кузова расселись, разлохматились острой белой щепой, мешковину, которой выложен был кузов, прорвало, и бог его знает, сколько зерна вытекло за дорогу в эту дыру. Все трое заглянули в кузов: Юрка и Сазонов — ухватившись за борт и подтянувшись, Степанида — кажется, едва привстав на цыпочки.
На дороге, у колеса, золотилась аккуратная горушка зерна и на глазах увеличивалась от стекающей из дыры шуршащей струйки. Юрка стал обламывать щепки, заталкивать в дыру мешковину. Зерна клевали ему руки. Степанида, склонившись, сделала несколько шагов назад по дороге, высматривая в пыли зерно. Стало вдруг тихо. Только трещали кузнечики. Сизая степь с редкими всхолмьями таяла под жарким дневным солнцем. Воздух дрожал и струился вверх, к белесому пустому небу, будто выцветшему от зноя. И нигде ни души, только разбитый мост через сухой овражек и две остывающие машины на широкой белой дороге, отмеченной в степи телеграфными столбами. Будто и нет никакой гонки, ругани, тока в полутора километрах, где десятки людей спешат, спешат, где гудят машины. Степь и степь. И тишина, которая смыкается вокруг, как вода, — надо только остановиться и замолчать.
— Ты в войну-то что́, совсем мальчишкой был? — спросил вдруг Сазонов таким тоном, словно они лежат с Юркой сейчас где-нибудь в тенечке после обеда, и говорить больше не о чем.
— Чего? — недовольно спросил Юрка.
— Да я это к тому… — начал было Сазонов, но не договорил, увидел, что подходит председательница.
Степанида оттеснила Сазонова, стала — руки в боки — перед Юркой. Юрка мельком глянул ей в лицо, а потом уперся взглядом в тощую пыльную шею. На кофточке у Степаниды осталась одна только пуговка, да и та сломанная; глубоко открылась худая грудь с бурым треугольником загара, с выпирающими ключицами. «Черт страшная», — подумал Юрка и не без боязни ждал, что Степанида станет делать.
— Матвей! — закричала она своему шоферу. — Неси бланку! Акт чтобы на которой составлять!
— Может, еще судить будешь? — Юрка скривил рот. — Мало мне командира автороты, да? Суди! А только мы на это чхали, ясно? — И он решительно пошел к кабине. Потом вернулся и, уже не обращая ни на что внимания, пихнул ногой скат. В это время Сазонов открыл дверцу и, извинившись, сел рядом с Тоней. Она хотела выйти и сесть в кузов, но он не пустил.
— Вот ведь какая петрушка, — сказал он сокрушенно.
— Акт! На них, бездельников, горб гнешь, а они! Совсем уж… — орал Юрка теперь у самой дверцы.
Сазонов, ткнувшись лицом в ладони, прикуривал. Юрка рывком уселся, толкнув Тоню в бок, включил мотор. Потом высунул голову и еще крикнул стоявшей на дороге Степаниде:
— Ладно орать, завязывай!
— Давай, давай, герой! — сказал Сазонов. — Поехали. Мне на ток тоже.
— А! На ток, — злорадно сказал Юрка, только тут увидел Сазонова. — Поедем, поедем…
И он перебросил машину через мост и умчался, окутавшись пылью, оставив на дороге председательницу.
Сазонов приехал недавно вместе с Тоней, но все в колхозе уже хорошо знали его. С пяти утра мелькали на токах, в поле, на фермах его выцветшая фуражка и черная суконная гимнастерка. «И как не сгорит он в ней?» — удивлялись бабы. Успевал он повсюду, всех знал, все умел. И все с шуточкой, с ласковым словом, с «извините» да «пожалуйста». С Варепом, командиром присланной из Латвии автороты, машины которой обслуживали район, они, говорят, стали друзьями. С веселым стариком Вершининым и пожарником Федяевым Сазонов, оказывается, был знаком чуть ли не с детства. Две женщины, вместе с которыми жила Тоня, говорили, что у них на консервном заводе тоже Сазонова уважают.
Когда хлынули вдруг дожди, когда на скорую руку стали ладить навесы, оказалось, что Сазонов еще и плотник. Мокрый, в тяжелой гимнастерке, облепившей лопатки, он, собирая девчат и парней, улыбаясь, просил: «Уж вы, пожалуйста, ребятки, а то, глядите, опять чернота находит, позальет ночью». И сам топором — теш, теш, и даже щепки у него из-под топора — аккуратные, не толстые, не тонкие, одна к одной, в самый раз для самовара или растопки.
Зерно встанет ворошить — так его развалит, разметет лопатой на стороны, так перевернет, как будто сквозь него глядел: сухое снимет, а сырого, которое внизу, и на два пальца не загребет. Отдавая лопату, непременно скажет:
— Подзадержал вас, извините.
Только один раз среди всей этой суматохи, сердитого крика, обид и ругани Сазонов повысил голос: когда выяснилось, что у колхоза нет досок для навесов.
— Ну и хозяйствуешь ты! — крикнул он при всех Степаниде. — Что делать-то теперь будем? Тебя, что ли, вместо столба ставить?
— Мало мне указчиков! — кричала в ответ Степанида. — Этот еще на мою голову! Учить все мастера, много вас ездит, теребильщиков!
— Да тебя не теребить — ты мохом обрастешь!
— А тебе-то что за дело? Что ты суешься-то все? Ты и вовсе тут пришей-пристебай. Сейчас тут, а завтра поминай как звали! — И, срываясь, Степанида кричала еще пуще: — Да что я, сама, что ли, не знаю! Да что я, бессердешная, что ли? Да где взять-то, где? Рожу я тебе его, лес-то? Избу, может, свою прикажешь разбирать? Мало я самой себя на колхоз разобрала…
— А хоть и избу! — отвечал Сазонов. — Изба! Собственники чертовы!
Но в то же вечер Сазонов, квартировавший у председательницы, извинялся за ужином:
— Нервы везде… Ты извини, Степанида Федоровна, извини. Я, может быть, веришь ли, сам о пятистенке мечтаю. И чтобы, значит, и садик, и цветочки всякие…
— Да какие у нас цветочки! — примирительно гудела Степанида.
— Вот и я говорю: не до этого, — и, уже обращаясь к мужу Степаниды, Сазонов так же мирно продолжал: — Ведь откуда им быть, нервам? В сорок пятом году, как освободили нас из лагеря, то смотрели, обследовали, стало быть, и наши врачи, и французы, и прочие, так во мне, веришь ли, тридцать три кило было. Уж под сорок лет, мужик все же, а тридцать три кило. А? Я в себе каждую косточку, всякий мосол знаю… А потом в партию не брали девять лет, а я в ней с двадцать седьмого года. Откуда ж нервы? — Сазонов улыбнулся, словно говорил о чем-то смешном и странном, и виновато помаргивал коротенькими, опаленными ресницами: он, прикуривая, всякий раз опаливал себе то бровь, то ресницы.
Юрка из-за Сазонова прославился.
Дело было так. Учительница Гришанина, тоже городская, работавшая во второй бригаде вместе с Тоней, видно, что-то тяжелое подняла или на солнце перегрелась и тут же, на току, упала без сознания.
Сбежались, молча засуетились женщины, стали лить на учительницу воду, потом перенесли ее под навес. Юрка пошел вон с тока, чтобы покурить вдали от зерна, и натолкнулся на Сазонова, как из-под земли выросшего тут. Сазонов потоптался среди женщин, потом сразу к Юрке:
— Заводи!
До больницы — около сорока километров, ночью был дождь, дорога самая паршивая: переезд через речку, и там из балки сейчас ни за что не вылезешь.
Юрка остался на месте.
— Заводи же, что ты!
— Да что заводить! Завести недолго, да не проехать там. — Юрке казалось, что ничего особенного не случилось.
— Как не проехать? Надо проехать. Что ты, парень! Не видишь, что ли?
Тоня с растерянным и испуганным лицом, в сбившейся косынке и еще несколько женщин уже обступили Юрку, загалдели тоже. Учительница не приходила в себя.
— Ладно. Давайте! — сказал Юрка. — Только если застрянем, еще хуже будет.
— Проедешь, — сказал Сазонов.
И Юрка проехал. Черт его знает как, но проехал. Надо было гнать и в то же время не трясти учительницу — и он гнал и не тряс. Переехав речку, остановился, перед тем как брать подъем, и на руках вынес учительницу наверх. Голова ее лежала у него на плече, легкие льняные волосы падали Юрке на щеки и глаза. Учительница была тоненькая, как девочка, но странно тяжелая. Тоня бежала рядом и все поправляла брезент, которым укутали ей ноги.
Вернувшись к машине, он оглядел косогор, разбитую глинистую дорогу и решил рвануть не по дороге, а рядом с нею, по кустам, по самой круче. Тоня, стоя наверху, зажмурилась, когда машина, взбираясь, встала почти вертикально.
Юрка только улыбнулся, увидев потом ее лицо, и, не дав ничего сказать, велел грузиться. И снова гнал и гнал, оглядываясь в забранное проволокой окошко на сидящих в кузове женщин.
Наконец, промчавшись по тихому, словно вымершему, городку, подъехали к длинной одноэтажной больнице, сдали учительницу и подождали, что скажет врач.
Когда Юрка вернулся от колонки — он там умылся и долго пил, — Тоня уже стояла у машины.
— Устал? — спросила она.
— Чего шоферу уставать. — Юрка усмехнулся. — Он катается. Ну как она-то?
— Останется.
— А ты?
— Я поеду.
— Ну давай тогда в кабинку, что ли.
Юрке приятно было, как Тоня смотрит на него, и он тоже вполглаза стал рассматривать девушку — это впервые они тогда ехали вместе. Пыльная, загорелая, а в босоножках, и кольцо на пальце, и сережки. Оттягивая тормоз, наклонившись так, что ей не видно стало его лица, спросил, перейдя на «вы»:
— Не отсюда сами-то? А то, может, домой заскочите?
— Нет. — Тоня назвала свой город и невольно стала глядеть на домишки — такие же, в каком она жила с теткой, на пустые улицы, на киноафиши. В деревне она как-то забыла, что все это существует на свете.
В тот же день, когда они вернулись, Сазонов позвонил в редакцию районной газеты и просил написать про Юрку. «Самоотверженный поступок» — так называлась заметка, и были в ней такие слова: «превозмогая усталость», «даже старые опытные водители», «дорога непроходима», «взревел мотор» и тому подобное. Под заметкой поставили подпись Варепа, командира автоколонны. Вареп прочел, покраснел и стал тихо ругаться на своем языке.
— Удружили, — сказал тогда Юрка Сазонову. — Спасибочки.
— А что? — Сазонов удивился. — Ничего. У нас в первую пятилетку, знаешь, лозунг был: «Страна должна знать своих героев».
— Не знаю я, что у вас там было в первую пятилетку! — отмахнулся Юрка.
— Уж больно ты грозен, как я погляжу, — сказал Сазонов, смеясь.
Юрка сердился, но все-таки ему приятно было прочитать про себя в газете.
И вот теперь Сазонов сидел в кабине и, чувствовалось, собирался воспитывать.
Они уже порядочно отъехали от злополучного моста, и Юрка немного успокоился.
— Так сколько тебе в войну-то было? — снова спросил Сазонов, наклоняясь через Тоню.
— Было три, было и семь, а что?
— Где жил-то?
— Я с Урала сам.
— Поголодать-то пришлось, нет?
Юрка, придерживая локтями руль, закурил, длинно сплюнул в окно, потом ответил:
— Если вы мне это насчет зерна намекаете, то я сам не хуже понимаю… А только я так скажу: государство на двух моих рейсах, на бензине да на износе, больше потеряет — это факт. Тоже не глупенькие, считать выучились. Пускай делают, как люди, а то одни стараются, а другие… На каждый плюс два минуса.
— Ишь ты!
— А что, нет? Вот хоть дороги… Это, я ведь не знаю, что за дороги! Какая тут к черту машина выдержит? Я в армии в Германии служил. — Он глянул на Тоню. — Вот дороги! Везде! Любой шофер скажет. Там ЗИЛу сроду износа не будет.
— Видел я, товарищ, тоже ихние дороги, — сказал Сазонов. — Прошел… Так вот, если б Союз-то, как Германия, был, я бы один за всю жизнь все наши дороги замостил. Понял?
— Да ну! — отмахнулся Юрка. — И вообще не в том дело!
— Не в том, думаешь?
Юрка не ответил. Он вдруг остановил машину, выпрыгнул и пошел смотреть — не сыплется ли зерно в ту дырку в борту.
Немного сыпалось. Юрка выругался и опять стал надергивать мешковину.
Сазонов, высунувшись из окна кабины, смотрел на Юрку, щурился от солнца и мигал своими опаленными ресницами.
— Переживает все же, — сказал он Тоне.
До тока доехали молча.
3
Восемь женщин, включая Тоню, жили у Копасовых — у них самая просторная в селе новая изба, а хозяев всего двое — Клава, на последнем месяце беременности, и ее муж Володя, удивительно, как брат, похожий на жену: такой же круглолицый и беловолосый. В доме, кроме новенького желтого платяного шкафа, ничего еще нет, и оттого просторно и чисто. Полы белые, печь — без единого пятнышка: Клава скребет, чистит, моет целый день, несмотря на выпирающий живот. Стены в доме светлые, еще пахнут смолой, на них яркие плакаты и афиша кинофильма «Дон-Жуан» — красавец в черной полумаске со шпагой.
Приезжим отвели вторую, заднюю комнату. В нее ведет порожек с двумя приступочками, так что, когда стоишь в дверях, просторная первая горница видна как бы сверху и от этого кажется еще больше. На полу постелили темного от клевера сена, набросали у кого что было — одеяла, плащи — и спят, как на сеновале, только окна держат закрытыми, чтобы не лезли и не пугали парни.
Клава встает до солнца, и к тому времени, когда просыпаются все, у нее уже готов чугун мятой, запеченной с молоком, с румяной коркой картошки. Едят за выскобленным белым столом, пьют из стаканов и кружек кто чай, кто молоко, берут руками куски крупно нарезанной селедки, макают в большую деревянную солонку свежий, с холодными каплями на тугих и острых перьях лук. Дверь раскрыта, кажется, прямо в голубое небо, в окна ломятся веселые, твердые солнечные лучи. Завтрак каждый раз выходит шумным, быстрым, с хохотом и баловством. Курица вспрыгнет со двора на гребень порога, мечтая поживиться чем-нибудь в избе, оторопело квохчет от шума и смеха и нырнет неуклюже, с испугом назад. Большинство женщин старше Клавы, но она, сложив на животе руки, глядит на них, как мать, улыбается застенчиво, и ей кажется, что сама она никогда такой не была.
Она выходит провожать их на крыльцо, когда за ними заезжает машина, и смотрит, как они, хохоча, подсаживая друг друга, лезут в кузов.
Нравится Тоне эта новая жизнь и люди, с которыми она тут познакомилась. Она забыла все на свете, тоски ее как не бывало. Она сильно устает, спит как убитая и ест за двоих. Нравится ей и этот дом, и Клава, и то, что они все спят на сене. Незаметно для себя она впитывает разговоры того же Сазонова, и Юрки, и старика Вершинина и заражается общей заботой о хлебе. Ей одинаково интересно и утром, и днем, и вечером. Поехала она ведь, в сущности, просто так, случайно, но теперь ей кажется, что именно этого она и хотела, что сюда и надо было ехать. Просто трудно представить, как это ее сейчас бы здесь не было.
Копасовы и раньше разрешали в своем доме вечеринки и танцы, а теперь и вовсе, когда живут тут молодые женщины, и молодежь тянется сюда, не мешают собираться. Отсюда идут с песнями за деревню или сидят на пыльной, выбившейся под забором траве и на широком крыльце с перильцами, а то и танцуют прямо на дороге перед домом. В дождь все забиваются в избу. Приводят Гешу с аккордеоном, причем ящик с инструментом почтительно тащит кто-нибудь, а не сам Геша. Геша — маленький, коротконогий, в широких, забранных в сапоги брюках, в маленькой кепочке. Человек он безответный, играет не очень ловко, но зато безостановочно весь вечер. Приходит тракторист Валька, остряк местный, с тонким хитрым лицом, вертлявый, как уж. Деревенские девчата, с которыми совсем, кажется, подружились, работая вместе на току, входят сразу все — нарядные, надушенные, сверкающие чешскими брошками и клипсами, все с часами и держатся гордо и надменно. Приезжают иногда и шоферы — трое, пятеро, не больше. Их «штаб» в соседней деревне, и, кроме того, большинство из них — люди лет сорока, уже степенные, женатые. Да и устают шоферы больше всех, зерно стали возить и ночами, на очистку поставили дополнительные комбайны, а машин не прибавили. Шоферы, словно обугленные от жары, бессонницы, в заскорузлой от пота и глины одежде, ухитряются спать те несколько минут, пока машина стоит под погрузкой.
Юрка, например, Ляхов, с тонкой, черной от загара шеей, с серым от пыли лицом, видя Тоню, улыбнется издали, брови его разойдутся, но тут же снова что-нибудь не по нему, и он начинает ругаться. Один раз, выпрыгнув, минуя подножку, из кабины прямо на землю, он, держась за глаз, подозвал Тоню, сел на бунт и попросил вытащить соринку. Маленькая, черненькая, Лиза Денисова из городской библиотеки, Лиза-зажигалка, как прозвали ее уже здесь, была ближе к Юрке, но он все-таки позвал Тоню, стоявшую по колено на горе зерна. Сняв рукавицы, Тоня наклонилась над ним, а он, запрокинув голову, мигая, глядел в небо. Тоня близко увидела его подрагивающие, мохнатые от пыли ресницы, потрескавшиеся губы, услышала, как пахнет от него табаком, машиной, по́том.
С детства тетка всегда слизывала Тоне соринки из глаза. Тоня машинально хотела сделать сейчас так же, наклонилась впопыхах и вдруг, смутясь, выпрямилась.
— Ну же! — грубо позвал Юрка.
— Сейчас, сейчас, — заторопилась она, а руки были как не свои.
В другой раз вечером он стоял, покачиваясь, у машины, тупо смотрел, как девчата бросают зерно, и казалось, вот-вот упадет и заснет, точно пьяный.
— Отдохнули бы! — жалостливо сказала Тоня.
— Ладно, давай, давай! — не думая, ответил он, вовсе, кажется, не узнав Тоню.
Так что шоферам было не до гулянок. Да и остальным тоже. Оттого гулянья выходили недолгими. Играет Геша, одна-две пары, обычно «шерочка с машерочкой», танцуют, парни сидят у стен на полу. Валька вертится возле девчат, и они хохочут, визжат, хлопают его что есть силы по спине. Клава сидит, широко расставив ноги, грызет семечки, собирая шелуху в подол, улыбаясь, переглядывается со своим Володей. И по ней особенно видно, как все устали за день. Еще танцуют и смеются, а уж кто-нибудь пройдет из сеней в комнату с полотенцем на плече, и сидящие на приступочках посторонятся, и еще кто-нибудь поднимется следом.
Каждый вечер, ложась, Тоня вспоминает учительницу Веру Гришанину, она спала рядом, и они подолгу шептались с Тоней, обсуждая разные разности, если по общей просьбе Вера не рассказывала какую-нибудь книгу, которой никто, кроме нее, не читал. Они вместе стонали, и охали, и растирали друг другу поясницы в первые дни, когда взялись за непривычную и тяжелую работу. Они одинаково были грузчицами на току, в одинаково повязанных косынках, в одинаковых рукавицах и пили из одной бадейки. Им снились одни сны — зерно, зерно, зерно, лопаты.
Гришанина года на четыре всего старше Тони; хрупкая, тоненькая, она казалась даже моложе, однако незаметно, с самого начала, ее признали за старшую, как бы само собою возникло уважение к ней, и, когда Сазонов спросил: «Кто ж у вас будет командующий?» — все, глядя на Гришанину, сказали: «Вот она пускай», еще не зная даже имени учительницы. Гришанина два года назад окончила в Саратове институт и преподавала теперь в той школе, где училась когда-то Тоня. Преподавала ботанику. И все говорила о садах. Даже спросила как-то Степаниду Сомову: отчего, дескать, не посадят в колхозе сад. Председательница угрюмо отмахнулась:
— Что ты, девушка! Тут сроду-то садов не росло.
— Мало ли чего тут сроду не было! Вырастет! Взяться только.
— Не ты ль возьмешься?
— А хоть и я! Вот приеду со своими кружковцами осенью и посажу.
— С кружковцами? Тогда, конечно, — съехидничала Степанида.
Она пошла было, но остановилась, чтобы спросить:
— Чего сажать-то станете, может, мандарины?
— Вы зря смеетесь.
— Нет, чего ж смеяться, я не смеюсь.
Зимы три назад на партийной районной конференции, подойдя в перерыве к буфету, Степанида Сомова впервые в жизни увидела оранжевые яркие мандарины и, не зная, что это и как называется, лишь смутно вспоминая, что слышала или в кино видела такое, купила килограмм и, удивленно смеясь, стала нюхать и смотреть по сторонам, чтобы узнать, как их едят-то, эти чудные фрукты. А ребята, которым она привезла гостинец, сразу, чертяки, закричали: «Мамка, это что? Это мандарины, да? Мандарины?..» — Степанида попробовала и сама, ей мандарины не понравились, но, однако, она прониклась к ним странным почтением и, бывая зимой в городе, непременно покупала их и потом, трясясь в машине долгой зимней дорогой белой бесконечной степью, доставала мандарины из кулька, нюхала, глядела, удивляясь их запаху, цвету и тому, что они растут где-то на земле, и говорила в затылок своему шоферу Матвею:
— Ну, погляди-ка, надо же! И растет же такое, а?
Матвей, оглядываясь через плечо, отвечал с важностью:
— Сытрус. Давеча грузин на рынке за пятерку два продавал. Замерз весь, усишки обындевели, а стоит спекулироваит…
— Ну-ну, ладно, — гасла Степанида.
Гришанину, когда случилась с нею эта беда на току, все жалели. Степанида сказала:
— Жаль. Тонкая бабеночка, со смыслом. Понравилась она мне. Да и ясное дело, разве лопатой бы ей махать? И как это все делается, право слово!
— Да она сама попросилась, — виновато сказал Сазонов, с которым Степанида вела этот разговор.
— Сама! Вот этих-то, что сами, и жалеть надо. А эти, которые: зовусь, мол, Фомой, живу собой, — эти о себе сами не забудут.
Тоня прибрала брюки, кофточки, зеркальце учительницы, три обернутых в прозрачную бумагу журнала, которые Вера так и не раскрыла здесь, и рада была, что никто не лег на ее место.
Тоня, засыпая, все вспоминала тот вечер, когда они с Верой в последний раз ездили на речку. Они попросили Юрку Ляхова довезти их, и обе сели в кабину. Тоня оказалась рядом с Юркой, было тесно, свет от щитка с приборами слабо, снизу освещал руки и лицо Юрки. Юрка напряженно — из-за усталости — глядел вперед, в августовскую темь, в которой прыгал свет фар, высвечивая белую дорогу, далеко видную в темном поле. Тоня тоже всматривалась, словно помогала Юрке. Вера высовывалась в окно, глядела вверх и, захлебываясь ветром, кричала:
— Господи! Сколько звезд! Вот улететь бы вон на ту, вон, вон, видите, — это, кажется, Вега. Тоня, ты хотела бы?
— Не знаю, — отвечала Тоня робко. Она плохо слушала.
— Нам еще на земле дел хватает, — отзывался Юрка. — На земле-то порядку нет.
Учительница стала смеяться над ним, но он уже больше не вступал в разговор. У него была последняя ездка. Тоня и Вера просили, чтобы он заехал за ними на обратном пути, он обещал. Они выкупались, оттерлись мочалкой, долго сидели на сухой теплой коряжине, опустив ноги в воду. Тут, у реки, в овраге, было еще темнее. Изредка тихо всплескивала рыба, и колыхалось в воде отражение густых звезд. Звезды — низкие и чистые — стояли над самой головой, но по окраинам небо затянула тьма, и там словно что-то происходило — степь и небо слились, и горячее ровное дуновение проносилось время от времени над степью. Ночь шла непокойная, но здесь теплая вода текла лениво, кусты молчали. Вера полулежала, опершись спиной о задранный кверху корень, глядела вверх и спрашивала:
— А вот тебе не кажется, когда долго смотришь на звезды, что они будто бы звучат?
Она говорила, не ожидая ответа, сама с собой, и Тоня, понимая это, не отвечала.
Потом они поднялись на дорогу и пошли босиком по мягкой, теплой внутри пыли.
Тоня оглядывалась, ожидая увидеть позади свет машины, но в той стороне лишь стояла густая, тревожная водяная тьма, от которой становилось страшно. Юрка так и не догнал их.
Клава не спала, ожидая их с ужином. Лиза-зажигалка в длинной мужской ковбойке, которая заменяла ей ночную рубаху, сидела против Клавы у стола, подперев кулачком щеку, и глядела на афишу с Дон-Жуаном. Прикрученная керосиновая лампа горела на столе, и огромные тени лежали на потолке и стенах. И Дон-Жуан весело улыбался под своей полумаской из тени. Клава, тяжело вздыхая, обшивала лентой крохотный чепчик. Тоня и Вера потихоньку сели за стол, пили молоко с черным хлебом, и учительница, возбужденная, говорила и говорила шепотом и смеялась над Лизой. Рубаха у Лизы расстегнулась, и виднелась совсем маленькая острая грудь.
— Влюбиться хочется, девочки! — стонала Лиза. Вера смеялась. Клава улыбнулась, подняв от шитья глаза. А Тоня вдруг встала и, ничего не сказав, пошла спать.
4
Хлеб горел. Зерно скапливалось на токах и, мокрое, грелось и прорастало. Навесов по-прежнему не хватало. Все издергались, устали, и к тому же, как всегда бывает, к основной беде добавлялись другие: то машины пришли, а подготовленного зерна нет, то грузить некому, то машин нет — простояли в очереди у элеватора. Шоферы ругали бригадиров и весовщиков, бригадиры — шоферов, приезжие — колхозников, колхозники — приезжих, и все вместе — председателя и районное начальство. Железнодорожник Петров, из приезжих, ушел с тока, сказав: «А, все одно сгорит! Нет моих сил глядеть на безобразия!» — и уехал вечером в город. Фанерный плакат «Сдадим хлеб государству к 1 августа!», торчавший все время на видном месте, валялся, затоптанный, в грязи, густо перемешанной с зерном. В два-три дня все так перепуталось, что, казалось, железнодорожник прав: надо бросить к черту, все равно сгорит. Но не уходили.
И машины с зерном все шли и шли по дороге, и где-то в сухих закромах копилось несметное общее богатство — хлеб.
В сильный дождь, укрыв, чем можно было, бурты, сидели дома. Молодежь собиралась у Копасовых — слонялись вялые, как мухи; сидели кто с книгой, кто за шашками, кто с вязаньем. Маленький Геша одиноко пристроится у двери, склонит ухо к аккордеону и, не снимая кепки, наигрывает потихоньку бог весть что.
В избе бригадира Тамбулатова, где квартировали Вершинин и пожарник Федяев, составилась своя компания — тут собирались мужчины, старики, вели разговор обо всем на свете; у Тамбулатова был приемник — приходили в семь часов слушать последние известия да так и оставались. Но больше говорили о своем: о колхозе. Изба старая, темная, но просторная. У печки сушатся сапоги и ватники, за печкой, за загородкой из неотесанных жердей, живет взятый в дом на эти дождливые дни рыжий, с мелкими кудряшками на лбу, большой уже бычок Яшка — стучит копытцами, глупо и долго глядит, выставив морду, то и дело поливает соломенную подстилку. С печки, из-за занавески, смотрят вниз Тамбулатовы ребята — все черные, раскосые и тихие. Девочка подстрижена, как мальчишки, и не поймешь, где кто. За столом — босые, полураздетые мужики: раскрасневшийся от еды и разговора старик Вершинин, долговязый Федяев, сам Тамбулатов в чистой нижней рубахе и мягких носках-сапожках, дряхлый дед Ванечка — у него худое, с шелушащимися пятнами лицо, голубые, в розовых веках, глазки, дрожащие белые сухие пальцы. Он один снял только шапку и сидит на лавке у двери.
На низкой скамеечке у печки, расставив ноги в тяжелых сырых сапогах, пристроился конюх Фуфаев. Он похож на цыгана своими черными кудрями с проседью, смуглым лицом, черными красивыми бровями, большим прямым носом. Но выговор у него будто нарочито русский: он говорит «скрозь», «притчина», «опосля», «памадоры», «таперича». У него есть огромный черный кобелина страшного вида. Фуфаев назвал его Вулкан, а на селе, потешаясь, кличут: Блохан. Любит Фуфаев приврать, и так как четыре года пробыл на войне, прошел, говорят, от Кавказа до Югославии, хоть и служил в обозе, то рассказывает уверенно всякие чудеса — все равно никто проверить не может. Выдумает что-нибудь да и скажет, что было оно где-нибудь под румынским городом Тырговиште или на реке Мораве.
Только что отобедали. Ели щи, свинину с картошкой, запивали ледяным терновым взваром. Съели два арбуза. Тамбулатов взял ложку, большой ломоть хлеба и ел арбуз ложкой. По деревянному столу стучали и прыгали черные блестящие косточки. На всех распили бутылку водки — от простуды.
Тоня сидит с ногами в дальнем углу на сундуке, сняв мокрые, совсем разбитые боты вместе с босоножками. Она пришла на минуту узнать насчет завтрашнего дня, но жена Тамбулатова, поглядев на мокрые Тонины волосы, прилипшие ко лбу, на ноги, не пустила ее назад, велела разуться, дала теплые мохнатые носки, от которых ногам теперь горячо и колко. Мужчины уговорили ее выпить граненую стопочку, и она, смущаясь, выпила. И сейчас на этом сундуке, покрытом черной овчиной, чувствует себя так хорошо и уютно, как не бывает и дома. На дворе дождь стал сильнее, и как вспомнишь длинную мокрую улицу, серые дома, рябые от ветра лужи, то становится еще теплее и приятнее. Щеки у нее горят, спать не хочется, и она внимательно слушает разговор. Он интересен ей, иногда даже хочется вставить свое слово, но она не смеет.
Разговор идет о хлебе, о Степаниде, о начальстве вообще, а там уж добирается и до главных людей в государстве, идет извечный мужицкий спор о том, кому живется весело, вольготно на Руси. И все склоняются к тому, что теперь правительство все, что надо, колхознику дало, правильное сделало направление, но многие еще живут по-старому, никак не раскачаются, и от этого нет еще настоящего порядка. Да и трудно выправить разом все старые ошибки. Мало еще молодых, боевитых и бесстрашных людей.
— Да и что хотите! — говорил старик Вершинин с непривычно серьезным видом. — Сколько ж лет все одно продолжалось. Натаились досыта.
— Во-от, — врастяжку, дребезжащим голоском тянул от двери дед Ванечка, — оно и говорится: царь согрешит, весь народ не замолит…
— Ну, народ сам завсегда знает, когда дальше нельзя, — мрачно вступал пожарник Федяев, которому не нравился и причинял опасливое беспокойство этот разговор. — В народе всегда прирост есть. Он, так сказать, сам из себя себя делает. Уж сколько в одну войну повыбило людей, подумать страшно, а ничего…
— «Ничего!» — пробормотал, качнув головой, конюх Фуфаев. — Хорошее «ничего»!
Помолчали. И в тишине снова задребезжал дед Ванечка, потирая свои сухие пальцы.
— Вот и говорится: одной рукой жни, а другой сей…
— Нынче, конечно, другое, — продолжал свою мысль старик Вершинин. — Прошло, слава богу, то время.
— Да что говорить! — поддержал Вершинина, почти выкрикнул пожарник. — В коммунизьм входим! От всего мира России честь!
Все словно бы чуть смутились от митингового этого вскрика, а дед Ванечка скрипуче захихикал в тишине. Это хихиканье не понравилось. Все тяжело умолкли, и дед вдруг как бы остался один на своей лавке у двери. Почуяв неладное, он широко открыл голубые глаза, по-старушечьи закивал, заулыбался:
— И что, вишь ты, на меня живучка напала, живу и живу. И к бабе уж давно негодный стал, и слышу вот худо, а? Вы вот говорите, а я что слышу, а чего нет…
Конюх поднял глаза на деда и глядел в упор.
— Сало, говорят, надо пить, — продолжал дед. — А я его сроду не ел, сало-то…
— Сало, сало! — вдруг передразнил конюх, — Уж тебе-то жалиться! Как вы жмоты были, Тощевы, так и остались. И картошка завсегда у них, — обратился он к приезжим, — и хлеб, и памадоры! С одной бахчи такие тыща́ гонют! И овцы, понимаешь, и коровы! Отчегой-то колхозную, бывалочка, корову ветром шатает, квасом доится, только что рога, а так навроде кошки, а у них — идет, так глаже борова. А? — снова обернулся он к деду Ванечке. — Почему? А потому, что завсегда плевать вам, Тощевым, было на общественность! Вам-то что! А таперича обратно вам укорот — вот и не ндравится!
Фуфаев даже вспотел от долгой своей речи. Все глядели на него чуть удивленно, но вдруг вступил Тамбулатов.
— А! — цокнул он языком. — Правда! Чужие едут, из города едут, помогают. Свои сидят, моряпогоды ждут.
Казалось, спор пойдет серьезный, старика заклюют или он поднимется от греха и прошуршит в дверь. Но дед Ванечка вдруг окрепшим и уже без елея голосом стал обороняться.
— Болтун ты, Митька, был, болтун и есть, — сказал он Фуфаеву. — А тебе, Тамбулат, как бригадиру, об другом надо болеть. А то, вишь ты, не первый год хлеб-то горит. Крику много, а дела нет.
И снова пошел спор о том, отчего да почему не справляется колхоз с уборкой, кто виноват: дождь или люди. И снова дребезжал дед Ванечка:
— Во-от! Оно и говорится, что припасешь, то и сосешь…
Тоня слушала, и ей представлялось знакомое: ток, степь, груженые машины, мокрое, накрытое темным от сырости, рваным брезентом зерно; усталое, обросшее лицо Сазонова, Степанида, Юрка, командир автороты Вареп. Среди всех Тоня видела и себя — то на току, то в поле, то на сортировке, то у веялок. Она слышала этот разговор, в котором была тревога людей об общем деле, и ей не верилось, что все они, и она в том числе, не справятся, не сделают то, что нужно сделать, не спасут хлеб. И ей хотелось закричать на деда Ванечку за его ехидство и нехорошее неверие в то, что все они делали тут. Как же так? Столько дней, машин, людских усилий — и зря? Руки ее стали грубыми и пальцы толстыми и словно растопыренными, выгорела от пота и солнца желтенькая кофточка, в которой она работала: она забыла все на свете — где жила и что делала прежде, ни о чем ей не думалось все это время — как раньше, все силы ее, без остатка, расходовались на тяжелой работе.
И почему-то вспоминается ей сейчас, как совсем недавно они возвращались с поля с девчатами и как было весело и хорошо. Их вместо тока послали на дальний участок ломать кукурузу, початки. Вообще кукурузу косили на силос — еще, в другой раз, Тоня видела, как с грузовика сваливали в бункер силосорезки, стоящей на краю глубокой бетонированной ямы, кукурузу; силосорезка, стуча, как пулемет, молола стебли вместе с початками, зеленая масса из железного зева сыпалась в яму. А в яме ходил по кругу, недовольно мыча и вскидывая вверх широкую голову, молодой черный бык, и парень в высоких резиновых сапогах водил его, проваливаясь и спотыкаясь, на короткой узде, оборотись лицом к быку, время от времени стегая его веревкой и и надсадно и нарочито грубо крича на него. Так закладывали в колхозе силос впервые, и вокруг ямы стояли любопытные — в большинстве мальчишки, рассуждая: хватит ли кукурузы, чтобы заполнить яму, а если не хватит, то как тащить оттуда быка.
На семенном участке, куда их послали, початки надо было обламывать руками. Работали целый день, натрудив плечи и поясницы, натаскавшись к машинам из зарослей кукурузы корзин с початками — початки твердые, как дерево, туго запеленутые в зеленые шершавые листья и шелковые влажные волокна.
Обратно пошли пешком, шли весело, девчата кричали частушки, выплясывали на дороге. Развеселились неизвестно почему — просто так, а может, оттого, что вдруг вывалилось из синих туч солнце и садилось за степь, красно сияя, обещая назавтра погоду, и тучи, зарозовев снизу, быстро неслись в сторону от солнца, длинно растянувшись по небу. Сидя тут, на сундуке, в теплой избе, Тоня словно опять видела, как по дальнему полю, бросая длинную тень, шел трактор. Ветер дул в сторону трактора, и мотора не было слышно. Потом показалась деревня, там чью-то красную косынку и зеленую кофту ярко высвечивало заходящее солнце, доносилось издалека громкое «цыпа, цыпа, цыпа!», тени от домов тянулись по-вечернему далеко, и все казалось своим, родным, и Тоня чувствовала, что соскучилась за день по деревне.
Ей нравилось тут, она не замечала, как привыкла и как вместе со всеми стала болеть душой за то, что делала. И жаль, что скоро уезжать.
Вдруг в разговоре упомянули о латвийской автороте. Тоня, спохватившись, вслушалась. Говорил Вершинин:
— Спасибо им, а то б и вовсе…
— Спасибо-то спасибо, — отвечал конюх Фуфаев, — а тоже они не за спасибу работают.
— Еще захотел! Да вот уедут скоро, поглядим, как без них-то.
«Уедут скоро», — повторила про себя Тоня и стала думать о Юрке. Сердце ее само по себе заколотилось. Он, видно, не свободный, этот Юрка, женатый, или, может, девушка есть. Злой, как черт. Все не по нему. Я, говорит, работаю, я и говорю. Имею полное право. Уедет в свою Латвию. Что за Латвия такая? Поглядеть бы. И что он там живет? Места ему мало, что ли? Жил бы тут. Строгий. Она не видела еще таких строгих молодых парней. А может, он и не молодой? Может, ему уже лет тридцать?
Она нарочно думала о нем сердито. Все ему надо, всех он судит, как судья. Почему? Какое ему вроде дело до этого колхоза? Приехал, прогонял, сколько надо, рейсов, получил свою зарплату — и ладно. А то ругается, как хозяин. Лучше б лишний раз пришел к Копасовым, а то намотается и спит. И не увидишь его. Правда, она сама тоже уже научилась требовать и говорить прямо, если что не так. А то что же, какой же интерес, если сегодня наломаешься на работе, а завтра все по-старому? А интересно, долго ли письмо идет в Латвию? Она никогда еще писем не писала и не получала ни от кого. А что, если узнать потихоньку его адрес и потом вдруг написать? Только зачем она ему нужна со своими письмами? Уедут скоро. Может, она уедет еще скорее.
Ей стало беспокойно, и не захотелось больше оставаться тут, на сундуке. Может, у Копасовых собрались? Она спустила ноги на пол и ожидала, когда появится жена Тамбулатова. Та вошла с ведром, с оголенными по локти руками — видно, только что подоила корову. В ведре пузырилось молоко. Бычок Яшка, услышав стук ведерной дужки, забил копытцами, налег на загородку и замычал. Тамбулатов встал, взял у жены ведро и стал сам поить Яшку, опустив в молоко руку. Бычок сунул голову в ведро, поймал пальцы хозяина и стал шумно и жадно сосать с руки, сильно толкая ведро и постанывая. Все молча глядели.
— Свово-то выпаиваешь, — как бы между прочим заметил дед Ванечка и поднялся уходить.
Тамбулатов будто не слышал и только, когда дверь закрылась, махнул рукой и сказал что-то зло по-казахски.
Конюх Фуфаев тоже собрался идти, и Тоня вышла вместе с ним. На дворе совсем стемнело. Дождь все сыпал — частый, пробористый, холодный.
— У Копасова Володьки, что ли, живешь? — спросил Фуфаев Тоню.
— Ага.
— Ну, по пути…
Они двинулись, обходя лужи, привыкая к темноте, сутулясь под дождем.
— К нам-то как, по комсомольской, что ли, линии?
Тоня не знала, как ответить.
— Да, вообще-то… Но я и сама хотела.
— А-а… Ндравится, значит?
— Не знаю. Вообще нравится.
— Да-а… Погодка! — Фуфаев помолчал. — Оставалась бы, коли ндравится. Жениха найдем… Чего смеешься?
Фуфаев остановился у небольшого домика без изгороди и громко позвал:
— Вулкан! Вулкан!
Никто не отозвался и не появился.
— Что за притчина! — пробормотал Фуфаев и снова позвал. — Сейчас прибежит, паразит, — пообещал он Тоне и стал вдруг рассказывать, что тоже жил в городе, и кое-какую видел Европу, и у румынского боярина во дворце стоял, но всюду тесно и неудобно, а дома, хоть и лиха много, а все лучше нету. «Не какой-нибудь чуземный край», — сказал он.
Черная большая собака явилась откуда-то, лениво подошла и стала шагах в двух от Фуфаева с таким видом, словно готовилась в ту же секунду повернуть обратно.
— Пришел? — закричал Фуфаев. — У, проклять!.. Вот так-то, — сказал он Тоне. — Ну, до свиданьица. А погода еще будет. Основной-то хлеб взятый уже, конечно. Тот-то год в это время хуже было. Хуже, точно… Вот так… Ну, шагом марш! — закричал он опять на собаку. — Холера б на тебя, черта поганого!
Тоня пошла дальше одна и опять думала о Юрке и слышанном разговоре. Дождь все сыпал, и не хотелось даже вспоминать о лежавшем на току зерне.
5
Сентябрь встал ветреный, прохладный, чистый, солнце до полудня сияло на небе, и только потом с востока нагоняло тучи, и они, быстрые, клочкастые, низко неслись над полями. Но дождь не лил. В один день высохли дороги. На токах, торопясь, не упуская ни часа, с рассвета до ночи веяли зерно. Работали все, кто мог: настроение переменилось. За день успевали сделать много, и оттого дни выходили большими, полными, счастливыми. Обед привозили на ток, ели много и весело. Все удавалось, в работе появились лад и точность. Степанида, Сазонов, Вареп, Тамбулатов и другие бригадиры все время держались на людях, готовые, если нужно, вмешаться, помочь, добавить машин. Никто не вспоминал о том хлебе, который погиб. Не было свободной минутки. На третий день, как установилась погода, Тоня узнала, что Вера Гришанина завтра выписывается и едет прямо домой, в город. Тоня не смогла даже поехать встретить учительницу, хотя так хотелось поговорить.
Из района приехало на «Победе» начальство: председатель райисполкома — высокий дядька в сапогах и кожаной кепке и партийный секретарь — симпатичный, молодой, в светлом плаще и без шапки. Не мешая, они стояли в сторонке со Степанидой, Сазоновым, переговаривались. Вдруг все вместе весело засмеялись. Тоня впервые видела, что Степанида смеется. Лиза-зажигалка побежала пить и два раза прошла мимо симпатичного секретаря, чтобы он обратил на нее внимание. Она бы и еще танцевала перед ним, если б Тоня строго не крикнула: «Лиза! Довольно там! Иди!» Лиза послушалась — они работали в паре, и Тоне было трудно одной.
Даже Юрка Ляхов в эти дни глядел веселее. «Ну, колхознички, — кричал он, выскакивая из машины, — дадим стране угля!» Девчата, когда появлялся Юрка, подмигивали Тоне и переглядывались, а Лиза шептала: «Ну, хочешь, спрошу? Хочешь?» Тоне казалось, что все слышат этот шепот, она диковато оглядывалась, краснела и говорила сердито: «Да ну! Сбесилась ты вообще, что ли!»
Уставали так, что едва взбирались на машину, едучи домой, но вечерами все-таки шли гулять, надев вя́занки, набросив пальто на плечи. Спали мало, но наутро вставали бодро и быстро, и спать не хотелось. Ходили на ночь глядя за четыре километра в кино, в совхоз, возвращались поздно, растянувшись парами и группами, пели под Гешину музыку. Однажды шли так, дурачась, парни озорничали, то и дело кто-нибудь из девчат взвизгивал или убегал вперед, топая по дороге. Вертлявый тракторист Валька вдруг подскочил к Тоне и цапнул ее обеими руками за грудь — сильно и больно. Тоня, и сама не зная как, в ту же секунду двинула его куда-то в плечо, он отлетел шага на три, не удержался и сел на землю. Тут же вскочил, отряхнулся и с восторгом выругался: «Вот слон, черт!»
Девчата захлопали, запрыгали вокруг. Тоня шла впереди, сердясь с горящими щеками и все чувствуя на груди Валькины пальцы. «Ну что уж ты так надулась-то, подумаешь!» — сказал кто-то из девчат, догнав ее и заглянув в лицо. А она вспомнила повара Савву, сватавшегося к ней, свое кафе, соседа Витьку-голубятника — это, пожалуй, в первый раз подумала она о доме и ощутила снова то же, что ранило ее перед отъездом. Как там тетка? Что у Ани? Тоня увидела себя на крыльце в маленьком чистом дворике, глядящей в близкий забор с прибитым на нем рукомойником. И вдруг стало пусто и страшно. Ей казалось сейчас, что не она, а какая-то другая Тоня жила там, у тетки, давным-давно, не месяц, а много лет назад или вовсе никогда не жила, а только привиделось. Казалось, там нет места для нее нынешней, и тут она не своя, и неизвестно: кто она, где она? Вот шла здесь, среди степи, против ветра, во тьме, и была только тут, нигде больше — ни в прошлом, ни в будущем, ни с кем, ни с чем не связанная, только со всей землей, вольная выбирать себе людей, города, дороги, жизнь, а пока ничья, одна, сама по себе, оставшаяся под высоким необъятным небом, между тем, что было раньше, и что должно быть когда-то потом.
Далеко позади играл Геша, и высокий девичий голос пел «матаню». «Ой, да растает лед с водою…»
А утром снова — солнце и ветер. Клава Копасова, выйдя на зады нарвать чернобыльника и связать веник, вдруг закричала там, и Лиза-зажигалка и еще две девушки, подбежавшие к ней, увидели: она стоит на коленях, головой ткнувшись в землю, в корчах боли.
Клаву увезли на машине, которая пришла за девушками.
Бледный Володя без пиджака сел в кузов и, стесняясь, взял жену на руки. Боль, видно, чуть отпустила, и Клава все беспокойно повторяла: «Ой, приданое-то, приданое-то…», и ей в ноги положили чистый узелок с детским приданым. В последнюю минуту разжали ее побелевшую руку и вытянули зеленый тощий веник.
На работу пошли пешком и все боялись: не родила бы Клава дорогой.
К вечеру приехал на Юркиной машине Сазонов, сказал, что из правления звонили в больницу, и там ответили: у Копасовой девочка, три кило шестьсот.
— Все слышу я, девочки да девочки, — добавил Сазонов. — Это хорошо. Пацаны-то, говорят, к войне.
— Предрассудки, — сказал Юрка насмешливо, высунувшись из кабины, он улыбался Тоне.
В этот вечер у Копасовых собралось много народу. Пришли родственники, соседи. Володя, в голубом шелковом галстуке, завязанном огромным узлом, принимал поздравления. Он выпил с парнями и сделался красным, пухлым, совсем застенчивым. Ему трясли руку, хлопали по плечу, каждый говорил: «Ну, теперь парня надо!» Или подначивали: «Что ж ты, Копасов, девку-то? Бракодел, бракодел!» Приехала Степанида, вошла, оглядела хозяйски дом; обняв Володю, три раза поцеловала, прослезилась и велела:
— Ты береги жену. Она у тебя золотая, Клавдия-то.
Был тут и Юрка, и как-то так вышло, что они с Тоней оказались вдвоем на крыльце. Он сидел боком на перильцах, а она стояла у столбика. Он курил, она лущила половину огромного подсолнуха с еще мягковатыми, пахучими и липкими семечками. Было прохладно и ветрено, но оба не замечали холода.
— Вареп телефонограмму сегодня получил, между прочим, — говорил Юрка. — Дней через пять — по коням!
— Да?.. Ой, Блохан! — Тоня вдруг заметила неподвижно стоявшую у крыльца черную большую собаку.
— Пошел! — крикнул Юрка. Собака не пошевелилась.
— Да пусть! — заступилась Тоня. — Мы тоже скоро… — сказала она.
— Вам что. Километров сто-полтораста? Не больше?
— А вам?
— Нам? Десять раз по стольку да еще столько.
Помолчали.
«Жаль!» — хотела сказать, но не сказала Тоня.
— Вот так вот, в таком разрезе, — будто подвел итог Юрка, а Тоне опять захотелось сказать: «Жаль».
Дверь отворилась, вышел Фуфаев. Собака встала передними лапами на нижнюю ступеньку и покорно смотрела вверх.
— Ах ты, Гитлер! — заорал Фуфаев, наступая. — Ты почему? Марш!
Вышел еще кто-то, загомонили, засмеялись, выбежала Лиза-зажигалка, зовя Тоню, но, увидев рядом Юрку, сказала: «Ах, ах, простите!» — и ускакала обратно. И Тоня смутилась. Потом Юрке уже пора было ехать.
— Ну, увидимся еще! — крикнул он Тоне из кабины. Мотор работал, и яркие фары далеко высветили улицу.
— Да! — отвечала Тоня. — Ладно! Пока! — и махнула подсолнухом.
Но поговорить им больше не удалось. На току они еще несколько раз виделись, но вдруг стало ясно, что делать больше нечего — приезжим, во всяком случае, — и можно уезжать. Машины латвийской колонны еще оставались.
Когда Сазонов увозил свою группу, случилось так, что не со всеми даже удалось попрощаться. Шоферы торопились, сердились — была суббота. Не видела Тоня и Юрку. Прощание вообще вышло торопливым и печальным. Как нарочно, просыпался опять из шальной тучи дождь. Далеко в поле, над всем простором, светило солнце, а тут, над деревней, над тремя машинами, в которых уже сидели, прикрыв головы лопухами и прозрачными голубыми и белыми плащами, лило изо всех сил. Было часов одиннадцать дня, все работали, даже ребятишки не вернулись из школы. На дороге стояло лишь несколько женщин и Фуфаев с Вулканом. Фуфаев надел на голову мешок углом, Вулкан стоял мокрый, понурый. И они уже казались Тоне чужими, и деревня тоже, и степь, черная и желтая, освещенная солнцем, с тенями облаков. И Тоня испытывала смятенное чувство потери. В машине кто-то говорил: «Ну, слава богу, кончилась эпопея!» А Тоня, как взглядывала на женщин, на Фуфаева с Вулканом, хотела зареветь.
Лиза села рядом на дно кузова на мокрое сено. Она прикрывала Тоне спину своим плащом, а Тоня все повертывалась и глядела на провожающих.
— Что ты? — спросила Лиза.
— Да так, вообще… — отвечала Тоня, стараясь улыбнуться.
Машины двинулись, скоро выкатились из-под тучи и быстро побежали по огромной степи под солнцем.
6
На широкой песчаной площади у ремзавода три дня стояла латвийская автоколонна — ждали тех, кто подъезжал из дальних колхозов. Шоферы отдыхали. Утром, заполнив кафе, они завтракали и пили пиво. Многие засиживались до обеда, обедали и снова пили пиво. Потом ужинали. Высокие, молчаливые люди, они не шумели, не бузили — пили пиво и курили. Только раза два спели одну и ту же красивую протяжную нерусскую песню. Два дня горожане никуда не могли попасть — ни в кино, ни в баню, ни в кафе, ни в тир в парке, но никто не обижался. Встречали шоферов хорошо. Всюду латыши, латыши, но среди них ни одного из тех, с которыми Тоня работала. Не было и Юрки.
Он появился только к вечеру третьего дня — в красной клетчатой рубашке и кожаной короткой куртке, подстриженный, выбритый. Сердце у Тони колотилось и проваливалось. Она стояла с подносом в руках, с четырьмя гороховыми супами и даже не могла сразу подойти. Он, подняв руку, помахал ей. Вместе с ним вошли его товарищи. Они тоже заулыбались Тоне, зашумели, но тут же их окружили, стали хлопать по плечам, и вот уже, подставив стулья, усевшись по десять человек за маленькими столами, все вместе громко говорили, смеялись и требовали пива. Юрка пил, как и все, смеялся с товарищами, но время от времени искал глазами Тоню и улыбался ей. Тоня старалась быть все время в зале.
— Ладно, подождешь! — неосторожно сказала ей буфетчица Зоя.
— Некогда ждать! — обрезала Тоня. — Там люди сидят!
— Ишь ты! Сидят! Они всегда сидят. Что-то выпендриваться ты стала много — премию, что ли, за обслуживание выколачиваешь?
— Скорей! — прямо-таки зашипела Тоня.
— Да ты что! — буфетчица опешила. — Совсем уж? — И стала рвать ленту с чеками и чиркать на ней карандашом. Касса стояла тут же, но давно не работала. — Ладно, я тебе припомню!
— Напугала! Долей-ка лучше кружки!
Уставив поднос тяжелыми кружками, Тоня легко и плавно выскользнула в зал и, увидев Юрку, тут же забыла о Зое. Десять рук протянулись над подносом, потом кружки сошлись над столом, и все загомонили:
— За Тоню! За Тоню! За Антонию!
Ночью шоферы жгли на площади костры — было холодно, а эту ночь они остались у машин — утром колонна уходила. Сидели вокруг огня и рассказывали разные истории. Городские мальчишки допоздна торчали у костров. Вера Гришанина, Сазонов, пожарник Федяев, Лиза Денисова и Тоня приходили прощаться. Вареп, сняв фуражку, поцеловал девушкам руки. Тоне первый раз в жизни целовали руку.
Прощались весело. Стояли у самого большого костра — там горели коряги, которые мальчишки наносили с берега Волги, и пакля. Все были не такие, как в деревне, не так одеты: на Вере синий плащ, голова не покрыта, на Лизе Денисовой модное светлое пальто с большими пуговицами, только у Сазонова видна из-под пальто суконная черная гимнастерка. И все-таки, собравшись вместе, они как бы снова стали сортировщицами, веяльщицами, грузчицами, бригадирами. Прощались весело, потому что, в сущности, вышла встреча, и все радовались встрече и еще не понимали, что завтра расстанутся и больше никогда, может быть, не соберутся вместе. Вспоминали Степаниду, Тамбулатовых, Клаву Копасову и Володю, конюха Фуфаева, даже Вулкана. И выходило так, что о всех можно сказать только хорошее и что все, что было в деревне, тоже было только хорошим и веселым. Вспоминали не дождь, грязь и усталость, а звездное небо, горячий запах сухого зерна, стук машин, степь.
Костры горели всю ночь. Тоня с Юркой гуляли по прилегающим к площади улочкам. Выходили на площадь и видели силуэты людей, сидящих вокруг огня, и контуры машин. Потом входили в другой переулок, шли до его конца, поворачивали и снова выходили на площадь. И всякий раз силуэтов становилось меньше, а огонь слабее.
Молчали. Только один раз Юрка сердито, как всегда, сказал:
— Три дня сотня машин стоит без дела. Ну? Правильно это? Да погоним порожняком. Хоть арбузами бы нагрузили, что ли!
Он проводил Тоню домой. Начало светать. Маленькие замшелые домишки с закрытыми ставнями спали. Они долго еще стояли у ограды, сквозь которую лезла жухлая сирень. Тоня дергала сухие, свернувшиеся листья и растирала их в ладонях. Они не поцеловались, ничего не сказали друг другу. Тоне все-таки захотелось посмотреть, как уйдет колонна, и они снова пошли вниз, к площади.
— Жалко, мало у нас было времени, — сказал Юрка и чуть усмехнулся. — Не до того, понимаешь…
Тоня не ответила. Она думала, что, наверно, даже хорошо, что все так получилось. А то сидела бы да ждала писем, как Аня. Та вон и в кино три месяца не ходила, дурища, боялась: вдруг Володя ее приедет, а она в кино. Но все-таки она чего-то ждала, намека, обещания, и расставаться не хотелось. Она почти не глядела Юрке в лицо, а только видела перед собою красные клетки его рубахи.
Стало совсем светло, они снова вышли на площадь. Костры дотлевали, у машин темнели фигуры, и то один, то другой мотор начинал фырчать и кашлять. Кто-то залил из ведра костер, и белый пар, дым и серый пепел высоко поднялись в воздух. Пахло бензиновой гарью. Юрка смотрел на все, чуть подавшись вперед. Тоня понимала, ему надо идти. Ей стало грустно, и она подумала, что завтра ее жизнь опустеет, как опустеет сейчас эта площадь.
Юрка вскинул руку, взглянул на часы.
— Двадцать шестого, — сказал он виновато. — Пора. — Он побежал к своему ЗИЛу, несколько раз оглянулся, помахал рукой.
Первые машины, выстраиваясь друг за другом, уже выходили из города.
ВЕСНА НА ПРАВОМ БЕРЕГУ Рассказ
С. Егорову
…Там теперь, наверное, солнце, думал Сергеев, конец марта все-таки, днем припекает. Бывало, в полушубке в такие дни уже тяжело — где-то он, его черный полушубок с обгорелой полой? А самосвалы в грязи по самые стекла, а деревянные тротуары подсыхают и дымятся на солнышке. Как это пелось в старой их песенке? «А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы…» Вот-вот, где мостовые скрипят, как половицы. Надо будет сойти с автобуса на Енисейской, возле второй столовой, если она там еще есть, и пройти всю улицу до конца — мимо фотографии, мимо хлебного, до самого клуба.
Он сидел во Внукове уже два часа, иркутский самолет задержали, был третий час ночи, досадно, но делать нечего, пришлось сидеть, ждать, слоняться, пить кофе, окунуться опять в аэродромное ожидание. Внуково совсем стало напоминать какую-нибудь узловую станцию, Тихорецкую или Мичуринск, вовсе стал народный транспорт — кого только нет. И дух был ночной, вокзальный, тяжелый — знакомый, родимый дух прежних странствий. Не все же вам, мистер Сергеев, по заграницам раскатывать, побывайте и на старых своих, на заветных местах.
Его новенький чемодан-портфель, желтый, блестящий, с привязанной уже аэрофлотской бирочкой стоял рядом, у кресла, ушанка лежала на коленях. Он курил, листал журналы, видел себя как бы со стороны: белый воротничок, манжеты с поблескивающими запонками. Утром он успел постричься в министерской парикмахерской, сам чувствовал, какая у него теперь красивая голова. И доволен он был чертовски — легко и весело было думать, что он летит не куда-нибудь, а на Правый, где оттрубил шесть с лишним лет, от первой палатки, от первой просеки. А вот теперь он уже почти четыре года там не был, в большие, черт возьми, начальники вылез, все некогда. Опять он увидит завтра, вернее, уже сегодня, Вальку Грекова, Рафика, Игоря, Николаевых, этого старого козла Волоколамского, Рухимовича, Иволгу — да мало ли! Интересно, какие у них будут лица, когда он появится?
Сергеев не мог удержать дурацкой, счастливой улыбки, представляя себе эти встречи, вопли, объятия, и он заслонял лицо журналом, чтобы полусонные соседи по креслам не видели его улыбки.
В голове теснились воспоминания, лица, одно лезло на другое, почему-то всё представлялась какая-то льдина, слоистое ее ребро, пестрое, точно геологический срез: как наносило зимой сажу, цементную пыль, потом опять снег и опять цемент, так и осталось. Отломилась весной, отстала от берега и поплыла.
Или вдруг вспоминалась первая парикмахерская на Правом: два кресла и два зеркала в тесной комнатенке. А кисточка была одна, тетка в грязно-белом халате поливала ее кипяточком из чайника. Стригла она, эта тетка, всех под один невероятный запорожский «бокс»: затылок голый, над ушами голо, зато на макушке остается длинный хохол, протуберанец, лихой оселедец, который обязательно вылезет из-под шапки этаким волосяным пером. Да, а из окна парикмахерской, бывало, видно реку, а потом стало видно котлован, а потом начала подниматься и плотина, заслоняя реку.
И еще вспомнилось, как всего несколько лет назад на этом же аэродроме ребята провожали его на Правый после отпуска, и был Сергеев пьян, глуп и счастлив — даже и не вспомнить, почему. С двухлетней Катькой на руках, с двумя чемоданами через плечо, с авоськами, горшками — денежки все были прокучены по Гаграм и московским шашлычным, шарф он оставил где-то в такси, пальто было старое, еще студенческое, а новое он так и не купил со всех своих сибирских тыщ. Потом, в Красноярске, оторвалась ручка от чемодана, Катька орала, он метался с нею, не зная, в какую уборную зайти, мужскую или женскую, и казался себе всех несчастнее. Смешно.
Когда объявили вылет и Сергеев пошел к выходу из здания, он не без самодовольства взглянул на себя в зеркало: ничего, ничего, элегантен, и подстриг Яша прилично, все в норме, пусть-ка они поглядят, злодеи, каков стал Андрюшка Сергеев.
В самолете он собирался заснуть сразу, потому что денек ему предстоял завтра нелегкий, но машина оказалась холодная, настуженная, с полчаса, пока не взлетели, все дрожали и не снимали шапок. Место Сергеева было впереди, у окна (министерство билет заказывало, какой получше), но он уступил его женщине с ребенком, а сам ушел в хвост, сел здесь тоже у окна, справа. И заснуть уже не мог, продолжала лезть в голову эта слоеная льдина, и повторялось «А я иду по деревянным городам…». И он опять думал, как прилетит через несколько часов, как его встретят. И ему казалось, это будет так, как бывало всегда прежде: с криками целой кучи друзей, с каким-нибудь дежурным «газиком» или даже автобусом, с раздачей потом московских посылок и заказов («На́ тебе твою шляпу, а магнитофонной пленки нигде нет, только одна бобинка, да и ту на Смоленской возле комиссионного у спекулянтов купил») и с веселым потом выпивоном, когда к бутылке привезенного коньяку, купленного в самой «Армении» на Пушкинской, ребята нанесут потом зеленого «сучка» местного производства. И несколько дней потом празднично пахнет апельсинами, хорошим кофе, жена вьется вокруг тебя, как мотылек, телефон звонит беспрестанно, но зовут не к замерзающему бетону, потому что у тебя есть еще два-три дня отпуска, а на пельмени или беляши. Или любимый бригадир, твой годок Коля Власьев, у которого ты был вроде крестного, когда у него первый парень родился, затащит на охоту или или рыбалку — вертеть с ним лунки во льду и коченеть над прорубью. Приезжаешь, словом, домой.
Ночью была посадка, потом снова полет, Сергеев то засыпал, то просыпался, а когда проснулся совсем, то в иллюминаторе неслось удивительно знакомое: снежная, солнечная тайга, домишки, один поселок и другой, плотина, река. Будто разворачивалась в руках старая калька — знакомый до мелочей чертеж. Застывшее новое море напирало на плотину сверху, с юга, а в нижнем бьефе бурлила знакомая тоже, голубая вода, и далеко, насколько хватало взгляда, река ниже плотины оставалась незамерзшей, ослепительно синей — под зимним солнцем, среди снежного простора. И вот отыскался среди новых белых корпусов длинный гараж — первое здание, построенное Сергеевым.
Самолет несло над родным этим местом, крутило на последних виражах и опять несло — как раз с той скоростью, которая одна могла сейчас что-то выразить, выразить ту радость, с которой не знаешь, как быть. И еще это походило на то чувство, с каким приходишь на школьный вечер, когда солидные дяди вдруг чувствуют себя мальчишками и становятся мальчишками — пусть всего только на два, на три часа.
Сергеев вышел из самолета на трап. Утро действительно сияло солнечное, правда, с морозцем. Он вдохнул свежего, хвойного воздуха. И именно тут, впервые, кажется, за всю дорогу, вспомнил, что он главный инженер главка, что прилетел он по делу и положение, как говорится, обязывает.
Его встречали. Едва он ступил на землю, появился, приветствуя, толстенький молодой человек в очках и белых бурках, назвался Володей Харчиным, спросил: «Не узнаете?» Лицо было знакомое, но припомнить, кто это, Сергеев не мог. В тоне и словах Харчина слышалась та привычная уже Сергееву предупредительность, с какой разговаривают с начальством (он и сам умел так разговаривать), и от этого делалось неловко. Где-нибудь в другом месте он не обратил бы на это внимания, а тут обратил. Но ничего, его ждут другие встречи.
Он оглядел знакомое место, весь аэродром, где когда-то даже «аннушки» вязли в грязи, автобусную остановку — там уже выстраивалась очередь пассажиров с самолета. Сергеева же Харчин подвел к черной «Волге», которая одна стояла в сторонке.
— Ну! — сказал Сергеев. — Прямо как министра меня встречаете!
Он сел впереди, весело поздоровался с шофером. Шофер незнакомый, пожилой, строгий, но все-таки свой, отсюда. Сергеев бросил на сиденье ушанку и кипу купленных во Внукове газет, угостил шофера и Харчина сигаретами с фильтром.
— Ну как тут у вас с куревом-то? — спросил запросто. — А то у нас сроду на Правом нечего было курить, кроме «Прибоя»…
— Всяко бывает, — сказал шофер и стал разглядывать и крутить в пальцах длинную сигарету с желтым, в крапинку, как береста, мундштуком.
— Ну что вы! — сказал Харчин почти одновременно с шофером. — Вы теперь и не узнаете, как у нас стало, и не узнаете Правого!
— Да ну уж! — Сергеев радостно засмеялся, приготовясь на самом деле не узнавать и восхищаться.
Кажется, за все шесть лет работы на Правом он ни разу не ездил в черной «Волге», и теперь странно было ехать в этой чистой и теплой машине по знакомой дороге, тысячу раз исхоженной пешком, по грязи, по снегу и пылище. Катался он здесь и на тракторах и в «будках». Как-то бежали тут с Ритой из гостей, мороз давил страшенный, и, как назло, ни одной попутки. Он был в ботиночках, едва ноги не отморозил. А вон там раньше стояли теплушки, штук тридцать, это еще в самом начале, теплушки для семейных, в них народу набивалось, как сельдей в бочке, и летом, когда горела тайга, вагоны тоже сгорели. До самой зимы погорельцы жили табором, в шалашах и палатках, варили обеды на кострах, на кирпичиках, как беженцы, на фоне обугленных вагонов, и это напоминало войну.
— Нет, Андрей Андреич, вы теперь не узнаете Правого! — повторял Харчин за спиной, но Сергеев, напротив, узнавал каждый поворот дороги, каждый столб, и, казалось, бурелом вдоль шоссе, поваленные сосны и лиственницы под снежными шубами лежали те же самые, что при нем. Вроде бы тут вот, на этой самой дороге, увидел он в ту первую весну, как цветет в тайге багульник, как желтеют на голой еще земле жарки.
— Ну а как Рухимович, как Волоколамский? — спрашивал он через плечо Харчина, не отводя глаз от дороги. — А Василенко? Тут еще?
Харчин радостно отвечал и про начальника строительства Рухимовича, и про Василенко, который давно, оказывается, уже не работал на Правом, и про других. Странно, Сергеев уже чего-то не знает о Правом, а какой-то Харчин ему рассказывает. Он сам, бывало, мог все рассказать до мелочей.
Машина въехала в новый поселок, побежала по чистому асфальту, среди белых пятиэтажек со стеклянными магазинами внизу, мимо щитов с лозунгами, мимо Дворца культуры с колоннами, который начинали строить еще при Сергееве и который казался тогда невероятно красивым.
— Ого! — говорил Сергеев. — Ничего себе, обжились!
Харчин радостно смеялся и, словно гид, просил смотреть то вправо, то влево. А за форточками буднично болтались авоськи с продуктами, по дворам белело на веревках белье. Дворец с успевшими устареть колоннами оказался теперь вовсе не к месту среди стеклянных магазинов. Шофер слушал Харчина без одобрения, явно хотел что-то сказать о новых этих домах, но не решался.
— Сила, сила! — говорил Сергеев. Но чувствовал, что фальшивит, что никакого восторга эта картина не вызывает. Всех домов едва бы хватило на один квартал московских Черемушек, стояли они вразнобой, неуютно, и уже были давно скомпрометированы, в Москве уже года два говорили и писали об этих пятиэтажках с пренебрежением. И Сергеев видел немало поселков и новых городов, которые были много лучше этого.
Они миновали поселок и подъехали к «гарримановке», красивому двухэтажному особняку, стоявшему среди сосен. Надо же, Сергеева привезли в «гарримановку». На каждой большой стройке бывает такой особый коттедж для самых именитых гостей. Когда, например, ожидали в Советский Союз Эйзенхауэра, то на всем пути предполагаемого его следования срочно выстроили модные и фешенебельные постройки, резиденции, которые отдали потом под гостиницы и дома отдыха. И за ними остались названия «эйзенхауэровок». На Правом же гостил когда-то полтора дня «высокий гость» Гарриман, и для важного американца и его свиты тоже выделили резиденцию — вот этот самый коттедж.
Еще когда Сергеев работал на Правом, о «гарримановке» ходили легенды: о банкетах, особых поварах, о красной икре и винограде, которые будто бы там не переводятся. Тем, кто видел красивый особняк лишь издали, представлялось, что там необыкновенные хоромы, все уставлено столами с изысканными яствами, и начальство пирует ночи напролет с «высокими гостями». Смешно, конечно, но теперь Сергееву так же странно и лестно было войти сюда, как ехать в черной «Волге».
Харчин проводил его на второй этаж, в отведенную ему комнату, где стояли две широкие кровати, сказал, что завтрак ему заказан, что машина в его распоряжении и он, Харчин, тоже в его распоряжении, стоит только позвонить вот по этому телефону.
— Ладно, старик, — сказал Сергеев, — брось ты это… Володя, да? Ну вот, Володя, ты там занимайся своими делами, а я сам. Идет? Спасибо. Я ведь тоже тут кое-что знаю…
«Гарримановка» оказалась самой обыкновенной гостиницей, каких Сергеев немало уже повидал на других стройках, причем повидал опять-таки и получше этой. Здесь лежали в коридорах малиновые обкомовские дорожки, и стояли пальмы в холле. И еще два кресла в белоснежные чехлах, на которых, похоже, никто никогда не сидел. Правда, было тепло и чисто.
Сергееву не терпелось идти и ехать дальше, он достал электробритву, быстро побрился и умылся. Надевал пальто, когда улыбающаяся женщина в кокошнике принесла на подносе завтрак под белой салфеткой. Так и почудилось, что оправдаются сейчас старые сплетни и жареный лебедь явится на подносе. Но под салфеткой оказались толстокожие сардельки и тот общестоловский кофе с молоком, в котором много молока и мало кофе.
Сергеев наскоро позавтракал, позвонил еще в управление, но ни Рухимовича, ни главного инженера Гладышева на месте не оказалось. Он просил передать, что приехал, будет на плотине.
Сначала он хотел отпустить машину, чтобы тот же Валька Греков или Рафик не оборжали его потом, но ему нужно было поспеть всюду, времени же в обрез, — ладно, ничего. К тому же он вспомнил Волоколамского — пусть-ка этот старый черт, главный когда-то враг Сергеева да и всех молодых инженеров, увидит его в черной «Волге». Машина его сразит наповал, это факт.
За завтраком из окна он смотрел на плотину — поднималась над белым льдом моря только ее верхняя, невысокая часть. И теперь, в машине, он ожидал увидеть ее целиком и ожидал встречи с ней, как встречи с человеком. Когда машина вылетела наверх, на холм, он попросил остановиться и вышел.
Пришлось опустить уши у шапки — тут дул крепкий морозный ветер. Сергеев возился с тесемочками, развязывая их, и смотрел на плотину, на здание гидростанции внизу, на оба берега. Самое удивительное — тут было совершенно пусто и тихо. Когда он в последний раз, прощаясь со стройкой, стоял на этом месте четыре года назад, здесь все гремело, дрожало, беспрерывно шли МАЗы, выли сирены огромных двухконсольных кранов, репродукторы разносили команды диспетчера, летали бадьи с бетоном, разворачивались армавозы, и густой пар окутывал плотину, словно пороховой дым поле сражения. Тогда контур плотины был еще неровен, напоминал стену древней крепости с башнями: одни бычки и блоки поднимались почти до верхней отметки, другие отставали. И как леса закрывают строящийся дом, плотину закрывали верхняя и нижняя эстакады, и вся она казалась деревянной, потому что сплошь была залеплена опалубкой.
А теперь чисто и пусто, плотина выглядит так, как когда-то на тысяче плакатов. Она г о т о в а. Сергеев лучше, чем кто-либо, из сотен докладов, отчетов, телеграмм и деловых писем знал, что работы еще не закончены, что нужно еще миллионов пятнадцать-двадцать, чтобы сдать станцию подчистую, — он, собственно, и приехал затем, чтобы уточнить эту цифру и, насколько будет возможно, ужать ее — он все это знал и тем не менее видел сейчас перед собою готовое сооружение. Да так оно и было: агрегаты давно уже стояли под нагрузкой, высоковольтные линии расходились по тайге на три стороны, по верху плотины буднично двигался поезд. И была эта законченная, гладкая плотина совсем незнакомой и чужой, хотя Сергеев точно видел и знал, где в этой сплошной серой массе е г о блоки, е г о бетон.
И сам он уже чужой здесь — черт возьми, до чего грустно это почувствовать. Как будто еще вчера стоял вон там, внизу, в своем полушубке с прожженной полой, простуженный, с завязанным горлом — в тот день (ветер и мороз) пошел большой бетон, эстакаду и краны залепили свежими красными лозунгами, стрекотала кинохроника, кидали вверх шапки, и хотя он шапку не кидал и не орал, но испытывал тот же восторг, что и все.
Вдруг он поймал себя на том, что думает о шофере: неловко стоять здесь без дела и заставлять человека ждать тебя. Начальникам не полагается быть лириками и созерцателями. Ну, плотина, ну, готова, очень хорошо. Давно ей пора быть готовой. До сентиментальности ли? Отгрохали великую штуку — ну и прекрасно. Теперь об этом думать нечего, хватает новых хлопот. И ваша субъективная грусть, товарищ Сергеев, вообще не к месту.
Через несколько минут черная «Волга» проскочила на другой берег (ехали через плотину, и вблизи сразу стали видны недоделки, грязь, груды смерзшегося строительного мусора) и оказалась вдруг рядом со старой диспетчерской.
— Погоди! — Сергеев не удержался и остановил опять машину. Ну же, осталась еще диспетчерская, не снесли.
Этот обшарпанный двухэтажный домишко выглядел сейчас на гладком чистом месте, словно избенка или старый барак среди новеньких многоэтажек. Но это был исторический домишко! Вон там, на втором этаже, окно — сколько там сижено дней и ночей, сколько забито «козлов», сколько выдано свирепой ругани, крика и мата, пропущено через руки чертежей, записок, нарядов. Все кипело когда-то вокруг диспетчерской, штаба стройки, или, вернее, КП, вынесенного на передовую. Что ж там, интересно, теперь?
Сергеев поднялся по знакомой лестнице — знакомые перила, знакомые крутые ступеньки — и снова удивился, что никто не встретился, никто не обогнал. На доске приказов, которая, бывало, была сплошь залеплена бумажками — они висели даже вокруг доски на стене, — белел сейчас одинокий приказик, аккуратно отстуканный на машинке. Сергеев толкнул дверь, вошел в диспетчерскую. Пусто. Стоит тот же изрезанный, испачканный чернилами, отлакированный тысячами прикосновений стол, такие же отлакированные лавки, но совершенно пусто. В диспетчерской пусто!.. Вылинявшие плакаты висят по стенам, лежат на лавке брезентовые рукавицы. И все. Больше никого и ничего.
Сергеев прошел в следующую комнату. Здесь по-прежнему находился диспетчерский пульт, телефонный коммутатор, знакомо светились разноцветные лампочки. На стуле, боком к коммутатору, бездельно сидел человек и читал газету. Тоже странноватая поза для диспетчера. Увидев Сергеева, дежурный встал, отложил газету, и выражение у него сделалось, как у Харчина. Он и походил на Харчина: невысокий, в толстом свитере и валенках.
— Привет! — сказал Сергеев. — Я из Москвы. Сергеев. Дежурите?
— А! — сказал диспетчер, словно знал, кто такой Сергеев. — Здравствуйте. Да сменщика вот жду, отдежурил.
— Что-то так тихо в диспетчерской, а?
— Тихо? — диспетчер, видно, не знал, что на это ответить, и не понимал, хорошо это или плохо, что тихо. — Да так вообще-то…
Сергеев машинально прикасался к стенам, столу, подоконнику, глядел в окно на плотину, не знал, что сказать.
— А вы не в курсе случайно, Греков сегодня работает? Или Агарян?
— Греков? Валентин Иванович? Так он на комбинате. И Агарян там. Это можно узнать вообще…
— Давай узнай, пожалуйста. Так что же, все, что ли, с плотины ушли?
— Да почти что.
Диспетчер сел за свой пульт, стал вызывать УСК — Управление строительства комбината. И через полминуты сказал, что Греков работает, а Агарян в отпуске.
— Валентин Иванович на семнадцатом объекте…
— Где это? — спросил Сергеев. И ему стало неловко, что он не знает, где семнадцатый объект, что́ это за объект. И захотелось поскорее уйти отсюда. Вальку Грекова Валентином Ивановичем величают.
Но он не успел выйти. В комнату несмело сначала приоткрыли дверь, и затем тут же влетел, ввалился, заорал, с порога схватил Сергеева в охапку здоровенный детина в распахнутом полушубке, краснолицый, знакомый, свой.
— Андреич! Да ты ли, Андреич! Ах, ё-мое, сам, а! — и он бухал своей лапищей по спине, по плечам, тряс, крутил Сергеева.
— Да погоди ты, ну тебя к чертям! Руку оторвешь!
Это был Коля Власьев, тот самый охотник и рыбак, лучший когда-то у Сергеева бригадир, душа-парень, великий работяга и выпивоха, здоровый, как медведь. От него и теперь несло свежей водочкой, морозом, здоровьем, как всегда.
— Да ты что, Никола, какой толстый стал? — говорил Сергеев. — Вы что тут все растолстели-то?
— А сам-то, сам-то гладкий какой! Москва!.. Ну, дела! Приехал, значит? А я смотрю, что за начальство к нам? Давно никто не ездит, а тут черненькая идет… Ну даешь, Андреич!.. Слышь, Фокин? — Власьев повернулся к диспетчеру, у которого в лице теперь появилось оживление. — Это Андреич, мастер мой бывший, смотри, куда взлетел! А ведь, бывало, на па́ру корячились-то тут! Помнишь, как заглушку-то ставили, а?
— Как заглушку не помнить! Ну а ты-то как, черт здоровый?
— Да чего нам сделается, живем! — Лицо Власьева расплывалось в улыбке, и Сергеев чувствовал, что сам тоже улыбается во весь рот. — Живем помаленьку! Но ты-то, вот ты! Я-то думаю, кто это за начальник к нам такой, а это Андреич! Ну?..
— А жена как? Ребята? Крестник мой как? — Сергеев сказал «жена», потому что забыл вдруг имя веселой и тоже толстой и шумной Власьихи, первой хозяйки на Правом. А ведь сколько пировали, бывало, у них, какие готовила Власьиха пельмени, уху! Черт, даже стыдно, вылетело из головы. Клава? Рая?.. Забыл…
— Да все законно! — кричал Николай. — Здоровы все, слава богу, живы! Мы уж четвертого летом сделали, пока ты там в начальниках. Да, точно! А Андрюха уже во второй класс ходит!
— Да иди ты! Во второй?
— Ну! Да ты давай к нам, сам поглядишь! Давай вечерком-то!
— Да не знаю еще, Коль, я ведь вот только прилетел, утром.
— Ну да! Ты ж теперь этот! Вон ты где теперь! На черненькой ездишь! А я, понимаешь, смотрю, — он снова обращался к диспетчеру, — подкатила к нам. Кто ж, думаю, за министр такой?..
Они вышли вместе, спустились по лестнице, Власьев продолжал шуметь и еще раза два сказал, как он думал, кто ж это приехал, — видно, на самом деле мало стало начальников и гостей приезжать на плотину, а бывало, отбоя не было. Договорились, что Сергеев обязательно зайдет посидеть, старину вспомнить, ребят поглядеть.
— Зинке скажу, она тебе специально пельменей накрутит!..
Зина! Ну, конечно, Зина ее зовут, вот черт побери.
Сергеев сел в машину, а Власьев и тут развел руками: дескать, фу-ты, ну-ты, что говорить!
После этой встречи веселей стало на душе: нет, что там ни выдумывай, а он все-таки свой здесь человек, свой, чего там.
Надо было бы не уезжать с плотины, спуститься сразу в здание ГЭС, но Сергеев решил, что успеет, еще придется быть там с начальством, — не терпелось увидеть поселок, пройти по знакомым улицам, мимо дома, где они с Ритой прожили первые свои три года, где родилась Катька, где он своими руками сбил всю мебель, книжные полки. Его тянуло на ту автобусную остановку возле второй столовой, откуда он хотел пройти по всей Енисейской. «А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы…» И он сказал шоферу ехать туда, на Енисейскую, к старому клубу. Ах, Колька Власьев, все такой же, черт!..
— К клубу? — шофер говорил почти насмешливо. — А клуба ведь нет, разобрали клуб-то.
— Как это? — Сергеев не сразу сообразил, о чем речь.
— Разобрали. Еще осенью. У него стены грибок сожрал, труха стала.
— Вон что… — Сергеев не мог представить себе, как это нет клуба. — Ну ладно, отвезите меня на поселок, там уж я сам…
Шофер почти откровенно пожал плечами: странным ему, видимо, казался этот начальник, который, вместо того, чтобы делом заниматься, путешествует по каким-то всеми забытым местам. А Сергеев снова вспомнил, не мог не вспомнить старый клуб, самое бойкое прежде место. Там, возле клуба и первого маленького стадиона, сосредоточивался центр всей, так сказать, культурной жизни Правого. Летом на площадке перед клубом орал усилитель, под него танцевали, в клубе крутили кино, устраивали комсомольские диспуты (Иволга), читали лекции о любви и дружбе, ставили спектакли. Ритка играла Ларису в «Бесприданнице» — господи, сколько волнений, какая она была красивая и чужая, когда он пришел за кулисы перед премьерой, посмеивался, а она стояла в длинном платье, с открытыми напудренными плечами, необыкновенно причесанная, ничего и никого не видела, а вокруг вились, ползали на коленях девчонки, что-то прикалывали, подшивали. Красавец Валька Греков в гриме Паратова глядел на нее, входя в роль, как и следовало Паратову глядеть на Ларису, а Рафик играл Робинзона и дико волновался. Смешные ребята, молодые были, какие же молодые, черт возьми!..
А на стадион привозили под конвоем футбольную команду из соседней колонии, «зэки» играли со строителями, а по четырем углам стадиона сидели автоматчики и тоже болели за своих, и орали, как все вокруг, и хлопали, поставив автоматы между ног, когда «зэки» забивали гол.
Машина, лихо валясь на бок, обогнала несколько грузовиков, выскочила к переезду и затормозила перед опущенным шлагбаумом. А по ту сторону полотна, перед вторым шлагбаумом, будто отразившись в зеркале, вдруг стала другая черная «Волга».
— Сам едет, — сказал шофер. — Рухимович. С комбината.
Действительно, это был начальник строительства и с ним главный инженер Гладышев. Сергееву повезло. Он вылез из машины, подошел, поздоровался. Гладышев, сидевший сзади, открыл дверцу, пригласил Сергеева в машину. Как раз в это время пошел греметь мимо товарняк; ничего нельзя слышать, и слава богу: Сергеев собрался с духом перед разговором с бывшими своими начальниками.
Встреча с ними тоже довольно затрудняла Сергеева. Хотя и с тем и с другим он не раз за это время виделся в Москве, но всегда, как и теперь, не мог отделаться от прежней робости перед ними. И даже стыдился своего кабинета, должности, своего министерского отутюженного вида. Казалось, они не могут относиться к нему всерьез, видят в нем того рядового инженеришку, который пришел когда-то к ним на стройку прямо со студенческой скамьи. Он не мог отделаться от этой идиотской робости подчиненного человека перед «китами» стройки, которую приобрел за шесть лет работы на Правом. И Рухимович и Гладышев, оба грузные, пожилые люди, похожие, как близнецы, своею властностью, постоянным выражением озабоченности, строгости, усталой раздраженностью, своими сединами и даже одинаковыми пыжиковыми шапками, всегда вызывали не только у Сергеева, но и у всех подчиненных, если не трепет, то что-то похожее. Причем они были не просто начальниками, а умными и знающими начальниками. Их не очень любили, но их было за что уважать, так что робость Сергеева была еще и робостью ученика, робостью студента перед своими профессорами. Рухимович и Гладышев всегда стояли где-то далеко и высоко, встречаться с ними приходилось редко, да и то чаще лишь тогда, когда случалось какое-нибудь ЧП и тебя вызывали, чтобы намылить шею и устроить разнос. А теперь в министерстве Сергеев встречался с ними едва ли не как равный.
Сколько раз уже проклинал он себя за эту сковывающую почтительность. Будто гипноз какой-то. До каких же пор робеть, чувствовать себя несмелым и зажатым, поддакивать, когда нужно возражать и не соглашаться? Молодо-зелено? Но с другими генералами строек, с самим министром, с представителями иностранных фирм Сергеев научился держаться довольно свободно, настолько, во всяком случае, свободно, чтобы нормально работать: что-то предлагать, ругаться, отстаивать свои мнения, а не проглатывать язык при одном лицезрении начальства. И с каждым годом он вел себя все свободнее и увереннее. И даже министерский парикмахер Яша пророчил Сергееву, что к сорока годам он станет замминистра. А вот с Рухимовичем и Гладышевым он становился тем мальчишкой-прорабом, которого Рухимович однажды чуть не выгнал с объекта (Рухимович-то этого, конечно, не помнит) и которого Гладышев не раз песочил на планерках.
Сейчас нужно опять перебороть себя. Он приехал говорить с ними о весьма трудных вещах. И хотя и не уполномочен решать, а должен лишь собрать соответствующую информацию, но выступает он сегодня как их противник, как представитель органа вышестоящего. И они, конечно, понимают, что от его доклада будет многое зависеть. Да, все правильно, что ж робеть, в самом деле. Всё и будем робеть, всё и будем до сорока лет мальчиками себя чувствовать? Когда ж дело-то делать?
Сергеев понимал, что само это рассуждение, то, что он уговаривает себя сейчас таким образом, уже есть при знак некоторой паники его перед двумя мамонтами. Но все-таки он почувствовал себя увереннее.
Поезд наконец прошел, шлагбаум подняли, машина двинулась. Сергеев помахал своему шоферу, чтобы тот ехал следом. Рухимович молча сидел впереди, загораживая стекло широкой спиной и мохнатой шапкой. Гладышев спросил:
— Ну, чего привез новенького? Вы там поближе к солнышку.
Ну да, конечно, они относятся к нему как к своему лазутчику, к своему человеку в министерстве, как к этакому правобережному троянскому коню, введенному в министерскую Трою. Ну-ну.
— Есть вообще-то кое-что, — сказал Сергеев и начал рассказывать министерские новости, о которых здесь наверняка еще не слышали. Нужно показать старикам для начала свою осведомленность.
— Ну? Да что ты? — басил Гладышев. — Это интересно, интересно. — И его заинтересованность говорила, что он действительно не знает того, о чем сообщает Сергеев. Даже Рухимович повернул слегка тяжелую шею:
— Викин, говоришь, уходит? Странно…
Сергеев продолжал говорить и вдруг сообразил, что все эти новости имеют значение и для судьбы Правого, для Рухимовича и Гладышева. А потому именно, что и того и другого интересуют уже новые проекты и планы. А интересуют потому, что очень скоро строителям и вовсе нечего будет на Правом делать. То-то у Гладышева такое лицо, такой заинтересованный взгляд: он, наверное, первый раз в жизни толком рассматривает Сергеева.
Как ни был Сергеев занят разговором, он все-таки снова успел ощутить необычность той ситуации, в которой оказался: он едет в одной машине с «китами» и толкует с ними не об одном блоке, не о своем маленьком участке, а обо всей стройке.
Пока доехали до управления, Сергеев, хотя и сам больше говорил, чем они, успел, собственно, понять, что ему требовалось, и узнать, что хотел узнать. Вернее, он понял, как пойдут дальнейшие переговоры и чем кончатся: старики будут просить максимум, а обрадуются всему, что получат. Такова уж, к сожалению, судьба всех еще не завершенных, но уже дающих продукцию объектов: их почти перестают финансировать.
Гладышев пригласил Сергеева к себе в кабинет, они просидели вместе минут сорок, договорились снова встретиться завтра с утра, на совещании, которое должен будет вести уже, собственно, сам Сергеев, и к обеду Сергеев оказался свободен.
Возле управления он сел в автобус и снова поехал на тот берег. Было солнечно, светло, заметно потеплело. Он остался доволен самим собою в разговоре с Гладышевым — не очень робел, настроение снова сделалось легкое, приподнятое. В битком набитом автобусе глядели на него как будто бы все знакомые лица. И он доехал, наконец, до второй столовой и вышел на Енисейской, где все время хотелось ему оказаться. Солнце слепило, на дороге поблескивали длинные лужи, с крыш капало. На остановке и вокруг — возле столовой, возле старенькой булочной и фотографии — теснилось много народу, и все с любопытством оглядывали нездешнюю фигуру Сергеева. А ему хотелось улыбнуться каждому, сказать, мол, это же я, братцы, Андрей Сергеев.
Он снял шапку, распахнул пальто, закурил, медленно пошел по обочине, оглядываясь на встречных, узнавая каждый дом, двор, перекресток. Странное ощущение: все это существовало без тебя, а ты без всего этого, что, в сущности, почти невероятно. Здесь-то все осталось прежнее, старое: двухэтажные деревянные бараки, просторные дворы с сараями и лавочками у подъездов, деревянные уборные (все это временное, временное, — говорили тогда, когда строили эти бараки, потом здесь встанет новый город). А дальше начинался «частный сектор»: палисадники, заборы, ворота, крепкие сибирские пятистенки и дома с террасками, под тесом, под шифером, под железом — их много, очень много, улица за улицей, когда только успели? И тоже сараи, сарайчики, уборные, садики, баньки на задах, поленницы дров, надписи «злая собака» — трафаретки серебряные с мордой овчарки, как на подмосковных дачах, — высокие шесты с антеннами, скворечники, почтовые ящики по ту сторону калиток, зеленые, голубые, малиновые наличники и ставни. Если старые бараки выглядели обшарпанными, то здесь, наоборот, все чисто, ухожено, подкрашено. Деревянные тротуары почти всюду обколоты и очищены ото льда и снега, и в самом деле от них идет легкий парок, и поскрипывают они, как половицы. Пахнет мокрым, свежераспиленным деревом, смолой, печным дымом, запаха которого Сергеев давно не слышал, талой водой, свежестью. Как распространились, как разрослись — полстройки, наверно, перетаскали, одних гвоздей небось эшелон!..
Когда-то «частный сектор» обрывался возле кладбища, а теперь улица, по которой шел Сергеев, уходила далеко вперед, конца не видно. Кладбище тоже обнесли новой белой оградой, оно сильно разрослось. А ведь когда-то на Правом не было кладбища, и в какой-то комсомольской викторине задавали вопрос: «В каком городе нет кладбищ, церквей и пожарной команды?»
Сергеев шел не к клубу, как хотел, а в обратную сторону. Ему бы давно нужно повернуть назад, но он не мог остановиться, шел и шел, и удивлялся, как пусто вокруг, как мало людей. На работе все, что ли?
Потом навстречу повалили ребятишки с сумками, портфелями — видно, кончилась первая смена в школе. Бежали и галдели малыши, швыряли снежки, сбивали сосульки. Улица ожила. Группка девочек лет пятнадцати уступила Сергееву дорогу: мордочки хорошенькие, веселые, розовые, оглядели Сергеева смело, кокетливо, не по-деревенски. А ведь и школы не было прежде на Правом, ни одной.
Сергеев всматривался в ребячьи лица, и они тоже казались знакомыми, как лица в автобусе.
Он проходил мимо двора с низким штакетником — там стоял совсем новый, еще светлый и высокий дом под белой шиферной крышей, — богатый, заметный дом. Среди голого, необжитого двора еще лежали доски, бочки из-под краски. Но в окнах белели занавески, а в вату между рамами были утоплены елочные шары.
В сторонке, возле сарая, хозяин в меховой безрукавке, в облезлой солдатской ушанке склонился над лодкой. Большая, широкая плоскодонка была перевернута вверх днищем. У ног хозяина стояла паяльная лампа, тянуло варом. Вот это уже точно весна, когда начинают засмаливать и шпаклевать лодки.
Хозяин повернул к Сергееву темное, небритое лицо, и Сергеев по одной этой черной щетине сразу его узнал. Цыганков! Хозяин распрямился, тоже стал вглядываться. Ну, конечно же, Цыганков. Его тяжеловатый, настороженный взгляд, щетина, широкие сутулые плечи.
— Не узнаете? — Сергеев держал шапку под мышкой, постукивал перчатками по забору, чувствовал: снова расползается рот в улыбку. — Ну-ну, Цыганков, припомни…
Цыганков не мог вспомнить и как будто боялся, не знал, кто перед ним. Сделал два осторожных шага, понял, видимо, что опасаться нечего, взгляд стал мягче.
— Да вроде это… вроде бы чего-то такое…
— Ну-ну, на водосливе сварщиком у кого работал?
— Погоди! — Цыганков просветлел. — Прораб?.. Ну, прораб, точно! Ах ты, черт, вот башка дырявая! Сергеев, а?.. Ну точно, Сергеев!.. Да заходите, заходите… Вот теперь вспомнил! — Цыганков вздохнул даже с облегчением.
Сергеев вошел в калитку. Крепко пожали руки.
— Неужели твой? — спросил Сергеев про дом. — Отстроился все-таки? А не хотел помнишь? «Я, — говорил, — не куркуль какой-нибудь».
— А? — Цыганков, видно, не помнил, как Сергеев не раз предлагал ему выписать лес на дом, а он отнекивался, махал небрежно рукой, говорил, что все равно уедет.
— Да так вот, с грехом пополам…
— Ничего себе с грехом! Во какой домище! И лодку заимел?
На Правом всегда считалось, что иметь плоскодонку — признак зажиточности. Сергеев видел, что Цыганков не без труда вспоминает прежнего своего прораба. Он виновато оглянулся на лодку, словно хотел сказать, что она чужая, кивнул, отвел глаза. И Сергееву сразу стала понятна вся перемена жизни Цыганкова.
— Может, зайдете?
— Спасибо. Времени в обрез. Водички дадите?..
— Да ну что ж водички! По такому случаю…
Они вошли в дом. Внутри тоже просторно и чисто. В большой передней горнице, у окна, склонилась над швейной машиной молодая полная женщина — когда Сергеев вошел, она встретила его таким напряженным взглядом, как Цыганков во дворе. Даже захотелось сказать: «Не бойтесь!» Это была жена Цыганкова, Лена. В деревянной кровати лежал черненький, похожий на Цыганкова младенец, грыз старую деревянную ложку и пускал слюни. В дверном проеме — другая комната — там, освещенная солнцем, сияла высокая белая кровать с пирамидой подушек. Вот как стал жить Цыганков, вот как обстроился. Что ж, все правильно.
— Ну, шикарно у тебя, просто шикарно!
Цыганков мягко, смущенно улыбался — Сергеев не помнил у него подобного выражения.
Лена с минуту суетилась в сенях, принесла воду — не в ковшике, не в кружке — в стакане на тарелочке.
— Может, покушали, пообедали бы с дороги-то?
— Спасибо, спасибо, как-нибудь в другой раз…
Интересно, помнит Цыганков, вспоминает или нет то, что Сергеев помнит? Или то, что на всю жизнь запомнилось мальчишке, вчерашнему студенту, незачем запоминать человеку, который прошел войну, немецкий плен и двенадцать лет бериевского «режима»? Цыганков был первым человеком, от которого Сергеев узнал об этом, о том, кто там был и за что́. Нет, не помнит, наверное, Цыганков тот летний день, когда они сидели вчетвером на берегу, у костра (были еще Рафик и Валька) — зеленая тайга кругом, река синяя, как море, на костре рыба печется, и водка разлита по стаканам. Они сидят, слушают, а Цыганков рассказывает: медленно, тяжело, с усмешечкой. Они слушают и ушам своим не верят, вчерашние московские студенты, ортодоксы.
— Ты все сварщиком? На уэска теперь небось?
— Там.
— А платят как? Не хуже, чем на плотине?
— Прилично. Да у меня выслуга теперь тоже. Ничего…
— Ну, понятно.
Нет, не помнит. Видно, что не помнит. И в голову не приходит.
Они снова стояли во дворе, уже у калитки, солнце слепило, и Сергеев держал над глазами перчатки — свои кожаные, шикарные финские перчатки, а Цыганков глядел в сторону. Он чувствовал, что Сергеев хочет что-то спросить, и его это беспокоило. Нет, не спрошу. Зачем? К Цыганкову хорошо тогда все относились, бережно. Он жил долго в палатке и два раза от комнаты отказывался в пользу семейных. Нелюдимый был мужик, но справедливый. Или все это лишь казалось по молодости, ореол такой Цыганкова окружал? Спросить? Нет, ни к чему Но не удержался все-таки.
— Помнишь, как рыбачить ходили летом? Ты нам еще рассказывал?..
— Рыбачить? Да вроде было…
Нет, не помнит. Ну ладно, аллах с ним.
— Теперь-то ты с лодкой… Ну пока. Рад был встретиться. Дом у тебя что надо!
— Да так вот, помаленьку. — Цыганков улыбался. — Надо как-то, года уж такие…
— Да ну конечно, о чем говорить! — Сергеев словно прощал его.
— Я сначала-то, правда, не думал оставаться, — сказал вдруг Цыганков. — А потом на комбинат переманили, бабу вот нашел…
— Ну да, — сказал Сергеев, — я понимаю…
Они распрощались. Сергеев пошел, оглянулся. Цыганков стоял за калиткой на фоне светлого своего, высокого дома, смотрел вслед. Сергеев помахал перчатками.
Он пошел теперь назад, снова по деревянным тротуарам, улица опять опустела — одни заборы, сараи, сараюшки, крылечки. Ну что ж, все правильно, так и должно быть, все в порядке. Или Цыганков не заслужил? Ребятенок в люльке, елочные шары. Нет, просто Цыганков был один как перст, нелюдимый, суровый, а дом, лодка, ребятенок — все это с ним не вяжется. Только и всего. И вообще все это ерунда. Жизнь есть жизнь. Ты на себя-то посмотри, сам каков. Когда сидели там, на берегу, слушали Цыганкова, ты кем был? И что у тебя было? Две ковбойки, одни штаны, раскладушка в общежитии? А теперь ты лежишь вечерком на тахте перед телевизором, и жена сидит рядом, и ниоткуда вам не дует, и идти никуда не хочется, и если кто звонит насчет того, чтобы собраться в субботу, то вы зовете к себе, чтобы не тащиться потом через весь город ночью на метро или не ловить такси на морозе. И вы еще ничего, еще что-то вас спасает, а вон Феденька Засекин из Египта себе голубой унитаз привез, будь оно все неладно.
Сергеев снова вышел на Енисейскую, только тут вспомнил, что хотел зайти на обратном пути на кладбище. Но теперь далеко было возвращаться, да и бог с ним, с кладбищем, надо лучше поглядеть на свой дом.
Он свернул на Дровяную, которая называлась теперь улицей космонавта Титова. Здесь путь короче, Сергеев, бывало, всегда бегал по Дровяной, опаздывая на работу: на Енисейской легче остановить самосвал или «будку».
И не успел он сделать еще и десяти шагов, как носом к носу столкнулся с Иволгой.
…Иволга, Иволга! Платочек пуховый, толстая, круглая, маленькая — господи, какая же ты стала, очкарик, Иволга! С ума сойти. Щеки холодные, нос холодный, полная авоська тетрадок с сочинениями, как когда-то у старой моей учительницы Анны Ивановны, и толстая, что ж ты такая толстая, Королева птиц, мечта всех инженеров, всех Ее Величества саперов, гусаров Правого берега!..
— Андрей! Андрюшка! Пусти! Ты спятил, псих! Псих! Ученики же увидят!..
Кажется, он орал на всю улицу и крутил ее, ухватив под мышки по воздуху. А теперь она отдала ему свою авоську, а сама поправляла платок, подбирала под него волосы. Смотрела по сторонам — не видел ли кто?..
— Ты крашеная, что ли? Рыжая стала? От моды не отстаешь?
— Да перестань, не трогай. Как был сумасшедший, так и остался.
— Да какой я сумасшедший, Иволга! Я самый тихий скучный чиновник, министерская крыса — видишь, за сто лет в первый раз к вам выбрался…
— Не прибедняйся, слышим, слышим о вашей карьере. Но красив стал! Неотразим. Помнишь, всегда говорил, что тебе для полной элегантности не хватает пяти тысяч? Теперь что, хватает?..
Сергеев присвистнул:
— Где там! Самое скверное свойство потребностей, как известно, это то, что они растут…
— Не такое уж скверное… Ты когда приехал?
— Да сегодня, вот часов пять назад. Видишь, хожу, как по пепелищу. Ну а как ты-то, Иволга, лапочка? Как вы, ваше величество?..
Иволга! Она была Первой Девушкой, Первой Женщиной, Первой Королевой Правого берега. Она была местной мадам Рекамье, в тринадцатиметровом салоне которой собирался весь цвет Правого, вся его юная интеллигенция. Они сами сбили ей стеллаж, и она держала на нем своих поэтов — от Горация до Вознесенского. «Поэзия — соль эпохи», — говорила она и устраивала вечер одного стихотворения или двух стихотворений. У нее не было ни стола, ни стульев, все сидели и лежали на полу, кто где хотел, вернее, кто где мог. Бутылки и чашки с кофе стояли прямо на ковре. Она тоже сидела на полу, спиной к стеллажу, читала, щеки у нее разрумянивались, вырастал рядом холмик книг. Они курили, пили кофе и слушали. Она возвращала им Москву, полуночные общежития, разговоры о литературе и политике — им, уже озверевшим и тупеющим от работы, от грязи, от ругани, от проклятого мороза и ветра. Им корчило животы от голода или фантастической столовской пищи, а она жарила тонкие хлебцы и угощала их пергаментно нарезанной ленинградской колбасой, которую ей присылала мама. Они целый день видели перед собой толстых от ватных штанов, закутанных, краснолицых и горластых бетонщиц, а Иволга была изящна, модно причесана и всегда так чиста, что хотелось спросить, где это и как удается ей отмыться? И хотелось плакать или умереть, глядя на ее маленькую грудь под черным свитером, на ее туфельки тридцать четвертого размера.
Иволга понимала, что все они будут с ней до тех пор, пока она не выберет кого-то одного, и она не выбирала, словно дала обет, и любила их всех, как все они любили ее. Королева птиц, Королева саперов. Ведь все они были лейтенантами запаса, саперами, и они стали называть ее своей королевой после того, как она прочла им Киплинга. «Потому что он был инженером Инженерных Ее Величества войск с содержаньем и званьем сапера…»
Она кончила педагогический, но школу но открывали, работала штукатуром, пока ее не выбрали в комсомольские вожаки. Они сами уговаривали ее уехать, вернуться в Ленинград — она болела, не выдерживала сильных морозов, от укусов мошки у нее начиналась экзема, с полгода она плохо слышала: оглушило взрывом на карьере. Свои деньги она вечно раздавала, вносила за кого-то взносы, а ей забывали отдавать. Когда женился на какой-то дуре Сережка Коган, все в первый раз увидели, как Иволга плачет, и поняли, кого из них она любила.
— Ну как ты? Как? Значит, так и осталась на Правом, прижилась?
— Кто-то же должен был остаться…
— Ну-ну, я-то при чем? Ты все так же за правду борешься?
— Да, в масштабе восьмилетней школы.
Она всегда боролась за правду. Ее комсомольские речи были пламенны и неистовы, один заезжий дурак обозвал ее даже ревизионисткой, а Рухимович выгнал однажды из кабинета: она просила жилья для кучи молодоженов, а Рухимович отвечал ей своей коронной фразой: «Мы не градостроители, кому не нравится — скатертью дорога». В ответ на это Иволга сказала, что он узколобый бюрократ, что станции строятся для людей, а не для отчета, что восемь лет нельзя жить в палатках и бараках и тому подобное. И Рухимович показал ей на дверь.
— Что ж так, в масштабе восьмилетней? Устала копья ломать?
— Нет. Но просто зачем? Все построили, все сделали. Был на плотине, видел?
— Ну как же! — Сергеев вдруг понял, что весь день, все эти несколько часов не уходила у него из памяти плотина. — Какая стоит, собака, а?
— Ну вот. Так что мы свое дело сделали. — Она невесело усмехнулась. Потом сняла очки, глядела прищуренными, милыми, совсем взрослыми глазами, усталыми глазами учительницы.
— Ивка, а помнишь?..
— Ну вот сразу «а помнишь»! Я все помню… Чего мы стоим? Тебе куда, Сергеев? А то мне нужно за хлебом, пока на обед булочная не закрылась. Проводишь?
— Ну! Я же вольный казак. Давай свои тетрадки…
Они снова повернули на Енисейскую, зашли в булочную, с Иволгой почти каждый здоровался. На ходу она рассказывала новости: кто уехал, кто остался, у кого кто родился, кто женился, кто развелся.
— Саперов почти не осталось. И вообще инженеров — раз-два и обчелся. Из интеллигенции только врачей десятка два да мы, шкрабы грешные. Да и то, если правду сказать, все по норкам своим сидим. Я Рафика уже месяца два не видела, если не больше, они ведь теперь на комбинате все. А комбинат, между прочим, тоже обещают к Первому мая сдать… И Вальку, не помню, когда видела, он совсем погряз в своем семействе, на машину деньги копит…
— Ну а ты сама-то? Кто-то говорил, что замуж вышла, дочку родила?
— Сына. Два года сыну. Он у мамы сейчас в Ленинграде… А мужа… мужа больше нет, так получилось…
— А я в прошлом году встретил Сережу Когана в Латвии, мы там новую станцию…
— Я знаю. Он был тут проездом под Новый год. Два дня, вот вроде тебя… Ну что, зайдешь? Правда, ко мне сейчас ученик придет, и ералаш там у меня…
Они подошли к знакомому подъезду. Одна половинка двери была оторвана. Иволга жила все в том же доме, в той же, видимо, комнате, на втором этаже.
— Ладно, я не пойду. Мы, может, вечерком. Я найду ребят, и мы завалимся, идет?
— Ну, заваливайтесь.
Ей не хотелось от него уходить. Он, наверное, сейчас счастливый и легкий. А она устала. Одна. Смотрит умными, увеличенными стеклами очков глазами. Толстенькая. В платке. Усмехается. А какою казалась прекрасной.
— Ну ты что? Иволга? Что ты, старушка, грустная? — Сергеев взял Иволгу за руку в белой варежке.
Она подняла лицо, посмотрела вверх, на небо. Потом опять на Сергеева.
— Да ну что ты, Андрюшка! Я ничего. Все о’кэй!.. — Она отняла руку. — Так вы заваливайтесь. А то я знаю эти обещания…
Черт, неужели никто к ней не ходит? Вот дожили.
— Железно, ваше величество! — Сергеев пошло, бодренько подмигнул и пошел.
— Шапку надень, пижон! — крикнула Иволга вслед. — Не май тебе!
И снова вышел Сергеев на Енисейскую, снова двинулся куда глаза глядят, миновал свой дом, свои окна в первом этаже, где висели чужие занавески, а на подоконнике спала на солнышке кошка. Хотел зайти, постучаться, узнать, кто живет, но как-то неловко: чего вдруг вопрусь?
Еще через полчаса он вышел к старенькому стадиону. Стадион показался совсем крошечным. На месте клуба действительно было голое место, занесенное грязными сугробами. По сугробам — следы детских лыж. Много раз за четыре года он вспоминал почему-то именно клуб, представлял себе, как приедет и постоит здесь. Много раз вспоминали они с Риткой, как играла она «Бесприданницу». И вот нате вам — пусто, нет ничего. Все течет, все изменяется.
Было около четырех часов, на улице стали появляться рабочие, мужчины и женщины, в робах и ватниках, потянулись крытые «будки», которые останавливались, подобно московским маршрутным такси там, где потребуют: стоит только постучать по кабине. Причем, если раньше «будки» после работы шли всегда от плотины, то теперь с противоположной стороны — от комбината. Солнце продолжало светить, было тепло, и люди шли не торопясь, нараспашечку. Но Сергеев вдруг устал, хотелось есть, все ему немного надоело.
В половине пятого он заявился к Грековым. Друг Валька жил в одном из лучших домов, на втором этаже, в трехкомнатной квартире. Он получил ее незадолго до того, как Сергеев уехал, и они еще успели тогда справить новоселье в необычайно просторных апартаментах.
Волнуясь, Сергеев поднялся по деревянной лестнице, позвонил. За дверью слышались голоса, и, как всегда, вкусно пахло жареным или печеным.
Открыла девочка лет двенадцати — это была, как Сергеев понял, старшая Валькина дочка — Елка. Неужели она так выросла?
— Здравствуй, Елка, не узнаешь меня, наверное?
— Почему, узнаю. Вы Сергеев. Здравствуйте.
— Ну, молодчик ты какой! Тсс! Молчи пока!..
Обдало Сергеева теплым, знакомым запахом Валькиного жилья, знакомы были и вешалка, и зеркало, и куча детской и взрослой обуви, и даже круглый половичок под ногами. А с кухни, которая находилась в конце коридора, шипело, пахло жареным луком и слышался громкий голос Даниловны, Валькиной тещи. По коридору ездил на трехколесном велосипеде мальчишка лет пяти — неужели Павлик, которого Сергеев видел еще в пеленках? Играло радио, шумела вода в ванной, и оттуда басил сам Греков:
— Сейчас! Я не слышу ничего!
А из комнаты громко говорила Инна:
— Они сказали, что полторы тонны привезли, а там и тонны не будет, пойди посмотри!
Сергеев тотчас вспомнил, что видел во дворе гору угля, и, должно быть, речь шла об угле.
Сергеев разделся, причесался, поправил галстук. Девочка смотрела на него, и мальчишка перестал ездить и тоже смотрел. И вдруг сразу вышел из ванной Греков в майке и полосатых пижамных штанах, а из комнаты Инна с годовалым примерно ребенком на руках, а из кухни большеносая, краснолицая Даниловна и за него еще паренек, тоже большеносый и красный, лет восемнадцати, — он нес тарелку с оладьями. И все вместе сразу увидели Сергеева, на секунду остолбенели, а через секунду начался крик и галдеж, вопли и объятья, Сергеев и Греков тузили друг друга, кричали, Инна тоже кричала, и Даниловна кричала, и орал испуганно ребенок у Инны на руках, а мальчишка упал с велосипеда.
Еще через две минуты паренек — это был внучатый племянник Даниловны Саша — побежал в магазин, а Сергееву, уже без галстука и без ботинок, демонстрировали Вовку — того самого, что орал. («Дядя хороший, дай ручку дяде, Вовочка дядю не боится…») А Елка обнимала Сергеева за шею и глядела на него вполне влюбленно, а Павлик, выскакивая из коридора, строчил в Сергеева из пластмассового автомата. Инна спрашивала о Ритке и о Катьке; Даниловна кричала, как, мол, не стыдно, что нет у Сергеевых до сих пор второго ребенка; Валентин паясничал:
— Смотрите, не побрезговал, зашел, уважил! — и кланялся в пояс.
Потом сели за стол, много ели, пили, и снова все громко, наперебой, кричали. Даниловна и паренек Саша пили водку наравне с Грековым и Сергеевым, паренек, оказывается, был на Правом проездом: закончил школу, не попал в институт, почти год проболтался где-то, а теперь завербовался в Якутию, тоже на строительство гидростанции. Все паренька ругали, говорили, что надо учиться, у него горели уши, он заметно захмелел и тоже кричал:
— Теперь все по-другому!
Все это продолжалось очень долго. Что-то рассказывал Сергеев, что-то Греков, потом гнали спать детей, которые никак спать не хотели, потом стали вдруг есть бульон, и под бульон появилась новая бутылка. Паренек Саша пересел на стул рядом с Сергеевым, близко склонялся к нему и страстно, преодолевая пьяное косноязычие, говорил, что все прежние поколения, в том числе и поколение Грекова и Сергееева, гроша ломаного не стоят, что самые лучшие и честные — это те, которым сегодня восемнадцать, и хотя все их презирают, считают стилягами и материалистами, но они себя еще покажут. Сергеев слушал с нетрезвой тоже заинтересованностью, спорил с мальчишкой и иронически усмехался, когда не знал, что сказать, и останавливал Грекова, который смеялся над пареньком и обронил вдруг фразу:
— Мы тоже сюда приехали такие, как ты!
— Ну а что? — быстро спросил Сергеев и повернулся к Грекову.
Друг Валька, широколицый, кудрявый, с заметным уже животом под белоснежной рубашкой, пьяный, сытый, источающий одну иронию, откинувшийся на стуле, обнимающий одной рукой жену — Инна давно уже не участвовала в споре и зевала, — красавец Валька Греков изо всех сил старался доказать своему юному родственнику, что тот ни черта не понимает в жизни.
А потом они остались вдвоем, Сергеев и Греков. Даниловна постелила Сергееву в «кабинете» — эта большая комната называлась так потому, что тут стояли шкафы с книгами и письменный стол, за которым делала уроки Елка. Оба валялись на полу на ковре, погасили верхний свет, оставив настольную лампу, курили сергеевские сигареты. Греков вынул откуда-то из книг початую бутылку коньяку, принес кофейник, пили кофе. И Сергеев рассказывал, как путешествовал сегодня по Правому, и как ему было грустно (а серая плотина, готовая, огромная, все стояла перед глазами), и в который раз порывался идти к Иволге. А Греков, большой, красивый, располневший, сидел в трусах на ковре и пьяно повторял:
— Как я живу, Андрюха? Кем я стал?
— Брось! — говорил Сергеев, которому не хотелось слушать, а хотелось говорить самому и о себе.
Но Валентин тоже не слушал, и тоже хотел говорить о себе, и продолжал:
— Ты видишь, да? Думаешь, я не понимаю? Думаешь, легко мне? Волком иной раз хочется выть, бросил бы все к чертовой матери и ушел! Я инженер! Я ведь неплохим был инженером, Андрюша? А я уже два года чертежа в руках не держал, только бумажки подписываю. И часто против совести подписываю, понял?.. Почему, ну? Мы же хорошие были ребята. Помнишь, как мы мечтали о плотине, думали, что настанет какая-то необыкновенная жизнь, когда мы ее построим? Э, да что говорить!..
— Брось! — повторял Сергеев. — Все ясно, как божий день. Просто кончилась, Валь, наша молодость, и нам не нравится быть такими, какими мы становимся. А прошлого, я очень хорошо это понял сегодня, не вернешь. Я очень хорошо это сегодня понял…
Греков не слушал и продолжал свое:
— Уехать к черту! Как вот этот мальчишка, собраться завтра и уехать. И снова все сначала, строить, работать, грязищу месить. И по-другому совсем! Не тебе рассказывать, что мы получше бы, побыстрей да подешевле построили теперь плотину. А? Уеду! Ей-богу, уеду!..
— Брось! От себя, как говорят, не уедешь. Я очень хорошо сегодня понял, честное слово, что повторить нельзя ничего. Понимаешь? Можно только сначала, но совсем по-другому…
Они разговаривали, как глухие. Как будто Греков исповедовался себе самому, а Сергеев тоже себе самому. Но потом Сергеев понял, о чем говорит Валентин, и стал поддакивать: да, дескать, в самом деле, если еще можешь, уезжай. Вместо того чтобы детей рожать и на машину копить, соберись и уезжай. А то еще лет пять — и сам себя не узнаешь.
Греков повторял: «Уеду, уеду!» — и вид у него был такой, что он действительно может собраться завтра и уехать.
«А куда мне ехать? — думал потом Сергеев, когда Валентин заснул прямо на полу, на ковре. — Да и зачем? Не в этом ведь дело. Все нормально, все естественно, а прошлого действительно не вернешь. Да и нужно ли? Разве не вся жизнь еще впереди?.. Хватит, хватит, спать надо. А Валька пусть едет, чего ему не поехать?..»
Утром проснулись рано — на Правом всегда встают рано. И опять шумел, гремел весь дом, катался на велосипеде еще не умытый и не одетый Павлик, шипело на кухне, Елка в школьной форме складывала книжки в портфель, а сам Греков плескался под душем и как ни в чем не бывало громко пел там ту песенку, которую они затягивали вчера вечером:
— А я иду… тарим-па-па, тирим-па-па, где мостовые скрипят, как половицы…
Инна с мальчишкой на руках стучала в дверь ванной и кричала:
— Ты скоро, отец? Воду не выключай, нам попку надо подмыть!..
Саша в ватнике внаброску и тяжелых сапогах принес со двора ведро угля. Смущенно отвел глаза, усмехнулся, застенчиво, потом сказал:
— А погодка там, граждане!
Солнце действительно било во все окна, на кухню в распахнутую форточку врывался свежий, прекрасный ветер, гуляли по дому сквозняки. Даниловна жарила блины, улыбалась, громко говорила что-то насчет рассольца: не хочется ли, мол, Сергееву попить? В кухне на окне стояла старая линза от телевизора, налитая водой. Там металась красная золотая рыбка, то неимоверно увеличиваясь, то уменьшаясь до нормального своего размера. Линза собирала солнечные лучи и сияла, словно огромный драгоценный камень.
Сергеев наклонился и рассматривал рыбу, ему слепило глаза, приятно обдувало голые плечи из форточки. По улице, по лужам, уже шли «будки», останавливались, и в них вскакивали рабочие. Лужи-то, лужи, вчера еще таких не было. Опять весна на Правом.
За спиной шумел и опять паясничал Валька. Он вышел из ванной, свежий, красивый, улыбка во весь рот, сострил:
— А не выпить ли нам скорей, пока голова свежая?
Сергеев посмотрел на часы. Надо было собираться. Надо было работать.
РОКОВАЯ ОШИБКА Повесть
— Ну чего ты, Надек, пошли! — Бухара попрыгивала на месте, ей не терпелось начать, она поглядывала в сторону станции, откуда метро выбрасывало народ.
Бухара попрыгивала, Ленок затягивала «молнию» на куртке, Жирафа сделала постное, печальное лицо. Они втроем стояли, а Надька сидела на бульварной скамейке, осыпанной сентябрьским листом, один кленовый лист крутила за длинный черенок. Что-то ей скучно было вступать в игру. Вы давайте, давайте, говорил ее вид, я-то успею, свое возьму.
— Пошли, Жир! — сказала маленькая черная Бухара длинной белесой Жирафе. — Жир!..
И они пошли.
— Ты чего? — спросила Ленок Надьку.
— Да не, ничего, я сейчас… Вон бери, твой! — и Надька показала на мужчину в шляпе, который, выйдя из метро, остановился закурить: поставил портфель между ног, а на портфель торт в белой коробке. Сразу видно: в хорошем настроении, значит, добрый. Ленок тут же послушалась и мягко двинулась к мужчине, чтобы вынырнуть возле него сбоку. Ленок узкая, как кошка: голова обтянута шапочкой, спина — курткой, зад — джинсами, ножки — сапогами. Нет, не кошка — змейка, змея…
Надька наблюдала издали. Видела, как Жирафа подошла к телефонным будкам, а Бухара к киоскам — там слепились «Союзпечать», «Табак», «Мороженое» и гуще толпился народ. Ленок приблизилась к мужчине. С жалобным лицом, смущаясь, но и чуть виясь, не скрывая своих достоинств, лепетала: «Извините, пожалуйста, у вас не найдется пятачка на метро, домой не на что доехать…» Мужчина уже наклонился было за тортом и портфелем и хотел бежать дальше в том же темпе, в котором выбежал из метро, но — Ленок била в десятку — пыхнул дымком сигаретки, вгляделся: та стояла бедной скромницей. Надька услышала веселое:
— Дайте пятачок на метро, а то на портвейн не хватает, а? — Мужчина был еще не старый и говорил громко. Он полез в карман, порылся и протянул ладонь с мелочью: — На, держи!.. — Ленок опять вилась, стоя на месте: мол, зачем мне столько? Потом подставила руку. — Держи, держи, сами такие были! — Мужчина подмигнул и побежал беспечно, помахивая тортом. Ленок опустила мелочь в карман, повернула голову к Надьке, подмигнула. «Отлично! — отвечала та взглядом. — Не слабо́!»
А возле автоматов Жирафа уныло клянчила двушки у тех, кто помоложе, — вон к такому же длинному, как сама, парню подошла, и тот нехотя протянул ей монетку.
У киосков за мелькающими людьми Бухара, тоже понуро, стояла перед молодым мужчиной, который, видно, на минуту выбежал из дома в одной клетчатой рубахе и без шапки, — он держал в руках, одну на одной, сразу несколько пачек пломбира. Наклонясь к Бухаре, нетерпеливо слушал, потом подставил ей нагрудный карман рубашки, чтобы она сама вытянула оттуда деньги. И она, кажется, взяла сразу бумажкой — должно быть, рубль. Мужчина еще протянул ей брикеты с мороженым, и Бухара взяла один, а он щелкнул остальными ловко, как в цирке, скрепив их опять давлением.
С этим брикетом Бухара примчалась к Надьке:
— На! — Ее уже охватил азарт добычи. — Видала? — И она в самом деле показала рубль. — Ты-то что?..
— Я не хочу, — сказала Надька про мороженое.
— Ну а куда его? Ешь! — И Бухара умчалась.
Надька откусила и положила пачку на скамейку. Полезла в карман брюк, достала деньги: рубли, трешки, мелочь — рублей пятнадцать набиралось, — сунула назад.
Не так уж деньги им были нужны — они развлекались.
Посмотрела опять: где кто? Ленок стояла перед интеллигентного вида женщиной, та рылась в кошельке, искала, видимо, пятачок. А от киосков вдруг взметнулся женский высокий голос: тетка с сумкой и с пакетом чистого белья из прачечной кричала вслед отступавшей Бухаре:
— Как не стыдно! Только что просила вот тут у гражданина! Ни стыда, ни совести! — Женщина пыталась привлечь внимание общественности, но общественность реагировала так себе, а Бухара уходила, ввинчивалась в метро, где не вход, а выход. За ней Жирафа с округлившимися сразу глазами.
— Какие наглые! — шумела женщина. — Вы подумайте! Все им можно.
Надька бросила без жалости почти целую пачку мороженого в урну и пошла тоже. Нарочно сблизилась с теткой, которую уже все покинули, пробасила:
— Ладно орать-то! Чума! — И нырнула в метро.
Они сидели на лавке на перроне и обсуждали происшествие. Бухара изображала тетку, растопырясь и держа в руках невидимую поклажу.
— А ты кончай, Надек, — вдруг ни с того ни с сего сказала Жирафа. — Мы это… а ты сидишь.
— Да! — Кажется, уж кто бы говорил, — тут же прищурила и без того узкие глаза Бухара.
— Да! — сказала и Ленок. — Так не полезно. — И кинула в рот таблетку: она все время глотает разные витамины, знает, что полезно, что не полезно, у нее мать в аптеке работает.
Надька поглядела жестко в сонные глаза Жирафы, и та тут же стушевалась, нагнула голову в нелепой вязаной шапке. Ленок и Бухара тоже отвели глаза.
— Ладно! — Надька говорила властно и кратко. — Вон компоту хотите?
Они так сидели, что перед ними мелькали только ноги и сумки прохожих. Народу было уже не так много. Надька кивнула вслед женщине, которая несла в авоське три банки венгерского «Глобуса».
— Компоту! — ухмыльнулась Бухара, намекая не невыполнимость задачи.
— Компот — это полезно! — одобрила Ленок.
— Ну, на́ спор? — сказала Надька, уже неотрывно глядя в спину женщины с компотом, и повторила любимое свое словечко: — Чума…
И вот они вошли в вагон. Женщина — высокая, белокурая, усталая, обе руки заняты — с облегчением увидела, что есть место, села, одну сумку, матерчатую красную, поставила у ног, другую, сетку с банками, — на сиденье рядом с собой. И попала взглядом на Надьку, та опустилась рядом.
Надька еле слышно всхлипывала, утирала слезы. Вроде тайком, не напоказ.
— Девочка!
Надька отворачивалась с таким видом, что, мол, кому до меня дело.
— Девочка! Ты что, что-нибудь случилось?..
Люди со стороны поглядывали с любопытством, но поскольку женщина с компотом уже занялась девочкой, тут же поостыли.
В соседнем вагоне, таясь за торцовым стеклом, маячила кудрявая, теперь без шапки, голова Жирафы.
— Ну скажи, ты откуда?..
— Ниоткуда! — со всхлипом отвечала Надька.
— Ну? — Женщина протягивала к ней свою добрую руку. — Ну? Кто тебя?..
— Да ну ее!
— Ну кто, кто?
— Да мать! Я у нее приемная, так она хуже мачехи… домой не пускает, я уже второй день… — Надька била сразу из крупной артиллерии. И поглядывала на компот, невольно отвлекая взгляд женщины на сумку. — Совсем уж! И никакой управы на нее нет. Чума!..
— Ой, боже мой! Как же так? А родная мать?
— Да бросила. Сама на Дальнем Востоке.
— Как бросила?
— Да так! Как бросают?
— Ой, боже, боже! А ты учишься, работаешь?
— Учусь. В хлебопекарном. Да она и в училище придет, будто помои на меня выльет: такая я, сякая, а сама…
— Господи, что делается на свете! — уже вовсю жалела Надьку женщина, а Надька только махнула рукой: мол, что уж тут говорить. А сама не сводила с компота взгляда.
— Может, тебе денег немножко?..
— Ну что вы, спасибо, я не возьму, — и не было сомнений, что эта бедняга девочка не может взять у незнакомого человека деньги. — А это что у вас? Я таких банок сроду не видела.
— Да ты что! Это компот венгерский. Как не видела?
— Да не видела! Где я увижу?
— Боже мой!.. Дать тебе?
— Зачем? Я не возьму.
— Да ну что ты! Возьми! — Женщина уже запускала в сумку руку и доставала банку. — Возьми, ерунда — компот. — Она рада была хоть чем-то помочь бедной девочке и тем, кстати, выйти из положения.
— Вам тяжело, я вам помогу нести, — сказала Надька светлым ангельским голосом, уже как бы в компенсацию за явившийся наружу компот. Она без зазрения совести глядела в доброе, усталое и блестевшее, словно от крема, лицо женщины и боялась даже покоситься в сторону, где за стеклами соседнего вагона уже готовился, конечно, взрыв восторга.
И вот холодная банка в руках у Надьки, женщина еще что-то говорит, сердобольно на нее глядя, но поезд тормозит, пора. На перрон вылетают девчонки с воплями, и Надька выскакивает к ним.
— Компот! Компот! Надек-молоток!
Надька победно подняла банку компота — словно кубок.
Перебежав перрон, они влетают во встречный поезд.
Вагон полупуст, сидят поблизости две железнодорожницы с набитыми сумками, тетка с тазом в мешке, молодая женщина в очках с книгой, другая женщина с мальчиком лет восьми. Влетев, Жирафа цепляется двумя руками за поручень, виснет на нем, а задача других — оторвать ее, повалить.
— Гроздь!
— Гроздь! Гроздь!
И все кидаются, тоже виснут, орут.
— Гроздь!
Оторвали Жирафу, повалились на сиденье с воплями. Полный восторг.
Надька и Ленок поднимались по лестнице на последний, пятый этаж старой пятиэтажки без лифта. Дурачились, висли на перилах, приваливались к стене.
— Сейчас поесть чего-нибудь? Я ужас как! А ты, Лен?
— Не полезно на ночь.
Да, Ленок красавица. У нее манера. Надьке против нее куда! С кургузой своей фигурой, широкой мордой, прямыми дурацкими волосами. Когда они остаются одни, то Ленок вроде сразу берет верх, а Надька теряет всю свою власть.
Надька открывала своим ключом дверь, дверь не поддавалась.
— Заперлась, дура! — Надька нажала звонок, и звон хорошо был слышен внутри квартиры. Дверь не открывалась. Надька нажимала еще и еще. — Ну!.. — Она опять выругалась, повернулась и стала стучать в дверь каблуком.
И вдруг из-за двери:
— Не стучи! Не открою!
— Открой, ты чего?
— Не открою! Иди, откуда пришла!..
— Открой! Видала, Лен?.. Вот чума!.. Открой, я здесь с Леной! Мамка Клавдя!
— Хоть с чертом! Тебе когда сказано приходить?
— Открой! Сейчас дверь расшибу!
— А я вот милицию, она тебе расшибет!
Ленок сразу заскучала:
— Я пойду, Надь.
— Стой! Я сейчас!.. — И Надька стала еще пуще — от стыда перед Ленком — колотить и орать: — Открой! Открой!..
У соседей напротив уже глядели через цепочку. Ленка кинулась вниз по лестнице, Бедная мамка Клавдя уже не рада была — гремела замком, отпирала, а Надька билась о дверь, стучала кулаками в ярости, но без слез.
…Выходит, в дом-то ее, и правда, не впускают.
Из холодильника Надька достает банку лосося, за нею банку сгущенки. Обе банки ловко вспарывает на дешевой клеенке кухонного стола. Тут же полбатона белого, тут же видавший виды маг, который испускает свои «лав», «лайк», «гив», «май». Это очень интересный маг: передняя крышка с него снята, задняя тоже, и видно все сложное, на схемах и в цветных проводах, нутро аппарата.
Надька сидит одна за столом, ест. А за спиной ее — всхлипывания, сморкание, кашель и бесконечный монолог, каждый день Надька его слышит.
— Ну змея выросла, свет не видывал! Во, возьмет банку лосося и уговорит одна всю! Ей что! Мать болеет, мать того гляди помрет как собака, воды некому подать будет, — да черт с тобой, кому ты нужна, она только рада будет, — наконец место освободила, слава богу! И жилплощадь теперь вся наша, води сюда всю банду свою, гуляй!
Кашель только и останавливает мамку Клавдю, она чуть не плачет от жалости к себе, на самом деле представляя, как это она помрет, а Надька тут же наведет своих подружек и будет здесь безобразничать, прогуливать нажитое.
Надька, разумеется, и ухом не ведет, нарочно громче делает музыку, хотя, конечно, все слышит и про себя еще мамке Клавде и отвечает кое-что не больно вежливое: губы шевелятся.
— Бесстыжая, больше никто! — продолжает мамка. — Уговорит хоть три банки зараз, сгущенки налопается, и плевать ей, откуда ты, мать, взяла, где у тебя денежки удовольствия ей справлять. Одни удовольствия, одни удовольствия им подавай: поесть вкусно, да танцы, да ки́на — вот вам и вся жизнь! Откуда паразиты такие только повыросли!
Опять кашель, опять вызов: мол, ну, ответь, я тебе еще тогда не такое скажу, но Надька молчит, и мамка Клавдя переходит к самому главному, больному месту:
— А какая девочка была, два годика, куколка, звездочка! У нас с хлебозавода Нюрку тогда выдвинули, она со мной сама лично ходила в детдом, хлопотала, я год ждала, чтоб подобрали девочку получше, чтоб у ней хены не срабатывали далеких предков, — нате вам, дорогой товарищ Шевченко, вот оно, выросло! Откудова только набрали таких хенов в один организм — вот что страшно-то! А выдали-то! Толстенькая, в белом платьице, волосики вьются прям локонами, глазки, как у куколки, открываются, так и сияют — ангел! Вон он, ангел!..
Тут не выдерживает мамка Клавдя и ревет.
Выходит, Надежда и насчет детдома не врала женщине с компотом… Историю про себя маленькую она слушает с интересом, все мы любим, когда нам о нас же рассказывают.
А мамка Клавдя продолжает:
— А ручки-то крохотулечки, пальчики тепленькие, всегда горячие, как возьмешь в свою рабочую лапищу-то нежность этакую, заплачешь, ей-богу, заплачешь. Сидит, бывало, в ванночке, ручонками шлеп-шлеп, резиновым крокодилом шлеп-шлеп! Ма-ма!.. Что, моя жданочка, что, моя звездочка?.. Ну, слезы, слезы, не нарадуешься, откуда же счастье-то привалило тебе, дуре одинокой, — так и плачешь над нею, крошечкой, а сама-то сирота выросла, фашист все пожег, всех загубил, с пятнадцати лет в городе на работе, сначала камни растаскивали, цельные улицы разбитые, а потом, спасибо, на хлебозавод определили… И откуда, — тут опять высоко поднимается мамкин голос, — такое-то, зачем только растут? Так бы и засахарить их крошками-то! А то ведь кто выросло? Кто? Черт ядовитый, больше никто! Вот и вся куколка!..
(Ну и переходы у вас, мамка Клавдя, ну и переходы!)
— Мать вгонит в гроб — и порядок в танковых частях, это ее мечта-то и есть! Ну? Все? Отзавтракали, ваша величество? Хоть банку бы за собой выкинула, привыкла: подай, принеси, всю жизнь выносить за тобой матери!..
И — не выдержала Надька, заорала:
— Замолчи! Какая же ты мне мать? Чума!
Маг в играющем виде сунула в кустарную холщовую сумку, кота Сидора отбросила ногой, об которую он терся, по столу стукнула так, что банки подпрыгнули и повалились. А мамка Клавдя этого и ждала!
— Ах, не мать! Катись! К своей катись! Она вон завтра явится, пусть берет тебя к черту! «Прилетаю завтра рейсом…» Прилетает она, ведьма летучая! На́ вот, встречай иди! И глаза б мои вас больше не видали! — кинула Надьке телеграмму и зарыдала, пошла багровыми пятнами.
Бедная мамка Клавдя! Плюхнулась на табуретку в своей пятиметровой кухне, подперла голову, некрасивая и нескладная, как кривое дерево, — передовица своего хлебного производства, уважаемая работница, а тут, дома, никто, «дура старая», каждый день одни обиды — конечно, за душу возьмет. Да еще э т а приезжает — нет, к сожалению, в нашем языке такого слова, которое бы определило это понятие — мать, которая родила, но не воспитывала своего ребенка. Как назвать такую: родительница, рожальница, детородница, производительница?
Мамка на кухне кашляет и плачет, Надька в ванной закрылась, кот Сидор банкой из-под лосося по полу гремит.
А вот, пожалуйста, кинохроника — расширим границы нашего повествования прямо до Дальнего Востока! — кинохроника: синее море, белый пароход, синее море, Дальний Восток.
Плавучий рыбный завод. Лебедки заносят над трюмами тугие от рыбы пузыри сетей. Как серебристая мелочь, сыплется рыба и мчится по мокрым транспортерам в разделочные цеха.
Крутятся механизмы, дымят котлы, щелкают и гудят автоматы. А вот и банки из-под лосося. Вернее, для лосося. Они тарахтят, заполняя длинные столы. А вот и руки, которые укладывают в банки разделанную рыбу. Это женские руки. Две руки, четыре, шесть, сто, двести. Гигантский цех, сотни женских голов. Голос директора сопровождает эти кадры бодрыми словами о перевыполнении плана, комментатор берет интервью у бойкой белозубой рыбоукладчицы. И опять рыба, сети, автоклавы, банки с нарядными наклейками…
И на этом фоне начинается еще один монолог, тоже женский. Но женщина теперь иная: крепкая, широколицая, хорошо одетая (жабо белой японской блузки), причесанная в «салоне». Разговор идет с соседкой по самолетному креслу: лететь далеко, можно обо всем на свете переговорить.
Стюардессы разносят обеды, женщины едят, подставляют пузатые стаканчики, обе оживлены, свободны, веселы: полет, еда, разговор, мужские взгляды — жизнь!
Смеются:
— Чего бы покрепче! — Будем здоровы! — Смотри, икру дают! — Глаза б мои на эту икру не глядели!
— Ну вот, — продолжает свой, видимо, издалека начатый разговор мамка Шура, так ее зовут в отличие от мамки Клавдии, — живу, как сыр в масле, грех жаловаться, а ведь все сама, всю жизнь вот этими руками — видала такие руки?
Она показывает руки, и они поражают своей шириной, толщиной. Такие руки бывают только у работниц рыбозаводов, разделочниц и укладчиц, кто имеет дело с рыбой, крабами, креветкой: рыба и соль разъедают натруженные руки, они пахнут, раздуваются — это профессиональное заболевание. Вернее, даже не заболевание, а результат, признак именно этого труда. Как мозоли у плотника.
— Я его любила без памяти, — рассказывает Шура, — я за ним на край света пошла в буквальном смысле: взяла да прилетела к нему на Камчатку. А мне еще восемнадцати не было. Мы десять лет безразлучно на одном судне плавали, я все навсегда позабыла. У меня мама померла в Воронеже, я только через три месяца об этом узнала. Он краба ловил и креветку, корюшку, лосося, он у меня рос год от года, его весь Дальморерыбпродукт знает, мы с ним два года в Сингапур ходили, — видишь, у меня шмотки — импорт, фирма́, мы на двоих такую деньгу заколачивали, мама родная, не приснится! Тем более он молодым сроду не пил, только трубку курил да книжки читал. Как я его любила — это роман, ей-богу, если описать, одно счастье и счастье было у меня в жизни, больше ничего. Не расставались нигде!.. Ну и куда мне было с дитем, подумай? Сама еще девчонка, все в самом разгаре, один он у меня в голове — и вдруг на́ тебе! Как я пропустила, не поняла по неопытности, а потом хвать — поздно! Вот это была моя самая р о к о в а я о ш и б к а в жизни! Ей-богу, я всегда так и говорю: «Надька — ты моя роковая ошибка!» Да уж, видать, так устроено — за все расплачиваться. А ребенок значил конец всему: в плавание с ним уже не уйдешь, разлучайся, значит, на семь-восемь месяцев, он в море, ты на берегу — это все. Там таких, как я, на плавбазе еще четыреста пятьдесят, а он как выйдет с трубкой, глаз прищурит и по-английски: ду ю уот ис лэди дуинг ивнин тудей? И — отпад, любая тебе лапки кверху… Как мне было его оставить?.. Да где оставить? В слабость кидало, если я полдня его не вижу, не дотронусь хоть вот так. Я ни одного дня и ни одной ночи без него не жила. Нет, не опишешь!.. Короче, он даже не узнал ничего. Я вроде мать навещать уехала, она еще жива тогда была, все болела, а он в Ленинграде был на курсах повышения, и я с ним. Я так подгадала, что на три месяца нам расстаться, — господи, выживу ли?.. Ну, подгадала, чего только не делала врачиха, Ирина Петровна, век ее не забуду, такое золото попалась, я полтора суток в родилке, чуть не померла, она меня не бросила. Я ей-то все и рассказала потом. Роковая, говорю, ошибка — этот ребенок, загубит он всю мою жизнь. Я даже видеть ее не хотела, представляешь, какая злая была. Кормить отказалась. Меня спрашивают, какое имя дать девочке, я молчу. Какое, говорю, хотите, такое и давайте. Ну что ты хочешь, мне двадцать лет, ни кола ни двора, а в голове только он! Он меня в Ленинграде ждет, а я что ж, с дитем на руках к нему явлюся? Он и так все спрашивал, что со мной, а я — ничего да ничего. Чтоб он фуражечку вот так, честь отдал и гуд бай, леди? Короче, пиши, говорит Ирина Петровна, заявление и забудь навсегда, что была у тебя дочь, глаза мои б на тебя не глядели! Четвертый, говорит, случай у нас, будьте вы прокляты, такие матери!
Стюардессы собирали обеденные подносики, мамка Шура обтерла свое крепкое лицо и твердый рот мокрой бумажной надушенной салфеткой, подкрасила снова губы, закурила «Мальборо» и продолжала, не могла остановиться, историю свою и своей дочери:
— Знаешь, вот сейчас говорю, и будто про кого-то другого говорю, будто то и не я была и случай этот не со мной. Как сон или под гипнозом я каким находилась, ну ей-богу! Человек, говорят, весь целиком за семь лет меняется. Так я, выходит, с тех пор два раза переменилась. А было, знаешь, время, что я вроде и забыла про это. Нету. Не было. А чем дальше, тем больше мучить стало. И Николаю рассказала, не смогла, лет, может, через пять или шесть как-то, под горячую руку. Он потом спрашивает — умный он у меня, понял: неужели, говорит, ты меня так любила, что ради меня ребенка нашего бросила? Ну и сам сказал: надо, говорит, ее найти. А где, как? Я стыдилась, да и не хотели нам говорить. Ирина Петровна сама в Сирии три года работала, я ее ждала, к ней потом поехала, во Львов. Ну, найти, говорит, можно, но зачем? У девочки другая семья, мать другая, вся жизнь другая. Мы с Николаем говорим: ну мы хоть издалечка поглядим. Нет, говорят, не мучайтесь и других не мучайте. Я говорю: Коля, если ты так ребенка хочешь, я тебе рожу. И тут он отвечает: нет, еще поплаваем, я без тебя тоже не могу. Вот такая судьба…
Соседка уже почти дремала, глаза ее хлопали, закрывались и открывались, что доказывает, кстати, нашу уже некоторую привычку к подобным историям, невосприимчивость.
— Ну и что же, — спросила соседка, торопя развязку, — так ты ее и не видела, дочку?
— Я-то? Я да не увижу! — Шура твердым жестом гасила сигарету в подлокотнике, глядела на кипень белых облаков за окном. — Каждый год вижу. Мы договорились: у той матери не забирать, ладно, хоть и проку там мало, одинокая всю жизнь, на хлебозаводе работает, одна тупость, но теперь… — Шура прищурилась. — Помогать мы все время помогали, и сейчас полный чемодан ей везу… Нет, теперь все не так…
Что́ именно «не так», Шура не договорила.
— Ох, господи, чего на свете не бывает! — сказала соседка и зевнула. Она, должно быть, ожидала некий более страшный конец истории. — Может, поспим часок? В сон клонит, прям не могу.
— Да спи, спи, конечно, — сказала Шура. — Спи.
— А она-то к тебе как? — еще поинтересовалась соседка.
— Кто?
— Дочка.
— Донка? Нормально.
— Ну и все. Что душу бередить, она теперь уже, считай, выросла.
— Это да.
Соседка откинулась, уже откровенно закрыла глаза. А Шура отвернулась в окошко.
Там сверкающие облака стояли внизу, как белое море.
И вот закачались на белом, как в мультяшке, черные сейнеры. Закачалась черная матка-плавбаза. И подул ветер, зазвенели снасти.
И покатилась опять рыбацкая хроника: женские молодые лица под капюшонами, твердые морские фуражки, лебедки с пузатыми тралами. Ручьями льется рыба. Речушками. Реками. Серебряный поток. Золотой… Потом это превращается в брикеты мороженой рыбы. Вот холодильные камеры. Трюмы рефрижераторов. Мощные автофургоны. Наклейки. Клеймы. Подписание торговых соглашений. Аплодирующие друг другу внешторговцы.
Сейнер мотает на волне, и вода перелетает через него, как через поплавок. Игрушечный кораблик в ванночке. Дитя, сидя в воде, лупит по воде корабликом. Рыба идет стаей.
Не соврала, выходит, Надька и про Дальний Восток…
Гонит ветер корабликами сухие листья по тротуару, и они не шуршат, а гремят, как жестяные. Осень стоит сухая, солнечная, но сегодня вот ветер сорвался, бегут облака, и сразу нервно и неуютно на душе.
В районе, где живет Надька, дома не выше пяти этажей, мостовая еще булыжная, по узкой улице летит трамвай, сотрясая маленькие дома с геранями на подоконниках. Целый пролет меж двумя остановками занимает красная кирпичная стена старинного завода, где делают теперь холодильники, и длинные высокие окна забраны железными решетками. В окнах горит дневной свет, и больше ничего не видно.
Надька не села на трамвай, идет пешком вдоль заводской стены. На той стороне — домишки, деревья, заборы, вон детская площадка, давно ли Надька сама качалась там до одури на железных качелях, а теперь мотается с утра пораньше девчонка в голубой пуховой шапке, и качели визжат так же, как десять лет назад.
А там, за облетевшими кривыми липами, старинное здание школы. Надька ее не любит, школу, ничего хорошего не вспомнишь. Училась она плохо, была упряма, учителям грубила. В пятом классе хотели оставить на второй год, да мамка Клавдя пошла плакать, упрашивать, Надьку оставили, но с тех пор она не могла больше их в с е х терпеть — за то, что одолжение сделали.
В школе учился один знаменитый летчик, построена она была еще до войны, но все это не интересовало Надьку, и она не понимала, что это значит, «до войны».
За каменным сараем двое десятиклассников передавали сигаретку один другому по очереди.
— Эй, Белоглазова! Здорово!
— Привет!
— Как живешь? В ПТУ топаешь?
— В МГУ! Захохотали.
— А у нас Марь Владимировна на пенсию ушла, слыхала? Помнишь, как она тебя? — Хохочут. — Возвращайся теперь, Белоглазова. У нас мемориальную доску открыли. Имени летчика Солнцева.
— Нужна мне ваша школа! — говорит Надька и отворачивается, а ее бывшие однокашники, затоптав наконец свою сигаретку, мчатся к школе, размахивая портфелями.
Она тоже явно опаздывала в свое училище, но никаких угрызений совести по этому поводу не испытывала — ну опоздает, ну и что? Пусть спасибо скажут, что вообще пришла. Потому что это училище, эта учеба — тоже — зачем?..
Вот стоять просто, и глядеть, и слушать, как несет ветер листья, как они скользят по асфальту, остановятся вдруг, а потом опять — загремели, понеслись, не хуже трамвая…
В железных чанах железные кривые руки-шарниры месят тесто. Гудит черно-белый тестомесильный цех. Стайка девочек в белых шапочках, в халатах, узко стянутых в талии, с тетрадками в руках, записывают на ходу лекцию, которую читает им прямо на месте преподавательница училища, — училище находится здесь же, при заводе.
Долетают слова: «Вымес продукции производится автоматами типа… выпечка хлеба в нашей стране достигла сорока миллионов тонн в год…» Преподавательнице Ирине Ивановне лет тридцать пять, у нее прямая стрижка, очки, вид самый обыкновенный. А Надька ее не любит. За что, сама не знает. Надька тоже в белом халатике, в колпачке, с тетрадкой — и Ленок с ней, и Бухара, — смотрит на Ирину Ивановну, суживает глаза: мол, говори, говори, я все равно не слышу.
Девчонки шушукаются, смеются.
— Девочки! — говорит преподавательница. — Ну что вы все смеетесь? Ну что вам все смешно? — И глаза ее вдруг наполняются слезами.
— Чего это она? — шепчет кто-то.
— Депрессуха, — острит Бухара.
Ирина Ивановна оборачивается прямо на Надьку. Взгляды их встречаются. Казалось бы, в глазах девочки должны быть неловкость, сочувствие. Нет, у Надьки вызывающий, скучный, безжалостный взгляд.
Группа движется дальше. Механические руки месят и месят тесто.
Бухара дергает Надьку за халат: отстанем. Она запускает палец в тесто, пробует и корчит рожу. Они в самом деле отстают, шмыгают на лестницу, спускаются на один марш и останавливаются у автомата с газированной водой. Как не попить бесплатной газировочки, хоть и несладкой? Бухара пьет жадно, Надька нехотя.
И вдруг — мамка Клавдя. Она тоже в белом халате, краснолицая, потная.
— Вот они где! Здрасьте! — Мамка Клавдя отходчивая, а за работой вовсе забылась, и теперь тон у нее такой, что вроде ничего и не было накануне. — Надь! Ты не забыла? — Она тоже ополаскивает стакан, пьет. — Ты не уходи, я с ей одна сидеть не буду… Слышь?
И тут сверху, с лестницы, слетает белыми халатами опять вся группа.
— Газировочки! Пить! Давай!
— Надь! Надь! — перекрикивает всех мамка Клавдя. Надьке неприятно, что эта некрасивая, нескладная работница имеет к ней отношение. Хотя большинство девчат, конечно, мамку Клавдю знают. Но Надька демонстративно не слышит. И только хуже делает: высокая и толстая отличница Сокольникова Люся толкает Надьку в плечо:
— Тебе говорят, не слышишь?
— Что? А тебе что? Ты кто такая?
— Никто. Чего ты?
— А чего хватаешь? Больше всех надо?
— Да ты сама-то кто?
— Я?
Надька — сплошное презрение, а сбоку уже подтягивается Бухара. Ленок делает вид, что ее это не касается. Но тут сама мамка Клавдя вступает:
— Вы чего? Надя!.. Я кому говорю-то!
— Да отстань, слыхала я! — отсекает ее Надька и продолжает с Люсей: — Я — кто? Ты не знаешь?
Сокольникова отворачивается, а другая девушка, пучеглазая Виноградова, заслоняет ее и говорит Надьке:
— Опять нарываешься? Чего ты все нарываешься?
— Девчата, вы что это? — шумит мамка Клавдя. — Вы чего? Вы это тут бросьте! Вы на производстве! Вы у хлеба находитесь! Хлеб этого не любит! — Она явно обращается к девушкам, которые ни в чем не виноваты, и выгораживает Надьку. — Вы тут не на улице!
Сверху спускается Ирина Ивановна.
— Здрасьте, Клавдия Михална! Что тут такое?
Прямо такое почтение, куда там!
— Да это ничего, ничего, — начинает объяснять мамка Клавдя. Надька не слушает, кривится и идет в сторону. — Надьк! — несется ей вслед. — Сразу домой, поняла? Я с ей сидеть не буду!
Надька красуется перед зеркалом в новом тонком белом свитере, в светлом комбинезоне. Рядом другой свитер, зеленый, натягивает на голое тело Ленок. Шнурует на ноге кроссовку Бухара. Вещи, вещи, вещи. Из раскрытого чемодана парящая надо всем Шура вынимает еще нечто яркое, сине-белое.
— А это вот Клавдии Михалне!.. Михална, ну-ка!
— Чего это? Чего? — бросаются от своих обнов девчонки.
— Мне? А мне-то зачем? — Мамка Клавдя туго краснеет. Но ей уже дают сине-белое в руки, ведут, заставляют примерять, надевать, и оказывается, что кофта в крупную полосу, белую с синим, как тельняшка. — Господи, куда это мне такое? — Но сама еще пуще рдеет, глядится в зеркало — видно, что ей нравится.
— Уж не знаю, угодила ли, старалась, — не закрывает рта Шура. — У нас теперь товаров очень много, японских, сингапурских, каких хочешь. Ой, Михална, ну ты у нас невеста!
Они говорят между прочим, все вместе, все разом, и все друг друга слышат. Мамка Клавдя так и ходит потом в новой кофте — ставит на стол тарелки с нарезанной колбасой, с сыром, — стол уже и без того уставлен, накрыт, торчит на нем бутылка вина.
— Надь, ну продашь мне этот зелененький-то, Надь? — страстно шепчет Ленок про пуловер, который остался на ней после примерки и облегает ее тонкую спину и талию.
— Ну отличные! — топочет кроссовками Бухара. — Ну отличные, Надь! Только они тебе малы будут!
— Чего это малы, чего это малы? — отвечает Надька и сразу же Ленку́: — Ну чего это продашь-то, Лен? Мне самой хорошо. Я тебе потом дам. Поношу — ты поносишь.
— А вот еще, Надь! — кричит Шура, извлекая из чемодана платье. — Поцелуй хоть мать-то, спасибо хоть скажи!
— Спасибо! — кричит издали Надька, а сама усмехается.
Бухара передает ей платье: надень, Надь, надень.
— Да ладно, хватит, — говорит Надька. — За стол пора садиться, есть охота.
— За стол, за стол, — повторяет мамка Клавдя. — Я блины несу!
И тут же раздается звонок в дверь, и входит еще Настя: племянница Шуры, воронежская родственница, очень на нее похожая:
— Ой, Шурёна!
— Ой, Настёна!
Объятия, возгласы, восклицания, быстрые слезы, подарки, опять призывы: за стол!
А между тем Надька надела-таки платье и стоит перед зеркалом. Платье нежное, красивое, очень ей идет, и из зеркала глядит вдруг нормальная и н т е р е с н а я девочка-девушка. Надька смущена этим непривычным для нее видом. Что это? Кто это? Удивленно глядит Бухара, чуть приподнимает подбородок Ленок. Это Надька? Гадкий утенок?.. А Надька фыркает и прямо-таки выдирается из платья. Зачем оно ей? Зачем ей быть такой?
Но вот наконец все за столом, чокаются красным кагором, смеются, и Шура начинает:
— Я его как любила-то? Без памяти. Я за ним на край света отправилась. На Камчатку прилетела — сама, а мне восемнадцать лет! Да еще и не было-то восемнадцати!… — И она горячо и охотно повторяет все то, что уже слышано здесь не раз. И когда доходит до рождения Надьки, говорит: — Конечно, меня хоть под суд за такое дело! Да что ж мне было-то придумать? Она ведь была-то — ну роковая ошибка! Ей-богу, прям роковая ошибка, что я ее родила!
— Ну-ну, слышали уже! — говорит воронежская Настя — даже у нее хватает соображения остановить Шуру. Потому что девчонки сидят потупясь, и Клавдя двигает стулом и уходит на кухню.
— А чего? — удивляется Шура. — Я честно говорю. На кой она была тогда нужна? Ну?.. А теперь, — Она внезапно склоняется к Надьке и берет ее за руку, шепчет: — А теперь мы что надумали: забирать тебя через годик, а? Забирать, забирать на Дальний на Восток!
Бухара подавилась блином, Надька дернулась, Бухара с Ленком уставились на нее, а Настя потянулась Надьку по голове погладить: мол, вот и хорошо, и правильно.
А Шура, даже и не продолжая ничего на этот счет, — мол, дело решенное, — встала.
— А где это моя тут гитара-то? Жива еще? Надь?.. А, вон она!.. — Увидела гитару на шкафу и сама встала, достала. — Ух! — Полетела пыль, и Шура крикнула: — Михална! Тряпку захвати, гитару обтереть!.. Эх! Отвяжись, худая жисть, привяжись хорошая!.. А какую я вам сейчас сладкую спою, милые вы мои, вы такого-то и не слыхивали!.. Михална! Все ради отца твоего, орла морского, Надя, и на гитаре я выучилась, и чему я только не выучилась!.. — И, стараясь не запылиться, перебрала струны.
Бухара слетела со стула за тряпкой и быстро принесла. Гитару вытерли, и Шура — перебор за перебором — запела: «Не уезжай ты, мой голубчик, печально жить мне без тебя…»
Мамка Клавдя вошла в новой, дурацкой, слишком для нее яркой кофте, с новыми блинами, на Шуру не глядела. И Надька глядела на мать так себе, вполглаза, усмешка была на губах, и взгляд беспощадный, без капли тепла.
— Твоя-то! Во дает! — шепнула Бухара.
— Чума! — медленно сказала Надька.
А Настя наклонилась к мамке Клавде:
— Михална! — зашептала. — Слыхала?
— Слыхала, — сказала мамка Клавдя. — Давно слышу.
— Куда она ее возьмет-то? Зачем она ей нужна?..
И Надька это слышала и еще покривила губы усмешкой.
На стадионе «Динамо» у нового, к Олимпиаде построенного сектора, из-за забора девчата смотрели, как бежит по гаревой дорожке Жирафа. И когда Жирафа приблизилась, дружно заорали:
— Жир! Кончай! Давай сюда! Жир!
Бухара старалась протиснуть сквозь забор ногу в кроссовке. Надька оттягивала на груди белый свитер, а Ленок — зеленый пуловер. И Жирафа, хоть и не остановила бега, вытаращила глаза — всем на потеху.
А потом Жирафа так же спортивно выбежала из служебного входа, возле которого сидела на табурете на воздухе вахтерша, и девчонки ее здесь встречали, и, увидев вблизи обновы, Жирафа изобразила «отпад». Полный отпад. Смотрела, щупала, трогала. На ней самой были страшные кеды, не меньше тридцать девятого размера.
— Надек-то у нас на Дальний Восток ту-ту! — объяснила с ходу Бухара.
— Ладно тебе! — Надька между тем следила за синей машиной, которая вопреки правилам пробиралась по асфальтовой дорожке прямо к огромному зданию спортзала. Даже вахтерша привстала со стула и махала рукой: сюда, мол, нельзя. Но машина двигалась, выбирала себе место для стоянки, стала, наконец, боком, и оттуда выпорхнула молодая женщина в белых брюках, маечке, со спортивной сумкой. Завидя ее, вахтерша засияла, люди, в основном спортивная молодежь, оборачивались, а та грациозно бежала к спортзалу.
Жирафа, когда увидела, тоже повела головой за ней, раскрыла рот и сказала:
— Булгакова!
— Кто это? — спросила Надька, оттопырив губу.
— Чемпионка мира! Булгакова!
— Фига́, чемпионка! — Надька хмыкнула. В новом наряде она чувствовала себя неотразимой.
Жирафа продолжала зачарованно смотреть вслед спортсменке.
— Закрой варежку-то! — со злостью сказала Надька. — Знаем мы этих чемпионок!.. Вот ты у нас тоже! — Она пихнула Жирафу, и та чуть не упала через бордюр на рыжую осеннюю траву.
— Ты чего? — обиделась Жирафа.
— Чемпионка!
Бухара и Ленок засмеялись.
И они пошли как раз мимо синей машины, и, когда поравнялись, Надька вдруг стукнула кулаком по багажнику.
Жирафа дернулась, но смолчала.
Девчонки идут развязным шагом и так и ищут, что бы такое сотворить, какую глупость.
Набились в телефонную будку, набирали 01, 02, 03, пищали в трубку. Женщина шла с собачкой, Бухара упала на четвереньки и как залает на собаку — та завизжала со страху. Потеха. Вошли в ворота парка — здесь было пустынно, всё в опавшей листве, две матери катают коляски с младенцами, да трое стариков дуются на скамейке в шашки: двое играют, третий стоит и смотрит. Ветер, желтая трава, сухие листья, запертые фанерные павильоны. А вон стоит возле дерева парочка — лейтенант с девушкой в белой медицинской шапочке и плаще внаброску, из-под которого белеет халат, — целуются. Девчата по дорожке идут, по аллейке, а они на траве стоят, на газоне, за скамейкой. Девчат прямо разрывает от смеха. Они сдерживаются, сдерживаются из последних сил, а эти и не видят и не слышат. И тут Надька басом как рявкнет:
— Не верь — обманет!
Девчонки скорчились от смеха, поползли в стороны, повалились на скамейки. А Надька, конечно, отвернулась, будто это и не она. Потом покосилась: те двое отпрянули друг от друга.
— Ну! Вы! Кобылы здоровые! — крикнула подругам с невозмутимым видом. — Мешаете же людям!
— А он сим-пом-по! — оценила Ленок.
— Беру его на себя, — сказала Надька. — Хотите?
— Она тебе харакири сделает, — Ленок имела в виду медсестру.
— Ну? — повторила Надька. Быстро скомандовала Бухаре: — Ты закричи и беги. А вы, — Ленку́ и Жирафе, — тоже. Только быстро. И скрыться из глаз. Ну?
— А-а-а, — вмиг завизжала Бухара и побежала. Молодые матери с колясками вздрогнули, старики подняли головы от шашек, лейтенант с медсестрой резко оглянулись. Надька, скорчась, валилась на скамейку, а Ленок с Жирафой дунули за Бухарой — та продолжала вопить на бегу.
И вот над Надькой склонились белая шапочка и военная фуражка. А она корчится на скамье, схватившись за живот.
— Ты что? Что с тобой? Эй!.. Ты слышишь?.. Говори!.. Ну, где, где?..
Близко их лица, совсем близко. Ладонь лейтенанта держит Надькину голову. А медсестра уже профессионально, сильными руками поворачивает, заставляет раскрыть рот.
— Ну, говори? Что с тобой сделали?
— Не знаю! Болит! Ой! Не могу!
— Ты придуряешься, что ли? — резко спросила медсестра. — Ну? Нет у нее ничего, — сказала она лейтенанту.
Надька скорчила гримасу:
— Да, вам бы так! Ой-ой-ой!
— Ну что? Где? — Медсестра опять склонилась, ощупывала.
— Давай ее к нам, — сказал лейтенант. — Ну ты скажи, что с тобой? Дохулиганились?.. Тоня! Давай?
— Ой, мамочка! — завыла Надька и опять повалилась.
— А ну-ка, Сережа, помоги! — решила медсестра, которую назвали Тоней, и они потащили, почти силой поволокли Надьку.
И вот они в коридоре, белая дверь процедурной, еще две сестры, одна толще другой, белые, как айсберги, и Тоня отдает Надьку в их крепкие руки:
— Девочки, посмотрите ее, плохо на улице стало, не аппендицит ли? Я сейчас Федора Иваныча попрошу… Да не бойся ты, чего ты боишься, может, тебя просто прочистить надо…
— Чего? Что? — Надька стала извиваться.
Но ее уже держали крепко.
Девчонки всовывали лица в прутья ворот.
— Чего это у вас здесь? — спрашивала Бухара. — Больница?
— Госпиталь, — отвечал дежурный солдат. — Интересуетесь? У нас требуется обслуживающий персонал. — Он показал на объявление на воротах. — Санитарки, нянечки.
— Тебе, что ли, нянечку? — невзначай бросила Ленок, и подруги прыснули.
— Чего? Больным.
— А ты не больной? — спросила Бухара.
— Давайте отсюда! — Солдат обиделся.
— Нам про подругу узнать. Вот сейчас провели.
— Как провели, так и выведут. Давайте! — Тут к воротам подъехала машина, солдат пошел открывать, девчонки отступили.
— Чего делать-то? — сказала Ленок. — Ждать теперь.
Ждать не полезно, — сказала Ленок. Она вилась, покачивалась и катала во рту таблетку.
— Да ну ее! — сказала Жирафа про Надьку. — Всегда она, а мы это…
— Пошли там на скверике посидим.
— Холодно.
— Ну в кафе пойдем.
Машина проехала, солдат закрыл ворота и опять оказался вблизи. Бухара приказала ему:
— Слушай, наша подруга выйдет, скажи, мы в кафе ее ждем, знаешь, там у входа, синие буквы?
— Не знаю я ничего.
— Ну ладно, чего ты обиделся-то? Пошутить нельзя?.. Скажи, ладно, а то мы замерзли. Скажешь?
— Ладно, — солдат сдался.
— Ну вот, видишь, какой хороший! Ленок, скажи, он прелесть!
— О, да! — сказала Ленок величаво, покачивая узким станом. И солдат вздрогнул и зарделся.
Надька сидела на клеенчатой холодной кушетке в одних трусиках, закусив губу, натягивала комбинезон. Сестра Маша, огромная, как белый слон, мыла в стороне, у раковины, руки.
Энергично вошла медсестра Тоня, кому-то что-то говорила назад, в дверь, и смеялась, — Надьке тут же почудилось, что над нею, и она напряглась. Теперь это была не та Тоня, что на улице, даже лица которой Надька при других обстоятельствах и не запомнила бы. Здесь она держалась хозяйкой, щеки скуласты и румяны, узковатые глаза поблескивают остро и властно, крепкие ноги обуты в тапочки без каблуков, и оттого походка и осанка у Тони крепкие, женские. В белоснежном накрахмаленном халате она казалась еще плотнее, чем на улице. Все это было слишком основательно, крепко, чисто, энергично и оттого враждебно Надьке.
— Ну что, дева? — спросила Тоня почти с насмешкой. — Легче стало? Одевайся, одевайся, пошли, а то еще попадет за тебя от начальства… Ну?
Она подошла близко к Наде. Та застегивалась, глядела вбок. Все равно хочешь не хочешь надо было изображать болезненную слабость. Помедлить. Поморщиться. Покачнуться.
— Ну-ну, не упади. Дойдешь сама-то? Тебя хоть как зовут? Не слышу…
— Лариса, — сказала Надька еле слышно.
— Понятно. Ну чего ты губы-то дуешь? Тебе хотели как лучше. Почему у тебя голова-то такая грязная? — без перехода спросила Тоня. — Надо было бы голову тебе заодно вымыть. И как они мыться не любят, молодежь! — обернулась она к толстой Маше, которая вытирала полотенцем руки. — Глаза накрасят, а шея как сапог. Девушка-то должна прямо скрипеть от чистоты, как чистая тарелка… — И опять без перехода: — Пошли, пошли…
Все делалось быстро, неслось одно за другим. Надька не успела ничего сообразить, а они уже вышли в коридор. Здесь она ожидала увидеть лейтенанта, но его не было.
— Вот, все, — сказала Тоня, — беги, ничего у тебя нет, слава богу. Артистка.
Надька покривилась, показывая, что у нее все-таки живот побаливает. А на «артистку» она, мол, и отвечать не хочет… Неужели ее сейчас вытурят, и все будет кончено?
— Ты далеко живешь-то?
Ответить Надька не успела. Из-за угла появилась моложавая высокая врачиха с фонендоскопом на шее, за нею санитар с пакетом рентгеноснимков в руках, еще медсестра, и врачиха сразу зашумела:
— Вот она где! Шапошникова! А мы тебя ищем! К Федор Иванычу! Срочно. Орловского же на выписку!
Тут же о Надьке забыли, Тоня лишь подтолкнула ее в сторону выхода. Тоня оправдывалась, вдруг все повернули назад и втекли в какой-то кабинет. Врачиха говорила:
— Я сама сначала должна посмотреть, там было маленькое нагноение, прошло? Лейтенант Орловский! — скомандовала на ходу. — Вы здесь?
Дверь закрылась, Надька осталась в коридоре одна и не знала, что делать. Дверь отворилась опять, толстая Маша везла из кабинета длинную алюминиевую палку на колесиках, наверху были укреплены две перевернутые бутылки с висящими из них трубками. Она никак не могла выйти в дверь, Надька подскочила помочь, и ей стало видно, как внутри кабинета, у окна, врачиха осматривает раздетого до пояса лейтенанта, слушает его трубкой, качает головой, а он усмехается.
Маша вытащила палку на колесиках, дверь закрылась, но Надьке казалось, что она продолжает видеть озабоченную врачиху, сестер, лейтенанта с усмешкой на лице. Надька хотела спросить, что с ним, но Маша уже покатила свою палку по коридору. Перевернутые бутылки сверкали.
У ворот солдат окликнул Надьку, она даже не поняла, что это ее, напряглась.
— Тут не тебя твои подруги искали? Одна черненькая такая? — Солдат изобразил Бухару, прищурив глаза. — Они сказали, в парке будут или в кафе. Слышишь?
Надька кивнула и пошла.
В парке все так же дуло, все так же играли в шашки старики, так же катали коляски молодые матери. У нее столько пронеслось событий, неужели они уместились в полчаса-час? Надо было как-то все переварить. Она села на ту же скамейку, где начала свою игру. По дорожке несло листья, они грохотали. Выражение лица у Надьки смягчилось, сделалось такое, какое было, когда она мерила платье. Но уже через минуту она усмехнулась криво и поднялась. Не́чего!..
На открытой терраске кафе, выложенной голубым кафелем, под голубым зонтом сидели за столиком Ленок, Жирафа и с ними мужчина лет тридцати. Ветер дул, было прохладно, народу никого, только две старухи пили кофе из граненых стаканов, грея о них руки. А за столом шла пирушка: стояла бутылка вина, горкой лежали на тарелках бутерброды и пирожные, и еще лежали на стуле, придавленные синей спортивной сумкой от ветра, несколько журналов и газет.
Надька остановилась, смотрела издали, из аллейки: кто да что? Мужчина говорил, сам смеялся, девчонки сидели чинно. Стаканы стояли перед ними.
Жирафа первая увидела Надьку, кинулась, вскочила, опрокинула стул.
— Гуляете? — сказала Надька. — А Бухара где?
— А ты-то где? Ты! С тобой чего? Бухара тебя ищет.
— Со мной нормально.
— А, нашего полку прибыло! — воскликнул мужчина. — Будем знакомы: Николай, лесник, охотник, а вы Надя, Надюша. Очень приятно. Я вот рассказываю девочкам как раз про чудеса природы… Да, кстати, Надежда… Это же Надежда, Вера, Любовь! Таким молоденьким девушкам пить нельзя, я пью один, но разрешите налить капельку, вот чистый стаканчик, символически… Я отдыхаю сегодня, один день проездом в городе, соблазны цивилизации, кегельбан, чертово колесо, глоток вина…
Он болтал, галстук у него был распущен, куртка расстегнута, кепка на затылке. Он был симпатичный, веселый, глядел синими глазами, и хотя был, конечно, старше лейтенанта Орловского, но казалось, что моложе. Судя по вытянутой шее и спине Ленка, он уже произвел на нее впечатление. Жирафа его, конечно, не интересовала, хотя он и о ней не забывал: Нина, Нина, Ниночка. Лицо у Жирафы было красное и грубое, не иначе выпила глоток.
— Ну, девочки, позволю себе за вас, за такую приятную юную компанию, мне просто повезло, я считаю, — такие девчонки, честное слово, я от души, ну символически, глоточек. Кто со мной? Живешь, как рак-отшельник, весь год, не видишь живой души… Надюша, бутербродик! Надюша у нас серьезный человек, сразу видно, но не будем хмуриться, я вот рассказывал девочкам, приглашаю вас тоже к себе на кордон — о, что я вам покажу! какие места!.. Всего три часа на поезде, там еще немножко автобусом, а если дадите знать, встречаю сам, на своем «газике», я охотник, Надюша, я лесник, я очень интересный человек, между прочим…
Тут Жирафа глупо икнула, и Николай тут же ее подбодрил:
— Ничего, Ниночка, не смущайтесь, все естественно. Может, лимонаду? — Он угощал, хрустел фольгой шоколада, не закрывал рта. — Проведем этот день вместе, а, девчата? Я хочу взглянуть на ночной город, скучаю по огням ночных городов. Я еще за нашу встречу! Мне просто повезло, ей-богу!.. Целый год — ружье, собака, приемник включишь, и все… Леночка, приедешь? Ну, за встречу! Капельку! Символически! А?..
— Мне это не полезно, — сказала Ленок, отодвигая стакан. Щеки ее и без того рдели.
— Ну а Надюша?
Надька откинулась и сказала:
— Кислятина. Коньячку бы.
— Да? — Охотник удивился и поглядел на Ленка. Надька думала, Ленок ей подыграет, но та была невозмутима, лишь чуть покачивала спиною. Ну Ленок! Охотник посмотрел Надьке в глаза и сказал трезво: — Рано вам коньячку.
— Все вы знаете, — сказала Надька, — что нам рано, что не рано. Ленок! Пошли?
Тут Жирафа еще раз икнула и стала подниматься нетвердо.
— Да, я пошла.
— Куда, куда? — затараторил Николай. — На свежем воздухе все сейчас пройдет, что вы, девочки, нарушать такую компанию… Но можно на такси… Отвезти ее и…
— Ленок! — повторила Надька и тоже встала. Она ожидала, что и Ленок встанет. Но та отвела глаза и будто не слышала, не понимала.
— А мы еще посидим, Надюша. Ленок, мы посидим? — уговаривал Николай.
Жирафа уже уходила, торопясь, видно, ей хуже и хуже становилось.
А Ленок молчала.
И тогда Надька захохотала. Деланным, дурным смехом. Мол, ну-ну, давайте. Но без меня… И так с этим смехом и пошла.
Дверь открыл отец Жирафы, тоже длинный, тощий, ничего не понимал. Надька, поддерживая Жирафу, бормотала, что ей, мол, плохо стало в метро. Но отец отстранил Надьку, нагнулся и понюхал. Скорчил такую мину, будто на жабу наступил. И стал отстегивать подтяжки.
А в коридор уже вышла мать в ночной сорочке до пят и халате, с завязанным горлом и что-то хрипела шепотом. Жирафа беспомощно закрывалась, а отец хлестнул подтяжками, не попадая и сам трясясь, а мать не защищала дочку. Надька ринулась заслонить подругу, но отец и на нее замахнулся. Брюки с него свалились, он держал их одной рукой, другой махал неуклюже, потом вдруг бросил подтяжки и пошел.
А мать неожиданно молча заплакала.
Надька лежала у себя на кухне на раскладушке, руки за голову, а мама Шура сидела рядом на стуле, не зажигая света. Но уличный фонарь сильно светил, и было все видно.
Мама Шура шептала, Надька слушала.
— Поедем, поехали, тебе говорю. А город-то у нас какой! Видела небось по телеку!.. Море, океан, корабли, военный флот! Одна молодежь там кругом. Сама увидишь. Так заживем с тобой, на радость. А тут-то не поймешь что. Что у тебя за жизнь, чего ты хочешь, учиться толком не учишься, какой смысл-то? Смысл в жизни должен быть, доченька! Смысл! Вот поедем, найдем тебе дело, парня хорошего, моряка, чтоб с деньгами, с перспективой, как у людей, с квартирой… Да у нас у самих квартира, увидишь, обстановка вся — импорт, телевизор цветной… Надь! Ты слышишь? А?.. Что молчишь?
А что было Надьке сказать? Что все это ей не нужно? Но насколько ей известен этот человек, ее мать, мама Шура, ей этого не понять. А сказочные ее посулы — за тридевять земель.
В комнате — сюда слышно — не спит, кашляет мамка Клавдя.
— А ей денег дадим, — шепчет про нее Шура, — не обидим, писать ей будешь. — Шура еще понизила голос, у нее, видно, все было решено. — Я думала-то попозже тебя забирать, через годик, а теперь гляжу: чего ждать-то?.. Слышь, Надь?.. Виновата ведь я перед тобой, дочка…
И тут раздался звонок в дверь, все испугались: кто бы это так поздно?
Надька побежала первой: кто там? Услышала ответ, стала открывать. Мамка Клавдя и мамка Шура стояли в разных дверях, ждали. За дверью была Ленок. Надька схватила Клавдино пальто с вешалки, набросила и вышла.
И вот они сидят на лестнице, на подоконнике. Ленок смотрит в одну точку.
— А потом что? — говорит Надька. — Ну?.. Так я и знала. Поверила! Ну дура!
Ленок молчит, удерживает изо всех сил слезу, но усмехается.
Тянется пауза.
— Охотник! — говорит Надька. — Адрес-то хоть оставил?
— Да никуда он не уехал, он тут у друга живет.
И Надька опять смеется — таким же, как в парке, смехом.
— Эх! — говорит Ленок. — Ладно! — И спрыгивает с подоконника. Но не уходит, еще что-то хочет сказать. Кидает в рот горошинку.
— Куда? В поздноту такую? Оставайся у меня.
Тут дверь открылась, и выглянула мама Шура в голубом халате.
— Девчата, вы что? Второй час. Хоть в дом зашли бы.
— Сейчас, — Надька отмахнулась от нее.
— Ну все, Надь, я пошла, — Ленок тряхнула головой, побежала вниз по лестнице.
— Чего она? — не поняла Шура.
— Ничего! — грубо сказала Надька и запахнулась в пальто.
— И что у вас за дела? Среди ночи!.. Что за подруги такие?.. Отшить это все! Пропадешь, ты что, с этой шушерой! Надь! Поехали, — Шура продолжала свою тему.
— Да куда я поеду-то? — наконец-то она ответила. Но грубо. Так, что Шура сразу напряглась.
— А что? Почему?
— Да не могу я.
— Почему?
И тут, неизвестно как и отчего, Надька выпалила:
— Нельзя мне, я ребенка жду.
— Что? — Шура вытаращилась. — Да ты что?.. Как?.. — Шура давилась словами.
Зашаркала, закашляла у самой двери, стала на пороге Клавдя.
— Спать идите! Вы чего тут?
Шура крутанулась, закусила губу, но, скрепясь почему-то, смолчала. И пошла в дом.
Надька сидела напротив госпиталя одна, на той же скамейке. В воротах общались через решетку больные в теплых халатах и навещающие их матери, отцы, военные.
Надька ждала. Чего? Сама не знала. Что ее сюда притянуло? Нет, понятно, ей интересно выяснить: выписали его или нет. Но зачем? За-чем? Вон идет, кстати, стройный, молоденький, в форме… Нет, не он.
— Дура! — сказала она и стукнула себя в лоб. — Дура!
Встала и резко пошла прочь.
В училище, вернее, в клубе хлебозавода, при котором училище, шел вечер по случаю нового учебного года, хотя учебный год уже больше месяца как начался, о чем и говорил висящий над сценой плакат: «С новым учебным годом!» На сцене в президиуме находились директорша Ольга Ивановна, белоголовый, как лунь, ветеран в значках и орденах, потом еще мужчина, тоже уже седоватый и в возрасте, и еще один моложавый военный — улыбающийся, радостный капитан.
Говорились речи, приветствия, призывы лучше учиться, говорилось, конечно, что хлеб — это основа, и директор Ольга Ивановна по бумаге читала цифры, сколько выпекается в стране хлеба, какие нужны специалисты. И, конечно, зал потускнел, начались шепот и разговоры между собой, пока выступал старик-ветеран товарищ Богданов. Он тоже говорил высоким и громким голосом про хлеб, про то, какой был голод в войну и еще раньше, в войну гражданскую, а теперь, мол, некоторые выбрасывают буханками. Эта тема, хоть и справедливая, всем была знакома, старик волновался, а зал не понимал его волнения…
А потом Богданов сказал:
— В нашем обществе стало наблюдаться, что вы, молодежь, так себе думаете: чего хочу, того подай. Безо всякого. Хочу того, хочу сего. Вот у меня внук. Четырнадцать лет, а ноги — уже мой размер. И я ему дарю свои штиблеты. Очень даже хорошие штиблеты, крепкие, я их с пятьдесят второго года берег, сам не носил. А он поднимает меня с этими штиблетами на смех. — Бухара и Ленок засмеялись. Старик продолжал сердито: — Он поднимает меня на смех, но смеху, между прочим, здесь нет никакого. А это показывает, что человек заражен вирусом, чтобы было, как у всех. Но это глупый вирус и вот почему. Потому разве люди одинаковые? Люди очень разные. А хотят, как один, ходить в одних и тех же штанах. Вот я ему и говорю: глупый, в этих штиблетах ты будешь самый что ни на есть ни на кого не похожий, своего облику человек, скажи деду спасибо. Он говорит «спасибо», но это «спасибо» Какое? — И дед изобразил ироническую гримасу, от которой Бухара совсем покатилась со смеху. — Ну, посмейтесь, посмейтесь, — сказал старик Богданов. — Смеяться не грех. Но я говорю перед вами, чтобы направить ваши молодые головы на то, что человеку надо. Надо трудиться на благо всех, а не забивать мозги про одни модные вещи типа каких-то красавок.
Все хлопали, смеялись, старик Богданов хотел говорить еще, но директриса передала слово военному капитану. Капитан глядел весело и уверенно — по залу прошел шелест одобрения.
— Хочу сразу спросить: есть ли среди вас такие, у кого или брат, или друг служит в рядах Советской Армии?
— Надьк! — Бухара хохотнула и двинула Надьку в бок, но Надька так глянула, что Бухара осеклась. А зал колыхнулся, кто-то смело крикнул:
— Есть!
Капитан поднял руку.
— Ну вот и хорошо. Потому что я как раз об этом хотел вам рассказать. Что в армии проверяются не только качества молодого человека, бойца, но проверяется и тот, кто его ждет, кто ему пишет. Как нигде, солдату или моряку нужны привет и забота родных и друзей, но особенно той, кто ему нравится…
Надька спохватилась, что слишком внимательно слушает, и сказала: «Какую-то чушь порет. Чумак». На нее зашикали. Тогда она встала и выбралась из зала.
Она сидела в закутке под лестницей, а по училищу уже гремела музыка, начались танцы, в фойе вышли директриса и другие преподаватели провожать старика Богданова и капитана — каждый держал в руке по три гвоздички (капитан отдал их потом обратно директрисе).
Девчонки стояли в стороне. Бухара приплясывала на месте: мол, пошли танцевать. Надька кривилась, Жирафа глядела уныло, а Ленок вдруг подняла пальчиком рукав и посмотрела на часы — электронную, с браслетом, машину.
— Мне пора. Я с вами не могу.
— Что это? Что это, откуда? — Бухара так и вцепилась ей в руку. — Вы глядите! Ленок, откуда?.. Ну часы!.. У тебя ж не было!
Ленок одергивала руку, все глядели на нее в упор.
— Где взяла, там нету, пусти! — Она еще раз рванулась от Бухары и пошла слепо, ни на кого не глядя.
— Куда это она? — Бухара смотрела на Надьку, и Жирафа смотрела. Между ними никогда не бывало тайн. — Ну дела! Добегается? Пошли?
Надька покривилась: мол, неохота. Жирафа тоже стояла вяло.
— Не пойдете, что ли? Ну ясненько! — И Бухара, закусив губу, побежала от них и ввинтилась в толпу, которая уже тряслась среди фойе.
Надька потихоньку открыла своим ключом дверь, вошла и сразу услышала голоса, плач и кашель мамки Клавдии, высокий ее голос, и тема знакомая: растила, берегла-лелеяла, поила-кормила… Надька осталась за дверной занавеской в прихожей: может, сразу уйти?
Клавдии отвечала на крике мамка Шура:
— Довоспитывались! Дождались! Шестнадцати нету девчонке!
Так-так. Надька уже и позабыла свою шутку, а тут, оказывается, страсти кипят.
— Мы-то хоть любили, с ума сходили, — кричит мамка Шура, — я в огонь и в воду готова была за своего-то, а эти? И без всякого тебе якова, спокойненько: жду ребенка, и все! Да я чуть с ума не сошла с этим ребенком, когда узнала, руки на себя готова была наложить! Нет, в самом деле, роковая это была ошибка, на всю жизнь горе!.. Ну хоть кто это? Кто? Кто приходит? Кто с ней ходит?
— Да я почем знаю? — кричит Клавдя, и Надьке видно в прорезь занавески ее спину. — Я такого и не слыхивала! Откуда ты взяла-то? Они и с парнями-то не гуляют, все сами!
— Кто? Кто? — не слушает мамка Шура. — Так своими бы руками и удушила!.. Я с собой ее хотела взять, с собой, понимаешь ты? Там простор, там ей перспектива, а здесь что? Тесто месить? Хлебобулочная!
— А, с собой! — взвивается мамка Клавдя. — Сговорила! Забирай, увози! Глаза б мои на вас не глядели! Всю жизнь им, всю жизнь! Измываются, как хотят! Я ее на руках вот этих… Хлеб тебе не нравится? — Видно, как она ухватила полбатона со стола. — Хлеб им не нравится! Та тоже нос воротит: от тебя мукой пахнет! Ах вы паразитки! Бери ее, одеколоном облейтеся, чтоб вам корки сухой не видать, как нам, бывало! — Мамка Клавдя задыхалась, закашлялась, но все равно кричала: — Уйдите! Уходите! Забирай! Вези! И конец!
— Да? Теперь забирай? Кому она теперь нужна такая? Срамиться? — Шура деланно смеялась. — Сберегли девочку! Спасибо!
Надька повернулась и пошла в открытую дверь. Детей рожать — срам и позор? Дети не нужны? «Роковая ошибка»? Правильно. Мы вам не нужны, и вы нам не нужны. Всё чума!
Она спустилась по лестнице вниз, а тут в подъезд вошли двое, и Надька не сразу узнала — они первые к ней обратились, мать и отец Жирафы. Одетый в длинный плащ, отец казался еще длиннее, мать держалась тихо, все с тем же завязанным горлом.
— Надюш! — зашептала она. — Надюш, ты куда?.. Вот она, видишь, дома, — обратилась она к мужу. — Здравствуй, Надюш!
Надька ничего не понимала.
— У тебя Нинки-то нашей нету? — Надька удивилась. — Вторую ночь дома не ночует, — объяснил отец. — Думали, у тебя.
Надька покачала головой, но они уже по ее виду поняли, что Нинка не у нее. Мать тут же повернулась уходить, отец насупился.
— А где она может быть-то? У кого еще?
Надька пожала плечами. Ну и Жирафа… Ничего, главное, не сказала. Где ж она в самом деле?
— Ты скажи, ты не скрывай, — шептала мать. — Ты сама-то куда?
Надьке хотелось им сказать, — бить не надо было, а куда я — не ваше дело, но то́, что они ходят в поздноту, ищут Жирафу, это все-таки было что-то, и обидеть их у Надьки язык не повернулся.
— Увидишь — скажи, чтоб домой шла. — Надька кивнула: хорошо. — Ну, где? Где она?
— Не знаю.
Отец потянул мать за рукав: пошли! И они отправились назад, оглядываясь на Надьку.
И опять Надька сидела в парке напротив госпиталя, ждала. Совсем похолодало, ветер гнал уже последние листья, легкая морось сыпалась сверху. Надька ждала, и ей представлялось одно и то же: белые халаты, врачиха с трубкой, усмешка на лице лейтенанта…
И дождалась, увидела: с той стороны ворот к проходной подходят Тоня в плаще и платке и лейтенант в фуражке и в шинели. Тоня что-то говорит озабоченно, спешит, а у лейтенанта лицо веселое, смеется.
Надька хотела вскочить и бежать, нет, сидела и смотрела, потом отвернулась, но точно знала: вот они проходную миновали, вот вышли в парк, вот… Их заслонило трамваем, и они исчезли.
И опять Надька (теперь с Бухарой!) возле госпиталя. Они просят дежурного у ворот вызвать лейтенанта Орловского.
А потом убегают на другую сторону и смотрят из-за кустов.
Тянутся минуты.
Выходит лейтенант, быстро идет к проходной. Спрашивает солдата. Тот недоумевает, озирается. Лейтенант тоже.
Бухара прыскает, Надька усмехается. Они смотрят из своей засады, пока лейтенант не уходит. Он уходит, он их не видел, Надьку не видел, но она-то видела! И свидание вроде бы состоялось!
— Надек! — говорит Бухара. — А я придумала!
И они опять у решетки ворот. Только теперь с ними Жирафа и еще трое пионеров, это сестра Бухары Гулька, четвероклассница, и двое мальчиков из ее класса. Все в галстуках, с подарками, со свернутым в трубочку приветствием, с цветами — букетом астр.
И вот они в палате у лейтенанта, и Гулька читает стихи: «Уж небо осенью дышало…»
А лейтенант потом им рассказывает:
— Я маленьким еще всегда военным хотел быть. У меня дед, Иван Антоныч, деда Ваня, генерал. Представляете? Сейчас, конечно, уже на пенсии, а тогда он еще служил, и я, конечно, каждое лето — у деда Вани в гарнизоне, далеко, в Средней Азии, — песок, граница, змеи да вараны.
— Кто? — переспросила Гулька.
— Ну, ящерицы такие древние, крупные… — Лейтенант рассмеялся. — У деда Вани с утра первая фраза: «Ну, гражданин Советского Союза Сергей Николаевич Орловский, кто у вас дед?» Я должен был вскочить по стойке «смирно»: «Генерал, товарищ генерал!» — «А вы кем будете?» — «Маршалом, товарищ генерал!» Я как от деда вернусь, только в войну играю, мать плачет, отец нервничает, пальцами хрустит, — боже, боже! Они у меня типичная интеллигенция, оба в университете преподают. А один раз я в шутку — уже лет четырнадцать мне было — приемчики им разные показывал, — что с ними было. Бандит растет! А уже в десятом классе сказал: иду в армию, больше ничего! И тут нам всерьез ссориться пришлось: они хотели, чтобы я был физик, историк, писатель — не знаю кто.
— А вы? — спросила Бухара.
— А я, естественно, хотел быть маршалом. Или Александром Македонским!
И тут в палату вошла Тоня и стала, слушая.
— У нас, Орловских, военная косточка, как дед говорит. И я все равно останусь в армии. — Это лейтенант сказал уже Тоне.
— Это там посмотрят, — отозвалась она. — А что у нас тут за делегация?
— Шефы! — сказала Бухара, а Надька отвернулась в окно.
— Вижу, какие шефы! — сказала Тоня и поглядела на Надьку.
И опять Надька стоит у ворот госпиталя, теперь одна, под мелким дождем. И опять ей кажется: вот он идет к проходной, движется прямо к ней… И пропустила момент, проглядела, когда к ней на самом деле вышли вместе лейтенант и Тоня под зонтиком.
— Лариса! — позвал лейтенант. — Смотри, Тонь!.. Привет! Ты чего тут?
— Вас жду, — сказала Надька хмуро.
— Да? Интересно! — Лейтенанту было весело. — Тогда пошли с нами!.. А, Тонь? Пусть она и побудет. Ты как?
Тоня посмотрела на Надьку испытующе. Надька готова была сквозь землю провалиться, нахамить, убежать, но ничего такого не делала, стояла покорно, как овца. Вот проклятье!
— Пускай, — сказала Тоня снисходительно и пошла вперед.
А лейтенант подмигнул Надьке.
Что все это значит, Надьке еще предстояло узнать.
И вот они пришли — уже в наступающих сумерках — к двухэтажному дому за сквозным забором, и Надька не сразу поняла, что здесь такое.
— Вы тут подождите минутку, — сказала Тоня и быстро пошла, а Надька с лейтенантом остались у ворот. Вышла молодая крупная девица в джинсах и в очках, надела брезентовые рукавицы и, открыв ворота, выкатила на улицу один за другим два здоровых мусорных бака. Лейтенант хотел помочь, но девица даже не взглянула.
— Во, дворник теперь пошел! — сказал лейтенант. — Вот это дворник! Пойду в крайнем случае в дворники!
Девица в самом деле взяла метлу и стала мести двор. Мимо нее стали выходить женщины и мужчины с ребятишками за руку, и детский щебет летел из открывавшихся дверей. Это был просто детский сад.
— А ты давно из детского сада? — лейтенант все пошучивал.
— Давно, — сказала Надька. — А вы?
Лейтенант засмеялся:
— А я не ходил, я ж тебе рассказывал; у меня дед был и бабушка была.
— А-а, — Надька сказала это с горьким превосходством: мол, что ты тогда знаешь, маменькин сынок? — Вам хорошо. А я это ненавижу. Я один раз вообще убежала, меня целый день искали.
— Ты девушка с характером, это видно.
Надька хмыкнула. Но, помимо воли, как-то горячо стало: она не привыкла, чтобы ее называли девушкой.
Толстая девица, шаркая метлой, подступила вплотную, они отошли. Но тут появилась Тоня, вела за руку маленькую девчонку лет четырех, в шерстяной шапочке, красной курточке и сапожках.
— Сегежа! Сегежа! — закричала девочка и побежала в руки лейтенанту — он присел и ловил ее. Черт побери, у них тут была уже целая семья. Ну чума!
— Знакомься, Светик, — сказала Тоня, — это Лариса.
— Я не Лариса, — вдруг сказала Надька хмуро. — Меня Надя зовут.
Тоня и лейтенант переглянулись, Тоня хмыкнула, но вроде не удивилась.
— Да, Светик, — сказала Тоня. — Я забыла, это не Лариса, это Надя.
— А Гагиса мне лучше нравится, — сказала девочка, не выговаривая ни «р», ни «л». — Можно, я тебя буду Гагиса звать?
— Нет, — сказала Надька. — Зови Надя. Надя.
— Ладно, — согласилась девочка. — Пошли.
— Светик! Надя сегодня с тобой посидит. Ты посидишь с ней, а? — спросила Тоня Надьку. — Мы тут в одно место должны…
Надька кивнула. Хотя и не понимала: как это и зачем она будет сидеть с чужим ребенком.
— Нет, Гагиса лучше, — не унималась девочка. — Давай Гагиса?
— Нет, — сказала Надька круто, — всё.
Тут дворничиха опять подступила с метлой, и они пошли.
— Мы к десяти вернемся, — говорила Тоня. — Тебе куда ехать? На Первомайскую? Ну, это на метро пятнадцать минут.
Она летала по своей комнате, переодевалась за шкафом, бегала в ванную, красила губы.
— Ну, как я? — спрашивала.
— Отлично! — отвечала с полу маленькая Светлана, она возилась на полу с игрушками. Лейтенант сидел в кресле, резал ножом яблоко и тоже кивал: хорошо, мол. Другое яблоко ела Светлана, третье держала в руке Надька. Есть она не могла.
Еще был включен телевизор, еще заглядывала один, и второй, и третий раз соседка, тоже молодая женщина, звала Тоню к телефону, еще Тоня делала распоряжения:
— Чтобы в девять, как программа «Время», в кровать, вот тут все чистое, и хорошо бы под душем ее окатить, сумеешь?
— Да знаю я все, знаю! — кричала Светлана. — Мое полотенце синее вот тут лежит. — Она открыла шкаф, где виднелась стопка белья.
Все у Тони было раскрыто, открыто: здесь, мол, возьмите варенье, в холодильнике на кухне сосиски, пару картошечек отварите, там есть начищенная. Если что, Наташу позови, она дома будет. Это про соседку.
— Пока! Мы ушли! Мы скоро!
— Да знаю я, все я знаю! — повторяла Светлана и выталкивала мать. — Уж идите себе, куда идете, мы сейчас играть будем, да, Надя? Будем?
Как только дверь за ними закрылась, Светлана тут же потянула Надьку за руку из прихожей: пошли, пошли скорей!..
— Ты будешь со мной играть? Будешь?
— Подожди, — сказала Надька и села в прихожей на стул. — Иди, я сейчас.
Очнулась — Светлана тянула ее, усаживала в комнате на пол, на ковер, тараторила. И вдруг обняла ее за шею, повернула к себе.
— Ну что ты, Надюша? Ты не грусти, что ты грустишь? Давай играть.
Надька оторопела от этой детской ласки и не знала, как быть: обнять девочку или погладить?
— Во что? — спросила она. — Я не умею.
— Давай в больницу, — сказала девочка. — Ты будешь мама Тоня, а я Татьяна Петровна. Ты знаешь Татьяну Петровну?
Надька отрицательно покачала головой.
— Да что ты! Это главврач! (У нее получалось смешно: «ггавгач!») Я буду главврач, а ты меня слушай. Мы будем лечить зверей. Как доктор Айболит. — И она потащила изо всех углов игрушки.
— Чума! — сказала Надька в растерянности.
— Чего? — спросила девочка.
— Так, ничего, — сказала Надька — Давай играть.
Потом они смотрели «Спокойной ночи, малыши», и девочка сидела у Надьки на коленях. Потом она ее купала под душем, и соседка Наташа заглядывала на крики. И она несла Светлану завернутой в синее полотенце. Потом кормила ее сосисками и пюре. Потом читала ей книжку с картинками. Потом сажала на горшок и опять читала. Ну, до упора дойдешь с этими детьми, ну и работа!
— Спи, я кому сказала! Поворачивайся и спи!
Наконец она заснула, а было уже десять часов, и Надька тут же заснула тоже, свернувшись в кресле.
Гремел вовсю телевизор, шел захватывающий фильм, и мамка Клавдя сидела в одиночестве с утра, пила чай и глядела вчерашнюю передачу.
— Ой! — вскрикивала она. — Куда же он ее? Погубит!.. Батюшки! — Надька вошла, и мамка Клавдя так и обмерла, схватилась за стул: — Ой! О, господи, это ты!.. Надюшка!.. Ты жива? Что ж это ты делаешь-то? Дома не ночуешь! Где была?
Надька глядела мрачно, взяла со стола пряник, стала жевать, смотреть на экран. Налила из бутылки можайское молоко.
— Я у Жирафы ночевала, я тебе говорила.
— Чего ты мне говорила? Когда? А ну-ка! — Мамка Клавдя встала, взяла ее за руку, удивляя Надьку, осмотрела странно. — Достукалась?
— Да чего ты? — Надька продолжала смотреть на экран.
— Чего? Ты не знаешь «чего»? А? Не знаешь?
В это время на экране кого-то потащили, там закричали, посыпались выстрелы. И Надька и мамка Клавдя — обе глядели туда, но продолжали свой разговор.
— Уж и дома теперь не ночуй, да? Все одно?
— Да говорю, у Жирафы! Чего ты?
— Я знаю эту Жирафу! Как же ты могла-то? — Оно опять схватила Надьку и странно глядела. — Ну? Ты скажи!
— Ну, чума! Отстань ты от меня!
— Она мне все сказала!.. Ой, срам! О, мало мне с тобой горя! Нет, она прокляла тебя, и я прокляну!
— Да какое ваше дело? — Надька вдруг засмеялась. — Какое?
— Не наше?.. А чье? Ты соображаешь?
На экране в это время убили женщину, и она умерла, закатив глаза.
— Ну? Что это значит-то с тобой? Как это? Когда?
— Да отстань!
Тут раздался звонок в дверь.
— Она! — сказала Клавдя. — Она-то прям не в себе. Гляди! Святая тоже нашлась… Иди вот сама открывай…
Надька, скривив улыбочку, пошла.
В дверь широко и резко вошла мама Шура.
— Собирайся! — сказала Надьке сурово. — И без всяких!
Надька откусила пряник и, не отняв его ото рта, смотрела на Шуру. Жевала.
— Без всяких! — напирала Шура. — Всё!
Надькин взгляд говорил: не пугай. Ей было не до них.
Надька смотрела на огромную карту Советского Союза. Карта висела на вокзале. По карте протягивались черные линии железных дорог. Вот город Свердловск. Вот автомат с кнопками. На клавишах названия городов. Нажмем на город Свердловск. Побежали, затрепетали крылышки автоматического справочника, отщелкали и остановились. Свердловск. Отправление, прибытие, поезд такой-то, поезд другой, третий, цена билетов — все есть, пожалуйста, бери билет и езжай.
Лейтенант в это время стоял в воинскую кассу в короткой, человек из пяти, очереди.
Надька не выпускала его из поля зрения.
Вот он уже у окошечка. Отошел, изучая билет, положил во внутренний карман, застегнул шинель. Уезжает, значит? Ну-ну, слава богу.
Когда он один, лицо у него деловое, сосредоточенное, без всякой лирики. И ж а л к о его. Хочется пожалеть. Почему? К черту эту жалость! К черту!
Вот он идет! Теперь уже с билетом в кармане. А что, если в Свердловск поехать? А что там, в Свердловске? Экая даль!
Она следила за ним, шла, таясь за людьми. Зачем?
Вот подошел к киоску, купил газету, развернул на ходу, насупил брови, постоял, почитал, двинулся дальше. Газету убрал в карман.
Ничего не знает, ничего не чувствует, даже не оглянется. Интересно вот так следить за человеком. Как сыщик, идешь за ним, а он ничего не знает. Нет, вы не уйдете, товарищ лейтенант. Нет-нет, вам не удастся затеряться в толпе у входа-выхода. Куда? Куда?! Вон мелькнула фуражка. Пустите, разрешите! «Ты что, девочка, с ума сошла?» С ума сошла! С ума сошла!..
Она выскочила на ступени вокзала, увидела сверху, как лейтенант склонился к такси, открыл дверцу, сел и уехал.
Куда? В госпиталь? К Тоне?.. Зачем ему в госпиталь? Конечно, к Тоне! Пусть едет. Ей-то что!..
И вот она уже покупает билет в кино. Днем. У пустой кассы. И сидит в полупустом темном зале.
И опять Надька стоит у проходной госпиталя, опять с ней Бухара, и она спрашивает Тоню Шапошникову — дежурный звонит по внутреннему телефону.
— Шапошниковой сегодня нет.
— Спасибо, — Бухара вопросительно посмотрела на Надьку. — Небось дома?
Надька кивнула, они отошли.
Так, соображала Надька, значит, дома. Что делать? Поехать туда?
— А что, взять и поехать! — сказала Бухара. — И ничего такого. Здрасьте, это я.
— Да на черта мне это надо? — Надька повернулась, чтобы идти, и увидела: подъехало такси, и из машины вылез лейтенант Орловский, а шофер подавал ему изнутри свертки-коробки. Надька замерла. Бухара тоже. И тут что-то упало у лейтенанта из рук. Бухара — раз, — только глянув на Надьку, подбежала и подняла.
Лейтенант увидел Надю.
— Надежда! Привет! — закричал он, и Бухаре: — Спасибо, вы откуда?.. Помогите, пожалуйста, это я маленькие тут сувениры сестрам-врачам… Возьмите вот это еще, а? Пошли, пошли! Поможете… Это со мной… — сказал он солдату.
Но Бухара сказала: «Я здесь подожду». — выразительно глядя на Надьку. И осталась.
А Надька взяла сверток и пошла с лейтенантом опять через такую уже знакомую проходную в корпус. Сердце у нее билось, но она усмехалась криво. Лейтенант попросил подождать и быстро ушел, путаясь со свертками. Надька поняла, что дальше, внутрь, ходить ей с ним не нужно. Она сидела одетая в коридоре, на скамье у входа, проклиная себя, и думала: надо уйти. В зоне зрения появилась толстая Маша. Так, сейчас пристанет.
Та в самом деле удивилась:
— Ты чего тут? К Тоне? Она сегодня отгул взяла.
— Нет, я знаю, я так.
— Не на работу к нам устраиваешься?.. Хотя мала ты еще у нас работать.
— Ничего, подрасту, — сказала Надька.
— Давай, давай, — сказала Маша. — У Тоньки будешь как за каменной стеной. — И ушла медленно.
И тут подкатился совсем молоденький парень в больничной пижаме. В руке его болтался чертик, связанный, как это делают больные, из раскрашенных хлорвиниловых трубок. Парень ловко и забавно играл чертиком, как настоящий кукловод, и пищал:
— Уважаемая публика! У нас в госпитале посторонние! Непорядок! Как вы сюда попали? Ваше имя? — Он был наголо остриженный, с закованным в гипс горлом, бледный, худой, веселый. — Ваше имя! Ваше имя! — требовал чертик.
— Перебьетесь! — сказала Надька.
— Ой, как грубо! Он, грубо! Какое грубое обращение с больным! Сейчас же к Федору Иванычу! — пищал чертик. — К Федору Иванычу. А лет сколько? Сколько лет?
Надька хоть и отвернулась, а рассмеялась.
— Смеется, ура! — хлопотал и бил в ладони чертик. — Смеется!.. А может… ты к кому пришла? Ты не ко мне?.. Скажи! Скажи!
Тут подошли еще двое, один тоже молодой, а другой постарше и оба с улыбками. Тот, что постарше, сказал:
— Селиверстов не теряется… Познакомь, кловун!
— Перебьетесь! — ответил им Селиверстов чертиком, точно скопировав Надьку. — Идите, дяденьки, своей дорогой… Правильно я говорю? — опять обратился чертик к Надьке, и она невольно кивнула.
Все рассмеялись, а Надька смутилась. Но тут, слава богу, в конце коридора показался лейтенант, он нес в руках свою шинель и на ходу надевал фуражку. Торопясь, он прихрамывал.
Все повернулись за Надькиным взглядом и поняли, кого она ждет.
— Ну, что тут? — лейтенант всех оглядел. — Привет, Селиверстов!.. Не обижают? — обратился к Надьке.
— Здравия желаю, товарищ старшой! — весело сказал Селиверстов. — Вы что, как можно обидеть? Она сама нас обижает. Общаться не хочет. А вы, значит, все?
— Да вроде. Наконец-то.
— Да уж! Вы, говорят, тут побыли — ого!
— Не говори. А ты-то как?
— Нормально, товарищ старший лейтенант! — ответил Селиверстов чертиком, и все рассмеялись.
Второй, чуть помоложе, помог Сергею вдеть руку в рукав, тот поморщился, когда одевался, Надька это видела.
— На! — вдруг протянул ей Селиверстов чертика. — Возьми. Бери, бери, я себе еще сплету. Времени навалом…
Надька глянула на лейтенанта, спрашивая: взять?
Он разрешающе кивнул.
И Надька взяла: спасибо.
Они вышли, а Бухары не было.
— Где же она? — спросил лейтенант. Надька пожала плечами.
— Подождем или поедем?
— Куда?
— Как куда? К Тоне. Я ж уезжаю. Все.
— А я чего?
— Да ладно! Поехали!
Надька играла чертиком. Они ехали в автобусе, сидели на одном сиденье, автобус был полупустой.
— Ну а у тебя что новенького? — спросил лейтенант.
— У меня?
— У тебя, у кого же.
Надька плечами пожала: мол, что может быть новенького?
— Все нормально. Уезжаю. На Дальний Восток.
— Ты? К кому? Зачем?
— Так.
— Выходит, нам по пути. Ты самолетом или поездом? — Он засмеялся.
— Поездом.
— Ну все! Ты когда?
— А вы когда?
— Я девятнадцатого.
— Ну и я.
Он опять рассмеялся. А Надька нет.
— Кстати, ты где учишься? — спросил лейтенант.
— Нигде.
— Как нигде? Работаешь?
Надька покрутила головой. Чертик в ее руках мотался так и сяк.
— Так. Значит, не учишься и не работаешь?
— Не-а. Зачем?
— Как зачем? Зачем все учатся или работают?
— Не знаю. По глупости.
— Интересно. Выходит, все дураки?
Надька пожала плечами.
— У меня тоже был один такой солдат. Я, говорит, не хочу, как все… Я…
— Я — не солдат, — сказала Надька, — и потом — все равно я никому не нужна. — Надька говорила с ним, либо посматривая только на чертика, либо отворачиваясь в окно. И теперь совсем отвернулась, глядя и не видя бегущие мимо дома, деревья, магазины. И ожидала, что лейтенант будет продолжать опять что-то воспитательное или насмешливое. Но и он замолчал.
— Почему это? — спросил потом.
Она молчала.
— Так не бывает. Каждый человек кому-то нужен.
Она молчала. Потом взглянула искоса. Он смотрел на чертика. Тогда она повернула к нему голову. Лицо у него стало грустное, он усмехался.
— Я, похоже, тоже никому больше не нужен, — вдруг сказал он и подмигнул. — Но ничего. Ни-че-го! — И щелкнул по чертику.
Так они ехали, чертик болтался между ними.
— Слава богу, наконец! — Тоня стояла одетая в дверях. — А я уж заждалась! О, Надька! А ты откуда?.. Привет! Когда вы, интересно, сговорились?
— Военная тайна! — сказал лейтенант. — Да, Надь?
— Я за Светкой, я быстро, а вы посмотрите тут, Надь, сумеешь? — Она потянула Надьку на кухню, показала на кастрюлю борща, кипящего на малом огне, на другую с начищенной в ней картошкой, на приготовленную в духовке на противне утку — только огонь зажечь. — Я оттуда такси возьму. Утка уже готова, только разогреть… Сергей! — тут же позвала она и, обходя Надьку, ушла к Сергею, который уже разделся и причесывался в прихожей перед зеркалом. — Ну? — спросила она его. — Я жду, жду.
— Да я уже все сделал.
— Как? Сам?
— Пора без нянек обходиться. Сам.
— А билет?
— И билет взял.
Тоня хмыкнула как-то и сникла на глазах. Неопределенно улыбнулась: мол, воля ваша, хозяин — барин. Обернулась к Надьке, которая смотрела из кухни: ты-то не в курсе? Надька отвела глаза.
Вся эта ситуация была странной и странно Надьку мучила. Какая-то сила несла ее вперед помимо воли, она делала, чего ей вроде бы не хотелось, противилась и не могла противиться. Как вышла эта встреча с лейтенантом, столь долгое с ним общение? А теперь Тоня уходит, и они опять вдвоем — что все это значит?
— На девятнадцатое? — спросила Тоня.
Лейтенант кивнул, улыбнулся.
— Ну, спасибо хоть на этом, еще два дня, — сказала Тоня. Не без обиды.
У них с Сергеем были свои дела и свой шифр.
— Ладно, я скоро, — сказала Тоня, — я обратно такси возьму… — И ушла.
Лейтенант прошел в комнату, включил телевизор. Надька вернулась из прихожей на кухню, но что делать, не знала; все, кажется, было сделано. Открыла холодильник — там стояли водка и шампанское.
Она попила из-под крана воды. Прислушалась. Звуки телевизора — больше ничего. Тянуло туда. Вот чума. Надо было что-то делать. А что? Зачем?
Она пошла на цыпочках в прихожую и взяла с вешалки куртку. Телевизор работал вовсю, лейтенанта не было видно. Уйти. Бежать. Раз и навсегда. Не одеваясь, взялась за замок.
И тут он вышел.
— Ты что? Ты куда?
— Я пойду.
— Почему? В чем дело? — Надька молчала. Стояла понурясь. — Надя! Ну!
Она молчала. Он пошел прямо на нее и взял из рук куртку.
— Брось!
— Чего мне тут делать-то? — грубо сказала она.
— Тебе ж поручили за обедом смотреть.
Надька замерла. Они стояли чуть не вплотную. Сердце ее билось, и она боялась, что Сергею слышен его стук. Чума, ну чума и только.
— Пошли! — И он повел ее, пропустив перед собой, в комнату. — Ну что ты в самом деле? — Подошел и взял за плачи. — Я же уезжаю.
Он смотрел на нее, он улыбался, он был ласков, он шутил, — зачем все это? Что все это значило? Надька не знала, что делать. Она только чувствовала, что теряет себя, свою волю, силу, независимость. Чума… И ее надо одолеть. Ну, что он ее за плечи взял?.. Она вывернулась, как-то скособоченно стояла… Она вдруг потеряла и все свое искусство притворства, размякла. Что делать?
— Садись, будем хоккей смотреть, — предложил лейтенант. — Или ты не любишь? — Сел и похлопал по кушетке рядом с собой.
Надька осталась стоять. Он смотрел вопросительно.
— Возьмите меня в Свердловск, — сказала она.
Он раскрыл глаза: мол, ты что, девочка?
— Правда, — сказала Надька. — Мне все равно.
Тогда он опять поднялся.
— Это бывает в твоем возрасте. Это пройдет.
Надька хмыкнула, повернулась и пошла на кухню.
— Надь! — позвал он. Но она не вернулась. Телевизор загремел звуками хоккейного матча.
Она остановилась в прихожей. Перед ней было зеркало. Приложила руки к щекам — щеки горели. Прищурилась. Сказала себе: нет, она больше не останется. Вообще надо что-то сделать. Сейчас, раз и навсегда. Покончить с этим. Что за дурь вообще?
Опять вышел из комнаты Сергей.
— Надь! Ну ты что?..
— Все нормально, — сказала Надька. — Включите там духовку, а то я боюсь.
И когда он вошел в кухню, она взяла и задвинула задвижку на входной двери. И быстро скользнула в комнату, закрыла за собой и эту дверь.
В дверь стучат, в дверь звонят.
Сергей поспешно открывает, но не может понять, что закрыто на задвижку, дергает дверь и наконец открывает. Странно, что было закрыто на задвижку.
На пороге — Тоня, за ней Светланка.
— Вы что закрылись? Я открыть не могу, звоню, стучу! — Глаза Тони быстро оглядывают дом, прихожую, Сергея. — А где Надька-то?
Сергей растерян.
А Тоня уже идет вперед, не раздеваясь, вот дверь в ванную — открыта, вот дверь в комнату — закрыта. Почему? Она у них никогда не закрывается. Тоня оглядывается на Сергея.
Сергей ничего не понимает. Он стоит за спиной Тони, а Тоня — раз! — и открывает дверь в комнату. Там темно, только работает телевизор, идет хоккей, и в свете экрана видно, что на кушетке кто-то лежит. Тоня тут же включает свет.
На кушетке — Надька, раскинувшись, то ли в обмороке, то ли спит, — разметалась, свитер и сапоги валяются на ковре. Ну и ну! Тоня оборачивается и глядит в упор на Сергея. Он в полном обалдении.
Маленькая Светка, проскочив вперед, тормошит Надьку:
— Надя! Надя! Ты спишь? Ты чего спишь-то? Мам! Чего она?..
Кипит на кухне борщ, кипит-булькает картошка, шкворчит утка в духовке, Тоня шваркает крышками, дверками, она так и не сняла плаща. За ней Сергей.
— Тоня! Ну ей-богу!.. Ну ты что, Тоня?..
Но крышки только бряк-бряк, ножи, вилки — дзинь, дверцы — шварк.
— Тоня!
— Ну хватит! Что я, маленькая, что ли?..
— А, черт!
Сергей влетает в комнату. Надька, натягивая свитер, еще сидит на кушетке, возле нее копошится Светка. Сергей на ходу прихватил Надькину куртку и шарф.
— Ну-ка! — Он поднимает Надьку резко под мышки и ставит на ноги. — Ты что сделала, а? Ты зачем это сделала? Ты понимаешь или нет? — Обдергивает на ней свитер, обматывает ее шарфом и сует в руки куртку. — Давай-ка отсюда! Ну-ка! По-быстрому! Марш!
— Надя! Надя! — цепляется Светка. — Почему ты ее прогоняешь? Не уходи!
— Света! Ну-ка, посиди! — Сергей хватает Светку и крепко сажает на кушетку. — Иди, иди! — командует он Надьке и дергает ее. — Ах, она без сапог! А ну, сапоги! Быстро! — И он толкает ее, понукает, чуть не гонит.
Но надо же натянуть сапоги.
Надька натягивает сапог и начинает смеяться. Лейтенант, конечно, ничего не понимает и не подозревает, что Надька не над ним смеется и что она не его пришибла с Тоней, а себя, свою чуму, свою жалость — вот так ее!
И за этот смех Сергей чуть не вышвыривает ее. И захлопывает за ней дверь. И ему приходится стоять у этой двери спиной, потому что прибежала Светка и бьется о его ноги:
— Зачем ты ее погнал? Надя! Надя!.. Мама! Зачем он ее?..
В прихожую входит Тоня, снимает плащ, ни на кого не глядя, и вдруг резко кричит Светке, которая к ней бросилась:
— А ну замолчи!
Девочка пугается. Она садится на пол и плачет.
— Ведь не для себя я, для нее! — Мамка Шура всхлипывает. — Мне не надо. Мне теперь… у меня…
Ей не идет плакать: лицо ее распухает, делается некрасивым. Тем более что она в действии: собирает вещи, затягивает ремни, застегивает, хотя чемодан и сумка уже собраны, сама она в шубе, в платке. Надька стоит у окна тоже одетая. А мамка Клавдя, наоборот, сидит за столом строгая и ясная, все она уже выплакала и выговорила, выложила на скатерть свои ручища и сидит.
— А ей лучше будет, у нас перспектива, у нас… Надь! Ты документы-то взяла? Ехать ведь надо, сейчас такси придет… — Она приближается к мамке Клавде: — А ты в отпуск к нам сразу. У нас август — сентябрь сказка, прям сказка… Прости меня, — она берет тяжелую руку мамки Клавди, и та не отстраняется. — Ей лучше будет, лучше…
Мамка Клавдя кивает: мол, да, понимаю, согласна. Врывается Бухара:
— Такси пришло!
— Ну вот, ну вот, поехали! — Шура опять суетится, застегивается, подходит к Надьке. — Надь! Ехать!
Надька кивает, но все так же отрешенно. Она поворачивается, ждет, чтобы встала и начала одеваться мамка Клавдя. Но мамка Клавдя встала, а ноги у нее не идут. И она опять садится и говорит:
— Да нет, я не поеду, вы сами. Вон девчонки проводят.
Надька не смотрит на нее, и она на Надьку тоже. Опять эта жалость, эта чума дерет Надьке сердце, и она в ярости не знает, как быть. Клавдя сидит странно спокойная, тяжелая, простая.
— Ну, что ты? — грубо говорит ей Надька.
— Надь! Ехать! — повторяет Шура робко.
И тогда мамка Клавдя поднимается еле-еле, опираясь на стол:
— Чегой-то прям ноги отнялися, — говорит она виновато и даже с улыбкой. — Ну, Надюшка, не могу. Ехайте сами… Будь хоть там-то человеком, не срами себя!…
— Надя! — зовет Шура.
Надька резко подходит к Клавдии — та не успевает обнять, задержать ее, — целует мамку в голову и тут же отпускает. И отходит без всякого, отшатывается, как ванька-встанька.
Шура обнимается и целуется с мамкой Клавдией, словно родней у нее и нет никого. А Надька, не взглянув на свой дом, вместе с Бухарой выходит, вдвоем несут чемодан. Неужели уезжает Надька? На Дальний Восток? Так вот — раз! — и уедет? Неужели кончилась ее непутевая жизнь и начинается другая?.. И мамку Клавдю она бросает, и подруг?..
Бухара заглядывает Надьке в лицо, но понять ничего не может.
И вот аэропорт, и багаж уже сдан, и мамка Шура с Надькой расположились в ожидании посадки у стеклянной стены, за которой видны хвосты самолетов и откуда время от времени доносится самолетный рев.
Шура что-то говорит и говорит, на коленях ее сумка, а на сумке развернутая плитка шоколада, и она отламывает куски и дает Надьке. И Надька ест. Вот она, новая Надькина жизнь, — самолеты, небесные пути, серебряная фольга, вкус шоколада.
А где-то наверху, над головами все время мелькает электронное табло: числа, часы, минуты, температура воздуха… И число, между прочим, девятнадцатое. Мелькает и мелькает, мелькает и мелькает.
— Надь, — говорит вдруг Шура. — Я тебе там хотела сказать, да уж ладно, не могу, тут скажу… Одна ведь я теперь, Надь, уже полтора года как одна, ты слышишь?
Надька слышит и не слышит. Еще не хватало! Может, и тебя пожалеть, Шура?
— Что ты так?
— Как?
— Смотришь нехорошо.
— А как мне смотреть? — Надька кривится.
А табло выбивает: девятнадцатое, девятнадцатое…
И Надька вдруг морщится, лицо у нее делается такое, будто ей нехорошо стало, она берется за живот. Мать пугается.
— Ты что? Так, может, все-таки правда?
Надька кривится: да нет, это твой шоколад. Она встает. Шура подхватывается тоже идти с нею, но у нее сумки, коробки, ручная кладь, и Надька машет: мол, не ходи, сиди, я сама. И Надька уходит. Она идет в ту сторону, где на указателе показаны туалеты.
На табло горит: девятнадцатое.
Шура бегает по аэровокзалу. Шура ждет. Люди идут мимо на посадку, там, за стеклами, уже наполнен автобус, и дежурная приглашает Шуру идти тоже.
Шура мечется. Шура объясняет. Шура плачет. Садится среди своих коробок и сумок и плачет.
А Надька едет в полупустом автобусе долгой дорогой из аэропорта. Едет и едет, едет и едет.
Потом на метро.
Потом опять на автобусе.
Первый пушистый снег выпал девятнадцатого числа.
Бухара, Жирафа и Ленок вышли из училища, вернее, из ворот хлебозавода после занятий и увидели… Надьку. Они стали как вкопанные.
Надька поманила Ленка отойти в сторону.
— Ты как?.. Ты же улетела! Откуда взялась? Ты что? — спрашивает Ленок. В ответ Надька снимает варежку и показывает аптечную коробку: маленькие желтенькие таблетки сыплются в ладонь.
— Что? Жить мне больше неохота, вот что!..
Они смотрят друг на друга. Со стороны глядят на них Бухара и Жирафа. У Ленка падает варежка. Она перебрасывает сумку с плеча на плечо и подставляет ладонь: сыпани и мне тогда тоже.
Но Надька качает головой, улыбается, делает шаг назад и, полуотвернувшись, жменей бросает таблетки в рот. Торопится, глотает. Еще. Еще.
— Ты что? Правда, что ли, проглотила? Отравишься! Плюнь, Надя!
Надька смеется. Хватает ладонью свежий пушистый снег и заедает.
— Выплюнь, ты что!
Ленок не очень верит Надьке, все это ее фокусы опять, но все-таки неприятно, она озирается и машет: сюда! Бухара и Жирафа мчатся изо всех сил. Надька отступает, Бухара с Ленком и Жирафа — за ней. Ленок на ходу объясняет Бухаре и Жирафе, в чем дело, те не верят. Куда ты, Надя? Постой! Надька бежит через улицу, за ней подруги перебегают перед машинами дорогу…
Потом они едут в метро.
— Ну ты дура! — говорит Ленок. — Ты совсем!
— А начинает уже кружиться, — говорит Надька и смеется.
— Да что ты ей веришь? Ты Надьку не знаешь? — усмехается Бухара. — Ну витамин цэ, подумаешь!
— Это не цэ, в больницу надо, — говорит Ленок. — На промывание. «Скорую».
— Хватит, меня уже промывали, — говорит Надька и опять смеется. — Отстанете вы или нет? Вот чума!..
Надьке в самом деле все хуже. Перед глазами круги, ноги идут или не идут, непонятно, ее пошатывает и покачивает. А выходят они прямо на вокзальный перрон, прямо к табло, где отбито отправление свердловского поезда. Уже вечереет. Надька останавливается и, еле ворочая языком, говорит:
— Прошу! За мной… не ходите… больше… Все…
И решительно идет вперед одна.
Она идет одна, но ей приходится остановиться, опереться рукой о вагон. Она стоит и уже мало что понимает… Девчонки в отдалении движутся за ней.
— Она отравилась, я вам точно говорю, — шепчет Ленок подругам.
— Артистка! — говорит Бухара.
И вот вдали у вагона три фигуры: Сергей, Тоня и Светка, которая крутится у их ног.
Надька медленно приближается к ним. Она почти падает.
Они, наконец, видят ее. И отворачиваются, делают вид, что не видят.
Фига́! Интересно! Они не понимают! Они не верят! Они не знают, что и з - з а н и х она решилась умереть, убить в себе любовь к ним и сейчас, вот здесь, умрет у них на глазах! Надьку качает, она хватается за столб и больше не может идти.
Ленок хочет бежать к ней, но Бухара останавливает: «Нет, не мешайте ей! — Они потешаются с Жирафой. — Ну, Надек дает!» Они не понимают, в чем дело, ради чего они все оказались именно на вокзале, но вдруг детский крик несется: «Надя! Надя!» Это маленькая Светка увидела Надьку и бежит к ней.
А Надька осела возле столба, ей плохо, ей на самом деле плохо, но все только смотрят и смеются или усмехаются. И она сама смеется. Кто-то из прохожих остановился, обеспокоился: что такое с девчонкой? И проводница ближайшего вагона уже видит, что ей плохо, но с в о и не реагируют, не подходят. «Опять комедия!» — говорит весь вид Тони. Она отворачивается, но профессиональное чувство подсказывает ей: тут что-то не так. Она говорит с Сергеем, тот тоже старается не глядеть назад, но теперь, когда побежала Светка, обернулись.
— Надя! Надя! Ты что? — лепечет Светка, присев возле, а у Надьки закатываются глаза, она уже не может смотреть.
— Мама! Мама! — кричит Светка и бежит к Тоне. — Мама!
Надька падает ничком и тоже хочет повторить «мама», а шепчет:
— Чума…
Надька поднимается по своей лестнице домой — все кончено, оборвано, Сергей уехал, Тони ей никогда не видеть, никого не видеть, конец. Ее сопровождают Ленок и Бухара. Но потом отстают. Надька бледна, устала, открывает своим ключом дверь.
Но нет, дверь не открывается, она заперта изнутри. Надька не успевает постучать — открывают. Мамка Клавдя стоит на пороге: седая, простоволосая, старая, в старой латаной рубахе. И Надька тычется в нее, обнимает, приникает, опускается на колени, как блудный сын на картине Рембрандта.
Мамку Клавдю не держат ноги, она садится тоже, и Надька рядом с ней. Обе плачут и лепечут всякие слова:
— Родимая ты моя, жданочка…
— Кто она мне, чего я с ней поеду?..
И тут звук странный раздался, сбоку, с кухни. Обе обернулись: в дверях кухонных, поднявшись с раскладушки, стоит мамка Шура, сгорбилась и кухонной занавеской, обеими руками, закрыла себе уши, чтобы не слышать…
Вот чума так чума! А мамка Клавдя — ох, простая душа! — обернула от себя Надьку и толкнула в спину: подойди, мол, пожалей ее, ну! — и Надька подошла осторожно. И как схватила ее Шура, как сжала, зарыдала еще пуще, не в силах говорить…
Эта плачет, эта плачет, и Надька — куда деваться? — тоже плачет. Как они плачут втроем, эти женщины, обняв друг друга!..
БАБУШКА И ВНУЧКА Повесть
«…В седьмом, точно, в седьмом классе началось, мы ведь в одном районе жили, и учились почти рядом, через пять улиц, он в шестьдесят пятой, а я в пятьдесят седьмой. Нас на уроки физкультуры водили, когда уже потеплеет, весной, в сад Прямикова, — такой есть маленький детский парк на Таганке, — ну вот, мы приходим один раз, а там шестьдесят пятая, в волейбол играют, через сетку. Все уже в майках, в трусах, хотя еще прохладно было, начало мая. Уже зелень проклюнулась, я хорошо помню, трава зеленая, облака. И вот там я впервые его вижу, в седьмом, значит, классе. Он бегает, смеется, мяч подает, чем-то он выделялся, не такой, как все, легкий мальчишка, часы на руке, а часы тогда еще в редкость, — ну, как в таком возрасте: часы — и тут же влюблена. Но тут не в часах было дело. Видно, что он у своих любимчик, заводила, остряк. Им игру пора заканчивать, мы стоим, ждем. Он побежал — все за ним, он назад — все опять по местам. А я будто окаменела. Он рядом, ну вот так, у носа моего, мячом об землю, как в баскетболе, от ребят уворачивается и мне подмигнул: мол, смотри, я их сейчас сделаю. И правда, вильнул, обманул, и помчался опять впереди всех по площадке. А со мной обморок, клянусь, удар, сроду такого не случалось. Лорка, моя подруга, кудрявая, красивая Лорка, мы на одной парте сидели, поддержала, спасибо, а то я бы грохнулась: «Аля, ты что?» И ведь мы еще девчонки совсем, по четырнадцать лет. Ну вот, наша очередь играть выходить, физкультурник Дима в свисток свистит, надо выходить, — мы тоже в майках, ноги голые, бледные после зимы, тощие, а трусов спортивных тогда не было, и мы мужские трусы колбасками подвертывали, шароварчиками такими… В общем, я как-то очнулась, посмотрела назад, а они, из шестьдесят пятой, уже одеваются у своей скамейки, он на одной ноге скачет, брюки натягивает, — я поняла: какое-то время прошло. И вот смотрю на него, он опять там острит, в центре внимания, смотрю, а Лорка — на меня, и тут я краснею, голову опускаю, а сама Лорке говорю: «Этот мальчишка будет мой». Лорка даже не поняла: «Что? Что?» В самом деле странная для меня фраза. Во-первых, все-таки в седьмом классе, и что значит «мой»? И вообще для м е н я это странно сказано, грубо. Не понимаю, как вырвалось, помимо моей воли, но я еще и повторила: «Будет мой». И на всю жизнь запомнила. Железная девочка была. «Будет мой», и все!..
Вот так это началось. Три года я по нем сохла, три! Но без всяких девчачьих глупостей: без записочек, телефонных звонков, нигде не караулила, не суетилась. Зачем? Все равно «будет мой». Затаилась, как рысь. Я только десятого класса ждала, рубеж поставила: вот кончаю десятый, семнадцать лет — и все. Тем более что не семнадцать, а восемнадцать, меня восьми лет отдали, боялись: хрупкий ребенок, не вынесет школьной атмосферы. Хорошо так веду себя, сдержанно, но тем не менее знаю о нем абсолютно все, использую все источники информации. Стала дружить с хромым Левушкой Ключом, из нашего подъезда — он тоже учился в шестьдесят пятой, как раз у Пети в классе. Добрый Ли-тин-ключ — почему-то такое у него было прозвище — все рассказывал: куда, когда, с кем, что. Губастый, милый, хороший Левушка, мы с ним и по дачам были соседями — наши отцы оба работали в авиационной промышленности — и дом наш ведомственный, назывался «крылышками», и дачный поселок тоже был «крылышек», в Никольском. Да, так и вижу — боже мой! — наши школы, его и моя, переулки, в сугробах зимой и в зелени лип летом, сад Прямикова. Он и не знал ничего, разумеется, не подозревал, но я и думать не думала: а как он? Вдруг я ему не понравлюсь? Шла к цели, и все.
Конечно, я все равно часто его встречала: то снова в парке, то в кино, то на школьных вечерах. Мы ведь жили в одном районе, а в Москве, большом городе, отдельный район, как ни странно, вроде маленького города, где все знают друг друга. И всякий раз, встречая его, я вспоминала свои слова: «Этот мальчишка будет мой».
На вечерах его всегда окружали ребята — это были, как говорил Левушка, их самые лучшие ученики, к ним кучами носили записочки, когда играли в почту, они нахально читали записки все вместе и вместе отвечали. И вся их группа, эта «элита», как их называли, корчилась от смеха, а потом вдруг надменно уходила среди вечера: у них находились свои, более интересные дела. В такие минуты настроение надолго портилось. Я знала их теперь хорошо: одного, высокого, рыжего, звали Жора Ильин, другого, маленького, в очках, Миша Шпигель, третьего, толстяка с красивым лицом — одет всегда модно, во рту папироска, — Яша Масленников. Левушка восторгался: они у нас самые умные, талантливые. Да и вид у них был такой: воображалы, говоря по-школьному.
За одно лето он как-то сильно вырос и изменился, остригся коротко. До самой зимы ходил без шапки, носил свитер и сапоги, выглядел хмурым, уже не чудилось, что он спешит куда-то. Смотрел под ноги или прямо перед собой. Правда, в такие минуты я сама боялась, что он увидит меня. Было жаль его, хотелось узнать, что с ним, я снова бежала к Левушке. С ним что-то случалось на самом деле: то исключили из школы на неделю — поругался с историком, то несчастье с отцом: то ли он в аварию попал, то ли в тюрьме сидит.
Однажды кто-то показал в кино, перед сеансом, одну совсем взрослую на вид девчонку, Синицыну, из девятого класса, из семнадцатой школы: «С ней Петька Шувалов дружит, это шуваловская». Я застыла: тяжелое, красивое, смуглое лицо, слишком «оформившаяся», как скажет бабка, — с такими не только дружат. Но снова ничем себя не выдала, я ждала: все равно «этот мальчишка будет мой». Я знала его дом: проходила часто мимо него — пятиэтажного, старого, мрачного, на углу, возле рынка, с сырыми, узкими подъездами. От моего дома до этого было две трамвайных остановки.
Я знала и его телефон, и однажды — только один раз! — Лорка уговорила позвонить. Я замогильным голосом сказала: с вами, мол, говорит одна ваша знакомая, угадайте кто. Лорка стояла рядом, кусала пальцы от смеха, звонили мы из автомата. Узнала бы бабка, запрезирала бы меня. Он грубо сказал: «Найдите себе занятие поинтереснее» — и трубку положил. Я приняла эти слова на свой счет и только потом сообразила: он же не мог знать, кто звонит. И радостно стало, что он так отшивает незнакомых.
И вот он, десятый.
8 Марта, в Женский день, у нас в школе решили устроить большой вечер, пригласили соседние школы. Наша директриса, Клавдюня, горела идеей общерайонной школьной консолидации. Клавдюня почему-то меня считала одною из самых примерных учениц и всегда, до неловкости, обращала внимание других на то, как я аккуратна, как играю на пианино. По предложению Клавдюни меня выбрали в совет по проведению вечера, мы решили пригласить курсантов музыкального училища или суворовцев, — целое событие. К вечеру готовились почти месяц, собирали деньги на цветы, организовывали самодеятельность. И вот — все пришли. Восьмое марта! Парни в белых рубашках, в галстуках, музыканты в мундирах, девчонки разряженные. А он один был в свитере, в стареньком, черном, видно, крашеном, с отвисшим воротом, левой рукой придерживал этот ворот у горла. Но глаза веселые, насмешливые, как всегда. Я уже все знала, что сегодня кончится мое ожидание, может быть, с ним познакомлюсь. Но тогда — если бы люди могли предвидеть, как растут их аппетиты! — мне было довольно глядеть на него сколько захочется. В тот вечер я была уверена в себе, никогда не чувствовала себя такой взрослой, смелой, свободной и понимала, я должна нравиться, должна обращать на себя внимание. Это еще потому, что я ведь была одной из распорядительниц вечера, меня без конца о чем-то спрашивали, ко мне подбегали, я распоряжалась, торопилась, все время в центре, и все шло так, как было задумано, все удавалось.
Кончилась долгая торжественная часть, пионерский монтаж «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны», подношение букетов сидящим в президиуме — Клавдюня растрогалась и прижимала к глазам белоснежный платок — потом кончился концерт, на котором Лорка читала стихи, я играла Скрябина, — когда все это, наконец, закончилось и стали шумно выносить стулья, освобождать зал для танцев, хромой, улыбающийся Левушка остановил меня, когда я пробегала мимо их группы (я уже знала, знала, что так будет!), и познакомил со своими товарищами.
Они протягивали руки, называли свои имена, которые я знала, кажется, всю жизнь, улыбались, наперебой острили. Он тоже протянул руку, тоже улыбался и немного воображал, я чувствовала грохот счастья в ушах или грохот стульев за спиной — радиола уже гремела, и грохот своего сердца, я легко говорила, легко отвечала, смотрела и смеялась свободно, как никогда.
Все это продолжалось, наверное, не больше минуты, но я не могла не понять: первый раз в жизни я так смела, так открыта с незнакомым человеком, чего за мной не водилось, и кокетлива и привлекательна в своей школьной, «гимназической» форме, но в тонких чулках и туфлях на невысоком каблучке, — а на руках у меня уже был маникюр без лака, а за лифчиком лежала надушенная ватка, — так делала мама, собираясь куда-нибудь, и Ольга — так всех нас учила бабка, готовя нас в женщины. И я увидела по его глазам и по глазам его товарищей, что я им понравилась, и от этого стала еще счастливее — все плыло и кружилось вокруг. Миша Шпигель, в очках, с заметно подбритыми усиками, сказал: «Айда, братцы, покурим». И они пошли из зала, а в дверях он оглянулся, и за ним оглянулись другие, улыбаясь мне.
Потом были танцы, все танцевали, кроме их четверки, и я, уже как бы на правах товарища, на правах заботливого распорядителя, подходила и спрашивала, отчего, мол, вы не танцуете, и Шпигель острил: «Нам бы выпить», а он, показывая на свой свитер, отвечал: «Я сегодня не в смокинге». Да, все-таки большие воображалы.
Но потом, в суматохе вечера, я не заметила, как они ушли. Мелькали белые рубашки и галстуки, мундиры, раскрасневшиеся лица, белые банты, из-под лестниц пахло табачным дымом, я бегала повсюду — их четверка исчезла. Подошел, прихрамывая, улыбающийся Левушка, на пиджаке белел бумажный ромбик с цифрой для игры в почту, он все понял: «Обычная манера — уходят по-английски, не прощаясь». Он пригласил меня на танец и так старался, что почти не хромал. Но это ничего не значило, что они ушли. Я все равно была счастлива, хватит на сегодня, ведь свершилось самое главное — я поверила в себя.
Когда я вернулась к полуночи с этого вечера — Левушка провожал меня — и вошла в комнату, то бабка — моя постель в одной комнате с бабкиной — повернулась, тяжело кряхтя, дернула за шнурок и включила верхний сват. Бабка высоко лежала на своих царственных подушках, в очках, с книгой, в розовой рубашке с кружевами, под светом красноватого бра. Но когда я вошла, она включила верхний свет и стала рассматривать меня со своих подушек бессонно и испытующе, а я, вместо того чтобы глядеть, как обычно, непроницаемо и скучно, не могла удержать улыбки, сама чувствовала: сияю. И отчего-то необходимо было солгать, скрыть свое счастье — я боялась бабкиной иронии — и стала говорить, как удался вечер, какие обнаружились у меня организаторские способности. Бабка слушала, молчала, но продолжала так смотреть, что пришлось сказать: «Ну, ты что?» И бабка ответила с улыбкой: «Ну а еще что было?» А еще? Я плечами пожала и проворно надела халат, потому что мне вдруг не понравилось, как оглядывает бабка мою фигуру, обтянутую комбинацией, ноги, с которых я сняла, скатывая, чулки. «А еще, — ответила я, не удержавшись, уже стоя на пороге, отправляясь в ванную, — еще был там один мальчик, который мне понравился».
Это, конечно, был лучший способ погасить бабкину бдительность: пусть думает, что на каком-то там вечере какой-то мальчик понравился, ведь не расскажешь, что это за мальчик, рассказывать об этом не хочется, потому что это м о е.
«Вот то-то, — сказала бабка и, конечно, спросила: — Кто такой?» Я пожала плечами и ушла. И долго не выходила из ванной, а потом притворилась, что умираю — хочу спать, чтобы не разговаривать больше, побыть одной, перебрать снова одну за другой все минуты этого вечера.
Потом я опять долго его не видела. Это был самый долгий месяц в долгом моем ожидании. Но я все равно знала: это уже не имеет значения. Просто надо еще немного подождать. Совсем немного теперь. Чуть-чуть. Ведь десятый.
И вот я шла однажды, как обычно, в школу. В отутюженной форме, уже без пальто — стояла середина жаркого, сухого апреля, липы вот-вот зазеленеют. Старинная, с булыжной мостовой и побитым плиточным тротуаром, со старыми липами и водоразборными колонками на углах, двухэтажная, знакомая с детства улица. И тут я увидела его. Между нами не оказалось ни одного прохожего. Он! Белая рубашка, мокрые, причесанные волосы. Вот увидел меня тоже, обрадовался, и снова у него выражение, словно он летит, сдержав дыхание. Он, подумать только!.. Короче, мы поравнялись. Остановились. Он говорит: «Здравствуйте!» Киваю, довольно легко и вроде в шутку отвечаю: «Приветик!» Мол, вы шутите, и мы шутим. Но это будто не я делаю, а кто-то. А меня самой нет, исчезла, провалилась, дрожу. «Мамочка, — думаю, — мамочка моя, мамулечка!..» А он оценил мой «приветик», понравилось. «А кажется, — говорит, — мы с вами знакомы». Удалец такой. «Нет, — говорю нарочно, — не помню». — «Так надо познакомиться, меня зовут Петр». (Ах, как важно — Петр! Петр Великий!) «Очень приятно. А меня Алина». Как ни в чем не бывало. И будто я этого Петра первый раз слышу. Хотя этим Петром, этим П в разных видах заполнены все мои тетрадки, книжки. Да, забыла сказать. Мы стоим, а когда подходили друг к другу, он в руке яблоко крутил. Подкидывал, как мячик, поигрывал. Крепкое такое, зеленое, китайское яблоко, совсем свежее для весны. И тут он говорит: «А, да, Алина! (Спасибо, вспомнил!) Вот это имя! — и берет мою руку и кладет в нее это яблоко. — Вот вам. Раз вы Алина». Ни с того ни с сего. Потом усмехается своей неотразимой усмешечкой. «До завтра! — говорит. — А то опоздаю! Контрольная!..» И убегает. Я остаюсь, сжимаю это теплое яблоко и понимаю: «Ну, теперь все». Тут, думаю, кончается моя жизнь, и тут она начинается. (И правда, так и вышло, я всегда, между прочим, наперед знаю, что со мной будет.)
Помню, я принесла яблоко домой и вечером, сидя на постели, смотрела на него — в жизни я так долго не рассматривала обыкновенное яблоко.
А на другое утро мы встретились на том же месте — было ровно пять минут девятого».
«…Будто кино смотрю: вот улица, в рынок упирается, вот ее школа кирпичного цвета, железный забор; вот место, где мы встретились: кривые и битые плиты старинного московского тротуара, старые липы. Но разве липы не цвели? В моем воспоминании они всегда цвели, хотя, разумеется, этого еще не могло быть в апреле. И яблоко мне всегда виделось красным. Неужели зеленое было?.. Впрочем, женская память цепче на такие вещи, мы схватываем суть, они — мелочи.
Вижу десятиклассницу в белом воротничке вокруг горла, в школьном платье; с глазами, полными любви, с довольно простым лицом. Правда, реснички она уже подкрашивала (кажется), а нос пудрила (это точно). И я не подозревал, что это лицо через какой-нибудь месяц станет для меня красивейшим на свете. Алина! Имя мне очень понравилось. Не имя — подарок! Алина, Алина, Алина!
Я в ту пору тоже — романтические юноши! — ждал и искал любви; влюбляешься, бывало, то в продавщицу, пока в очереди стоишь, то в артистку из последнего фильма; не можешь прочесть спокойно ни одной любовной сцены в книге (и выискиваешь лишь эти сцены). Влюбленности так же легко улетучивались, как и возникали, но ясно было: дело за объектом — субъект готов.
Вот взял и угостил яблоком на улице незнакомую девушку. Играл все в ту же игру: она — не она?
Да, помню, я все спешил, шутил, пел и свистел на ходу, как птица. Но я не был совсем мальчишкой, внутри я уже был серьезен. Школа надоела, хотелось работать, я мечтал об архитектурном, строительном — над Москвой поднялись высотные здания, тогда казалось: вот так бы и мне такое бы построить! Отец у меня был строителем, на войне сапером, дед плотником — передалось, видно. Моя работа, моя мечта уже повели меня — точно мною выстрелили в мою цель — пусть это было лишь начало.
Ожидание же любви, тягостное, дурное, мешало, вело в сторону, превращалось в п р о б л е м у.
Ну вот, а тут — такая девушка! Конечно, на другой день я был на том же месте минута в минуту, и… она шла мне навстречу».
«…Мы стали встречаться каждый день по утрам: сначала за полчаса, потом за час до уроков. Очень долго не решались назначить свидание в другом месте и в другое время. И, конечно, очень скоро все узнали об этих встречах. Однажды шел дождь, но мы все равно гуляли, нам встретилась Лорка и сказала: «О, вас уже водой не разольешь».
Все, казалось, складывалось прекрасно, но вместе с тем что-то было не так, и однажды ночью я проснулась в слезах. Бабка включила лампу и хриплым спросонья голосом спрашивала, что со мной. Я не могла вспомнить, что мне снилось, но ощущение невозможности осуществления чего-то — я изо всех сил что-то преодолевала и так и не смогла преодолеть — было так сильно, что я и наяву еще плакала от бессилия и несчастья. Бабка погасила через какое-то время свет, и оказалось, окна уже сини, наступает утро. Я не могла больше уснуть, в самом этом раннем часе, в который я никогда прежде не просыпалась, чудилось нечто странное, и я лежала и думала о себе, своей жизни и, казалось, понимала все, что происходит со мной сегодня, и что случится завтра, и что будет, может быть, через пять или, даже десять лет. Бабка несколько раз позвала меня: «Ты не спишь?» Но я не отвечала.
Вдруг стала думать о том, что я ему не нужна, он слишком занят своими мыслями и идеями, и ему просто необходим слушатель, человек, который соглашается со всем, что он говорит, и даже не просто соглашается, но восхищается сказанным. Ему не до чувств, думала я, не до девчонок. Да, но все-таки я ему нравлюсь, это же видно. Зачем бы он так торопился откровенничать со мною? Во время наших встреч я только слушаю, а он, говорит и говорит. И чем больше говорит, тем страшнее мне открыть рот, я не могу сказать ничего интересного. У него же — что ни фраза, что ни суждение, то непременно нечто оригинальное, неожиданное. Я впервые встретила человека (разве что после бабки), который бы так по-своему судил обо всем на свете, даже с историком вечно спорил. Вообще же главная его идея была: учиться надоело, и слава богу, что кончается школьное безделье: мол, в гражданскую и Отечественную войны люди в шестнадцать-семнадцать лет делали великие: дела, а мы, «здоровые лбы», как он говорил, только валяем дурака и протираем штаны на партах. «Работать надо, работать», — повторяя он без конца.
Я никогда в жизни ни о чем подобном не думала: получала свои аккуратные четверки и пятерки; и так же, как мне не приходило в голову сомневаться в том, что дважды два — четыре, так и в том, что Онегин бездельник, «лишний», а потому нехороший человек, или что у нас все прекрасно. Что касается стихов, я их просто никогда не знала. Ну, Пушкин, конечно, Лермонтов. Когда же читала Маяковского, то совершенно ничего не понимала, и из-за этого терпеть его не могла. Я любила Симонова и еще Надсона, которого всегда читала бабка. Словом, я думала, что я глупая и обыкновенная девушка и ему не пара.
Помню впечатление от того сна, который я даже не запомнила.
Впечатление непреодолимости чего-то не покидало меня долго, мне было грустно — это заметила Лорка, и бабка заметила, только он не замечал. Его жизнь и моя шли пока по-прежнему самостоятельно; словно два круга, вычерченных на одном листе бумаги, они лишь слегка коснулись друг друга, или словно две параллельных линии, которые должны когда-то соединиться в некой воображаемой точке, но пока существуют раздельно. Какая у него жизнь, кто он, я не знала, но чувствовала: это жизнь совсем иная, нежели моя.
Но что бы я ни думала, все равно хотелось одного: видеть, говорить с ним, и постепенно все другие, прежде важные события дня — школа, уроки, обед, развлечения — отошли на второй план, а главным стало ожидание: когда?
Однажды он встретил меня после уроков, мы сидели в школьном сквере, потом он проводил меня домой, и я предложила зайти к нам. «А ничего?» — спросил он. «Ну что за глупости!» — сказала я. Я хотела, чтобы бабка увидела его, — как он ей? Но и страшно было.
Дома меня ждал обед, бабка, услышав незнакомый голос, извлекла себя из старого кресла, вышла в прихожую, я их познакомила. Бабка оглядела его с головы до ног, и я невольно глядела ее глазами и увидела, может быть, впервые, старенькую ковбойку с закатанными рукавами, мятые, обтертые внизу и залатанные сзади брюки, заросший, давно не стриженный затылок, тяжелые, грубые башмаки, в которых, наверное, уже жарко ходить.
Я тут же сказала, что бабка может отдыхать, мы ее не потревожим. Но бабка не послушалась. «Вы, наверное, есть хотите?» — спросила совсем по-свойски, как спрашивала обычно приятелей Ольги, моей старшей сестры. Он тут же отозвался: «Ага, — сказал, — возраст, что ли, такой, все время жрать хочется…» — «Ага, «жрать»… Кель выражанс, молодой человек? — Бабка царственным жестом распахнула дверь в ванную. — Мойте руки, сейчас накормим чем-нибудь». Он улыбнулся, посмотрел на меня: мол, ничего у тебя бабка, занятная. Но я уже насторожилась, потому что не любила эту бабкину манеру встречать людей по одежке, ставить на место, как она это называла. И неприятно, что я сама оглядела его бабкиными глазами, и, хочешь не хочешь, меня уколол его вид.
Но мало этого: бабка пригласила нас не в кухню, где я всегда обедала после школы, а в столовую, к большому овальному столу. Полстола уже покрывала толстая накрахмаленная скатерть, стояли два прибора. Комната выходила на несолнечную сторону, всегда казалась торжественной и мрачной — старая мебель, люстра, ковры, мое вишневого цвета пианино с настоящими свечами в подсвечниках. Он сказал тихо: «Как у вас красиво! Я такого не видел».
Бабка обедала, вернее, сидела вместе с нами, домработница Валя бегала из кухни в комнату, меняла и без того чистые тарелки. Каждая вилочка, каждый тоненько нарезанный ломтик хлеба как бы говорили ему: смотри, смотри, понимай, куда попал. Он ел медленно, осторожно, поглядывая на меня, изо всех сил старался держаться свободно, но не мог. Бабка поставила локти на стол, подперлась, смотрела в упор и бесцеремонно расспрашивала — о том, о чем я никогда не решалась спросить; об отце, о матери, о том, что он собирается делать после школы. Я и не хотела смотреть, но исподволь, вместе с бабкой смотрела, как он ест, как держит нож и вилку. Он отвечал бабке спокойно, легкими фразами, без всяких «вот», «того», «понимаете», но чувствовалось, как напряжен и замкнут. Лоб у него заблестел от пота, и он достал скомканный, нечистый платок и, держа его в кулаке, вытер лоб.
Об отце сказал, что отец сидит в тюрьме — уже год. Он и еще несколько человек были признаны виновными за аварию на строительстве. Мать работает на почте, хотя раньше была на другой работе. Отметки хорошие, но учиться хватит, надоело. Разве что заочно. Хочется поехать на строительство, на Волгу или Ангару, или пойти матросом на корабль.
С каждым ответом бабка все больше качала головой и так посматривала на меня, что хотелось вскочить, закричать. Потом сказала: «Ну что ж, по крайней мере, в отличие от других вы хоть знаете, чего хотите». И опять выразительно поглядела на меня, потому что я тогда еще не решила, в какой институт подавать: в медицинский, геологоразведочный или, может быть, в иняз. Я сказала: «Другие хотят, чтобы их оставили в покое».
Я чувствовала себя виноватой, что зазвала его, позволила бабке устроить экзамен человеку, впервые переступившему порог дома. И я со злобой говорила ей потом, что это мещанство, она всю жизнь учит нас интеллигентности, а сама поступает как черт знает кто.
Бабка похохатывала: «О, мать моя, как ты распалилась! Уж не влюбилась ли, а? — Потом сказала: — Ну что же, юноша забавный, забавный, это уже новенькие какие-то пошли. Не хам (она вечно всех делила на хамов и не хамов), неглуп. Ничего, ничего. Но только ты ему не пара». Я снова взвилась: «Чушь! Пара, не пара! При чем тут это? Уже в дом никому нельзя прийти, сразу: пара, не пара! И почему это он мне не пара, интересно! Что я, принцесса?» Бабка усмехнулась: «Ну, во-первых, действительно, не принцесса, до принцессы тебе далеко; а во-вторых, я сказала: не он тебе не пара, а ты ему не пара. Да-да, не усмехайся, ты еще вспомнишь эти слова». С ума сошла, еще новости, я ему не пара! А кто ему пара?..
Он, как ни странно, не обиделся, сказал потом о бабке так: «Да, ничего себе. Но, по крайней мере, стоящий противник». Однако я поняла: к нам в дом он вряд ли будет приходить с открытой душой. А мне так хотелось, чтобы он всем им понравился, чтобы они поняли его и полюбили.
Как-то мы отправились гулять вечером. Москва была нарядная, чистая, воскресная. Он зашел за мной домой, я уже ждала его, встретила в прихожей, хотела сразу уйти, но вышла мама, потом отец, пришлось познакомить его с ними тоже. Мама равнодушно скользнула глазами, протянула расслабленную руку, как она протягивала ее знакомым мужчинам для поцелуя, а отец вдруг громко икнул, оглянулся испуганно на маму, и ему уже стало не до нас. «Деточка-а! — протяжно сказала мама вслед. — Не позже одиннадцати!»
На нем была темно-зеленая курточка, из которой он вырос, но которая очень ему шла, белая рубашка без галстука, тяжелые ботинки начищены. На Таганке, у метро, он купил у цыганки два тюльпана — это были первые в жизни цветы, которые подарил мне юноша. Мы спустились на набережную, пошли по направлению к центру, к Кремлю, под мосты; на теплом каменном парапете сидели девушки, болтая ногами, а возле них стояли парни; и мелькали лица, лица, и песни слышались, и обрывки слов, и нас, медленно идущих рядом, в полуметре друг от друга, провожали глазами, и все глядели на мои тюльпаны и, казалось, понимали, откуда они у меня. Он смешно рассказывал, как они с мальчишками отмечали вчера Первое мая. Я смеялась, а потом спросила, почему они собираются без девчонок. «Как без девчонок? — спросил он. — Были девчонки». Он рассмеялся, а мне захотелось бросить его тюльпаны в реку. «Из семнадцатой школы?» — спросила я, вспомнив Синицыну. «Почему из семнадцатой? — Он удивился. — Из семьдесят третьей». Потом я узнала, что никакой Синицыной у него и не было.
У меня всю жизнь плоскостопие, я никогда не могла долго ходить — уставали ноги. Но с этого вечера я забыла о плоскостопии, о том, что туфли на каблуках: мы могли за несколько часов пройти от Таганки до Сокольников и обратно или до Пироговки, до Ново-Девичьего. Однажды сели на трамвай, а у него не оказалось ни копеечки. И у меня не было с собой кошелька. С тех пор я стала брать с собой деньги, и мы могли ходить в парки, брать билеты в кино. «Ты прости меня, — сказал он как-то, — у меня совсем не бывает денег, очень редко». — «Ерунда, — сказала я, — у меня-то есть». — «Ерунда, конечно», — согласился он, но все-таки ему было неловко, я видела и старалась не звать его в кино или кататься на речном трамвайчике.
Мы гуляли и гуляли, хотя до экзаменов оставались пустяки, шли контрольные, все зубрили билеты и дрожали, как водится. Бабка, которая никогда не понуждала меня к занятиям, полагалась на мою аккуратность, ворчала, что добром это не кончится, я провалюсь. «Глупости!» — отвечала я и убегала.
Мы привыкали друг к другу все больше, и круги наших жизней постепенно находили один на другой. И, конечно, я ему нравилась. Зачем бы он стал гулять со мной, оставлять ради меня своих товарищей, все мне рассказывать? Но он не любил меня, вот в чем дело, не полюбил еще, я все делала сама. Это я открывала ему себя, это он был нужен мне. Но я думала, что и его час придет, надо лишь подождать немного, еще подождать. Но как было ждать, если я уже не могла без него? Как ждать, когда всякая встречная девчонка на улице — так мне казалось — обламывает об него глаза, и он может точно так же увлечься еще кем-то, как увлекся мною.
Только однажды я увидела в его взгляде ту нежность, которую хотелось мне увидеть. Мы сидели как-то днем в маленьком, облюбованном нами скверике на берегу Яузы, неподалеку от моста, по которому шумно шли трамваи и машины. Вокруг каменно громоздился город, поднимались мачты радиостанции, по набережной тоже грохотали грузовики. Сквер разбили совсем недавно, насадили кусты тальника и тоненькие липы, он насквозь просматривался. Было жарко и пусто, мы сидели на длинной скамейке, повторяли билеты по геометрии. Он курил сигареты из маленькой красной пачечки. Я сказала, что мне хочется пить или мороженого. Он быстро поднялся. «Посиди, сейчас принесу». — «Не нужно, не нужно», — пыталась его остановить, хотя приятно было, что он пойдет для меня куда-то за мороженым. А бежать надо было либо к Землянке, либо к Курскому вокзалу. И он побежал. Миновав сквер, поднялся на мост, помахал оттуда рукой, побежал дальше. В своих тяжелых ботинках, все в одной и той же ковбоечке с закатанными рукавами, — побежал, пропал среди улицы. Обыкновенный мальчишка, таких много. Длинный, худой. И никто не знает, что значит для меня этот человек. Мне было так хорошо в эту минуту, я никогда в жизни не испытывала ничего подобного, хотелось сразу смеяться и плакать. И я думала: пусть он придет сейчас, пусть вернется, я обниму его, прижму к себе его голову. Так хочется.
Прошло минут семь-восемь, я не отрывала взгляда от моста и увидела: он с белой пачкой мороженого в руке первым выскакивает из троллейбуса, мчится вниз, ко мне. И когда подбежал, сел, не мог перевести дыхания. Потом спросил: «Ты… что так смотришь?» А я чувствовала, что вот-вот заплачу от нежности, опустила глаза, занялась мороженым. Он дотронулся. «Ты что?» Я взглянула на секунду и тут увидела, как ласково, как прекрасно он на меня смотрит.
А еще раз, тоже днем, мы спешили в кино, и тут хлынул ливень, да такой, какие только весной бывают, в мае, один из первых. Ждать нельзя, там ребята. Шпигель и Ильин, с которыми я познакомилась теперь уже по-настоящему, дождь гремит, как водопад, машины летят на водяных прозрачных крыльях, водосточные трубы сотрясаются и ревут. Мы смотрим на это светопреставление из подъезда, а потом я снимаю туфли, он хватает меня за руку, и мы выскакиваем под дождь и бежим. Он чуть впереди, тянет меня, я кричу, захлебываюсь, смеюсь, он тоже. На нас смотрят из всех подъездов, окон, магазинов. Мы промокаем в одну минуту, в полминуты; через улицу, через поток, по колено в воде. И снова бегом, и он тянет вперед и вперед, я спотыкаюсь, чуть не падаю, он подхватил, обнял, удержал — мокрую, с прилипшими к щекам волосами. И так мы врываемся в кино, я ступаю босиком на кафельный пол, с нас течет, вид у меня самый неприличный: платье облепило, в руках туфли, голова будто из-под душа. Видела бы бабка! Но он опять глядит на меня с нежностью, весело и трогательно. Мне же хочется еще и еще бежать, и еще споткнуться, чтобы он подхватил, удержал и я бы на секунду приникла к нему.
Потом были долгие, невероятно долгие, слившиеся в один день, дни экзаменов. Я занималась одна, меня никуда не пускали, в одиннадцать я аккуратно ложилась спать: я шла на медаль. Несколько дней подряд приходил Сибиряков (о нем позже), занимался со мною английским. А к двум последним экзаменам я готовилась уже на даче. Они занимались своей четверкой, потом к ним вдруг присоединилась Лорка. Они бегали по городу узнавать темы, писали шпаргалки, сидели в читальнях. Звонили мне по телефону. «Я буду за тебя кулаки держать». — «А ты ругай, ругай меня завтра посильней часов в двенадцать». Он издевался, говорил, — это позорно так дрожать из-за отметок. «Все равно ведь сдадим, а медали получать, по-моему, по́шло». Но сам получал пятерку за пятеркой, он решил подавать в Куйбышевский, в строительный.
Потом у него заболела мама, мы опять не могли встречаться. А я сидела на даче, устала, у меня начались головные боли и шла носом кровь. Приезжала Лорка, тараторила, рассказывала, что все собираются ко мне, но никто не приезжал. А потом и Лорка исчезла. Я приехала как-то в город, звонила по всем телефонам, никого не нашла. Он меня забыл, он меня оставил.
Бабка следила за мной и повторяла, как она повторяла то же самое когда-то сестре Оле: «Ты, мать, не куксись, ты читай, читай. У вас ведь, мои милые, талантов никаких не наблюдается, все терпением надо брать, образованием, вот этим самым местом. Читай, читай». А я все время хотела написать и даже пыталась короткое, простое письмо: «Пожалуйста, приезжай, мне нужно с тобой поговорить. Я больше не могу не видеть тебя». Смешно. Письмо Татьяны к Онегину. «Никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает…»
Господи, как я помню эти летние дни, это девическое одиночество, это ожидание на даче!.. Кончена школа, впереди институт, прекрасное лето, — что еще надо, живи да радуйся. Но тоска такая, что, куда идти, кем быть, уже не имеет значения. Какая разница, разве я принадлежу себе? Разве сама могу решать свою судьбу?.. Но ведь он ушел, говорила я себе, он меня оставил. Нет, этого не может быть, недоразумение. Все-таки следует написать. Хотя бы так: «Что с вами? Здоровы ли вы? Бабушка и то о вас спрашивает…» Бабка действительно спрашивала, — правда, как! — «Этот сын каторжника, кажется, исчез с нашего горизонта?»
Я жалела, что в первое время так много рассказывала о нем: что у него не бывает на трамвай, что он ездит куда-то на 43-й километр копать огород и сажать картошку. Когда он звонил, то обычно не здоровался с тем, кто брал трубку, — просил сразу меня. И по этому поводу бабка не раз говорила, что твой, мол, Ромео все-таки хам, как, впрочем, вся нынешняя молодежь хамы. Я злилась и отвечала, что он мне нравится и мне все равно, есть у него заплатки на штанах или нет. «Да ты ему не нужна, — не унималась бабка, — он наверняка уже имел дело с потаскушками, знаю я таких, мне довольно было поглядеть на него один раз». (Где она видела этих потаскушек?)
Зачем она так упорно старалась настроить меня против него? Может быть, уже тогда лучше меня понимала, что все слишком серьезно? Она ведь умная, хитрая, видит все насквозь. Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется. Но и на самом деле задумаешься: нужна ли я ему? Была бы нужна, не пропадал бы. А может, ему действительно нужно другое от девушки? Разговоры разговорами, но ведь делиться своими мыслями можно и с друзьями. Разве молодые мужчины, и даже женихи, не ходят к другим женщинам? А «Жизнь» Мопассана? Мы влюбляемся, идеализируем человека, думаем, что он такой, каким кажется или каким мы хотим его видеть, а на самом деле он ведет другую жизнь, и сам совершенно другой. Как узнать истину, как понять?.. А если бы, думала я, он захотел от меня э т о г о? Даже страшно представить. Хотя почему же страшно? Разве мне самой не хочется, чтобы он меня целовал, прикасался ко мне? Разве не снилось, как он несет меня куда-то на руках, опускает на траву, разве?.. Нет, не нужно, об этом не нужно. Страшно. Об этом нельзя.
Вот так я жила тогда, думала, тосковала, лежала, сидела в бабкином кресле у окна, читала, ничего не понимая и устав от всего. Так я жила, пока однажды не вбежала вдруг Валя в сарафане, с недочищенной картошкой в одной руке и ножом в другой, с дурацкой, радостной улыбкой: «Аль! Там тебя!» — и показала рукой с ножом на улицу.
В самом деле, во дворе, у стола юноша в ковбойке с закатанными рукавами говорил с бабкой, которая варила варенье, а на стуле сидел улыбающийся Левушка. Я смотрела, прижимала к груди книгу, комок стоял в горле, я была счастлива».
«…Весна, экзамены, мы встречаемся каждое утро. Мой друг Мишка звонит о чем-нибудь напомнить, а меня уже нет. Один раз пришли, а льет такой дождь, ну, стеной. Она, конечно, с зонтиком, туфли на микропорке, аккуратистка, а я мокрый до нитки, прыгаю, под зонтик вставать не хочу, не люблю. Не заметили, что мы уже на открытом месте, у школы. Там все к окнам прилипли, весь ее класс таращится, с четвертого этажа. Потом ее Лорка, подруга, сострила: «Вас, смотрю, уже водой не разольешь…» Кстати, эта Лорка мне нравилась, мы один раз вышли вместе из читальни и проговорили часа три. Но вечером, когда я прибежал к Алине на свидание с букетиком, она — раз! — без слов, букетик в урну — и от меня. «Что? Почему? Объясните?» — «Что вы ко мне пришли? Идите к Лоре». Вот так. Но мы не целовались, ничего такого, удивляюсь, какие мы были и называли вот так друг друга на «вы», смешно.
А там лето, дача, Никольское, я на дачу стал к ним ездить, познакомился с бабкой, и звери у них замечательные были: кошка Мышка и собака Кошка, это бабка их так назвала, бабка у нее была уникум, «осколок империи» — сама себя так называла, теперь таких уже нет.
Так и вижу: электричка, на которой я мотаюсь каждый день с Курского в Никольское, белая церковь справа от станции, кладбище, пруд, лес, а слева — дачи, поселок и молоденький лес, лесопосадка, березки ниже человеческого роста, так и называется: Вшивый лес. Теперь там уже город, Москва, метро, а тогда — только эта церковь да поселок.
У них был пижонский, всем на удивление, участок, по бабкиной тоже прихоти: зеленая трава, несколько старых сосен, две рядом, можно гамак натянуть, — и в глубине, за кустами сирени и жасмина, обширный дом, крашенная в зеленое крыша. Ни огорода, ни грядок, ни картошки — этакая английская лужайка. Молодой мужик-сосед приходил косить для своей коровы, тут же сено сохло, стояли все лето два стога, за это им носили молоко. Можно было вольно бегать, валяться, играть в старинную игру «серсо» — набрасывать кольца на деревянные шпаги. Заборчик стоял тоже редкостный по нашим нравам: низкий, сквозной штакетник — с участка видно улицу, а с улицы — участок и дом вдали. Июнь, жара, скучно, тургеневская девушка в льняном платье сидит под отцветшей сиренью в старом плетеном кресле, читает «Войну и мир». Хоть и отличница, у нее медаль, но, говорят, поступить в университет трудно, и именно медалистов гоняют на собеседовании, даже хуже, чем на экзаменах. А у девушки с литературой отношения прохладные, она собирается на физмат. А в Толстом вообще ничего не понимает. А сейчас не понимает тем более.
Домработница Валя домывает в доме полы, уже моет крыльцо, ступени мокро блестят, и тут же, в секунду, сохнут на глазах, дымясь от горячего солнца. Плетеные стулья и кресла вынесены с террасы и кособоко стоят в траве у крыльца. На одном спит серая кошка Мышка, под другим дышит, высунула длинный язык такса Кошка в наборном серебряном ошейнике. Бабка возле врытого в землю одноногого стола, на нем лукошко, тарелки, кастрюли. Бабка сидит к столу боком, перед нею крепкая крашеная скамейка, на скамейке старый-престарый керогаз, на керогазе таз с деревянной ручкой, а в тазу вскипает клубничное варенье. Сказка! Где это все?.. Гудят пчелы, по участку несет клубничным горячим духом, с маху садятся куда ни попадя одурелые от ароматов мухи, вьются на солнышке капустницы, тилиликают синички. Девушка читает вполглаза, но все отвлекает ее: и варка варенья, и игры бабочек, и зудение пчел, и дыхание собаки. Она в тоске поглядывает на улицу: когда там покажусь я? Вон мальчишки виляют на велосипедах, перекликаются звонко, вон пропрыгал по колдобинам грузовик, пугая кур и подняв пыль, которая светится золотым облаком в тени старых берез.
Бабка говорит сама с собою, но речь ее обращена сразу и к варенью, и к керогазу, и к внучке, и к Вале, моющей крыльцо, и к Пьеру Безухову, которого в отличие от Алины она воспринимает всю жизнь л и ч н о: он раздражает ее своею мягкотелостью, идеализмом, прекраснодушием; она бы на месте Наташи Ростовой сроду не вышла за эдакого рохлю. И это, по ее мнению, разумеется, натяжка, выдумка самого Толстого, что он Наташу выдал за Пьера, а сама бы она за него не пошла. У бабки в крови еще живы споры о Льве Николаевиче Толстом, как о с о в р е м е н н о м писателе, в детстве она слышала, взрослые говорили: «Нет, вы читали? Вы дочитали четвертую часть? Что-то наш граф того-с, а?..»
На бабке старые очки с овальными исцарапанными стеклами, с мягкими суставчатыми дужками, — как раз такие носили во времена Толстого и Чехова. Она поправляет очки, подносит близко к глазам руку и капает другой рукой из ложки каплю варенья на ноготь большого пальца. Ногти у нее загнутые, бледно-желтые, мощные, как у старой птицы. Капля растекается по ногтю — варенье еще не готово.
Бабка собирает розово-белую пену, сбрасывает ее в тарелку, где уже гора такой пены, а дно малиново от сиропа, — пчелы и мухи недовольно гудят, а бабка, сделав дело, оседает назад, откидывается и размякает в кресле. Она трудно дышит и продолжает говорить едко и недовольно.
Я вспоминаю: она всегда сидела. Или возлежала. В кресле, в постели, в качалке. Ноги служили ей лишь затем, чтобы передвинуться от одного сиденья до другого. «Когда Черчилля, — любила она повторять, — спросили, как он дожил до таких лет, он отвечал: я никогда не стоял, когда можно было сидеть, и не сидел, когда можно было лежать. Просю пардону, я ля-гу». И она укладывалась. Когда ходила, вставала, делалась совершенно похожа на грушу в своих распущенных одеждах, тем более что из седого пучка на затылке, из-под старого черепахового гребня, всегда торчала седая косица, точно хвостик груши. Она ступала по дому тяжелыми, больными ногами, и все множество старой посуды в огромном, черного дерева буфете, и все стекляшки на люстрах и жардиньерки ходили ходуном и дрожали, будто боясь строгой бабкиной поступи.
Где бы бабка ни сидела, своею осанкой, манерой тотчас превращала это место в господствующее, в трон, и обрастала скамейками под ноги, подушками и подушечками, кошельками на тесемках, вышитыми бисером, книжками с кожаными закладками, каплями и пипетками, картами, бумажками от конфет — конфеты ела тайком, оставшись одна. Она всегда читала или раскладывала пасьянс. Повсюду за собою носила еще старую кожаную сумку, ридикюль, с двумя блестящими, друг за друга заходящими шариками — замочком, и, разумеется, постоянно ее забывала и искала — я сам не раз приносил ей сумку. А в сумке, по словам Алины, хранились главные бабкины ценности: сберкнижка, Библия, обручальные кольца и пачка старых писем, которые писал ей в молодости известный поэт, — Алина не могла сказать, кто именно: ее литература не интересовала.
Я вырос в ином, советском мире детсадов и пионерлагерей и к семнадцати годам еще не видывал в жизни ни пасьянсов, ни сберкнижек, ни Библии, ни обручальных колец. Стихи я тоже, честно говоря, не любил: не понимал, зачем это говорят стихами, когда и так можно сказать?
Кстати, позже, уже после ее смерти, спохватились, стали разыскивать письма, какой-то музей запросил, но их за ненадобностью уже выбросили или затеряли. Родных и близких интересовали кольца и сберкнижка.
Бабка притягивала меня. Живое лицо неизвестной мне эпохи и даже неизвестной мне страны. Причем это лицо не скрывало своей враждебности ко мне, к м о е й эпохе и м о е й стране. Я чувствовал себя Павкой Корчагиным, перескочившим через забор в дом к богатой девочке Тоне, или Мартином Иденом, попавшим к миллионерам, хотя отец Алины был просто авиационным инженером (пусть и крупным), а мать работала в Учпедгизе, редактировала школьные учебники.
Правду сказать, и к своей дочери, Елене Владимировне, бабка относилась как к существу социально неполноценному, н е ч и с т о м у, а зятя, хоть он и хозяин дома, дачи и работает день и ночь без просвета, называла снисходительно «простолюдином»: «Ну, Сергей Сергеевич-то у нас простолюдин». Простолюдин! Мы и слово-то такое позабыли. «Я тоже простолюдин», — хотелось мне сказать заносчиво и выйти вон, но я пока помалкивал.
Впрочем, как позже выяснилось, бабка и в простолюдины меня не зачисляла, «простолюдин», по ее градации, это уж и не так плохо считалось.
Что меня еще поразило в их доме — это картины. Я вошел впервые — ну, музей! Картины, рисунки, старинные рамы. Они были, вероятно, не так уж хороши, из той категории, что висят по комиссионкам, но я такого прежде тоже не видывал. Бабка тут же дала понять, что это их картины, е е, имея в виду свою фамильную ветвь. «А как я их спасла! — говорила она, кривя рот. — Спасибо, не убили! Им картины подавай, позарез!» Им — это, я так понимал, относилось и ко мне.
Алина, между прочим, она смолоду отличалась общественной активностью и уже состояла в комитете комсомола школы, говорила про бабку прямо тут, при ней: «Ты ее не слушай, она у нас контра». Вроде бы в шутку. И это, тоже позабытое, ушедшее из речи слово еще больше разжигало мой интерес. Тем более что бабка и не возражала и чуть ли не довольна была таким определением.
Бабка сделалась для меня чем-то вроде старинного клада, который я вдруг нашел в своем же огороде. По невежеству я еще не знал его ценности, не имел понятий о найденных сокровищах и даже о названиях для предметов, которые я вижу: как ребенок, я называл нечленораздельными и дикими звуками то, что давным-давно имело энциклопедические описания. Но, по крайней мере, интуиция и любопытство заставили вглядеться в клад, не отшвырнуть его сапогом.
Эта «контра» не шмаляла в меня из маузера и не рубила шашкой на всем скаку, — напротив, она дышала, как рыба на песке, просила воды запить лекарство, и я шел за водой. Мой интерес к бабке походил на тот, который мы, мальчишки, испытывали к пленным немцам. Их водили растаскивать развалины, мостить дороги и класть первые послевоенные стены. Самые заклятые враги, ф р и ц ы, были теперь нисколько не страшными. Более того, имели жалкий, обездоленный вид. Их пыльный, выцветший строй возвращался на закате с работы под конвоем автоматчиков, и жгло любопытство — смотреть и смотреть: что ж за немцы? люди?..
Бабка колоритна была, повадиста, необычна обликом: крупный, замечательной формы носище, крупные, в оборке резких губных морщин, четко прорисованные губы, отвислые тяжелые щеки, огромные уши, — когда она сидела, нахохлясь, над пасьянсом, отвислые мочки с серьгами доставали до ключиц. Потом я узнал, что именно о таких лицах говорят: порода.
Голова ее сделалась уже не седого, стального, а совсем молочного цвета, старческие веснушки и пятна проступали сквозь редкие волосы, а брови, как ни странно, оставались черны и густы, будто усы у кавалериста. Чернота бровей сливалась с застарелой сердечной чернотой глазниц, пугающей, как и ее одышка, и из этой черноты блестели, тоже черные, глаза (или не блестели).
Мне нравилось наблюдать, как она царит за вечерним чаем, властно раздает налитые чашки, хотя дрожит рука, и подаваемая чашка чуть дребезжит на блюдце. Она любила зеркала, подолгу в них глядела («Ну и урод!», «Ну и страх божий!»). И за столом всегда вглядывалась в буфетное зеркало, которое находилось как раз напротив ее хозяйского, постоянного места в торце стола, и подправляла что-то на вороте, на плече женским легким жестом, и капала потом вареньем мимо старинной, с фарфоровым кружевом, розетки.
Садясь иногда на бабкино место, Алина вела себя на удивление похоже: так же поглядывала, так же ноготками взбивала воротничок.
Я изучал бабку, а бабка меня. То есть ей, конечно, изучать было нечего, и так все видно, но все-таки. Повторяю, в н у т р и я уже был серьезен. И не зря моя главная духовная связь в этой семье установилась, может быть, более с бабкой, чем с Алиной.
Я робел, я был чуток, хотел понравиться, был внимателен — и улавливал, должно быть, точно ее душевное состояние. Я бы не смог тогда сформулировать, но чувствовал, мне передавалось — ее смятение перед надвигающимся, ее одиночество, растерянность ее ума перед беспощадным движением природы. Но вместе с тем близость смерти давала ее натуре особую свободу, ей хотелось делать, что хочется, и действовать — пусть только словом и своим влиянием, — поскольку ничего иного она не могла, но все равно оценивать, вмешиваться, властвовать и тем — жить. И даже мое, мальчишки, внимание, а может быть, просто наше присутствие уже согревало бабку. Она не сдавалась.
Помню свой первый обед в их доме, первое мое испытание. Мы забежали на минутку, с улицы, с солнца, торопясь, Алине не терпелось показать меня бабке, хоть вскользь, и вот я очутился в полутьме и прохладе задернутых штор, в тесноте книжных полок в коридоре, перед темнеющей из комнат красивой мебелью, запахами обеда из кухни — и перед старухой в кресле, обложенной подушками и одеялами, с посыпавшимися на пол сальными картами. Пиковая дама!..
Бабка сама уговорила обедать, настояла, усадила, бесцеремонно меня разглядывала. Домработница Валя раздергивала занавески, несла скатерть на стол. Я пытался держаться раскованно, шутил скромно: «Вообще-то, если честно, жрать, конечно, хочется». Алина прыскала: мол, какой я остроумный. Мы пошли с ней мыть руки, гляделись, смеясь, в одно зеркало в ванной, но уже испытание надвигалось, Валя спешила со свежим, хрустящим от чистоты полотенцем, бабка же в столовой, не вставая с кресла, бренчала приборами, расставляла тарелки. «Ого!» — сделала Алина глазами и уже чуть со стороны, оценивающе оглядела мою фигуру в рубашке с коротким рукавом, с давно не стриженной головой, с торчащими руками. Она обеспокоилась за меня и разозлилась на бабку: знала ее манеру испытывать таким образом молодых людей. Но я тоже уловил, в чем дело, изготовился.
Бабка страдала манией чистоты и тоской по хорошему тону. В этом для нее был весь человек. Ей самой, с ее болезнью, полнотой, возрастом все стало трудно: умыться, причесаться, одеться. Ее мытье в ванне превращалось в великое домашнее событие, будоражащее весь дом. Все домработницы, до святого человека Вали, бежали из этого дома в слезах и проклятьях. Но что делать, старуха страдала и болела (тогда еще не знали в обиходе слова «аллергия») от нечистых запахов, несвежих одежд, дурно вымытой посуды. Она видела-то, казалось бы, плохо, но за версту чуяла, где пыль, грязь, гниль. Когда унюхивала, что ее дочь чересчур набрызгалась духами, бурчала: «Дура! От женщины должно пахнуть чистотой». Алина обмолвилась как-то, вспоминая бабку: «Я думаю, она умерла от грязи».
В самом деле, бабка заболела и уже не поправилась как раз в тот период, когда в этом доме — столь прочном — все пошло кувырком. Елена Владимировна в свои пятьдесят с чем-то лет обнародовала вдруг свою связь с одним академиком (у того скончалась жена), подала на развод с Сергеем Сергеевичем; Алина и ее сестра Ольга уже не жили в родном доме; домработница Валя, сломав в гололедицу руку, уехала в деревню, куда она собиралась годами, прижилась там и осталась. Бабка от всех этих передряг заболела тоже, и Елена Владимировна, которой стало не до нее, отправила (спихнула) бабку в больницу. Бабка сроду понятия не имела о больнице, и там ей, конечно, пришлось несладко с ее капризами. Она выпросилась назад, домой, но жизнь ее уже была кончена.
Но что нам говорить о чистоте? Мы росли без ванн и горячей воды (а то и вовсе без воды), носили все одну и ту же одежонку, до полного ее износа, мылом мылись хозяйственным, в ботинках вечно хлюпала грязь. «Надо долго хорошо жить, — писал Герцен, — чтобы привыкнуть к чистому белью». А мы долго жили плохо.
Ну вот, сядем в своей затрапезной одежонке за хрустящую скатерть и придвинемся вместе с краснодеревым сиденьем, которое и стулом-то не назовешь, к пугающему овалу стола. Золотом и синью бьют в глаза тарелки с ровно-волнистым краем, фамильные салфетки с бахромой стоят, как треуголки, как присевшие на песок белые птицы, а обыкновенные ложки для супа тяжелы, как пестик от ступки, и глубоки, словно тигли. Это после столовского-то алюминия, вечно жирного на ощупь и перекрученного в середке в спираль чьей-то забавляющейся рукой.
За таким обедом, как ни старайся, обязательно что-нибудь прольешь, опрокинешь от смущения, или какая-нибудь дрянь в горле засядет, и, не дай бог, заперхаешь, квакнешь вдруг, чихнешь, как перепуганная собака, — о, господи!
Мне подавали, принимали за моей спиной, я н о р м а л ь н о себя вел, даже разговаривал, расспрашивал о картинах, сам отвечал на вопросы. Алина немного успокоилась, но все равно глядела напряженно с той стороны стола, спешила, — мол, нам идти, — бабку обрывала. Я очень старался. Надо было и не оскандалиться, и держаться не деревяшкою, и самому, между прочим, оглядеться: ведь это ее дом.
Мало того что бабка устраивала мне экзамен на этикет, она еще и выспрашивала: кто я, что, почему у меня фамилия Шувалов? Я граф?.. «Бабушка!» — осаживала ее Алина почти грубо, краснея на глазах. «А что такого-то? — с аристократической вальяжностью отвечала бабка. — Разве я что-нибудь неприличное спрашиваю.? Твой дед, между прочим, был дворянин. У каждого в роду есть кто-нибудь, о ком не любят вспоминать, но ведь есть, что сделаешь!..»
Я улыбался виновато, я в самом деле никогда не слыхивал в своей семье разговоров о родословной. Но скорее шел мой род не от графа, от его крепостных. «Поразительно! — говорила бабка. — Не знать своих родных даже от второго колена! Кончится тем, что вы и родителей знать не будете! Как из инкубатора. Да ведь и есть, есть уже такие, полно!» — «А ведь это в принципе и не важно», — отвечал я весело, на самом деле так и думая в те свои юные лета. Бабка взглянула на меня вытаращенно, потом удивленно на внучку, потом сказала: «В п р ы н ц ы п е - т о оно конешно. Да только от яблоньки-то — яблочко, а от елки-то — шишка».
Нет, я все-таки неплохо вел тот обед, нож держал в правой руке, вилку в левой. И даже спорил. Но на чем-то я должен был споткнуться, куда денешься. Уже дело шло к концу, уже дали нам на десерт по блюдечку первой, свежей черешни, и Алина с облегчением и одобрением глядела на меня, какой я молодец. Но меня что-то пот прошиб — от напряжения, от обильной еды. И тут я машинально вытащил свой платок — не самый чистый на свете, чтобы обтереть бедный мой лоб. Я, правда, уже в кармане зажал платок в кулак, и так и вытащил, и стал возить им, не разжимая кулака, по лбу, — знаете, как вытираются зажатым в руке нечистым платком?.. Мелочь, но бабке ее хватило. Бабка усмехнулась кривовато: мол, вот твой Шувалов! Алина двинула в ответ стулом и фырком — к черту ваши этикеты!..
И еще один урок преподала мне бабка. Ставила меня на место. Это уже в Никольском, когда я стал ездить туда.
Я приехал из города в жаркий день, шел по пыльной дороге. Может быть, в тот самый, когда бабка варила клубнику, — может быть.
Потом мы с Алиной гуляли — нас уже влек низенький Вшивый лес, юные березки не давали тени, земля стаяла голой, в пучках дикой травы. Мы опускались на нее, безудержно целовались, мучительно желая и мучительно боясь иных прикосновений. Как после этого встретиться с бабкой взглядом?
Потом мы ужинали, потом опять гуляли, навещали Левушку, танцевали у него во дворе под радиолу. Потом уже было поздно ехать, и Алина шепталась с бабушкой, чтобы мне остаться ночевать. Родители на неделе на дачу не приезжали.
И я остался в первый раз, и Алина, возбужденная этим событием, бегала и суетилась по даче, пока бабка не прикрикнула на нее и не загнала в постель в одной комнате с собой.
Мне же постелили на террасе белоснежное ложе, поставили в изголовье лампу, стакан молока, положили кипу журналов, уже прочитанных бабкой. Я впервые ночевал в их доме, вблизи девушки, которую любил.
Я робко разделся, опустился на кровать и, о господи, увидел: ноги мои совершенно черные от пыли, и весь я вообще грязен. Это Вшивый лес, его голая земля мстили мне теперь за нашу там возню.
Все уже легли, Валя давно храпела наверху, в мансарде, у бабки с Алиной еще горел свет, стучать к ним и просить воды? У них и без того нет водопровода, и воду Валя носит ведрами с колонки или приезжает водовоз с бочкой. От смущения я попытался кое-как обтереть ноги своими же носками, потом загнул наверх простыни, разрушив красоту постели. Но тоже нелепо: вдруг кто войдет и увидит, что сам я лежу на простынях, а черные ноги выставлены наружу, на полосатый матрас? Я уронил журнал, я чуть не пролил молоко. Я уже не мечтал, как час назад, что, может быть, ночью, когда бабка уснет, Алина вдруг пойдет попить воды — может же такое быть? — и я встану и прегражу ей дорогу. Я проклинал себя, что остался. Я сжался и уснул.
А утром мы с Алиной весело вбежали на террасу после умыванья, когда Валя убирала мою постель, бабка стояла рядом, обнимая журналы, которые она опять несла к себе и намеренно громко говорила Вале: «Конечно, черное, ноги-то небось сроду на ночь не мыл!»
Ну, бабка! А она ведь видела, как я хотел быть чистым и воспитанным, как хотел понравиться именно ей. И она знала, что в семнадцать лет такие слова, сказанные при любимой девушке, убить могут.
Потом, много времени спустя, когда был скандал с бабкой, припомнили мне и эту дачную историю. Я объяснил: «Я просто беспокоить никого не хотел, ведь п р о с т о л ю д и н ы, — я подчеркнул, — как вам известно, застенчивы». — «Ах, какие мы тонкие, — парировала бабка. — Простолюдины! Вам до простолюдинов-то далеко! Вы мещанин, молодой человек, из мещан-с, да! Простолюдин-то по естеству поступит, а мещанское-то понятие какое? Обоср… не стыдно, а спросить, где уборная, стыдно, как же-с!.. Так и запомните!..»
Я запомнил.
Но были и иные уроки, бабка, например, учила одеваться: «Послушайте меня, выберите себе цвет. Какой вам пойдет. Навсегда. Черный, белый, желтый. Носите всегда только черное, или только белое, или только черно-белое, как Монтень. Мужчины должны знать свой цвет. Как и женщины». Я понятия не имел о Монтене, я вообще никогда не думал, что на мне надето и в какой гамме. Но я понял: бабка права. И ей я обязан тем, что ношу белые или черные рубашки, свитера, носки. За это ей спасибо.
Но и слово «хам» я тоже услышал от бабки. «Хам. Хамы». Не в обычном, трамвайном звучании, а тоже в полузабытом, далеком, как «контра» или «простолюдин», нами уже никогда не слышанном. «Хам» в смысле «быдло» и даже в смысле «народ». Бабку томила тоска…»
«…Моя старшая сестра Ольга, дочь от первого маминого брака, как раз в тот апрель уехала с мужем в Иран. За год до этого Оля кончила иняз, вышла за дипломата, за атташе Макарова, — девица она была заводная, все вокруг нее клубилось, и в доме — бабка попустительствовала вовсю — толклось много Ольгиных друзей, однокурсников, кавалеров, как бабка говорила. Бабке очень нравилось в этой кутерьме участвовать.
Ольга уехала, но в дом долго еще продолжали приходить ее приятели, они уже стали теперь приятелями моими и бабкиными, особенно не отлипал Саша Сибиряков и его друг Лёся. Сибиряков-то и учился вместе с Ольгой, я его знала пять лет, теперь он устроился после института во Внешторг, назначения ждал за границу. Уже был элегантный, быстрый, все знал. Бабка черпала у него внешнеполитическую информацию: Сибиряков то ли сам, то ли с чужих слов удивительно умел предсказывать мировые события: кто на выборах победит в Америке, что случится в Австрии или в Колумбии и отчего станет подниматься или падать курс доллара на мировой бирже. «Ох, далеко пошел бы, далеко! — говорила бабка. — Кабы не носик!» У Саши носик действительно подгулял — сам ловкий, неглупый, элегантный, а носик сидит на лице маленький, несолидный, детский, будто Саша вырос, а носик не вырос.
Лёся же, не знаю, почему его звали женским именем, — высокий, сутулый, здоровый, уже полысел тогда, а все: Лёся, Лёся — был всех старше в их компании, некрасив, угрюм, странно груб, насмешлив, самоуверен. Он гений, кричали, физик, химик, без пяти минут доктор наук, лауреат — господи, чему только не веришь в юности!.. Лёся вечно спорил с бабкой, сердил ее, выводил из себя, то из-за науки, а чаще на почве кулинарии: как рыбу фаршировать, как грибы сушить, как п р а в и л ь н о варить гречневую кашу: ровно двенадцать минут. Удивительно, как никто из нас не знал и предположить не мог, что случится потом в жизни с каждым: то лето было рубежом, порогом в нашей судьбе.
Саша и Лёся приезжали на дачу под вечер — с конфетами, с вином, с пирожными. Бабка особенно любила темную «картошку». Саша старался, бабку ублажал. И мы по-старинному, по-мирному пили на террасе чай под шелковым абажуром и вино из зеленых бокалов. Бабке нравилось, она приходила в возбуждение, спорила, въедливый Лёся ее дразнил, Саша меня обхаживал. А я уже ненавидела их приезды, они мешали, мучили тем, что я невольно сравнивала этих искушенных взрослых насмешников в галстуках и пиджаках со своим бедным мальчиком. Я только его хотела видеть, только его! «Что ты их приваживаешь? Все ездят и ездят!» — орала я на бабку. Она отвечала: «Прямо вот ко мне они и ездят!» — «А к кому?» — «Здрасьте!» — «Ко мне?» — «Ты, матушка, совсем ослепла со своим графом!» — «Фу, чушь!» — я плевалась. Но бабку не обманешь, она трясла головой и пророчила: «Плюйся, плюйся, поживем — увидим».
Если честно, то, конечно, история с Сибиряковым началась давно, еще зимой. Хоть и был в голове у меня только мой Петр Великий, но… Саша занимался со мной английским, привозил книги, приглашал в театр. Однажды, в декабре, позвал на свой день рождения. Помню, я одевалась и причесывалась странно тщательно, надела бабкин подарок, медальон на черной бархотке, ощутила через него сразу все балы и наряды. И все равно на этом дне рождения я выглядела девочкой, школьницей, даже не очень прилично. Там сбились совсем-совсем другие люди, иное поколение, разница в шесть-семь лет сильно давала себя знать, они уже взрослые, работают, женаты, говорят о делах, назначениях, окладах. Женщины курят, пьют, мужчины калякают по-английски, пластинки крутятся сплошь французские, американские. Был там и Лёся, мрачно смотрел из угла. Обо мне говорили как о младенце: какая миленькая, и не стеснялись, грозили Сибирякову пальцем; ай, Саша, ай, разбойник! Это было стыдно, а приходилось жеманничать, опускать глазки, подтверждать вроде бы Сашины права на меня.
Он провожал меня, смеялся, пел на улице, шел без шапки и не торопился назад, хотя гости остались без хозяина. Я сообразила: он просто изрядно выпил, я его таким раньше не видела, ему шла свобода, распущенный галстук. Я думала, как быть, если он захочет меня поцеловать?..
И действительно — он стал целовать меня в подъезде, попросил таксиста подождать, — но не робко, не тихим поцелуем в губы, к какому я, так и быть, приготовилась, а крепкими, как печати, поцелуями в плечи, в раскрытую из-под пальто шею, в грудь сквозь платье. Это произошло в полминуты, я вырвалась, побежала, он догнал на лестнице, просил прощения. Потом старался обернуть все в шутку, спрашивал, пойду ли за него замуж, если срочно потребуется жениться, чтобы ехать за границу. Он стал вдруг говорить «ты» — это показалось страшнее его поцелуев, будто я уже ему принадлежала. «Ты умная девочка, — повторял он, — ты особенная, теперь таких нет, ты будешь гениальной амбассадоршей». Я мыла потом шею, губы, глядела на себя в зеркало, искала в лице порок, который позволил Саше так со мной обращаться. Но и прорепетировала все-таки несколько царственных жестов — таких, какими, по моему понятию, должна приветствовать гостей жена посла.
Потом мы с Сашей делали вид, что ничего не произошло, и со временем эпизод затуманился. Только когда Саша начинал вести речь насчет Канады или Австралии, то со значением глядел на меня, мол, ты как?..
Самое поразительное, что меньше чем через год п о с л е Никольского я вышла замуж не за кого иного, как за Сашу Сибирякова. А еще через полгода стала женой Лёси — вот какие зигзаги пошла выписывать жизнь-матушка после Никольского. Это была расплата и наказание за все.
Лёсю на самом деле звали Леонид Францевич Ноль. Сгоряча — мне тогда было все равно, мы расписывались уже после рождения моей девочки, я взяла фамилию мужа. Стала Алиной Ноль. И ненавидела себя за это, ненавижу эту фамилию. Ноль. Ноль без палочки».
«…Бабка говорила: вы не знаете ничего, вы думаете, вы первые и ничего до вас не было…»
Точно, мы так и думали, так чувствовали: не было ничего, мы первые, никто до нас так не любил, не искал, не бежал со страстью и сверхнетерпением: кажется, если день без встречи, сердце лопнет, глаза высохнут, кровь вскипит.
Кроме того, мы думали: никто ничего не видит, не замечает ее вспухших губ после Вшивого леса — она брала лист или веточку в рот, прикрывала губы, не видит наших взглядов, будто намагниченных, нашей игры, прикосновений, глаз, из которых плещет радость. Один час на голой и пыльной земле Вшивого леса, среди дистрофических березок, час поцелуев и объятий научал нас большему, чем все книги и скульптуры мира. От ее платья в крапинку, с белым воротничком рябило в глазах, черненькие кнопки сами собой расщелкивались на планке, запретно белели белоснежные лямки, круглела грудь, неотвратимо, до того, что глаза косят, притягивая меня, — я боялся, я робел, прикасался и отступал, она не запрещала ничего, и — и каждый день мы делали новый шаг вперед, заново проходили уже пройденное, повторяли, как на уроке, и — еще шажок вперед, дальше. Я боялся бабки. Не Елены Владимировны, не своей матери и старшего брата, — никого, но бабки. То есть я боялся и всего, что может из этого выйти, и на чем мы можем быть пойманы, целоваться и притрагиваться — это еще возможно, но все остальное — упаси бог, это незаконно, мораль запрещает нам все, чего бы мы хотели, к чему движемся, к чему рвутся наши тела, губы, руки, рты, к чему несется наша душа. Но бабка была всех страшнее: казалось, она видит нас насквозь. Я всего боялся. Почему?
Я робел, я не знал, как она? Ведь я могу обидеть и оскорбить ее тем, что делаю. Можно ли?.. Она позволяет мне это оттого, что отказать не может, — я думал, самой ей это не нужно. Мой невеликий опыт т а к о г о обращения с девушками (опыт нашей компании, ночевок в дни праздников, дач, выпивонов) — все не годилось теперь: там я был смел, хотел показать, что не хуже других, и никаких чувств там не было и страха. А теперь?.. В изнеможении и одури, сдержавшись, я отпрыгиваю от нее, оставляю лежать на спине с горящим лицом, с распахнутым на груди платьем, сажусь, отвернувшись, прикуриваю дрожащими, не попадающими на коробок спичками сигаретку «Дукат», вижу снова небо с облаками, желтоватые мелкие листья карлиц-берез — бежит по ним ветер, летают стрекозы; человек, идущий среди Вшивого леса, идет, будто через хлебное поле, — березы ему по грудь, и мы сидим внизу, как суслики. Как мне быть? Как мне сметь глядеть на нее?..
Но вот ее рука сама ищет мою — сама. Опять напряжение, закрытые глаза, я снова склоняюсь, касаюсь ее груди — и грудь теперь освобождена, расстегнута и раскрыта, — когда же и как, она ведь и не пошевелилась? Этот жест, молчаливое приглашение потрясают меня, глаза ее так и остаются таинственно закрыты — она ни при чем, все распахнулось случайно. Какое облегчение! Она сама, — значит, можно?..
Можно, и все равно нельзя.
Иногда за нами увязывалась собака, Алина гнала ее, но умная такса проныривала следом, пряталась за кустами, мелькала длинным коричневым телом по канавам и вдруг являлась, выползала на брюхе, когда мы уже сидели, или лежали, обнявшись, на земле. Алина обожала свою собаку, бывало, я ревновал и недоумевал, глядя, как она играет с таксой, целует, хватает на руки, как бревнышко, прижимая к себе, растопыривая ей, поднимая двумя руками длинные уши, весело смеясь и вызывая у таксы недовольство. А здесь, когда собака выползала вдруг из березок с детским изумлением и вопросом: мол, что это вы тут делаете? — Алина на нее шипела и швыряла в Кошку сухими комьями земли. Собаку ошеломляло такое обращение. Лицо Алины, ее ослепленные глаза говорили: она убить готова. Мне бедная собака досаждала, кажется, еще больше, но такие вспышки бешенства? — удивишься!
Мы возвращались, точно пьяные, мы не могли расстаться, я пропускал электричку за электричкой, иной раз до темноты. Или Алина уговаривала меня, и мы снова приходили на дачу. Бабка ворчала, бурчала, оставляла свое насиженное место в кресле или на кровати, чтобы опять самой кормить нас ужином, сидеть с нами, выспрашивать, слепо всматриваться и чуть ли не принюхиваться к Алине: что она, как она? Думаю, бабка понимала (и лучше нас), что остановить лавину нельзя, но взывала к целомудрию и стойкости внучки. Я думал: не знаешь ты, бабка, ее (как знаю ее теперь я), твое представление о ней иное, впрочем, я ошибался: должно быть, бабка знала, да только признаваться в том, что происходит и произойдет, не хотелось. Я не годился в женихи, ну, никак, ни по какой стати, но и разделаться со мной — как? Отнять меня у Алины — как? Каким образом? Она ведь своего не отдаст — бабка это тоже про свою внучку знала. И она добивалась: чтобы мы были «хорошими», чтобы все шло хоть пристойно, прилично. Она молила меня взглядом: не обидь.
Помню, вечер, дождь, мы сидим вдвоем на террасе, после мая, и я читаю вполуслух «Суламифь» Куприна. Я знаю, зачем я это читаю, и Алину «Суламифь» потрясает, щеки ее рдеют, глаза блестят, она никогда прежде не читала такого, смешно говорить теперь и вспоминать, но это было: восемнадцатилетняя девушка, московская студентка как великое откровение воспринимала адаптированную «Песнь Песней».
Бабка вползала: «Ну-ка, что?» Я отвечал. «Ну, — говорила бабка, — я вам и толкую: вы думаете, ничего до вас не было на свете…»
Она послала Алину за ридикюлем, достала оттуда книгу с засаленным переплетом, с торчащими из книги закладками и раскрыла ее на «Песни Песней».
Как ни умна старуха, а как ей понять, что одни и те же слова — для нее одно, для нас другое? Для нее, скажем, слово «лобзать» столь же обыкновенно, как «дом», «хлеб», «трактор», а нас бросает в дрожь от него и от слов: «стан», «живот», не говоря уж о «сосцах» или «чреве». То, что для бабки нормально, нас жжет, как костер. И Алину особенно. Она ведь действительно не знала ничего, только проснулась.
«О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные, под кудрями твоими…»
Лил дождь по стеклам, мне опять было постелено на террасе, бабка выборматывала отдельные фразы, а до моей ноги дотянулась под столом босая нога Алины, я сначала подумал: собака, и заглянул под стол, — нет, собаки не было, она лежала на диване, рядом с кошкой.
«Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему: он пасет между лилиями…»
Бабка пофыркала и захлопнула книгу.
Мы не спали в ту ночь. Дождь шел и шел, бабка улеглась потом в постель с журналами, не гасила лампу. А Алина вставала, внаглую ходила, бегала в ночной рубашке, выдумывала сто причин, я вытягивался со своего ложа и ловил ее в полумраке террасы, хоть маленькое прикосновение, пожатие или поцелуй. За Алиной бегала собака — и она с яростью пихала ее от себя. «Да спи ты, бабушка, гаси свет, ей-богу!» — кричала она на бабку. И как только бабка гасила свет, через секунду Алина оказывалась возле меня.
Бабка тут же включала лампу снова, бормотала: забыла лекарство выпить, очки положить в футляр, — и тут же панически кричала: «Аля!» А Аля уже из кухни или из другой комнаты шипела: «Тише! Я здесь! Что ты шумишь? Я молоко пью».
Вскакивал и я, стоя под дверью, дрожал от волнения, от страха, караулил; один раз Алине удалось проползти в темноте мимо бабкиной постели по полу, но не успели мы вцепиться друг в друга, тут же, на пороге, за притолокой, опять спрыгнула откуда-то собака и пришла следом, стуча когтями и нюхая в темноте. Бабка стала шептать: «Кошка! Кошка!» — и вновь повернула выключатель.
Кошка стояла рядом с нами — мы на корточках, и она, в полной прострации от нашего поведения: у нее было такое выражение, словно она плечами пожимает. Я не выдержал, стал давиться смехом, смехунчик на меня напал. Бабка скрипела, стонала, сползая с кровати, я так, на карачках, и пополз на террасу, а Алина села у притолоки, охватив колени, ожидая бабку, чтобы орать на нее, а собака осталась стоять перед нею, смотрела, как на дуру.
Но грехопадение наше случилось все-таки не тогда, не в те дни, хотя, кажется, дальше так продолжаться не могло. Алина осуществляла свой план — все распределено и рассчитано — неуклонно шла от пункта к пункту.
«31 августа», — сказала она мне однажды. «Что это?» — «Это 31 августа. Мы переедем с дачи, но дачу еще не закроют, — она говорила как о деле решенном, — первого уже в институт (она поступила не в университет, а в педагогический), начнется новая жизнь». — «Ну и что?» — я все еще не понимал. «31 августа, — сказала она опять, — мы приедем с тобой на дачу в д в о е м, никого не будет».
Никого не было и во Вшивом лесу, и в других местах, куда мы скрывались, чтобы терзать друг друга, и где никто не помешал бы нам совершить, наконец, последнее, чего мы еще не сделали, но нет, Алине нужен был ритуал, единство места, действия и времени. Только потом до меня дошло, как она готовилась к этому; ее трехлетнее ожидание, приучившее к феноменальному терпению и уверенности, что все равно будет так, как хочет она, требовало именно не поспешности и случайности, а полного исполнения мечты, близости к идеалу, обряда, пусть тайного, если не суждено нам явного, но обряда. Она сама готовилась и меня заставила настроиться и вздрагивать: 31 августа.
Но отчего же так? Отчего бы нам не сделать все по-писаному? Не жениться? Я бы женился — пожалуйста, я ее любил, она меня тоже. Но в с е г д а ясно было, с самого начала, с моего первого шага через порог этого дома, что н а м соединиться н е л ь з я. Невозможно. Не позволят — и рано, и не пара мы, и где жить, и кто учиться будет, и вообще?!
Алина делала попытки заговорить с матерью, от бабки и вовсе не скрывала своих чувств и намерений, но ее просто не слышали, не понимали, о чем, собственно, речь. А бабка пела новую песню: «Не любит он тебя». Ну что ж. Алина всегда поступала по-своему — тихо, тайно и упорно, так действовала и теперь.
«Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе…»
Чем ближе было 31 августа, тем сильнее страх меня окатывал. Душу обливало холодом, едва я представлял, что это будет. А что будет потом? Об этом речи не было. Алина вела себя, как хирург, готовящийся к операции. Бабки я старался избегать.
Но тут вышло так, что надо было помочь им переезжать с дачи, таскать вещи. Приехала с завода машина с брезентовым верхом, с молодым малым шофером, который то сидел курил, то стоял курил. Я, сосед, косивший сено, Левушка, Алина, но, главное, Валя носили из дому в машину свернутые матрасы, корзинки, стулья, банки с вареньем, шкаф — весь тот скарб и живность, от подушек до собаки с кошкой, который возится обычно на дачу и обратно.
Наконец погрузились, и наступил момент решить задачу: как поднять бабку на подножку грузовика, усадить в кабину? Тут началось! Для нее великое событие — ехать: акт движения, путешествия, встречи с миром, который она, собственно, и видела два раза в году, — на дачу и с дачи; волнение, неудобства, переживания, — один грузовик, грубое олицетворение прогресса, вызывал отвращение и страх, и мордастый шофер, которому нужно почему-то вручить свою жизнь; и вещи, выставленные на общий обзор, на бесстыжее солнце; и одежда, от которой она отвыкла, и то впечатление, которое она производит на окружающих, и самый момент опасности этого вскарабкивания, когда можно упасть и сломать руку или шейку бедра, — все имело значение и било по нервам.
Валя, я и шофер с папироской — втроем мы подсаживали бабку, прежде поставив ее на одну из ее скамеечек. Скамеечка колебалась на неровной земле, бабка истерически командовала, лицо ее пылало, она казалась непомерно тяжела. «Держите! Валентина! Падаю!» Шофер таращился: из-за чего такая паника? Все испытывали неловкость перед ним за бабку. Алина кричала: «Прекрати истерику!» И тут бабкина рука, жесткая, как птичья лапа, впилась в мое плечо. От тяжести и неожиданности я инстинктивно дернулся, убирая плечо (вместо того, чтобы подставить его), бабка стала заваливаться, скамейка под ее ногами подвернулась, если бы не борт грузовика, в который уперлась вовремя Валентина, бабка бы рухнула, а так лишь сверзлась со скамейки. Вышло, что из-за меня. Мы, глядя на бабку, фыркнули со смеху и уже не могли остановиться: я, Левушка, Алина не удержались, дурачье, хмыкали и зажимались от смеха. Валентина не смеялась, и шофер тоже, а мы, отвернувшись, давились и плакали со смеху. «Хамы! — сказала бабка, сама едва не плача. — Хамье! Прочь!»
Это было грубо, слишком жестоко за невинный, в общем-то, смех. Ненависть, с которой произносились бабкины слова, поразила меня. Это была ненависть не только за скамеечку. «Ах, так!» — сказал я про себя, вспыхнув, стыдясь Алины и Левушки. И это «ах, так!» застряло во мне до 31 августа.
31 августа мы встретились у Курского в десять утра и поехали в Никольское. Алина, причесанная, нарядная, в том же любимом мною платье в крапинку, которое навсегда теперь будет связано со Вшивым лесом, держала еще в руке сумку, — это она взяла из дому еду и бутылку «Мускателя». Она распоряжалась, мне оставалось только подчиняться. Я принес ей букет ромашек, нервно острил, пытался глянуть ей в глаза — непроницаемость и молчанье. Несколько остановок до Никольского пронеслись как миг. Мы сошли. Теперь двигалась по поселку не девочка-дачница с белым воротничком и с таксой на поводке, которая провожает молодого человека на перрон в город, а горожанка, приехавшая на дачу, студентка, молодая женщина, у которой во столько-то и там-то свидание с возлюбленным, а в сумке бутылка вина. Мы шли по знакомым улицам-«линиям», как по незнакомым, и сами были сегодня чужими для Никольского.
Дача стояла запертой, вокруг не оставалось признаков обитания — ни таза с бельем, ни гамака, ни ведра с водой, ни плетеного кресла на траве. А день плыл летний, теплый, полный мягкости, отчетливых красок первой осени, — воздух обретал прозрачность, рябь волновала Вшивый лес, он зажелтел по хилости раньше всех и напоминал созревшее поле ржи. Мы прошли мимо, не поглядев, без благодарности и без памяти, этот урок был уже усвоен нами, и мы ждали и жаждали нового.
Окна дачи закрывали изнутри ставни, свет шел сквозь щели, как в сарае, мы вошли, и я не узнал террасы, куда убрали на зиму садовую зеленую скамью со спинкой, не узнал пустых комнат. Пахло, однако, летом, теплом, яблоками, было чисто, странно, таинственно, и мы, сев сразу, — ближе всего была зеленая скамья, принялись молча, страстно целоваться, попадая руками на руки, моими на ее. Вот так же случился наш первый поцелуй — далекой-предалекой весной, тоже на скамье, только в сквере. Я прибежал к ним на выпускной вечер, увел ее оттуда в ночной мокрый сквер, ее, помню, колотила дрожь, она слова не могла выговорить. Скамейка стояла мокрая после дождя, а из кустов среди ночи вылез белый котенок, жалко мяукал. И тоже дрожал, мы согревали его своими ладонями и так стали попадать рукой на руку, рукой об руку — робко-преробко. Это случилось, кажется, сто лет назад.
Мы говорили и не понимали слов, я иронизировал, смеялся над нею, — зачем она режет сыр, колбасу? — она привезла с собой даже пробочник, и я откупоривал и разливал теплый «мускатель», — «пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды, его».
Мы пригубили вино, мы не могли есть или пить, мы боялись своих прикосновений, я продолжал шутить, упомянул вдруг бабку, и бабка возникла передо мной, бедная старуха, которую мы (я) обманывали сейчас минута за минутой, — я видел ее измученное бдительностью и бессилием лицо, слепые глаза, то, как она принюхивается к внучке, к ее волосам, в которых стоит то запах табака, то дождя, то пыльной земли, а теперь еще не хватает, чтобы пахло вином и постелью. Бедная бабка! «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете».
Но и мелко-мстительное «ах, так!» тоже не остыло во мне — наступал момент м о е г о торжества над бабкой, над их домом и укладом, над ее высокомерием, над этими дипломатами и физиками в галстуках, которые, приезжая, просто не замечали меня.
Мы оказались именно на бабкиной кровати, высокой и широкой, — я было заартачился, мне бы больше подошло какое-то иное место, — но Алина вела дело так, как хотела, выполняла программу пункт за пунктом, голова шла кругом, и она уже не выпускала меня, раздетая, под одною простыней, в полосах тени и света, и в моментальных, секундных, позволяемых себе взглядах вращалось и мелькало передо мной т е л о — локти, колени, живот — «ворох пшеницы, обставленный лилиями», и два сосца, как два козленка, в самом деле.
От неумения и волнения все происходило до стыдного быстро, кратко, ее стиснутые зубы поразили меня. И вот тут, в самый важный миг, — батюшки! — заскребло, зашаркало на крыльце, стукнулось что-то, и, панически пугая нас, яро залилась собака.
Это не могла быть Кошка и не мог прийти с собакой никто из семьи Алины, но нам, конечно, тут же примерещилась Кошка, и бабка, и Елена Владимировна в кожаном пальто и кожаной шляпке кастрюлькой, как я видел ее весною, — я вмиг слетел и схватился за брюки. Но Алина остановила меня резким и почти брезгливым по поводу моего страха жестом. Ничего хорошего не обещала ее походка тому, кто нам помешал, — медленно, в простыне, прошла она на террасу к дверям. Собака заливалась, это лаяла не Кошка, которая вообще редко лаяла. И кой черт принес, откуда эту чужую собаку?
Алина поглядела в щель, убедилась, что там нет никого. Собака, пока она глядела, так же внезапно убежала, как и появилась, — я тоже увидел в щель из комнаты эту черно-белую лядащую дворнягу, — она потрусила вдоль штакетника. Я усмехался, пожимал плечами, тряс брюками перед собою, не зная, что делать. Алиса вернулась, не глядя на меня, взяла на ходу со стола кусок сыра, плюхнулась на спину и стала жевать сыр, глядя в потолок.
Глаза ее были темны и незнакомы, то, что она жует, казалось верхом кощунства и презрения ко мне, я так и остался в стороне, переваривая свой страх и теперь стыд своего страха. Но поверх мелочей и неудобств поднималось в душе ликующее и веселое чувство победы — осуществления, — может быть, счастья.
— Видела бы меня сейчас бабка, — сказала Алина, усмехаясь криво. Она тоже думала о бабке».
«…Не думала я ни о бабке, ни о мамке, ни о ком и ни о чем, все это глупости и сентиментальная чушь — все изменилось в моей жизни и стало иным. И я поняла: я всегда думала о себе и хотела вырваться и жить, как мне хочется, и это началось рано, лет, может быть, с двенадцати-тринадцати, всегда, как только они стали помыкать мною. Отсюда моя ранняя самостоятельность, и одиночество, и жажда самоутверждения. И думала я в последний год только о том, как бы скорее все узнать, испытать, проверить — так ли, как говорят, пишут и показывают, — я никогда не верила, что из-за э т о г о можно страдать, умирать, убивать, — ерунда. Я думала, к а к все сделать, а не ч т о, — как лучше, удобнее, быстрее, проще, как, извините, не попасться ни в прямом, ни в переносном смысле, и не тянуть, и не размазывать всякие лишние переживания. Я их теперь не боялась — ни мать, ни бабку, ни Ольгу, — пошли они к черту, они мне надоели. А он рот разинул, стоял перед той же бабкой, слушал ее сентенции — я ненавидела эту его манеру покорности перед ними, приниженности, будто они королевы, а он нищий. То есть так примерно и было, но он-то, думала я, лучше их и выше в сто раз, он знает им цену, бабке и матери, — как я мечтала уйти из этого дома, я всегда подозревала, что они обдуривают отца, мать ему изменяет, им пользуется, все тянет, и его же еще презирают и унижают. «Простолюдин», видишь ли. Я не бабкина внучка — никогда ею не была, и не мамина дочка, вот в чем дело, — и если они научили меня чистоте, скупердяйству и порядку, это еще ничего не значит, я всегда была дочерью своего отца и внучкой бабы Нюры из Горького. О бабе Нюре у нас и говорить-то считалось зазорным: у бабы Нюры семеро детей (это одно уже вроде неприлично) да огород с картошкой — я, дура, лет до двадцати бабы Нюры тоже стыдилась и фыркала: деревня, мол, село. Только когда мать ушла, отца бросила, и бабка умерла, я до конца поняла, кто я, а то они путали меня всю жизнь, с панталыку сбили — вся эта музыка, музыкальная школа, стихи, Пушкин, «Алина, сжальтесь надо мною…» — я, кстати, всегда знала, что имя у меня тоже вычурное, не мое, Алина — какая, к черту, Алина со своими скулами, широкой костью, с круглым носом и короткими ногами, — точно как у бабы Нюры, мне бы надо Дуней зваться, Парашкой, Акулиной.
Меня так воспитали, отца я видела мало, контакта у меня с ним сроду не возникало, вечно он на работе. Никакими особыми чертами или яркими достоинствами он не обладал — тоже такой же коротенький, как я и вся родня, белобрысый, тихий, нос картошкой. Вечно улыбнется виновато, «я пошел, чадушки-домочадушки», — да еще окает. А то, что без него никакие Ту не летали бы, что он лауреат и вообще, — это разве кого касается?.. Когда я разобралась, кто где и кто чего стоит, отец, бедняга, уже умер, они его из квартиры выжили, с дачи выжили, обирали, он безропотно все отдавал. Аристократки верующие, белая кость, голубая кровь, одиннадцать писем от поэта Нарбута, ну кто теперь знает поэта Нарбута, кому он нужен, своих пруд пруди. А вели себя как выжиги.
Я все не любила — картины, мебель, скатерти, жеманство, глупо, теперь особенно хорошо понимаю, что глупо, но когда у меня появился свой дом и мать мне выделила мою, так сказать, долю, мебель и прочее, я первым делом загнала к черту, свезла в комиссионку красное дерево, акварели, рамки — все это старье, и накупила «модерну» — еще тот был «модерн», конца пятидесятых. Люстры на пять рожков врастопырку, журнальные столики на трех ногах. Вешали с Сибиряковым вместо картин на стенки фотографии и прикнопливали обложки польского «Экрана», а что ж, мы жили в своем времени, были его детьми, такой у нас был вкус. Бабка пыталась сохранить что-то от прежнего — для кого, зачем? М н е, например, ничего из ее наследства не сгодилось, кроме двух колец. Я даже собаку хотела другую — я любила Кошку, но с а м а хотела бы другую собаку: дога или овчарку. И поэтому меня, конечно, бесило, что у Петьки пиетет перед бабкой, ну что уж так? Впрочем, несмотря ни на что, она к нему неплохо относилась, то есть объективно неплохо, а субъективно сожрать была готова. Неужели она была права, он меня не любил? Думал, что любит, хотел, но не любил?
Я хорошо знала: бороться с ними, с бабкой и матерью, бесполезно. Их не переспоришь, не переделаешь. И можно их только перехитрить. Тихо, тихо, не вступая с ними ни в какие конфликты, поставить их перед фактом и потом тихо же, мирно уйти. Гуд-бай, спасибо за все.
Господи, как я ломала себе мозги, день и ночь планировала, перебирала варианты, — играй я в шахматы, была бы уже, наверное, чемпионкой мира.
…Лежу на голой земле, на спине, во Вшивом лесу, растерзанная и обалдевшая, не понимаю, хорошо ли мне, плохо ли, он целует меня, торопится, руки его то терзают меня неумело, то ласкают с неумелой робостью. Вижу небо над собою, идущие куда-то облака, розово освещенные солнцем, слышу запах его головы, волос и запах земли. И вдруг трезвею — одурь и страсть спадают — ощущаю себя до жути одиноко, будто облако в небе. И будто иное время, я — не я, и совсем не знаю, что за человек лежит лицом на моей груди, кто он и какой: кажется, он крошечный, а я непомерно огромная, на весь лес, на все поле и на всю землю, и мы с небом глядим друг на друга, а остальное не считается. Мое упоение, стыд, сила ощущений, мое счастье отступает от меня, все, что есть внутри, отступает, а подступает внешнее: ветер и солнце, ветки и листья, шум электрички. Когда-то потом, впервые крепко выпив и протрезвев, я вот так же возвращалась в реальный мир и была поражена несоответствием того состояния, в котором я была, и привычного мира — он был одно, а я другое, и меня охватывала страшная скука: зачем все это?
Я была счастлива, а моя отвратительная трезвость и рационализм захватили подсознание, они были тут как тут, едва проходили минуты забытья. Что потом? Что дальше? — один и тот же вопрос ввинчивался в голову, как пробочник. «Да черт с ним, что будет потом! Все равно, что будет дальше!» Нет, так я не могла… Он любил меня теперь, я знала, я сама все сделала, чтобы он любил меня, — этот мальчишка мой теперь, мой! — но… что дальше? И насколько он крепок, чтобы осуществить вместе со мной мой главный план?
Как животное, как птица, я стремилась рыть нору, вить гнездо, — господи, зачем? Но уж так мы были воспитаны, и таково было мое искреннее и самое сильное стремление. Или, может быть, это тоже действовал подсознательный инстинкт свободы, желание уйти из-под опеки, — может быть. На своих я, разумеется, положиться не могла: стоит им узнать, и, кроме позора и проклятий, я не увижу и не услышу ничего. Зачем же я строю великие планы, бросаюсь в прорубь головой? Не знаю, просто не могу иначе.
Как-то попалась мне фантастика, — не помню ни автора, ни названия, — там рассказывалось, как люди, земляне, прилетели на какую-то планету и с ними стали твориться странные вещи: то они хохочут, то плачут, то братаются с врагами, то дерутся с друзьями. Причем им оставлено столько с в о е г о сознания, чтобы видеть себя со стороны, ужасаться этим действиям, но все равно их совершать. Оказалось, хозяевами планеты были особые разумные микробы: они поселились в мозгу человека я командовали.
Вот и со мной происходила точно такая история; я видела, будто со стороны, свои ужасные действия, понимала кощунство и даже преступность своих мыслей (до каких только вариантов я не доходила!), но поделать ничего на могла: микроб любви поразил меня. А я ведь еще маленькая была, неопытная, не знала, что этим просто нужно переболеть. Потом выработается иммунитет, и в следующий раз будет уже полегче.
Да, о чем я думала, что вытворяла, удивительно, как это оказалось непохоже, то, что я представляла себе, когда говорила «этот мальчишка будет мой», и то, что вышло на самом деле. Видя себя со стороны, я думала: кто это? Я теперь только и делала, что врала, ловчила, обманывала весь мир, — чтобы бежать к нему, быть с ним, чтобы он целовал и стискивал меня. Вспомнить хотя бы, что мы вытворяли на даче! Бросались друг к другу за каждым углом, обдуривали бабку, прятались за шторами, Валя натыкалась на нас, куда только не сунется: в кладовке, в мансарде, в погребе. Я старалась дотянуть допоздна и непременно оставить его ночевать. Бабка этого не любила, при всем своем хлебосольстве брезговала чужими людьми в доме, ей все казались недостаточно чисты, она топала по дому, нюхала и фыркала, как еж; нервничала, сама не спала, ей казалось, чужой человек ходит в темноте, трогает вещи. А уж тут-то тем более была начеку. «Аля! Аля! Ты где?» — только и слышится. А в меня к вечеру уж такие микробы вселялись, такие бесы, кучей. Петька полночи стоял в трусах у притолоки, или сидел, скорчась, за креслом, или выходил, якобы покурить, на крылечко, ждал меня. А я — то пить, то в уборную, то есть, то за таблеткой от головной боли. И в эти две минуты он должен успеть схватить меня, стиснуть, обцеловать, а я целуюсь, а сама ногой отбиваюсь от проклятой Кошки, которая так и цокала за мной когтями по полу в темноте, и уже слышу, как бабка скрипит, тянется свет включать. И смех и грех. По-пластунски ползала, бабку обманывая, одеяло колом оставляла, будто я на месте лежу, если она вдруг свет включит. Да еще и шипела на бабку утром: «Как тебе не стыдно! В чем ты меня подозреваешь! Уж не думаешь ли ты, что я к нему в постель бегала!» Да с таким апломбом, так искренне, микроб всю совесть сожрал! Бабка заморгает, запыхтит виновато, а потом все-таки скажет: «На губы свои лучше посмотри». Губы действительно все время были опухшие или синие, мы целоваться толком не умели (или умели?), но как она-то видела, слепая ведь!
И все-таки было весело, и, пожалуй, только это лето и вышло у нас по-настоящему беспечным и счастливым. И ведь еще без конца зубрили, работали, поступали — как успевали? Но и быстро лето пролетело, а я словно чувствовала: лучше не будет. И рубеж наметила: 31 августа, конец лета. Терпение мое кончилось, а Петька — я видела, — без меня ни на что не решится; заставить — это было не в его характере.
Запомнилось, как мы уезжали. Обычно я не участвовала в больших хозяйственных хлопотах: переезды, уборки, ремонты, осенние заготовки, — это обходилось без меня, вроде я все еще маленькая. Это была бабкина епархия, так она нас приучила. Бабка командовала, Валя исполняла. Но в этот раз — странно, то ли оттого, что мать не приехала, а бабке все тяжелее становилось справляться с хозяйством, но скорее совсем по иным причинам, я вступила в дело: советовала, распоряжалась, спорила, настаивала — это увезти, это оставить, это туда, это сюда. Я еще себе не признавалась, но уже появился у меня дальний прицел: у мамы с бабкой есть где жить, у Ольги есть, а вот дача… Часть ее — собственно дом, без террасы, — зимняя, можно печку топить, жить зимой, ехать до Никольского пустяки, почти все здешние испокон веку в Москве работают, — чем не жилье? Я бы все переделала, перекроила на свой лад, чем плохо? Я и 31-го решила вернуться на дачу скорее всего поэтому: пусть здесь все начнется, может быть, так суждено.
Мы уезжали, день стоял солнечный, теплый, и участок и дача оставались будто в недоумении: куда же вы? Бабка, как всегда перед поездкой, точно невменяемая, ходила на рассвете прощаться с кустами, с соснами — уже не первый год устраивала эдакий ритуал: мол, до следующего лета не дожить, надо с землей проститься. Я, конечно, кричала: «Перестань ломать комедию, ты всех переживешь!» — а проклятый микроб без всякого стеснения шептал на ухо: мол, все может быть, и не останусь ли я в таком случае практически хозяйкой на даче, поскольку родители здесь не живут, редко приезжают. (Я признаюсь в этих ужасных мыслях, поскольку не я сама, а только микроб внушал их мне.)
Мы подсаживали бабку в кабину, как-то так получилось: никого из взрослых, одна молодежь, мы все по-своему делали, и Валя бегала, ошалело глядела на меня, но слушалась, мы подсаживали ее в кабину, она оступилась, чуть не упала, и я опять увидела, как она беспомощна, как мало, должно быть, осталось ей жить. Мы не могли удержаться от смеха, бабка завизжала, обругала нас, а я стыдилась не нашего глупого смеха, а испытывала стыд за нее, за м о ю бабку, перед м о и м Петей, перед Левушкой, который нам помогал, перед чужим малым-шофером: поразительная, холодная, эгоистичная скотина стала, фантастика! Кажется, от любви надо петь, прыгать, щебетать, а тут что? Хотя, в принципе, все объяснимо: я и пела, и щебетала, но и понимала: надо к обороне готовиться, силы стягивать, окопы копать.
31 августа глупым и смешным вышло, не люблю его вспоминать — так всегда бывает, когда к таким вещам специально, да еще долго готовишься. Тем более я как-то ничего не поняла, не ощутила, настоящие ощущения пришли гораздо позже. Но самое главное: я еще больше уверилась, что я всему хозяйка, что мне, а не кому-то надо держать дело в своих руках.
После 31 августа — встречаться больше было негде — мы продолжали свои экспедиции в Никольское, но уже не на дачу — боялись, — а просто в лес, теперь уже в большой, потому что Вшивый скоро осыпался: бросали плащ на землю, ложились, вцеплялись друг в друга, и неважно: звезды ли стоят в вышине, дождичек ли каплет, сентябрь, октябрь — неважно. Кто бы и когда заставил меня прежде войти ночью в лес, да я умерла бы на месте, а тут пожалуйста: луна, тьма, листья шуршат, ветки хрустят, за каждым кустом — идолище поганое, а мне хоть бы хны. Только стыдно всякий раз леса, деревьев и трав, птиц и дрожащих листочков, что перед ними в таком виде, и пусть уж лучше дождик и тьма, чем сумерки или луна. Боже, боже, помоги ты всем бедным влюбленным на свете!..
Но дальше что, дальше?
И наступает, конечно, в один прекрасный вечер предел: сижу растрепой на земле, холодно, страшно, он в сторону отошел, лунища сияет сквозь голые ветки, и я начинаю реветь. Он возвращается: «Ты что, ты что?» Не знаю, выговорить не могу, зуб на зуб не попадает, истерика. «Что дальше, — говорю, икая, — что дальше? Так и будем тут?.. А если узнают? А если я забеременею, ты не думал об этом? И вообще… ну, скажи, скажи, ты же мужчина, в конце концов!..» Он молчит, курит свой «Дукатик», больше ничего. А что ему сказать? Отца нет, мать на почте шестьдесят рублей получает, старший брат в армии, сестренка в пятом классе, живут в одной комнате: из-за отца прежнюю квартиру отобрали. Такая картинка. Что ему говорить?.. Он тоже в институт поступил, причем отлично, — они все прекрасно поступили, вся их компания, он в Куйбышевский, факультет строительства гидростанций, самый тогда перспективный, Братская ГЭС и прочее, — конечно, у него новые интересы, новые люди, настроение прекрасное. А тут я под кустом да еще канючу. Кто знает, может быть, ему вообще больше ничего не надо, он только признаться боится? Может, и любви никакой нет, а ему только э т о надо?.. Ну нет, миленький, я сказала, ты мой, и ты будешь мой!
Обида брала на жизнь: ну что она, в самом деле, издевается? Почему надо так уродски все распределять? Почему, например, не отдать бы диплом и новую работу Сибирякова Петьке? И квартира у Сибирякова есть, и зарплата, и ничего скрывать не надо, все бы улыбались и поздравляли: живите и радуйтесь. Нет, жизнь обязательно все перепутает, отнимет, чтобы придавить и смотреть: ну-ка, как ты выпутаешься?..
Потом, помню, уже в электричке, я ему говорю: «Ты хоть лыжи мне подари». — «Зачем?» — «Зима скоро. На лыжах будем сюда ходить». Молчит, обиделся. Но, однако, уже через два дня примчался, счастливый, в руке ключи, — скорей, скорей поехали. Куда? Оказывается, родители Мишки Шпигеля на три дня в Ленинград уехали, сам Мишка раньше двенадцати домой не является, все о’кэй! Нашел выход!.. Я только вздохнула, поехали.
Как сказку, вспоминаю эти три дня. Квартира оказалась большая, с о в р е м е н н а я, такая, как мне нравилось: ничего лишнего, ковры, диваны, кресла, холл и из холла три двери, в комнаты и на кухню. Ванная — метров пятнадцать, огромная комнатища с газовой колонкой, вся в немецком кафеле; в дверях стеклянные витражи, в холле пианино, — живут же люди. И главное, так аккуратно, чисто, нигде ничего не валяется, и, если не заглянуть в шкаф-вешалку и в другие шкафы и ящики, можно подумать, что здесь никто не живет, просто хорошо обставленная гостиница, люкс.
Он ходил развязной походочкой, включал свет, разбрасывал, снимая с себя, туда шарф, туда шапку. «Ну-с?» — показывал мне чужой дом, будто свой, н а ш. Я кивала, глазела: да, это было то, о чем я мечтала. Мой дом был не хуже, но он был бабкиным и маминым домом, а этот — точно м о и м, вот так бы хотела сделать я когда-нибудь у себя.
Мы уматывались в те дни пораньше с лекций, входили в подъезд мимо лифтерши, которая подозрительно оглядывала нас и спрашивала, куда мы и к кому, отпирали три замка и тут же запирали их изнутри.
Петька читал газеты, а я крутилась у плиты, жарила картошку и микояновские котлеты, кухня светлая, просторная, из окна прекрасный вид на пол-Москвы; он комментирует политические новости, — знал бы он, как это делает Сибиряков! — я щебечу про свои институтские дела, накладываю еду на красивые тарелки, — господи, идиллия! Я плескалась в ванне, валялась с книгой на широком диване, мы смотрели телевизор, тогда еще экраны были с линзами, наполненными водой. Мы ставили пластинки на немецкую радиолу, пластинок была куча, и Петьке больше всего нравился Бетховен. Я играла на хозяйском пианино, и Петька лежал на ковре у моих ног и слушал с восхищением, снизу вверх глядя на меня. Мы впервые в жизни заснули вместе, обнявшись, и я чуть не проспала того часа, когда нужно было бежать в метро, ехать домой. Чего я только не плела в эти дни бабке по телефону: каждый день я не приходила ни к обеду, ни к ужину и представляю, с каким отчуждением, которого она не могла не улавливать, являлась в родной дом. Конечно, она чувствовала — так и нюхала: откуда я, что со мной? А мне тоже казалось, что я пахну чужим мылом, чужим кофе, легким воздухом высокого этажа н а ш е й квартиры.
Я приезжала утомленная, наша любовь медленно расправляла свои лепестки, расцветая, аромат ее одурял нас все сильнее, и я стала понимать смысл старинных традиций: свадебных путешествий, медовых месяцев, долгих медленных прикосновений.
Но сказка, конечно, кончилась — так же быстро, как и внезапно началась, и опять я спрашивала себя: а дальше?.. И опять понимала: надо все самой. Петька чувствовал себя на коне, что так вышло со Шпигелем, — поиграл со мной три дня в семейную жизнь, ладно, помчимся вперед. Он долг свой передо мною выполнил, чего ж мне еще? Представится возможность, опять у кого-нибудь стрельнет ключ, эка беда!..
Не знаю, чем бы все кончилось, может, ничем, как в большинстве случаев, но я сказала себе: нет, этот мальчишка мой и будет мой. Все возьму на себя, все придумаю. Дача есть, отец есть, на него, конечно, выходить бесполезно, он у матери под каблуком, но все-таки совсем забывать о нем не стоит, в трудную минуту опереться можно; матери на эту тему даже заикаться не стоит: скажет высокомерно: «Что, что? — Обернется к бабке: — Мама, о чем это она говорит? Не желаю слушать о всяких мерзостях». Тем и кончится. А бабка… а бабка в конце концов, уж если смотреть правде в глаза, вряд ли устоит против меня, когда я все решу. И скорее поддержит или, в крайнем случае, как Швейцария, будет выдерживать нейтралитет.
Не знаю, впрочем, чем бы все кончилось, даже при такой моей решительности, но тут случилось то, что и должно было случиться: я забеременела.
Уж как я береглась, но… видно, правда, что за все надо платить. И как это быстро всегда происходит, не успеешь ничего понять, уж не говорю — насладиться, но разобраться, что к чему, — нате, другая забота: все мысли дыбом, тошнота и такой призрак впереди, что только укрыться одеялом с головой и стучать зубами от страха. За что это все?
Однако, как ни странно, я успокоилась и взяла себя в руки. Теперь все просто и ясно. Не раскисать, не предаваться панике. Так, значит, так. Никаких уловок и хитростей, никому ничего — до самого долгого по возможности срока, когда уже нельзя будет вмешаться; потом тихо-спокойно рожать, не обращая внимания ни на какие вопли. А если рожать, то, стало быть, выходить замуж, покидать родимый дом, строить свой, как мне этого хочется, и делать из своего мальчика мужа. Вот и вся программа. Выйдет? Надо, чтоб вышло. И хочешь, Петя, не хочешь — бросай, брат, свои игрушки, подставляй плечи, будь Петром Великим, что делать!..
Петька поусмехался, услышав новость, покрутил головой, постукал меня ладонью в лоб, как мячик, — ну, дура ты, дура! — покурил свой «Дукатик», размышляя. Потом, как я поняла, обзвонил своих приятелей, к ним помчался. Я ему твердо сказала: «Ты учти, я делать ничего не собираюсь». Он покивал: мол, понимаю, правильно.
И в январе, сдав на «отлично» сессию, он, всех поразив, перевелся на заочное, уже на другой факультет, и уехал на строительство ТЭЦ на Украине; кто-то его сосватал туда: мол, езжай, там и жилье быстро дадут, и заработаешь, давай! Мы прощались и плакали оба».
«…5 февраля
…Милый мой! Только сейчас вспомнила: ни в одном из писем (я тебя, кажется, избалую ими) я не спросила, что ты там ешь? Ты, наверное, целыми днями ходишь голодный, радуешься, что меня нет рядом и некому на тебя накричать и запугать ч е м - н и б у д ь. Ты ешь, слышишь? А то на такой работе да без еды что от тебя останется? Ты и без того у меня мальчишка мальчишкой, да-да, не воображай! Ты обязан меня слушать, я твоя жена, и нас вообще больше, понял?..
А вообще я уже потихоньку собираюсь к тебе. Признайся, что я была умница, когда не согласилась ехать сразу? Видишь, сколько трудностей. Теперь все зависит от твоей энергии.
Я представляю все время, как мы будем жить. Прежде всего ты меня встретишь, и мы в этот же день отнесем заявление в загс. Согласен? А потом ты подаришь мне букет цветов. Затем мы скромно отпразднуем сей знаменательный день. А когда у нас заведется лишняя копейка, поедем в твой Харьков ходить по магазинам и покупать распашонки.
Напиши мне подробнее о своей комнате, хозяйке. Если твой сосед уедет, она больше пусть никого не пускает. Пиши, что мне нужно с собой взять, а что есть у хозяйки. Может, кровать привезти? Тебе придется встречать меня всей бригадой и с самосвалом! Если бы ты знал, родной, как я хочу к тебе!..»
«…5 февраля
…Только что, милый, получила твое письмо от 2-го числа. Я тебе уже отправила сегодня одно письмо, но вот не могу не ответить еще раз.
Мне не нравятся, родной, твои настроения. Очень жаль, что так получилось с Борисом, что он наобещал и подвел. Но, на мой взгляд, сдаваться рано. Ты же сам говорил: легко не будет, сам взвешивал все «за» и «против». Так в чем же дело? Надо работать.
Ты уже должен был получить мои письма, в которых я пишу, что готова ехать к тебе. Я знаю, что тебе одному трудно. Но со мной ведь будет легче? Меня здесь ничто не держит, моя жизнь здесь становится опасной, ты же знаешь бабку — она стоит надо мной по ночам, и слушает, как я дышу, чтобы все узнать обо мне даже по моему дыханию. Мы не говорим ни о чем, о тебе — ни слова, но наш внутренний разговор не прекращается ни на миг, и мы обе знаем, о ч е м говорим. Маму еще можно провести, но бабку, — никогда, ты сам знаешь. Но обо мне не будем. Сейчас главное — ты, мой родной. Забудь о том, что ты не любишь унижаться, просить. Без этого нельзя прожить жизнь. Делай все, чтобы перейти в другую бригаду, на другой участок.
Я не хочу показывать твое письмо никому. Мне неприятно твое настроение, твое отступление. Характеристики для института я выслала в понедельник заказным, ты их получишь и н е м е д л е н н о езжай в Харьков в институт. Ты обязательно должен созвониться с Дмитрием Ивановичем, он там большой человек, он старый приятель отца, они тоже когда-то учились вместе в Харькове, я тебя уверяю, — он поможет, не стесняйся, с ним уже говорили.
Советую тебе не думать о том, как ты вернешься в Москву и кто что об этом скажет, а ходить, ходить, добиваться, работать. Ты работаешь и учишься, ты приехал на стройку, тебе обязаны помочь. И помогут, не волнуйся. Не сдавайся только сам.
Конечно, хорошо жить в своем тепленьком доме, ездить в институт, валять дурака на лекциях, мама подает обед на стол, а на вечер я уже взяла билеты в кино. Эта одна жизнь. Но мы с тобой выбрали другую, не так ли? Считай, у тебя теперь с е м ь я и ты о б я з а н думать об этом. Помни, ты всю жизнь будешь отстаивать свои права, добиваться чего-то, что-то преодолевать. Это жизнь наступила. Пойми!
Вспомни, наконец, о самолюбии. Неужели ты хочешь, чтобы моя бабушка торжествовала и говорила: ну, разве я не права, вы ничего не можете в жизни добиться и ничего совершить благородного? Как ты вернешься? Я не представляю. Тебя просто ошеломила эта грязь, тяжелая работа, чужие люди, но это всегда так поначалу. Потерпи, осмотрись, привыкни. Ты всего лишь несколько дней по-настоящему стал на работу, как же так?
Смотри, комната у тебя уже есть, работа есть, добейся другой, если эта не нравится, ты должен все вытерпеть и выдержать, слышишь? Я и то готова ради тебя бросить все, причем так, чтобы не возвращаться к прежней жизни, не дать им торжествовать.
Я понимаю, ты там сейчас совсем одинок. Но я ведь приеду. Как только ты укрепишься, поступишь, определишься окончательно с работой, я тут же выезжаю. Миленький, мы сами должны построить свою жизнь, не отчаивайся! Ведь нам уже по 18 лет, мой родной, не пора ли?..
Крепко-крепко целую, верю, что ты все сделаешь, как я говорю. Твоя А.».
«…7 февраля
…В третий раз захожу на почту и ухожу со слезами на глазах. Знаешь, как обидно? А ведь ты обязан мне писать в д в о е больше, чем я тебе. Я только за пять дней отправила тебе 10 писем, а сама получила 21/2 — два письма и открытку. Ты открыточками не отделывайся! Изменилось ли у тебя что-нибудь? Дозвонился ли до Дмитрия Иваныча? Перешел ли в другую бригаду? Получил ли характеристики и ездил ли в институт? Я ничего не знаю и мучаюсь, пиши скорей. Маме ты тоже ничего не пишешь, и она в обиде.
Сегодня, миленький, была первый раз в институте. Ужасно устала. Расписание вообще составлено хорошо, но четверг — жутко трудный день, с 8 до 14 без передышки. Домой еле добралась: ужасно тошнило, болела голова. Сейчас немного отошла. В институте все нашли, что я похудела. Замечательно, правда? Я же нахожу обратное. Конечно, не принимая во внимание физиономию.
Ехала из института усталая, разбитая, но специально поехала на метро, чтобы зайти на почту. Зашла, еле волоча ноги, и… ничего не получила. Подожди, я тебе тоже устрою!
Новостей особенных у меня нет. Очень скучаю по тебе, мой маленький! Иду по улицам и вспоминаю, что все места мы обходили вместе с тобой. Бабка все время спрашивает: «Где наш принц? Что-то не видно нашего Рокфеллера». Я устала ее слушать. Вчера сидим вдвоем, пьем чай, я уставилась в одну точку, она что-то спрашивает, один раз задает вопрос, другой — я не слышу. Потом спрашивает про тебя. «Бабушка, — говорю я ей устало, — Петя бросил институт, уехал на стройку, потому что ему надо кормить семью, я выхожу за него замуж и собираюсь родить ему ребенка». — «Не удивлюсь, если это правда, — говорит она мне в ответ, — но в самом деле, где он? Ты с ним поссорилась?» Я больше не стала ничего говорить и ушла спать.
Между прочим, она никак не может забыть того случая, помнишь, когда мы ходили в Колонный зал на концерт, ты за мной забежал, мы спешили, и ты стал мне помогать застегивать пуговки сзади на голубом платье — тридцать пуговок! — а бабка вошла и увидела. «В наше время, — не унимается она, — если молодой человек, извините, застегивал женщине платье, это означало…» — «А у нас ничего не означает, ни-че-го! — говорю я ей. — Мы в детских садах и пионерлагерях к другому привыкли». — «Вы? — Она выпускает весь свой сарказм. — Лично вы, да будет вам известно, никогда, слава богу, не были ни в детсадах, ни в каких лагерях!» Этот случай что-то ей, конечно, открыл. Ну, пусть думают, что хотят, теперь уже скоро.
Целую, мой родненький. Неужели я не дождусь от тебя письма?»
«…8 февраля
…Какой ты у меня умник! Во вчерашнем письме я тебя ругала, а сегодня хвалю, мой хороший. Шла из института, зашла на почту и получила письмо. Ура! В троллейбусе успела половину прочесть. Пока читала, все время улыбалась — интересно, что думали окружающие. Вчера дала себе слово не заходить, но сегодня, конечно, не выдержала, и оказалось, что недаром. Дядька, который сидит на письмах «до востребования», уже знает меня и улыбается.
Как я рада, что ты пишешь бодро и весело! Ну, правда, ты немножко обвыкнешься, и все покажется не так страшно в этом Октябрьском. Будь мужчиной! Кто там смотрит за тобой? Что ты ешь? Сколько раз в день? Неужели твоя хозяйка не может приготовить ничего, кроме чая? Мне уж тут кажется, что ты скорее умрешь не от того, что полмесяца меня не видел, а от того, что ходишь голодный. На такой тяжелой работе надо есть.
Брось, пожалуйста, думать: ошибка, ошибка. Никакой ошибки, ты поступил правильно, и наплевать на этого Бориса. Сами справимся. Уверяю тебя, мы еще так славно заживем в этом Октябрьском! Нет ночи, чтобы мне не снился ты, этот поселок, наша жизнь в нем. Бабка говорит, что я то смеюсь, то плачу во сне. Она, как всегда, караулит меня. У врача я второй раз не была. Зачем? Считаю, что это совершенно лишнее. Только деньги выбрасывать. А я сейчас, как Плюшкин, берегу каждую копейку. Все свои вещи, кот. не ношу в данный момент, укладываю потихоньку в один чемодан, чтобы сразу взять его, и все, не копаться. У мамы купила босоножки. (Не удивляйся, у нас так заведено.) Теперь буду отдавать ей понемногу из каждой стипендии. Короче, я, как мышка, тащу и собираю все, что можно, для нашей будущей жизни.
Жду, жду, жду. Скорее устраивайся и зови меня. Думаю, уже в начале апреля ты будешь с цветами встречать меня в Харькове. Связался ли ты с Дмитрием Иванычем, отдал ли документы в институт, попросил ли другую работу? Скорее, скорее все делай! И пиши мне обо всем, пожалуйста, как можно подробнее. Ты же знаешь, мне дорого каждое твое слово.
Сегодня на лекции по матанализу так было плохо, только минут через десять пришла в себя. Мальчишки наши спрашивают, почему я все время вздыхаю. Я, правда, вздыхаю, как корова.
Целую, мой миленький, два миллиона раз! На миллион больше, чем ты, понял!
Твоя А.».«…Утро черное, как сапог, тучи несутся, ветер гонит по степи поземку, «будка» — грузовик с самодельным кузовом, — набитая работягами, прыгает на мерзлых колдобинах, сырая вонь с вечера не просохших ватников и брезентовых роб, табачище, мат-перемат, едем… А там опять черная степь с белым снегом, ветер аж воет и трясет стену из арматуры высотой в шестиэтажный дом. Там, в темноте, черные комочки висят — это невидимые на ремнях сварщики, только по синим огням и красным искрам, что сыплются вниз, можно догадаться и поверить, что там — люди. А я мечтаю: мне бы туда, мне бы тоже в сварщики, висеть на высоте, чем копошиться и своей преисподней, в котловане: я ведь не умел ничего, и меня сунули к бабам-бетонщицам в бригаду, на фундаменты, в «банки» — «пока, Шувалов, временно, на месячишко-другой»; здесь много умения не нужно, стой в резиновых сапогах в бетонной жиже, держи вибратор, — самосвал сползет в «банку» по дощатому настилу, еще вывалит кучу, — ровняй, и все дела. Мороз ударил, бетон стынет, кран стал, току нет, опалубку не успели. «Одно сделаем, другое запорем, ты еще, тилигент, под ногами, не умеешь — не лезь», — как двинула Ольга Константиновна Кайдук своей ручкой, так и летел три метра задницей в бетон всем на посмешище. Одна мысль: только бы до обеда дотянуть, разогнуться, да и есть хочется до невозможности. Но на всю стройку один барак-столовая, едят в три приема, но кто там будет порядки соблюдать, все сразу лезут, так и будешь век в хвосте стоять, потому что «свои» к «своим» становятся, «я за его занимал, чего орешь!» — и плюнешь, в конце концов, и уйдешь. Хлеба съесть полбуханки да запить кипятком из кружки, сахару погрызть, и то лучше, — весь обед.
Но все-таки на работе легче, день уходит, от шести до шести с дорогой, а вечером такая возьмет тоска — сил нет. Хата у тетки Натальи хоть и крепкая, но старая, свой, прогорклый, чесночный дух скопился в ней от веку; в пристройке, вместе с курами и поросятами, с племянницей-дурочкой лет сорока сама тетка Наталья, тоже ненормальная, шумная, хоть и добрая, — она, люди говорят, сдвинулась, как трех сыновей с войны не дождалась; в хате, в большой горнице, живут шофер Бородин из Сибири с женой Шурой и пятилетней дочкой Светой, а в маленькой я и демобилизованный плотник Коля Тюнин. Я сплю на раскладушке, а Коля на диване. И теперь все мои мечты уступили место одной: чтобы Николай ушел в новое общежитие, которое строят на поселке, а я переселился бы на диван и занял целиком эту комнатку с одним окошком. Водопровода нет, воду возят автоцистернами, как в пустыне, свет дают только с шести до десяти, да и то не всегда, за продуктами все ездят в город, за шестнадцать километров, кино нет, клуба нет, — как и зачем живут здесь люди, я понять не могу. Но пусть, это их дело, но я-то зачем? Уже все ясно: денег мне здесь не заработать, разве что на жилье да на хлеб; никакой квартиры, кроме этой комнатенки, тоже не увидишь лет пять, желающих — тысячи. Ни этот неказистый Октябрьский среди голой степи, без единого деревца, ни работа, ни люди, — за что она меня так ненавидит, Ольга Кайдук, корова? — ничто не привлекает меня и не удерживает, — словом, ошибка, глупость, и надо бы скорее исправлять ее, ехать куда-то еще, — или не ехать, тоже глупости, в Москве, что ли, нельзя работу найти, но как, как? Ведь она ждет, она настроилась, ей представляется все иным, подаришь мне букет цветов. Ей важно уехать, бежать, пока никто ничего не узнал, все выдержать, выстоять, самим справиться, чтобы потом, когда-нибудь, вернуться гордо и сказать: ну, что, чья взяла?
Грустно.
Но вот другое утро, выходной, я проспал до девяти — счастье, и еще лежу-полеживаю, потягиваюсь, в окно весело бьет, хоть и зимнее, но уже веселое, февральское солнышко. Скоро март, весна, апрель, глядишь, и перезимовали. Сосед Бородин колет во дворе дрова. Николай уже уехал, он в город собирался, диван его по-солдатски убран, и в головах стопочкой лежат постель и подушка. Да, сквозь сон я просил его и мне купить в городе колбасы и конфет-подушечек. Шумит по двору тетка Наталья, громко тараторит, то ли с курами, то ли с Бородиным. В доме пахнет стиркой — это Шура Бородина целыми днями стирает и стирает, будто она прачка, а муж у нее не шофер, а дипломат и ходит в крахмале. Эта молодая долговязая Шура, с длинными руками и ногами, сутулая, вызывает у меня не ясный мне интерес: некая тайна привлекает меня в ней, она спит в соседней комнате за стенкой, и иногда, когда что-то стукает в стенку, я знаю, что это Шура ударила своей костлявой коленкой или рукой. Я чувствую, что смотрю на нее странно, и она отвечает тоже неожиданным, спрашивающим взглядом исподлобья. Только этого мне еще не хватало. Я боюсь остаться с ней в доме вдвоем и даже сейчас лежу и боюсь, что она войдет вдруг и станет в дверях со своим вопросом в глазах.
Но это, конечно, только мое тело, мои глаза и уши находятся в этой комнате, в запахах чеснока, стирки и старого дивана, — сам я, как голубь, ношусь над Москвой. Я плохо работаю, невнимателен, не вхожу ни с кем в контакт, подавлен и замкнут только по одной причине: все мои мысли там, дома. Как ни странно, чаще всего видится мой институт, где я проучился лишь семестр: двери, раздевалка, лестницы, старинные окна, аудитории; я был там как рыба в воде, сразу, с первого дня, мне там было хорошо, — наверное, поэтому институт и вспоминается так часто, — даже не хорошо, а легко. Сегодня выходной, я мог бы заехать к Мишке — его квартира тоже весело встает перед глазами, наша с Алиной маленькая жизнь там осенью… Бедняга, она не представляет себе этой хаты, этой комнаты, нарисовать ей, что ли, с подробностями, со всеми запахами. Вот здесь она, значит, спит, вот сюда поставим детскую кровать, там, на кухне, она будет стирать вместе с Шурой и лепить вареники? Нет, что-то не верится. И главное, непонятно, из-за чего, из-за каких таких причин нужно нам это терпеть? Не понимаю, хоть убей. Чтобы любовь нашу сберечь? Но не развалится ли она здесь в два месяца, как разваливаюсь я? Не придумываем ли мы себе лишние трудности? Все дело упирается в ребенка? Но может быть, в таком случае, не нужно ребенка? Успеем еще. Что-то даже первобытное в этом: сразу ребенок, люльку качать, «рожать детей — кому ума недоставало»! Но она ведь сказала: не буду ничего делать. И не будет, я же ее знаю. Разве я могу ее обмануть?.. Я достаю из-под подушки ее письма в голубых небольших конвертах — я читал их вечером, при керосиновой лампе. Теперь снова перечитываю последнее письмо, но в глазах рябит и снова будто клонит в сон. Как я могу рассказать ей обо всем, убедить? Пусть сама приедет и увидит. А может быть, и не испугается, может быть, наоборот, нам станет легче вдвоем, веселее, — живут же Бородины и даже довольны, и девчонка бегает целый день на свежем воздухе… Ладно, не дал слова — крепись, а дал — держись, видно, уж такая судьба: не великая гидростанция на Волге или Амуре, не прорабом и инженером, а в степи, на ТЭЦ, да еще бетонщиком, почти чернорабочим, дурачком. Не в итээровском особнячке, с лыжами в руках на крылечке, с юной женой в лыжной шапочке, а в тетки Натальиной хибаре, на бордовом диване.
Вошла Шура, стала на пороге, я испуганно одеяло натянул до горла, смотрела молча, потом спросила: «Ты что красный?» — «Красный?» Я приподнялся заглянуть в диванное зеркало, стал коленями на раскладушку. Она ушла и принесла градусник. Тут я почувствовал, что действительно горю, и горло саднит. Шура не уходила, мы молчали, потом раздались шаги, и в кухне Бородин свалил у печки охапку дров. Тетка Наталья так и заливалась на улице. Температура у меня была тридцать восемь, к вечеру тридцать девять, а еще через сутки «скорая» отвезла меня в город в больницу с воспалением легких…»
«…Какая была несусветная глупость! Случайность, оплошность, неопытность, и вот, пожалуйста, что может из этого выйти. Я спохватилась еще в институте: где письма? Я всегда носила их с собой. Где они? Я вывернула портфель, но уже знала: их нет. Я читала письма вчера вечером, запершись в уборной, больше мне негде было остаться одной, и, когда бабка постучала, я сунула письма под коврик, мол, на минутку, сейчас возьму обратно. И не взяла!!! Это бабка, бабка проклятая, со своей слежкой, так и ходит по пятам, говорит, говорит, ворчит, вынюхивает. Только бы не нашли, только бы не попали к ним в руки! Они не постесняются, прочтут. Боже, что там написано, какие слова, какие подробности, нежности, мы дураки, дураки, безумные дураки, дети! Представить себе только, что это читают чужие глаза, трогают чужие руки! Скорей!.. А если нашли? Как не вовремя! Ведь совсем немного осталось, я бы уехала потихоньку, и все — ищи-свищи. Неужели нашли? Вечно этот коврик елозит под ногами, задирается, Валя начнет мести, понесет его вытряхивать на балкон, — ох, дурно, жарко, кровь бросается в голову от одной мысли… Тихо, тихо, спокойно, мне нельзя волноваться, спокойно. Во-первых, сказать невозмутимо: как вы смели читать чужие письма? Во-вторых, все отрицать: ничего этого нет, это его фантазии… нет, там такое написано, что не отопрешься, это глупо. Ладно, во-вторых, сказать: да, все так. И будет так. Если вы люди — помогите, если звери, — не лезьте, не мешайте, справимся сами. И не говорить больше ничего, не скандалить, сказать и молчать, как на пытке. Как мать меня в детстве хлестала собачьим поводком, а я даже слезинки не уронила, вот и теперь так. Сидеть и говорить себе: волноваться вредно, волноваться вредно. Пусть орут, оскорбляют, а я одно: волноваться вредно, волноваться вредно.
Во всех подробностях помню тот день: как я боялась, как тянула, как звонила бабке из института разведать, что и как, и слушала ее голос, стараясь по одному ее скрипучему «Вас слушают» (она ненавидела слово «алло», как и вообще все американское, «дэмократыческое», как она говорила) понять, в каком она состоянии. Понять было трудно, но мне казалось: она понимает, что это звоню я, и зачем звоню, и показывает мне, что понимает: я слышу, что это ты, но что ж я могу сказать тебе? я убита — и все.
Снова и снова, в десятый, в двадцатый раз перебирала я в памяти: как сижу, как читаю, как сую беленькие, одинаковые конверты с красной марочкой, с его крупным веселым почерком, перетянутые светлой аптечной резинкой, под этот, — сказала бы я, какой! — коврик, — ах, черт возьми, черт возьми, и на старуху бывает проруха, на всякого мудреца довольно простоты, — теперь они уже и чемодан мой растрясли, а я туда напихала потихоньку и материнского, и Ольгиного, — ох, стыд, стыд, еще и воровкой обзовут — не пожалеют. Вот тебе, Петр Великий, и Полтавская битва! Слезай, приехали! Хоть бы ты был со мной сегодня, хоть бы ты, что ж я одна в этом городе, со своим пузом, со своим несчастьем.
Что вот мне делать, как я туда явлюсь?
Сердце мне подсказывало, что письма, конечно, у них, не может быть такого чуда, да и мать, кажется, взяла сегодня работу домой, да, наверняка они им попались, наверняка. Ну что ж теперь, противник получил неожиданный шанс, придется менять тактику. Но не стратегию.
Я все-таки дотянула до вечера и приехала домой в восемь часов. Мне не сразу открыли, я поняла, что за дверью какая-то подготовка, и Валя встретила меня, глядя ошарашенно, чуть не с открытым ртом. «Приветик! Ты что? — сказала я ей мрачно. — Дай, пожалуйста, тапочки, а то ног не чую». Она бросилась, подала, глядела жалостливо, не смея ничего сказать, и я все поняла. Я раздевалась, снимала боты, причесывалась у зеркала, а сама слушала: что в доме? Хотя все уже ясно стало. Обычно бабка уже висела надо мною, прошаркав сразу на мой звонок и задавая глупые вопросы, она все время спрашивала, что я сегодня получила, какие отметки, забывая, что я уже в институте. Сегодня никто не шаркал, никто ничего не спрашивал, мамина шуба висела на вешалке. «Не волноваться, — сказала я себе, — ребенку это вредно», — и пошла на эшафот.
Мать и бабка сидели в столовой за столом, друг против друга, на столе лежали вынутые из конвертов письма, как трупики задушенных птенчиков среди белой скорлупы, на диване (я не ошиблась) стоял раскрытый чемодан с разбросанными по нему, как при обыске, вещами. Горела люстра, мебель сияла, картины знакомо висели по стенам, но я остро ощутила: все, это уже не мой дом, моя детская и юная жизнь именно в эту минуту закончилась.
Мать смотрела ясно и беспощадно, бабка пыхтела, вытирала опухшее от слез лицо, горбилась, по ее виду я поняла; это она нашла письма — больше некому. Валя опять мелькнула перепуганным лицом и исчезла.
«Думаю, тебе все ясно? — сказала мать и встала, останавливая всякие мои возражения. — Нам тоже. Одевайся. Мы едем к Ройтману, он нас ждет». (Это был знакомый гинеколог, к которому обращались и мать, и Ольга.)
Я не успела рта открыть, как мать заорала: «Молчать! Одеваться!» — «Молчи, — сказала я себе, — не отвечай».
Самое плохое — это следующий день. Проснешься — боже ты мой! — все кино крутится в обратную сторону. Эмоции погасли, как парашют, буря пронеслась, надо впрягаться и собирать обломки. Не зря говорят: утро вечера мудренее. Если не сказать: мудренее. Что делать будем?.. Я проснулась на даче, одна, за окошком — денек серый, снежок мелкий, сосновые стволы. Ни души не видно, ворона пролетела — и на том спасибо. С вечера Коля-сосед притащил дров, помог печку растопить, она век не топилась, дымила, и теперь в комнате тоже сыро воняет гарью. У огня было тепло, грустно, я долго сидела, подставляя теплу ноги и живот, а вот к утру выстудило, я заслонку боялась до конца закрыть, чтобы не угореть, и вставать холодно, неуютно. Между прочим, я никогда в жизни не жила одна, вот интересно. Просто не помню такого: чтобы проснуться одной в целом доме, да еще зимой, за городом. Я все-таки парниковое, конечно, растение, даже стыдно, это все бабкино воспитание. Ничего не умею, всего боюсь. Ладно, глаза боятся, руки делают. Опять надо за печку браться, есть хочется и плакать, но плакать нам нельзя. Я запаслась: и теплыми носками, и штанами, и сгущенка у меня с собой, и макароны, колбаса, чай, как ни следили они за мной, а я быстро побросала все в сумку, в другую руку портфель и ушла, даже дверью не хлопнула. Беситесь, а я поборюсь еще за своего ребеночка.
Меня одно только мучило: он-то где? Неужели не чувствует ничего, что здесь со мной происходит? Моим первым движением было ехать к нему, но как? С пустыми руками? Свалиться на голову? Я послала телеграмму. Уже неделю не было письма, и я понимала: что-то случилось. Страшнее всего, если он все-таки поругался там, не выдержал, уехал. Ведь в каждом письме проскальзывало: зачем, и в Москве, мол, найдется работа, и как бы в армию не забрали, и прочее. Конечно, теперь уже все равно, тихо уехать не удалось, но я бы уже была там, если бы он ответил на телеграмму. Боже мой, больше всего на свете я хотела бы сейчас посмотреть в окно — а он идет через участок, в шапке, смеется, под белым снежком.
В то утро впервые я будто репетировала, как буду жить одна. Мало ли что бывает в жизни. (Я со странной спокойной жестокостью, — так же, как насчет бабки, — думала: вдруг с Петей что-то случилось, и я вообще больше не увижу его никогда.) Мало ли что. Мать откажется от меня и выгонит навек из дому, как она и пообещала, если я не подчинюсь ей. С бабкой я тоже не увижусь больше, отец не помощник. И вот я рожу свою девочку, стану жить с ней вдвоем. В институте придется взять отпуск на год, денег не будет, я стану копать грядки, Коля с женой помогут и научат; заготовлю картошки, капусты, мне много не надо, а ребенок и на молоке продержится. А то можно в Горький податься, к бабе Нюре. Вот, точно! Уж там пропасть не дадут. Там ничего не боятся и все умеют. Это идея. И отца оттуда скорей достанем, пусть поможет, деньжат пришлет. Ничего, ребеночек, не бойся, продержимся. Будем думать только о вещах практических: что могу и чего не могу. Все смогу. Страшно ведь только одно: вот так сидеть у окна, ждать и никого не дождаться. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Остальное одолеется, а этого не одолеть.
Я растапливала печку, ревела, успокаивалась и опять ревела, пока не пришел проведать Коля-сосед и не увел меня к себе, в их теплый дом, где полно было народу, дети прыгали с криком на высокой кровати, орало радио, и толстая кошка лакала под лавкой молоко.
«…Мы тебя три дня ищем, ты где, с ума сошла! — кричал Шпигель в трубку. — Что случилось-то?..» Я молчала и ждала, что он скажет насчет Пети. «Мы ведь в Харьков ездили, мы его домой привезли». И тут мне дурно стало, я трубку выронила и стала оседать в телефонной будке, почти села, испачкала пальто в грязи, трубка болтается передо мной, кричит, а я не понимаю ничего. И потом я поехала, побежала к нему, — это я днем, выйдя из института, звонила, — и хотя уже знала, что ничего страшного нет, но меня так колотило от волнения, что я боялась, как бы ребеночек из меня не выскочил. Вот его мрачный дом, подъезд, лифт не работает. Вообще я хотела войти и сказать: «Ну, что же вы, граф? Что же вы, Петр Великий?» — и саркастически улыбнуться. Но я соскучилась, измучилась, задохнулась, пока поднялась на четвертый этаж. Неужели приехал, больной, бедный, — какая глупость, еще одно поражение терпим. Ну да ладно, ладно. Юлька мне открыла, его сестренка, длинноногая пятиклашка: «Ой! Здрасьте!» — а я дышу, как паровоз, еще у меня кулек с яблоками — как же, для больного, — и банка варенья, и я вхожу и вижу: Шпигель, и рыжий Жорка, и какая-то девчонка — Жоркина, что ли — венгерка, между прочим, как потом выяснилось, — ржут, даже не слышат, что я вошла, а мой сидит в постели, с завязанным горлом, худой, в шерстяной безрукавке поверх красной ковбойки, а они вокруг него, со стаканами в руках, в стаканах красное вино, и он, именно он, что-то им изображает в лицах смешное, кашляет, уж не иначе как про поселок Октябрьский. Остановилась в дверях и стою. Смотрю, как мать на детей, как взрослая женщина на мальчишек, и мой — совершенный мальчишка, с отросшими вдруг усиками, в незнакомой мне рубашке, худющий, а глаза синие, счастливые, что он дома, что его парни с ним рядом. Ах ты, боже мой, моя опора. Вот его жизнь, его стиль, — ребята, веселье, винишко, «студент бывает весел от сессии до сессии, а сессия всего два раза в год». А тут я навязалась, проблемы, любовь, витье гнезда и копание норы. Да пропади они пропадом, эти гнезда и норы, если на них надо жизнь положить, молодость калечить. Увидел меня — сразу выражение переменилось: стыдно стало, что он сидит тут, смеется, что ему весело. А я словно бы разом поняла все про нашу жизнь: что будет, чего не будет».
«…Скандал был настоящий, классический: с криком, оскорблениями, даже рукоприкладством: недворянское воспитание Елены Владимировны все-таки обнаружило себя, и в конце концов она нахлестала Алину по щекам; бабке вызвали «неотложку», Что мне было делать? Я взбесился, узнав про письма и остальное, особенно про Ройтмана. К тому же я чувствовал: слабак, дал увезти себя из Октябрьского. Я бы все равно, конечно, уехал оттуда, что говорить, но надо не так. Кто виноват? Я старался оправдаться перед Алиной (и перед собой) болезнью. Но оба мы знали: не в болезни дело, я сдался. Это была мука. И хоть в чем-то хотелось остаться героем.
А надо было защищаться, надо было брать на себя вину и ответственность, то есть отвечать: да, это сделал я, да, я сделал это сознательно, да, я готов… что готов? Жениться, идти на работу, хранить Алине верность, любить ее? Да, конечно, готов. Но ведь не этого от меня хотят, вот что. От меня хотят, чтобы духу моего не было, чтобы я исчез раз и навсегда с их горизонта в своих залатанных штанах и дырявых ботинках. Кто я такой? «Быдло», «хам». Можно читать мои письма, можно спустить меня с лестницы, можно называть моего отца каторжником, хотя он виноват иной виной, не связанной с его плохими или хорошими человеческими качествами. В общем, меня можно судить и нужно. А я судить не могу. И защищаться не могу. И даже вообще лучше мне молчать, «и как это нет стыда являться на глаза, кто его звал, вон отсюда, с тобой мы в другом месте поговорим, — как его фамилия, Шувалов? Ты запомнишь, Шувалов, этот день, я двадцать лет в Учпедгизе работаю, у меня есть связи в Министерстве просвещения, вон отсюда и молча-а-ать!!»
Алина уговаривала меня: не ходи, зачем, какой смысл, неужели, ты думаешь, это поможет? И так далее. Мне не очень-то хотелось идти, прямо скажем. Но я не мог не пойти из-за бабки: ей я должен все объяснить, перед ней я виноват, и только эту вину я чувствую на самом деле, никакой другой. Бабку я обманул, бабку я обвел и подвел. Хоть бы мне не ходить к ним никогда, не знать ее совсем, не пить ее чая и не есть ее варенья. Вот она-то имеет право сказать, что я хам и скотина: она мне доверилась, принимала меня за невинного мальчика, а я? Как мне доказать ей, что я не виноват, что так вышло, что я рад бы прийти, и ей первой признаться во всем, и у нее у первой просить совета и помощи? Она могла бы быть нам главной поддержкой, а я сам сделал ее своим врагом. Как мне перед ней виниться, что говорить?
Но бабка только выкрикивала гадости («Да он не любит ее!»), ничего не слушала, тянула руки к одной Алине и видела одну ее. Мы оба стояли у стены, упираясь затылками в багет картины, руки за спину, я кашлял, собака Кошка укладывалась у наших ног. Бабка сидела за столом, Елена Владимировна вышагивала, металась перед нами по комнате, брызжа слюной, или усаживалась тоже на стул, одергивая мужского покроя пиджак и вынося окончательные решения; «К Ройтману завтра же, этого (в меня палец) чтобы я больше не видела, а через неделю…» Я ее прервал: «Алина, хватит нам, идем отсюда». Вот тут меня пообещали спустить с лестницы. «Идем, Аля. Или ты уходишь со мной, или…» Меня бил кашель, и пот катился градом. Бабка задыхалась, стучала в стол кулаком и непонятно кому хрипела: «Прекрати!» — мне или Елене Владимировне, своей дочери, вот за нее-то, будь я на месте бабки, уж точно было бы стыдно. Валя металась с рюмкой валерьянки в одной руке и со шваброй в другой — не по мою ли шкуру на всякий случай?
Алина вытащила меня в прихожую, вытолкала на лестницу: «Уходи, я потом приду, уходи. Я ж тебе говорила». Позади кричали, звонили в «Скорую», собака выбежала, Алина тащила ее назад за ошейник. И, сбегая по этой лестнице, я драл от ярости на себе шарф и рубаху, бил себя шапкой в лицо: за что так оскорблять, за что ненавидеть? За то, что я люблю ее больше, чем они все? За то, что я маленький, что бедный? Но мы не при царе живем (мать вашу!), я вырасту, я построю великие плотины и новые города, вы узнаете, кто я такой, вы увидите, мымры, кто чего стоит!.. Я катился с этой лестницы, я метался под окнами и, кажется, разбил бы их все, к черту, камнями, не будь так высоко. Я представлял, как они продолжают терзать Алину, хотя она, между прочим, поражала меня странной невозмутимостью и покоем, будто ничего не впускала в себя, и даже пощечины, по-моему, не произвели на нее никакого впечатления, — я бросился и именно тут стал орать, защищать ее, а она держала меня за рукав и показывала глазами: не лезь, ничего страшного. У нее только голова мотнулась туда-сюда, — видать, ручка у мамаши нелегкая, — и она всего только поморщилась презрительно, и еще на бабку покосилась: та с каждым ударом делала «ох! ох! ох!», будто ее били.
И опять я проклинал себя, что ушел, послушался: опять Алина всем руководила, все брала на себя, — я было снова ринулся в подъезд, но тут подъехала машина, вышел и направился к дверям Сергей Сергеич в кожаном пальто, в барашковой шапке пирожком. Мне бы догнать его, с ним поговорить, но сразу я не сообразил, испугался, а спохватился — он уже ушел.
Что делать? Я пометался, пометался, Алина не выходила, пот застыл на мне, кашель стал сильнее. Я позвонил из автомата Жорке, позвал ребят к себе и побежал домой — той самой дорогой, той улицей, под черными заснеженными липами, по разбитому тротуару, выскобленному дворниками и присыпанному песочком, мимо ее школы — по всем тем местам, где еще так недавно мы бегали совсем детьми, беспечными и невинными, ничего не знали, смеялись и прыгали под дождем. Меньше года назад — вот так так…
Мы прождали Алину до ночи, она не пришла. Мои друзья сидели со мной на кухне, терпеливо и молча дымили сигаретами, я тоже курил и кашлял, моя мать ходила робко вокруг нас, понимая: что-то решается, что-то ожидается, и боясь спросить что, — я и без того заморочил ей голову своими делами: туда, сюда, срываюсь, возвращаюсь, а что, почему — «не спрашивай, мама, потом расскажу».
К телефону Алину не подзывали, швыряли трубку. Я думал, мы уедем на дачу, там скроемся, собрал кое-какие вещички. Ребята готовились проводить. Мы ждали и ждали. Потом приехал еще рассудительный Масленников: сел, пил чай, курил, качал ногой: «А если, мил человек, не эта дача, то куда? Это ведь ее дача, не так ли? А ты-то опять что? Ты думай». И все трое глядели на меня, а мне оставалось только молчать и опускать голову. Я старался не кашлять: как бы они не поняли это за просьбу о снисхождении: мол, видите, я болею, что я могу? И что я действительно мог?
«Там комнату снимал, и здесь снимайте, там работал, и тут иди, — рассуждал Масленников, он, ища поддержки, оглядывал ребят, но они на него не смотрели. — Понимаешь, тут дело такое, что тебе помочь нельзя». — «Да и надо ли? — сказал Шпигель. — Видишь, она же не идет». — «Придет, — отвечал я не вслух, а про себя, — придет».
Мы сидели и сидели на кухне, и что-то уходило с каждой минутой ожидания, и мне не по себе становилось и неловко перед друзьями. «Идите, поздно». Но они не уходили. Вечерняя улица не шла у меня из головы, разница между тем, какою она была весной и теперь, зимой. Я видел девушку в школьной форме, с глазами, полными любви, и себя, беспечного и легкого, — мне льстило и нравилось, что я ей нравлюсь, и я не заметил, как сам влюбился. Как быстро все изменилось, отчего в самом деле так быстро? Ровный и светлый поток пошел скакать по перекатам, завиваться в водовороты и низвергаться водопадом. Я видел, друзья сочувствовали, но не одобряли и не понимали меня. Наши представления о жизни — их и мои — о том, какою должна быть жизнь, и как д о л ж н ы поступать люди, не имели ничего общего с жизнью реальной и с реальными поступками и поведением людей. Нам не нужна была жизнь такою, как она есть, мы ее не знали и не хотели знать; мы удивительно не верили в ее истинность и потому не принимали ни человеческой непоследовательности, ни силы изменившихся обстоятельств, ни слов лжи, скрывающих другую ложь. Объяснения наши были прямолинейны, выводы однозначны, приговоры суровы. Жизнь, на наш юный взгляд, была возмутительно груба и нелогична.
И еще один эпизод не выходил из памяти: уже в эти дни, после моего приезда, Алина затащила меня в кино — до того ли, кажется, было? — но она настаивала: потом не увидишь. Оказалось, в киножурнале «Новости дня» показывали нас с нею: вот так событие! Это случилось под Новый год, мы побежали на концерт в Колонный зал, — помню, я еще застегивал ей платье, и бабка вошла, а в концерте выступал Аркадий Райкин. Вот и теперь на экране показывали Райкина, а потом, среди публики, в ряду других, хлопающих и смеющихся, мелькнули мы, молодые и нарядные, просто чудеса, даже краска бросилась в щеки, и потом еще раз, — наверное, понравились оператору. Меня поразило, как мы выглядим со стороны, — может быть, и юной, но очень подходящей, ладной, вполне самостоятельной парой. Красиво выглядели, и я понял, почему Алина хотела, чтобы я это не пропустил. Лица наши сияли любовью, я смеялся от души, ухватив ее за руку, как своего человека. Если бы бабка и Елена Владимировна увидели вдруг эту хронику, им и писем никаких не надо было бы читать.
Но дело не в этом; сейчас я вспоминал: как опять-таки велика была разница между теми двумя, веселыми и счастливыми молодыми людьми на экране, и этими, которые глядели теперь на них из зала. Наверное, если бы снова нас снять, в пальто, шарфах, меня кашляющего, а ее с отсутствующим и пустым взглядом, измученную все одной и той же заботой, то обе картинки поразили бы контрастом. А прошло всего лишь два месяца. Быстро.
Итак, она не пришла. Ну что ж, извините, братцы. Видно, что-то случилось, сегодня уже, наверное, не придет.
А надо бы. Надо бы прийти. И именно сегодня.
Я потом долго еще стоял один, у окна, курил и кашлял; разогрел на газу молоко и пил горячее, с содой, обжигаясь до слез».
«…«Неотложка» уехала, бабку усадили в кровати в подушках, и она как начала говорить, так и не останавливалась всю ночь. Будто укол, который ей сделал врач «неотложки», был не успокаивающий, а возбуждающий. «Пусть идет, — говорила она, — иди, Аня, иди. Куда хочешь. Живи сама. Ты сама все решаешь, без нас, вот и живи сама. Мы тебе не нужны. («Не нужны», — отвечала я про себя.) Пусть она идет, Лена. Оставь ее, не говори ей больше ничего. Пусть идет, пусть живет со своим графом. Увидишь, как она потом прибежит обратно. («Как же!») Локотки станет кусать. Поживет недельку без горячей воды, без чистой постели, на картошке да на лапше, «Валя, подай, Валя, прими!» — посмотрим, надолго ли хватит-то. Иди, милая. Тебе мальчишка плюгавый, плебей («Сами-то кто!») в с е г о дороже, в с е г о! А у тебя мальчишек-то этих будет в жизни, знаешь, сколько? («Не такая, как вы!») Какая дура! Нет, пусть идет. Ступай с богом! Отдай ей, Лена, все, что хочет («Вот это неплохо бы»), и пусть, с богом! Понюхает, почем фунт лиха, узнает. Где ночевать-то собираетесь сегодня, не скажете? А то утром букет пришлем, поздравим!..»
И опять сначала: «Иди, иди, скатертью дорога…»
Я не отвечала ни слова, я вообще с ними не разговаривала, упорно ни на что не отвечала, сидела у себя в комнате, у подоконника, и терла, терла пальцем, скоблила ногтем чернильные пятна на белой краске, больше ничего, ни слова, ни звука. Мать в конце концов шваркнула дверью и ушла, в последний раз сказала, чтоб завтра же к Ройтману; Валя с паническим лицом то возникала, то исчезала без слов, ухаживая за бабкой; я сидела, не раздеваясь и не одеваясь, не уходя и не оставшись, но уже ясно, что не уходя. Почему я не ушла, отчего сидела, как клуша? Сама не знаю. Отчего я только морщилась от пощечин, будто они не ко мне относятся, и словно издалека, словно через бинокль рассматривала мать: как она орет, как дрожит ее старая шея, какая она красная, большеносая, большеглазая, в бабку, золотые коронки мелькают во рту, и брызги летят изо рта от ярости. Какой чужой и неприятный мне человек, думала я, как она не понимает, что ее слова ничего не значат для меня. И пощечины тоже. Я н е д о л ж н а в о л н о в а т ь с я, мне вредно. Конечно, в другом положении я бы тоже орала и билась в истерике, но теперь мне н е л ь з я, и все. И как мне убедить вас, что вы бесполезно кричите, надрываетесь, бабке уже плохо, а мать красная, лоб в белых пятнах. Боже, даже жалко их, — они ведь тоже ни в чем не виноваты, они хотят как лучше, ради меня стараются, желая мне добра, — еще бы, растили, растили, пестовали, берегли, как цветок, — нате вам, напествовались! Вот вырастет моя девочка, стану я старая, интересно, как я буду реагировать, когда она приведет ко мне за ручку своего Адама? Пусть бьет, может, она и права. А мое дело терпеть, больше ничего. Главное — не волноваться. Главное — чтобы туда, до низу, ничего не доходило. Здесь, до пояса, бейте, колотите, душу терзайте, а там должен быть покой, и все. И не ухожу я никуда тоже только из-за этого. Петьку жалко, представляю, как он сейчас там бесится и что думает, как вздыбилась его гордость, он и меня уже там небось проклял заодно с моими бабами-ягами. Но куда я пойду? Где мне спать с моим животом, чтобы ему было спокойно? И бабка права: мне нужна горячая вода, чистая постель. Я все равно не отдам вам эту девочку, как хотите. Э т а д е в о ч к а б у д е т м о е й.
«Ты ничего не понимаешь в жизни, — канючила бабка, — на что ты надеешься, чего ждешь? Для этого ты училась, поступила, для этого мы тебя растили? («Может, и для этого!») Ну, я понимаю, обеспеченный муж, ты сама стала на ноги, все налажено, — ради бога, рожай, кто тебе что скажет. Но сейчас-то зачем?..» Честно сказать, сама не знаю. Надежд, правда что, никаких, позору не оберешься, от Петьки помощи ждать глупо, не скоро дождешься, да еще и неизвестно, как он воспримет эту девочку и меня, когда я стану мамой. Петька тоже отступает в сторону и удаляется на расстояние бинокля, как и все остальные. Не знаю, не знаю, опять не я сама, а чужая воля, микроб руководит мной и не дает сдвинуться с места: вот так, — командует, — и не иначе. Конечно, другая на моем месте давно бы побежала к Ройтману, все сделала, что надо, и забыла бы об этой истории, как о страшном сне.
«…и забыла бы об этой истории, как о страшном сне, — шепчет бабка, склоняясь в мою сторону с кровати, — и к нему бы опять потихоньку бегала, только без этого пожара, без этого развешивания афиш по всему городу. Думаешь, у меня не было романов («Не думаю»), думаешь, я не стояла вот так — хоть убейте меня, а я уйду, — было, было, все было, господи, прости ты мою душу грешную! Но есть же граница, есть предел…» («Говори, говори!») А я знаю, что надо сделать: созвониться с Ройтманом, поехать к нему завтра, попросить: пусть скажет, что все мне сделал, а там срок пройдет, и поздно будет. Нет, побоится матери. Надо заболеть, нажраться снега, мороженого, выйти голышом после душа на балкон. Температура, воспаление, ничего делать нельзя. Да, а как же девочка? Ей-то это вредно… И что в самом деле, девочка, девочка, может, и вправду, не нужна эта девочка? «…Зачем тебе ребенок, ты сама еще ребенок, ты ничего не умеешь, не знаешь, я тебе уже помочь не смогу, моя песенка спета, что я могу?» («Чужие письма читать, черт бы тебя подрал!»)
И вот так она говорила и говорила (а я отвечала), кряхтела и стонала, плакала, обзывала Петьку негодяем. «Как меня обманул, так и тебя обманет, увидишь!» — грозилась умереть, не жить, если я не сделаю, как они велят. «Лучше умереть, чем увидеть тебя в обносках, в отрепьях, будешь вечно стоять у корыта, у плиты, собирать копейки, мать тебе ни за что не поможет, ты ее знаешь!» («Знаю, знаю, спасибо! И не надеюсь!»)
Я дождалась, когда квартира затихла, пошла в ванную, разделась, вымылась, потом пришла на кухню. Валя вскочила на своей раскладушке, как китайский болванчик, — она уже забылась от нервного напряжения дурным сном. «Ну?» — спрашивали ее преданные глаза. Я только рукой махнула, Валя сникла. Я пила холодный чай, грызла сахар, есть хотелось нещадно, но я решила: у н и х ничего больше не возьму. Выгнать они меня не выгонят, это мой дом в конце концов, я тут п р о п и с а н а, пусть не орут. И девочку сюда пропишу, имею право. Точно. Они так, и я так, на насилие — насилием, на демагогию — демагогией. Они, между прочим, пожили, и неплохо, а нам, значит, нельзя? Мешаем?.. Нет, мы тоже люди, и мы, между прочим, совершеннолетние… Боже что я думала и говорила про себя, кто бы послушал! Опять дикий, чужой микроб правил мною, а я покорно и согласно подчинялась ему, его отвратительной логике. Я защищалась и уже готова была склочничать и делить метры жилплощади с родной матерью, как последняя скотина. «А что прикажете? — орал микроб. — Подыхать? А они будут — и тут трехкомнатная, и дача, и по курортам? Выкусьте!..»
Я сидела в ночной рубашке, и Валя сидела со мной, я погладила машинально живот, и Валя посмотрела и спросила робко, страдающе глядя: «А много-то, Галина?» (Она никогда не могла понять и выговорить имени «Алина».) Я показала ей три пальца. Валя закачалась болванчиком и запричитала: «Ой-ой-ой!» И тут я поняла, на кого я еще могу положиться: на Валю. «Ну что мы с ним не справимся? — зашептала я. — Ну что такого-то, Валь? Ну, жалко же, скажи?..» Она в меня ткнулась, заревела, стала руки мне гладить, тут я тоже не выдержала, слезы в три ручья. Но тут же живот задергался, икота началась, я испугалась, сразу слезы высохли: плакать вредно. Нет, я не хотела никому отдавать эту девочку.
Кончилось тем, что бабка, конечно, тоже притащилась на кухню: она не могла оставить меня даже на пятнадцать минут. И опять уговаривала: «Это дикое, ослиное, плебейское упрямство. Ну, кому ты хуже делаешь, кому? Кому портишь жизнь?..» — «Себе! — сказала я наконец вслух, да с такой ненавистью, что бабка отшатнулась. — Себе! И поэтому вы — не лезьте!»
«…Понимаешь, — говорил Петька и сосредоточивался, тянул паузу. — Понимаешь…»
Мы ходили с ним по скверику над Яузой, тому самому, откуда он когда-то бегал для меня за мороженым, теперь под ногами хлюпал талый мартовский снег, солнце вовсю светило, воробьи верещали и купались в снежных синих лужицах.
Я заранее слышала и знала — все, что собирается он мне сказать с таким трудом: «Давай подумаем… может быть, все-таки не стоит… мне-то что, а вот ты-то как будешь…» — и так далее и тому подобное. Петька был красивый, милый, глаза синие-синие от этой погоды, но полны тревоги и внимания ко мне: как я, что я? Он постригся, новые его усики, которые он решил не брить, очень ему шли, красно-рыжий шарф, который я ему подарила на Новый год, обнимал горло и хвостом болтался за спиной. Шапка на затылке, в руке прутик — жить, жить! — по воздуху, по лепешкам сырого снега на скамейке, по красным розгам мокрого, уже по-весеннему растопырившегося тальника.
«Ты не мучайся, — сказала я ему просто, — ты меня любишь?»
«Да, — он обрадовался, — но…»
«Без «но». Ты меня любишь?»
«Да, конечно».
Мне не нравились ни «но», ни «конечно», ни его растерянный взгляд, но меня это странно веселило, точно освобождало, будто я опять одна, как одинокое облако, уплываю куда-то ото всех и могу взглянуть на происходящее с неожиданной высоты.
«Любишь, так и не бойся ничего, — говорила я голосом бабки, — чего ты боишься?» «Я не боюсь, ты что?»
«Вот и не бойся, Я рожу этого ребенка, я решила».
«Да, конечно, но как? Ты подумай, практически…»
«Если ты не хочешь, я найду ему другого отца».
«Ты что, очумела?»
Мы стояли друг против друга, смеялись, прутик вжикал — жить, жить! И вроде ничего не происходило, все было просто и хорошо, но так много происходило, — таяло и капало, гудело машинами, светило и сверкало, чирикало и летало, так много, что болели глаза и покруживалась голова.
«Почему же ты там сидишь? — спрашивал он. — Почему ты не уходишь? Жорка нашел комнату, и маме обещали на работе…»
«А зачем? Разве я не имею права там жить? Если хочешь знать, даже ты имеешь право там жить, стоит нам расписаться».
Микроб, микроб резвился и показывал всем язык.
Он поглядел ошалело: кто это говорит?
«Ну знаешь! Я лучше буду жить…»
«Ну где, где? Я все сама знаю. Ты только мне не мешай».
«А я-то что?»
«Ты? А ты ничего. Гуляй».
«Ненормальная».
Мы опять смеялись. Текло и капало, сверкало и гудело. Жить! — свистел прутик. Он хотел целовать меня — я не давалась. От поцелуев у меня живот сразу падал вниз, как лифт, я боялась, что это вредно.
Я молчала по-прежнему, ни с кем не разговаривала, но то, что я осталась дома, они — они же не знали, о чем я думаю, — воспринимали как знак покорности. Я поднималась раньше всех и старалась тихо уйти, не завтракая. Я молчала.
Но вот затишье кончилось. В одно прекрасное утро мать встала вместе со мной и сказала: «Отец уезжает сегодня на три дня в Воронеж в командировку. Я договорилась с Марком Ефимовичем, он приедет к нам завтра в десять утра. Приготовься. — Она не дала мне ничего возразить. — И не бойся. Ты даже ничего не почувствуешь. Это я тебе говорю. Он не зря берет семьдесят рублей».
Не забыла ввернуть про деньги. Я хотела ехидно спросить, когда надо будет их отдать, через сколько стипендий, но удержалась.
«Я не хочу этого делать, мама».
«Я больше не говорю на эту тему».
«Но это все-таки меня касается больше, чем всех».
«Завтра в десять человек будет здесь».
Я вышла на улицу, остановилась и поняла, что не могу никуда идти: ни в институт, ни домой назад, никуда. Силы мои кончились. И я поняла, что завтра все это произойдет: быстрый, надушенный Ройтман, который тебя не видит, будто ты табуретка, медсестра, уколы, страшные инструменты. Живот у меня заныл, точно сапогом ударили. От одной мысли больно стало, и девочка бедная забилась, как птенчик у кошки в лапах. Удивительно мир устроен: наверное, в эту самую секунду многие женщины добровольно сделали бы то же самое, что должна сделать я, а я, как дура, говорю: нет — и все. В чем дело? И что за силы держат меня?
Я перешла через улицу и позвонила из разбитого вдребезги автомата — тогда автоматы еще были деревянные, если кто помнит, и у этого дверца висела оторванная напрочь, а стекла выбиты, — я взяла и позвонила Саше Сибирякову. «Саша, — сказала я, — мне очень нужно с вами поговорить. У вас найдется полчаса?» — «У меня? Для тебя, — запел он там на разные ноты. — Алина, сжальтесь надо мною! («Знал бы ты, какой сюрприз тебя ждет!») Значит, так, сегодня у меня в 14.30 англичане, потом… Нам надо сегодня встретиться?» — «Сегодня». Мой тон остановил его шутки. «Хорошо. В семь, полвосьмого я у вас». — «Лучше я у вас». Он удивился. «Хорошо, у меня. Адрес помнишь? Буду ждать».
Вот и все.
Так я родила свою девочку.
Саша Сибиряков закармливал меня яблоками, где-то он вычитал, что у ребенка будет замечательная кожа, если все время есть яблоки. Он занимался, как всегда, со мной английским и водил в театр. Он был мил, суетлив, заботлив, точно я на самом деле его жена, и он ждет своего ребенка. Но чем больше я жила там, в его доме, наблюдала его, слышала — мы должны были спать в одной комнате, хоть и врозь, — тем сильнее он мне не нравился: он был трус, лакей, скряга, ненавидел всех вокруг за то, что его, по его мнению, недооценивали.
Все время, что я жила у Сибирякова, к нам в гости ходил Лёся, Леонид Францевич Ноль. Он навещал бабку, потом от бабки шел обычно ко мне. «Позвоните бабушке, — канючил он без конца, — позвоните, не будьте эсэсовкой, никто ни в чем не виноват, а она вас любит».
«Я ее тоже люблю», — говорила я, но не звонила. Мой дом, бабка, мать, Петя, Никольское — все находилось словно в другой стране, на ином материке, а не в трех остановках метро. Даже не могу объяснить, отчего я д о т а к о й с т е п е н и была обижена на них, — точно всех похоронила. Впрочем, иногда я звонила; ни я, ни бабка не выдавали своих чувств: как дела, как здоровье, все нормально, спасибо. Ни просьб, ни слез, ни объяснений. Мы объяснялись с ней по ночам, когда я лежала и глядела в потолок и знала, что она в этот час точно так же разговаривает со мной.
Когда бабка заболела и ее отправили в больницу — весь наш дом уже был разорен, — я отдыхала на Рижском взморье, куда Саша достал мне путевку, а Лёся проводил на поезде, — я гуляла по прекрасному летнему белому пляжу со своим пузом, кормила чаек и ничего не знала. И умерла бабка без меня: я была как раз в роддоме и рожала в муках свою девочку».

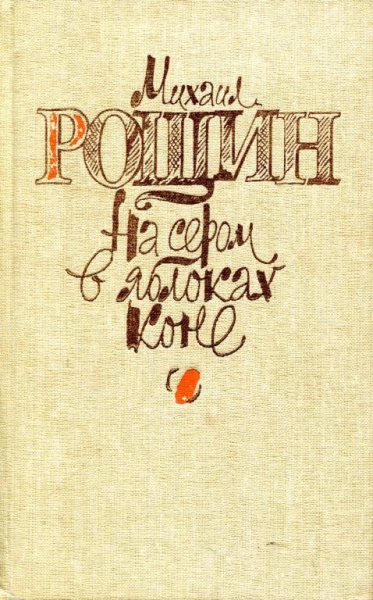

Комментарии к книге «На сером в яблоках коне», Михаил Михайлович Рощин
Всего 0 комментариев