Галина Шергова Заколоченные дачи
Каменный Шекспир высовывался по пояс из прямоугольного проема в стене церкви Святой Троицы, точно утренний горожанин, окликающий зеленщика. Дальше, в нескольких кварталах от этой церкви, неистовый Вильям был другим. Там у его хрестоматийного изваяния несли свой чугунный караул дети шекспировской фантазии: леди Макбет безуспешно стирала — который век — пятна крови с грешных ладоней; Гамлет разглядывал череп Йорика, металлический череп, теперь уже не подвластный тлению; Фальстаф, еще не изведавший предательства принца Гарри, тянул вино из нескудеющего кубка. Штаны на коленях Фальстафа были латаны желтыми пятнами: их отполировали юбки дам-туристок, которые любили фотографироваться в Стратфорде в обнимку с великим вдохновителем застолий. Шекспир со стратфордской площади знал тайны убийств из-за власти, предательств и любви, отмыкающей входы могильных склепов. А этот, в церкви Святой Троицы, остался навсегда добрым соседом добропорядочных стратфордцев, чтобы иметь возможность высунуться из окна даже после того, как соседи уложили его под каменные плиты церковного пола. В конце концов, он ведь и был их соседом, просто соседом.
Что он сказал перед смертью? Какие слова он произнес? Наверное, обычные, случайные слова человека, испуганного необратимостью конца. Конечно, ему и в ум не приходило, что поколения школьников обрекаются на вызубривание этой фразы, а поколения учителей и литературоведов — на ее толкование. Правда, какие же слова? Черт его знает. А ведь и я, наверное, их учил. Факт — учил. Не помню.
А Ната сказала расхожую, много раз до того слышанную фразу: «Смешно: когда умирает муж, остается вдова, а когда умирает жена, остается жених. Правда, смешно?» — и заплакала. Эти слова не были ее последними. Но я не помню ничего, что она успела сказать в три последующих дня, отпущенных ей болезнью. Для меня эта фраза осталась ее предсмертной. В те же три последующих дня эти слова раздражали меня несвойственной Нате банальностью и, может, будь они сказаны не в палате для обреченных, послужили бы поводом к ссоре. Но мертвые получают право на пророчество; любая банальность, произнесенная умершим, цитируется близкими как афоризм. А в общем, так и оказалось. Теперь, два года спустя, выяснилось, что Ната сказала все как будет, все как есть.
Вчера вечером, уходя, я подошел к Кире, чтобы поцеловать ее на прощание. Она сидела, поджав под себя ногу, где-то в самой утробе огромного кожаного кресла. Слишком огромного для ее маленькой квартиры и похожего на заживо дубленного борова. На журнальном столике перед креслом стояла недопитая чашечка с чёрным кофе. Теперь в интеллигентных домах есть такой ритуал — все стали заходить друг к другу на чашечку кофе. Я кофе ненавижу и приучиться к этим замашкам не могу. Но Кира уверяет, что «без кофе не живет». Ничего, жила всю жизнь прекрасно без кофе. Ничего, жила. Она сказала: «Ну, Проскуров, поезжай в свою Березовку — и создавай. А я буду приезжать к тебе редко-редко. Как на побывку к жениху. Будто ты мой жених. Ладно?»
Я не поцеловал ее, только погладил волосы. Вот одно слово — и опять Ната, и ее предсказания, и все идет к чертям собачьим.
Я не могу больше об этом думать. День за днем я отучаю себя думать об этом. Но весь мир пойман, как косяк рыбы, в сеть ассоциаций, и я бьюсь где-то в сердцевине. И не могу разорвать узелки, которые завязываются то и дело на ее словах, на ее движениях, на предметах, тронутых ею.
Я не буду думать об этом. Я буду думать о Шекспире и своей недавней поездке в Стратфорд-на-Эйвоне. Я хочу написать их и о них, и они уже складываются в облики, в звучание фраз, и я чувствую их уже как одежду, переставшую быть театральным костюмом, обминающуюся на сгибах локтей и коленей морщинами повседневности.
В кладбищенском дворе церкви Святой Троицы старые камни надгробий топорщились, подобно выщербленным плиткам серой черепицы, и беспомощно кренились в траву, траву безучастия и запустения. Я не раз наблюдал это небрежение на английских кладбищах, и поначалу оно меня удивляло. Мое литературное представление об английской патриархальности не оставляло места для подобного отношения к родственным корням. Мне так нравилась духовная цельность англичан и ясность их представлений о мире. Казалось бы, такой статус требует прочно оберегаемых знаков предшествующего. Но позднее я понял, что небрежение к могильным аксессуарам часто дает возможность сохранить бессмертие тому, что единственное и вправе рассчитывать на бессмертие, — человеческой душе в ее битвах за истину. Шекспир сплошь и рядом даже не давал себе труда похоронить погибшего героя. Могилы Гамлета и Лира могут остаться придорожными холмиками, люди все равно веками будут отстаивать право думать над загадками, мучившими их.
Свой альбом стратфордских рисунков я непременно хотел предварить собственной статьей. Но я знаю, если я когда-нибудь напишу об этом, на меня кинутся сотни знатоков английских погребальных ритуалов, чтобы доказать случайность моих наблюдений. Кира — первая. Она терпеть не может «приблизительных знаний». Пусть, пусть. Из меня этого не вырвешь. Я узнал что-то для себя и не собираюсь хвататься за прочную бечевку достоверного. И так уж… Да, когда я вдруг начинаю покрываться холодной испариной от ужаса, что никакой я, к черту, не художник (наверное, такое со всеми бывает, но от этого не менее страшно тебе), я знаю, в чем тут дело. Крепнущая отвычка от собственного мировосприятия. Разучиться проводить точную карандашную линию или угольный штрих нельзя. Это как езда на велосипеде. Выучился — и через двадцать лет поедешь. Потренируешься и поедешь. А вот разучиться думать — самому! — чувствовать — самому! — видеть — самому!.. Это сколько угодно, за причинами дело не станет. Кажется, насчет Гамлета и Лира — это я слабовато, а?
Ничего, ничего… Вот я снова вхожу в мир тишины, где все предметы зримы и имеют значение. И я буду разглядывать их и слушать, и что-то внутри томительно зазвенит, и это будет то, что нужно, чего ждешь и не можешь дождаться в московской неразберихе. Конечно, подмосковный дачный поселок не Болдино, а побег в уединение средствами пригородной электрички не очень смахивает на уход в скит…
Оттого что улицы и участки за хилыми ребрышками штакетника были завалены непорочными холмами снега, рождалось ощущение стойкого порядка. Мир не был заброшенным, забытым под этими белыми грудами, напротив, он казался обжитым и прибранным, как комната педантичной вдовы.
Странное дело эти зимние заколоченные дачи!.. Помню, во время войны я шел по улице разбомбленного Ростова-на-Дону. Коробки домов были целы, но лишены внутренностей, как бывают лишены пластмассовые манекены в витринах теплоты живого тела. Такой причудливый некрополь, город мертвых, силящийся уподобиться поселению живых.
Скопище заколоченных дач не наводило на мысль о некрополе. Казалось, за заборами, окнами и дверями еще живут чьи-то голоса, недавние ссоры и ревнивые признания. Будто их владельцы покинули дома, замуровав в них бесплотные знаки жизни, а жизнь эта непременно была полной тех страстей, волнующей остроты отношений, к которой мы все стремимся и которая всегда чья-то, не твоя.
— У Феньки на заду бубенчик будет. Как начнет заваливаться — зазвонит…
Фраза была довольно нелепая, да и взяться-то ей было вроде неоткуда. Голосок, отчетливый, школьный, возник справа. Там у заборчика стояли мальчик и девочка, она приторачивала к детским санкам огромный бидон. На веревке, охватившей его ржавое тело, висела связка каких-то железяк. Я подошел.
— Здравствуйте, — сказала мне девочка и варежкой отодвинула со лба челку. «Здравствуйте» совсем не было выражением нашего знакомства, просто знак сельской вежливости. Однако произнесла она это так, словно и впрямь меня знала.
— Я поехал, ма. — Мальчик потянул санки.
— Если у станции не будет, поезжай в Глухово. В сельпо всегда керосин есть. Поезжай-поезжай, не лентяйничай. — Она похлопала его по спине. — Но-о, ко-ня-га! — И залилась смехом.
— Кто же такая Фенька? — спросил я.
— Фенька — наш бидон для керосина, есть еще поменьше. — Сенька, для молока, и Дунька — махонький, для масла растительного.
— А как зовут мальчика и девочку?
— Мальчика — Витя, а его мамашу — Зина.
Она снова залилась смехом, откидывая со лба челку быстрым и вкрадчивым движением. И именно этот жест, очень женский, заставил поверить, что девочка — Витина мать. Все остальное в ней — кургузые резиновые сапожки, коричневое пальтишко на огромных пуговицах и даже лицо-блинчик, какие рисуют художники-иллюстраторы детских книжек, «точка, точка, два крючочка», — все было безнадежно инфантильным.
— Вы у Прохоровых снимаете? — спросила она и сама ответила: — Я знаю: левый низ с кухонькой. А мы тут постоянные, зимники. Вот зайду как-нибудь соль-спички попросить. По-соседски. В деревне все соль-спички одалживают. Просто зайти неудобно, а тут вроде предлог.
И снова проступила в ней женщина: произнесла это Зина не с детской непосредственностью, а с нарочитой бойкостью бывалой бабенки.
— Гостям рады, — сказал я, хотя вовсе не хотел в Березовке никаких общений.
— Пока! — Она махнула варежкой. — У меня смена, я в Москву. — И побежала, впечатывая в тропинку серые, с круглыми подошвами, как звериные лапки, сапожки.
Дело шло к закату. В чистом, отстиранном полотнище неба растекались розовые и лимонные потеки. Ели, напитанные тяжелой зеленью, тут и там мазали небосвод. Еще минута — и с елей на небесный простор поползла зелень, точно деревья линяли в едком растворе воздуха. Я смотрел на эти оплывы цвета где-то надо мной и передо мной и ждал, что вот-вот у меня тревожно заноет под ложечкой, как бывало всегда раньше, когда я видел что-то прекрасное, требующее душевной «поимки». Но миг этот не приходил. Просто видел и видел. Значит, если даже точно запомнишь, на холсте виденное не обретет второй жизни.
Зина постучала в окно. Я уже за эти три дня забыл и встречу на тропинке, и ее посул зайти «за солью-спичками», но сразу понял, что это она. Дробный стук очень смахивал на бойкую Зинину скороговорку.
— А вы уж и коробок сразу вынесли. Это чтобы я дальше не шла?
Я действительно держал в руке спички: как раз растапливал на ночь печку.
— Но соль в комнате. Придется войти. — Я взял ее за руку и перевел через порог.
Зина сняла пальто, села на табуретку у моего рабочего стола (в летние месяцы хозяйского обеденного).
Я извинился — сейчас вернусь, только покончу с печкой. Печка выходила дверцей в соседний закуток, именуемый Прохоровыми прихожей. В спину мне Зина сказала:
— А вам идет свитер. Фигура выигрывает. Вы в костюме не ходите.
— Это вы меня в костюме не видели. Знаете, какой красавец! Глаз не оторвешь. — Я дунул в печку.
— Почему это не видела? Я вас во всем видела. И в костюме, и в плаще югославском — такой шанжанистый, да? И в плавках видела. В Серебряном бору. Точно!
— Ну и как?
— Ничего. Фактура есть. Но в свитере лучше. Сорокалетние мужчины даже с хорошими фигурами в прикрытом виде лучше смотрятся.
— У-тю-тю! — Я поддел лучиной поленце, однобоко тлеющее на вершине деревянной горки. — Какой спец по сорокалетним мужчинам! Но мне больше: уже с хвостиком.
— Спец не спец, а жизнь повидала. Слава богу, двадцать восемь лет. К тому же мать-одиночка. Пять рублей в месяц с государства — Витьке на книжку. Когда с армии придет, однокомнатную квартиру ему построю. — Она произнесла все это залпом, с привычным вызовом и вдруг по-другому, деловито закончила: — Если, конечно, московскую прописку пробью ему.
Бронхитный кашель, возникший где-то в глубине тлеющей поленницы, разорвал невидимый барьер, и пламя вырвалось из заточения, охватило дрова. Печка «взялась». Можно было войти в комнату, но я не знал, с чем прийти. Какого черта я поддержал этот развязный разговор, толкающий к дальнейшей двусмысленности поведения. Совсем этот шустрый взрослый подросток не вызывает, так сказать, крамольных инстинктов, и нечего было гарцевать: «Ну и как?»
Все-таки я вошел и прижался спиной к печке, еще затаившей утреннее тепло. Зина сидела, упершись пятками в перекладину табуретки, натянув на колени подол огромного бесформенного свитера.
— Вам тоже идет свитер. — Надо же было что-нибудь сказать.
Она закатилась в хохоте:
— Не подходите — укушу! Он собачий. С нашего Тарзана. Мы с Витькой его год чесали. Тарзана, конечно.
— А сколько Вите лет?
— Одиннадцать.
Мы помолчали, и Зина, свесив набок челку, хмыкнула:
— Считаете, сколько мне лет было? Точно. Семнадцать. Он тоже тут, в Березовке, жил, тоже зимник. Я тогда уже без родителей была. Вперед хотел на мне жениться, а когда с армии пришел, уехал и адрес не прислал.
И совсем вам не помогал?
— He-а. А, пускай… Он же меня не совращал, я же его сама любила. Пусть. Сами проживем. Это нам ничто иное.
Пожалуй, для первых пятнадцати минут визита биографических подробностей было многовато. Я сам как-то не умею вытряхиваться перед первым встречным, и нежданная откровенность другого меня тоже раздражает. А о чем я с ней мог говорить? О Шекспире? Вот уж тут точно: «что ей — Гекуба?».
— Давайте ужинать, — сказал я.
В день отъезда в Березовку теща моя Елизавета Венедиктовна вошла в мастерскую с объемистым свертком, натуго перевязанным. «Вам, Кирилл, просили передать пакет. Какая-то женщина. Она ни за что не хотела входить. Странно». Я развернул плотную бумагу — сверток содержал мороженое сало, банку соленых огурцов, связку воблы, полдюжины бутылок пива «Жигули». А также записку: «Опрощайся по всем статьям. К.». Кира любит «стилистические изыски», как она выражается. Конечно, к такому комплекту больше шел бы, скажем, самогон. Но Кира проявляла и чуткость к моим вкусам: к крепкому спиртному безучастен, пиво обожаю.
— Давайте, — сказала Зина. — И выпить у вас найдется?
— И выпить найдется. Пиво пойдет?
Я принес из сеней сало, хлеб, огурцы, воблу, пиво и два стакана.
— Пошли сядем у печки, — предложила Зина, — будем смотреть на огонь. Пошли, а?
…Полчища крохотных синемундирных воинов брали приступом зубчатую крепость полена. Осажденные там, по другую сторону ало-кирпичной от пламени стены, мелкими перебежками пытались занять стратегически выгодные позиции для обороны. Почему-то именно неприрученные стихии — огонь, вода, ветер — чертят в сознании эскизы людских действий. Их жесткая схематичность бывает точнее доскональной картины события, развернувшегося на твоих глазах. Я подумал о «Короле Лире» в постановке Питера Брука. Графический, почти скудный лаконизм декораций высвобождал человеческие страсти из хламид повседневности. Страсти очищены, они выпадают на дно зрительного зала, точно кристаллы в прозрачном растворе. «Долой, долой с себя все лишнее!»— сам Лир сдирает с тела одежды, прорываясь к прозрению мира в его истинности. Это в сцене бури. Не знаю, бури ли елизаветинского двора диктовали Шекспиру диалоги этой сцены. Может быть, обычная деревенская гроза, застигнувшая в пути театральный фургон, наметила чертеж бури, расколовшей лировское государство и лировскую душу. Стихия была не символикой, а графическим прообразом.
— Долой, долой с себя все лишнее! — сказал я вслух.
Зина вздрогнула, покраснела и как-то затравленно выглянула из-за кулисы прямых, падающих к поднятым коленям волос.
Я захохотал:
— Нет, король Лир призывал к иному.
— Мы записывали «Король Лир», радиопостановку.
— Где?
— Как то есть где? На работе. Я же звукооператор на радио. — Она отвернулась, снова уводя глаз и круглый холмик носа за кулису волос. — Вы думаете, я уж совсем серая. И «Король Лир» не слыхала. В виде девушка из предместья.
— Кто вас так называл?
— Называл. Один. Ладно. Вообще-то точно. У нас все девчонки культурнее меня. А вот режиссеры всегда ищут: где Зина, где Зина? Потому что я на один слух могу поймать букву и одну нотку вырежу, и в наложениях у меня никаких чихов не бывает. Иногда на четырех аппаратах сразу работаешь, а все тип-топ. Пусть даже пять, это нам ничто иное.
Что-то жалостливое было в Зининой хвастливой отваге. Я обнял ее, и она, приткнувшись к моей подмышке, совсем исчезла под рукой. Потом я поцеловал ее в губы. Сначала она не сопротивлялась, но внезапно отдернула голову и затрясла челкой:
— Не надо, не надо, Кирилл Петрович, не надо…
Но мне уже не хотелось отпускать ее. Я плотнее прижал к себе маленькое угловатое тельце.
— Ну почему? Ну почему?
Она вырвалась, и я увидел, что у нее светлые-светлые глаза. Они точно вынырнули из-под челки, жалобные и испуганные.
— Потому что я вам никто. А вы мне — кто-то. Если бы вы мне тоже были никто…
Потом глаза ее стали еще больше и светлее, потому что в каждом возникло по слезе.
— И смеяться тут нечего.
— Я не над тобой.
В общем-то я не врал. Я улыбнулся потому, что мне показалось забавным, что она так подробно отвечает на этот сакраментальный вопрос «ну почему?». Все мужчины всегда лопочут в такие моменты это самое «почему» вовсе не в расчете на разъяснения. Вопрос, так сказать, риторический. Женщины, с которыми я был связан, отлично это понимали. А она пустилась в объяснения.
— Надо мной, — сказала Зина убежденно. — Вы же не разговариваете даже со мной. Вы со своими мыслями разговариваете. Ведь верно?
— Верно, — сказал я.
— Я пойду.
— Иди. Приходи как-нибудь. За спичками.
Когда она пробегала мимо окна, глухой стук ткнулся в стекло: видимо, Зина задела ветку и та швырнула в окно снегом.
Наконец приехала Кира. Я говорю «наконец» совсем не потому, что так уж не мог дождаться ее. Но я знаю, что она выжидала две недели и высчитывала дни, чтобы получилось подольше. Кира изо всех сил старается не быть обременительной и то и дело дает мне почувствовать, что ее присутствие в моей жизни не только не мешает моей работе, напротив — побуждает к творчеству.
Ната никогда не задумывалась над тем, обременяет она меня или нет. Она могла месяцами даже не спрашивать, над чем я работаю. Не интересовалась — и все. Я усматривал в этом безразличие к моей деятельности, непонимание и злился. А иногда она вдруг входила в мастерскую и начинала тасовать листы эскизов, удивленно подняв брови. Причем это бывало в особенно напряженные моменты. И я опять злился. «Ну что, не подходит?» — спрашивал я мрачно. Она пожимала плечами: «По-моему, все это — мадам Литература». Мы начинали ссориться, но через час она уже как будто не помнила ни о своем отношении к рисункам, ни о ссоре. Однако фраза вроде «мадам Литература» оставалась где-то внутри меня, и я начинал работу сначала. Хотя и уговаривал себя, что это дилетантские, бездумные словечки. Но теперь я понимаю, что не Натины замечания имели значение для моей работы. Какая-то первозданная естественность ее поведения подсознательно передавалась и мне. А вероятно, нескованность, естественность ощущений и есть самое необходимое для художника.
— Мы пойдем гулять, — сказала Кира.
На ней была новая куртка с капюшоном, отороченным рыжей лисой. Почему-то я знал, что куртка готовилась специально для этой поездки. Она ей действительно шла: лицо выглядывало из мехового ореола, как хорошенькая мордочка горжетки. На мордочке поблескивали черные пуговки-глаза. Я уже было собирался похвалить капюшон и пуговки, но в этот момент Кира взяла щепотку снега и посыпала на мех, чтобы я обратил внимание на куртку, и я ничего не сказал.
Сумерки упрятали дачи куда-то глубоко-глубоко за заборы, и улица притаилась.
— Ты был прав, решившись на побег, — сказала Кира. — Тут так мертво, будто никогда и жизни не было. Мы с тобой одни живые в мертвом поселке. — Она, привстав на цыпочки, прижала лоб к моей щеке. — И теплые.
Я поцеловал ее и подумал о том, что заколоченные дачи вызывали у меня совсем иные ассоциации.
У дороги стояла крохотная обледеневшая избушка, прикрывающая колодец. Поникшие, сползающие сосульками крылья ее крыши, какие-то нищенские и бездомные, вызывали щемящее чувство жалости, как деревни, обездоленные войной. Именно эти деревни и возникли сразу передо мной, особенно та, на Смоленщине! Кира опять прижалась ко мне лбом и шепнула:
— Мы с тобой такие теплые, что можем жить в ледяной избушке. Давай будем в ней жить. — Она подбежала к колодцу, подтянув меня за руку, и нагнулась вниз, в сруб, откуда дышал нестойкий пар. — Каждое утро мы будем просыпаться и говорить… — Она крикнула вниз, воде: «Я люблю тебя, Кира»… Повторяй. Ты можешь это повторить?
Я сказал в черную, многоголосую утробу:
— Я люблю тебя, Кира.
— Мы очень созвучные, у нас даже одинаковые имена. У нас одно эхо, — сказала она, нагибаясь еще ниже.
Я вдруг увидел себя и Киру такими, какие мы есть сейчас, на околице той давней послевоенной деревни. Собственно, какая околица могла быть у одинокой, оплывающей сосульками избы, заменяющей целое село. У избы вертится мальчуган в женской городской кофте, натянутой поверх каких-то лохмотьев. А мы кричим ему о созвучии наших имен и общем эхе.
Разумеется, сцена эта была нелепой, в те времена, когда я шел с войны, никакой Киры со мной не было, и не могла она иметь отношение к той моей жизни, как и смоленская деревня была ни при чем здесь. Но почему-то это, примерещившееся, казалось реальным, а нелепыми были мы нынешние и наше литературное объяснение в жерле колодца двадцать пять лет спустя.
— А теперь — домой, домой, домой! — засмеялась Кира. — У нас еще впереди твой Шекспир. Я тебе привезла второе издание Козинцева.
Пока я возился, собирая ложки-плошки к ужину, Кира лежала на тахте (точнее — матраце, водруженном на четыре кирпича) и листала книжку.
— Смотри, еловые ветки со снегом лежат на подоконнике, как собачьи или волчьи морды, — сказала она.
Я посмотрел на окно, ответил: «Да, похоже» — и подумал: «Странное дело — вот если Кира подруге или я приятелю вздумаем рассказывать о сегодняшнем дне, все будет очень здорово. Прогулка по пустому сумеречному поселку, объяснение в колодце, потом разговоры о Шекспире, а потом ночь, когда можно вдвоем лежать и слушать, как трещит печка, и в окно заглядывают волчьи морды».
И это — прекрасно.
Все правда. И все — неправда. Потому что Кира все эти две недели придумывала сорок раз распорядок этого дня, в котором должны были присутствовать и нелепости, и интересные разговоры, и эта ночь. И сейчас мы выполняем программу,
Я всегда понимал Кирины замыслы, понимал, что продиктованы они желанием быть мне интересной, желанной. Я понимал, что она любит меня. И я никогда не злился на нее, как некогда злился на Нату. Я очень хотел любить Киру, Ведь все, что она делала, было мне действительно мило и интересно. Я очень хотел любить ее. А Нату я просто любил, хотел или не хотел — любил.
— Подойди, пожалуйста, позвала меня Кира.
Когда я нагнулся к ней, она сделала стригущие движения двумя пальцами над моими волосами, шепнула:
— Вот так мы подстрижем твои черные кудри, чтобы ты был у нас модный-модный. — Потом поцеловала меня.
Программа шла своим чередом. Но я знал, что, прежде чем мы окажемся вместе, мы еще должны будем поговорить о Шекспире.
— Что это за книжка у тебя? — спросил я.
— Однотомник Конрада. Я тут делала глоссарий. При твоей темноте поясняю: глоссарий — это толковый словарь к тексту.
Я действительно не знаю, что такое глоссарий. Я не знаю, что входит в функции редактора классической литературы. Кирино издательство выпускает классику. Как это ей удается подредактировать Стендаля или Твена? Или Шекспира? Не хочу я говорить о Шекспире. И дальше — ничего не хочу. И я не могу объяснить Кире, что это вовсе не оттого, что она мне нежеланна. Я не могу выполнять ритуал, А у нас все складывается в ритуал. Но ни одна женщина не поверит, что мужчину покидает чувство именно от этого. Для женщины существует одно-единственное объяснение: — он не любит.
Зачем она листает эту книжку? Она же знает ее наизусть, раз она редактор и делала глоссарий. Чтобы я заметил, что она редактор такой вот книжки и делала глоссарий? Мне вдруг стало жалко Киру: бедняга, шила куртку, делала глоссарий, придумывала, что и как тут будет.
— Ты моя ума палата, — сказал я и тоже поцеловал ее.
В этот момент в дверь постучали. Я открыл и увидел Зину.
— Ой, у вас гости! — Зина сразу обнаружила точным женским глазом Кирину куртку, висящую в «прихожей».
— А вы разве не гость? Вполне прекрасный-распрекрасный гость! — Я очень ей обрадовался: все-таки ее приход нарушил ритуал. — Только редкий гость. Обещали за солью спичками приходить — и нет как нет.
Зина подозрительно взглянула на меня и серьезно сказала:
— Смех.
Я снял с нее пальто и прошел за ней в комнату. Протянув Кире ладошку ложечкой, Зина сказала:
— Будем знакомы. Зина.
Кира улыбнулась:
— Полонская. Будем.
Зина уселась в своей обычной позе на табуретку, натянув подол свитера на колени.
— Я, между прочим, вам, Кирилл Петрович, одну пленку принесла. «Король Лир», кадр насчет одежды. Вы, кажется, интересовались.
Я захохотал: сюжет замкнулся на Шекспире совсем неожиданным путем. И ритуал так и не нарушился.
— Вот мы и затеем шекспировский вечер, — я очень развеселился, — будем пировать. Жаль, нет бочки мальвазии. А ведь старик Шекспир как раз умер с перепою. Надрался мальвазии со своим другом Беном Джонсоном — и отдал концы, бедняга. Зато весело отдал.
— Нет, правда? — восторженно спросила Зина.
Кира отшвырнула книжку и поморщилась.
— Кирилл Петрович любит сомнительные источники. А иногда и сомнительные знакомства. А когда они неуместны, ему не хватает одной добродетели для их пресечения — мужества. Между прочим, Платон считал эту добродетель низшей. Видимо, наиболее простой и естественной.
Слава богу, Зина не могла понять, о чем она говорила. Но меня передернуло. Чтобы увести разговор, я сказал с нарочитой непринужденностью:
— Это сплетни, Зинуша. Шекспир был отличный мужик, хотя и соблазнил свою супругу до брака. Это тоже сомнительно, товарищ редактор?
— Отчего же, книга записей в церкви Святой Троицы подтверждает твои сообщения. Первая дочь родилась через полгода после свадьбы.
— Полюбил, значит. А любовь все спишет. Неверно? — Зина в упор посмотрела на Киру.
— Кстати в этой книжке у Козинцева есть великолепный абзац: для Шекспира естествен гул продолжающейся жизни после единичной кончины. Знаешь, — вся речь была обращена только ко мне, будто Зины не существовало, — по-моему, это нужно сделать главной мыслью твоего шекспировского альбома. Именно его жизнеутверждение. Это сейчас прозвучит особенно в жилу.
Ничего «кстати» в этом монологе не было, просто Кире хотелось продемонстрировать, что Зина тут лишняя, не соединенная с нами общими интересами, общим пониманием. Но Зина слушала внимательно и прилежно, отчего мне стало бесконечно жаль ее.
— Зинуша, хозяйничайте. Вы же тут все знаете, — сказал я. Пусть Кира думает, что Зина у меня старожил. Раз так, пусть думает.
— Ладно, Раскинем ваш сервиз. Все в сенях?
Спрыгнув с табуретки, Зина побежала в «прихожую». Кира сделала вид, что ни я, ни Зина ничего не произнесли:
— И еще, ты это подчеркни во вступительной статье, нужно противопоставить историческую определенность и жизнеутверждение Шекспира зыбкости современной западной драматургии. Особенно Бекетту.
Возьми «Лира» и «В ожидании Го до». Это есть, между прочим, у Уэста. Я же тебе давала ту книжку.
Уэст меня тоже заинтересовал при чтении. Мне показалось точным его соображение относительно того, что ожидание Годо, который так и не приходит, обретает драматизм, способный волновать сердца только в том случае, если тот, кто скорбит об отсутствии бога, убежден, что некогда бог существовал. Я даже запомнил текстуально: «Бессмысленность религии воспринимается как утрата того, что было в прошлом реальностью», Но заговорить сейчас об этом я не мог — это было бы предательством по отношению к Зине.
— Это что-то слишком мудрено, — произнес я уже с раздражением.
Но неожиданно Зина, потянув вниз подол свитера, смешно дернула головой, точно выныривая из-под воды, и залилась своим дробным смехом.
— А теперь пейте-гуляйте. Я пошла. — Она взглянула на меня, точно оправдываясь. — Верно-верно, меня Витька ждет.
Когда хлопнула дверь, я сказал зло:
— Зачем нужно было обижать ее? Перед кем ты выпендривалась?
Кира сорвалась с тахты, обхватила руками мою го-лову и заговорщицки зашептала:
Виновных нет, поверь, виновных нет! Никто не совершает преступлений. Берусь тебе любого оправдать, Затем что вправе рот зажать любому.Сухими сомкнутыми губами она прижалась к моим. Но я вывернулся.
— Брось. За что, главное, ты ее?
Кира снова села на тахту, и веселая лихость сменилась в ее голосе пренебрежительной иронией:
— Ты, кажется, слишком всерьез принял мой призыв к опрощению? К салу и огурцам еще прибавился романчик с подмосковной кассиршей! И давно ты с ней спишь?
— Ну о чем ты говоришь? — сказал я без энтузиазма.
Кира бросилась в «прихожую» и стала натягивать куртку. Я видел, что она возится с застежкой намеренно долго, чтобы я успел ее остановить. Когда она выскочила на улицу, я все-таки крикнул для порядка: «Кира!» — и лег на тахту.
«Виновных нет, поверь, виновных нет…» Единственная фраза, застрявшая где-то в мозгу, вращалась, как картинка, прикрепленная к кольцу, методически проходящая перед глазами.
Виновных нет, поверь, виновных нет…Чтобы вырваться из тупого заклинания этих слов, я произнес вслух:
Никто не совершает преступлений. Берусь тебе любого оправдать…— Это Шекспир сочинил? — спросил от двери Зинин голос.
— Шекспир.
Она подошла и прямо села ко мне на тахту.
— Я знаешь, почему пришла? Потому что я тебе кто-то стала. Я увидела. — Зина пальцем что-то написала у меня на лбу. И как по секрету сообщила: — А на нее ты не обижайся. Она замуж за тебя хочет, вот и старается. Ты не обижайся.
И опять слово «наконец» ударило мне в виски, в сердце, будто я тронул оголенный конец электропровода. Но это было не то «наконец», которое мне пришло в голову в связи с Кириным приездом. Это было «наконец-то».
Я увидел ели. По хребтам веток тянулись белые пряди снежной седины. Внезапно черно-белый плоский пейзаж, пейзаж гравюры, обрел объем. Лес наполнился малиновыми клубами закатного воздуха. Свет был плотным, почти выпуклым, выступающим из-за деревьев. Он шел на меня, в меня и как водный накат бился о грудную клетку, рождая томительное, почти забытое ощущение ожидания, тревоги. Я уже не мог точно, как это бывало на предыдущих прогулках, запомнить детали линий и подробности цвета. И все-таки именно сейчас я чувствовал, что наполняюсь той желанной неясностью, смятенностью чувств, которая — единственная! — вызовет потом облики возникающего на листе. Именно эта невнятность, возникшая где-то глубоко внутри, расступалась, давая дорогу мысли и неожиданности ассоциаций.
Я уже раньше решил, что буду делать шекспировский альбом черно-белым, в туши. Но повадку этих нерадужных линий я поймал сейчас в празднестве алого цвета, заполнившего до отказа лес.
Конечно, ни перед одним из героев Шекспира не вставал ландшафт, похожий на березовский. А я вдруг понял, о чем буду писать, что я буду рисовать. И как такое получалось — неизвестно, но получалось.
Все «до» было подступом, приступом к этому мигу. И обживание примет чужой эпохи, и фамильярное сближение с человеческим бытовизмом Шекспира, и видение в печке той лировской степи — «долой, долой с себя все лишнее!».
Я должен написать вот что: классические мерила человеческих добродетелей — вечны. Время не имеет права вычеркивать их из ежедневных словарей или оправдывать их искажения собственной трансформацией. В человеке всегда живет тоска по истинности страстей, какие мерещились мне в этих заколоченных дачах, — очищенных от унылости повседневной текучки или подогнанных под колодку заученных канонов. Мы добровольно мельчаем, выговаривая у самих себя право на проступки, навязанные ситуацией.
Никто не совершает преступлений. Берусь тебе любого оправдать…В быту, в привычной ежедневности мы растрачиваем вечные добродетели и, по Платону, низшую из них — мужество. И тогда ты уже не можешь провести на листе бумаги единственно искомую линию или сказать женщине, что в тебе — пусто.
Я шел и шел, и улицы поселка, то смыкая стороны нагромождением сугробов, то распадаясь в перекрестках, тянулись куда-то к концу земли.
На очередном скрещении улицы с уже лесной просекой сугробы откатились подальше, выпростав площадку для продовольственного магазинчика, сбитого из крашеных досок, неоправданно летнего сейчас' в своей дачной голубизне. Из открытой двери магазина вываливался хвост очереди, безвольный, как язык усталой собаки. И вся эта вереница замерла неподвижно, только изредка вздрагивая шевелением людских тел. Вдоль очереди бродил кургузый человек в длиннополом дождевике. В руке он держал некий предмет, смахивающий на детский ночной горшок, только непомерно высокий. Человек тыкал горшком то в одного, то в другого из стоявших в очереди. Люди что-то говорили ему, он сокрушенно опускал свой горшок и тут же вздергивал снова. Мне вдруг показалось, что это Юрка Сивак. Хотя откуда бы здесь взяться Сиваку с ночным горшком?
— Подсолиться решили, Кирилл Петрович? — Мне навстречу выскочила из очереди Зина.
— Чем подсолиться? — не понял я.
— Селедку безголовую, баночную завезли. Во — и народ обезголовел: час ждут, пока разгрузят. Я-то вообще без головы насчет хозяйства. Надо Витюшку с премии порадовать. А вообще-то — здравствуйте! — Она вынула из кармана пальто красную ладошку и сунула мне. — Варежку потеряла. С правой руки, это к плохому.
Я сунул ее жесткую пятерню за отворот своего пальто. Зина засмеялась, челка упала на глаза.
В левой руке Зина держала хозяйственную сумку. Ладошка у меня за пазухой вздрогнула, рванувшись откинуть челку. Но руки она не отняла, только пальцами поскреблась мне в грудь. Дунув уголком рта, согнала волосы на лоб.
— Вы селедку не берите, вы вечером приходите к нам. Я картошечки наварю, у нас своя, лорх сорт.
— Приду.
— Нет, вы сейчас не уходите. Побудьте тут. Ну чуточку. Пошли сядем.
За магазином были свалены пустые ящики. Зина поставила два рядом, села, усадила меня и снова сунула руку мне за отворот.
— Вы не поверите, — ее пальцы снова поскребли по моему свитеру, — я столько раз воображала себе — вот потрогаю вас. Вы же ничего не знаете. Я же в вас влюбилась давно-давно, когда вы к нам на запись приходили. Я еще ученицей оператора была. Потом девчонки наши уже знали, если вы на радио приходите, сейчас летят: «Зинка, твой тут!» И если где вас встречу, у меня уже — привет — праздник- Зина сыпала слова быстрей обычного, будто боясь, что заговорю я и спугну ее решимость.
— Купите кофейник, незаменимая вещь в культурном семействе. Эмалированный кофейник вы можете приобрести всего за два рубля. — Перед нами стоял человек в дождевике, металлически затвердевшем на морозе. — Только крайние обстоятельства заставляют расстаться с этим предметом первой необходимости.
— Иди-иди, — сказала Зина, — тебе домой — прямо и направо.
— Кофейник имеет крышку. — Человек отогнул по-жестяному громыхнувшую полу дождевика и из кармана брюк извлек крышку. — Два рубля совместно с крышкой. — Он просительно смотрел на нас сквозь перекосившиеся на носу очки. — Однако если в данный отрезок времени вы стеснены в средствах — рубль.
О Юрке Сиваке напоминали, пожалуй, только эти косо сидящие очки.
— Иди-иди, снова сказала Зина- Крышка. От дырки.
Человек уронил руку с кофейником и обреченно побрел опять к очереди.
— И кофейник я воображала. — Зина коротко боднула меня в грудь. — Я всегда думала: он приходит, и я ему кофе подаю. Я воображала: вы обязательно дома пьете кофе.
— Не пью я кофе,
— А кофейник так и не выбралась с деньгами купить. То то, то се, то Витьке что-нибудь надо. Мне очень хотелось сегодня этот кофейник купить, у меня и премия цела. И вы тут, под боком. Но у него не стала.
Я прижал к себе под пальто ее ладошку, и та выжидательно замерла.
Придешь вечером? — спросила Зина шепотом.
«Я не могу прийти к тебе, ты мне еще не кто-то. Уже, может, не никто. Но еще не кто-то». Я должен бы так сказать, я хотел сказать именно так, я даже произнес это про себя, Я сказал:
— Наверно, твоя очередь подходит. Иди проверь.
— Наплевать. Еще раз встану. Нам в очередях стоять — ничто иное.
Когда я садился на ящик, я не мог подоткнуть под себя короткие полы куртки и сейчас все время чувствовал, как разъехавшиеся доски сквозь брюки впиваются мне в ляжку. Мне очень хотелось встать, но я не двигался. Чтобы нe обидеть Зину.
— Вот какая история моей любви, — она счастливо замотала головой и залилась своим бегущим вверх смехом, — в виде книги «Письмо незнакомки». Вы читали?
Доска куснула меня снова, и я сделал попытку сменить положение.
— А еще что я вам скажу. Я же со всех ваших пленок сняла дубли, Выписала в фонотеке, сняла дубли и Айером, когда поздно работаешь, никого нет, слушаю.
«Чертов ящик, еще пять минут — и вместо зада у меня будет зияющая рана», подумал я.
— А одну пленку я вообще сперла. Украла то есть. Ее Москвина из передачи вынула, сказала — размагнитить. А я спрятала.
— Какую пленку?
— Это где вы про художника Сива ка рассказываете. Она же должна была идти. Уже в программе стояла. А потом Москвина вынула. Собака эта Москвина.
Со мной всегда так: если мне на улице или еще где-нибудь померещится какой-то человек, в тот же день я встречаю его настоящего или натыкаюсь на него в разговоре. Сегодня была очередь Сивака…
Мимо нас прошла толстая бабка в зеленом платке, дыбящемся остроугольным домиком над оранжевым лицом. В сумке, набитой покупками, сверху лежал эмалированный кофейник, из его широкого горла торчала куриная голова. Зина проводила тетку взглядом.
— Вот зараза Седуха. Отхватила кофейник.
— Ну и пусть.
— Пусть? — Зина выдернула ладошку у меня из-за пазухи. — Пусть? Он же на пропой! Он же из дома всегда носит, все с себя догола и из дома. От жены. Она, бледная, исплакалась вся. Седуха, зараза, знает же. Если бы ее мужик все из дома! Рада. Чужое горе за рубль отхватила и рада. Это ей ничто иное.
И опять, как тогда у меня, Зинины глаза вдруг посветлели и стали большими. В каждом стояло по слезе.
Я думал о Сиваке, и проклятый ящик перестал жать ляжку. А может, я просто переменил позу.
— Эта пленка у тебя?
— Ну говорю же — спрятала. Москвина велела размагнитить. Собака эта Москвина.
Москвина была редактором отдела на радио. В общем-то, она всегда ко мне благоволила. Мы сделали вместе несколько передач из серии «Художник и время». Если бы я работал в манере передвижников, я бы обязательно писал Москвину. Содрать с нее очки-фары, за которыми не разглядишь дымных, с легчайшей косиной глаз, прикрыть долгополой шубой лиловое джерси, шапку или плат на скрученный над шеей жгут волос — боярыня Морозова. Только красивее.
Продолговатая неторопливая ее рука с зажатой в пальцах сигаретой плавала перед глазами собеседника, как нарядная рыба в аквариумных просторах. Сигарета распускала голубые веера дымка.
— Вот и наш Кирилл Петрович! Здравствуйте, мой гениальный! Ну, что вы наговорили в нашей последней передаче? Вы даже и сами не представляете, какой это блеск. Конец света. Просто по ту сторону. На прослушивании начальство залилось слезами. — Она говорила всегда с воинственной экзальтацией, особенно ошарашивающей личной ее верой в произносимое.
…Утром в день той записи мне позвонил Солодуев из Союза художников и сообщил, что я должен выступить по радио с критикой Сивака в моей рубрике «Художник и время». Ага, так вот, значит, чем обернулось Юркино выступление против Дымова! Титулованного, неуязвимого Дымова. Дымова, которого все звали Памятник Себе. Действительно монументальный, с седой гривой волос, умудрявшихся не шевелиться, даже когда он шел или величественно оборачивался к собеседнику, Дымов казался только-только спустившимся с цоколя.
Впрочем, кличка имела иной смысл: некогда прославившийся созданием многофигурной живописной композиции, украшавшей вестибюль одного из административных зданий, Дымов все последующие годы уныло варьировал облик своего знаменитого первенца. И хотя это обстоятельство ни для кого загадки не являло, за Дымовым как-то укрепилась и даже росла слава ведущего художника-монументалиста. Он неизменно председательствовал на худсоветах, творческих конференциях, о нем писали газеты в рубрике «Встречи с интересными людьми». Дымов считался также главой школы.
Собственно, точнее было бы назвать Дымова не главой школы, а главой бригады. Он сколотил из молодых художников некий коллектив, отвечающий всем требованиям коллективизма в работе: картину писали все члены бригады — один левый край, другой правый, кто эту фигуру, кто другую. Дымов «проходился рукой мастера». За что получил в художнических кругах, кроме Памятника, еще и прозвание Коллективный Сикейрос.
Не обходилось и без накладок. Так, однажды Дымов «взял подряд» сделать фреску в фойе областного театра — коллективный портрет лучших производственников области. Сорок восемь прославленных людей труда, объединенных в группу. Композиция заняла весь простор стены метров на пятнадцать длиной. Однако когда фреска была уже готова, рабочие одного из предприятий сочли, что их сослуживец, тоже запечатленный в композиции, такой высокой чести не достоин. Дымов срочно получил фотографию нового кандидата, и кто-то из художников артели «записал» изображение новым. На открытие театра пригласили всех героев дня. И вот подходит к Дымову некий человек и, смущаясь, говорит: «Товарищ художник, мне, конечно, очень лестно и почет необычайный… Я, может, и не стою того… Но, понимаете, я тут два раза обозначен — слева и вот в середине» — «Как так? — Дымов скульптурно откинул голову с поднятыми по-станиславски бровями. У нас ваша фотография была! И фамилия». — «Фотокарточка точно моя. А вот фамилия другая. Я уже обозначен. Конечно, нас много, всех в личность не упомнишь». Упомнить было и вправду трудновато, ибо левый фланг фрески писал один из членов дымовского содружества, а центр уже совсем другой. Да и состав артели был текучий: художники менялись, уходили, нанимались иные.
Солодуев тоже был когда-то таким артельщиком у Дымова. Но живописец в нем существовал довольно скудно. А вот организатор класс. Договор оформить, заказ лучший получить — это Солодуев, Солодуев. Пользуясь своим влиянием, Дымов позже выдвинул Солодуева в аппарат Союза художников и продолжал двигать, покуда тот не достиг чинов весьма высоких. Правление союза этому не противилось: от деловых качеств Солодуева прок был всем.
И надо отдать должное солодуевскому благодарному чувству — служил бывший «артельщик» Дымову верой и правдой. Хлопотал для него титулы, награды, и упаси кого бог слово сказать против маститого кумира!
А Юрка Сивак сказал. Обсуждали в союзе заказы на монументальные росписи, и Юрка вылез. Ничего неведомого для присутствующих Сивак не сообщил. И про перепевы старой композиции, и про «поточный метод», и про историю с областным театром знали все. Но привыкли — и молчали. А когда Юрка, по-кроличьи дергая носом, пропыхтел на финал: «Да сколько же можно этот тираж гнать! Ну прямо метод фотографа в Пошехонии какой-то: вставляй в дырку морду —
и увековечен в вечном антураже», по залу прошел веселый гул. Тот веселый гул, что знаменует начало развенчания чьей-нибудь непогрешимости.
Дымов и бровью не повел. Более того, скульптурность его фигуры и лица обрела черты уже некой потусторонней значительности. Солодуев дернул плечом, готовый ринуться в бой, но, безошибочно улавливающий все мысли и настроения учителя, ограничился ироническим замечанием!
— Боюсь, что устами Юрия Владимировича вещала обида отвергнутого автора эскиза.
Тогда и правда Юркин эскиз не прошел-
И месяца три-четыре все было тихо. Даже показалось, что Сиваку его филиппика сошла с рук, А когда история почти забылась, вдруг Солодуев ринулся в поход против Юрки, обвиняя его творчество во всех смертных грехах, не упуская случая в любой доклад или отчет вставить Юркину фамилию, если нужно было проиллюстрировать примерами профессиональиую несостоятельность.
И вот он позвонил мне:
— Ваши передачи, Кирилл Петрович, интересны весьма и принося? большую пользу делу популяризации художественного творчества. Но они, как бы сказать, лишены полемической остроты. Нужно не только пропагандировать хорошее, здоровое, но и бичевать все, что тормозит наше движение вперед,
— Да, я сам об этом думал, — согласился я. Я и верно думал о том, чтобы ввести в радиоразговор проблемы, заставляющие людей серьезнее размышлять о том, что хорошо и что плохо.
— Так вот, в Союзе есть мнение… — И тут Солодуев заговорил о Юрке.
Я хотел спросить: «Чье мнение?» хотя прекрасно знал чье. Но не спросил. Я просто отнекивался как мог. Во-первых, Юрка Сивак мой однокурсник, А во-вторых и главных, он хороший художник, и мне нравятся, как он работает. Я бы сам так не работал, но у другого мне нравится. Мне этот пример не кажется самым подходящим, есть более доказательные… Солодуев выслушал мой спич не перебивая, потом сказал:
— Как знаете, Кирилл Петрович… Но вы сами накануне личной выставки, и хотелось бы, чтобы принципиальность художника была видна не только на его холстах, но и в его действиях.
Я хотел было возразить, что именно поэтому, и не хочу выступать. Но опять промолчал. Мне очень хотелось, чтобы моя выставка состоялась. Очень. Вот и все. А организация выставок зависела от Солодуева.
Москвина была какая-то растерянная, встретила меня без обычного радушия, не декламировала, как в прошлые разы, мой текст, а просто быстро-быстро отвела меня к микрофону. Из-за стекла аппаратной я. видел, как она что-то говорила режиссеру — рука темпераментно ныряла. Но мне ничего не было слышно в моем заточении.
Когда я уходил, мне очень хотелось сказать Москвиной, что я согласился на это выступление только потому, что другой мог сделать это резче и убийственнее для Юрки, и — вы же видите — я постарался все утопить в общих рассуждениях. Я и себе твердил то же самое. Я ничего не сказал и ушел сразу, едва кончилась запись. Даже слушать не стал.
Через два дня Москвина позвонила мне домой. Я сначала не узнал ее, больно уж голос был ровный, без вспышек.
— Мы должны извиниться перед вами, Кирилл Петрович, но руководство сняло вашу передачу с эфира.
Много месяцев спустя случайно я узнал, как было дело, и представил себе все до слова, будто сам присутствовал при происходящем.
..Придя из студии в комнату редакции, Москвина швырнула на стол коробку с пленкой и горестным контральто произнесла:
— Это — по ту сторону добра и зла. Это конец света.
К концу дня Москвину вызвал к себе главный редактор Трофименко:
— Что там, Екатерина Павловна, с «Художником и временем»? Мне тут Солодуев телефон обрывает, — говорит, какую-то важную передачу вы зарубили без согласования. В чем суть-то?
Москвина медлительной своей рукой покачала перед самым лицом Трофименко, вычертив в воздухе замысловатый дымный орнамент.
— Вы видели работы Сивака? Вы видели. Мы вместе с вами задыхались у его полотен на выставке московских художников.
Трофименко был человек уравновешенный и задыхаться от восторга не входило в его привычки. Но картины Юрки ему правда понравились.
— Мы вместе задыхались у его полотен, — настоятельно повторила Москвина, — а автор, видите ли, слишком субъективен в оценках.
Она не назвала даже моей фамилии — просто автор. Она не пересказала выступление. Но Трофименко умел усекать существо вопроса без пространных объяснений. Он поднял трубку и набрал номер Солодуева:
— Так выяснил я, что к чему. Правильно передачу-то сняли- Мы же радио, товарищ Солодуев; не можем мы так за здорово живешь человека на весь свет костерить. Ну, кому нравится, кому нет — пожалуйста, в специальном журнале дискуссию откройте. Это только на пользу художнику. А мы радио. Нас миллионы слушают… Он что, Сивак-то ваш, идейные ошибки совершил или скомпрометирован чем?.. Что значит — не в этом дело?
Москвина услышала, как Солодуев произнес в трубку со значением:
— В Союзе художников есть мнение, что работа Сивака требует самого решительного осуждения.
Тут Трофименко задал вопрос, который не задал я:
— Чье мнение?
— Есть мнение, — с еще большим нажимом сказал Солодуев.
— Это хорошо, — согласился Трофименко, — когда есть мнение. Вот у меня тоже мнение, что передачу давать не следует-
Но ничего этого сама Москвина мне не рассказала, сказала только: «Руководство сняло вашу передачу».
— Кто это звонил? — спросила Ната.
Это само по себе было странно: Ната никогда не спрашивала что да кто, если хотел — говорил.
— Москвина. Сказала, мое выступление не идет.
— Слава богу, — сказала Ната.
Таким образом, Юрка не узнает, что я продал его во имя собственной выставки. Никто не узнает. И Юрка не узнает. А еще утром я представлял, как по радио во всеуслышание будет объявлено, что я продал Юрку. И мне захотелось побежать и ломать приемники в каждом доме. Но теперь никто не узнает.
— Глупенькая ты, — сказал я Зине, — никакая Москвина не собака- Она хороший человек.
Мы все еще сидели на ящиках в тылах голубого магазинчика, я еще чувствовал за пазухой ее выдернутую руку, кровожадная щель в досках перестала ощущаться вовсе, Я повторил:
— Она хороший человек.
Зачем мне было объяснять Зине, что я понял сейчас? Та женщина предвидела ужас, который охватит меня назавтра после записи, и, может быть, представляла, что мне захочется бегать по Москве и ломать приемники. Она похоронила на кладбище использованной пленки мое корыстолюбивое малодушие, мое предательство. Даже не начертав на коробке профессиональной эпитафии: «В фонд».
И вот выясняется, что Зина сберегла эти останки, и, может, завтра кто-нибудь возьмет эту пленку, послушает и скажет: «Ха! Силен Проскуров! Вон, оказывается, какие вольты у него в биографии имеются. Забавно бы пустить такое в эфир — как раз к нынешней выставке Сивака, подверстать ко всем похвалам!»
Похвалы были. И выставка была. У Юрки сейчас выставка, и во всех газетах есть хвалебные отклики. Месяц назад на вернисаже я увидел его и не узнал сперва. Юрка облачился в чернейший костюм с помпезностью гробовщика. Пегие вихры победно вздымались над лысиной, очки (клянусь, оправа — черепаха чистой воды) он поддергивал к переносице, морща нос смешным движением чихающего кролика. С Юркой была жена. (Господи ты боже мой — Юрка женат!) Он то и дело целовал ее в бледный висок, не стесняясь присутствия посетителей.
— Здорово, метрило! — крикнул мне Юрка.
Мы обнялись. От этого самого «метрило» пахнуло теплым родством студенчества. Как-то наш преподаватель рисунка сказал про меня: «Проскуров — законченный метр». И Юрка подхватил: «О ветер-ветрило, о метр-метрило».
Я тронул пальцем белую стрелу его рубашки, вонзавшуюся в черноту пиджака:
— Ну ты, старик, сила. Крахмал. С ног до головы — сплошной крахмал,
— А что, между прочим, — он надул щеки от гордости, — я тут был на приеме в честь Ренато Гуттузо, там я был элегантнее Гуттузо. Без вопросов.
Я очень радовался за Юрку — радовался выставке, жене, этому нелепому черному костюму. Честное слово, я даже не вспомнил про пленку и про те времена, хотя в нынешней экспозиции были картины, по поводу Которых Солодуев требовал поношений. Вроде о моем неопубликованном выступлениии не знал не только он — я сам.
Он не знал. Он никогда не узнает, А ведь если бы не вышли эти двое с ведром, я бы сказал ему. Я же ехал с тем, чтобы сказать. «Слава богу!» — сказала Ната. И будто захлопнулась крышка, лязгнул замочек — все, ничего нет, нет моего выступления, ничего нет. Ната вышла из комнаты, унося этот невидимый ключ — «слава богу!»,
Но я тут же начал пальцем ковырять в замочной скважине ящика, сглотнувшего «все», Юрке нужно сказать, Пусть никто не знает — слава богу. Но Юрке нужно сказать.
Юрка кончал фрески в новом спортивном зале в новом районе. Я ту? же оделся и поехал на стройку. Будущий гимнастический зал еще не был прибежищем спортснарядов, еще «кони», кольца, брусья не сообщили ему деловитой утилитарности. Просто объем воздуха, заключенный между шестью плоскостями, из которых одна была сплошь стеклянной, а противоположная ей расписана сивакскими фресками.
Поджарые длинномордые кони, похожие на борзых, выгибали плоские крупы в грациозном прыжке; свернутые по спирали тела акробатов летели им навстречу; яркие мячи взрывались, как цветочные бутоны, поощряемые внезапно пришедшим днем лета. И на этой точно лишенной границ плоскости между конями, гимнастами, шарами колыхались перистые тела летучих рыб и медлительные женские фигуры.
Я сразу понял; Сивак наконец осуществил свою давнюю идею возрождения и модернизации древнекритской культуры. Я помню, как еще в институте Юрка буквально обалдел, увидев репродукции с Крохотных гемм и камней Кносса. XX век до нашей эры утверждал на Крите примат природной грации и красоты. Гимн силе и триумф победителя пришел в искусство греков пятнадцатью веками позже. Вместе с умением не только побеждать, но и порабощать.
В сивакской фреске не было сюжетного единства, присутствие тех или иных фигур не вызывалось логической необходимостью. Но вся плоскость была объединена поразительно четким единством ритма. И еще. Она рождала ликующее ощущение, родственное тому, что водило резцом мастеров и — через сорок столетий! — продиктовало Бабелю фразу о том, что жизнь — это луг в мае, по которому ходят кони и женщины.
— Здорово, метрило! — Юркин выкрик ударился о близкий потолок и оттуда рухнул на меня. Сивак сидел на стремянке где-то на самой верхотуре.
Он спустился оттуда — неуклюжее существо в грязной спецовке, в очках, напоминавших заезженный детский велосипед. Не как спускался бы творец этого фантастического мира.
— Ну как, метр? Как? Только честно, честно. Дело? А, дело?
— Дело. Очень даже дело.
— Ты попал на пышный эндшпиль. Сейчас Зотова прибудет.
Мимо нас прошла девушка-рабочая в щегольском комбинезоне и ромашковой косыночке по брови. Потом в зал вошла другая, третья. Вероятно, у них были какие-то дела, но я видел только, как они пересекали зал в разных направлениях. Пол зала был засыпан толстым слоем опилок, поглощая звук шагов, и мне снова вспомнился луг в мае, по которому ходят кони и женщины.
— Прошу, Татьяна Ивановна.
В зале так же бесшумно возникла новая группа людей. Заместитель начальника строительного управления Зотова появилась в сопровождении руководите-теля стройки и еще двух мужчин в одинаковых черных пальто с серыми каракулевыми воротниками — толстого и тонкого.
Грузная, седеющая Зотова с беззлобным лицом многодетной матери долго смотрела на фреску, потом перевела глаза на начальника строительства:
— Как же так получилось, товарищ Смирнов?
Смирнов шмыгнул красным носом: он был без пальто и, видимо, ждал комиссию в неотапливаемом еще вестибюле.
— Так ведь эскизы утверждались в управлении, Татьяна Ивановна.
— Как же так получилось, Петр Семенович? — повторила Зотова уже тонкому.
— Это шло помимо меня, Татьяна Ивановна, надо поднять документацию, кто утверждал и утверждал ли вообще. Тут похоже на самостийность. — Тонкий сыпал словами.
— Что значит — самостийность? — взмыл строитель.
— То значит, — мрачно сказал толстый.
— А получилось нехорошо, Юрий Васильевич. — Зотова повернула к Сиваку крупную темную голову, охваченную венцом косы.
— Владимирович, — поправил Юрка.
— Мы ждали от вас картины со спортивной тематикой, которая побуждала бы молодежь на новые достижения в спорте. А вы тут не то цирк, не то зоопарк представили, не поймешь. — Она улыбнулась своей шутке, а толстый и тонкий захохотали.
— Да, без поллитра не разберешься, — сказал толстый.
— Какова же задача данного барельефа, Юрий Васильевич? — спросила Зотова.
— Это не барельеф, это фреска, — сказал Юрка-
— Тем более, — вставил толстый.
— Не знаю, тут все нарисовано. — Юра энергично сморщил нос, подтягивая очки.
— Ох, Юрий Васильевич, Юрий Васильевич. — Зотова обняла Сивака за плечи, — я же знаю: вы потом будете говорить, что мы, мол, зажимаем новаторство в искусстве. Ведь так? А мы должны помогать вам, не давать скатываться. Должны ведь, Юрий Васильевич?
— Владимирович, — снова сказал Юрка.
— Это к делу не относится, товарищ Сивак, — буркнул толстый, но Зотова строго на него посмотрела, и он смолк.
— Вам бы только чего-нибудь такое накрутить, чего на свете не было, чтобы не как у людей. А молодежь на этом учится.
Неожиданно Юрка улыбнулся и почти с нежностью произнес:
— Вы счастливый человек, Татьяна Ивановна. Вы живете, как первый человек, пришедший на землю. Будто до вас ничего не было — ни цивилизации, ничего. Вот этому искусству четыре тысячи лет, и четыре тысячи лет оно радовало людей. А вы смотрите и говорите: «Накрутить, чего не было на свете». Это трогательно. Ей-богу.
Тут по лицу Зотовой стала расплываться фиолетовая темнота, как клякса на школьной промокашке, и голос ее сразу утратил материнскую покровительственность.
— Идемте, товарищи, — Зотова повернулась к строителю. — А вам, товарищ Смирнов, придется напомнить, что сооружение молодежных комплексов — задача большого воспитательного значения. Неужели я должна краснеть за вас, когда сам товарищ Солодуев из Союза художников СССР обвиняет наше руководство в неразборчивости? — Она произнесла «Союз художников СССР» с ударением на последнем слове, будто давая понять, что преступление имеет не областной, даже не республиканский, а прямо-таки общегосударственный масштаб.
— Так ведь было предложено, — залопотал было тонкий.
— Союзом художников СССР, — отрезала Зотова, — было предложено привлекать авторитеты. А не тех, кому еще в шарики-мячики играть. — Собственная шутка снова смягчила Зотову, и она уже умиротворенно двинулась к выходу.
Группа покидала зал, и тут же, почти мгновенно, будто они ждали за дверью, вошли два маляра с ведрами и кистями. Один из них, постарше, крикнул удаляющейся группе:
— Так что, товарищ Смирнов, ликвидируем?
Тот обернулся:
— Ждите указаний. — Но головой кивнул утвердительно.
Юрка еще не понимал смысла происходящего и недоуменно водил глазами по залу — то на фреску, то на маляров, то на уплывающую группу. Но я-то понял и стремительно ринулся за уходящими. В вестибюле я подошел к Зотовой и, выразительно понизив голос, сказал;
— Татьяна Ивановна, разрешите вас на минутку.
Зотова удивленно вскинула глаза, но отошла и тоном руководителя, великодушно принимающего посетителя в неурочные часы, вымолвила:
— Слушаю вас.
— Я хотел бы предупредить вас, Татьяна Ивановна, — голос мой обрел интимность, — что мнение товарища Солодуева — это, как бы сказать, только личная точка зрения. Я так полагаю. — Мой голос уже шелестел, как на предсмертной исповеди. — Дело в том, что эскизы видели. И они понравились.
Я не соврал. Ведь действительно эскизы рассматривались на худсовете. И действительно понравились. Но странная, неконкретная форма слов «видели» и «понравились» и особый нажим, с которым я их произнес, сообщали этим словам таинственное величие. Будто речь шла о неком суждении, рожденном в неведомых надземных сферах, высказанном кем-то, чье мнение не подлежит критике, кто не имеет даже земной фамилии и должности. Или, напротив, суждение это — плод серьезных многоступенчатых коллективных согласований и оттого тоже непреложно в своей конечности.
— А вы откуда? — спросила Зотова.
— Из Союза художников СССР, — сказал я И опять не соврал.
Зотова торопливо кивнула.
— Понимаю, понимаю. Но тут фиолетовая темнота снова поползла по ее лицу, — А собственно, что вас волнует? На основании чего этот сигнал? Происходит осмотр объектов по готовности. Я лично осуществляю.
Я скромно потупился:
— Да нет, я просто для информации.
Я ничего не рассказал Юрке. Он не понял даже, что ретивость строителей могла поставить под угрозу существование его фрески. Фреска была дописана. Она осталась жить, хотя в печати Юрку разнесли в пух и прах. Я даже испытывал особую гордость оттого, что Юрке неведом мой дипломатический акт дружбы, спасший его работу. Не знает, и хорошо. Я знаю. Это главное.
Но и про пленку я ничего не сказал Юрке. Он так ничего и не узнал. Когда неделю спустя я зашел к нему домой, соседка сказала, что Юрка уехал из Москвы неизвестно насколько.
А теперь он может узнать. И не от меня. И все узнают…
— Ты можешь принести мне эти пленки? — спросил я Зину.
— Желаешь свой голос слушать? Зачем тебе? Ты и так можешь себе говорить что хочешь. Это у меня ты — только в коробочке, — Вдруг она погладила меня по лицу согревшейся, но еще Красной ладошкой. Вообще-тo ладно. У нас, конечно, пленку выносить из здания не разрешают, но я принесу. Себе еще дубли сделаю.
А то, может, ты из моей жизни опять испаришься. Все-таки голос останется. Придешь вечером?
Я задержал ее руку у себя на щеке и сказал:
— Приду.
«Приезжать не надо. Я не хочу, чтобы ты сердилась, и ты зря вскинулась тогда. Но приезжать не надо». Я сжал телефонную трубку, будто на ее черную руку можно было опереться, чтобы не растерять храбрости. «Говори громче. К чему этот интимный шепот при подобных заявлениях? — сказала Кира. — Или там кто-нибудь стоит рядом и ты таишься?» — «Никого тут нет, с чего ты взяла?»
В тесной комнатушке почты я был один. Телефонистка пряталась где-то за фанерным иллюминатором перегородки, и ее присутствие не ощущалось.
Маленькое облупленное здание почты втерлось в компанию многоэтажных домов институтского городка, похожих на солидно одетых людей. Дачный поселок Березовка отделялся от городка научно-исследовательского института железнодорожным путем. Городок назывался Зеленогорск, хотя при его строительстве все деревья в округе были вырублены и никакой зелени тут не было. Но ведь и в Березовке росли только ели и сосны. Никакой березы я не видел. Почту в новом доме еще не открыли. Звонить в Москву я приходил сюда.
«Хотя вот вошла какая-то женщина. Так что божественная интуиция тебя не подвела. — Я попытался шутливым тоном отодвинуть объяснение. — Впрочем, женщина мне неизвестна и от нее таиться незачем».
Женщина грузно прошла к окошечку телефонистки, половицы под ней ревматически хрустнули.
— Что ж за люди, Лидок? — сказала она, обращаясь к дырке в фанере. — Уговаривай, не уговаривай — как в стенку.
— Не говори, — возникло за перегородкой, — что им, инвалидская машина помешала?
Видимо, женщина уже заходила сюда сегодня и это было продолжение разговора.
— А что в горисполкоме сказали? — спросила телефонистка.
— Сказали — имеет право машину ставить. Им и другие соседи все говорят: безобразие к инвалиду приставать. А они свое.
«Ну как шекспировский альбом?» — спросила Кира. «Своим чередом». — «Видимо, подмосковная интрижка дает понимание шекспировских страстей».
Я представил, как она зарывается в глубины кресла, поджав под себя ногу. «Шекспировские страсти остаются за тобой. Тут мирно. Тут — чисто-светло». Я очень старался, чтобы голос звучал подобродушнее.
— Чего, Лидок, они мне только не кричали, эти, из седьмой квартиры, — опять заговорила женщина. — «Нашла повариха инженера спать!» А он же, знают ведь, от пояса недействительный. У него же в хребетик ранение было.
— Господи! — вздохнула телефонистка.
— А этот, из седьмой квартиры, прямо при нем: ждешь, когда помрет, площадь двухкомнатную заполучить. При нем — надо же, Лидок! А что мне, это требуется? У меня и своя комната была. Я жалею его — и все.
— Не расстраивайся, Маруся. Все же, кто люди, знают, что ты за ним как за ребенком ходишь. А помнишь, когда у него и площади не было, ты его в тазике мыла. И питание с работы носила, когда он вовсе недвижимый был. Я перед кем хочешь заявлю: она и денег никогда не брала. Не расстраивайся.
Голос телефонистки взлетел над перегородкой, и оттого, что ее не было видно, казалось, голос этот существует сам по себе, голос сострадания.
«Я закурила, — сказала Кира. Я услышал сквозь потрескивание подмосковных пространств в трубке, как она затянулась. — Хочешь сигарету? На». Я предвидел, что она постарается в конце концов сделать вид, что никакой размолвки не произошло. «Здесь не курят, — ответил я. — Тут как раз и плакатик: «Не курить, не сорить!»…
Женщина у перегородки раскатисто вздохнула, переминаясь с ноги на ногу, отчего снова хрустнул пол.
— А может, позвонить кому, Лидок? Набери, может, газету «Вечерку», там бывает жалостливое. Скажи: так и так, герой войны, инвалид, лежа на инженера выучился, без машины двигаться не может, а соседи склочничают, что машина под окнами стоит. Где же человечество, скажи? Как же, скажи, в людях совести нет? — Она помолчала, потом совсем тихо прибавила: — Про меня не говори. А то тоже раздумывать начнут: что это чужой бабе за дело? Не все, Лидок, понимают, что всякая баба, она жалостью живет. Чем жальчей, тем ей сродственней.
«И еще на плакатике надпись. — «Не приезжать!», — Я малодушно сделал жалкую попытку ироническим тоном смягчить впечатление от произносимого. Потом снова спасительно вцепился в трубку и сказал уже по-другому: — Не приезжать, потому что мне это не нужно, и не стоит разыгрывать спектакли».
— Нет, я звонить не буду, — сказала телефонистка. — Я лучше опишу. Когда в газете пропечатают, так люди-читатели их позорными письмами завалят. Подожди, звонят. — За перегородкой задребезжало, и телефонистка крикнула: — Восемнадцатый талон! Москва! Идите в кабину.
Я держал в руке восемнадцатый талон.
— Кто Москву заказывал? Абонент на проводе… Что он, ушел, что ли? Б 2-26-44!
Женщина обернулась ко мне, но я не пошевелился; я ведь уже мысленно прошел через весь разговор с Кирой и не было смысла его повторять вслух. Это тоже смахивало бы на наше обычное выполнение программы.
— Ушел, наверное, — сказала женщина. И мне: — Не вы Москву ждете?
— Нет, я не жду Москву. — Я вышел из комнаты.
Чтобы пройти от почты к станции, нужно было пересечь единственный на этой стороне довольно лысоватый лесок. Когда от станции к городку люди шли с электричек, лесок походил на затертый городской скверик, в котором идет деловитое будничное гуляние. Сейчас лесок был пустынен. Это было затишье перед прибытием поездов, которые привезут людей с работы: часть зелено-горцев работала в Москве.
Я пытался представить себе женщину, разговаривавшую с телефонисткой: занятый мысленными переговорами с Кирой, я даже не рассмотрел, какая она была. Да и сам разговор у перегородки не очень отчетливо дошел до меня.
Я остановился на откосе. Железнодорожная четырехпутная колея и домик станции, приделанный (как это сооружается в детских игрушках) к площадке перрона, лежали в неглубоком распадке между двумя насыпями. За противоположной насыпью тянулась Березовка, и летом весь откос был обычно запружен ребятней с велосипедами, готовыми принять на свои багажники материнские сумки, груженные московской снедью. Сейчас там не ждал никто. На этой стороне, кроме меня, стояли молодая женщина и старуха с кошелкой лука.
Одновременно с двух сторон к перрону подошли две электрички, вдвинув его между своими телами. Перрон заполнился выходящими, но за ближним поездом мне была видна только общая масса голов, которая вылилась на платформу, точно краска, выдавленная из тюбика.
Так же одновременно, вскрикнув, электрички разошлись. Хвост каждого поезда заканчивался глазастой ящеровой головой водительской кабины — ведя электричку в обратный путь, машинист переходил с одного конца на другой, и хвост превращался в голову. Электрички расходились, уставившись друг на друга, точно пятясь. Кто-то растаскивал их, стараясь развести, и чем быстрее бежали они, тем мучительнее казался их порыв навстречу друг другу, который обречен на разлуку.
За поездом перрон обнажался, и с него стал стекать народ. Площадка почти опустела, когда я увидел Зину. Насыпь, где я стоял, была совсем рядом, и я видел все подробно: как Зина ищуще оглядывалась по сторонам, как левой рукой в варежке держала хозяйственную сумку, а правую засунула в карман пальто. Я даже видел, что поверх продуктов в сумке лежала голубая круглая банка сельди, такой же, как тогда продавали в магазинчике. Не хватало еще, чтобы она покупала для меня селедку банками! Зря я в тот вечер нахваливал угощение.
И все-таки у меня что-то потеплело внутри от этой банки и от выражения Зининого Лица. Она вовсе не казалась растерянной, не увидев никого ни на перроне, ни на той стороне пути. Лицо у нее было счастливое, и я знал, что и это лицо, и эта банка имеют отношение только ко мне. Вдруг она засмеялась, подпрыгнула и побежала к противоположной насыпи, вскидывая нога так, что были видны круглые подошвы старых резиновых сапожек.
Я знал, что через минуту нагоню ее, но круглые подошвы вдруг пропали, и в памяти возникли мучительно растаскиваемые электрички о исступленными мордами стеклянных ящериц — несоединимости и бесповоротности разлуки.
Но Зину я нагоню через минуту. Я побежал с насыпи, когда молодая женщина, только что стоявшая рядом, зверино закричала у меня за спиной, а под ноги мне посыпались какие-то твердые шары, которые я отбрасывал на бегу.
И только тут я понял, куда пропали подошвы серых сапожек и откуда перед глазами возникла морда электрички. Наперерез Зине ворвался незамеченный электровоз, шедший по товарной колее.
….Она лежала на носилках «скорой помощи» (машина подошла к самому основанию откоса), и правая рука без варежки свешивалась к земле. «С правой руки — к плохому», — повторил я просебя ее слова. Возле красной короткопалой ладошки на снегу лежала круглая блестящая луковица. (Ах, так это луковицы из старухиной кошелки путались у меня под ногами!) Ладошка тянулась к золотистому шару, как к детскому мячику, и Зина снова казалась ребенком, которого так и не коснулись женские невзгоды.
В толпе, непонятно откуда появившейся, переговаривались:
— Целая — видать, волной откинуло.
Санитары взялись за носилки, и я рванулся влезть за носилками в машину.
— Не нужно, гражданин, поздно теперь ее сопровождать, — сказал санитар. Он покосился на маленькую руку, протянутую к луковице, и добавил угрюмо: — Лучше родителей пойдите подготовьте. Вы ей близкий?
— Да, да.
Я все-таки пытался протиснуться в низкую щель машины. Но санитар отстранил меня, кивнув куда-то вниз:
— И сумку приберите.
Я поднял с земли Зинину сумку. Банка прочно сидела в ее горловине, ничем не потревоженная.
Теперь нужно было пойти к Вите. Целый час я топтался на улице, ища слова. Я так и не знал, что сказать.
— Вот мамина сумка, Витюша, — сказал я.
Ничего глупее нельзя было придумать: я помню, как долго Натины вещи всякий раз вызывали во мне мучительную судорогу. Но Витя не заплакал, не закричал.
— Я знаю про мамку, Кирилл Петрович. Соседи были. — Он взял из моих рук сумку и поставил ее на стол, — Звали к ним ночевать. Сейчас опять придут.
— Ты теперь будешь жить со мной. Будешь? Сперва тут поживем, до конца учебного года, а потом переедем в Москву.
Он покачал головой:
— Нет. Тут хозяйство все. Куда я это брошу?
— Черт с ним, с хозяйством.
— Нет. Мамка работает, наживает, а я брошу, — Он говорил о ней как о живой.
— Ну возьми тогда это пока. — Я вытянул из кармана пачку десяток.
— Спасибо, Кирилл Петрович. — Витя не отстранил моей руки, просто обстоятельно объяснил: — Мамка в аккурат премию получила. И еще книжка у меня есть — мамка на комнату мне копит, когда с армии приду.
Мне было не по себе от этого взрослого, рассудительного спокойствия, будто в этом мальчике, как и в матери, уживались сразу ребенок и взрослый. И я не знал, как мне говорить с ним, беспомощно шаря глазами по комнате.
На стенах тут и там были пришпилены фигурки причудливых зверей, сплетенных из пестрых ракордов магнитофонной пленки. Я тронул пальцем желтого утенка со свирепым зеленым глазом змеи.
— Твоя работа?
— Это мамка забавляется. Она вообще выдумщица. — И через паузу: — Большое воображение фантазии.
Витя замолчал, застывшим взглядом смотря на утенка, потом отвернулся к столу и стал распаковывать сумку. Он вынул голубую банку, потряс ее — внутри что-то твердо забилось.
— А я думал, Зина опять селедку привезла, — сказал я.
— Нет. — Он слегка улыбнулся. — Она говорила: банка — пленки солить. Она ее в тот раз в магазине выпросила.
Витя снял крышку. Внутри лежали круглые рулоны пленки, намотанной на металлические бобины. И еще одна плоская картонная коробка с этикеткой — в таких коробках пленка обычно хранится в фонотеке. Я взял в руки один рулон. На бобине было написано карандашом: «К. П. Выступление 6/II-64 г.». На другой то же, и другое число. Всего шесть рулонов. На этикетке картонной коробки значилось: «Передача «Художник и время». Выступление К. П. Проскурова». И тоже дата. Та давняя чертова дата. Эта пленка не была дублем. Это был оригинал.
— Это мои выступления на радио, — сказал я Вите.
— Возьмите их тогда себе. Мамка, наверное, их вам привезла.
— Наверное.
— Возьмите. — Он уложил рулоны в банку и протянул мне.
— Давай жить вместе, попросил я. — Тебе будет хорошо, увидишь.
— Я знаю. Вы хороший. Мамка всегда говорит, что вы хороший. Но я не могу — хозяйство. Вы сейчас идите. Ладно? Вы завтра опять приходите.
Какая-то ноющая пустота заполнила меня, когда я оставил этот странный дом, дом двух взрослых детей. Теперь — одного.
Я стоял на крыльце не двигаясь, и в голове была та же ноющая пустота. Потом, утопая в снегу, я пробрался к окну и заглянул в комнату. Витя сидел у стола, обхватив обеими руками Зинину сумку, зарывшись лицом в ее опустевшую утробу. Края сумки, отороченные разъятыми полосками застежки «молния», прикусили Витино лицо, точно челюсти зловещей рыбы. И я сразу вспомнил, где я уже однажды видел такие же мелкозубые пасти, где мне пришло на ум это сравнение.
…Убегая на работу и, как всегда, опаздывая, Ната металась по квартире и причитала:
— Опять не успею взять сумку из ремонта. Когда кончаю, у них уже закрыто.
— Давай квитанцию, я получу.
Она изумленно вскинула брови:
— Ты? Нет уж. Я не могу позволить себе роскошь иметь смешного мужа, который разгуливает по улицам с дамской сумкой.
— Я спрячу ее в портфель.
В тесном закутке мастерской у горизонтально вытянутого прямоугольника окна, за которым помещались мастера, ждала короткая очередь. В правом углу этой прямоугольной низкой щели застыло неподвижное лицо сидящего приемщика. За его спиной двигался какой-то человек, Он не был виден в рост: щель открывала только часть живота, обтянутого старым брезентовым пиджаком, застегнутым на единственную пуговицу — до-потопную, витую, из желтой меди, видимо некогда украшавшую женский салоп. Эта блестящая точка двигалась в щели туда-сюда. Так движется на экране прибора пучок света, указывая местонахождение объекта наблюдения. Я наблюдал за пуговицей. Когда дошла очередь до меня, точка вышла за пределы экрана и долго не появлялась. Потом приемщик сказал за перегородкой:
— Пройдите туда. Поищите сами свою сумку.
За перегородкой я увидел владельца пуговицы во весь рост. Это был Юрка Сивак.
— Здорово, метрило! — Юрка хлопнул меня по плечу. — Ищешь сумку?
— А ты? — Вопрос был закономерен и нелеп в то же время,
— Да вот соседка попросила ее ридикюль забрать. Симпатичная старушенция. Хлопочет обо мне. Вот видишь, — он покрутил пуговицы на пиджаке, — пуговицу присобачила. Все сокрушалась, что мой фрак без пуговиц. — И тут жег Да Ладно — не наивничай. Понимаешь ведь: сумки чиню. Выставки-то мои накрылись. И заказов не дают. Но я вкалываю, пишу. Выставлюсь когда-нибудь. Лет через сто.
Мы стояли в приземистом темноватом помещении, где со стеллажей, похожих на многоярусные нары, свешивались сумки, портфели, папки. И Всюду зияли мелкозубые пасти чудовищных рыб с разъятыми «молниями».
Мы обнаружили Натину сумку, и Юрка пошел проводить меня до дверей.
— А ты молодец, метрило. Ты тогда оказался на высоте. Это без вопросов. Я же знаю, что тебе Солодуев предлагал. Не все бы устояли. В общем, спасибо. Можешь смертный час встречать без боязни. Это важно. А то, как говорил поэт: «Легкой жизни я просил у бога. Легкой смерти надо бы просить». Ну, будь. — Он ушел за перегородку.
«Легкой жизни я просил у бога…» Если бы я что-нибудь мог просить у него, если бы мне Когда-нибудь приходило в голову с ним разговаривать… Наверное, те, для кого существует бог, в более выгодном положении, хотя и их диалог с небесами чаще всего превращается в монолог. Нам приходится самим хлопотать о легкости жизни. И «когда придет твой последний час, ровный красный туман застелит очи», — К кому обращаемся мы? К прошлому? К будущему? К близким? К совести? Может быть, все это, слитое воедино, и есть высшее начало, которое другие зовут богом?
Но ведь на самом пороге и те, для кого есть вера, и те, для кого ее каноны — достояние литературы, все говорят уже обычные человеческие слова, не похожие на покаяние. Что же сказал перед смертью Шекспир, умевший управлять богами? Ната сказала: «Смешно: когда умирает муж, остается вдова, а когда умирает жена, остается жених». А Зина ничего не сказала. Она не готовилась к этой минуте. А у меня еще масса времени — десять лет, или двадцать, или час. И если бы у меня был бог, мне было бы что сказать ему.
Как писал Уэст: «…бессмысленность религии воспринимается как утрата того, что. было в прошлом реальностью…»
Я не знаю его имени, я не верю в его существование, я не знаю, как обращаться к нему. Но я бы сказал: «Видишь ли, я знаю мой грех, хотя он не числится среди смертных. Мой грех — понимание. Я никогда не метался в сомнениях, пытаясь распознать добро и зло. Я всегда знал, что есть добро и что — зло. Но, может быть, у меня не хватало низшей добродетели — мужества, а может быть, я приучил себя жить, считая, что повседневность не наделена бессмертными категориями. Я хотел вернуть людям деяния шекспировских героев, но ведь я не мог вспомнить лица женщины, жертвенно и величаво посвятившей жизнь чужому инвалиду и выходящей сражаться с людской черствостью. И разве Зининой любви я искал бы место среди чугунных памятников нетленных шекспировских чувств? Я понимал многое, и многое открывалось мне еще и еще. Но оно существовало само по себе, а я сам по себе. «Берусь тебе любого оправдать…» Я понимал необходимость внутренней свободы — и всегда был на поводу у чего-нибудь. Мой грех — понимание. Заблуждения можно прощать. А понимание — нельзя. И я не прошу прощать меня…»
Снег, насыпавшийся за отвороты моих бурок, растаял, и я вдруг почувствовал, как хлюпает там вода и как у меня застыли колени. Я еще стоял в сугробе под Витиным окном.
Мальчик все сидел в той же позе, и я подумал, что он уснул. Но в эту самую минуту Витя судорожно притиснул к себе сумку и забился лицом о металлические зубы «молнии».
После похорон я уложил Витю, незаметно бросив ему в чай таблетку снотворного, и вышел на улицу.
Поселок был привычно недвижим, и пустые дачи безмолвно хохлились за заборами. Но сейчас у меня не возникало чувства, что за задвинутыми ставнями окон кипят голоса и страсти покинувших дома летних обитателей. Напротив: прошлое — давнее и недавнее — казалось похороненным в сосновых склепах побуревших срубов. Точно и вправду можно заколотить входы в память, где спрячешь свои проступки и даже совесть. Четыре гвоздя, доска, раз, раз — и со всем этим покончено. Дом отзимует — и начинай новый сезон.
Я оказался у станции. Но едва я увидел четыре колеи, площадку перрона с прилепленной к ней избушкой касс, я побежал через железную дорогу к леску на той стороне. Потом через лесок.
В почтовом домике опять никого не было.
— Дайте мне Москву, — сказал я в окошко.
Телефонистка приблизила лицо к круглой прорези в перегородке, с сомнением посмотрела на меня и спросила:
— Опять не будете говорить?
— Буду, — сказал я.
На этот раз Москву дали сразу.
— Это я. Здравствуй. — Я не цеплялся за трубку, она в руке была почти бесплотной.
— Я все знаю. Я встретила Москвину, — торопливо сказала Кира. — Это правда ужас.
— Да, — сказал я.
— Можно мне приехать? — У нее слегка надломился голос. — Нет. Не нужно. Сходи, пожалуйста, в Изогиз и скажи, что шекспировский альбом я в срок не сдам. Что-то не работается. Если могут, пусть пролонгируют договор.
— Я схожу. Не беспокойся об этом.
— И зайди к теще. Я домой не приеду долго. Может быть, до весны. Мне это сложно ей объяснять. Ты скажи сама.
— Скажу. — Она помолчала. — Ну разреши мне приехать. Я не буду обременять тебя.
— Нет, Кира. Не нужно.
В трубке снова наступила тишина, будоражимая потрескиванием, а потом просочился совсем грустный ее голос:
— Как странно: все, кто тебе становится дорог, умирают… Наверное, я потому для тебя ничего и не значу, что все живу и живу…
— Будь здорова, — сказал я.
У своего дома я увидел женщину и сразу узнал ее. Это была Москвина. Я нисколько не удивился, хотя меньше всего можно было ожидать встретить ее тут, тем более после долгого перерыва в наших встречах: с той передачи о Сиваке мы уже не работали вместе. Но я не удивился: в последнее время я же думал о ней, и Сейчас Кира ее упомянула. А у меня всегда так.
— Входите. Там открыто. — Я пошел к крыльцу.
— Нет, нет. Я на минутку. — Она покачала кистью руки, и мне показалось, что над рукой поплыл сигаретной дым. — У меня странная миссия, Кирилл Петрович. Зинуша вывезла из радио пленки, а кто-то заявил об этом начальнику охраны. Разумеется, ей уже ничего не грозит. Но нам бы не хотелось, чтобы она была чем-нибудь запятнана. Даже сейчас.
— Да, да. Пленки у меня. — Я поймал себя на том, что больше всего меня удивил не повод приезда, а непривычная для Москвиной манера говорить. Сосредоточенная, без всякой экзальтации.
— Я знала, что она привезла их вам. Сама она никогда не сделала бы ничего недозволенного. Это удивительная девочка. Поразительно честная и Открытая. Но ради вас — вот видите…
— Пройдемте в дом. Пленки там. — Я сделал два шага по ступенькам.
— Я подожду. Принесите, пожалуйста. — Москвина отвернулась и произнесла будто не мне: — Ее сменщица мне рассказывала, что Зина собиралась снять дубли для себя, а потом сказала: «Теперь не надо. Теперь у меня и так есть его голос»… Она поразительная девочка.
Банка с рулонами лежала на табуретке, той самой табуретке, где сидела Зина. Я вынул эти коричневые блины, потом картонную коробку.
Да, но ведь у этой пленки нет дубля! И во всем свете уже нет человека, знающего о существовании свидетельств моего поступка. Зинина смерть освободила меня от страха, от прошлого. Это как заколоченная дача. Нужно перезимовать и начинать новый сезон.
Я бросил на Стол картонную коробку, а рулоны уложил обратно в банку.
— Тут все? — спросила Москвина.
— Все, — сказал я.
Я видел, как Москвина шла по дорожке, ведущей к калитке. Тропка узким желобом тянулась внутри ограждения из продолговатых сугробов, и полы длинной москвинской шубы смахивали с них радужную пыльцу. Я видел, как плавно и ритмично вздрагивает тяжелый жгут волос под платком. Это спокойное шествие вселило мирную беззаботность в мою душу.
Но у калитки Москвина остановилась и, не оборачиваясь, замерла. И тогда я почувствовал, что по моей спине, по шее, куда-то за уши, обжигая, ползет панический ужас. Она все поняла. Она поняла, что я «зажал» криминальную пленку, что я пытаюсь скрыть свое предательство. Наверное, она даже знает о моих покаяниях. «Мой грех — понимание… Сколько людей билось в поисках истины, пытаясь распознать точную грань между добром и злом. Я всегда знал, что есть добро и что — зло, но, малодушно подыскивая оправдания, поступал вопреки этому знанию. И даже сейчас, когда я уже был готов обрести добродетель — низшую, по Платону, — мужество, я снова ринулся в заманчивое укрытие спасительной лжи…» А Москвина все поняла.
Она повернула ко мне голову.
— Не могу совладать с задвижкой, — сказала она растерянно, — помогите, пожалуйста.
Ужас отхлынул. Я кинулся к калитке, отбросил загрубевшую от инея щеколду. Я не мог удержать радости:
— Я провожу вас, что же это я… Хорош кавалер и хозяин.
— Нет, нет. — Ее рука в мохнатой варежке, утратив обычную плавность, взметнулась у моего лица. — Мне не хотелось бы идти подле вас…
…Я шатался по комнате, бессмысленно переставляя предметы и зло твердя про себя: «Подле вас… Господи, какая претенциозность — подле!..» Как некогда фраза «Виновных нет, поверь, виновных нет», эта, новая, теперь вертелась в мозгу, и я не мог избавиться от нее, от своего раздражения и беспомощности.
Я почувствовал, что продрог, нужно было растопить печку. Спички куда-то запропастились. «А попросить соль-спички уже негде», — подумал я и произнес вслух:
— Господи, какая претенциозность — подле! Надо же придумать такое!..



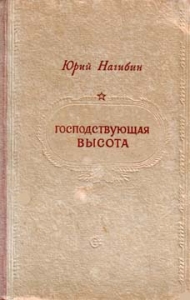


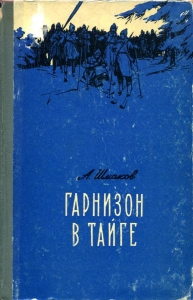

Комментарии к книге «Заколоченные дачи», Галина Михайловна Шергова
Всего 0 комментариев