Александр Малышкин СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ Том 1
МЕЧТА О СЧАСТЬЕ
Писательский путь
Александра Малышкина
Когда отмечалось двадцатипятилетие со дня смерти писателя, Михаил Светлов сказал о Малышкине: «Малышкин — это чистота советской литературы…»
Да, в творчестве Александра Малышкина запечатлелись с особенной, родниковой свежестью главные устремления литературы социалистического реализма: ее романтика, ее мечта, ее вера, ее суровая правдивость, ее кровная связь с лучшими помыслами и чувствами миллионов людей. Для всего творчества Малышкина характерно напоминание людям о необходимости постоянного очищения всех переживаний, всех человеческих отношений, чтобы никогда не терялось в суете будней чувство главного, высокий смысл жизни. Эта лейтмотив творчества писателя — и это вместе с тем лейтмотив всей его жизни.
В облике Малышкина всегда восхищало соединение большой зрелости мужественного человека, много испытавшего на своем, к сожалению, коротком жизненном пути труженика, мастера и воина, с детским простодушием. В творчестве Александра Георгиевича тоже сказывались эти черты: ироничность, скептическое недоверие ко всему риторически-громкому, напыщенному и бьющее ключом веселое доверие к жизни, к людям; органическое чувство юмора и строгая серьезность во всем отношении к жизни, глубокое знание ее драматизма и трагизма — и столь же глубокое чувство возможности преодоления тяжелого и мрачного. Кокетство трагизмом жизни было столь же противно Малышкину в искусстве, сколь противна ему была и какая бы то ни было легкость, обтекаемость, поверхностность, помпезность. Он оставался одним из тех писателей, которые не поддались одической триумфальности, ложному монументализму, возвеличиванию одной личности за счет преуменьшения значения народа. Видимо, тут дали себя знать глубокие народные корни Малышкина, сказавшиеся и во всем его творчестве и во всем его характере. Он написал не так много: лирико-эпическая поэма в прозе «Падение Даира», повесть «Севастополь», первая часть романа «Люди из захолустья», ряд превосходных рассказов, в их числе такой шедевр, как «Поезд на юг». Но эти книги живут и будут жить, они поистине «томов премногих тяжелей», и одна из главных причин их прочной жизни заключается в том, что Малышкин всегда решал в своих произведениях коренную тему — тему-судьбу всей своей жизни, и эта тема всегда была темой-судьбой многих и многих людей.
Хочется еще сказать об одной черте облика Малышкина, в которой проявлялось его особенное обаяние. Это — сочетание простонародности с высокой интеллигентностью, а еще точнее: сочетание душевности русского мастерового человека с безупречной выправкой и изяществом манер отлично воспитанного офицера. Он был несколько ниже среднего роста (как будто для подтверждения своей фамилии), коренастый, подвижный и легкий, прекрасный танцор, рыцарски любезный с женщинами, серьезно и как-то вдохновенно образованный человек, наизусть, с великолепной задумчивой простотой не декламировавший, а, кажется, даже интимно рассказывавший на языке подлинника «Слово о полку Игореве», знаток русской истории и русской литературы. И всегда во всей его повадке напоминал о себе немножко озорниковатый выходец из русской уездной мастеровщины, всегда звучал в его интонациях особый, неуловимый, чуть насмешливый мастеровой говорок. Помню, на террасе Дома творчества Литфонда в Ялте мы, группа литераторов, принимали иностранных гостей. Малышкин отвечал по-французски, с корректной внимательностью на вопросы одной дамы; все шло по лучшим правилам этикета. Но когда дама спросила Александра Георгиевича, откуда он родом, он неожиданно перешел на родной язык и так выразительно, с такой смиренной и хитроватой миной сказал: «Пензенские мы…», что и русские хозяева и гости дружно расхохотались. Интонация, мимика, национальный русский юмор дошли до всех. Дама продолжала свои вопросы:
— Но это верно, что вы были морским офицером во времена премьера Керенского?
— Совершенно верно, madame, — вернулся Малышкин к французскому языку. — Я польщен тем, что madame известны некоторые данные моей скромной биографии. Позволю себе добавить, что я офицер Красной Армии…
Каковы же «данные скромной биографии» писателя?
Он родился в 1892 году в селе Богородском, Мокшанского уезда, бывшей Пензенской губернии. Умер в 1938 году. Отец его — крестьянин, ставший приказчиком. Детство Александра Георгиевича прошло в захолустном городке Мокшан, фигурирующем в его ранних рассказах и в романе «Люди из захолустья» под названием Мшанск. Печататься начал в петербургских журналах, будучи студентом историко-филологического факультета Петербургского университета. В своей автобиографической справке он писал:
«Детство и юность провел в уезде. 1910–1916 гг. жил в Петербурге. 1917–1918 гг. — Черноморский флот, плавание, минное траление. В 1918 г. последним матросским эшелоном, милю оккупационных войск, вернулся в Пензу. Принимал участие в гражданской войне. С 1919 г. — Красная Армия. Оперативная работа на Восточном, Туркестанском и Южном фронтах. В 1920 г. входил в состав оперативной ячейки 6-й армии, проделавшей известный маневр у Перекопа: Кременчуг — Борислав — Каховский плацдарм — Перекоп — Симферополь. В Таврии в 1921 г. написано „Падение Даира“».
Творчество Малышкина на редкость автобиографично, хотя, разумеется, очень далеко от копирования фактов, являясь высоким художественным обобщением. Автобиографичность как бы подчеркивает кровную, глубоко личную, особенно непосредственную связь автора со всеми судьбами людей, проходящими перед нами в его произведениях, с теми жизненными проблемами, которые решают для себя герои. Все то, о чем сообщил писатель в приведенной автобиографической справке, так или иначе нашло отражение в его творчестве. Уездная глухая жизнь проходит перед читателем в предреволюционных рассказах Малышкина. В «Севастополе» рассказывается о студенческих петербургских годах героя повести Шелехова, о краткосрочной военно-морской школе, в которой герой обучается накануне падения царского режима и, закончив ее, получает чин прапорщика, о службе мичманом на Черноморском флоте в месяцы керенщины, о начале Октябрьской революции — все это было пережито самим писателем. «Падение Даира» не могло бы быть создано, не будь автор участником изображаемых в этом произведении событий гражданской войны. Глубоко автобиографичны «Люди из захолустья» — и не только потому, что автор вместе с бригадой писателей выезжал на стройку гиганта первой пятилетки — в Магнитогорск (в романе — Красногорск), но прежде всего по глубокому внутреннему родству художника и всех обстоятельств его жизни с героями и их судьбами.
Предреволюционные рассказы Малышкина, недостаточно зрелые и самостоятельные, интересны лишь отдельными образами и мотивами. Но они дают ясное представление о народных, демократических истоках творчества одного из будущих зачинателей молодой литературы социализма, о характерных особенностях его стиля, зародившихся еще в то время, о некоторых постоянных темах его творчества, которые он решал в дальнейшем по-иному, по-новому, но которым оставался верен в продолжение всего своего художнического пути.
Сочетание точного бытового рисунка с лирическим устремлением характерно уже для этих ранних рассказов. Они представляют собою зарисовки мещанской уездной жизни дореволюционных лет, со всей ее повседневной густой пошлостью, дикостью и с обычными драмами, трагедиями и трагикомедиями одиноких «маленьких» людей. Герой рассказов — ремесленник, половой в уездной жалкой гостинице, «маленький» человек. Растерянный, придавленный действительностью. Уездная грубость, грязь — и в непосредственном соседстве с этими хмурыми красками лирические образы зари, тоскливо и неустанно зовущей к какому-то непонятно брезжущему, невозможному счастью. Мечта о празднике, о какой-то красоте, торжественные и призрачные облака, проплывающие мимо и мучающие своей недостижимой чистотой, «отблеском вечера… отблеском счастья…» (А. Блок).
Во всей атмосфере ранних рассказов Малышкина мы различаем влияние Блока: и в этом соседстве повседневной пошлости, невообразимой грязи с дразнящими неуловимыми образами мечты, зари, в фантастичности такого соседства, обостряющего призрачность и сна о счастье, и сна привычной суеты окружавшей действительности.
Мечта о счастье и ее насмешливая недостижимость — это и было темой начинающего писателя.
Александр Малышкин сразу стал в ряд основоположников литературы социалистического реализма, выступив со своей повестью «Падение Даира». Эта повесть входит в тот цикл прославленных произведений новой литературы, который ознаменован «Железным потоком» А. Серафимовича, «Чапаевым» Д. Фурманова, «Бронепоездом № 14–69» Вс. Иванова — советской литературы первой половины двадцатых годов, озаренной пламенем только что отбушевавших битв гражданской войны. Участники гражданской войны создавали литературу о гражданской войне нередко в самих походах, между боями, — так писалось «Падение Даира».
Лирическая субъективность и эпическая героика — вот художественный сплав «Падения Даира». Малышкин одним из первых приступил к решению исторической задачи литературы социалистического реализма: к созданию новой героической эпопеи, повествования о жизни и подвигах народа. Движение огромных народных масс, под водительством Коммунистической партии поднявшихся на великую историческую борьбу, — таким должно было стать содержание нового героического искусства. В центре новой эпопеи должен был стать образ самого народа как решающей силы истории. И в этом было новаторское значение «Падения Даира». Перед советской литературой стояла задача, — по выражению В. И. Ленина, — создания истории современности. Не отдаленные от современников события, как в «Тарасе Бульбе», «Войне и мире», а живая современность просилась в герои новой эпопеи. По всему своему складу Малышкин был художником-историком, живым участником и вместе с тем кропотливейшим исследователем исторических событий, он был историком-лириком.
Сюжетом «Падения Даира» непосредственно является само историческое событие. Автор создал романтическую картину легендарного штурма Перекопа, оставаясь верным точному воспроизведению конкретных исторических обстоятельств.
«Армия противника стояла за неприступными укреплениями террасы, пересекающей все пути на полуостров. Надо было преодолеть террасу. Бросить массы за террасу — уже значило победить.
Армия, атакующая в ярости террасу — под ураганным огнем артиллерии и пулеметов противника, — обратилась бы в груду тел. Исход был или в длительной инженерной атаке, или в молниеносном маневре. Но страна требовала уничтожить последних сейчас. Оставался маневр.
Дули северо-западные ветры. По донесениям агентуры, ветры угнали в море воду из залива, обнажив ложе на много верст. Ринуть множества в обход террасы — по осушенным глубинам — прямо на восточный низменный берег перешейка, проволочить туда же артиллерию, обрушиться паникой, огнем, ста тысячами топчущих ног на тылы хитрых, запрятавшихся в железо и камни».
Таково ясно и точно изложенное условие стратегической задачи, такова сюжетная основа повести. И весь напряженный, волнующий фабульный интерес повести сосредоточен на ходе невероятно трудной, невероятно рискованной и смелой операции. Тяготеет угроза обратного прилива, возвращения воды в залив, а значит, гибели всей армии.
И вся эта обстоятельно воспроизводимая история взятия Перекопа овеяна романтикой мечты множеств и множеств участников события, вчерашних «маленьких» людей, устремившихся в поход за правдой. Кажется, все эти бойцы, подобно героям предреволюционных рассказов Малышкина, тоже видят «золотой сон о счастье». Вот бойцы на привале, у костра, перед походом.
«— Есть там железная стена, поперек в море уперлась, называется терраса. Сторона за ней ярь-пески, туманны горы. Разведчики наши там были, так сказывают, лето круглый год, по два раза яровое сеют!..
…Кто-то из лежавших изумленно и смутно грезил, корчась в нагретой стуже:
— Боже ж, какая есть сторона!..
— А может, брешут, — хмуро сказал другой; оба легли на локтях, стали глядеть на огонь задумчиво и неотрывно… говорили что-то, показывая в темь: наверно, о той же чудесной стране Даир».
Из потемок смотрят бойцы в сказочную страну счастья. Много в их мечтах и от наивной крестьянской веры в чудо, от сказок о «золотом веке»… И все же это не смутные грезы, не призраки, при всей фантастичности мечтаний. Легендарная «страна Даир» выступает в поэме как образ грядущей красоты, чистоты, справедливости, правды во всем мире, — подобно тому, как у Маяковского: «Там за горами горя солнечный край непочатый»… Весь этот поход за счастьем, всю суровость борьбы, всю священную наивность мечтаний художник утвердил как правду — единственную правду на земле.
«За околицей, в темном, цвела чудесная бирюзовая полоса от зари; в улицах топало, гудело железом, людями, телегами, скотом, как в далеком столетии. И так было надо: гул становий, двинутых по дикой земле, брезжущий в потемках рай — в этом было мировое, правда».
«Падение Даира» утверждало мысль о том, что сон «маленьких» людей о счастье перестал быть насмешливым, обманчивым, и крылья сказок о прекрасных веках, могучие крылья несут вперед эти тысячи и тысячи, призванные указать миру новый путь. Даже и архаическими Образами «становий», «кочевий» писатель стремился выразить единство исторической жизни народа, историческую оправданность, необходимость социалистической революции, как единственного выхода из всего пройденного народом пути. И реальная «бытовая» правда этого всенародного похода за счастьем, небывалые труды и лишения этих бойцов, одетых как попало, фантастически, нередко в лохмотья и отрепья, — эта реальная правда предстает одухотворенной великой, единственной человеческой мечтой. Из всего этого и возникает поэтический образ самой героической, самой, романтической борьбы в истории человечества.
Есть ли в жизни нечто неподдельное, настоящее, прочное, или все только видимость, только обманчивая мечта?
Шелехов, герой «Севастополя», исповедуется перед полунасмешливо слушающей его Жекой:
«Стоит вас не видеть два-три дня, и уже почти не верится, что вы существуете. Вообще вся жизнь — фантастичная, шатающаяся… Некуда пойти, только к вам. Хочется, Жека, как хочется — хоть здесь, с вами, найти настоящее, прочное!..
…так хочется настоящего, не призрачного! До Севастополя я ведь почти не жил. Полгода назад, вместе с революцией, пришло солнце, пришло море, простор… думал, вот оно — настоящее, начинается! И, правда, началось… почти сказочным полетом. И вдруг — опять одиночество, тучи… сон без просыпу… Разбудите меня, Жека, вы одна можете».
Мы видим, как усложняется постоянная тема Малышкина — тема мечты и действительности, иллюзий и реальности, сна и жизни. В интеллигентском полуиндивидуалистическом сознании Шелехова, испытывающего в первые октябрьские месяцы горькое похмелье после крушения своих шальных, расплывчатых мечтаний о какой-то небывалой карьере в февральской революции, о чем-то ослепительно-«керенском» в своей жизни, после жестокого краха иллюзий о прочности той «демократии», которая воплощалась в фигуре Керенского, — тема сна и жизни, мечты и реальности вновь овладевает героем, связывается с увлечением субъективно-идеалистической философией, идеями о том, что настоящее-то и не существует, а если существует, то непознаваемо, и человек со всех сторон окружен только лишь видимостями, кажимостями, призраками.
Еще в голодные студенческие годы созревала в Шелехове мечта — вступить в ряды блестящих властителей жизни, войти в их мир, который ему казался утонченным, изящным, заманчивым. В петербургские вечера, когда он «мчался по панели в пальто, выданном ему по прошению, и в таких же постыдных галошах и шумели, шумели волшебные дожди юности, ночные дожди Петербурга», — дразнили его роскошные видения. «А через дорогу — тогда — быстрее ветра пролелеет кого-то мотор; за зеркальными стеклами двое падают, обнявшись, бездыханные от счастья. И та, у которой резкая непостижимая усмешка, живет где-то за мостами; живут неслышные шикарные торцы Морской, бриллиантовым плесом растекаются огни Невского. Там в полночь только начинаются невидимые пиры, страшное праздничное зарево стоит над Невой, над дождем, над фосфорической мокретью панелей… и сила какая-то — ненавидящая, и терзаемая отчаянием, и кипящая надеждами — клянется в нем:
— О, я возьму все это, еще возьму!..»
«Севастополь» — самое мужественное, самое правдивое и глубокое, беспощадно искреннее повествование о том, какими тончайшими, интимнейшими соблазнами и ядами отравляет буржуазный мир сознание и чувства людей, в том числе и интеллигенции, вышедшей из трудовых низов. Любовная тема в «Севастополе» — вариант социальной темы повести. В мечтаниях Шелехова о какой-то недоступно обольстительной женщине таились особенно крепкие и ядовитые, особенно интимные, спрятанные в глубине нити, связывавшие голодного студента с миром «блестящих» властителей жизни — с тем миром, который презрительно отбрасывал, а вернее, просто не замечал нелепо разгоряченного мечтателя. Шелехов и ненавидел этот мир и все же мечтал «подняться» туда, в это манящее бриллиантовое сияние, стать в один ряд с людьми этого мира, добиться положения, сделать какую-то головокружительную карьеру. Это неизменно воплощалось в его воображении в образе властительной, горделивой женщины, обладателем которой, он станет по праву владыки, одного из хозяев жизни.
А когда Шелехов, опьяненный открывшимися перед ним февральской революцией, как ему представилось, безграничными перспективами, золотой лестницей к успеху, познакомился с Жекой, то весь ее облик, вся она показалась ему живой встречей с его мечтой! О, Жека должна принадлежать ему, как должно ему принадлежать депутатское место в учредительном собрании, восторги и поклонение благодарных толп народа, власть, власть, власть… Хороший оратор, «демократический» офицер, отвергаемый старыми царскими кадровиками, привилегированной кастой, Шелехов действительно завоевывает матросские симпатии, и вот ему кажется близкой реальностью слава, могущество, блеск…
Но все это оборачивается сном, вновь и вновь — лишь сном, насмешкой! И Жека оказывается насмешливо ускользающим видением — «белое платье, убегающее на солнечный пригорок», — опять и опять только манящий, исчезающий призрак счастья. Жека уходит в свой мир, к своему жениху, аристократу, белому офицеру. Был какой-то момент в их отношениях, когда она как будто потянулась к Шелехову всерьез, но то была лишь минута, да и Шелехов пропустил эту минуту, прозевал, не понял, — нет, какой уж он «властитель»! В том мире, к которому принадлежит Жека, властители жизни, обладатели «роскошных женщин» — они совсем иные: уверенные, изящно-барственные, насмешливо-спокойные, привыкшие повелевать. Такими они кажутся Шелехову. Крах его мечтаний о Жеке — это особенно обидное, постыдно унизительное для него выражение краха всех его надежд на счастье в чужом для него мире. И здесь особенно ясно сказалось все промежуточное, колеблющееся, шатающееся положение Шелехова в жизни. Он не мог ни завоевать Жеку, как один из «владык» того мира, к которому она уходит от Шелехова, ни отвоевать ее, как человек нового мира, увлечь ее в новую действительность, — а Жека допускала эту возможность, она колебалась. Но у Шелехова нет позиций ни там, ни тут…
Демократизм повести Малышкина сказывался и в полноте отказа героя от всех буржуазно-индивидуалистических иллюзий и в искренности и силе его стремления не к фальшивой, сверху вниз, «вождистской», а настоящей близости с народной массой.
Малышкин — отличный живописец словом — маринист, в «Севастополе» множество различных образов моря. Эти образы играют большую роль в развитии идеи произведения. Образы моря поэтически сливаются с образом народной массы, с образом истории: торжественная, суровая и прекрасная мировая дорога, требующая от людей такой широты и глубины, чтобы человек мог вместить в себя величие исторической борьбы. И Шелехов находит в себе мужество вступить на этот беспредельный мировой путь.
«Севастополь» ценен всем своим конкретно-историческим содержанием. В нем запечатлен период керенщины, прослежен процесс освобождения широких народных масс от мелкобуржуазных, соглашательских и оборонческих иллюзий. Ведь не только Шелехов преодолевает в себе эти иллюзии, их разделяет и преодолевает — хотя и совсем по-иному! — широкая масса. Среди матросов много людей из крестьян. В повести показано, как постепенно, с трудом большевики приобретают все большее влияние на массу, как она начинает все внимательнее прислушиваться к ним и как, наконец, влияние большевиков становится решающим.
Исторический пафос — одна из характернейших особенностей художественного метода Малышкина — сказался и в том, что сама композиция «Севастополя» определяется ходом исторических событий, изображаемых в их постепенном и динамически-драматическом развитии. Попытка контрреволюции собрать свои силы для разгрома революционного народа, роль Колчака и Керенского в собирании контрреволюционных сил и мощный рост возмущения народных масс, все более примыкающих к коммунистам, — таково содержание исторических событий, изображаемых в повести.
Сочетание точности художника-историка и страстности лирика, решающего в прямой связи с темой исторической судьбы народа и личную, интимную тему счастья, — в этом сказывалось яркое художественное своеобразие Александра Малышкина.
«Люди из захолустья» — одно из лучших произведений нашей литературы, передающих пафос первой пятилетки. Действие романа развертывается в промежуток времени между осенью 1929 и весной 1930 годов. Перед нами предстают многие характерные черты эпохи, помыслы, чаяния, надежды советских людей, их усилия, их борьба, небывалый подъем созидательной энергии. Тема наступления окрашивает роман — наступления на прежнее «захолустье», на многовековую технико-экономическую отсталость страны. «Вся Россия с корнями пошла»… — говорится в романе. Вновь сказалось в высокой мере присущее Александру Малышкину живое чувство истории родного народа: здесь это было чувство «непререкаемой, неизбежной и вековечной слитности» всего того, что происходило на родной земле в тот год, который получил название «год великого перелома», со всем прошлым народа, чувство исторической непреложности начавшегося коренного преобразования родины. И, быть может, главная и необратимая ценность романа заключается в том, что художнику удалось с удивительной простотой, силой, жизненной убедительностью раскрыть, какие чувства и мысли были тогда у самых «рядовых», самых «низовых» людей, как происходил у них процесс развеивания прежних взглядов, верований, устоев, прежних надежд и прежних представлений о счастье и как возникали новые представления, новые надежды, как эти люди преодолевали свои колебания и связывали свои судьбы, свои мечты с тем небывалым, что рождалось в годы первой пятилетки.
Главные герои романа — Николай Соустин и Иван Журкин. Первый — столичный журналист, второй — столяр, краснодеревщик. Они двоюродные братья, оба люди из захолустных низов, из старой уездной глуши. Их роднит не только кровное родство, но и общий душевный склад. И роднит их мечта о счастье, о том, чтобы оно было не призрачным, насмешливо-неуловимым, а прочным. Оба видели немало горя начиная с детских лет. Николай Соустин — первый в своем роду, попавший в гимназию. Восьмилетним мальчонкой ему пришлось наблюдать такое зрелище:
«…съехавшиеся из окрестностей базарники избивали на этой площади пойманного в чем-то человека; этот человек поднимался и опять падал, окровавленный, с рыжей бороденкой, в рубахе распояской. То был запропавший за три месяца перед тем отец, по прозванию Собачка».
Вспоминает Соустин и о другом: о юности, об утренних пробуждениях «на холодной заре; как верилось тогда, что где-то в большом мире, за долами, ждет его ненайденное счастье!».
Мечта Николая Соустина была неясной, противоречивой, в ней было и «шелеховское» стремление к какому-то «положению в обществе», к какой-то своей карьере; но вместе с индивидуалистическими стремлениями было в мечтаниях Соустина и нечто неизмеримо более широкое, чем только утверждение самого себя.
Была мечта о счастье и у Ивана Журкина, — в чем-то она была схожа с мечтой Николая Соустина. Малышкин рассказал об этом в ключевой главе своего романа. Эта глава называется «Счастье». Она, несомненно, принадлежит к числу лучших страниц русской литературы. Все страстное; лирическое напряжение романа прорывается в этой главе, представляющей собою часть автобиографии самого писателя. Писатель тут неожиданно и вместе с тем удивительно естественно переходит к рассказу о самом себе, прямо и непосредственно сливает себя со своими героями, заявляет о своей принадлежности к «роду» Соустиных и Журкиных.
«Мы были бедные, мы происходили из курносого, застенчивого простонародья, и я был первый в нашем роду, которого отец дерзнул послать в гимназию, на одну скамейку с господами».
«Мы» — это и Иван Журкин, и его отец, и Николай Соустин, и пекарь Собачка. Автор декларирует свое кровное родство со всеми своими героями. Он мог бы назвать роман: «Мы из захолустья». Он признается читателю в том, что речь идет и о его, Александра Малышкина, личной судьбе. Что такое малышкинское «мы»? Это целый род трудовых людей из старого уездного захолустья, которое так хорошо знал Малышкин, — ремесленников, столяров, пекарей, плотников, печников — мастеров с золотыми руками!
Отец Ивана Журкина, он же дядя Николая Соустина — и автора, по признанию последнего, — отличный мастер-краснодеревщик, вынужденный стать гробовщиком из-за отсутствия надобности в его высоком, артистическом мастерстве в «мшанской» глуши. Мастер всю жизнь свою мечтал о счастье. Он мечтал о своей лавке, о роскошном катафалке, о своей мастерской в городе Сызрани. «Туманно-чудесным краем, городом-зарей» грезилась Сызрань мастеру. «И что-то еще более светлое и радостное, чем катафалк, чудесило над Сызранью. Что? Эх, если б правду говорили люди и дело стояло только за мастерством, сумел бы дядя показать, что такое мастерство!»
«Что-то еще более светлое и радостное»… Мечта мастера не сводилась только к своей лавке, к своей мастерской, — нет, то была мечта о какой-то чудесной работе, где можно было бы показать мастерство, и — еще шире! — то была неясная мечта о какой-то такой жизни, в которой счастье — награда за мастерство, только за высокое, свободное мастерство, а не за волчью хватку, лисью повадку. Мастер так и не выбрался из унижения и нищеты. И сама Сызрань, «город-заря», куда ему удалось все-таки перебраться, — сгорела, вместе с его мастерской. Поманила и насмеялась «недостижимая заря»…
Иван Журкин — тоже великолепный, редкий мастер, унаследовавший от своего отца и вдохновенное, строгое мастерство, и ремесло гробовщика в Мшанске, и мечту о счастье: о такой жизни, в которой «дело стояло бы только за мастерством». Волчьей хватки, которою наделен другой его двоюродный брат, Петр Соустин, вылезший в богатеи, лавочник и кулак, хищного наскока у Ивана Журкина совсем нет. Он только мастер, «только» отличный мастер.
Как и его отец, Иван Журкин воплощал свою мечту в образе своей лавки.
У всех людей из этого «рода» была своя Сызрань, свой город-заря, — увы! — сгоравший, как сгорела Сызрань, призрачный, шаткий город на песке, открытый всем ветрам, всем бедам жизни, неуловимый, манящий и исчезающий. В простой ли журкинской форме или в интеллигентски усложненной, как у Николая Соустина, то была мечта и о своем «куске», который надо «урвать» (постоянное присловье Журкина: «кусок урвать!») — и вместе с тем о чем-то более светлом и широком…
Маленький человек Иван Журкин терпит смешные и унизительные неудачи в своих неуклюжих, неумелых попытках выйти в люди, подобно Петру Соустину, сделать аферу, нажиться, купить-перепродать… Нет, не его это стихия, не быть ему богатым, ловким, удачливым.
Живет в душе Журкина песенная, поэтическая стихия. И вот после одной из особенно обидных своих неудач в смешных попытках разбогатеть, во всем отчаявшись, на все махнув рукой, он, Иван Журкин, гармонист-виртуоз, умевший извлечь из гармони и вложить в нее душу, взбудоражил, увлек за собою три села неотразимой душевностью песни русской мастеровщины: «Измученный, истерзанный наш брат мастеровой»… Незаметно присоединилась к этой песне другая, строго запретная, слова которой еще нетвердо были заучены:
Богачи, кулаки… разна сво-о-олочь! Расточают тяжелый твой труд…Получился бунт, появились стражники, Журкин, оказавшийся коноводом, попал в острог. Этот эпизод романа, передающий клокотанье народной муки-ярости, по своей лирической гневной напряженности и силе близок некрасовской поэтической атмосфере.
Свою мечту Журкин пронес через всю свою жизнь, вплоть до «года великого перелома».
Николай Соустин, доброволец Красной Армии, прошедший гражданскую войну, сотрудник большой столичной газеты, участник политической жизни страны. Но прежняя мечта о своем обособленном счастье все еще живет в нем. Однако Соустин все глубже начинает осознавать в себе эти настроения как наследие «захолустья», социального, психологического. Он приходит к выводу, что время требует ясности, определенности, мужества во всем. Время требует широты, слитности со всей жизнью страны. Соустин ищет настоящего, действительно прочного: прочного исторически, прочного социально, прочного лично. И те же поиски — у Журкина: два варианта одной мечты, одного стремления, того стремления, во имя которого была совершена и сама Октябрьская революция, во имя которого совершались небывалые подвиги самоотвержения в годы гражданской войны, в годы пятилеток… Все было непрочным в жизни миллионов Журкиных, Соустиных. И вот, кажется, приходит наконец прочное, настоящее. Кажется — потому что люди журкинской склада недоверчивы: столько было у них разочарований, столько раз надежда обманывала и все оказывалось лишь видимостью, манило и заманивало для того, чтобы обманывать, еще и еще раз насмехаться!..
И Ивану Журкину, покидающему свои родные места и начинающему иную, новую судьбу на строительстве металлургического гиганта первой пятилетки, в «Красногорске» — Ивану Журкину поначалу все тут кажется чужим, непонятным. Ему представляется то новое, что обступает его здесь, не родиной, а какой-то железной чужбиной.
Но вот, оказывается, его тут оценили! Его мастерство нужно, его, Ивана Журкина, тут уважают! Малышкин тонко раскрывает шаг за шагом процесс, происходящий в душе своего героя: постепенное преодоление извечной недоверчивости, подозрительности, постепенное изживание того настроения, с которым Иван Журкин приехал на строительство. А настроение это укладывалось все в ту же формулу: «Кусок урвать!» Никаких других взаимоотношений между собою и другими людьми, между собою и новостройкой и государством Иван Журкин и представить не мог. Так учила его жизнь. Но вот жизнь, кажется, начинает учить иным законам… И у Ивана Журкина уже появляются новые мечтания, его начинает захватывать уже не мысль о своем «куске», который надо «урвать», а иное, честолюбивое волнение, уже связанное не только с мыслью о себе, своей семье, но и об общем. Он хочет стать человеком, нужным общему, он хочет, чтобы им гордились! «Подняться как-то необыкновенно, совершить чудо! В этих мечтаниях играла немалую роль газетка „Красногорский рабочий“, которую Журкин стал почитывать в перерыве и в которой описывалась доблесть отдельных рабочих и целых бригад и помещались портреты. Около этих портретов как бы играла музыка. И о том же судили-пересуживали ребята за верстаками с явной завистью, и о том же рассказывали на собраниях… Зачиналось, передавалось от человека к человеку то героическое, честолюбивое волнение, которое доставило потом стройке мировую славу, мировые рекорды в различных областях труда. Уже татарская бригада землекопов вынула за смену какое-то чудовищное количество кубометров земли; бетонщики изо дня в день повышали друг перед другом кривую замесов; отличались монтажники, арматурщики, слесаря. Но про столяров еще не было слышно… Не слышал еще Журкин про столяров, и сердце его исподтишка жгуче, предвкушающе билось. Он-то нагляделся теперь на здешних мастеров, посравнивал себя с ними, он знал настоящую цену себе».
Мы слышим здесь песенный ритм, и глава называется: «Песня», — мы чувствуем музыкальную мелодию, начиная со слов: «Зачиналось, передавалось от человека к человеку»… Затем идет перечисление разных отрядов армии труда, — при каждом новом названии повышается и расширяется музыкальная волна, подходит все ближе к Журкину; и, наконец, подошла к самому сердцу: «Но про столяров еще не было слышно»… И — с легкой вариацией — повтор, нарастание волнения, уже целиком захватывающего сердце: «Не слышал еще Журкин про столяров, и сердце его…» В этом песенном, музыкальном повторе мы как будто непосредственно слышим биение сердца, биение сбывающегося — наконец-то сбывающегося! — счастья… Все, о чем тут рассказано: начинающееся, соревнование, рекорды землекопов, бетонщиков — все прозвучало бы для читателя по-иному: холодно, протокольно, если бы каждое слово здесь не было согрето страстью Ивана Журкина, его ожиданием, его порывом. Общее у Малышкина всегда проникнуто личным и является лирически напряженным. и приподнятым. Романтизм слияния личного. с общим, историческим, мировым — характерный аспект литературы социалистического реализма тридцатых годов — в высокой мере характерен для Александра Малышкина, этот романтизм сказался уже в «Падении Даира» и «Севастополе».
Начинается новый путь Ивана Журкина.
«Прочности — вот чего никогда не знал он в своей рабочей судьбе. Но теперь он упрямо захотел ее, этой прочности, он захотел ее и для завода, для всей стройки. Ибо то, что его провели приказом, было уже прочно. Приказом Журкина проводили в первый раз в жизни».
«Провели приказом» — это становится символичным: значит, есть некая сила, которой Журкин нужен, необходим, которая заботится о нем, он не одинок.
В первые дни Журкин работает чуть ли не круглые сутки.
«В двенадцатом часу появился начальник цеха, минуты две глядел на эти руки из-под очков.
— Ты что же… на деньги, что ль, такой жадный, шестнадцать часов работаешь?
Журкин, вздохнув, разогнул спину. Застеснялся.
— Да все одно, куда же время девать? Я… за дело беспокоюсь.
— Ага-а…
И начальник цеха, по имени Николай Иваныч, сам бывший столяр, угадал в глазах этого человека тоску о прочности, несомненно, знакомую когда-то и ему самому. Сказал:
— Беспокойство твое, конечно, хорошее…»
Значителен этот диалог: разговор кадровых, истовых мастеров, знающих, что такое жизнь, работа, горе и — настоящая радость.
Так впервые в жизни Иван Журкин почувствовал, что он находит свое счастье. И теперь он уже будет держаться за достигнутую прочность, бороться за то, чтобы не сгорело это счастье, как сгорел «город-заря» его юности, как сгорали всегда, извечно все «города счастья», оказывавшиеся обманными, предательски неверными, жестоко насмешливыми. Журкин все более проникается уверенностью в том, что новый, настоящий «город-заря» не может сгореть, исчезнуть, обернуться не тем, чем он кажется, не может оказаться только видимостью. Мотив видимости и сущности, кажимости — и настоящего играет большую роль в «Людях из захолустья», как и в «Севастополе». Этот лейтмотив творчества Александра Малышкина в «Людях из захолустья» развивается как утверждение мысли о том, что органические, настоящие силы жизни — это народ. Эти силы неизбежно возьмут свое, истинное, отбросят ложное. Все, что враждебно народу, — это ненастоящая сила, хотя она и может быть коварной и опасной. В «Людях из захолустья» Малышкин глубже, прочнее, чем в предшествующих своих произведениях, связал тему народа с темой партии, создал ряд запоминающихся образов коммунистов, чьи помыслы, заботы, дела направлены на то, чтобы поднять народ к такой жизни, в которой «дело стояло бы только за мастерством», счастье было бы наградой за мастерство. С полным основанием можно сказать, что роман «Люди из захолустья» проникнут народностью и партийностью, этими коренными принципами литературы социалистического реализма.
Не только Ивана Журкина и Николая Соустина, но и других героев романа, вплоть до пришедшего на стройку из деревенской глуши наивного, робкого Тишки, мать которого была побирушкой, нищенкой, вплоть до Ольги, подруги Николая Соустина, жившей в своем одиноком интеллигентском душевном «захолустье», — всех, всех роман «Люди из захолустья» звал к широте общего, исторического, мирового, к слитности личного с общим. Подобно тому как Блок призывал слушать музыку революции, Малышкин звал всех слушать главную мелодию созидания жизни — мелодию слитности. «Мы оба ищем настоящей судьбы, — говорит Ольга Николаю Соустину. — Это — когда слушаешь музыку: есть что-то обязательное, возвышенное, единственное в жизни… Какая-то вечная мелодия… Самое мучительное для меня — это… неслитность…»
Ценность романа Александра Малышкина необратима. Этот роман включен в «вечную мелодию». В нем запечатлены правдивые картины жизни страны в незабываемый период первой пятилетки. В нем выразился порыв миллионов людей, поверивших зову Коммунистической партии, порыв к великому всенародному творчеству новых основ жизни, в которой привольно жить созидателям, мастерам. У Александра Малышкина был свой герой, чья судьба была судьбой самого писателя, была своя жизненная тема, она органически связалась с темой строительства социализма, и поэтому все творчество Малышкина является глубоко органическим, охваченным единой страстью — страстью всей его жизни, слившейся с жизнью всего народа.
В. Ермилов
Рассказы
ПОСЛЕДНИЙ БАРЫКОВ
I
Если парень бегает в баню с веником, значит — жених. Таким у нас в Окшане на масленицу главная гульба; только и дела тогда, что метать орлянку у трактира или околачиваться подле кирпичных лабазов. Там и невесты гуляют, любую выбирай: одна к одной девки, все форсистые, набеленные, юбки с отлетом.
Чинно плывут они, кольцом запружая лабазы, низко, притворщицы, опускают ресницы. Парни стеной стоят, перебирают лады гармоник, поскрипывают лаковыми сапожками, перемигиваясь. Беда, если, забывшись, усмехнется какая лихому мигачу — сколько тут ни кутай пунцовые губы в беличий рукавчик! Гулять тогда сватам на Красной Горке, бить горшки. А за гумном своим чередом пойдут в сумерках нечаянные встречи и тесные поцелуи…
С четверга загуливают масленую в Окшане. Кто почище — жмется на Планской, хотя там того и гляди голову сломишь на осклизлых раскатах или рысаки подшибут. А рысаки у нас отчаянные, купеческие: если промчится кто, лепясь будто на хвосте, все глаза закрутит снег, покачнет даже. За ним, не дав вздохнуть, другой— еще веселее, там третий, а дальше и не взвидишь, махнешь рукой и отвернешься. И почудится: крылатая вереница бесов мчится, обезумев, в оснеженные ветлы реки…
Афонька Барыков, идя к невесте, долго не решался перейти на ту сторону. Наконец, изловчившись, проскользнул он кое-как под мордой рысака и, с облегчением улыбнувшись, отворил калитку винной монополии. В теплых горницах по-обычному встретила его статная девушка, вскидывая синие глаза. Афонька поздоровался и, кивнув на стол с бутылками, щелкнул языком:
— Все, значит, честь честью, и обогреться можно?
— Сделайте милость, — ответила девушка, кланяясь, и тут же обиделась: — Чай, и мы люди, не пенькам молимся. Без замечаний, пожалуйста.
— Ну, ну, — заторопился Афонька, махая успокоительно ладонью, — будет, будет! Ах, как в вашем сердце много перца!.. А что, мамаша — почивает?
— Прилегла сейчас, — промолвила девушка, отходя к столу и наливая вина. — Вот, пожалуйте, мне красненького, а вам зелененького, кушайте!
— Чай, и вы бы того, — ухмыльнулся Афонька, — без мамаши-то и позабористей можно, а? Для меня, Зоинька!
— С чего это? — удивилась та, гордо прищурив глаза, — много чести! И вы бы похладнокровней, Афанасий Васильич! Вот пейте, если хотите, один, а я совсем погожу.
Поджав ножки, развалилась она на диване и забренчала гитарой:
Ветка, ветка бедная, ты куда плывешь, Берегись, несчастная, в море попадешь…— Вот в точку, — присел к ней Афонька, зарывшись пальцами в волосы, внезапно нахмурившийся и разжалобленный, — ведь это я, бедная ветка… Мотаюсь, мотаюсь, черт знает, из стороны в сторону, а все непристроенный какой-то, один. Другой час такая тоска завинтит, ай-ай… Ведь вы вон куда линию гнете, на карман, а в душу-то и не заглянете! А без вас, Зоинька, что? Кручина только, темь всякая…
— Может, я душу-то раньше оценила, — возразила девушка, перебирая равнодушно струны. — С другими я таких разговоров не позволяю.
— Это конечно, — задумался Афонька неведомо над чем. — Только ласки от вас мало видно…
Опять прожурчала гитара, сонные сумерки колебались в голубом стекле, рисуя тонкий силуэт девушки. Искоса поглядев на изогнутую, будто отяжеленную косами шею, дотронулся с восхищением Афонька до Зоиных кружев.
— Нарядная какая, — любовался он, откинув вбок голову, — к вам идет очень. Уж не собрались ли куда?
— Вечером танцы, — ответила та нехотя, — учитель обещался сегодня зайти. Его и жду.
— Это что же вы с учителем? — потемнел вдруг Афонька, тряся губами. — А со мной? Иль он завиднее?
— Я не на отчете у вас! — оборвала его жестко Зоя. — Можете с других спрашивать, а меня оставьте в покое. Ведь вы не предлагали себя в кавалеры, чего же сердиться? Образование!
И видя, что Афонька горько поник, добавила, смеясь:
— Ревнует, бедненький, плачет… эх, мужчина!
— Зоинька, — потянулся тот к ней, боясь упустить что-то, — ей-богу, я думал, мы по-свойски. Зачем же с другими-то, Зоинька! Идем со мной, ну не мучь меня, Христа ради!
И не в силах побороть печального прилива нежности, положил ей руку на теплую грудь, вздыхая, а губы коснулись щеки.
— Голубка моя, ненаглядная, — бормотал он, не отрываясь, — касаточка моя…
Зоя искривила гневно лицо и, перегнувшись назад, оттолкнула Афоньку, грубо и больно отрывая его пальцы.
— Не лапайте, не купите, — задыхалась она зло, поправляя косы, — бесстыдник! Знаем мы вас: сейчас турусы на колесах, а там ваше дело телячье, поел да в хлев! Не сметь!
— Так я… так что же, — растерянно лепетал Афонька, — я уже говорил… Я всегда законным браком, хоть сейчас!..
— Нет, не сейчас! — опять зло прокричала Зоя, покраснев даже. — Сказала, когда тысяча наличных будет да пятьсот в товаре! С голяком нищих я плодить не буду! А вас прошу к нашей калитке ход запамятовать пока, чтоб люди не болтали! Вот с тем и возьмите!
— Это ваше последнее слово? — нагнул голову Афонька у притолоки. — Скидки не будет?
— Нет. не ждите!
— Ну, ладно, прощайте, коли… Эх!.. — горько мотнул он волосами, толкая дверь, — кабы знали вы, что здесь!.. — И, стукнув кулаком по груди, захмыкал носом и вышел из горницы.
* * *
Некогда, гуляя в кабаке, обмолвился невзначай какой-то Афонькин предок, захмелев: хотел спросить балыка на закуску, а вышло несуразное, что-то, вроде «барыка». Так и пошло — Барык да Барык, а наследные внучата навсегда укрепились Барыковыми — и по-уличному и в документах.
Славный был род барыковский, старинный. Еще при Екатерине ездили они на Каспий, где имелись собственные тони, гоняли лошадей в Москву. В Окшане поставили маслобойню с мельницей и кирпичный лабаз, где ютятся теперь мелкие бакалейщики, а кругом рассадили бахчи и огороды. Так бы, кажется, и расти крепкоголовому роду, богатеть, а вдруг иное вышло: словно бессчастная птица какая накричала на Барыковых.
У Афонькина дедушки, Устина, первая жена была из дворянок. Хрупкой тенью скользила она, как пришелица, в душных комнатах, где оседала тяжко дубовая мебель и в маленьких окнах рдели алые цветы. Любила рядиться в светлые платья и в вечерний час поплакать над фортепьяном, а умирая, позвала к постели Устина и взяла с него клятву больше не жениться. Тот дал… но, встретив где-то на юге прекрасную шинкарку, не выдержал. Сладко и неумолимо околдовали его черно-огненные глаза молдаванки, чьи губы на смуглом лице были как кровь…
Вот тогда, словно от неведомого наслания или лихого навета, пошатнулся купеческий род. В один год перемерли все дети Устина, кроме старшего Васяни, на лошадей напал сап. Чужая женщина стала властвовать в доме, помыкая стариком, и много барыковского добра уплыло на сторону, к любовникам.
С Барыковым начало твориться неладное, словно перевернуло всего. Оттого ли, что порушил он свой тайный обет, или кровь в роду оскудевать стала, — подвергся он как бы падучему стиху и запил. Потом неожиданно для всех, облачившись в рубище, вышел босым из города, сказавшись на богомолье.
Лишь на три версты, рассказывают, отошел он от города и схоронился в степном логе. Пролежав там до сумерек, вернулся задами домой и, запершись в пустой амбар, присел в сусеке. Никто не знает, что дальше было, только нашли его недели через три по запаху. Определили, что умер покаянной смертью — от голода, а все лицо объели крысы.
По завещанию все деньги и постройки отошли на монастырь, а земля — Васяне. Около Окшана появилась новая обитель, а Васяне едва хватило сколотить деревянный лабаз и набрать рублей на двести кож. Сына Афоньку отдал он в губернский город в мальчики.
Не было в Окшане никого веселее Васяни Барыкова, так и звали — «садовая голова». Он тебе и на балалайке, и на скрипке, и спляшет чище цыгана, и иные штуки выкинет, каких в балагане не увидишь.
Кожи забирал он у губернского купца Титова, который любил иногда подстроить язвительную каверзу над должниками. Так однажды и над Васяней: заглянул ему зачем-то за пазуху и плюнул. Васяня хоть и был покладистым по нраву, однако здесь рассердился и расквасил зубы купцу. А тот в отместку представил сразу все векселя к уплате.
Видит Васяня — последний его час пришел. Поставил в горнице белый стол, три бутылки пива да водки, мешает пополам и пьет. А потом, вынув лист бумаги, всхлипнул и вывел каракулями:
— Такого-то месяца и года случилось в городе Окшане необыкновенное происшествие, как то сделал на себя покушение купец Барыков, шорник и потомственный гражданин. В смерти прошу никого не винить, сам порешился, а Ефимка Титов — подлец и мерзавец, через него погибаю. В чем и подписуюсь, Василий Барыков.
Заглянула ненароком в горницу теща. Васяня прищелкнул пальцами и, указывая на бутылки, ухмыльнулся непонятно, жалостно как-то.
— Ты что, мамаша, дивуешься? — сказал он. — Думаешь, без закуски пью? Как же! А это что?
И указал ей под рукой шарики с крысиным мором.
Старуха обмерла и засуетилась, словно растеряв весь разум. Прибежала жена, завопила; запрягли телегу, чтобы отправить Васяню в больницу. Но он сам запер все ворота и, топнув ногой, крикнул гневно:
— Пока не помру, за калитку ни шагу! А ты, мать, иди — свечи зажигай…
Потом мутиться стал, стонать, весь двор исползал на карачках. Принесли было молока из погреба — все горшки переколол. Напоследок заполз в коровий хлев, и, верно, обмякло у него внутри — затих немного. Нагнулись над ним бабы, заголосили… Так в хлеву и кончился.
Остался один Афонька из Барыковых. Служил он долго и, похоронив мать, задумал, по примеру предков, раздуть собственное дело. Выстроил перед масленицей в Окшане лавочку, накупил на триста рублей товару, а пятьсот оставил на всякий случай в кармане. Торговлю он хотел открыть с первой недели поста, а пока служил у шурина, бакалейщика Моргача, в доверенных.
Теперь иная печаль сторожила Афоньку, затемняя немудрые раньше мысли. И когда, огорченный и злой, вышел он от Зои, сердце его болезненно сжалось.
«Где их, тысячу-то, взять? — думал он, бродя по Планской, — с ножом, что ль, к горлу лезть? И учитель тоже… — Афонька опять покраснел и тряхнул кулаком. — Ну, этому бучку задать — и отстанет, стоит только парням четверть посулить! А деньги…» Но он не успел докончить, внезапно взвилось над ним что-то черное, будто туча; зычный окрик сквозь нахлынувшее облако метели резнул уши: «берегись». Едва успел Афонька отскочить, зажимая ослепленное снегом лицо, как промчался, гудя, рысак с лебединой грудью. Толстый купец, откидываясь с натянутыми струной вожжами, мелькнул следом. — Ай да шурин, кляп ему в рот, — про. бормотал полуиспуганно Афонька, собирая варежки, — здорово задувает!
Вещий, исчерна-красный закат тлел за полями в набегающих сумерках. То омраченные, то окровавленные снега струились далеко хрупкой зыбью. Что-то вспомнил Афонька, о чем-то темном задумался, тряхнув угрюмо головой. Голуби пролетели, мрачнее зардела в потемках опечаленная заря. И ясно отозвался в сердце горестный и страшный голос, предрекая словно близкую Афонькину погибель…
II
В вечер пятницы, после закрытия лавок, в теплушке Моргача собрались главные окшанские богатеи играть в «двадцать одно».
Кудрявый весельчак Решеткин держал банк, разливаясь звонким гоготом, когда в кучу среди стола сыпалось новое серебро. В свою очередь, когда куча пустела, над ним хихикал ехидно сухонький Чучкин, тряся рыжим клином на шее и морща желтое лицо. Угрюмый мясник Укопаев углубленно созерцал карты, медленно высчитывая.
Из-за спины Моргача жадно выглядывал дьякон, дрожа распущенной гривой, и иногда подсказывал и советовал, за что его гнали. По временам игроки потягивались, и Вася Решеткин запевал, подмигивая Моргачу:
Как на нашей речке мост, Возле мосту перевоз, Кто бы рюмочку поднес!Тогда Моргач делал решительный жест большим пальцем, и купцы, причмокивая, подходили к кулям, где пряталось вино и закуска. Дьякон, который краснел и виновато ухмылялся, приглашался туда же…
Надев замки на железные ставни, вспомнил Афонька вчерашние свои мысли и, встрепенувшись, прошел и теплушку. Немного поколебавшись, он сел на пустой табурет и спросил карту.
— Чего же, гулять так гулять! — махнул он рукой, зардевшись от почтительной к купцам улыбки. — Еще карточку!
Начали по маленькой, потом ставки стали возрастать. Через час у Афоньки скопился незначительный выигрыш. Он выпил, потом еще, и ему захотелось, чтобы все порешилось скорей. Хмель стремительно сменял мысли, полные надежд и сладкой боязни.
— Четвертная в банке, — крикнул он, когда дошла очередь. — Чего по мелочи околачиваться, гундить-то!
— Сразу новый купец всем в кишки въелся, — съязвил Чучкин, — подсыпай еще, жалко, что ль, их, навоза-то!
— На еще! — хлопнул, побледнев, Афонька другой кредиткой по столу. — Что! Поджал хвост-от, сквалыга! Кому карту?
В первый круг дошло до полтораста, Афонька застучал. Возросло до двухсот. Моргач, который был последним в кругу, молча покрыл ладонью деньги.
— Ва-банк?
Афонька выбросил ему карту и, делая беспечное лицо, взял себе. Все вопросительно поглядели на него.
— Двадцать! — четко кликнул он и, глотая сухим горлом воздух, потянул к себе деньги. И светозарная легкость хлынула в душу, легко опьяняя.
— Смылил-таки, — проворчал Моргач, раскрыв рот от недоумения, — сколько всего?
— Четыреста, триста пятьдесят чистых…
Банк начал держать Чучкин. Афонька взял еще пятьдесят рублей. Еще раз, только бы раз взять такой куш, как в начале, — и он встанет и уйдет. Тогда Зоя — близкое счастье, невозможное еще вчера…
— Сколько в банке? — спросил он сухо.
— Четыреста.
На мгновение дрогнуло все и затмилось. Сейчас, сейчас, вот близко оно, только там, под сухими желтыми пальцами, скрыта страшная тайна. Казалось, все чувства остро напряглись и взнеслись в одну точку, где выше — оборвется сердце, где ослепляющая радость или глухой срыв в темь…
— Держу!
Ему дали карту еще. Стараясь не смотреть сразу, он приподнял их одну за другой и пересчитал. Овладело сомнение на минуту, пересчитал еще раз. От тоски и горечи опустил руки. Он бросил карты и, деланно равнодушно растягивая слова, произнес:
— Нет, перебор…
Дальше было как в забытьи. Он не был пьян, но кровь, как во хмелю, туго тяжелела в висках, кожа сделалась горячею, и немного залихорадило. Неверные мерцания потекли перед глазами. Он еще раз поставил четыреста — Из своих — и проиграл.
— Ты бы, Афоня, прохладился немного, — заметил ему, хмурясь, Моргач, — здесь ведь ты не в свою партию залез, без штанов пустят.
— Мое дело! — злобно буркнул тот, нервно ломая себе пальцы под столом, — а кто кого утрет, не знай еще!..
— Сотня, — двинул он последнюю бумажку Укопаеву, — давай карту, да живее, не кобенься!
— На, жги! — свирепо крякнул тот, выпячивая грудь. — Довольно, что ль?
Афонька пересчитал — вышло двадцать очков. Пришла тайная радость, потому что больше — редкий случай. Поклялся себе, что будет теперь играть по маленькой, пока не вернет своих, а там, быть может, вернется удача…
— Двадцать! — крикнул Укопаев, больно и жестко ударяя по сердцу, — Беру!
— А ну вас к черту! — взбешенно, с пеной на губах, выскочил Афонька из-за стола, — жулики! И вы, отец дьякон, какого черта торчите все время за спиной, невежа!
— Ты, ты потише, — встал Моргач, стуча пальцем, — не ерепенься, не в сарае ведь разорался!
— Ну, все равно! — стукнул, как пьяный, в отчаянье Афонька по столу, — вот на товар сыграю! На триста у меня, у Моргача в складе… Мне отыграться только!
— Как же так на товар? — загалдели игроки, — кто его считал у тебя? Дело неладное…
— Да вот же счета! — взвизгнул почти Афонька, выкидывая бумаги. — Позвольте без очереди мне банковать, я сейчас! Вот чистым бастом триста кладу, глядите, все оплачены!.. Кому карту?
— Дай ва-банк, — протянул руку Решеткин.
— Ну? — спросил Афонька торопя.
— Двадцать одно, вот что, — сунул тот ему карты к носу. — Отшивайся теперь, брат, от стола, отгулялся!
— Как! — погладил Афонька рассеянно свой лоб, силясь словно вспомнить что. Купцы поглядели на него, усмехаясь, и продолжали сдавать дальше. Сухой узкий затылок Чучкина лез в глаза ненавистно, тоскливо; хотелось стукнуть его больно или придавить чем. Охнув, надел Афонька шапку и выбежал из теплушки.
— Вековать тебе в приказчиках! — крикнул ему вслед Моргач, поглаживая бороду. — Завтра, не забудь, съезди с дубликатом на станцию. Игрок!
Афонька остановился на время в темной лавке, послушал. Потом, как незрячий, рванулся в дверь и, убившись локтем о железо, покатился по скользкой горке на улицу.
* * *
На Планской затмила дороги масленичная черная ночь, и согбенные тени, то ругаясь, то распевая, таяли в метелице. Под окнами сияли тускло колеи, накатанные за день, и прохожий, попадая на них, дергал ногами и откидывался назад. Чьи-то раскатившиеся пошевни подшибли задремавшего словно Афоньку и столкнули в снег.
Он выругался и, карабкаясь по обледенелому скату, кое-как встал и начал отряхаться… потом снова упал.
— Что, Афоня, видно, и ноги не держат, надрызгался? — раздался над ним сиплый смех. Тонкая тень, судя по развевающемуся платку — женщина, помогла ему подняться.
— Что же ты молчишь? — донимала она его. — Иль уж людей не узнаешь?
— Вижу, Танька, — пробормотал Афонька с досадой, потирая колени руками, — черт, все кости отбило! — и потом вскинул к ней лицо: — А тебе что надо?
— Мне-то? Ничего! — нахально оскалила та зубы и задержала его. — Да куда ты порешь, чисто оголтелый! Хочешь опохмелиться, пойдем в нашу хибарку, есть!
— Ну-ка, пусти, не привязывайся, — отстранился он угрюмо и, отбросив ее руки, полез на бугор, но опять поскользнулся и словно одумался. — Эй! — позвал он женщину, начинавшую уже пропадать в темноте, — веди, что ль, где у вас там!
— То-то! — откликнулась та насмешливо и повела его, забегая немного вперед, в темный переулок. Потом, оглянувшись, хлопнула себя по бедру и вскрикнув: — Ах, оголтелый и есть! — побежала назад отыскивать Афонькину шапку.
— Ты, смотри, голову-то не потеряй, — укоризненно добавила она, возвращаясь и нахлобучивая ему воротник.
— Эх, растепеля, на вот!..
— Мне бы в тепло теперь да водки, — уныло промолвил Афонька, увязая в снегу где-то на огородах. — Скоро, что ль? Полны чулки снегу…
Спустя некоторое время Танька остановилась и, показывая на что-то черное, вроде бани, сказала:
— Вот это самый наш притон и есть. Входи, не бойся…
В тесной избе, где сумерки, как паутина, чадно опутали все до потолка и плавал над коптилкой махорочный дым, плясала девка в расстегнутой кофте. Старичок с невидимым лицом, притулившись в углу, играл на гармонике.
Кривая старуха поставила на стол водку.
На скамье сидел еще вор, прозванный Петуханом, солидный мужик с сальными красными щеками и выпученными глазами, а в другом, совсем темном углу, — столяр Гарька, черный, косматый и злой. Увидев Афоньку, Петухан похлопал рядом с собой ладонью и сказал:
— Подвигайся сюда, купец, покалякаем душевно! А если ты насчет девок, то Соньку не трогай, пока цел.
Афонька, не отвечая, сел поодаль, а плясунья показала язык и запищала:
— Еще бы, какой дилижер нашелся! С кем хочу, с тем и сяду! Во-от! — Но Петухан рванул ее за кофту и, замурлыкав от удовольствия, притиснул к себе на колени. Сонька обняла его красную, голую, как у скопца, шею и замолила:
— Водочки бы, дяденька!
— Водка есть, — пододвинул ей Петухан рюмку, — мой! Эй, ты! — обратился он к одинокому столяру, — иди, борода, выпей, купцам с нами зазорно!
Гарька подошел к столу и, не глядя, выпил рюмку, утирая ладонью черную бороду. На Афоньку зарделись мимолетно смоляные глаза его из-под торчащих бровей.
— Ежели тебе Сонька, — молвил он вору, наливая еще водки, — то мне Танька. — И в другой раз обжег взглядом Афоньку.
— Пожалуйста, — заерзал тот беспокойно, — я в ваших девках не нуждаюсь. Невидаль, мало их, добра-то!
Он выпил сразу стакан и опустил голову на руки. В мозгу словно колыхнулось что, в радужных кругах баюкая тело, и гармоника заиграла уныло, как в слезах. Легко и безвольно налетели пьяные грезы, жалостно лаская сердце, и Афонька шептал про себя, распаляя тоску:
— Эх, жизнь моя, любоваться на тебя только! Один, как полевой кустик… ни любви, ни ласки, так сиротой сдохнешь где… под забором… Свои — и то деньги кровные отняли, а я их пятнадцать лет по копеечке копил, жилы свои тянул… пятнадцать лет, эх!
И оттого, что вспомнились пятнадцать лет, жгучая обида заставила его всхлипнуть, но он тотчас же утер слезы пальцем, чтоб никто не заметил.
— Коли не жалеете, чего вас, чертей, жалеть! — скрипнул он вдруг зубами и, подняв голову, понял, что пьян. Чад плыл совсем близко, словно кто клал тяжелую руку на глаза, и туманно колебались стены… а из угла светился колдовской взгляд черного столяра.
— Что ты как сыч впился? — злобно мотнул на него Афонька головой. — И ты, — повернулся он к гармонисту, — сделай милость, замолчи, старая волынка, будет душу-то выматывать!..
— Не скандаль, — с достоинством пробасил Петухан, снимая с Соньки кофту, — а то сейчас выкинем, за мое почтение! Залетела ворона не в свои хоромы, так и нечего кочевряжиться!
Танька, предвидя шум, подбежала к Афоньке и, обняв его, поднесла рюмку, чтоб задобрить. Но он с ненавистью оттолкнул ее и, отскочив по скамейке в угол, крикнул:
— Отстань, говорю, гад! Иди вон со своим сычом целуйся, не пачкай!
— Ну и что же, — задорно отступила Танька, откинув голову, — уйду! Всякая шваль тоже пинается! В морду бы дать, а я вела его как доброго! Фу!
А Петухан зловеще пощелкал по столу пальцем и сказал:
— Экий, брат, народ, так кулака и просит! Ты еще сапоги-то, купец, снял бы, без сапогов бы еще поломался!
Злоба окончательно завладела Афонькой. Он поглядел, выжидательно насупясь, на обеих девок, на вора и Гарьку, и, словно от мутного отвращения, у него тошно засосало под сердцем. Подумав, чем бы уязвить всех сразу, он вынул золотой и показал Соньке.
— Врешь, дяденька, — захихикала та льстиво, вытягивая к нему шею, — а не обманешь? Ну, смотри! — и, внезапно оторвавшись от Петухана, прильнула близко к Афоньке грудью, алчно заглядывая в глаза.
Вор крякнул и, не сказав слова, отлил остаток из бутылки и швырнул ее, будто нечаянно, Афоньке в ноги. Тот притворился, что не видал, и, нагнувшись к Соньке, начал равнодушно насвистывать.
— У нас две печки были в дому, — в раздумье словно, тая ярость, протянул Петухан, — в одной хлебы запекали, а в другой свистунам по шее давали. Слышишь, купец, а?
Тот, нагло ухмыльнувшись, ничего не ответил, Сонька все лезла к нему и, подпрыгивая, тыкала мокрыми губами в подбородок. И вдруг, дернувшись, как от толчка, Афонька вывернул ей круто руки за спину и, нелепо захохотав, притиснул к полу, тряся.
— Ой! — закричала та, корчась от боли, — заступитесь! Мамыньки, руки сломал, ой!
— Ты чего в самом деле? — вскочил Петухан, как бы дождавшись, наконец, нужного. — Чего, палач бабий, развоевался? — И, подбежав, вздохнул полной грудью: — На!..
Афонька пискнул и, зажимая обожженную скулу, бросился в дверь. «Живым не выпущу!» неслось сзади, и там, казалось, бушевало что-то стоногое и грузно громыхали половицы.
Подобрав выброшенную следом шапку, потер Афонька ушибленное место и, глядя в звездное холодное небо, полез в чужой огород, чтоб опомниться…
Пока вяз он в снегу, начал таять жаркий прилив гнева, и иные мысли, бередя душу боязнью, осенили его. То захватывало что-то чудное, суля счастье, то налетали темные горькие помыслы и путали все, утыкая Афоньку в безысходный тупик. Он даже остановился, словно заповедная черта легла впереди. И холодноватый ветер с разлета встряхнул тело, гоня сонный озноб и промывая темь в голове…
— Все равно, — буркнул он потом, словно решившись, и сердце его упало. Было похоже на то, как давно в детстве, когда залез он в дождь на крышу и, оборвавшись, катился вниз по осклизлым доскам. И не было ни гвоздика, ни щели, за которые он мог бы уцепиться и вздохнуть.
В доме Моргача были темные окна. Собака, заскулив, подбежала на дворе к Афоньке и тыкалась мордой.
— Пошла! — пнул он ее ногой и, словно испугавшись, поспешил к крыльцу…
Прокравшись в темный чулан, нащупал он железный безмен на стене и, пошатываясь от хмеля, пополз в хозяйские горницы. Там слабо горел ночник и где-то шлепали тихо босые ноги. Не слыша звуков, Афонька приник к шкафу и, найдя нужный ящик, начал сверлить дыру…
И вдруг, содрогнувшись, вскочил.
— Ах ты! — словно одурев, пялил на него глаза Моргач, вылезший откуда-то в пиджаке и белых штанах. — Ах ты сволочь!
— Молчи! — взвизгнул тихо Афонька, не помня себя от ужаса, и, схватив безмен, замахнулся на Моргача. Тот отступил, заболтав руками, втянул голову в плечи и, внезапно охнув, сел на пол. Афонька нагнулся над ним и, увидев измазанные кровью губы и бороду, похолодел.
— Господи, пронеси, — зашептал он, трясясь, и, сунув ему руку в карман, вытащил две пачки кредиток. Пересчитал мельком: около двух тысяч. И, боязливо потрогав остывающее тело, пополз обратно, лихорадочно зажимая деньги в руке.
В своей каморке он спустил их за обои и, осмотрев внимательно место, перекрестил. Потом зарылся с головой в одеяло и, подумав, что все поправлено, с счастливой истомой потянулся и заснул.
III
В субботу утро было белое-белое, и тихо струился снег в высоком небе. Афоньке показалось сквозь дрему, что за окном гудит, засыпая ставни, метелица, но, проснувшись, он услышал вой. Сделав удивленное лицо, он выглянул в кухню и, увидев плачущую кухарку, потряс ее за плечо, спрашивая:
— Ты что это, Анисья, убиваешься, случилось что?
— Барин… — захлебнулась кухарка, — барин ночью кончился, опился вчера… Господи! — заревела она тотчас же и, упав на стол, задергала затылком, словно выбивая из себя хриплый вопль.
Махнув досадливо рукой, Афонька отворил дверь в горницу и столкнулся с сестрой, которая беззвучно вздрагивала, идя навстречу.
— Батюшки, что делать, что делать! — качала она из стороны в сторону лицом, прижатым к ладоням, и, увидев Афоньку, закричала не своим голосом, повалившись на кровать.
В зале собрались незнакомые люди и участливо смотрели то на мебель, то на стол с покойником, жалостно мигая и подперев подбородок рукой. Старуха причитала тихо, кто-то голосил в коридоре.
Словно уловил что Афонька, вглядевшись пристальней, и ледяной трепет пронизал его, гоня счастливые упования. «Это я сделал, я! — не веря будто, сказал он себе и, вспомнив все, с ужасом убедился: — Вот я, я…» И прочная ужасная связь соединила его, казалось, с тем, кто был на столе, словно в мире исчезли все люди и осталось лишь двое — он и мертвый.
Это чувство росло, цепко захватывая душу, и отвратительно близким становился ему покойник. Подавленный мрачным предчувствием, отвернулся он от страшного соучастника и, опечаленно склонившись, вышел на двор…
— Запряги Чалого, — сказал он, найдя кучера, — поеду на вокзал чай принимать, а то здесь от бабьего вытья подохнешь… Не люблю я этого.
На кухне, куда он вернулся одеться, никого не было. Вынув из-за обоев деньги и сунув их за голенища, он хотел выйти, но внезапно почувствовал, что кто-то тяжело клонит его к земле, закрывая глаза. Засучив ногами, он потянулся, уж слабея, к окну, чтоб раздышаться, но толкнуло опять, и он начал падать лицом в половик…
«Начинается», — подумал он, очнувшись, но что — и сам не знал.
Когда кучер подвел лошадь, он закутался в волчий тулуп и, выйдя на крыльцо, спросил:
— Жалко хозяина-то, Пётра?
— Да нам что, ничего, — ответил кучер, сумрачно возясь над вожжами, — конечно, по человечеству пожалеть надо, а вам и вовсе, как сродственники… Как не пожалеть!
— А отчего он помер, по-твоему?
— Да вот, бают, кондрашка, — а кто ее знает… Может, и кокнул кто, аль иначе… Конечно, ноне только доктору сунуть…
— Ну, уж это ты врешь! — сердито вырвал у него вожжи Афонька, скашивая в сторону глаза. — Эка замолол, чертова дура! Иди на место!
Сани, поскрипывая, вынеслись в белые, безлюдные по-утреннему улицы, миновали площадь, опушенные сугробами слободы, гумна и вырвались в поле, где коричневый от помета лег большак, уводя в уныло-яркие дали. Афонька разлегся поудобнее и, цыкнув, как ямщик, силился думать о чудесных днях с Зоей, когда выложит он нечаянное богатство и девушки в белых платьях окружат их на паперти, улыбаясь их счастью. А темный, страшный бред, давящий сердце, истает легко, и будет чистая жизнь, как светлое поле.
Подъехав к полустанку, он сдал на прогонном дворе лошадь и, получив тюк с чаем, увязал его в сани. Потом погулял по платформе и, словно надумав что, отправился на село к шинкарю, потому что ехать домой было еще жутко и неприятно.
В сумерках, когда Афонька, достаточно пьяный, вернулся на вокзал, подошел к нему в зале первого класса телеграфист с бельмом на глазу и, пристально всмотревшись, спросил:
— Вы не из Окшана будете?
Афонька, разглядев в потемках светлые пуговицы и белый кружок на картузе, кивнул головой, проникаясь почтением.
— Так что же у вас там, — телеграфист хитро подмигнул ему здоровым глазом, — есть брожение элементов, насчет республики? Я из партии, — пояснил он, опять подмигивая, — нелегальные листки печатаю.
— Не слыхал я об этих партиях, — замотал волосами Афонька, — конечно, в губернии другое дело, а у нас темь… Оголешники.
— Чего-с? — переспросил телеграфист, в третий раз подмигивая, что Афоньке очень нравилось. — Как вы сказали?
— Оголешники, говорю. Дразнят нас так, будто мы на базаре огольца высекли. А еще будто каланчу у нас в Блудовку украли, тоже дразнят.
— Головотяпы вы, а не оголешники, — строго и наставительно сказал телеграфист и, гордо закинув голову, вышел из зала, совершенно смутив собеседника.
В углу кто-то крякнул, и, оглянувшись, увидел Афонька стойку с двумя свечами, испускающими неверный свет, и буфетчика, который бегал тревожно глазами и манил его костлявыми пальцами.
— Ты смотри, — прошипел он таинственно, перегибаясь через буфет, — ты пропадешь с ним, он в этих делах меченый. Вишь ты, какую политику ведут: один выспрашивает, а жандарм за дверью присосался. Уйди от греха!
— Я и так, спасибо, — пробормотал Афонька, раскрыв от испуга рот и внутренно содрогнувшись. Поддернув торопливо кушак, он вышел в соседнюю комнату — к выходу, но, увидав там телеграфиста и жандарма, которые лежали на кулях и беседовали, остановился и испугался еще сильнее.
— Вот что, ваше благородие, — сказал он, сняв шапку и стараясь польстить жандарму покорным видом, — ноли выпьете со мной, я ставлю бутылку. Извините за дерзость, мы народ темный, ну, а выпить что ж? Со всяким можно. Как же, а?..
Телеграфист молча взял деньги и пошел в буфет, а жандарм, дохнув на Афоньку перегаром, покосил вслед глазами и сказал, позевывая:
— Если этот мигать будет, ты не бойся. У него горячка с перепою началась.
Все сделалось ясным, и Афоньке стало досадно, что, испугавшись, он послал за водкой. Ему хотелось спросить еще про буфетчика, но он заленился и заскучал. Поднявшись с кулей, он потряс жандарму руку и, почесываясь, раздумчиво сказал:
— Хотя пить я, пожалуй, не буду — мне дорога предстоит, кабы не замерзнуть. Валяйте одни, а я за лошадью пойду.
Жандарм мотнул головой, а на дворе в открытую дверь взвыл, омрачая сумерки, снежный ветер.
Вечером Афонька, спотыкаясь и ослепнув от метелицы, постучал в окно прогонной избы и велел запрягать.
Парень в малахае вывел лошадь на дорогу.
— Ты человека-то вынь оттуда, — показал Афонька на сани, — зачем чужого сажаешь, стерва! Вынь!
— А ты, коли пьяный, не озоруй, — возразил совестливо парень, — нешто не видишь: ящик, сам клал.
Афонька протер глаза и виновато улыбнулся. «И впрямь пьяный, — с облегчением повторил он про себя, — уж представляется, эка налимонился». И, сунув парню двугривенный за постой, отъехал от избы и, завалившись в передок, измученный хмелем, будто уснул…
Нахлынула белесая, беспокойная ночь, без звезд. Пролетел кто-то, развевая белыми лоскутьями, вопил в небе, гудел в полозьях. Приседая, побежал за санями, лицо в воротник уткнул, жуткое лицо, не виданное еще никем. Вспыхнули синие зги… по оттаявшим межам заворчал черный репейник… Так тяжело грезилось Афоньке сквозь мутный и головокружительный полусон.
На перевале сани качнулись, и глаза открылись ясно, словно не было дремоты. Видит Афонька, что все, как во сне: сизый полог застит глаза, и снег валит густо, проходя рядом тучной стеной и мертвенно мерцая. И тут же почуял другое, — отчего уколы пронзили тело, — будто бежит кто сзади и раскачивает, шаля, пошевни. Чтоб не слышать, закутался он в воротник и упал, съежившись тесно, в солому.
Но настойчивей дернулись сани, подбрасывая даже ящик, и вольный ветер, холодя в рукавах, взвизгнул жутко. Отчаянно приподнявшись, оглянулся Афонька, стиснув зубы, и дико закричал, словно увидев что. Потом, не веря, оглянулся опять и, ударив что было мочи лошадь, бросился ничком на дно саней и дрожал, слушая…
Прошли часы, и нельзя было попять, снова ли нашло забытье, или отлетело. Кругом было чисто и сине, на оглоблях ни снежинки, словно приснилась лихая непогодь. В тишине жужжали уютно полозья и четко били копыта твердую колею. Афонька боязливо поглядел назад и увидел соломенную вязку снопа, болтавшуюся, как хвост, за пошевнями.
— Заспал, — перекрестился он, позевывая, притворяясь перед кем-то. — И чего, братец ты мой, не въедет в пьяную башку, всякая дрянь!..
Вскосмачивая сугробы и обнажая черные озими, набежала метелица, синюю заколыхав муть. Лошадь пошла тише, и Афоньку начало тошнить. Словно эти ленивые колебания саней отзывались внутри, и там противно нарастало что-то и мучила изжога.
— Хоть бы человек какой, — взмолился он, подавленный степной жутью, и почудилось, что едет он давно-давно и конца не будет пути. И ближе подходили страшные мысли, которые выгнал он хмелем, подходили, ворожбой темной путая сердце. — Хоть бы человек, — повторил он с трепетом, и, отвечая его зову, темная фигура прошла вблизи и стала таять за санями.
— Дядя! — догнал ее, соскочив с саней, Афонька, — постой-ка, заблудился я. Видишь, я в Окшан еду, а дорога-то, кажись, на Воронье, так, что ли?
Странный спутник молчал и шел дальше плечом к плечу с Афонькой. Тот потянул его с досадой за рукав, уже начиная бояться, и крикнул, теряя голое в налетевшей пурге:
— Эй, спишь, что ль, ты, дядя! Не наводи тень-то, слышишь ведь, чего ломаешься, ну!
Не получив ответа, обомлел Афонька, подозревая недоброе, и, зажмурившись, чтоб ничего не видеть, прыснул в сани. Лошадь запряла испуганно ушами и попрела вскачь, а седок, как покойник, свалился недвижно, закрыв лицо руками.
Иглы холода жалили кожу, гоня сон, и к сердцу властно придвинулось недавнее: как крутилась Сонька в смрадных потемках, тряся голой грудью… и… все остальное, и когда представились тоскливые похороны, где гнусят в черных скуфьях попы и мерзлая яма, зияя, ждет тело, показалось ему, что он уже безумен.
Вскочив, силился он уловить что-то самое главное и вдруг вспомнил. Однажды в бане, обливая себя кипятком и задыхаясь от боли, подумал он: и там будет так же, только здесь я могу перестать, а там будет вечно, всегда. И, обезумев словно, лил он на голое тело вар, испытывая себя, и чем мучительнее были корчи, тем больше падало сердце от ужаса и яснее становилось: всегда, всегда…
— Чепуха, — пробормотал он, налепляя холодного снега на виски, — бабы наплели… Кто там был?
Но он уже не смел не верить, и в черном бреду будто приблизилось то, над чем он насмехался когда-то. «Душегуб, — простонал он, не отгоняя больше страшных воспоминаний, — пропал я…» И необычное, казалось, понеслось к нему из мутных дебрей неба, куда закинул он плачущее свое лицо.
— Господи, — крикнул он, прижимая руки к груди. — Господи, не мучь меня, я не виноват, я не хотел этого!.. Ты ведь видел, господи, ты все знаешь, — сними с меня тоску эту, лучше помереть мне!.. Я все сделаю, я в монахи уйду, я все тебе отдам, только прости, господи. прости!..
Вынув пачки кредиток, он рвал их судорожно, раскидывая в снегу, выкрикивал несвязные слова, цепляясь за последнее, веря и не веря. И, устав словно, упал вниз, ударившись виском о наклесток и стараясь, чтобы было больнее и больнее…
Как тихие могилы, раздались сумрачные улицы, когда в полночный час въехали сани в город. Не двигаясь, лежал под тулупом Афонька, выпустив давно вожжи. На площади в ярких окнах клуба летали, обнимаясь, веселые тени и звучала музыка. Афонька вскочил и, остановив лошадь, взошел на крыльцо, обрадовавшись обычному.
Под мерзлыми окнами толпился народ, а в залах танцевали кавалеры и девушки, свиваясь в пышный цветник и смеясь. Отголоски вальса падали, как капли, рядом с Афонькой и сочились будто в душу, трогая темные ее наболевшие недра. И каждая певучая капля была как сон о счастье и печалила до слез…
Афонька отвернулся и, сходя по ступенькам, вздохнул, словно теряя что-то жалостно навеки. В санях сухая тошнота опять свела ему судорогой горло. Чтоб избавиться, купил он, заехав в светлую аптеку, бутылку сельтерской, но тотчас же выкинул, махнув рукой.
В доме еще не все спали, и на дворе тускло мерцали два кухонных окошечка. Отпрягая лошадь, Афонька заглянул туда и, боясь отвести глаза в мрак, задумался.
Верно, кухарка играет потихоньку с кучером в карты, едят сальные блины. Погаснут лампы… придет долгая безумная ночь, и вместе с Афонькой не уснут лишь шорохи пустых горниц и хозяин в гробу.
Пережевывая овес в стойле, зачмокали лошади, прокричал где-то петух. Окна вдруг потухли, и тогда, не одолев смертной тоски, нащупал что-то Афонька на ящике и отошел в сарай.
На рассвете мальчишка, которому нужно было задать корм скотине, выбежал на мягкий снег и остановился, удивляясь. Из-под навеса, закинув надменно голову, глядел на него последний Барыков и не откликался… Мальчишка подошел ближе, но, увидел дурные глаза и кровь от бечевки, не выдержал и попятился.
— Не балуйся, — захныкал он и, не оглядываясь, побежал будить дом.
СУТУЛОВСКИЕ СВЯТКИ
I
Село Сутуловка — в трех верстах от станции того же названия — забыто богом и людьми, а теперь вдобавок задавлено полночью и вязкими сугробами; брехала лишь шалая собака порой, незнамо где сквозь вьюжную жуть, да плутал у гумен путник, пассажир с ночного поезда, парень в желтом байковом пиджаке и с узлом.
Вьюга хлестала его по лицу, кружила по засыпанным колеям, налепив снегу полон рот; от нее гудели провода, несмолкаемые бубенчики чудились в сугробах, и у глаз вспыхивали синие зги.
«Мотри, так и подохнешь здесь, — думал парень, поджимая локти поуютнее. — Ишь дьявол, как заснащивает!» Но уже чуял, что немного осталось до села; скоро дружнее завыли собаки невдалеке, закачался огонек; в темном небе вырос кто-то, плотный и широкий, и развел удивленно две огромных черных руки.
— Мельница, таперь и прясло тут же, — обрадовался путник и зашагал поскорее. За мельницей избы навалились мутным пригорком, засветилось окно; на свету стоял караульщик, упав грудью на палку, весь в снегу, и дремал.
— Дядя-а! — крикнул парень, дрожа от непогоды. — Э-эй, где тут Кротон живет, Кротон, да лавошник-то?
— …ав-во, — донеслось по ветру, разорванное в клочья, и парень догадался, что кричат «направо». Столкнулся нос к носу с мужиком, на них ссыпало изморозь с ветел, а тот вопил:
— Направо держи, за волостной, за волостной, говорю! Все одно не пущает он ночком-то!.. У его пушка насупротив ворот стоит, смотри, как пальне-от, кормилец…
Парень завернул за угол, уже не слушая, миновал волостное с палисадником; туго вспоминая что-то, набрел на каменный флигель, в окнах которого колыхались красные сумерки от лампад, и затукал по калитке.
Спустя минуту за воротами зашаркало, заплясал свет; на калитку влез тусклый фонарь, и кто-то проскрипел сердито:
— Кто здесь такой, прощелыга, спокою ты людям не даешь? Чего надо, ну?
— Племянник-с ваш, здрассте, дяденька! — крикнул парень, задирая лицо кверху. — Митька я самый и есть, отоприте, что ль!
— Проваливай, проваливай, нечего к замкам-то прицеливаться! Ходит тут всякое жулье… Чай, и пачпорта-то нет?
— Как-с нет, вот, дяденька, — заворочался парень и, порывшись в карманах, сунул к фонарю бумагу. Фонарь слез, за калиткой забормотало; потом щелкнули засовы, кто-то невидный и маленький пропустил Митьку вперед, и тот, проходя сенями, увидел на стене два ружья и небольшую пушку.
— Иди, иди, — скрипело сзади, — не присматривайся, я еще вот огляжу тебя, как следоваит…
В горнице светила приспущенная лампа; теперь видно стало лицо Митькино, смуглое и курносое, клок кудрей, ухарски выскочивший из-под шапки; отдуваясь и крякая, отряхал он снег у порога, а Кротон, низенький красногубый старичок с остренькой бородкой и такими же острыми, колючими глазками, гасил фонарь.
— Так-с, — умильно усмехнулся он, — племянничек, говоришь. А откуда бредешь ты, милый, только не ври, я ведь все вижу!
— Из Сызрани мы, — ответил парень, — там на пристанях работали, я уж здесь двенадцать годов не был, как тятенька померши. Вот вас, дяденька, я сразу признал, вы только седенький стали… А это Аленушка, — ткнул он в фотографию на столе, — приемышек-то ваш, помню; вместе в козанки с ней играли, а теперь вон какая заглядистая стала, тут, что ли, она?
— Вижу я, парень, мелешь ты все зря, — сказал строго старичок, и глазки погасли, словно злым туманом замутило их. — Возьми-ка ты свое тряпло да ступай, покедова урядника не позвал… И вовсе ты не Митька, не волынь попусту! Иди, провожу я…
— Дяденька, — умолял парень, — да что же, смерзнуть, что ль, мне? И-эх! — плаксиво зажмурился он и, подняв узелок, сгорбился к двери, но старичок окликнул его, усадил на стул и зашмыгал по горнице, потирая ладони.
У парня от тепла сладко заныло тело, тягота сонная налипла на глаза. Осовело хлопая ресницами, глядел он на Кротона, а тот все бегал плавно, будто усыпляя, и, наконец, вкрадчиво хихикнул:
— А что, Митя, с девками ты как? Можешь заправить, комар носу не подточит, а?
— Ну уж, — блаженно усмехнулся парень сквозь дремоту, — насчет бабьего пола-то я стерьва… Гармошка вот у меня: как подморгнешь да тюлюлякнешь, девки гуртом лезут, прямо рвачка! Мы в Сызрани со всяким обращением знакомы: когда такое им развезешь, в дикаденском вкусе, что твой Максим Горький и профессор кислых щей!
— Это нашему королю в масть, — согласливо закивал старичок, — вот ты поживи да Аленушку развесели у меня; хворь у ей и думы всякие, боюсь, не свихнулась бы… Развесели ее, я тебе награду дам, а энто… ни-ни, не баловаться! У ей жених есть, богач страшенный, так у меня чтобы без шалостев! Ни-ни, слышишь?
— Чую, — сонно подмигнул парень и поплелся за Кротоном в каморку, где и лег на сундучке. Старичок, покашливая, удалился, тишь глохла в комнатах; уже засыпал Митька, и путались несуразно мысли, как скрипнула вдруг половица и под веки влез опять надоедливый сторожкий свет.
— Не спишь еще, — прошипело от дверей. — Ты того… по горницам не вздумай лазить. На ключик все заперто, на ключик, а у меня и ружьецо висит. Так-то, — внушительно пристукнуло там и затихло.
Митька подумал немного и удивленно хмыкнул. Потом зарылся лицом в подушку, вздохнул и тут же забылся.
II
Рядом с флигелем и лавка Кротонова вросла в землю по пояс, вроде подвала. Дверь железная, тяжкая; пол земляной, убитый; всегда сыро в подвале от гнилых потемок, а в потемках этих покашливает остроглазый Кротон, улыбчиво покашливает и с коварным под-мигом каким-то, от которого неспокойно.
Утром поил он там Митьку чаем с лимоном. Митька рассказывал, подобрев, о странствиях своих с самого детства, как плутал по степям, беспачпортный, холодный и голодный, потом определился на пристаня и теперь, слава богу, живет ничего, ни шатко ни валко.
— Зря баять не стану, — с достоинством говорил он, — а сорок три цалковых на книжку положил, как одну копеечку. Мне еще бы с эстолько, я и жениться могу; мои годы такие, что без девки нельзя…
— Это верно, — заметил Кротон, и в сумерках не разглядеть было — усмехается ли он, или от боли какой сморщинил лицо. — Ваше дело молодое, чай вот на дядю целишься теперь: помрет, мол, старый гвоздь, и мне толика перепадет, а? Только я ведь крепонький. сам жениться могу, хе-хе! А то Аленушке откажу все в очистку, что?
— Ну вас, дяденька, в мыслях не держал этого сроду, — смутился Митька. — Дай вам господь здоровья, что же, и меня вот приютили, голыша; я с родиной могу опять повидеться, честь честью…
— Так, так, — недоверчиво поклонился Кротон и, вздохнув, встал. — Ну, иди теперь Аленушку посмотри, и горницах она. Покалякай с ней, разутешь… Да ты знаешь как, дело ваше молодое, хе-хе!
Митька поблагодарствовал за угощение и послушно вышел.
Вспомнилось ему, как в солнечные дни когда-то, может приснившиеся, бегал он в красной рубашонке по широким травянистым улицам или купался в серебряном пруде, под ветлами; тогда близкой была — будто глаз касалась горячая зеленая земля, лукаво и внятно пели птицы в траве, и сумерки на родимых задворках полны были дремотных чудес.
И словно в дремоте их, смеялась где-то в далеком темноглазая девочка с льняной косой…
«Поди, не подступишься теперь к Аленке, — подумал он, входя в горницы. — Где нам, она на карточке вон какой кралей глядит…» Нарочно подкашлянул у порога, потоптался, стесненный сладкой робостью, и, заглянув за дверь, увидел Аленушку.
Она стояла у стола в черном платке и сарафане старушечьем, не укрывшем высокую грудь. С плеча ползла коса тугая, желтая, как поздняя рожь, строго сжат был пунцовый маленький рот, и темные глаза ее глядели немощно и грустно.
— Не признаете, Аленушка? — шагнул к ней Митька и, растерянно ухмыляясь, тронул белую руку. — Я Митька, ведь помните, в козанки еще вместе играли, это я и есть, здравствуйте!
— Говорил мне тятенька, — сказала девушка и нехотя улыбнулась: — Вон какой вы стали, совсем жених… садитесь же, Митя.
Он присел со стылой усмешкой на лице, не зная, что дальше делать. «Ну и краля, — подумалось ему, и мутно заныло где-то, — только больно монашкой смотрит, и о чем говорить, пес ее знает…»
На пристанях просто было все и понятно; в воскресные вечера ходил он в гости к одному дворнику, другу своему, и распивал вместе с ним полбанки. Потом друзья вываливались к воротам, где у каждого была подружка — из горничных, лущили семечки, и Митька ухарски подыгрывал на гармошке, вылупляя глаза на девкину грудь. Иногда отправлялись еще гулять за город; но когда вставала луна, осиняя траву, и в темных лугах Волга мерцала серебряным разливом, сердце отуманивалось там непривычными и печальными желаниями, и противно было смотреть, как хихикают и льнут подружки, опьянев от красного вина…
— Глушь у вас здесь, — сказал он, наконец, — и вы, Аленушка, видать, закручинились что-й-то, скушно… У нас теперь самое развеселое время, только ноги настраивай, танцыи пойдут, музыка! Може, повеселить вас, я на гармошке сичас ударю!
— Что вы, что вы, — отмахнулась испуганно девушка, — чать, день-то какой ноне, сочельник, ай забыли? Ноне бог родится, самый великий день. Что вы, и говорить-то об этом грех!
— Богомольная какая, — подивился Митька, — и наряд-то у вас монастырский, иль дяденька скупится? Скушно, чай, с ним?
— Мне ничего не надо, — ответила девушка тихо и уронила к щекам черные ресницы. — Ко мне вот страннички заходят, юродивенькие; я их чайком попою, а они про святые места расскажут, гоже так… Жития вот когда почитаешь, как угоднички за нас муки примали… В монастырь бы я ушла…
— В монасты-ырь, — раскрыл рот Митька и глупо заморгал; хотел еще что-то сказать, но дверь скрипнула, и сам Кротон вошел, умильно посмеиваясь, и закивал на них головой.
— Так вот и калякают детки, калякают!.. Дело ваше молодое, только и побалагурить, а Аленушке в диковинку парни-то, она все со странничками да со мной, старичком. Вот ей и в охоту! Калякайте, калякайте, детки, я ничего!
— Як себе, тятенька, пойду, мочи мне нет, — сказала вдруг Аленушка и, не поднимая глаз, вышла из горницы. Кротон подмигнул ей вслед и, скосясь лукаво на Митьку, ехидно шепнул: «Как?» Тот пробормотал что-то, сам не вникая в слова; стало отчего-то неуютно и беспокойно, и тогда, насупившись, потолкался он без смысла у окна и вышел наружу.
Вьюга унялась, сурово-синие литые сугробы лежали в полях, лезли к калиткам и вместо крыш нависали с изб.
Митька сходил зачем-то на станцию, побродил по вечернему селу, где все безмолвно было и пустынно; лишь розвальни сонно проскрипят да баба звякнет ведром у колодца. Ранние потемки набежали, сквозь них тлел мрачный, исчерна-красный закат; в избах затопились печи к разговенью; горький дым не поднимался и облаком мутным оседал по реке.
Будто во сне все было у Митьки; куда-то унесли его вдруг, в дальний край, и теперь сквозь туман не понять: он ли плутает без толку по темным улицам, или видением таким томит его злая лихорадка…
Наконец, дошел он до Кротонова дома; в лавке трепыхал огонек, из горницы по-вчерашнему тускнело алое от лампад. В черных сенях кот шмыгнул под ноги, замурчал, и от этого жуть подула слабым холодком. Шумно разделся Митька, совсем смущенный, и хотел уже прокрасться в каморку, как из сумерек выскользнула бледная Аленушка, вся в слезах, и, сжав ему плечи, потянула к огромным своим, замерцавшим глазам…
— Что ты, — озлился вдруг он от испуга и задергал плечами, — я же это, вот еще…
— Добрый человек, Митя, — припадала она к нему, задыхаясь от слез, — помоги мне, помоги, добрый человек!.. Опять он в ногах валялся, плакал, иди, грит, за меня, не хочешь, силой возьму!.. Слез-то его не могу видеть, Митенька, боязно мне… Ты жалостный, ведь дитем меня знал, скрой меня, добрый человек! Здесь монастырь в Вазерках, туда меня довези, я тебе триста дам, в банк он положил! Митенька, помоги…
Уткнувшись в локоть голый, с нежным стоном упала Аленушка на стул; Митька захлопал глазами, потерявшись, гладил ее бережно по спине, бормоча: «Как же это, а?» Потом, махнув рукой, отошел на цыпочках в каморку, лег, крякнув отчего-то, на постель вверх лицом и пролежал так до частых звезд.
Опять Кротон заходил с лампочкой, испытующе осмотрел закрытые его глаза; в кухне тяпала ножом стряпуха, плыл вкусный чад; после полночи загудели люди под окнами, стали ходить по скрипучим сугробам: повизгивали девки, парни галдели, задирая, и, наконец, голосами сумрачными заблаговестили колокола.
III
В праздник светло выбелены горницы у Кротона; в окнах тюлевые занавески, на гремучих половицах цветные половики; в углу уместительный стол под снеговой скатертью, а на нем яства жирные, насдобленные и ядреные наливки.
Придя от обедни, благолепно помолился Митька на богатые образа и скромно присел, предвкушая сладкое разговенье. Кротон замешкался на кухне; в горнице лишь Аленушка стояла у окна в бирюзовом сарафане, словно умытая радостью какой, а в улицах ходил румяный народ, и курилась под солнцем голубая метелица.
— Думы чудные у вас, Аленушка, — прервал молчание Митька, — я думал, что хворь у вас какая ни на есть… Вчера хоть вот, зачем?.. и меня замутили… У дяденьки чего вам еще, жисть первейшая, всего вдоволь!
Хотелось еще сказать ей что-то хорошее, отрадное; горячая радость заполоняла все — от ясного утра, от полного солнца. И еще невнятное томление вспыхивало порой, будто, как в недавнем сне, подойдет сейчас родная Аленушка, тонкие руки уронит ему на плечи, и о любовной, о тайной сласти улыбнутся близко темные глаза…
— Не надо мне ничего, ах, — потемнела она и руками больно хрустнула, словно потягиваясь. — Не хворь это, так… Измоталась я здесь, не к дому я. Вот в монастырь скоро уйду, к угодничкам, кельеночка у меня будет светлая, тихая… Митенька, я ведь богородицу видела, никому не сказываю только, первому вам… Вблизь, как вас, ее, матушку, сподобилась…
— Затмение, чать, какое, — скучно отозвался Митька, — от тоски чего не прибредится!
— На пчельнике это было, — улыбнулась ласково Аленушка, — тишина такая, цветы пахнут, солнышко; у меня индо сердце зашлось, встала я на колени у озерца, молюсь и подумала так: что это угодничкам разные видения бывают, а нам нет, грешным, хоть одним глазком поглядеть ее, матушку. И вдруг помстилось мне: идет это женщина по траве, босичком, сарафанчик на ей синенький, а на лике, Митенька, чисто солнышко играет, смотреть нельзя. Я уж глаз не подниму, не чую ничего, а она, кормилица, подошла ко мне и говорит: где тут дорога на Выглядовку, девонька? Я пробаяла чтой-то, да и забылась тут же, ровно морок какой на меня нашел…
— Чудно, — хмыкнул Митька, выслушав все с раскрытым ртом, и, заслышав шаги, умолк.
Крадучись словно, вошел Кротон, примасленный и в белой рубахе, подпоясанный розовой ленточкой под грудки; усмехался, и от рубахи этой еще приторней розовело дряблое лицо его, будто распаренное сейчас в горячей бане.
— Ну, детки, с праздничком, — поклонился он и провел по ним вглядкими глазами. — С праздничком, Аленушка, поцелуй меня, старичка! С праздником, Митенька!
Всхлипнув, припал он к Аленушкиной щеке, поалевшей едва; потом ткнулся Митьке в губы мокрым ртом, а тот смиренно поклонился и чмокнул красную руку.
— И вас проздравляю, дяденька, спасибо за увет ваш!
— Теперь с ей вот поцелуйся, — покорно вздохнул Кротон, показав на Аленушку. — Молодые вы, хочется, чай… Аленушка, ты как, голубка?
— Ваша воля, тятенька, — опустила та глаза и, поалев вся, отвернулась.
— То-то, — жалобно проскрипел Кротон, — ваша воля… Вижу, ведь наскрозь я вас вижу. Вон он какой, кудрявый, стоит, так глазами-то и ест… Целуйтесь уж, посластите… Поди к нему.
Словно закруженный, увидел Митька в близком тумане застенчивую девичью усмешку, губы беспомощные, блаженные; едва коснулся жаркого их дыхания и потупился тотчас, обеспамятев, а Кротон зашмыгал носом и, часто-часто тыкая платком в глаза, пятился к двери.
— Плачет? — недоуменно взглянул Митька на Аленушку, и та, покачав головой, судорожно закрылась руками. Спустя минуту возвратился Кротон, молчаливый и с красными глазами; разговелись невесело и втихомолку, после чая заперся Митька в боковушке своей, устав от всех смятений, и, упав ухом на гармонику, принялся глушить тоску.
Один лад попискивал, немного с фальшью был; где-то зудящий нарыв вскочил у Митьки, а лад пискливый бередил его и бередил, пока не стало совсем тошно. Тогда, вконец измученный, оборвал Митька с сердцем постылую польку «Тир-дар-да» и, скомкав шапку, выбежал в улицы.
Мчались розвальни, на них разлеглись вповалку краснощекие бабы в цветных платках, голосили пьяные песни. Парни, распахнув поддевку до алой рубахи, перезванивали с дробью на гармошке, а от дуг взвивались яркие ленты.
«Гуляют, — уныло думал Митька, — вон как запузыривают, а тут очертело все, и зачем приехал, дурак…»
У росстани повстречал его старинный знакомец, по прозванью сват Ай-ай. У свата голова была дыней и голая, глазки как изюминки и с хитрецой, а от беззубого рта свисала ниже пояса тощая борода куделью. В сватовой веселой избе, где мычал теленок и пахло теплым пометом, пили водку; Митька помутнел вскоре и размяк, — стал рассказывать, как у Кротона все — чисто штоломные и что ни делают, все с надвертом. Сват Ай-ай мигал изюминками и с дребезгом ржал, хотя было не над чем; в конце же навалился Митьке на ухо и опасливо набормотал, что в Кащеевском дому давно неладно и сам он на приемышка своего облизывается; а Митьке надо поаккуратнее, не то живо ему в душу наплюют…
Под хмельком воротился Митька домой; уже белый месяц заострился над звонницей. В дверях сам Кротон встретил его, задумчивый, похлопал по плечу с насильной усмешечкой и, показав на Аленушкину дверь, сказал:
— Девка-то… целый день лежит, вон как ты поцелуем своим ее расстроил, хе-хе!.. Чай, только и думы, что о тебе! И ты тоже, а? Я ведь знаю, что вам надо-то, ступай, ступай уж, приласкай ее!
— Дык она раздемшись, дяденька, — нахмурился Митька и обиженно хмыкнул: — Чтой-то шутите вы негоже, будет, что ль…
— Митенька, родной, — залепетал вдруг Кротон захлебываясь, — ступай ты к ней, коль дядю любишь, ступай, вот Христом прошу тебя, Митенька! Да нешто я разлучник какой, не вижу, что ль, я, господи! Утешь ты меня, старичка! сходи к ней, сходи, — и, жестко вцепившись в Митькин локоть, хлюпая носом, тащил он его к спальне, куда и толкнул потом, заперев дверь на ключ…
Зеленая лампада светила в дремотных потемках, и сквозь них едва увидел Митька бледное лицо Аленушкино, лежавшее на подушке в темном облаке кос. Испуганно повернула она к нему большие, прелестные от тревоги глаза и, ахнув, закрылась ладонями.
— Не сам я, — буркнул он, опускаясь на табурет у постели, — энтот заладил, иди да иди, хнычет опять… Чтой-то чудно мне все, не поймешь вас… И давешнее тоже… сам, что ль, я? Коль в обиду, простите…
— Не надо, — с неслышимой болью прошептала Аленушка, — не надо про это…
— Конешно, знаю я, — обиженно ворчал Митька, — с нашим братом, голышом, целоваться тоже не всякому приятно… Наша доля такая, всякий брезговаит… Простите уж.
— Не то, Митенька, — слабо вздохнула Аленушка и, вдруг открыв лицо, улыбнулась медленно влажными еще глазами. Одеяло сползло, белое нежное плечо осветилось вблизи, и тогда, бормоча по-хмельному: «А что же, что же?» — начал Митька клониться к раскрытым улыбчивым губам ее, не видя ничего сквозь сладкую мглу…
— Вот, вот и сговорились детки, — проскрипел сзади умильный голос, и из потемок вышел Кротон, горбясь и заложив руки за спину. — Сговорились, детки, кровь-то, она свое возьмет, играет она в вас, горячая, молодая! Вот не войди я, и грех какой случился бы, оно эдак, хе-хе! Ну что же, нешто я разлучник какой, ты, Аленушка, не плачь, скажи мне: пойдешь за Митю?
— Как вы, тятенька, — зарывшись в подушку, отозвалась робко девушка. — Вы меня поили-кормили, я-то что…
— Ага, как тятенька, — с горечью затряс головой Кротон и вздохнул: — А раньше в монастырь собиралась, лампадки жгла… видно, вместо игрушек все было! Вот те и монастырь… Ну, я ничего, ничего, ты не серчай, Аленушка! Митенька, люба она тебе? Да сам вижу, люба…
— Люба, дяденька, хы-ы… — оскалился Митька, потерявшись от радости…
— Ну, благослови вас господь, — утер глаза Кротон и полез в угол за образом; потом заставил целоваться, а сам встал в дверях, чтобы не видно было лица, и заплакал.
— Умру вот, в могилку скоро лягу, все вам оставлю… Сорок тыщев у меня, Митенька, все на вас, на всю жисть хватит. А я туда, в могилку, эх!..
— Дяденька! — крикнул задушенно Митька и заморгал: — Такое вам спасибо, от сердца… в-вот! Ведь сколько горя измыкал, откуда такое счастье? — и, всхлипнув, грохнулся Кротону в ноги.
IV
Перед Новым годом свозил Кротон молодых в губернию: Митьке подарил пальто кенгуровое, серую шапку гречишником, с узорчатым верхом и собственные золотые часы; Аленушке же купили там алую бархатную шубку и сделали подвенечное платье, а вдобавок исправили пискливый лад в Митькиной гармошке.
После же Нового года поехали в гости к богатому мужику, Давыдке Токареву, где молодых почтили поклонами и усадили в красный угол.
Народу наперлось у Давыдки полна изба: на столах наставили бутылей, накромсали горой студня и поросят. Чавкая, начали есть и пить, и Митька подобрел скоро от хмелья; но угрюмый Кротон не дотрагивался ни до чего, а глядя на него, и Аленушка, которая только застенчиво молчала и клонила на грудь темные свои глаза.
Потом охмелели гости; бабы, держа платочек на отлет, кругом шли в пляс; поднялась сутолока; сват Ай-ай держал за пуговицы долгоносого белобрысого телеграфиста и визгливо толковал:
— Мил-ай! Ты не обижайся, что я тебя трясучим департаментом величаю! Сам видал, милый: тыкаете это вы в конторе в шпеньки свои, трясетесь, чисто дураки! Мил-ай! Трясучий департамент! Хряпнем, что-оль?
— Держи меня, вырвусь! — визгнул сват Ай-ай и несся, подергивая плечами, по избе, намахиваясь на кого-то длинной костлявой рукой. В окнах забубнили, и хлопнула дверь, напустив пару до потолка, все потерялось. Дрожа и смеясь, притиснулась к гармонисту Аленушка, зажмурив глаза от жути, и из пара лезли лохматые и черные чудища, путали все и зычно гоготали, ударяя в заслон.
— Ряженые пришли! — горланил кто-то и засуетился. — Ей, ребята, махнемте к старосте, попужаем подлеца! — Пахнули опять паром, сквозь него бубенцы звенели на невидимых дугах, стоял в синем месяц: и распаленный Митька, накинув кое-как шубку на Аленушку, толкнулся торопливо за народом, а сзади бежал Кротон, растопыривая руки, как незрячий, и шипел:
— Куда вы, куда вы?
— Туда, — смешливо оборвал Митька, и, повалив Аленушку в розвальни, крикнул: — Вали! — Бубенцы дрогнули, залились, и ледяной ветер обжег щеки…
— Ух, Тишка, рви! — заревел кто-то, качаясь стоймя с вожжами. Гомоном буйным ударила гармоника вдоль улиц, на задних санях, отзываясь, подхватили веселую, заголосили бубенцы. Положив голову на плечо Аленушкино, мял Митька лады, не помня уже ничего, и в пустынных улицах ухало и звенело все от озорных песен.
Задребезжали в окна к старосте, ввалились в душные горницы, обмерзлые все; опять забурлила кровь от пляски.
— Ну, рви, что ль, эх, — с болью выдавил Митька, звоном рассыпчатым пустил, ахнули гости; неслись скочком и вприсядку хохлатые, черные, ехал цыган на медведе, вопил татарин в ермолке; разъяренный сват Ай-ай прыгал по-телячьи, взяв в зубы длинную бороду, визгливо ржал, в сутолоке гремучей перемешалось все, кружительное мельканье стояло в глазах, и горло комкало от хмельной усталости, а румяные бабы, поддавая грудью, подкидывали чоботами юбки выше колен и причитывали:
Молодка моя, Молоденька! Головка твоя Спобедненька!Аленушку подтащили к столу, влили насильно в пунцовые губы; к ней разлетелся телеграфист, отставив локти щегольски, и шаркнул ногой:
— Позвольте вас, мадам, на краковяк, мы по-благородному отчекрыжим!
— Я т-тебе за чужих девок! — крикнул Митька и, трудно покраснев, шатнулся к танцору. — Ты чего, тебе харю, что ль, накраковячить, паршивый черт? Это что вот, — совал он ему к зубам жилистый кулак, — это чем щи хлебают, что-оль? Ах, трясучий департамент…
— Будя, будя, — навалился кто-то меж них, и Аленушка припадала к нему крутой грудью, умоляя уставшими, словно сладкими глазами. Опять поднялась свалка у саней, взвыли бубенцы; Аленушкина щека горячая прильнула крепко, затмились глаза от теплых кос; в ресницах луна качалась серебряной паутинкой, серебром гармоника пела, вздыхая надрывчато. До сердца захлестнуло лунной вьюгой, и не понять — где это, в какой серебряной небылице, а от завалин кряхтели вслед черные старухи, на дорогу выбредали, горбатые, ворча:
— Никак Кащеевы молодые загуливают… Ишь содом какой подняли, мотри, сам кудрявый в гармонь-то задувает… Теперь пошла гульба на всю ночь, только дела им, кромешным…
V
Кровяным лучом коснулся звонниц узорчатых закат, алым оцветил заиндевелые ветлы в ограде. Чинным кольцом плыли невесты вокруг, выходя по обычаю на вечернюю гулянку; низко клонили ресницы притворщицы, кутая малиновые губы в беличий рукавчик; яркоцветным ручьем колыхались платки шелковые, яркоцветные, а насупротив встали женихи в поддевках и лаковых сапогах. Усмехались мигачи, переглядываясь с сударушками, поскрипывали заливчато гармошкой, и сваты чуяли уж, мотаясь по площади в обнимку, что гулять по хмелю на Красной Горке, бить горшки…
Вышла к подругам и Аленушка, насурмив брови собольи, поярчев от крепкого ветра. Поджимала губы целованные, надменно усмехаясь; озорной поволокой, любовной, вспыхивали темные глаза, а из-за парней смуглый кудряш улыбался ей, перебирая лады.
И вдруг загомонили что-то на мосту, смятение поднялось; парни загалдели, рванулись было на околицу, в сумерках гайкало все и выло, от церкви бежал сват Ай-ай, закусив белую бороду, а за ним трое крепкогрудых сыновей в пунцовых рубахах и вопили:
— Ребята, держи, не удай, выглядовские напирают!
Горячей волной полыхнуло у Митьки от самого сердца, зубы стиснулись. Протолкавшись в кипучую свалку, чмокнул он кулаком в чье-то хлипкое мясо, потом еще, еще. Его сжали кругом, надавили на грудь до самого дыхания, отшатнулся он немного, чтобы развернуться повольней, поувесистей, но тут словно чугуном обожгло по скуле и, валя наземь, завертелось. мутно-красным перед глазами…
— Уели… — бормотал он, ползая по сугробу, — по пято число, проздравили с праздничком…
Пошатываясь, побрел он домой; в темных горницах встретила его испуганная Аленушка, оплела шею белыми руками, бережно зацеловала жаркую боль. Убаюканный тишью сумеречной, под далекие колокола, прилег обласканный Митька на Аленушкину грудь и вздохнул.
— Отрадно мне с тобой, Аленушка, добрая ты… Сколько горя я измыкал, плутал все там, по степям, и думал: ужель и у меня любушка когда будет, ласковая да жалостная… Не знал тебя, Аленушка, а вот скучалось…
— А я-то, — прижимаясь потеснее, прошептала она, — разь пересказать все, какие думы переплакала, какие от страму черные мысли приходили… И теперь вот, — грустно добавила она, поведя плечами, — опять, Митенька, сердце болит…
— Как не болеть, — встрепенулся Митька, — у вас вон чисто покойник в горницах-то, меня спервоначалу жуть взяла… Знаешь что, Аленушка? Как поженит нас дяденька, махнем отсюда в Сызрань, пес с ними и деньгами-то, там луга какие, воля!.. Эх, миленок!..
Задумавшись, вдруг, затихли они в сонных сумерках. В кухне скрипнула дверь, кто-то возился, сладко покашливая; в ледяных узорах синела ночь, искрилась луна; под окном пел кто-то, невидимый, и мчались стороной дружные пьяные бубенцы…
VI
Весь крещенский сочельник продержал Кротон Митьку в своем подвале, будто для помочи, а к вечеру усадил против себя и, потемнев, сказал:
— Ну, теперь, поди, нагулялся, чай, и на место собрался? Ступай, к поезду как раз время, я не держу.
Митька осунулся, ослабел вдруг до поту; неловко усмехнувшись, зацарапал он пальцами по прилавку и спросил:
— Дык а Аленушка-то как же? Вы опосля крещенья помолвку посулили, тогды и поехал бы…
— Ну уж, ты шутки брось, — посуровел Кротон и деловито махнул рукой: — Пошутили, брат, и будет, не все в бирюльки играть, надо и делом заниматься. Ты наряд-от мой скинь, вон твоя ремузия в уголке лежит, одевайся. Часы уж, так и быть, дарю тебе, девку ты мне развеселил, за это не жалко.
— Так-с, — поднялся Митька и начал копаться в потемках. Потом отцепил часы, стукнул ими о прилавок и задергал щекой.
— Возьмите уж, покорно благодарим…
Нашел гармонику, завязал бережно дырявый платок; вздохнув, вытер лоб рукавом и встал молча у притолоки, а Кротон забегал по лавке и тер ладони.
— А то, ишь ловкач, думает — подстрелил с полукону, и все! Нет, тут ее двадцать годов берегли да прятали, от одного страму, може, сердце изболело!.. Може, моя боль-то в тыщу раз дороже твоих кудряшек стоит, да не вашему разуму понять это… Ты не смотри, что я седенький, я за вольный светик-то зубами держусь, а они у меня крепкие, милок, во-от! Что? Собрался уж?
— Прощайте, дяденька… — глухо сказал Митька.
— Прости меня, сынок, — покорно вымолвил Кротон, — последний разок видимся, когда придешь еще, я тебя и не узнаю… — Он утер глаза; Митька поклонился ему в ноги, чмокнул губы, потом руку дрожавшую и, крякнув, улез в муть.
Черные окна глядели из горниц. Горстями сыпался в них снег, оседал на плечах Митькиных, а он привалился беспамятно к стене и, дрожа, бормотал:
— Померзну, а ее увижу, я свое возьму… Аленушка, родная!
Тогда вышел темный кто-то из-за забора, спешит к нему, протягивая руки. Почуяв сердцем, шатнулся Митька к Аленушке, обнял плечи мягкие жалостно, заглянул в огромные черные при звездах глаза и тихо сказал:
— Прощай, Аленушка.
— Не уходи, милый, родной, — шепнула она, подняв Скорбные брови, и, вскинув ему руки на голову, прижалась к груди, — Митенька… помру ведь я, не покидай…
— Аленушка, — забормотал он, задыхаясь, — да я же вернусь, голубка, я к Миколе вешнему сторонкой где пройду. Я весточку дам, мы в Сызрань укатим, там вольное дело, луга какие! — И, притиснув ее покрепче, усмехнулся насильно: — У меня же на книжку сорок три цалковых положено, не пропадем же, вот еще…
Падала Аленушка, не открывая наболевших глаз; в забытьи, жарко дыша, довел ее до калитки Митька, зарылся в последний раз в горячие беспомощные губы. От гумен оглянулся; не видно стало ничего, лишь вьюга крутилась над огоньками, колючками била по лицу, и тогда присел Митька, клоня голову к коленям.
— Ишь проклятая, хлещет как, все гляделки залепила, — глухо пробурчал он и долго протирал рукавом глаза, тихо всхлипывая.
Потом побрел опять в разъяренную муть; гудели провода, зеленым угольком мерцал семафор на станции. Спотыкаясь от непогоды, путался Митька по заснеженным колеям, и несмолкаемые бубенчики плакали в тусклых сугробах…
ПОЛЕВОЙ ПРАЗДНИК
I
Высоко взлетели галки в зарозовевшее небо, когда ахнул дурачок Пронька в гульливый купецкий колокол ко всенощной; словно ярче полыхнул закат за белой звонницей, за среброзвездыми куполами; древние странницы, охая, поднялись с паперти и, позевывая, перекрестились.
Опустела мшанская площадь, даже лавки закрылись, как в праздник. Лишь ветер вечерний легко веял, взвевая осиротелую солому, да воробьи плясали по дороге. От часовни просеменил согбенный дьякон в потертой скуфейке, щурясь, посмотрел на низкое солнце. И ему растрепал жидкие косички ветер, отдувая кафтан.
А по низу, в соломенных задворках Заречья, по слободам, где выстроились бурые одонья, с утра толпами бегут скрипучие телеги. Там пролег мягкий, пыльный большак, ныряя под ветлы к Мше и раскидываясь сотнями борозд на слободских полянах. Прямо к обители выносит большак, к Казанской, что в трех верстах от Мшанска. Все окрестные села и деревни поднялись в гости к чудотворной, на ярмарку.
Бегут телеги, поднимая крик великий и смятение. Нескладно голосят пьяные кумовья, задрав ноги на возу; бабы переругиваются от скуки, ребятишки, расстаравшись где-то, дуют во все легкие в пищалки и рожки. Ржут привязанные сзади лошади, мычат коровы; оборванный пастух гонит стадо жирных курдюков, пощелкивая плетью; облако пыли мерцает за ними, затмевая дорогу желтыми сумерками.
Весело раззвонился Пронька на горе: знает, что впереди ярмарка с золочеными бубликами, с маслеными оладьями и ядреной брагой. Далеко видно с вышки — за самый край полей, и оттого еще больше спирается дух от радости и воли. Вон палатки белеются тускло, копошится кто-то, по взрытой колеями поляне ползут телеги, разбредаясь во все стороны; сбоку, где летит облаком оранжевым пыль, алеет вечерняя Мша ясно. За бугром далекий крест золотеет огненным блеском, хорошо! «Смотри, все отчухвостил, — подумал Пронька, почесываясь, — надо идти к балаганщику орган вертеть…» И стремглав, бросив веревку, нырнул в узкую щель на паперть.
Гулко оторвался последний удар, отлетая в Заречье, и стих там, словно перекатываясь по мягким половикам. Еще пронзительней закричали возы у Мшанска, под набежавшим ветром. Вспыхнула пыль, закурилась по Большой улице и заслепила глаза коню, что стоял, запряженный в дрожки, у купеческого дома с палисадником. Конь лягнулся сердито, мотнул головой и вздумал было тронуться с дрожками вдоль улицы. Но молодой Синельников заметил это в окно и, высунувшись, крикнул на работника цыгана:
— Эй ты, копченый! Спишь, не видишь. Карий сбежал, какого черта!..
Вторую полбутылку коньяку дотягивал в горнице Ваня Синельников с почтмейстером, опохмеляясь после вчерашних именин у исправника. Ваня ради ярмарки был в чесучовой поддевке и лаковых сапогах.
— Пьешь, пьешь всякую дрянь, а все голова трещит, — жаловался он, взъерошивая пышные кудри свои. — На ярмарку, что ль… Много народу-то, Яша?
— Весь день прут чумазлаи, без перестанову, — ответил почтмейстер, которого за деликатность мшанские дамы прозвали Яшей-нежным. — Вон сперлись, как Мамаево полчище. Дух теперь такой на улице, хоть беги!
Почтмейстеру тоже было не по себе от вчерашней попойки; вдобавок он злился на Ваню, который отбил у него вчера княжну Руцкую-Скавронскую и ухаживал за ней весь вечер. «Лапотник, овчинный барин, туда же лезет…» — дулся он. Однако ему надо было перехватить у Синельникова взаймы, и он решил задобрить его на всякий случай.
— Знатный бал вчера был, — оживившись словно, обратился он к Ване. — Знаменский поп до того перепился, что попадью с постоялого двора в одной рубашке выгнал, по всем правилам искусства. Козырев, говорят, окно выбил. И ты тоже, — Яша ухмыльнулся, — ухач-парень относительно бабья, а? Прошел номер?
— Где нам, — лениво покачиваясь, проговорил Синельников, — это вы — ухачи. Ты лучше рассказал бы, как к аптекарше в окно лазил.
— Что за нелепые слухи, что за… — Яша совсем раскипятился, даже покраснел. — Мне бы только добраться, кто это подобные слухи распускает, я бы вжучил ему. Это все кривая ведьма, Козыриха, старая кляча, сама к солдатам бегает потихоньку, а туда же…
— Брось, Яша, — опять лениво протянул Синельников, — плюнь на все и береги свое здоровье. Пей.
— Да я ничего, — повел плечами Яша, — а все-таки… Да ты что раскис? Везет парню как утопленнику, а он казанской сиротой прикидывается. Да я бы на твоем месте от восторга на стенку полез. Сегодня она была в конторе с Пчелкиной, про тебя что-то болтали.
— Ну?
Синельников повернул на него недоверчиво глаза, ожидая чего-то. Но Яша закурил равнодушно папиросу и бросил как бы мимоходом:
— Что же, я врать, что ль, стану? — И вдруг спохватился: — А-а… между прочим… у меня есть небольшая просьба, поистратился я, а медаль надо выкупить. Знаешь, эдак бы красненьких пять, через неделю отдам, а?
— Чего же ты примазывался, врал, — разочарованно буркнул Ваня, распахивая поддевку, — так и говорил бы прямо. На вот четвертную, больше не дам, какого черта!
Яша равнодушно скомкал бумажку и, обсасывая, папиросу, пробормотал небрежное «мерси». Стало тихо. В открытом окне всхлипнули тополя; кто-то пробежал весело в соседней комнате, задрожал убаюкивающий вздох клавиш; легкий, беспечный вальс «Клико» пронесся, легко звеня.
Ваня со скучающим лицом потянул опять коньяк и уставился в раскрашенный плакат шоколадной фабрики, висевший на стене. Яркие губы красавицы улыбались ему и словно близились и отдалялись сквозь набегающий туманно хмель. И прическа туго оттянутых назад волос напомнила ему другую. — под синим сквозящим газом, который он целовал вчера опьяненно, когда Лиза ускользала на темную лестницу…
Качнувшись на носках, Яша затюлюлюкал себе под нос и завальсировал по горнице. Пианино умолкло. Опять пробежал кто-то, и головка в папильотках выглянула из-за двери.
— Ванечка, — позвала было она, но, увидев почтмейстера, отскочила испуганно и захохотала: — Ах, здесь Яша-нежный, а я… — И убежала куда-то, резво прищелкивая каблучками.
— Кровь играет в кузине-то, — подмигнул Яша Синельникову на дверь, — замуж пора Агничке… Ну, брось кислятину-то разводить, поедем, что ль… Ты торгуешь сегодня или нет?
— Нет, папаша там, — ответил Синельников, отнимая руки от лица, — я всю ярмарку свободен. Там, к слову сказать, придется мне одно происшествие сообразить, чай не выдашь? Деньги вот тут, — похлопал он по карману, — две тысячи: в губернии за пшеницу получил, папаше еще не сдавал. Поддержишь?
Яша с достоинством кивнул головой.
— Ну, пойдем. — Он поднялся с места и надел фуражку.
— Еще не легче, ч-черт! — выругался про себя Яша, выходя за Синельниковым на улицу. То, что приятель не будет занят на ярмарке, разрушало все его планы относительно княжны. — Ну, да ладно, — сплюнул он, — не прошло — не надо!..
Сонный цыган, щурясь, отвязал вожжи, подал Синельникову; тот уже совсем хотел садиться, как внезапно Яша, стоявший сзади, дернул его за плечо и забегал глазами.
— Смотри-ка, смотри, — зашептал он живо, — видишь, кто с исправничихой-то едет!
Оба вытянулись навстречу приближавшемуся экипажу.
— Здравствуйте, здравствуйте! — В облаке желтой пыли протарахтела шумная бричка, и на миг оттуда смуглое женское лицо улыбнулось приятелям; синий сквозной шарф прикрывал откинутый назад узел кос.
У растерявшегося отчего-то Вани ветер рванул белую фуражку с головы и понес быстро рядом с бричкой. Там кто-то захохотал громко и весело. Ваня смущенно догнал фуражку и, не глядя на Яшу, сел в дрожки.
— Ну, — угрюмо понукнул он лошадь, — пшел, старый дьявол!.. Пшел!
Запылив, дрожки покатили на ярмарку.
II
Каждый год в июле, когда воздух насыщен зноем, как будоражным истомляющим вином, когда уже к земле спадает наливная червонистая рожь и мужики кое-где зажинают «благодать господню», собирается у монастыря великое торжище, полевой праздник. Уж на «подторжье», в самый канун, раскидывается там бунтующее море телег, балаганов, палаток и каруселей. Оно все растет и вот уже кидается дальше — и к зеленому овражку с ветхим мостиком, где машет крыльями красная монастырская мельница, зазывая гостей, где две плакучие березы простирают скудные ветви, и к белым стенам обители, где текут раззолоченные пажити, ярится Мша и пышно разрастается зеленое кладбище.
Уже алый и ветреный прогорел закат меж синими куполами, успокоенно заголубело небо, в нем тихие ангелы почили, застыв на белых вышках. Внизу гоготала кипучая ярмарка, полная ожидания буйных веселий и празднеств. Гремели отчаянно походные кузнецы, кто-то звякал резко, словно колотил, не отрываясь, по пустому ведру; ржали лошади; расторопные офени начинали покрикивать, надувая простаков из Симбухова, Засечного, Растеряхи — из всех неисчислимых сел и деревень, почти выселившихся временно ко Мшанску. Кое-где взвизгнули щегольски две-три гармоники, но, видно, рано еще было — смолкли сконфуженно. А народ все шел и ехал, шел и ехал, и ни дудки, ни рожки не могли побороть стоголосого рокота, который проникал, казалось, всюду. Лишь у белых стен стихал он глухо, и там серебряными струями текли тонкие березы в лазурь.
Колокол ударил к евангелию. Яша-нежный затащил Синельникова на монастырский двор, все подмигивая на девок и суетливых монашек и подталкивая приятеля локтем. Там они завернули в боковой корпус и поднялись по скрипучей лестнице наверх. В темном пахучем коридоре прошла высокая девушка в черном платье.
— Сестра Татьяна не у всенощной будут? — спросил у нее Яша.
— Здесь, здесь, пожалуйте, — раздался девический голос из-за перегородки, дверь растворилась, и рыжеволосая монахиня, кланяясь, провела друзей в комнату.
— В гости к вам, Татьяна Ивановна, — рассыпая улыбки, начал Яша, — навестить вас вздумали. Вот и Иван Егорыч, купеческий сынок, знаете, наверно. Ух, запах у вас здесь какой, Татьяна Ивановна, прелесть какая! Индия!
— Очень рады, очень рады, Яков Иваныч, что не забываете. Вот, пожалуйста, я уж насчет самоварчика, извините, выйду, присядьте, пожалуйста. Очень рады, как же, спасибо!
— Какова! — прищелкнул Яша языком, когда монахиня вышла. — Ты не смотри, что воды не замутит, — любой княжне насчет иного-прочего пятнадцать очков даст. А?
— Баба знатная, — согласился Синельников.
Дверь снова отворилась, и Татьяна, плавно ступая, вошла в комнату. Синельников пристальней взглянул на нее. В келье, где так утомляюще пахло кипарисовым деревом и сладким духом трав, это пышное лицо под словно позлащенными косами влекло странно и обдавало темным дурманом. Алые губы дрожали на белом лице, словно жаркое дуновение шло от нее…
Появились яства монастырские, соленья, рыба; лукаво посмеиваясь, вынула Татьяна из шкафа густую наливку и поставила перед гостями.
— Знаю ведь, чем потрафить, угощайтесь, гости дорогие, — словно пела она, вкрадчиво вздыхая, — уж чем богаты, тем и рады. Наливки покушайте, Яков Иваныч!
— И наливки возьмем, не беспокойтесь. Только и вы бы сели, Татьяна Ивановна! Ах, и наливка, — сразу видно, чьи ручки делали!
— Уж вы скажете, на смех все, — сконфузилась сестра Татьяна, потупляя глаза. — Насмешник вы, право!
Она села к столу и стала разливать чай.
Но гости не столько пили и ели, сколько смотрели, как скользят перед ними полные белые руки, как грудь вздымается под черным платьем. У Яши заблестели глаза; он оробел почему-то и почувствовал, что теряет обычную свою развязность.
Поговорили о ярмарке, кончили чаепитие. Синельников давно думал, что на ярмарке собрался народ, что карусели вертятся и княжна, может быть, ждет его. «И чего я сюда затесался», — досадливо укорял он себя, видя, как Яша, забыв о приятеле, любезничает с сестрой Татьяной.
— Не пора ли нам? — обратился он к почтмейстеру. — уже семь!..
— Что вы, куда это? — всколыхнулась сестра Татьяна. — Куда торопитесь, к барышням, поди? Ах, сердцееды!
В дверях, где начинался темный коридор, Яша подтолкнул легонько Синельникова в бок; тот понял и сошел быстро вниз, на двор. Тоненькие колокольчики заливались в голубом, не сумеречном еще небе; последнее «аллилуйя» таяло у решетчатых окон вместе с алыми тускнеющими лучами, белые березы струились в лазурь. Из церковных открытых дверей пахнуло ладаном.
Мимолетно чье-то прикосновение ощутил Синельников, оглянулся. Улыбнувшись, прошла близко давешняя девушка, что встретилась в темном коридоре, послушница. Бесстыдно и обольстительно выгнулись брови черные в этой улыбке, глаза черные сверкнули, в тумане истаяли губы тонкие, сладкие. С блаженной какой-то улыбкой проскользнула, кивнув головой, чудная послушница, бред легкий оставляя за собою. «Ах, дьявол, — вздрогнул Синельников, — ну и девки в монастыре!..»
Между тем Яша наверху вел странные речи, как будто имея что-то в виду, и сжимал крепко жаркие Татьянины руки. Всю свою деликатную обходительность и находчивость призвал он на помощь, все «знание женского сердца». Мимоходом упомянул о калиточке, что уводила с монастырского двора сквозь ветхий частокол на реку, намекнул, что «самое гулянье часов в одиннадцать бывает, фейерверки, огни — одно великолепие». «И черт знает, как с этими монашками обращаться», — думал он с досадой, видя, как любезно разбивает все его словесные ухищрения лукавая черница.
Наконец, кончил он; усталый, упаренный от жаркого воздуха слетел по лестнице, укоряя себя за что-то. Синельникова во дворе уже не было. «Успел, улизнул», — выругался Яша, отводя душу. И засеменил вертляво в толпу к каруселям.
III
А туда уже давно схлынула вся молодежь, ожидая первого удара барабана, чтоб вскочить на отчаянных деревянных коней, на легкие качели и помчаться под вой органа и бубенцов навстречу холодеющему ветру. Но новый мшанский исправник запретил музыку до утра, когда назначен был молебен у чудотворной. Парни и девки, недовольные и разочарованные, разбрелись. Кто в луга заводить хороводы, провожая пламенное лето, кто к ярким приманкам торгашей, раскинутым по площади, а кто и в красный барак под двухцветной вывеской — в «ресторацию» Миши Белого.
На площадь бражники выкатили пузатые бочки. Мещаночки в кружевных косынках жались к каруселям, грызли семечки, хихикали, глядя, как податной увивается за исправничьими дочками и лебезит перед барышнями Яша-нежный. Слегка наклонясь, торопливо вышла с кладбища смуглолицая княжна; Синельников, путаясь в народе, растерянно спешил за нею.
— Зачем вы так рано уезжаете? — шептал он, пригибаясь к открытой ее шее и неловко толкая княжну. — Я думал, увижу вас, мне хотелось поговорить…
— Но вы видите и так, — смеялась княжна, — фу, какой вы дикий, я думала, вы смелее. Знаете, — княжна обернулась к нему, блеснув глазами, — ведь смелость города берет, вы слышите, мой Адонис… — Она нехорошо хихикнула.
Синельников вдруг покраснел, стало беспокойно и тоскливо. Вспомнились пьяные губернские прелестницы, к которым ездил он с Яшей в ресторан «Эрмитаж», их порочные, обещающие усмешки. «Нет, она не такая, — захотелось ему прогнать щемящую, жгучую мысль, — болтают, наверно…»
Обаяние недавнего вечера проснулось в душе. Под влекущие протяжные перепевы вальса он следил тогда за Лизой и, заметив, что она проскользнула в темную комнату, вошел туда. Там, в углу на кушетке, наткнулся на покорные, жаркие губы, сжал чьи-то худенькие плечи и целовал, слабея, невидимое лицо, руки, шею… Потом его быстро оттолкнули, княжна выбежала в яркий зал и засмеялась весело.
— Довольно, довольно, мой дикий Адонис, это становится скучным!
«Неужели у нее были любовники?» — подумал Синельников, оглядывая эти близорукие, словно отуманенные слезами глаза, ее детски-хрупко изогнутую шею. Ему опять сделалось тоскливо, темная беспредметная печаль опалила сердце.
— А завтра — я увижу вас подольше? — спросил он умоляющим голосом. — Ужели же вы не захотите больше?..
Она с любопытством поглядела ему в лицо, словно доискиваясь чего-то. Ответила:
— Может быть.
Подкатила исправничиха на бричке.
— Lise, скоро? — спросила она грубоватым басом.
Лиза покорно впрыгнула в экипаж, закуталась и сунула Синельникову в губы узкую пахучую руку.
— Целуйте же!
Вспыхнула пыль под бричкой, застучали колеса, вот уже за палаткой не видать ее. Странная слабость схлынула к ногам, заныло в сердце. Пусто, как будто на ярмарке. Чужой гутор путается в сумерках, пьяные песни, вдалеке подвизгивает лошадь. Трава посырела.
— Проводил? — услыхал Синельников за спиной насмешливый сипловатый голос. — А я тебя искал, искал, все руки испачкал. Ну, брось грязное дело, пойдем углями торговать, — там вон, в сторожке, дела есть…
Толстяк в серой поддевке, купец Гвоздарев, подмигнул ему.
— Наши? — спросил Синельников. — Кутят?
— Ну да же, — закивал лохмами Гвоздарев. — Все и вся, и музыка и девки там, пойдем! Ну?
Синельников помедлил немного.
— А все равно, — махнул он рукой, — а то один пропадешь тут… — И повернул за купцом в сумеречные луговины Мши, где светилась тремя огнями черная сторожка.
…Мшанская «аристократия» разъезжалась. Сеня Колпаков, податной, подсаживал в тележку исправничьих дочек, Эжени, Лили и Ларис, поцеловав одну незаметно сзади в шейку. Яша-нежный подцепил грузную аптекаршу и волочил ее от балагана к балагану, ругая пропавшего извозчика и рассыпая нелепый бисер своих речей… Над Мшанском вырезался острый месяц, потянуло сыростью, цветущей гречихой, ветер легко пролетел. Ночь наступала.
У харчевен запылали домовито костры; под берегом лежали подростки, слушали, жмурясь от страха, жуткие истории. А на западе, прорвав черное полотно неба, легла острая заревая стрела, обещая на завтра буйный солнечный день, вёдро.
IV
В сторожке начиналась гульба. Уже на лавках расселись хлебные тузы — старичок Абрамов, с крысиным, стянутым к носу лицом; Пчелкин, худой, длинный, похожий на лошадь, с жесткими калмыцкими глазками; дальше мануфактурщики — Гребнев, Кононов, Захаров, балаганщик Нечаев и карусельщик Бычков.
На столе стояли пиво, водка, коньяк и закуска.
— В-во, — закричал Гвоздарев, вводя в избу Синельникова, — насилу нашел, голубчика: присосался тебе, как клещ, к бабьему подолу и носится по ярмонке. И хлюст только насчет баб, ай-ай!
— Это бывает, — подтвердил почему-то Абрамов, — это в нем жениховская жила бунтует, знаем. Ты! Хошь, тебе невесту розыщу, а? С приданым!..
— Слыхали, слыхали, — спаясничал карусельщик, — две пустых мельницы да шашнадцать копеек деньгами! Ха-ха, тоже приданое!
— Что ж, аль у нас добра нет, — спесиво надулся Абрамов, — слава те господи, пятки не стынут и одонья есть, не как у вас, дуроплясов! Только что карикатуру мы не наводим, не хотим у вас хлеб отбивать, пользуйтесь.
— Ну, пошли причиндалы свои разводить, — вступился Гвоздарев, — выпьем лучше. Ты, парень, нас догоняй!
Налили вина. Синельникова заставили проглотить три рюмки почти подряд. Купцы отплюнулись, а карусельщик остаток из рюмки вылил на голову.
— На, кудри! — кричал он, нарочно искажая голос. — Чтоб росли! Чтоб девки любили!
— Эх вы, кудри мои, кудри русые мои, — затопал ногами Гвоздарев. И, обернувшись к балаганщику, порывисто крикнул: — Вели, что ль, музыкантам ударить, чтоб чертям тошно стало! Н-но!..
— Это мы сейчас, — с готовностью подхватил Нечаев. — Эй, музыка!
Из кухни вышли музыканты. Маленький еврейчик взмахнул флейтой, контрабас заржал, загнусили скрипки, и отчаяннейшая полька «Трам-блям» разорвала воздух, кружась и вскидываясь.
— И-ах-х! — прищелкнул пальцами Бычков, — заснащивай!
Синельников подошел к столу и опять выпил. Полька визжала, взвивались с хитрыми вывертами голоса скрипок. Сделалось вдруг теплее, голова вскружилась, — но лишь вспомнилась Лиза, опять настойчиво и тяжело защемило сердце. Как будто, как ни пьяней, ни тони в мутных волнах угара, никогда не сотрется милый образ с отуманенными глазами, зовущий куда-то к иному упоению…
— …Знатная ярмонка, — жужжал под ухом Бычков, — дери теперь, купцы, с живого и мертвого, показывай небо в овчинку! Эй, живодеры, выпьем!
— Бароны, верно, у ней раньше были, эти не упустят, — растравлял себя с горечью Синельников, уставившись глазами в олеографию на стене, — а мой дед крепостной.
Он вспомнил, как отлетевший сон, далекую звездную ночь, майское небо; мальчик глядел в широкие светлые окна, где пышные, как мотыльки, танцевали девушки под сияниями люстр. Над детскими очарованными думами роптал барский парк; девочка в кисейном платье пробежала, смеясь, мимо…
Наверно, есть кто-то, кому без стыда заглядывала она в глаза, целуя жутко, не отрываясь; вот мчалась, может быть, в зимнем поле, как на этой олеографии, где тройка уносит кого-то от убогих избушек за леса, за снега, к окровавленному закату…
Он опять пил; уж новый галоп сменил польку, и купцы, опьянев, сидели молча и слушали; Гвоздарев качал задумчиво головой, а Бычков, отпуская непристойные жесты, дирижировал оркестром.
Несется тройка на олеографии, уж кто-то сжимает Лизин стан, кто-то целует волосы под синим шарфом, тискает плечи, холодноватые от летящего ветра. Галоп звенит; тоска тягучая в поле, бурный закат утонул в снежных сумерках; галоп, страстный и тоскливый, звенит, звенят бубенцы, целуются пассажиры.
— А какого черта, тоска, — пробормотал Синельников, — мы не бароны, не князья, чего тут! — И, вдруг, сорвавшись с места, выпил духом рюмку водки и крикнул Нечаеву: — Веди девок, какого черта!
— Это ты правильно, — согласился совсем размякший Гвоздарев, — правильно… Ты, Петя… э-э… приведи девочек, ну-ка!
Нечаев гаркнул на кого-то в кухне, и оттуда вышли певицы в русских сарафанах, в бусах, заискрившихся зеленым, как кошачьи глаза, в узорных кокошниках, горящих цветным жаром.
— Заводи! — Выстроились девки полукругом, подмигивая купцам, а рябой Нечаев, в вышитой рубашке, ухарски растянул гармонику и тряхнул головой.
Маша-запевала затянула высоким голосом цыганскую песню. Слабо вздохнула гармоника под лениво перебираемыми ладами, протяжно, будто выжидая что-то. Вдруг топнул ногой Нечаев, взвизгнули порывисто девки, рассыпалась плясовая, и Маша, заломив руки, причитывая, зачастила по избе.
Ай, чудо, чудо, чудо-чудеса! Все мое раздолье — степь да леса!Гвоздарев встал, поматывая головой и размахивая руками, как регент. Откуда-то выбежал толстый карлик со старым испитым лицом, разбежался и для смеху тяжело шлепнулся о пол задом. А карусельщик грохнулся рядом и бешено грыз доски зубами, циркулем вывертываясь по избе.
Ой, жги! Ешь землю!И уж иная песня брызнула: «Из-под дубу, из-под вязу». Другая плясунья, отгибаясь назад, как былинка под степным ветром, выплыла навстречу Маше, выставляя тряские молодые груди и подыгрывая черными бровями. И навстречу ей замотался несуразно Гвоздарев, расставив руки, как коромысло, и приговаривая: «Ай, батюшки! ай, матушки!»
— Будя, — завопил внезапно Абрамов, словно очнувшись. — Угощенье девкам и музыкантам! А ты, симпомпончик, поди-ка ко мне… Вот тебе на гостинцы, — и старичок сунул плясунье за пазуху горсть серебра, трясясь от смеху или еще от чего-то.
Подвизгивая, бросились певицы к столу, потянувшись алчно за пивом; Маша, еле показав из-под смольных ресниц серые свои очи, чокнулась с Синельниковым и закинула вызывающе голову. Много обещали эти глаза, не знал Синельников, как и быть, а волнующий зов песни кружил, еще сильнее хмеля зажигая кровь…
Купцы, совсем охмелев, полезли к девушкам, тяжело заигрывая, а Пчелкин усадил к себе на колени толстую певицу и щипал. Его глазки совсем исчезли от жестокой улыбки, грудь певицы выбилась из-под сарафана. За каждый щипок она получала по гривеннику.
— Дяденька, будет, не надо, — хихикая от щекотки, молила она, — я лучше поцелую. Да что ты, хахаль, в одно место привязался, за это по двугривенному надо!
Рявкнул «Героический марш». Нечаев выпустил еще акробата, который на руках разгуливал по избе и заламывал ноги за голову. Но обеспамятевший Гвоздарев оттолкнул его, упоенно выпятив грудь, промаршировал перед музыкантами и, забултыхав руками, врезался в кучу певиц, стоявших у стола.
— Пошел черт по бочкам! — гоготал карусельщик сквозь визг девок и грохот оркестра. — Напирай крепче, костолом!
Дверь распахнулась, и новая ватага, с гробовщиком Прохожевым во главе, ввалилась с песнями в сторожку. Марш оборвался.
— А, веселый человек, искра божия! — приветствовали купцы гробовщика, дружески ухмыляясь. — Только тебя и не хватало. Ну сделай что-нибудь на пятиалтынный чуднее, скомдиянь!
— Ванюха, хряпни махонькую, — мямлил Гвоздарев.
— Нет-с, не пьем-с, — звонко отчеканил Прохожев. — Зарок у попа взямши. Только этим и тешим себя теперича.
Он растянул гармонику.
Она моя шьет и вяжет, С кем захочет, с тем и ляжет.— Лихо! — захохотала изба. — Зверь ты, Ванька, насчет песни. А у нас здесь плясун есть, что почище тебя. Смерься-ка!
— Кто? — спросил гробовщик, надменно усмехнувшись. — Уже не балаганщик ли? Эй ты, тряпло, — обратился он к Нечаеву, — выходи на полдюжины, кто кого… По-хрестьянски! На три аршина в землю, на пять в небеса, черт тебя подери, антимония с суслом!
— Что ж, — подбоченился Нечаев, — и не эдаких видывали, становись! Я в Сызрани троих таких покрыл, дохнуть не дал! Янкель, наяривай!
Оркестр заиграл «Барыню». Легкой, четкой поступью вышел Нечаев, отсчитывая каблуками каждый такт. Обошел круг, лихо повернул на носках, глядя на соперника. Тот сбычился, словно желая броситься на кого-то, и затоптался нарочно неуклюже на одном месте.
— Лапоть направляю, — сбалагурил он под хохот купцов, — во, смотри, живой!
И вдруг сорвался с места и, крикнув: «Мы по-хрестьянски, по-неученому», — вылетел скоком на середину избы, хлопнул ладонью по полу, другой по губам и пошел струнить ногами затейливую, такую забористую и жаркую «барыню», что у купцов плечи передергивались и ноги заерзали, просясь в пляс. Словно тянуло каждого броситься куда-то очертя голову, гикнуть гневно, мелким бесом рассыпаться, чтоб душа возрадовалась дикой воле и пляске необузданной, безумной…
— Отчекрыживай! — вопили оголтелые, одуревшие купцы. — Прохожев, отдирай, примерзло!
Опять вылетал Нечаев, порхал легко, как бы красуясь собой. Упирая руки в шелковый распущенный пояс, закинув голову по-молодецки, не глядя, несся он, не касаясь словно земли. Хитрую фигуру выкидывал, перекувыркнувшись в воздухе и крякнув узывчиво. И вновь отчаянная трель каблуков раздирала воздух, половицы стонали, лампы мигали трусливо, — забубенный гробовщик выползал по-медвежьи, встряхивая головой. Как слабый лист в вихре, взвивался он, рассыпая пламень движений, шарахался в сторону, отбивая бешеную присядку, колотя руками по полу, по бокам, по сапогам.
— И-их, — охватывали его судороги на средине избы, — крой чище! — У купцов мороз пробежал по коже, зубы стиснулись…
А музыканты — скрипки, корнеты, флейты — источали серебро голосов своих, то выдерживая благородную нечаевскую осанку, то ахая от избытка удали и воли, когда срывался черноусый Прохожев, вскидывая ногами, и дьявольскую свою отчеканивал «барыню». То не в силах уж удержать бешено возрастающего пульса инструментов, когда все полнилось до краев гиком и весельем, и сердце, казалось, готово было оборваться судорожно, — они испускали какой-то нелепый вопль, голосили смятенно, а неуемный плясун плыл, приседая, и вновь взлетал, хлопая в ладоши, рассыпая всюду залихватскую дробь. Отступился Нечаев, заказал полдюжины для диковинного гробовщика…
Воздух в сторожке загустел от дыма и спирта. Синельников уже смутно сознавал, что ему говорили, тускло видел мелькания пляски сквозь набегающее забытье. Наконец, ему сделалось почти дурно. Тяжело склонившись, он встал с лавки и, пошатываясь, толкнул Машу к двери.
— Пойдем в луга, пойдем, — пробормотал он, едва передвигая ноги. Вышли в ночь, где тихая свежесть еще полнее запьянила, заполонила сердце на миг пышной прохладой.
— Ах, Маша, — обнял ее Синельников, — несчастный я…
В сторожке шел дым коромыслом. Опять запировали мшанские торгаши; ради ярмарки и веселый гробовщик зарок с себя сложил. А мужики, навалившись друг на друга у окон, кряхтели благодушно и подсмеивались:
— Купцы балуются!
V
Рогатый месяц повис над синими перевалами, уютно стало, как будто все свое, тихое. Звонили полночь где-то за ржаным полем; жужжала, опечаливая сумерки, гитара у балаганщиков. А белый монастырь выступил маковками своими к бледным звездам, вылив за собою в небе черные и голубые облака листвы.
Не баюкала — беспокоила месячная эта ночь. Редкий мог уснуть: вскакивал скоро и шел бродить по ярмарке, не одолев странных помыслов, прислушиваясь к глохнущим звукам. Сонно налаживали песню, бегали к мшанской шинкарке за водкой. Молодые томились, прятали что-то друг от друга. Ленив был смех, хотелось побыть одному. Глядеть, как лиловая дорога отсвечивает в темных откосах, тайные вспыхивают огни в степи. Тянет туда, в завешенное раздолье: будто вот за дремотной заводью, в какой-то серебряной дубраве найдешь нечаянное, на всю жизнь счастье…
Даже становым не спалось в палатке, хотя выпили они перед сном «по черепушечке». Почесывались, ворчали… Догадливые стражники давно плутали в путаных тележных рядах, разнюхивая «насчет баб для их благородий». Подняли трех каких-то, сонных, поволокли. Бабы визжали и падали у каждого костра, царапая землю. Стражники деловито и жестоко ругались, а отходя в сумерки, должно быть, тешились, срывая с баб кофты и несуразно хохоча.
С затона туман потянул облаком-призраком. Потускнела обитель: бледным венком плыл туман вкруг куполов; с кладбища запахли сильнее цветы, вспомнилась сказочная какая-то жуть. Дружнее поддувал от черного востока лесной, посвежевший ветер.
Тополь звякнул по стеклу в Татьяниной келье. Она отворила окно: холодным душистым шелком погладила ее ночь, обессилила внезапной дрожью. За стенами покоилось зеленоватое от месяца небо, гремел глухо, словно шепчась с листвой, «Героический марш». Не понять — во сне, наяву ли, и чего хочет замолчавшая душа…
Накинув платок черный, медлительно зажгла она свечу, будто покоряясь чьей-то иной воле. В коридоре нагнулась, пытливо, осветив постель, где разметалась послушница Груша в розовой рубашке. Дунув на пламя, скрипнула лестницей, прижимая палец к подбородку. Синяя ночь стояла за березами, обещала. Татьяна устало улыбнулась чему-то и, уронив платок на глаза, вошла в тихие палисадники.
В сторожке погасли, наконец, огни, стих ревучий оркестр. Купцы поплелись вразброску: кто по домам, кто с певицей в луга, кто на ярмарку под прилавок — зарыться хмельной головой в душистую отаву и всхрапнуть до солнца. Гвоздарев еле взобрался на тележку и загремел по дороге, силясь тщетно вспомнить мотив «Героического марша» и ругаясь на работника.
Не спится на ярмарке, ждут праздничного солнца, пьяного дня, когда зазвенят, закружатся в буйном хороводе и гармоники, и пестрые карусели, и цветные толпы, разгульным разливом подошедшие к Мшанску. Тихие парочки влюбчиво перешептываются на лугу, где стихли давно вечерние игры. Гулящие мужики, удрав от жен, ищут где бы поживиться; осклабясь сладко, ловят встречную бабенку, вынимают вышитый кисет, хвастаясь: «Пойдем, кума, в рожь, в прятки играть, в накладе не будешь: во, мошна тугая, завтра новые бусы куплю». Полногрудые молодайки переманивают их на темную сторону, подальше от людей, послушно усмехаются, кутаясь в узорный платок. Не на деньги льстятся: улещает хмельными речами ночь-шептуха, запретные ее услады…
От бахчей, с того берега, раскрывая встревоженные камыши, выплыла лодка, направляясь к обители. Перед ней бежал очарованный месяц, как желтый уголь, мешая Яше-нежному заглядывать вдаль, за черные струи. Слегка ветер набегал, порхал лунными брызгами на очерненных ветлах, пел в ушах. И ночь простиралась — сладострастная и богомольная, как соблазненная черница.
Темно у монастырского мостика, ветлы встали шатром. Изредка луна раздвигает стрельчатый купол их, вспыхивает в синей воде. Яша выпрыгнул из лодки, замирая, приложился ухом к старой калитке — ничего не слышно. Потом стукнул полегоньку, еще раз, и сам чуть не испугался: раздвинулся, показывая луну, ветхий частокол, черная фигура вышла, сжала Яшины руки и склонилась к нему, дохнув жарким ртом. Яша вздрогнул, тесно припал к Татьяне, сразу ослабев.
— Яков Иваныч, — шептала она прерывисто, — Яшенька, ах, боязно мне, грех-то какой!
Очнулся немного почтмейстер, схватил в охапку рыжеволосую красавицу и спрыгнул в лодку, чуть не поскользнувшись на мостках. На том берегу дымились луга, мутные от росы, чернела облаком месячная дубрава… Насилу поднял весла Яша онемевшими руками…
…Холодеет серебряный восток. Дальний Мшанск пропал на горе, погасли его дозорные огни. Высоко вознесся там месяц над усыпленными улицами, пролил млечную мглу, зацветая на острых звонницах. На базаре одиноко продребезжала гвоздаревская таратайка; поймав, наконец, коварно ускользавший мотив «Героического марша», вывалился, ни с того ни с сего, Гвоздарев на площади и, отпустив работника, пешком прокрался до дому. Воинский горделивый дух вновь заиграл в нем: спесиво выгнул купец грудь и полез почему-то в окно, изображая, вероятно, военного лазутчика. Потом, прокричав в горницах «ура» и выпалив из револьвера, споткнулся там о диван и, попав головой в подушки, тут же захрапел.
VI
Студеная заря горела за Мшой, розовый камыш опрокинулся ясно в тишайших затонах. Снеговой туман встал на низинах; сквозь него верещали птицы, плыл уютный благовест от мшанских церковок, да еще в стороне, за перевалом, бухали где-то дремотно с высокой звонницы, не то в Знаменске, не то в Растеряхе, будто сама земля гудела темными недряными колоколами…
С похмелья хмурый очнулся Синельников под прилавком. Приказчики, помятые, узкоглазые от спанья, потащили к реке. Гогоча, пожимаясь, бросились с разбегу в остывшие за ночь струи. Шаром обдало. Любо отдать истомленное тело текучим струям, где сжимают холодные тиски неги и, словно девичьи объятия, влекут в омутную глубь. Раскроешь глаза, на дне зеленый хрусталь сияет, желтые мерцания текут, тянутся млечно-зеленые водоросли. А на берегу солнце обласкает, окутает облаком нежного тепла; тихо вода плеснет у ног, и внятно зазвучит томный голос тела, налитого до краев сладостными желаниями…
От обители крестный ход шел на взгорье к богородицыну ключу. Пел девичий клирос под вольной зарей, басили диаконы в червонных ризах, смиренно и благочестиво шествовали строгие старицы за чудотворной иконой. Колыхались в голубом, не пыльном еще воздухе обнаженные головы, узорчатые платки, темно-алые знамена и хоругви — все обращенное на восток, где внизу, за приречной долиной, слепило очи бурное грядущее солнце.
— Нужно на ярмонку, что ль, наведаться, — лениво подумал Синельников, протянувшись на песке. Какой-то ласкающий образ, свежий от утра, тончайший, коснулся души. Солнце мутно-радужным золотом лилось под полузакрытые веки, теплый ветер дул. За спиной гай-кала, ворошилась гулко монастырская площадь, звенел праздничный день, и было легко и радостно от ликующих предчувствий.
Веселей брызнули колокола над обителью. Разбрелись истовые богомольцы со взгорья, забубнила карусель, флаг взвился. Купцы отрезвели со вчерашнего, выступили за прилавки, сторожко прицеливаясь в покупателей. Серело от взметенной пыли небо; в нем четыре ангела блистали, излучая нежную радость: ведь вот впереди день целый, веселье, кружение хмельное — пьяный, разгульный день.
Высоко задирал бороду рыжий бражник Никита, гайкая на всю площадь; тесным кругом собрались подле него парни-ротозеи, глядя, как ловко цедит он в жестяные кружки черную пенистую брагу. Да и впрямь где лучше брага, как не у Никиты, где еще утолить жажду в душный полдень, когда зной течет неугомонно и даже в ушах жужжит.
— Эх, дойди-довались, у кого деньги завелись! Сам бы пил, да деньги надо, жена в закладе! Чепан, куда пошел! Ходи к нашему шалашу, брага — все отдашь, да мало!
«Чепан» застенчиво ухмылялся, обертываясь, однако протягивал гривну бражнику и почесывался.
— Отсыпай, что ли, чтоб тебе… — Жадно глотал он сыченую влагу — всем стягивала глотки несусветная, одурманивающая жажда.
— Московски калачи, хороши, горячи! С пылу, с жару, пятак за пару! Разжуешь — язык проглотишь! Эй, тетка, на, пользуйся моей простотой, бери по семь — два!
Густо проливался зной в побелевшем воздухе; кровь в жилах взыграла, как вино, обдавая тело одурелой истомой; с медовых рядов ветром потянуло, вкусно пахнет, заманчиво! В палатках горой пряники навалены, золоченые, малиновые, медовики желтые. Горланят офени, зазывая баб. Лезут в глаза телеги, насыпанные доверху малиной, крыжовником, красной смородиной, до которой падки алчные ребятишки, — благодать!..
Огневеет броское солнце по площади, а приказчикам в краснорядных лавках то и на руку: прищелкивая языком, развертывают они перед очумевшими от жары бабами румяный глянцевитый кумач. Огненным ручьем струится в искусных руках кумач, даже жарко от него. Загораются очи девичьи, глядя на завидный товар: хорошо в алом сарафане в воскресенье на лужайку выйти, павой в хороводе проплыть. А зеленый ситец с розовыми разводами еще лучше: так и льстит своими нежными цветами, раскрываясь пламенно на ослепляющем солнце.
Ох, и не пересмотреть всего в синельниковской лавке! Тороватые приказчики раскидывают сарпинку, кашемир, ситец; одни бойко стреляют глазами в покупательниц, разъярившихся от зависти, другие примеривают, накидывая материю на бабу и нарочно скользя руками по налитой груди.
— Эх, тетка, прямо краля ты в этом — и не узнаешь, а? Малина, а не товар! А то еще есть, только вчера с фабрики получили, самый модный образец…
Ярмарка живет, как громадное тело, как сказочный дракон, огненно расцвеченный крылатыми лучами. Одна кровь, буйная и играющая, бродит в этом теле, напоенном жгучестью лета и ожиданием новых приманчивых чудес. Как пульс, бьющийся глухо, но плодоносно, гукает где-то барабан сквозь темный ропот толпы; отзвуки музыки несутся с карусельной площади; иногда, как звенящие ослепительные осколки, врываются оттуда визги медных тарелок.
Там идет главный пир, кипучий и радостный; вся молодежь, упоенная празднеством, музыкой и блеском, от которого разгораются очи, собралась у каруселей. Сдвинулись девушки пучками пылающих цветов. Вдруг пурпур вспыхнет — и даже на лице, набеленном щегольски, рдеет заревой отблеск; но стрельнет глазами девушка и — нет ее, лишь взоры на мгновение заткутся алым: огневой цвет — солнцев цвет. А дальше, как окропленные зарей лесные колокольчики, лиловое, и вновь улыбаются стрельчатые ресницы и уплывают, словно в бреду. Там платки, синие, голубые, золотисто-розовые, льются цветоносным мерцающим потоком; шелк струится, шелк вспыхивает, алый, зеленый, вихрево-пламенный. Будто пышный хвост жар-птицы раскинулся здесь и слепит, пронзая воздух огнецветными лучами.
Яростней горячеет солнце: вот сейчас так и затлеет все, изойдет легким дымом. Уже Синельникову почудилось, что проскользнула вчерашняя послушница, усмехнувшись, грудью его задев. Бредом заражало солнце душу, странным бредом, страстным. Трое замертво упали на ярмарке от солнечного удара…
Гулко бьется пульс ярмарки, визжат гармоники, несутся качели — прямо в крышу уносятся, летят деревянные кони, выпучив ретиво глаза. Гуляет народ, радостен и светел красный день. И жарко надо всем — смотреть нельзя — яркий пылает стеклярус, зажигая расцвеченные завесы на каруселях, словно там, в горящих каплях, отразилась зеркально вся многоцветная пышность праздника. А за колеистой луговиной праздно горят среброзвездные купола; рядится Мшанск на праздник, и летят таратайки в червонных межняках, где текут стеклянные дымки и зреет темная сила.
VII
Скучая, глазел Синельников через окно «ресторации» на людную, хмельную толкучку. Уже на вечер перевалило. Появилась новая публика, принаряженная и «расфуфыренная», как лепетал Яша-нежный, подпрыгивая позади тучной аптекарши. Шныряли пиджаки, белые околыши; колыхались от степенного смешка белотелые купчихи в тяжелых бархатных платьях, сновали, покалывая всех завистливыми глазками, язвительные чиновницы. И вдруг синий шарф почудился Синельникову в толпе — на черных чьих-то волосах; мелькнуло где-то смешливое, длинноносое лицо исправничьей Эжени, и знакомый трепет подступил к сердцу.
— Не упущу, — вскочил он с места, растерянно слабея, — не сробеть бы только… — и, немного постояв, лихорадочно бросился на площадь.
Гудел народ, голосили шарманки за «ресторацией», неистово ахала гармоника с бубенцами. Пьяным перегаром дыша, теснилась толпа к каруселям, гоготала у балаганов, где на подмостках расхаживала певунья Маша в бисере и с голыми ногами. Похмельем голову крутило, кружило от гама, и с куполов иноческих глядел на торжище дремотно-золотой закат.
— Лиза, — позвал Синельников, разминая толпу локтями.
Княжна, стоявшая у карусели, оглянулась, полупечальная усмешка осветила ее лицо. Синельников поздоровался, и от нахлынувшей неловкости и тайной боли опять смутно стало на душе…
— Ну, что же, — развязно обратился он к исправничьим дочкам, — идемте на качели, господа! У нас все катаются, стесняться нечего.
Эжени радостно захлопала в ладоши, и компания расселась по качелям.
Легок и бесшумен влет их под неуемные крики «ой-ры», под заливчатый звон бубенцов. Порывистей все тянул веревку Синельников, взмывая вместе с Лизой над кипучей толпой, над огнями, над вечерней далью. И снова падали в бездну, светлую от фонарей, где ждали выкрики польки и чьи-то голоса, чтоб оглушить на миг и вдруг провалиться…
Как отблеск далеких пожарищ, темно-красный догорал закат. Громадным тускнеющим заревом лег на низины, стекал за поле мутным багрянцем. Мирно, грустно стало. Словно догорели свечи земного пира, гаснут, а там, в выси, сияния иного праздника…
— Только не уезжайте, Лиза, — бормотал Синельников, задыхаясь от лихорадочного лёта и близкого тепла ее ног. — Что хотите, я все могу для вас… Ведь вы знаете…
— Ах, останусь, боже, — закатилась княжна искренно, откинувшись даже назад от смеха. — Право, с вами не скучно! Ну, сделайте что-нибудь интересное… Идемте за ним, господа, — обратилась она к спутницам.
Вся компания хлынула за Синельниковым.
— Окрутили молодчика, — ехидно шепнул Яша-нежный аптекарше, — он для прогоревшей княжны отца родного не пожалеет, завинтит почем зря!..
Подошли к «ресторации».
— Эй, хозяин! — крикнул Синельников. — Есть у тебя что-нибудь почище?
— Пожалуйте, пожалуйте, — засуетились половые, — для благородных у нас завсегда отдельная есть, вот сюда-с!
Появились еще Сеня Колпаков с Агничкой. Гости, смеясь, расселись в палатке, щелкнули пробки дурного шампанского, которое Миша Белый всегда имел про запас для почетных гостей. Податной встал и произнес тост в честь «Меркурия и Венеры», которого, однако, никто не понял. Лишь Агничка захлопала в ладоши, но сейчас же, покраснев, умолкла, видя, что не к месту.
Княжна дотронулась до шампанского.
— Гадость, — произнесла она, капризно кривя губы, но выпила все. Синельников сидел с ней рядом и пил коньяк.
— Иван Егорыч, — обратилась она к нему, — ведь вы все можете, почему же нет музыки? Я хочу музыку, вообще, как вы кутите, ну!
«Дурень, что я не догадался, — мысленно упрекнул себя Синельников, — куда ни шло, две тысячи в кармане есть», — и тотчас же послал к Нечаеву, чтоб тот привел музыкантов.
— Полсотенной, говорят, будет стоить, — почтительно нагнулся к его уху половой, — отказать прикажете или позвать?
— Знаю, к черту! — крикнул Синельников, уже захмелев и как бы неуклонно катясь куда-то. — Тащи, говорят!
Грянул победоносно в дверях «Героический марш»; как вчера, сбежался народ, полез, заглядывая в щели.
— Богач какой-то, — гуторили за дощатой стеной, — бают, весь балаган скупил и всех девок. И барышни-то, благородные, а винцо стаканами покидывают. Весь стыд потеряли!
— Ну, веселее, что ль, пейте! — стукнул по столу бокалом Синельников, — все в мою голову! Эй вы, трепачи, — крикнул он на музыкантов, — ловите! Да учудите что поблагороднее, что вы как нищего за волосы через каменный мост тянете!
— Ах, дикий, дикий, — закачала головой княжна, когда кредитки посыпались в музыкантов. От хмеля еще больше отуманились глаза ее и порозовело смуглое лицо. А Синельников неотступно глядел на тонкий профиль, на приподнятую, будто испуганно, бровь, и несвязные мысли бередили сердце.
— Однако братец у вас, — обратился Колпаков к Агничке, — самородок! Часто это с ним бывает? — И потянулся за бокалом, улыбаясь Эжени, пьяно разболтавшей ножками под столом.
— Княжна, — заговорил под шум голосов Синельников, — а все-таки у вас совсем жалости нет, вы лишь смеяться любите!.. Вот вчера — вы и не чувствовали, а ведь здесь наболело уже, я только сказать не сумею… Э, какого черта! — крикнул он опять, разбив даже бокал о стол. — Пейте, я запросто, сердиться тут нечего!
— Вы мне платье пачкаете, — усмехнулась княжна, — но это ничего. Мне нравится такой, как вы. Вы были смелый тогда, утром, а вчера сами не захотели настаивать.
«Эх, дурак я, — опять досадливо мотнул головой Синельников, — говорил Яша, с бабами смелость нужна, а я сдрейфил, дурень!» И даже плакать захотелось оттого, что стерлась вчерашняя тоска.
— Ну, гулять так гулять, — размашисто встал он из-за стола, — идемте на карусель. Музыка, завинчивай, но!
Мимоходом он поймал Яшу-нежного у «ресторации» и, отведя в сторону, что-то шепнул. Тот согласливо кивнул головой, скользнул к сторожке, сел на велосипед и заработал ногами — в Мшанск, на лошадный двор.
А разгулявшаяся «аристократия» спешила к каруселям. Синельников на весь вечер скупил коней у Бычкова.
— Валяй без роздыху, — кричал он вертелыцикам, — сыпь вовсю, на, получай!
Только когда исправничьи дочки взмолились, чуть не плача, остановилась безумная карусель. Пошатываясь, сошла публика с коней, а Синельников тащил ее дальше к балаганам, слушать певиц.
— Молодчина, купец! — кричал ему народ, — поддавай пару! — Пьяный Гвоздарев, который бродил где-то подле, полез было к нему целоваться, но не протиснулся сквозь толпу и упал.
Купцы расторговались, потянулись опять к сторожке провожать доходный праздник. У каруселей зажглись бенгальские огни; в феерическом зареве сновали парни, уже подвыпившие, усмехались приветливей девушки с утомленными за день глазами. Прозрачно-цветное кружево бисера сверкало в темно-синем сумраке тысячью переливчатых очей…
Долго прыгали певицы, и Синельникову уже невмочь становилось ждать. Хмельная кровь забурлила в нем, сердце забилось жарко от исступленного нетерпения. В это время Яша-нежный показался опять и многомысленно подмигнул ему издали.
— Княжна, мне надо вас на минутку, — позвал Синельников Лизу, торопливо и тревожно потянув ее к выходу, — отойдемте туда…
А за балаганом задорная тройка с вязаными бубенцами рыла копытами землю. Синельников неожиданно обхватил княжну и бросил в тарантас.
— Пошел! — крикнул он хрипло, ударив вожжами. Кони сорвались, взвивая пыль, пролетели сквозь пьяные крики, гудение и визги «ой, задавили!» и вынесли тарантас на мягкий большак, к казенному лесу.
VIII
— Почему вы молчите? — наклонился Синельников к Лизе, которая закрылась шарфом и не двигалась, — Лиза… — боязливо и как-то настойчиво повторил он. — Ведь вы сами довели меня до этого, я не мог по-другому…
— Вы не смеете! — встрепенулась вдруг она, гневно отталкивая его руку. — Что это? Сейчас же назад, слышите?
— Но ведь вы меня с ума свели, — припал он к ней, захлебываясь, — вы видите это теперь! Я готов себе голову сломать, мне ничего не жалко, а ведь вы только засмеетесь, Лиза! Я не могу без вас; ну, не покидайте меня, полюбите! Я один, папаша мне все откажет… мы уедем далеко, куда хотите, Лиза!..
Ветер сумеречный дышал в лицо. И будто унылый мотив звучал вблизи, как вчера, когда, захмелев, глядел Синельников на олеографию, где мчалась по снегам неведомая тройка. Еще более чужая, чем в мутных мечтах и терзаниях вчерашней ночи, льнула к плечу Лиза, словно ослабевая обморочно. Темные равнины плыли по сторонам, дремотно голубея от лунных сумерек…
Лиза молчала, поникнув. Синельникову чудилось, что у нее надменное обиженное лицо, что она хочет встать и уйти от него, но у нее нет сил.
— Ах, все равно теперь, пропадем вместе, — почти простонал он и, опрокинув ее на себя, поцеловал жаркие дрожащие губы. — Нет, не уйдешь, — повторял он злобно, чувствуя, что она вырывается и бьется у него в руках, и, притиснув ее к стенке экипажа, дернул в сторону вожжи.
Лошади шарахнулись, тяжело припадая к земле, неслись куда-то под уклон. Тревожно визгнули бубенцы, тарантас беспокойно закачался и запрыгал. Бросив фуражку, Синельников свалился, как пьяный, на дно экипажа, а впереди, под скатом, тускло зачернел овраг.
— Сумасшедший! — вскочила, задыхаясь, Лиза, — пусти!..
Где-то нашла спутанные вожжи, откинулась назад. Выпирая груди и хрипя, тройка осадила и усталой рысцой повернула к дороге. Лиза, вздыхая, провела ладонью по лицу и опустилась рядом с Синельниковым.
— Глупый, глупый, — протянула она, гладя его, как ребенка, — ну зачем так! Ну, я останусь сегодня с тобой… Встань… Завтра меня уже не будет здесь… Иди ко мне, мой милый, глупый!..
— Лиза, — отстранился тот, вздрагивая плечами, — без вас я буду несчастным, я буду всегда думать, что другие целуют вас, и вы вот так…
Она не дала ему договорить. Притянув к себе его лицо, еще влажное и строгое от слез, она долго и жадно глядела в него и вдруг прижалась больно раскрытым опьяненным ртом…
— Выходит — ночь да наша! — невесело усмехнулся Синельников и встал, пронзенный желанием забыться от щемящей тоски и пьяной горечи. Он злобно хлестнул лошадей. Тройка поднялась и рванулась дико — в Симбухово, к знакомой шинкарке, что ведала все тайны разгульных мшанских богачей…
А под горой, в венке живых огней, остались шумные беснования и клики. У балаганов плясали клоуны, прыгали карлики, визжали разряженные нахальные певицы. Проливались бессменные мерцания цветных огней, крутились пылающие шатры каруселей. Гудящие толпы, рождая за собой фантастическую пляску теней, проходили по ярким площадям.
Уже кое-кто укладывался; начинали скрипеть возы за мостиком, пьяные ватаги брели по лужайкам к Мшанску. В сторожке, потрясая стены, гремел любимый купеческий марш. Прохожев, безуспешно увертываясь от тесных объятий Гвоздарева, подыгрывал на гармонике. Тускло чадила лампа на столе, уставленном бутылками.
Как призрак из древних сказаний, строго и грустно очертилась волнистой линией куполов темная обитель. Померкли сияния в окнах, устали гудеть колокола. И за ней, над стылой русалочьей заводью и над садом вечного успокоения, опять плела сладкие тенета душная праздничная ночь.
Но за Знаменском где-то шла туча, ветер крепчал. Бабы, дожинавшие рожь, в потемках лезли под телегу, крестясь:
— Дай-то, господи, вёдром по жнитву, частым дождичком по посеву!
Из-за черных перевалов шумела гроза, слабые листья бежали впереди, шурша по-осеннему. Пьяные сваты, вповалку возвращавшиеся с ярмарки на скрипучих возах, поднимали осовело хмельные головы и вглядывались в темь.
— Никак залюлаживает… Яровому теперь крышка, а там озимое поднимать… Время-то идет, ох-хо-хо…
Ударит к заре ливнем по монастырской площади, и все, что останется еще от буйного гульбища — солому, тряпки, черепки, — все снесут кипучие ручьи в овраг… Нельзя будет выйти за ворота из обители, пустынями лягут вокруг колеистые поляны и туманные пажити, и лишь Мшанск просверкает в сумерках издали скучными огнями…
ГОСТИ
I
Акимовна говела уже четвертый день. Говела по-старушечьи — истово и строго: поднималась до зари, простаивала на коленях утреню и обедню, припадая подолгу к полу лбом, а питалась только хлебом да квасом.
В трехцветные окна сверху лились лучи, бирюзовые и алые, алтарь был полон солнца и синего дыма, и под тихое пение клироса Акимовне казалось, что кто-то ласково и дремливо баюкает ее старушечью душу…
В прежние годы думалось Акимовне, что хорошо бы вот так умереть, исповедавшись и причастившись. Телу легко, а на душе ни помыслов земных, ни грехов. Обрядили бы ее, спокойную, в чистую холстинную рубаху, положили в свежую домовину, от которой попахивает еще родимым леском и смолой, и там где-то встретил бы ее такой же тихий и светлый весенний день, как на земле.
Но теперь этого не было. Как-то робко хотелось пожить еще немного, хоть до того дня, когда кончится все это страдное время, взглянуть еще раз на своего Сергуньку, ушедшего в чужие-дальние края…
Проходило облако, в алтаре гасло и опять вспыхивало скользящим солнечным трепетанием. И, как плавное облако, струилось с клироса тихое пение.
— …Заступница, мати пресвятая, — снова молилась Акимовна и тусклыми слезящимися глазами тянулась куда-то в древние лики, в золотые блесни. — Заступись и помилуй, сохрани воина Сергия от врага, от супостата страшного…
И опять припадала к полу.
За церковными окнами стоял, верно, яркий и ветреный день. Над уездным городом неслись облака, по-вешнему налитые солнцем, дальние озими играли холодной белизной снегов и кое-где, по черным проталинам, курились сизоватым дымком. Невольно представилась Акимовне родная изба в крайней слободе, у самой росстани: большак Василий с утра уехал с подводой в губернию, сноха хозяйничает, наверное, у печки и носится с горшками, а малолетний Гринька мастерит что-нибудь — кабы еще о ножик не порезался или мазанку не запалил…
— О господи, — вздыхала она, отгоняя смущающие мысли, — грехи тяжкие… — А бабье болящее сердце опять тянулось к родному, испокон привычному углу.
От избы мысли незаметно перескакивали на Сергуньку: обедня долгая, обо всем сто раз передумаешь. И сквозь полудремоту виделся старухе сын в серой шинели и чужие-дальние края, похожие на зимние темные степи: идет по ним Сергунька, веселый, краснощекий, в картузе набекрень, а из темноты выскакивают супостаты, точь-в-точь как на картине страшного Суда, что висит в притворе — черные, голые и с пиками…
— Австрейцы… — выплывало откуда-то мудреное зловещее слово, и Акимовна, испуганно моргая, крестилась. — И как только господь такое злое семя на земле терпит!..
А весенний день искрился в темной позолоте икон, в паникадилах и темных ризах, и светлые пылинки гурьбой танцевали в косом луче. Обедня подходила к концу, народ задвигался и загромыхал тяжелыми дверями. Вольным ветром пахнуло оттуда, холодноватыми талыми улицами. Встала и Акимовна, расправляя затекшие ноги, и, немощно опираясь на костыль, подошла к иконе приложиться.
В притворе оглянулась еще раз: хотела было перекреститься впоследок, да народ, валом поваливший из дверей, затолкал, замял, креста не дал сделать. Нечаянно глянула Акимовна вбок: по всей стене разлилось языками красное, мрачное пламя, и в него, подпрыгивая, летели те, черные, голые и с пиками…
— Сохрани, господи, — пробормотала она и бочком, опасливо, выплелась на паперть.
II
На базарной площади стояло великое смятение. У красных лабазов большой необычной толпой сгрудился народ, колыхался волной, шумел и галдел на разные лады.
— Австрийцев привезли!
От лавок вываливали грузные купцы в поддевках и картузах до ушей, тороватые молодцы в белых фартуках, мальчишки; все жадно тянули шеи к толпе и выспрашивали:
— Где, где?
Более нетерпеливые срывались с места и бежали к лабазам.
— Дай-кось хоть одним глазком погляжу!
— Да что смотреть: люди как люди…
— Эва, какие шапки-то на себя напялили: чисто шуты!
— Истощалый народ!
Акимовна хотела сначала пробраться где-нибудь сторонкой: упаси бог увидишь что-нибудь страшное, еще ночью будет бредиться, покою не даст. Однако любопытство так и толкало в самую кучу: те самые ведь, на которых Сергунька пошел…
Тихонько покашливая, раздвинула она толпу, которая сама подалась перед старухой, а сердце у нее так и толкало, так и толкало, будто в холодную воду лезла.
Но, к удивлению Акимовны, страшного ничего не оказалось: на бочонках и на розвальнях сидели люди в светлых шинелях и высоких круглых картузах, похожих на гречишники, а сзади стояли конвойные с ружьями. Люди посмеивались, разговаривали с народом и солдатами и курили папиросы. В сторонке приютились двое, тоже в светлых шинелях, и один из них, черномазый, чем-то походил даже на Сергуньку.
— Что же, это самые австрейцы и есть? — ласково и недоверчиво спросила Акимовна конвойного.
— Они самые, — кивнул солдат.
— Ишь ты! Как есть наши мужички…
Она обернулась к пленным и опять впилась в них жадными глазами: надо было все высмотреть да выглядеть, чтоб потом пересказать у себя на слободе. Австрийцы совсем не были похожи на тех, какими она себе их представляла. Усы, борода — все было у них благолепно, «по-хрестьянски», а не рогом, как у тех, черных, и лицо белое. Особенно заинтересовали ее двое, что сидели в стороне, рыженький и черномазый: оба посинели, дрожа от холода, и потирали руки, а у черномазого сквозь чудные, перетянутые ремнями сапоги выглядывали голые пальцы. Он заметил, что старуха пристально смотрит на него, и жалостно улыбнулся. И от этой улыбки у Акимовны что-то мутно защемило..
— Продрогли, смотри, вон энти-то, — легонько толкнула она конвойного. — Аль холодная дорога-то?
— По степу ехали, — ответил тот, скручивая цигарку. — Известное дело.
Акимовна покачала головой и о чем-то задумалась.
— А у нас, служивый, баньку нонеча топили, — несмело произнесла она. — Исповедаться я завтра собираюсь, вот баньку-то и заготовила. А ты вот что, служивый: коль начальство отпустит, приходи попариться, и вон этих двоих приводи. Назяблись вы, я вижу…
— Спасибо, бабынька, — обрадовался солдат. — Баньку неплохо бы. Коль раньше вечера воинский дела примет, придем.
— Приходите, приходите, — закивала Акимовна. — У нас банька теплая, большая. На Красной слободе спроси Михеевых, тебе всякий покажет. И энтих приводи!
— Ладно!
Акимовна взглянула еще раз на светлые шинели и, горбясь, поплелась домой. И всю дорогу гнела ее какая-то дума, смутная и жалостная, и улыбка черномазого, похожего на Сергуньку, не выходила из головы.
У избы встретился ей Гринька, радостно разомчавшийся навстречу. Акимовна потрепала его по щеке, побранила, чтоб не шлепал зря по лужам. Потом прошла в горницу, сняла парадный черный платок, помолилась на образа и сказала:
— А у нас ноне гости будут.
III
Самовар у Михеевых большой, двухведерный, да давно не чищенный, даже зеленью подернулся. Да и когда чистить: ставили его только по воскресеньям и большим праздникам и еще в минуту какого-нибудь особого торжества; а чтоб по будням баловаться — редко приходилось. Теперь самовар, вытащенный из пыльного закута, шипел, потел и переливался на разные лады. Присматривала за ним сама Акимовна: то подует, то углей подбросит. Непутевый Гринька вертелся подле, заглядывая в огненные щелочки, и надоедал разговором:
— Бабынька, а Санька попов говорил, что австрейцы котов жрут, правда?
— Отстань ты, баламутный!
— Как же, бабынька, солдаты они, а пушки у них нет! Где же они пушку оставили?
Бабынька утирала фартуком лицо, глядела на бегающие сквозь дырявую трубу огоньки и думала вслух:
— Може, и про Сергуньку-то они что слыхали. Чай, видели его там, в своей стороне-то. Как он, болезный?..
— Где увидеть! — отозвалась сноха, звеня чашками в передней избе.
— Тыщи там, сказывают, народа-то, разь увидишь!..
— И то…
Дверь распахнулась, закудрявился облаком пар, подернутый закатной алостью, и сквозь него проглянуло усатое распаренное лицо конвойного и два серых высоких картуза.
— Вот и попарились! — произнес солдат, отдуваясь и постукивая сапогами. — И немчуру, бабынька, вымыли! Спасибо за баньку: такое добро!..
— Не на чем, — сконфузилась Акимовна и торопливо бросилась к буйно расхлеставшемуся самовару. — А вы проходите, служивый, вон туда в горницу, чайком маленько побалуетесь. Оно хорошо после баньки-то. Только уж не обессудьте…
— Это очень даже можно! — крякнул от удовольствия солдат. — Ну-ка вы… поворачивайтесь!
Австрийцы переглянулись и, сняв картузы, на цыпочках прошли в избу. И оттого, что они сделали все это как-то робко и смирно, они показались Акимовне еще обиженней и несчастней.
— Садись, касатики, садитесь, — хлопотала она. — На лавку положьте шинельки-то, вот сюда.
Она налила в чашки жиденького чаю и придвинула к гостям. А сама, подперев щеку рукой, поглядела на них, замигала и кончиком повойника утерла глаза.
— И у меня, касатики, сынок там, младшенькой-то, Сергунька… На масленой весточка от него была: прописал, что с вами, слышь, с австрейцами, воюет.
— Сын есть… — закивал рыженький, обжигаясь чаем. — Сын… понимай!
— Ты говори, бабынька, они маленько смекают, — ободрил ее солдат. — Они вроде из нашенских будут, из славян.
— Поди-ка ты! — удивилась Акимовна, — из нашенских! Не по своей, стало быть, воле на нас пошли… что же, и мамаша у вас на родине-то есть? — спросила она черномазого.
— Мамаш? — обрадованно всколыхнулся тот. — О, я!.. Мамаш и кинд есть!
— Кинд — по-ихнему ребенок, — пояснил солдат.
— Ребенок, поди-ка ты! Молоденькие какие, а уж женатые! А молитесь-то вы как, смотри, вроде как татаре?
— Молитесь как? — повторил солдат и показал на образ. Черномазый виновато улыбнулся и перекрестился.
— Ладошкой крест кладет! — ахнула Акимовна. — В Христа, стало быть, веруете. И говеют эдак же у вас?
Австрийцы не поняли. Солдат тоже пытался объяснить им этот вопрос, но так ничего и не вышло.
Это показалось всем смешным, и даже Акимовна, зажимая ладонью рот, затряслась от тихого, добродушного смешка.
Гринька стоял поодаль и, разинув рот, боязливо глядел на гостей. Потом понемногу осмелился и, подойдя поближе, ткнул потихоньку черномазого пальцем в колено. Черномазый ухмыльнулся и погладил его по голове. Тогда Гринька совсем расхрабрился, начал дергать его за полу, потом примерять картуз с золотой завитушкой, который ему очень нравился, и, наконец, надев его, выбежал на улицу.
— А у нас перед пасхой самая сухота, — словоохотливо жалобилась Акимовна. — Тут тебе и к празднику все обряжай, тут и соху готовь, того гляди, в поле выезжать надо! Большак-то мой теперича в губернию уехал: бакалейщик Хрипунов, значит, за товаром подрядил. Глядишь, все красненькую подработает, а деньги — они ой как нужны ноне, касатики: время чижолое…
Австрийцы внимательно слушали, прихлебывая чай, и кивали головами. И еще много говорила Акимовна — про хозяйство, про сухоту, про Сергуньку, и они все так же кивали, согласливо улыбаясь, хотя, вероятно, ничего не понимали из этих жалобных и монотонных слов. Наконец конвойный допил блюдечко, утерся рукавом и, помолившись, встал.
— Большое спасибо, бабынька, за угощение. А нам и домой пора. Ну, шевелись, ребята!
Австрийцы поднялись, надели шинели, а черномазый растерянно оглядывался во все стороны.
— Аль потерял что? — встревожилась Акимовна.
— Это, — похлопал себя по голове черномазый.
— Шапку? Да ее энтот баламутный, смотри, нацепил! Где он? — и Акимовна торопливо засеменила на улицу.
Гринька в самом деле, напялив до ушей австрийский картуз, храбро шлепал по лужам, а за ним с гиком носились мальчишки и дразнили немцем.
— Ах ты омутной! — затопала ногами Акимовна. — Подай сюда шапку!
Гринька проскакал мимо нее в избу и сунул картуз черномазому, который опять погладил его по голове. Стали прощаться. Гринька повис у австрийца на ноге и не пускал.
— Н-но, Пеганка! Дяденька, а правду Санька попов говорил, что вы котов жрете?
Акимовна кивала черномазому с крыльца.
— Прощевай, прощевай, касатик. Заходи когда, я тебе чулочки поштопаю, ишь нога-то вся вывалилась! Може, и моего Сергуньку на вашей стороне кто пожалеет!
Она вздохнула и постояла еще на ступеньках. Ветер трепал посконный сарафан, выгонял слезы на старушечьи слабые глаза. Посмотрела Акимовна на тускнущий закат: день завтра, по примете, будет погожий, солнечный, и от этого показалось, что и все будет хорошо и Сергунька вернется веселым и здоровым. И как-то легко и чисто стало на душе — а ведь еще и на исповеди не была…
КАЧЕЛИ
I
В апреле как-то приехал Тимоха на поправку в родное село, все такой же могутный и румяный, как и раньше; только рука была на черной перевязи, да на груди сиял беленький крестик.
Всем привез из Питера по столичному подарку, а Насте Мельниковой изо всех — особенный.
Получил он этот особенный подарок от одной, должно быть, очень богатой барыни, которая часто хаживала к ним в лазарет. Барыня была молодая и веселая и очень нравилась Тимохе за свою простоту. Подарок она велела передать жене, а если ее нет… тут барыня так лукаво и хитро заиграла глазами, что Тимоха и без всяких слов понял — кому.
На селе — зазнобой, а по-ихнему, образованному, незнай как прозывается…
И такой диковинный подарок был, что Тимоха, кажется, сам не налюбовался бы.
— Вот, Настасья-то увидит, — заранее восхищался он, — прямо глазам не поверит! С руками оторвет! Ну как же умеют это благородные господа завсегда потрафить: прямо-таки замечательно!
И не чуял, каким злосчастным окажется для него этот подарок…
Настю он встретил в тот же самый день, как приехал — на посиделках. Как увидел в первый раз, так и глаз не мог отвести. Но она почему-то все время хмурилась и молчала: должно быть, расстройство имела тайное, заключил про себя Тимоха.
К делу приступил он не сразу — сначала так посидел, покалякал кое о чем. Потом уже, ловко намекнув в разговоре, что имеется у него один предметик из Питера, очень занятный, вынул из-за пазухи бумажный сверток и развернул.
Парни и девки, собравшиеся на посиделки, как взглянули, так и ахнули.
Действительно, на селе никогда не видали ничего подобного. Во весь рост Тимохин, от самых рук его и до полу, струился великолепнейший газовый шарф, самый тончайший. Вся изба просвечивала сквозь него, словно через золотистое стекло, а в ярких его, переливающихся струях вспыхивали и гасли чудные цветы. И сам Тимоха расцвел весь, расплылся в блаженную улыбку.
— Извольте-с… для вас, — подбоченился он.
Но Настя, вопреки ожиданию, даже не поглядела и только покачала головой.
— Нет, спасибочко. Вы уже лучше при себе оставьте…
— Да вы не отнекивайтесь, — любезно настаивал Тимоха, думая, что она жеманничает только из приличия. — Носите уж, пожалуйста, на здоровьице!
Настя неожиданно рассердилась, отбросила от себя шарф и стала торопливо собираться домой.
— Говорю, не возьму! Вот пристал!.. Не нуждаемся мы больше в ваших супризах…
Тимоха даже оторопел.
— За что нее это так, а?..
Только уж тогда немного и опамятовался, когда Тишка Сычев, закадычный его приятель, отвел его потихоньку в сторонку и там рассказал все подробно.
Даже не поверилось сначала…
Уже больше месяца, оказывается, Настя гуляет с другим, с писарьком из волостного. С тем самым, который еще при Тимохе за ней крутился. И на хороводах и на гуляньях — везде только с ним, а с прежними подругами и знаться перестала. Так разве ей можно от Тимохи подарки брать?
— С писарько-ом! — растерянно повторил он. — Вот оно что!..
Весь этот вечер, до самых поздних звезд, просидел он у себя перед двором на завалинке. И о чем думал, бог весть: так, бессвязное что-то. Как нарочно, девки где-то пели грустное и протяжное; из полей налетал весенний ветер и так лепетал в ветлах, будто там кто-то целовался. Словно праздник у всех был большой, а его, Тимоху, забыли, не позвали…
— Вот тебе и свиделись, — горько бормотал он, роняя голову. — С писарьком… Как же быть-то, а?..
II
Как-то на неделе съездил Тимоха в поле. Уже давно тянуло ко всему этому: к родной полоске, к деловитой поступи лошади, бойко вышагивающей по взрыхленной пашне, к чириканью воробьев в соседнем перелеске. Еще там, где-то на далеком и чужом поле, ощутил он однажды эту острую и жадную тоску по земле: когда рыли окоп и от черных комьев земли потянуло особым прелым духом, живо напомнившим родную борозду.
Да и надеялся: забудется, быть может, немного за работой…
Однако дело шло вяло, рука как будто немного подзуживала, и не радовали даже, как всегда, сочные, глубокие борозды, ровно ложившиеся из-под сверкающего лемеха сохи.
«Бросить все это ко псу, — текли бессвязные мысли, — и в город… Там в швицары лучше определиться, аль куда… Да, ведь, здесь теперь только мука-мученская!..»
Самой неотвязной мукой было то, что все время только и думалось об этом коварном писарьке и о Насте: даже по ночам не спалось. А в прошлом году что в эти ночи было! Помнит Тимоха, как гуляли они с Настей на свадьбе у старшины и как однажды, когда вся родня перепилась и с дребезгом оттопывала плясовую, Настя неожиданно обняла его в темных сенях и прильнула к нему невидимыми губами…
Как будто совсем недавно это было!
Тогда и писарек этот за ней тоже бегал. Сам щуплый такой — до плеча Тимохе не достанет, весь в прыщах, а к девкам лезет за первый сорт. Должно быть, думает, что на его котелок и цветной жилетик польстятся. Однако Настя тогда на него и глазом не вела…
Тимоха вытирал пот и останавливался.
«Какого бы это мне хорошего человека спросить: нешто правильно, чтоб девку у того отбивать, кто кровь свою за вер-отечество проливал? — Он задумывался и крякал. — Проучить бы, по правилу, за это следовало!..»
Вечером, после ужина, выплелся опять ко двору: так уже привык просиживать здесь до самого полегу. Над соломенными крышами собирались сумерки, как всегда в апреле — теплые и прозрачные, с голубой звездой над колокольней; по завалинкам мирно гуторил народ; на лугу толпились девки и парни, смеясь и повизгивая, — только одной Насти не было видно: должно быть, гуляла с писарьком отдельно.
Подошел откуда-то Тишка Сычев.
— Ну, что сухарики-то сушишь, еро-ой! Пойдем лучше в луга, к барышням. И шту-уку я тебе одну расскажу: помрешь!
— Не хочется что-то, — лениво пробормотал Тимоха. — Рука вот того… зудит…
И вдруг вспыхнул: Настю увидел.
Они проходили с писарьком совсем близко, по дороге. Гуляли, как господа какие, которых видел Тимоха в большом городе — очень вежливо и под ручку. Настя держалась гордо и стройно, а писарек, избоченившись, прилегал к ней плечом, вертел тросточкой и лебезил.
— Это все-с смотря по воспитанию-с, — играл в воздухе его слащавый тенорок. — Какие же, к примеру, в чумазом мужике-с могут быть чувствия? Я человек-с нежного воспитания, у меня и чувствия деликатные. Я вот когда в городе жил, такие-с стишки излагал, что за мной, может, две миллионные купчихи бегали…
Тимоха поглядел ему вслед и сморщился.
— Прямо видеть я его не могу!.. Хуже поганого татарина он мне! Нет, беспременно надо в город закатиться… Там меня, с крестом-то, в швицары везде — за мое удовольствие! Мочи моей больше нет…
Он тряхнул головой.
— Такое у меня зло! Подложил бы я ему штуку на прощанье…
— Штуку? — радостно подхватил Тишка.
На селе он слыл за первого озорника, и мысль о какой-нибудь «штуке» всегда была для него самой приятной. Тем более, что на писарька он тоже имел свой зуб.
— Штуку-то? — погрозил он кому-то пальцем. — Погоди, мы ему подстроим!
III
Действительно, штуку они подстроили — и такую необыкновенную, что все село ахнуло.
В воскресенье на селе самое большое гулянье. В поле не выезжать — хочешь, на печи целый день валяйся, хочешь, к околице ступай с парнями и девками в игры играть. Девки там в праздничных ярких сарафанах, набеленные и насурмленные, платки цветистые, как жар горят; парни в лаковых сапогах и новых поддевках — позванивают гармошками, перемигиваются…
Но самое главное веселье — у качелей. Еще издали слышны там охи и визги: то платье яркоцветное взметнется в вышину, то ухарская копна кудрей и пунцовая рубаха. Стонут ветхие скрепы, визжат кое-как ввинченные кольца, но парням все нипочем: лишь повыше бы занести зазнобу!.. Подошли и Настя с писарьком.
— Может, желаете прокатиться? — галантно притронулся он к котелку.
— Пожалуй… — конфузливо согласилась Настя.
Она села боком на доску, писарек встал на конец. Тросточку он повесил себе на локоть, а шляпу прикрепил резинкой к пуговице; когда же раскачивал, то дрыгал коленками и вздыхал. Качели чуть-чуть колебались.
— Вы бы пошибче, — сказала Настя.
— Невозможно-с, — ощерился писарек, — у меня в голове кружение-с. Да и к чему зря руки-то вихлять!
Вдруг из-за угла показался Тимоха с приятелем. Тишка нес под мышкой гармонику, а солдат был в одной рубахе и уже без перевязи. Оба поглядели насмешливо на писарька и перешепнулись, Настя почему-то встревожилась.
— Прохор Иваныч, — дернула она боязливо писарька, — давайте слезем, а то кабы вон энти…
Но не успела она и ступить на землю, как произошло что-то совсем неожиданное. Качели вдруг сильно дернулись, Тишка моментально очутился на ее месте, Тимоха — на другом конце, и писарек, побоявшийся сразу спрыгнуть, взлетал уже вместе с ними вверх.
— Ах, фулиганы! — закричал он, впиваясь дрожащими руками в веревки. — Да как вы смеете!.. Пустите сейчас же!..
— Вот и возьми его за рупь, за сорок! — насмешливо подмигнул зевакам Тишка. — Ему же удовольствие делают, а он ругаться!
Качели безостановочно скрипели и махали все выше и выше. Рубаха у Тимохи вздулась парусом, лицо побагровело от напряжения. Тишка заломил ухарски картуз и сыпал на гармонике плясовую, а внизу грудился народ и гоготал.
— Караул! — кричал писарь, приседая к самой доске. — Православные… Убива-ают!
— Солдат, сыпь! — отзванивал Тишка, залетая выше изб. — Зажарива-ай!
Тросточка у писарька давно выпала, котелок сорвался с головы и теперь летал за ним на резинке туда и сюда. Сам он изогнулся в три погибели и жалким, перекошенным от ужаса лицом смотрел на толпу. Теперь он уже не кричал, а визжал каким-то нелепым, режущим визгом, как визжат девки, когда их нечаянно напугают. А качели все сильнее и сильнее, каким-то стонущим вихрем, рвались ввысь и повисали там стоймя — вот-вот шарахнутся через перекладину.
Сбегались со всех сторон мужики, галдели и посмеивались потихоньку в бороды. Ребятишки мчались по селу и горланили:
— Тятька, мамка, скорея-а-а! Солдат писаря закача-ал!
Наконец качели начали понемногу сдавать. Тишка откинул гармонику и заскреб ногой по земле. Писарек кулем свалился с доски весь зеленый.
— Ответишь за это! — с плачущим визгом налетел было он на Тимоху. — Я, брат!.. — Но, не докончив, отвернулся вдруг и, схватившись за горло, побежал куда-то в переулок.
— Замутило, — соболезнующе покосился вслед ему Тишка. — Настенька, догони кавалера-то, а то, неравно, ноги где протянет!
Настя стояла поодаль бледная, с закушенными губами и молчала.
— До-виданьица! — крикнул ей Тимоха, уходя за Тишкой. — Лихом не поминайте, Настась Петровна! Нонче в город закатимся, больше глаза вам мозолить не станем. Адью!
* * *
А вечером как-то само собой случилось, что в город Тимоха не пошел, а пошел в хороводы, в сумерках зазвеневшие и зашумевшие по церковному лугу. И еще случилось так, что, когда он увидел там Настю, стоявшую одиноко в сторонке и глядевшую на него не то грустными, не то пристыженными глазами, — то просто, без слов, подошел к ней и, опахнув широкой полой поддевки, повел сам не зная куда, в тихие улицы…
Настя стыдливо закрыла лицо платком и прижалась к его плечу.
— Может, к писарьку пойдешь? — не то насмешливо, не то ласково спросил Тимоха. — Очухался уж, чай, ждет…
Она с грустной укоризной повела на него глазами.
— И не стыдно смеяться-то? Ведь дурость это бабья была, затмение одно… Словами он меня заговорил! Разь я могла его всурьез полюбить…
Она брезгливо искривила губы.
— Эдакого-то!..
Тимоха притянул ее к себе за плечи и строго посмотрел в лицо. Глаза были большие-большие и темные от луны, губы и обиженные и просящие. Совсем как той далекой весной… Он покачал головой и рассмеялся.
— А подарочек энтот… носить будешь?
— Буду, — застенчиво потупилась Настя.
— Ну-ну!.. Любите вы над нашим братом поизмываться! А я вот не могу… не держится во мне это зло!.. Куда же теперь — в хороводы, что ль?
Но пошли не в хороводы — как-то не тянуло идти на люди с этим сладким, нежданно нахлынувшим счастьем, а к далекой околице, где медленно поднималась из сумерек большая луна. Туда поманило вольным полем и серебристыми бликами света, зацветавшими по траве.
И еще — высились там в сумерках черным остовом веселые качели.
УЕЗДНАЯ ЛЮБОВЬ
I
В бездельное время сидел Маркияша у окна номеров «Гвалдаквивир», расставив кривые драгунские ноги и поплевывая семечки в ладонь. Через запавшие скучно глаза входило в него одно и то же: плакучий забор с лоскутом афиши, ветла на бугорке и под ней рыжая собака, свернувшая хвост от жары; за забором же голубел воздухом приречный выем, от которого виднелись лишь вершины ветел, лежало солнечное золото нив и огромное надо всем небо.
Все это входило в Маркияшу неосмысленно, по-собачьи, оседая мутно куда-то на дно, а поверху текли лениво мысли о житейском: о двенадцати целковых жалованья, от которого трудно сколотить капитал для женитьбы, о том, что хорошо бы поступить половым в «Веселую долину», где сверх месячных жирно перепадает на чай… и о многом еще, таком же привычном, думал он, пока, наконец, не усмехался и тонкой, приятной болью не выплывал откуда-то Поленькин образ.
Ее, модистку Поленьку, представлял Маркияша не иначе, как сидящей у окна в осенний, багряный и ветреный вечер. Опершись на голые локотки, полными слез глазами смотрит она на убегающую тройку, за которой ветер гасит бубенцы, и ветер холодный дует из голых полей, гоня серые тучи, чтоб завтра заморосил с утра тусклый дождь, а где-то в каморке сидит он, Маркияша, и мутно мучается от сумерек и подпевает гитаре: «Что так жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг…»
Вспоминая, вздыхал Маркияша, хрустел пальцами и, нехотя взяв зеркальце со стены, начинал подолгу вглядываться в него, щуриться и подмигивать. Но все так же жалостно глядело оттуда кроткое скуластое лицо, похожее на обезьянье, и мученически запавшие глаза; прельстить было нечем, и, виновато оглядевшись, он откладывал зеркальце и опять вздыхал:
— Утром, когда умоешься, еще румянец играет, а теперь нет ни пса… Ну разь полюбят такого?..
А кругом нескладно все, неуютно: кривые диваны с вихрами мочалы, кресла раскорякой, засиженное мухами трюмо и пол, заплеванный до неприличия: сам нее Маркияша и заплевал от скуки. Где-то храпел молодой Скурлатов, хозяин, приехавший утром с далекой ярмарки; в смрадной боковушке, с красными шторами и красными лампадами, сидела на постели тучная параличная Скурлатиха, уставив куда-то мутные глаза, и жевала пастилу; под осклизлой же загаженной лестницей, в подвальной кухне, где стояли вечные потемки и шумно кишели мухи, обжигая лицо, спала на печке стряпуха Машка, свесив через край толстые голые ноги.
— Дрыхнут, как псы какие, — уныло злился Маркияша, шаркая по пустым горницам. — К вечерне уже звонят, хозяина, что ль, разбудить?
Скурлатов, по-всегдашнему наездом заглянувший домой, спал по бродячей привычке своей как попало: смостив наскоро стулья вместо постели и разбросав рядом пустые пивные бутылки, манжеты и коробки из-под консервов. Клочок хищной кипучей жизни заглянул с ним в сонный «Гвалдаквивир». И та же беспокойная жизнь, вероятно, кипела и цветилась теперь под неплотно сжатыми ресницами: гул ярмарок, тонконогие рысаки, танцовщица Гильда, протягивающая из огненных блесток руку с бубном и яркие губы сквозь кафешантанный угар, и визг сумасшедших скрипок, и опять качалка вагона, уплывающего в теплую ночь, зеленые огни…
— Захар Петрович, — боязливо просунулся в дверь Маркияша, — четыре пробило-с, разбудить велели! Хозяин, а хозяин!
— Ну, — поднял тот бритое осовелое лицо. — Ну, слышу! Четыре? Ты, слышь-ка… квасу!
Маркияша, суетясь, замахал локтями под лестницу и, подбежав к печке, хлестнул Машку веником по голым ногам.
— Ты, баронесса… Что тебя не добудишься, че-орт! Беги за квасом, хозяин требует, жив-ва!
— Чу-у, — вскочила та, протирая дурные глаза, — да что ты все шырком да пырком, дурашный! Ишь развоевался… воин поганый!
— Ну, ты!
В раскрытые наверху окна летел звон; Скурлатов сидел уже на столе, скрестив ноги и пуская блаженно дым полными губами, и ветер, похолодевший от реки и закатных полей, отрадно обдувал распаленную налитую шею.
— Как тут у вас? — пробасил он Маркияше. — Ничего?
— Намеднис настройщик фортепианный останавливались, — вздохнул Маркияша, — пьянствовали. Потом подрядчик из Махаловска. Потом барин прогорелый, кой прошлый год с девчонками зеркало разбили, Дубецкий. Тоже пьянствовали и в банчок резались, к им Колька Цыганенок из клуба приходил.
— Опять крап подавал? — нахмурился Скурлатов. — Смотри… ты!
— Никак нет-с, это тогда затмение вышло… А как барин проигрались, то наскандалили и денег не заплатили… Со стряпухой тут разные безобразия отмачивали…
— А у тебя что руки дрожат? Иль гульба здоровая была?
— Гульба, — презрительно усмехнулся Маркияша. — Погуляли… по печке затылком. Бросил я эту ерунду, Захар Петрович. Вот вы, чай…
— Да, вчера, понимаешь, — оживился Скурлатов и руку с папиросой восторженно поднял, — вот случай! Ехали, понимаешь, около Сызрани. У меня в соседнем купе новобрачные: генерал, от него уж землицей попахивает, а она, понимаешь, кругленькая, молоденькая, кофточка сквозная — мурмуленок! Ночью прохожу я по коридору, гляжу — дверь открыта: генерал вынул зубы, в стакан их — цок! а она стоит у окна, приклонилась вот так и поет, очень грустно. Я спросил что-то, потом вздохнул, конечно, тихонько так за локоток взял, гляжу — улыбается и слезы на глазах. Ну, и пошло… Утром распростились, понятно, адресок она дала — приезжай, говорит, в Москву, там непременно встретимся. И вот еще одну штучку…
И Скурлатов поднес к глазам Маркияшиным изнеженный розовый палец, показывая тонкую золотую змейку, в коронке которой тлел кровяной рубин.
— Занятно, — хмыкнул Маркияша, тронув перстень. — Женский пол, конешно, завсегда слабый.
— А в Уфе-то, — лихо качнулся Скурлатов и, щелкнув пальцами, принялся за новый рассказ. Но на середине загоготал вдруг совершенно неожиданно, загоготал полным нутром, багровея от натуги, и будто не он смеялся, а само выпирало из него грузной силой и озорством, и Маркияша, прижав почтительно ладонь ко рту, отступил даже: так дико показалось.
«Вот жеребец ногайский, — подивился он, и внезапно боль какая-то полыхнула из мутных глубин. — А таких ведь девушки милые, несмышленыши, любят, за что?»
Он неловко помялся.
— Вам-с, Захар Петрович, поклон велели кланяться Женя с Устей, наши барышни…
«И Поленька», — хотел он добавить, но вдруг встревожился и мрачно замолчал.
— Ах, это модистки, что ль? — равнодушно кивнул Скурлатов. — Ладно, скажи, что заверну как-нибудь, я простых люблю… Ну, а тебе, Маркияша, как, проходит?
Маркияша совсем застыдился и, ухмыльнувшись в сторону, махнул рукой и вышел.
— Того и гляди, такое ляпнет…
На прохладном занавоженном дворе легла тень, только крыша сарая резко и сонно золотела от заката. Укладываясь, хлопали на насестах куры; с подоткнутой высоко юбкой выбегала заспанная Машка из кухни, с разбега плескала помои в соседскую стену; над крышами захолодала синь, и стояли в вышине торжественные облака…
Маркияша постоял на дворе, засунув руки в карманы, сплюнул. Потом сходил в боковушку свою, где стоял сундук для спанья, табурет и столик, над которым вся стена была улеплена конфеточными бумажками, сиял дедовскую заерзанную гитару со стены и поплелся на задворки.
Там, еще огромнее от темнеющего вечера, лежало бескрайнее небо; обугленная закатом церковь взбиралась в бездонную голубизну за дальним садом; соломенные мазанки, избы, похожие на серо-розовые комья, кудлатые ветлы — все где-то низко, низко приземлилось под голубой водой, вбирая сумерки и готовя ночной уют…
Маркияша присел и, клоня голову набок, тронул струны. Сумеречной грустью загудели они, стеля звуки по темнеющей траве, глухо плакали о том же, о несчастной любви. И мутнело на душе; и откуда-то из темных, больных глубин опять вставали одинокие терзающие вечера, и багряный свет, и тройка, убегающая в закатную степь; и вот путалось все, как от серых грозовых потемок, сливалось в жгучую одну, запойную тоску…
«Что так жадно глядишь на доро-огу…»
И захотелось поверить и верилось почти, что здесь вот, близко где-то, прячется невидимая Поленька, за темным плетнем, может быть; подпершись ручкой, слушает тоскливую песню, и горло теснится от слез: так подошла бы, обняла жалостно, к груди теплой прижала бы наболевшие глаза…
А сумерки густели, дымясь в вышину. Где-то в переулке всхлипнула гармошка, зазвенел женский смех. По улицам догасала оранжевая пыль, взметенная грузным стадом, и девушки, зажимая косынками рты, хихикая и шепчась, спешили к скверу.
Маркияша очнулся, поглядел в небо и встал.
В боковушке затеплил лампу, надел шоколадную клетками пару и под пиджак лазоревую рубаху с белым бантом. Потом, пригладив волосы, собирался еще раз ухмыльнуться себе в зеркало, но в окне стукнули и засмеялись.
— Ага, Сережка с Костькой, — встрепенулся — он, — теперь на Планскую… — И в груди приятно и жутко защекотало.
II
Так давно повелось, что заходили за Маркияшей в сумерках двое друзей, приказчики из потребительской, и вместе шли к модисткам на Планскую.
Впрочем, улица эта называлась еще и Францией, по обилию в ней модных мастерских. Проходя но колеистым буграм ее и лужайкам, где бегают грязноротые мальчишки, видишь направо и налево трехоконные флигельки с сиренью. За цветочными горшками шумит швейная машина, иногда выглянет девушка из окна, проводит рассеянными глазами, перегрызая нить. А в праздник в одном из флигельков загорятся все три окна, и Франция начинает веселиться: гулко топают до полночи, звенят смехом девушки, от дробной польки захлебывается гармошка. Кто-нибудь выходит погрустить к садовому плетню, и над ним тихо цветут недолгие июльские звезды.
На Планской, в голубом флигельке, жили и Маркияшины знакомки: Женя, Устя, Поленька. Если бы спросить Маркияшу об их наружности, едва ли что ответил бы он, так как видел подруг чаще всего в сумерках или ночью. К тому же на рыжую Женю и хохотушу Устю он мало обращал внимания, а когда глядел на Поленьку, конфузливая муть застилала глаза, и помнились только слабые плечи, косы, перекинутые на грудь по хрусткой кофточке с медальоном, и облачные от ночи глаза.
В тихий вечер, когда зажигались редкие огни по Планской, приятели заходили за подругами и уводили их гулять в луга. Впереди выступал Сережка, подцепив Устю, выпятив нарочно грудь и лихо вертя тросточкой. За ним Костька с Женей спесиво задирал подбородок и нарочно подталкивал передних.
— Пардон!
— Какой те кордон, — огрызался Сережка, и Женя кланялась от заливистого смеха, а Устя узила птичьи глазки и хихикала.
Поленька, перебирая скучно цепочку медальона, лениво и легко покачивалась сзади с Маркияшей.
— Хоть бы семечек принесли, кавалеры!.. Не угостят никогда…
— Вам семечек! — с готовностью приседал Сережка. — Я сичас, только на колокольню переобуться слазию, ги-ги-ги!
И Женя с Устей опять рассыпались смехом до одышки.
Мутная улица расходилась в темный прохладный луг, где висел сегодня низкий туман над травою. С реки, где качались забережные огни и брызги звезд, натужно стонали лягушки, из тростников тянуло тинистым сырьем; где-то огонек трепыхал за слободами, в тихом мрачном поле, где-то смеялись хором, и потом стройно пели девки: песня тянулась как туман по земле, утихала, и не то дальше куда-то, в глухие душистые межи, уходил хор, не то в ушах только звенело, как впросонках, тонким обманчивым звоном…
— Мокреть какая, — пожималась Женя, глядя в речные огни, — роса густая, идемте посидим лучше: до луны еще долго.
В улицах прибавилось огней, на бревнах, у завалин, насел темноликий народ и гуторил дремотное. С дороги дохнуло сырой пылью; по тихим переулкам гонялись и лаяли собаки, а вверху путались цепочки бледных звезд.
— Дайте и мне закурить, — сказала Поленька Маркияше. — Ну, расскажите что-нибудь, молчит, как в воду опущенный!
— Да что вам… Хозяин вот нынче приехал…
Поленька затянулась папиросой и вдруг с непривычки затряслась, закашлялась до упаду, схватив Маркияшу за плечо. Он остановился; Поленька часто дышала, улыбаясь, лицо яснело, выступая из темноты, и близкие, сквозь запах пудры, совсем близкие увидел он глаза, немного опьяненные, и темный крестик рта.
— Прошло… А вы все вздыхаете, ну, о чем же, Маркияша?
— Так…
Женя визгнула где-то.
— Желание, желание скорее, девчонки, звезда упала! Ах!
Все замолчали, глядели куда-то: в переливчатые цепи звезд, в темную переулочную тьму…
— Вы что загадали, Поленька? — несмело спросил Маркияша.
— Не успела… Да я и не сказала бы, ишь какой ловкий! Хорошо, например, если б сегодняшний сон сбылся, знаете, мне прямо безумный приснился. Где-то далеко и много костров, Маркияша, и все огни, огни. И потом ракеты разноцветные, прямо безумно, а я в пышном таком белом платье, и. знаете, полковая музыка гремит. и много народу, все такие веселые. Ну, какой-то большой праздник, я не знаю… И все чего-то ждут, и все глядят на меня… А я так и дрожу, а сердце-то, сердце-то у меня замирает, Маркияша! Чувствую, что для меня все это, что сейчас ужасное счастье случится, а Устя, чертовка, взяла да разбудила…
Все сели на скамейку, замолчали, слушая ночь.
Хрупкая тишина стояла всюду, спускаясь от самых звезд. И вдруг звенящий шелест выплывал из-за темного пригорка, стрекотали колеса, перетряхивались бубенцы. Из-за угла вылетала бричка, гоня невидимую пыль, дробным перезвоном ныряя за палисадники, и опять глохли где-то бойкие бубенцы, уносясь в темь и чудясь далеко-далеко…
— В губернию, — сказал кто-то и вздохнул. Вздохнули все, заворошились. Поленька поникла, упершись подбородком в грудь, Маркияша в сладком оцепенении стоял подле, а Сережка балагурил опять, рассказывал страшное и пугал на разные голоса.
— Девчонки, белый кто-то едет, боюсь, — затрепетала Женя, прижимаясь к подруге.
— Это не хозяин ли, — сказал Маркияша, привстав, — он в белой поддевке ходит. Он и есть…
Кто-то, мутно белея, подъехал к флигельку на беговых дрожках.
— Захар Петрович, к нам, к нам! — закричала Устя. — С конфеточками вас! Угостите!
— Ты погоди, француженка, — насмешливо пробасил Скурлатов из тьмы, — я еще поздороваюсь. Ой, какие руки горячие, Поленька! Ну, я на минутку, кто со мной кататься поедет, говори!
— Вы-думал!
Поленька вспыхнула и вдруг, изловчившись, вырвала у Скурлатова сверток со сластями и бросилась бежать.
— А! — зыкнул он горлом и тоже затопал в потемки. Где-то за палисадников нагнал, остановились там, болтая. Поленька тихо засмеялась и вдруг взвизгнула щекотно, отчего у Маркияши уксусом тягучим заныло в груди.
— Ну, кто поедет? В луга? Поленька, хотите?
— Идите вы, щиплется как! Ну отстаньте, говорю…
Но Скурлатов, уже не слушая, цепко схватил ее за руку и тянул к дороге. Девицы ахнули и захохотали, крича наперебой:
— Ну, Маркияша, кавалер, выручайте же! — Тот растерянно моргал, не двигаясь с места. Поленька гневно била Скурлатова по руке, а он, перегнув ее за талию, насильно усадил в дрожки и хлестнул лошадь.
— До скорого свидания!
— Нахал, пустите, — билась Поленька.
Дрожки застучали, скрылись за углом. Но еще ясно было слышно: гудели где-то разговором, рокотал бас и вдруг неожиданно вспыхнул утомленный Поленькин смех. Подруги сели на скамью, а Сережка язвительно фыркнул:
— Проворонил царство небесное-то? Эх, ростепа!
Маркияша улыбнулся, неловко как-то, словно щеки ему свела судорога. Немного посидел. Потом, когда стали все снова собираться в луга смотреть луну, ало всплывавшую из черной горы, простился и пошел домой.
«Какой конфуз, — сжимался он, бродя по пустым улицам, — не надо бы сдаваться, эх, блаженный!..»
Хотел было уснуть в боковушке, но не мог: выбрел опять на волю, где все страстно голубело теперь от луны и пахло влажными цветами из садов. Недавний туманный вечер вспомнился, прогулка, сладкая близость Поленьки и как наклонились близко с запахом пудры и рта озорные глаза…
Вышел в луга; по лунной дорожке, мерцавшей лилово из туманной травы, брели на откос две пары, обнявшись, упоенные, без слов. Так уходили куда-то, в мутное сияние луны; Маркияша глядел на них, потом прилег и охнул, изнемогая от жгучего голодного желания и боли…
Обнять бы в эту теплую ночь, дремать, щекой к теплым волосам…
За откосом застучало: не они ли?.. Переполз, где потемнее, впился в тяжело надвигающееся пятно. Но нет: проплелась пара с подвязанными бубенцами, должно быть, с полустанка, ямщик дремал, поматывая головой, и вожжи волочились по земле; Маркияша встал — немного тошнило от лежания — и поплелся назад.
Из сундучка достал бутылку, глотнул. Теплыми ладонями стиснуло голову, закачало что-то, набегая волной томящего блаженства. Он свалился на постель и беспокойно засыпал, свесив безвольно голову за край. А дурманный июль, дыша в окно, наливал тело бесстыдным бредом и огнем, и вот Поленька опять прошла, одна, в мутном сиянии луны, и заплясала, повизгивая и показывая горячие голые ноги…
III
От этого вечера осела в голове мутная томящая боль, мутило и глаза, и дни, казалось, проходили слепо и сонно.
Шел дождь; яркое недавно поле завесилось белесым туманом, крыши над низким небом взмокли; и в сумерках, сквозь текучий белесый туман, слабо чудились взмокшие спящие дома, около которых тускнели из луж забытые огоньки и чавкала грязь.
От такой невылазной погоды еще мрачнее затосковал Маркияша: где встретить кого или увидать?
Вечером, однако, сходил в сквер. В пустынных неуютных аллеях бежали ручьи, выедая сырой песок, ветер сметал с кустов пригоршни брызг. И ветер этот сметал грузные черные облака за колокольни, гнал за край проясневших полей, где открылся ярко-багровый закат от ненастья. Маркияша посидел на пустынном балконе клуба. Из труб хлестала в траву вода, четко щелкали парусиновые завесы… Отсветы отходящего заката мрачнели высоко на листве, и от этого дико темнело на душе: будто радости никакой не увидишь больше никогда…
А непоседная тоска толкала на Планскую. И там легла топкая распутица и ненастная тишина. Порой пробредет укутанный воз, и мужик, покачиваясь, прошлепает рядом; пробежит, надвинув пуховый платок до бровей, девушка к соседям; а Маркияше чудится — Поленька, и вот опять несвязное колыхнется из души, запутает и защемит…
В знакомом флигеле тоскливо чернели окна. «Ушли, — подумал Маркияша, — а куда, в гости, не иначе?..» И снова, горбясь и руки нескладно раскачивая, брел домой. Впрочем, в переулке, как выходить к номерам, остановился, присел вдруг у темной калитки; а с Планской, нахлобучив низко колпак кожаный, пробултыкал Скурлатов или кто-то, очень похожий на него.
«Зачем ему тут?» — встревожился Маркияша, глядя вслед. И уже не стал думать дальше, чтоб не бередить боль: такие безумные мысли впивались в мозг, бесстыдные даже. «Чепуха!» — сказал он себе и, вернувшись домой, просидел, осунувшись, за гитарой до полночи.
И наутро не раз выбегал на двор, протягивая руку под дождь: все еще моросило слегка. Но чаще налетало солнце пятнистыми светами; после обеда день стал совсем июльским и небо весело заогневело, жарким ветром иссушая грязь.
Маркияша, нетерпеливо вздыхая, бродил по номерам, где возился с красным товаром какой-то татарин и бесконечно храпел Скурлатов; припомаживался, выглядывал в окно и, вечером, — вечер этот воскресный был, — увидел, наконец, Поленьку на крайней аллее.
«Ну, вот… — встал он со скамьи и почувствовал, как жуткое волненье обожгло ему грудь. — Теперь только не робеть, все скажу, все…»
Он подошел к ней.
— Ах, Маркияша, — улыбнулась Поленька приветливо, — вот не ожидала!
— Я мечтал, вон под обрыв смотрел, на речку, — краснея, показал он рукой. — Очень грустные вечера стали, Поленька, правда? Иль это только у меня от воображения?
Смеркалось, и нарядная публика шла в сад. В выси зажигались тонкие звезды, теплые сумерки поднимались, занося запахи мокрых еще цветов. И свежие влажные запахи сливались с духами, идущими от мутно белеющих женских платьев, и все похоже было на нежные, чьи-то невидимые прикосновения; или еще: что праздник очень большой, и вот сейчас зажгут очень много сверкающих огней, и будет пьяно, пышно и весело…
— Я устала, — сказала Поленька, освобождая руку, — присядемте!
Она закинула немного голову, касаясь слабым плечом Маркияши. Он нашел где-то горячую ладонь и взял. Поленька не шевельнулась и слабо пожала его руку, опахнув всего духами и сладкой слабостью.
«Ну, как ей сказать, — подумал он, — она красивая такая и нарядная, а у меня от ног пахнет… Ах, Поленька, милая, чулочки бы сам тебе надевал…»
Мимо ходили безликие люди, шурша песком и шепчась. Под обрывом, где дрожала лунная аллея, плыла лодка в цветных огнях; дышала страстно влажная, полутемная ночь с улиц и лугов, буйные кусты распускались дикой таинственной красотой, и кто-то пел с исправничьего балкона очень печально…
— Музыка, — сказал Маркияша. — Идемте послушаем, Поленька, я вижу, вам скучно здесь. И что вы такая мрачная, сухарики, что ль, по ком сушите?
— Нет… но я очень несчастная, Маркияша, — серьезно и тихо ответила она. И тотчас встала; и было видно — все равно ей куда ни идти, куда позовут: так ленивы и тоскливы были движения.
— Ну уж не поверю, — посмелел Маркияша и хитро улыбнулся. — А я знаю одного человека, он очень вас любит… Сказать?
Но Поленька шла уже к двери обольщающей девичьей походкой своей, грудью вперед. И другие шли к исправничьему балкону: в сиренях там стоял свет и разговаривали люди; и вот стихало, гремело пианино бархатным рокотом, и кто-то пел, волнуясь и тоскуя; а за городьбой молчали, слушали, и откуда-то мешали гармоники, плутавшие за рекой, и горничные, взрывом хохотавшие неподалеку.
Поленька приникла к городьбе, равнодушно слушая; бледный луч света упал на нее, осветив подбородок и кружевной вырез на груди, все же остальное пряталось от Маркияши в зеленоватую тьму, кроме еще руки, на которой посверкивал кровяной огонек.
— Что же это такое? — неприятно содрогнулся он и нагнулся к огоньку. Потом, вынув дрожащими руками папиросу, чиркнул спичку; в это время, как нарочно, и Поленька поднесла руку к волосам, и он увидел ясно на пальце знакомую золотую змейку.
— Ага, генеральшин перстень, — мотнул он головой, и вдруг сонно, лениво потянуло: лечь куда-нибудь камнем, зажав крепко глаза, не слышать ничего… А Поленька скучно зашуршала шляпкой и зевнула:
— Ну, я домой, вы проводите меня? А то завтра вставать рано…
— Идемте…
И что наросло светлого за эти часы, опять свалилось в темную, отчаянную бездну. И близилась одинокая, сосущая ночь: пробренчит на постылой гитаре, ветлы бессонные, маня на любовное свидание, бессонно прошумят в полночь из-под звезд, и будет больно, больно…
Молчаливо дошли до Планской.
— До свидания, — тихо сказала Поленька у своей калитки.
Маркияша протянул руку.
И вдруг Поленька всхлипнула, схватилась за лицо. Маркияшу передернуло. Отвернувшись от него, она припала к забору и, вздрагивая плечами, искала платок…
— Полно вам, — дрожа от мучительной нежности, погладил он ее по руке, — полно, ведь я вас…
— Пожалей меня, — открыла она полные слез глаза и, слабея, обняла его, уютно прижимаясь к груди. Маркияша, вытянув шею, притиснул ее к себе; и боль и бесстыдная сладость нахлынули на него, но Поленька, сонно улыбнувшись, покачала головой, поцеловала его в щеку и скользнула за. дверь…
— Д-да, — раздумчиво опустил он руки и сам себе усмехнулся.
Перешел на другую сторону и там опять остановился, усмехаясь, как ребенок: «Нет, ты пойми…» И вдруг отступил, жутко насторожившись: звякнуло кольцо у Поленькиной калитки, кто-то вышел. Темная фигура легко прошла неподалеку и растаяла в переулке, где номера.
Маркияша вышел из тени, утерся рукавом и по звериному, без мыслей, напрягая невидящие, замутившиеся глаза, побежал задворками туда же.
И все было, как думал: дверь в один номер приотворена, и из нее ложился по черному коридору свет; слышались голоса, знакомые, именно те, которых боялся, и когда, сцепив зубы, шагнул он через порог, то увидел и Поленьку, причесывавшуюся перед трюмо; она, не выпуская кос из рук, ахнула и выронила из губ все шпильки.
— Это Маркияша, — сказал успокоительно из угла Скурлатов, странно как-то оглядев его; потом затянулся папиросой, укладывая ногу на ногу, и добавил: — Не бойтесь, он у меня — могила.
IV
— А я к вам в гости, — вспыхнула неловкой улыбкой Поленька, — поглядеть, как вы тут с хозяином… Беспорядок какой везде, ну разве так можно, Маркияша?
Виновато искала его глаза, все улыбаясь.
— Да знаете… разь усмотреть…
— Ты вот что, друг мой, — лениво пыхал дымом Скурлатов, разваливаясь, — там в чулане шкапик у меня, знаешь? Ну-ка, сообрази нам, да поживее! И струмент свой тащи!
— Одной минутой с.
Постоял еще, поморгав забывчиво. И вдруг, словно очнувшись, встрепенулся, загрохал по лестнице. А там, в жутко-сумеречной кухне, в запаутиненном чулане напряглась смертная тошная тишина, как и в нем самом; словно струны натянулись какие — и только тронь кто — криком бы закричал, в бреду, в горячке бросился бы куда-то, затерзал зубами…
— З-змеи…
Но вместо этого молчаливо, с дрожью в теле, постелил снеговую скатерть на круглый стол, принес из чулана бутылку коньяка, граненый графин с ликером и расставил перед теми; похлопотал Даже, чтоб было покрасивее.
— Ну, выпьем, — встал Скурлатов, — Поленька… Маркияша! А струмент принес? Ну, налаживай.
— Только подвинчу маленько…
Поленька подошла к окну, отдернула штору и, словно собираясь лететь, потянулась полуголыми руками.
— Какая ночь! Звезды, цветами пахнет… Я люблю, Захар Петрович, когда у нас в клубе танцы в такие ночи: выйдешь на балкон, и вдруг свежо, деревья шумят, огоньки где-то, и чего хочется, не знай…
— Да, природа… — промычал вскользь Скурлатов. — Ну, я налил.
Маркияша, пряча лицо, нагнулся над гитарой в тени. Смутно жужжали струны: каплями падали тихие стоны, темным намеком дрожали, улетая в ночь… А сам прислушивался чутко к разговору и где-то больным, сладким терзанием желал: скорее бы то тайное началось, для чего и пришла…
— Маркияша, хлебни и ты.
Поленька утиралась уже сиреневым платком, шаловливо играя глазами. Пальчики перебирали цепочку медальона: Скурлатов, наклонясь немного, что-то говорил, лениво усмехаясь и не спуская пухлых глаз с ее груди, а между тем наливал опять.
Молча подойдя к столу, Маркияша проглотил коньяк. Сухой волной налетело опьянение, сбило, закрутило мысли, как ветром сухолистье. И как-то вздохнулось свободней: он даже развязно кряхнул и с шумом подвинулся на свет.
— «Тамару» разь вам сыграть?
Заглядевшись куда-то, тронул струны, фальцетом запел:
В глубокой теснине Дарльяла, Где роется Терек во мгле…Осенней тягучей тоской заколыхались звуки. Не вечер ли опять где-то в глухой каморке? Мутным камнем давит душу; вьюга мерзлыми космами бьется в окна, сердце болит. Пой, гитара, пой сегодня, как и вчера! — и завтра простучит в стекла безумный вечер, и завтра заплачешь над горьким весельем, проклятая гитара!
…Прелестна, как ангел небесный! Как демон, коварна и зла…— Будет тебе, — поморщился Скурлатов, — что это за панихида? Ты, друг мой, знаешь, что-нибудь мажорное… Ну, маршик, что ль, какой.
— Можно и веселую, — уныло согласился Маркияша и, припадая ухом к гитаре, принялся опять настраивать.
Скурлатов наливал и пил. Пила и Поленька, все меньше ломаясь; от острого, как лезвие, ликера щеки и уши ее стали горяче-алыми, глаза влажно помутнели; откидываясь в кресле, все чаще закатывалась она раздражающим смехом и нетерпеливо дергала медальон:
— Как будто… Ну, вы скажете, ах-хи-хи-хи!
И вдруг потемнела вся, поблекли глаза. Прижав ладонь ко лбу, шатнулась порывисто к окну, перегнулась в теплые потемки. И, устало улыбаясь, оглянулась назад.
— Фу, как я закружилась… Захар Петрович, не сметь больше угощать, слышите? Не сметь!
Топнула ногой: и острым смехом и пьяными слезами прозвенел крик.
— Ну, не сердитесь, милочка, ну, не стану! Маркияша! Ты чего стесняешься — тяни!
— Да я-то что…
— Маркияша, пейте, что вы бирюком каким сидите, — визгнула нетерпеливо Поленька. — Ну?
Заломив руки за голову, опять подошла к окну.
— Какая ночь… — И тотчас же безвольно хихикнула: — Ну, какая же я смешная, опять про то же… — Она решительно выпрямилась; неверными шагами подошла к зеркалу, сжала руки, округлив маленькую грудь, и так глядела в упор.
— Захар Петрович, разве правда, что я хорошенькая?
— Вы цветок, Поленька, — вкрадчиво дохнул Скурлатов, подходя к ней сзади и взяв за голые локти. — Ну разве иначе я увлекся бы вами? Я вам предскажу: вы расцветете еще пышнее, если у вас будет роскошная жизнь. А знаете, милочка, что нужно для этого: прежде всего плюнуть на все…
— А это что? — провела она пальчиком по зеркалу: — «Прощай, Вера, мое солнце, жизнь, Раутеи…» Это кто, вы начиркали?
Маркияша, перестав бренчать плясовую, крякнул и заворочался на табурете.
— Это-с, Поленька, ахтеры останавливались в третьем году.
— Ах, погодите, — вскинулась она, — знаю, которые полковничью Верочку увезли! Это тот, что Генриха играл, душка, я помню…
— Да-с, тут такие дела были… Верочка-то перед самым отъездом в номер к нему прибежала, в сумерках. Поцелуи пошли, всякая всячина. Уж они любезничали-любезничали, а потом, как расходиться, он левольвертик вынул и давай им играть: коль не уедешь, грит, со мной, сичас себя прикончу.
— Ах, — схватилась Поленька за щеки.
— Да, я тут им винцо подавал, все в натуре видел. Потом подошел к зеркалу и вот это перстнем нацарапал, смотри, грит. Она взглянула, да на шею ему гак я повисла: куда, говорит, ты, туда и я, разь я допущу. Мигом — тройку с бубенчиками, и запалили!
— Да, и уехали, — про себя вздохнула Поленька, тоскливо притихнув. В красноватом от лампы кружеве штор поголубело; потянуло холодом из раскрытого окна, дальним садом, гулкими, где-то в сонном утреннике, петухами. Последние звезды тонули.
— Счастливые, — хрустнула пальцами Поленька. — Благородные, им всегда так… А я…
— Какие же счастливые, будет вам, — недовольно пробурчал Маркияша. — Без законного-то браку ежели, какая же сласть! Бессовестные они — и все!
— А знаете, — сказал Скурлатов, подводя ее за талию к дивану, — уедемте со мной! Я вас в губернию отомчу, завинтим, черт возьми! А там у меня приятель есть, офицерик: красавчик какой, канашка! Он свеженьких любит, я вас познакомлю, а?
— Пойте, пойте, — пьяно улыбалась Поленька, а Маркияша застыл, забытый в сумерках, и не сводил с них горящих глаз.
— Подвиньтесь-ка.
Усадив Поленьку на край, Скурлатов полуприлег за ней на диван. Теперь вся она была на свету; и Маркияша, как в час прощания, жадно и ненасытно впился в нее глазами, словно вбирая ее всю в себя; улыбчиво-утомленные глаза, помятое, будто исцелованное и сладкое лицо, сбитые волосы, — и горечь, безнадежная, жалостная, сосала сердце…
— Еще рюмочку, — сонно тянул ее к себе Скурлатов.
Поленька, смеясь, качнулась назад, и Маркияша увидел, как Скурлатов прилип губами к ее шее и тайком поцеловал. Он вздрогнул, до жгучей боли стиснул гитару в руках… Но Поленька, не замечая обезумевших от горя, замученных глаз, продолжала качаться, приятно и пьяно улыбаясь, и Скурлатов все алчнее всасывался губами в затылок меж двух темных кос…
— Пропало, продал ее, продал, — съежился весь Маркияша и надорванно всхлипнул. Воспаленный, всклокоченный, вскочил он вдруг с места и, не видя ничего, подшатнулся с гитарой к столу.
— Совестно-с… — прохрипел он, перекосившись, — при людях-то… Совестно…
— Чего еще? — недовольно поднял на него Скурлатов тоже невидящие заплывшие глаза. — Ну, вон на столе, пей, пожалуйста, отвяжись!
— Ага, — с наглым укором поглядел на него Маркияша и язвительно покачал головой. Потом, так же нагло и не торопясь, вылил весь коньяк из бутылки в стакан и выпил, расплескав половину от дрожи.
И вдруг пошатнулся, крякнул надрывно, свесил космы над гитарой. Криком струны рванул:
З-зачем ты, безу…Мелко задрожал плечами, а на непослушные мозолистые пальцы, на облупленную гитару закапало горячее, будто из самого сердца, чаще, чаще…
— Эх-х, Маркияшка… Ты…
— Ну, я домой, — вскочила внезапно Поленька и, подбежав к зеркалу, завертела голову шарфом. Скурлатов поднялся за ней. Маркияша тоже поднял голову и смотрел на обоих безмятежными мокрыми глазами.
— Домой? — повторил насмешливо Скурлатов и, не стесняясь уже, взял ее за плечи. Поленька сначала затрепетала, выгнула грудь, вырываясь. Потом, как с Маркияшей у ворот, улыбнулась полузакрытыми глазами, клонясь назад в цепких до боли руках, блаженно задышала, и Скурлатов, с трудом оторвавшись от ее губ, повел мутными глазами на Маркияшу.
— Ну!
— До свиданьица, — заторопился он, кивнув головой Поленькиной спине. Как слепой, шатаясь, шарахнулся в дверь. И только выбежал наружу, в терпкий холод, как, бросив волочившуюся сзади гитару, вывернул камень из мостовой и пустил с хрипом в освещенное окно.
— На-на, змея… мать!..
По раме с дребезгом загромыхало, и стекла, визгнув, брызгнули из окна.
— Ага!..
И тут же, подняв зачем-то гитару, шатнулся в переулок, на мокрую траву. Какой-то пьяный мужик, ковылявший из-под кручи, столкнулся с ним грудь с грудью. Маркияша скрипнул зубами, ыхнул и размахнулся гитарой.
— Черти! — закричал он плачущим голосом. Мужик испуганно пятился и крестился. Маркияша бросил гитару и столкнул его злобно под кручу.
Потом и сам свалился лицом в траву. А брошенная гитара медленно ползла по траве к реке и до самой воды шептала жалостным разбитым звоном…
Повести
ПАДЕНИЕ ДАИРА
I
Керосиновые лампы пылали в полночь. Наверху на штабном телеграфе несмолкаемо стучали аппараты: бесконечно ползли ленты, крича короткие тревожные слова. На много верст кругом — в ноябрьской ночи — армия, занесенная для удара ста тысячами тел; армия сторожила, шла в ветры по мерзлым большакам, валялась по избам, жгла костры в перелесках, скакала в степные курганы. За курганами гудело море. За курганами, горбясь черной скалой, лег перешеек в море — в синие блаженные островные туманы. И армия лежала за курганами, перед черной горбатой скалой, сторожа ее зоркими ползучими постами.
Лампы, пылающие в полночь, безумеющая бессонница штабов, Республика, кричащая в аппараты, стотысячный топот в степи; это развернутый, но не обрушенный еще удар по скале, по последним армиям противника, сброшенного с материка на полуостров.
В штабе армии, где сходились нити стотысячного, за керосиновыми лампами работали ночами, готовя удар. Стотысячное двигалось там отраженной тенью по веерообразным маршрутам — на стенах, закругляя щупальца в цепкий смертельный сдав. Молодые люди в галифе ползали животами по стенам — по картам, похожим на гигантские цветники, отмечая тайные движения, что за курганами, скалами, перешейками: они знали все. В абстрактной выпуклости линий, цветов и значков было:
Громадный ромб полуострова в горизонталях синего южного моря. Ромб связан с материком узким двадцатипятиверстным в длину перешейком;
В ста верстах западнее перешейка еще одна тонкая нить суши от ромба к материку, прерванная проливом посередине;
На материке перед перешейком цветная толпа красных флажков; N-я армия и красные флажки против тонкой прерванной нити — соседняя Заволжская армия; и против той и другой — с полуострова — цветники голубых флажков: белые армии Даира.
Путь красным армиям преграждался: на перешейке Даирской скалой, пересекавшей всю его восьмиверстную ширину, от залива до залива, с сетью проволочных заграждений, пулеметных гнезд и бетонных позиций тяжелых батарей, воздвигнутых французскими инженерами, — это делало недоступной обрывающуюся на север, к красным, террасу; перед Заволжской армией — проливом; пролив был усилен орудиями противоположного берега и баррикадирован кошмарной громадой взорванного железнодорожного моста. За укреплениями были последние. Страна требовала уничтожить последних.
Керосиновые лампы пылали за полночь. В половине второго зазвонили телефоны. Звонили из аппаратной: фронт давал боевую директиву. Галифе торопливо слезали со стен, бежали докладывать начальнику штаба и командарму. У аппаратов, ожидая, стояла страна.
И минуту спустя прошел командарм: близоруко щурясь, выпрямленный, как скелет, стриженный ежиком, каменный, торжественный командарм N, взявший на материке восемь танков и уничтоживший корпус противника. В ветхих скрипучих переходах штаба, ведущих на телеграф, отголосками — через стены выл ветер, переминались и шатались деревья, черным хаосом скакала ночь! И казалось, с облаками бурь, с гулом двигающихся где-то масс затихли и стали времена в вещем напряжении…
ОТ КОМАНДУЮЩЕГО ФРОНТОМ
Секретная. Вне всякой очереди. Командармам N-й, Заволжской, Конно-Партизанской. Дополнение директиве приказываю: Перейти наступление рассвете 7 ноября.
Заволжской армии произвести демонстративные атаки переходимый вброд Антарский пролив дабы привлечь себе внимание и силы противника.
N-й армии усиление коей переданы две конно-партизанских дивизии прорвать укрепление Даирской террасы ворваться плечах противника Даир и сбросить море.
Конно-Партизанской армии двигаться фронтовом резерве; N-й армией стремительно выдвинуться полуостров и отрезать отход противнику к кораблям Антанты.
Вести борьбу до полного уничтожения живой силы противника.
Из кабинета командарма отрывистый звонок летел в оперативное.
— Ветер?
Галифе, звякая шпорами, почтительно наклонялись к телефону.
— Северо-западный, девять баллов.
Каменная черта на лбу таяла — в жесткую, ироническую улыбку: над теми, дальними, что за террасой. Счастливый, роковой ветер дул, ветер побед.
И начальник штаба бежал с приказом из кабинета на телеграф. В приказе было: начать концентрацию множеств к морю, к перешейку; нависнуть молотом над скалой… Аппараты простучали в пространства, в ночь — коротко и властно.
А в ночи были поля и поля: земля черная молча лежала. Дули ветры по межам, по невидимому кустарнику балок, по щебнистым пустырям, там, где раньше были хутора, скошенные снарядами, по дорогам, истоптанным тысячами тысяч — теперь уже умерших и утихших — по дорогам, до тишайшей одной черты, где лежали, зарывшись в землю, живые и сторожкие; и впереди в кустарнике на животах лежали еще: секрет. Туда дули ветры.
И все-таки в черной ночи, впереди, видели — не глаза, а что-то еще другое — темный, от века поднятый массив, лютый и колючий; и за ним чудесный Даир — синие туманы долин, цветущие города, звездное море…
Так казалось только: за террасой никаких чудес не было, а те же лежали поля. За террасой в пещерах и землянках сидели и курили люди в английских шинелях с медными пуговицами и в погонах; смеялись и разговаривали, кое-кто дежурил у телефонов. Но этим людям виделось иное. Безглазое и страшное, страшное молчанием нависало из-за террасы с черных полей, где кто-то присутствовал и выжидал, может быть, уже полз в темноте. И нависло так: вот еще миг и вдруг погаснут смех, и разговоры, и коптилками освещенные стены; и вот а-а-а-а!.. кричать, зажать голову, лицо руками, бежать прямо туда — в ужас, в безглазое и поджидающее, подставляя под удары, под топоры мозг, тело…
И дальше по дорогам на юг; за деревушки, еще не спящие; за пылающие огнями станции, со скрипящими составами поездов, полными солдат в английских шинелях, за платформы станций, где лихорадочно ждут поездов люди и с поездами угромыхивают в темь — все дальше шло это: безвестьем, ползучей тоской.
И вот, гудя в туннелях — с поездами — катилось еще дальше на юг, где глухо и веще стучало море в обрыв и тысячами пожаров стояли пространства, пронизав ночь. И там…
…гудящая циркуляция площадей — в пылании светов; шелесты шин щегольских авто, и грудные гудки, и звон скрещивающихся в голубых иглах трамваев, и лязг рысачьих копыт, и во всем пронизывающие токи толп, вперед — назад, выбрасывающие под светы низких солнц плосковатые, припудренные светом лица, ищущие глаза, сонные, прогуливающие скуку глаза, безумные глаза и еще — с пролетки — очерченные карандашом, увядающие и прекрасные. И все неслось — в фасады — в аллеи каменных архитектур — в кипящие ночным полднем пространства — в сонмы бирюзовых искр и взошедших солнц.
Даир.
Распахивались зеркальные вестибюли громад, пылающих изнутри, сбегали, сходили и снова восходили, рождаясь и тая в кипучем движении панелей: красивая из кафе, с румяной ярью губ, гордо несущая страусовое перо на отлете, и этот — бритый, заветренный ротмистр с выпуклыми, изнуренными и жесткими глазами, волочащий зеркальный палаш, и вон хот, пожилой, тучный, в моднейшем сером пальто и цилиндре, с выпяченной челюстью сластника, обвисший сзади багровым затылком — и еще — и еще. Охваченные водоворотом, грохотами ночного полдня, где сквозь слепую от светов высоту кричали со стены небоскреба огненным роскошный выбор мсье Нивуа… поставщик императорской фамилии… Спешите убедиться… шли мимо ослепительных витрин, где изысканно-скудно разложено матовое серебро, утонченные овалы вещей, которых будут касаться пресыщенные, ничего не хотящие руки владык; и вот мимо этих, неживых обольстительных восковых, с чересчур сказочными ресницами и щеками — с этих дышит шелк, как дыхание, как Восток; и мимо окон озер, разливающихся ввысь стройно — до ноябрьских южных звезд — «Гастрономическое» — под налетом влажной пыльцы тускнеет виноград, пахнут коричневые круто-сбитые груши, и корзины оранжевой земляники и алого, прохладного, горьковато-весеннего… и все мимо шли — к перекрестку: там оплеснутая огнями светилась над зыбью многоголового карикатура знаменитого «Триумф».
На ней — с круглым обритым черепом, приплюснутым до бровей, с исподлобным сверканием маленьких звериных глазок, шел некто в скомканном картузе со звездой, в рваной шинели и чугунно-тяжких ботах.
Из ночи, из улиц приливала глазеющая зыбь. Стыли раскрытые рты, разверстые неподвижные зрачки, восковые от голубых светов лица. Сзади, обходя толпу, заглядывали, привстав на цыпочки, еще: мимоидущие. На цыпочках безглазое ползло в свет, в улицы, в улыбки — щемью, дикой тоской…
— Не придут, где там.
— Союзные инженеры работали. Теперь — миллионы положи, не возьмешь!
— Пускай эти Ваньки попробуют, хе-хе!
— А слыхали? Говорят, будто…
— Что вы, что вы!..
— Тише, это ни-ко-му… Ужас… ужас!..
А на улицах шли и бежали люди, словно торопясь за счастьем, по двое таяли в бульвары, где просвечивал звездный ход волн. Высоко на мутной стене небоскреба огненным прожектором кричало:
СВОДКА ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Атаки красных на твердыни Даирской террасы легко отражаются артиллерийским огнем.
На всех фронтах спокойно.
II
В селе Тагинка штабы двух дивизий: Железной, численностью и обилием вооружения равняющейся почти армии; неделю назад дивизия, выполняя директивы командарма N, разбила белый корпус и захватила восемь танков, и Пензенской — эта дивизия, окровавленная и полууничтоженная, зарывшись в землю, принимала на себя тяжелые удары врага, пока Железная сложным обходом выполняла маневр.
В школьной избе, в штадизе Железной, в присутствии начальников дивизий и штабов командарм излагал план операции.
Противник имел численно меньшую армию, но эта армия была сильна испытанным офицерским составом и мощью усовершенствованной военной техники. У красных были множества; множествами надлежало раздавить и мстительное упорство последних и хитрость культур.
Армия противника стояла за неприступными укреплениями террасы, пересекающей все пути на полуостров. Надо было преодолеть террасу. Бросить массы за террасу — уже значило победить.
Армия, атакующая в ярости террасу — под ураганным огнем артиллерии и пулеметов противника, — обратилась бы в груду тел. Исход был или в длительной инженерной атаке, или в молниеносном маневре. Но страна требовала уничтожить последних сейчас. Оставался маневр.
Дули северо-западные ветры. По донесениям агентуры, ветры угнали в море воду из залива, обнажив ложе на много верст. Ринуть множества в обход террасы — по осушенным глубинам — прямо на восточный низменный берег перешейка, проволочить туда же артиллерию, обрушиться паникой, огнем, ста тысячами топчущих ног на тылы хитрых, запрятавшихся в железо и камни.
— Надо спешить, пока ветер не переменился и вода не залила пространств, — сказал командарм. — Общее наступление назначаю в ночь на седьмое ноября. Остальные части армии одновременно атакуют террасу с фронта. Если так — мы прорвем преграду с малой кровью.
Собрание молча обдумывало. Начдив Пензенской, тощий, впалогрудый, похожий на захолустного дьякона (он и был дьяконом до войны), заволновался и замигал.
— План верный, товарищ командующий, что и говорить, а мои ребята хоть и через воду — все равно перепрут. Только я ведь докладывал: разутые, раздетые все, как один. Железная после операции вся оделась — они, изволите видеть, первые склады захватили! А за что мои страдали? Как?
— Относительно обмундирования мне известно, — сказал командарм, — но нет нарядов из центра. И вообще… У Республики едва ли есть. За террасой все оденутся!
Он встал каменный, чужой мирным сумеркам избы.
— Оперативных поправок нет?
Очевидно, не было: все молчали. План был принят — он висел над глухой сосредоточенностью полей. В них снилась невозможная горящая ночь.
В пасмури слышались, близились идущие шумы. Как в бреду, где-то в далеком кричали лошади и люди.
Командарм вышел на улицу.
В сумерках, жидко дрожавших от множества костров, шли горбатые от сумок, там и сям попыхивая огоньками цигарок. Земля гудела от шагов, от гнета обозов; роптал и мычал невидимый скот. В избах набились вповалку, до смрада: в колеблющейся тусклости коптилок видно было, как валялись по избам, по полу, едва прикрытому соломой, стояли, сбиваясь головами у коптилок, выворачивая белье и ища насекомых. Между изб пылали костры; и там сидели и лежали, варили хлебово в котелках, ели и тут же, в потемках, присаживались испражниться; и вдоль улиц еще и еще горели костры, галдели распертые живьем избы, и смрадный чад сапог, пота ног, желудочных газов полз из дверей. Это было становье орд, идущих завоевывать прекрасные века.
Командарм подошел к костру. На колодах кругом сидели несколько; кое-кто, сутулясь, мешал ложкой в котелке; обветренный и толстомордый парень, оголившийся до пояса, несмотря на мороз, озабоченно искал в лохмотьях вшей и бросал их в костер; у костра лежал пожилой, в австрийской шинели и кепи, глядя на огонь из-под скорбных полузакрытых век; и лежали еще безликие. Сколько бездомных костров видели они в далеких затерянных скитаньях… Из тьмы подошел командарм, на него взглянули мельком: велик мир, бесконечны дороги, много людей подходит к бездомным кострам… Полуголый рассказывал:
— Есть там железная стена, поперек в море уперлась, называется терраса. Сторона за ней ярь-пески, туманны горы. Разведчики наши там были, так сказывают, лето круглый год, по два раза яровое сеют! И живут за ней эти самые елементы в енотовых шубах, которые бородки конусами: со всей России туда набежались. А богачества-а-а! Что было при старом режиме, так теперь все в одну кучу сволокли!
— И опять они хозяева, — сказал лежачий от костра.
Полуголый обозлился и хлестнул об землю лохмотьями.
— Хозяева, в душу их мать!..
— Подожди, домой придешь, и ты хозяином будешь!
— До-мой-ой!.. А ежели вот у этого, — парень ткнул пальцем в пожилого в кепи, — и дома-то нет, кругом один тернаценал остался? Што?
Лежавший поднял на него мутные добрые глаза.
— У бедних дому нема. Една семья, една хата — интернационал.
— Эх, друг! — хлопнул его по спине парень и заржал. — Все книжки читаешь, умна-ай!
Сутулый от котелка хихикнул.
— А ты, Микешин, все больше насчет жратвы? Имнастерка-то где? Ох, и жрать здоровый, чисто бык!
— Верно, что бык, — отозвались лежавшие.
— У нас в деревне у дяде бык был, такой же на жратву ядовитый, так уби-или!
— Ха-ха-ха!..
Микешин тоже смеялся, открыв широкий крепкозубый рот.
— Вот когда в Цаплеве стояли, — сказал он, — так кормили: пошенишный хлеб, аль сала, аль свинина, прямо задарма. Вот кормили! А теперь народу нагнали, братва все начисто пожрала. Вот мы этих енотовых пощупам, погоди, погуля-ам!..
Кто-то из лежавших изумленно и смутно грезил, корчась в нагретой стуже:
— Боже ж, какая есть сторона!..
— А может, брешут, — хмуро сказал другой; оба легли на локтях, стали глядеть на огонь задумчиво и неотрывно.
Сутулый исподлобья взглянул на командарма, греющего руки над костром, и спросил:
— Вот вы, може, ученый человек будете, скажите: правда ли, если мы этих последних достанем, так там столько добра напасено, что, скажем, на весь бедный класс хватит? Или как?
Командарм улыбнулся каменной своей улыбкой и ничего не ответил.
Что сказать? Он знал, что над этой ночью будет еще, горящая и невозможная; в огненной слепоте рождается мир из смрадных кочевий, из построенных на крови эпох…
Из потемок оглянулся: у костра сели в кружок около полуголого, хлебали из котелка, говорили что-то, показывая в темь: наверно, о той же чудесной стране Даир. В избах хлопали двери, кто-то, оберегая смрадное тепло, кричал: «Лазишь тут, а затворять за тобой царь будет?..» За околицей, в темном, цвела чудесная бирюзовая полоса от зари; в улицах топало, гудело железом, людями, телегами, скотом, как в далеком столетии. И так было надо: гул становий, двинутых по дикой земле, брезжущий в потемках рай — в этом было мировое, правда.
III
Целый день шли войска.
С рассвета двинулись конно-партизанские дивизии. Запружая дороги, лавой катились телеги с пулеметами, мотоциклетки, автомобили со штабами и канцеляриями, подтрясывались конные с пиками, винтовками и палицами, высматривая зорким озорным глазом, нет ли дымка за перевалом. И если показывался дымок, деревня — сваливалось все в кучу, задние с лету шарахались на передних: начиналась дикая скачка на дымок, на околицу — с пиками наперевес, с криками «дае-о-ошь!» В улицах, сразу пустеющих, сползали на скаку, брюхами с лошадей, жгли наскоро костры, шарили по погребам, варили баранов, ели, рыскали за самогонкой, гоняли девок — и снова, вскочив на коней, относились, как ветром, в версты, в мерзлую пыль.
Впереди скакал слух: конные идут.
У мостов еще с ночи стояли мужики с подводами: через мосты было не проехать, надо было ждать, когда схлынет волна… Мужики обжились, распрягли лошадей, варили в ведерках снедево, спали, а то прохаживались, переругиваясь от тоски. Сзади подъезжали еще; останавливались; гомоном, ярмарками кишело в полях у мостов.
От Тагинки примчались и тут же круто застопорили армейские автомобили. С машин гудели в упор в едущих сиплыми пугающими гудками; адъютант бегал по мосту, едва не попадая под ноги лошадям, кричал, потрясая револьвером, но безуспешно: глухая сила хлестала через мост, спершись стеной и не пропуская никого. Черноусый в бурке нагнулся с седла к командарму и, дерзко подмигнув, крикнул:
— Посидишь, браток! Закуривай! Га!
С трудом рванулись из клокочущих летящих лав назад — к Тагинке, чтобы взять в объезд. И сразу обе машины ринулись, словно спасаясь, — и сразу рухнуло гиком, засвистело сзади и заревело тысячами горл; отставшие неслись, нахлестывая лошадей, на автомобили, на близкий дымок. Командарм оглянулся: оторвавшись от толп, падали в зияние дорог автомобили, за ними, словно предводимое вождями, неслось облако грив, пик и развевающихся в ветер отрепий. Ревели дико и пугливо машины вождей; мчалась ножовщина, сшибаясь друг с другом осями, сворачивая плетни и ветхие палисаднички, улицы тонули в звякающем железе, вопле бубнов, визге лошадей. Командарм силился подняться, его сбивало ветром — в ветер, в гик злобно кричал:
— Молодцы! Блестящая кавалерийская атака!..
Селом зачертили машины — в пустые пролеты — в степь. Из штаба дивизии глядели недоуменно, в штабе бросили работу, липли к окнам: все хотели увидеть знаменитые полки, овеянные ужасом и красотою невероятных легенд. Пылью и гомоном крутило улицы. За пылью и гомоном в полдень разграбили дивизионный склад с фуражом: гикая, метались по задворкам, высматривая у мужиков и по штабным командам лошадей: которых посытее брали себе, а взамен оставляли своих, мокрых и затерзанных скачкой. То и дело запыхавшиеся прибегали в кабинет к начдиву — доложить; в кабинете топали ногами, материли в душу и в революцию, — улицы крутили пылью, гоготом, стоном; дьяволы мчались, скалясь на штаб.
В переулке остановили вестового Петухова, подававшего лошадей комиссару: в лакированную пролетку переложили молча пишущую машинку и пулемет, поверх всего посадили рябую девицу в шинели и велели ехать за собой.
Петухов было фыркнул:
— Ну-ну, шути, да не больно!.. Я тебе не собачья нога! Я от комиссара штаба, за меня ответишь, брат!..
В это утро выряжен был Петухов в новый френч и галифе, нарочно без шинели — на зависть тагинским девкам, и ехал с фасоном, держа локти на отлет. Конные оглядели его озорными смеющимися глазами и фыркнули:
— Вот фронтовик, а!..
Черноусый в бурке подскакал, танцуя на коне, по-кошачьи изловчился и переел лошадей нагайкой.
— Га!..
Лошади встали на дыбы, упали и понесли. И сзади тотчас же загикало, засвистало, рушилось и понеслось стеной. Вот-вот налетит, затопчет, развеет в пыль. В глазах помутилось. «Несут, ей-богу, несут», — подумал Петухов, закрыл глаза, сжал зубы и вдруг — не то от злобы, не то от шалой радости — встал и навернул еще раз арапником по обеим лошадям…
— Держись! — завопил он в улюлюканье и свист. — Разнесу! Расшибу, рябая бандура!..
Так и унесло всех в степь.
* * *
Пели рожки над чадными становьями пеших. В морозных улицах, грудясь у котлов, наедались на дорогу; котлы и рты дышали паром; костры стлали мглу в поля. А небо под тучами гасло, день стал дикий, бездонный, незаконченный; тело отяжелело от сытости, а еще надо было ломить и ломить в ветреные версты, в серую бескрайнюю безвестень. Где еще они, ярь-пески, туманны горы?
Микешин от скуки покусал сала, потом подошел к впалоглазому в кепи, лежавшему у завалины с книжкой, и сказал тоскливо:
— Юзеф, што ты все к земле да к земле прилаживаешься? Вечор тоже лежал… Тянет тебя, што ли? Нехороший это знак, кабы не убили.
Юзеф слабо улыбнулся из-под полузакрытых век.
— А что же, у мене никого нема. Ни таты, ни мамы. За бедних умереть хорошо, бо я сам быв бедний.
За околицей налегло сзади ветром, забираясь под шарф и под дырявый пиджак. Микешин глядел на шагающего рядом Юзефа: и о чем он думает, опустив в землю чудные свои глаза? И дума эта вилась будто по миру кругом в незаконченном дне, в бездонных насупленных полях — о чем?.. В дали, в горизонты падали столбы, ползли обозы, серая зернь батальонов, орудия. По дорогам, по балкам, по косогорам тьмы тем шли, шли, шли…
И еще севернее — на сотню верст, — где в поля, истоптанные и сожженные войной, железными колеями обрывалась Россия — ветер стлал серой поземкой по межам, по перелескам, по льдам рек, голым еще и серым — где в степных мутях свистками и гудками жила узловая станция — кишел народ, мятый, сонный, немытый, валялся на полях и на асфальте; на путях стояли эшелоны, грузные от серого кишащего живья, и платформы с орудиями, кухнями, фуражом, понтонами — шли тылы и резервы N-й армии на юг, к террасе.
И еще с севера, скрипя и лязгая, шли загруженные эшелоны, перекошенные от тяжести, вдавливающие рельсы в грунт, с галдежом, скандалами, песнями. С вагонов кричало написанное мелом: даешь Даир! Эшелоны шли с севера, из России, из городов: в городах были голод и стужа, топили заборами, лабазы с былым обилием стояли наглухо забитые, стекла выбиты и запаутинены, базары пусты и безлюдны. Но в голодных и холодных городах все-таки било ключом, кипело, живело и вот изрыгало на юг громадные эшелоны — за хлебом, за теплом, за будущим. С севера великим походом шли города на юг; телами пробить гранитную скалу, за которой страна Даир.
Из грязных теплушек валит дым: топили по-черному, разжигая костры на кирпичах, прямо на полу и, когда холодно, ложась животом на угли. Но чем южнее, тем неузнаваемей и чудесней становилось все для северных — обилием былого, уже затерянного в снах; а на узловой станции, преддверии юга, продавали давно невиданное — белый хлеб, сало, колбасу. Распоясанные, засиженные копотью, сбегав куда-то, возвращались и, задыхаясь, кричали в вагоны своим: «Братва, айда, здесь вольная торговля, ий-богу!» — «А де ж базар?» — «А там за водокачкой…» За водокачкой стояли телеги с мясом и тушами, бабы с горшками и тарелками, в которых было теплое — жирный борщ с мясом, стояли с салом, коржами, молоком, буханками пшеничного… И из эшелонов бежали туда косяками с бельем, с барахлом, навив его на руку для показа; и тут же сбывали за водокачкой и проедали, садясь на корточки и хлебая теплый борщ, таща в вагоны сало, мясо, буханки. В вагонах уборных не полагалось, и, расслабленные, распертые от обильной пищи, лезли тут же под тормоза и в канавы.
Поезда шли только на юг: на север не давали паровозов силой. Едущие на север жили на станции неделями, обносились, проелись, обовшивели, очумели от долгого лежанья по перронам и полям, но надежды уехать все-таки не было. Напрасно представитель Военных Сообщений, черненький, ретивый, в пенсне и кожаном, бегал по станции, звонил в телефон, висел над аппаратами в телеграфной, писал, высунув язык от гонки: на узловой пробка, на узловой катастрофическое положение и саботаж, самовольная прицепка паровозов, угрозы оружием — «прошу виновных привлечь к суду Ревтрибунала, единственная мера — расстрел»… напрасно с пеной на губах кричал озлобленной, понурой и голодной толпе, ловившей его на перронах, что первый же паровоз, тот, который подчинивается сейчас в депо, пойдет на север, — все шло своим чередом, как хотелось молоту множеств, падающему в неукоснительном и чудовищном ударе на юг. И на паровозе, предназначенном на север и чистящемся в депо, кричало уже на чугунной груди мелом: даешь Даир! — у депо дежурили суровые и грубые с винтовками наперевес: ждали. И на перронах ждали, глядя в провалы путей жадными, впалыми и полубезумными глазами — видели только муть, тоску, безнадежье…
А в отяжелевших от сытости эшелонах ухало и топало. Из дверей черный ядовитый дым полз на пути, в дыму кричали:
— Ох-ох-ох! Безгубный шинель загнал! Полпуда сала, три четверти самогону! Гуля-ам!
Чумазый плясал над дымным костром распоясанный, с расстегнутым воротом гимнастерки. В теплушке словно медведями ходило.
— Крой, Безгубный! Ах, ярь-пески, туманны горы! Зажаривай! Не бойсь, там те и без шинели жарко будет!..
— На теплы дачи едем!..
Из депо выкатывался паровоз, тяжко пыхтя; машинист, перегнувшись над сходней, курил и хмуро ждал. Платформу запрудили едущие на север с мешками, с узлами, зверели, толкались кулаками и плечами, пробиваясь к путям, чтобы не опоздать и не умереть. Ждавшие с винтовками вывели паровоз на круг, схватились за рычаги и повернули чугунную грудь к югу. Начальник эшелона вынул наган из-за пояса и сказал машинисту: «Веди к эшелону на одиннадцатый путь». Машинист хотел протестовать, но подумал, бросил с сердцем окурок и повел. Помощник успел сбежать.
По эшелону обходом кричали:
— Эй, кто за кочегара поедет? Товари-шши!
— Вали Безгубнова, он летось у барина на молотилке ездил, всю механизму знает! Погреется заодно без шинели-то!
— Без-губ-на-а-а-ай!
Паровоз стал под эшелон. На платформах завыло: обманутые материли, махали кулаками, выбегали на рельсы, дребезжали по стеклам станции, грозя убить.
Черненький бегал вдоль вагонов, терял пенсне и исступленно кричал:
— Это бандитизм! Разбой! Вы все графики спутали, вы подводите под катастрофу всю дорогу! Помните — это даром не пройдет!.. Я по проводу в Особый Отдел!
— К черту! — отмахивался начальник эшелона. — У меня боевой приказ в двадцать четыре часа быть на месте — плевал я на ваши графики. Дежурный, отправление!
— Расстрел!.. — вопил черненький.
В эшелонах зазвякало, задребезжало, рявкнуло тысячеротым ура и пошло всей улицей.
— Дае-о-о-о-ошь!..
На подъеме за станцией паровоз забуксовал: перегруженный эшелон был не под силу. Распоясанные выскакивали из дыма и галдежа на насыпь, рвали ногтями мерзлый песок, подбрасывали его на рельсы, чтобы не скользило; ухали, подталкивали, подпирая плечом, и в то же время откусывали от пшеничной буханки и пропихивали за отторбученную щеку.
— Гаврило, крути! Таш-ши, миленок!
— Безгубна-а-ай, поддава а-ай!..
— Го-го-го!.. Гаврюша, крути!..
— Таш-ши!..
В перелески, в мутную поземку волокли красную громадину плечами, а впереди черный, с налитыми огнем глазами, натужно пыхтел, крича хриплыми гулами в степь: дае-о-о-ошь!..
IV
И за террасой готовились. В Даире провожали на фронт эскадрон, свою надежду, самых храбрых и блестящих, чьи фамилии говорили о веках владычества и слав.
Наутро они уходили в степи — к конному корпусу «мертвецов» генерала Оборовича, — того, который сказал:
— Идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию.
Был незабываемый вечер в Даире. Он вставал бриллиантово-павлиньим заревом празднеств, он хотел просиять в героические пути всеми радугами безумий и нег. Музыка оркестров опевала вечер: бежали токи толп; женские нежные глаза покоренно раскрывались юным — в светах мчавшихся улиц, в качаниях бульварных аллей. В прощальных кликах приветствий, любопытств, ласк, юные проходили по асфальтам, надменно волоча зеркальные палаши за собой; в вечере, в юных была красота славы и убийств. И шла речь; во мраке гудело море неотвратимым и глухим роком; и шла ночь упоений и тоски.
Был круговорот любвей; встречались у витрин, у блистающих зеркал Пассажа, в зеленоватых гостиных улиц, у сумеречных памятников площадей. Девушки на ходу протягивали из мехов тонкие свои драгоценные руки; звездные глаза смеялись нежно и жалобно: их увлекали, сжимая, в качающуюся темь бульваров, голос мужественных, тоскующих шептал:
— Последняя ночь. Как больно…
Горя хрустальными глазами, метеорами мчались машины — через гирлянды пылающих перспектив — во влажные ветры полуостровов, — с повторенными в море огнями ресторанов (там скрипка звенит откликом цыганского разгула…), в свистящий плеск ветвей и парков. Сходили в муть, в обрывы, там металось довременное мраком, нося отраженные звезды, шуршали колеблемые над ветром покрывала. Прижимались друг к другу холодноватыми от ветра губами, полными улыбок и тоски, и волны были сокровенны и глухи, волны бросали порывом это хрупкое, драгоценное в мехах к нему, уходящему, и девушка, приникая, шептала:
— Мне сегодня страшно моря… Я вижу глубину, она скользкая и холодная.
И он, может быть, этот, ушедший с любимой к морю, может быть, другой — там, в городе, у сумеречного памятника, может быть, еще третий и сотый — в ослепительных зеркалах ресторанов — повторял, торопясь и задыхаясь:
— Любимая моя, эта ночь — навсегда. В эту ночь — жить. Мы выпьем жизнь ярко! Ведь любить — это красиво гореть, забыть все…
И снова в туманы, теплые и влажные, кричала сирена, летели, валясь назад, загородные кварталы, трущобы бедноты и керосиновых фонарей. А влажные туманы просвечивались и утончались; раздвигались; рос и ширился в золотистом зарезе ночной полдень улиц; раздвигались перспективы, и гуда, ринувшись, потеряв волю, мчались машины — в арки громадных молочноголубых сияющих шаров.
Это Доре.
Замедлен, лет плавных крыльев; еще толчок — и стали, качнув бриллиантовую эгретку. И еще и еще, обегая полукруги, стекались авто; убегали; спархивали, стопывали на асфальт засидевшиеся телеса, ловко оталиенные, цилиндры, плюмажи миссий, драгоценные манто, аксельбанты сиятельных: туда — в кружащиеся монументально зеркальные зевы.
Уютный подъем лестниц, сотворенных из ковров, растений и мягких сияний; утонченно почтительные поклоны лакеев, перехвативших на лету крошечное пальто бритого, тучного, с обвислой сзади оливковой шеей; у зеркал на повороте краткая остановка блистающей подруги, и за ней причмокивающийся, щурящийся через монокль взгляд того, с выпяченной челюстью — в атласный вырез, в розовую роковую теплоту.
Спутник сжал рукой палаш. «Наглец!» — хотел крикнуть он, но девушка умоляюще, нежно сжала локоть.
— Это же известный… парижский… Z… — Офицер почти приостановился, подавленный: это качались на лакированных носках, шаловливо посмеиваясь, сумасшедшие алмазные россыпи, мировая нефть… Надо было улыбнуться, хотя бы дерзко, но любезно — в прищуренный испытующий монокль, в бриллиантовую запонку пластрона — мы не варвары, мсье!
И за портьерой открылась сияющая вселенная: проборы, орхидеи, белые снега грудей, бриллианты, голые плечи, летящие в блаженную беспечность, выдохи сигар, смех и говор беспечных. Пьянели залы, опеваемые смычками. Был вечер у Доре, был час, когда — жить…
Рты, раскрываясь, давили горячим небом нежную сочащуюся плоть плодов; распаленные рты втягивали тонкое, жгучее, на свету драгоценно-мерцающее вино; челюсти, сведенные судорогой похоти, всасывали, причмокивая, податливое, жирное, пряное.
Смычки окутывали мир.
Вставали — откуда? — преисполненные спокойствия и обилия вечера, любовь на закате, у тихого дома. Качались задумчиво головы опьяненных; грустили ушедшие куда-то пустые глаза, смычки терзались в идиотическом качании, мир исходил блаженной слюной. Шептали, безумея:
— Любимая, мы будем потом навсегда, навсегда… Будет ваш парк в Таврии, пруды, солнце… Мы будем одни! Парк, звезды твоих глаз… Как хочется забыть жизнь, моя!..
— А завтра?
И вдруг тревогой колыхнуло из недр, смычки кричали режуще и тоскливо: дуновением катастрофы пронеслось через зальные, бездушно сияющие пространства. И тучный, с выпяченной челюстью, задрожав, встал в ужасе из-за дальнего столика, выкатывая мутнеющие глаза…
…А на много верст севернее — за дебрями ночи — из дебрей ночи прибежали двое в английских шинелях с винтовками и, показывая окоченевшими, дрожащими пальцами назад, крикнули заглушенно: «Там… идут… колоннами… наступление…» Зазвонили тревожно телефоны из блиндажных кают в штаб командующего, ночью проскакали фельдъегери в деревни — будить резервы; зевы тяжелых орудий, вращаясь, настороженно зияли в мрак: три дивизии красных густыми лавами ползли на террасу. Из штаба командующего, поднятого на ноги в полночь, звонили: немедленно открыть ураганный огонь по наступающим, взорвать фугасы во рвах. И в ночь из-за террасы ринули ураганное: пели все сотни пулеметов, винтовки; и еще громче стучали зубы в смертной лихорадке. Прожекторы огненными щупальцами вонзились ввысь — и вот опустились, легли в землю, в страшное, в оскалы ползущих… но не было ничего, пустые кусты трепыхались в ноябрьском ветре, мглой синела безлюдная ночь, огненный ураган безумея и вихрился в пустых полях…
— Ложная тревога! — кричали бледные в телефон — в штаб командующего; и те двое, прибежавшие из ночи, тут же легли у каюты начальника дивизии, пристреленные из нагана в затылок…
А из стен, с высот, нависло, росло… и вдруг, под рукой надменного метрдотеля погасли огни, где-то визгнул гонг; подтолкнутый ужасом, тучный рванулся, прижимая вилку к груди, коротенькими безумными шажками добежал до прохода и упал, хрипя. Взвыл гонг, погасли залы, эстрада вспыхнула малиновым неземным сиянием сквозь вязь волшебных растений — и знаменитая баядера выплыла из сказок, из томных лун, заломив голые руки в алом… Бесшумные лакеи бежали к лежавшему, бережно и почтительно будили за плечо, но поздно: на губах трупа густела и склеивалась кровь.
И когда в темноте — в пьяное, и жадное, и тоскливое дыхание притянули девушку, она сказала изнеможенными и влажными глазами: да, можно все.
* * *
Глыбы черных этажей, пылающие изнутри. Каменные аллеи улиц, пустые, чуткие после полуночи.
Остановиться у фонаря, глядеть в тихое насильственное сияние его в безглубом. Не кажется ли, что делается потайное, страшное за зловещей безмолвью? И им, в этот час и им, несущимся на бесшумных крыльях авто, сжимала сердце тревога, плывущая с пиров.
Раскрывались зеркальные зевы гостиниц, распахивались портьеры комнат, принять тех, кто возвращался спать, усталый, со ртом, раскрытым от наслаждений. И тени бесшумных любовников скользили в зеркальные двери: цилиндры, ярь губ, заглушенный стук палаша, черный шелк Коломбины, опущенный на бровь. И в кабинетах — в полузакрытых, упоенных глазах, в объятиях последней ночи — были закаты гаснущих уходящих веков…
А на площади, оцепленной гигантским канделябром голубых фонарей, — и где еще скрещивались фонари кварталов, где звонко и безлюдно процокали последние рысаки, летя в кварталы, — безглубая тишина поднялась ввысь, в мировое пространство. Никла вселенская ночь. В мутной обреченности площадей, на фонарях висели трое, с покорными понурыми головами, глядя себе в грудь черными впадинами глазниц…
К зеркальным дверям поднесли рысаки. Двое поднимались в темно-красные, отуманенные мерцанием слабых светов бесконечные ковры. За портьерой, полной мрака и невнятного благоухания чужих, любивших и ушедших, повторялось вдруг: площадь, опрокинутая в безглубое, трое висящих — и где-то в черных пропастях та полночь, жуткая ужасом и позором… Девушка прижала ладони к бьющимся вискам; вдруг в близящиеся к ней с мукой и обожанием глаза тихо засмеялась, слабея…
И шла или стояла ночь. В сказках щемящим разгулом выл бубен баядеры. Или звенели неисходным пространства гаснущего рая, в зеленоватом тумане заката, последнего на земле…
* * *
…Пели гудки в тусклом брезжущем окне. Рождался день; он был, может быть, в навсегда. Распахнули окно — в зелень высот, в холодное играние рассвета. Пели гудки; по асфальтам — из переулков, из кварталов, из трущоб шли, тихо перекликаясь, безликие, утренние; шли в гудки.
В непогасших лампах комнаты тени вчерашнего, не-, проснувшегося, жили еще. В постели клубочком спала подруга и был округл в усталой синеве драгоценный очерк ресниц, ушедших в себя.
В жесткой ясности восхода свет. Утренние шли в сумерках асфальтов, за ними четкость будней, жизнь. Кто-то, бережно целуя руку спящей, глядел, тускнея, в окно; день оттуда восходил, как смерть.
V
На побережье готовились к смотру красных войск.
С севера пришли армейские и дивизионные автомобили со штабами. С курганов открывался плац, в песках, под полуобгорелой ржавой крепостью, оставшейся от древних степных царств; там знамена и серые квадраты батальонов зыбились под ветром, как поле; от опушки изб кольцом, теснился глазеющий народ. Был: день перед боем, день, нахмуренный в безвестье…
На плаху среди поля вбежал без шапки косматый, чернобородый, яростный. Шинель, сбитая ветром, сползла с плеч. Волосатые голые руки выкинулись из гимнастерки, кричали в поле, в толпы, в бескрайний ветреный день:
— То-ва-ри-шши!
О последних черных силах, о солнечных рубежах, за. которыми счастье, хлеб и вечера, как золотеющая рожь. Хмурые батальоны молчали; бесшумно знамена плескались под плахой в желтом свечении горизонтов. А в горизонтах лежали поля, рыжие, пустые, холодные; и бесконечная тусклая свинцовость вод, уходящих в муть: там была жуткая лютая грань, оплаканная матерями.
Гигантское полотно колыхалось за плахой. И как призраки — в серых ветрах дня Красный и Черный всадники сшиблись в вышине грудями огненноглазых, бешено вздыбленных коней. Кто кого раздавит в сумерках полей, в смертельной схватке… А за ними уходит ночь, и брезжут рассветы красной золотеющей рожью.
Это есть наш последний и решительный бой…Оркестры играли. Просторы мощно и задумчиво разверзались, грустью наплывали замедленные певучие ветры: колыхались знамена застывших батальонов. Перетянутые ремнями накрест ротные семенили перед фронтом. Около командарма, в центре круга, собрались начдивы, начальники штабов. Начальник Пензенской дивизии, мигая Озябшими веками, нагибаясь, обидчиво говорил:
— Вы на моих-то картинок обратите внимание, товарищ командующий. Не солдаты, а босая команда! Где же справедливость, а?
С рядов летела придушенная команда:
— Ра-вня-й-айсь!
И вдруг, после паузы застывших движений — ревом барабанов и труб ударили два оркестра. Колоннами повзводно шли батальоны. Тысячи ног били по песку мерно и четко. И в степи — от медных и певучих стенало откликом — гортанно и грустно; пело о бурях и прекрасных веках.
Был на рубеже времен желтый день в полях, и в нем торжественный церемониал толп на пепелище пышного когда-то степного царства, командарм и штабы, вытянувшиеся, пронизанные трепетом идущего, и ветры, и безвестье неизжитых, неизволнованных дней…
И под пенье гортанных торжественных фанфар видел командарм — шли, наступая, ряды, кося глаза ему в грудь. И впереди всех двое — их встречал он где-то: они запомнились навсегда, как рыжий день, как мерзлые пустые поля. Крайний с фланга рослый парень с красным обветренным лицом, в черном заплатанном пиджаке, в опорках, укутавший шею в красный дырявый шарф; и рядом с ним в австрийской аккуратной шинели и кепи, усатый, пожилой, с крупными прозрачными глазами.
Пели трубы, тысячи ног били в песок, и желто просвечивали поля — безгранные; и эти двое шли (за ними еще тысячи и тысячи); в пенье фанфар шли упоенные — на крыльях сказок о прекрасных веках — парень в дырявом шарфе, закинув голову и орлом глядя вперед; другой, опустив веки (крупные и впалые), утонув в далекие брызжущие сны…
Проходили ветераны Пензенской дивизии. Командарм знал эти израненные, окровавленные остатки.
— Спасибо, товарищи!
— Служ… ба… ре-во-лю-ции!
Железные птицы гудели в зените. Закат из-за далеких рубежей дрожал в облаках и на крыльях птиц червонной дрожыо. Как ветры, бесконечные, безликие провлекались ряды, в безвестье, в забвенные волны. И вдруг прекрасным стал вечер; или чудесным переход фанфар: будто уже нет тех, кому надо завтра умереть, будто прошли века, прошумели все бури, и стерлись все письмена, и в успокоительных прекрасных временах поют чудесные песни о них, полузабытых тенях…
Проходили части Железной дивизии, с причудливым разнообразием обмундированные: в гусарских венгерках, в офицерских шинелях стального цвета. В командарма впивались огрубевшие от боев и походов глаза — и в них было то же оторванное, чуждое уюту, бездомное, как у него самого. Шли тупомордые броневики, безглазые и безлюдные, слепо поводя щупальцами пулеметов. Рыча гигантскими гусеницами, ползли глыбастые суставчатые танки, те самые, о взятии которых насмешливо кричали советские радио в Париж; еще не смыта была внутри кровь перерезанных белых танкистов. И белые танкисты, оставшиеся в живых, вели танки церемониальным маршем; дойдя до командарма, они заставили вертеться волчком их чудовищные, потрясающие землю тела: танки отдавали честь командарму. И шла суета сует. Газетные корреспонденты бегали в соседние избы, лезли в погреба заряжать фотографические камеры, народ глазел и ахал. Сумерки падали, омрачая пески.
Вечерея, уходили ряды вдаль, в темно-кровавую пыль, в навсегда. Суровей и настойчивей дул ветер на залив. В волны, в муть гортанно грустили трубы, уходя в бесконечное.
VI
И еще день прошел.
Вечером — в Даире — восходило огненным:
СВОДКА ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Красные перешли к позиционной войне.
Наши части завершают перегруппировку, готовясь к очередному разгрому большевистских армий.
На всех фронтах спокойно.
И еще через минуту:
— ДОРЕ —
Несравненнейшая
Анжелика Асти
Балет! Открытая сцена до утра!
Элегантные кабинеты!
Но кто-то уже проведал о красных лавах на побережье. На тайной неуловимой бирже платили безумное — бриллиантами и золотом, чтобы попасть в секретный план эвакуации, лежавший в несгораемом шкафу в кабинете главкома. Панический шепот шелестел в улицах. На рейде дредноуты дымили загадочно и угрюмо.
Ночью в степном городке горели факелы и строился корпус генерала Оборовича. Под звездами, сняв шапку, генерал сказал:
— Прощайте, братцы. Помните: идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию.
Корпус шел в боевой резерв: его берегли для решающего момента. Первым скакал в степь офицерский эскадрон. Просмеявшись беспечной лихостью, гинул он в пустыню, где замкнулась за ним ночь навсегда…
И еще позже — в селе Перво-Николаевка, что на северном берегу залива, было так:
Красноармеец Микешин, сидя перед пылающей печкой в волостном исполкоме, где разместился взвод, доел последнее сало, аккуратно подрезая его ножичком, обтер тряпичкой рот и, посасывая зубом, сказал товарищу, что лежал животом на полу:
— Кончил, Юзефка. Ну, и сала же попалась вкусная, лихо ее забери…
И лег рядом.
В избу вошел секретарь исполкома, кривой инвалид, которого заели в боковушке солдатские вши. От бессонницы решил кое-что поделать для завтрашнего праздника — годовщины, полез по лавкам протирать портреты вождей, потом из канцелярского шкафа достал два красных свертка. Солдатам крикнул:
— Помогите, што ль, лозунга-то развесить, эй!
Никто не встал: все спали, а то нежились, жмурясь и затягиваясь из цигарок. Кривой протянул один плакат над окном, но для другого не хватило места, да и работать одному разонравилось. Микешин поднял голову и от безделья разбирал:
МЫ — МИРУ — ПУТЬ — УКАЖЕМ — НОВЫЙ…
Секретарь сел к, печке, к теплу и прикорнул. В полночь велели собираться. Взводу назначено было идти в головной колонне, роздали ножницы для резки проволоки и гранаты. Микешин подтянул ремешок, поглядел на спящего секретаря и взял, подмигнув, оставшийся красный сверток.
Ночь стояла без дна, без края; после тепла сонно и дрожно зяблось. Ротный обходил, считая людей.
— Первое дело, братва, не шуметь, ни гугу… Мы его на печке живьем сцапаем! Слушать команду…
В бездонно-черном белые пожары далеко-далеко играли, трепетали, качались, вспыхивали огоньками: это вправо нервничали за террасой, щупая ночь прожекторами и ракетами. На заливе и впереди стоял глухой морок, шуршала и тревожно гудела только где-то земля. То шли к берегу тьмы тем с прибрежных деревень, волоча за собой артиллерию.
— Взвод…ар-рш…
Прошли мимо темных ометов за околицу, полезли под откосы. За откосами начиналось высушенное ветрами морское ложе. Микешин отошел в сторону, снял опорки и быстро, на ходу, перекрутил ноги плакатом: старые обмотки истлели, а братва говорила, что придется лезть через море. Впереди колыхались по земле багровые тени — это на берегу, сзади, жгли костры, чтобы не сбиться идущим.
И справа далеко-далеко шли и качались белые пожары. Они светили в пустые поля, где не шел никто… А в сухое море сползали из мрака тьмы тем, уже железом орудия загромыхали по откосам, под мягкое глухое ржанье, скатываясь в неезженный морок. Головные ушли далеко. Понемногу скрылись костры, только зарева их тлели обманно, призрачно. Микешин сказал Юзефу: «Друг за дружку давай держатца, братишка…» И вот стало все глухо, черно и мертво, как на дне.
Через час взводный учуял что-то впереди и прошипел: «Ложись!» Тогда пригнулись к земле и полезли дальше, сжав зубы…
Так начался знаменитый удар командарма N.
Всю ночь молчали аппараты.
И с рассвета тусклые облака пошли от моря на страну. В пространства ползли полчища облаков — неслышно, могуче, бездонно. На рассвете тревожные звонили в кабинет к командарму: «Дуют ветры южных румбов, восемь баллов…» Из бессонного кабинета верные и четкие шаги отзвучали в сумерках коридоров к аппаратам. Свинцовый рассвет глядел в окна: рассвет ли, день ли, годы ли? И опять:
— С частями за заливом связи нет. Слышна канонада на побережье…
Перед террасой с севера лежали полки: ждали. Вот-вот должно было: вспыхнуть зовами, заревами в далеком — за террасой, загудеть из моря позади смятенного, не верящего еще противника; и тогда, с севера — ощетиненным потоком взреветь на террасу — в крик, в крошево, в навстречу.
Но в облаках, тяжких, лизавших угрюмые, лютые массивы, уже шел рассвет; за массивами продолжал лежать враг, хитрый, настороженный, и сзади его все молчало… На рассвете, не дождавшись, потоком разъяренных, опасливо пригибающихся к земле, хлестнуло на террасу и — разбилось о камни: отхлынув, легло человечьими грудами во рвах, в мглистых плоскостях плацдарма…
С моря дул ветер.
И с моря бежало ручейками, серо-грязными озерами — бежало хлябями тусклых высот; затопляло дно залива, взрыхленное ступнями тысяч. В слякоти, в озерах, глубиневших каждую минуту, хлюпали резервы, брошенные вдогонку ушедшим. Свинцовым поясом стояли воды у берегов, в водах тонули дороги. Не было дорог. И опять:
— Немедленно, по приказанию командарма…
— Все меры исчерпаны. Связи нет…
На рассвете грозой пробило из-за моря. Это они, прижатые к берегу множества — прижатые к морю — в туманы били грозой. В море шли резервы, изнемогая, по колена в воде; с материка выгоняли деревни в воду — мостить плотины — задержать море. Деревни хлюпали базарами в воде, путались ленивыми, вязнущими телегами, плотины росли — осклизлые, зыбкие, седые — и таяли тотчас: ветер и воды пожирали их.
Командарм стоял у аппаратов — серый, как тень, от железной бессонной ночи — может быть, единственной в жизни и — в истории. Аппараты молчали… и вдруг — из дальнего, из прорвавшихся ослепительных снов — крикнуло грозой:
— Есть. В двенадцать часов без выстрела форсирована терраса. Противник бежал, угрожаемый красными дивизиями с тыла. Соединившиеся части атакуют первую линию Эншуньских укреплений.
Армия была за террасой. Рубеж был перейден. Полки лежали на солончаковом плато перешейка — перед последней тройной линией заграждений, опутавших узкие дефиле озер. Сквозь шестидесятиверстную даль — через шипы железных проволок — через гарь боя — и командарм видел уже счастливую синь долин…
Армейские автомобили мчали к террасе. Конно-партизанским дивизиям, еще замешкавшимся у залива, было приказано: стянуться на перешеек через террасу. Но через террасу был переход в двенадцать верст; а с перешейка уже дышало гулом, дрожанием недр; там начиналось… И, хрипя от нетерпения и злобы, конные свалились под берег, ордой забурлили — в воды, в кипящую муть.
VII
Был день — из жизни, из снов ли? — во мгле его остались седые плескания волн, кому-то понятные передвижения в тумане прибрежий — вперед — назад, обреченность переступивших через черту, стоны, матерщина озверелых, немолчное татаканье, бледные в рассвете зарева зажженных хуторов — в избе, на минутку, хлопнулся Микешин бедрами на пол, отвел в сторону потные волосы и пил, тяжело дыша, из котелка.
— Ну, и вода же здесь, Юзефка! Соленая-рассоленая, аж с нее пить хоцца! И железой отдает… Вот ты какая местность, а!..
И потом Юзеф лежал рядом, за бугром, в вечерении синих озер, и в этот беглый огневой треск отдавал свою долю, ложась ухом на приклад, едва открывая веки, усталые, запавшие — какая мечта, какая боль за ними?.. А впереди выло и ахало железом из-за озер, рвалось, ураганилось сзади, в безводных солончаках, заревами вздыбливалась пыль, и в пологах пыли, в ночах пыли и дыма тупо и лениво ползли суставчатые серые громады в синь озер.
— Садуны-то! — всхлипнул Микешин. — От зажварят теперь! Крепись, Юзефка!..
Танки шли прорвать первую линию дефиле. На хуторе, в пяти верстах сзади, сидел командарм с начдивами и штабами дивизий: танки были его воля. За танками бросить в прорыв всю армию — в последнее, в Даирскую степь. И на минуту вдалеке смолкло татаканье сотен пулеметов, только ухало и дышало железным гулом в земле — это танки подошли к окопам, и, не переставая, били мортиры из-за озер. И вдруг слева застрочило, запело, визгнуло медными нитями ввысь — и в степи, в озера бежали поднимающиеся из-за бугров, бежали пригнутыми, разреженными токами в крик и грохот, где танки плющили кости, дерево и железо; из-за бугров подходили еще, пригибаясь, и тоже бежали, и за ними еще зыбилось нескончаемое поле масс — до краев степей, до мутных вечереющих заливов: это был вечер, исторический вечер 7 ноября — первый прорыв левого сектора Эншуньских дефиле.
На карте одноверстного масштаба командарм зачерчивал математически рассчитанные параболы движений. Он думал: это уже завершение, конец.
Но это было не все. За озерами стоял свежий, нерастраченный корпус генерала Оборовича: его берегли к концу. И теперь час настал. Когда левый сектор белых, окровавленный и разбитый, сползался за вторую колючую сеть и пешие настигали его железом, сбыченными лбами, глыбами танков — он рванулся с правого, растекаясь в просторы тучами конных фаланг. Это с убийственным вращением лезвий, с тусклым холодом глаз — в бреши живых, теплых, раздавливаемых тел мчались те, которые уже были убиты.
Была мгновенно прорвана тонкая завеса пеших против правого сектора. Конные растекались уже сзади — во взбесившиеся обозы, в марширующие резервы, в лавы опрокинутых, зажимающих головы руками. Корпус обходил фланг армии. И еще дальше — заходя правым плечом, корпус выходил в тыл армии. Над армией был занесен отчаянный удар.
На дорогах, в тылу наступающей армии нависло тревожное. В долах метались спины масс, крики и гиканье плыли из-за холмов. У хутора, где стоял штаб, рвались с привязи фельдъегерские лошади, вставали на дыбы, били копытами по лакированным крыльям автомобилей. Командарм вышел и глядел в степи: там творилась смута.
Корпус выходил в тыл армии, загоняя ее в мешок между дефиле и заливом. Впереди корпуса офицерский эскадрон лихих, беспечных, смеясь, мчался в смерть. Жадно раздувались ноздри — и в близкой гибели, и в вечере, и в зверином шатании масс была острая жизнь, было пьяное, жгуче-одуряющее вино. Им, за которыми твердели века владычества, верилось в гениальность маневра, в легкость победы, над диким, орущим и мечущимся безголовьем.
Командарм был спокоен, может быть потому, что знал закон масс. От командарма скакали фельдъегери к конно-партизанским дивизиям с приказанием немедленно выступить на поддержку частям. Но не успели доскакать: дивизии уже шли сами, дивизии, мокрые от усталости и воды, проволочившие свои телеги и пулеметы через море, — шли прорвать дорогу в кочевья, где молоко, мясо и мед. И еще — они хотели пить.
Черной пилой колеблясь в горизонтах — от залива до залива, тяжко неслась лава коней, бурок, телег, прядающих грив — в вечереющее. Это шел конец. Против прорыва, зияющего между заливом и скопищами армии, развертывались гигантским полукругом телеги, подставляя себя под бешеное паденье мчащихся фаланг.
На левый сектор только еще дошла тревога из тылов. Пешие не знали, куда идти; глыбастые громады, огрызаясь пулеметами, отползали назад, их били в упор подкатившиеся почти вплотную орудия. В водовороте стоил Микешин, большой, с кроваво-красными обмотками на упорно расставленных ногах, кричал в лезущее:
— Юзеф, Юзеф, где же ты? Давай друг за дружку держатца! Уходют, слышь, Юзеф!..
Из-за второй линии озверелые лезли догонять отходящих, били гулы, выпыхивали молнии из стальных зевов, расстреливавших почти в упор, на картечь… Во вселенском бреду, на земле, под ботами тысяч, лежал Юзеф — боком, поджавшись, земляной и убаюканный… или не он, может быть, а еще сотни других. Над ними кричал Микешин, охрипнув, разевая в гуле будто безмолвный рот:
— Братишка, аль же в тебя попало, а? Дружок! Слышь, Юзеф! Эх, друг-то ведь какой бы-ыл…
И, обернувшись к озерам, махал винтовкой.
— Жлобы!.. Вы! Напоследок и его, а-а-а!..
Рядом, из сумерек, упирался в бегущих ротный, гололобый матрос, тряся маузером, визжал:
— Бежать? Шкурники! Трусы!.. А революция, бога вашу мать? Первого на месте… сам!.. Назад!..
В этот миг заездил вперед и назад полукруг телег: на них обрушились, хрипя лошадьми, эскадроны. И брызнул огонь — с телег, страшных, двигающихся, разбегающихся, косящих невидимыми лезвиями пулеметов. В конных тучах скрещивались пулевые струи телег, секли, подрезали, подламывали на скаку, клали колоннами наземь; опустевшие лошади, визжа, крутя головами, уносились дико в муть. Распадались перебитые кости, чернели рты, исцелованные вчера любовницами, в кровавое месиво, истоптанные ногами, сваливались улицы, фонтаны светов, изящество культур, торжественные гимны владычеств… А телеги мчались по лежачим взад и вперед на ржавых скрипящих осях; мчался Петухов на пролетке, в одном френче, с цигаркой в зубах, держа локти наотлет: сзади рябая, сжав зубы, строчила железом; грохотала и пела смерть гнусавыми визгами.
И с флангов из-за телег сорвались и ринулись конные, крича «дае-о-ошь!» невидимой в ночи массой подъятых кулаков, пик, бурок, прядающих грив. Обратно в правый сектор уходил, истекая кровью, корпус. А в левый, в пролом, бежали опять матрос и Микешин и за ними груды потных, хрипящих, злобных от жажды — «дае-о-ошь!» — и вот: на второй линии полег матрос, повиснув через проволоку затылком почти оземь, и на правом — мчась в табуне визжащих взбешенных коней, рухнул тот, в бурке, черноусый, рухнул вместе с конем, завязив размозженную голову ему под шею. И через них и за ними в сеть оскаленных проволок, ям, блиндажей неслись телеги, бежали пешие, скакали конные; далеко за озерами, прильнув к гриве лбом, уходили остатки последних, глядя назад тусклыми выпуклыми глазами.
Конец.
* * *
К ночи прошли укрепления, под откосом, в степной речушке, пили пресную воду. Микешин лег на живот, пробил прикладом ледешек и пил, а потом камнем уснул тут же на берегу. И легли еще множества и спали. И в снах — сквозь зарево, жуть и кровь — успокоением сияли в мглах светы.
Ночью, в ста верстах восточнее, у Антарского мыса, двинулись еще множества и в полночь форсировали пролив. Шли по пояс в воде, на берегах толпами пылали костры, в пролетах вздыбленного моста пылали факелами керосиновые бочки, пронзая дугою зарев ночь. Противник ушел. В заревах армия форсировала пролив, и множества пили пресную воду на том берегу и, упав камнем, спали на теплой еще от вражеских ног земле.
И командарм в далекой избе, на попоне, завернувшись с головой в шинель, спал не спал — видел зарева, висящие в безднах, и идущих из черных снов, в века.
VIII
В ночь противник оторвался от передовых нагоняющих частей и сгинул в степях. Вперед были брошены конно-партизанские дивизии — настичь отходящего и не дать ему сесть на корабли. Из-за террасы — с севера шли резервы, вразвалку, в накинутых на плечи шинелях, за ними волочились бесконечные обозы в солончаках; резервы шли на смену усталым от трехдневных переходов и боев частям. Но боевые части встретили пришедших матерщиной и насмешками и сменяться не пожелали — впереди уже светились млечно-синие долы Даира. Резервные бригады тоже не хотели оставаться в тылу; полки их втиснулись кое-как между полками Пензенской и Железной, и на рассвете, скрипя и гудя тысячеголосым, армия повалила по большакам на юг.
И правофланговая Заволжская армия, проделав заход правым плечом, выходила на магистральный тракт к Даиру. Запоздавшая благодаря маневру, она наткнулась там же на обозы далеко ушедшей N-й армии. Но армия не хотела прийти последней; она свернула на проселки, там понеслась вскачь на подводах и повозках, задыхалась пешком, волочила рысью артиллерию, бросая застрявшие орудия у зыбких рухающих мостков на степных речонках; и с тылов двинулась конно-партизанская — прямо в неезженное, сбритое осенью и утрамбованное копытами белых — три армии бежали наперегон в островную даль. Ближе и ближе чудились брошенные богатства городов; золотом крыш горело из сказок… С пересохшими ртами бежали кочевья потных, иструженных, ведомых снами…
Далеко впереди катились, расползаясь по радиусам степей, армии врага: к кораблям. С презрительной усмешкой, свертывая с дорог, отделялись от них последние из мертвецов Оборовича. Эти не хотели уходить: скрываясь в горах, поджидали идущих с севера, чтобы напасть, убить, еще раз умереть…
И дальше — в бушующей мути крутились корабли бежавших. Еще грузились у берегов: толпы бежали по дамбам, топча брошенные узлы и тюки, под бегущими зыбкой обвисали и трещали сходни, с берега кричали и проклинали оставленные, гудки кричали угрюмо с берега в нависающую жуткую расправу и смерть. Черный дым с судов, не оседая на зыбь, куревом ночи полз у прибрежий; дикая смятенная ночь шла.
В ночи гул дальних. Все ближе на города надвигались раскаленной тенью костров.
Командарм выехал в рассвет — в степь.
Были пустые поля, теплеющий иней на развалинах разбитых хуторов, за курганами невнятная, огромно восходящая заря, как грань времен. Ночь грезилась за спиной, будто черные дремотные ворота, вставшие до высот. Заглушенно гудел мотор, главными крыльями пожирая пространство; мерцающая дорога, обложенная лошадиными трупами, кружительно пробегала назад. Трупы… трупы со вздутыми боками, с оскалом челюстей, за горизонтами опять трупы, недвижные, как вещи… Тысячи, коридоры из тысяч… И заслышав шум, стаи трупных собак, пригибаясь брюхами к земле, отползали в поля, облизываясь, глядели на дорогу фиолетовыми кровяными глазами, мутными от страсти…
В сумерках истории, в полуснах лежали пустые поля, бескрайные, вогнутые, как чаша, подставленная из бездн заре…
Как это? Русь, уже за шеломянем еси?.. В бескрайном курганы уплывали, как черные — на заре — шеломы: назад, в сумерки, в историю… Где-то сзади раскинулось в рассвете поле битв, еще бредящее кровью, криками, гарью; пустынно брошенные, не раскраденные еще деревнями на топливо, стоят рогатки с сетями колючек, разметано железо убийц, кости, помет животных, ямы, зияющие сумраком. Ветер треплет лохмотья бурки, повисшей на железных шипах в безумно-наклонном полете вперед… И тишина плывет над полем битв — дневная тишина запустенья; плывут, осыпаясь неуловимыми пластами забвенья, времена.
……..
Перед сумерками авангард ворвался в Даир. По площади копыта отзвонили пустынно и гулко. Авангард подскочил к углу трех улиц, где над каменной рябью мостовых свисали со стен небоскреба алые флаги непоколебимо, как металл: Ревком. Под балконом, потрясая пиками, авангард прокричал свой дикий и радостный вызов. И с высоты из-за решетки, ликуя, наклонялись маленькие, безумно юркие, в пиджаках и без шапок, махали руками и кричали в приливающие ощетиненные низины:
— …приветствуем…
— …пусть услышат угнетенные массы мира!..
— …да здравствует!..
Из далей, перспектив, как прибой, мчались конные, рассыпая в улицах крик телег и дробь копыт. С низов махали шапками, из опрокинутых лиц тысячи горящих глаз глядели ввысь — на ниспадание алого, на гаснущие алебастровые химеры небоскребов, на каменные арки культур — там оркестры веяли волнами слав — из раскрытых пересохших глоток, из спертых зыком грудей выло:
— …а-а-а-а!..
С окраин, из доков, из трущоб бедноты шли вставшие из земли, давя улицы множеством, зыбля алые лохмотья над зыбким океаном тысячеголовья, и от них, еще невидимых, из сумеречных кедр стенало:
— …а-а-а-а!..
В порту глыбями и насыпями громоздилось изобилие вспоротых пакгаузов и складов — тюки, ящики, остовы машин, брошенные задыхающимися на бегу. Цепи конных отеснили берега и порт, сторожили, покуривая, глядя в невиданную тысячелетнюю даль; зыбь шла туда зеленоватым сведением, словно из-за горизонтов заря.
Улицы вспыхнули от синих, бесконечно убегающих огней. В светы изумленные смеющиеся глаза тысяч глядели, как в утро. Из этажей, из стеклянных подъездов выходили нерешительные, спускались на асфальт, кривясь ласковой и боязливой улыбкой, помахивали тросточками: «И мы рады, и мы тут!..» — выходили, осмелев, женщины напудренные, со сладкой горячкой глаз, шепчась, улыбались обветренным и хищно скалящимся галифе. Мутным, радужно-болотным оком вчерашнее глядело, догасая…
В особняке черного переулка, оцепленного конными, угрюмыми и молчаливыми, осудили последних, захваченных у взорванного туннеля в горах. За безлюдьем переулка ширился гул и крик, вещающий о рассветах: резко и жутко прогрохотал грузовик в мраке у ворот.
А ночью пришли полки. Массы расступились под железным упором рядов. На правом фланге впереди шел рослый, с обветренным красным лицом, в новой английской шинели, с ногами, красными, как кровь; глаза, не мигая, упоенно глядели перед собой в крики толп, в пенье труб, в светы культур. Из глоток мощным выдохом ревело:
Не надо нам монархии, Не надо нам царя, Бей буржуазию! Товарищи, ура!Промчавшийся из степей автомобиль, замедленный полками, стал на перекрестке. На шествии бесконечных, на сиянии пространств — недвижим был в остром шишаке профиль каменного, думающего о суровом. Полураскрытый рот хотел крикнуть призывно и властно.
Армия, командарм вступали в Даир.
СЕВАСТОПОЛЬ
Мы были моряки, мы были капитаны — водители безумных кораблей
Часть первая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Железные ворота школы прапорщиков стояли наглухо запертыми два дня. Все, что творилось в эти дни в Ораниенбауме — в парке, в дачных улицах, взбулгаченных и сорных от солдатни, в привокзалье, беснующемся гудками день и ночь, — все гулы и движения восставшего десятитысячного гарнизона опадали здесь невнятно, не проникая за твердыни каменных цейхгаузов и корпусов.
Горсть юнкеров, моряков и матросов учебной команды, оставшаяся верной царскому правительству, отсиживалась с непримиримым упорством. Необычайная пустота упала на ограды и плац во дворе, заносимые снегом. У безлюдных ворот матрос — часовой каменел неподвижно в башлыке до глаз, со штыком, навсегда приросшим к плечу. В неподвижности были столетьями затверделое послушание, присяга, смертная казнь.
С утра, не переставая, дуло от залива косой пургой. Пухлая оглохшая мгла ее крутилась вплотную у юнкерских окон; мир из них стал смутен, почти невидим: в глухоте, в безвестье. Только полтораста юнкеров наверху, полтораста матросов внизу: кроме не было ничего.
Юнкера бродили вдоль огромных запотелых окон обеденного зала, куда раньше заходить в неурочное время запрещалось, возбужденно галдели:
— Говорят, уже подсылали делегатов, но наши не приняли.
— Моряки никогда не пойдут к этому сброду!
— А почему гвардейский экипаж в Петрограде перешел?
— Ерунда, провокация…
— Моряки, во — первых, кадровые. Во — вторых, дисциплина…
Впервые за четыре месяца оба этажа — юнкерский и матросский — остались наедине. Впервые пристально, по — новому подумали друг о друге. Впрочем, думали главным образом наверху; а думали ли — и о чем — матросы, не мог знать никто.
Юнкера никогда не спускались вниз; лишь на ученьях с насмешливым любопытством наблюдали этих румяных курносых старательных здоровяков с пузами, туго и жадно набитыми казенной пищей. И вспоминали при этом щедрый плакат полковника Герасименко, висевший на кухне: «Желудок — путь к сердцу матроса…» Матросы же поднимались наверх, чтобы, по наряду, наярить юнкерские полы мокрыми хвостатыми швабрами, накрыть в положенное время столы, вытянуться в бегучей готовности за юнкерскими скамьями.
Прочее матросское терялось куда‑то в безликую полуарестантскую казарменную муть.
И кто знает, что теперь копилось там, в этой мути…
Вестового Лабутьку, несколько раз ходившего в город на вылазку, в юнкерских дортуарах угощали папиросами и расспрашивали обо всем с дружеским заискиванием. Добрый и вороватый полковник Герасименко то и дело захаживал вниз побалагурить. Матросам льстили его похабные полуотеческие шутки, и они гоготали наперерыв, почтительно стоя между нарами. Дежурный по кухне, юнкер Белин, коротыш со степенными усами, окончивший юридический, прогуливался для виду мимо матросских дверей, норовя каждый раз залезть туда, глазами. Но там было то же, что и всякий день: шеренга тщательно прибранных коек, чернеть винтовочных дул в изголовьях, крутые, в грубых парусиновых блузках, спины, согнутые каждая над своим делом.
Нет, матросы спокойны.
Через каждые полчаса Белин носил наверх новости, собранные от поваров и вестовых. Вокруг него сразу сбивалась толпа. Задние влезали на стулья, чтобы лучше слышать.
— Не мямли, говори скорее, богомол!
У Белина в шкафике около койки имелся целый набор икон: потихоньку открывал дверцу и молился всякий вечер.
— Арсенал разграбили, братцы!
— Слыхали, это еще ночью.
— …а кронштадтцы объявили ультиматум: если забастовщики не прекратят безобразия и не войдут в казармы, то откроют огонь с фортов.
— Молодцы кронштадтцы!
— Это моряки, черт возьми!
Белин сдвинул назад по ремню неудобный палаш, к которому до сих пор не мог привыкнуть (на что он ему, уютному семейственному человеку, гадающему каждое утро, какую погодку пошлет господь?), отирая платком тяжелый пот.
— Да… а если снаряд сюда попадет, снесут все к сукиному сыну.
— Эх, трус! Там наводчики-камендоры — народ опытный.
— Они по дачам будут бить, где пулеметный полк.
— А еще, братцы, часовню… ту… у вокзала — разбили, лавчонки тоже, перепились… Что делают, сукины дети, а!
Юнкера недоуменно волновались. Почему не принимают до сих пор никаких мер? Взбунтовались, очевидно, все пулеметные полки, находившиеся в городе, — до десятка тысяч маршевого, недисциплинированного, полуголодного сброда, давно уже ненадежного и косо посматривавшего из‑под своих грязных папах на офицеров, даже на опрятных и сытых матросов. Такие, захватив арсенал, могли разнести в щепки не только лавчонки, но и весь город.
— А послезавтра был бы выпуск… — досадовали в зале. — Теперь торчи здесь черт знает из‑за чего.
Елховский, бывший гардемарин, попавший в эту школу из корпуса, откуда его исключили за развращенность, бледный, презирающий всех этих интеллигентиков, «шляп», из которых четыре месяца военной школы не могли выстрогать бабьего слабосердечия, нехорошо усмехался у окна:
— Вот вам армия, которую воспитали прапорщики и студенты. Трусы… мародеры… только грабить!.. Дайте мне роту кронштадтцев и пулемет, — через час вся эта сволочь будет на коленях!
В пурговом крутеве за окнами совершалось безмолвное нескончаемое шествие.
Солдаты возвращались из привокзалья в парк, на свои смрадные дачки. Брел запасный бородач в длиннополой расстегнутой шинели и, горбатясь, тащил на себе оленьи рога, по — видимому, они его очень забавляли, — шел и сам себе склабился. Шли косматые папахи, пошатываясь, обнявшись сразу по трое, с винтовками, в пулеметных лентах через плечо; другие тут же трезво и деловито проносили, кто что успел — банку с вареньем, ящик, кулек с воблой, электрическую арматуру, самовар… Против часового переходили на другую сторону и, оскалившись, кивали на юнкерские окна.
Грозили, что ли?
— Позор!.. — кто‑то истерически названивал кулаком по стеклу.
— Оставьте, бросьте, Мерфельд, все равно ни черта не сделаете, они дождутся!..
Елховский бредил, прижавшись рогатыми бровями — бровями демона — к стеклу:
— Даю честное слово… Если этим негодяям позволят и дальше… принесу винтовку и каждого без промаха… с как-ким наслаждением!
И палец конвульсивно подергивался, сжимая и отпуская невидимый курок.
Стоявший рядом Шелехов слушал его с боязливым отвращением. Ему, попавшему сюда прямо с университетской скамьи, в недрах юнкера Елховского всегда чудился какой‑то неразгаданный гнусный остаток: тайные постыдные традиции корпусов с онанированием малолетних кадетиков, скрытый под одеждой гной каких‑нибудь грязных болезней… Елховский принадлежал к чужой, враждебной касте, заранее, с юности приучающейся с деревянным высокомерием смотреть на штатских и на нижних чинов. Такие Елховские, надев офицерские погоны, недавно могли почти безнаказанно зарубить студента, вроде Шелехова, просто за непочтительный взгляд…
Но все‑таки Шелехов слушал его. И странно: слова не только отвращали, но притягивали чем‑то смутно и неотвязно. Может быть, Елховский только с грубой от кровенностью высказал то, на что со стыдом и злобой начинали тайком надеяться многие из этих полутораста запертых человек, издерганных вконец двумя днями зловещего безвестья…
И какими иными способами остановить и вернуть в казармы одичалые скопища, становившиеся с каждым часом все разнузданнее и опаснее?
…Нет, это только на одну минуту. Никогда такие мысли не могли серьезно возникнуть у него, Шелехова, окончившего филологический, воспитанного русской общественностью и русской литературой, ни у большинства его товарищей, тоже окончивших или почти окончивших университеты и институты, по пятнадцать лет сидевших над книгами, с Кантом, с высшей математикой, с пушкинским кружком профессора Венгерова, с демонстрациями протеста, с идейными спорами до зари… Нет, все отпадет само собой, как внезапный дурной сон. Кронштадтцы не успеют войти в улицы, как эти сбитые с толку бородачи сами поспешат убраться в свои дачные ротные конуры, по-старому начнут топтаться по плацам, орать унылые солдатские песни.
В гальюне, через тусклое запаутиненное окошко которого был виден Кронштадт, устроили наблюдательный пункт.
За пургой форты и здания лежали на льдах залива плоско и дымно. Трехверстное отдаление было между ними и Ораниенбаумом. Неужели там еще ничего не известно?
Юнкера продолжали волноваться:
— Какого черта наши не запросят помощи, хотя бы по телефону? Если провода перерезаны, сбегал бы Лабутько.
Внезапно, возвещая тревогу, рожок проиграл из сумрачных лестниц.
Сбор… Сбор…
* * *
С лестниц гудело: в опустелый зал уже вводили и строили матросов. Взводные офицеры, озабоченные и пасмурные, вели своих юнкеров и выстраивали их двойной шеренгой напротив. Проверяя рыщущими глазами безукоризненную прямоту человеческого коридора, белесый стальной полковник Славский промчался бурей.
— Смиррр… Рррра-вне-ние…
Сотни глаз, скошенных на дверь… Генерал, начальник школы, шел на лестницах невидимой грозой. Офицеры застыли с ладонями у козырьков.
Начальнически небрежные, тяжелые шаги разбили бесчеловечную, опустошенную тишину. С заученным, неотрывным вожделением впились в вошедшего, ползали за ним глаза. Генерал остановился на середине зала и, опираясь на палаш, браво вскинул седеющую голову:
— Господа юнкера… И вы, ребята…
Он любил власть, величественные речи, атмосферу восхищенного повиновения. Страстью этого стареющего щеголя были церемониальные марши, которые почти ежедневно, под музыку, устраивал для него на юнкерском дворе полковник Славский. Полтораста юнкеров полупехотной-полуморской школы, вчерашних студентов, рота матросов — это все, что осталось ему, в добавление к генеральскому чину вместо адмиральского, после того как он посадил свой миноносец на мели Моонзунда.
— …Неслыханные события потрясают нашу дорогую родину. В Петрограде, воспользовавшись роспуском Государственной думы, исконные враги порядка пытаются возмутить население и воинские части.
Зал был все тот же — зал присяг, молитв, торжественных обедов — высочайший синеватый простор с блистающим иконостасом и портретом императора во весь рост. Но уже зловеще кренился — в отдаленный ветер каких‑то криков, свалок, вышедших шататься на улицу гарнизонов Петрограда, Царского Села, Петергофов…
Это была телеграмма от Родзянки к царю.
«…Молю бога, чтобы ответственность в этот час не пала на венценосца!..»
Слова звучали неслыханно, почти кощунственно. Значит, дело совсем серьезно, если генерал решился сказать их вслух даже перед матросами! Но нет, не было еще ничего, венценосец незыблемо простирался в коронованной золотой раме, простирался этими ротами, этой тысячепудовой тишиной.
— Я знаю… — генерал пробежал по всем зрачкам исподлобными пытающими глазами, — я знаю, среди верных своему государю юнкеров и матросов злоумышленники найдут самое… презрительное осуждение. Мы никогда не пойдем к этим (он через плечо показал пальцем на окно, содрогаясь от негодования)… к этим, которым нет названия за поступки, позорящие русскую армию. Правительство принимает меры, и безобразие будет прекращено во что бы то ни стало. Мы же, не теряя спокойствия…
Юнкера стояли в недоумении: они ожидали, что все будет грознее и решительнее. Речь генерала должна была напомнить колеблющимся о чугунной непререкаемой мощи государства, о страшных карающих образах, о выхрипнутых языках удавленников… Но он не хотел больше сказать ничего.
Полковник Славский, уловив незаметный жест, круто выгнулся перед матросскими рядами.
— Рота, напррра…
Матросов уводили. Торжественно выпрямившись, генерал провожал соколиным взглядом проплывающие мимо, не сводимые с него глаза. Жилой хлебный дух опахивал его ласково, как дань. Полковник Герасименко просеменил вслед, проверил, ушли ли с лестниц последние, и тщательно прикрыл дверь.
Так глазами приказал генерал.
— Господа, я просил вас оставить, — начал он негромко. — В эту минуту, когда смущение бродит среди малоопытных и малосознательных нижних чинов, главную надежду правительство возлагает на вас и на нас, офицеров… Господа!.. Великий полководец в битве при Трафальгаре сказал: «Летит, летит оно, невозвратное время!» Четыре месяца вы были нашими дорогими питомцами. Близок час, когда вы наденете офицерский мундир… когда перед достойнейшими из вас откроются горизонты… очаровательной морской службы[1]…
Его веки вдруг покраснели. Может быть, это была восторженная и горькая слеза о роковой ночи Моонзунда, заставившей его навсегда и непоправимо потерять море. Пробредились зеленые блистающие снега волн, палубы гудели и качались в океане. Женщина с узким солнечным телом выходила на красный теплый песок.
Море! Оно внезапно и сказочно давалось им, никогда не мечтавшим о нем путейцам, будущим уездным педагогам, адвокатам, банковским чиновникам. Их глаза смежались, подавленные невозможными образами.
Где‑то во дворе уныло, как перед убийством, защемил рожок.
Опять выглянуло, смахнуло грезы тусклое, еще не изжитое безвестье.
Генерал понизил голос:
— Не волнуйтесь, господа: это мы делаем попытку сами навести некоторый порядок. Полковник Славский выведет полроты матросов на улицы. Вам…
Стоногий топот мерно грохотал за ворота. Барабан выкрикивал сухую угрозу. Молнии гнало ветром туда, в городские мраки.
— …приказываю нести караулы повзводно… Не остановимся ни перед чем, даже перед применением оружия против предателей, которые покусятся на наше спокойствие. Еще раз повторяю: помощь будет скоро. Лучшая часть армии верна своему царю.
(Это про Кронштадт?)
…И взводы расходились, унося понурую задумчивость, но не забывая давать ногой чеканный молодецкий грохот. У койки юнкера Селезнева, болезненного, желчного, тотчас же собралась подозрительная шепотливая кучка своих; у Селезнева продолжались какие‑то таинственные связи с тем, что осталось за стенами военного училища, в университете, — теперь в этой кучке, вероятно, знали многое и говорили с опаской… Шелехов хотел подойти, но раздумал, — вдруг опять внезапно замолчат и посторонятся. Было обидно: он ведь не какой‑нибудь Елховский. Правда, он никогда не ввязывался серьезно в эти дела, но разве и он не таскал в свое время прокламации под студенческой тужуркой, не выходил на Невский вместе с жуткой, обрекаемой на побои и на смерть толпой?
А было нужно и важно о чем‑то спросить…
В другом углу маленький Мерфельд, ученик консерватории, горячился:
— Они не имели никакого морального права посылать матросов! Зачем нам впутываться? Мы держим нейтралитет, и больше никаких. К нам никто не мог придраться, пока мы никого не задевали. А теперь…
— Храбрятся, потому что всегда могут спрятаться за юнкеров. Черта с два, я им не полицейский, чтобы водворять порядок. Наконец, есть власти!
— Только озлобляют чернь!
Дортуары стали серо-мглистыми, бездонными перед вечером. В два ряда кровати под рыжими казенными одеялами; в изголовье шкафы и стойки с японскими винтовками Арисака, к которым привинчиваются широкие плоские ножи. Это оружие стало неотвязно-привычным, а после первых стрельб в метельном поле по мутным мишеням к нему — какая‑то холодная, тоскливая дружба. Когда будет нужно, не выдадут полированные черные стволы.
Сумерки шли, в них гасли разговоры, шумы, шорохи шагов. Настороженным ушам то и дело чудился за окном рваный, обезумевший залп. Самые слабые уже валились в койки, лежали с неподвижно раскрытыми в пустоту глазами, мертвея, ждали…
* * *
И барабаны грянули опять и оборвали у ворот.
С лестниц с гамом бежали дневальные, сразу затопало, ожило все. В несколько глоток орали:
— Идут! Идут!
В окнах после пурги мечтательно и мирно синела снеговая целина провинциальных крыш, вечереющих и туманящихся уступами в низы. Кронштадт восходил ранними огоньками. Матросы грудями вперед вплывали во двор, колебля волну штыков гордо и плавно. Все было по — всегдашнему безмятежно.
Обрадованно передавали из взвода во взвод:
— Вернулись, все благополучно.
Юнкера Белина затребовали из кухни: там внизу от матросов уже знали все.
— Дошли до лавчонок, в них народу — битком. Грабиловка! Славский скомандовал: «Прямо по шеренге пальба!..» А эта сволота отошла, смеется, белыми платками машет, зовет к себе. И Славский, черт возьми!., черт возьми, оставил, братцы, роту, вошел в одну лавочку и ножной их оттуда по задам, по задам! Они оттуда — ходу. А потом вышел и говорит делегатам: «Мы не будем стрелять в русских солдат, но негодяев и грабителей не пощадим».
— Ура, Славский!
— Обещали, что не допустят сами.
Юнкера счастливо улыбались, шли курить в гальюн, глядели теперь в окна с легким благодушием безопасности. Ничего страшного не было. Молодец Славский, какой такт! Вероятно, и все кончится так же — ничем. Какие‑нибудь дисциплинарные роты для зачинщиков или пошлют не в очередь на фронт — для острастки. Да и что спрашивать с несознательного мужичья, только месяц назад взятого под серую шинель?
И уже гоготали в гальюне над Катиным, который, сидя со спущенными штанами, произносил торжественную речь, передразнивая генерала, и уже юнкер Бестужев, один из немногих гардемаринов, начинал рассказы об океанском плавании, как всегда — с замечательным похабством. Этот женственно-тонкий, напудренный и рано полысевший мальчик успел хорошо изучить мировые публичные дома Порт-Саида, Сайгона, Александрии и хвастался, что знает сто четырнадцать способов любви и женщин всех цветов. В такой вечер эти города вставали где‑то желанно в пожаре опасного и мрачного обольщения… юнкера-студенты толпились кругом с папиросами во рту, они льстящим хохотом признавали чужое многоопытное превосходство в подобного рода вещах, они просили еще.
— …Интересная желтая народность… во французском Индо-Китае… Как она, Елховский? Да, да, аннамиты! Так у этих аннамитов, господа, очень оригинальный обычай: обязательно угощать гостя собственной женой. Особенно иностранцев.
— Ха-ха-ха! Вы, Бестужев, тоже угощались?
Гардемарин с загадочной улыбкой пускал дым из тонких губ.
Вдруг дуновением мрака, непоправимой беды пронеслось:
— Кронштадт… — давился кто‑то из зала.
Дневальные мчались из коридоров, сшибая встречных с ног, растерянные, хриплые.
— Лампы, тушите лампы!..
Юнкера бросали папиросы, давка хлынула за двери.
— В чем дело, господа?
Шелехова донесло вместе со всеми до зала, прижало к подоконнику. Тесно навалились сверху дрожащие, жаркие.
Ко всем окнам молча тискались, глядели.
Против калитки, на снегу стоял отчетливый матрос: франтоватый, с черными усиками на пряничном румяном лице (он, пряничный такой, мучил потом в кошмаре…). Матрос, ехидно усмехаясь, калякал с часовым, нахально расставив ноги и убеждал его в чем‑то. Часовой не отвечал. Матрос подошел ближе, вынул из кармана полную пригоршню конфет и швырнул с размаху к его ногам.
Над Шелеховым чьи‑то зубы скрипнули стеняще. Кто‑то понял, что это — гололобая, с ленточками, стоит и смеется ненависть, пришедшая убить. Полтораста жизней зависели в эту секунду от часового. Он стоял с той же смертельной неподвижностью.
Матрос помедлил, презрительно оглядел его и, резко рассмеявшись, ушел.
И тотчас же пошли новые, в черных аккуратных бушлатах, вызывающе глядя на окна. Около часового останавливались, долго говорили, каждый лез в карман и швырял сласти под неподвижные сапоги, в снег.
В зале узнающе шелестело:
— Кронштадт… Кронштадт…
Была нечеловечья напряженность в рыжем стоячем башлыке, в ровных, как у мишени, плечах. Все неслось мимо них, не касаясь, — дым, дикий сон. Кучами валялись сласти на пустом снегу.
Где‑то в коридоре юнкера поймали Лабутько, опять ходившего на вылазку, окружили, лихорадочно расспрашивали. Он уже не заискивал, только глуповато хохотал, преувеличенно ужасался, сипел шепотом. Тьма вступала в комнаты, коридоры, дортуары.
И внизу у матросов была тьма.
От генерала принесли приказ: всем юнкерам немедленно одеться и быть готовыми каждую минуту в боевом снаряжении. На случай попытки бунтовщиков прорваться в школу — ночью взводам по очереди дежурить в засаде под сараем, против ворот. Остальные могут спать, только расстегнув ремень.
Поздними сумерками и сам генерал и полковники прошли в лекторскую: в казенных квартирах, во дворе, было опасно, они приготовились провести ночь около юнкеров.
Тогда же стало известно все:
«Кронштадт восстал. Командующий крепостью, адмирал Вирен, растерзан. Из офицерских трупов сложили гекатомбу[2]. Матросы идут на Ораниенбаум, на них, чтобы истребить эту сволочь, которая вместе с офицерьем топила нас целыми баржами в пятом году…»
И Шелехову вспомнилась полунищая студенческая комнатушка на Петроградской стороне, с изуродованным диваном, с гнилым углом, заваленным газетами, сором, студенческим барахлом, — вспомнилась теперь, как уютное, невозвратимое, только сейчас оцененное счастье.
…Был февраль тысяча девятьсот семнадцатого.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В большом парадном зале, окна которого выходили на улицу, огня не зажигали совсем. Взводы ужинали по своим спальням. Матросы волокли столы из темноты, на цыпочках бегали с тарелками, как всегда. От сумрачных керосиновых ламп были совсем безликими они, каждый, как пропасть. Далекое желание металось у Шелехова, может быть, и еще у многих: схватить одного из них за руку, затащить в лихорадке на лестницу, вышептать страстно, страстно, в самую душу:
— Друг, слушай, друг, ведь мы — студенты…
В темном углу зала затаился юнкерский караул. За черным проулком, в городе, верхи стен и стекла верхних этажей горели от празднично сиявших по низам газовых фонарей. Выпаливали из винтовки за парковой гущью.
— Голову от окна! — яростно шептал старший.
По взводам слонялся для ободрения полковник Герасименко. Его не встречали ни оголтелым воплем «стать, смирно!», ни оцепенелой вытяжкой: формальности на этот вечер отпали сами собой. В четвертом взводе юнкера рассаживались на ужин за длинным столом, мешкотные и неуклюжие в неурочных своих шинелях. Пламя свечей шарахалось над тарелками с холодной кашей.
— Ну что, каково? — спрашивал полковник, облапив сзади с шутливой дружественностью Мерфельда: и на всех лились добрейшие его, для хехеканья собранные морщины. — Ничего, на фронте всегда вот так будет. Привыкайте, привыкайте!
Юнкер Катин, отмеченный красным родимым пятном во всю щеку, по обыкновению валял Петрушку и нагличал:
— Мы на фронт не попадем, не для этого в адмиралтейские поступали.
— На фронте честная смерть! — резко отозвался Елховский. Он не ел ничего. — А погибнуть от этой… сволочи…
В злобное рыдание сорвался крик.
Полковник растерялся, оглянулся назад воровато — в лестницы, в матросью темноту, замахал руками:
— Ну уж… Ну уж… Помолчите вы, Елховский!..
На лице разгладилось, посерело, мигали маленькие, загнанные службой собачьи глаза. Выпала теплота их, хитрящая, нарочная.
— В Царском вон… говорят… георгиевские кавалеры приехали с фронта… Вы еще подождите…
Моргал с шепотом верующим:
— Вы подождите!..
Юнкера заерзали, вцепились вслед:
— Да стойте же, господин полковник, расскажите же! Чего же скрывать, мы взрослые люди, господин полковник!..
Герасименко, отмахиваясь, семенил дальше, в другие взводы.
Время шло к девяти, к вечерней «зоре». Вся армия и флот России должны были, как и каждый вечер, замереть на две минуты навытяжку, в бездыханном, благоговейном молчании. Разве и сегодня, в дикий, небывалый вечер, будут прислушиваться друг к другу, через тысячеверстные дали разрушающегося, гибнущего государства миллионы, одетые в клейменую, обреченную, освященную столетиями солдатскую шинель? Будут… В казематных сумерках строили юнкеров; в нижнем этаже, перед койками, строили матросов; невидимый горнист на дворе опрокинул в небо безглазое свое лицо.
Последняя перекличка — в казармах, в постоялых подвалах… на Кавказе… за Двиной… по льдам.
— Елховский.
— Есть!
— Катин.
— Есть!
— Софронов.
— Есть!
— Шелехов.
— Есть!
……..
Вот гнусящее пение трубы — в безднах темени, верст…
— Смиррр…
Шумы опадают с рядов, как палые листья. Лишь из дальних комнат равнодушные стуки, бормотанье: возит по темному полу прикладами юнкерский караул. Двумя рядами недвижных, летящих вперед подбородков застывают юнкера. В сводчатых низах, остолбенев, выкатив круглые груди, выкатив лихие глаза, закаменели матросы. В падях ночи, в городах, в казармах, в февральской пурге, в слякотных ямах тыловых окопов — неподвижные каменеют шеренги, вытягивая руки по швам, слушая, как в темени поет, вынывает в нелюдимую высоту рожок — собачью, солдатскую свою тоску, походы, царскую службу, темень, темень, темень…
— На молитву!
Вся школа строится, как будто тайком, в помещении четвертого взвода, перед мглистой иконкой в углу. Раньше выводили торжественно в зал, где блистал церковный иконостас во всю высоту. Раньше во все глотки ревели юнкера, давая выход озорству. Теперь Герасименко коротко приказал:
— Фельдфебель, читайте молитву.
И молитва была прочитана с запинками (фельдфебель-юрист знал «Отче наш» только нараспев), с сердитыми полковничьими подсказами.
…В первый раз «Боже, царя» не пели совсем.
* * *
Кое‑кто уже ложился: в два часа ночи четвертому взводу предстояло идти в караул во двор. Кое‑кто ложился и вставал опять: не спалось. Торчали у окон, но их гиблые пропасти выходили теперь в неведомые надворные постройки, в надкрышную мглу, чуть-чуть заревеющую от низовых непонятных огней.
Там ночь кидалась огнями, многолюдьем…
В просторном гальюне стало трудно протолкаться. Свечные огарки оплывали сквозь неистовое курево. Шелехов лазил среди шершавых шинелей, искал тоскливо, около кого бы постоять, отдохнуть в разговоре.
От ночи, от непоправимого надо было бежать, затиснуться во что‑нибудь с головой.
И говорили только о том, что было где‑то за этой ночью, перескакивая через нее, — о производстве, о будущем, о войне. Может быть, так и будет: как‑то пройдет, перетечет в обычное эта ночь (обыкновенная день за днем пойдет жизнь), и скажешь после себе:
— …но паскудные были минуты, до чего я издергался тогда!..
Юнкер Бестужев опять разглагольствовал с уверенным, слишком уверенным спокойствием:
— Мне черт с ними и с баллами, пусть выводят какой хотят. У меня есть заграничное плавание, пойду к дяде на миноносец флаг-офицером. Он обещал написать требование в адмиралтейство.
— Счастливец вы, что у вас дядя. А тут вот сунут в экипаж, оттопывай взводное учение с новобранцами.
Шелехов подошел к Софронову, с которым был все-таки ближе, чем с другими. Тот стоял спиной к горячей печи, полузакрыв тяжелые медленные глаза, сладостно впивая в себя тепло. Он был хорошим рисовальщиком, по дружбе отделывал топографические кроки для Шелехова, внося в них альбомное, дилетантское изящество.
— Софронов, а вы куда после производства?
— Я? — Он не то улыбнулся нехотя, этот тяжелый и старчески-солидный юноша, не то жмурился от сладкого тепла. — Я, Шелехов, решил остаться во флоте совсем, сдам экзамен на штурманского офицера.
— А ваш университетский диплом?
— Что же, университетский диплом не помешает. Знаете, у кого самая красивая форма? У сумских гусар! Я с гимназии мечтал попасть в Сумский полк, а отец отдал меня в университет. Помните: «Кто в купчихах знает толк — то сумских гусаров полк…» Что же, флотский офицер не хуже гусара! Материально это неважно, у нас с отцом небольшое именьице, но хватит.
Шелехов подумал, скрылся за эту ночь — в юнкерские дортуарные сны, столь не похожие на студенческие, в беспутно возникавшие и пролетавшие желанья.
— Море? — спросил он.
И полохнуло по сердцу оно, не виданное в великолепии своем еще никогда.
— Да, море, — тихо повторил Софронов, жмурясь.
А Шелехов с горечью в эту минуту поверил, что именно его‑то и пошлют куда‑нибудь в экипаж или береговую канцелярию: слишком достаточно еще для моря кадровых моряков. У него нет ни дяди во флоте, ни отца с имением, чтобы готовиться на флотскую должность. Была только когда‑то мать в уездном городе (городок в ветлах, в сумерках юности), горячая худенькая старушка, после смерти отца вечно стучавшая на ремингтоне. На машинке выстукала его гимназию до шестого класса, дальше уже сам пошел по урокам, по стипендиям, по жалостным ходатайствам. А мать осталась в городе, продолжала стучать, выпивала, и пьяненькую любили ее подразнить как‑нибудь в гостях уездные, казначей, о. Ефим соборный, городской голова, убедительно упрашивая:
— Романсик, романсик, Прасковья Николаевна!
И тоненьким голоском выводит маменька, горячая старушка, сама не зная, что на потеху:
Я вас ждал-ла… с без-зумной… жажж-дой счастья…И слезы бегут из закрытых глаз, и не видно ей, что прыскают, не стесняясь, кругом уездные… А Сергей уже далеко — в университете, в Петербурге. Есть такое общество — «Имени профессора Миллера»; там, если подать убедительное прошение, заверив материальное состояние свое подписью десяти товарищей, — непременно дают талоны на бесплатные обеды, денег по пяти рублей, шинель, калоши. Сергей Шелехов писал прошения очень убедительные и литературные, и в прошениях всегда упоминал про мать — дескать, в глухом городе, в чахотке, надо помогать. С тех пор она и стала только в воображении, бумажная чахоточная мама для пособий, а живую не видел годы… Потом умерла.
…И в те же годы студенчества бежали каждое лето поезда на юг, полные осчастливленных, избранных людей, окна прекрасных комнат горели в мглу Морской, Невского, окна невероятного мира, обещанного в будущем и ему — он в это верил. И мчался по панели, в пальто, выданном ему по прошению, и в таких же постыдных калошах, и шумели, шумели волшебные дожди юности, ночные дожди Петербурга…
А теперь вот куда кинула жизнь.
Он сказал Софронову:
— У меня никого нет — ни дяди, ни имения, у меня только есть…
И так расслабило его сладкой теплотой воспоминания, что потянуло пустить в свой тайный мир кого-нибудь, вот этого Софронова, — все равно разъедутся на всю жизнь, может, послезавтра.
— У меня есть невеста, чудесная девочка…
И возникли перед глазами резкие губы женщины с чувственной и ядовитой усмешкой. Праздничные бальные отсветы падают на юное припудренное лицо. Музыка торжествует, кружит, раздирает воздух.
Такая приходила и томила в снах.
— Софронов, я расскажу только вам одному. Она из тех курсисток, которые упорно работают в разных научных кабинетах, возятся с дифференциалами и интегралами, ее хотят оставить при университете. В то же время носит узкие модные юбки, лакированные туфельки, пейсики вот здесь под ушами — знаете, эти пейсики и такой хохоток женщины, которая… ну, которая умеет любить особенно… И вот так бывало: у меня в комнате поздно ночью мы спорим, она лежит на кушетке, мы серьезно и горячо спорим, как два врага… ну, о чем, например?.. Я борюсь с ее тонким, насыщенным книгами умом, и вдруг, вдруг, Софронов… понимаешь, вдруг броситься на нее, не дав досказать, сорвать всю эту культурность, брать ее, ломать, понимаешь, как это!..
Софронов, стеснительно косясь, сказал:
— Она была тогда у нас в приемной в лиловом платье?
— Да, — подтвердил наугад Шелехов, не зная, точно ли в лиловом.
— Я видел, она интересна.
…Но ведь не было, не было такой женщины никогда. Людмила в самом деле кончила Бестужевские курсы[3] и уехала в свой уездный город, где отдыхала, готовилась работать в гимназии. По вечерам, правда, он встречал ее в своей комнате. Тогда был телесный голод и непомерные требования в жизни; но вместо того мира, глядевшего из недоступных окон, получал он девушку, закутанную в пуховый платок, прилежную курсистку, нежную простой и теплой материнской нежностью, полноватую, зачесанную гладко, как зачесывают себе волосы деревенские девочки (он ссорился из‑за этого, но она лишь лениво улыбалась). И под пуховым платком податливо и скромно утишала его телесный голод.
Она тоже приехала из Петербурга в первое воскресенье, когда родным и знакомым было разрешено навестить юнкеров.
В приемной собралось много женщин; сидели на мягких диванах, сияли абажуры — тюльпаны, пахло духами, и было душно, почти горячо. Юнкера пришли с голодными блистающими глазами. Они чувствовали себя новыми и обаятельными в глазах женщин, они сами были опьянены собою — в надетых в первый раз синих фланельках с открытой грудью, с золотыми жгутиками погонов — моряки, черт возьми, уже уплывающие в пространства океанов. И женщины глядели на них влюбленно и, почти не стесняясь, льнули интимным тянущимся движением, давали гладить свои руки. Здесь были красавцы, как Елховский, с бровями демона, как огромный синеглазый фельдфебель Пелетьмин. Шелехову ли в его плохо перешитых складчатых, с отвислым задом штанах было равняться с ними! Он сидел как скованный, не смея ступить в эту прекрасную жизнь, не смея встать, познакомить с кем‑нибудь Людмилу, острить вместе со всеми, медленно и изящно куря, — оба они сидели, чужие всем.
Но все‑таки и его заразило чудесное праздничное настроение. Людмила на людях стала иной, на нее упали отражения шелкового прекрасного мира, и когда юнкера провожали своих гостей через темный двор и когда провожал ее Шелехов, она смеялась в темноте таким же податливым мучающим смехом, и он сжимал ее на этих ста шагах, валил ее в снег, безумный, как и все остальные мальчики…
Из дальнего мирного вечера глянула она, и глянули запоздалая жалость и раскаяние… Как часто он был несправедлив к ней! Два месяца не отвечал на последнее письмо.
…Юнкера кругом густо курили, волнуясь, толкались кучками, иные оголтело спорили. Неожиданно для себя вмешался в разговор с Селезневым, грубо, с наскоку, будто в воду бултыхнулся:
— Да, вы говорите — народ. Наш народ легко развращается, он жаден и жесток. Всякое народное движение должно быть организовано идейно, всякая революция. А это разве революция? Хаос, грабеж, безобразие.
Селезнев глядел на него с раздраженным недоумением. Он до этого говорил с Труновым. И Трунов тоже обметывал Шелехова огненными глазами.
— Единственная мера — действительно стрелять… черт возьми! Что же, голову подставить под хамский сапог или идти вместе с ними грабить лавки? Видали, какие у них зверские рожи? Разве это революция?
— Ты будешь стрелять? — скривился из полутьмы Трунов.
— Буду! — злобно выпалил Шелехов, обида вспыхнула за все — за сломанные, издерганные дни, за маменьку, за Людмилу, за несбывающиеся волшебные комнаты — и обида, и жалость, и неправота…
Селезнев опустил глаза на его сапоги, подождал и процедил медленно:
— А ты ведь университет кончил.
Хотелось крикнуть — да, кончил, да, в свое время и прокламации таскал, рискуя всем, да, у него нет ни дяди, ни приличных друзей, хотелось всему изломаться в каком‑то мстительном припадке… но только круто повернулся и ушел.
* * *
Сказали, что в зал через окно тенькнула первая пуля.
В дортуаре четвертого взвода было полутемно, мутные кучи в шинелях лежали по койкам. Дневальный ходил вдоль стены под приспущенной лампой, стерег ночь. Лампадные отблески на винтовочных дулах, между койками, нехорошо напоминали о просторах церкви, о погребении, о двадцати пяти боевых патронах за поясом.
Шелехов прошел к своей койке и прилег.
Он устал, все кости пели от усталости — замучила шинель, не снимаемая целый вечер. Хотелось, чтобы скорее запутались мысли, обволоклись мутной ватой забытья.
Было одно средство: покрепче стиснуть глаза и отдаться особенным мечтаньям, всегда одним и тем же, знакомым до мелочей, мечтаньям о себе, о невероятных днях, которые придумались как‑то сами, во время ежедневной докучной ходьбы по петербургским улицам от студенческой комнаты до университета.
С тех улиц он принес свои мечтанья и сюда — в казарменные безрадостные стены. В тяжелые минуты тайно расстилал перед собой их небывалые ярко — цветные ковры — и забывалось, легчало…
Возникла в воображении вечерняя тишина историко — филологического кабинета, — он, дрожа от холода, пробирался к нему через сугробный, заваленный дровами университетский двор. То было начало, фон сладостной повести. Глухие половики, низкие лампочки над черной клеенкой столов, высокие полированные шкафы, полные книг, — от всего чуялось неслышное присутствие какого‑то тревожного, пока скрытого счастья. Студенты — будущие Потебни[4], будущие Белинские — сидят за столом, уронив головы к зеленым абажурам, или беззвучно роются в шкафах. Из их близоруких, затуманенных глаз выцвела молодость, как выцветает первокурсная ясная синева с заношенных студенческих петлиц. Шелехов смотрит на них с чувством сожаления и превосходства. Они и не знают, как хорошо уйти от этой книжной глухоты на мрачную средневековую лестницу, взять там от жизни какую‑то красоту, помечтать, покурить… За готическим окном, над дровяными штабелями сумеречно углится закат. Мороз лихорадкой пробирается под легкую тужурку. То — вечер из какой‑то баллады, в глухих старинных веках. Может быть, нежданная пройдет сейчас мимо белокурым туманом?..
Но дальше, дальше!
Вот кончен университет, начинаются туманные долины жизни. Шелехов избирает своей специальностью древнюю литературу. Он ездит по скитам, по дремучим монастырям, ночуя где попадется: в сторожке, в закутке под трапезной вместе с послушниками. Ведь были случаи, когда в монастырском нужнике откапывали драгоценную рукопись XV‑XVI столетия. И Шелехов ездит, терпеливо ищет; он знает, что к нему должна прийти необыкновенная удача, какая всегда бывает в снах. И в самом деле, он, наконец, находит то, чем грезили поколения ученых: волшебный заклятый список «Слова о полку Игореве», никем не прочитанный и не разгаданный до конца, второй список, единственный, кроме легендарного, сгоревшего в 1812 году. Больше, — он открывает отрывки современных «Слову» светских творений, едва угадываемых ученой гипотезой, он заново пишет блестящую главу о золотом веке древнерусской книжной поэзии XII столетия!
Тогда приходит слава!
…Его имя, неизвестное до сих пор, резко врывается в тишину благоговейных столов и кабинетов. Оно рождает почтительность и зависть среди близоруких комнатных людей, упорно корпящих над петитными сносками и примечаниями к чужим трудам. Оно, это молодое и дерзкое имя, прорастает в ряду других — старых, бородатых величавых имен Тихонравова, Ореста Миллера, Веселовского, Барсова[5]. Аудитория не вмещает всех слушателей, слушатели приходят со всех факультетов, для его лекций отводят огромный белоколонный актовый зал.
Но что книжная слава! Есть что‑то душное, старческое в звании уважаемого ученого, жизнь которого слагается из старомодного сюртука, профессорской курилки и кабинета, в котором никогда не пропьянеют женские духи… В жизнь, в жизнь, в поиски неведомого счастья! И вот однажды на рассвете знаменитый приват — доцент, о котором пишут статьи в газетах и журналах, надевает заплатанную поддевку и лапти, запирает за собой парадное своей квартиры и бредет невесть куда, в мшистый кочкарник архангельских и вологодских дорог…
Былинная та сторона. Еще при Грозном беглые скоморохи хоронили в ней клад своих чудесных песен и сказаний. За каменными увалами, в лесных чащобах живет исконный многонапевный, от самой повольщины нетронутый говор.
…В глухом сказочном краю встретится и та, которая мерещилась сквозь все петербургские годы. Не знал, кто она: может быть, увидел однажды на улице, в разноликой, текучей подфонарной мгле; может быть, прибредилась в голодной лихоманке… Но ей нес свою наполненность, свою глубину, полную необыкновенных венчающих ее видений.
«Я! Это — я!» — хочет ей крикнуть Шелехов… Нет, выскочило, мучительными чертами встало другое лицо. От него было не уйти никуда, от Селезнева. Теперь прочиталось до конца странное его выражение: это было казнящее презрение, страх за человека, усмехающаяся брезгливость.
— А ты ведь университет…
Шелехов раскрыл ломившие от бессонья глаза, торопливо натянул ремень и почти бегом сорвался в гальюн. Необходимо было сейчас же найти, рассказать, пусть казнить самого себя, но только стереть с чужого лица ужасную, клеймящую гримасу. Ему крикнули с лестницы:
— Голову, голову… Стреляют!
Он не обратил внимания. У окна в полуопустевшем гальюне стояли по-прежнему Селезнев и Трунов. Из первого взвода Кноррус, высокий и белесый, вытянутый, клонился к ним. Бормотали что‑то втроем.
Шелехов кинулся к ним, с жалкими глазами: вот я…
И вдруг отвернулись друг от друга, распались все трое, смолкли. Взгляды скользнули по Шелехову невидящие, будто его не было. Юнкера гуськом пошли к выходу.
Догонять было стыдно, было — невозможно.
И он добрел опять до койки, не разбираясь ни в чем, — нельзя было касаться чего‑то, как обожженного места, — свалил голову под винтовки, на тугую, словно землей набитую подушку.
Дневальный бродил меж коек, глухо смотрел в окно. Казалось, обступили огромные черные воды. Ночь только еще начиналась.
* * *
Без десяти два в отяжелевшей полутемноте дневальный обходил койки, тряс за плечи юнкеров четвертого взвода. Юнкера очумело вскакивали, в дверях вставшего взводного офицера видели еще как во сне… В углу, где трое мучились в сухой бессоннице, громче, храбрее заговорили.
— В караул… — бубнил дневальный.
Шелехов, насилуя себя, оторвал от подушки мутно нагрузшую голову. В глазах щемило, проносились и таяли красные светы сновидений. Церковные высоты комнаты, опять родившиеся для жизни, возвращали насильно неисходную отвратительную ночь. Взводный офицер, из первокурсников-юристов, прозванный за смазливость «конфеткой», полушепотом приказал:
— Стройсь!
Мелькали штыки-ножи, надеваемые на винтовки. Между койками шла бесшумная неспокойная кутерьма, юнкера суетились, наскоро застегиваясь, строились в шеренгу. У Шелехова вдруг тиском скомкало кадык, и зубы лязгнули несколько раз, лязгнули ужасающе громко. Под мутную стену товарищи подбегали и становились в ряды — неузнаваемые, чужие. Секунды летели молниеносно, непоправимо, каждая приближала безвестную пропасть черной двери, лестниц, ночи…
Как и Шелехов, каждый молитвенным шепотом приказывал себе:
— Конечно, не в нашу смену, не в нашу смену, у меня всегда все было обыкновенно…
Взводный скомандовал заглушенным голосом. Взвод вышел на лестницу, нестройно, не топая, спустился вниз. Из углов сводчатого перехода безмолвие нависало пудами. Что‑то делалось за ним, за этим безмолвием.
Ветер с невидимых снегов и улиц резанул по отепленному шинелью телу, пронзительно разбудил совсем.
До частых ледяных звезд, до дальних сугробных парков стояла она, насильственная, проклятая ночь, — может быть, последняя в жизни. Она вот хрустела снегом под неосторожными шагами взвода, она скрипнула дверью сарая, куда вводили в засаду юнкеров, она вонзалась в сознание всею собою, да, она существовала в самом деле.
Сарай был узкий и длинный, как гроб. Тут стало холоднее, чем на дворе: сквозь тьму чувствовалась леденящая изморозь, проступившая на каменных стенах. Скомандовали «вольно». Юнкера присели прямо на пол, на какие‑то бревна, обрывки сбруи, на колени друг другу, на щепки обыденного рабочего сарая, и колени гнусно, сладостно заломило.
— Слушайте… господа, — полушепотом позвал взводный.
Челюсти сдерживал Шелехов напряжением всего тела, всей воли.
— Если… что случится… не стрелять самим, слушать команду. Если из ворот… рассыпаемся цепью по двору… тогда залпом, после моей команды. Только после команды, слышите!
Для проверки переспросил еще раз (самого ненадежного):
— Селезнев, вы слышите?
— Слышу, — сухо дохнула тьма сзади, далеко за Шелеховым.
В руках взводного — самоуверенного недоучки-мальчика, биллиардиста, гуляки — лежала вся эта ночь и жизни тридцати юнкеров и жизни тех, призраки которых толпились за темными воротами. Слова о самом страшном были произнесены, значит, действительно все было на самом деле. И Шелехов не сдержал, и зубы сорвались— залпом, потрясая всего, грудь, плечи, ноги, как судорожное рыдание.
Закусил зубами шершавый рукав до ломоты. Винтовка вывалилась сама. Ужаснее всего было то, что когда будут стрелять, когда настанет самое страшное, он ляжет, как труп, только содрогаясь от омерзительных животных спазм. И зубы спазматически плясали, впиваясь в материю.
Услышал — и рядом еще лязгнуло у кого‑то. Стыдливо заглушаемый стук костяшек. Это Софронов.
Шелехов, корчась, лег на него плечом.
— Ты… — бил он зубами, уже не сдерживаясь, не стыдясь, — ты будешь… ст-т… стрелять?
— Н-не знаю… — выдавил Софронов, в голосе было что‑то похожее не то на стыдливую гримасу, не то на жалостный смех. — А ты?
— Н-не… знаю… — промямлил Шелехов. И неразборчиво, как в бреду, пробормотал: — …братья!..
И нахлынула злобная обида на мальчишку — взводного, на его дурацкую самоуверенную храбрость, на эту оскорбительную власть мальчишки над кровью, над жизнями и судьбой, может быть, драгоценнейших тридцати человек, из которых десятками лет готовила культурных людей страна.
Сказал в себя, как врубил:
— Я… не бу-ду.
А если сзади наставят дуло револьвера или все равно выстрелят другие, например Елховский? Тогда — вверх… Но если… если, озверев, ворвутся, будут поднимать на штыки, топтать и рвать юнкерское, ненавистное им мясо — а-а-а!.. тогда — стрелять, бежать в парк, сорвать погоны, в ленточках примут за того же матроса, тогда лесами в Петроград, в толпу, как иголка…
Глуше и ледянее стало. Сзади, за промерзшей стеной сарая — парки, страшный мир, откуда ползут, шарят по заборным проломам… Может быть, передовые уж проползли во двор, затаились в темных углах. Может быть…
— Ваше благородие, — зовет невидимый матрос со двора, из дозорных. — Ваше благородие, шумит.
В тишайшей смертельной пустоте сердце колотится, как чужой камень. От такой тишины тянет прилечь на землю. Взводный-мальчик один не бредит, он где‑то сторожко ходит во дворе, поверх ужаса и затишья, бормочет свое.
Сзади подползают, теснятся ближе к выходу юнкера, шелестят.
— Что? В парке? Ничего невозможного…
Офицер возвращается и с затруднением говорит:
— Господа, кто из вас согласен охотником? Там… немного неспокойно. Надо двоих, обследовать парк, у стены… Все‑таки лучше вы, чем матросы. Ну, кто? — он смеется. — Ничего особенного нет.
Тьма стоит в ответ. Пасть темного сарая, где притаилось тридцать жизней, стала безлюдной.
— Я! — говорит резко кто‑то и, спотыкаясь через сидящих, торопливо пробирается к двери.
Это Елховский.
— Я! — раздраженно говорит другой, идет, должно быть, сосредоточенно и спокойно, но в глазах ножи и презренье. И Шелехова, маленького, жалкого, корчат эти глаза, эта воля больших просторов, ясных, отчетливых просторов мужественной души.
Оба отошли один за другим, как волки: Елховский, Трунов. В снег, в невидное и стихшее тотчас. Тогда Шелехов подумал: пусть… Он знал теперь, что бросит винтовку, что все будет просто и будет все равно.
Ночь продолжала стоять на одной минуте, не сдвигаясь. В низовых улицах, должно быть, уже потухли фонари. От всего, что было днем, там осталась и шипела одна муть — те, что грабили, гнусно смеялись под окнами — сифилитики, уголовники, кандидаты в дисциплинарные роты, — это они, они придут, а не те, о которых Трунов…
Хрустнуло снегом.
Взводный за дверью высматривал, сторожил. Юнкера поднялись на винтовках. Трунов подошел к офицеру и доложил просто, пожалуй, даже добро:
— Никого нет, обошли всю стену… Так, прохожий какой‑нибудь.
Щелкали крышками часов, разрешили сами себе даже курить — в дальнем углу. Взводный ничего не сказал. И легкое успокаивающее ползло, как постельная истома.
«Четверть часа осталось».
Знали уже, что ничего не случится. Пустые глухие парки жили за стеной.
…И когда пришел на смену следующий взвод и стало ясно, что стены сарая навсегда останутся вечными безмятежными стенами и никогда не может быть того, что висело ужасом два часа, Шелехов, счастливый, нагнулся к Софронову и с пьяной добротой сказал:
— Софронов… — и локоть его прижал к себе нежно, любовно. — Софронов, я знаю, ведь вы тоже… тоже не стали бы стрелять!
И опять в постель, в теплую бесчувственную тьму, не слышать, не видеть ничего, пусть в это беспамятное время приходят, делают что хотят.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
И все‑таки на дежурстве четвертого взвода случилось.
Было это в полдень, когда взвод кончал дневное дежурство в зале наверху. Юнкера уже готовились сдавать караул, как юнкер Мерфельд крикнул неладно, подойдя к окну. Где‑то еще дико крикнули, в другом конце дортуара. За стеклами глухо и красиво заиграла музыка. Юнкера кинулись к окнам и не узнали пустынного до сих пор плаца: до самых дальних заборов кипело народом, ходило ходуном головами и красными флагами, через ворота, сквозь пургу, валило еще и еще.
Взводный пропащим голосом скомандовал:
— В ружье!
И Шелехов вслед за другими бежал в каменной черноте лестниц, ужасаясь самого себя, бежал впереди всех маленький Мерфельд с разинутым ртом, держа наперевес винтовку, заряженную боевыми патронами, стадом бежали остальные… Только одна мысль была о Елховском или еще о ком‑нибудь, кто, не дожидаясь никакой команды, мог сойти с ума и выстрелить сейчас же, в брюхо первого попавшегося солдата. И Шелехов с ужасом видел, что и взводный офицерик боится этого и потерянно мечется туда и сюда, зачем‑то натягивая дрожащие белые перчатки.
Юнкера стукнули к ноге и развернулись против толпы ровной бездыханной шеренгой.
Толпа тискалась к ним, заглядывала в чумные глаза, веселилась: она не знала про пули.
— Моряки с нами. Ура, моряки!..
Прямо на Шелехова лезла животом старая барыня, плачущая отчего‑то, с полинялой котиковой муфтой в руках. «А ее чего вынесло?» — досадливо подумал он, и ясно представилось, что именно вот таких убивают прежде всего, когда залпами, разгульно палят по площади… Если бы он вытянул винтовку, штык коснулся бы ее живота сквозь эту постылую предсмертную муфту. И он уже видел, как бледный мальчишка — прапорщик раскрыл рот, чтобы крикнуть команду. Но зубы у него сразу не разжались, он только вздохнул…
«Ага, и ты сдал!..» — подумалось Шелехову со злорадным самоуспокоением. У него затеплилась какая‑то надежда.
В этот миг полковник Герасименко в ужасе выкатился из дверей без фуражки, хрипел:
— Прапорщик, прапорщик, что вы делаете! Взвод, назад! Отставить винтовки… В помещение! Командуйте же, прапорщик…
Никто и не понял сразу, что это — жизнь. Это пришло потом, через несколько минут. А сейчас юнкера увидели вдруг, что толпа совсем не страшная, что она смеялась и играла. Пьяные от счастья, они бежали наверх, бросали ружья на койки, на окна, куда попало, смеялись, подставляя друг другу ножку, скакали: они не убили никого, можно было жить, жить! Что‑то огромное сместилось там, за стенами: какие‑то чудовищные, чугунные силы разминулись благополучно… Даже снеговые крыши сияли мягким уютным светом. Взводы вытопывали вниз чинно и торжественно, руки по швам, снизу выводили матросов, тоже в стройном порядке и без оружия. Офицеры хлопотали около шеренг самозабвенно…
И толпа понесла над своими головами бледного полусумасшедшего моториста в кожаном пиджаке с солдатскими погонами, пожиравшего кого‑то в верхах темными, запавшими глазами.
— Привет-ству-м вас… от имени сво-бод-но-го… вос-став-шего наро-да…
Вкось пошли, над пургой, над головами, красные лоскуты, шапки полетели кверху под общий рев: плакала старомодная барыня, и жиденький, потерянный где-то у дальних ворот, зарокотал оркестрик — ту, страшную доселе, столько раз казацкими нагайками и залпами кровавленную песню.
— …Товарищи!..
— …Пало прокля-тое… прогнившее… тысячи лет… насилия… рабства…
Выла марсельеза, ветер вырывался из земли, плясал народом, шумел, как пламя, — и костенела и леденела спина у Шелехова: все отдавалось в нем, как рыдание. Толпа неистовствовала, готовая броситься обнимать, душить вот этих самых упорных, но все же сдавшихся и стоявших теперь бравыми безмолвными шеренгами, покорно отдающих парад победителям. Толпа бесновалась, кидала кверху шапки.
— Моряки, ур-ра!.. С нами!
Вперед выходил матросский оркестр, один из лучших в гарнизоне.
Полковник Славский, оттесняя толпу, задом отбегал перед онемелыми строями и, по-боевому закинув голову, упиваясь нечеловечьим своим голосом, провыл:
— Колонной… по отделениям… ррравне-ние напрраво…
И после мертвой минуты звякнули стекла в высоте:
— М-м-а-рррш!..
Музыка рухнула — угрозой и грустью; иными стали парки, аллеи запорошенных улиц, тупое от пурги небо — как будто и на них отсветами легли неизбежное величие и единственность этих дней… Колонны маршировали, гармонично кружась своими заходящими рядами… В пустоте, перед стеной народа, стоял костистый и прямой генерал, стоял неподвижно в своей непримиримой надменности — он отдавал честь любимым, уходящим.
И юнкерские ряды, доходя до генерала, прижимали руки по швам и впивались в него скошенными преданными глазами. Их ноги били яростно и четко. О, такого лихого, исступленного церемониального марша генерал не видел еще ни разу в жизни! Это было как бы назло сбродной, мятущейся кругом черни. И генерал ловил только одни эти прощальные глаза, он махал им вслед растроганно своей кожаной перчаткой, он не желал видеть больше ничего…
А толпа ломила рядом по сугробам, махала шапками, забегала вперед — и не то насмешливо, не то завистливо орала, восхищенная этим бравым великолепием:
— Молодцы моряки!.. Молодцы!.. Ур-ра-а!..
* * *
А когда стемнело — ворота остались настежь на всю ночь, на плац через ворота поползли парки, полные сугробов и весеннего ветра, по плацу шлялись уланы в папахах набекрень, в распоясанных шинелях, галдеж до позднего, и строились зачем‑то матросы. По-настоящему уже проснулась, гуляла темная земля. Но было все равно юнкерам, потому что знали, что вечер — последний, что завтра — послезавтра отпустят совсем, и вокзальные свистки кричали о каменных, таких знакомых и желанных улицах Петрограда.
Возвращались из улиц поодиночке и компаниями, гуляли по залу, обняв друг друга за талию, присаживаясь дружественно у распахнутых пылающих печей. Им было о чем помечтать, поговорить накануне расставания. Но Шелехову все было чужое, терзающее. Неприютный уличный ветер, казалось, дул, шатался полным хозяином по комнатам, которые завтра опустеют насквозь… Одним из последних заявился Елховский, нахально взгромоздился на чью‑то тумбочку, прямо в шинели и мокрых сапогах, и залихватски сшиб фуражку на затылок.
— Слыхали, генералу по шапке дали? Вот и мы с ним теперь… свободные граждане…
И нехорошо рассмеялся, глаза были бесноватые, потерянные.
Новость передавалась из взвода во взвод. Начальником своим команда выбрала полковника Герасименко, а генералу осталась только школа.
Иные волновались:
— Конечно, генерал был немножко высокомерен, но дисциплина‑то, дисциплина‑то, батенька!
— Какой же теперь интерес быть офицером, если каждый матрос может?..
— Вильгельм‑то, наверно, руки потирает, а?
Но и это было уже чужое — в туман жизни отходили юнкерские стены, будто видимые уже издалека, прощально, из мчащегося в навсегда вагона… Мерфельд побежал в большой зал к роялю, которого ждал столько суток, ударил по клавишам изжаждавшимися пальцами, слабея от чувствительности, с полным слюны ртом.
— Все‑таки — как огромна и прекрасна, и многообещающа жизнь!
Об этом кричал и страстный металлический голос Трунова в другом конце дортуара. Там, у койки Селезнева, читались вслух мятые газетные листки, первые номера «Известий Совета рабочих и солдатских депутатов», где говорилось о новом, неслыханном Петрограде. Что‑то налаживалось и строилось уже поверх обломков и пепла, возглашало приказами, декларациями, постановлениями. А Шелехову вместо Петрограда представлялась какая‑то чужбина, ярко освещенная в полночь недобрыми огнями, похожая на солдатский бивуак, музыка и трупы на улицах, сумасшествие…
Нет, он чувствовал себя слишком отметенным в сторону, слишком издерганным, — это совсем не зажигало его.
И еще тревожнее, еще покинутее стало, когда во взводе показался Герасименко, новый, необыкновенный, торжественный, в неряшливо расстегнутой шинели и съехавшем под ней набок кителе. Его воспаленные от слез, восторженные глаза, смотревшие на юнкеров и не видевшие их, пугали.
— Дда… — сказал он наставительно и огорченно. — Вот, господа. Дожила Россия. Романовы‑то, Романовы-то какие подлецы оказались, а?
Сумасшедший холодок пробежал по телу у Шелехова — и у других. Трудно было поверить ушам. Все знали и презирали немного этого запуганного, угодливого перед начальством, забитого годами служебной лямки чиновника. И вот он… перед всеми юнкерами вслух. И о ком, о ком!
Или в самом деле непоправимо, навеки свихнулось что‑то в мире?
— Хотели ведь, подлецы, под Минском фронт открыть. Хорошо, Государственная дума телеграмму перехватила! А?
Юнкера глазели на полковника — одни боязливо, другие — с презрительной снисходительностью. Рехнулся от счастья, бедняга!.. А Шелехову понялось, что на волоске еще одна надежда. Как же тогда производство? Жди, пока там уляжется все на верхах, кого‑то смахнут, кого-то еще поставят. Трещит, накренилась 180–миллионная страна! Кому дело до каких‑то полутораста недопроизведенных юнкеров! А ему так хотелось пожить обеспеченной офицерской жизнью — хоть месяц — два, досыта поесть… натопавшись за день с матросской ротой, приходить в тихую комнату ночью, у отшумевшего самовара, забыв обо всем, безмятежно разложить под лампой любимые, просвечивающие заветными виденьями книги и тетради…
Все шло прахом.
А полковник, не видя, не понимая ничего, обнял забывчиво Селезнева, поддавшегося ему с уважением, и, сияя добрейшими морщинами, грозил кому‑то пальцем:
— Вы думаете, матросы — они не видят? Они все видят. Вы спросите генерала, куда от продовольствия экономические денежки‑то девались? Тыщи ведь! Он один их экономил? Так тоже нехорошо, господа. На одно жалованье домик в Кронштадте не построишь!
Тянуло опять, как тогда, в ожиданье зловещего залпа, лечь на койку, уйти в себя… Похолоделая комната опускалась в ночь. Внизу гнусаво проиграл рожок. Там топали, матросы строили караул, одни, без офицеров, отсылали его куда‑то в ночные улицы. На своей койке, пользуясь растрепанностью юнкеров, Белин, в одних подштанниках; застыл с воздетыми к потолку руками, прислонив перед собой огромную икону к подушке. Он плыл в жизнь, ужасаясь…
И когда перед самым сном пришел в четвертый взвод Лабутько с мешком в руках и, по-озорному вытянувшись во фронт у дверей, звонко, с нескрываемым злорадствующим ликованием заявил:
— Господа юнкера! Матросы, вся рота, сейчас же требуют, чтобы вы сдали патроны. Они не для чего-нибудь, — боятся, если какой случай, что из окошек палить будете…
И когда во всех взводах, по всем спальням, замутневшим от дремотных ночников, ежась, полезли из‑под одеял юнкера, беспрекословно, с матерщиной сквозь зубы, доставая подсумки, — не одному Шелехову захотелось до тоски, до отчаяния, до ломаемых меж ногами кулаков, чтобы скорее, чтобы беспамятнее канули, наконец, из жизни эти, издергавшие и душу и тело, опостылевшие, солдатчиной просмердевшие стены.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Балтийского вокзала не узнать.
Его первый класс — преддверье петергофских прохлад, дворцов, статуй, придворных поездов — этот первый класс смыло, унесло черт знает куда, завалило махоркой, папахами, винтовками, галдежом.
Еще и еще подкатывали, перегоняя друг друга и сопя, поезда — ораниенбаумские, петергофские. Красные флажки развевались на паровозных грудях: это было еще нечто дерзкое и опасное. Из вагонов вываливались бороды, согнанные из всех, что есть в России, захиленных, сугробных деревень, месяцы гнилой селедочной похлебки, смрадное вповалку спанье друг на друге, разлука; вываливались те, которых предназначено было завтра тысячами сваливать в запертых эшелонах на фронт, в безыменную прорву. Кронштадтцы-матросы пробирались в этой свалке неторопливо, презрительно; ленточки и лица казались закопченными от корабельного дыма, глаза глядели исподлобно, руки цепко держались за винтовки.
«Их мучает та кронштадтская ночь…» — подумалось Шелехову. И все, стиснувшись плечом к плечу в вокзальных коридорах, перли тихой сдавленной волной к выходам, где синело дымное небо невиданного, революционного Петрограда.
Когда протолкались, наконец, на свежий мороз, Мерфельд брезгливо отряхнул аккуратную шинель и сказал:
— Приду домой, отосплюсь, схожу в баню и никуда до самого производства не покажусь.
— Если такой ужас на фронте, как же мы будем воевать? — недоумевал Софронов.
Под колоннами подъезда их окликнул юнкер первого взвода, страдальчески мигавший слезливыми глазами. От ветра, что ли?
— Коллеги, это ведь из вашего взвода Елховский? Не знаете, с чего это он?
Шелехов, Мерфельд, Софронов остановились, отчего‑то тревожно замирая.
— Что, что, Елховский?
— Как, вы не знаете! Да его уже в вокзал несут! — захлебываясь, торопился сообщить юнкер.
Колонны, морозное в их пролетах небо, наваленные один на другой этажи Петрограда — исказились вдруг, подернулись мрачной оцепенелой тенью… Юнкера еще не поняли всего до конца, но было ясно, что случилось неслыханное. Кое‑как протолкались обратно, сквозь шершавые бока и локти, сквозь досадливую матерщину, нашли дверь прокуренной, грязной дежурки, полной знакомых ленточек и шинелей, столпившихся над чем‑то с ужасной тишиной. Сглатывая судорогу в горле, Шелехов протиснулся в жуткий пустой круг и нашел то, что предчувствовал: прижавшегося виском к заслякоченному полу как бы в задумчиво-крепком сне; кровавую студенистую оплеуху, сползающую на полщеки…
Рядом вполголоса, подавленно рассказывали:
— Не заметили. Вышел покурить на площадку. Вдруг солдаты проходят, говорят: «Ваш лежит».
Бестужев, друг Елховского, стоял свечой, высокомерный, бледный, тронутый его отраженным обаянием — отвратительным и загадочным обаянием самоубийства.
Его бескровные старческие губы кривились.
— Мне кажется… что рана винтовочная скорее, да, да! Это не револьвер.
— А у него был револьвер?
— По крайней мере, не нашли ничего…
Трунов угрюмо, не поднимая глаз, возразил:
— А сколько народу прошло мимо, пока сказали.
Елховский лежал, нацелив куда‑то сгорбленное плечо, прилежно занявшись своим недвижным и неудобным делом. Шелехов неотрывно, мучительно для самого себя созерцал черный тепловатый ежик его волос, короткие щеточки его усов, тусклый животный блеск за стиснутыми ресницами; он с усилием старался подвести этот образ под вчерашние, окоснело смеющиеся глаза, — может быть, Елховский уже тогда вышагнул из жизни, ходил и смеялся среди них, уже согласившись с тем, что завтра он будет с застылой кровью и разломанным черепом?.. Он чувствовал его необоримую, отвратительную власть над собой. Да, Елховский, оставшийся непримиримым до конца, отомстил всем им самым большим, чем мог.
Из толпы чужих, теснившихся позади юнкеров, торопливо оторвался пожилой капитан в окопной бекеше и лохматой нечистой папахе. Он вежливо раздвинул круг и с благоговейным, любовно-печальным уважением наклонился над трупом.
— Что, сам… или?
Потом смахнул с головы папаху, открыв обветренное походами лицо каменного служаки, и, откинув голову, перекрестился — перекрестился широко и исступленно, как бы безропотно отдавая на гибель и себя и всех этих, стоящих около него, молодых, немногих, нежнолицых… Что там, за солдатскими головами, какие предреченные поля увидел карающий его взор?
— Царствие небесное! Не он первый…
Шелехов не помнил, как он попал опять на улицу. Морозноватый ветер подувал в лицо жгуче, будяще. Шелехов шагал машинально по пустым трамвайным рельсам. Мела сухая, колкая поземка, как в диком поле, там и сям двигалась кучками, многолюдно впереди открывались недра дымящего морозного города. Елховский продолжал лежать тяжелым, необоримым камнем на душе, но Петроград возрастал все выше и темнее, он уже господствовал, бередил музыкой нищих, мечтательных, былых дней…
Хуже всего было то, что почти совсем не оставалось денег. Только какие‑то гроши из накопленного за уроки. Шелехов понемногу, с рассчитанной скупостью тратил их на табак, без которого нельзя было ни думать, ни жить. Даже неизвестно было, где он сможет переночевать… А возвращаться обратно в училище, под окнами которого метет трупная метелица Кронштадта, где стоит под тем же одеялом койка Елховского, в безлюдные стены… Нет, это было невозможно.
Правда, сердобольная белотелая хозяйка Аглаида Кузьминишна, к которой он направился, всегда пустит его к себе, если комната свободна. А если она уже занята? Ерунда, тогда он попросится хотя бы на кухню — там есть такой теплый уголок за плитой, где можно полежать до производства не хуже, чем на мерфельдовском диване, покрепче только укрывшись с головой. Чего тут стесняться, думать о дурацком самолюбии, если — война, от которой трещит вся земля, если Елховский… и все рушится к черту и не знаешь, будешь ли завтра жить!
О, никто из его товарищей, сытых, обеспеченных теплыми комнатами, не знает, как может сжиматься он, Шелехов!
Он униженно почувствовал себя всего, пренебрегаемого, не нужного никому, в неуклюжей, перешитой, по бедности, шинели, в казенных рыжих сапогах. Даже зубы скрипнули.
— Подождите… я еще…
За углом чадило свежее пожарище — тут раньше стоял полицейский участок — и толпился народ. Шелехов свернул с дороги и смешался с бородатыми папахами, которые равнодушно слушали радостного, что‑то с захлебом рассказывавшего парня в кожаных зеркальных нарукавниках, видимо, из младших дворников. Клочьями бумаги были усеяны обугленные бугры и ямы, бумагой было насорено далеко по мостовой, и еще дотлевала кое-где зловещая бумажная рвань…
— Наши оттоль наступали, из куточков. Ну, а у фараонов десять пулеметов, сыпют тебе, чисто на аршавском фронте, никак не возьмешь! Васька, подрушный глазуновский, и говорит: ломай бонбой нашу мелочную, вынай керосин! Ну, значит, и запалили.
— Каланчу‑то не допустили, — мотнула головой папаха.
— Которые на каланче, их потом живьем взяли, тут же душу вынули. На тычок‑то знамя привязали, видишь?
Шелехов взглянул вверх — там, на деревянном шпице, полоскалось и величавилось в небе алое полотнище.
«Это и есть революция…» — подумал он, и неожиданно сладкое содрогание гордости пронзило всего — за чужую безыменную жуть и победу.
Парень толокся перед ним, старался почему‑то поймать его взгляд заискивающими глазами.
— Про ваших, кронштадтских, тоже слыхали, товарищ. Вы там делов наделали… крыли!
Шелехов ничего не ответил, только мрачно ухмыльнулся и отошел. По взлохмаченной, хлещущей по пяткам шинели его принимают за матроса — ну что же, пусть! Папахи повернулись, глядели угрюмо ему вслед сквозь космы, отвесив бородатые губы. Он чувствовал, как льстяще поволочилась за ним чужая страшная слава.
И откуда‑то накатило отчаянное безразличье.
«Черт с ним, если не пустят в комнату, попрошусь в любую казарму, опрощусь, буду с ними ночевать».
Нелюдимый ветер дымил по земле, трепал опасные флаги кое-где у ворот, бился, занывая про волью степь, о цивилизованную косность фасадов, падающих в небо, о необозримый мир подъездов, крыш, утренних, льдисто — голубых окон…
Петроград!
* * *
По Зелениной улице, на четвертом этаже, лестница которого ядовито пропахла кошками, нашел Шелехов дверь, обитую клеенкой, и медную почернелую карточку: «Петр Прохорович Птахин». У этого Петра Прохоровича был модный обувной магазин на Большом проспекте. На звонок откликнулся боязливый, с хрипотцой, бабий голосок:
— Кто там?
Бурно загремело крюками, Аглаида Кузьминишна провесила в дверь улыбающееся ангельское личико, запахивая на груди широченный алый халат, зашаркала по-гусыньи, ахала.
— Сергей Федорыч, да мы вас живого‑то и не ждали!..
Шелехов наклонился и от радости, что нашелся, наконец, кто‑то, хоть немного пожалевший его, чмокнул Аглаиду Кузьминишну в пахнувшую простым мылом ручку, чего раньше не делал никогда.
Аглаида Кузьминишна расстроилась до слез.
— И что же вы, дорогой Сергей Федорыч, не офицер еще?
— Теперь больше в офицеры производить не будут, так матросом и останусь, — пошутил он.
— Да что вы! — ужаснулась Аглаида Кузьминишна. — Да неужели же вас, образованного да вежливого такого, в солдатской шкуре оставят? Да что вы, Сергей Федорыч!
Шелехов, довольный, успокаивал:
— Нарочно, нарочно! Дня через четыре Дума произведет.
Ему приятно было постоять в коридоре, подышать теплой, далеко укрытой от всего обыденщинкой, напоминающей давние мирные вечерки с лампой и книжкой, кухонный запах, стыдное, исподтишка обжадовелое волненье, пережитое когда‑то про себя от этой Аглаиды Кузьминишны…
Хозяйка любила захаживать в комнату к постояльцу, присаживалась иногда по воскресным утрам на краешек его постели, пока Шелехов, горячий ото сна, лентяйничал под одеялом. Случалось, сообщала ему на ухо какую‑нибудь свою женскую секретную вещь, нисколько его не стыдясь, потому что по простоте своей считала Шелехова за его образованность чем‑то вроде доктора, который по всякому случаю может дать совет. И Шелехов, не понимая сначала, мутнел, чувствуя на плече срамную, жаркую тяжелину ее грудей, сидел как скованный, а по уходе валился ничком в подушку и воображал самые терзающие картины.
«Вот когда придет в следующий раз, я… я…»
Но Аглаида Кузьминишна была женщиной самых крепких правил. Понял это Шелехов после того, как рассказала ему однажды:
— Намеднись какой ужас со мной, Сергей Федорыч, вышел. Один наш знакомый господин, несмотря что я замужняя, зачал за мной ухаживать и вроде влюбляться. Сам высокий такой, симпатичный. Зачал меня в театры возить, конфеты, то, се. Ну, думаю, что тут особенного, он же Петру Прохорычу хороший приятель! А он взял после представления завел меня в парк да брякнул, дурак: «Я, говорит, желаю вас поцеловать. Сколько времени терпел, теперь никак бороться с собой не могу!» Я тут осерчала, ей-богу. Да что вы, говорю, с ума сошли? Да я, говорю, кто вам? Да я сичас все Петру Прохорычу расскажу. Ах вы нахальный мужчина! Так его отчитала, что с тех пор к нам ездить перестал. Что выдумал! Это у образованных, там — что хотят, то и делают, а нас родители не так учили.
Шелехов слушал, досадливо думая про себя:
«Ду-у-ра…»
И каждый раз потом, как надвигался ближе с жаркими шепотами алый капот, крепчал, ледяной делался.
«Ну ее к черту, от скандала».
Теперь, покаявшись еще раз про себя за нехорошие мысли, спросил застенчиво у Аглаиды Кузьминишны, уже чувствуя по всему, что не откажет, приютит куда-никуда:
— Нельзя ли мне опять… пожить у вас немного, до производства? Или уже занята комната?
— Голубчик мой, — обрадовалась хозяйка, — оставайтесь, живите сколько угодно!
Из столовой показался сам Петр Прохорыч, в широкой, травяного цвета солдатской рубахе (числился каптенармусом при инженерном батальоне — по знакомству), с венчиком черных волос вокруг крепкой молодой лысины.
— Вот, значит, какую кашу, Сергей Федорыч, заварили. И все это Милюков, а? (Говорил осторожно, выпытывая.) Ну, что бы им до конца войны не подождать, скажи пожалуйста.
Шелехов никогда не мог ему глядеть прямо в глаза. Чувствовал себя виноватым за голодные мысли об Аглаиде Кузьминишне.
— Вы извините, мы товар‑то из лавки в вашу комнату перетаскали, очень уж товарищей боязно. Того гляди погромят… Как же без царя‑то теперь, Сергей Федорыч? Кто же будет все в порядок производить? Вы думаете, Милюкова побоятся? Да кто же будет бояться, когда один солдат кругом? Никак нельзя. Ну, Николай не хорош, Михаил есть!
Аглаида Кузьминишна тоже вставила свое слово:
— А Николай‑то Николаевич еще. Эдакий воинственный, гордый. Вот, я понимаю, царь! А этого Николашку презираю, дурака: дурак, дал себя бабе опутать!
— Ты потише… потише… за такие слова! — Петр Прохорыч сердито заиграл бровями. — Язык-то твой…
Аглаида Кузьминишна испуганно цапнула рот ладонью.
— Аль нельзя еще про это? Да Сергей Федорыч свой человек, чай, никому не скажет…
Звали чай пить вместе с собой. Но Шелехов, хотя не ел ничего с самого утра, постыдился их хозяйственности, экономности, дороговизны всякой…
— Спасибо, я уже в школе… Некогда.
В студенческой комнате, где густо и пронзительно пахло кожей от россыпи картонок, наваленных вдоль стены, сбросил с себя шинель на голую железную кровать и растянулся, содрогаясь от наслаждения. Вот она, эта комната, о которой так недоступно и отчаянно подумалось в ту страшную ночь.
«Лечь вот так теперь, сжать глаза крепче, крепче…»
Прокрутилось в глазах недавно виденное: желтый снег, папахи, ураганные грузовики, полные орущих солдат и колесящие куда попало, едкий дым с пепелища…
…Вот-вот распадутся и остальные дома, и объявится кругом одно дикое поле. Там по равнинам, по волчьим падям залег без края ослепительный снег, там некуда приклонить голову, там — пропасть человеку.
Потеснее сжался, завернулся в шинель: чем душнее, тем слаще. Даже взныло щекотно от дремного, безопасного со всех сторон уюта. А уши сами, против воли, унизительно прислушивались, как в соседней комнате, прохлаждаясь за чайком, позвякивали неторопливо ложечками в чашках, хропали ножом по каким‑то мякотям, со сластью отчмокивали.
В кишках даже начало есть от голодной слюны. В школе утром только чаем напоили.
Вскочил томный, дурной от дремоты, полез под кровать, с сердцем выволок оттуда запыленную скрипучую студенческую корзину.
— К черту!.. Пойду и продам… ну, хоть Ключевского!
* * *
Шелехов шел по Малому проспекту, грязному, как задворки. Отсюда надо было свернуть в один из узких сумрачных переулков, где ютились темные лавчонки букинистов. Но пройти туда так и не удалось. С трактирного двора по соседству вывалило народом, сразу полюднело вокруг и закрутило Шелехова в бегучей давке.
В середине торопливо и молча волокли чернявого угрюмого человека, повязанного в бабий платок, из-под которого свисали жалостные, понурые фельдфебельские усы. На человечке поверх пальто была надета еще юбка, в которой путались на бегу его грязные сапожищи. Руки у него за спиной были связаны.
По панели радостно мчались мальчишки, размахивая пустыми рукавами мамкиных жакетов, скакали через тумбы.
— Фараона поймали!
Развертывалась та самая действительность, о которой Шелехов знал со вчерашнего дня только по газетным листкам да по несвязным, отрывочным слухам. Революция… Все неслось мимо, как внежизненное, горячечное мелькание.
А толпа выхлынула уже на Большой проспект, в просторное каменноэтажное ущелье, где базарами кишело многолюдье: кухарочьи куртейки, ватные пиджаки, мокроподолые, заношенные годами до прозелени пальто, от которых пахло копотными корпусами и трактирами Выборгской и других фабричных застав, солдаты в лопоухих картузах и папахах. С панели кричали:
— Куда их водить‑то, нас не водили… Набили вот на Троицком мосту, чисто поленьев!
Бойкие бабы из фабричных, в платках, заправленных под кацавейки, стервенея, рвались в толкучку; хоть удавиться, да долезть.
— Пусти, я ему в зенки‑то на… у!
— Куд-да ты! Вот пинается… баба!
— А баба не человек?
— Может, и ты не баба, а фараон!
Встревоженно двигался Шелехов вдоль празднично гудящего проспекта. Он оглядывал каждую мелочь на этой улице, такой знакомой, столько раз исхоженной. То врывалось в память далекое морозное и пустое утро, одно из тысячи утр, перед университетом, заиндевелые прохожие, желтый туман с Охты, безрадостность на весь день… То панель, по которой обдает морозящим ветром. И вот после кино, после дешевых терзающих скрипок он под руку с Людмилой по этой панели, по слякоти, в хлюпающих калошчонках, а шляпа у Людмилы — мокрый, жалкий бархатный тазик…
А через дорогу — тогда — быстрее ветра пролелеет кого‑то мотор; за зеркальными стеклами двое падают, обнявшись, бездыханные от счастья. И та, у которой резкая непостижимая усмешка, живет где‑то за мостами; живут неслышные шикарные торцы Морской, бриллиантовым плесом растекаются огни Невского. Там в полночь только начинаются невидимые пиры, страшное праздничное зарево стоит над Невой, над дождем, над фосфорической мокретью панелей.
А он смотрит сбоку почти ненавидящими глазами на неотвязную шляпу-тазик, на мещанский начес за ухом, почти брезгливо ощущает ее простое, всегда согласливое тело, — и горьки ему обделенные, бедные вечера его жизни, униженная эта молодость, и вот стискиваются, где‑то про себя стискиваются до ломоты кулаки, и сила какая‑то — и ненавидящая, и терзаемая отчаянием, и кипящая надеждами — клянется в нем:
— О, я возьму все это, еще возьму!..
…Казалось, целые века одичалости и запустения прошли здесь без него. Вот на углу, под балконом, потухшие, частью перебитые лампиончики кино, каждый вечер переливчато вспыхивавшие переливчато-цветным. «Казино де Пари». Огромная, как озеро, витрина филипповского кафе тесно завалена изнутри матрацами: там устроен пункт «Скорой помощи», — и вот лопочет черный, зловещий автомобиль у подъезда, и из автомобиля выносят беснующийся сверток, слышится нутряной мечущийся стон. Что, опять где‑нибудь предательски палили с чердака?.. Двери и окна магазинов забиты наглухо досками, зеркальные стекла кое — где в пулевых лучистых дырочках. Ага, вот она, настоящая, трусливая, дощатая изнанка прекрасных, когда‑то дразняще-недоступных вещей! Шелехов испытывал откровенное злорадное удовольствие: еще бы просунуть между досками ногу в матросском коряжистом сапоге, хряснуть по проклятому стеклу. Даже повеселелось как‑то.
От Тучкова моста мчались автомобили, ревели сквозь толпяную трущобу проспекта. Народ бросился по мостовой навстречу. Листовки взлетели, неслись пургой над головами. Машину затерло на середине улицы. Офицер без фуражки стоял на шоферском месте, что‑то кричал. Двое студентов с белыми повязками на руках и еще один офицер держались, стоя, за его плечи и тоже выкрикивали настойчивое, призывающее слово-:
— Товарищи!
Офицер, без фуражки, вихляющийся молодым длинным телом, кричал слышнее всех:
— Товарищи! Внима-ние… Сейчас с вами будет говорить член Государственной думы, товарищ Суслов.
Понемногу покоряя, кругом машины улегался раздерганный гул и звяканье какого‑то железа, наверно, пулеметов: их солдаты волочили за собой всюду, как нерасстанных верных собачек. Офицер стоял, протягивая повелительную руку.
Опять чью‑то чужую ширь, безоглядную, смелую, вдохнул завистливо Шелехов…
— Просим… Браво… — кричали наперебой из толпы.
Член Государственной думы, сугорбый комнатный человек в толстом пальто с каракулевым воротником — такие пальто носят разбогатевшие приличные лавочники, — встал, балансируя, на переднее сиденье и исподлобья оглядел толпу поверх очков.
Взгляд был добрый, мирный, учительский.
— Так как я и мои товарищи по работе не спали несколько ночей… я утомлен… не буду говорить долго… Я выступаю сегодня на одиннадцатом митинге…
Пожилой серьезный человек говорил вразумительно, с пояснениями. От его мирных и вразумляющих слов — сквозь горячечное неправдоподобие и хаос этих дней, от которых еще никто не очнулся, — обнажалась единая вязь закономерных, неизбежных событий, возникала обыкновенность, как в рассвете рождаются очертания, полуневерные еще, утренних вещей и комнат. Все шло к благополучному исходу. Армии, темные бесчисленные армии великой войны, продолжали твердо стоять на рубежах. Гигантские командующие аппараты, пронизывающие их насквозь, держали их в своих руках и вращали куда надо безликие, приблизительно послушные массы. Командующие уже сносились с собранием уважаемых, достаточно известных всей стране лиц, взявших пока власть, — лиц, называвшихся Временным комитетом Государственной думы.
— Что касается царских министров, то почти все они арестованы. Поезд Николая Второго задержан на станции Дно…
Шелехов, напряженно подымаясь на цыпочках, глядел на Суслова, на студентов, на офицера. Перед ним были счастливцы оттуда, из правящих высот, выдвинутых только вчера революцией, где каждый час кипело и билось бешеное сердце. Там на трещащих напруженных плечах своих мудрые, особенные люди поднимали из хаоса Россию… Отталкивая других, он схватился за облепленную мокрым снегом рессору автомобиля, задыхаясь от отчаяния, чувствуя, что опоздал, быть может, непоправимо.
А мотор двинулся, кося огненным глазом, офицеры уплывали, смеясь, поднимая торжественно руки. Офицеры!.. Темнота человечья бежала с ними рядом, давила друг друга, падая в снег.
Листовки прядали над толпой, реяли, как птицы.
— Станция Дно, — рассказывали они, кричали бунтующими буквами в глаза, — делегация Государственной думы, Романовы…
— Керенский…
Да, он проспал. Глядите, это совсем не волчья злая степь: такие же, как он, ведут революцию, а он, Шелехов, опять пресмыкается в толпе, затерянный, затоптанный, безыменный…
Вспомнил свою недавнюю съеженность в теплой, безопасной комнате, букиниста, книги Ключевского, засунутые под шинель, — все выглянуло из какого‑то узкого, затхлого каземата, возвращаться туда было тошно…
Неподалеку, около витрины, забитой досками, стояла толпа. На досках пришпилена фотография молодого человека с сонными обаятельными глазами в мягкой шляпе, галстуке и модном пальто. Подпись: «Провокатор и палач Карачинский. Знающих просят указать местопребывание». В молчании зажигали спички, чтобы получше рассмотреть. Шелехову показалось, что глаза с карточки взглянули на него гнусно, знающе. Словно и на нем было что‑то от их жуткой липкой особенности. То была позавчерашняя мерзлая сарайная ночь, ее еще не сдуло с души. А что если бы все эти идущие мимо и толпящиеся узнали, если бы слышали, что он тогда говорил?..
«Неправда, то не я!» — хотелось ему крикнуть в самого себя, самого себя убедить, что он — другой, что не предал никого в проклятую ту ночь. О, если бы вот сейчас в соседнем грязном проституточьем переулке вдруг брызнул с крыши невидимый страшный пулемет, тогда он доказал бы, что это неправда, тогда первый вырвал бы винтовку из рук мальчишки — милиционера, первый пополз бы по смертным, поганым камням, чтобы там смыть с себя эту ночь, искупить…
Но пулемет медлил, кругом продолжалось то же благостное спокойное движение, говоры, шорохи ног — человеческое море успокаивало, несло в себе. Был тот миг, на грани кончающегося вечера, когда вдруг смеркнут в глазах все очертания и цвета, а шорохи и говоры проступают полноводной рекой и даже невидимые камни зданий гудят невнятно… И как будто сразу прибыло народа: на панелях не умещалось, двигалось уже в несколько рядов по дороге. И все, кто шел рядом с Шелеховым, глядели в одну сторону, куда‑то вверх, и Шелехов глядел туда же, одними глазами с толпой, словно стремясь заглянуть за мутную пространственность проспекта, всего города: в дальние бури, в восходящие там неведомые дни.
То играла торжественно музыка, проходя недалеко по Каменноостровскому, наводненному многотысячной толпой.
А есть все‑таки хотелось до изнеможения: об этом никак нельзя было забыть. Он нащупал в кармане бумажные полтинники, последние, оставленные на табак. Их надо было сберечь во что бы то ни стало. Но теперь последняя воля истаяла: только бы поесть чего‑нибудь, не поесть, — а жадно пожрать, вот сейчас, а там будь что будет… Он спросил встречного студента, где открыта ближайшая столовка.
— Для вас, товарищ, везде бесплатные питательные пункты, — ответил студент. — Идите сейчас вот так…
Шелехов обрадованно выслушал адрес и пошел, предусмотрительно отвинчивая университетский значок с груди.
* * *
Питательный пункт помещался тут же на проспекте, в низкой полуподвальной комнате, где раньше была какая‑то третьесортная столовая. Было парно и тускло, как в бане. Солдаты в шинелях сидели за столиками; солдаты ели что‑то с жестяных тарелок, согнувшись неуклюже, остатки бережно вытряхивали в горсть и кидали себе в рот; другие молча схлебывали с блюдечек чай.
Шелехов, застеснявшись, нерешительно подошел к буфету. Горкой навалены бутерброды, пиленый сахар, черный хлеб. Солдатам, которые сбоку стояли в очереди, накладывали в тарелки всякое, дымящееся.
— Вам чего, товарищ, выбирайте!
Из‑за стойки любезно процвела тоненькая, бледно- розовая, с пушистой челкой, в кружевном курсисточьем воротничке. На нее сияли все лампы в банной, душной мгле.
— Мне?
Очередь бородатых, земляных, стоявших рядом, недружелюбно покосилась на Шелехова, но не роптала и ждала.
Он застенчиво пошарил глазами по стойке. Если бы она знала, что он тоже вчерашний студент, государственник… Ему до едкой слюны захотелось вот этих нищенских бутербродов с черствым голландским сыром, с экономными ломтиками мучнистой колбаски — три, четыре бутерброда, десяток.
Но из‑за той же проклятой застенчивости неожиданно для себя мотнул головой на кашу:
— Вот этого.
Другая курсистка наложила в тарелку каши, тоненькая подала ему ложку и наставительно предупредила:
— Только ложку потом, землячок, обязательно верните!
Она протянула эту ложку самыми кончиками пальчиков, не глядя. Да и что такое он был для нее? Один из бесконечно проходящих за день безлицых, грязнотелых, с простонародной жадностью пожиравших даровую пищу.
Шелехов присел за неприбранный, мокрый столик и принялся за кашу, обильно политую постным, с запашком керосина, маслом. Он не сводил в то же время глаз с курсистки: он ощущал ее телесно, мягкую, густоволосую, ясноглазую, пил ее сквозь чувство нетерпеливого блаженного насыщения. Казалось, от нее, а не от каши расходится по телу такая приятная расслабляющая теплота. «Взгляни, взгляни!» — манил он ее. Хотелось запеть, засмеяться ей навстречу, подойти и разоблачить свой матросский маскарад. Тогда глаза ее сначала засияют удивленно, потом потеплеют, они взглянут совсем по — другому.
Он размечтался, старательно размалывая зубами крутую сыпучую кашу. Четыре месяца не видеть женщины!
И за стойкой в самом деле на него обратили внимание. Блондинка взглянула на него несколько раз с особой пристальностью, потом нагнулась к подруге, перетиравшей рядом посуду, и шепнула ей что‑то, показывая на Шелехова глазами. Сердце его забилось в неистовом и сладком испуге. Он очень мало знал женщин, знал их только сквозь литературу, стихи, сквозь голубые виденья и дешевую мелодраматическую музыку кино. Женщины казались ему всегда преисполненными самых неожиданных чудовищных порывов. Поэтому он был робок с ними, был робок, но в каждой чувствовал ее темную, безвольную, бесстыдную сущность… И сейчас — уже грезилось какое‑то сладчайшее приключение; в необычайной такой ночи все было возможно; сейчас он мог подойти к ней, как переодетый принц. Подойти и сказать…
Но что сказать? Сидел, томился от собственной нерешимости. О, если бы здесь был Пелетьмин, Бестужев, те сумели бы, они воспитаны иначе — как владыки, они увели бы куда‑то, одев полой шинели, хотя не могли бы обещать ей ничего, кроме одной животной минуты.
А ему хотелось вывести ее на высокий балкон, над омутным клокочущим городом, отдать ей эти просторы, хотелось поцеловать вот там, в разрез воротничка на груди, и чтобы полевая весенняя звезда сияла в небе.
Вдруг ему стало стыдно всех этих мальчишеских мечтаний, он понял, почему на него смотрят. Понял, откуда это изучающее, боязливое любопытство. Страшная матросская слава, Кронштадт.
И смешная, озорничающая злоба заиграла в нем.
«Ну, если так…»
Он быстро покончил с кашей и с развязной хозяйской перевалкой подошел к буфету.
— Дай‑ка вот этого! — приказал он, нагло ткнув пальцем в бутерброды и не глядя на курсисток.
Обе заметались с пугливой послушностью, и это доставило ему жгучее, злорадное удовольствие.
— Да еще вот этого! Да не бойся, клади больше, — почти крикнул он, — не стошнит!
Рядом лохматые, в бородах, напирая друг другу в затылок, с завистью ворочали на него глазами. Им тоже хотелось бы вот так цапать, наворачивать себе по полному подносу, но не хватало смелости.
Шелехов представлял себя со стороны: да, вот именно так поступил бы тот жуткий пряничный матрос, подходивший под окна в вечер кронштадтского восстания. Он кипел злым смехом, он презирал теперь этих недоступных девиц. А что, если бы взять да вот так, небрежно облокотившись на стойку, попыхивая смрадной цигаркой, спросить:
«Вы, коллега, случайно не филологичка? Филологичка? Значит, слушали профессора Введенского? Нравится вам его наглая манера читать? Знаете, она убедительна. После его лекций я на всю жизнь стал убежденным кантианцем!»
Его охватило чувство безоглядной пьянящей свободы, безнаказанности.
Толпы хлестались вдоль улиц, копились гигантские события, и было интересно и безопасно жить.
Кто теперь в потемках разберет, что на матросской ленточке надпись: «Школа прапорщиков по адмиралтейству»? Можно есть бутерброды сколько хочешь, толкаться по улицам, глазея, не думая ни о чем. Как отрадно, как легко дышать после недавних зловещих дней! Теперь уже не пугали заполнившие город солдатские оравы, он плыл, как свой, в самой их гуще, начинал посматривать на них даже с некоторым снисходительным насмешливым добродушием.
Вот они, эти завоеватели, потрясшие вековую твердыню власти. Они подходили к стойке один за другим, сконфуженно покашливая; их закорестенелые, корябающие руки старались перед барышнями взять еду как можно деликатнее. А барышни глядели на них любовно и гордо, как на обузданных свирепых животных, ставших в их руках застенчивыми и кроткими. Ах, говорили глаза барышень, — вот он какой в самом деле, русский солдат! Это же наш обыкновенный смиренный мужичок в солдатской шинели. Надо только подойти к нему с лаской, с пониманием! И солдаты взаправду в эти дни становились какими‑то согбенными, такими, какими их хотели видеть эти барышни и восторженные барыни, снующие по уличным митингам, — стали сговорчивыми, мирными, добродушными. И разговор шел из‑за шинельных столиков какой‑то добрый, обрадованный:
— Вот это дело: кормют как полагается!
— До перевороту‑то гнилой чечевицей натрюкивали, как свиней, а теперь…
— Теперь солдату жисть!
— От такой жисти за шиворот не оттащишь!
Шелехов не успел доесть своей порции, как с улицы ворвался студент в распахнутой шинели, задыхающийся от спешки и нетерпения, ринулся прямо к стойке.
— Керенский! — крикнул он. — Проехал сейчас мимо, на Каменноостровском — митинг!
— Керенский? — и обе барышни вспыхнули смеющимися глазами, растерялись, заторопились вперебой: — Ну, кому же, кому же здесь остаться, господа?
Шелехов слышал фамилию Керенского сегодня не в первый раз. Он припомнил фотографию худощавого, безликого кого‑то. Длинные стенографические отчеты в газете «Речь»… Так этот… трудовик?
Из задней комнаты выскочили еще студенты и барышни, совали на ходу ноги в калоши, студенты поправляли сзади курсисткам меховые воротники, убирали за воротники кружева с голых шеек; высокий румяный путеец губами коснулся щеки белокурой барышни, той самой, в которую на минуту влюбился Шелехов, и всполохнул, должно быть, от этого прикосновенья весь. Что им солдаты, грязная уличная ночь, Керенский?
О, если бы и Шелехову вырваться из этой жратвы, с ними бы, с красивыми, кипеть молодой кровью!..
На улице дул ветер, горели фонари, сперлось от стен до стен многоголовье. Пели:
Вставай, подымайся…Витали над народом, играли кровавой чернотой знамена.
— Где же этот Керенский? — спрашивали в солдатской гурьбе. — Он теперь, говорят, главный после свободы‑то.
— К царю поехал, от престола отрякать.
От толпяного отлива остались кучки, толкались на мостовой, спорили. В одной плясала барыня в шляпе сковородой, на которой торчал пучок грязных цветочков, будоражно выкликивала:
— Это же пасха, господа, смотрите, пасха! Кругом радость, все ходят такие добрые, все возлюбили друг друга, брата увидели в человеке. За это в тюрьмах гнили, боролись… страдальцы наши дорогие.
Барыня, хлюпая, наскочила на густобородого кулемистого солдата, охватила его хиленькими ручками и зачмокала в щеки.
— Брат наш меньший… брат!
Солдат конфузливо высвободился, постоял, сбычившись, не зная куда деваться, потом потихоньку сгинул в сторону.
— Николай… — слышалось в другой толпе, — отречется, держу мазу. Все равно в собачий ящик попал!
— Поехали… неизвестно.
— Керенский…
Тут другая барыня кипятилась, повертываясь словно заводная:
— Все равно, господа, все равно без династии нельзя. Мы неграмотны, да, мы неграмотны, господа, мы дики! Нам войну надо кончить. Ну, пусть будет монархическая конституция, как в Англии. Разве Англия не свободная страна?
Она уцепила Шелехова за рукав и стрекотала в упор:
— Вот, матросик, вам разные ораторы говорят, что царя не надо, а ты сам подумай, матросик, как же это в нашей Расее без царя! Ты вот, наверно, сам кричишь за республику где‑нибудь, а понимаешь ты, что такое республика? Я вот тебе расскажу, как в Англии…
Народ темно сдвинулся вокруг, глядя на обоих. Шелехов почувствовал, что все с любопытством ждут, как он, матрос, отнесется к словам этой барыни, чувствовал, что обязан сделать что‑то особенное, чтобы не уронить кронштадтской славы… А барыня все липла:
— Ну, как же в нашей Расее без царя жить, ты сам посуди, матросик, как же без царя?
Шелехов напружился злобным озорством весь, до краев, даже щекотно лопнуло в голове. Он нарочно помедлил и, глядя поверх барыни, с наглой раздельностью сказал:
— Повесить твоего царя.
Барыня тонко вскрикнула, сжав щеки ладонями, и замигала белесыми отупевшими глазками. В толпе кто-то поддерживающе, злорадно заржал. Дальше на панели Шелехова догнал какой‑то черный ватный пиджак и пошел рядом:
— Молодчина, браток! С этими, с господинчиками… нам еще много делов будет…
Вереницы огней плыли от Каменноостровского.
— Отрекся! Подписал! — кричали на бегу, ловили листки.
Моторы промчались замедленно, на них стояли опять те же счастливые офицеры и студенты, по снегу бежал и падал народ, там и сям вспыхивало, обваливалось лавой:
— Ура-а-а…
Вот-вот, казалось, загудят, потрясая ночную землю, всемирные колокола. Будто и на самом небе, над головой валил тысячами народ. За криками, за темными, неосвещенными домами, за годами войны чудился лазоревый, неописуемый рассвет. И Шелехов, сладко леденея от какой‑то гордости, в исступлении кричал, бежал вместе с народом, сам не зная куда.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Где‑то неожиданно быстро и ладно выяснилось все с производством. Аппарат государственный, приглохнувший на минуту под обвалом необычайных событий, заработал опять точно, заведенно, безостановочно. Правда, на вещи и лица падал какой‑то тревожный, как бы предгрозовый свет, многое казалось непрочным, только сегодняшним, но магазины торговали опять, в армию призывались новые возрасты, с фронта поступали сводки о военных действиях, и, стало быть, юнкеров производили в офицеры.
Через неделю юнкера побывали в Ораниенбауме, там им выдали палаши, кортики и револьверы офицерского образца, а также понемногу денег на уплату портным за обмундирование. Они узнали, что производить их будет в Государственной думе военный министр Гучков..
Был назначен день и сборный пункт в школе.
Все яснее светилось небо между тесными крышами Петрограда, все чаще опахивало под рубашкой, по всему телу, что‑то содрогающее, веселое: будто проломлены огромные окна в свежий холод, в свет… Снег с тротуаров не счищался, лежал осклизлыми буграми, меж ними хлюпали ямы с водой, — это тоже было весело, предвесенне, и целые дни, как в праздники, радуясь, хлюпал ногами прохожий, бездельный люд, выступали процессии со знаменами, толкались толпы солдат, летели военные мотоциклетки.
Набродившись за длинный полдень, Шелехов ненадолго заходил в свою комнату на Зелениной, брякался прямо в шинели и сапогах на кровать, отдыхал с открытыми глазами. И оттого ли, что не раздевался, казалось, не было кругом никаких стен, дует ветер, и ходит свет. Аглаида Кузьминишна с любопытством, будто между прочим, заглядывала к жильцу, присаживалась на стульчик напротив, сложив крестиком ручки на мощных коленях.
— Замыкались вы, Сергей Федорыч, бедненький. И что это за охота по страстям таким ходить: оглоушат еще где, народ‑то ведь какой стал, вольный, непочетливый. Вон Петя раз идет…
— Я, Аглаида Кузьминишна, ничего не боюсь, — смеялся Шелехов, — у меня вот…
И, вытащив из кармана граненый браунинг, играл им перед ужасающейся собеседницей, играл и с озорными мыслями любовался, крал глазами аппетитную ее сласть: тугой пробор с гладкими полированными начесами, притянутыми к дородным яблочным щекам, круглые, кукольно — синие глаза, губы пунцовым крестиком… ах, непочатая малина. И стыдился и сладко слабел от запретных, теперь, казалось, легко сбывчивых надежд.
— Я, Аглаида Кузьминишна, теперь сам в революционеры записываюсь, вот что! — поддразнивал он ее.
Хозяйка все понимала по-своему.
— Да ведь вы‑то образованные, вам почему и не записаться, ежели вы с головой. А это‑то выхлачье темное, куда оно‑то лезет? Что они смыслят?
В еде Шелехов не нуждался: ее можно было найти на каждом перекрестке, даровую, веселую, с митингами, со спорами, с оживленной безалаберной толкотней. С некоторыми из солдат и матросов завязывалась дружба — на день, на два… потом теряли друг друга в безыменном человечьем море. Жить было интересно, привольно, — пожалуй, не хотелось даже, чтобы там особенно торопились с производством. Кто знает, куда еще загонят потом… Кронштадт? Севастополь? Гельсингфорс? А может быть, и фронт?..
В день производства случилась маленькая неприятность: портной неожиданно запоздал с обмундированием. Впрочем, Шелехов особенно не досадовал, ему самому не хотелось тащиться в школу, так как он мог встретить своих здесь, у Таврического дворца. А к этому часу все уже было готово.
И вот сброшено матросское барахло — шинель, форменка, брюки, пудовые обмоклые сапоги, пропитанные днями бедности и строевой муштры.
Вместо казенных ботанцев — модные женственные ботинки на пуговицах, любезно предложенные в кредит квартирохозяином, Петром Прохорычем. Вместо грязной полосатой фуфайки — синий китель, охвативший стан тепло, и ласково, и ловко. Одеревенелый, щемящий шею воротник заставил вздернуть повелительно подбородок.
Шелехов одевался и, сладостно медля, застегивал под кителем портупею золоченого, с царским вензелем, палаша.
Теперь можно было подойти к зеркалу, и в груди упало тягуче, блаженно…
Оно стояло в темном простенке, огромное, сначала мутно — неразборчивое, как вода.
Оттуда, обернувшись на ходу, осматривал Шелехова какой‑то смугловатый морской офицер, невысокий, стройный, обтянутый в талии по-женски, мерцая через плечо темными юными недоуменными глазами.
Шелехов очарованно замер.
То был недостижимый офицер, виденный им когда-то у Александровского сада или на Морской, где‑то в том кипучем, полном нарядных женщин и автомобилей районе. Женщины глядели на него с приманивающей усмешкой, его ждала особенная, прекрасная судьба…
Ему не терпелось, хотелось поскорее испытать, как это он пойдет по городу совсем другим человеком, каким никогда не был раньше, как будут смотреть на него, другого. Он торопливо расплатился с портным и почти выбежал на улицу. И там, на ярком свете, он почувствовал, как кричит на нем и блестит новенькая, форма, и ему казалось, что все прохожие оглядываются на него.
Ему было приятно, что солдаты, встретившиеся с ним, почтительно расступились, пропуская его по панели, хотя чести и не отдали. Он прошел мимо них, как в тумане. Дальше показались артиллерийские юнкера. Шелехов подобрался весь, заранее скосил глаза на сверкающий край погона: юнкера не могли пройти мимо офицера так же равнодушно, как солдаты, они ревниво соблюдали воинские традиции. И действительно, поровнявшись с ним, юнкера дрогнули, выбросили вбок остолбенелые морды и ретиво протопали мимо, держа ладонь у козырька.
То была первая честь, отданная Шелехову-офицеру. Он вспыхнул благодарно, козыряя в ответ. Вышло даже, пожалуй, нехорошо, слишком старательно для прапорщика.
Ничего, стоило только взглянуть вниз, на стоячую, шикарно приглаженную линию брюк, на пуговички изящных женственных ботинок — и всякая неприятность проходила: ведь сегодня начиналась новая, неизведанная жизнь!.. И он упоенно шел, замедляя шаги у каждой витрины, отражающей прекрасное видение.
* * *
Звуки оркестра приглушенно вырвались из‑за угла, и тотчас оттуда, пятясь спинами, теснясь перед каким- то невиданным зрелищем, бурно выхлынул народ. Шелехов сердцем почувствовал сразу: свои — и начал нетерпеливо проталкиваться навстречу.
Матросы музыкантской команды, не отрывая губ от качающейся меди, полузакрыв глаза, как в дремоте, колыхались впереди. За ними, в пустом пространстве, рядом с распущенным до земли красным знаменем, выступал костистый, орлинобровый, в золотых погонах генерал.
Он шагал размашисто, черные полы его шинели развевались летуче и рвано. С небывалой, ласковой улыбкой козырнул он Шелехову на ходу.
И дальше качалась рота офицеров, — да, этого еще не видел никто и никогда, — шли солдатским строем, четко давая ногу, офицеры, в черных, блистающих погонами шинелях, и палаши волочились за рядами. Мелькнула на правом фланге гордая осанка Пелетьмина, узнался Катин — даже родимое пятно во всю щеку не уродовало теперь этого лица, посерьезневшего под офицерской фуражкой; где‑то в задних рядах, блаженно закинув голову, подпрыгивал маленький Мерфельд. И каждая пара глаз, встречаясь с глазами Шелехова, так же, как у генерала, улыбалась ему родственно, ласково, счастливо.
Шелехову стало и удивительно и невыразимо приятно: сегодня будто сдвинулось что‑то в мире, он стал своим, стал ровней всем им.
Но в то же время было и немного стыдно — вот этих, забегающих перед шествием, оборванных, по — ребячьи глазеющих солдат, тех самых, вместе с которыми он прожил в матросской шкуре две беззаботных бродяжьих недели. Теперь он уходил, и им одним оставалась голодная слюна, бегущая при виде незатейливых столовочных яств, вшивая солдатская жисть… Что он мог поделать!
Блистающие погонами ряды гостеприимно замедлили, принимая его, становя рядом с Софроновым. Под музыку закинулась так же голова, как и у других, опустились убаюканно веки…
Марсельеза!
Марсельеза, опьянелая от бунта, тоже с полузакрытыми глазами, шатаясь, вела вперед, и руки ее были простерты к высоте:
Вставайте, дети отечества, День славы настал!Колонны Таврического дворца стояли по колена в тысячной толпе. Там вышли встречать. Дальше было небо революционного Петрограда, тусклое, смеркавшееся от дыма близких заводских окраин. Еще дальше — десятиверстные погосты столицы, относимая ветром в поле ее чадь и муть, и поезда, убегающие в свежеющую там, деревенскими огоньками подрагивающую Россию…
Широк мир, велик его ветер!
Под колоннами поневоле задержались. Толпа надавила со всех сторон, растиснула ряды и прежде юнкеров, нисколько не считаясь с ними, топя их в своей давке, ворвалась в зал. Это было досадно, нарушало стройность праздника.
Все же Шелехов с благоговением вступал в просторный сумрак дворца.
Высочайший зал походил на огромный, плохо освещенный собор. Эти стены видели историю, Екатерину, вельмож, сановников, депутатов. Здесь, в одну недавнюю ночь, душно и обреченно сперлись штыки Волынского полка. И сейчас, здесь же, вот за этой, может быть, дверью, работали те, которыми бредила улица, о которых кричали газетные листки. Из внутренних комнат иногда пробегали по делу штатские, в одних пиджаках, страшно спеша.
Шелехов провожал каждого глазами и, если кто пробирался через расступающуюся толпу уверенной поступью, почти приказывающе — вероятно, из апартаментов Совета рабочих и солдатских депутатов, — спрашивал себя с трепетом, глядя ему в спину:
— Керенский?
Народа вливалось все больше и больше, высокие двери стояли настежь, оттуда несло холодом, вдруг поднявшейся метелью, и за метелью по улице проходили знамена. Половодно кишело на лестницах, ведущих на хоры, кишело вдоль стен, по коридорам: все были на ногах, кого‑то ждали.
— Поехали за военным министром!
На лестницу барственно протолкался дородный в смокинге, обвел глазами — собирался говорить.
— Родзянко, — зашелестело в толпе.
Гул постепенно замер, офицеры вытянулись, прижав руки по швам.
— Комитет Государственной думы приветствует вас, молодые офицеры. В тяжелую годину вступаете вы на свой ответственный пост. Родина, истекающая кровью, терзаемая внешним врагом, ждет от вас…
Офицеры кричали «ура», поднимая фуражки над головой, изящно придерживая их пальцами, затянутыми в кожаные перчатки. Бурей ревели солдаты. Крики марсельезы прорывались сквозь гул, как пламя.
В ушах звучало непривычно: «Молодые офицеры»… Так называли их еще первый раз. Не под ногами ли тут, где‑то неподалеку, плескалось, осыпалось волшебным бирюзовым прибоем? И корабли уходили в солнце…
Вставайте, дети отечества, День славы настал!Расколыхнув толпу, Родзянко сошел к генералу, и они пожали друг другу руки — оба, знающие высоты государства, почетности, власти, — они пожали друг другу руки особенно, как никогда не мог бы сделать Шелехов или этот сброд в папахах, простосердечно восторгающийся всем. Фотографы со ступеней лестницы ловили аппаратами зал, вспыхнул ослепительно — лиловый магний, юные лица были белы, как мел, сияли глаза. На верхах России был этот вечер.
— Давайте министра!
— Министра!
— Гучкова, ура!
Солдаты, от которых трудно было отделаться, поддерживали:
— Гучкова, бис!
На лестницу на руках вынесли еще какого‑то оратора, пожилого человека, без шапки, с серыми всклокоченными волосиками вокруг лысины; сказали, что это Чхеидзе. Человечек прилежно кричал что‑то, очень далеко, словно за метелью, словно лаял. Он говорил о демократии, о задачах революции — Шелехов уловил только одно отчетливое слово: «батальоны революции». Он понял, что это и о них, и его охватило приятное, поднимающее чувство… Досадно лишь было, что солдаты мешали слушать, устраивая кругом смрадную давку и наступая на ноги слякотными сапожищами. Он нетерпеливо стряхнул с себя несколько навалившихся на него локтей и огрызнулся:
— Осторожнее, товарищи! Спать, что ли, на меня легли?
— Брезгуют. Ишь какие мамашины сынки собрались! — заметили сзади с насмешкой.
Солдаты оглядывались недружелюбно.
— А кто же, конешно, мамашины сынки, их сразу видно!
— В окопы бы их наших вшей попробовать!
— Эдаких не пошлют, у них везде ручка.
То были новые солдатские лица, которые так не глядели на Шелехова ни разу. Неужели в этом виновата офицерская шинель?.. Особенно ехидно ворчал один, смирный на вид, с перевязанным плаксивым лицом.
— Значит, им можно слушать, а мы не слушай? А я, може, сам речь хочу сказать! Хрен положишь, теперь господ нет!
Шелехов только молча покосился на него, но солдат уже обидчиво привязался:
— Ты мине не шикай, ты мине рот не зажимай! Я тебе не подчинен-най!
Тихое, сладостное исступление родилось в Шелехове где‑то в глубине — от этих въедающихся в память, притворно-смирных глаз, от поганой тряпицы на щеке… Будь это прежнее время, хоть месяц назад, с каким бы сладострастием, где‑нибудь в строю, крикнул бы, плюнул бы словами в это лицо:
— Подбери губы, с-с-сукин сын! Что, службы не знаешь! Фельдфебель, дай три наряда под винтовку!
…Но вверху внезапно, как залп, воспылал всеми огнями гигантский канделябр, видевший еще балы Потемкина, озарились стены, бурлящее тысячеголовье, и на свету ослепилось, забылось сразу все. На хорах, высоко над толпой, показался Трунов. Новая форма, непривычная еще, оттеняла угреватое лицо — оно было изгрызано от волнения синеватыми пылающими пятнами. Не офицерским жестом сбросил он фуражку с головы.
— Товарищи, мы получаем крещение здесь, — крикнул Трунов, — здесь, в колыбели революции… Нас производит в офицеры не самодержавный деспот, а народ! И мы… в большинстве своем дети народа… студенчество… всегда ставившее целью своей… И наш пламенный огонь любви к народу и революционному отечеству… понесем…
И опять гремела и гневно восклицала марсельеза, бурлило ослепленное роскошным светом солдатское море, орало, восторгаясь:
— Рр-р-а!
Штатский сменил Трунова:
— Военный министр, Александр Иванович Гучков, звонил и просил передать, что, к сожалению, его задерживает срочное заседание Военно — промышленного комитета. Немного позже он приедет лично поздравить морских офицеров с производством, приказ о котором уже подписан.
Жидко раздалось «ура», кричали одни офицеры. Да, они теперь уже по-настоящему были офицерами. Потрясенного Шелехова кто‑то увлекал из толпы, шепча на ухо:
— Пойдем скорее, там ужин дают.
В темноватых переходах дворца свежее вздохнулось. Шли у подножия каких‑то лестниц, уводящих в сумеречные этажи, мимо многих, гудящих голосами дверей. За одной из них открылась солдатская столовая, с мокрыми клеенчатыми столами, с согбенными и стоячими солдатскими фигурами, с запахом постного масла. «Вот хорошо, — вспомнил Шелехов, — поесть бы…» И уже привычно целился глазами, ища свободный стол, но его повели куда‑то дальше.
Где‑то в конце запутанных коридоров офицеры вошли в комнату, полную народа, мягкого света и столов с множеством чайных стаканов и еды. Тут были исключительно свои офицеры, которые уже пили чай и ели. Тут были и барышни в белых передничках и лакированных туфельках, которые прислуживали, как и в солдатских столовках, но уже иначе, обращаясь с офицерами как с равными, кокетничая, лукавя, чувствуя себя женщинами, за которыми ухаживают.
Невольно вспомнился первый вечер в Петрограде после революции, столовка в подвале, барышня с челкой. Нет, теперь было совсем не то. И Шелехова охватило приятное, лелеющее возбуждение, какое бывает на вечерах, — приятное опьянение нарядным веселым многолюдьем, говором и светом.
Одна из барышень уцепила его пальчиками за рукав шинели и, полуобнимая, толкала между столиков:
— Сюда, сюда, прапорщик, скорее, наверно проголодались!
Она усаживала за стол, подвигая к нему какие‑то тарелки, хлеб, касаясь совсем близко тревожащим непозволительным своим теплом.
— Консервы в ящике, вот тут; откупорьте сами, товарищ, вы сильнее!
Для Шелехова это звучало так:
«Какой вечер, какая молодость, как в смутной радости хорошо встречаются глаза!»
Угощали давно не виданным: на столах лежал белый хлеб, масло, стояли банки с вареньем, ящики были полны консервов, и можно было брать всего сколько угодно. Здесь была комната для избранных, и офицерам это нравилось: почет, отдельность, потому что офицеры. «Сглупил Елховский!» — подумал Шелехов. Революция была уже не такая сумбурная и унижающая вещь: лучшие традиции соблюдались, черт возьми!
Офицеры держались совсем не так, как держались они юнкерами. Старались есть изящно и медлительно, несмотря на голод, и Шелехов, наблюдая за Пелетьминым и Софроновым, невольно перенимал те же плавные, горделивые повороты головы. Говорили о том, куда лучше попасть — в Балтику или в Севастополь, сколько дадут подъемных денег, можно ли теперь рассчитывать попасть на корабль. И уже поздно было, когда расходились; ночь представлялась за окном черно — бархатной, влажной, как в мае…
Кто, где она, прекрасная, неизвестная, которая ждала где‑то на земле?
Под лестницей Шелехов заметил генерала. Он стоял среди толпы молодых офицеров, прощаясь с ними, и плакал, плакал не стыдясь. Уже не генерал, а добитый, разрушающийся старик, брошенный всеми среди кромешной, не замечающей его солдатской толкучки… Шелехов, подходя вслед за другими и ощущая в первый раз в жизни теплое рыхлое его рукопожатие, услышал:
— Теперь вам… вам, молодым, служить. Все по-новому… Не нужны мы… Время…
В ту ночь он шел домой, как во сне. Был какой‑то неимоверный, таящий в себе чудесное, час; грустная музыка лилась неслышно: в ней были и генерал, и Елховский, и далекая Людмила, и невнятная счастливая тоска… И как в сновиденье, воздушной сырой пространностью пахнула, открылась Нева за Марсовым полем. Стало светлее. Налево голубоватыми звеньями сияний своих выкинулся Николаевский мост. На Троицком мосту, через который проходил Шелехов, тоже сияло, отдаваясь в глазах мягкоголубыми арками. На чугунном парапете императорские вензеля жили обычно, несокрушимо. Каменной наслоенностью эпох оброс молчаливый отемнелый фронт дворцов вдоль набережной. Сквозь бирюзовое сиянье, с моста, в одну из ночей революции все это путалось причудливо, казалось опрокинутым из времен во времена. Офицер Шелехов шел и пел, не зная, что именно он поет, ноги били в такт этому напеву. Под пролетами масляной чернью поблескивала гибельная вода. Даль биржи, университета, Сенатской площади, зимующих кораблей, недалекого моря… О, петь, петь, как во сне, перегнувшись через чугунный пролет… где это, в какой стране?
На этом берегу тускло ниспадали во мглу стены Петропавловской крепости. Угадывался вонзенный в дебри неба высочайший шпиц. Когда сойдет лед, волна забьет внизу о нелюдимые, мертвецкие камни.
Шелехову представились не виданные им никогда, лишь по книгам известные казематы жуткой тюрьмы. В мыслях они были, должно быть, ужаснее. С перелистанных когда‑то страниц «Былого» вставали портреты; среди них были и офицеры — почему‑то на всех портретах с большими, томными и впалыми глазами, в неуклюжей бороде… Подумалось о десятилетиях, как одна сплошная ночь, о содрогающей тоске желаний, о потных ледяных камнях, прижимающихся ответно к горячему телу. А смычки молодости звенели и тогда, и любимые, в весенний вечер, предавая их, кружились далеко в бальной тесноте!.. И вспомнил других офицеров — японской войны, жандармских управлений, офицеров пятого года, в фуражках с остро и туго обтянутым верхом, со скудными вислыми усами — тех, которые расстреливали, махнув перчаткой в стену тупых, косных солдат, — офицеров, на бесчеловечной преданности которых покоилась империя.
— И вот — распахнуты камни и насквозь пусты и пройдены народом дворцы. И вот он — офицер же, но которого сделала офицером революция — та невероятная, грезимая, ради которой хоронили заживо свои единственные, солнечные жизни, были казнимы… К нему подступали, глядели из погребенного темные, в мученической бороде, глаза.
— Я!.. — крикнул Шелехов, сорвал фуражку, согнулся, упал мокрой щекой на парапет моста. — Я… офицер революции… вас приветствую… борцы, мученики!.. — Слезы бежали ядовито, обжигающе: это было и совсем театрально и вместе с тем искренно, потрясающе до судорог сладостных, до колыханий. — Я клянусь…
Он, не дошептав, сорвался и побежал прочь. Только где‑то уже на Каменноостровском — квартала за два от моста — очнулся от громкого хорового пения. Он озяб и пылал весь. Навстречу ему валила толпа, загородив всю улицу, слишком мрачная толпа для полночи, со знаменами, с факелами: вероятно, рабочие с какого‑нибудь недалекого завода. Они шли, тесно сцепившись под руки, захватывая рядами не только мостовую, но и обе панели. Почему‑то было много женщин в платках, и от женских голосов пение было звонко-злое, рыдающее:
…в любви-и беззаве-етной к наро-оду…Его потревожила эта неизбежность встречи — толпа шла прямо на него. Он непременно должен был сейчас завязнуть в ее рядах. Время было глухое, улица пустынная; погоны опасно и нагло сияли навстречу этой поднявшейся в полночь нищете. Ему представились почему‑то насмешливые, разъяренные глаза, особенно у баб-работниц, почудилось, что вместе с ними и тот перевязанный солдатишка принес в их ряды свою злобу и обойденность. И будто в самом деле было что‑то такое за Шелеховым, за что надо его покарать, что он сам не знал…
И неожиданно для самого себя — согнулся, трусливо нырнул за угол, в мрак, стоял там, прижавшись к стене, выжидал…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Наконец, наступил день, от которого у многих заранее трепетало сердце: выпуск получал назначения в адмиралтействе.
Все было не так торжественно и жутко, как казалось издали, из ожиданий. Собирались в сереньком низковатом зале, где меж низкорослых грязноватых колонн застряли навсегда бумажные будни, слезливые утренние окна, столы с грудами дел, накопленными, должно быть, за столетие. Неслышно суетился чиновник, бывалый в этих бумажных катакомбах, в плесневелом кителе, подавая каждому какую‑то ведомость расписаться. С бывшими юнкерами, которых собралось около сотни (остальные были в отпуске), ворвался сюда топот, благовест новых времен, ветер. Все еще крутились, половодили улицы народом, манифестациями, грузовиками; выше всего шли знамена, с которых кричало: «Рабочие к станкам! Солдаты в окопы!» — и оркестр гремел впереди маршевой роты, вразброд хлюстающей по мартовским лужам с гордым плакатом: «Мы идем на фронт», от которого было неуютно вчуже, беспокойно, будто ты уже в окопах, где тянется брюзгливый, затерянный в гиблых полях день, чмокает гнусная ледяная жижа под ногами и кругом — одна ножовщина в мокрых папахах, не признающая никого…
«А куда выпадет мне?» — думал каждый из ста. Вдруг возьмет революционное правительство и двинет на самый настоящий сухопутный фронт, под какой‑нибудь Двинск или Осовец: есть там какие‑то морские роты из штрафных матросов, списанных с кораблей. Всего можно ожидать в такое время.
Но вышло совсем уже не так зловеще. Пришли с бумагами еще два чиновника, которым было дано вершить это дело, — два равнодушно — любезных щемящих человека; они в сдвинувшейся настороженной тишине сели за стол и объявили:
— На всех полтораста офицеров имеется сто двадцать вакансий в Балтику и тридцать на Черное море.
Пелетьмин, выглядевший теперь, в офицерской форме, совсем красавцем и державшийся с презрительным отчуждением от прочих товарищей, вкрадчиво наклонился к члену комиссии:
— У меня, господин кавторанг, есть вызов в Севастополь… от командира миноносца «Гаджибей».
Человек пять-шесть так же вкрадчиво и просяще полезли за ним.
— У меня требование из Новороссийска.
— У меня — в гидроавиацию…
Маленький Мерфельд, подслушавший этот разговор, шариком подкатился к толпе выпускных, стоявших между колонн:
— Товарищи! Это безобразие! Они, пользуясь своими связями, разберут лучшие вакансии. Мы протестуем! Не давать! Теперь к черту все сословные привилегии, дядюшек, тетушек, не прежнее время!
— Не давать! — зароптали прапорщики. — Пусть по жребию.
Шелехов, помутнев, подошел к столу и сказал злобно и тихо:
— Товарищи члены комиссии, я заявляю: если вы будете использовать какие‑то там протекции и прочие штуки, назначение будет недействительным… и я иду в Совет рабочих депутатов!
— По жребию! — наступали прапорщики.
Пелетьмин с вежливой улыбкой раздвинул свои румяные ненавидящие губы.
— Господа… «товарищи офицеры»!.. Можете не кипятиться, мы, если так, не настаиваем на… «сословных привилегиях».
— Если бы и настаивали, ничего бы не вышло! — задирчиво буркнул Шелехов, все еще дрожа от припадка злобы, будто хотели что‑то украсть у него, самое большое в жизни.
Было предложено подходить к столу и вынимать жребий в порядке успешности. Чиновники с той же равнодушной любезностью согласились. Шелехов кончил школу пятым — он, значит, шел почти в самом начале.
Пелетьмин же громко сказал кому‑то из своих:
— Через месяц все равно буду на «Гаджибее», а не в экипаже.
Офицеры переглянулись со злорадной усмешкой:
— Посмотрим! Нам сейчас важно, а там — что хочешь.
— Пускай утешается.
Катин в группе выпускных рассказывал о Севастополе, с обычной своей мальчишеской пылкостью хватаясь за волосы, подтанцовывал от восторга.
— Двоюродный брат оттуда приехал. Все матросы одеты по форме, вежливы, все отдают честь! На кораблях чистота! Выбирают во все комитеты только офицеров.
— Это настоящий революционный флот, не кронштадтские головорезы.
— Он имеет за собой — «Потемкина», Шмидта…
— А город, а море — роскошь! Какие девочки!
— На Приморском бульваре…
— Я определенно в Севастополь! — кипел Катин. — Я знаю, что вытащу ближний номер. К черту Балтийскую лужу!
— Не вытащишь!
— Не вытащу — с кем‑нибудь поменяюсь. Дураков много… — Катин хихикнул, закрыв рот ладонью, чтоб не выдать себя еще больше.
Шелехов мало думал о том, куда ему хочется. Смутные пространства вод рисовались во временах, впереди. Не все ли равно — и в Гельсингфорсе и в Кронштадте будет когда‑нибудь солнечно. Нет, Кронштадт рисовался как‑то иначе: чумные, окрашенные убийством форты, низкое небо над волной, наползающее почти на верхушки мачт… Многих офицеров там еще держали в тюрьме. Матросы открыто не признавали Временного правительства, выглядели зловещими, непримиримыми… В Кронштадт не хотелось бы. А в Севастополь? Он не знал… Колебалось что‑то жемчужное, многоцветное, в туманах. Нет, что мечтать!.. Чтобы не услыхать в себе каких‑то бушующих желаний, чтобы больно не разочароваться потом, он стряхнул с себя все, упорно сказав:
— Все равно…
* * *
Жеребьевка началась. Первым кончил школу Пелетьмин, фельдфебель школы. Он подошел и выдернул билет небрежно, с кем‑то разговаривая. Ему выпал двадцатый номер. И он усмехнулся, сразу забыв о своей презрительности и отдельности от прочих, усмехнулся ликуя, просто: это был не Кронштадт, а жизнь, отдающие честь матросы, миноносец «Гаджибей» и тонные мичманы на нем, застывшие на мостиках с биноклем у глаз, — мичманы, любимцы женщин, летящие в зеленое кипение моря! Двадцатый номер мог выбирать. Ведь севастопольских вакансий было тридцать.
Вторым подошел Лангемак, взводный четвертой юнкерской роты. Его женственное лицо силача, лихого строевика, опахнулось бледностью. Он вытащил один из сотых номеров. Выбирать было нечего: Лангемаку оставалась Балтика.
И она опустилась, Балтика, на всех мглистым, желтоватым своим сырым крылом. Один уже идет туда.
Но еще двадцать девять Севастополей, двадцать девять счастливцев. Кто?
Шелехов подошел спокойно. Из окон ударил свет — цветными искрами осыпался в ресницы, ослепил. Какой это и откуда проблистал солнечный простор? Бумажки он почти не видел, не разглядел слабой карандашной цифры. Ему крикнули в ухо с завистью, с недоброжелательством:
— Двенадцать!
Он будет выбирать двенадцатым… Что он возьмет? Впрочем, никто его не расспрашивал, все отошли от него, каждый дрожал про себя тайком…
И вот теперь — отданный ему полно, незапрещенный, его Севастополь расцветился и возник, благословенный, обмечтанный бессознательно, ломая, стискивая горло! Да, конечно, Шелехов все время с ужасом и ревностью мечтал только о нем.
Цветные безбрежные зыби света ходили в глазах.
— Слушай… — его потихоньку кто‑то тронул за плечо. Он увидел Катина, серьезного, хмурого. — Слушай, Шелехов, я вынул девяностый, здорово. Слушай, не хочешь ли поменяться?
— Нет, хе-хе-хе! — цепко засмеялся Шелехов. — Нет, дураков, говоришь, много?
— Слушай, балда, я же смеялся. Видишь, в чем дело: у меня там брат служит и мать там живет, мне прямой расчет на Черное. А тебе не все ли равно? Ты этим сказкам веришь насчет того, что там все хорошо? А я тебе вот что скажу, мне брат передавал, между нами… — Он тепло, дружественно задышал ему в самое лицо: — В Кронштадте уже резали; там все прошло, понимаешь? Теперь они выдохлись, — что было, уже не будет. А в Севастополе все впереди, все впереди, понял? Это пока честь отдают и все прочее.
— Я не трус, — гордо и холодно сказал Шелехов. — Словом, я не меняюсь, Катин, я беру Севастополь.
…Из четвертого взвода попали в Севастополь, кроме Шелехова, еще Софронов, Мерфельд, Ахромеев — студент Института гражданских инженеров, и, наконец, Трунов. У Шелехова шевельнулось боязливое, когда на звали эту фамилию. Что‑то нужно было сделать, и сделать теперь, на краю большой баюкающей радости, пока не стало привычным это: Севастополь, море, юг. Он насильно заставил себя подойти к Трунову и неловко спросил:
— Вы ведь тоже на юг?
— Да, — ясно ответил Трунов. Радость его была такая же, выхлестывающая через смеющиеся глаза, мальчишеская, как у всех. — Там, говорят, есть возможность попасть на корабль…
— Трунов… — перебил его Шелехов замирающе, словно бросаясь вниз головой. — Трунов, я краснею, я давно хотел вам сказать, однажды я вел себя недостойно, но тогда было сумасшествие, никто ничего не понимал, и вы меня не так поняли.
Трунов деловито нахмурился:
— Ах, это тогда ночью? В гальюне? Стоит теперь об этом вспоминать! Не вы один поддались панике… Вот что, давайте все взводные поедем вместе…
— Поедем! — сказал Шелехов радостно и сжал его руку. Камень спал сразу — он вступал в Севастополь полноправным, очищенным.
Чиновник в кителе, после поздравлений, возгласил:
— Севастопольцы! Получать прогонные и месячный оклад.
«Севастопольцы»… Как это сказочно звучало!
* * *
Над Невой, над бледно-желтым адмиралтейством цвел кое-где в седоватых пасмурных облаках синий свет. То краешек недалекой уже весны проглянул, сиял в воду, в песчаные аллеи адмиралтейского двора, в восемнадцатое столетие пилястров. Пестрели пулевые вгрызины на кирпичах арок, стен.
Здесь отсиживались недавно последние министры, и пулемет поливал с крыш в чугунный узор ворот, за которыми стиснулись грузовики, машущие руки, смертельно кивающие флаги…
Но теперь тишина ощущалась непреходящей, утвержденной навеки. Что бы ни было, все пройдет, сольется стихающими ручьями вот в такую успокоенность, в безмятежную синеву. Верилось в лучшие времена, в счастье, в согретую и всеми голосами запевшую, наконец, жизнь. Это будет, будет! Что из того, что Елховского бросили на слякотные и затоптанные камни вокзала, что еще бунтом и безвестностью насыщены улицы, на которых день и ночь толчется возбужденная, опасная толпа. Что из того! В кармане у прапорщика Шелехова семьсот рублей, вакансия в Черноморский флот и впереди — безграничные долы жизни, расхлеставшиеся океаном революции, где возможно все, где костром пропылает каждый день, где спрятано, наверно, спрятано оно — всю жизнь угадываемое, ни разу не встреченное счастье. Жить, жить, отплыв от всех берегов! Кто его знает, кто его запомнит в этом безыменном океане, прапорщика Шелехова!
Хотелось, чтобы эта жизнь начиналась скорее, сегодня же. Сердце заломило от сладостного предощущения. Все возможно! Он никогда не видал у себя столько денег. Он никогда не видел себя в мимолетящих витринах таким стройным, подтянутым, в короткой франтоватой шинели до колен, с блестящей кокардой на фуражке. Барышня, обходившая осторожно лужицу на голом льду бульвара и чуть не столкнувшаяся с ним, улыбнулась ему лукаво скошенными мальчишечьими глазами. Он понял эту улыбку, — все в жизни раскрывалось ему навстречу. Духи опахнули его, как тысяча неуловимых ласк. Может быть, начнется вот с этой самой?
Знал, что играет в нем, вяжет волю постыдный, разожженный месяцами казарменной койки голод…
О, если бы здесь была Людмила, простая, любящая, открытая! Как ласково, жалеючи приняла бы она его под свой тихий пуховый платок, насытила бы обжадовелую, скрипящую зубами тоску!
Перед ним встала безответная девичья комнатка, над кроватью мадонна со скорбной слезой, Блок, мечтательно скрестивший руки на груди, в трубадурском воротничке, за шторой — на окне — скудный ужин из полбутылки молока и утренней булки. И сердце заболело за эту, все отдавшую ему безответность, за былое…
Он не писал ей уже столько месяцев. А она ведь была все‑таки единственной в жизни. Она была отдаленным последним приютом. Ее недавнее письмо — в школу еще — было полно провинциальных холодов, сугробов, безгазетья, порывов в Петроград… Может быть, ее просто мучило его молчанье, но она стыдилась упрекать его? В последний раз он писал ей, когда ему захотелось уйти от тоски, от сиротливых, охвативших его среди казарменных, ставших сразу постылыми стен, к которым, казалось, не привыкнуть никогда. То письмо было длинным, несвязным, рыдающим; вернее, это было письмо Шелехова к самому себе.
Он только теперь понял, каким был всегда эгоистом.
В своей комнате разделся, почти в лихорадке, кое-как достал бумагу и тотчас же сел за письмо. «Милая, милая Людмила…» — написал он и остановился, задумавшись. Так много было всего, такая огромная гора событий, чувств, мыслей нависла сразу… Он прошелся по комнате, повесил на место шинель, бережно погладив ее. И словно все в комнате облагородилось в один миг ее черным сияньем. Если бы эта беззвучная радостная музыка, которой теперь была наполнена его жизнь, донеслась до Людмилиных сугробов, обвила уездное, тоскующее окно ее! Он написал:
«Я теперь офицер Черноморского флота. Через несколько дней прощаюсь с Петроградом и еду на юг. Там морской фронт…»
Это опять было не то, что хотелось. Он досадливо скомкал листок. Слышалось, как в пустой квартире, где- то на кухне, прилежно тяпала ножом и распевала Аглаида Кузьминишна. Едко и головокружительно пахло кожей от коробок у стены. Томясь, он машинально открыл одну из них, поглядел. В бледно-зеленоватой бумаге лежал зеркальный туфелек с ядовито изогнутым каблучком, намечавший линии сильной и нежной ноги.
Он оттолкнул коробку, упал головой на ладонь, карандаш забегал безотрывочно, горячечно:
«…Милая, милая Люда, моя радость, сейчас так полон тобою, что ничего нет, ни революции, ни моих офицерских погон, ни волшебного юга, который впереди!.. Милая Люда, все время порывался тебе написать… (он поколебался и вычеркнул это). Я вот сейчас сижу и думаю о тебе, мне кажется, ты недалеко, сейчас придешь. Я только что шел по Большому проспекту, мимо кино „Казино де Пари“, где мы с тобой бывали, — помнишь? — и я подумал о том, что не сознавал тогда, какое счастье, когда ты рядом, близко. Помнишь ведь, что бывало у нас?.. Тебя хочу, как воды, Люда!.. Вот вижу, как ты приходишь ко мне… хочешь — расскажу? Вот ты здесь, села около меня. Я беру твои руки, моя Люда, я говорю тебе: „Ну, брось, брось папироску!“ — и твои губы пахнут немного пудрой и табачным дымом, твои мягкие, уже слабеющие губы. Ты видишь, что мы оба уже не можем успокоиться, ты, устало улыбаясь, сама просишь: „Пойдем, немного полежим“».
Он пугливо вздрогнул, прислушался: в дверь тихо-тихо постучали. Торопясь, крутясь в дрожном, слепом тумане, прикрыл письмо книгой и вскочил. Сердце билось трусливыми, сосущими толчками. Как будто и боялся и с преступным трепетом ждал этого стука…
— Кто? — спросил он притворно равнодушным голосом.
Аглаида Кузьминишна, как он и ожидал, выглянула из‑за двери пудреным, сладким личиком, по привычке опасливо запахивая халатик на груди.
— Сергей Федорыч, я не помешаю?
Он засуетился, едва пересиливая сердцебиение.
— Пожалуйста, пожалуйста, Аглаида Кузьминишна, рад.
Хозяйка вошла, переваливаясь немного по — гусыньи, и, плюхнувшись на скрипучую постель, шумно перевела дух, как после шестиэтажной лестницы.
— Ох, прямо ума не приложу, Сергей Федорыч! Да неужто все это правда?
Шелехов подсел рядом, пылающей рукой взял ее руку, задержал у нее на коленях:
— А в чем дело, Аглаида Кузьминишна?
— Да неужели у нас всамделе царя‑то не будет?
Шелехов в забывчивости тискал ее пухлые пальчики.
— Царя? — переспросил он.
Это была бесконечная, полная колебаний, отчаянная пауза, на краю гиблой пропасти, когда, ему не хватало дыхания. Хозяйка сидела, не чуя ничего, озабоченно сложив губы сердечком.
Шелехов вспомнил, что через несколько дней он будет за тысячи верст, в неведомом царстве, куда дороги туманом поросли…
— Нет, царя больше не будет, Аглаида Кузьминишна, — наставительно промолвил он трудными, непослушными губами и, решительно охватив руками всю ее грузную и неповоротливую тяжелину, повлек к себе.
Аглаида Кузьминишна, ужаснувшись, мигала на него отупелыми синенькими глазками.
— Сергей Федорыч, что вы, что вы!.. — захныкала она и начала так яростно отбиваться, что он на миг задохнулся в мощном ее теле.
— Не будет больше царя! — злобно и настойчиво простонал Шелехов, зная, что ни возврата, ни прощения теперь нет.
Утомленное ангельское личико само обернулось к нему и счастливо хихикнуло… Нет, то Севастополь сверкнул своим опаляющим полднем. Севастополь непереносимо-радостных снов — он был совсем близко, за чудесными садами, весь в чарующих, оглушительных прибоях!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Мгла лихорадочно курилась с мостовых, скалывали лед по улицам, и извозчичьи шины проваливались в грязные колдобины и лужи, — в такой вечер Шелехов покидал Петроград.
И мгла сочилась через высокие двери в анфилады Николаевского вокзала. В фойе и коридорах, уводящих на мутный перрон, маялись толпы солдат с котомками за спиной — кто их знает, отпускные или дезертиры, ждавшие только знака, чтобы первыми ринуться к вагонам, натискаться в них, облепить их вплоть до крыш, умотаться поскорее от осточертелой казармы, от разворошенного бесхозяйного Петрограда, наплевав на все… Шелехов заранее почувствовал себя потерянным, пропащим: никого из товарищей по школе не было видно, предстояло ринуться в рвачку одному.
Билет второго класса и плацкарта лежали в кармане. Но что они могли теперь значить? Носильщики наотрез отказывались помочь, со злорадством кивая на солдат: мол, сами довели, ну и расхлебывайте! И носильщики тут же рассказывали друг другу, наверно, в сотый раз, какой негодящий и шеромыжный стал солдат, — на фронте отступление, а они тут подрабатывают, таская багаж пассажирам и отбивая хлеб у людей, а то спекуляничают семечками… От всего этого безнадежно занывало…
Шелехов присел на чемодан в буфетной комнате. Огни засветились над столиками, восстанавливая ежевечерний вокзальный быт, помесь старого с новым. Звякали ложечки и стаканы, прикусывали и жевали люди у стойки, метались растопыренные барыни, водя за собой ободранных окопных солдат, нагруженных чемоданами. За залом чувствовался сырой и мрачный Петроград, докатывающий до вокзальных дверей гулы своей чудовищной необозримой населенности, и где‑то там давняя, похороненная юность, похожая на солнечные осколки, заплаканное личико Аглаиды Кузьминишны под тусклым лестничным окном, тяжеловесное, горестное бабье ее объятие…
Скорее отсюда, вскачь, не оборачиваясь назад: скорее скинуть с себя эту постылую, черт знает чем бредящую засырелость!
Стоило вспомнить последние петроградские дни. В разговорах, во встречных взглядах, в толпяной толкучке проглядывало что‑то новое, зряшное, резкое. Дерзела, сама порывалась хозяйничать какая‑то тьма. Нет, до Севастополя не докатится, далеко, — притушит Россия!
Им овладело тошнотное и сонное оцепенение. Было невероятно, что сейчас надо броситься на холод, в свалку, окунуться в огромное мчащееся тысячеверстье. Мелькания, огни, сырой ветер от ног… все жило где‑то вне, призрачно, казалось — не кончится никогда.
И, наконец, оглушительно задышало в гулких перронах.
Подавали поезд. Ночь сразу наполнилась пожарным гомоном. Шелехов, забыв про все, схватил в одну руку чемодан, в другую — сверток с постелью и, волоча их за собой, втиснулся на перрон. К вагонам бежал, почти не дыша, взвалив кое‑как поклажу на плечи и терзаясь от невыносимой ломоты, но все‑таки бежал; нужно было перестрадать во что бы то ни стало, нужно было выжить все, зубы скрипели и ездили от злобы и силы.
«Может быть, во второй класс сразу не решатся…» — ободрял он себя, а глаза на бегу скакали, шарили лихорадочно вдоль поезда: где же он, вагон № 4?
Но и около вагона № 4 уже бушевала солдатская вольница. С дракой, с паром ломились в двери, другие, половчее, скакали на буфера и оттуда уже на площадку; вагон стонал, дрожал. Шелехов попробовал было толкнуться в толпу, но его тотчас выбросили обратно. Он стоял и бессильно глядел на свалку, злой, убитый отчаянием; безысходность — как ночь — нависала.
«Ну, куда же к черту лезут во второй класс, сволочи, дезертиры!»
В вагоне натискалось народу до отказа, теперь брали с боя площадку и ступеньки. Толпа еще билась об них, но лезть больше было некуда. На площадке, после боя, устраивались поудобнее, закуривали, собираясь в дальний путь. Роптали:
— Господа по купам расселись, а ты стой здесь.
— Вскрыть их, купы‑то!..
Шелехов, не помня себя, в ярости и отчаянии бросился к ступенькам.
— Товарищи! — крикнул он, и голос его звенел стыдными слезами. — Я офицер революционного выпуска, еду на фронт, у меня плацкартное место, и никак не могу пройти. Мне же нужно пройти!
На площадке загалдели, совещаясь:
— Тут самим дыхнуть негде.
— Да хто он такой?
— Прапор. Видать, моложак…
— Говорит, револю-ци-оннай…
— Раз наш, давай сюды!
Солдаты, видимо, подобрели, немного раздвинулись, кто‑то за руки втянул Шелехова на ступеньки.
— Идем, браток. Раз плацкарта, валяй в купу!
— Давай вешшы!
Сверток с постелью вырвали из рук и поверх темноголовья толкнули куда‑то в коридор. Туда же, кувыркаясь, пролетел тяжелый чемодан.
«Эх, все равно, — подумал Шелехов, мысленно прощаясь с вещами, — самому‑то втиснуться бы».
— Влазь! — сказал рослый бородатый солдат с площадки.
Там подались немного, Шелехов толкнулся было, но все‑таки проломать человечью стену никак было невозможно. Тогда рослый охватил Шелехова, сказав:
— Эх, браток!..
Поднял его над собой, какие‑то другие руки приняли Шелехова дальше, пронесли над головами и задержали где‑то в темноте.
А в дверь купе уже ботали ногами:
— Открывай, тут плацкартный!
— Открывай, не бойся! Офицера нашего прими!
Шелехова бережно опустили за дверь, за ним вкатили сверток и чемодан. Какой‑то круглоголовый бритый офицер сердито закрыл за ним дверь и запер ее на цепочку. Ослабев от пьяной радости, Шелехов лег молча на чемодан.
И мягкие плюшевые сумерки купе замкнулись, приняв его в себя.
Они будут качать и баюкать, когда настанет долгая мчащая ночь. А вот эти самые вагонные стены он увидит, проснувшись однажды утром уже в Севастополе, в невероятном Севастополе, и в окно пахнет дыханием близкого моря.
В купе ужинала семья бритого офицера, оказавшегося казачьим есаулом. Одутлое, наглое лицо с водяными глазами навыкате казалось виденным тысячу раз раньше. Несомненно, где‑нибудь поблизости лежала и черная заскорузлая нагайка, без которой эти жирные воинственные ляжки в синих галифе были немыслимы. Шелехов его уже ненавидел, — точь-в-точь такой зарубил когда‑то у трамвайной остановки его товарища — студента за непочтительность.
Офицер, не стесняясь, расположился с кульками, корзинками и свертками по всему купе, заняв и столик и обе нижних койки, из которых одна принадлежала юному артиллерийскому прапорщику; тот не протестовал и виновато отодвинулся в темный уголок к двери. Дама, ехавшая с офицером, была очень молода; но тонкая женственная прелесть ее казалась какой‑то замученной, и губы, когда‑то кроткие, имели склонность к плаксивому страданию. Почему‑то думалось, что этот человек со звериной ненасытностью приучал ее к разным постыдным штукам…
«Животное», — подумал Шелехов. С ними ехала девочка. Есаул ухаживал за обеими с жестоким подобострастием.
Последние звонки били торопливо, накануне бездонной, готовой поглотить в себя ночи. Бежали отсталые под фонарями перрона. В коридоре буйно затискались, зацарапали сапогами по перегородке, прорыдала гармоника. И медленно проплывали какие‑то светы.
— Урра! — дружно заревели в коридоре.
Там было набито тяжело и грузно, хахало, кричало и веселилось сквозь грохот глухо и плавно переплетаемого железа.
…Петербург! Шелехов встал, жадно пил глазами последние фонарные сумерки окраин, сияния каких‑то многоэтажных корпусов, кончающиеся дебри города, ставшего понемногу чужим, нежеланным. Чему в нем сказать «прощай»?.. Дама, бледная и прямая, крестилась. Есаул багровел от гнева. Его бесил шум солдат за дверями.
— Разврат! — сказал он осипло, глаза его глядели яростно куда‑то в ноги Шелехову. — Вы скажете, это хорошо? Хамят, безобразят, никого не признают. Ваш петербургский солдат стал не солдат, а зараза! Дезертиры и хулиганы! Меня, георгиевского кавалера, выгнали из полка, из Финляндии, вот такая сволочь выгнала. Монархист? Да, был и останусь монархистом, а под дудку предателей родины, господ Керенских, плясать не стану!
— Игорь… — плаксиво пролепетала дама.
Артиллерийский прапорщик пересилил себя и любезно спросил:
— Вы тоже в Севастополь?
Есаул минуту презрительно промолчал. Никаких прапорщиков для него не существовало.
— Я еду на Кавказ, к великому князю Николаю Николаевичу. Его высочество меня знает лично.
— Игорь, шоколад… — лепетала женщина.
Ее незабудковым глазам были безразличны солдаты, великая ночь, князья, бушевание времени. Игорь оберегал от всего ее закутанные цветковые миры.
И девочка, стесняясь чужих, капризно украдкой терла глаза:
— Спа-ать…
Качало и несло в ночи, в неведомых полях.
Есаул, держась как полновластный хозяин всего купе, начал стелить постели. Кряхтели чемоданы и корзины в напруженных багровых руках, стонали от насилия. Это была не сила, а злоба, злоба… Себе стелил наверху, против койки Шелехова, жене внизу. Закончив с этими двумя, есаул, не спрашивая артиллерийского прапорщика, начал стелить третью постель на его койке — очевидно, для девочки.
— Позвольте, — недоуменно и обиженно привстал тот. — Вы…
— Я знаю, что я «вы», — грубо отрезал офицер. — Что же, вы хотите спать, а ребенок нет?
Артиллерист молчал, долговязый, растерянный.
— Может быть, господин прапорщик будет спать, а штаб-офицер будет стоять? Или вы хотите, чтобы дама вам уступила место?
Вот такая, такая наглая дрожащая рука выхватила шашку и рубила. Шелехов горел; он распахнул шинель и, опустив пальцы в карман, нащупал рукоятку браунинга. «Ну, скажи мне, скажи мне, — молил он, — скажи, хам, животное, сволочь! Если… то я отворю дверь, и мы разорвем тебя в клочья…»
Артиллерист только пожал плечами.
— Странно… — жалобно сказал он и сел опять на уголок.
Шелехов уничтожающе промерцал на него глазами. О, задели бы так его!.. Полный досадной злобы, он полез устраиваться наверх.
— Любань! — крикнул голос в коридоре.
Имя станции пело полевою глухоманью, встречными бродяжьими огнями, у которых повиснут на мгновенье поезда, чтобы падать потом, падать опять в недряные тьмы России. Светы станции проползли через купе, где есаул, ложась спать, наглухо потушил фонарь… Резко загалдело опять и забушевало в коридоре, сотрясая стены. На площадке, должно быть, опять шла свалка. Шелехов стоял у окна, нарочно утомляя себя, отдаляя минуту, когда лечь, укачаться, поплыть неслышимо в мечтаемый воздушный мир. Было приятно предощущать, как поезд будет мчать его, спящего, через ветер и мрак, через резкую быль городов, станций, деревень, через тысячеверстные пространства.
В коридоре прокатилось новым будоражным гулом. Там опять втаскивали кого‑то и, донеся до двери, обрушились на нее кулаками.
— Открывай, эй! Женщину примите. Сестру.
— Плацкартная, открывай!
Есаул заворочался на своей койке — в полумгле станционного освещения — и пытался поднять голову. «Ага!» — сказал себе Шелехов, со злобной удовлетворенной радостью кинулся к двери и отпер ее — назло есаулу. Оттуда просунулся чемодан и женщина за ним: едва не упав, спеша благодарить, она тотчас же присела и начала поправлять прическу.
Духи пахнули беспокояще — такой землей, убегающим по солнечному пригорку белым платьем. Когда‑то так снилось.
Шелехов отошел от двери и с выжидающим торжеством глядел на есаула. Тот, однако, не шевелился.
— Можете ложиться на мою койку… Наверху… — сказал он женщине.
Лица ее он так и не разглядел. Она, тонкая и высокая, устало — ласково спросила:
— А вы?
— Я не хочу спать. Посижу.
И, волнуясь и веря во что‑то необыкновенное, убрал с полки свою подушку и помог женщине подняться наверх.
* * *
Есаул храпел. Артиллерист посапывал тоже в своем углу, уронив голову на грудь. Томно вдруг стало и Шелехову. Он присел на чемодан, попробовал дремать. Поезд отгрохивал где‑то за Любанью, в плотной темноте; пассажирка наверху устраивалась ощупью. И вдруг в ночи цветные огни махнули пожаром и пропали.
«Праздник. Ведь нынче праздник!» — вспомнил Шелехов: поезд вышел как раз в страстную субботу. Какой‑то огромный ночной луг представился из детства, внизу уездный городок рассыпал чахлые свои огоньки, и огненным кораблем стояла церковь на горе… И ветер и ожиданье кого‑то, с кем бежать в ветер, в весенний холод, в счастье!.. И захватывающая неисполнимая грусть… Стучали и протяжно ныли колеса о чем‑то знакомом, напетом, и в такт звенело в ушах. О чем?
— Та-ра-рам… та-а-ам…
Марсельеза. Беспокойно набегали сквозь дремоту и будили какие‑то силовые волны. Стуки вагона отчетливо выговаривали мотив…
Шелехов попытался освежиться и выйти на площадку. Нужно было сделать это так, чтобы никто из коридорных обывателей не проник в купе. Он выглянул с опаской за дверь. В желтоватых потемках — от скудного фонаря — люди лежали вповалку на полу, как неразличимые темные узлы; только колени в серых штанах торчали кое-где вверх. Неслышно закрыв дверь, он побрел в конец коридора. Там, спиной к печке, сидел человек и в полудремоте растягивал гармонику; двое или трое не спали, влежку гуторили, и получалось очень уютно, как у костра в лесу. Гармоника, как жалоба, чуть подыхивала, человек подпевал что‑то.
Может быть, это те самые, которые пронесли его на руках. Его охватило теплое, безбрежное чувство благодарности. Хотелось сказать им что‑нибудь самое сердечное, чтобы поняли, что он не из прежних, высокомерных, чуждых им людей в погонах, а офицер-товарищ. Он наклонился к солдатам и предложил им папирос.
— На побывку едете?
Солдаты ощупью, неуклюже зацепили по папиросе, неторопливо закурили, один из них согласливо, но как- то между прочим ответил:
— На побывку.
И, помолчав, продолжал свой дремотный разговор:
— Наша Растеряха… она от вашего этого Саранска верстов на восемьдесят будет. Вот ты, какая статья, земляка где нашел, а?.. Теперь недельки две о праздниках погулям, а там и яровое поднимать.
— Погуляешь… по печке затылком! — угрюмо отозвался другой. — Небось и все семена‑то подъели.
— По новым правам солдата обсеменить должны!..
— Где они, новы‑то права? Слыхал, подождать велят…
Шелехов, весь пронзенный добротой, вступился.
— Нет, товарищи, революционное правительство заботится о народе, оно же и поставлено для этого самим народом. Может быть, только у вас, в глухих местах, это еще не доходит, так вы сами, как сознательные, должны все выяснить и потребовать. Очень просто!
Солдаты молчали, раздувая прилежно папиросный жар, освещавший закрытые их глаза. Что им сказать еще, чтобы поняли, какие, за теменью жизни, светлые завтра ждут впереди?
— Потерпеть нам, товарищи, еще недолго. Германия, она ведь до нового урожая не дотянет, это точно высчитано учеными. Вы, когда опять на фронт поедете, только к шапочному разбору, пожалуй, попадете!
— На фронт? — смутно переспросил один из солдат.
Шелехов не увидел, а только далеким каким‑то сознанием угадал на его лице ядовитую, спрятанную за молчанием ухмылку. Гармонист подсвистнул, растянул мехи и зажалобился:
На што мне чин, На што мне сан, На што мне жисть Са-а-лда-тская!..Шелехов постоял еще в каком‑то странном замешательстве, докурил папиросу и, задумавшись, прошел в уборную. Впервые подумалось о том, что впереди, в Севастополе, его ждут такие же неведомые люди, его будущие подчиненные, матросы, с которыми придется быть все время. Сумеет ли он подойти к ним? Заставит ли смотреть на себя, младшего по годам, с доверчивостью и любовью? Он представил их себе издалека, крутогрудых, мощных, обвеянных солнцем и не слышавших никогда ласкового слова от своих офицеров, представил себя, бывшего студента, среди них — и ликующая, горячая сила заиграла в нем.
Да, да, сумеет, и сумеет так, что старое черносотенное офицерье вроде есаула скорчится от желчи и зависти. Только скорее бы, скорее!..
Рама в окне была опущена, за ней, задуваемые весенним ветром, подрагивали огни деревень; пролетая, вдруг резко прогрохотал полевой мостик. Церковка плыла где‑то на косогоре.
Весна.
Человек все громче играл и пел за дверью. Или вон там, за косогорами, за церковкой, в мокрых плакучих ветлах, в тех лугах детства?..
Под ночью лежали нищенские поля, ожидавшие далеких, забредших в кровавую землю хозяев. Под ночью — неразгаданное, необоримое дыхание войны, деревенские росстани, помнящие о криках женщин, заплеванные разлушные вокзалы. И там ведь, в брезжущих за ночью странах — война, и он — на войну.
Гудело железом, ухало, как вопль, текло в лощины беспощадным обрекающим гудом. Прапорщик Шелехов, ведь это не счастье, а война, война!..
«Я офицер революционного выпуска!..»
Он чувствовал под рукой холодную медь кортика — это офицерское достоинство и отличие, и чувствовал эту ночь и в ней всего себя, офицера, вот стоящего в вагоне, одинокого во всем мире, облеченного достоинством и долгом. Он принимает и эту ночь в коридоре и поля, задавленные войной, и будет вот так же спокоен, когда однажды, в такую же ночь, так же резко и действительно ощущая жизнь, пойдет на гибель, на безыменность.
…В купе спали все. Он опустился на пол и начал поудобнее устраиваться на чемодане. Сверху зашелестело, и женский голос прошептал:
— Моряк, слушайте: вы будете мучиться, идемте, здесь можно устроиться вдвоем.
Он сказал нерешительно:
— Я вас стесню.
— Нет, ложитесь… головой к стене, где мои ноги. Я ведь тоже военная, привыкла.
Шелехов подумал и медленно, с замирающим отчего‑то сердцем полез наверх. На минуту зажег спичку, чтобы уложить подушку. Девушка сидела, подобрав колени; осветилось серое ее платье, белый передник — и резкие, смеющиеся, давно в жизни ожидаемые губы. Духи пахли женской спальней и той же уводящей прозрачностью летнего дня, чего‑то ловимого, несбывающегося. Он лег в неспокойной сладостной дремоте. И как хорошо, до блаженной ломоты, как хорошо было вытянуться на краю койки во весь рост, отдать усталое, словно избитое тело расслабляющему качанию. Та, которая была рядом, неизвестная, стала вдруг самой близкой, смутно-любимой. Как будто вдвоем они одни знали, затаили то, чего во всем мире не знал никто… И железный оркестр пения и грохотов объял его с головой. Да, настоящая жизнь уже началась. Оркестр повиновался ему, он играл то, что хотел Шелехов, и торжественно восходила — музыкой шумных толп, криков, праздника — марсельеза.
Тара-там-там… там-та… та-а…
…Закат ночи, может быть, был. Спал он или нет? Тьма висела в купе, как глухая древность. Пахло духами, словно давно когда‑то, после бала. Девушка лежала тихо. Наполовину в снах, Шелехов подвинулся к ней и положил ладонь на теплую ее ногу. Она шевельнулась чуть-чуть — ему почудилось, что она лежала с открытыми глазами и мечтательно улыбалась про себя. Тогда бережно, почти воздушно, он привлек к себе эту безумную теплоту и, забываясь, блаженно припал к ней щекой.
Пьяно гремела, буйствовала марсельеза!
Часть вторая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Прапорщик Шелехов записывал в вахтенном журнале:
«30 апреля… В 11 ч. 45 м. дан сигнал на митинг всем тральщикам, стоящим на рейде Стрелецкая бухта. Митинг состоялся на транспорте „Кача“. Старший офицер зачитал воззвание Совета матросских, солдатских и рабочих депутатов о всемирном празднике пролетариата — 1 Мая. Постановлено в этот день отпустить часть команды на берег для участия в демонстрации».
«14 часов. Вернулись из контрольного траления тральщики „Витязь“ и „Трувор“».
«18 часов. С рейда Севастополь прошла в море подводная лодка „Нарвал“…»
У вахтенного журнала — глаза ненасытного соглядатая. Строчка за строчкой собирает и запоминает на какой‑то особый грозный случай все ежечасные события жизни, той, что на корабле, и около, в море. Шелехов на первой своей самостоятельной вахте старается обойтись без подсказов любопытно благоволящего к нему вахтенного матроса и не пропустить ничего.
А на палубе штабного транспорта «Кача» плетется вперевалку вечерняя жизнь. Щеголи из молодых матросов чистятся и охорашиваются, собираясь на ночную гулянку в Севастополь. Досушивается развешанное поперек палуб матросское белье. В бухте, под бортом «Качи», грязносерые, струящиеся в тихой вечерней воде корпуса тральщиков, войско мачт, снастей, труб. Там и сям на берегу — свалки разоруженных мин, глазастых, красных от ржави. Глухие вздохи машин под ногами, в глубочайших недрах.
Шелехов глядит через борт, покуривая, он еще никак не может перестать удивляться…
Вахтенный, пожилой матрос со слезящимся взглядом, подходит бочком, напоминает:
— На флаг не пора, господин прапорщик?
На дне его скучливых глаз — далекая Екатеринославская губерния, пароходные гудки на Днепре, ночевки на бахче. Прапорщик его не понимает. Желать, чтобы кончилась эта жизнь? Но ведь она почти еще не начиналась! Шелехов забегает на минутку в офицерскую кают-компанию, где висит расписание закатов солнца, — флаг спускается на судне точно в секунду заката, — и там портрет Александра Федоровича Керенского ободряет его японски-мечтательными глазами. Да, это только начало, только начало прекрасного восхождения. Могучая грот-мачта в пепельной синеве, зеркальные иллюминаторы, отсвечивающие розовой водой, гаснущее безбрежное надморье…
Команда строится на палубах тральщиков. Церемония спуска флага близится.
На адмиральском «Георгии-победоносце», в Севастополе, в шести верстах от бухты, через две минуты грохнет пушка.
Шелехов, горделиво замирая, поднимается наверх, на последнюю высоту корабля. Все суда бухты послушно ждут его команды. Здесь, на высочайшей площадке, только неохватный ствол трубы, железные зевы вентиляторов, вдыхающие море, подвешенные на шлюп-балках белоперые шлюпки, плоская бездна берега внизу, сквозь паутину рей, канатов, блоков.
Из шлюпки соскакивает дремавший там румяный, расфранченный горнист с томной челкой до самых бровей.
— На фла-аг… смиррр!..
Две шеренги матросов, в грязных парусиновых блузах до колен, покорно окаменевают на палубе. Горнист уставляет в небо трубу, лицо его от напряжения становится плачущим.
Опять — зоря…
Тошно схватывает за сердце. Февральский вечер в осажденных юнкерских казармах, мокрая пурга, а ночью под окнами, в зеленоватом круге фонаря, люди в лохматых папахах, с винтовками. Чего там столкнулись лбами, сговариваются?.. Тогда горнист играл вот так же, закинув в мутную высь безглазое лицо, выплакивая туда тошную свою тоску, царскую службу, темь, темь, темь… Тогда казалось — не пронести себя живым через страшную, настороженную невидимыми засадами и убийствами ночь… А потом вышло, что революция — совсем другое.
Шелехов зажмурил глаза, шагнул к самому краю площадки и взывал, чтобы слышала вся бухта:
— Фла-а-аг… под-нять!..
Шеренги внизу беспокойно задвигались и, нарушая все правила службы, любопытствуя, задрали лица вверх, к прапорщику. Матрос у кормового флагштока тоже смутился было, но тотчас же решительно засучил руками и спустил флаг. Шелехов, съежившись, почуял неладное.
В ушах отголоском повторилось: «поднять»…
Это было ужасно… непоправимо…
Флаг поднимают утром, а сейчас… Осел, надо было флаг спустить… Осрамился на глазах у всех матросов, осрамился в первый же раз!.. Он мысленно с остервенением сбросил себя вниз с этой площадки так, что череп разлетелся на тысячу кусков. «Осел, осел!» — мельком, беспомощно повел глазами на горниста: тот, шумно продувая рожок, усмехнулся извиняюще, даже поощрительно.
Прапорщик полез по трапу вниз как оплеванный.
Вахтенный при виде его сконфуженно повернулся спиной и особенно внимательно стал смотреть за борт, где зауряд-прапорщик Маркуша, в затрапезном кительчике, удил рыбу со шлюпки, намотав лесу прямо на палец. В другой раз и Шелехов посмотрел бы охотно на эту забаву, даже спустился бы вниз, к уютному Маркуше, но теперь невыносимый стыд звонил в нем во все колокола.
Юркнул в кают-компанию, она — пустая (все офицеры вечером уезжают к семьям или на бульварах, на берегу), зажег свет и, прикорнув у стола, начал рвать зубами папироску.
Нет, какой позор!
Взгляд его встретился с глазами Александра Федоровича. Они проницали вперед, в туманы, в тревогу, в славу… Они как бы приглашали стать выше мелких неприятностей жизни.
И прапорщик откинулся назад, успокаиваясь, мечтательно стихая. Ну что ж, ошибка вполне естественная и простительная для новичка. Но ведь самое главное все‑таки еще не начиналось! Оно должно было начаться скоро — в этот вечер, сейчас. Вот тогда… посмотрим, что тогда!
* * *
Вахтенный приоткрыл дверь, осторожным голосом позвал:
— Господин прапорщик, вы бы вышли, сами посмотрели за тую бухту: есть подозрительность…
— Что такое?
Шелехов тревожно выскочил за ним на шканцы. Стояли уже сумерки, бескрайно и неподвижно лились вокруг небо и море; берег тепло мутнел. Вахтенный показывал пальцем за борт:
— Вот за теми камышами огонечек то вспыхнет, то погаснет. Это, может, знак такой? А энти там, в море, принимают.
— Да, да, это подозрительно…
— И ребята внизу смотрят, говорят — неладно, моторку бы, что ли, послать туда, разведать.
— Да, конечно, сейчас же моторку, — обрадованно подхватил Шелехов. — Давайте!
Вахтенный свистнул в дудку, крикнул негромко, накренясь за перила: «Моторист!» Внизу, на полутемной палубе, затопало, пробежало, в каких‑то низинных дебрях корабля зычно заорало: «Мото-рист!..» Шелехов спустился на палубу, отдавал распоряжения — разные заведомо зряшные слова:
— Поедете с приглушенным мотором, без огня…
На него надвинулся в упор как раз тот румяный ухарь с челкой, горнист, — а Шелехов считал, что он давно где‑нибудь в Севастополе, на Приморском бульваре, с портовыми маруськами, — баловливо ухмыляясь, просил:
— Разрешите в числе команды и мне, господин прапорщик, на разведку. Скушно!
За ним еще наступали, перебивая друг друга:
— И меня, и меня…
Шелехов, стараясь держаться спокойно и независимо, назначил ухаря — горниста и еще четверых. Мотор где‑то под бортом затараторил, заплескал, одушевил вечер.
Разведчики бурей сгрохали по трапу вниз, в кубрики, и тотчас же выросли перед Шелеховым — уже с винтовками в руках. Было весело и невероятно, будто все снилось. Горнист, застегивая патронную сумку, заржал:
— Живьем взять?
— Живьем, — сразу обвыкшись с ним, так же смешливо ответил Шелехов. От парня струились беззаботность, благодушная удаль — с такими ребятами славно будет жить.
Глухой рокот шлюпки вынесся на середину залива, как‑то внезапно стих там, по ровной далекой воде, на которой сверкнула зеленью заморская звезда. Шелехов невольно обернулся, ощутив на себе теплое и близкое дыхание. И заробел: кругом темной молчаливой кучкой сгрудились матросы, словно чего‑то настойчиво ожидая.
В первый раз очутился с ними один на один.
* * *
Впереди всех заметен был рослый, костлявый, неустанно скаливший белозубую пасть. Шелехов, в полузамешательстве, потянулся прежде всего именно на эту улыбку.
Выбормотал первое, что попало на ум:
— А что… разве здесь были такие случаи и раньше?
— А то ж!
Костлявый заходил ходуном, рванул в восторге рубаху на груди.
— А недавно у Севастополя, под той… под купальней. Его так же ж вот ребята с катера, с моря заприметили. Что ето, дывятся, огонек мигает и мигает? А он сигналы давал, сукин сын! Как сзади подкралысь, смотрют — сидит себе под купальней, фонариком грает… И усе как у буржуя: котелок, манишка, бородка конусом.
— Теперь кто же по этому делу, кроме буржуя подойдет, — вступился невидный, чувствовалось — хилявый, подкашливающий не спеша, рассудительный. — Им на нашу свободу завистно.
Матросы сдвинулись ближе, теплее.
— Вильгельмовы денежки орудуют.
— Они теперь ждут, — вдохновенно горячилась белозубая пасть, почти выкрикивала, — они теперь, когда между нами эта партейная драка пойдет, — скажем, кто кадет, кто меньшевик, кто есер. Етой драки не только Вильхельм, а и Миколашка наш ждет. Правильно, ваше благородие?
— Во-первых, господин прапорщик, а не благородие, — с улыбкой, но строго поправил Шелехов.
Матросы засмеялись.
— Он у нас, Фастовец, с пятого года, по старому режиму привык.
— Так вот, товарищ… Фастовец. Видите ли, это не драка, но каждый в своей программе видит какую‑то правду, и так уж собственно во всякой революции всегда было…
(«Черт знает, говорю, как репетитор на уроке, надо бы по-другому, зажечь…»)
— Ваше благородие… тьфу, господин прапорщик…
Фастовец несуразно, мучительно развел стиснутые кулаки, застонал даже, торопясь вытолкнуть из себя неподдающуюся, страстно сотрясающую его мысль.
— Так она ж одна, правда! Одна! Возьмите, кто робит… что ему нужно? Земля и воля, во! А это все есть в прохрамме есеров. У нас весь флот — есеры. Какая же есть еще правда? Если вы про кадетов говорите, то кому ихняя прохрамма нравится? Кому?
Он с яростным торжеством выбросил по направлению к офицерскому спардеку длинную узластую руку, руку землероба. Захлебывались оскаленные горильи челюсти.
— Та все тому капитану Мангалову да поручику Свинчугову. Господам офицерам! Ихняя прохрамма… чтоб над нами, как при Миколашке, с аншпугом стоять…
Матросы все сразу заболтали несвязное:
— Мангалов… он три года червивым борщом душил… экономил… А сам небось поперек себя ширьше.
— А как Миколашку сшибли, сичас же красную рубаху надел, пузо подобрал, давай около матросов канючить: «И нам, говорит, товарищи, цари‑то насолили, ну их к черту!»
— Воны без мыла в матроса влезут.
Шелехову стало немного не по себе. Услышат еще там, на офицерском верху, подумают, что нарочно подзуживает матросов против своих же офицеров. А Фастовец… вот так кликуши в Кронштадте накручивали голову толпе, а потом начиналось зверство. К счастью, тот — покашливающий, рассудительный — вступился опять:
— Я так думаю, господин прапорщик… Уси эти прохраммы, пока война, наше народное правительство… должно порешить. Оставить одну, правильную: есерскую. Война кончится, Вильхешку прогоним, тогда на тебе, галди, по какой хошь.
Издалека, по седой воде, опять послышался рокот: разведка возвращалась. Мотор разбултыхал и ночь и воду, трап заскрипел под многими взбегающими ногами, сразу стало людно, суетно. Лихой горнист явился перед Шелеховым и, приложив руку к фуражке, рапортовал:
— Дозвольте доложить — никаких происшествий, кроме рыбалки. Просто костер жгли…
— Какие рыбалки‑то?.. Рыбалки разные, — хмуро бормотал около Шелехова вахтенный.
— Ну, Сенька из порту, мальчишка. Не знаю, что ль!
Беседа вдруг порвалась. Между людьми стала бездыханная ночная тишина. По земле можно было ходить только на цыпочках. Оказалось, что звезды давно взошли, осыпали купольную ужасающую пустоту. Одна, самая крупная звезда сверкала, томилась, переливалась совсем недалеко, где‑нибудь над Босфором, роняя в море бирюзовый тусклый путь. Может быть, шли им сказочные корабли.
…За прибрежной степью, за перевалом лежал Севастополь невидимым амфитеатром; окна его, обращенные к морю, были черны, наглухо закрыты, чтобы с моря не нащупал подкравшийся враг… Но у кофеен и на темных тротуарах празднично и тесно от гуляющих, разряженных по-летнему, гремят органы кино, в бульварной гущине шепоты и смех: флот вышел на берег. Не там ли где‑нибудь и недавняя вагонная спутница, на чьем теплом сестринском колене продремал он всю ночь среди солдатской давки? Она убежала на рассвете, даже не показав своего лица, смеющаяся, неуловимая, а он, чудак, совсем было воображал ее своей!.. А поезд трубил победно, сразу ворвавшись после гнилой невской зимы в солнечное лето, в горячие, цветущие миндалем сады, — то начиналось невиданное еще, выигранное им на счастье царство… И, конечно, она жила там, она ждала каждый вечер, чтобы он пришел, отыскал ее.
«Приду!» — мыслью сказал ей через звездные сумерки, через море.
— А как, ваше благородие… тьфу, господин прапорщик… чи бог есть?
Это Фастовец неожиданно спросил мечтательным бабьим тенорком.
Шелехов нерешительно замешкался. О, он‑то имел своего бога: какой‑то цветной счастливый ливень, которым должна скоро хлынуть жизнь. И чтобы эти теплые, по-ребячьи жадно теснящиеся около него, всегда были с ним… Но как передать им это?
Он все же попытался рассказать о звездах, о летящем их тысячелетнем свете. Матросы глядели вверх, смутно шуршали.
— Как сказка…
— Не сказка, дурень, наука.
Шелехов горячо ухватился:
— Я, товарищи, конечно, не могу вам сейчас пояснить все сразу. Но давайте решим вот что: на днях же организуем обучаться всему по порядку. Раньше вас нарочно держали в темноте…
— Правильно, — зароптали кругом.
— Все одно делать нечего, на бочке стоим…
— А то приезжают тоже из города разные лехтура, морочат голову. Вот недавно один был… сразу видно, из каких… Первым делом — все вы, говорит, товарищи, от обезьяны происходите. А ребята, дурни, молчат. Показать бы ему, какой он сам, сволочь.
К Шелехову, через плечи других, свесился чубастый горнист, — давно хотел вставить свое слово, наконец дождался:
— Вы, господин прапорщик, в Петрограде на студента учились… Наверно, знаете… Разрешите один вопрос, конешно, по житейскому делу. Вот промеж нас фотография Гришки Распутина имеется, все в натуре, конешно. Скажите, неужто в самом деле такая природа может быть в человеке, что даже глаза щекотит?
Матросы повеселели, многозначительно затолкались:
— Кто про что, Любякин про одно!
— А через што же его Сашка любила!
…Шелехов ушел, а матросская кучка все еще серела у борта, тая понемногу. Он взобрался на спардек, стоял там по плечи в пылающем звездном небе. О чем они гуторят дремотно, не о нем ли? Конечно, о нем… «Все хорошо, чудесно, — подумал он, вытягиваясь потом на койке в своей каюте, — но главное завтра… что еще будет завтра?..» Звездная тьма быстро понеслась над ним, его приняли теплые зыби.
Прапорщик спал одетый, как и полагалось на вахте. Каюту отвели новичку похуже, внизу, вровень с матросской палубой, так что слышно было, как близко внизу охали и гулко возились машины… Среди ночи Шелехов проснулся. По железному коридору, куда выходила дверь каюты, оглушительно ботали сотни ног, разухабистая глотка кромсала тишину: го-го-го-гоо!.. То матросы вернулись с берега, с гулянки, рвались к жратве. За железной стенкой, совсем близко к Шелехову, какой- то, чавкая на ходу, похвалялся:
— Вот послухал бы, на бульваре один экипажный за Ленина говорил. Ох, здорово! Тут к нему в светлых пуговицах подошел, вроде техника, наоборот стал крыть. Так чуть не в драку!
— А он кто, тоже из экипажных?
— Кто, Ленин‑то?
— Ну да.
Другой ответил не сразу, вкусно почавкал сначала:
— А шут их разберет…
— У нас тоже новый этот прапорщик… орательствовал. Видать, голова!..
Наверху, на спардеке, ходил вахтенный матрос: ему спать не полагалось. Он мигал уныло на звезды, боролся с дремотой, с теплыми бахчами на Днепре, с телушечьим — из хлева — домовитым зовом… Утром сбрехнули, что скоро начнут демобилизацию первым делом с его — девятьсот первого и второго годков. Потом на палубе прапорщик и Фастовец наговорили иное, серьезное, неспокойное, и никакого конца-края еще не было видно… Телок кричал в темноте на берегу, кричал так щемяще. Вахтенный слушал — слушал и скрипнул зубами…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Офицеры ради праздника прибывают из города с первым утренним катером — еще до подъема флага. Впрочем, спешат главным образом серебропогонные, офицеры рангом пониже: прапорщики военного времени, вроде Шелехова, поручики и капитаны, произведенные за выслугу лет из кондукторов-подпрапорщиков или из торговых моряков. Словом, те, что населяют нижнюю кают-компанию.
Золотопогонные, коренные флотские офицеры, прикатят позднее и не на катере, вместе с матросней, а отдельно — на моторке или на бригадном автомобиле. Питомцы привилегированных училищ, знаемые во флоте имена: Скрябин, брат композитора, первый выборный начальник бригады, избранный матросами вместо прежнего натралбрига немца за тихость. Начальник дивизиона Бирилев Вадим 2–й, внук министра. Начальник дивизиона Дурново, брат министра. Старшие лейтенанты, просто лейтенанты, мичманы. Обитают они в рубке начальника бригады — наверху.
Нижние поднимаются туда не часто, только по вызову, с благоговением.
Серебропогонным — не праздник, а позорище. В кают-компании томятся, выложив руки на малиновый ворс скатерти, барабанят пальцами, курят почти молча. Пожилой поручик Свинчугов, черпая папиросу из чужого портсигара, горько язвит над самим собой и над всеми вместе:
— Тебе морду бьют, а ты иди да еще смейся, как сукин сын!
Поручик весь в кислых, едких морщинах, словно от нутряной боли. Должно быть, поэтому он никак не может выносить тишины.
— Дожили, — скрипит он, жуя морщинистые розовые щеки. — Послушал я… Вчера один товарищ выступал, кочегар Зинченко, которого наши в Петроград «делехатом» посылали.
Офицеры оживляются, любопытствуя:
— Ну‑ка, расскажи, что он там?
— За цейхгаузом собрались, въявь‑то еще не смеют… иль совестно. Орателя, как полагается, на бочку. Маркуша, дай‑ка, товарищ революционный, папиросочку! Да. Вот этот самый Зинченко… Да его, сукина сына… давно капитану говорил: пошли его, сукина сына, куда- нибудь на Дунай, в Сулин, заразу!..
— Ну, ну? — жадно наседают офицеры.
— Вы, говорит, позорно здесь спите, товарищи. В Кронштадте, говорит, давно все дословно порешили: офицеры заместо серых палубу драят, пищия с общего котла, а которые против — сичас к ногтю.
Тучный, одышливый командир «Качи», капитан Мангалов, задыхается, багровеет.
— И здесь… резню, значит… хочут!
— Свои, а хуже немцев… позор!
— Немцы, говорят, ихнему Ленину тридцать миллионов чистяком отвалили, да не бумажками…
Угрюмый взор Свинчугова цепляется за портрет воспаленного Александра Федоровича, которого еще вчера здесь не было. Морщины поручика сразу делаются плачущими.
— А это кто же нам жида удружил? — обращается он к Мангалову. — Очень при-ят-но.
— А кто… я, что ль? — обидчиво вывертывает толстые губы Мангалов. — Все энтот, новенький… Да, говорят, еще ночью на палубе с матросами шебаршил… черт его знает там что.
За столом настораживают уши:
— С матросами? Значит, из демократов какой‑нибудь.
— Эт-та нов-вость… — зловеще вздыхивает Свинчугов. У Мангалова обида раскипается пуще. На вверенном ему корабле с самого переворота тишь да гладь. А теперь мало этого Зинченки, изволь, порти себе кровь из‑за своего же брата… лазит, мутит там.
Щеки у капитана пузырятся, багрово вспыхивают от гнева.
— И ето что же: на вахте, а дрыхнет до сих пор. За него вон… старший офицер на уборке. Ето, господа, безобразие.
Рыжий, четырехугольный, стриженный ежиком ревизор Блябликов с приятностью приходит ему на помощь.
— Позвольте, — говорит он, жеманно ломая брови, — тогда очень просто: списать за несоответствием, и никаких. Зачем между собой лишние неприятности наживать? Вы — командир, имеете полное право.
— Да как же так, сразу? Спишешь, а он… побежит к товарищам в кубрик, нагадит.
— Проучить, — желчно скрипит Свинчугов, — чтоб сукин сын приличие знал.
Из‑за стола одобрительно подгигикивают.
— Правильно!
— Поручик сумеет, завяжет в стропку.
Поручик славится в бригаде своим скряжничеством и сварливым, похабным языком.
— Мы на значок не посмотрим, что с ниверситетским образованием. Мы сами у Дуньки на Корабельной слободе высшее образование произошли!
Кругом ржут, словно гвозди выдирают — навзрыд, со скрежетом, с натужными слезами на глазах. Портсигары, с непривычной щедростью раскрытые, тянутся со всех сторон к Свинчугову.
Мангалов, строго напыжившись, кличет вестового:
— Ротонос, ступай, разбуди энтого… прапорщика, скажи, командир приказал. Это, скажи, какая же вахта!
Кают-компания прокашливается, приосанивается, предвкушающе потирает руки. Есть на ком хоть немного выместить неизносимую, червем присосавшуюся обиду.
А корабли стоят в солнце.
— Сейчас, сейчас! — кричит Шелехов в ответ на стук вестового. Первое, что он слышит впросонках, — это плеск, счастливый, наполняющий всю вселенную, какой‑то сияющий плеск. Прапорщик с удивлением открывает глаза. Но ведь это же море! Наверху, на палубе, праздничное матросское топанье… Он совсем забыл про вахту.
Наскоро подвязывает кортик, беспечно напевая. Ощущение полузабытого, радостного, вот-вот готового опять свершиться, проникает все вещи, как музыка. Ах, да это вчерашние сумерки на палубе. Матросы… И еще то, что случится сегодня.
Осталось ждать, может быть, час-два.
Сердце его бурно бьется, ноги малодушно слабеют. Вообще не нелепая ли затея все это?
На палубе тенистая свежесть воды отрадно опахивает воспаленное лицо. Он только-только просыпается здесь по-настоящему. Вон уже подан к дамбе однотрубный и плоский «Джузеппе», на который хлынет скоро разряженная бурливая матросская толпа и торжественно пронесут бригадные знамена на праздник, в Севастополь. Говорливая кипень манифестации, дредноуты и крейсера в бахроме праздничных флагов, стенание оркестров… Здесь, на «Джузеппе», где‑нибудь и его место, — наверное, вон там, пониже капитанского мостика, где жмутся обычно офицеры. Место, на котором случится…
Замирая, он даже видит на миг под собой гиблый, хватающий за сердце водоворот голов и глаз.
Сейчас пронесется там та чудодейственная волна, которая может подхватить и вознести, дать власть в тысячу раз больше и действительнее той, которую знает офицерский спардек, погоны, чины. Только дерзнуть, только вовремя схватить обеими руками дающееся однажды счастье…
Брюзгливый голос капитана Мангалова низводит его с этих мечтательных высот:
— Вы бы внимательнее, прапорщик, следили за своими обязанностями. Митинги митингами, да! А когда на вахте… не митинги, а вставать надо вовремя… при уборке присутствие обязательно, да!
— Есть! — бесчувственно отчеканивает прапорщик. А самому — подпрыгнуть бы, прыснуть прямо в это ожирелое, полное достоинства пыхтенье. «Подожди, — сладко съеживается он про себя, — подожди, туша, будет тебе сегодня сюрпризик!»
В кают-компании прохладно, сумрачно, тесновато от серебряных погонов. Через перекрестный галдеж просеивается уютное звякание ложечек в стаканах. Прапорщик совсем не замечает, что общий разговор при его появлении как‑то сразу подозрительно глохнет. Он хватает «Русское слово», — конечно, там последняя речь Керенского, он рыщет глазами по строкам и тут же торопливо прихлебывает чай и ломает хлеб. Чудесный тепловатый хлеб, о каком в Петрограде нельзя и мечтать, масло мгновенно тает на нем, и это страшно вкусно, особенно корочки!.. И Шелехов забывчиво ломает корочку за корочкой, откидывая мякиш обратно в тарелку, к пущему возмущению своих чинных, многозначительно переглядывающихся соседей.
— Господа, читали?..
Но он никому не дает газету, он впивается в нее сам, восторженно и ревниво холодея…
А Свинчугова уже подталкивают со всех сторон нетерпеливые взгляды: когда же?
Поручик многозначительно поигрывает вислыми рыжими, похожими на солдатские усы, бровями. Зачинает издалека.
Сначала что‑то насчет прихорашивающихся на палубе матросов:
— Куда до них нашим молодым прапорщикам, задний ход. Теперь на бульварах всех девчонок затралят!
— Средства, средства‑то откуда? — подзадоривает кто‑то.
Свинчугов смиренно ехидничает:
— Теперь все — наше… Брезента с одной «Качи» пудов пять забазарили. Как это по-вашему, по-демократически, молодой человек?
Но Шелехов не слышит недоброго подхихикивания, не видит тесно и злорадно навалившихся на него глаз… Он отделывается от Свинчугова кивающей, рассеянной улыбкой и продолжает самозабвенно тянуть чай, уткнувшись в газету. Над палубами, словно спохватившись, раздирающе, отчаянно кричит рожок.
Сбор!
Шелехов вздрагивает, пробуждаясь. Как, она уже подошла, страшная минута? Последний глоток чая не проходит через спазматически сжавшееся горло. Сейчас же встать, выйти на ветер, успокоиться… Но на пороге его останавливает скрипучий голос Свинчугова:
— А это как… по-демократически? Корочки‑то обломал, а другим не надо!
Шелехов оборачивается недоуменно — неужели это ему?
За столом омерзительно прыскают, и тот же голос противно-ласкающе въедается в слух:
— Сластни-ик!
Словно плетью отстегал. Гадко, лицо позорно пылает… Хорошо, что следом выходит прапорщик Маркуша и утешающе берет под руку:
— Вы на эту старую мотню не обращайте внимания. Он на всех, как цепной… Мы уже привыкли.
Маркуша да еще старший офицер «Качи», Лобович, вообще покровительствуют новичку. Это они ознакомили его с кораблем, с первейшими обязанностями. У Шелехова немного отходит от сердца, но все‑таки обиженно бурчит:
— Я не понимаю, с чего они вдруг…
— А ну! — беззаботно машет рукой Маркуша и, порыгивая, щурится лениво за борт, на ослепительную воду. Вообще весь он потертый, ленивый, козырек у него всегда сдернут на нос, а затылок от этого — задорный… Маркуша — из тех немногих офицеров, что запанибрата с матросской палубой; при старом режиме даже пострадал не однажды от начальства за совместную выпивку с матросами, и это припомнили ему: из вахтенных выбрали в ротные командиры. Шелехов, стыдясь самого себя, иногда краешком даже чувствует в нем соперника. Все кажется, что хитроватенькие, соловеющие от солнца глазки еще не сыты, тоже ждут чего‑то…
А вместе с тем люб ему Маркуша.
— На манифестации будем рядом, а?
— А что ж!
На палубы вываливаются из кубриков с гомоном и топотом. Трапы скрипят. Деревенея, с ужасом созерцает Шелехов начинающуюся суету: как проходит наблюдать за посадкой старший офицер — могутнорослый, похожий на британца детина, с потухшей трубкой в зубах, как берег закипает бело-синими форменками, как теснятся из кают — компании, выпячивая с достоинством груди, офицеры в ослепительных своих кителях.
Повременить бы еще минутку…
Нет, толпа ухватывает и тащит его, врозь от Маркуши, по трапу, под которым ядовито сияет и покачивается вода, по жаркой мостовой, проталкивает за зыбкую сходню «Джузеппе», прижимает там куда‑то в угол, к зарешеченному люку, из которого веет нефтяным теплом машин. Кругом сперлись матросские груди, плечи, не видно ничего, кроме кусочка неба, оглушительно грохочет и шипит лебедка. «Джузеппе» отваливает.
У Шелехова такое чувство, что сейчас начинается его всенародная казнь…
Тральщик крутит по небу огромную, спершуюся народом носовую палубу, нацеливает туда, где бездонно синеет морем прорыв в берегах.
«Как только выйдем за бухту, тогда…» — с содроганием отсрочивает Шелехов жуткую минуту. Но «Джузеппе» как будто нарочно спешит дать полный ход, потрясающе вздыхая всеми машинами. Сразу светлеет и запевает ветром над матросскими головами. Море! Шелехов, впрочем, не видит его за толпой. Только справа, на далеких плоскогорьях, проступил мглисто-белый Севастополь. Пора.
Он трогает за руку стоящего рядом боцмана с «Качи». Тело кажется до тошноты опустошенным, легким, только сердце хлыщется с яростной назойливостью. Ссохшиеся губы еле повинуются.
— Помогите мне приподняться… вот сюда, на трубу…
Боцман с испугом смотрит, не понимая, но пока прапорщик карабкается, послушно поддерживает его за локоть.
Палуба с народом теперь внизу, под ногами. Ровное, веселое от солнца поле голов, ленточек, белых донышков фуражек. И вот она — вся видна здесь — великая водная вселенная, одичалая, краями уходящая в небо. Одутлые кружительные валы бегут рядом с «Джузеппе». На Шелехова никто еще не обращает внимания, разговаривают, дремлют…
— Товарищи! — вдруг с отчаянием выкрикивает он.
И сразу точно просыпается на этой отчетливой, самого его ужасающей высоте. Зачем он здесь? Зачем эти вскинутые на него изумленные глаза, тысячи глаз, загорелые скулы, белозубые рты, оцепившие его беспощадным, не пускающим никуда вниманием? Вот она пришла — беда непоправимая, позорная. Уже поздно назад…
— Товарищи… — он с мучительной спазмой наглатывается воздуху, придерживает насильно рукой бешено играющее сердце. — Я хотел сейчас несколько слов о празднике… который мы… сегодня… («празднуем?., чествуем?»)
— Который чествует… («Все пропало! Скандал!»)
Он на минуту останавливается, чтобы надышаться. Не видя, смотрят на всех его жалобные, прыгающие глаза. Если б эта толпа хоть на миг забыла о нем, не глядела с таким пристальным пугающим вниманием, занялась бы хоть прежними разговорами… Он сразу забыл все приготовленные слова. И дышать стало нечем…
Замолчать разве сейчас, слезть, уйти куда‑нибудь, на фронт, хоть в рядовые попроситься?
Все же, пересиливая рябую пляску в глазах, он выдавливает последний воздух из груди. Что‑то скороговоркой лепечет о далеких братьях, которые тоже выйдут в этот день, которые тоже…
Ему вспоминается вся речь, она до ужаса, до бесконечности длинна, каждое слово в ней весит удушливые пуды, не докрякать, не донести…
— И в этот день мы… матросы и офицеры революционного флота… сбросившие с себя… смрадные цепи… гнилого самодержавия… мы, сильные своим революционным единством…
Еще усилие.
— …протянем к ним братскую руку…
В грудь неожиданно вливаются блаженная широта и легкость. Что‑то изменилось, сдвинулось вдруг. В мире стало, как в раю… Слова, которые он бросает, наливаются душой и силой. Он чувствует, как внизу пробегает послушный ему холодок восторга.
— И тем, в Берлине, братьям-рабочим, труженикам… И им крикнем через окровавленные окопы, через штыки, через ураганный вой: «Мы не против вас, мы против мирового жандарма Вильгельма…»
Он уже, как властитель, смеет теперь наклониться над толпой и спросить этот океан преданных ему глаз:
— Верно?
В ответ, пугая даже его самого, срывается залпом глоток, орет накипелое:
— Прраввильн-а-а!..
Наверху ветер бьет в лицо, море кругом колышет и несет свою синеющую вечность. Шелехов один над морем, над зыбью человеческих глаз. Не человек, а тугой, могучий парус… Это он мчит и мчит вперед зыблющееся послушное судно.
— Мы скажем им: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! В борьбе обретете вы право свое…» Ура!
— Урр-а!.. — беснуются внизу, фуражки летят вверх.
Шелехов слезает неверными шагами на палубу, опьяненный, мутный, счастливый. Теперь заплачено за давнюю униженность, за вчерашний флаг, за корочки, за все. Хочется забиться куда‑нибудь в безлюдный угол, остаться с самим собой, смеяться, плясать над своим лучезарным богатством. Он почти не слышит, как поднявшийся на его место рябой боцман кричит:
— Вот ето, ребята, нам пример… Побольше таких ахвицеров. Тогда, двистительно, крышка суке Вильхельму…
Офицеры сидят на корме окостенелые, прямые. У Мангалова на лице мучительный оскаленный прищур — от солнца, что ли?.. А город наплывает белостенными уступами зданий, шпилями и бульварами набережных, жаром облитых солнцем крыш. Стороной проходя, гортанно торжествуют трубы. Опять она, «Марсельеза»! Через толпу с трудом продирается Маркуша — с улыбкой не то льстивой, не то обиженной…
— Теперь вас выберут, — бормочет он Шелехову, делая кислое поздравляющее лицо.
Шелехов расцветает счастливой непонятливой улыбкой:
— Куда?
— Выберут! — с горечью, завистливо машет рукой Маркуша.
И стоит, томится.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В круглом, зеркально-паркетном зале Морского собрания командующий флотом, адмирал Колчак, делал доклад.
Командующий сказал, что считает долгом своей совести заявить… Его черные молдаванские брови на клювоносом лице слагались в страдальческий, невыносимо страдальческий треугольник. Заявить, что… В зале присутствовали лишь величавые, седоусые: командиры бригад, соединений, отрядов, дредноутов, никого кроме, — они ловили каждое слово, едва не привставая, с благоговейным состраданием.
— Заявить, господа, что настоящее положение армии и страны…
Еще не зажигали огней; стекла высокомерных портретов времен Нахимова, Тотлебена, Севастополя пятьдесят пятого года бирюзовели в полусумраке. То отсвечивало вечернее море.
Море плескалось тут неподалеку, напротив, за белыми арками Графской пристани, плескалось, ходило, дыбилось мутно-зелеными полотнами. Оно угуливало за рейд, в котором плоско лежали и мглились корабли. Оно теряло, наконец, берега, становилось дико безлюдной, подобной тундрам пустыней, погребающей в своих безднах целые миры, целые ночи углекислоты, осклизлостей, тысячелетних утопленников, — дико несущейся и кипящей пустыней, не знающей ничего, кроме своей сумасшедшей пустоты и неба, неба, неба…
А что дальше, за морем? Тихая Шехерезада садов, золотой рог на бледном восточном небе? Или только в снах такой Босфор?
У колонного подъезда собрания бело — синяя любопытствующая матросская толкучка. Ветер холодит сытые голые шеи, налетая из‑за бульвара, с моря. Экономических денежек теперь на кораблях не полагалось, вынесено постановление: каждый день — жирный красный борщ, чтоб ложка стояла, на третье — сладкое — компот, кисель. Шеи, наливные, жаркие, хорошо прохлаждало из‑за бульвара. Между прочим:
— Чегой‑то там говорят, говорят…
— Может, опять Миколашку наговорить хотят?
— Н-но, браток, там сам Колчак!
— А что тебе Колчак?
— Н-но, браток, Колчак не даст. Колчак сам в есеры записался!
Ветер барахтался, играл газетными и журнальными страницами в соседнем киоске. На одной из обложек — лохматый, чистый старичок в очках, по колена в луже, пропускал меж ног целую флотилию: злоба дня, министр Милюков-Дарданелльский. Пышные кипы «Утра России», «Русского слова» — это все о том же, о Севере, о раскаленной земле, на которой озоруют удушливые толпы, заваривается страшная чертова неразбериха… Копеечные, редко настроченные листки большевистского «Социал- демократа»…
Вот оно где, самое преступное, безыменное, пронырливо проползающее всюду. Хотят и здесь повторить Кронштадт?
Командующий приехал с Севера, с раскаленной земли Петрограда, он был принят Временным правительством, присутствовал на его заседаниях, мог ознакомиться с положением армии, флота, всей страны. Командующий сказал…
Да, да, его, вождя флота, слушали благоговейно.
Верно… Вот так именно думали все лучшие люди России: Вот именно, казалось… что потрясенная, но обновленная родина… теперь вспомнит о великой исторической миссии Черноморского флота. Глубокая ошибка… или косность старого правительства, заставлявшего флот придерживаться осторожных оборонительных действий — в то время как он два года господствовал над морем, заперев турецкий флот в Босфоре… Враг истомлен… Именно теперь, казалось, настал миг — соединенными усилиями армий и флота прорваться в проливы к европейским морям. В проливы! Шехерезада садов, сказочный рог на бледном турецком небе. Черноморский флот будущего, глядящий в океаны.
— Но…
Адмирал снисходительным, но повелевающим взором пресек готовую было сорваться, готовую бесноваться у его ног восторженную бурю. Он считал долгом своей совести заявить…
— Что Временное правительство — только тень власти…
— Балтийский флот, большая часть армии — абсолютно небоеспособны.
— Глава правительства, господин Керенский (между нами) — болтливый гимназист.
— И что только доблестный Черноморский флот, сохранивший свою боевую мощь и патриотический дух, только он…
Орудийный грохот, ворвавшийся с моря, помешал закончить адмиралу. Звенели хрустальные бирюльки люстр. В зале задвигались и заскрежетали стулья. Офицеры торопились встать, руки по швам. То был сигнал к спуску флага, и они хотели пережить священную минуту вместе с обожаемым флотом. Через улицу, на кораблях рейда, играли горны, флаги опадали с кормовых флагштоков, на палубах белоштанные команды цепенели навытяжку.
— Вот он, флот.
Дредноуты, почти неподвижно вкованные в сумеречную, лазурную воду: «Александр Третий;» назван теперь «Свободной Россией», «Екатерина» — «Волей»… На каждом тысяча двести человек команды и сорок восемь орудий, из которых двенадцать дальнобойных, двенадцатидюймового калибра. Их жерла держат взаперти в Босфоре весь турецкий флот.
Серочугунные, похожие на соборы, броненосцы «Иоанн Златоуст», «Три святителя», «Евстафий», «Пантелеймон» — тот самый, что одиннадцать лет назад назывался «Потемкиным», — «Ростислав»… Они дряхлеют, но еще бывают походы, когда имена преподобных изрыгают шрапнель и смердящее пороховое пламя.
И миноносцы — трехтрубные и четырехтрубные игруны, клички которых придумывались, наверное, за чаркой, под гопак придворных плясунов, которым в такт разнеженно поигрывала царская нога в лампасной кучерской шароварке… Готовые мчаться, и разить, и сгинуть ухарски в пучине, бескозырки набекрень.
— «Беспокойный», «Гневный», «Дерзкий», «Пронзительный», «Быстрый», «Громкий», «Поспешный».
— «Счастливый», «Строгий», «Свирепый», «Сметливый», «Стремительный».
— «Живой», «Живучий», «Жаркий», «Жуткий», «Завидный», «Заветный», «Зоркий», «Звонкий»…
Двухтрубные старики, о именами золотоплечих, убиенных за престол: «Лейтенант Шестаков», «Лейтенант Зацаренный», «Капитан — лейтенант Баранов», «Капитан Сакен», «Лейтенант Пущин». Быстроходнейшие красавцы — «новики» полукрейсера «Гаджибей», «Фидониси», «Калиакрия», «Керчь», несущие в своих недрах нефть и электричество и новейшие торпедные аппараты. Подводные лодки — стодесятитонные, двухсоттонные, пятисоттонные — «Лосось», «Судак», «Карась», «Карп», «Краб», «Кит», «Кашалот», «Нарвал»… Подводные крейсера — «Нерпа», «Тюлень», «Морж»… (Но «Морж» два месяца не возвращался из похода; его плавучие горницы с шестьюдесятью человеками задохшейся команды, так и не узнавшей революции, висели где‑то в глубине, в панцирных сетях Босфора…)
И пузатые, густонаселенные огромины транспортов, плавучих заводов, тяжеловозных блокшивов. Пароходы пассажирских линий, переделанные на тральщики и гидрокрейсера, плавучие краны, яхты, канонерские лодки, ржавые остовы корабельных кладбищ, засоренные углем, чугунным ломом, грязной водой, узины доков, чумазая портовая кипучка…
Флот!
А на кораблях и в многоэтажном казарменном городке полуэкипажа на горе — сорокатысячная, румяная, крепкогрудая сила, довольная своим «революционным» адмиралом.
— …Говорят-говорят да Миколашку наговорят на нашу шею.
— Все — и Муляров там, и Кетриц там, и Петров там… Самые контры, сволочи!..
— Н-но, браток… Колчак — он не даст!
— Про него сам Керенский… знаешь, как сказал?
— Да я за Колчака не говорю… я за энтих…
В тот майский вечер, как всегда, катера с кораблей подчаливали после спуска флага к Графской один за другим, высаживали для гулянья толпы матросов, мичманов, прапорщиков. Офицеры проходили мимо нижних чинов не глядя, чтобы не попасть в неловкое положение: они не уверены, что и в этот вечер им еще не перестанут отдавать честь. Но матросы улыбались навстречу сыто, подобрело — от красного жирного борща, от сладкого. И отдавали честь — правда, уже с какой‑то снисходительной, нарочитой молодцеватостью, которой деликатно замаскировывали добровольную подачку, — но отдавали… А мичманы сразу становились зрячими и готов- но подхватывали ее, даже с некоей осанистой небрежностью. И мичманы самоуслажденно думали про себя еще раз: «Да, брат, у нас не Кронштадт».
…В тот вечер командующий сказал в Морском собрании:
— Правительство, с одной стороны, потворствующее разложению армии, бессильное… с другой стороны, ищет опереться на мощную, надежную силу. Эту опору, господа, оно видит в нашем Черноморском флоте.
(Ропот:
— Для них берегли?
— Пусть отказываются от власти!..
— И здесь устроят Кронштадт, да?)
— Господа, — возвысил голос командующий, — не время считаться с ошибками. Великая родина гибнет на наших глазах. Допустим ли это, имея хоть малейшую возможность спасти? Имея доблестный, крепкий своей моральной силой флот? Господа, призываю вас, как верных сынов родины. Призываю поклясться честью дорогого андреевского флага! Завтра же все — на суда, в команды, в роты… Настанет час, когда Черноморский флот должен…
(После, ночью, в каютах, на спардеках, в постелях шепотом рассказывали, что «многие рыдали»…)
А на рейде, в пепельно-синем вечернем тумане, корабли разбухали в чудовищные дымовые силуэты; корабли, как соборы, тонули в тумане.
А на улицы Севастополя, как всегда, высыпало беспечно гуляющей зыбью бело-синих щегольских форменок, золотых и серебряных плеч, снеговых кителей, золотобуквенных лент.
Всюду флот — в кофейнях Нахимовской, у молочно-синих фонарей кино, на смеркающихся бульварах, у киосков. Там газетные листки доносили удушье, взбаламученный, опасный гул, истерические крики накреняющейся над пропастью страны…
Настал час, когда Черноморский флот должен был спасти Россию.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Кто‑то на палубе подбежал к Шелехову сзади, сжал крепкими пальцами бока, смешливо дышал в ухо:
— Большевик, большевик?
Два длинных, плоскотелых тральщика, гремя цепями, неуклюже швартовались в бухте после работы. Море зернилось предвечерней желтизной. Со спардека только что проиграли на митинг. Готовился выступить перед матросами сам начальник бригады Скрябин. Оглянувшись, Шелехов встретился со смеющимся длинным, в печоринских баках, лицом мичмана Винцента (матросы звали его — Вицын), минного офицера. Оттуда, с золотопогонного верха.
— Я хочу с вами познакомиться, серьезно, а?
Горячие черносливные глаза смеялись заигрывающе, избалованно, как женские. Голова чуть-чуть тряслась — это оттого, что мальчика едва не прикончили в кронштадтскую ночь. Он обнял Шелехова, прижался к нему щекой.
— Какой же я большевик?
— Ну да, ну да, говорите! Послушали бы, что сейчас про вас Мангалов в кают-компании рассказывал. Вообще, вы симпатяга, я сразу увидел, только зря вы тогда на катере выскочили. Пойдут теперь неприятности.
— Какие неприятности? — недоверчиво спросил Шелехов.
— Ну, мало ли какие… Слыхали, что адмирал говорил? Вообще ему дана вся полнота власти, да-с! Есть, говорят, даже секретное предписание насчет агитаторов. Ну что, ну что, большевик? А Мангалов, между нами, здорово на вас сердит… упечет теперь, если захочет, в Сулин куда‑нибудь, в Трапезунд, к черту на кулички. А, большевик?
— Да я же повторяю, что не большевик! — злобно возмутился Шелехов. — И никто меня не посмеет никуда упечь. Руки коротки.
— О-о! — радовался мичман, пихал его коленом под колено, опять тискал щекотно бока. — О, достал огня из прапорщика, знаменито! Ну, да черт с ним, идем ко мне, я одну штучку покажу, ахнете.
По трапу вниз стопывали матросы, иные уже брели кучками по набережной, к береговой рощице, где копился митинг. В этот час по мановению командующего митинги зачинались на всех судах, в командах, ротах. Железная рука адмирала, незримо и повелительно витающая над флотом, дощупалась и до бригады траления. А матросы — что? — исполняли службу, брели.
Не революция ли сама истекала желтым, тошным закатом?..
В полированной мичманской каюте было мглисто и душно от задернутых голубой марлей иллюминаторов. Хозяин подставлял стул, суетился, стал нежным, как друг. Он вынес на свет кусок чего‑то зеленовато — серого.
— Из глины, смотрите, сам лепил. Узнаете эту рожу?
Сразу узнать было трудно. Так привычно-знакомые очертания комнаты, в которой живешь, измененные сумерками утра, пугают и тешат своей неузнаваемостью. Внезапное прояснение заставило Шелехова отвращенно содрогнуться. То был Александр Федорович, невыносимый кумир, но какой Александр Федорович! Тот же летящий вперед ежик на голове, готовые стремительно сощуриться глаза, но глаз собственно не было, как и у всякой гипсовой головы, в глазницах пухли одни закатившиеся белки. Губы развалились в дурьей окостенелой улыбке: кончик прикушенного, распухшего языка просовывался меж зубов.
Революционный министр был казнен, удавлен.
Видно было, что художник с любовной, смакующей тщательностью уловил все мельчайшие детали его исключительной, предмогильной гримасы.
На минуту даже стало: не мичман, а он, Шелехов, провалялся когда‑то ночь в кронштадтской трупной свалке и вот, смердящий, опять смеется, ходит по земле.
Мичман испытующе хихикал, суетился:
— Вам нехорошо? Ерунда, один момент. Смотрите, ровно одиннадцать движений.
Длинные выхоленные пальцы, поросшие реденькой черной шерстью, сдавили глину в бесформенный ком и забегали по ней, вкрадчиво ее приминая. Между делом мичман не переставал болтать:
— А вы давно во флоте? Вы видали когда‑нибудь кавторанга Головизнина? Маленький, красный, с белым георгиевским крестиком. Это моя первая любовь, честное слово! Вы знаете, когда «Гебен» обстрелял Севастополь, Головизнин встречает его на море на «Капитане Сакене» — паршивая посудина постройки девятьсот седьмого года. И вместо того чтобы удрать, вступает в бой, понимаете! А дальше! «Гебен» из дальнобойных сшибает у него к черту трубы и зажигает судно, но Головизнин на горящем миноносце, без труб, все‑таки идет в атаку и пускает торпеду. Знаменито!.. Смотрите, — и мичман, растроганно улыбаясь, протягивал Шелехову новое свое творение — некую срамную штуку, очень мастерски сработанную.
И тут же изменился в лице, посуровел, бурно порылся в ящике стола и вытащил оттуда портрет цесаревича.
— Вот видите… но до моих убеждений никому нет дела, господин прапорщик. Вообще, знаете… я тогда застрелиться хотел сначала. Потом решил, что лучше будет… что лучше…
Но не договорил и, бросившись на Шелехова, смял его, скинул со стула, — объятия мичмана были неожиданно костоломны, железны. Оба ботали друг друга головами о палубу, задыхались, хохотали. Шелехову удалось все же вывернуться, уклещить мичманову шею, — празднуя победу, он скакал на ней верхом, ломая ее по-зверски книзу — нежнотелую, дворянскую, неуступчиво наливающуюся кровью.
— Врешь! — рычал он, ликуя. — Врешь!.. — Веселая злоба хлестала из него через края, с пеной. Близилась схватка там, на берегу, настоящая схватка, он это чувствовал. Что же, он сам желал ее!
* * *
«…Однажды был симфонический концерт в зале Тенишевского училища в Петербурге. В программе стояло что‑то возвышенное, из Скрябина. Билеты на концерт достала Людмила у себя на Бестужевских курсах, даровые. Эта незатейливая курсисточка радовалась и восхищалась концертом до неприличия. Вообще, около Людмилы было неловко… Но музыка, скрябинская музыка поддержала Шелехова, не дала отчаяться, — она как будто тогда еще показала ему в прорывах жизни чудное пенящееся море будущего…»
Под чахлыми, задушенными пылью кустиками, в вечерней тени несколько сот матросов расселись по-турецки, скрестив ноги, в напряженно-внимательном оцепенении. Скрябин, сгорбленный, непрочный человечек (серебропогонные звали его за глаза Володей), произносил речь, взобравшись на камень. Пухлые, изумрудные пузыри глаз, от волнения еще больше выпученные, того гляди оторвутся, скатятся по кителю прямо на затоптанную траву…
— Командующий, товарищи, описывал нам положение родины… И тяжело было слушать нам о том, что в самую критическую минуту, когда Германия напрягает все силы, чтобы… отнять у нас дорогую нашу свободу…
Маркуша льстиво подлез к уху:
— Не могет все‑таки Володя против вас.
«Хитришь, брат», — ревниво подумал про себя Шелехов. Он все время ожидал от Маркуши опасной вылазки — сам не знал, какой…
И дальше, под монотонный говор, заплетались несообразные мысли.
«…Поэтесса Анна Ахматова выступала в большой, до пят, персидской шали. „Звенела музыка в саду таким невыразимым горем… Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду“… Это — про Севастополь, про ночной бульвар: он видел его мельком в первый вечер приезда. Мичманы и лейтенанты за белыми столиками бульварного ресторана в синих с золотом кителях, их дамы с голыми руками, в косо летящих широких шляпах, — брезгливо отгородившееся от всех изящество, французская речь. Что им революция? И опять ты, Сергей Шелехов, проходишь, как серебропогонный пария, только обманываешь себя пустыми речами, липовый ты офицер! Быть бы тебе педагогом по словесности где‑нибудь в Пензенской губернии, если бы не война, водовозной клячей, проверять диктанты, ставить двойки… вот она, настоящая, по закону отведенная тебе жизнь! Женился бы на Людмиле, журналы бы выписывал, ходили бы чай пить к местным интеллигентам… брали бы в лавочке на книжку до двадцатого числа… В самом деле, не оставить ли, учитель словесности, все эти мальчишеские мечтания, не очнуться ли?»
— И вот этот Ленин, — высморкавшись, разглагольствовал Володя, — и те грязные люди, которые с ним заодно…
Шелехов подловил на себе злорадствующий, победоносный взгляд Мангалова из‑за куста, где жались все офицеры. И этот взгляд говорил о том же. «Вот, мол, что все порядочные люди думают, слыхал? А ты куда лезешь?.. Да и кто ты такой? Мальчишка, свистун, моряк без году неделя!»
Прапорщик в ответ прикаянно, уныло опустил глаза. Бесноватый хохоток раздирал его, нестерпимо напруживал горло, плечи… В Сулин, говоришь? Он хотел бы хоть раз, торжествуя, проволочить капитана за собой по трапу в духовитый матросский кубрик, куда наведывался теперь ежевечерне; чтобы тот посмотрел, как Фастовец, встречая его, готовно смахивает рукавом подразумеваемый сор с табурета, радостно щерится навстречу. «Пожалте, ваше благо… тьфу…»; как матросы сбредаются из всех углов трюма, обступают кругом, садятся у ног, ожидающе заглядывая прапорщику в рот, — иной, тачая тут же сапог, латая фланельку; чтобы увидать хоть раз, какая у мальчишки-прапорщика надежная, грудастая подмога! Значит, в Сулин?..
Скрябин заканчивал:
— Итак, наша сила, братцы, в тесном единении, доверии друг к другу. И тогда… тихий ангел мира слетит на Россию… ангел с крестом в руках, на котором написаны священные слова: свобода, равенство и братство. Ура… — нерешительно, но молодцевато добавил Володя.
Матросы почтительно встали, вежливо гаркнули тоже «ур-ра». Володю, первого выборного начальника, вообще берегли, так как видели в нем до некоторой степени собственное создание. Он же с полагающейся для подобной минуты растроганностью нырнул в самую гущу матросской толпы, нашел там рябого черного боцмана и облобызался с ним троекратно, по-пасхальному. Боцман вырвался со слезами на глазах, сорвал с головы фуражку, с отчаянием заревел:
— Братцы, за нашего дорогого начальника, многие же ему лета, ура!
— Ур-ра! — опять стоя, почтительно откричали матросы.
Мангалов усиленно тер мигалки платком, нарочно на виду, чтобы всем в глаза въедалось.
Шелехов больше не мог вытерпеть, вскочил на камень, руками, криком позвал к себе разбродно галдящую толпу.
Шум сразу отлетел за рощу. Матросы, любопытствуя, подбирались ближе. Прапорщик стоял, молчал, созерцая всех с мстительным спокойствием. Он дрожал, но то была золотая, плодоносная дрожь.
— Я полностью присоединяюсь к призыву уважаемого начальника. Однако, товарищи, наш уважаемый начальник, конечно, против воли подпал под влияние некоторых злостных слухов…
Хватило даже спокойствия, чтобы, не прерывая речи, поискать взглядом Мангалова. Но тот уже утаился куда‑то, наверное — выжидал где‑нибудь исподтишка. Жаль, для него было приготовлено кое‑что.
— Я заявляю, товарищи, о Ленине — неправда. Он, товарищи, всю жизнь боролся с проклятым деспотизмом, и за золото его не купишь. Да и разве наш Балтийский флот из одних дураков и негодяев, что взял и поддался весь шпионам?
— Верно! — хрипло крякнул чей‑то одинокий голос.
Другой громко и дружески сказал:
— Молодчина прапорщик.
Но это было более потрясающе, чем громовые раскаты «прр-авиль-на-а…». Вот когда можно было в удушающем, сладчайшем исступлении сорвать с себя погоны, потребовать матросскую форменку, объявить, что иду навсегда к вам, в темный трюм, за один котел, — и действительно растоптать тут же щегольской свой китель, и действительно уйти — так, чтобы это было в сущности битье морды Мангалову, Свинчугову и всем видимым золотопогонным архистратигам.
«Так вы говорите — в Сулин?»
Прорвалась вся его желчь, накопленная нищими, язвительными годами. Он алкал борьбы, сопротивления, уничтожения врагов. Нет, черт возьми, какой он учитель словесности! Нет, не будничную Людмилу ему, со смирным пуховым платком, а подайте одну из тех, которые еще год назад, где‑нибудь на петроградской панели, пронося мимо недоступное свое сияние, презрительно отводили взор от обтрепанного, жалостно вожделеющего глазами птенца. В извращенном восторге ему захотелось даже настоящей опасности — взять да назло всем, и вот этой самой, смиренно и умиленно целующейся с начальством толпе, заявить себя с теми двумя-тремя гонимыми, одобрительно поддержавшими его (не таинственный ли там Зинченко, побывавший в Петрограде), да пальнуть в эту толпу лозунгами большевистского «Социал-демократа», строки которого и его самого порой опасно будоражили.
— Большевики же, товарищи… они, конечно, и заблуждаются кое в чем…
— Негодяи они… изменники! — пыхотно подкрикнул кто‑то сзади. Нельзя было не узнать этого голоса с гневным пригнусом.
— …но в основе у них… те же святые идеи…
Теперь под конец — динамитцу, динамитцу!
— Мы же, товарищи, будем слушать… Керенского, будем слушать и Ленина, а дорогу себе выберем сами. Это ведь не кто другой, а мы с вами — революционная Россия. И наших железных рядов не расстроить никому (мощный жест рукой — чугунной рукой водителя- колосса). И с дороги нас не сбить — нам светит священный маяк… великое Учредительное собрание!
Все‑таки хлопки и крики «правильно» показались жидкими, неединодушными. Не хватило духу даже поторжествовать, обернувшись в сторону офицерского кутка… Матросы тотчас же сгрудились в гомонящий базар — надо было поскорее выбрать делегатов на вечернее общегарнизонное собрание в Севастополе, где должен был сделать доклад сам адмирал.
В заунывном томлении никому не нужный Шелехов убрел на берег бухты, лег на мокрую гальку, глядел, как плескалась, обессилев, грязноватая, пахнущая отбросами и бельем волна.
Маркуша и тут оказался рядом, присел, скучал собачьими, жаждущими в глубине чего‑то сверхъестественного глазами.
В успокоенно-сиреневом море, на траверзе бухты стоял видением медленный, грациозно наклонивший мачты корабль. Он уходил от земли — в пустоту неба, в свет.
— «Георгий»… гидрокрейсер, — признал Маркуша. — Наверно, в Батум. Хорошо на нем братве живется: плавают да приторговывают!
— А вы, Маркуша, в дальнее плавали?
А сам глаза полузакрыл, будто и его качает волна на «Георгии»… Смотри, вон исчезают ставшие ненадолго родными берега, жилое нагромождение города, зелень бульваров. Кругом вода, неоглядная, бегучая, недавно плескавшаяся у иных материков… Может быть, в самом деле там лучше, чем на земле, где надо быть колючим, напрягаться, натужно прорываться день и ночь к какой‑то непрочной, для самого еще плохо очертанной цели?
Маркуша всласть рассказывал:
— Эх, хорошо с пенькой в Австралию ходили! Вышел тогда у меня на Малайских островах один печальный случай. Пошел я прогуляться, вдруг ливень. Тропический ливень, это, шут его возьми, сразу сумерки кругом, хлещет, как из шланга, вода парная, теплая. Стал я, конечно, под деревце какое‑то. Шут его знает, как оно называется, листья во ширины, по сажени длины и прямо от корня растут, потом загинаются чуть не до земли, а под ними тепло и темно, как в бане. Я — под эти листья. Слышу, кто‑то рядом еще стоит. Зажег спичку, — оказывается, малайский бабец. Да какой, смак! Вся голая, только под пупом вроде бахрома, для видимости. Ну, ясно, раз голая, да дикая к тому же, да дело в лесу — я ее моментально цоп. И что же думаете? Кэ-эк она развернется да стебнет меня по морде!
Шелехов делал сочувственную улыбку:
— Да что вы!
Маркуша совсем зажурился, обковыривая грязными ногтями какой‑то камешек:
— Вообще, Сергей Федорыч, нет мне в жизни лафы. И теперь вот затирают. Кому прапорщика дали, а мне — зауряда. Оттого что образования не имею…
Видимо, он и за Шелеховым всюду следовал и разговор с ним завел с какой‑то давно задуманной целью.
— А скажите, Сергей Федорыч, алгебра, што это такое? Трудное?
— Да как сказать… Если постепенно, — ничего.
— А про чего в ней учат?
Шелехов не успел растолковать — из рощи торопливо приблизился боцман, деловито откозырял:
— Господин прапорщик, так что постановили выбрать делехатами ваше благородие, Зинченко и Фастовца. Теперь пожалте к старшему офицеру, там дадут ахтонобиль до городу.
— Спасибо, я сейчас… — Шелехов вскочил, жал руку боцмана, преисполненный кипучей, невыносимой доброты. — Сейчас, товарищ…
— Бесхлебный-с! — подсказал боцман, опять статно откозыряв. — Очень рады постараться для такого господина прапорщика. Право слово, когда вы говорите, душа заворачивается, так и пырнул бы кого‑нибудь!
И на берегу один Маркуша покинуто остался, навернув загадочно козырек на самые глаза. Выковыривал камешки из тины, бросал, песню, неведомо какую, нахныкивал. И руки у Маркуши дрожали.
* * *
Старший офицер встретил Шелехова приветливо:
— Садитесь, Сергей Федорович, автомобиль уже налаживают. Вы знакомы… с другим делегатом?
Долговязый матрос в синей кочегарной рубахе неуклюже и усмешливо ответил на рукопожатие. Так вот он какой, Зинченко! Лицо со светлыми, седыми ресницами, красное, выпаренное угляным жаром. И руку не сразу выпустил, потискал сначала неловко, конфузливо, словно благодарил.
Милый человек, Лобович, угощал особенным табачком:
— Настоящий, выдержанный, теперь на редкость. Знакомый татарчук с Южного берега привез. Как?
Матрос затягивался с озорноватой усмешечкой:
— Табачок ничего себе… Офицерский!
Лобович, чувствуя соленую издевочку, хлопал Зинченко по колену:
— Хо-хо-хо!.. Совсем вас Петроград, Зинченко, того… Как‑нибудь, посвободнее будете, загляните ко мне, побалакаем.
— Я вот что спросю вас, Илья Андреич, — с тем же усмешливым миганием вкрадчиво обратился к нему Зинченко, — зачем мне капитан Мангалов такой шкентель завязал?
— А что такое?
— Ну, не знаете вы! А зачем он, пока я ездил, на «Витязь» меня списал? Три года на «Каче» хорош был, теперь нет? Наверное, думает: на плавающем, дескать, подальше от команды. Так скажите ему, Илья Андреич, что теперь зажать рот матросу все равно никак невозможно.
Старший офицер вдумчиво пыхтел трубкой, колебался, не находил, что сказать.
— Знаешь что, Зинченко… — незаметно для себя перешел на «ты», видать, более привычное, — знаешь, плюнь ты на это дело. Зачем лишний тарарам заводить? Слыхал, что Скрябин говорил? Не время теперь, братишка, не время!
Зинченко косил глаза в пол, посмеивался.
Мотор рвано затрещал на берегу. Фастовец уже щерился там, вскидывая глаза вверх, ожидая спутников. Новенькая синяя форменка на мужицких костях его сидела нелепо, франтоватым пузырем. В движениях и на лице обозначалась истовая торжественность.
Шелехов потряс ему руку, как старому приятелю, и, так как оба матроса уступчиво пережидали его, первый возлег на уютные подушки.
Машина поднималась над бухтой, над грязно-зеленеющими плоскостями прибрежий. Плакучий ветер бил в лицо. И вот они, холодеющие севастопольские долины, развалины древнего Херсонеса; рядом — тылы обернутых в море дальнобойных батарей, поднявшийся над древней землей, лазурно светящийся кусок океанов. Откуда все это? Две недели тому назад неведомый никому юнец-прапорщик, которого кают-компания встретила с отчужденно любопытствующим равнодушием: «А куда его назначить?» — «Да заткните какую‑нибудь штатную дыру, хоть вахтенным начальником на базе, благо он никогда не плавал». А через две недели: «Автомобиль выборным от бригады!» Тщательно оберегаемую бригадную ценность, которой даже Мангалову приходилось пользоваться изредка, случаем, — автомобиль золотоплечего верха!
Недаром с такой тоской выдавил тогда из себя Маркуша: «выберут»… Чуял, что это значит.
Бешено метало из стороны в сторону, порой клало прямо на плечо окаменелого Зинченко. Глаза того щурились, — видать, и ему ощущение полета было любопытно, ново и лакомо. Машина мчалась в прорытом среди плоскогорья русле, шоссе судорожно извивалось, каждую секунду можно было разбиться в щепы, в слякоть о каменистую, летящую в глаза стену. Пальцы сами впивались в кожаную обшивку, зубы скрежетали. Вот в глубине, на повороте, внезапно проступили опять воды покинутой бухты, тральщики лежали на ней подобно крохотным недвижным жучкам. Его бригада! Отсталая, заброшенная в забытой бухте, чернорабочая, привыкшая играть с гремучей смертью, бригада, которую в сущности он один ведет за собой. Конечно, конечно, не Скрябин, не Мангалов, а он один! Казалось, в свистящем кругом воздухе, будоражно дергая за сердце, играют невидимые триумфальные оркестры. Он поведет ее и дальше… Правда, распаленный мечтами прапорщик и сам не знал — куда.
…Скоро предстояли новые выборы в Совет. Шелехов не раз ловил себя на том, как полутайком от себя самого гадал, с екающим сердцем считал дни. Теперь‑то уж неразумно было упрекать себя в фантазерстве, сомневаться. Он знал, что придет в зал Совета сначала неизвестным, как две недели назад в бригаду, что затеряется на первые дни в толпе… насколько может затеряться бочонок с динамитом. А потом… думал прапорщик, потом о нем заговорят не только в бригаде, а и на боевых кораблях, на бульварах, в собрании, наконец — в каюте командующего… Он огненно поверил в это с тех пор, как прислушался к вскипающим в себе силам, как увидел под собой матросскую толпу, в ознобе восторга готовую беззаветно броситься туда, куда он ее позовет…
Но и Совет и Севастополь — было еще не все. Он сам пока боялся заглянуть дневными, трезвыми глазами дальше, в самое сокровенное. Можно было задохнуться, как вот от этого сумасшедшего ветра!
Автомобиль влетел в гору среди бирюзовых хижин предместья, бирюзовых от вечернего моря. Мимо проносились спинами в ветер прохожие, ремесленники, матросы, разбегалась детвора, крутились телята.
Впервые за всю дорогу Зинченко нагнулся к уху прапорщика.
— После митинга… — выкрикивал он осторожно, стараясь, чтобы слова не заглушил ветер, — после митинга, хотите, свожу вас на «Прут»?
— Куда? — любовно, благодарно переспросил его Шелехов. Машина вплывала в центральные улицы мимо трамвайных рельсов, стеклоглазых этажей, мимо оттененных зеленью тротуаров.
Та, вагонная, ночная незнакомка, могла теперь проходить где‑нибудь здесь, могла сейчас видеть его, быть свидетельницей его торжества. Он даже боялся оглянуться, пробежать глазами по тротуарам, чтобы не нарушить этой возможности.
— …на «Прут». Там будет собрание… не для всех… понимаете?.. Такого, как вы, ребята примут! И Фастовца попробуем прихватим.
— Да! Да! — пьяно смеялся Шелехов: он ехал, медленно красуясь, ощущая на себе ее невидимые, радостно изумленные глаза. Город все проникался ею — до блаженного, задыхающегося сердцебиения. Да, да, он пойдет, товарищ Зинченко, он пойдет, потому что жизнь, наконец, распахивалась перед ним настежь, со всем ее счастьем и удачей, и все равно, все равно, все равно было, куда идти!
ГЛАВА ПЯТАЯ
…Мглистые, приземистые своды трюма, подслеповатый брезг керосиновой лампы на шатком столе вроде кухонного, темные западины углов, из которых просекались кое-где мутноватые пятна сторожко прячущихся лиц, или кусок полосатого тельника, или колено, внимательно оплетенное пальцами.
Вот что осталось в памяти от «Прута», на который пошли все трое после недолгого, но бурного митинга в цирке. И лишь впоследствии осозналась вся зловещая значительность сборища и увиденных там людей.
Зинченко, оставив прапорщика с Фастовцем, подошел не здороваясь, — должно быть, виделись уже раньше, — к сидящему за столом пухлощекому матросу с пронзительными черными усиками и зашептал ему что- то на ухо. Матрос испытующе поглядел на Шелехова, на Фастовца, мешковато усевшихся на приступке железного трапа, уводящего в надтрюмную ночь, — глаза у него оказались тоже пронзительные, угляные, — согласливо моргнул.
«Оправдывает мои офицерские погоны», — с иронией подумал Шелехов про Зинченко. Оглядеться пристально мешали встречно устремленные кругом, сквозь махорочную пасмурь и ламповое блистанье, любопытствующие недоброжелательные взгляды, а оглядеться надо было бы. «И на кой черт меня занесло сюда?» — раскаивался он. Привел Зинченко какими‑то окольными дебрями порта: где по шатким доскам, настланным через полуразрушенную баржу, где почти ползком, над кормой выскочившего на сушу парохода, где по краешку головоломной щели дока, на далеком дне которого посвечивала алюминиево отбросовая вода. Одному отсюда было не выбраться.
Зинченко по дороге из цирка все время негодовал:
— Ну, это, извините, не стадо баранов? У них еще от Николашки глаза не прочкнулись: раз начальство говорит, значит — пора, голосуй, и никаких. А наоборот крикнуть, попробуй — крикни! Если бы вы, господин прапорщик, как давеча в бригаде, сказали, так вас бы в клочья.
— Так ты и мине за барана почел? — озлобился плетущийся сзади Фастовец. — Я ж тоже руку тянул. Ты мине ето… сначала обдокажи, а потом я тебе буду баран.
Зинченко, обернувшись и в сумерках, должно быть, подмигивая Шелехову весело и с хитринкой, хвастался перед Фастовцем:
— Ты почаще ходи сюда со мной, тебе обдокажут, тольки слушай!
Шелехов принужден был согласливо подхныкивать, поддакивать, но все против воли, — ему от этих подмигов не по себе было. Он тоже голосовал, как и Фастовец.
Не видал Зинченко, что ли?
И здесь, среди затаенной, опасливой глухоты трюма, продолжало неистовствовать в нем огневое и гудящее видение цирка. Оно пробивалось сквозь сыроватый, с капелью, ржаво-красный потолок заброшенного, умирающего крейсера, на котором некогда, в красные дни восстания, появлялся, в меланхолической своей накидке, сам лейтенант Шмидт. Оно еще звучало в ушах рваными гульливыми бурунами недавних голосов. Иной вождь, в адмиральских с черными орлами погонах, всходил на помост, под ожерельчато огнистым куполом, и, снимая фуражку перед наводнившей партер и ложи смутноликой матросней, вглядывался в нее скорбно и хищно.
В этот вечер репортер «Крымского вестника» записал:
«Энтузиазм представителей флота и армии, собравшихся в цирке, дошел после слова командующего до высших пределов. Офицеры и матросы братались под приветственные клики, со слезами на глазах. Все чувствовали суровую важность минуты и свою ответственность перед родиной. Все единодушно подхватили клич: „Родина — в опасности!“»
Кто‑то с галерки все‑таки назойливо подсказывал насчет аннексий и контрибуций. «Они, буржуазы, сплять и видють Дарданеллы. А у солдата от этой Дарданеллы кишка вылазит. На кой они нам, с кашей их, что ли, есть!»
Потом на помост, рядом с адмиралом, ворвался чернобородый, разбойничьего вида, в матросском синем воротнике, свирепо грохнул кулаком о перила:
— Товарищи, прекратим трение по данному вопросу. Будя нам канат травить! Холосуй! И да здравствует наш верный батька, адмирал Колчак. Усе!
И руки, сотни рук выхлестнулись в воздух с восторженным хрустом, недвижно реяли растопыренными пятернями все время, пока адмирал шествовал к выходу, осененный ими, как знаменами. Это голосовали не только делегаты кораблей и батарей. Тут голосовала сама вольготная матросская жисть, лентяйное полеживание на синем теплом бережку, прибавка к жалованью, борщ, в котором ложка торчит стоймя, бульвары с музыкой, а на бульварах баловливая, к матросу падкая бабья сласть.
И как тут было не голосовать, если дыхание давилось от яростной, грудь распирающей гордости! Адмирал знал, чем воспламенить матросское, избалованное морем и бульварами воображение. Черноморский флот, только один Черноморский флот может еще мужественной рукой поддержать родину на краю жуткой бездны, вернуть на путь счастья и славы. Завтра же нужно выбрать делегатов для дела всероссийской важности, послать их на самые ненадежные участки фронта, в гибнущий Кронштадт, в Петроград, на фабрики, в казармы. Делегаты должны всюду сказать: «Черноморский флот — вот он: офицер об руку с матросом зовет вас очнуться от безумия, сплотить расколотые врагом ряды во имя великих идеалов революции, во имя свободы, равенства и братства!» Роль флота обретала потрясающие исторические масштабы. Севастополь готовился стать для России второй собирательницей Москвой. Будущее могло быть чудеснее Босфора… И Шелехов, словно вознесенный над смутными великими обрывами времен, голосовал:
— Да здравствует флот! Да здравствует Учредительное собрание!
Когда Зинченко напомнил ему дорогой про давешнюю его речь, он даже устыдился ее, как неуместного и глупо-ухарского мальчишества. Действительно, в такой момент…
Зинченко и черноволосый матрос за столом трудно и неладно обмозговывали что‑то на бумажке. Народу было совсем немного: десять — двенадцать матросов. К удивлению своему, Шелехов увидел среди них еще офицера, и с немалым чином — капитана второго ранга, немолодого, который покуривал с деловитым видом, скрестив коротенькие пухлые ножки.
— Кто это, не знаете? — спросил он у Фастовца.
— То… с «Капитана Сакена», Головизнин. Боевой!
Так это капитан Головизнин? Действительно, георгиевский крестик белел на его груди. Шелехов представил себе этого плотного коротконогого человека в виде некоего полубога на борту горящего, лишенного труб миноносца; на его полупогибающем, готовом взорваться остове он в исступленном упрямстве мчал еще раз на «Гебен» семьдесят покорных, оцепеневших человек. Мчал, не спрашивая, хотят ли они этого. Неужели и его могли теперь «выбирать»? Очевидно, так, если он попал сюда, на тайное большевистское собрание. И смутный, где‑то на задах сознания, проблеск мысли уяснил ему, что, может быть, потому и выбирают, что не успели еще стереться с матросской души восхищение и ужас тех минут, а с ними и полубожеский облик.
Он и его обаял, как глубокая таинственная вода, — мучительный, сытенький толстячок.
Черноволосый матрос постучал по столу карандашом и привстал с сердитым видом.
— Тут, товарищи, собрались мы все, может быть, с разных кораблей и бригад, может быть, тут и офицеры есть, конечно, мы знаем, какие это офицеры, а также есть делегаты и не делегаты, на это наплевать. Вообще, рассусоливать долго нечего, к делу! Собрались мы все, как имеющие одно сочувствие…
В голосе матроса отдавалась неприятная, залихватская жестокость. Рядом с ним по — хозяйски развалился еще какой‑то с остреньким рысьим личиком, вбивающимся в душу, как гвоздь, в блинообразной шапчонке с надписью «Гаджибей». Встречаясь с его взглядами, Шелехов ловил в них белесоглазую, мелочно ненавидящую зависть… Или так казалось только? Вообще все здесь было как‑то легкомысленно-невеско после цирка. Там — громада всего флота, начиная с матросов, там — узаконенные порывы энтузиазма. Здесь — злоба с подозрительным оттенком, какие‑то неизвестные, старающиеся спрятаться в тени матросы. Шелехов вздохнул о воде, об очарованной стране бульваров, живущей неподалеку в этой ночи. Может быть, уже пропустил самую драгоценную минуту…
— Там… адмиралы всему флоту голову морочат! На судах тоже собираются выносить резолюцию… угождают его высокопревосходительству (глаза, как кнутики, стараются пробежать мимо Шелехова и Головизнина). Но мы, товарищи, здесь внесем свою добавку. Пусть знают, что Черноморский флот не бычок на веревочке! А главное дело, пусть они бросят свою грязь насчет Ленина!
Неожиданно матроса охватил припадок ярости. Грудь и руки его судорожно заходили ходуном, глаза зверски полезли из глазниц. Представлялся, что ли, для агитации, или взаправду? Рычал на кого‑то в темный угол:
— А то куда ни пойдешь, везде… Нет, буржуазная сволочь, не смей пачкать его имя, валять его по грязи!
Шелехов притаил дыхание, не зная, что делать, куда девать глаза. Стыдный озноб покалывал спину. Как за опору, уцепился глазами за Головизнина. Тот, невозмутимо покачиваясь, созерцал эту бурю с деловитым и вежливым вниманием. «Вот это понимаю, выправка!» — восхитился Шелехов и тотчас же сам принял такую же хладнокровную, внимательную позу.
Матрос с рысьим личиком от себя вставил:
— Ихней сегодняшней лезорюцией все одно — подтереть. Посмотрим, как бы этой делехации хвакел не вставили!
— Кабы с дороги еще не воротили, — добавил мрачный голос. Черноволосый, отдышавшись, властно поднял над головой лист бумаги.
— Прошу тише. Вот здесь воззвание нашей инициативной группы, собравшейся сего числа на крейсере «Прут». Читай.
Он сунул бумажку матросику с «Гаджибея». Сам же, скрестив руки, остался вызывающе стоять, готовый гневно изъязвить каждого, кто осмелится поперечить хоть одному слову, выстраданному матросскими мозгами.
В матросском писании все же было достаточно хитрой осторожности. Зачинатели подпольного собрания не хотели или медлили раскрыть свое лицо до конца. То резкое, сварливое, упрямо несогласное ни с чем, что назойливо кидалось в глаза с большевистских листков (и, может быть, где‑то в последнем подсознании, даже притягивало, соблазняло какой‑то раздражительной правдой), — здесь упрятывалось скромно за восклицания, полные гражданского благообразия. Только одно было, от чего вдруг всколыхнулась залегшая куда‑то на дно, змеем свернувшаяся тревога. Война… На лазурном берегу, на отлоге от взбунченной России, среди бездейственных, отдыхающих кораблей, в каждодневной сутолоке митингов не мудрено было перестать чувствовать ее. А год-два назад, в Петрограде, это ощущение войны зловеще висело над каждой секундой жизни. Мокрый ветер полночи, случайно заставшей студента где‑нибудь среди петербургских пустырей, говорил о пропащем, изрытом окопами поле, по которому шарят невидимые вражьи лапы, о страшном металлическом привкусе пули, ставшей узаконенным хозяином всего мира. И все это — мокрый ветер, и окопы, и пули — ждало его, предназначено было впереди для военнообязанного студента Шелехова. Война! Ею окрашен был даже хроматический гуд трамвая, он обонял ее кишащие безыменными шинелями, дождями и тыловыми повозками просторы, даже входя в булочную Филиппова на углу Ропшинской и Большого проспекта, не говоря о газете, о вокзалах, о подъездах госпиталей. Дуновение этой забытой обреченности донеслось до него. Оно переводило на другой язык припадок недавнего энтузиазма, всего, что было в цирке; энтузиазм этот мог таить в себе крайности, сползающие опять в ту петербургскую обреченность, мог стать лично опасным для Шелехова, да, да, если быть честным до конца…
Когда чтение кончилось, Головизнин, равнодушно потупившись (рассматривая ногти), спросил:
— Но, господа… тут у вас, откровенно говоря, требуется сепаратный мир?
— Мы возражаем против бойни, — сказал, резко вихнув головой, черноволосый.
— К сожалению (ногти очень интересовали кавторанга)… я лично не имею полномочий. Надо поговорить с командой.
— Можно поговорить, а можно и заговорить, — бросил ядовито матросик с рысьим личиком и оглядел всех торжествующе.
— Мы, товарищи, никого не неволим, — сурово заявил черноволосый.
Здесь сорвался Фастовец.
Его вопливый крик, не желавший считаться с нарочито приглушенными, осторожными голосами других, его длинношеяя трясущаяся фигура, охваченная внезапным озверением, испугали даже Шелехова.
— Та еще бы вы неволили… шоб я холосувал… Да шоб я тую землю и волю, которую борци… своею, сказать, кровью… шоб я ее Вильхельму, хадюке, своими руками на, за ради Христа, возьми! Да не дождется он того, хад!..
Матрос с рысьим личиком растерянно мигал, утирая с лица брызги слюны, обильно летевшие от Фастовца. Черноволосый стоял с презрительной уступчивостью, потупив глаза. Фастовец, выпалив все, толкнулся на место, дрожа. Кругом молчали.
Шелехов понял, что пришел его черед.
Он прежде всего бросил взгляд на Зинченко. Тот нарочно глядел куда‑то вбок, но, очевидно, был весь насторожен, ждал. Сказать, что собирался сказать Шелехов, значило подойти к нему и, не ожидающего, жестоко пнуть ногой. Сердце у Шелехова невыносимо, стыдно закатилось, но он все‑таки пнул:
— Я… присоединяюсь к товарищу кавторангу. Наша команда тоже не знала об этом собрании.
На Зинченко физически нельзя было взглянуть — оттуда ударил бы по глазам невыносимый свет… Матросы по одному, незаметно как‑то, выпалзывали из своих темнот, смелели, скапливались за столом около черноволосого. И на них глаза не поднимались. А кто‑то уже задиристо бросил:
— А ваше, без команды, какое рассуждение?
Шелехов взглядом искал помощи у Головизнина. Тот понял его призыв, подошел, обнял за плечи и легонько подтолкнул к трапу. Сказал дружески, обращаясь более к матросам, чем к Шелехову (будто ничего не случилось):
— Пойдемте‑ка на воздух, прапорщик, покурим, подумаем.
За ними поднялся и Фастовец. То было кстати: как бы почетное прикрытие отступления. Все же пришлось услышать провожающий снизу наглый возглас:
— Сматывайся!
Наверху, на палубе, помнившей шаги лейтенанта Шмидта, помнившей отчаянных, обреченных ребят (среди них был непременно и такой, вроде черноволосого, жесткий, с презрительной гордецой), на палубе, в теплой темноте, пахнувшей звездами, гнилостными испарениями порта и засоренной морской водой, — офицеры остановились на минуту, вынули папиросы. Спичка в пальцах кавторанга дрожала.
— Да… — произнес он, раздумчиво выпыхивая дым.
— Да… — повторил за ним соболезнующе Шелехов.
Больше сказать не нашлось ничего. Затем видение горящего, предсмертного миноносца пожало ему руку, как равному, заметно поблекло и как‑то поруганно ушагало в темноту. На круче, над рейдом, прапорщик потерял и Фастовца. Под ногами жила бездна, полная невидимых портовых построек, невидимой глубокой воды, невидимых кораблей. Бегущие понизу огоньки шлюпок подсказывали ощущение воздушной окрыляющей пустоты. Словно вот — сдвинься и вольно шагай в ней гигантскими, десятиверстными шагами. Со дна ее курилось воспоминание о гиблом дощатом переходе, по которому спасались остатки героической армии Севастополя, воспетой всеми хрестоматиями, о хмуром скуластом офицерике-добровольце, Льве Толстом, о накидке казненного лейтенанта. Прапорщик силился всмотреться в самого себя, уяснить — что это такое, родное этим образам и вместе с тем невозвратимо дорогое, как юность, утеряно им сейчас в прокуренной, недружелюбной тесноте трюма.
Может быть, это касалось войны! О ней свидетельствовали — впрочем, очень празднично — и огни южных улиц, осторожно отбрасываемые в сторону гор, от моря. Но что ж война! Если б ее не было, не было бы и теперешней его сказочной дороги… Мысли обрывались, боялись идти дальше, предпочитали утонуть в тесноте блаженно-несвязных упований… Бульвары и улицы объяла сумасшедшая ночь.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Корабли на рейде, в бухтах стояли пустырями, котлы полуостыли, мачты замело темнотой. Вахтенные, побрякивая дудочной цепочкой, бездельно бродили по палубам, считали склянки, поглядывали скучливо на устье рейда, завешенное панцирными сетями до самого дна, в сторону невидимого, тихо пошатывающегося где‑то там минными пучинами моря.
Там было спокойно.
Враг не приходил и не собирался прийти: враг был надежно заперт в Босфоре. Вахтенному можно было позевывать спокойно, матюкнуться, вспомнив теплую жену, оставленную где‑нибудь на екатеринославских бахчах, плюнуть раздумчиво за борт в сырую темноту. И подумать: а ведь страшно, поди, лететь туда, в многоэтажную глубь, где под поплескивающей уютно жирной водой стоит подонный склизлый мрак и, наверное, пошныривают еще потемкинцы, очаковцы и деловые ребята с «Императрицы Марии» (взорванной неведомо кем)[6].
С моря было спокойно.
И флот гулял, наводняя бульвары: Приморский, Исторический, Мичманский, проулки Корабельной слободы, Малахов курган. Флот красовался белой нарядностью, ленточками, могутными затылками по главной улице, по Нахимовской. Флот, измуторенный тремя годами подневольных походов, качки, авральных работ, теперь отдыхал, благоденствовал, наслаждался вольготным бездельем.
За углом, на Нахимовской, куда вышел Шелехов, сразу обдало гулом необозримого гулянья. Тротуары отяжеленно плавали в полуосвещенном сумраке туда и сюда. За сияющими дверями кофейни хлопали пробки; у сифонов с рубиново просвечивающим сиропом толпился развеселый табунок барышень и наперегонки острящих пехотных прапорщиков, по-боевому перетянутых ремнями. Гуляющих, выплывающих из темноты, обносила ослепительная метель света.
…Бледноглазое улыбающееся видение, склонившееся к чьему‑то плечу с мичманским погоном. Не она ли на мгновение прижалась к Шелехову в тесноте запретной своей теплотой, словно подав тайный знак?.. Припудренно-голубоватое надменное лицо гардемарина в золото-оранжевой ленточке, с женственно опущенными, спящими ресницами. Двое матросов, подцепивших с обеих сторон заливистую толстощекую кубышку с соломенной дьяконской гривой; оба прилегли к ней плечами и довольны; на ленточках — «Свободная Россия». Четверка белых студенческих кителей. Лейтенант, уютившийся щекой под крыло огромной, шикарно скошенной набекрень шляпы и упоенно мурлыкающий про себя… Если беспрерывно глядеть, головокружительно замутится в глазах.
А наверху — темные, погашенные фасады гостиниц и домов и ночное небо, полное жарких, напряженных звезд. И там то же, что и здесь, на земле, только тоньше: ощущение чьего‑то щемящего, но еще не узнанного присутствия. И прапорщик даже готов был протянуть руки и двинуться куда‑то с закрытыми глазами, искать…
— Эге-ге… Тоже… фокстерьерничаете?
На тротуарном диванчике в свете кофейни, любопытствуя на гуляющих, покуривал трубку старший офицер. Белый наряд Лобовича был свеж, хрустящ, параден. Он тоже вышел покрасоваться.
Шелехов пробрался к нему.
— Я после митинга… случайно, — сказал он, словно извиняясь в чем‑то. — Знакомых у меня нет.
Лобович вежливо, намекающе поучал:
— Одной политикой, батенька, тоже не того… заниматься! В голову дурная кровь бросится. Нужно очищение головы. Я вот раз в неделю аккуратно схожу на берег, фокстерьерничаю. Завтра утром на корабль. А знакомых… эге-е, да вам ли говорить!
И он многозначительно повел глазами в сторону, на другой краешек дивана, где сидела женщина, не то гречанка, не то румынка, сложив лениво на животе руки в перстнях. Все в ней было крупно, отяжеленно: жирно-выпуклые глаза под коровьими веками, большегубый красный рот, с трудом втиснутые в кисейную кофточку груди. Она полулежала на диване, как тучная молодая ночь, в лунообразных своих серьгах. На взгляд Шелехова готовно ответил ее взгляд, вялый и страстный.
Он льстиво шепнул Лобовичу:
— Да, гурия…
И, не желая мешать, одиноко побрел дальше. Если бы не Лобович, он сам мог бы остаться с ней… Вдруг радостный испуг пронизал его. Расталкивая как попало гуляющих, он побежал за женщиной, которая быстро ступала впереди, пропадая в толкучей мгле. В наклоне круглой, шелково-вихрявой головки было мучительно знакомое. И духами пахнуло — талая земля, белое платье, убегающее на солнечный пригорок… Он, задыхаясь, почти нагнал ее, как чьи‑то дюжие руки ущемили его за плечи сразу с двух сторон.
— Стой, Шелехов, куда!
То были ребята, с которыми вместе кончил школу прапорщиков. Они выходили с бульвара — Мерфельд, Софронов, Ахромеев, одетые в безукоризненно белое, с чопорно приподнятыми сзади тульями фуражек, как на памятнике у Нахимова (это считалось шиком).
— Четвертый взвод! — растроганно крикнул Шелехов.
Он набросился на них с бурной радостью, он не видел их со дня приезда на флот. Дороги их немного разошлись. С обеих сторон ливнем рукопожатия, шуточки, подхихикивание. «Вы как?» — «А ты как? Ха-ха! Бригада траления… Так вот как у вас тралят?» Словно двери распахнулись в родные, настежь радушные комнаты. Шелехова подхватили под руку, повели за угол, в отемненные улицы.
— Идем, проводим Софронова, потом вернемся на бульвар. Счастливые вы с ним, черти, оба на плавающих! А мы в экипаже оттопываем, как несчастная пехтура.
— А ты, Софронов, разве тоже на корабле?
Те же девственные тяжелые веки, как некогда в юнкерских дортуарах, та же многодумная неповоротливость.
— Я на миноносце «Зацаренном». Пока вахтенным, готовлюсь на штурмана, подчитываю.
— Значит, не бросил своей мечты?
— Зубрит, зубрит! — назойливо прыгнул маленький Мерфельд. — Пусть будет штурманом, нам не завидно, в экипаже спокойнее, земля — вот она! Из наших здесь Пелетьмин — на «Гаджибее» все‑таки. Трунова услали в Новороссийск. Шелехов, заходи, какую мы нугу едим, Восток! Есть рояль, я занимаюсь. А ты ходишь в плавание?
— Пока на штабном, но… на днях перехожу на тральщик, подал рапорт. У нас это — свободно.
Этого еще не было, но, когда он говорил, вдруг сам легко уверовал, что так оно и есть на самом деле. Да и не век же он будет сидеть на «Каче». И радостной огненностью полыхнуло в жилах: только сейчас вспомнил, что у него, счастливца, есть еще море в запасе, дарованное ему море, приманчивый и жуткий вкус которого он еще медлил изведать.
— Может быть, сходим под Босфор, под Варну: у нас поговаривают. А ты, Софронов?
— Я думаю, что война так или иначе скоро кончится. Мне все равно теперь — как. В Россию противно возвращаться. Я, Шелехов, уйду в кругосветное.
Друзья шли по пустынному тротуару, сверху широколиственно омываемому платанами, звенья листвы которых порой на свету играли опламененно. Софронов заговорил неожиданно, словно стихи читал, даже за него стыдновато стало:
— Я не знаю, чем бы я стал жить, господа, если бы нельзя было мечтать о кругосветном. Хорошо мечтать! Даже когда смотришь на полированные стены морского собрания, слышишь такой особый запах. Сколько на эти стены глядело глаз, которые видели Ямайку, Таити! Я хожу и не вижу улиц. Рекомендую всем географию и морские карты, это страшно успокаивает.
Переимчивый Мерфельд заразился его восторгом:
— Стой, Софронов, замечательно! Хочешь, я тебе это сыграю, приходи. Это — Скрябин… «Танец томления». Приходи обязательно и ты, Шелехов. Черти, вам обоим можно мечтать!
— Между прочим, брат твоего Скрябина — мой начальник, — вставил зачем‑то Шелехов. — Чудачок тоже, на митингах об ангелах с крылышками рассказывает.
Ахромеев, толстоватый розан, насмешливо просипел:
— А ты, наверное, уже в эсеры записался?
Шелехов почему‑то обиделся. Ахромееву ли, с его толстощекой, жизнерадостной глуповатостью, вровень с ним путаться в этих делах!
— Почему в эсеры? Может быть, в большевики!..
Даже сгоряча чуть было не сорвалось с языка — взять да и ошеломить этих чистунов: а я, мол, только сейчас с тайного большевистского собрания, выкусите! Да воздержался вовремя, охолодел. К тому же дошли до береговой кручи, и Софронов начал прощаться, спеша на шлюпку.
Потом, несколько дней спустя, Шелехов несколько раз, напрягаясь, припоминал это мгновение: бездонные недра рейда под обрывом, за спиной — тусклую чешую мостовой, звезды, заштилевшую листву платанов и Софронова — уже обреченного, но не знающего об этом, пожавшего ему руку с хрустом, не сгибаясь, не поднимая тяжелых век, и прощальный поворот его фигуры, с рукой, прижатой к козырьку…
Конечно, никто и ничего тогда не почувствовал. Припомнилось только, что, когда возвращались на бульвар через Нахимовскую, сквозь бесконечное кружение толпы (диванчик, где недавно сидели Лобович и незнакомка, был пуст), там почудилось Шелехову в чересчур увеселяющемся и нарядном скоплении народа нечто последнее, как бы занесенное на краю… Но причиной этого были недавно виденные, прячущиеся в трюмной темноте глаза, как будто и здесь они с многозначительной и мрачной своей усмешкой смотрели из‑за каждого угла, говоря про себя: «Навешали на себя цацек, буржуазные сволочи, дышите, наслаждаетесь?.. Подожди-ите!..» Газетные киоски еще не закрывались, хотя было уже поздно, торговали при свете огарков удушливым смятением севера, вестями о катастрофе, задыхающимися речами вождей.
— Вы там, в своей бригаде, про речь командующего слыхали? — спросил Ахромеев. — Вот это молодец! Весь флот держит в руке. Здорово, что мы попали сюда. Наши с Балтики пишут черт знает что, их на общий котел посадили, погоны сняли. Жалко ребят. Вот у нас так жизнь, ты смотри, один Приморский бульвар чего стоит, а!
В прорыве деревьев открылась площадка над морем, на которой, в синем свете звезд, медленно кружилась толпа. Внизу невидимое море было бездыханно. Ночь казалась выхваченной из кинематографического фильма: рядом должны быть еще купы пальм, ступени виллы, спускающейся к самой воде, и трагические, изрыданные скрипкой прибои. Вообще Шелехов еще не привык к этой обстановке, разные видения носились мимо, язвили, чаровали, таяли. Оба спутника его, попав в толпу, заиграли, как кони, где‑то кого‑то увидали, кого‑то окликнули, о ком‑то перешепнулись: чувствовалось, что они здесь завсегдатаи и что у них есть интересные знакомства, а с Шелеховым все переговорено… И он не удивился, когда они, небрежно извинившись, кинулись в толпу за какими‑то девчонками, оставив его одного.
Где‑то повторилось старое ощущение своей мешковатости, ненужности. Толпа влекла его к себе, как чужеродное тело.
Он отошел, полежал грудью на каменной ограде над морем. Он все‑таки чего‑то еще ждал. Зачем на Нахимовской остановился с Мерфельдом и не догнал ту до конца? А может быть, то была и не она? Многие, что проходили мимо, шепча и звеня смехом, были похожи на нее, но он уже не верил. Это его сбивали с толку серые платья сестер милосердия, в которых все женщины казались одинаковыми. Уже потихоньку уставал верить в невозможное.
И вдруг она прошла мимо.
Да, она, вагонная спутница, и в том же сером платье, в каком он увидал ее впервые. Она не спеша, не сопровождаемая никем, поднялась по ступенькам от моря, и была самая спокойная естественность в этом необычайном, потрясающем появлении. Едва ли она даже не позевывала. И, может быть, потому Шелехов и не ринулся к ней бурно навстречу, как представлял себе тысячу раз в мечтах, а только нерешительно загородил дорогу.
— Это вы? — мог лишь он пробормотать. — Вы?
Девушка остановилась, вглядывалась в него, от неожиданности прижав ладони к груди.
— А-а, милый спутник! Ну, вас не узнать. Где же вы до сих пор пропадали?
Он не мог сразу собрать своего тела, мыслей, слов. Сам не помнил, что бормотал в ответ на ее играющий щебет. Растерянно позволил взять себя под руку, кого‑то неуклюже толкнул, кому‑то наступил на ногу.
— Меня зовут Жекой. Идемте, выйдем из толпы. Я еще должна вас хорошенько поблагодарить, прапорщик, за ту честь… помните?
Она повлекла его в темные, беззвучные гроты листвы, где‑то по ту сторону жизни.
— Жека, а вы в эти дни хоть раз вспомнили меня, вагон? Или это такие пустяки?
Они сидели на скамье в аллейной нише, полной глухоты и мрака.
Девушка клонилась к его лицу, лукавая, готовая тотчас отпрянуть, брызнуть смехом.
— А как по-вашему?
Ему кипуче захотелось рассказать ей всю жизнь с изначальных самых дней, об одиночестве, о смутном предчувствующем пути, которым шел к ней, о возвышенном значении их встречи. Удерживал ее подсмеивающийся, легкомысленный тон. Вместо этого говорил об университете, о Петрограде, о корабле. Узнав, что Жека была художницей, мечтала о Строгановском, работала на фронте сестрой, но непорядки в легких заставили ее вернуться в Севастополь, к морскому воздуху, Шелехов вдруг набрался храбрости, нагнулся и погладил пальцем ее теплую тугую ногу.
— Помните, Жека… в ту ночь я спал щекой вот тут. Это была невероятная ночь. Но вас… это не стесняло?
Девушка не ответила, убаюканно покачиваясь и напевая с закрытым ртом. Он счел это за поощрение. Его наполнило самое сладостное в жизни, невыразимое тоскование. Но ее… ее покорности он не понимал. И уже становилось жутко за то, что он делал, и за то, что хотел делать дальше, как Жека вдруг соскочила со скамьи и закружилась с издевательским хохотом:
— А вы слыхали, как инкерманские лягушки квакают?
— Жека, какие лягушки? — умолял он, ловя ее за руки, не желая просыпаться.
— Идемте, идемте, вам вредно уединение.
Опять в кругу над морем шла толпа, в которой стало теснее и как будто тише: люди кружились в бессловном забвении. Море смутно просветлело; лег знакомый сказочный путь звезды.
Не твой ли путь, прапорщик Шелехов?
Потом спустились к морю, гуляли вдоль берега по гранитной дамбе, о которую плескалась теплая влажная тьма. Плескалась и отбегала и вдруг билась о край с глухим взрывом, взметывая к звездам водяной смерч, под которым, повизгивая, пробегали женщины. Должно быть, далеко в море был свежий ветер, к берегам Севастополя гнало мертвую зыбь.
Жека лукаво и ожидающе молчала, нет-нет да и поглядывала на прапорщика из‑за плеча. Нужно было говорить, болтать, а он не мог ничего придумать: молчал и любовался ею до самотерзания, до отчаяния. Да и понятно: он никогда еще не видел рядом с собой таких женщин, интересных, с изящной поступью, на нее даже в темноте встречные оглядывались и провожали взглядом. А от этого еще больше вязала зябкая, малодушная робость… Чтобы не молчать, задавал разные неуклюжие, неуместно деловитые вопросы вроде того: «что это за здание?» или: «у вас всегда в Севастополе так много гуляющих на бульваре?» или: «кажется, и у вас, в Севастополе, белый хлеб тоже исчезает с рынка?..» И самому становилось стыдно. О, было бы совсем другое, если бы вместо него шел один из статных напроборенных лейтенантов или мичманов, умеющих непринужденно создать между собой и женщиной атмосферу любовной игры, пустых, но значительных словечек, вкрадчивых касаний!.. Он малодушно сдавался заранее, хотя мог дать ей в тысячу раз больше, хотя судьба его восходила блистательно…
Всюду они волочились за ним, нищие, пригорбленные годы.
Закуривая, нарочно осветил поближе спичкой ее лицо. Опять резкие, немного длинные, язвительные губы. Те самые, которыми поманили однажды, обрекая тосковать по ним всю жизнь, бледные, размытые туманом фонари Петербурга.
Он не мог вытерпеть:
— Мне хочется сказать вам, Жека… Я не представляю, как бы мог завтра или послезавтра гулять вот здесь, вообще жить, пить и есть и не видеть вас… А вижу во второй раз. Я потом расскажу вам много… А вы, вы могли бы завтра уже забыть обо мне?
Жеку разбирал неугомонный смех:
— Вы всегда так решительны?
Он понял это как намек на то, что произошло недавно в аллее. Не оттолкнул ли он ее своим сумасшедшим движением навсегда? Но она успокаивающе, добро прижалась к нему.
— Ну, конечно, конечно, мы с вами будем большими друзьями.
Ему хотелось еще спросить: «А есть у вас… кто- нибудь?», чтобы успокоиться совсем, до конца. Но так и не посмел. Они очутились в дальнем пустынном углу бульвара против самого рейда. Воздух еще больше посинел — или глаза пригляделись к темноте, но различались неподвижно шествующие туманные громады «Воли», адмиральского «Георгия», скольжение поздних шлюпочных огоньков туда и сюда: то редел берег, гульбище, подступали сны и предполночная глухота.
— Покажите, в каком направлении Одесса, — попросила Жека.
Шелехов показал рукой в фосфорическое марево звезд…
— И там румынский фронт?
— Да… А что? — с внезапной ревнивой тревогой спросил он.
Она не сказала ничего, тихо улыбаясь, думая о своем. С улицы доносились отголоски органного вальса из кино, терзающая цыганщина, но это было хорошо. Они стояли у каменного парапета над морем, покачиваясь, плечом к плечу; он читал ей стихи, какие приходили на память; лобзала камни внизу незасыпающая волна.
— Скоро одиннадцать, пора домой, — напомнила Жека.
Да, ему тоже нужно было спешить: мог уйти последний катер.
Он провел ее на гору, в одну из старинных, чистеньких и узких уличек, где мостовые поросли травой. Прощались у чугунной калитки, под тусклым светом домового номерка.
— Помните: я каждый день после девяти у моря… там, где сегодня.
Это — она сама, сама!
Медленно, боком утонула за калитку. Но лицо показалось на прощанье еще раз. Шелехов все стоял, ожидая чего‑то.
— Прапорщик, — позвала она. — Ну, уходите. Как это: звучала музыка?..
— «Звенела музыка в саду, — поправил он, — таким невыразимым горем…»
Он приблизил к ней свое лицо, она не отдалила совсем, но и не давала губ. Напрасно он искал их, слабея и закрыв глаза: только чувствовал близкий их, лукаво обегающий, скользкий холодок. Еще незнакомая ему игра! И у закрытой двери стоял несколько минут, и чугун леденил его лоб.
— Нет, какая ночь, подумайте, какая ночь!
Он чуть не кричал это сам себе, сбегая вниз, к морю, и выпевая неведомый, самим им придуманный героический марш: турум-ту-ту! Что‑то опять похожее на зажигательную марсельезу… До катера добежал в самую последнюю минуту, когда уже убирали сходню. Пришлось махнуть с разбега над глухо клокочущей от винта водой, — и это было чудесно, потому что этого прыжка жадно просило тело.
Шелехов протолкался через матросскую тесноту, через родной корабельный уютный галдеж. Узнавая его, расступались бережно… О, эти могутные матросские плечи! Теперь они — свои, вынесут из любой беды… Он пролез кое‑как за мостик, на пустынный бак. Катер колыхало, сносило в темь мимо редких береговых огоньков, мимо военной мигалки, посверкивающей где‑то на горе.
— Мина! Мина! — балуясь, кричали на корме. Голубоватый огненный зигзаг в самом деле летел на катер, под самым бортом сверкнул и молниеносно пропал впереди. То в фосфоресцирующей глубине играл дельфин. И ночь помрачнела.
Шелехов вспомнил весь сегодняшний день. За иной год не случится так много. Из океанской тьмы навстречу, в лицо, жег соленый освежительный ветер. Вот она, жизнь, жизнь! Она оказалась щедрее и волшебнее всех мечтаний. Пальцы его стиснули борт, мокрый от волны. Какую‑то мощь он мерил в себе, и казалось: еще небольшое усилие пальцев, стоит только захотеть, и кованое железо борта завьется податливой дугой. Глаза смеялись сами. И нарочно вызывающе громко пел в темь, в ветер то, что днем боялся договорить даже в мыслях:
— Я хо-чу… да, та-ра-ра-рам!.. я хочу, дорогой то-ва-рищ, попасть, и я попаду… та-ра-ра-рам!.. в Учредительное со-бра-ние!..
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
С моря было спокойно.
Грозный Черноморский флот, двоясь в тихой волне, погружен в недвижную чугунную дремоту. Панцирные сети, укрепленные на огромных стальных поплавках-бонах, ниспадающих до самого дна, охраняя его, завешивают вход в рейд со стороны открытого моря. Сквозь завесу не проскользнет ни одна вражеская подводная лодка. И флот едва дымит, держа корабли свои в «третьем положении», то есть в готовности выйти в бой не раньше чем через шесть часов. Солнечные зайчики узорят борты дредноутов, в кубриках названивают балалайки, моторки мирно бегут по утрам в порт за провизией.
Флот ест, спит, гуляет.
Иногда два пароходика пропыхтят к горловине рейда, зацепят по бону и растаскивают их в разные стороны. Панцирные ворота растворяются на несколько минут. Медленно скользят, кося наклоненные мачты и неся за собой в воде зеленую тень, зеленоватые щеголи-гидрокрейсера — «Ксения», «Георгий». В разведку или по секретному поручению наморси. Проползет посыльное судно «Веста» — суток трое ей болтаться на зыби, сматывая обрывки кабеля Севастополь — Варна. Или вырвется полдюжина лихих бронированных катеров, зальется по воде вперегонки, как собачья стая, взъяряя белую кипень кругом. На Дунай, в Сулин, к генералу Щербачеву. Миг — и нет уже катерков. Только пыхтят натужно пароходики, затворяя ворота.
А за воротами еще ограда — минные поля, невидимо залегшие до всех горизонтов. Тусклые шары мин покачиваются под водой — на глубину осадки судна, на тонких стальных тросах, якорьками впившихся в морское дно. Мины похожи на мрачные сферические плоды, слишком отягощающие свой зыбкий стебель. В каждой — десятки пудов тротила, в каждой затаена до поры до времени внезапность чудовищного грохота, хаоса свистящих обломков, чудовищного дымового смерча, по рассеянии которого на поверхности не останется ничего. Если за десять километров от корабля рвется мина, то в кают-компании крышечка из фаянсового чайника сама выскакивает на стол.
Но минные поля страшны только для врага. В невидимых минных полях оставлены невидимые же дороги — «Северный канал», «Южный канал», математически точно отложенные и на секретных штурманских картах. Свои корабли идут в море по этим безопасным каналам, охраняемые подводным забором из чудовищ. Однажды в день метельщики-тральщики проверяют и разметают начисто эти дороги, куда вражеская подводная лодка, прокравшись ночью, может поставить такой же многопудовый плод на зыбком стебле.
Это — контрольное траление.
В контрольное траление выходят лишь мелкосидящие суда. Они шествуют все время попарно, теснясь каждый к невидимому берегу невидимого канала, почти на грани страшного поля. Издали кажется, что суденышки танцуют кадриль. К кормам обоих тральщиков при лажен своими концами соединяющий их стальной трос: тральщики парой идут вперед и тянут за собой трос, зыбина которого утопает в воду и режет поперек всю ширь канала. Если в канале поставлена чужая мина, зыбина подсекает ее под водой за стебель, а измеряющие напряжение кормовые аппараты, к которым прикреплены концы троса, указывают тотчас же на присутствие постороннего тела. Обнаруженная мина выводится на поверхность, после чего ее расстреливают тут же, а если море спокойно, к ней осторожно подходит шлюпка, матросы навинчивают чугунные нашлепки на смертельные глазки и улов буксируют домой.
…За панцирной завесой, за минными полями, за тральщиками — флоту спокойно.
Порой «Ксения» и «Георгий» сгинут за горизонт — с неведомым поручением от клювоносого, насупленного адмирала. Пройдет посыльное судно или катер с провизией для бригады траления — в Стрелецкую бухту… Однажды на закате ворота растворились, чтобы пропустить миноносец «Лейтенант Зацаренный». Андреевский флаг, как и полагается в походе, развевался на гафели. Обе трубы дымили густо и весело. На мостике рядом с командиром стоял подвахтенный офицер, прапорщик Софронов. Он, горделиво краснея, козырнул рукой в белой перчатке в пространство, в лебединые груди голубых «новиков», мимо которых проплыл: там на «Гаджибее», тоже на мостике, вытянулся бывший юнкер Пелетьмин, заносчивый красавец Пелетьмин, фельдфебель школы, которого знатная родня устроила на самый блестящий миноносец, — и Пелетьмин узнал товарища, показав это изящным мановением руки. Путевой, не здешний ветер Дул.
Остались за кормой акварельно-розовые отлогости дальнего степного берега, как бы приподнятые в воздухе над стеклянной кривизной воды. Вон бойницы Константиновской батареи, столь часто виденные со скучной, недвижной земли бульвара; вблизи они облуплены и древни; и — бойницы уже позади. И ничего не стало, только бездонный свет бьет в глаза, и шипят и бегут нескончаемо — будто в гору — медно-закатные, с грозовой чернотой хляби. Прощай, земля! И прапорщику груди не хватает, чтобы вздохнуть…
Это тогда вахтенный матрос подошел к Шелехову — на спардеке «Качи».
— Господин прапорщик, миноносец на траверсе.
Шелехов передал ему бинокль, не желая отрываться от каких‑то своих обдумываний (он мерил спардек взад и вперед, куря, сбычившись).
— Посмотрите, какое судно, отметьте время, занесем в вахтенный журнал.
Матрос пощурился в трубки, повертел их.
— Двухтрубный… нос с нарезом… Должно, «Зацаренный», господин прапорщик.
— Вы не ошибаетесь? — встревожился Шелехов.
— Давеча для «Зацаренного» в контрольное ходили.
Шелехов выхватил у него бинокль, жадно прижал к глазам. Корабль стоял или грезился где‑то на краях мира и воды. Кто знает — «Зацаренный» ли, другой ли… Его освещал закат, а может быть, отсветы необычайной, уже открывшейся перед ним земли. Едва видимой точкой — сквозь ревнивое волненье — чудился где‑то там уходящий Софронов. Прапорщик глядел неотрывно, очарованно…
Говорили, что с фронта едет Керенский.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Впрочем, и без этого время было чревато волнениями и событиями, подобно дереву, отягощенному плодами. Близились выборы в Совет. Жека ждала каждый вечер в темноте, у плещущего моря. В воскресенье выученики Шелехова готовились поставить в бригадном клубе свой первый спектакль: «Сирота Горпына». Каждый день предвещался такой, словно в глубине его играли немыслимые радуги. Даже не значащее ничего позвякивание стаканов в кают — компании, с которого начиналось обычно корабельное утро, рождало иногда во всем теле сладкое, предвкушающее похолодение…
В воскресное утро ревизор Блябликов поймал Шелехова на верхней палубе, жал ему обе руки, сластил улыбочками, обхаживал, как красотку.
— Вас можно, кажется, заранее поздравить? Маленькую просьбицу… позволите?
Шелехов вежливо недоумевал.
— Ради бога…
— При случае когда не откажете на автомобильчике и меня в город подкинуть! Вам, как делегату Совета, будет полагаться… Катером такую массу времени тратишь. А у меня в городе семья, детишки… папку ждут.
— Да ведь… ничего не известно еще, что вы! — смущенно и радостно ежился Шелехов.
Блябликов понимающе подмигивал:
— Ну, ну-ну!..
Конечно, исход выборов был ясен для всех, об этом никто даже не считал нужным много говорить. Разве не Шелехов властвовал по — настоящему в бригаде?
Без него, например, не начиналось ни одного митинга, на котором решалось какое‑нибудь важное дело. И если он опаздывал, и Скрябин, и Мангалов, и Маркуша — все они должны были терпеливо ожидать его, вместе с матросами, и иногда неловко было даже видеть, как затерянно таращились они из толпы… Недаром и Мангалов, почуяв, откуда тянет ветер, сам предложил ему одну из лучших кают наверху…
Чай пили сегодня в кают-компании по-праздничному, с прохладцей, по рукам гулял последний номер «Русского слова», стоял неимоверный гвалт и дым.
Адмирал оказался прав: черноморская делегация вершила чудеса!
— Нашего бы большевика еще туда… он хлеще бы показал.
Лобович усмехнулся Шелехову ласкательно. Он питал к прапорщику отеческую слабость.
Свинчугов яростно ухватился за эту тему:
— Да уж, конечно, лучше, чем какую‑нибудь жидюгу Баткина. А то нашли присяжного поверенного, одели в клеш и возят: смотрите, как у нас матросики красно говорят, какие они ре-во-лю-цион-ные! Россию надувают, мерзавцы!
— Сергея Федорыча обязательно надо было бы, это матросики маху дали, — подобострастничал некий невзрачный, незапоминающийся поручик с номерного тральщика, в нечистоплотном кительке, — Сергей Федорыч и флотский офицер и со значком высшего образования!
Мангалов, начальственно мигая, возражал:
— Ну, его скоро того… повыше выберут. Скоро бригада траления это… загремит, братцы.
Шелехов от смущения ушел с ушами в газету. Ехидничал ли капитан, или в самом деле уже сдался, признал его безудержно восходящую, все сметающую силу?
Да не все ли равно! Стены кают-компании уж расступались в безбрежный свет, пропадали, где‑то далеко внизу прощально копались люди вроде Мангалова, похожие на козявок.
В газете опять было то же: «Черноморцы в Петрограде», «Речь Баткина, моряка Черноморского флота», «Восторженная встреча черноморской делегации»… Фуражки с георгиевскими ленточками триумфально шествовали по будоражной стране, всюду сеяли белозубые, дружественные улыбки. В сотый раз на петроградских улицах выступал лейтенант, сжимая руку матроса, и оба братались в сотый раз, кидаясь друг другу в объятия, в осенении красного флага, и в сотый раз бурно умилялась столичная толпа, рукоплеща и забрасывая героев цветами. Черноморцев ставили в пример всему фронту, братающегося лейтенанта возили по заводам. Читать об этом было приятно, ибо здесь чуялось дыхание вершин политической и общественной жизни, досягаемых лишь для немногих, к сонму которых был причастен и Шелехов. Черт возьми, еще немного — и депутат Совета!
Однако надо было торопиться на берег: там в бригадном клубе ждали матросские курсы. Воровато и с удовольствием поймал себя в зеркале: стройную белую нарядность, горячеглазое, смешливо любопытствующее лицо, посмуглевшее за последнее время от корабельного солнца и ежедневных купаний в открытом море. Жмурился на палубе, вынимая папиросу.
Свинчугов выскользнул следом:
— Угостите‑ка, молодой человек.
Поручика манило на чужой портсигар, как бабочку на огонек.
— Я вот что… давно мне с вами хотелось по душам…
Раскуривал внимательно, брови насупленные, вислые, как солдатские усы.
— Очень я вас, Сергей Федорыч, уважаю и люблю! Вы не обращайте внимания, если я из‑за Сашки вашего брякну когда что поперек: у меня программа старого света, я ее тридцать лет составлял, двуличничать и товарищам зад лизать не умею, как какой-нибудь Блябликов. По правде, между нами, насчет автомобиля он к вам подлазил?
— Ну что же такого, — примирительно отозвался Шелехов.
— А то же… А потом к Маркуше с этим же подкатился: тебя, говорит, выберем обязательно, как коренного моряка, нам, говорит, пассажиров (это вас то есть) не надо, и так их там хватит… Вот какая цыпочка!
Шелехов снисходительно скалился, будто ему это нипочем, но губа сама обидчиво сползла в сторону. «Хорошо же, — обещался он про себя, — подкину я тебя к деткам, сволочь!..»
А поручик шепотами, табачной кислотой дышал в лицо:
— Вы мне вот что по душам скажите: правда, что нас насчет земли‑то ограбят, или болтают все? Купил я по случаю угодьишко одно, перед войной еще дело было, винограднички, садик-огородик, то, се. Думаю, брошу службу (ревматизм у меня), под старость кусок хлеба. А теперь этот обалдуй, мичман‑то Вицын, травит, сукин сын, каждый день, отберут, говорит, в уравнительное пользование. Ему, сукину сыну, все смехи, а мне‑то… я тридцать лет для этого хрептуг гнул!.. Вы там по партиям‑то ходите, все знаете, скажите по душам.
Шелехов обрадовался возможности хоть тут немного поквитаться («все вы с Блябликовым на одну колодку!..»)
— Да, похоже, что отберут, — с нарочным соболезнованием ответил он, — страна крестьянская, сами понимаете, куда идет революция.
— Ну да, я так и думал! — Свинчугов, вопреки ожиданию, ни капельки не растерялся. — Если уж разные каторжники у власти, чего хорошего!.. Я‑то свою землишку, молодой человек, знаете, уже запродаю: татарин тут один давно напрашивается. С денежками‑то оно вернее-с, это правда, хе-хе! Дайте‑ка еще одну… про запас.
* * *
Матросов собралось на курсах человек сорок — со всех судов. Фастовец, сигнальщик Любякин, вестовой с «Витязя» Хрущ, писарь Каяндин, баталер Трофимчук и прочие, которых Шелехов не знал даже по фамилиям, минеры, электрики, строевые. Шелехов поздоровался и деловито взглянул на часы.
— Ну-с, начнем с диктовки.
Он раскрыл хрестоматию, гуляя по классу, пел:
— Последние лучи… заходящего солнца… печально освещали вершины деревьев…
На самом деле оно безумствовало сегодня, солнце и камни сверкали с той же чрезмерной, наводящей сон ослепительностью, как и вода. Комната была полна света и синевы. Шелехов любил эту комнату с ее прохладой и шуршаньем книг (где они, отошедшие во вчера университетские кабинеты?), курсами своими он горел. Лучшие годы свои отдавший нищей беготне по урокам, с отвращением вбивавший премудрость в мозги ленивых и каверзных барчуков, здесь Шелехов вдруг открыл огромное наслаждение — преподавать. Когда Фастовец вышел к доске и решил первую задачу на проценты, его пронзил настоящий восторг, он едва подавил в себе рыдание…
Но ему хотелось, чтобы среди учеников был еще один, чтобы тоже следил за каждым его шагом любовными, уверовавшими глазами. Если бы здесь сидел еще Зинченко!.. Он притих, Зинченко, возился себе где‑то у топки, в преисподней «Витязя». Но почему так тревожила, так — ненавистно почти — тянула к себе эта жилистая, сутулая спина в синей рубахе, порой отчужденно мелькавшая на катере или берегу?
— Ну-ка, Любякин, где здесь подлежащее?
После урока, как всегда, обступили, лезли из‑за плеч друг друга. Вестовой лейтенанта Бирилева, Хрущ, выспрашивал:
— Бьетесь-бьетесь над нами, дуроломами, а ни черта, наверно, толку не выйдет, господин прапорщик, а?
Опанасенко — электрик с «Витязя» — белоглазый, тихоголосый, но любивший выделиться, витиевато самоунижался:
— Сквозь весь свет пройтить, а подобных феноменов в нашей бригаде, пожалуй, еще не найтить, верно?
— Для науки надо башку иметь, а у матроса какая башка, когда при Миколашке только и знали, что палубу драить… Бывало, инда в глазах рябит!
— Я етого Миколашку помню, как он у Севастополь на яхте «Штандарт» приходил. Мы тогда на «Алмазе» стояли, в Южной. Конечно — встреча, на всех кораблях команды наверх, музыка жварит на полный ход. Мы все в майском. Вдруг тучка на солнышке, тень. Сичас же команда с адмиральского — переобмундироваться в темное всем, как одному! Посыпали вниз, в кубрик, давай темное. Только выстроились — опять солнышко, едри его котел! А с адмиральского уж семафорят: надевай все белое, как один. Фу ты, едрена, опять в кубрик, за майским! Не успели на палубу выскочить — туча, чисто назло. Крой опять вниз за черным. За полчаса четырнадцать разов робу меняли.
— А у нас на «Евстафии» так: которые, видят, матросы без дела, сичас ставят в трюм два бочонка воды — и, значит, переливай. В один перельешь, сейчас же ее обратно в пустой. Часов по шесть так хрюкали.
— Зачем же это? — спросил удивленно Шелехов.
— Чтоб матросу не думать.
А сами с надеждой клещились в прапорщика глазами: неужели в самом деле согласится, что никуда — матрос?
Шелехов, внушительно помолчав, сказал:
— Я думаю так: к осени почти всем вам можно будет держать на классный чин. В Севастополе при гимназии, я это устрою. Затем…
— А што это классный чин? — полюбопытствовал Фастовец.
— А это значит за четыре класса городского и имеете право в школу прапорщиков.
Над Фастовцем дружно озоровали, — пихали в бока, гигикали, больше, конечно, от общей радости.
— Звездочки нацепишь, сукин сын, шкура!
Волосатый, дикий Фастовец, мотая кулаками, скалил зловеще зубы, режуще орал:
— А шо, изделай мине прапорщиком, шо, я робить не буду? Я не хуже другого робить буду!
— А затем, — продолжал Шелехов, деловито суровя брови, — затем, если еще с год постоим тут, ручаюсь, что, кто будет идти вот как Любякин, сдадим на аттестат зрелости.
— А шо эта зрелость? — опять, притихая, спросил Фастовец.
Шелехов объяснил, что с этим аттестатом можно поступить в университет, а им, как специалистам, конечно, легче в институты какие‑нибудь, значит, на инженера.
— Ай да Любякин!
Любякин, лучший ученик, стеснительно ухмыляясь, полыхал девичьими щеками, глаза стали туманные…
— Го-од? — процедил кто‑то сзади, недоверчиво хмыкнув. Скучливый вахтенный с «Качи», прибредавший на курсы, должно быть, от тоски, насмешливо перекосился, будто болтали тут одни нестоящие пустяки, и пошел прочь.
То досадная недолговечная тень пробежала через солнце…
Обратно к кораблю шагали вместе с Фастовцем. В раскаленной лазури над вселенной плыл бледноватый нарождающийся серпик. Матрос показал на него пальцем:
— Знаете, господин прапорщик, пословицу нашу: месяц лежит — моряк стоит, месяц стоит — моряк лежит. Похоже, в нонешнем тихо не будет.
Прапорщик недовольно повел плечами.
— Неужели и в этом месяце лежать? Надоело.
— Конешно, усякому надоело. Хучь бы к осени домой отпустили, бураки копать.
— Вы меня не поняли, товарищ Фастовец. Сам Керенский выехал на фронт, вы же знаете, для чего. И к нам тоже приедет. Между прочим, товарищ Фастовец, я на плавающий перевожусь…
Да, это было решено твердо: вчера еще, когда «Зацаренный» таял на горизонте.
Фастовец нисколько не удивился:
— Так ето одно, который плавающий, который неплавающий: уси мы на бочке стоим. Вот бы задачку нам задали — присчитать, скольки наша жратва народу стоит… А скажите, — Фастовец с хитроватым простодушием заводил глаза в небо, — хлопцы тут у нас балакают, будто скоро пятый год будут отпущать в бессрочный?
Шелехов неприятно удивился:
— А Вильгельм? Забыли, что сами говорили?
— Шо Вильхельм? — лениво жмурился Фастовец. — Вильхельме мы не поддадимся.
— Эх, Фастовец, — укоризненно сказал прапорщик, — вы сами знаете, что солдат и матрос должны сейчас крепко держать винтовку в руках, вы сами знаете…
Долговязый матрос, шедший впереди, оглянулся на звуки этой горячей речи. Щурились беспощадные смехучие глаза. У Шелехова от стыда перехватило в горле.
Как‑то унизительно льстиво поторопился, козырнул первый. И тут же пошутил угодливо, словно задабривая, подсмеиваясь над самим собой:
— Ну, как, Зинченко, значит — война до победного конца?
Зинченко прятал усмешливые, казнящие глаза в сторону:
— Это смотря по тому — с кем.
И свернул куда‑то вбок, к матросам.
Было нестерпимо стыдно перед Фастовцем, особенно перед Фастовцем, в мнении которого он пребывал всегда на непогрешимой высоте. И за что, в сущности, за что? Но день распылался такой неуемно солнечный, такой благовестный, что всякую горечь мигом стирало с души, — да и Фастовец вряд ли понял что‑нибудь… Могучая, тугая синева моря вздымалась шаром из‑за красных от зноя берегов. Дремали сдвоенные в воде мачты и стремительные выстрелы тральщиков, едва курящихся над лазурным ковшом бухты. Все это выпуклое, жизнерадостное существование напрягалось ожиданием необычайных, счастливейших событий… А по синей волне с песнями подваливал катер из Севастополя, со сходни сбегали, толкаясь и перешучиваясь, гости — вольные, в белых рубахах навыпуск, в майских картузах, портовые маруськи в яркоцветных шарфах и кофточках, матросы на битюжьих своих ногах: загодя собирались на спектакль, хотя до него оставалось еще часов восемь. А в рощице кружилось гулянье, гармошки…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
— Я боюсь, Сережа, слышите. Отойдемте подальше!
— Я вас держу крепко.
Шли по краешку дамбы, по краешку темноты, кипящей вечнодейственным страстным плеском.
— Я не упасть боюсь… Страшно, когда рядом глубина, она черная и холодная, и внутри отвратительная слизь, брр… И там эти плавают, эти…
Жека истерически влекла его на широкий асфальт, под колонны Физического института. Женщины шли навстречу без шляп, в легком и белом, напевая из Вертинского. Со стороны города наплывало тепло нагретых камней. Море плескалось, неумолчное, как множество тревожных совещающихся собеседников.
— Я видела, как их убивали… этих, с «Очакова». Помните, было восстание? Сначала все стреляли, потом на корабле у них что‑то загорелось, они бросились в воду и поплыли сюда. Самое страшное было вот тут, у берега. Понимаете, те подплывают, выкарабкиваются, а солдаты бьют их с берега прикладами по головам и сталкивают обратно. Я была тогда дурой-девчонкой лет двенадцати, увязалась за мальчишками — посмотреть… Они кричат, ругаются, плачут, выплывают опять. Вода стала грязная, красная… Знаете, их не вылавливали, они и сейчас там…
Она прижималась к нему — слабенькая, трепетная.
— Материя уже распалась, и не осталось ничего, — сказал Шелехов, — Остался гнев, который родил великую революцию… который лучшие люди и сейчас священно несут в себе…
Он едва удержался, чтобы восторженно не ударить себя кулаком в грудь. Навстречу шептались пары, припав друг к другу щеками, женский смех опадал изнеможенно.
— Девчонкой меня потом лечили. Я вообще раздряпанный тарантас, вы только не знаете! Больше всего боюсь увидеть падаль, до дрожи, а как только иду мимо, непременно загляну, даже остановлюсь. Меня и на фронт потянуло такое… какое‑то. Впрочем, у меня там был жених, я вам не говорила?
— У вас… жених? — изумился Шелехов, и скрипочка какая‑то в нем тоненько и безудержно заиграла; закрыть от нее глаза, заснуть.
— Я говорю: был, был. А вы уже приревновали? Елисаветградский гусар, да-с! У нас, севастопольских девиц, вообще первое место полагается гусарам, второе — летчикам, а уж третье — морякам.
Жека опять притворялась не собой, ручьилась злым и скользким смехом.
— Вы говорите: «был»? — умоляюще допытывался Шелехов, стискивая ей руку…
— Ну да… пустите. Он сейчас на румынском фронте.
— Вы его любите?.. Вы его любите, Жека?
Она близила к нему смеющееся, почти поддающееся поцелуям лицо, умиротворяла:
— Но ведь я же не с ним, а с вами, здесь.
Надо было держаться мужественнее, загнать вглубь тяжелую перехватывающую горло судорогу… Ну и что ж такого: был… Но он не хотел давать тому, румынскому, ни капли превосходства над собой.
— Между прочим, Жека, я, вероятно, тоже скоро уйду в поход. — Он говорил это, переплетая ее пальцы со своими, опять беспечный и веселый. — Вы читали, какой подъем на фронте? Никто из нас теперь не имеет права оставаться в стороне. Это будет не просто наступление, а великий жертвенный гимн! И какое счастье — влиться в него, звучать в нем и своею жизнью! (Он, любуясь, повторил про себя: «Великий жертвенный гимн». — Хорошо было бы сказать это где‑нибудь на митинге, перед матросами, только поймут ли?..) Я сегодня уже подал рапорт о переводе на плавающий. И если когда‑нибудь меня вдруг не окажется здесь в назначенное время, значит — я в море, так и знайте!
Он повернулся вместе с нею лицом в плещущую мглу:
— Вон там.
Растроганность и грусть охватили его. Хотелось говорить об этом, говорить без конца.
— Вы знаете, Жека, наша работа на тральщиках считается самой опасной во всем флоте. Но зато по крайней мере сразу… никаких мучений, никакого сознания смерти… Просто — уйдешь однажды и не вернешься…
Жека забавлялась:
— Прапорщик, можно поплакать?
— Вы все шутите, — пасмурничал Шелехов и обидчиво замолчал.
Она, спохватившись, опять льнула:
— Ну, не сердитесь, Сережа, милый. У меня ведь совсем нет вкуса на возвышенное. Я — проза. Ну, хотите, за это сведу вас в подземелье? Вот тут, рядом. Вы никогда не были? Там стра-ашно.
То было где‑то у института. Она провела его, послушного, еще несколько шагов и подтолкнула вниз, в некое подобие пологого и темного подвального входа. Из‑за обломков нащупанной ногами и руками двери дохнуло спертой затхлостью и зловонием.
— Дайте я пойду вперед, а то еще нос расквасите. — Жека, нетерпеливо оттолкнув его, пролезла вперед. — Зажгите спичку, мужчина!
Спичка, однако, тотчас же потухла, едва они вступили под своды подвала. Шелехов успел разглядеть впереди себя голую шейку и тугой узелок волос, заткнутых гребнем. И скрипочка опять запела в нем щемящей, неизлечимой нежностью. Их потопил в себе оглохший и бездыханный мрак. Руки Шелехова невольно ухватились за Жекины плечи — чтобы не потерять, коленки толкались в ее бедра, мешая ей идти. Она не отстранялась, только невольно замедлила шаг, — чуялось, обертывалась к нему милым, уступчиво улыбающимся лицом. Но сердце все- таки билось жутко, преступно, как перед бедой.
Она шептала:
— Только бы не наткнуться нам… матросы сюда своих водят, ха-ха-ха! Может быть, боитесь, зажжете еще спичку?
Значит, она опять издевалась, издевалась над ним? Воображала, может быть, что сзади нее — глупое, блудливое, испуганно-нерешительное лицо? Но ведь это неправда. Он ни разу даже в мыслях не посягал на нее, не подумал о ней с чувственным любопытством. Как будто у нее было и не тело, как у прочих женщин, а некие неосязаемые, растворяющиеся в туман драгоценности. В умилении захотелось сейчас же рассказать ей об этом. Оборвать удушливую подвальную одурь… Он наклонился к ее уху, щекочась о кончики шелковинок — волос.
— Жека, слушайте…
Женщина шурхнула платьем, с готовностью обертываясь, и неожиданно сама припала к нему грудью. «Ну, ну», — торопила она зачем‑то. Послышался разнеженный мурлыкающий хохоток, спина ее подламывалась в его невольных объятиях. Из‑под ног поднималось непереносимое, гнусное зловоние, и оно мучительно мешало осознать что‑то самое важное, немедленное. Показалось, что пронзительные бесстыжие пальцы обыскивали его, ласкали. Показалось ли?.. Шелехова объял ужас. «Жека!» — хотел он простонать еще, уже достигая ее ехидно ускользающих губ. Но крепкие ногти впились ему в лицо, забрали и нос и щеки в колючую тесную пригоршню, так что нечем стало дышать, губа задралась куда‑то вверх, и вместо «Жека» получилось что‑то жалкое, вроде «веве».
— Довольно, — расхолодил его предостерегающий, почти сердитый ее голос, — мы уже вышли.
И прапорщик, освободив глаза, увидел над собой уходящий в высоту куб института и звезды за ним. Он растерянно гладил ладонями изрезанные щеки.
— Я хотел только… поцеловать вас.
— Что же, смелость города берет, — нагло хохотнула Жека, занятая своей прической.
«Дурак, сентиментальный дурак!» — горько язвил он самого себя. Запоздалое раскаяние, чувство невозможности вернуть упущенное жгли, сотрясали яростной лихоманкой.
— А мы еще сходим туда, Жека?
Она хладнокровно советовала:
— Вытрите ноги об траву, от вас пахнет черт знает чем.
И как ни в чем не бывало потом бродила с ним по бульвару, по лагерьку ночных, лавочными огоньками помигивающих улиц, там покупали черешни, ели, бросались друг в друга. Даже милостиво проводила до катера («так и быть, один раз побалую вас, Сережа!»), — расставались они раньше, чем обычно, чтобы он успел попасть на свой спектакль. А Шелехов трепетно крал глазами ее ночной, напевно склоненный к плечику профиль, и кипяток сладостного недоумения оплескивал сердце.
В бухте, увидев издали тускловатый брезг мичманского иллюминатора, не вытерпел, вскачь припустился по трапу, — больше уже не хватало мочи держать все в себе, доступало до горла, и ноги сами подплясывали… И так расшатал зыбкий трап, что нижние, которые поднимались следом, должны были ползти на карачках и матерились в бога.
В каюте мичмана Винцента был такой разговор:
— Я не досказал тогда, Сережик… Вот честное слово… хотел застрелиться, а потом думаю: нет, черта два, уж если гибнуть, так с треском, и не одному; а то потом зароете, и никаких! И я решил, имей в виду, если только какой тарарам… сейчас спускаюсь в минный погреб и… и «Качу» и всю бухту, вместе с собой, и с тобой, и с окрестным берегом, к… матери!
— Чудак, я‑то при чем? — смеялся Шелехов.
— А при том. Я заранее предупреждаю.
…Дремная, облачная ветровитая ночь над «Качей», над опочившей водой. На берегу — разволнованные гармошки, перекликанье, смех… Портовые девчонки ныряют в темноте хохотливыми стайками. Вот только сойти по трапу — и подхватят, с головой утянут в ласковую, омутную теплынь. И Шелехову досадно, что сгоряча угораздило ворваться к мичману, сидеть теперь, выслушивать его фантазии, терять дорогое время…
— Раньше был флот… Ты знаешь, что такое морской офицер? Лейтенант Рогусский ведет в море транспорт «Прут» со снарядами. В это время «Гебен» обстреливает Севастополь и, пока наши утюги разводят пары, благополучно утекает. В море он встречает «Прут» и предлагает ему сдаться. Что может сделать транспорт против линейного крейсера? Лейтенант Рогусский спускает команду в воду, а сам с судовым священником остается на борту, и оба взрываются вместе с «Прутом». Когда наши миноносцы пришли на помощь, «Прута» уже нет, а триста матросов плавают в воде, кричат «ура». Мы все, выпускные гардемарины, мечтали быть Рогусскими!..
Мичман откидывал назад профиль, властительный, покатолобый профиль медали, корчился, ломая руки меж колен. Голубая обреченная кровь… А он не знает этого, он кипит еще по — мальчишески, кидается в жизнь с вызывающе приподнятым подбородком.
И что‑то чуждое, опасливо-неприятное в крикливых его восторгах. Танцуют надмогильные огоньки. Никогда, видно, не зарубцуется Кронштадт… Ну, какой ему друг мичман Винцент?..
Прапорщика непоседно толкало из каюты.
— Ну, не буду больше мешать… пойду.
И как вольно вздохнулось на ветру, над крутоступенчатой пропастью трапа!
…Распахнутые в рощу двери клуба звали светом, весело сбившейся народной теснотой. На сцене, в бредовом озарении мглистых керосиновых ламп усердствовали матросы-любители. Зрители на скамьях почти ложились под потной тяжестью тех, что стояли сзади. До самых дверей сперлись горой разинутые рты, любопытственно горящие глаза.
А поверх тишины и духоты нет — нет да подует степная ночь да принесется из‑под темных кустиков неумолчный любовный говорок, похожий на пчелиное зудение.
Шелехова притиснуло боком к какой‑то худенькой кудрявой девчонке в газовом с разводами шарфе на плечах, согласно портовой моде. От кудерек одуряюще пахло розой. Девчонка на минутку пристально и сурово поглядела на прапорщика и, поглядев, потеснее прижалась к нему спиной. Шелехов усмехнулся сам себе и начал глядеть на сцену.
Впрочем, он знал пьесу во всех подробностях. Это вот боцман Бесхлебный, лиходей парень, обхаживает несчастную, обиженную всеми сироту Горпыну. А сирота — круглолицый, краснощекий рулевой с «Витязя», в монистах, с соломенной косой, толщиной в хороший якорный канат — пригорюнилась, подперевшись рукою, уставилась лиходею на лаковые сапоги.
— Ты мне холову не крути, ты говори зараз, чи пийдешь со мной гулять, чи не?
Сирота Горпына думает, потом ядовито подбоченивается и с неожиданной развязностью подмигивает залу:
— Ишь нашел дурную!.. Погуляй… а потом ходи с пузьякой… як у того капитана Мангалова!
Этого в пьесе нет, но зал буреломно гогочет. Офицеров не видно нигде, только Маркуша торчит у самой стены и тоже ржет, ревностно ржет, показывая свое, разодранное ржанием, лицо всем зрителям. И кудрявая бисерно хихикает, изнемогает, припадая спиной к Шелехову.
Боцман Бесхлебный стоит ошарашенно, но не хочет оставаться в долгу и тоже изобретает:
— Тебе, лярва, видно, не человика треба, а сундук с деньгами. Так ты к левизору Блябликову подъехай, он тебе у подол из денежного ящика насыпет!
— Ого-го-го! — стонали матросы, скамьи скрипели, как в бурю. — Вот хад!..
Кто‑то из качинских с места восторженно орал:
— Ты ее к Свинчугову пошли, он помещик, у его винохрадников сто десятин!
От двери вестовой Ротонос визгливо взорвался:
— Та Свинчугов и ее холодом поморит, когда он у кают-компании сам газету каждый день ворует. Свинчугов сам за пятачок удавится!
— Хо-хо-хо-хо-хо!
Бесхлебный, иссякнув, махнул отчаянно рукой, приступил вплотную к сироте и деятельно облапил ее. Но тут же от увесистого тумака проскакал задом и так хватил затылком о стену, что вся Горпынина хата заколыхалась. «Бис!» — радостно завопили на местах, хлеща ладошами. Бесхлебный оправился, засучил рукава и, тяжело ступая, быком двинулся на Горпыну. Сирота тоже изготовилась, расставив для упора ноги и сбычившись, и, едва лиходей приблизился, ловкой хваткой заклещила ладони у него на затылке. Боцман окаменел и бешено рванулся, но напрасно: заклещенная голова осталась в руках Горпыны. Тогда на сцене началась свирепая, топотная, медвежья костоломка.
— Горпына, надраивай шею дюжее, — подсказывали встревоженно из зала, приподнимаясь на местах. — К палубе башку пригинай.
— Бесхлебный, ногу, хад! Подножку нельзя!
Сзади повскакали, забирались стоя на скамьи; их, раздраженно матерясь, тянули вниз. Давнула человечья волна так, что Шелехову пришлось поневоле взять кудрявую за локти и бережно прижать к себе. Матросы обожали борьбу до остервенения. Самые горячие ярились:
— Небель уберите к ляду, эх!
Кто‑то слазил на сцену, вихрем смел оттуда все убогое убранство Горпынина жилья. Половицы стонали. Сирота сумела скинуть Бесхлебного на пол, давила теперь коленом, ворочала с боку на бок, тщась уложить боцмана на спину. Шелехов шепнул в теплое ушко:
— Вы извините… так толкают, что…
Она оглянулась, вся, как ребенок, лежа у него в руках. Показала веселые зубки:
— Нам ничего.
Неуловимый миг — и Горпына в бессильной ярости билась на полу, распятая на обе лопатки. Сторонники Бесхлебного разразились ладошным хлестаньем, криками «браво», горпынинцы орали: «неправильно»… Бесхлебный победоносно склабился и утирал пот.
Горпына разъяренно и сконфуженно оправдывалась:
— В этих же чертовых юбках никакой мочи нет… где же, братцы, равенство! Я вам сичас насчет силы другой фокус покажу, чище, чем в цирке. Эй, Опанасенко, там за дверью кирпичи есть, а ну, тащи!
Кудрявая головка, покоясь на груди Шелехова, заискрилась на него благодарными глазками:
— Очень интересная драма.
— Вам нравится?
Шелехов посылал ей ласкающие улыбки. Кто она? Откуда у нее такая странная принужденность? Пытливо искоса скользнул взглядом по ее лицу. Но набухшие, по-детски расползшиеся от любопытства губки, по-детски хлопающие смешливые ресницы успокоили его. Мещаночка из порта. Он вкрадчиво гладил ее голые локотки. Он оставался теперь в этой потной толкучей давке только ради нее одной.
В темноте ночи прячущиеся кусты казались влажными, буйно произрастающими, покрывающими землю таинственной глухотой. Уйти туда вот с ней, безмолвствуя, блаженно ломая друг другу руки… Разве нельзя однажды забыть, в каком городе и на какой земле живешь и что зовут прапорщиком Шелеховым, и делать так, как будто ничего не сыщется, ничего не спросится?
«А Жека?..»
Горпына меж тем сдернула с головы соломенный начес, оказавшись ражим молодцом, стриженным под бобрик, и потрясала над собой кирпичом.
— От, хлядите, хлопцы, без обману об голую башку. Как у цирке.
Кирпич, шмякнувшись о Горпынину маковицу, кусками разлетелся по полу.
— Ишшо!
Второй оказался упорнее. Матрос долбанул себя еще два раза по голове, но кирпич не разлетался. Матрос перевел дух, посмотрел на кирпич, зажмурившись, долбанул себя со злобой еще раз, изо всех сил.
— Нипочем! — злорадно подгогатывали со скамеек.
Матрос дышал тяжело. Вероятно, от дикой, несусветной боли ему хотелось бросить все и бежать, но такое позорное отступление было страшнее боли. Он, не глядя, размахнулся кирпичом и, ахнув, ударил себя по черепу уже с последним, озверелым отчаянием. Кирпич на этот раз с гулом лопнул пополам. Матрос оседал, обеспамятев, на пол, по лицу его катились слезы…
— Бис! — неистовствовали на скамьях.
Нет, Жеки это не касалось, она жила в неимоверно далеком, почти заоблачном мире…
Занавес опускался.
* * *
Когда через двери вынесло вместе с толпой в ночь, совершенно темную и безветренную, Шелехов прижал к себе соседку за локоть и трепетно попросил:
— Идемте прогуляемся, а?
Она нерешительно оглянулась, как бы с беспокойством высматривая кого‑то, но все‑таки пошла. Опять под кустами поборматывали гармошки, взрывался порой щекотный девий смех, с привизгом и задыханьем, словно там боролись.
— Скажите, вы Любякина Пашу, Павла Иваныча, знаете? Они в вашей местности тоже служат.
— Любякина знаю.
— А почему их нет?
— Право, не могу сказать. А вы что, знакомы?
Спутница рассыпала грудной хохоток, кланяясь, повисая у него на руке; ей было весело, баловливо.
— А вы на самделе офицер или только одежду надели для праздника!
— То есть как надел?
— Конечно же, теперь, после свободы, всем можно. У меня есть минер знакомый с «Воли», Васей зовут, он завсегда в праздники белую тужурку надевает, как офицер.
— Нет, в самом деле офицер.
— Ну да! — недоверчиво прыснула спутница. — А чего же вы без барышни?
— А вы?
— Мы не барышня, мы с порту!
Но видно было — лестно ей, что настоящий офицер, приосанилась, оборвала вдруг никчемушный свой хохоток. Шелехов вкрадчиво обнял ее за талию, — так, что под ладонью, сквозь шелковистый шарф, теплым цыпленком ощутилась грудь, ворковал:
— Нет, вы мне очень нравитесь, очень. Как вас зовут?
— Нас? Таней.
Из рощи зашли уже на бугор, за которым ветрами пошумливала степь. Над степью, снеговыми плывучими сугробами, заваливая луну, густо половодили облака. Местность стала неузнаваемой, заунывной, — может быть, переместилась сюда с иного материка. Шелехов нащупал ногой камень, опустился на него. Невылитый, из подземелья донесенный сюда огонь жег…
— Посидим, Таня, и вы утомились, наверно, стоять.
Девушка вдруг сухо насторожилась, отдергивая руку:
— Да нет, еще платье измараешь… Ну, чего, правда, в самую темень забрались!..
Все‑таки притянул кое‑как к себе. Нежно глядя и водя губами по черствым пальчикам. Своими глазами нашел ее глаза, сторожкие, почти враждебные, таинственно-ночные. Таня сидела прямо, боязливая, вот-вот готовая вскочить… Нет, его только что выучили, как надо сметь! Да он и не мог уже отпустить ее, ноги сами подкашивались, словно из него была выпита вся кровь, изможденный стон непроизвольно вытек из горла…
— Жека, — позвал он.
Таня ладошками отчаянно отталкивалась:
— Что за новости сезона! Примите руки!
Луна дико вылетела из облаков. Землю объял ее свет, роковой, бесноватый. Море поднималось чудным шумом, плескало отрадной влагой в сухие, неутоленные губы земли. Кудрявая лежала щекой на камне, тоненько похлипывала:
— Паша, Пашенька, где ты?..
Шелехов бесчувственно гладил ей волосы.
— Милая, родная моя… — повторял он. — Ну, успокойтесь! Теперь будем видеться часто — часто… — хоть самому хотелось уйти потихоньку и больше не видеть ее никогда.
Девушка поплакала и начала пудриться из бумажного сверточка. Шелехов взял ее под руку, угрюмую, повел вниз, к клубу. Молчать все‑таки было тяжело, спросил первое подвернувшееся:
— Вы где живете?
— Да-а… насвинничают сначала, а потом… где живете…
И опять затряслась неутешно.
Шелехов испытал приятную легкость освобождения, когда около дверей клуба она отбросила его руку и потерялась в толпе. Тут же Маркуша подобрался откуда‑то, знающе подсмеивался:
— Зря вы ее зацепили, не пройдет. Жених около нее год вьется, и то ничего…
— Какой жених?
— Да Панька Любякин, качинский.
В самом деле, в промельке толпы почудилось: Таня под руку с Любякиным и как будто бурно, навзрыд нашептывала матросу на ухо. Шелехов отступил в темноту, чтобы его не увидели, и вдруг защемило пакостно, опасливо… Кто же знал, что она девушка, да вдобавок еще невеста! Поскорее бы сгинуть от всех в каюту, прилечь, развернуть под лампой книжку «Морского сборника»…
Он поднялся на прибрежную дорогу. Сзади, в рощице, испуганно и разноголосо загалдели. Луна пропала, в лицо толкнул срывистый ветер. В черной яме неба пролетел щемящий металлический визг, оборвавшийся где‑то над степью. И тотчас беззвучная, валящая с ног силовая волна прошла по земле, и зашипели кусты, и сами покатились камни; следом рухнул осатанелый ветер, захлестнул человека с головой, забил ему рот; надо было лечь грудью на каменную тумбу и вцепиться в нее руками, чтобы не взвило, не понесло, как пук соломы воющим морем.
Матросы топали мимо, в бурю, задыхаясь.
— Ого-го-го!.. Штормяга…
Потерянные девчоночьи голоса подвизгивали тут и там:
— Девушки, на катер ба!
— На катере перетопнем, куда-а!
Матросы, заслышав, плутали назад:
— Не пойдет катер, бабы, ето называется двенадцать баллов.
— Ночуй, крали, с нами!..
— Айда в кубрик, на подвесную… качнем!
Буря перевертывала, заставляла не идти, а падать назад спиной… Кое‑как нащупал ступеньки знакомого трапа, вполз наверх, впиваясь пальцами в фалреп. В лицо покалывали первые дождевые капли. «Качу» глухо шатало с боку на бок. И только успел раскрыть дверь каюты, как ливень хлынул по спардеку гневным, дремучим гулом…
Неизвестно, задремалось ли потом, но до сознания смутно и последовательно доходило все, что делалось за тонкой дверью, в пространствах палубы, мрака и ливня. Мимо то и дело топали бегучие, встревоженные ноги. Под Севастополем случилось несчастье с катером, который никак не мог ошвартоваться у пристани. Под натиском бури лопнул якорный канат, и катер, боясь разбиться о берег, так и не пристал, а пошел обратно в штормующее море и где находился — неизвестно. С севастопольской пристани кричали в телефон; в бухте под ливнем метались по берегу с фонарями, сигналили в темноту невидимому катеру. У «Трувора» и «Витязя» сорвало и унесло в море сходни, и матросы, возвратившиеся с вечеринки и отчаявшиеся пробраться на мечущиеся, захлестанные прибоем тральщики, толпой привалили на «Качу», а сбившиеся с ног старший офицер, вахтенные, тоже грязные, облипшие от дождя, будили тусклые от ночника, впросонках матерящиеся кубрики, размещали там бездомных…
Над Черным морем буйствовал шторм.
Около полуночи к Шелехову тихо постучались. То был Лобович, осторожный, извиняющийся:
— Вижу свет, думал…
— Нет, нет, не сплю еще, присаживайтесь, Илья Андреич. — Шелехов с любезной готовностью поднялся на койке.
— Да где присаживаться, видите, обмок, как курица. Такой тарарам получился… А каюта теперь у вас хороша, хороша! Не ушел бы я с «Качи» на вашем месте.
— Нет, уйду, Илья Андреич, решено.
— Потом я скажу: сейчас к матросу надо ближе быть. Время такое, что всех ребят может заломать. Матроса жалеть надо. А на плавающем — там работы на вас навалят.
— Я решил твердо, Илья Андреич. И от матросов я никуда не отступлюсь.
— Ну, ну, — со вздохом махнул рукой Лобович. — Что же, канатом вас насильно не привяжешь. А у нас… неприятность, Сергей Федорыч, большая: сейчас внизу с вахтенным офицером радиограмму расшифровали…
— Какая? — встрепенулся Шелехов.
— Миноносец на мину напоролся у Фидониси. Миноносец «Зацаренный». Вчера ночью…
— Позвольте… «Зацаренный»? — перемогая внезапно подступившую сладкую тошноту, переспросил Шелехов. — Ну, а как же… спасли?
Лобович снисходительно усмехнулся:
— Ну… где же спасли! Не одна мина была, а букет… так называется. Немецкая штучка. Когда букет, от корабля — только пар.
— У меня там товарищ был, Софронов, по школе… Значит, пар?.. — лепетал Шелехов.
— Наших качинских двое ребят там, зимой еще списались, смирные ребята. Так зря, так зря все это…
— И видал‑то я его недавно, — твердил про себя Шелехов. — Софронов, он всегда чудной был, тяжелый…
— Я от неприятности к вам зашел, больше некуда, все спят… А выходит, и вас расстроил. Вы спите, спите… война, ничего не поделаешь! Жизнь — полушка, Сергей Федорыч, что над этим мозги зря крутить.
Через распахнутую дверь слышалась бурная капель и подбортное ветровое неистовство. Шелехов с болезненной поспешностью погасил огонь и зарылся головой в подушку. Он еще не успел продумать, назвать про себя какую‑то гнетущую грозность — не то что не успел, а нарочно хотел упастись от нее, проскользнуть в сон. Потом, потом…
А Лобович, рассыпая в ветер искры своей трубки, прошествовал в каюту, аккуратно переоделся там в сухое и, услышав, что вахтенный матрос скучливо плутает по палубе, зазвал его к себе. Лобович медленно приминал пальцем пепел в трубке; вахтенный Кащиенко, похожий в своей нелепой бескозырке на китайца, скрутил из офицерского табачку цыгарку. Оба молча и раздумчиво попыхивали дымком.
За полночь переваливало.
— Бывало так, — рассказывал Лобович про какие‑то далекие, может быть, и сказочные времена, — бывало, когда идешь пароходом в такую заварушку, то первое дело, Кащиенко, бойся, брат, за груз. Груз правильно уложить — это не гашник завязать! Чтоб не болталось, чтоб самое, что потяжельше, подгадать на низ, да так, чтобы в первом же порту пулей можно было сгрузить, что требуется.
Лобович был из торговых моряков.
— Я думаю, Илья Андреич, за эту бурю, — ответил, насасываясь приятным табачком, вахтенный, — дожжи она надует до самого Катеринослава. Бакча от етого взопреет и в гущину пойдет. И скажите, что там одна баба может справить?
Вахтенный вдруг испугался и поморгал на офицера осторожно: не сбрехнул ли грехом несуразное что… Но Лобович продолжал слушать с приятной внимательностью, и слушать и отсутствовать, потому что под усыпительный дождь очень мирно и успокоительно дымили пароходы, пароходы из бывалого, высокие черные красавцы с огненной ватерлинией, гости крымско-кавказских и океанских путей, и боцманы сипло орали «майна», и весело наступала из тумана пестрая дымная портовая кипучка. Вахтенный успокоился, пососал еще дымку.
— От етого в усем государстве и питания плохая пошла, что одна баба на хозяйстве сидит. Что она, баба! Вот у Севастополя у кондитерских и то хлеб-от… серый. Болтали тут, Илья Андреич, насчет пятого года, что дебилизация… зря, наверно?
Лобович горько кривился.
— Да что пятый год!.. Все надо кончать, Кащиенко. — Офицер осторожно наклонился к плечу вахтенного. — Обо…лись, брат, хуже русско-японской. Хуже!.. И ведь там… энти… знают, сукины сыны, про это, а тянут свое. Дождутся, Кащиенко, победного конца. Э, да что говорить! Вчера опять вон неприятность вышла…
— Какая? — полез ухом вахтенный.
— Да… чего там! — смутился разоткровенничавшийся Лобович. — Кажется, затихло? Ты бы сходил в камбуз, косточек мне притащил бы, остались, наверно.
Вслед за вахтенным и Лобович, надев кожан и старую фуражку, спустился на нижнюю палубу. Слабеющий дождь названивал о воду в забортной тьме. Лобович, прежде чем сойти на берег, заботливо заглянул, — он делал так каждую ночь, — в ночниковые сумерки матросского кубрика. Там все было спокойно, уютно выхрапывало в несколько тонов, отдыхало здоровяцкое матросское тело, нагулявшееся, натрудившееся, намитинговавшееся за день. Лобович постоял с минуту над этой бездомной колыбелью и, съежившись, отвернулся; щекотная теплая слеза скатилась через щеку, обмокрила щеточки английских усов, поспешно и сердито облизанных. На палубе вахтенный подал ему охапку обглоданных костей, завернутых в газету. Офицер нахлобучил башлык, взял кости и полез по трапу в тьму.
Парная мгла вздымалась с остуженной дождем земли. Луна, непогоже просачивающаяся из облаков, бежала в теплых болотцах по мостовой, обнаруживала мутные громоздкости береговых сараев, за ними — сказочную горбину какого‑то несуществующего пригорка. Лобович, нащупав знакомое место, остановился, высыпал кости на землю и свистнул! И тотчас же радостным, жадным брехом откликнулось то там, то сям в темноте, и чуть ли где‑то еще не за версту шурхала грязь под невидимо отмахивающими ногами, екали задыхающиеся глотки. Откуда‑то вырвалось с полдесятка одичалых, мокрошерстных псов, крутились возле человека, ломились к нему на грудь с остервенелой лаской. Лобович едва успевал отталкивать их ногой.
— Цыц, цыц!.. Довольно, жрите, чертяки!.. Ну вот, вот, ослеп, дуралей — псина!
Собаки, оставив его, пали на кости, скатились, грызя друг друга, в одну урчащую, ощетиненную кучу. Человек терпеливо, с притворным гневом разнимал их, расшвыривал кости в разные стороны, указывал добычу тем, которые метались зря. Человек стоял, очень довольный, среди этой свалки в нахлобученном башлыке. Так было каждую ночь. И темная отштормовавшая земля, изъязвленная войной и смятениями, чувствовалась — сквозь одинокую, сиротскую человечью жалость — населенной одинокими близкими, она смутно, но неукоснительно подвигалась к добру.
…Шелехов не мог заснуть. Он содрогнулся и простонал, наконец, вспомнив… Он подал рапорт!.. Изуверски, словно кому назло, сам изломал свое благополучие, свое ежедневное спокойное солнце. А там, за бортом, шатались и ухали немеренные глуби, полные могильной темноты, страшные человеку. О, как страшно — до сцепленных со стоном зубов — страшно было думать о них из теплой, уже недолговечной постели. В его глазах восстали ночные платаны и акации на Морской улице, под которыми он видел Софронова в последний раз; они тоже казались обыкновенными, недоступными для искажающего ужаса, как и эта койка. И тот самый Софронов… он внезапно, в полночь, очнулся в своей каюте. Он стоял вверх ногами, на голове, у своей койки, привинченной к полу, и койка била его по виску своим злобным, оживевшим железом. Где брюки, где спички? Он, шатаясь, шагнул в темноту по косому, уходящему из‑под ног потолку или стене? — верхнее, — вернее, проплыл, громко нахлебываясь воздуху, и плача, и ныряя руками в воде: спички, ради бога, чтоб еще хоть на секунду взглянуть на проклятую жизнь!.. Шелехов увидел товарища как живого, торжественно, немотствующего опустившего тяжелые веки. Он был уже не человек. Вокруг него, вокруг памяти о нем вилась дикая, отвратительная песнь.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Однажды рано, на синей июльской заре, одинокий миноносец пришел из Одессы. Почетный караул и оркестр ждали его на берегу. За серой обшивкой бортов, убаюканный вздохами преисподних машин, почивал военный министр, усталый, искричавшийся до хрипоты, с вывихнутой от солдатских рукопожатий рукой. Керенский следовал с румынского фронта.
А накануне, на закате, над Севастополем до самого зенита встала ржавая, душная пыль затмевающим солнце маревом. Несколько веков тому назад о ней суеверно упомянула бы летопись. Она пришла с запада, взбунтованная, должно быть, тысячами солдатских сапог — где‑то под небом далеких разваливающихся армий…
Офицеры с раннего утра возбужденно толпились У дверей кают-компании. Еще бы: новость сыпалась за новостью. На днях революционный военмин приказал снять погоны — в то время как вся армия продолжала носить их. Это была новая, неслыханная уступка тем, устроившим кровавые пирамиды Кронштадта, матросне, «демократии». Офицеры озлобленно роптали. Ясно, что конец такой власти, подобострастничающей перед чернью, не за горами. Но зато Керенский ввел тотчас же во всем флоте изящную английскую форму: золотые завитки на рукавах или на черных наплечных пластинках белых кителей, шитые чернью и золотом огромные кокарды. Но зато во флоте не стало прапорщиков: все сразу были переименованы в мичманов. Зато исчезла разница между золотым и серебряным погоном. Нижняя кают-компания еще ворчала по привычке, но втайне преисполнялась злорадным довольством.
— Правильно! Никакой «черной кости». Раз я — офицер, значит — офицер, а не ванька.
И новоиспеченные мичманы и лейтенанты, встречаясь с обитателями бывшего золотопогонного верха, козыряли уже по-новому, с некиим прохладноватым, знающим себе цену достоинством.
«Вообще, — думалось внизу, — может быть, не так все уж и плохо?» Военный министр лично объехал фронт, где, не щадя своих сил и нервов, выкрикивал вдохновенные, рыдающие речи, понукая солдат к наступлению. Здесь революционный военмин, несмотря на всю его презренную тонконогость, должен был получить поддержку офицерства. Ведь несомненно, что в одно время с операциями на западе выступят и боевые корабли юга, отвлекая на себя внимание противника. Готовились взгреметь ржавеющие якоря. Готовились развернуться и харкать огнем плутонги. После месяцев бестолочи мощный флот опять входил в великую войну. Возможные награды и движение в чинах. Прибавки к жалованью.
Один Свинчугов не верил ни во что, ходил и без погонов и без нашивок, с беспросветной ядучей кислотой в лице.
— Армия, революционная армия… Мы, говорит, на страже. Мы, говорит, в окопы! Жрут, шеи себе наедают, это называется на стра-аже! Вон где у них окопы — у Дуньки в Корабельной слободе… Эх, господа офицеры! Где он, флот! Николай — плох ли, хорош ли был, — зато империя, гроза, порядок… Меня на смерть посылали, так я знал, за что помру. А за этим — за вашим губозвоном… за ним я за что пойду? За то, чтобы вот мне за тридцатилетнюю беспорочную службу морду набили? Поищите другого дурака, едрените!
— Старо, — хмурился Шелехов.
Дело было за завтраком.
— Да мы сами люди старые, молодой человек. В наше время таких пассажиров к борту бы не подпустили, а у вас вон: как чудотворную, по всем кораблям на руках носят. Подумаешь, какой‑нибудь…
Поручик ввернул такое словцо, что офицеры тут же повыплевывали горячий чай обратно в стаканы, заперхали, зачихали, полезли головами под стол.
Лобович сердито метнул глазами на дверь, за которой гуторили вестовые:
— Полегче… ты!
Разговор перешел на другое.
— Все‑таки, господа, интересные времена! — Блябликов восхищался торжественностью похорон лейтенанта Шмидта, останки которого были перевезены в Севастополь с острова Березани[7]. — Подумайте, исполком собрал водолазов (то есть попов) со всего Крымского полуострова. Впереди триста водолазов в полном облачении, с золотыми хоругвями, с певчими, дальше весь исполком, красные знамена, оркестры, роты матросов, шаг по ниточке. Эт-та, скажу вам… пожалуй, есть за что и пострадать!
Мангалов, подобно Свинчугову, не разделял общих восторгов и с мрачной презрительностью выпячивал губы:
— А вот… капитана порта, Петрова, товарищи за что за решетку посадили? Этот, скажите, за что страдает?
Фамилию Петрова вообще упоминали в последнее время часто и в кают-компаниях и на матросских митингах. Дело было скандальное: Петрова, одного из высших чинов флота, арестовал исполнительный комитет вопреки воле Колчака — за жульнические операции с казенной кожей. Собственно это было главным предлогом для приезда Керенского — замазать первую трещину, образовавшуюся между Советом и Колчаком. Было еще, впрочем, дело миноносца «Жаркий», где команда требовала смещения лейтенанта Веселаго, слишком ретиво напрашивавшегося всегда со своим миноносцем на разные нужные и ненужные отчаянные предприятия. Матросам опротивела опасная резвость их командира… Было еще нечто подобное с командами «Синопа» и «Трех святителей». Адмирал настаивал, чтобы военмин лично устранил эти «неприятные шероховатости».
Шелехов прислушивался к спорам с нетерпеливой скукой.
У них, у здешних, был какой‑то другой, общедоступный, обыденный Керенский. Совсем не тот, который над наклоненными проборами жующих, хихикающих, суетно галдящих глядел со стены кают-компании торжественно и утвержденно. Тот принадлежал только ему, Шелехову. Тот напоминал пьяную и сладкую хлябь февральских улиц. Весенний поезд, примчавший прапорщика к невиданному синему морю. «На остриях штыков понесем!..» И сегодня, сегодня вечером он увидит его живого.
Живого Керенского! Испуганно и пылко скакало заранее сердце…
Вестовой подергал его за рукав:
— Вас начальник… Скрябин просит приттить… сичас.
Лица офицеров с любопытством обернулись.
— Кажется, новое назначение получаете, Сергей Федорыч? Поздравить?
— Возможно.
Шелехов, с виду равнодушно, оправлял наскоро китель, кортик. Однако в рубку поднимался со стесненной грудью. С того митинга, на лужайке, каждый раз, встречая Скрябина, неловко отводил глаза. Как будто нес за собой вину. Не выходили из памяти беззащитно хлопающие пухлые веки, покорный взгляд Володин, как бы говорящий: бей!.. Однако старший лейтенант — он беседовал в своей рубке с Бирилевым — встретил Шелехова очень приветливо:
— Давно, давно следовало бы вам зайти, поближе познакомиться. Вы у нас молодцом, молодцом! — Шелехов так и не понял, за что его похвалил Володя — за вахтенную службу или… И тут же припомнилось, как жалко таращится маленький лейтенантик из толпы в крошеве митинга… — Что же, на плавающий — это хорошо. От себя, из бригады, мы вас никуда не пустим, а на плавающий можно. Вы курите?
Володя сидел, локоть на пианино, очень по-домашнему. Глаза на сером личике такие крупно-выпуклые, что можно подробно рассмотреть каждую веточку кровяных жилок. Какая‑то изящная, мучительная улыбка, трогающая только губы. Каюта — насквозь в иллюминаторах, лучезарная от света. На пианино — ноты от руки недописанной мазурки. Сочиняет музыку, как и брат? Бледноцветные декадентские акварели — тоже скрябинские. Точености, безделушки, якорьки, сработанные наивной матросской рукой — на память. Хрупкий, почти девичий, потаенный от всех мирок… Так вот в какую страну бежит Володя, — первый выборный баловень матросский, — забыться от крикучей, зловеще ласкающей его палубы! Шелехов чувствовал этого человека жалеюще, покровительственно.
— Мы решили, — сказал Володя, — перевести вас в первый дивизион, на глубокосидящие. На «Витязь» — согласны? Вы будете флаг — офицером, а вот Вадим Андреевич — ваш начальник.
Шелехов вытянулся, сронил голову, как подломленную, — так подобало:
— Есть.
Холодноглазый Бирилев 2–й подарил его сухим крепким рукопожатием. Невольно запомнился тонкий, страстный вырез ноздрей… В них трепетала необузданность.
— Очень рад. Надеюсь, что будем служить хорошо…
Первый дивизион состоял из больших комфортабельных пароходов черноморской пассажирской линии, мобилизованных под тральщики во время войны. Роскошные прохладные каюты. Правда, суда были глубокосидящие, то есть служба на них была связана с большим риском, но… мысли о Софронове, ночные страхи — все это теперь, под солнцем, казалось пустяковым, стыдно малодушным.
— Понемногу втянем вас… будете стоять вахту в походе. — И голос у Бирилева был окрашен страстной глухотой. — Научу вас прежде всего пеленговать.
— Есть. — Шелехов, навытяжку, изображал преданность, смеясь глазами.
— С матросами у меня хорошо. Правда, я был строг, но меня любили… любили! До переворота я командовал «Дерзким». Так команда и теперь ко мне все подсылает… хотят, чтобы опять вернулся к ним. Может быть… новый министр пошлет скоро в поход, примете морское крещение!..
На трапе Шелехов остановился — радостно передохнуть. Ширь и синева реяли под ногами. Огневели расплавленные солнцем края моря. Из колодца давних дней донесся голос генерала, начальника школы, дрожащий восторженной слезой: «Перед вами откроются горизонты… очаровательной морской службы!..» Все свершилось. О мир, лучезарный насквозь, как скрябинская каюта!
Если бы только не эта неосторожность, мысль о которой нет-нет да щипала сердце ежащимся опасением. Знает Любякин или нет?.. Трусливое нетерпение толкало вниз, где цветилась матросская кипень, — отыскать румяное, застенчиво улыбающееся из‑под челки лицо, успокоиться…
Маркуша строил на берегу свою роту для парада. Построив, нес правофланговому матросу в горсточке огонек — прикурить. (Ах, Маркуша втихомолку там ладит что‑то, надеется!..) И на нижней палубе разговоры шли только о Керенском. Фастовец поучал молодого палубного:
— Ты думаешь, Керенский али другие вожди всурьез друг дружку заарестовать могут? Вот и видать, что ты серый! Они по прохрамме только ругаются. Днем на митингах ругаются, а вечером — первые друзья, придут друг к дружке, чай пьют вместе. Оба левоционеры, за одну свободу страдали. А ты: заарестуют!
Пели горны на тральщиках — и в Севастополе, на рейде, пели горны. Роты строились всюду, разряженные и для парада и на ночь — для веселых, зубастых марусек. С воды тяжело взматывались гидро, громыхали, как ломовики, разбрызгивая в воздухе взрывы красной пыли из бумажных бомб. Флот в порту разноцветно пылал играющей листвой праздничных флагов; все гуще, гуще устаивалась над улицами, над бульварами медленная пыль; цветной народ, в поту, задыхаясь, бежал: Севастополь встречал Керенского.
* * *
В белый зал Собрания входили офицеры, только офицеры. Военный министр делал свой доклад исключительно для офицеров. И им было приятно, протиснувшись через горланящую у входных колонн матросскую толпу, попасть в отдельную от этой толпы — в свою атмосферу чистоты, блестящести, золотых фестонов, кортиков, особенно бережной вежливости, — может быть, для некоторых прапорщиков и мичманов это чувство и шло вразрез с «демократическими» принципами, но оно существовало, было приятно. Стулья заливались белизной кителей, сюртуков, аксельбантов. Запоздав, входили адмиралы, каперанги, пожилая знать с тяжелыми от золота рукавами («еще больше наляпали, чем при царе!..»), кругосветники, цусимцы, те, которым революция и это торжественное собрание — слушать Керенского — были внезапным жутким скандалом на вершине успокоенных, утвержденных лет…
Ликующие огни вспыхнули в белой высоте. Сквозь многолюдный рокот и шарканье, готовые вдруг оборваться, стать потрясенной тишиной, — сладко и пугливо ожидалось…
И, так это бывает, сразу заплескались, встречая кого‑то (где он? где он?), хлопки. Шелехов успел увидеть только широкую спину пролезающего, загородившего проход. Хлопки осеклись, тот сел, — нет, не с портрета, не воображаемый, а другой: широконосое, красное, сальное от пота лицо, — новоиспеченный мичман, только что надевший золотые нашивки, впился в него, забыв все, — глаза были те же, те же, что и на портрете, их сонные прорезы сощурились: Керенский молчал и вслушивался в зал.
Керенский начал говорить.
Глазам вспоминалась вчерашняя ржавая, апокалиптическая пыль. Слова были о ней. Земли и массы, которые объехал этот, которым огненно кричал, — были огромны, удушливы. Крылья порыва были пока еще бессильны толкнуть эту грязную, разноречивую массу на подвиг. Но крылья росли.
Керенский говорил:
— Еще нельзя открыто, ввиду военной тайны, сказать все, но я даю вам слово — теперь мы скоро сможем выполнить наш долг перед страной, перед союзниками, теперь мы ближе к наступлению, чем когда бы то ни было!
Зал рукоплескал — яростно, подчеркнуто: наступление — это было то, чем били по лицу кого‑то. В бурном хлестании ладоней можно было чему‑то излиться у этих сановных, обрюзглых, по привычке высокомерно выпятивших груди. Где‑то смутно, чуть-чуть, мичман понимал: скрытно били и этого.
Мичман сидел дрожа, презрительно усмехаясь. Отсталое от жизни, ничему до сих пор не научившееся дурачье. О чем они еще втайне мечтают? Каменно и потрясающе гудела за окнами темнотысячная сила. Вот кому — мир, история. С ними, только с ними идти беззаветно, отданно до дна.
Задыхающиеся образы возникали, проносились, бесноватое многолюдие едва просвечивало за их кружительной пеленой. Себя ли он видел, или Керенского, или оба они сместились в какую‑то единую опьяненную сущность? Были ступени, была ночь, миллионы голов кипели у ног, внизу, как торжественная дорога…
Мир, история!
Керенский глядел, улыбаясь слишком широким расплывом плоских рыбьих губ. От этой улыбки, от защуренных плотно глаз лицо стало похоже на безумную маску. И вдруг губы и скулы дернулись, заплясали в мучительной гримасе.
Он говорил уж час, он устал…
(Тиком дергались долго потом лица молодых мичманов по бульварам, это стало модно. Демократическое офицерство хотело походить на Керенского во всем.)
— …и доблестный Черноморский флот, давший революции Шмидта и «Потемкина»… со всеми командирами… новую героическую страницу… историю народа, ставшего свободным…
— Да здравствует Черноморский флот!
Зал, стоя, пел «ура».
Керенский, озираясь, искал кого‑то.
— А теперь, — крикнул он, невидного кого‑то там, за дебрями кресел, держа за руку, — за нашего блестящего адмирала… Александра Васильевича Колчака!..
Зал встал на дыбы, задвигал креслами, нетерпеливо задышал.
— Где? Где?
— Поднять повыше, просим!
Шелехов, горя глазами на одного Керенского, дергался, топал ногами.
— Выше!
Адмирала, неловко скорченного, подняли на сцену.
Стоял, спиной к занавесу, широкотелый, с птичьим клювастым лицом, восточные глаза с обеих сторон клюва смотрели умно и строго, ибо и над этой разнузданной, слишком вольной для господ офицеров атмосферой (доклад небывалого во-ен-ми-на!) — железный престиж высшего водителя, командующего флотом — должен быть, должен быть непоколебим — вот я, Колчак!
Он что‑то холодно и с достоинством сказал это был шепот среди гула, он не хотел всею грудью…
А зал разломался, грохнул, жилящиеся горла корректных орали, задыхаясь в воротничках:
— Ррра-а!..
И громче всех пожилые, в бакенбардах прошлого века, орденные, со складкой морской и военной бывалости у губ, пережившие «Потемкина», пятый год, Цусиму, вросшие по плечи в свое, каменное, — они знали: это, это адмирал!
С бешенством преданности, раболепно притискивая руки ко швам, выкатывая проалкоголенные, пухлые глаза, кричали…
И бело-золотой сутолокой уже хлынуло к дверям, потопив в себе Колчака, Керенского, залы, коридоры, — уже там, в спершейся толпами ночи, изжаждавшиеся матросы подхватили Керенского на руки и понесли над бурей взвывающих ртов. Ночь стояла возбужденная, неспокойная, бледная насквозь от фонарей, музыка гремела с бульваров. На бульварах, на перекрестках толпились летучие митинги, зеваки бродили около, налипали, лезли друг к другу на спины. Где‑то вдруг шарахнулось, рассыпалось, дико затопало вдоль мостовой. Народ бежал, улюлюкал.
— Что это?
— Да тут какой‑то субчик за Ленина расстилался. Присмыкайтесь, говорит, товарищи, к большевикам, а не к Керенскому, у него, говорит, стачка с буржуазией! Помяли маленько…
— А кто, матрос?
— А что же — матрос. Не может, что ль, любой шпиен форму надеть! Он по футляру‑то матрос, а на деле… Таких бы… балластину к ногам да в воду.
И матросы, матросы, матросы наводняли бульвары, взлобья Малахова кургана, дорожки Исторического, откуда — если глядеть вниз — огоньки порта, движущихся шлюпок, улиц намечали темную громаду моря, города, всей ночи; сцепившись, сжавшись тесно с подружками, парами шли в глухие проулки, на берега загородных бухт — там уже степь пахнет пронзительно чебрецом и гниющими порослями прибрежий, там садились и ложились в траву, на землю, теплую, как тело. Горели огни театриков, кофеен, оркестры исходили бешеной грустью. Сладким удушьем, блудом раскидывалась ночь Севастополя, флота…
Позже из апартаментов военного министра, рядом с Морским собранием, вышли адмирал и свита. Почетный караул приветствовал их вытянуто и четко. Адмирал бегучим шагом своим пересек площадь, моторный катер принял его под ступенями Графской пристани, помчал торопливо через черный рейд. На силуэтной громаде «Георгия-победоносца» собрался весь штаб, ждал: командующий вез от главы Временного правительства боевую директиву.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Шелехов разнеженно развалился в полотняном кресле, под бульваром, жмурясь от солнца.
Время было служебное, но мичман, приехав в город почти с утра, не торопился возвращаться в бухту. Нарочно выпросил у Бирилева поручение в порт. Нарочно медленнее шагал от катера к пристани, нарочно переправлялся через рейд не на моторке, а нанял обветшалого старика яличника. Медленность эта была насильственная, ознобно-сладостная, почти беспамятная… Покончив с делами, обрадованно вспомнил, что ведь может еще нечаянно встретить на улице Жеку и с ней провести два-три часа где‑нибудь у моря. Тем более что, как он ни рвался, ни разу не мог увидеть ее с того сумбурного воскресенья: вахта, приезд Керенского, знакомство с «Витязем» и с новыми своими обязанностями отняли почти все вечера. Так и оставалась в памяти загадочным, насмеявшимся над ним куском подвальной темноты; и по ночам, разгадывая ее и не в силах разгадать, вскакивал на одинокой своей койке, ширя глаза в мрак, вопрошая кого‑то, трепеща тоскливым хотением… Кто же она, Жека?.. Он спустился на Нахимовскую и несколько раз шагал улицу из конца в конец (даже коленки заныли от утомления), осторожно, словно из‑за укрытия, прицеливаясь глазами во все стороны из‑за спин деловито бегущих дневных прохожих.
Нет. Жеки не было нигде…
Пекло нестерпимо, раскаленная листва бездыханно обвисла за бульварной оградой. Из‑под домов зноем вымело последнюю тень. Только море, встающее неотвратимо меж деревьев, играло освежительно своей зеленью, бегучими звездистыми огоньками. Чтобы убить время, купил какой‑то журнал и так же медленно, словно нехотя, свернул в ворота бульвара. Нехотя! А ведь у самого клокотало — бежать, нет, пролететь над морем эти шесть верст до бухты, камнем упасть там в ревучую, митингующую толпу. «Ну, что, товарищ? Кого?»
Бригада выбирала делегата в Совет.
Нет, он нисколько не раскаивался в своем бегстве. И без него выборы пройдут тем же чередом, как прошли бы при нем. Исход их он знал почти наверное. Зато не придется выставлять себя среди прочих соперников вроде вола, приведенного на убой, не придется с удушливо скучающим сердцем трепетать, что вот-вот изменит матросская прихоть.
Он хотел принять новый дар от жизни спокойно, со знающим себе цену достоинством.
С рейда поднимался в небо густой, сумрачный дым. Константиновская батарея на том берегу зияла бойницами почти в потемках. Это флот раздымился ни с того ни с сего своими трубами, засаривая солнце. Но вода была ясная, жалила глаза. Бежали и чешуились, мгновенно сменяясь, расплывчато-зеркальные зыбинки. Клонило в жмурь, в дремоту.
Шелехов посмотрел в журнал: он прочитал целых три страницы, но никак не мог вспомнить — о чем… Он отбросил журнал, устроился поудобнее в кресле. Пожалуй, это даже лучше, что Жека не встретилась. Так редко приходилось в последнее время оставаться наедине с самим собой, а нужно было еще многое привести в себе в порядок, особенно теперь, о многом подумать, решить.
Если бы только не этот прибой, с гулом взметывавший то и дело вороха лазорево-мутных брызг прямо ему в ноги!
Прежде всего надо было ответить самому себе на один вопрос, который задавали Шелехову все чаще и чаще и которого он начинал даже стыдиться: «Какой вы партии, господин мичман?» Если на корабле в ответ можно было отшучиваться, то ведь в Совете существовали разные фракции, и к одной из них он должен был обязательно примкнуть.
К какой?
Всего безобиднее и естественнее, конечно, к той партии, в которой состояли едва ли не все матросы и младшие офицеры, которая почти главенствовала в политике и в стране. К партии эсеров. Но именно оттого, что она неимоверно распухла и сделалась безопасно-доступной для всех, — слиняла прежняя ее мученическая и бунтарская притягательность. Это — помимо самой сущности программы. Да, прежде огненноглазые, фанатические юноши стреляли в губернаторов, а теперь даже Блябликов, говорят, думал «записаться».
Меньшевики? Скучная и трезвая бухгалтерия, без пожара, без музыки. А Шелехов стремился неистовствовать и воспламенять. Правда, самому было смутно: кого и зачем… Была еще газетка «Социал-демократ». Он ее не без ехидства почитывал, нарочно на виду у всех, в кают-компании, не без ехидства же подсовывал иногда с невинным видом Свинчугову или Мангалову, наслаждаясь, когда ею начинали отплевываться и материться… Пожалуй, было даже приятно, что на корабле его прозвали большевиком, хотя он в шутку и отнекивался: прозвище ему льстило, окружало как бы опасноватым ореолом, лестно обособляло от безликой каши меньшевиков и эсеров. Пожалуй, когда задумывался про себя по-настоящему (а редко приходилось это делать, очень кипели события, не могла отстояться тихая вода мыслей…), — когда задумывался ненадолго над сутью этого учения, с трепетом ощущалась на дне его некая непреложность, грозная, ледяная, неприукрашенная… Может быть, потому, что жив был еще в нем прежний Шелехов, тот самый, который некогда, в петербургской ночи, бежал по слякотным огненным мостовым в позорной, выклянченной по прошению шинели и таких же калошах и вдруг, подняв проклинающие глаза, видел над своей головой, в мутном небе, зарево чужих чудовищных пиров… Но почему, ощущая эту непреложность, хотелось все‑таки бежать от нее в пестрый тарарам сегодняшнего дня, под обыкновенное солнце, — почему он с такой надеждой искал какого‑то равновесного ей противоборства, внимательно прислушиваясь к разноязычным спорам на бульваре, на катере, на митингах?..
«Да, потом обязательно, обязательно нужно обо всем этом подумать», — крепко пообещал он себе. Потому что думать сейчас больше было невозможно, — на горизонте, пропадая среди блесков, показался катер из бухты, издали похожий на прыгающий удочный поплавок, и оставалось только — сидеть да лихорадить, ломая себе пальцы…
Оглушительный припадок прибоя разразился под ногами, кипучий столб вознесся чуть ли не перед носом, даже заставил оцепенело вскочить. «Де-ппу-тт-ат!» — как бы пролопотал глухой водяной взгул.
В воздухе моросила пронизанная сказочной радугой пыльца.
На катере ехал почти в полузабытьи. Черный дым застилал полнеба. Катер был почему‑то совсем безлюдным, и не у кого было спросить… Что‑то слишком скоро сунулось в глаза пустынное, приглядевшееся побережье бухты, высокая стена «Качи» над вечереющей водой. Что предвещала ему эта сырая тень под бортом, эти толстые ржавые цепи, которыми транспорт был могуче прикован к земле?
Почти не дыша взбежал по знакомому трапу. На палубе и на шканцах — послеобеденная дремь и пустота. Наконец, лишь около самой кают-компании выбрел откуда‑то Маркуша, — которого как раз меньше всего хотелось встретить, — с позевотой разламываясь после сна.
— А вас тут с «Витязя» искали-искали… Куда это вы закатились? Слыхали, наверно, новость? А у меня тоже к вам одно дело есть… сурьезное, — важно прихмуриваясь, добавил Маркуша.
— Какое? — замирая, спросил Шелехов.
— Да все насчет той алгебры. Подзаняться мне очень надо… чтоб срочно. Я, Сергей Федорыч, могу за уроки заплатить, вы не думайте.
— Да ну вас, чепуха, я обижусь, Маркуша. Пожалуйста, когда угодно. Что вам эта алгебра далась?
— А так, — многозначительно игранул бровями Маркуша. — После скажу. Ну, так уговоримся давайте.
«Нарочно замалчивает, из зависти, — уже весело подумал Шелехов. — Всем он ничего, этот Маркуша, только одно в нем неприятно — эта зависть. Ну, куда же он тянется, чудак?» Ему не терпелось уже сейчас бежать к кому- нибудь, наброситься с расспросами, разузнать обо всем, со всеми подробностями. Только, конечно, не от Маркуши…
— Вы извините, Маркуша, мне сейчас некогда. Поговорим потом… ну, хоть вечером.
И он помчался прямо к старшему офицеру. Дверь каюты, как всегда, была распахнута настежь, всюду сверкала стародевья чистота, фокстерьер «Качка» дремала на коврике, в предзакатных лучах. В вечернем благоденствии Лобович, одинокий, огромный, стареющий, одетый в свежую, хрустящую белизну, склонился над газетой, не видя ее.
— Илья Андреич, — кинулся к нему Шелехов, — вы простите, что я так сразу… я очень волнуюсь! Расскажите, как это все было…
Лобович глядел на него с жалеющей ласковостью, подвинул стул:
— Вы присядьте сначала. Наверно, обиделись на ребят, потому и волнуетесь?
— Как то есть обиделся? — в замешательстве замигал Шелехов.
— Да ведь вас заочно, Сергей Федорыч, в бригадный комитет выбрали. Вы не думайте, это оттого, что матросы вас ценят, не хотят с вами расставаться! Вон вы и курсы замечательные какие открыли. Разве они теперь вас отпустят? Тут многие были за то, чтобы вас в исполком, так сначала и наметили, а как Фастовец выступил да завопил — ей-богу, прямо завопил: «Как же его, так, который офицер с нами всей душой, да его в город отдавать!..» Ну, эту балабошку, Маркушу послали.
Шелехов сидел ослабленный, не слыша ничего, кроме зияющей пустоты в теле. На глаза навертывались обжигающие слезы. «Я для них… горел за них, на палубу первый спускался, мучился, а они… К черту, покажу я им теперь курсы!»
Лобович, должно быть, застыдился его дергающейся щеки, деликатно отвернулся.
— Могу вам сообщить новость, — сказал он, нарочно отвлекая его от мучительных мыслей, — флот на первом положении. Вот, пойдете теперь в операцию… А как вы думаете, Сергей Федорыч, не зря они всю эту контору затеяли?
Шелехов горько встрепенулся. Поход! Так вот откуда черный дым над рейдом. Корабли дрожали на якорях, с раскаленными топками наготове. А он‑то мечтал, что выйдет в первый раз в море не только как офицер, но и как один из немногих народных избранников, — будто не с одной, а с пятью драгоценными жизнями в груди, и все эти жизни, на глазах у матросов, весело подставит навстречу злобному вражьему ветру… Сонная, безразличная разбитость овладела им, словно он не спал несколько ночей.
— Не знаю, Илья Андреич… я пойду, спасибо.
Лобович, ободрительно, насильно смеясь, похлопал его по плечу, провожая:
— Поменьше, батенька, поменьше политикой увлекайтесь! В ваши годы… эх, как я бы фокстерьерничал!
Вслед — другим голосом:
— А на ребят‑то не обижайтесь, поймите ребят…
Почти не разжмуривая наболевших глаз, мичман пробежал кое‑как по набережной, по трапу «Витязя», добрался до своей новой каюты, набросил изнутри крючок и, скрипнув зубами, не раздеваясь, грохнулся ничком в подушку.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В первый раз в море!
Бирилев подвинул к себе карту, исчерченную цифрами и пунктирными окружностями. Пол командирской рубки покачивало. В радиограмме сообщалось, что возвращающаяся из похода эскадра идет в энном квадрате моря. Бирилев любезно растолковывал — он все хотел казаться передовым, понимающим новые веяния, способным на учтиво-либеральные, а не солдафонские отношения с подчиненным студентом.
— Эскадра — здесь… Проводим теперь курс. Наша диспозиция вот в этом квадрате. Итак, при указанной скорости ее можно ожидать часа через полтора-два. Значит, около полуночи.
Шелехов, стеснительно наклонившись, усваивал.
— Есть.
— Марсовые на местах?
— Так точно.
— Вас не укачивает?
— Нет… я чувствую себя хорошо.
Прозрачные выкаты скрябинских глаз не то поощряли, не то насмешничали:
— Он у нас молодцом, молодцом!
И Маркуша, развязно развалившийся рядом с начальством, — наверно, на правах делегата (в другое время смиренно терся бы где‑нибудь в тени, а то на палубе с вахтенными), — Маркуша тоже поматывал головой, дружески покровительствуя. Дескать, ты вот бегаешь с мостика сюда и обратно, а мы тут сидим, разговариваем промежду себя. Что же поделаешь, у каждого свое. Иной Маркуша, неожиданно напроборенный, в новеньком мичманском одеянии, выставит перед собой шитый золотом локоть и нет-нет да покосит на него глазком. И Шелехов чувствовал, что не может не любить его: самый корабельный быт становился при Маркуше в тысячу раз забавнее и уютнее.
Правда, обида не зажила еще, но разве такие, как Маркуша, могли загородить ему дорогу.
…Были вторые сутки, как эскадра с адмиралом во главе ушла в поход — громить турецкие берега. В ожидании ее бригада траления с полудня работала в минном фарватере.
Для столь важного случая сам Скрябин сопровождал свои суда. На «Витязе» развевался вымпел натралбрига.
Десять или двенадцать тральщиков прощупывали, разметали тралами невидимый канал. Концевые, самые крупные — «Витязь» и «Трувор» — впереди, мористее всех. Выступали парой, далеко за Херсонесский маяк, соединенный зыбиной стального троса и, вдобавок, выпустив впереди, с выстрелов, предохранительные фортралы. За ними, тоже в паре, большие серо-голубые пассажирские пароходы бирилевского же дивизиона — «Россия» и «Батум». Дальше плоские длинные зерновозы — «Елпидифоры». Завершала эту кадриль одномачтовая мелкосидящая мелюзга — «Чайка», «Альбатросы». Открытое море окружало безвыходным серебряным блеском, блистало целый день утомительно, до сонливой одури. Тральщики прогуливались попарно, разметая канал сначала в сторону моря; потом, не выбирая тралов, обратно к Севастополю; затем — снова в море. Таким образом, канал был трудолюбиво прочищен трижды. Концевой «Витязь» — ушел далеко от берегов, за окраины минных полей, на глубину, и там бросил на якорек вешку с лампочкой. На километр от него отстал «Трувор» и тоже бросил вешку. Так же сделали и следующие тральщики через каждый километр. Каждый тральщик, поджидая эскадру, крутился на диспозиции, около своей вешки. Линией крутящихся тральщиков и горящих вех обозначался тайный и единственный безопасный путь, которым идти эскадре по заряженному смертями полю.
Так наступила ночь.
Шелехов поднялся на палубу, в теплую, почти безветренную тьму. Небольшая зыбь раскачивала «Витязя», потому что машины почти не работали. Слабый огонек вехи прыгал неподалеку в ночной волне. Лишь только тральщик отбивало зыбью подальше, на мостике звонил капитанский телеграф, машины кряхтели внизу, тральщик задним или передним ходом опять подбирался к вешке. И снова на две-три минуты засыпали машины. Мир состоял из беззвездной мглы и плеска.
«Где я сейчас? — спрашивал себя Шелехов. — И я ли это?..» Глазам припоминались истаявшие дневные берега. В полдень прошли ослепительно белый маяк на унылой песчаной косе. Мыс Фиолент — последний обломок — быком уперся в клокочущий прибой, за ним — обрыв, в небо, безбрежный прозор леденисто-синей воды. И мыс, с монастырьком на спине, отошел далеко-далеко, в лиловый дымок. Где‑то поблизости, за темнотой, дремотная и теплая Балаклава. А еще дальше — Южный берег, не виданный еще ни разу, только рассказанный счастливцами, — он чудился некоей таинственной и благоуханной Индией садов, мраморные ограды которых лобзает ночное море… А на другом берегу, в сумерках, выходит Жека, скучающе и обиженно смотрит за море, смотрит — никого нет, только ветер мстительно бьется в грудь, в лицо, гонит прочь с дамбы тоненькую, одинокую, сгорбленную фигурку. Может быть, сама теперь хотела бы припасть к нему слабым, ласковым ребенком, больше не лукавить, не мучить никогда… «И я тоскую здесь и думаю о тебе… чувствуешь ли ты? — тужась, внушал он ей через многоверстную, бездонную пустыню ночи и воды. — Сейчас я далеко в море… в море, на войне…»
Мысли его оборвались: мутную громоздкую высоту кормы с размаху несло на огонек вешки. «Сейчас ударит, разобьет лампочку вдребезги!..» И только успел это подумать, зазвонил телеграф на мостике, дыхнули и заворочались машины, бурно заклокотала вода под винтом, и, сотрясаясь, корма начала отходить от огонька назад и влево.
Теперь надо было заглянуть еще на мостик — не случилось ли чего нового. «Витязь» в сумерках чудился восхитительно неисследованной страной, в каждом уголке которой деялось захватывающе интересное!
Ветер наверху поддувал сильнее. Никто из занятых на мостике людей не обратил внимания на Шелехова. Темный человек осторожно спускался с мачты, из ночной высоты. Менялись марсовые. Под брезентовым навесом, у телеграфа, бодрствовал штатский пароходный капитан Пачульский (половина команды на судне была штатская — прежняя пароходная из вольнонаемных). Сердитый голос, горбина огромного, спесивого капитанского живота, проступавшая в темноте, наводили на мысль о брюзгливости, о досадливом презрении к военным, обратившим изящное увеселительное судно в рабочую лошадь. И марсового матроса, с неохотой готовящегося лезть на мачту, капитан наставлял с вынужденной, презрительной вежливостью:
— Вы, главное… на вешку не глядите, на вешку, поняли? А то в темноте потом ни хрена не… Глядите вперед, на воду и на горизонт. Понимаете, что значит горизонт?
— Да знаю я все, — досадливо огрызнулся матрос.
Вешку несло далеко-далеко в низах. Черт возьми, не на минное ли поле уже прет корабль за разговором? Телеграф спасительно звонил, корабль бурлил и сотрясался.
— Право на борт, — угрюмо под нос себе бурлил капитан. Рядом, в крытой будке, невидимый рулевой покорно вторил:
— Есть право на борт.
— Одерживай!
— Есть одерживай!
Различалось низкое лазоревое просвечивание звезд. Мгла окутывала корабль домовито, дремотно, как стены.
— Закурить можно?
— Покурить — есть кают — компания. Вам бы, как военному человеку, лучше правила знать.
— Почему же? Ерунда!
— Вот вам и ерунда. Немца не знаете?
Война? Нет, так только называется, а в самом деле какая же это война? Смехотворное, нелепое пятичасовое кружение в море, около танцующего огонька… Чепуха, нет ничего! Даже, пожалуй, если пустить машины и похропать напрямки — в смертоносное, якобы заказанное всем поле, — и то, верно, не случится ни черта.
С мачты захлебывающийся шепот:
— Господин капитан!
Вахтенный матрос, прикорнувший на трапе под мостиком, тоже встревожился:
— На мостике! Марсовой кличет.
— Слышу. Что там?
Капитан повернул голову, сердито ждет.
— Перископ… господин капитан!
— Что-о?
Марсовой, должно быть, свесился там, в ужасе тянется вниз головой:
— Прямо по носу… перископ, вижу ясно.
— Где?
Ночь обертывается невидимым, люто дышащим зверем. Когда он подкрался? Ветер и плеск — может быть, последние в жизни… Неужели вот тут рядом, под водой, в самом деле идут страшные безыменные люди? Капитан шатнулся к перилам, перекосив мостик чугунными вдавинами шагов, рулевой малодушно бросил штурвал, тоже сломился в мрак. Пронзительно и весело ощутилась секунда, вот эта, сейчас текущая секунда, когда у меня, Шелехова, неестественно громко шумят мигающие ресницы… И до отчаяния стало интересно, как зеваке со стороны. «Пусть будет перископ, — содрогнулся и молвил он, — пусть в самом деле будет перископ!» Тральщик несло и несло от огонька.
— Капитан!.. — Шелехов опьянело, ликующе дергал его за рукав. — Капитан, прямо полный ход! Тараньте ее!
Он так где‑то читал.
С мачты марсовой кликал опять:
— Капитан! Ф-фу ты, мать честная, обознался. Это выстрел торчит, разгреби его! А я гляжу…
Пачульский с бешеной порывистостью звонил телеграфом:
— Вы-ыстрел? Баран! Идиот чертов! Губошлеп!.. Право на борт.
Будка безразлично вторила:
— Есть право на борт.
Тральщик загребал винтом к вешке. Капитан погодил, потом высунул голову из‑за закрытия и, задрав кверху лицо, отводил душу:
— Сволочь! Идиот чертов! Обалдуй! Фекла!
Наверху виновато посмеивалось…
Вахтенный, тоже облегченный, успел резво сбегать куда‑то:
— Телеграммы есть, господин мичман.
Нет, все‑таки радостно было, по-животному радостно — опять вернуться в обыкновенные, обжитые людьми комнаты, к ровному их свету. Шелехов, напевая, спустился в просторную кают-компанию. Было невероятно, что рядом с палубным одичалым мраком существует этот зеркальный, праздничный мир. Над коврами, над полукружием малиновых диванов электрическое сияние рассеивалось матово-золотистым полумраком. Когда‑то здесь соловьино гремел рояль, переживались шумные, веселые ночи путешествий, мимолетных романов. О, те ночи были совсем другое, — выйти на палубу вдвоем, упоенно вдыхать там море!.. Отзвуки давнего жили еще, наклонялись шелестом неразличимых, вечно желанных женщин… Было приятно лечь в глубокое кресло, пробежать глазами сегодняшние сводки с сухопутного фронта, которые подал ему вахтенный, — среди них только одна была шифрованная, — должно быть, особенно приятно именно потому, что наверху, тотчас же за полированными дверями, начинались ветер, мрак и тревожная закинутость в полночном море.
Шелехов блаженно потянулся.
— И эта война…
Шифрованная телеграмма таинственно кричала о чем- то рядами пятизначных чисел. Он распутывал ее, медленно подвигаясь сквозь дебри затейливых и трудных расчетов. К тому же электричество вдруг начало пошаливать.
«Обстреляны орудийным огнем угольные копи у Зангулдак…» — это эскадра сообщала на ходу о результатах своего набега.
У столов неслышно появились двое штатских лакеев и, посовещавшись шепотом, начали стелить скатерти и расставлять серебро, навевая уют позднего ужина. Капитан Пачульский ревниво оберегал на своем корабле все приятности былого комфорта…
Шелехов, нервничая, проверял еще раз свои цифры; то, что прояснялось из‑за них, было дурно и неуместно. Штаб командующего извещал, что при постановке минного заграждения неожиданным взрывом мины убило двадцать восемь матросов и ранило одиннадцать. Нет, все было правильно. Даже указывалось, что жертвы находятся на борту «Керчи». Шелехов огляделся кругом, он только заметил, что лакеев уже нет, что он один в этом качающемся разукрашенном подвале… Ему стало жутко. Где‑то в темной воде сознания проплыл Софронов, его неотомщенные угрожающие, стиснутые веки… Электричество недомогало, то распаляясь с резкостью полуденного солнца, то погружая каюту в припадки зловещей темноты. Как будто хаос неудержимо прорывался уже сквозь стены, сквозь двери. Отсюда хотелось бежать, бежать…
Вахтенный наверху, в ночной слепоте, столкнулся с ним грудь с грудью:
— Где тут господа офицеры? Дым на горизонте.
И успокоительной деловитостью порадовал, как лаской, человечий голос.
Бирилев, Скрябин и Маркуша теснились на мостике, около Пачульского, переговаривались отрывисто, вполголоса. Ночь стала населенной. Из кубриков выбредали матросы, крадучись, копились у темных бортов. Шелехов напрягал зрение, но не видел впереди ничего, кроме сплошного черного полотна мглы. Явственный гул — словно от тысячи льющихся в воду ручьев — проступил с моря. Эскадра подходила.
— Свет! — резко скомандовал Бирилев.
Пронзительно вспыхнула лампочка в высоте, на клотике грот-мачты. Тральщик предостерегающе давал передовому направление на фарватер.
Ручьи разрастались, надвигались все ближе, хлещась о море с яростной силой. Мутная многоэтажная громада отделилась от мглы и падала прямо на тральщик, затмевая всю ночь вокруг. Бурно расшатанное море шипело, «Витязь» клало с борта на борт. Тень передового корабля пролетела мимо, хлеща винтами.
Тогда погасла лампочка на мачте «Витязя». И тотчас — по этому сигналу — иголочно просверлило тьму огоньками следующего тральщика за километр; и когда погасло там, блеснуло еще дальше… Передовой бурлил от огонька к огоньку, за ним — эскадра.
Мутные мгновенные высоты кораблей нависали из мрака, проносились мимо, иступленно-торопливо, безлюдно. Гул воды раздирал ночь. Величие и темная грозность этого шествия были непреодолимы разумом.
Война…
Матросы внизу неспокойно кричали, маяча вытянутыми за борт руками:
— Вон, вон…
Шелехов глянул в ту сторону, куда они указывали. Силуэт одинокого корабля, должно быть заблудившегося, шатался там и, неожиданно скосив курс, ринулся вбок — казалось, прямо на минное поле. Шелехов оцепенел, не верил себе: может быть, глаза его обманывали. Однако корабль тотчас же выправился (он просто обошел «Витязя» с другого борта), а матросы все продолжали сбегаться к одному месту, откуда яснее было что‑то видно, суматошились, путано галдели. Очевидно, неестественное матросское зрение распознало в темени что‑то неладное. Шелехов прислушался и понял: это «Керчь» плутал, «Керчь» со своим страшным грузом.
Значит, новость уже успела какими‑то путями просочиться из радиотелеграфной рубки в кубрик, в трюмы?..
Глаза цеплялись за мглистое, шаткое пятно корабля, вернее, за неуловимый его, зловещий след. Всех ли сумели выловить? И кто они, рядами уложенные там в трюме, с буйно раскиданными ногами, со сладковатым смехом на окостеневших ртах? Те ли, что недавним вечером, у Собрания, самозабвенно кричали «ура» Керенскому?
За стихшим внезапно плеском громко и злобно сплюнул кто‑то на палубе:
— Набили, как стервятины… да и раз — мать ее, вашу свободу!
И тотчас отвалились от бортов, поныряли все в мглу, сразу погасив голоса. Маркуша не выдержал и прыснул в горстку. Офицерский мостик, один населенный людьми, витал над пустым кораблем. Сочленения машин содрогались, ухали где‑то в беспамятных низах. Маркуша, успокоившись, подлез к Шелехову.
— Сергей Федорыч, я что хотел вас спросить. Керенский — как, с высшим образованием, конечно?
— С высшим, — глухо отозвался Шелехов.
— Я, Сергей Федорыч, опять к вам. Насчет алгебры. За классный чин у меня удостоверение есть, эх, мне бы теперь только языки да алгебру! Хочу одну уду закинуть. Давно у меня маленькая просьбица к вам, Сергей Федорыч, тольки как‑то не смею: поясните мне, пожалуйста, как это в Учредительное‑то проходют.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
…Недобрую пыль, не переставая, гнало по земле из‑под воспаленного фронтового неба. С пылью докатило однажды до тихой бухты штрафного матроса — солдата Михайлюка.
В каюту к Шелехову, по своему делу, Михайлюк вломился без спроса, без стука, пока прапорщик нежился еще в постели. Был в коряжистых сапогах, деготь на которых вязко обсела пыль, в шароварах в заправку, не по — матросски. Шелехов присел барином на койке, позевывая.
— Вы зайдите на минуточку попозже, товарищ, тогда поговорим. Видите, еще туалетом надо подзаняться, — по-дружески пошутил он.
Матрос сбычился у дверей, оглядывая непривычную после окопной земляной норы роскошь жилья плаксивыми глазами. Нечистым, подозрительным рубцом зияла переносица, на которую падала заухарская мрачная косма. На фронт сдал его два года назад с «Витязя» капитан Мангалов — за воровство и пьянство.
— Я этого ничего не признаю, — страдальческим голосом сказал матрос, — раз вы на ето поставлены, должны службу справлять.
Шелехов мучительно покраснел, в одеяле привскочил с готовностью:
— Ну, в чем же у вас дело?
— В чем дело, ето вам лучше знать, как матроса за политику в штрахной баталиен списывать. Конешна, ета права раньше была у паразитов, ну теперь такой правы нет, чтобы за политику страдать, теперь права гражданская. Жалаю опять во флот, боле ничего.
— Покажите‑ка ваши документы, — любезно попросил Шелехов.
Матрос раздражительно покривился:
— Да я никаких документов не признаю! Ето что же, значит, опять как при Миколашке? Ты сам по какому документу живешь, по гражданскому? А от мине романовского хошь? Раз говорю, жалаю опять во флот, надо мине накормить, на денежное довольствие записать, а не волынить!
Шелехов, волнуясь и насильно мягча в себе обидную злобу, начал объяснять, что нельзя не понимать таких простых вещей, что он пойдет ему навстречу… что надо подождать, когда приедет начальник Бирилев, без него он не может. Матрос слушал и ядовито вздохнул:
— И-и, боже… как все это у паразитов устроено: ежели человека в баталиен смерти спихнуть, так ментом, а как с бойни обратно принять, так волынка на год. Придется‑таки, видно… в бригадный комитет заявить, — смиренно, но с угрозой закончил он.
— Но, товарищ, я же и в бригадном состою, это все равно. Конечно, мы вам поможем…
Та-ак… Значит, и там понасажали? Антиресно! Ну… мы найдем где попросить, — горько усмехнулся Михайлюк и ушел с явной зловещей недоговоренностью.
Мичман грустно поморщил брови и, надев шлепанцы, пошел прогуляться по своим владениям; по коридору, полному матовых, сияющих изнутри дверей, по прохладной, утопающей в зеркалах кают-компании. В иллюминаторе плясали светлые жилки — от солнечной воды. Значит, опять штиль и безбрежный зной наружи. Лакеи благоговейно готовили серебряный чай. В каюте уже ждали хозяина ярко начищенные магнезией снеговые ботинки, снеговой синевой сиял любовно выглаженный и аккуратно развешенный на спинке койки китель; это с материнской заботливостью, очевидно, выжидающий вестовой на цыпочках принес, пока господин мичман военного времени навещал уборную, чтобы зря не беспокоить. Каютный быт, по распоряжению штатского капитана Пачульского, был окутан ласковой ватой тишины и удобства. От этого, пожалуй, еще обиднее чувствовался несправедливый и грубый пинок.
Вообще после похода над бухтой опустилось на несколько дней безразличное затишье. Самая высокая, накипелая волна пробежала, прошумела, разбилась о неведомые уступы. Теперь даже служба на кораблях пошла кое‑как, вкривь и вкось. Бирилев приезжал только на час, до обеда, отмыкал свою каюту на «Витязе» и с вежливой, скорее притворной начальственностью выслушивал доклад: ничего не значащие приказы по дивизиону, ведомости на денежное довольствие, последние директивы наморси, которые тральщиков ни в коей мере не касаются… Потом удалялся на «Качу», в таинственное бытие скрябинской рубки, куда после обеда, как шмели, слетались бывшие золотоплечие со всех судов (вот где, должно быть, шли разговоры по душам, без наигранных личин, и зрели в табачном дыму мечты, о которых никогда не узнать непосвященным)… С настоящей серьезностью получали только жалованье да делили кусковой сахар в кают-компании.
Но в тот день, когда матрос, с рубцом на переносице, появился непрошенно на «Витязе», пасмурью дохнуло на бухту, на Севастополь…
Горланил митинговый рожок, словно перед бедствием. Капитан Мангалов — чего никогда не бывало — прислал вестового за Шелеховым с просьбой прийти немедленно на «Качу». По берегу со всех кораблей к ораторской бочке сбегался по-особенному торопливый, любопытствующий народ.
Мангалов в своей каюте дрожащими руками поймал обе руки Шелехова, просительно прижимая к груди.
— Сергей Федорыч, слыхали?.. — Капитан в отчаянии пучил глаза, не в силах даже выговорить, давился. — Эти самые… балтийцы приехали, из Кронштадта, а вперед Михайлюка подослали. Матросам говорят: мы‑то со своими офицерами давно разделались, а вы? Резня ведь будет, Сергей Федорыч, ей-богу, а!
Лез на него теплым животом, мигал, подхлипывал:
— Вы уж… выступите, Сергей Федорыч, когда энти забезобразют! На вас все надеемся. В вас дар есть… и матросы вас слушаются. Мы вам ведь всегда снисхождение… Моторку, когда в город надо или покататься, берите, не стесняйтесь. Выступите, голубчик… из человечества!..
* * *
Над толпой, на бочке, стоял уже старичок в чесучовом пиджачке, без шапки. Старичок был не простой, ибо в не- кии забережные времена коснулась его священная тень народовольцев… Чья‑то невидимая рука распорядилась предусмотрительно, сгоняла за ним в Севастополь автомобиль, и старичок, прибыв как раз вовремя, возвышался, приветливо щурясь: ласковое, успокоительное противоядие.
А может быть, позаботились оттуда, из Совета?
Во всяком случае, старичок ощущался как надежная, дружественная опора. Обоим приезжим, одетым в синие заношенные фланельки, с черными, непривычными для глаз ленточками на бескозырках (о, пасмурь и копоть Кронштадта!), пожалуй, было больше не по себе. Как тихая вода, окружило их со всех сторон молчаливое и, казалось, недружелюбное любопытство.
И оба балтийца, наверное, это чувствовали. Поднявшись на соседнюю со старичковой бочку, они в одно время сняли свои бескозырки, как будто одним движением, слишком почтительно. Один оказался постарше — круглоголовый, года через два заплешивеет; надеть бы ему очки в железной оправе, коростяной, запачканный варом передник и усадить за сапожный верстачок — и вот перед вами начетчик-мастеровой, какой-нибудь Федосеич или Никифорыч. Другой — долговязый чахоточный мечтатель, с сизыми, куда‑то за толпу заглядывающими глазами. И совсем не похожи на опасных возмутителей порядка: вроде как на ярмарке — сняли стеснительные шапки и вот сейчас запоют, ожидая грошей на свою бедность.
Из‑за спины прячущийся голос гаркнул:
— Партии какой?
Фастовец, припертый к самой бочке, деловито скалил крупные зубы:
— Ну да… объясните… нам его большевиков не надо!
Старший из балтийцев, благословляюще осеняя толпу руками, успокаивал:
— Да мы беспартейные, какие мы большевики!
— А документы есть, что матросы? — гаркнул опять, не без ехидства, неуловимый вопрошатель.
Из толпы недовольно зацыкали.
— Нет, ежели товарищ не верит, — с готовностью отозвался матрос, — пусть экзамен произведет, мы солидарны. Дайте, скажем, конец и прикажите, какой узел произвести: прямой ли, рифовый ли, задвижной штык, беседочный, могем гачный завязать, могем выбленочный, могем удавку: специальности, как мы марсовые. Пожалте сюда, товарищ!
Вопрошатель, однако, мешкал и не подходил. Толпа ходила ходуном, досадуя на задержку, сердито ворочала головами, ища неуловимого. Оратор хитровато склабился.
— Ежели мой глаз не сфальшивил, кто‑то из господ офицеров антиресовался?
Понизу серчало, заклокатывало:
— Брось их, чего слушать!
— Они завсегда поперек горла!..
— Если сами говорят, так слушай, а коснись матрос…
Кронштадтец загадочно посмеивался: толпа сама давалась ему в руки.
— Конечно, настоящую удавку — ето буржувазия лучше нас умеет завязывать. Скажем, сейчас: воспользовавшись нашим обчим интузиазмом, гонют нас на немцев, а между прочим травют друг на друга, говоря, что все кронштадтские матросы — шпиены и наймиты, палачи Вильгельма. Вот мы и приехали, чтобы вы посмотрели сами, какие ето бывают наймиты!
Долговязый тоже не стоял без дела: ткнул пальцем в плечо своего товарища, потом себя и с горечью помотал головой, — смотрите, дескать, наймиты! Внизу не удержался кто‑то, восторженно прыснул.
— Она одного вам, товарищи, буржувазия не хочет сказать: что Балтийский флот держит пары на первом положении и верно стерегет революционную столицу. У Вильгельма давно на Кронштадт слюнки текут, почему же, товарищи, не приходит етот Вильгельм и не забирает? Нет, товарищи, не любит нас буржувазия, а за что не любит, за то, что говорим ей постоянно… маленькую неприятность.
Кронштадтец пригорбился, словно нацеливаясь прыгнуть, прищур — лукавый, смеючий.
— …А мы ей говорим: мы даем наш интузиазм и нашу шкуру за обчее дело, хучь, скажем, и до победного конца, как кричат товарищи, ваши разнаряженные черноморские делегаты, а ты подай тоже — из своего кармана: подай нам заводы и фабрики, подай землю крестьянам! Кто, мол, чем может на обчее дело, а!
Долговязый тоже нагнулся, протянул руку горстью, ядовито сучил пальцами, подмигивал: подай, дескать, пода-ай!
Матросы привстали на цыпочки, ловя раскрытыми ртами неслыханную речь, — да и речь ли это была? Шелехова даже свело неприятно-приторной судорогой от такого явного пересола. Но в то же время в назойливом изгибании матросов было что‑то змеиное (как и у Зинченко — где он?), зловеще-очаровывающее… Выступить бы, смести это наваждение ураганно-огненными, настоящими словами. Но какими и о чем? В мыслях забилась туманная, растерянная пустота. А в толпе не выдержало, вырвалось невольным всхлипом:
— Прра-виль-на-а!..
— Извиняемся, говорим, но как мы жертвуем, то пожалте и вы… на обчий котел.
— Пра-ава!..
— Вот, друзья, пока мы, значит, ету маленькую неприятность сказали, то стали для капиталистов бунтовщики и наймиты Вильгельма. Но матрос, он, как известно, от своей службы дальнозоркий, матрос муху увидит на двадцать верст по горизонту, а уж своего брата, конешно, насквозь. Так вот поглядите на нас, братцы, дальнозорким глазом, без буржувазных очков, правильно ли мы есть наймиты?
Толпа ржала, чесала затылки, попихивала друг друга плечами от удовольствия и любви.
— Ну да… сознаемся — наймиты… трудящегося народу!
Кронштадтец кланялся, делая ручкой, но зубы одной стороной сцеплены, с пеной.
— Шпиеним! Временное правительство у нас по суседству… Сознаемся, матрос все время шпиенит… чтобы обману какого не было!
Толпа крякала, бешено дышала — не зная, каким взрывом ей облегчиться. Зарычать ли «ура» сразу всеми грудями, или вырваться на бочку, мять там плешивого кулаками в бок, любя… Сзади опять раздался голос вопрошателя:
— А как вы, товарищи… насчет офицеров?
То слинялый Иван Иванович, командир с тральщика, набрался вдруг прыти. Раздирая матросскую гущу, лез к самой бочке в упор.
— Вопрос касается — если которые завсегда в ногу с товарищами, так их резать за што?
Плешивый любезно пощурился.
— У нас етого, товарищ, в программе нет, чтобы резать. Которые же с нами стоят против буржувазии, то мы таких офицеров приветствуем. Вон про товарища Раскольникова слыхали?
(Шелехов, про себя: «И у нас и у нас же есть такой, ну, крикни кто‑нибудь, зачем же показывать им такую жалкую дрянь!»)
Иван Иванович вытянутой шеей изображал наивысшее внимание и послушание, почтительно мотал головой.
— Так вот у нас…
Кронштадтец рассекал ладонью воздух и поучающе рассказывал, как у них. Иван Иванович лез ему в глаза и мотал.
Свинчугов не выдержал, скрипуче крикнул:
— Мотай, мотай, чертова балаболка!
Сплюнул с омерзением и зашагал прочь к кораблям. Матросы, стоявшие рядом, затихли, проводили его глазами, неотрывно глядя ему в ноги. На миг нехорошо, хмуро стало около офицерской кучки.
И как раз тут на карачках под кронштадтцами появился Михайлюк. Глаза были жалобно запавшие, пиявящие.
— А я скажу, братцы, за офицеров, что ето первые хадюки и скорпиены. Вот мине, братцы, за что на войну послали? И куда послали, братцы: сверху там бьеть, снизу бьеть, с боков бьеть… с земли, братцы, бьеть, из‑под воды бьеть… Куда деваться живому человеку? За што мине ненормальным сделали?
Но матросы настроились на веселый лад, зубоскалили:
— Ненормальный… от денатуратки!
— Слазь… насосался!
Михайлюк сконфузился, ухмылялся по-шутовски.
— Ну, выпил… конешно, скольки полагается свободному гражданину.
Его под общий гогот стащили вниз. Старичок с добродушной улыбкой помахал шляпой, приманивая всех к себе:
— Приятно было, товарищи, выслушать наших друзей из Балтийского флота, призывающих к тому же, к чему и мы зовем: единению.
Старичок очень осторожно прохаживался меж опасных костров, которые запалили кронштадтцы. Дело было столь тонкое и деликатное, что у внимательно нацелившегося ухом Мангалова через губу пошла слюна — от напряжения. Голос согласливый, сердечно примиряющий, с дрожцой. Кто кощунственно прыснет в лицо старичку, за которым годы мученичества и каторги?
— Конечно, вы правы, товарищи, классовая борьба — наша первая революционная задача. Это наши лозунги, нами выстраданные, — фабрики и заводы, земля. Отрадно, что пришлось дожить до тех сказочных дней, когда миллионные народные массы приняли эти лозунги и понесли их на своих знаменах. (Шелехов: «Так, так… вот оно, настоящее».) Но нужно найти правильные пути, товарищи! Пути эти сложны, извилисты, надо, может быть, даже немного спланировать, хе-хе, а не так вот: сразу тяп да ляп… Я ведь, друзья, старый воробей… сорок лет тому назад с народовольцами работал, таким‑то и таким‑то.
От костров вместо жара потекло благостное, приятно согревающее теплецо.
— Мы приветствуем, — сказал почтительно кронштадтец, и оба низко поклонились: желваки на лице у старшего катались и играли.
— С братцем вашего‑то… с Александром Ильичем Ульяновым, которого повесили…
— Мы приветствуем, — истово, вперегиб, накланивались кронштадтцы.
Меж бочек вырос, как внезапное привидение, костлявый, заросший страшным волосом, с белыми от бешенства глазами Фастовец.
— А што нам лавировать! — истошно взревел он, рыща в воздухе свирепо выкинутыми вперед челюстями, тыкаясь ими почти в чесучового ошеломленного старичка. — Шо нам цацкаться, когда уся прохрамма известна! Пущай его бураки с нами копают, если кушать хочут ваши капиталисты. А не могете сами управить, изделайте мине министром, я вам к завтрему уси эти законы назвенькаю!
Старичок отступал и отступал с доброй, растерянной улыбочкой, ища опоры вокруг: он свалился бы назад, если бы его вовремя не поддержали… Кронштадтцы стояли сзади Фастовца, не у дел, пересмеивались с толпой. Митинг кончался. Через минуту старичок, съежившись, усаживался в машину, не оглядываясь назад, а около бочек свалялся кипучий человеческий крутень.
Лобович с шуточной сердитостью добирался там до кого‑то:
— Эй вы, сами сытые, черти, а ребят покормить не надо?
Катясь клубком к кораблю, около Шелехова распахнулась на минуту толпа, и он увидел в середине кронштадтцев, которых вел Зинченко. Никто не смотрел на офицера, ему давили ноги, наперерыв стараясь заглянуть, выспросить о чем‑нибудь кронштадтцев. Блябликов на ходу изловчился, припал к его уху мокрым, горячим, злобным ртом: «Правильно тогда Николай‑то про подлецов сказал… открыть бы немцу фронт… лучше бы было, лучше!..» Но Шелехов не слушал, он поднимался мысленно вместе с балтийцами на трап «Качи», спустился в сумрачный кубрик. Матросам подали жирного черноморского борща — почетный отдельный бак. Шелехов сел напротив и, не в силах сдержать свое дрожное нетерпение, ударил кулаком по столу: «Эх, товарищи… все правильно у вас, да не такими словами надо. Вот как я сказал бы…» И он начал говорить, горя и задыхаясь, едва видя кронштадтцев, восторженно побледневших, забывших ложки у рта… Впрочем, на самом деле, поднявшись на «Качу», он постеснялся даже подойти близко к кубрику и с завистью смотрел на Лобовича, выводившего оттуда кронштадтских ребят и что‑то им деловито объяснявшего. Потом кронштадтцам дали моторку, в которую с ними сел Зинченко и еще несколько счастливцев. Команда с борта и с берега замахала шапками, и шлюпка, в которой оба гостя стояли с непокрытыми головами, завилась по синей, цвета льда, воде.
Из кают-компании тотчас выглянул осторожно Мангалов и, обшнырив глазами палубу, на цыпочках протанцевал в свою каюту. Мимо Шелехова пропыхал, как мимо пустого места, не замечая.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Вечер все‑таки обещал какое‑то забвение. Стоило только вспомнить вечернее небо, завешенное мечтательной бульварной листвой, мирно распахнутые окна этажей, вдыхающие в себя сумеречные отголоски музыки, говор, стук пролеток… Жека ждала в восемь часов на Историческом бульваре. А в семь мичман поднимался по трапу белоэтажного, упрятавшегося в тополи особняка на Морской, где нахлебничали Мерфельд и Ахромеев.
На звонок выглянула хозяйка-адмиральша:
— Молодых людей нет дома, они пообедали и опять ушли в экипаж. Может быть, подождете?
Дама изяществовала улыбкой, красуясь, как могла, заигрывала с мужской молодостью.
— Немного посижу, — согласился Шелехов.
Хозяйка пропустила его, будто нечаянно тесня корсетными своими пышностями, в переднюю. В тускловатой тесноте коридорчика, загруженного вещами, ее стан темнел стройно, шестнадцатилетне. Да, и адмиральша была когда‑то тоненькой и пугливой недотрогой-институткой. А теперь вдовствовала, не покидая своих комнат, и была очень довольна мальчиками-постояльцами, между которыми делила себя поровну (они, смеясь, разболтали это Шелехову), — каждый раз со старомодной кокетливой церемонностью…
В квартире вообще властвовало неописуемое смешение девяностых годов и беззаботно-мальчишечьего распутства и декадентской музыки Мерфельда.
Шелехов затворился в комнате офицеров. Вот жизнь, не похожая на его, каютную! Кувшин с цветами, поставленный с изысканной опытностью, — именно там, где его присутствие больше всего одухотворяло светлую, гигиеническую пустоту воздуха. Раскрытый рояль с нотами (Шелехов заглянул в них с любопытством, — конечно, это был Скрябин); никель и снеговая воздушность кроватей, напоминающих расфранченных горничных. Лакомки-мальчики забыли на столе коробочку с нугой, тут же пухлый том аппетитно-исчитанного, сотнями пальцев излистанного журнала «Природа и люди» за какой‑то старинный год.
…Прийти с корабля, вымыться, залечь на диван, уютно водрузив роман на коленях. И вот иные жизни возникают перед тобой, терзаются, кипят, как бы очертанные из неясного, усыпительного дыма. Мутнеет мир, позабытая в нем какая‑то беда… Даже вещи, которые кругом тебя, не живут, а словно отражены в тихой, зеркальной воде…
Шелехов не удержался, прилег на диван, прикрыв веки ладонями. И правда, тотчас же растворился в убаюкивающей, расплывчатой беспредметности. Словно скинута совсем тесная, неотрывно давившая обувь… Нет, он стал бы, конечно, жить по-другому. В последние дни, приезжая в Севастополь, он привык заходить в читальный зал библиотеки Морского собрания, одной из богатейших библиотек России. Сначала это делалось случайно, чтобы как‑нибудь скоротать время до свидания с Жекой; потом сюда стало тянуть само по себе — может быть, потому, что осторожная тишина, прерываемая лишь шорохами бумажных листов, напоминала отдаленно университет, читальню филологического кабинета, нерушимый высокий мир, в котором он мог всегда спастись от скверных передряг улицы. С первых же посещений он с любопытством накинулся на «Морской сборник», этот замечательный ежемесячник русского флота, о котором раньше лишь понаслышке знал из университетских лекций, из истории литературы: «Морской сборник», официальное издание, по иронии судьбы служившее в 60–х годах приютом оппозиционной мысли, рупором смелеющей общественности. При некотором воображении эти факты можно было ассоциировать с беспокойным духом морей, с голосами буревестников! И разве он, Шелехов, как будто не чужой ни флоту, ни историко — общественной науке, не мог успешно заняться более глубоким исследованием этого интересного, но скудно освещенного исторического эпизода? Это было бы то самое, чему с одиноким услаждением отдавался бы он, если бы жил в этой комнате, успокоительно отгороженной от мира, с окнами, напролет открытыми в сухозвенящие тополя. Ему уже мерещился скелет будущей диссертации. А за каждой дописываемой страницей, слов но за поворотом аллеи, сквозил бы силуэт ожидающей вечером Жеки.
Он разнеженно потянулся и взглянул на часы. Ого, уже подбегало к половине восьмого. Пришло внезапно бурное, обжигающее биение сердца. И воздух неуютно, тревожно потемнел. То же ощущение, которое он испытал однажды во время гулянья на Нахимовской, ощущенье чьих‑то присутствующих незримо, ненавидяще следящих глаз. Были ли то глаза Михайлюка или балтийцев? И почему при этом и белоснежная комнатка Мерфельда и его собственное волнение Жекой, близкой встречей, ощущаются как нечто преступное, обреченное на расправу? Почему? Он не хотел и все‑таки продолжал мучительно думать об этом, уже сходя по лестнице, после прощания с разочарованной хозяйкой. Разве Михайлюк и балтийцы были его совестью? Он хотел жить, не мешая никому, только жить!
Небо болело ветреным, ядовито-красным закатом. Небо из какой‑то постылой, сиротской осени… На тротуаре обогнала кучка матросов, жадно-торопливых, словно боящихся опоздать к какому‑то дележу. Один окликнул мичмана, козырнул, сияя улыбчивыми девичьими глазами.
— Куда, Любякин? — не выдержав, полюбопытствовал Шелехов, не сразу отпуская его ладонь и невольно пробегая за ним несколько шагов. Остальные матросы были незнакомые, с чужих кораблей.
— А тоже туда… в полуэкипаж. На «Пруте» вот были сейчас, балакали. — Горнист чего‑то не договаривал, таил и, стыдясь этого, торопился вырвать руку. — Дела!..
На «Пруте»? Значит, даже этого простодушного парня отняли от него, перетянули? Мельком вспомнилась ночная Таня. Темноты, обволакивающие все события этого дня, сгустились еще более гнетуще, еще опаснее. Нечто тревожное творилось и за улицами, внизу — в закоулках рейда, где тоже пробегали в одну сторону стайки матросов, гнались переполненные народом шлюпки и катерки… Об этом нужно было забыть, не думать. Нижние аллеи Исторического бульвара были почти пустынны, начисто выметены, уютно закруглялись среди лиственных сумерек. Они постепенно, слишком постепенно и томительно вели в счастье… Щеголеватый матрос с саженными плечами и талией в рюмочку, стоя молодцевато, любезничал с хихикающей барышней в газовой повязке. Он презри тельно и без внимания пропустил мимо себя мичмана. И все это миновало, как в сновидении.
А Жека, оказывается, пришла раньше, — близоруко наклонясь над чем‑то, скучающе двигалась на фоне бастионов и белых цветников в верхнем кругу.
— Черт возьми… если б я знал, я бы давно… — Шелехов почти задыхался, увлекая ее за руку к скамье.
— Вы уж не так много потеряли!
— Но я вас еще ни разу не видал при свете, все только в сумерках или ночью. Я даже не знаю, какое у вас лицо. Когда же вы мне покажете его, Жека?
— Заслужите сначала.
— Как?
— Как‑нибудь заслужите!..
Она нарочно дурачилась, всегда говорила такие пустяки, как ребенку, и этим держала его в руках. А он хотел видеть другую, настоящую, которая могла плакать или лепетать слабеющим голосом, прижимаясь к нему, как к защите. Но Жека каждый раз увертывалась, ускользала в свой ручьистый, казнящий его смех.
Они присели; пальцы их тотчас переплелись. О, забаву с пальцами она допускала без возражений, полуотвернувшись в сумрак — не то думая там о своем, не то издевательски покусывая губы от смеха. От смеха над таким мямлей, как он! Мимо кружилась редкая полушепотная карусель гуляющих, иные подходили совсем близко, оглядывались назойливо на них, с виду очень любовно прижавшихся друг к другу. Шелехова вязало и злило это любопытство.
— Пойдемте отсюда, — потянул он Жеку. — Здесь кругом глаза.
— Они же нам не мешают, — удивленно возражала Жека.
Он все‑таки заставил ее подняться. В аллеях, в густые кущи которых они спустились, укрывалась позолоченная закатом, неестественная ночь. Оттененные тишиной призраки каких‑то далеких криков чудились в воздухе. Может быть, именно они заставили Шелехова залихорадить, заторопиться, почти грубо усадить Жеку куда‑то в темноту, на первый попавшийся диван. И тотчас же наболелое прорвалось через все плотины, хлынуло, — он припал к ней, ища обнять ее. И уже не мог оторваться от дрожащих, ужаснувшихся губ, выдыхал в них всего себя, как ему казалось, — потерянного, с последним отчаянием протягивающего руки. Он хотел расплавиться, не слышать мира…
Но все‑таки услышал: с соседней горы, из полуэкипажа обвалом упал тысячеголовый стон, растекался и глох над Севастополем.
* * *
Членов исполкома вызвали срочно в Совет, даже Маркушу, которого машина неистово промчала меж голых, выжженных бугров побережья, трубя что есть мочи, и трубным, Натужным воплем своим пересиливая багровый крик заката.
Для приехавших и прибывших собственно было неясно, в чем дело и зачем эта внезапная бестолочь и спешка. В частном разговоре насчет балтийцев Маркуша, затягиваясь папиросочкой, осторожно предложил даже «заарестовать». Но, помимо всего, балтийцы были неуловимы. Никто не знал, где они. Кто‑то сказал, что идут митинги на опальных кораблях — «Синопе» и «Трех святителях» — или где‑то на рейде, около «Жаркого». (Это было вполне вероятно, так как по ходатайству командующего военный министр распорядился вывести «Жаркого» из строя и зачинщиков беспорядков предать суду, «Синоп» и «Трех святителей» разоружить, а команду списать в отдаленные порты: вот почему матросские зубы скрипели…).
Прошел даже неладный слух относительно адмирала. Из исполкома в беспокойстве звонили на адмиральский «Георгий», но флаг-капитан ответил, что командующий отдыхает и все в порядке. К вечеру были получены определенные сведения, что митинг идет на «Синопе» и балтийцы там; что разлагающая пропаганда, вследствие недовольного настроения разоружаемых команд, принимает опасные размеры. Делегаты исполкома тотчас же вышли на рейд на моторном катере. Однако «Синоп», поставленный к стенке, был пуст, только вахтенные, ехидно ухмыляясь, поплевывали в воду…
Лишь к сумеркам делегатам удалось разыскать митинг во дворе полуэкипажа. Такого многолюдного сборища флот не видел, пожалуй, с самого переворота. Около десяти тысяч матросских голов бурно колыхались под помостом, на полутемном плацу.
Делегат, обширный телом, смирный и пожилой, должно быть, из писарей, озабоченно мигая, растопырил усовещевающие пальцы над толпой:
— Товарищи, прошу слова!
Человечья волна шагнула вдоль казарм. На гребне взмыло озорное улюлюканье, рев, свист.
Балтийцы? Нет, даже следа их нигде не было видно…
Черноусый, с угляными глазами, с надписью «Прут» на фуражке, развязно, по-хозяйски загородил собой делегата. Буря свертывалась, тишина от одного пристального, пережидающего его взгляда. Черноусый сказал:
— Дадим товарищам слово, послушаем, что сбрешут.
Непримиримое ворчанье подымалось кое-где, угрюмело, хотело встать на дыбы, в крик. Но иные голоса настойчиво кричали:
— Дать, дать!
— А пущай брешут!..
Делегат выступил вперед, неторопливо скинул бескозырку, степенно погладил волосы. Он не сомневался, что одичалое, враждебно примолкшее под ним человечье море через минуту подобреет, начнет орать: «правильно».
— Товарищи, мы — ваши выборные представители, которых вы сами послали для дела… революции в Совет… От имени исполкома мы предлагаем вам всем немедленно разойтись.
Гневные вопли и свист опять прорвались со всех сторон. Безликий народ, давя в сумерках друг друга, грудился все ближе к помосту, копился грозой. Какой‑то костлявый, с закаченными в припадке белками, задохнувшись, выворотив нечеловечьи огромные зубы, карабкался наверх, стараясь уклещить пальцами ноги делегата. Тот осторожно отступал… Черноусый снова вышел на край, но и его уже не признавали, топили в гаме, в поднятых кулаках.
— Эй-ей! Да стойте вы, пущай все сразу выкладывает, ухи‑то у вас не отвалятся!
Делегат изловчился, просунул свой голос в случайно набежавшее затишье:
— Вы протестуете против офицеров, против командующего, но здесь не место, товарищи, устраивать суды и критиковать, вы приходите к нам, у вас есть свои выборные товарищи, которым вы доверяете…
— Хто тибе выбирал, хад!
— За ахвицеров вы заступники.
— Колчаку… лижете!
— Наел мурло на сутошных!
— Долой!
Делегат гнул свое:
— Предлагаю, товарищи, не позорить флаг своими выходками и разрешить все недоразумение у нас, на пленуме исполкома.
— Долой!
— Разогнать всех к матери!
Костлявый карабкался на помост, хватал делегата за ноги со взрыдом:
— Ты мине правило скажи! Ты правило скажи, ето какая же свобода? Ето, чтобы опять над матросом с аншпугом стоять?
Лихой матросик с «Гаджибея» выскочил, развесело хляпнул себя по блинчатой фуражчонке:
— Как же ето ловко, братцы, прямо округ пальца нас, как тех баранов, крутят! Кожу у порту разворовали, так подожди до приезду товарища Керенского, тогда разберемся. Товарищ Керенский приехал, конечно, мы, как бараны, покричали, покричали и генерала Петрова сейчас на свободу, как неприкосновенную личность ахвицера. Хапай, значит, валяй дальше! Теперь нас на бойне сорок человек поклали ни за што, а как матрос корячиться начал, сичас пожалте на Дунай, к генералу Щербачеву, под первые пули. Ето как? Значит, ахвицерам и воровать и все можно, а матрос — ша, молчи в тряпочку? За что же тогда, братцы, мы Миколашку уволили?
Делегаты, пошептавшись, куда‑то стерлись…
Теперь уже другие — тяжкодумные, решительные, раньше сурово лишь присматривавшиеся, подступали к помосту:
— Долой ахвицеров!
— Колчака заарестовать, и никаких!
Кочетиным визгом выломилось из толпы:
— А как заарестуешь, у него револьверт, он тебе пригладит, пробывай, заарестуй!
— Снять цацки с усих!
Черноусый с «Прута» вкопанно темнел на помосте, на потухающей прозелени неба.
— Значит, товарищи, постановление всего собрания… кораблей и команд: немедленно отобрать оружие у офицеров.
— Прра…вва!
— А адмирала Колчака, как явного…
Под сумятицу непрошеный какой‑то взгромоздился рядом, без шапки, с понуро висящими руками, гнусаво хныкал:
— Етого мало, братцы, што отобрать… Вы спросите, за што они мине на страсть послали? Сверху там бьеть, снизу бьеть, с воды бьеть, с‑под земли, братцы, бьеть… Куда деваться живому человеку? А как я к етому скорпиену утром пришел — мине, говорю, жрать нечего, и я про- контуженный весь наскрозь, што он мине, братцы, сказал? Постой, говорит, пока на палубе, я еще маненько в постели поваляюсь!
…Вот тогда — не хотел и услышал Шелехов над Севастополем непонятный и шевелящий волосы рев.
Но не все ли равно было, на кого двинулись там?..
— Мичман, довольно! — старалась строго пролепетать Жека, боязливо гладя ему ладонями плечи, грудь.
А губами сама прижималась, вздыхая; и ей было приятно, забвенно, — может быть, против воли?
— Слышите, Сережа: не мучайте себя. Все равно ведь никогда, никогда…
Он оторвался от нее и прислушался с недоверчивым ужасом. Это не ему, а кому‑нибудь другому?.. Лицо Жеки лежало у него на плече, он видел черное сиянье стиснутых ее ресниц, чужих прекрасных ресниц, таких непереносимо прекрасных, что хотелось плакать. О, как могильно пустел мир!
— Нам нужно поговорить. — Она встряхнулась, начала зачем‑то рыться в сумочке. — Вы знаете, что я очень рада с вами встречаться. Вы — культурный человек, не то, что наши лейтенанты и поручики, с вами интересно быть… ну, не сжимайте же так драматично виски, ха-ха-ха! Я даже скажу, что вы для меня единственный интересный человек в Севастополе…
(«Значит, правда: любит того, того?..»)
— Мне, пожалуй, приятно, когда вы меня целуете. Видите, какая я откровенная. Но я прошу вас, Сережа… Я не имею права. Можно какие‑нибудь маленькие шалости… это другое дело. Вообще, ничего серьезного не может быть. Хороший мой, я не девушка…
— Зачем вы это говорите?
Его била отвратительная, надрывная лихорадка. К чему же было все? Города, громоздящиеся впереди, как золотые облаковые обвалы? Смеющиеся глаза, победительно приветствующие жизнь? Нет ничего, кроме мокрой полночной, мерзко сияющей панели и бегущего, секомого дождем человечишки на ней, воспаленного дрянными, самоутешительными мечтаньицами.
Жека беспокойно приблизила к нему лицо:
— Сережа, как не стыдно… слезы. Вы же офицер! Господи, — с насмешливой горечью вздохнула она, — почему вы все такие одинаковые?
Щипала ему щеки, старалась рассмешить, испуганно ласкалась:
— Ну, хорошо, я буду вас любить… Может быть, когда‑нибудь под настроением… приласкаю совсем. Слышите?
— Можно ли так говорить, Жека? — печально упрекнул он ее.
Она уже хохотала, заманивала его опять в жизнь, в мучительские свои игры:
— Да, да, когда‑нибудь! Когда очутимся где‑нибудь… в комнате. Ведь нужны удобства, ха-ха! Ну, устройте, например, нам путешествие в Одессу. Вы говорили, ваш «Витязь» собирается туда?
— К нему? — с нехорошей злобой спросил он.
— Глупый, у меня в Одессе мама! — и близились, близились смеженные от смеха, перечеркнувшие вкось лицо ресницы, теплая ее грудь, уже покорная, желающе-поддающаяся…
Светлячки матросских цигарок гуляли за кустами, вспыхивал там и сям пискливый смех марусек. Впрочем, то светились не цигарки, а прямо под кустяным обрывом кишела шлюпочными огоньками ночная пропасть рейда, по которому сновали туда и сюда, развозя с митинга братву, моторки, катера, шестерки. Кое-где, по беспечности не задраенные ожерельными цепочками, горели глазки судовых трюмов. А самые недра кораблей полнились в этот час необычно праздничным электрическим светом, ботаньем ног, галдежом.
* * *
На трапе «Витязя» ночью, когда Шелехов возвращался с катера, нерешительно окликнул его — должно быть, уже давно поджидавший — электрик Опанасенко:
— Господин мичман, тут эти дураки одну утопию развели. Поговорить бы мне с вами надо… Да я не сам, меня как члена судового комитета послали.
— Идемте в каюту, — предложил Шелехов. Бессвязные мысли вроде зубной боли мутно опутывали его, каждый шаг ступал куда‑то в пустоту, бесцельно.
— Верно, в каюте лучше, — радостно согласился Опанасенко.
Шелехов, мучительно хмурясь, открыл свет, повел на матроса скучные, вопрошающие глаза. Тот торопливо и виновато заулыбался:
— Так что сделано, господин мичман, постановление отобрать оружие у всех господ офицеров. Я вам, конечно, и расписочку дам… Да это и не навовсе, вы не думайте, они через три дня опять взад отдадут!
…Так же было когда‑то в полночных, настежь распахнутых чужой рукой юнкерских дортуарах. Все повторялось. Жизнь снова вступала на грозный порог.
Шелехов все‑таки вяло протестовал:
— Но ведь команда мне доверяет… И всегда доверяла. Я же не какой‑нибудь Мангалов, а член бригадного комитета, смешно, господа!
Опанасенко конфузливо переминался с ноги на ногу:
— Да ведь что поделаешь с идиотами, господин мичман! Постановление сделали, чтоб обязательно у всех. А вон командующего, адмирала Колчака, и вовсе заарестовать хочут. — Опанасенко наклонился к Шелехову с негодующим шепотом: — Все энти, которые с Балтийского, намутили… демократы!
Шелехов, пожав плечами, отстегнул с себя кортик, подал матросу; потом снял со стены палаш. Опанасенко принял от него оружие с жалобным вздохом. Мичман открыл ящик стола, где лежал браунинг.
Его пальцы погладили в последний раз желобки черного, изящно отшлифованного дула. Сердце сжалось вдруг зябко и грустно. Это было, пожалуй, последнее, что осталось от Шелехова-офицера, от торжественных огней Таврического дворца, венчавших его так недавно на новую жизнь. И все это должно было закончиться только вот так?
Он угрюмо сказал:
— Может быть, револьвер вы мне все‑таки оставите? Это память о школе, и мне было бы очень тяжело…
Опанасенко вздохнул еще жалостнее:
— Так вы и не давайте, господин мичман, тольки спрячьте подальше, как все равно его и не было. А что, правда, на этих идиотов смотреть. Им хучь все отдай… они возьмут.
Шелехов стыдливо жал ему руки, благодарил.
— Вы не бойтесь, господин мичман. Я‑то никому…
Нечто заставило обоих оборвать слова, прислушаться.
За бортом пронесся неясный гул, в гущине которого лопались гулкие пузыри, наверно — выстрелы. Опанасенко, тревожно вертя головой, пятился к двери:
— Шо это?
Наверху, на палубе, будоражно затопало, будоражно побежало, потрясая потолок кают. Шелехов, вслед за Опанасенко, выскочил в ночь прямо в толкучку ополоумевших, неведомо куда мчавшихся матросов, едва не сшибавших его с ног. На берегу, под «Витязем», шумело невидимым народом, одурело бегали фонари. Шелехова, на ощупь махающего руками перед собой, столкало вместе со всеми по трапу.
— В чем дело, товарищи? — спрашивал он на бегу, поворачиваясь то к одному, то к другому.
Никто не успевал ответить. Слух ловил только отрывисто задыхающиеся разговоры:
— Еще бы… сукин сын, одну минуту… от всей бухты камня на камне…
— Собаке собачья смерть!
Жуткая догадка мелькнула у Шелехова, остановила дыхание. Не мальчишка ли Винцент рехнулся и попытался выполнить свою дикую угрозу? Минный погреб на «Каче»… Вероятно, когда стали отнимать оружие?.. Казалось, в темных грудах тральщиков, в фонарях, в суматошных голосах повис тошный, заунывный вопль. Что же делать? Прежде всего ярость толпы обратится, конечно, на растерянных, затертых среди нее офицеров. Звериный дых, кровяные глаза в упор…
Первым движением было — податься потихоньку за сараи в темноту, в степь, а там… Но два скользких крепких плеча стиснули его с обеих сторон; в затылок тоже близко дышали, кто‑то положил ему руки на плечо. Оковав кругом, несла в себе напруженная, ощетинившаяся перед какой‑то бедой теснота. Правда, так было минуту-две, потом она распалась, можно было высвободиться, уйти. Но Шелехов понял, что не уйдет, что не может уже дышать без ее тепла, он жался к ней инстинктивно, потому что уйти было страшнее, это значило объявить себя по другую сторону, вместе с Винцентом, сроднить поневоле и свою жизнь с чужим, отвратительным ему делом… Нет, что бы ни случилось, он обязан был остаться здесь, до конца остаться достойным того Шелехова, которого вчера возвышала, как знамя свое, эта страстная, полуребячья, мятущаяся толпа.
Нарочно сам поторопился обнаружить себя, выбраться на свет. Совсем невесомый, не касающийся уже земли.
— Неужели?.. — спросил он (он хотел спросить: «Неужели в самом деле была возможна такая подлость?» или что‑то в этом роде), но голос оборвался, тонкий и слабый, как у ребенка. Чуть не споткнулся — о береговую тумбу, что ли? Шелехова осторожно отталкивали назад, чтобы не наступил на человека, который оказался у него под ногами. Он присмотрелся… На мостовой, в свете прыгающего оголтелого фонаря, в одном белье корчился и вздыхал Иван Иваныч, командир с тральщика «Елпидифор». С него стекала вода, зубы лязгали. Он дрожмя выталкивал из себя одно и то же:
— Михайлюка… убили… а я вплавь, а я вплавь!
Суматоха начала разъясняться понемногу… Матросы продолжали галдеть по берегу, с руганью и давкой осаждать темный «Елпидифор», но это больше не ужасало. Событие действительно произошло дикое, но не с мичманом Винцентом, а с Михайлюком.
Качинские, первые свидетели случившегося, собирая около себя кучки, наперебой рассказывали.
Вернувшись с митинга, Михайлюк пришел на «Елпидифор», где служил до «Витязя», и, вынув нож, стал бегать за матросами, чтобы кого‑нибудь зарезать. Матросы попрятались, а командир, Иван Иваныч, как был — в одних кальсонах, ходил везде за ним вплотную, льстил и смотрел ему в глаза, чтобы Михайлюк его не забыл и не ударил, дал ему выпить воды, и Михайлюк немного отошел. Но скоро помутнел опять, разогнал матросов, зарядил судовую пушку, стал наводить ее на минный трюм. Вся команда с «Качи» и с соседних кораблей бежала в панике на берег. Иван Иваныч, которому Михайлюк отрезал отступление, полез с тральщика по канату, но сорвался в воду и добрался до берега вплавь. Михайлюк подошел к борту посмотреть, как все это случилось, и заодно помочиться, а вахтенный с «Качи», прокравшись в это время к орудию, разрядил его и выбросил снаряд в море. Тогда Михайлюк полез в трюм за вторым; но под люком его уже ждали вахтенный и несколько матросов с кувалдами. Вахтенный убил его выстрелом в спину; потом выстрелил еще три раза в лежачего и начал колотить кортиком; другие матросы били труп кувалдами и за волосы — головой о палубу. Ночью изуродованные останки Михайлюка вытащили с тральщика и бросили в свалочную яму, за береговой канцелярией.
Здесь труп валялся три дня, потому что хоронить его матросы запретили, угрожая самосудом.
На четвертый день на автомобиле приехал из Севастополя Маркуша с двумя членами исполкома и созвал команду на митинг. Маркуша возвысился над толпой, мужественно выкатил грудь и пощипывал дрожащими пальцами бело — красную повязку на рукаве.
— Товарищи! — сказал он. — Товарищи, я насчет… Михайлюка. Я рассуждаю, что он все ж даки был матрос… и все ж даки православный… нехорошо так, товарищи!
Матросы равнодушно слушали; некоторые даже с ругательством, смешливо скалились: ярость их уже отбушевала. То было первое выступление Маркуши как члена Совета. К вечеру же Лобович вместе с вестовыми отвез труп на кладбище.
Разоружение офицеров на кораблях прошло спокойно. Только в полуэкипаже, не перенеся бесчестья, застрелился мичман Жужель. Но адмирал Колчак не пожелал отдать матросам своего георгиевского оружия. Выстроив команду на палубе «Георгия», он кричал ей слова, полные гнева и упреков. На глазах матросов мечущийся человечек подбежал к борту и, переломив о колено свою саблю, кинул обломки в море. То был последний, рассчитанный на обаяние, жест бесстрашия и одиночества. Но команда, вытянув руки вдоль белых штанов, мигала бесчувственно.
На другой день Временное правительство по телеграфу вызвало командующего в Петроград, якобы для немедленного и подробного доклада о бунте. Сделано было вовремя, потому что судовые комитеты заседали весь день, обсуждая вопрос об аресте Колчака. В полночь на вокзале наиболее приближенное и именитое офицерство провожало адмирала. Когда пробил третий звонок и адмирал, передав адъютанту прощальные цветы, поднялся на ступеньку вагона, один из провожающих крикнул:
— Мужество и доблесть, сознание долга и чести во все времена служили украшением народов. Ура!
Но и это не рассеяло мрачной насупленности командующего.
Адмиралы и каперанги, в горести шатнувшись за отплывающим вагоном, проревели «ура» покинуто, враз — брод… Поезд пополз по каменистой спирали, в предгорье, к Аккерманским туннелям, минуя звездное море у самой воды, из которой мглились усыпленные корабли, флот.
Часть третья
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Около радиотелеграфной рубки на «Каче» два дня ходили на цыпочках. В московских газетах о событиях пока не было ни слова — не дошло. Все происходящее оставалось грозно-неопределенным. Северные радиостанции передавали что‑то путаное, изорванное пропусками и паузами. До пояса голый, взмокший, измотанный телеграфист то и дело через иллюминатор взывал бешеным шепотом к вахтенному:
— Топайте тише… духи чертовы!
Капитан Мангалов, озираясь, лазил по офицерским каютам, каждому сипел из‑под ладошки:
— В Петрограде‑то… вот резня, слыхали?
После угрюмых сентябрьских штормов октябрь пришел необычно тихий, прелый, пасмурный. Росились неслышные, нагретые зюйд-вестом дожди. Распаренная земля раздышалась, забродила, захотела рожать сызнова. Из‑под травяного перегноя полянками выметывало моложавую молочную сыпь. Над бухтой, на придорожной сиротской сиреньке нежданно набухли почки, в парном тепле октября она готовилась к новому неурочному цвету. Можно было подумать, что май вернулся, медлил где‑нибудь поблизости, за туманной светлотой пригорка…
Но стоило только подняться повыше — на не просыхающую от дождей палубу «Качи», чтобы по железному, нерадостному цвету моря увидеть, что лето похоронено навсегда. В бессолнечном, как бы вечно вечеровом свете, зябко приторочились к берегу тральщики. От безделья и Шелехов вслед за другими офицерами пристрастился удить со шлюпки. Рыба прижилась около кораблей стаями, кормясь отбросами и нечистотами из гальюнов, — а всего этого было в изобилии, потому что люди от скудной, не скрашенной ничем жизни ели в ту осень много, походя, с какой‑то тоскливой прожорливостью. И бычки в зелено — мутном бульоне омута под «Качей» ловились споро и во множестве, лоснистые, жирные. Их с азартом насаживали на кукан, хвастаясь друг перед другом, но не ели, а уходя на корабль, равнодушно выкидывали в воду.
В радиограммах, перехватываемых из Петрограда, сообщалось отрывочное и противоречивое. Пока было только известно, что анархические солдатские скопища разгромили государственный банк, почтамт и прервали заседание правительства. Столица погружалась в темень развала, междоусобного побоища… Даже Центрофлот и севастопольский исполком, захваченные врасплох, пребывали в растерянности. В катастрофу, в конец многие, однако, не верили. Несомненно, у правительства, несмотря на его прекраснодушную дряблость и гуманность, был все‑таки некий незыблемый железный запас, который мог быть пущен в дело в крайнем случае. Там, на севере, имелись еще сумасшествующие Керенским части, наконец, великолепно по-старому вышколенные военные училища, — наконец, существовала еще Россия и в ней достаточно граждан, безыменных, но стойких и способных на все, если дело коснется их имущества, семейств и порядка.
Так думали в рубках, в кают-компаниях.
Однако 26 октября от командующего флотом, осторожного адмирала Саблина, и генерального комиссара Черноморского флота, эсера Бунакова, был получен на молчаливо выжидающих кораблях приказ по радио:
«Всем.
Вследствие отсутствия точных сведений о том, что происходит в столице и на фронте, предписываю впредь до образования Черноморского революционного комитета исполнять только распоряжения Черноморского центрофлота, к которому я присоединяюсь».
Приказ стрясся, как беда. На «Каче» в беспокойстве побросали удочки. Сам командующий сигналил флоту о тревоге. Значит, «там» не могли сдержать, значит — прорвались, катится на самый Севастополь?
Прелый, серенький, совсем не подходящий к громким событиям денек окрасился грозной заунывностью. Даже мачты тральщиков, вчера такие серые, захолустные, торчали в приземистое парное небо настороженно… Офицеры, чадя табачным дымом вдвое гуще обыкновенного, не расходились из кают-компании и после обеда.
Неприметный Иван Иваныч, стяжавший себе все- бригадную известность после случая с Михайлюком и балтийцами (фамилия его оказалась Слюсаренко), выразился внушительно:
— Междуусобная война.
И с раздумчивым, знающим видом погладил мохрявые семейственные усы. Но и эти слова никому ничего не пояснили.
Шелехов хмуро молчал, привалившись к столу, возле Лобовича. Мутило голову от надсадного куренья. Только и слышалось назойливое: «Н-но я не понимаю, господа!..» Не лучше ли бы уйти отсюда на воздух, на мокрые бугры, к морю, одиноко вникнуть в него, стать как бы самому частью этой беспредельной, чуть дымящей закинутости, прислушаться, как бродят в ней смутные и большие ответы… Только что на трапе «Качи» столкнулся с Мангаловым, который почти не разговаривал с мичманом после памятного приезда балтийцев. Капитан одышливо остановился перед ним, багровомордый, ощеренный, озорной. «А ваша‑таки берет, хы-хы!» Оставалось только пожать плечом.
— Н-но я не пони — маю, господа!
Кругом сипело сразу несколько глоток — нарочно приглушенно, чтобы не раздражать радиста за стеной. Мир и хлеб? Но какое отношение имело это к Черноморскому флоту? Хлеба же а Севастополе вдоволь! Правда, уже не белого, а серого, черство-ноздреватого, но все же это был пшеничный хлеб, — зайдите в любую кондитерскую на Нахимовском, вам сейчас же дадут стакан кофе и розетку масла и хлеба сколько угодно. А матросский борщ! У кого из господ офицеров не текут слюнки, когда в двенадцать проносят в каюту к капитану Мангалову судок с жирной пробой?
— Н-не понимаю, господа…
— Война? Но где же у нас война? Четвертый месяц флот стоит на бочке, тральщики однажды, в неделю выходят в контрольное траление, чтобы расчистить дорогу для гидрокрейсеров «Георгия» или «Ксении». А чем занимаются эти гидрокрейсера? Сгуляют себе в Трапезунд, скупит там команда по дешевке сотню пудов сахару, награбленного из провиантских складов Кавказской армии, а потом, ошвартовавшись где‑нибудь в тихом местечке под Севастополем, откроет торговлю. До чего дошло! Спросите матроса — он вам скажет: «Дай, боже, чтоб подольше такая война!..» Посмотрите на эти шикарные клеши, на фасонные кофточки. Не флот, а кафешантан… Это война, господа?
— Что там еще? Вся власть Советам? Да, господи, кто же теперь у нас власть, — офицер, что ли? Совет, Центрофлот, бригадный, судовой комитет, — эх, не одна, с позволения сказать…
— Тссс…
— Подождите, что еще Бунаков про власть Советам скажет.
— Бунаков, Бунаков…
Свинчугов особенно яростно выбрехивал эту фамилию, непристойно переиначивая ее на всякие лады.
— Там вон еще неподалеку… Каледин есть… он что скажет!
Лобович с напускной сердитостью стучал трубкой по столу:
— Язык, язык в штропку завяжи, старая мотня!
— А я думаю, господа, к черту всю эту лавочку, махнем куда‑нибудь, хоть в Новороссийск, писарем в порт. Лучше, чем здесь утирать плевки с собственной физиономии… да и, ха — ха, демократичнее!
Это Винцент заявил с беззаботным ухарством, покачивая спинку шелеховского стула. Мичман частенько жаловал теперь в нижнюю кают-компанию, предпочитая ее грызучий, злой воздух чинной скуке скрябинского верха… Шелехова угнетала неспокойная, ерзающая сзади чужая тяжесть.
— Вам хорошо, у вас дядя в Новороссийске начальник порта. Вам‑то хорошо!
Хилый золотозубый Анцыферов, командир большого «Трувора», по стародавней привычке (немало погнул спину на своем веку, пока пропер в командиры из шкур) заискивающе ладился к баричу:
— К Каледину под крылышко, мы понимаем. Кому неохота!
Один Свинчугов, потаенно недолюбливающий мичмана, вздыхал непоощрительно и ядовито:
— Как же это так, молодой человек! А еще корпус проходили, значок имеете, о героях любите говорить. Мы — флот, мы — флот! А чуть что до флота коснулось, хвост в зубы и к дяде на печку? Мы вот, черная кость, царю-отечеству по тридцати лет отхропали и то сигать не собираемся. Капитан уходит последним, вас этому не учили, молодой человек?
Скрипучий голос его увяз в неловкой, пристыженной тишине. Свинчугов вдруг спохватился, пустил добрейшие смешливые морщинки по лицу: конечно, все это была шутка, шутка! Мичман ведь не свой брат, а белая кость, адмиральская родня… Кто знает, как через месяц, через два повернется жизнь?
Пряча смущение под всегдашней дурашливостью, совал руку в шелеховский портсигар.
— Вот табачок у молодых людей — это табачок. У меня самого лет тридцать назад, едри его, такой рос…
Блябликов, заминая неловкость, грациозно возражал мичману.
— Но что же писарем? Конечно, может быть, и спокойнее, но жалованье тоже возьмите. При нынешней дороговизне и на наше жалованье с семьей невозможно.
— Подумаешь, жалованье! — насмешничал мичман. Скривленные на спинке стула волосатые нежные пальцы посинели, дрожали, что было не к добру. — Что такое вообще деньги? Сегодня это деньги, а завтра девальвация, вот вам… Я, господа, из достоверных источников знаю, у меня брат в министерстве, писал…
Свинчугов сразу зарозовел, почуяв ехидство по своему адресу.
Офицеры тоже поняли, в чем дело, озорновато переглянулись и притихли в ожидании удовольствия.
Мичман вздыхал с притворной горечью:
— Девальвация, господа, увы, — факт, не сегодня-завтра. Что же, давно надо было ждать. Хорошо, если хоть по копейке за рубль дадут, это еще спасибо. А то, пожалуй, посоветуют, у кого их много в запасе, употребить на гвоздик в гальюне. Да, не завидую я тем, у кого бумажки в сундуке.
Из пепельницы жар брызгал от притушиваемой Свинчуговым папиросы.
— Нехорошо, молодой человек, нехорошо…
Изъеденные морщинами щеки полыхали, как только что распаренные в бане, кадык трясся.
— Ну что тебе я сделал, а? Ты меня, сукин сын, два месяца отчуждением земли травил, я, можбыть, через тебя, сукина сына, за полцены ее татарве спустил, а теперь девальвацией меня до петли довести хочешь? На‑ка вот, укуси… Я ее тридцать лет хрептугом, молокосос!
Лобович гневно бил кулаком по столу:
— Господа! Господа!
— Позвольте… какое вы имеете! — визжал мичман, выплясывая, лягая ногой пол. — Позвольте, какое он имеет… Позвольте, я требую удовлетворения!..
Свинчугов со зловещим пыхтением сбросил с себя шинель, засучил рукава у кителя.
— Сичас… я т-тебя… удовлетворю…
Офицеры повскакали, разом загамели, захлястали ладошками по столу, больше, конечно, злорадно-довольные, чем возмущенные… Растревоженный, плаксиво оттопыривший губы радист лез через дверь в середину гама:
— Господа офицеры, тыщу же раз говорил… И так, всамделе, Париж весь день перебивает. Там кадетам во Владимирское училище ультиматум послали, а вы, всамделе, принимать не даете!
Блябликов уже увивался около со льстиво-изумленным лицом:
— Какой же, дружище, ультиматум?
— Во Владимирском восстали, не желают власть Советам подчинять. Известно, барские сынки, кадетская сволочь!..
Радист пояснил обиженно, но с видимым едким удовольствием.
О ссоре сразу забыли. Да и привыкли: за последнее время то и дело вспыхивали такие взаимные грубые перепалки. Удушьем напитывалась благодушная с виду бригадная тишина… Для Шелехова новость тоскливо-остро запахла вчерашними петроградскими улицами, вчерашней жизнью. Он знал это училище, в котором готовили прапорщичье убойное мясо из недоучек и первокурсников; владимирцев еще презрительно именовали «шмаргонцами».
Так вот о ком сейчас летели радиограммы через всю страну!
Непоседное томление вытолкнуло его на шканцы, в серое надморье. Несомненно, в судьбе многих зрели смутные перемены. Портрет Александра Федоровича, полубога, стриженного под ежик, еще утром осторожно убрали из кают-компании.
Мимоходом мелькнула глубь радиорубки, в сумраке которой верезжали и вспыхивали смертельные молнии. То металась отраженно проходящая где‑то буря. В роковой гущине ее крутились гибнущие бледные шмаргонцы. Такие же, как год назад Шелехов…
И, может быть, чтобы укрыться от них, от самого себя, кинулся на спорщичьи голоса, к доносимому ветром украинскому говорку нижней палубы.
* * *
Там тоже не угомонилось после обеда, то и дело грохало внизу по чугунным плитам медвежьими ногами; в кубриках, в камбузах, на палубах завивались человечьи вихорки. На баке Фастовец, как всегда, разглагольствовал упоенно среди десятка бездельных парусиновых рубах:
— Шо ж они такое нам кричат: усю землю тем… хлеборобам, хвабрики и заводы — рабочим. Значит, шо хрестьянин на своем шматке наробит, то себе, а шо рабочий на хвабрике исделает, то тоже себе. А потом… менка? Так де же воно равенство? Ты сосчитай, скольки рабочий за свое выручит, скажем — за шелк там иль за сукно… и скольки наш брат, хлебороб, на тех бураках. Спасибо вам скажут хрестьяне за такую прохрамму!
Сзади вис на матросских спинах красиво озорной, с девичьим румянцем во всю щеку сигнальщик Любякин:
— Да кто ж тебе сбрехал, что каждый себе?
— Кто? Прохрамма большевиков, — не сдавался Фастовец; узнав подошедшего к толпе Шелехова, улыбнулся ему одной половиной лица конфузливо-добродушно.
— Слыхал звон… Программа партии большевиков говорит, чтобы все шло на один котел, что от рабочих, что от крестьян… А потом, что каждому надо, из этого котла себе берет.
— Эге-ге-э… Так я себе из котла нахватаю, шо хочу, а шо другому останется? На яких дурней ту прохрамму составляли?
Фастовец с насмешливо — разочарованным видом скреб у себя в затылке:
— Так вот за шо уся драка взялась.
Любякин разозленно мигал:
— Ты же социалист?
— Мы уси социалисты. Чего ты мине допытываешь?
— Ну, какая есть идея социализма?
— Ну?
Фастовец, сбычившись, запутался, вспотел. Теперь Любякин наступал, широкий, басовито-горластый.
— Спрашиваешь, за что драка. Ты кто сейчас? Как был при Миколашке, так и остался. Буржуазный ошметок. Гляди, какая на тебе шкура, — потрепал засмоленный корявый рукав Фастовца. — А при социализме будешь человек.
«Где это он, на „Пруте“, что ли, набрался?» — подивился ревниво Шелехов. Многое изменилось во флоте с лета, и то, что едва зачиналось когда‑то на тайном собрании на «Пруте», где присутствовал и Шелехов, должно быть, разрослось теперь, расширилось в темное, скрывающее свои имена многолюдье, а может быть, и перекинулось с «Прута» в другие корабельные подполья. В разговорах, подобных сегодняшним, нет-нет да выполыхивали подземные огни…
Подкалывало — выскочить наперекор, разнуздать бывалую свою силу. Что перед нею лепет этого паренька! Да и матросы все время поглядывали на мичмана ожидающе.
Решился:
— Но, товарищ Любякин… мне кажется, вы немного мудрите. Ведь борьба идет пока только за власть… которая потом переустроит государство по-своему… еще неизвестно, как оно выйдет! Большевики, например, обещают сейчас народу простые вещи: хлеб и мир…
Любякин заалелся, но не уступал:
— Я ж то и говорю… Что такое есть идея социализма? Что такое? Это есть мир… Ну, возьмите наш флот…
Матрос едва не запутался, но тотчас же ухватился за что‑то прочное, видимо — столь победительное, что глаза заранее заискрились:
— Ну, возьмем флот… Когда мы устроим по всей России социализм, то мы все пушки и минные аппараты с флота посшибаем к черту, а оставим одни кузова с машинами: пускай пшеницу перевозят промеж разных портов, куда нужно, — вот вам социализм!
И сплюнул наотмашь, с торжеством. Шелехову стало неловко. В первый раз матрос посмел перечить ему в споре; и слушатели с явным ядком и задором взирали на мичмана: как‑то отгрызется? Нет, ему совсем не к лицу было ввязываться в публичную кочетиную схватку, поглазеть на которую стекались новые и новые любопытные, в том числе и свои, витязевские (вон писарь Каяндин, его подчиненный, тоже ехидно-ожидающе присматривался, вон — степенный, благодушный электрик Опанасенко…).
Сказал только снисходительно и поучающе:
— Жаль, товарищ, что наши курсы несколько порасстроились в последнее время: надо бы ввести там политическую экономию и подробнее поговорить об этом… хотя бы о социализме. Дело в том, что социализм — его просто, голыми руками, не возьмешь! Люди о нем уже сотни лет пишут, думают… Тут дело еще долгое, трудное… Как‑нибудь, когда история у нас будет, поговорим…
— Ыгы, — согласливо кивнул Любякин, опахивая его пылкими глазами.
Матросы враз поскучнели:
— Значит, выходит — еще немного, годов с сотенку потерпи? — послышался прячущийся насмешливый возглас.
Чей? Не того ли, только что подошедшего, с худой румяной щекой, запушенной неряшливым белым волосом? Белесость эта на румянах приторная, бабья какая‑то… Странно, что Зинченко, чаще всего незримый, влезает в его жизнь каждый раз, когда начинается что‑нибудь значительное, роковое… «Вот такие и там, в Петербурге…» — невнятно, почти суеверно, подумалось. Несомненно, в Зинченке лежали истоки какой‑то не дающейся, угнетающей разгадки, связанной с сегодняшним днем, с событиями.
Шелехов внезапно и восторженно воспалился:
— Социализм, товарищи, неизбежно — наше будущее! Когда и как такое будущее придет — неизвестно. (Ему, по совести, рисовалось оно вроде неопределенного геометрического предела беспокойных переменных величин…) Социализм! Правильно сказал товарищ Фастовец, — все мы, стоящие здесь, так или иначе в мыслях своих социалисты… И то, что поднялось сейчас в Петрограде грозной волной, товарищи, чем бы оно ни кончилось, оно показывает, что наша революция сурово, без уступок идет вперед… требует своего… в конечном счете, да…
Понадобилось расстегнуть крючок кителя, охладить жарко бьющееся горло. Главное — высказался так при Зинченке, при Зинченке, пусть знает, каков в своей сокровенной сущности мичман, которого он встречает всегда сомнительными улыбочками.
— В конечном счете, да… он идет к социализму.
Но все‑таки умолчал о важнейшем, о том, что кричало в нем самом громче всех других голосов. Нужно ли было для России то, что делалось сейчас в Петрограде? Во имя простой и последней справедливости поднимались скопившиеся на загаженных проспектах самые обойденные, голодные, вшивые, накаленные ненавистью. Их вели — на мировое дело — новые фантастические христы, проповедующие разлад и ярость. Он понимал… Но почему это не зажигало, не доставало еще до сердца сочувственным содроганием? Оттого ли, что кругом, на глазах, корчилась и так изъязвленная война, полурехнувшаяся страна, настоящее которой состояло только из развалин, ран и темноты?
Среди матросов тоже, пожалуй, многие шатались мыслями. Хлеборобы, Фастовца годочки, посмеивались над Любякиным:
— Ты тоже, годок, хреновину загадал!
— А что?
— А то. С судов пушки да аппараты посшибать, да?
— Ха, он тебе, Вильгельм, посшибает!
Невидимый, как гнусливый комар, подзуживал:
— А шо тогда ахвицерам делать останется?
Разговор сбивался на канительную бестолочь, на зубоскальство… Зинченко обошел сзади Шелехова и тронул его за локоть:
— У меня дельце есть к вам, господин мичман, отойдем, побалакаем.
От неожиданности полыхнуло внутри, коленки сладко ослабели. Даже осердился Шелехов на себя: «Да что я в самом деле влюблен в него, что ли?»
Зинченко с видом заговорщика отвел офицера в уголок, к трапу:
— Вот что… Бригада наша заместо сосланной четыре года в пустырях на бочке гноится. Сичас все одно — войны нет… и не будет, похоже. Надо всю бригаду до города вернуть, как все прочие команды. На рейде места хватит. А то ведь ребятам — туда на катере час да оттуда час, а если катера нет — шесть верст по степище шлепать…
Давно о том доползали слухи до кают-компании: что кто‑то упорно сбивает матросов — настаивать всем скопом на переводе в Севастопольскую бухту. Строили догадку, для чего это нужно: конечно, чтобы лучше запутлять команду в большевистское ученье. И наверху, в начальнической рубке, главным образом по настояниям Мангалова, принято было непримиримое решение: биться всеми способами и хитростями до последнего, а перевода бригады в Севастополь не допускать.
В общем Зинченко тянул на не совсем приятное дело.
— Надо до зимы все это устроить. Вас в бригадном комитете трое запевалов: Бесхлебный-боцман, да вы, да Фастовец. Бесхлебный — наш, напротив не будет; Фастовец, конешно, не сегодня-завтра по демобилизации уходит, ему наплевать, но все ж даки это переметная сума: ему тот же Мангалов пожалобнее напоет, он и почнет без узды орать. А вот ежели вы да Бесхлебный заодно…
…Вообразилось будущее место бригады где‑нибудь на задворках железно-дымного и вонючего порта; представилась знакомая палуба «Качи», с непривычным видом на ржавое корабельное кладбище, на слободские гулящие хибарки и на унылый, вопрошающий небо костяк подъемного крана. И чужое разноголосое многолюдство, невесть куда толкущееся, невесть что замышляющее.
Шелехов отвел глаза за закраину борта, за которым запала бухта, будто приросшая к телу, по-родному согревающая, и что‑то за сердце рвануло…
— Но позвольте, дорогой Зинченко, были же для этого соображения, чтобы бригада оставалась в Стрелецкой, и, вероятно, серьезные?
— Вы, господин мичман, себя за Керенского раньше хорошо показали, а теперь слыхали, что ваш Керенский разрабатывает?
(Угрожал, что ли?)
— Я не говорю, по душе, можбыть, вы правильно стоите, только, конешно, вас кают-компания, Мангалов да разные Свинчуговы вяжут. Но теперь, товарищ, время другое, теперь болтыхаться туда-сюда не приходится.
«Он фамильярничает, будто я совсем их, — самолюбиво возмутился Шелехов. — Что он меня гнет?»
Раздраженно возразил:
— Все-таки надо подумать, Зинченко, может быть, тут какие‑нибудь оперативные виды учитываются, например, особые задачи траления. Я сначала все разузнаю, то есть считаю даже своим долгом…
Зинченко мимо побежал глазами.
— Ну, как вам хотится, — с вялым равнодушием произнес он, — все ж даки скажу вам: как господа офицеры ни думают, — по-ихнему не будет. Вот что! — И, пока Шелехов пребывал в тоскливом борении, отвернулся к мимо идущему матросу скрутить цигарку.
Голые травяные нагорья, засоренные древним херсонесским камнем, нависали вниз головой в небо, — нет, не в небо, а в бездонный ненастный полувечер. Клекот автомобиля смутно прорывался порой с далекого шоссе: то ли удалялся, то ли мчался на бухту, задыхаясь от неведомой тревоги…
Какая буря, где?
Со спардека Блябликов таинственно манил:
— Сергей Федорыч, на минуточку… На малюсенькую.
Недоуменно и нехотя поплелся за ревизором в его каюту. Горчило на душе после неприятно оборванного Зинченком разговора… Как же иначе было поступить?
Блябликов старательно прикрыл за собой дверь.
— Все неприятности, все скандалы, Сергей Федорыч. Будто и не товарищи, а враги какие. А отчего? Толкаемся, как бараны перед убоем, ничего не понимаем… А если бы дело‑то по-настоящему раскусить… Вы берите табачку, табачок заказной, на молочке заварен, я в портсигар его не накладываю из‑за Свинчугова…
При всей суете, в движениях Блябликова сквозила еле сдерживаемая торжественность. Вот возьмет да и выложит сейчас человек диковинную находку!
— Вы историю, конечно, читали? Ну, да же, читали, я знаю, я к слову. Я, Сергей Федорыч, простите, думаю, что образование ни при чем, политику надо проще, нутром понимать. А вы, образованные, на гром больше внимания обращаете! Зря! Скажем, Ленин. Крайний революционер, верно? Сразу все на полный социализм — трах. Фанатик жизни и так далее. А вы изнутри, ну‑ка? Человек всю черноту, всю накипь около себя собрал, сейчас ей лозунги: все твое, крой по банку, хватай, чего душа просит. А для чего? Я думаю, Сергей Федорыч, что Ленин сейчас — самый умнеющий в России человек. Потому что вся шантрапа до того теперь остервенилась, что все равно с ней никакого сладу не найдешь. Теперь так и надо: дать ей полную свободу, крой, мол, до последнего остервенения, чтоб дальше некуда. Ну, а когда самой этой шантрапе и то тошно станет, сами первые царя запросют, вот увидите. Хе-хе, вы думаете, его задаром от Вильгельма в запломбированном вагоне прислали? Тут, Сергей Федорыч, дела-а…
— Но как же это… позвольте! — возмутился Шелехов. Он не мог понять — от отчаяния это все у Блябликова или в самом деле втихомолку замудрился человек. Везде приходилось натыкаться на смятение или на бестолковщину…
Взрывной рокот автомобиля, раздавшийся под трапом, прервал беседу. Не из города ли кто с вестями? Оба выскочили на спардек, куда из всех дверей нерешительно и пытливо выглядывали кают-компанейские.
Маркуша, член Совета, поднимался по трапу в новой добротной шинели, блистая расшитыми рукавами.
— Господа, — позвал он офицеров, делая шаг на палубу и поднося руку к козырьку.
Очевидно, Маркуша имел сообщить нечто незаурядное. Он с достоинством подождал, пока подойдут остальные, немного запоздавшие офицеры: не мог же он повторять всем по сто раз. Видно было, что Маркуша чувствовал себя на «Каче» только мимолетом — он был нездешний, озаренный чрезвычайными событиями и сам весь чрезвычайный и недосягаемый; машина, поджидая его, урчала и дрожала на берегу.
— Господа, — сказал он, наконец, — прошу вас приготовиться! — Маркуша помахал ладонью около лица, хотя ему совсем не было жарко. — Я сейчас от исполкома. Есть приказ, чтобы власть перешла к Советам.
— То есть чего же это приготовиться? — с ехидной непонятливостью переспросил Свинчугов. — Помирать, что ли, всем?
Маркуша замешкался немного:
— Ну да, я так думаю, что… Раз новая власть, значит, ей присягать надо.
— А вы, кажись, с Бунаковым вчерась сами против были?
— Позвольте, господа, — горячился Маркуша, — как же я, член Совета, могу быть напротив, когда мне дают власть? Я не против власти говорил, я говорил за анархию. Надо верхними ушами слушать.
По старой привычке Маркуша сшиб козырек на самые глаза и многозначительно сплюнул:
— Товарищ Бунаков тоже всецело за.
— Ну вот что, — решительно вступился старший офицер Лобович, — слонов продавать нечего: раз необходимость, собирай команду, веди в город.
Маркуша обиделся:
— Как то есть собирай, Илья Андреич! Мне же ребята будут присягать, и я же их поведу! Где у вас соображение, господа?
Через несколько минут машина умчала его обратно в Севастополь.
Офицеры молчали. Мангалов ощерился и забылся так, уставившись на воду. Свинчугов желчно пожевал губами и сказал:
— А слыхали, какую Маркуша на днях речь в Совете отколол?
Кругом ожили, загигикали:
— Ну‑ка, ну‑ка…
— Я от нечего делать зашел посмотреть. Гляжу, наш делегат встает, прямо на трибуну — ходу. Ну, думаю, сичас докажет Маркуша, надо ватку из ушей вынимать. Да. Подходит он к председателю… «Позвольте, говорит, прикурить, товарищ…»
— Хо-хо-хо!
На берегу вразброд собирались черные бушлаты. Большинство загодя уехало в город на катере. Вынесли знамя, впереди жидких рядов стал Лобович, могучий, высокотелый, произнес команду. Шелехов, ходивший на «Витязь» за шинелью, бегом догонял задних… Все сваливалось на его голову раньше, чем он ожидал: Севастополь, а значит, и Жека. В последнее время она очень хорошо относилась к Шелехову и дружелюбно позволяла ему многое, только чтоб не тосковал. Была одна сладчайшая скамья на сыром темном бульваре…
День просветлел, улыбался нечаянностью.
Перегнувшись через фальшборт «Качи», провожал шествие глазами ревизор Блябликов. Фуражка у него, наверно по случайности, ухарски сдвинулась набок. Блябликов, видимо, чем‑то был очень доволен.
Предвечернюю степь, в которую свернуло шествие, обтекали теплые воздушные течения, они ласкали лицо, позывали расстегнуть шинель, подставить под ветерок голую грудь… Нежного молочного цвета коврики теплились по взлобьям. Шагавший сбоку от Шелехова матрос, отломив на ходу ветку с придорожной сирени, с любопытством рассматривал коричневые набухшие пупочки, из которых прорезались зеленые узелки.
— Ишь чуда, смотри: второй цвет выгоняет.
И невнятные надежды лились опять, вдыхались вместе с ветром, подогретые, воскрешенные неестественной весной; а тусклые, уходящие в туман и небыль окраины степи были опять загаданы чем‑то… Чем? Все мнилось почти такое же, как в мае, полгода назад, только погрустнее.
Приятно было возвращаться мыслью к умиротворяющим Маркушиным вестям, неожиданным, как трогательная сиренька.
«Конечно, издали всегда все искаженнее и страшнее, междоусобная война — что за ерунда! Шмаргонцы, ясно, поломались для тону и сдались. Что‑нибудь вроде июльского шума… Борьба партий, хитрят, оказывают друг на друга давление всякими способами. Вот Бунаков понял… Своеобразную глуповатую правду выразил тогда Фастовец про вождей: днем ругаются промеж себя, а вечером чай пить ходят друг к другу. В самом деле, все они, каждый по-своему, хотят как можно лучше сделать для революции…»
Чувство теплой счастливости охватило его. Главное — Жека, с каждым шагом приближался сейчас к Жеке, нежданный… Выйдя из строя, обогнал несколько рядов; там, впереди, все время притягивая его, шагали Зинченко, Любякин, Каяндин.
— А Бунаков‑то! — радостно прервал он их разговор. — Смотрите‑ка: тоже, говорят, признал.
— Этот дракон десять тыщ жалованья в месяц получает. Бунакову что не признать! — едко отозвался Каяндин.
«Мещанин, недоучка!» — выругался про себя ущемленный Шелехов.
— Бунаков — маска, — сказал Зинченко.
В голосе его звучала жестокая холодность.
«Сердится, что я не сразу согласился насчет перехода бригады. Но ведь я же ничего не сказал окончательно, надо обдумать… Чудак он…»
Море протекло железной своей синевой слева, в открытом устье балки, и, что ни дальше, поднималось все выше и выше, ровняясь с плечами отряда и с небом, расстилаясь во все края торжественно-нелюдимой мировой дорогой.
«Не лишнее ли, что я все мечусь мыслями, решаю что‑то, когда уже есть для меня решение — одно на всю жизнь, и я знаю и все‑таки скрываю от себя?» — думал Шелехов, вдруг охладев ко всему — и к умиротворяющим, только что услышанным новостям и к волнениям, ожидающим в Севастополе…
Море поднималось, неоглядное, головокружительное, освобождающее и вместе с тем полное особого напряженного смысла. Казалось, оно без слов, но в тысячу раз могучее, чем словами, выражает то, что делали и хотели делать Зинченко и другие, то единственно большое в жизни, с чем Шелехов все время стремился и не мог пока слить себя.
И, глядя в сумрачный, неласковый простор его, на минуту усомнился: не по-ребячьи ли — верить все‑таки в новую весну, в распускающуюся сызнова сирень?
В город вошли в первых сумерках. Знамена над толкучей теснотой Нахимовского качались черными спящими птицами. Народ отступал на тротуары перед мерным военным топаньем. За Графской, по рейду скользили фонарики, играла музыка.
— Рази, когда Миколашку сшибали, было такое торжество? — послышался Шелехову в толпе резкий веселящийся голос. Как будто матросик с «Гаджибея» пронырнул.
Ясно стало, что ни на какую встречу с Жекой нечего и надеяться. Глаза жадно и грустно обшаривали темную и людную панель, ограду осеннего бульвара. Опять ждать до завтра?
С балкона Совета, раскрыливая на себе пальто, надетое внакидку, глашатайствовал кто‑то, сказали — Бунаков.
— Да здравствует всемирная социалистическая революция, начатая петроградским пролетариатом…
Кругом грянуло грохотное матросское «ура».
Подошел Лобович, празднично радостный.
— Смотрите! Значит, правду Маркуша говорил. Правый эсер, а как приветствует.
— А я что скажу вам, Илья Андреич, только вам… — Шелехов распахивался весь, лучезарился. — Я ведь в Учредительное за большевиков голосовал, да, да. У нас в бригаде одиннадцать голосов за них, одиннадцатый — это мой. Я тогда у самой урны решил: в этот раз, один раз в жизни… надо слушать себя настоящего…
Он холодел, содрогался самоуслажденно, как тогда — у урны.
— А вы за кого, Илья Андреич?
Лобович, как будто не слыша вопроса, вздохнул:
— А все‑таки хорошо, Сергей Федорыч, что драки‑то не будет, я боялся…
— В конце концов общее же дело, — растроганно поддакнул Шелехов. А про себя мигнул: «Ты же, дорогой, за кадетов опустил, ясно!» Оба, довольные, мотались по толпе, глазели.
И опять из головы не выходила наивная сиренька, готовая вскорости распустить, несмотря на слякоть и уныние, свой лиловый, солнечно-горящий цвет.
ГЛАВА ВТОРАЯ
А заметно изменилось к осени матросское обличье. Скрылись с улиц, митингов и бульваров пестрые веселые форменки, молодецкие груди нараспашку; вместо смешливого, будто всему дружественного прищура матросских глаз встречалась чаще сердитая исподлобная скука… Флот надел черные, наглухо застегнутые бушлаты, черные бескозырки — и от этого улицы поугрюмели сразу.
К осени приташнивать стало матроса от вольготной дармоедной жизни, вшивела от тоски душа.
На севере громыхало настоящее, грозовое, делались дела. Балтийцы сортировали офицеров, булгачили столицу, как хотели, не спуская с мушки питерские дворцы, и правительство избегало или не смело им перечить.
В Севастополе же жилось смирно. И зацепки для настоящего дела не было. Узнали как‑то, что на крымском побережье еще ютится и правительствует в своих удельных имениях остатная романовская нечисть — великие князья, княгини, принцы. Матросы прошли с облавой вплоть до Ялты, навели контроль, взяли великих под караул, перевели на обыкновенное гражданское положение, навластвовались — опять засосала скука.
Обленивевшие корабли обрастали ракушками, дымили кухонно и дремотно, как хаты. Офицеры вели себя тихо; делили сахар в кают-компании, скучно гуляли по бульварам, и в правах их, сравнительно с матросскими, ничего завидно-отличительного не было, разве только барская фасонная походка, да литое золото на рукавах, да девочки офицерские были потоньше, повиднее… И матрос, глядя на это, не невежничал и не дерзил без нужды. Лишь иногда прорвется на Нахимовской какой‑нибудь озверелый дебошир в матросском воротнике, ковыляя буреломно от тумбы к тумбе, раздирая на себе рубаху и ища кого‑то кровяными осатанелыми глазами. Тогда впереди мгновенно пустеют тротуары и закрываются кафе, и встречные с золотым шитьем на рукавах опасливо переходят на другую сторону или садятся на извозчика и торопят мимо, мимо. Вдруг взглянут ненароком и вспомнят о чем- то осатанелые глаза?
А вспоминать понемногу начинали матросы… То самое, о чем, охмелев от доброты, забыть постарались в первые мартовские дни. Начинали выплывать старые, казалось, совсем похеренные счеты. Пятый и шестой годки, еще не демобилизованные, сидели в Севастополе, и на их памяти оставалось много такого, что можно было порассказать за сапожным табуретом в трюме или среди кучки любопытствующих на Нахимовском.
Про полевые суды девятьсот шестого года, про прокурора Твердого, про председателя суда — адмирала Кетрица, про полковника Малярова, про экипажного батюшку, после исповеди выдавшего охранке многих из своей паствы.
Припоминали по фамилии осужденных, расстрелянных и повешенных, в том числе и матроса Масанюка, который в смертной камере прикинулся сумасшедшим и в течение трех недель поедал собственный кал. Фамилию офицера, очень хитроумно разоблачившего детскую уловку Масанюка (впоследствии казненного), тоже знали.
И всем было известно, что и адмирал Кетриц и генерал-майор Твердый продолжают работать в революционном военно-морском суде, где ныне судили присяжные заседатели из матросов (правда, теперь прокурор Твердый бичевал не преступников, а прогнившие социальные условия, а матросам всегда выносились благосклонные, оправдательные приговоры); что полковник Маляров ведает фуражными поставками где‑то в Новороссийске, а экипажный батюшка служит обедни в экипаже; но про них пока только вспоминали.
Раскапывали в своей памяти даже давние зуботычины, полученные когда‑нибудь мимоходом, лишний наряд на драение палубы; опять начали поговаривать о червивых селедочных щах, на которых нажил домок капитан Мангалов. Балагурили насчет Свинчугова, как он остановил и цукал однажды на Нахимовском восьмилетнего кадетика, не отдавшего ему честь: «Ты какому царю служишь, сукин сын?..»
Молодые с интересом слушали подобные рассказы, не добавляли ни звука от себя и только сплевывали на сторону горечь от цигарок. Но офицерам, даже непрощенным, не намекали никогда и ни за что, как будто стыдясь или запрятав все на глухое дно, про запас…
Поодаль стороной прошел Корнилов с дикой дивизией на Петроград. На севастопольские пригорки тогда пали первые дожди, упорно моросистые, вещающие близкую осень. Сразу намокала газета, наскоро и тревожно развертываемая на ходу, у киоска, и разлезалась в руках, как тесто. Ручьи смыли с городской земли все, что осталось от разгульного лета: окурки, семечную шелуху, газетное рванье, сорную желтую пыль, тысячу раз истолченную здесь и деловитыми и бездельными ногами. Косматая бурая грязь, растворившая в себе это летнее похмелье, потоками рвалась через улицы, далеко вклинялась в море пузырчато-желтой мутью. На окраинах Севастополя с глинистых осклизлых скатов можно было съезжать, как по льду, — занывало сердце… Кипело у многих черноморцев, но трудно и далеко было доскочить до генерала Корнилова. И события как будто не отразились в Севастополе ничем, — только еще проверили по кораблям, нет ли оружия у офицеров, но над морем, над улицами, над кораблями осталось некое, еле ощутимое потемнение: оттого ли, что шла осень? Да, неладное назревало в азовском углу, у Ростова, где объявился Каледин со своей силой.
И на этот раз — не где‑то в стороне, а у черноморцев под самым боком.
Ростовцы уже просили помощи. На первом Всечерноморском съезде, собравшемся в Севастополе вскоре после Октябрьского переворота, делегат Ростовского совета Ченцов сообщил:
— Каледин собрал на Дону против Советов пятьдесят тысяч казаков с румынского фронта, и шесть тысяч стоят готовые, с пулеметами, в Ростове.
А братва, побывавшая на Дону, узнала среди калединских офицеров и кое-кого из своих — нескольких мичманов минной бригады, отбывших давно в отпуск и с тех пор канувших без вести…
Слезливая тепловатая прель все еще вилась над Севастополем. Миновало три дня после переворота, а резких перемен никаких не обозначалось. Городом правил добродушный ревком, состоявший более чем наполовину из тех же «майских» эсеров и меньшевиков.
Радостное единение распалось на другой же день, когда представителям этих партий стало доподлинно известно, что лидеры их, протестуя, покинули зал заседаний Всероссийского съезда. Вечером в городской думе от бунаковских единомышленников слышались иные слова. Правительственный комиссар Широкий в чрезвычайно осторожной и мудрой речи предлагал проанализировать тщательно свершившиеся события, — «являются ли они неизбежными последствиями процесса углубления революции… и характеризуют ли они те моменты, которые могли бы определить волю революционного народа».
Другой гласный думы, видный эсер, выступил с большей откровенностью. Он сказал: «Мы с тревогой смотрим на авантюру…» Большинство гласных изъявили горячее сочувствие этому заявлению: и они с тревогой взирали на авантюру. Генерал Каледин стоял на пороге Крыма.
— Очень может быть, что мы, революционная демократия, грядущими событиями будем отброшены по всему фронту!..
Голос, произносивший эти слова, пророчески дрожал… Ветреный, слезливый дождь бился о ночные окна — пронеслось первое дуновение норд-оста. Бушлаты, только что толпившиеся темными табунками по улицам, валили в подъезды кино, поднимали воротники, угрюмо прячась от света. Два мелкосидящих тральщика-«альбатроса» крутились до наступления темноты около прибрежных батарей у самого рейда, проверяя фарватер, потому что вечером в одном из секторов был обнаружен плутающий, неведомо чей перископ. А может быть, нарочно кто, из тоскливого озорства, позвонил об этом на «Качу»? Лил непроходимый дождь над степными дорогами, пассажирский катер в Севастополь не пошел из опасения подорваться. Море, хотя и тихое еще, страшнело.
Шелехов то и дело вылезал на палубу, пытая ладонью, не прошел ли дождь, загадывая, сколько суток еще сидеть так взаперти. Грызли голодные, ревнивые мысли о Жеке. Ждет-ждет, да не накрутит ли чего в Севастополе от злобного сумасбродства?.. Офицеры, поневоле заночевавшие на тральщиках, хохлились в кают — компании, надоедливо злорадствовали:
— Вот вам и доигрались: немец под самым рейдом. Когда видано? Эдак он однажды в самый порт… в серединку. Вот нащепает делов!
— Они радио послали о мире, получай ответ!
— А следовало бы немцу теперь попробовать. Прямо говорю: дурак он, если не попробует.
— Точка Черноморскому флоту!..
Кабы не пришлось опять товарищам Колчака из Америки выписывать.
Про Каледина… тоже слух есть. Предъявил ультиматум своему ревкому: в два часа упразднить всех комиссаров над командным составом, иначе: объявляю военное положение и разгоняю к сукиной матери все ваши совдепы!
Ночью лазил Шелехов по грязи на пригорок — посмотреть сиреньку, трогал острые, искупанные в дожде листики, вылупившиеся из водянистых узелков, — трогал, словно хотел помочь. Нет, расцвести ей было очень трудно, он сам понимал, да и бывалые люди говорили, что близится норд-ост, что море рассвирепеет скоро и по-зимнему, оледенело кинется на берег.
Первый Всечерноморский съезд заседал бурно.
* * *
О калединском ультиматуме, который был тотчас же подхвачен газетами, доложил тот же делегат Ченцов.
— Окрепший враг, — сказал он, — первый и открыто посягает на завоевания революции. Известны ли вам дальнейшие намерения генерала? Известно ли вам, что он готовится вымести с корнем революционную заразу из Крыма и затем повернуть кровавые казацкие сотни на Петроград? Товарищи, Черноморский флот! Вы должны немедленно протянуть свою бронированную руку на помощь ростовскому пролетариату!
Флот был возбужден. На судах севастопольского рейда собирались крикливые митинги. Однако мнения съезда раскололись. Если одни, более нетерпеливые, требовали немедленного вооруженного вмешательства, то другие, с правыми социалистическими вожаками во главе, предлагали держаться благоразумных мер и действовать «морально», путем посылки на Дон безоружной делегации.
Яростные прения не умещались в зале Морского собрания, в котором происходил съезд, перекатывались за порог, на прибрежную мостовую, где их жадно подхватывала мятущаяся и промокшая от дождя бушлатная улица.
Бродячие ватаги вламывались в зал, криками подбадривали своих делегатов.
Злобный матросский нетерпеж разрастался, мог перелиться через край.
Мимо колоннады Собрания маршировали неведомо когда сорганизовавшиеся сумрачные отряды, представители которых требовали от съезда оружия и отправки их — почему‑то уж не в Ростов, а на Украину…
Зал заседаний обратился в штормующее море. Председатель, отстаивавший предложение умеренных, не выдержал и демонстративно покинул президиум. Возможно, что эсеры хотели этим ходом сорвать съезд.
Тогда председательствование захватил решительный большевик Платонов. Он ребром поставил вопрос: хочет ли Черноморский флот и способен ли он завтра же с оружием в руках выступить против контрреволюции?
Агитировавшие за выступление большевики составляли ровно четвертую часть исторического съезда — двадцать два голоса из восьмидесяти восьми. Среди остальных преобладали социалисты-революционеры. Но возможно, что здесь оставалась только кличка. Эсерствующий Черноморский флот был уже не тем, чем три-четыре месяца назад.
Матрос Платонов без лишних разговоров предложил съезду голосовать. Улица бушевала за окнами, в дверях, за делегатскими стульями. Целые судовые палубы прорвались в зал, уськали на своих, издевались над колеблющимися:
— Тяни, Мухаренко, тяни, не бойся! Иль лишнюю шлычку, сука, от Каледина хочешь заработать?
— У него заработает… поперек шеи на базарном хвонаре…
Всечерноморский съезд постановил: двинуть немедленно вооруженную флотилию на Дон.
…До Стрелецкой бухты вести о событиях доходили лишь понаслышке — из газет да из рассказов тех матросов, которые отважились путешествовать в город по невылазной степной слякоти. Шелехов раньше всех накидывался на тщедушные севастопольские «Известия», шириной в матросскую ладонь.
Московские газеты еще не доходили.
Но после «Известий», несмотря на их тщедушность, плохо спалось даже в уютной, оглохшей от ковров каюте «Витязя». Каждое слово газеты старалось разбередить что‑то самое опасное в человеке, каждая фраза вызывала в памяти скребучий, человеконенавистный голос гаджибейца в блинчатой фуражчонке… Пропасть, о которой больно было думать Шелехову, расщемлялась все шире и шире, расщемлялась через всю Россию. Резолюции, вы носимые кораблями, дышали остервенелой злобой. Кто только их выдумывал?
В бухте неприютно стало.
Работы в дивизионе немного, хоть с утра броди неприкаянно по мокрым — словно и не всходило солнце, — размытым берегам. Галки вьются над степью, кричат, бросаемые резким северным ветром. Лишь редкий свет проникает сквозь дикую суматоху облаков, от края до края заваливших небо. В клубе, полутемном, необжитом и сыром, как тюрьма (кстати, от прежней часовни сохранилась и решетка на окнах), соберется на час бригадный комитет — офицер Шелехов и четверо или пятеро матросов в бушлатах с приподнятыми воротниками, — соберутся будто для дела, и строгий бровястый боцман Бесхлебный, председатель, истово простучит карандашом по парте, а и обсуждать‑то, в сущности, нечего, кроме нудного, осточертевшего давно дележа экономических денег, оставшихся в излишке от продовольствия, по семнадцать с половиной копеек на брата, да списочной очереди годочков, намеченных к демобилизации. Хочется Шелехову прислушаться, как раньше, к своим бригадным матросам: о чем их новые, укрытые про себя, прихмуренные думы, — и негде прислушаться и не к кому. Курсы вечерние расстроились как‑то сами собой. Старики — Фастовец, тяжелодум Кащиенко и другие трюмные друзья — собирались в бессрочный, дождавшись, наконец, заветного приказа (говорят, что подписан он был в спешном порядке не без умысла — слишком много лишнего разбалтывали старики), и им на радостях было не до науки. Молодые же, истосковавшись за долгий бездельный день, к вечеру в рвачку, штурмом брали катер, а то прямо по степи закатывались в город до полночи.
Безлюдела бухта, смывало тропинку к клубу.
Отдыхалось Шелехову только в одном месте — в уютной, всегда чистенько прибранной, словно промытой воздухом, каюте Лобовича.
Выходила она иллюминатором прямо в небо, и порой от чрезмерной светлости казалось, что за тонкой стенкой ее живет еще горячее сумасбродное лето. И сам хозяин был летний насквозь; неторопливая и добрая спина Лобовича всегда неизбежно напоминала Шелехову одну ночь, пережитую как бы на ослепительной падучей звезде. «Помните, Илья Андреич, как вы выходили фокстерьерничать на Нахимовской в потемках?» Шелехов хихикал над ним, сладостно жался на удобном низеньком стульчике, и так ласково обволакивал его папиросный кружи- тельный дым, и такая домовитая теплая собака дремала у ног Лобовича, и такие благополучные, наверняка благополучные и даже радостные концы чудились за далями расхлябанной этой, вдруг чертоломно поскакавшей жизни!..
— Как, Илья Андреич, выловили что‑нибудь тральщики под Севастополем?
Третий день прощупывали «альбатросы» у Херсонесского монастыря и на подходах к рейду, не осталось ли гостинцев на месте появления таинственного перископа.
— Что там ловить… Сучка какая‑нибудь набрехала нарочно, для провокации. Да мы уже знаем, что вас заело: пустим сегодня катер, пустим!
У Шелехова против воли затрепетало все внутри, заиграло без удержу. А не сказки это, что сегодня? Лобович, наоборот, был рассеян, одержим неясными скучными мыслями. Он угощал гостя газетой.
— Вы вот, батенька, только посмотрите, — многозначительно и сердито тыкал пальцем. — Посмотрите, что выкручивают, собачьи дети, а?
В газете, почти сплошь посвященной будущему походу революционной флотилии, приводилось официальное сообщение, полученное съездом от командующего флотом.
«По последним данным, — говорилось в сообщении, — глубина подходного к Ростову морского канала восемь с половиной футов при ординаре. Вода же в осеннее время стоит обычно ниже ординара. Таким образом, подход к Ростову военных судов, с осадкой восемь футов и более, невозможен…»
Шелехов с недоумением поглядел на Лобовича.
— Вы что же… — несмело подивился он, — вы тоже, значит, за… флотилию… за междоусобную войну?
— Я говорю только, что зря они обдурачивают. Зря, Сергей Федорыч. Неужто, вы думаете, матрос своим умом это не постигнет? У нас миноносцы есть — меньше восьми футов, у нас тральщики пройдут, бронированные катера пройдут. Это все штучки, Сергей Федорыч. Себя же и обдурачивают, на свою же голову…
— Я вас все‑таки не понимаю, — осторожно и укоризненно сказал Шелехов.
— Матрос — он что ребенок. Обманывать — хуже, он вам взъерепенится потом, такую касторку пропишет. А надо сейчас так: что просит, дать. Потому что все равно никакой междоусобной войны быть не может.
— Позвольте, почему же?
— А про мост забыли?
— Какой мост?
— Мост же у Каледина, под Ростовом, через который вся кавказская армия снабжается. Вы про Каледина, я думаю, читали, знаете, какой это генерал: честный, хороший, большая умница. Так ведь если матросов туда допустить, они первым делом этот мост разгрохают, им что! Так разве Каледин это позволит?
— То есть?
— Уйдет Каледин, сам же уйдет. Ну, уступки там какие‑нибудь сделает. Что ему дороже, думаете: Россия или самолюбие? Шутка, миллионную армию оставить без подвоза!
Шелехов хмыкнул с недоверием. По совести, он не знал, что думать: уйдет в таком случае Каледин или нет… Но в Лобовиче явно обнаруживался подшибленный человек. Когда‑то, задолго до морской службы, старший офицер бедствовал учителем в нищей белорусской деревушке. Ребячьи белесые головенки, нищета, тьма — вот откуда, стыдясь, нес он свою жалостность. Было в этом недолговечное, незащищенное…
Не без ехидства спросил:
— А Михайлюк тоже был ребенок? И Зинченко, скажете, ребенок? И…
— Э, батенька, вас ведь не переспоришь, — Лобович с притворным сожалеющим вздохом отмахнулся рукой, — вы оратор, у вас диплом первой степени.
«В самом деле, я все время забываю об этом… Диплом! — Шелехов, выйдя от Лобовича, прошелся в приятном раздумье по пустой кают — компании. — Я же здесь только временный гость, легкий гость, не как Блябликов, или Анцыферов, или даже Скрябин, которые связаны с палубой куском хлеба. Я свободен! Почему же, черт возьми, я переживаю так, мучаюсь по поводу каких‑то неласковых матросов? Мое настоящее начнется потом, где-то совсем в другом месте. Вон большевики послали во все стороны радио о мире. Буду служить во флоте, сколько сам захочу, может быть, вправду устроюсь после в кругосветное, а потом…»
Глянул мимоходом в зеркало. Да, скулы обострились за осень, но загарная смуглость не сошла еще, на темном лице те же горячие ширились, рассматривая себя, и смеялись глаза. Чему опять смеялись? Все‑таки, несмотря на хмурь и неудачливость последних дней, нет-нет да вот так буйным ключом забьет что‑то изнутри, неиссякаемое, смеючее, солнечное… молодость, что ли? Мичманские нашивки изящно золотились на черных рукавах, нельзя было ими не любоваться. Он расправил пошире отвороты шинели, чтобы виден был угольчик университетского значка на кителе, — на улице это вызвало со стороны встречных удивленно-уважающие взгляды. Может быть, то было мальчишество, бахвальство, но…
Он, смеясь, извинял себя, он искал глазами часы: сколько еще осталось томиться до катера?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Среди гуляющих на стемневшем Нахимовском, на перекрестках, где слипались вокруг спорщиков жадные кучки слушающих, — всюду разговор кипел об одном: что штаб командующего отказался принять участие в организации флотилии против Каледина. Рассказывали о дневном заседании съезда, куда был вызван для объяснений сам командующий, боязливый и двоедушный адмирал Саблин. Адмирал ничего путного не говорил, только разводил руками, плел несвязное. Все дела по снаряжению флотилии делала матросская тройка, избранная съездом и бессменно двое суток работавшая на кораблях.
За пристанью, на которую вступил Шелехов, высокие дома светились скудными желтыми огоньками. Темное и людное русло Нахимовского отмечалось широкосветными гаснущими окнами запираемых магазинов, силуэтами бредущего мимо них гулянья. Нечто сменилось или новое, неузнаваемое родилось за время отсутствия Шелехова в улицах, огоньках, ветре, прополаскивавшем верхушки пристаньских мачт. Минутами не верилось даже, что именно здесь, в дебрях домов и садов, укрыта колюче-сладкая Жека, что она не остыла за несколько бесконечно длинных, пустых дней, что придет… Каждый раз, как попадал в Севастополь после долгой вынужденной разлуки, томили такие опасливые предчувствия… Пожалуй, правда — спокойнее было бы, если бы бригада стояла здесь же, на рейде, неподалеку от знакомой травяной улички.
На углу, обходя сбившийся темный косогор народу, невольно насторожил ухо. Бойкий голос докладывал:
— …А письма эти получены из Ростова, об этом все знают! Значит, они здешним офицерам пишут: окажите, значит, нам подмогу, задержите, насколько в силах, эту сволочь в Севастополе…
— То‑то они втирают нашему брату: мы штурмана ученые, мы ме-ерили!
Скользнул дальше, под незажженные фонари, мимо ненарядных и невесело, будто за провинность бредущих куда‑то прохожих или гуляющих (кто их знает!) — сапогастых, бушлатых, платочных (редко-редко кто с золотой нашивкой или торопливый, случайный — в котелке)… Ветер, занывая по верхам, с гнусным упрямством напоминал, что сейчас осень, непоправимая осень, что листья на бульваре опали и забиты, затоптаны в холодную грязь. Язвяще летело по пятам:
— Ме-е-ри‑ли, ха-ха!
У каждого почти проулка надо было обходить человеческий затор, больше из матросов и темных пиджаков, — видны были одни слипшиеся тесно затылки, кидался настороженный говор:
— А вот как Керенский озлобился, когда Зимний дворец взяли, и велел зарезать двадцать пять матросов…
— На балочке рассказывали: поймали в Феодосии попа, скинули с его рясу, а он весь бомбами увешанный.
— Так то же в Ялте!
— Говорю, в Феодосии: от энтих из Новочеркасска подосланный был, ясно.
Близ грязноватого и убогого кино, убогого и разоренного, как и весь этот городской вечер, посмотрел на часы. Семь без двадцати минут. Жека обещала каждый вечер, хоть на минуту, заглядывать на Мичманский бульвар около семи (на свету, из странного упорства, до сих пор не хотела показываться). И тут, около кино, сбились в кружало прохожие бушлаты и разносился с восторженной гневцой чей‑то голос.
«Что же я, преступник, что ли, что должен чураться, обходить?» — обозлился Шелехов на самого себя и нарочно протиснулся поближе к оратору — туда, где стенка народа была посквознее.
Ораторствовал парень из портовых, в черном картузе, в скудном пиджачишке:
— А что мне Совет… Совет! Знаем, какие они, сволочи, работники, как их выбирали. Которые там сидят, их сичас в трюм иль за борт… Разогнать, коль сами не уходят!
В тесноте матросских лиц Шелехов узнал Любякина. Видно было, что матроса дергает от нетерпения, толкает на спор. Шелехов решил подождать, поторжествовать, когда он отгвоздит этого неприятного проходимца.
Однако раньше Любякина с парнем сцепился прохожий почтовый чиновник с кокардой.
— Позвольте, — наступал он на парня, брезгливо помахивая клюшкой, — позвольте, если вы все так хорошо знаете, почему же вас тогда не выбрали? Ась? Вас бы надо выбрать туда, правда?
Кокарда льстиво ехидничала:
— Уж вот такие бы, как вы, наверно…
У Любякина губы ни с того ни с сего злобно полезли вкось, грудь зловеще выперла, отшибая назад — только не парня, как ожидал Шелехов, а растерявшегося почтового.
— Это как то есть его? Вы к чему сказали, что его не выбрали? Вы знаете его, кто он такой?
Чиновник, опешив, увещевающе протягивал ладошку, пытаясь утихомирить, доказать, жалко покашливая. Но Любякин неумолимо наседал на него могучей грудью:
— Нет, что значит: «ва-ас не выбрали»?
Портовый при виде подмоги распалился еще больше:
— Ну да, скажу, насажали там сволочей, шантрапы… Ну да, скажу: уходите, драконы, от нас, и чем скорее, тем лучше! Довольно вам проливать кровь трудового народа! Уходите, палачи, к тем, которые всю жизнь прокатывались на чужой счет!
И, заведя глаза, надсаживаясь, по-митинговому, тыкал пальцем, как казалось Шелехову, в упор в него, в мичманское его отличье. Боязнь скандала, какой‑нибудь нелепости заставила поспешно отвалиться от толпы: закрыться в темноту подальше, вслед за чиновником. Паскудно, сорно стало на душе… Сумерки кругом тоже сторожили недружелюбно, сдвинувшись тесно, как матросы. Кого здесь ухватить за руку, рядом с кем, плечо в плечо, почувствовать, что ступаешь по земле крепкими ногами?
Оставалась, пожалуй, одна Жека…
И, как в теплый угол к другу, завернул за ограду Мичманского бульвара, заброшенного, похожего на задворки. Именно из‑за этой заброшенности, из‑за безлюдья с осени перенесли сюда свои встречи. За теннисной площадкой, в кустяной тихой заводи крылась заветная скамейка. Сюда не вламывался никогда назойливо-разгульный матросский толпеж, не заглядывал никто, любопытничая, с непристойной шуточкой… Жеки пока не было. Шелехов присел, скорее прилег, засунул руки в карманы, полусмежив глаза. Ветвяная чернеть качалась в небе, кусты зябко пошумливали; с соседней скамейки доносился полузаглушенный хохоток… То были самые желанные, самые неопределенно-приятные минуты в жизни: полулежать, блуждать слухом среди сонных шумов, ожидая — вот-вот пролетит где‑то дуновение знакомых, изжажданных шагов, вот — ближе…
Но счастливое забытье на этот раз упорно не наступало. Что‑то мешало, перебивало изнутри тупой ушибной болью. Глупый случай у кино? Ерунда… Он ворочался, укладывался поудобнее, старался думать о другом… Но, как назло, и мысли навертывались раздражительные, обидные… «Я в-вас ждал-ла… с без-зумной жаж-дой сча-а-стья!..» — вспомнились, издевкой пришлись к случаю навзрыдные слова романса. И маменька вспомнилась, певшая их, полупьяная маменька для прошений. Наверно, в самом деле было смешно! И его, вот такого же нелепо воспаленного, неустроенного пустили в жизнь… Сейчас — попадись что в руки, изорвал бы со скрежетом, с наслаждением… И Жека не подавала никаких признаков присутствия. Деревья расплывчато темнели, уже с трудом различались: еще с полчаса, и все станет ночью. Поздние катерные свистки плутали за оградой, на рейде. Может быть, забоится теперь выйти из дому? Иль спокойно сидит в своей комнате, перелистывая книгу, и лампа горит, зажженная на долгий вечер.
А Жека была необходима сейчас, чтобы дышать.
Он увидел — нет, взвихренным смятением всех своих чувств пережил внезапную тень, отделившуюся от кустов и плывущую к нему над мглистой почвой бульвара.
— Жека… Ведь это вы, Жека!
Конечно, она оказалась очень разобиженной и резко вырвала пальцы из его бурно обрадованных, до боли жмущих рук. Сколько раз в течение недели приходила она в эту аллею — почти каждый вечер…
— И шаталась здесь одна, как дура… Совершенно не считаться с самолюбием женщины! Сегодня зашла в последний раз, да, в последний, и ни для кого, а просто мимоходом!
Шелехов усаживал ее на скамейку, непокорную, ворчливо отбивающуюся от нежных его прикосновений. Да, живая, с ее длинным телом, волосами, голосом, со злым блеском глаз. Пальцами можно было погладить ворсистые, в мелких капельках рукава пальто…
Если б она знала, как он рвался к ней, с каким отчаянием искал ее глазами за пустым проклятым морем!
— Стоит вас не видеть два-три дня, и уже почти не верится, что вы существуете. Вообще вся жизнь — фантастическая, шатающаяся… Некуда пойти, только к вам. Хочется, Жека, как хочется — хоть здесь, с вами, найти настоящее, прочное!
Должно быть, ее тронула искренняя горечь его слов: внимательно оглянула его, сама придвинулась поближе. Все‑таки голос ее звучал разобиженно-холодно, загадочно:
— Но, милый мой, все зависит от вас.
Он не уловил многозначительности этой скупой фразы, только вспомнил ее позже, спустя долгое время. Да и некогда вникать, когда ты уже не человек, не Шелехов, а смутная облачность, обнимающая эту женщину, деревья, просвечивающие ненасытными звездами… Уходят, уходят немногие драгоценные секунды… Успеть бы рассказать ей все — как хочется сроднить ее со своей жизнью, как пустынно, изнывающе покачиваются трубы тральщиков в Стрелецкой, как трудно без задушевного друга на свете.
— Жека, — произнес он растроганно, бережно прижимая к груди ее руку, — Жека, вы у меня одна…
И полилось несвязное… Отводил душу за все эти дни, в которые истомился от немоты, от одинокого скрытничанья в себе. Про все бы ей, про все… И она подбадривала своим настороженно — пытливым молчанием.
— Самое больное — почему, Жека, жизнь стала похожа на летаргию? Вам не кажется иногда, что ураганом проносящиеся события — они вовсе не вне, а совершаются в каких‑то бестелесных пространствах внутри вас самих? Что ваши представления и мысли примут форму темных улиц, или палуб, или комнат Морского собрания, начиненных толкотней и мокретью съезда? Блуждание среди снов… А если сны — вам нечего решать для себя, вам — только смотреть да с любопытством бесплатного зрителя ожидать, как все это решится само собой, чем оно кончится! Еще Кант говорил… (философ Кант значил, по-моему, Жека, для человечества не меньше, чем Христос или Магомет) еще Кант говорил, что видимый мир — лишь система наших иллюзий. Но Кант умозаключал разумом, а тут жизнь, сама жизнь втихомолку перевертывается бредом…
(Он не слышал, по своей пылкости, что Жека давно и сердито покашливает, — он говорил для той, которую видел про себя, неотрывно, трепещущей вместе с ним…)
И голос дрожал:
— Вот почему, Жека, так хочется настоящего, не призрачного! До Севастополя я ведь почти не жил. Полгода назад, вместе с революцией, пришло солнце, пришло море, простор… думал, вот оно — настоящее, начинается! И правда, началось… почти сказочным полетом. И вдруг — опять одиночество, тучи, кругом лица убийц, сон без просыпу… Разбудите меня, Жека, вы одна можете.
Жека зевала равнодушно, наслаждаясь тем, как он ежится от неожиданности, зевала насильно, мстительно, назло.
— Ну, мичман, я‑то тут при чем? Вы бы попробовали холодные обливания!
Он опустил голову, раздосадованный и огорченный. Не хочет она понять или не хватает у нее чуткости? Значит, все то же: забыться на час, а потом кануть опять в свою пустыню, в отдельное свое, непонятное вот этому, самому близкому человеку существование? Но теперь это стало не по силам, ему каждую минуту необходимо было чувствовать около себя ее невидимое утешающее присутствие. Иначе…
— Но ведь, Жека, нельзя так… только встречи на минуту, поцелуи. Должно же быть что‑то другое, большее! Я вот ни разу не видал вас днем, не знаю даже как следует вашей внешности, не знаю, как и чем вы живете…
Жека пожимала плечами:
— Как живу?.. Спасибо, что вы этим, наконец, заинтересовались. Рисую, даю уроки разным балбесам, вот теряю время с вами. А какая я, вы знаете, пожалуй, больше всякого другого…
В ее словах ему послышалась тайная горечь, не щадящее себя бесстыдство. Слова растравляли глухую застарелую боль. Тревога, та же неотвязная, ревнивая тревога… Все‑таки существовал еще один недорассказанный человек, который имел на нее жуткое право. «Хороший мой, я не девушка…» В каждой, даже самой безоглядной ласке чуялась его омраченная тень.
— Хорошо, что хоть про это, наконец, заговорили, а не про Канта. Вы, конечно, очень умный студент, видите там какие‑то сны, а обо мне не подумали просто, что я устала и что я тоже очень одна…
Она в первый раз заговорила так серьезно, без кусачего лживого смеха. Шелехов, удивленный и встревоженный, заглядывал в смутные ямины ее глаз. Угадал ли он далекие, запрятанные там мысли?
— Я не оправдываюсь, Жека… я виноват. Давно бы надо найти комнату. Здесь — чужие глаза, холодно… Но вы не представляете, как трудно теперь вырваться из бухты днем: то дождь, то мины плавают. В Севастополе нет комнат… А ведь я только о том и мечтаю, Жека, чтобы иметь пристанище на берегу, чтобы вы хоть раз пришли ко мне в тепло и уют.
Позволила прижаться к себе, ласково, почти с жалостью гладила его щеки, — сестринская ласка, которой Шелехов не испытывал никогда.
— Какой вы еще мальчик, мальчик!.. — Жека вздохнула. — Да, вы, должно быть, в самом деле витаете в воображаемых мирах…
Она подумала о чем‑то, наклонилась к земле, расшвыривая носком ботинка рыхлую лиственную падаль. В ней зрели свои и колебания и решения.
— Скажите… вы связаны еще с кем‑нибудь?
Связан ли он с кем‑нибудь? Была только Людмила, которую считал когда‑то своей невестой и которой не писал ни слова после того случайного весеннего отчаяния. Кольнул на мгновение отдаленный укор… Но к чему спрашивала Жека?
— Нет, — ответил он горячо, — я‑то нет, нет!
И вместе с тем отгонял от себя смутно-назойливую, поганенькую догадку. Не к тому же ведут все Жекины недомолвки, что она хочет трезвого, житейского завершения их отношений… Ему еще страшно казалось и подумать о браке — даже с Жекой, как будто дальше пресекались все надежды, вся неиспитая кипень будущего… Да и Жека — не мещанская девица, чтобы так подходить к любви!
И вдруг увидел себя вместе с ней на дне глубокой и сырой тьмы: так сразу наступила ночь. Значит, пробегали последние минуты? С разговорами было кончено, и он притянул к себе женщину привычным подчиняющим движением — так было уже сколько вечеров! Вялая, молчаливая ее согласливость показывала, что и она налита тем же желанием — скорее опьяниться, посоловеть изнеможенно… Так сидели, отрываясь друг от друга только тогда, когда проходила мимо прогуливавшаяся по аллее одинокая пара, — торопливо насыщаясь руками и губами, нетерпеливые и жестокие друг к другу. Полусонно слышался прибой недалеких городских шумов, свистков, ветвяных шорохов. Пальцы Жеки были ледяные, непереносимые. Осмелев за многие такие вечера, они хозяйничали теперь хищно и ласково… А что делал он сам? О, как это было в конце концов чудовищно — не сметь ее спросить, любит ли она его, и только биться про себя, судорожно и нераздельно биться где‑то у последних ворот, таких близких, почти доступных прикосновению, но запрещенных накрепко, не навсегда ли? Они оба свалились бы на землю, если бы рядом, сквозь полусон, не ходили… Шелехов не мог сдержать стона.
— Жека, больше так невозможно, я буду искать комнату, я обязательно пойду искать завтра же!
Она вздохнула, как бы просыпаясь, поправляла под шляпой прическу.
— Скучно, Сережа, когда об одном и том же… У нас с вами будет общая каюта, когда мы поедем в Одессу. Я же обещала!
Она покровительственно брала его за ухо — маленького (ну да, женщина была старше его на тысячелетия!), наклоняя, шептала:
— Я же обещала: только у вас в каюте, у вас в каюте… Но скорее поторапливайтесь со своим «Витязем», а то возьму и так уеду!
Знала ведь, что это сказка — про «Витязя», который никуда не собирался…
Он провожал ее, преисполненный невеселой усталости. Проходили месяцы, и каждая новая встреча не давала ничего, кроме такого истощающего похмелья. Но все равно — через полчаса, уже сидя в катере, выпав из забытья в равновесную повседневность жизни, он снова начинал чувствовать, что бессилен усмирить в себе Жеку и постигнуть… «Что же это, — спрашивал он себя, — любовь?..» Во всяком случае, Жека никак не могла быть, подобно прочему миру, только кантианской видимостью, — слишком резко, по — настоящему причиняла она боль.
* * *
В ту ночь через катер рвался цепенящий предшторменный ветер. Было больше похоже, что судно идет не в насиженную и нагретую бухту, а в неведомую завывающую даль скитаний… Шелехов забился в угол под мостиком, засунул руки в рукава, заник. Катер швыряло через темень, по невидимым ухабам, в снастях кладбищенски завывало. Так было хорошо, потому что и мысли от шума разбивались, путались, переходили в дремотную музыкальную нелепицу. И на востоке, за морем, за черным клокочущим плеском раскидывалось праздничное павлинье зарево, радугой играло на брызгах.
Ростов…
Это отрыгались в усталом мозгу разговоры с Лобовичем, газеты, уличные шепоты.
На освещенных заревом улицах ходили офицеры, много офицеров, профессора, общественные деятели, члены Государственной думы со всероссийскими фамилиями и просто пожилые гуманнейшие люди, жаждущие почтительности и порядка. Мерещились благоговейные контуры университетов, департаментов, императорских театров. Останки драгоценной культуры, еще не смытые в пучину…
Не первый раз встало перед Шелеховым это видение. Чересчур много говорили кругом о калединском Ростове: одни — ненавидя и боясь, другие — видя в нем спасительно просвечивающую выручку. Да и у самого Шелехова что‑то очень знакомое связано было с этим городом, что — он никак не мог вспомнить, как ни рылся в самых мглистых недрах памяти.
Что или — вернее — кто?
И сейчас в прерывистой дремоте вилась около мучительная туманность… Почти проглядывал, близил к ней упорные глаза, но тотчас же затирал все ветер, чернина ночи… То это был мужчина, облик которого проступал неопределенно и угрожающе, то женщина, изящная и мечтательная и вместе с тем отталкивающая. Но у него не так много было знакомых женщин, он всех их мог перечесть в полминуты…
Из придремавшегося зарева вылез Винцент, палил спички перед самым носом у Шелехова, безуспешно стараясь прикурить.
— Что, большевик, ноги подломились? Сознайся, лишков перехватил с девочками? Хотя, черт… верно; такое кругом похабство, что только одно это, Сережик, и остается. У меня тоже знаменито: одна гречаночка есть на берегу, телеграфисточка…
Винцент по привычке щекотал ему пальцы, подтанцовывал, подхихикивал, описывая подробности неистового вечера, проведенного с гречаночкой. Винцент, наверно, врал, но все это так действовало на Шелехова, будто кругом него все время носили жаровню с углями. Хотелось сбить этого ржущего человека в море или вцепиться ему в воротник, притянуть к себе и слушать, слушать… Словно рассказывали про него самого и про Жеку. Сглатывая воздух иссохшим горлом, спросил:
— Послушай, у вас там, на штабном Олимпе, ничего не известно насчет «Витяза»? Давно обещают поход на Одессу или Батум, команда только об этом и авралит. Другие, вон хоть заградители, все время имеют походы. Не слыхал?
Винцент охолодил:
— А знаешь сегодняшнее постановление съезда?
— Какое?
— Э-э, с девочками даже всю политику из большевика вышибло! Отправляют все‑таки флотилию на этого… на Ростов. — Мичман прижался поближе к Шелехову, злобился вполголоса: — И во флотилию, понимаешь, от нас назначен «Джузеппе», повезет снаряды для этой хулиганской операции. Вот распишут им там… ха-ха, знаменито!
— От нас «Джузеппе»? Это где Свинчугов?
— Вот-вот. Конечно, все это позорно, но я рад, что в первую голову выпорют нагайками эту старую сифилисную стерву!
— Слушай, Винцент. Вообще ты страшно несправедлив к старику… и потом… гадко так на все реагировать! — Шелехов уже совсем очнулся, и жизнь, как нагруженная чугуном телега, пронзительно и опасно громыхала над его головой.
И как‑то сразу сдернулась с сознания досадная завеса. Совсем случайные слова: Ростов, нагайка… Но из них встала далекая ночь его отъезда в Севастополь, первое в жизни мягкое купе, в которое внесли прапорщика над свалкой верные солдатские плечи. И в купе — бравый, налитой багровой кровью есаул, и его хамская нагайка на стене, и его женщина, с изнуренными от блуда и баловства цветковыми глазами. Вот кто мучал его все время, неразгаданно и грозно прятался на дне ростовского зарева! Почувствовал даже приятное облегчение оттого, что вспомнил.
На ощупь, вдогонку за чужими шагами пробирался по темной мостовой к «Витязю». Фалрепа над сходней не протянули, и тут сказывался общий развал, наплевательство на постылую службу, — приходилось подниматься по мокрым доскам над темной бездной воды, без упора, балансируя во мраке распростертыми руками. Внизу невидимо кидалась и шипела вода, — только оступись!., сходни вместе с кормой «Витязя» носило из стороны в сторону. Шелехову вдруг стало жутко, неуверенно, и от этой неуверенности действительно покачнулся, вскрикнул и, может быть, в самом деле сорвался бы вниз, если бы рука впереди лезущего человека не вклещилась ему в локоть.
— Эй, ты чего там, братишка?
Офицер с бьющимся вскачь сердцем стыдливо высвобождал руку:
— Кажется, товарищ Зинченко?
— Он самый.
Достигнув кормы, в знак признательности полез за папироской.
— Вы, конечно, уже знаете, Зинченко, насчет флотилии? По-моему, это правильно: «Джузеппе» вполне дойдет. Только как наша команда — желает?
(А сам корчился: «Зачем я задабриваю, подличаю, ведь не о том же хочу сказать…»)
Зинченко охотно прикуривал из его рук.
— Откроем запись добровольцев, вот увидите: драка из‑за этого даже может получиться. Эх, теперь матрос кипит!
— Этих господ, Зинченко, которые сидят за Калединым, я знаю: они нас, студентов, при Николае рубили шашкой за один непонравившийся взгляд. Там, Зинченко, сидит опасный зверь.
И опять не то и не теми словами высказывал, что чувствовал: надо было бы о цветковых глазах, из которых протекал сладковатый угар по всей земле, по всей его жизни. Цветковые глаза и радужно слезящиеся невские фонари… Обреченная Атлантида… Да про это Зинченко и не следовало, пожалуй, знать; ему едва ли бы оно пригодилось. Но все‑таки нужно было заставить его понять, что У них общий враг. Багровый, как вывороченное наизнанку мясо, есаул свирепствовал в памяти Шелехова, точно все происходило вчера, оберегая свой блуд и свое право презирать и повелевать сволочью. Он был уже не бессилен теперь, не повержен, как там, среди бушующей солдатни. Он издавал из Ростова удушливый виселичный запах.
— А не будь бы этой заторы, товарищ, мы бы свою программу большевиков давно бы по всей России провели. Не дают драконы ходу социализму.
— Социализму? — переспросил Шелехов.
До сих пор не мог вникнуть в смысл этого слова, оно оставалось для него одним звучанием — ширококрылым, полным неопределенных ослепительных просветов и нежилого холода.
— Социализму? Я ведь говорил при вас, Зинченко, один раз по душам: все‑таки это дело трудное. Дело многих десятилетий, а то и столетия, может быть…
— Вот так раз! — недоверчиво хихикнул Зинченко. — Какое же трудное? Взять да по всей России одну резолюцию вынести! Какое же трудное? Теперь вот, конешно, эти гады помешали: значит, отсрочка, накинуть еще… ну, от силы три месяца, полгода!
Шелехов втайне, про себя усмехнулся… Но сейчас было не до спора, следовало воспользоваться случаем и развязать то, что оставалось неразвязанным с того октябрьского дня. Теперь, после похода «Джузеппе», после сегодняшнего севастопольского вечера все равно бригадная тишина была разорена.
— Погодите‑ка уходить, Зинченко… Помните, у нас был разговор о переходе бригады в город. Так вот… если хотите, я могу поднять об этом в бригадном комитете.
Зинченко остановился.
— Да что поднимать, не к чему теперь поднимать, — лениво отозвался он.
— Почему? — встревожился Шелехов.
— А? — не то дурашливо, не то рассеянно переспросил Зинченко и с тем исчез в темноте.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
А ветер жесточал к ночи все больше и больше, все полоумнее обвывая борта тральщиков, переваливая их с боку на бок, со скрежетом наструнивая якорные цепи, — неведомо какое беснованье и жуть творились в ту ночь на море, в какой‑нибудь сотне саженей от жарко натопленных, парных, освещенных ясными тюльпанчиками кают, и сон по каютам от этого был особенно уютный, зябкоподжимчивый, как при недомоганье.
И чуть ли не с рассветом начали выбегать на палубу самые охочие из городских гуляльщиков — посмотреть, а заодно и помочиться спросонок за борт… Смотреть было невесело. Море мчалось за бухтой, как побоище, темное, дико расхлестанное, все изрытое бешено плясучими смерчевыми буграми. Неслышно и тошно кружились разъеденные холодом берега, низкое небо, палубы. Клочья дыма отрывались от туч, неслись над пучиной потерянными птицами… Гулялыцики с матерным причитаньем, пиная ногой что попадалось на пути, валились обратно в кубрик.
Опять заперло бригаду в нежилых берегах, отрезало от бульваров и кофеен — на сколько еще дней?
Для верхнего начальства, конечно, по-прежнему гоняли автомобиль в Севастополь — и утром и вечером. В машине восседали лейтенанты Скрябин и Бирилев (третьего начдивизиона — Дурново, из‑за слишком памятной фамилии, сплавили в какой‑то захолустный отряд тральщиков). Мангалов, еще более распертый вширь, занимал сразу два сиденья. Иногда к начальству примащивался Блябликов. Рокот автомобиля, возлетающего вечером за сумрачные херсонесские нагорья, грустно раздражал, подмывал бежать вслед — в шумы, огоньки, в интересные передряги и волнения города… А в бухте — что оставалось делать? Только спать до ломоты в глазах, дуреть от однообразного ветряного воя. Штормом сбило последнее зеленое оперенье с сиреньки, качался на пригорке голый прутяной ворох.
Чуялось всем — бесповоротное надвигается на бригаду…
Верхи глухо притихли. Все приказания, получаемые из недр непонятного им, словно вверх ногами перевернутого города, выполнялись покорно, без лишнего шума. Получив бумажку о скорейшей передаче «Джузеппе» в революционную флотилию, Скрябин даже не подивился и с готовностью наложил резолюцию: «На исполнение поручику Свинчугову». Предписывалось в два дня подготовить тральщики, проверить машины и отбыть в Севастополь на погрузку угля и снарядов. Явно: Свинчуговым и «Джузеппе» жертвовали, их без спору, равнодушно отдавали на съедение чужакам, только чтоб не раздражать и не потерять большего.
Но Свинчугов ходил лютый.
Странно, что кают-компания на этот раз не горячилась и не судачила, как обычно, и потерпевшему не выражала никаких знаков сочувствия или негодования. Свинчугова даже заметно сторонились, словно обреченного… Каждый думал теперь только о себе.
На третий или четвертый день шторма, — памятный еще тем, что на «Каче» и на других крупных судах бригады внезапно и черно задымили трубы, — старый поручик, вытягивая папиросу из шелеховского портсигара, неслыханным для него, добитым голосом пожаловался:
— Я, молодой человек, в первый раз в жизни узнал сейчас, что такое нервы!
И, должно быть, нервы заставили его несколько позже сделать ожесточенное и решительное лицо и прорваться на аудиенцию к самому Скрябину. Неизвестно, что произошло наверху, в начальнической рубке. Володя вообще не выносил резких разговоров и теперь большую часть времени проводил за пианино, даже распоряжения зачастую отдавал, не снимая с клавиш тоненьких ручек в манжетиках. Видимо, он хотел одного: чтоб его оставили в покое…
Видели, как Свинчугов сбежал сверху, не разжимая губ, словно боясь дать волю неистовой буре, клокотавшей у него внутри. Однако никто даже не поинтересовался, чем расстроил его Володя. Было не до этого: на берегу ни с того ни с сего, без повестки горниста засуматошился народ, загустел толпой около минной свалки, — событие столь же тревожное и необъяснимое, как и внезапные дымы из судовых труб… Только Лобович нашел время отвести Свинчугова на шканцы, прохладить на ветру, подбодрить.
— Да брось ты, старая балалайка! Куда тебя пошлют, никто не пошлет, все — одна проформа, ерунда. Знаю я! Обойдется…
Поручика трясло, он почти рыдал от злобы:
— Да кто он мне такой, Центрофлот, какой такой, едрена, Центрофлот? Какое он мне, шкалик, имеет право? Я Миколашке… тьфу!., я государю тридцать лет отхропал…
— Ты подожди, не брыкайся, сядь вот тут, подожди… Не видишь, что в бригаде накручивается? Я тебе дело говорю, я знаю: ты посиди…
Со всех тральщиков наперегонки сыпались бушлаты на мостовую, некоторые с винтовками, чего на бригадных митингах не видно было никогда. Клеши на заплетающихся от ветра ногах хлестались, как флаги.
У бочки сразу набралась тысячная толпа. Офицеры тоже подбредали к краешку — недружно, с оглядкой.
Боцману Бесхлебному, который по живот вылез над головами, снизу впихивали в руку какую‑то бумагу:
— Читай, читай! Ша, товарищи…
Сзади Блябликов тронул Шелехова за плечо:
— По какому поводу митинг‑то, Сергей Федорыч?
— Не знаю.
— А еще член бригадного комитета! Ни черта они нашего брата признавать не хотят. — Блябликов таинственно понизил голос: — Помните, чего я вам тогда говорил‑то?
— Ну?
— Ну вот, это самое и начинается. Полный разгул всей бражки, Сергей Федорыч, Они ведь резолюцию ему подсунули, всю бригаду в город хотят увести.
Шелехов недоверчиво обернулся:
— А вам откуда все известно?
— Зачем же они с утра пары самочинно развели?
Блябликов повел рукой на бухту, которая шаталась в кромешном дыму, как ночь.
— Что вы думаете, конец ведь, Сергей Федорыч, нашей службе, а? Я не за то говорю, что плохо: все, конечно, очень хорошо, по настоящей политике, как и должно быть. Но только про себя все ж даки думаю: в отставочку надо подать… пока…
— Что это вы… вдруг? — подивился равнодушно Шелехов.
— Вот видите, в город, на рейд все хотят. А там какая служба? Вечером когда, при нынешнем хулиганстве, пройти‑то боязно… Слыхали?.. — Блябликов совсем перешел на шепот: — На «Фидониси» лейтенант, говорят, вчера застрелился, и очень странно застрелился, в спину, а? Ночью было дело. И револьвера не нашли. Вот как на рейде!
Слушать Блябликова не лежала душа: его рассказы еще больше омрачали придавленный, растрепанный этот день. Шелехов тянулся слухом к боцману, который отрывисто, лающе читал… но слова того пропадали за ветром.
— Там, Сергей Федорыч, попадешь под чью горячую руку — и прощай! Теперь ведь судов нет, все больше самосуды. Жизнь — копейка! Вон на Корабельной матроса зарезанного нашли… Личные счеты, конечно. Или вон вчера я в порту был, пришел как раз из Сулина заградитель «Ксения» — и с приспущенным флагом. Спрашиваю — почему? Да, говорят, в трюме у нас тело лейтенанта Скадовского, — его братишки угрохали… Да. А тут, в бухте мы… как у Христа за пазухой: надо Сказать, хорошо это время прожили, Сергей Федорыч, невозмутительно. Другие в городе сколько за это время здоровья потеряли!
Что‑то еще беспокоило в словах Блябликова.
— Вы моряк, — сказал Шелехов, — а говорите — в отставку? Как же вы сможете без моря?
— А-а… что вы говорите: моряк! Никто так не ненавидит море, как моряки, вы не знали?
— А вы, батенька, думали? — язвительно вступился подошедший Лобович. — Эх-хе-хе! Вы ведь у нас дачник! Это оно, описанное в романах море, хорошо, и публике издали очень нравится, вроде как, например, у писателя Станюковича. А попробуйте всю жизнь на нем по специальности послужить! Штормяги, ревматизмы, семьи по месяцу люди не видят. Не то что любить, — душу воротит от него!
Словно сговорились в этот день — ущемлять неприятными неожиданностями. Отказаться от моря? Но, несмотря на то, что Шелехова не связывал с ним кусок хлеба, он почувствовал бы себя без моря разоренным, нищим… Почему?
Вон Мерфельд с Ахромеевым не задумывались над такими вопросами. Друзья собирались удрать под шумок из неспокойного Севастополя, демобилизоваться и устроиться в Петрограде на штатскую службу. Уговаривали и Шелехова. А капитан, Пачульский, владыка «Витязя», с особой приязнью относившийся к молодому мичману за его деликатную интеллигентность, выделявшую его среди прочих бурлаковых офицеров и помощников, соблазнял Шелехова Одессой, где, по словам капитана, все директора гимназий и реальных были его закадычными приятелями. Только шепнуть им или написать небольшое письмецо, и служба Шелехову обеспечена… Одессой бредила команда «Витязя», об Одессе без памяти тосковали лихие капитаны и капитанские помощники. И ведь туда могла бы переселиться и Жека!..
Но Шелехов медлил пока с ответом… Или не все мальчишеские надежды еще отгорели?
Рядом с боцманом, из середины галдящего котла вымахнул Фастовец, изломался весь, как дергун.
— Братцы, — драчливо завопил он, — да шо ж мы здесь!..
Фастовец был дик волосом: видать, совсем забросил себя матрос перед демобилизацией. Глаза в косматых глазницах катались, белые, дурные.
— Оце каторжанин! — не вытерпел и крикнул кто‑то восторженно. — Оце гарный украинец!
Кругом захохотали. Шелехову же кинулась в глаза нещадно продирающаяся вперед офицерская шинель, от спешки вздрюченная на спине горбом. Узнался гневно выкаченный зрак Свинчугова. Почуял неладное, рванулся было за ним, но толпа шарахнулась, отдала назад…
Сперлось все, наверху надсаживался Фастовец:
— Шо мы здесь собрались? Я про это усю правду расскажу! Усе это написано, товарищи, не для революции, а для бабы! Которые товарищи ходят к бабам спать на Корабельную слободу, то им, конечно, отсюда дюже далеко, и они за собой усю бригаду у Севастополь тянут, а у которых баба поближе, скажем — от тут на Карповке, так те холосуют против…
— Позор! — скрежетно въелся в уши чей‑то возглас, похожий на свинчуговский.
— Неправильно! — заштормовало под бочкой. Бурлили круговоротом бескозырки, чубы, винтовки.
Где‑то озорничали, свистели:
— Долой, долой!
— Слыхали, товарищи, чья дудка?
Фастовец, скалясь, махнул рукой и слез вниз. Толпа ходила каменными валунами, слепая, налитая насмешками и грозой. На крыле ее в особину отобралось меньшинство, которое стояло за бухту — «карповские», большей частью — отъявленные лежебоки или гулены, и часть стариков, которым перед уходом в деревню не хотелось зря авралить с переездом. Эта кучка свистела и орала.
Новый влез на бочку. Шелехов, смахивая надутую ветром слезу, вглядывался и не верил глазам. Оратор медленно и картинно выставил ногу вперед, заложив руки за спину. Несомненно, мичман Винцент. Высоко-высоко, над серой громадой «Качи», едва различалась прилипшая к фальшборту внимательная щуплая фигурка Скрябина.
«Вот откуда подуло», — догадался Шелехов.
Винцент, не убирая рук из‑за спины, вдохновенно и властно занес подбородок.
— Товарищи! — зыкнул он на всю набережную таким неестественным, пронзительным горловым альтом, что притихшее многолюдство вдруг закашлялось и беспокойно запереступало с ноги на ногу. Да и сам оратор опасливо пощупал пальцами кадык.
— Товарищи! Вы здесь собрались решать вопрос, но не спросили себя, можете ли вы его решать.
Два мичманских черносливных глаза озирали сборище якобы с недосягаемых высот.
— Взглянем! Эти во-про-сы: о дислокации отдельных судов и отрядов… Они подведомственны одному оперативному командованию. Вы же, товарищи, есть только толпа!..
— Что-о?
— Как толпа?
Все сбились с мест, заводоворотило около минной кучи:
— Да как ты смеешь? Брехло!
— Толпа!
От головы к голове, как в строю, передавалось тем, кто не слышал, отгулом взволнованно хлестучим неслось:
— Говорит, сволочь: вы толпа.
Винцент, криво скалясь, пытался разъяснить:
— Я, товарищи, в том смысле…
— Мы тебе не товарищи, мы — толпа!
— Скажи еще, что чернь!
— Он сам из черных чернее всех!
— Все они… калединское племя… не дождутся…
Прорвалось навзрыд:
— Вон га-а-ада!
Офицер, пожав плечами, с видом пренебрежительного равнодушия полез вниз. Но пронзительный охальный свист, посланный ему вслед, заставил его зябко съежиться, улыбочка на обезьяньей бакенбардной мордочке обернулась растерянной, побитой. Шелехов, глядя на него, сам готов был так заулыбаться. Случилось неслыханное: бригада траления, смирнейшая во всем флоте, прогнала самым срамным образом и освистала офицера! Тут дело было не только в Винценте. (Шелехов, движимый любопытством, оглянулся на качинские высоты: так и есть, Скрябина уже и след простыл, только одни пустые снасти сотрясались в желтом дыму.) Приходил явный конец чему- то или кому‑то.
«Вот чего не договорил тогда Зинченко, — туманно и неприязненно мелькнуло у Шелехова, — а может быть, и сам он подстраивал все втихомолку?..» Но ни зинченковой и ничьей другой ведущей руки на сборище не чувствовалось. Даже председатель — боцман, после конфуза с Винцентом, счел за лучшее смыться куда‑то. Бочка пустовала. Из ругачих и крикливых голосов закручивалась склока. Кругом давилась непролазная чащоба усатых, зубастых, напыженных докрасна лиц. Что‑то напрягалось и раздраженно зрело в толпе, вот-вот готово было перехлестнуть через края…
«Скорее бы голосовали, черт с ней и с бухтой», — тоскливо волновался Шелехов. Да и не было уже ее, прежней бухты… Помутневшее небо, похожее на низкосводчатый подвальный потолок, валилось на землю, на обсвистанные ветром бугры, на пошатывающиеся трубы грязнотелых, заваленных разным скарбом, неприбранных тральщиков. Зачем ему эта случайная и неприютная чужбина? Пока так думал, случилось самое скверное и бессмысленное, что вообще могло случиться: на возвышение с беспощадной решимостью вскарабкался распаленный Свинчугов.
— Здорово, ребятки!
Голос скрипел зловеще-ласково, кулаки беспокойно ерзали в карманах долгополой расхлябанной шинели.
— Слушали вы много разных орателев, ну, теперь дайте и мне слово молвить, старому служивому человеку.
Должно быть, сказалась всебригадная похабная слава шута-поручика: матросы приняли его с неожиданной, почти дружелюбной веселостью:
— Валяй, валяй!
— Сбреши что‑нибудь почуднее!
— Про попадью, да как ее дровосек‑то…
— Дровосек не дровосек, а надвое рассек, ха-ха!
Плескался захлебистый матросский смех. В лад ему качалась на толпяной зыби Маркушина физиономия, как осклабившаяся луна. Качалась опротивело, напоказ. Все это мучительно раздражало своею неуместностью, дразнило какую‑то беду, и без того висящую на волоске. Недаром Мангалов с Блябликовым вдруг снялись с места и бочком, не оглядываясь, засеменили к «Каче»… Свинчугов, ошеломленный, пожевал щеками и гневно вытаращился на кого‑то из передних:
— А ты что гогочешь, что пасть расхлебянил? «Гы-гы-гы!» — злобно передразнил он. — Я вам не смехом… Не в бирюльки пришел с вами играть. Я вот при всех… заявление делаю!
Должно быть, и толпа почувствовала нечто нешуточное в раздерганных, лихорадных движениях Свинчугова. Смех приостановился, отовсюду стелилась любопытственная тишина.
— Вот что, товарищи хорошие, — нажиленным ласковым голосом играл Свинчугов. — Был я ныне у своего начальства с одной просьбишкой, но начальство взад обратно послало меня к его превосходительству, господину Центрофлоту, которого не имею чести знать. Так вот заместо него обращаюсь к вам всенижайше. Я тридцать лет прохропал батюшке… флоту, будет, спасибо! Имею знаки отличия: ревматизм и геморрой всех четырех степеней. Словом, ребятки, ищите для вашего доблестного походу другого командира, а меня прошу освободить… по слабости лет и старости здоровья… тьфу ты черт! — с нарочной издевательской придурковатостью сбился он.
— Понима-а-ем! — ядовито заметил кто‑то из толпы. — За Миколашку тянешь.
— Я не за Миколашку тяну, — с достоинством ответил Свинчугов, с насильным достоинством, потому что голова его припадочно тряслась, глаза пучило. — А вот что… я задницу не желаю иметь поротой. Это пущай другие подставляют свои, демократические, а у меня старого режима…
Матросы, опешив, подавленно дохнули:
— Ага-а…
Тотчас же ражие затылки заслонили перед Шелеховым Свинчугова. Толпа тысячепудовой волной пала вперед. Раздался урчащий злобный клекот. Резко лязгнуло.
— Стой, ударники… позор! — вопил задыхающийся, истошный голос.
Нельзя было ничего разглядеть среди костоломной давки, в которой Шелехова месило из стороны в сторону. Только на месте Свинчугова, поверх бучила винтовок и шапок, метался Зинченко — это он кричал, но голоса, по-видимому, уже не хватало; Зинченко то и дело хлястал себя ладонью по лбу, стараясь заломить бескозырку погрознее и хоть этим устрашить, подействовать… Там же, в недрах толпы, мелькнула знакомая, с приподнятой сзади, по-нахимовски, тульей фуражка Лобовича, тоже отчаянно уговаривающего или стыдящего за что‑то налегающих на него грудями матросов. Зинченко надрывался из последнего:
— Арищи, стой! Теперь мы знаем, арищи, кто такое есть наши фицера — а!
Припало непрочное затишье.
— Мы за офицеров молчали пока — а… Мы ихней маски касаться не хотели!.. Но теперь они сами с себя эту маску содрали. Теперь, арищи, мы знаем… Но только мы не станем свои руки марать об гада… мы его заарестуем, арищи, и предадим на наш справедливый революционный суд!
Новая корча злобного галдежа прошлась… Одни кричали «правильно», другие продолжали осатанело рыть матерыми плечами тесноту, со зловещим упорством продираясь к бочке. Но винтовки уже скапливались вокруг Зинченко внушительной железной стражей.
— Тут, братишки, не один Свинчугов у нас!..
Визгом въелся из‑под ног Зинченко щуплый, с ухарским чубом, в приплюснутой бескозырке, такой же ядовито-ревностный, как тот, гаджибейский:
— Тут самая контра собралась со всего флоту! И самый злостный корень, со старого режиму и по настоящее время, есть наш капитан Мангалов… которого давно бы из бригады за все его фабулы… поганой метлой по глазам!
— Р-раво! — восторженно забушевало скопище.
Шелехова, к его радости, выбросило прямо на витязевских, которые жались вместе: длинный, мрачно-жуликоватый Каяндин, подслеповатый моторист Кузубов, Опанасенко, бирилевский вестовой Хрущ. Они тоже наперебой, горделиво орали «вон» и «долой». Перед Шелеховым расступились гостеприимно, укрывая его в свою сердце- вину. Кузубов расцвел, скалился по-праздничному:
— Вот до спектакля дожили, чего дороже нет в жизни!
Зинченко спокойно командовал — в упор, в лютые бессчетные глаза:
— Арищи! Если вся бригада выражает согласие, то мы своею властью постановляем: сместить Мангалова, бывшего капитана… уволить из бригады совсем.
— По шеям!
— Лобовича командиром!
— Лобовича!
Кто‑то кинул негромкий одинокий голос, отчего толпа на миг беззвучно и ошеломленно притаилась. Даже слышно стало, как орудийно-глухо сотрясается от шторма земля.
— Что, что? — задергал Хруща недослышавший Шелехов.
— Тот… Лобович сказал, что добровольцем пойдет с ударниками… заместо Свинчугова, на «Джузеппе».
— Добровольцем?
Шелехов мигал заболевшими внезапно, застелившимися глазами. Гордость за другого человека, как за самого себя, пронзила, остановила дыхание. Или не гордость, другое что?.. Проспал, проспал, недоглядел чего‑то, что само давалось в руки, — а поезда уже не догнать, мчится и ликует где‑то за тысячу верст впереди!.. Почему Лобович это сказал, а не он? Тот самый Лобович, что имел обыкновение в белом с иголочки костюме, блудно поматывая бедрами, фокстерьерничать по Нахимовскому…
Напряжение, сцеплявшее его в одно с толпой, вдруг горько подсеклось, повяло. Гомон голосов, упорно выкрикивающих теперь Маркушину фамилию, бился в ушах постыло, утомительно. Вместо Лобовича матросы требовали Маркушу… Каяндин по-озорному орал наперекор: Шелехова!
— Шелехова-а!
Витязевские, буйно обрадовавшись, подхватили, взревели так рьяно и оглушительно, что Шелехова скорчило от стыда. Кузубов, несмотря на умоляющие одергивания Шелехова, при нем же нахваливал его окружающим.
— Он у нас в бригаде самый народный, первый из всех демократ, его за это Мангалов все время от народа затирал, на «Витязь» сослал, чтоб от народа подальше…
Но — или недослышали впереди, или стерлось многое с лета из матросской памяти… Маркушу триумфально избрали командиром «Качи». Он показался на минуту над толпой, поднятый на многих руках, с выпученными прямо над собой, как на параде, обеспамятевшими глазами, держа на отлете фуражку в руке и так закаменев, словно для моментального высокоторжественного снимка. Половодье митинга явно пошло на убыль. Да и короткий день переломился за полдень, ближе к сумеркам, а впереди еще предстояло провести корабль через злобствующий шторм, ошвартоваться в Севастополе. Оттягивать до завтрашнего дня не хотело большинство. Постановление о переходе бригады в город, для формы оглашенное напоследок Зинченко, было подхвачено поспешным, злобно ликующим «ура»… И народ врассыпную пошел по кораблям.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Полмесяца минуло, как под музыку, под прощальный рев орудий, под озорное «ура» отвалила на Ростов утлая ударная флотилия.
И Шелехов с бульвара помахал «Джузеппе», который под предводительством Лобовича замыкал кильватер. Единственный офицер, рискнувший пойти с ударниками в неведомую авантюру — из странных, почти евангельских побуждений, — Лобович нисколько, казалось, не сознавал необыкновенности своего поступка. И на «Джузеппе» — с трубкой во рту, по-обычному озабоченный, шутливо-сердитый. Нерасстанная, «Кача» тоже отправилась за ним в поход. Зинченко, Любякин и Бесхлебный шли впереди — на «Сакене». На безлиственном сумрачном бульваре, среди провожающей немноголюдной толпы почудился заплаканный носик Тани… На рейде орудия палили разгульно, бессчетно, — братва дорвалась побаловаться, не жалела холостых патронов, — словно с ликованием хоронили суденышки, отважно пропадавшие за горизонтом.
А в Севастополе, на палубе и в кубриках опять закопошилось ежедневное. Кто балакал о прибавке к жалованью, кто ждал выдачи обмундирования, кто считал дни до демобилизации. Вились по утрам камбузные дымки. Правда, тяжелела над этой ежедневностью непонятная хмурь… Однако на «Витязе» жили празднично. Случилось то, о чем месяц назад смели только мечтать: пароход отправлялся на днях в товаропассажирский рейс в Одессу. Ровесники «Витязя», прочие пароходы акционерных обществ, состоящие в бригадах гидрокрейсеров или заградителей, давно гуляли по морю как хотели. Для «Румынии», «Принчипессы Марии» — этих счастливцев, не потерявших и с войной стройного щегольского изящества, — то и дело отворялись боны, за которые удалялись они с видом увеселительных яхт: на Батум, Новороссийск, Трапезунд, Одессу. И правда — команды иных судов, пользуясь случаем, перехватывали в кавказских портах то, по чему голодал Севастополь, — кожу, сахар, муку, и по возвращении приторговывали, не скрываясь, тут же на рейде, ошвартовавшись у городской горки; нередко у сходни толпился разноцветный чередок.
Боевые суда негодовали и выносили суровые резолюции, клеймящие мародеров. Ведь ударники в это время жертвовали жизнью под Ростовом! Но иные завидовали гидрокрейсеровской вольнице, ее раздольному житью, гульбе, всегда полному карману. Вольнонаемные на тральщиках требовали и для себя равенства. Через свойские судовые комитеты поднажали на Центрофлот, через покорное начальство — на штаб и добились своего.
Среди команды и вольнонаемных до поздней ночи шло балаканье насчет всяких приятностей и чудес, которыми удивит Одесса-мама.
И матросы бирилевского штаба деловито шушукались. Ваську Чернышева, посыльного, гоняли на «балочку», — так назывался севастопольский базар, — губили робу и казенное масло: на оборот требовалась монета. Шелехову, как своему, пояснили:
— Наберем сообча со всей команды шевра: там шевро, в Одессе‑то, на ять.
— А что вас на деньги такая жадность взяла? — вяло допытывался мичман.
— Засолим. Деньгу до дома засолим, до самой демобилизации.
— У нас вот кому больше всех надо. — Чернышев, плотовщик из Кунгура, не обломанный еще службой, пугливо стыдился, тупя глаза, как дитя. — Отмочу, говорит, новый шикарный клешик у вольного портного, острыгусь под польку — и в деревню. И как, говорит, только туда заявлюсь, сичас же на луг, а девки, говорит, кругом меня, кругом да кругом, да все с…ть!
Поярчели зеркала в салоне, малиновее стали бархатные диваны; даже вид витязевских труб, словно отплывающих уже, тонущих в морскую невидаль, рождал в береговом сердце томливую зависть. Качинские лазили к нач- бригу наверх, клянчили насчет похода… Но мест в каютах оставалось мало: в рейс шел сам Скрябин, и с ним в качестве гостей несколько именитых лейтенантов из минной бригады. Каждый из гостей вдобавок старался устроить своего пассажира или пассажирку. Шелехов тоже, с застенчивым волнением, попросил у Бирилева разрешения — провезти в своей каюте одну знакомую.
Приходил на «Витязь» Пелетьмин, блестящий Пелетьмин, бывший боцманмат юнкерской школы. Возможно, он был знаком с Бирилевым где‑то за пределами службы. Он хотел бы поручить господину старшему, — «ну-ну, просто Вадиму Андреевичу!» — поручить Вадиму Андреевичу свою драгоценную половину. Ей, Вадим Андреевич, необходимо перебраться в Одессу, потому что, говорят, скоро возвращаются эти горе — ударники и ожидаются всякие… Ерунда, конечно, но дамы так нервничают!.. Да, да, Бирилев готов был с удовольствием взять на себя это обязательство, приятное обязательство, и даже, если позволите, развлекать даму дорогой!..
Бирилев говорил с ним настоящим, жизненным, а не служебным голосом, как с человеком своего круга, — это у них обоих вышло само собой. С Шелеховым Бирилев не говорил так никогда. Шелехов сидел при этом разговоре у стола, водил пальцами по костяшкам случайно оказавшихся на столе счетов. Пелетьмин, узнав его, только сказал наскоро «а — а» и поздоровался, не задержав руки.
Может быть, вспомнил о стыдной, недостойной офицера сцене во время раздачи вакансий в адмиралтействе? В этот раз он был особенно красив и высокомерен.
…Так красив и уничтожающ, что после — метаться по пустой кают-компании, изливая горечь издерганными, искусанными губами:
— А — а, калединцы, сволочь!..
Однако стоило только подумать о том, что через два-три дня он увидит в своей каюте Жеку, что близится неминуемый срок обещания… Стоило только подумать! «Витязь» покачивался чуть-чуть, весь окутанный невероятием.
* * *
Скудные и темные доносились вести об ударниках. К Дону удалось прорваться с большой натугой. Соглашательская Керчь не хотела пропускать большевистскую флотилию. Пришлось остановиться, достать жару из братвы, сидевшей на батареях и охранявшей пролив. В устье Дона казацкие генералы распорядились затопить баржи с углем, потушить маяки, снять вехи. Водники не исполнили приказания.
Ночью того же числа, когда флотилия ошвартовалась у Ростова, офицерские и юнкерские отряды, в ответ на матросский ультиматум, захватили в кино «Марс» часть ревкома и красногвардейского штаба, перекололи и бросили в Дон.
Неделю длились зверские бои у ростовского вокзала. Целую неделю длилось безвестье. Флотилия расстреляла все снаряды, но севастопольский Совет и штаб, неодобрительно поджидавшие конца бесчинной затеи, на просьбы о подкреплении отвечали молчанием. Каледин опять вошел в Ростов. Победители вырезали и потопили в Дону четыре тысячи красногвардейцев. Черная память залегла в матросской душе. Флотилия ушла обратно, нагруженная ранеными, позором и яростью, еще издали, по радио пообещав кое‑что, с проклятиями, меньшевистскому совету.
А многие, гульнув по дороге в Мариуполе, погромив там соглашательскую раду, повернули сухопутьем на север, на присоединение ко второму, более грозному ударному отряду. Две с половиной тысячи человек при трех орудиях и нескольких самолетах, под командой мичманов Толстого и Лященки, двигались наперерез Корнилову, подававшемуся на Дон с запада.
Закачалась по Украине пьяная и лютая матросская слава. Гололобые отряды, глуша контрреволюцию прикладами и гранатами, взвивались от Мариуполя к Харькову, от Харькова к Белгороду, от Белгорода к Александровску — туда, где горело и трещало посильнее. Впервые хлебнув крови, матросы не знали теперь предела своей беспощадности. Из высокомерия перед ненавистными золотопогонниками, даже под ураганным огнем не хотели ложиться, шли в атаку стоя. Остервеняли себя легендами о собственной храбрости. У Псела гнали на сто пятьдесят верст шестнадцатитысячный скоп корниловцев, несмотря на полуторааршинный снег и железный мороз, злее пуль хватавший под куцые бушлаты. Под Пселом и своих — замороженных и убитых — была наворочена куча. Ударники подобрали всех, снесли в эшелон. Боцман Бесхлебный признал в одном трупе с разорванным животом сигнальщика Любякина, бригадную красу.
Для Севастополя то были дальние, объятые теменью дела. На улице после ростовской неудачи подул обратный ветер.
— Братоубийственная смуть… Зачем было наскакивать матросу, неуемничать, путаться не в свое дело? Конечно, ударилась на это самая бражка, которой было бы где повольничать и пограбить!.. — Так высказывались смирные, рассудительные годки вроде электрика Опанасенко, доказывавшие, что все надо было тишком да ладком.
— Вот поцарюют захватчики до Учредительного, а там стоп. Народ стал не дурень, теперь на шарап не проживешь!
Годки лезли в уличные споры, дерзче становились на язык.
Да и в самом Совете громчели голоса насчет того, что «спасение народа и революции не в междоусобной резне, а в создании нового временного правительства. Не правительства буржуазии или большевиков. А правительства, основанного на соглашении всех социалистических партий…»
Блябликов, сидя в кают-компании за жареными бычками, умилялся:
— Приятно стало, господа, по улице прогуляться, душа отдыхает. Говорил я… Вот того… обратной водой уж пошло!
Однако на улице же электрик Опанасенко нарвался один раз на неприятность. Опанасенко вообще хаживал только в два места: на Корабельную — к одной бессемейной вдове — и на Нахимовский, в городскую раду — «послухать, как хлопцы вола гоняют». На Нахимовском не понравилось ему, как один малец, не по годам языкастый, растолковывал народу, что такое война с буржуазией, которую проповедуют большевики, и почему это не есть война братоубийственная.
— А по мне бы так, — перебил его Опанасенко, сплевывая цигарку и степенно ее затаптывая, — по мне бы, взять этих главных большевиков да Каледина, да усех бы на одну веревочку. Шоб нам потом дружно було жить!
— Странно, товарищи, наши же братья — матросы дают за эту идею свою кровь…
— Та какие мы тебе, жидку, братья? — ласково осерчал Опанасенко, которому бойкость паренька въедалась почему‑то в самое нутро.
За паренька вырос теневой, коренастый — чугунной тумбой.
— А ты кто такой, спросить, за факел?
— Я не хвакел, годок, а такой же матрос…
— Не матрос, а отброс… Ну, катись, пока жупан не вывернули, не пощупали, кто такой ты есть.
— Не пыли, — мог только ответить смутившийся Опанасенко.
— То не демократ уж был, а идиот какой‑то, — жаловался он потом штабным. Опанасенко ревностно блюл свое достоинство члена судового комитета.
Про ударников погодя прошел слух, для иных очень облегчительный, что все они поголовно порублены.
И мало кто, конечно, ведал, с каким похмельем в башках и с какой страшной кладью в эшелоне гремит обратно ударная вольница, поклявшаяся прочкнуть глаза братве и дощупаться хорошенько дома до своих собственных гадов.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Под вечер, в бесснежном декабре, «Витязя» подвели к городской пристани. Шелехов, торопясь на катере через рейд, злился на Бирилева, который (нашел время!) перед самой посадкой, когда каждая минута была на счету, вздумал послать его на «Гаджибей» с запиской к Пелетьмину, — несомненно, по тем же дамским делам; и лишь по мягкости характера Шелехов не сгрубил, даже, для спокойствия Бирилева, принимая поручение, согнал обидчивую кислоту с лица. Жека, если бы узнала, наверно презрительно отвернулась бы от такого… Вдобавок на катере задиристо балаганил какой‑то подгулявший портовый, — правда, на дальнем конце судна, но самое неприятное долетело и до Шелехова:
— …А всех офицеров бы на баржу, в море вывезти — и туда!
Портовый для ясности большим пальцем козырял в воду.
Хуже всего, что рядом с портовым стоял офицер, по необходимости — слушал, и по затылку было видно, что насильно, унизительно, в лад всем окружающим тоже улыбался.
— А ты? А тебя тоже следом? — зубоскалили над портовым матросы-пассажиры.
— Ни-эт… я туда не хочу…
За воду, за облезлый утюг «Георгия-победоносца» западал бессолнечный закат. В небе стоячей пеленой затек дым. Над рейдом, как и все эти дни, коснело запустение, неуяснимая мрачность… Время подходило к посадке, а надо было еще прибрать кое‑что до прихода Жеки.
«Витязь» притих — празднично-пустой, распахнутый гостеприимно, немного чужой в своей принаряженности. Даже в собственной каюте Шелехов уловил это чужое, мечтательно глядящее куда‑то поверх него, временного и бесплатного жильца, — может быть, то воскресали тени давних рейсов, иных, перебывавших тут и ушедших пассажиров, теперь перевенчавшихся или убитых… мало ли что могли припомнить каютные стены!
Воровато и беззвучно запер двери, словно боясь, чтобы кто‑нибудь не застал его за постыдным занятием. Достал из стенного шкафчика одеколон, опрыскал малиновый диван, полог постели, подушку и простыни… А какими У словами ее встретить? Например: «Как вам нравится моя каюта?» Или: «В этой комнате каждый кусочек пропитан мыслью о вас…» Или: «Ну, вот сейчас я увижу вас при свете, увижу, наконец, какая же вы!»
Носком ботинка отшвырнул подальше под койку вихор грязного белья, свернутого жгутом и кинутого туда по, студенческой привычке. Тщательно смел ладонью табачные крошки с дивана и с ковровой скатерти на столе. Отошел к двери, оттуда еще полюбовался на каюту, уронив голову к плечу. Кажется, все в порядке. «Ну, вот сейчас я увижу вас при свете, увижу, наконец, какая вы!..» И вдруг лизнул под сердцем огненный жуткий язычок: жутко стало, словно только сейчас уяснилось до последней резкости, для чего он делал все это — и с одеколоном и с крошками, к чему он готовился. Да ведь это Жека придет сейчас, останется здесь на всю ночь… На всю ночь с ним! Он все‑таки не верил. Неужели через час вот на этом полу будут ступать, будут теплеть ее ноги? Шелехов опустился на колени, чтобы получше разглядеть ковер, — нет, чтобы самому прикинуться на минуту ковром, увидеть на себе ее ноги, увидеть проносящуюся, недозволенную глубь платья. Мастеровой и насильно улыбающийся офицер, занесенные сюда с катера, отошли, стерлись туманно…
А наверху, судя по разбойному топоту, начали прибывать пассажиры. Мордастый и нахальный помощник капитана Агапов проверял у сходни пропуска. Шелехов, укрывшись за его спиной, в ознобе нетерпения таращил глаза на пристань. Палуба засеялась неизвестным народом — из тех, кто попроще, которым не полагалось места в каюте; кряхтя, полз обычный дорожный скарб — узлы, сундучки, торбы с котелками и чайниками; чинные лейтенанты вели под локотки ахающих на зыбкой сходне, щуристых дам. Мордастый Агапов каждой женщине старался заглянуть в глаза, а потом еще взад на ноги; у тех, которые попроще, задерживал пропуск вместе с пальцами в вязких своих руках, изловчась в то же время свирепо, всей скулой подмигивать Шелехову:
— Вот товар!
Агапов был прочный, деловой парень, все существование которого составлялось из очень несложных, но просто и доброкачественно отправляемых функций: пищу, например, он не ел и не кушал, а жрал; жалованье — загребал и ссыпал в левяк; женщин… тут, хотя у Агапова в каюте перебывали в свое время путешественницы самых разнообразных мастей — от простодушных купчих и задыхающихся в корсетной подпруге гранд-дам до модных, избалованных истеричек, — для всех предназначалось у него простое народное слово, правда, опаскуженное заборными писаками, но у Агапова звучавшее как надо: доброкачественно и прочно:
— Вот товар!
По сходне поднимался Пелетьмин со своей дамой. Дама была как дама, с кукольными бровками И носиком, тоненькая и бедрастая, — по бедрам чуть не саданул ее один юркий сундук; тут она, ахнув, изогнулась и подняла глаза: линялые, цвета тусклого жемчуга, удивленные по- детски, не знающие, совсем не знающие ничего о жизни. Ласкать такую, как ласкают всякую женщину, было бы кощунством… Вот за что не пожалел отдать Пелетьмин свою независимость, свое взлелеянное женщинами тщеславие! Даже появившаяся, наконец, на пристани Жека с огромной желтой коробкой, прижатой к животу, показалась на секунду незатейливой и убого-стыдной, как когда‑то Людмила…
Впрочем, только на секунду. Что же, каждому свое!.. Ведь для него и Жека была недосягаемым мечтанием.
Закрывая ее собой от нагло-любопытных глаз Агапова, торопливо провел через палубу.
— Ну, как вам нравится моя каюта?
Старался, чтобы вышло развязно, по-хозяйски, но не получалось: так и стоял перед ней, обнимая коробку, растерянный, полубеспамятный.
Жека спокойно завела руки к затылку, отвязывая вуалетку.
— Что ж, обыкновенная пароходная каюта. Поставьте эту картонку вот сюда и, пожалуйста, больше моего ничего не трогайте. А вас восхищает каюта?
Шелехов непослушными руками старался осторожно, чтоб не звякало, наложить тугой крючок.
— Разве вы кого‑нибудь боитесь?
Его суматошливость выглядела очень жалко под лучами этого жестокого спокойствия.
Женщина сняла шляпу, попросила помочь ей освободиться от пальто. И вот она какая, настоящая Жека! Он сразу забыл про всех Пелетьминых на свете… Она стояла на свету, в том же вагонном сером платье сестры, но теперь (в первый раз в жизни!) ясно видимая, разоблаченная от сумерек вагона и улицы. Он пил ее всю, вплоть до морщин немного длинного, ядовито-умного рта. (Кто‑то говорил, что такие морщинки бывают только у женщин, а не у девушек. Но ведь Жека тоже…) Ужас в нем сменялся восхищением. Она была совсем не такая, какой он ее вообразил себе когда‑то в темном купе, не той Жекой, которая стала родным, теплым придатком его существования, которую он нерасстанно носил с собою всюду — и на вечерней вахте, и на митингах, и по страницам читаемых книг. Совсем не той! Волосы у этой женщины вовсе не темные, а бронзового, тускло-огненного оттенка, и слишком неожиданно яркая, слишком масляная чернота китайских глаз… и кожа южанки, темно-желтая, возмужавшая для страсти. Он испуганно любовался этим видением, чужим, очаровательным и вдруг так нежданно ему доставшимся. И он в самом деле касался ее когда‑то, держал в руках эту незнакомку?
— Присядьте, Жека, вы, наверно, устали?
Ох, как злился на свои ноги, которые, черт знает, словно отнялись, спотыкались, волочились расслабленно по ковру.
Жека примерной, тихой девочкой уселась на краешек дивана.
— Только… — Она серьезно поглядела на Шелехова и погрозила пальчиком. — Сережа, только…
— Нет, нет, — страстно заторопился он. — Нет!
Он лишь позволил себе поглубже усадить ее, — ведь диван был мягкий, очень уютный диван, пусть Жека отдохнет как следует, придет в себя на новом месте, — она повела на него медленными, полными озорства глазами, он позволил себе еще взять ее пальцы, голые пальчики, безвольно задумавшиеся в рукавных кружевах. И подумать только — вот эта женщина, эта охапка теплых волос, живых глаз, душистого платья — ему предназначена, обречена, именно для этого она присутствует в его каюте! Растроганный, ошеломленный, Шелехов сползал на пол.
— Нет, лучше встаньте, Сережа.
Когда и как очутилась на его плече вся ее жаркая и легкая тяжесть? Каждое касание губ этой рыжей незнакомки рождало и страх и ощущение бесконечного отдыха.
— Все‑таки, Сережа… вы должны… выйти… на минутку… — Между каждыми двумя словами она его целовала. — Хорошо? Хорошо?
— Зачем?
Но возражал нерешительно, туманно… ему самому, пожалуй, радостно было выпутаться поскорее из душного, нежданного наваждения. Ведь не так же скоро все должно случиться, не сейчас… Могучий скрежет якорного каната потряс стены; рядом, в коридоре, бежали и хлопали дверями. «Витязь» глухо снимался с якоря.
— Идите, идите!..
Жека встала с дивана. Послушный, он на прощание прижал ее к себе — одной рукой за жесткие, поддающиеся ему ключицы, другой за бедра. Черные зрачки близко-близко ширились и умирали — угарные, наслаждающиеся. Это «идите» она прошептала вовсе несвязно, уже не понимая смысла слов, и он знал, точно знал умом, что сейчас должен, обязан сделать, он искал — как получше, побережнее опустить на диван этот полутруп…
«Не смей, не смей…» — останавливал он, отчаянно уговаривал самого себя. Впрочем, самоуговаривание было только обманом, потому что он ничего не испытывал в эту минуту, кроме необъяснимого ужаса. Женщина ужасала его своею решительностью и беспамятством. Он был готов бросить ее, бежать.
И с облегчением вздохнул, очутившись на палубе, среди мягких надводных сумерек. Кровь ходила тише, в такт успокоенному дыханию машин. Кружились силуэты отстающих броненосцев и темная гора Севастополя, над которой заплаканно дрожала звезда. Какой фантастический вечер! Раскинуться бы телом — во всю его туманную необъятность, разлить по небу свое одурелое счастье!.. Круг воды за кормой раздвигался шире и шире, все мглистее и дальше становилась земля, и во всем подразумевался один и тот же счастливый смысл: что Жека удаляется от берегов Севастополя вместе с ним, что с Жекой еще все впереди, что с «Витязя» ей не уйти никуда.
Просторную палубу парохода заселил разный кочевой люд. Иные упали на узлы, стараясь скорее проспать долгое томление пути, иные прощально глазели с борта на исчезавший Севастополь. Кто были эти люди? Беженцы, сдвинутые с насиженных мест войной, или непоседливые искатели своего счастья? Целая семья, душ в во-. семь, прочно загородившись узлами от ветра, пристроилась около машинного люка, из которого истекало тепло. Паренек — не то в студенческой, не то в технической фуражке — налаживал балалайку, — Шелехов, бродя по палубе, поймал на себе его крадкий, завистливый взгляд… Пока другие доставали из мешков пищу и звякали кружками, паренек, как будто с горя, задрынькал и запел:
Одесса-мама, Одесса-град… Одесса лучше, Чем Петроград!Семья, полулежа и полусидя, слушала, подносила куски и кружки ко ртам. Пожилая женщина, как матриарх, растопырилась по-наседочьи, широкоподолая, скрестившая руки на коленях, умиленная многочадием своим, и путевой устроенностью, и песней… Таяли еле видимые степные берега. Когда умолкла балалайка, только дышали машины вслух да плескалось спокойное ночное море. Остановиться над бортом, как вон та пассажирка в шарфе, смотреть завороженно, не отрываясь, на пенистый бегучий след в воде.
«Одесса-мама… Одесса-град…» — звучала в ушах заразительная бессмыслица. Город, стоявший где‑то в конце сумрачного и сказочного путешествия, сиял сонными красками, как волшебный, освещенный изнутри диапозитив. Это был прекрасный город, потому что Жека ждала в каюте.
Пассажирка обернулась на шаги. Голова закутана черным шарфом, вихры кудрей вырываются наружу, чтобы кто‑то провел губами по сладкой их шероховатости. Кто на свете томится по этой женщине, чьи мысли сейчас издалека вьются тоскующе около нее? Пассажирка проводила Шелехова длительным, затаенно-подзывающим взглядом, — крупные, затуманенные, предрасположенные выражать муку глаза, какие бывают у белокурых. Конечно, не потому звала, что считала Шелехова одним из хозяев корабля и через него надеялась устроиться на ночь в теплой каюте: нет, такая заражающая, зовущая сила счастья непроизвольно истекала из него… А вот — подойти бы к этой женщине и рассказать, какое бывает счастье, и как глубок и нераскрыт мир, и какие еще города светятся на темных, подземно-спрятанных его ступенях! И даже гладить ей щеки и целовать, как сестру… И даже — в этот вечер, выпавший из жизни в область какого‑то рая, когда, кажется, всякое неразумие оправдано, — приласкать, овладеть ею на минуту: мало ли укромных темнот на корабле!.. И он кружил среди темнот, как пьяный.
Одесса-мама, Одесса-град…Агапов, неведомо откуда вывернувшийся, подхватил его под руку:
— Вам собственно до палубы какое дело, господин мичман? Вы на чужое не зарьтесь, не жадничайте…
— А что? — улыбнулся блаженно Шелехов.
— Затралили одну, чего же вам еще! Здесь наше, сиротское… А хороша у вас‑то… Я бы на вашем месте из каюты до Одессы не вылазил, изодрался бы весь, расшибся для такой… пусть помнит!
— А ну вас к черту, Агапов!
— А-а-а!.. — Агапов боязливо (не оскорбился ли мичман?) тер его ладонью по спине. — Я вот тоже хожу, прицеливаюсь, Сергей Федорович: много товару есть, и товар хороший. Мне в двенадцать на вахту заступать, сейчас восемь: значит, часа три-четыре можно… на луне погрустить, мы народ походный!
— Желаю успеха, — насмешливо напутствовал его Шелехов (сладко вспомнился черный шарф), — но только сомневаюсь…
Конечно, если бы дело шло о нем самом и о той белокурой, он не сомневался бы, но Агапов, курносый забулдыга, умеющий лишь примитивно лапать женщину за грудь и бедра и намекать ей на свою бычачью неумеренность в любви (только этим и ограничивались его завоевательные приемы), — разве он мог идти в сравнение?
А Жека… что она делает? Надела дорожный капотик прямо на белье, легла на диван, заложив голые локти под голову, глядит ослепшими, еще пьяными глазами на лампу и ждет шагов в коридоре? Ждет?..
Огненные прибои пробегали сквозь тело. Все так неудержимо, так естественно близилось, что даже хотелось нарочно замедлить, продлить сладкий голод. Да, вот возьмет и нарочно будет себя вести с ней, как брат: уложит в постель, заботливо накроет одеялом, погасит лампу, а сам спокойно устроится на диване, как будто ничего ему больше не надо. Заранее наслаждался, слыша, как она, недоумевающая и растревоженная, ворочается в одиночку и шуршит там простынями, бурно шуршит, напоминая о себе, нетерпеливо подзывая… Нет, пусть помучается, помучается за все обиды… Он ничего не хочет, он спит! Пусть отдастся совсем, пусть сама, изозлившись, не вытерпит и прибежит…
О, мир наводнен был удачей и благоприятством. Что Жека! Захочет — подойдет вон к той, белокурой.
Из подземелья кают-компании полыхало лимонно-золотистое зарево, доплескивалось заглушаемое многолюдным говором воркование пианино. Темных берегов совсем не стало видно. И не было ни войны, ни страшного исторического обвала, под тяжестью которых хрипит и корчится страна. Тот же мирный пароходный вечер, та же вода, омывающая ступени крымских дворцов и курортные парки, что и пять, десять лет тому назад. По салонному трапу рысят официанты. Шикарные пассажирки ищут удобной минуты, чтобы нырнуть в темный проход на палубе и скрыться за дверью моряцкой каюты.
А за Евпаторией, — степи, объятые сонными хуторскими потемками. В Петербурге завтра будет солнечное летнее воскресенье, и тысячи лакированных пролеток потянутся на острова, где возвещено пышное цветочное корсо. Как ослепителен залив за Стрелкой! Скорые поезда идут на юг, за зеркальным окном виден кусок шелковых обоев, женский локоть, цветы… мчащееся мимо, зеркально пробегающее в глазах счастье… Нет, теперь не мимо, теперь он, Шелехов, в самой середине, по горло, на одном из лучших пароходов, где у него своя каюта, и в этой каюте ждет его, чтобы отдаться ему, красивая бронзоволосая женщина, которой, вероятно, и на Невском многие позавидовали бы. Теперь он сам мчится мимо чужих глаз, в огнях и зеркальных стеклах, без остановки мчится мимо станционных перронов, с которых смотрит унылое лицо чеховского телеграфиста, или мимо пришибленного студента, тоскующего на площадке встречного вагона третьего класса, во взвахлаченной шинели, с завистливо горящими глазами, как у того палубного паренька…
Заглянул мимоходом в ярко освещенный салон, даже прошел к общему столу и с улыбкой перемолвился о чем‑то с Бирилевым, кажется — насчет прекрасного и праздничного вечера, столь необычного на «Витязе». И хотя в кают-компании было очень много блестящего народу — почти сплошь одно бритое, пудреное, подбородчатое лейтенантство и их женщины, похожие на изящных ленивых птиц, — ноги Шелехова ступали прямо и твердо, одежда не мешала ему, сидела прочно, влито, — куда делись вся прежняя пугливость и мужиковатость! И с удовольствием ощущал себя такого — двигающегося стройно и смело, с откинутой головой (немного подражая Винценту); он тоже мог бы влиться в этот журчащий избалованный мир, как равный, если бы захотел; а вон, кажется, и старый знакомый — кавторанг Головизнин, с крестиком на груди!
— Свердлов сказал… (Кто у них этот Свердлов?) Так Свердлов сказал: Севасто-поль дол-жен стать… вторым Кронштад-том… юга. Чувствуете соль?
— Все дело в форме правления, господа… Может ли она быть основой твердой государственной власти.
— Ну, твердой власти! Об этом надо подождать до Учредительного с-с-собрания!..
— Вы чувствуете соль: вторым Кронштадтом?
Бирилев удалялся на палубу, ведя перед собой женщину, на которую Шелехов опять с невольной горестью залюбовался. Ее слепое лицо вскинуто вперед, словно она тревожно вдыхает что‑то и не может надышаться. Они поднимались к ночному морю. Молодчина Бирилев, как опытно и изящно ведет игру!
Шелехов поощрял его свысока, даже чуть-чуть жалея. Ведь Бирилева, семейного стареющего человека, никто не ждал в каютном коридоре, за лучезарной, пузырчато-матовой дверью. Вот сейчас — постучать туда чуть слышно, с замирающим сердцем, скорее замкнуть за собой распахнувшееся зиянье, чтобы никто не увидел даже кусочка его бронзоволосого богатства.
— Это я, Жека! (Ласковым хрипотным полушепотом.)
Через узкую щель просунулась рука с пустым прожелтевшим графином. («Надо было вымыть с солью, чтобы хрустально сиял насквозь, как не догадался!»)
— Сережа, будьте добренький, принесите сами воды, я не хочу, чтобы прислуга меня здесь видела.
— Это верно… сейчас!
На Жеке, — он успел заметить через щель, — голубой, с райскими птицами халатик, она в нем — узенькая и женственная и домашняя. И придерживает пальцами на груди: халатик без пуговиц, так легко, сам собой распахивается настежь.
Пока в камбузе официант, с прокисшим от лени лицом, наливает в графин воды, Шелехов пылко переживает стены камбуза, увешанные кастрюлями, и кухонный прилавок, и изболелую, худосочную внешность официанта — все это тоже кипит изнутри непоседной ликующей кровью и сотворено из одной плоти с его радостью.
Жека на стук приотворила дверь — опять очень скупо.
— Жека, отворите совсем! (Опять шепот.)
— Дайте воду, подождите! — Уносит графин, оставив щель чуть-чуть на цепочке, переставляет там что‑то, — может быть, оправляет на себе платье, прихорашивается, прежде чем пустить мужчину, позволить ему взглянуть на себя. Но, черт возьми, у нее без этого достаточно было времени и раньше, и не так‑то удобно торчать на часах у своей двери.
— Скорее, Жека!
Она медлительно, словно колеблясь, наклоняется к щели:
— А вам когда на вахту, Сережа?
— У меня никакой вахты не будет, я тоже на правах пассажира. Да отоприте же, мне здесь неудобно…
Жека раздумывала, приложив пальчик к губам:
— Скажите, сколько времени?
— Девятый.
— Вот что, Сережа… Сереженька, вы простите меня, но я вас очень прошу об этом. Вы… найдите себе место в какой‑нибудь другой каюте, вам это легко сделать, правда?
Шелехов неприятно ослабел:
— То есть как в другой?
Судорога мстительной плаксивости свела ему лицо. Мысленно хныкал про себя: «Ах, так ты еще шутить, насмехаться? Ну, подожди, вот в самом деле не подойду, нарочно сразу не подойду, измучаю!..»
— Сережа, знаете что?.. Мы с вами оттуда, из Одессы… поедем вместе, в одной каюте. В Одессе я буду спать с мамой на одной постели, потому что у нас тесно… и мне будет стыдно, вы понимаете, ну, милый Сереженька!
Ясно, что она все врала. От жгучей горечи иссохла гортань, нельзя было ни продохнуть, ни выговорить слова… А та, фальшиво, отвратительно смеясь, играя с ним, грозила пальчиком, протягивала ладонь, словно спеша зажать ему рот:
— Знаю, знаю, знаю, молчите… Ну, послушайтесь умной, рассудительной Жеки! Ведь сами вы видели, как нам опасно оставаться вдвоем. А из Одессы… хотите, дам честное слово, Сережа?
— В самом деле… довольно, Жека. Могут пойти… Отворите дверь.
Она обиженно пожала плечом:
— Ну, какой вы…
(Отошла в глубь каюты и вернулась с его подушкой и одеялом. Подушка никак не лезла в щель. Жека нетерпеливо отбросила ее на ковер и совала Шелехову в лицо заячье ушко одеяла.)
— Возьмите хоть это, ну, пострадайте разок для меня!
Шелехов с гневом проталкивал все обратно.
— Кончайте эту игру, я серьезно прошу.
— Оно такое тепленькое, — дурачилась Жека, задабривая его и гладя одеяло своей щекой, — под ним будет так хорошо и уютно! А море будет качать, будет качать, а я буду думать о вас… Ну, идите, поцелую… Скажите мне: спокойной ночи!
Она подставила губы трубочкой, невинно подставляла всю себя через дверную щель. Халатик распахнулся, смуглая мякоть пробухала сквозь тесные кружевные клеточки сорочки. Наверно, режет, больновато ей… И это уходит, не дается, и оно — только поманило и обмануло, как и все?.. Неужели вправду, неужели — даже если сползти сейчас на пол, царапая себя, истекая надрывным отчаянием?
— Не хотите? — Послышался звук накладываемого крючка.
Он злобно ударил носком ботинка в дверь:
— Довольно, Жека, Же…
Что еще? Закричать, в самом деле свалиться на пол? Разбить матовое дверное стекло, чтобы все сбежались на скандал и потом, узнав, в чем дело, отошли бы, ехидно перешептываясь? Он побрел по коридору, в кровь жуя губу.
…Далеко за бортом, отбрасывая в море дремотно-золотую дорогу, поднималась поздняя луна. Тускловатое медное зарево отсвечивало на трубе, косо просекающей высоту ночи. Чернее ворошился кочевой народ; матрона, обернув себя одеялом, еще больше раздалась вширь, беззвучно улыбаясь лягушачьим ртом. Балалайка тренькала с паскудной разухабистостью:
Ах, какой я эле-ган-тн-ый… Какой пи-пи, Какой ка-ка. Какой пи-кан-тн-ый!Шелехов прошел мимо с торопливым отвращением, словно все эти люди наступали ему на боль. В темном проходе, под мостиком, пробелели пуговицы Агапова, к которому зябко прижалась пассажирка в черном шарфе. При виде Шелехова оба не пошевельнулись. На баке плутал сонный матросский разговор:
— Вот у Тарханкута все одно качнет, там уж завсегда, так и знай.
— Тарханкут прозывается — могила кораблей!
…За что выбросило опять в бессонную, путаную прорву жизни, где каждую минуту нужно мучительно думать, и упираться, и без устали напрягать руки и ноги? Выбросило, когда голова уже опускалась, чтобы, наконец, отдохнуть блаженно… Шелехов резко повернул назад — с такой злобой, что чуть не растянулся на палубе, зацепив ногой за какую‑то железную скобу. «Черт с ними со всеми, буду стучать, рвать с петель дверь… пусть не думает, что со мной можно играть, как с мальчишкой!»
На полуюте, над лунным морем, вызывая в памяти сентиментальную олеографию, смутнели силуэты Бирилева и Пелетьминой. Ему, Шелехову, видно, так не постоять никогда… Знакомое ощущение отщепенства наливало его… Было стыдно вспомнить, как четверть часа назад, разомлев от своего счастья, павлином разлетелся в кают- компанию, вообразив, что достиг всего, что уже — свой. Наверно, даже и не посмеялись над выскочкой, просто — не заметили… «А-а!» И ногами хотелось подавить, переломать в труху всю палубу. Раздувая ярый его пожар, могучие, несметные колокола музыки поднимались навстречу из кают-компании. Неужели то Володины хилые пальцы рассеивали кругом такое восторженное бешенство, такую литургическую, сметающую с ног бурю, как будто вся, вся жизнь, от начала до конца, — вот, приветствуй ее! — как море, свежела и дотемна сверкала перед глазами? Отчетливо и жестко постучал в дверное стекло:
— Я разобью дверь и войду, слышите?
Он стоял перед каютой с высоко поднятой головой, непреклонный, решившийся на все.
— Слышите!
Беззвучие висело за дверью. Может быть, там и не было никого живого — вышла перед сном на палубу или в уборную? Тогда — подождать, проследить, ворваться в каюту вслед за ней… Шелехов даже начал успокаиваться. Однако на дне тишины почудилось смутное шевеление.
— Жека!
Нечаянно для самого выдавились из горла — не слова, а страстные выдохи, лихорадка, бьющаяся головой о дверь жалоба. О том, что — родная и самая красивая, что сходит с ума, что готов ползти по полу и плакать. Бесстыдство отчаяния подсекало ему ноги, слезы тихо и щекотно влачились по щекам.
— А… если я застрелюсь сейчас, вот здесь?
За матовым стеклом проворковал уютный смешок, скрипнула койка. (Жека привстала там, по кружевную грудь закрытая в одеяло… К ней бы голодно, изжажданно упасть сейчас с протянутыми вслепую руками…)
— Спокойной ночи, не валяйте дурака, — прозвучал из заперти сердитый отрезвляющий голос.
— Так?
Дверь застонала и задребезжала немощно от ударов ногой. Пальцами, как зубами, вцепился в медную ручку, шатая ее вместе с собой, с коридором, с кораблем. О, это сладкое забвение бешенства!
Посыльный Чернышев, протирая глаза, в одних подштанниках вылезал из соседней каюты:
— Слышно, шумят где‑то, господин мичман?
Шелехов пристыженно, волком крутился около своей каюты:
— Это так, так… на палубе, пассажиры… А вы бы спали лучше, спали!
Матрос спрятался было обратно, но Шелехов нетерпеливо окликнул его:
— Погодите‑ка… — Он замялся… — Видите ли, я свою каюту отдал… У вас там местечка лишнего не найдется?
— Одна койка есть, господин мичман.
— Пустите‑ка, я пройду, лягу…
Чернышев, почтительно скрыв удивление, пропустил флаг-офицера в темную, пахнущую сапогами и куревом глубь каюты. Тот, не раздеваясь, сразу завалился куда‑то наверх, не зная, улежит ли там больше минуты…
Далекое усыпленное дыхание машин проникало перегородки, матрацы, тела. Опять — мягкая полка вагона, и долгий путь, и спящая неподалеку Жека… Но уже не весенняя, а зимняя морская ночь вокруг, и на сердце не мальчишеские надежды, а пепел прожитого, узнанного… Матросы покашливали, причмокивали во сне, бредили про свое. Чужой, всем чужой… Мучительно проворочался так всю ночь, одолеваемый прерывистой дремотой, от которой ломило тело, болели глаза, несвязно путалось время. Рассвет проглянул в иллюминаторе пасмурный, как вечер, не освещающий, уже несущий в себе зачатки неотвратимых дневных тревог…
Шелехов не мог больше лежать и, накинув шинель, вышел через могильно безмолвствующий коридор на волю.
Вода резко, студено светлела. Она была светлее воздуха и неба. От холода сразу пружисто окрепло тело. Желтоватая — не поймешь, солнечная или глинистая — черта далекого миражного берега висела над водой. Что это: чужая, румынская земля? В том направлении, куда стремился нос «Витязя», где должна быть Одесса, стояла от воды до полнеба сгущенная снежно-голубая темень: как будто морозные дымы из тысячи невидных труб… Ноздри уже улавливали волнующий, жилой ветер, который долетал из‑за этой завесы, с туманностей города… На мостике, в теплом бушлате до колен, распоряжался, ввиду важности момента, сам Пачульский.
Шелехов попросил у него цейс. Нет, и в водянистом окружении стекол — та же голубая дымность и словно играющие из нее белые, непроясненные мраморы.
Пачульский настроился благодушно, по-праздничному — ведь подходили к Одессе. Глыбой живота повернулся к Шелехову, — на нее можно было усесться такому, как Шелехов, верхом.
— Знаете, почему Одессу назвали Одессой?
— Почему?
— Вот отсюда же, где мы сейчас идем, взглянул на нее первый губернатор Ришелье. Из эмигрантов Французской революции. Взглянул и удивился: «Ассэ до!» По-французски — «много воды». А прочитай‑ка наоборот, что получится? Одесса!
— Действительно, много воды, — подтвердил Шелехов, озирая с вышки капитанского мостика металлически сияющую даль. Он только еще пробуждался — нехотя, недужно… То не утро, а вчерашний вечер длился, коснел всюду.
— Вот увидите нашу красавицу Одессу и не захотите назад, — словно вкусное блюдо нахваливал ему Пачульский. — Увидите наш «Фанкони»… Про «Гамбринуса» читали у Александра Иваныча Куприна? Про слепого Сашку-музыканта?[8] Помер. А Александр Иваныч у меня на «Витязе» тоже бывал. Помните, Сергей Федорыч, если вам рекомендательное письмишко потребуется, не стесняйтесь: всегда к вашим услугам!
— Я помню, — вяло сказал Шелехов, измеряя расстояние до глубокой темени. Еще часа три ползти «Витязю» в студеном блистающем полноводии… Сумеет ли протерпеть эту трехчасовую тяготу с открытыми глазами, когда каждая минута идет за год? Эх, если бы машина времени завертелась с утысячеренной скоростью, как в фантастическом романе, — чтобы часы запрыгали, как секунды («Витязь» дернется сразу вперед, как аэроплан, бешено быстро забегают люди, замелькают молниями движения!..), если бы в три-четыре минуты провернули весь будущий день и ночь, и на следующее утро Жека опять пришла бы на «Витязь» — ехать с Шелеховым обратно. «А ты все еще веришь?» — с жалобой и насмешкой спросил он сам себя. Да, было трудно пережить с открытыми глазами такое длинное море, такой долгий холод, такую бесконечную действительность. Он вернулся на свою койку и сразу наболело, бурно уснул.
…Полный день стоял в пустой полуотворенной каюте, когда очнулся. Отсутствие привычного шума машин, какое‑то небытие, неподвижность, оцепенившие корабль, пронзили его ощущением беды… Первое, что увидел, выбежав на палубу, была черная угольная куча незнакомого берега, портовые сараи, мачты и ярко — синяя вода, в которой шатались вздутые, насквозь просвеченные солнцем паруса уходящей в море шхуны… «Витязь» стоял на швартовах, опустелый, безжизненный. Шелехов очумело кинулся навстречу Чернышеву, который брел с чайником из камбуза.
— Мы давно пришли?
— Да уже с полчаса. Все на берег посходили — и Бирилев и ребята, только вахтенные которые… А мы видим, вы спите, и боимся: будить иль нет…
Каюта была отперта. В непроветренном сыроватом воздухе вился еще след духов: утреннее белое платье, убегающее на солнечный пригорок. Неряшливо, впопыхах сброшенное на пол одеяло… Шелехов подошел к столу и тронул мертвыми пальцами запечатанный, надписанный незнакомым игластым почерком конверт.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Ударники привезли из‑под Псела и Белгорода своих мертвых. Хоронили их на Северной, в солнечный декабрьский день, когда с ветреного моря по-осеннему тянуло холодом и рыбой. Шестьдесят гробов, приподнятых над необозримой толпяной чернотой, проплыли успокоенными ладьями от вокзала вдоль по Морской, где многотысячно столпился матросский и портовый Севастополь. Оставшиеся в живых ударники, молодецки бодрясь под множеством устремленных на них глаз, отбивали напыщенный и недобрый шаг. Музыка источала неподходящую, слишком успокоительную грусть.
Однако, не допустив шествия еще до Графской, один из дредноутов грянул неурочно из орудия. И сразу притемнело; словно воочию оскалилась еще раз та дальняя лють, где ударники насбирали свои подарки Севастополю. Раскрытые, по южному обычаю, двенадцатидневные трупы еще торжественнее зазияли земляной своей синевой, раздутыми губами, черными подлобными впалостями. Женщины, полоумно бегущие по тротуару, со всхлипыванием и ужасом поворачивались снова к гробам с жадным взором. Встречные офицеры пропускали шествие бочком, не глядя, постаивая на перекрестке, или обходили соседним безлюдным переулком. Ни риз, ни хоругвей не было на этот раз перед гробами, только черное знамя мело землю червонными кистями. А впереди знамени боцман Бесхлебный, бросив руку на кобуру, другой, правя толстые усы, зверем раздирал пустоту.
На «Качу» в этот день нежданно явился разжалованный матросами Мангалов. Кают-компанейские немного оторопели, даже посторонились опасливо, узнав широченный квадратный плащ капитана и лопуховидную фуражку с белыми кантами.
Блябликов, ревизор, по старой дружбе отвел его в уголок:
— Вам бы, Илья Андреич, сегодня не надо вылезать-то. Сидели себе, ну и сидели бы смирно, пока про вас не забыли… Ну, чего вы на рожон…
— А я кого трогаю? — жалобно шипел Мангалов. Лицо его от расстройства раза два передернулось оскалом. — Я никого не трогаю, я свое получил… кусок хлеба последний в жизни отняли… Куда мне теперь? Знаю, все энтот, Маркушка-молокосос… лазил по кубрикам и вылазил свое, негодяй…
Блябликов, сам плаксиво кривясь, шлепал Мангалова ладонью по рукаву:
— Бросьте вы, бросьте, про это ли теперь…
— А что?
— А то… Варфоломеевскую ночь не сегодня-завтра собираются устроить, а вы на глаза им нарочно пялитесь, на корабль пришли, эх! Да вам сейчас сидеть надо так, чтобы ни-ни…
Капитан как подрубленный плюхнулся на стул, беспомощными кровяными глазами обвел офицеров. Те скучали поодаль безучастно.
— Варфоломеевскую ночь?
— Большевики‑то забастовали, ушли из Совета! Потому что в Совете есть все‑таки люди с совестью, понимают, что нельзя брат на брата. Раз Каледин, говорят, сам нас не трогает, то не к чему лезть и не надо никакой бойни. А большевики без крови не могут, из Совета ушли. Ясно, теперь будут ударников на власть настрачивать, а раньше кровцой их подразнят. Чьей, спрашивается?
Мангалов отдувался, ерзала в воротничке налитая кровью шея.
— Я вот через эти… через похороны сейчас прошел. Эх, бабы которые… и то ропщут.
— Ропщут, — кивнул скорбно Блябликов.
— Зачем, дескать, без попов. Что, говорят, их, людей то, как собак, в землю зарывают.
Иван Иваныч, гордо закинув носатую нечесаную голову, сам пигалица пигалицей, шагал по каюте, руки в карманы, дерзил назло:
— А на кой их, попов? Карманы их набивать? Когда умру, рад буду, чтоб меня без этих типов хоронили.
— А вот Вильгельм на этом и сыграет, — язвительно сластил Блябликов, — придет и скажет: а у меня чтобы хоронить с попами. И что за народ! Свобода разве в том, чтобы попов не было?
Мангалов сходит на шепот:
— Знаете, я человек на слезу слабый, у меня завсегда в прискорбный момент глаза ест. А теперь… нет. Ну — нет!
И сокрушенно разводит руками.
От внезапного залпа «Качу» всю потрясло так, что взвыла посуда в камбузе. Офицеры, присмирев, на цыпочках выскакивали на палубу — глазеть… Грохот, вперемешку с горловой грустью музыки, гулял по рейду. Орудия надрывались в оглушительном прощальном благовесте. С бортов утюгастых броненосцев то и дело выдувались курчавые дымки. На корме «Качи» и соседних судов суетились вахтенные, приспуская флаги. Вдалеке от Графской отходили переполненные народом катера.
— Вы бы подобру-поздорову, Илья Андреич… пока там не разошлись, — нервно тростил Блябликов.
В предвечерье по всем судам просемафорили повестку: прислать делегатов на всефлотский митинг на «Свободную Россию». Блябликов объяснил отчасти правильно: большинство Совета категорически высказалось против создания ревкома, предложенного большевиками для того, чтобы возглавить новую борьбу против Каледина и месть за убитых. Совет не хотел надстраивать над собой какой- то новой власти; кроме того, он видел спасение народа и революции «отнюдь не в братоубийственной бойне». Большевики покинули исполком.
Митинг, поздно и по-небывалому многолюдно собравшийся на дредноуте, пошел в ночь.
Часть четвертая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
За бонами «Витязь» подходил из Одессы, весь сияющий, известково-белый на солнце.
На «Витязе» еще не знали новости, с утра обежавшей город подобно чуме; еще не чувствовали тягостного замогильного затишья, которое одело солнечную бухту и которого не могли прогнать ни утренние сигналы горнистов, ни гудение осанистых офицерских самоваров по камбузам.
Ошвартоваться пришлось поодаль от родной бригады, по соседству с щеголеватыми миноносцами и распластавшимся среди воды чугунным шатром «Свободной России». На противоположной круче знакомо кружился Севастополь; верхушки белокаменных этажей, шпили павильонов, повороты бульварной ограды. Кружилось обманно-яркое ледяное солнце.
Ошвартовались неладно: у «Витязя» скорежило руль, с разгона врывшийся в мель. Капитан Пачульский был потрясен чуть ли не до удара, — тем более что капитан самолично посадил пароход и винить и разносить было некого, — однако и это событие забылось в один миг, как только упала сходня на берег и береговое известие облетело корабль.
Шелехов, ужаленный новостью, притихший, опустился на стул среди безлюдного салона. И в нем самом — точно остановилось что‑то, притихло. Из зеркала вопрошали, искали защиты растерянные глаза. Еще трудно было осознать, что случилось вчера в Севастополе, на Малаховом кургане… Трудно, может быть, потому, что сразу после Одессы, не дав никакой передышки, на один мрак наваливался другой. Пережить то, что он пережил за эти четыре дня…
В памяти клубилась тошная скачка многоэтажных фронтонов, тоскливого солнца, каменно-аллейных улиц, кишащих ненужными, кого‑то мучительно заслоняющими людьми.
Десятки раз, сам не зная зачем, исходил он те улицы, проследил, как спускается там вечер и меняется толпа и меняется угрюмеющий к ночи облик изукрашенных бульварами и лепными алебастрами кварталов. Как выползают к ночи безлицые, окопные, словно вырвавшиеся из могилы… Он спускался на берег, на Николаевский бульвар, сжимая в кармане горячее от его пальцев письмо и все еще ужасаясь его прочесть. Порой казалось, что кругом продолжается Петроград и он, Шелехов, бежит опять, как тысячу лет назад, в той — отринутой, отплюнутой своей жизни, но его возвращало к себе неотвязно просвечивающее в конце каждой улицы тоскливо-кипящее зеленое море.
Только ночью, в каком‑то шумно-освещенном кафе, куда он забрел поужинать (весь день не ел ничего), Шелехов решился прочитать письмо. Да он уже наполовину угадывал, что никакой мамы никогда в Одессе не было… Скрипки со старательным, истошным надрывом пели над его зажатой в локти головой, содрогаясь от дикой любовной муки, от чувств, которым уже не оставалось места на земле. Не оставалось потому, что на крейсере «Алмаз», ошвартовавшемся в одесском порту, с полудня были траурно приспущены флаги в память о проносимых по севастопольским улицам убитых ударниках; потому, что генерала Духонина убили солдаты, а Корнилов бежал; потому, что еще днем в Одессе было расклеено оповещение от Черноморского флота: «Командующий румынским фронтом, генерал Щербачев, — говорилось там, — заявил, что за каждого убитого офицера будет вешать десять матросов. Мы же объявляем, что за каждого матроса будем уничтожать тысячи офицеров…» И верезжала уже не музыка, а розовая терзающая суть Жеки, румынского фронта, железа и мрака, занесенных над человеческой головой. И спрятаться было уже некуда.
«Милый, славный Сережа, — писала Жека, — простите меня, неверную рабу, что я так вас обманула: нет у меня в Одессе мамы, я еду на фронт, к кому — вы, конечно, догадываетесь. Вы не огорчайтесь, Сереженька, все равно, не будь вашего доброго „Витязя“, я уехала бы. Такое теперь время, что никто не знает, „что с ним случится впереди“. Лихом не поминайте. Вообще, я многое делала нарочно, была не такая, какая есть, я решала, где мне быть, даже спросила вас однажды, связаны ли вы с другой женщиной… и решила, Сережа, что с вами пропадешь. Нет, это не только эгоизм, у меня ведь тоже есть свои взгляды, о которых вы никогда не спрашивали, я понимаю — куда и на что иду с Володей. И мне вас жаль, когда вы сейчас мучились у двери. Вы так этого ждали, и я охотно сделала бы вам приятное, но ведь вот какие вы все мужчины, смотрите за это на женщину очень скверно и строго, как собственники, я знаю — Володе это не понравилось бы. А так хотелось приласкать, утешить милого Сережу!
Желаю вам забыть поскорее вашу скверную Ж.».
Затемно добрался до вокзала. Все свершалось уже не в жизни, не в Одессе, а в ином, шатком, тускло сознаваемом мире. Самое главное — чтобы хватило дыхания догнать, застать Жеку, донести до нее последние, только сейчас спасительно проблеснувшие слова. Тогда бы, давно еще, на Мичманском бульваре сказать их, когда женщина сама подсказывала, выпрашивала… Знал, что сгибло все, а все‑таки для самоутешения торопился, бежал и лепетал про себя: «Нет, Жека, я не связан ни с кем, я всю жизнь искал только вас. И я прошу вас, Жека, будьте моей женой!»
…Вместе, прямо из Одессы, уедут на север. Сугробы около уездных домиков, церковка, заиндевевшие ветлы. Пусть, пусть вечерний самовар и знакомство с местными интеллигентами и гимназия! Но быть с тобой рядом, Жека, держать тебя живую, не украденную, за теплую руку… а комната маленькая, отгороженная тысячами верст от одесских улиц, чистая, нет ни румынского фронта, ни ледяного моря, ни кочевых палуб, с которых глядят пушки. И тихо, тихо… Давай будем читать на ночь опять Диккенса. На чем мы остановились, Жека, в прошлый раз?
Под церковными сводами вокзала, в угарном, надышанном ртами и желудками тепле окопные шинели устлали вповалку весь пол: другие, не разбираясь, лазили через них, наступая сапогами на разметанные руки и на головы, ища только, где бы приткнуться… Остро, как бывает при крайнем переутомлении, въелось в сознание восковое веснушчатое лицо солдатика, мучившегося от кашля за столом, к которому прислонился Шелехов; и еще глаза пожилого буфетчика, издали впивчиво, страдающе следящие за солдатиком: должно быть, наболело от развала, от непорядка, оттого, что за господским столом первого класса, под пальцами сидят без подачи вот такие, вшивые, — он сердито теребил салфетку на плече, потом не вытерпел, коршуном подскочил к солдатику:
— Вы что же, товарищ, сейчас не уехали? Сейчас только в Россию поезд отошел.
— Это воинский‑то? — Солдатик недовольно скислился. — Зачем я в нем, в воинском, поеду? Одна мука. Я вот сейчас в купе перьвого класса лягу, усну, мне недалече, до Долинской…
— Перьвого классу? — Буфетчик, с огоньками ненависти в глазах, взглянул на Шелехова, словно приглашая и его понегодовать вместе. В голосе его, однако, изображалось лицемерное участие. — Да и в воинском, товарищ, тепло!
— Знаю, нары голые, не отапливаются, — раздраженный спором, капризно хныкал солдатик.
Буфетчик ыхнул про себя, стиснул зубы, отошел, невесело поигрывая салфеткой… А солдатик желчно и покорно рассуждал:
— Что мне жисть? Мне умереть лучше. Разве это жисть?
Дремавший напротив солдатика упитанный, щекастый брюнет, в рубашке из дорогого сорта хаки, надетой под пиджак, и в котиковой шапке, пробудился, горько подхватил:
— Да, которые умерли, им легче теперь.
— Легче, — согласился солдат, с подозрением оглядывая дорогую шапку. — Мне вот кашлянуть, как смертного часу дожидаюсь.
— А что у вас? — болел за солдатика щекастый.
— Простреленный я насквозь. У меня в легкое задето, в ногу тоже. Теперь у меня повреждение печени — раз… хронический превлит — два. Силов нет.
— Куда же вы изволите ехать? Лечиться?
— Да вот на лимане летом жил, как будто легче стало.
— На лимане вам легче стало?
— Да. Вот только карман страдает, а то бы рази…
Желчный, озлобленно-безнадежный голос солдатика доносился из беспросветной замогильной пустыни. Нет, Жеки не вернуть никогда… И на путях за вокзалом хватала за сердце, бродяжила солдатская бездомность, катала двери товарных, отцепленных и мутно набитых спящими; иные свалились прямо на перрон, подвернув под голову локоть и уткнувшись губами в мерзлый заплеванный асфальт. Рядом с ними — как было кощунственно то, что переживал и чем раздирался Шелехов: барские страдания и бешенство по женщине! Кара за это уже надвигалась, еще не оформленная, но неотвратимая, — кара не только за женщину, но и за безопасную жизнь в теплой и чистой каюте, за ежедневную сытость, за книги… И солдаты, к которым обращался Шелехов с вопросом относительно поезда на румынский фронт, отворачивались, словно ленясь разохотиться и ударить этого чистенького… Рельсы пусто и огнисто змеились, утекая в ночную муть. Пелена небывалости затягивала все зримое…
«Но ведь правда, что ничего этого нет, — попытался ободрить себя Шелехов, — Кант был прав, да, прав! Есть иные, высокие сущности, и не этот же ад, не эти котиковые шапки и призраки в изовшивленных шинелях — настоящие. Есть иное, чем и для чего жить…»
Если бы не было стыдно самого себя, он был бы готов по-детски молить: «Кант, помоги мне!..»
И еще из той же ночи: единственный маленький человечек спешил назад, к пристани, посреди широких вымерших улиц; сплетения оголенных бульварных ветвей, океаническая темнота прикрывали эту точечную, едва заметную малость. С одной стороны, до полнеба вставала стена моря — до Турции, до румынских огоньков, и с другой — мрачная стена земли, исполосованная городами, побоищами, лохматыми поездами, агонизирующими селеньями. И точечная заплутавшаяся малость металась между ними — по безлюдной, как река, улице, нося в себе терзание о какой‑то крохотной Жеке, пылая от нее всем крохотным своим мозгом. «Да, которые умерли, им легче теперь», — вязалась по следам вкрадчивая, жирная, котиковая фраза. И все‑таки точка не хотела умирать, жизнь оставалась для нее таким же обжалованным, недоеденным куском.
«Теперь ты потерял последнее, где мог еще укрыть голову. И, может быть, к лучшему: надолго ли бы насытило тебя тихое уездное успокоеньице около Жеки? Огненный век летит, единственный век! Прислушайся к нему, мужайся, решись!»
Откуда временами подымался тот знакомо-давний, с головы до ног выпрямляющий голос?
Но ведь чтобы получить право, полное право на другое существование, надо было раньше переваляться бездомно и вшиво на мерзлом перроне, потерять имя или, может быть, самую жизнь, перетомиться с чахоточным лицом на смрадном вокзале. Жизнь прозревалась — ледяная, безжалостно трезвая, как небо рассвета, пробивавшегося тогда над морем.
А теперь даже эта ночь затухала, тлела чуть-чуть, далеко…
В матросской штабной каюте, непрерывно сообщавшейся с кубриком, рассказывали о подробностях ночного события. Сначала невероятное, фантастическое — оно понемногу принимало черты страшной обыкновенности. Ударники, распаленные после митинга на «Свободной России», забрали с квартир и из тюрьмы несколько (сколько — неизвестно) наиболее ненавистных офицеров, в том числе адмирала Кетрица, генерала Твердого, полковника Грубера, а также качинского механика Свинчугова, вывели всех на Малахов курган и расстреляли.
Бирилевский вестовой Хрущ уверял, что под Малаховым на воде и сейчас еще плавают офицерские фуражки.
Баталер Каяндин, барствуя с мрачной усмешкой на барском красном диване, сомневался:
— Босявки языком треплют, никакие, к черту, не фуражки, не могет фуражка до утра плавать. Васька, а? — подзадоривал он для потехи посыльного Чернышева. — Смокнет и туда же, за молодчиком, верно?
Шелехова неприятно передергивало от такого зубоскальства. Да, и Каяндин, и моторист Кузубов, и Чернышев, сжившиеся с ним тесно на «Витязе», все они были хорошие и в сущности сердечные парни, но все‑таки никогда не забудется, что растут они из другой, убогой и тесноватой жизни, пропахшей сапогами и хлебом (так всегда пахло у них в каюте), что они — матросы… А когда Хрущ по обыкновению с заносчивой осанкой человека, знающего себе цену, стал рассказывать о том, что первые показали всем пример гаджибейцы, выведя на Малахов всех своих офицеров дочиста и оставив только одного молодого прапорщика, из бывших штурманов, для раззаводу («чтоб было кому за управлением смотреть»), — то в голосе его скользило явное горделивое восхищение, если не молодечеством гаджибейцев, то обилием и громовостью тех событий, которые за одну ночь сумел натворить матрос.
И трудно было понять, удручены ребята всем случившимся или наоборот — даже как‑то довольны.
«Пойти Бирилева спросить…». О чем спросить — не подумал, чувствовал только, что какое‑то облегчение может найтись за порогом бирилевской рубки. Там, наверно, и грустный, доступно приветливый Скрябин… Может быть, вслепую кидалась душа, искала, с кем бы вблизи, тепло в тепло, пережить сообща или защититься от чего‑то. От чего?
Собственно, что значили для него Кетриц, Твердый, Грубер, эта бородатая, украшенная мундирами и орденами военщина, преданная до мозга костей своей карьере, ради которой она готова была подслуживаться и угождать царизму всякими способами, вплоть до вешания революционных матросов? Какое отношение имеет к этим, не по-доброму заслуженным адмиралам и полковникам он, вчерашний студент Шелехов?
И, однако, думалось неотвязно — не о чинах и должностях этих незнакомых Шелехову людей, а об их ужасном теплом пожилом теле, как о своем собственном…
Неужели так скоро, скорее мысли о ней, надвигалась та, из вокзального смрада глянувшая кара?
Он застал обоих лейтенантов — бывших лейтенантов — уже одетыми, готовыми для отбытия в город.
— Да, вот и прорвался нарыв, — обратился к ним Шелехов каким‑то особенно бодрым, заранее приготовленным голосом. — Да… надо было ждать!
Оба офицера тщательно увязывали в газетную бумагу одесские гостинцы: какие‑то кондитерские сверточки, коробочки, флакончики, разную мелкую прикрасу домашней жизни. Счастливые, — обоих их ожидал кто‑то в сладком предвкушении свидания и подарков! Ни тот, ни другой почти не подняли на Шелехова глаз… Скрябин скорее из вежливости промычал:
— М-мм…
Шелехов остановился в замешательстве.
Пальцы обоих лейтенантов безучастно двигались перед ним. Бирилевские — жилистые, сухие, изящные, очень ладно прошивающие бечеву сквозь узлы; и тючок у Бирилева получался очень аккуратный, ладный, с точными прямоугольными ребрами, не то что у беспомощного Володи, состряпавшего какой‑то одутловатый шар, с неряшливо торчащими бумажными махрами, которые Скрябин старательно и до жалости неумело опутывал вдоль и поперек бечевой. Ясно, что по дороге прорвутся обязательно сквозь газету и попадают, срамя Володю, все эти кулечки, флакончики, яблоки… Да, Бирилев — это характер, хватка!
Шелехов ощутил на себе упор его светло-серых, жестких глаз.
— Вы, Сергей Федорыч, про Пелетьмина… своего однокашника, если не ошибаюсь, слышали?
Шелехову захотелось зажмуриться. Как он не вспомнил, что Пелетьмин на «Гаджибее», Пелетьмин на «Гаджибее», с которого вывели всех…
— Позвольте, но не может же быть…
Длительный, казалось, осуждающий, стыдящий взгляд Бирилева пересек ему дыхание. За что осуждающий? За то, что и его звали когда‑то на качинской палубе большевиком? За то, что из‑за этих же большевиков он бесстыдно уничтожил когда‑то (на митинге, перед всеми!) вот этого учтивого, уступчивого Володю?.. Скрябин только страдальчески пожал плечами…
— Вот относительно этого юноши… и Свинчугова тоже… не понимаю, господа. Свинчугов — старый, больной человек, ну, какой же он…
Шелехов почти выкрался из каюты, почти на цыпочках, съежившись от своей неуместности, лишности. Нашел, куда кинуться со своим непрошеным теплом! И кто он в сущности этим людям? Они, вероятно, и не думали искать никакой лазейки и оправдания, чтобы отделить себя от Кетрица; именно Кетриц был для них свой, а не Шелехов; и они с полагающимся достоинством готовы были принять такой же удар и на себя… А ему — зря, пожалуй, было уходить от Кузубова и Хруща.
За палубой город выпячивался солнечной кручей. Что‑то не пускало оглянуться туда: как будто блеск мог выжечь глаза. Смута, смута, смута…
Вольнонаемные, кучкой сбившиеся у входа в салон, молча расступились, пропуская. Капитанский помощник Агапов, только что потрясавший их какими‑то необычайными сообщениями, залез Шелехову в глаза пытливо и нагло. Как будто мимо шел обреченный… Только капитан Пачульский, маявшийся взад и вперед по кают-компании, словно с больным зубом, — все из‑за того же руля, — проявил внимательность к Шелехову, взял его по-отечески за талию…
— Ну вот… говорил я! — с сердитым огорчением выдохнул он. Капитан на самом деле никогда ничего не говорил. Но на ласку Шелехов поддался молчаливо, благодарно.
Команду, и военную и вольнонаемную, сметало на берег: не терпелось дознаться подробнее насчет ударников и всего… Штабные матросы торопились на балочку загонять одесское шевро. Съехали и оба лейтенанта. Долго Шелехову и капитану виднелись за кормой шлюпки недвижные плечи сидящих, словно без сопротивления подставленные под то неведомое, чем замахнулась впереди городская круча…
Шелехов, оставшись наедине с капитаном на опустелой палубе и вглядываясь в путаную чужбину мачт и труб, обступавших «Витязя», вдруг рывнул Пачульского за локоть:
— Смотрите‑ка, капитан, «Гаджибей»…
— Где?
С дымно-голубого борта соседнего миноносца надпись сама кидалась в глаза. Туда, на безлюдную, чисто выметенную палубу можно было перескочить одним прыжком. Круглились на спардеке глаза офицерских кают. Бывших офицерских…
«Кровавый миноносец… так его когда‑нибудь назовут…» — мысли проползли придавленные, ошарашенные, вытаращенные.
Капитан крякнул, шумно понюхал воздух вывороченными ноздрями:
— А в камбузе будто кто‑то есть, а? Посмотрите‑ка… Кто‑то возится, а?
— Будто кто‑то есть, — согласился и Шелехов, чувствуя, что его судорожное состояние передалось и капитану. Казалось, на той палубе могли появиться только существа с содрогающимися, нечеловеческими чертами… Разинутые рты вентиляторов, пестро-красный гюйс на носу — все эти подробности ломились в глаза обнаженно и зловеще. Пачульский облапил ласково мичмана.
— Вы, Сергей Федорыч, на палубу‑то… пореже старайтесь. Вы пореже. А если воздухом захочется подышать, возьмите тужурку у Агапова, надевайте. Вроде торгового моряка, так лучше. Вы слушайтесь, голубчик, у меня в Одессе у самого сын…
«Но ведь я…» — едва не вырвалось у Шелехова. Он хотел с горечью сказать своему незваному благодетелю, что не привык прятаться от матросов и что совсем еще недавно гремели майские дни, когда он, самый революционный и обожаемый в бригаде офицер… Хотелось скинуть со своих плеч эту хоть и отеческую, но оскорбительную чем‑то опеку.
Духу не хватало сделать резкий поворот.
«Витязь» начисто вымер, как в праздник. Даже вольнонаемный кок — и тот ухитрился сбежать на берег. Двери пустого и нетопленного камбуза стояли настежь. Испарились даже безгласные витязевские официанты, гордость капитана Пачульского, еще недавно кичившегося на весь дивизион своими порядками и по струнке танцующей прислугой. Капитан опозоренно бегал взад и вперед по коврам, срыгивая порой что‑то неразборчиво-матерное. Но кушать‑то капитану и прочим было надо?.. На счастье, в камбузе нашлись мясные консервы, и помощники, под руководством самого Пачульского, скрепя сердце обвесившего себя коковским фартуком, принялись самолично за стряпню.
Корабль пронизала неестественная тишина.
В полдень по морю дослышан был шум недалеких и будоражных голосов. Шум натекал обманно и смутно, как ветер. Вахтенный, забегавший несколько раз в камбуз подивиться, как витязевские помощники и с ними господин мичман сами чистят картошку, сообщил, что напротив, на «Свободной России», насыпалось народу, как мух, тыщи две, если не больше, — наверно, опять митинг.
— Митинг?
Неизвестность и без того неслась кругом бешеной и темной рекой. Зачем понадобилось опять собирать митинг, и притом в такой необычный, ранний час? Что‑нибудь по поводу ночи?.. Впрочем, возможно, еще не случилось ничего угрожающего. Наоборот, могло быть так, что большинство флота, благоразумное большинство, возмущенное кровавым самоуправством, собралось немедля, чтобы сурово обуздать виновных… «И правильно, и правильно!» — с радостной горячностью ухватился за это Шелехов и горячил себя и в то же время сам не верил тому, что думал, потому что шум, кидавшийся с моря, был очень странный, шум был очень неровный, — как будто кто‑то кликушествовал там, разжигал.
Пожалуй, лучше было не слушать, не знать ничего…
И он старался не слушать, с удвоенным прилежанием принявшись за свою картошку. В котле музыкально бурлила вода; если пристально сосредоточиться на этом сердитом и усыпительном бурлении, оно отлично могло заглушить все в мире. И как деловито и ободряюще похрупывал картофель под капитанским ножом, если прислушаться, ударники становились невероятными, почти потусторонними, как и Кетриц, они или приснились, или еще давно, в детстве, были вычитаны из книги… А вот капитанский помощник Агапов — он, несомненно, существовал; этот короткошеий и косолапый деляга-парень, любящий больше всего бесхитростно порадоваться на чужое несчастье, старательно пыхтел рядом с Шелеховым за камбузным, обитым жестью столом, подкладывал капитану картофелину за картофелиной. И еще выпуклее, всего убедительнее существовал капитан… Капитан никак не мог успокоиться, — это была настоящая жизнь, что капитан не мог др сих пор успокоиться и что миски порой истерично вызвякивали под его руками. Помилуйте, господа. Я понимаю — военные бунты, это их дело; а мы — вольнонаемные, нас на судно за шиворот не тащили, мы не из‑под палки, а за денежки служим, за денежки-с! Капитан у нас получает семьсот рублей, больше начальника бригады, какой‑нибудь жлоб вроде младшего кока — по сто — полтораста рублей! Так ты, сукин сын, служи, если полу чаешь, а не хочешь служить… А суп усыпительно кипел, а минуты летели мимо, а день шел под уклон. И суп, выхоженный сообща, получился такой удачный, что даже капитан, отведав его, смягчился, притих, за столом в кают-компании ласково, по-отцовски пучил на Шелехова осоловелые от удовольствия, от вкусности глаза.
— У меня сын, представьте. Представьте, рыбы ни когда не может и в рот положить — ни-ни!
— Не ест? — дивился радостно Шелехов. Это было очень важно, что капитанский сын не ел рыбы. Это было бесконечно важнее и неотложнее, чем дымно — голубой кусок «Гаджибея», насильно лезущий в глаза через иллюминатор.
— Гимназистом уже когда был… я ему объясняю: дуралей, рыба же… ну, что может быть вкуснее рыбки! Возьми ты свежую нашу, черноморскую… ну, кефаль. Как у нас в Одессе банабаки, сукины дети, умеют приготовить кефаль!
— О-о! — восторженно захлебнулся и Агапов, суп свистнул у него из усов струйками.
— Ему, представьте, мать однажды так: сделала бульон мясной, а фрикадельки пустила рыбные. Из рыбки сделала. Кушай, говорит, это — мясо. Мальчуган скушал за мясо — представьте, все скушал! И что же: не прошло и часу… — Капитан сокрушенно вздыбил брови. — Сблевал.
— Да? — поразился Шелехов. Укрыто было, уютно с этим капитаном, как под теплой шапкой.
— Сблевал мальчуган!
Капитан совсем подтаял от супной теплоты, от приятных домашних воспоминаний. Капитан жмурился, изнемогал от доброты.
— Я вам, господа, скажу: что вчера было, больше этого кошмара повторяться не должно… по психологичности не должно! (Говоря о психологичности, он обращался именно к Шелехову, как к достойнейшему, единственно способному понять.) Надо сознаться, господа: всего этого следовало ожидать. Понятно, тут разная сволочь орудовала, уголовщина (капитан через плечо осторожно покосился на дверь), но ведь и офицеры, господа, не без греха, не без греха, верно? Теперь… примем во внимание психологичность. То есть. Матрос всю злобу из себя теперь спустил, удовлетворился, так сказать. У него теперь — трясение. Вот бывает, — капитан опять повел глазом назад, на палубу, — бывает: не подаст какой‑нибудь стервец конца вовремя, зевнет, не стерпишь, окрестишь его в сердцах раза два…
Капитан резко обернулся к клюющему носом Агапову:
— Вы морду когда‑нибудь били?
Агапов дернулся:
— Бил.
— Ну, вот. Ходишь потом, и трясение в тебе, и его же, сукина сына, больше всех жалеешь. Так вот и…
«Это он для меня, успокаивает… — понял Шелехов, — потому что внимательный, по-пожилому сочувственный человек. Но ведь то, что он говорит — верно! Был взрыв — и прошел…» И оттого, что думали они оба с капитаном одинаково, — к суждениям маститого, повидавшего виды капитана, несомненно, следовало прислушиваться, ибо они покоились на могучих устоях пережитого, — оттого впервые забрезжило впереди светлой, успокоительной просекой…
И правда — после обеда словно переломился, стряхивал с себя мороку день.
Из города дошли первые вести. Судовой механик, раньше всех вернувшийся с берега, сообщил, что в Севастополе тихо, безобразий и самочинств никаких нет; правда, офицеров пока не видно, но матросы прогуливаются обыкновенные, веселые.
Насчет митинга механик слышал только стороной, — митинг идет уже шестой час, собрались представители всех судов и команд и выносят протест против ударников, безобразивших прошлой ночью. Матросы ругают их, что бросили тень на весь флот.
Шелехов кивал рассказчику, лаская его глазами. Да, да он так и думал… все они здесь так и думали… По палубе уже скопом валили с берега витязевские, и суматошный туман голосов их и топотов играл в ушах мирно и радостно. Вон двое или трое, наверно, сильно оголодав, забрались в камбуз, орудовали там с посудой, крикасто разговаривали.
Разговор шел про яличников, которые раньше брали за перевоз по две копейки, а теперь, воспользовавшись сильным движением с берега на берег, накинули до пятака.
— Ты сочти: сколько он за день пятаков настрыгет. Зараз сажает у шлюпку восемь человек — вот тебе сорок копеек. Сколько он разов по сороки заробит на день?
— Считай, концов сорок сгоняет, хвакт.
— Сорок концов по сорок копеек. Вот где буржуи‑то сидят, из нас самих, а не энти, которых мы на Малахов. Его бы, сукина сына, первого надо на Малахов за эти пятаки.
— Мне дай ялик, я и на деревню не поеду.
— А какой дурень поедет, когда тут вдаришь однова веслом — пятак, вдаришь другой — пятак.
Совсем такой же, как полгода назад, доспевал бестревожный корабельный вечер. Насколько же, значит, спокойно и ладно все на воле, если матросам интересно только про яличников!.. Прав оказался капитан: гроза прошла, гроза не только оросила флот кровью, но и расчистила скопившееся над флотом тяжелое удушье. Ничто уже не будет больше мерещиться, нависать… Все — случилось.
И какими зряшными, жалкими, из себя надуманными показались все дневные страхи. Пожалуй, даже немного жаль было, что раздулся с утра такой большой и мрачный огонь, а на поверку получилось пустое место!.. Конечно, разве могли расстрелять его, Шелехова, который сам, садясь еще в севастопольский поезд, сам услаждался злорадной надеждой — посшибать там, во флоте, побольше спеси с Кетрицев. Расстрелять его… как дико!
«Что Пелетьмин… Разве в других условиях этот надменный по-дворянски мичман не сделал бы того же самого по отношению к матросам? Даже и ко мне, плебею, с его точки зрения? Пелетьмин слепо, но верно нащупан!»
И все‑таки, хотя Пелетьмин ускользал, не оправдывался (он проходил через дальний юнкерский вечер в шелковых отсветах приемной, особенно теперь высокомерный, не сравнимый ни с кем, особенно красивый, сдержавший все гибельные и гордые свои обещания…), и хотя поручик Свинчугов тоже просился в жизнь, хотел облокотиться опять о солнечный борт «Качи», под которой закипает майский митинг, скрипуче поклянчить: «Угостите‑ка, революционер, папиросочкой», пряча за шутейностью сердечную слабость к молодому человеку… все‑таки такая неудержимая, такая бесстыдная напирала радость, что — а, черт! — разбежаться бы сейчас что есть силы по палубе, вцепиться руками и ногами в мачту, всцарапаться одурело наверх, до самого клотика! И, похихикивая, озирать оттуда и Пачульского, и Агапова, и весь перекошенный от изумления мир.
* * *
Штабные вломились в каюту со свистом, с сапогастым грохотом, ликующие: шевро сбыли на балочке прибыльнее, чем ожидали. Похлопывали по брючным карманам, в которых завелись керенки, вперегонки разрывали объемистые кульки с роскошным, по случаю барыша, едовом. Да, в городе все в порядке, на Нахимовском — гулянье, почему бы и Сергей Федорычу с ними не сходить вечерком?
— Вот мы сичас видали — в кино «Модерн» офицер прошел в золотых нашивках, шмара под ручкой. Ого, видать, боевой! — восхищался подслеповатый моторист Кузубов, и Шелехову вдруг таким удушливо-горьким показался витязевский подвал…
Матросы тоже собирались в кино «Модерн». Над доверчивым посыльным, Васькой Чернышевым, сообща подстраивали каверзу. В «Модерне» шла картина «Власть плоти», и ошеломленного Ваську серьезно, а баталер Каяндин даже с учительской хмуростью, уверяли, что на этой картине все показано научно, в голой натуре: как один господин забирает к себе в номер дамочку и там действует с ней подробно — все показывается даже в увеличенном виде. «Такие картины, — убеждали Ваську, — пропускаются теперь вполне, ввиду народной свободы».
Васька краснел при Шелехове, терзался застенчивыми улыбочками, но идти очень соглашался, отчего Кузубов и Хрущ за его спиной сигали на пол от смеха. Шелехова тоже усердно приглашали к общей трапезе, разложив чуть ли не на весь стол лямку толстого, смачно-розового сала. Звали и в кино, на чудную картину «Власть плоти».
— Ежели что на улице… мы вас в обиду не дадим, мы вас в середке поведем.
— Ну? Разве опять… что‑нибудь может быть?
Кузубов успокаивал:
— Ничего не может быть. Когда весь флот против этих безобразиев резолюцию выносит…
Электрик Опанасенко, излучавший в сторонке добрые смешки, загадочно вставил:
— Тут не за офицеров дело…
— А за кого тут дело? — задиристо переспросил Каяндин, кромсая ножом прижатую к груди буханку.
— За кого? Хы… — электрик помялся, посердител. — Вот за кого: украинцев, хочут запужать… на бас берут. Украинцы им поперек хлебова встали. «У вас рада такая-сякая, у вас…» Вот и запуживают, чтоб им потом всю власть… Разве так демократы делают?
— А как, щирый, демократы делают? — подмигивая прочим, распалял его Каяндин.
— Да их и не осталось, демократов‑то. Все в старину еще — в тюрьме да на каторге… ихние и косточки все погнили. А теперь какие демократы… майские!
У матросов, лихо уминающих сало, затеялся спор: одни ли майские остались в Севастополе демократы, или есть и не майские. Вспомнили Баткина, который, оказывается, после черноморской делегации делал дела у Каледина и чуть не зашился матросам в руки под Ростовом. Вот они, майские‑то, где! С Ростова разговор перешел на качинских. Балакали про боцмана Бесхлебнова, который вернулся из похода сильно осерчавшим и сам водил на Малахов. Про геройство покойного сигнальщика Любякина…
Шелехов изумился, узнав о гибели любимого ученика:
— Любякин убит? И уже похоронен?
Он вышел, теснимый странными угрызениями, на палубу. Ему показалось, что внутри его кто‑то проликовал тайком при этом нежданном известии. И не было сил заглушить в себе приятное и омерзительное ликование… Значит, Любякина нет? И он никогда не узнает о том, что случилось в ночной степи у мичмана с Таней. И никогда при встрече с ним не придется больше трепетать по-заячьи.
При встрече с Любякиным-ударником…
«Витязь» всеми своими мачтами падал стремглав, как в пропасть, в сумеречное, но еще светлое небо. Это — от воздуха кружилась голова. От воздуха и от бездонно раскинутого над мачтами неба… Вон — «Гаджибей». Ни голоса, ни человека… Шелехов вспомнил матросика в блинчатой фуражчонке, со злостным, вышаривающим взглядом. Может быть, где‑нибудь там, под спардеком, присматривается, узнает… Перешел на другой борт, над которым нависла длинная сарайная громада неведомого гидрокрейсера.
На городской круче вкривь, один за другим, зажигались огоньки. Моторка бежала с того берега; вон выскользнула из черной тени, упавшей до половины залива, и стрекочет, и вьется в светлом. Куда, к «Витязю» или к «Гаджибею»? Не мчит ли что‑нибудь недоброе? И первая звезда сронилась в зыбь. Как будто только сейчас веселый румяный горнист сыграл зорю, застенчиво и баловливо подходит к офицеру: «Дозвольте, господин прапорщик, на разведку, скушно!..» — «А вы имейте в виду, Любякин, мы еще годик так позанимаемся, и вам можно будет на аттестат зрелости!» А майское теплое море поднимается в сумрак, сказочным туманом пеленает мачты, и невидимое за горой гулянье, и замирающую в груди, незнаемо чего хотящую юность. И нет больше Любякина, и моря того нет. Будущее вдруг открылось во всей своей резкой и сиротливой безотрадности, подобное бесконечной холодной отускневшей реке… Не сразу понял, что это Жека подползла опять тайком, попутала отравной тоской.
Жека!.. Огромное море отделяло его теперь от этой женщины, такое недосягаемо огромное, что лучше было бы задохнуться, чем поверить…
Нет, надо было пересилить себя, рассеять, напрячь сейчас мысли над чем угодно, только не поддаваться. Шелехов решительно спустился в свою каюту, зажег лампу, для чего‑то поворошил стопку книг в черных библиотечных переплетах, давно без призора пылившихся у него на столе. Следовало подумать о многом, со многим освоиться чувством и мыслью — вот с тем, что случилось ночью на Малаховой с Пелетьминым, Любякиным… У него еще днем мелькнуло такое: «Мы (то есть Шелехов и кто‑то еще другие) — как те татары, что пировали когда‑то на досках, под которыми, связанные, корчились пленные. И Петербург, и столовая Ореста Миллера, и полученные пособия, и Жека — все это тоже был пир на досках… И когда те, которые целыми столетиями корчились внизу…»
Неладная суета слышалась из коридора. Вихрем промчалось множество ног. Рядом, у штабных, наотмашь хлестнулась дверь… Шелехов поднял голову; кругом стало тихо, как в глубокой яме.
Что‑то, самое главное, делалось за коридором, на палубе.
Через раскрытый, зияющий люк смотрело небо, рассеченное черной мачтой, вечерне-потемнелое. В раме дверей, выходящих на палубу, громоздилась сутулая фигура Пачульского. Где‑то гулко настрачивал мотор.
Капитан всхлипывал на ухо:
— Вон туда, на крейсер, направо, направо глядите!
После света сарайная громада крейсера прояснялась трудно и медленно. Едва можно было разглядеть стучавшую у его подножия давешнюю моторку. По трапу на моторку сходил смутный человек, очевидно офицер, с белеющим вензелем на рукаве. Следом спускались еще такие же, сгорбленные, принужденные. За ними, отделившись от толпы у борта, юркнуло вниз несколько короткополых, с винтовками. Во всех этих действиях проступал неясный еще, но цепенящий смысл.
— Капитан, — лихорадочно бросился Шелехов к Пачульскому, — куда же их, куда?
Пачульский хныкнул, — вероятно, пожимал плечами.
— Капитан, но ведь на «Свободной России» был митинг, там постановили, сегодня же постановили…
С береговой кручи, на той стороне, сорвался залп, за ним — словно судорогой взбежав повыше — второй. За ветром — ликующе и многоголосо улюлюкнуло.
— Пошли, пошли. — Капитан тянул за руку назад вниз, в зияющую яму.
Дробью грохнули каблуки — почти над головой. Кузубов с веселым воплем сыпался сверху.
— Полундра!
Шелехов никак не мог уцепиться пальцами за его фланельку.
— Как там, что?
Кузубов уже выведал кое‑что из‑за борта, немного.
Все улицы оцеплены ударниками. Опять ходят по квартирам, вылавливают офицеров и буржуев. На «Свободной России», оказывается, целый день выбирали ревком, верх взяли большевики. Сейчас команды арестовывают своих офицеров и сводят в экипаж, где заседает самодельный суд. Когда приводят офицера, знающие его, из «стариков», выступают за и против, рассказывая собранию все, что им известно про этого офицера с пятого года; попались уже крупные лещи, которых без пересадки отправляют на Малахов.
— С вами Каяндин останется, он никуда не пойдет… А мы с Хрущом в город… Вадима Андреевича надо выручать… начальника. Сюда ночевать приведем.
В кают-компании поперек дороги стоял на косолапых, клещистых ногах Агапов, радостно к чему‑то прислушиваясь.
— А ведь Варфоломеевская ночь, господа!
ГЛАВА ВТОРАЯ
«В связи с контрреволюционным настроением командного состава, а также выступлением Каледина справедливый революционный гнев матросов выразился в актах расстрела нескольких офицеров»
(Из Воззвания Севастопольского военно — революционного комитета.)…Ревком наводил порядки. Ревком приостановил самочинные обыски и аресты. Присоединившиеся к ударникам темные, безвестные ватаги, потрясавшие город дикими грабежами, присмирели и попрятались. По ночам дозорили в улицах надежные матросские патрули. Двадцать тысяч бутылок вина по распоряжению ревкома было выброшено в каменистую пучину моря, под бульваром.
Из бушующих ледяным ветром аллей далеко шибал виноградный дрожжевой дух.
В городе и на рейде устаивалась новоявленная, суровой рукой оберегаемая тишина.
Приободрился скорченный от страха, домашний, чиновный, обывательский Севастополь, откупоривал ставни и парадные, с оглядкой семенил на базары. Шепотные рассказы наполняли город. Одни говорили, что расстреляно тридцать два, другие — семьдесят; среди офицеров попался и один поп — за то, что в 1906 году выдал полиции тайну исповедовавшихся у него очаковцев. Над памятью расстрелянных вился трупный туманец выдумок, зловещих недомолвок. Поп сопротивлялся, не шел на Малахов, говоря, что он не принял еще причастия. «Иды, иды, прямо в рай попадешь!» — посмеивался, прикладом подгоняя его сзади, ударник. Адмирал Новицкий принял казнь равнодушно, сказав только матросам: «Наконец‑то додумались до дела, давно бы пора!..» А полковник Грубер обронил со злобной загадочностью: «Расстреливайте, но знайте, что вы все в мешке!»
И даже в матросских кубриках лазил ползучий шепот: «В мешке… в мешке… в мешке…»
На базаре обыватель перестал покупать рыбу. Про это тоже бежал трепетный слушок: «Рыба небывалая, лоснистая, тяжелая, жирная… Ловится — сама валится в сети, как червь…»
Про адмирала Кетрица ходила легенда, будто бы жена его пожелала во что бы то ни стало вернуть себе перстень, даренный ею и оставшийся у него на пальце. И будто бы адмиральша наняла за большие деньги двоих матросов-водолазов, которые согласились слазить за перстнем в море. Однако, не пробыв под водой и двух минут, матросы дали тревожный сигнал к подъему. «Больше не полезем туда ни за какие деньги». — «Почему?» — «Они все стоят там… митингуют, грозятся…» Водолазы после исчезли из Севастополя.
— Сам видал, как связанных их провезли под видом пьяных, — врал в кают — компании Иван Иваныч Слюсаренко.
— Куда повезли?
— Куда! Ясно куда — в желтый дом.
Иван Иваныч, бывший в курсе всех новостей, так объяснял, почему внезапно испугались водолазы: потому что офицеры с привязанными к ногам балластинами стояли там стоймя и от подонной зыби пошевеливали руками и ногами; матросам же, и без того истерзанным совестью, показалось…
В московской газете «Утро России» были напечатаны телеграфные, от собственного корреспондента, подробности о событиях в Севастополе. Там описывалось, как матросы, убив до пятидесяти офицеров, поотрубали им головы и, воздев на шесты, носили с торжеством по Севастополю. Правда, даже в кают-компании «Качи», прочтя это, стали в тупик. Однако хилый и богобоязненный командир «Трувора» Анцыферов и здесь жестоко срезал сомневающихся: «Как не было, как не могло быть?! Вы не видали, другие, можбыть, видали. Что?»
Из качинских в варфоломеевскую заварушку попало только двое — и то краем: этот самый капитан Анцыферов и ревизор Блябликов. Обоих арестовали на улице и водили в экипаж, откуда выпустили на следующий же день. Про пугливого ревизора моторист Кузубов, видевший его после ареста, рассказывал, что «Блябликова как с креста сняли». Анцыферов же, не растерявшись, ухитрился даже проделать такую штуку: когда повели по темной улице, попросился у матросов за нуждой; присев, тут же потихоньку выворотил под собой камешек и припрятал под него свои золотые часы.
После откопал их в полной сохранности.
Мрачнее всех жилось в эти дни минному офицеру. Качинская команда после осеннего митинга прониклась к нему неугасимой и молчаливой враждебностью. И даже когда поприутихло и офицеры по-прежнему, безбоязненно съезжали по вечерам на берег, Винцент отсиживался в каюте, из гордости задергивая штору с сумерек, будто нет там человека…
Да и не всем верилось в прочность тишины. Чувствовалось — не хотела еще подъяремного покоя разбушевавшаяся матросская стихия. На все стороны, под все ветры болтыхалась шаткая посудина флота.
Старики вроде Фастовца, ропща, укладывались домой. Над полуэкипажем вызывающе развевалось черное анархистское знамя. На миноносце «Завидном» украинцы подняли желто-блакитный флаг. По ночам раздувалась штоломная стрельба. Ударник охрип, возгордясь, гулял по улицам, как царь, с видом неукротимым и не признающим никого.
А рядом Ростов крепчал, все шире и шире расползалось черное пятно калединской власти. Калединские агенты шныряли даже по Крыму, подбивая на восстание татар. Имелись сведения, что под самым носом у черноморцев, в Евпатории, сколочена сильная офицерская дружина, а из Одессы перебрасывается туда татарский эскадрон…
По кораблям опять шла запись добровольцев, на вокзале заранее ладили самодельные пулеметные площадки из платформ. Шли разговоры об удали, о кочевой отрядной жизни. Изредка срывались на север горячие эшелоны. Над Иван Иванычем, — рассказывал он, — взвился один такой, когда он шел себе спокойно по Килен-бухте. Эшелон винтом крутился в гору, теплушки были все настежь, а из Дверей гоготали еще издали адские морды и еще издали прикидывали на мушку офицерскую Иван Иванычеву шинель. Хорошо, что Иван Иваныч поостерегся: не подпустив к себе поезда, ухнул, закрыв глаза, кубарем под двухсаженную насыпь. Только услышал, как громом пронесся над ним паровоз и гикнула тысяча дьявольских глоток:
— Бей в лет!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Шла на ущерб загнанная в тихий тупичок порта обширная и дружная некогда бригада траления. Улетучился семейственный захолустный дух из качинской жизни; самые корабли в городских берегах стали иными, словно продали их кому‑то, словно обошел их новый, незнакомый владелец, сосчитал сурово и чужой меткой запачкал обсиженный и обжитой инвентарь.
Большие, первого дивизиона, пароходы совсем отбились от бригады: то ли пропали за далекой волной где- нибудь под Трапезундом или Батумом, то ли здесь же, в Южной бухте, жили себе на отлете, среди чужих кораблей. Да и мелкосидящие, ходил слух, не сегодня-завтра по приказу ревкома могли уйти в рассыл — к устью злобствующего калединского Дона, который, по тем же слухам, спешно минировали на случай нового визита черноморцев черноморские же беглые офицеры.
Дела никакого не было, и кают-компанейские жили, как партизаны: обедали, ужинали, ходили в гальюн, а в остальное время трепали языками. Даже удачливого Маркушу, новоиспеченного командира, начал поедать невидимый червь.
Скучно и голо казалось Маркуше в бывшей мангаловской каюте — не хватало чего‑то самого главного: не то разграблено было, не то вывезено дотла бывшими постояльцами. Вспоминался прежний командир Мангалов, — как вываливался он, бывало, на шканцы после утреннего вставания, по-хозяйски, без стеснения подставляя под солнечный пригрев сановитое пузо, как искательно катились со всех сторон прапорщики и поручики — поздравить капитана с добрым утром, пожать ручку… А Маркушу все звали по-прежнему Маркушей; иные, когда здоровались, ленились даже поднять зад со стула.
Лежал на койке целыми днями, вытренькивал на балалайке вальс «Грезы». И взглянуть с палубы не на что было, не как в Стрелецкой. Поплескивала под выстрелами гнилая заводь, по соседству теснились дряхлеющие, доживающие свой век пароходишки, баржи и катера. Без передышки крутилось над городским нагорьем окаянство зимних туч.
Маркуша не выдержал однажды, крепко выпил и пошел куролесить по кубрикам.
— Кем я удостоен? — рыдающе вопрошал он ухмыляющихся, бездельно глазеющих на него матросов. — Я нарродом удостоен! Братцы, вами, нар-родом удостоен! На шо мне об-ра-зо-ва-ние? На шо мне ета алгебра, когда кругом, братцы, ваш-ша народная власть!..
Вернувшиеся ударники еще больше подбавили мраку. Правда, главного из них, Зинченку, мало видели на «Каче»; Зинченко, ставший у большевиков заметным человеком, целыми днями пропадал в городе — по разным таинственным делам. Но боцман Бесхлебный, как напоказ, вечно выхаживал по палубам с крутой осанкой, всегда с наганом за поясом, всегда готовый яростно ринуться, куда потребуется, вгрызться. Кают-компанейские посылали ему полные приязни улыбочки, а зачастую и первые козыряли: что, мол, считаться между своими!.. А Иван Иваныч Слюсаренко надел вместо кителя синюю кочегарскую блузу и нарочно попался в ней боцману на глаза, — добрых полчаса все выспрашивал, каков‑то теперь Ростов, в котором Иван Иваныч лет пять назад грузил от купца зерно на свою шаланду. «Ох, по десяти потов тогда выгоняли из нас толстопузые сволочи, вот как эксплуатировали‑то раньше, а!» — громко и восторженно кричал он на всю палубу.
Сверху иногда бывший мичман Винцент обозревал эти сцены с кривой, безумноватой усмешечкой. Опять кронштадтским трясением тряслась его медальная голова.
Мутно жилось наверху, на «Каче».
И грянули новшества.
К начальнику, Скрябину, приставили комиссара, писаря из качинской команды, вежливого и долговязого франта, который — невиданное дело — должен был делить власть с Володей.
Вновь переизбранный бригадный комитет начал неожиданно свирепствовать: сместил с должности командира «Трувора» набожного Анцыферова за то, что у него золотые зубы, уволил за ненадобностью начальника первого дивизиона Бирилева, ввиду того что дивизиона якобы на самом деле не существовало, ибо большие корабли разбрелись все по другим делам, да и тралить им было нечего… На «Трувор» назначили Лобовича, который после ростовского похода нелюдимо отсиживался на «Джузеппе»; и что удивительнее всего — тот охотно согласился. Конечно, кают-компанейские не знали, как и что задумано насчет «Трувора», не знали, что вовсе ни при чем тут золотые зубы… Но Лобович стал им с тех пор как проклятой!
Передавали еще, что на заседании комитета раздался голос, требующий повесить Ивана Иваныча за то, что он при старом режиме ругался на матросов матерно и один раз ударил вахтенного по лицу, грозя отправить его на виселицу… Да, другая, безлицая власть жесточала на кораблях — да и над всей Россией! И — кощунство, не слыханное доселе никогда! — вольные приходили теперь невозбранно на судно, ночевали в кубриках…
— Футляр один остался от флота, — со смиренной злобцой вздыхали в кают-компании, когда отлучались вестовые.
* * *
И один за другим терялись, уходили в бессрочный старые матросы, коими держался еще былой корабельный лад.
С «Качи» ушел Фастовец, ушел вахтенный Кащиенко… Перед отъездом Фастовец заходил прощаться к капитану Мангалову, который после ночных облав скрывался у двоюродной сестры, где‑то на окраине. Капитан, пораженный этим неожиданным посещением, сначала отчаянно задергал лицом, вообразив, что отыскали, пришли по его душу. Нескладная, виноватая улыбка матроса успокоила его.
Присели оба — старый, отцаревавший на синих морских просторах флот.
— Я думал… шо три года мы с вами, Илья Андреич… на одном, как сказать, корабле, — прочувствованно молвил Фастовец, — шо, можбыть, умереть, умереть придется, и не повидаемся.
Матросу кинулась в глаза нездоровая прожелть вислых, выжатых капитанских щек. Несладко, видно, жилось Мангалову за последнее время. «Похудел‑то, аж зенки открылись», — отметил жалобно про себя Фастовец.
Капитан расстроился, прослезился:
— Ты меня, Фастовец… это, когда что было… ты прости. С нас тоже требовали, братец… служба.
Утирал слезастые, вислые щеки:
— Не думал, того… что ты такой. Спасибо, спасибо.
— Вы мине тоже, Илья Андреич, простите, — небывалым у него девьим тенором нежничал и Фастовец, — простите, шо тогда по митингам напротив вас, значит, собачил… Тогда, Илья Андреич, уси собачили.
Мангалов, ослабев, махнул рукой:
— Эх, все бросить, все бросить, уезжать надо мне, Фастовец… Отслужил! Пчелкой, пчелкой надо заняться.
— А шо ж и пчелкой! — обрадованно подхватил Фастовец. — Вы вот… да и бог с ней, со службой, с дурной! Вы приезжайте к нам на Украину, мы там и пчельник вам, этого… Найдем у какого буржуя, посшибаем самого ко псам, а пчельник вам. Теперь уся наша права, Илья Андреич.
Мангалов утерся, приосанился:
— Спасибо тебе, Фастовец. Но ты — верный человек, скажу тебе… Вот ты ко мне пришел уж… придут и они, поклонятся… с-сукины дети. Выручайте, скажут, господин капитан. Ага, выручайте… нет, уж пускай он выручает, банабак ваш, лизун… Маркушка‑то. Он сколько время по кубрикам гнусел, под меня рылся… знаю! Я вас выручу! Ты документы получил? — спросил он вдруг матроса.
— А то ж.
— Ну и поезжай с богом, не задерживайся. Я тебе… за доброе слово, — капитан с ужаснувшимся лицом пал Фастовцу на ухо. — Татарва… весь полуостров скоро подымется… Ни проезду, ни выезду… Слыхал? к Дарданеллам, к Дарданеллам Колчак подошел, стоит во главе… Во главе стоит всех держав! Думаешь, когда сюда дойдет, простит всех, это хулиганство? Слыхал, что Грубер перед кончиной… про мешок‑то?
— Неужто про это, Илья Андреич?
— Про что же? Ты поезжай, Фастовец, я тебя за твое добро, прямо, этого… прошу!
Матрос растерянно вздохнул, поднимаясь. В тот вечер в качинском кубрике столько было темного говору про татар, про Колчака, про мешок… Фастовцем же овладел прощальный разгул. Он ходил, длинношеий, виновато-торжественный, обряженный в чистую робу первого срока, по всем кают-компанейским, у каждого просил прощения, — если что насобачил когда на митинге, — с каждым по-пасхальному, крест-накрест, лобызался.
Володе Скрябину отдельно дал на прощание секретный совет:
— Усе у нас на «Каче» буде смирно, господин начальник, только одно: шоб мичмана Вицына здесь не було… Я ж за его интерес говорю. Пущай уйдет, писать поступит куда иль того… а только шоб его на корабле не було. Вот.
Скрябин болезненно встрепенулся:
— А что же?
— Та так… — уклонился Фастовец. И ушел и сгинул, будто никогда и не было его на «Каче»… Но Скрябина и других верхних очень встревожило это предостережение из кубрика. И так чувствовалось, что вокруг Винцента завязывается какой‑то зловещий узел. Несомненно, минного офицера следовало вовремя спровадить с корабля, чтобы не разыгралось однажды что‑нибудь похуже «Гаджибея». Начнут с одного, а потом распалятся…
И Володя мучительно решил.
— Как теперь ваше настроение? — спросил он как‑то Винцента, задержав его после обычного доклада. Спросил как можно сочувственней и ласковей.
(Но не вышло: глаза под мичманским пристальным, понимающим взглядом сами окосели, воровато прыгнули в угол.)
— Благодарю вас, господин старлейт. На берег не хожу, немного леплю, задумал одну работу по специальности. Несомненно, Дарданеллы будут на днях прорваны союзниками. Тогда боевые действия на Черном море сами собой… ликвидируются, правда, господин старлейт? Значит, нашей бригаде предстоит колоссальное вытраливание собственных заграждений. Как минный офицер, пытаюсь набросать предварительные расчеты.
— Это не лишне… да, не лишне… Дал бы только нам с вами бог дожить… — Приободрившийся Володя набрался решимости и опять в упор глянул на Винцента: — Между прочим… в Центрофлоте, это уже наверняка известно, лежит подписанный приказ: разрешают и нам демобилизоваться. Это хорошо!
Винцент слегка покачивался, стоя навытяжку. Палящий взгляд его корчил Володю.
— Приказ для фендриков, господин старлейт, для попрыгунчиков… В минуту, когда флот… когда русский флот захлебывается и гибнет среди кровавого хамства… — Мичман, задыхаясь, перешел на торжественный кочетиный альт: — Есть священное правило, господин старлейт: офицер покидает корабль последним. И я, и я, господин старлейт, поступлю в таком случае эффектнее, чем вы думаете…
Он сучил пальцами у горла, словно воротник кителя душил его.
— А потом… съехать с корабля в город, Владимир Николаевич, мне? Вы понимаете, что вы предлагаете?
Скрябин не хотел прислушиваться к этому смятению.
— У вас же дядя в Ейске, — подсказал он.
Винцент вспыхнул, отступил, его голова занялась страшной кронштадтской дрожью.
— Так вы, — кричал он нарочно пронзительным голосом — нарочно, чтобы слышали и за каютой, — так вы, господин старлейт, предлагаете мне перебежать к Каледину?
Володя сдержал судорогу в лице.
— Вы меня не так поняли, мичман, — произнес он успокоительным, отечески — научающим (сам знал, что лживым) тоном. — Вы меня не так поняли. У нас в Батуме, не так далеко от Ейска, стоит пятый дивизион…
Последнюю фразу Скрябин многозначительно подчеркнул. Винцент недоверчиво приблизился.
— Владимир Николаевич!.. Простите по — человечески! Владимир Николаевич, вы же знаете, что я вынес, несмотря на мою молодость.
Скрябин деликатно прятал руку, которую тот ловил обеими ладонями как бы для лихорадочного поцелуя.
— Завтра мы вас откомандируем в Батум.
— Но я вернусь еще, вернусь сюда, Владимир Николаевич, — прямо в лицо клятвенно, зловеще вышептывал Винцент.
— Дай бог, дай бог!
И Винцент через неделю тоже исчез с корабля. А Володя каждый раз после таких случаев, оставшись один, угнетенно подходил к пианино, машинально поднимал крышку… Да, и жить и править бригадой становилось все труднее и труднее. Даже матросская привязанность, особенно проявившаяся во время малаховских ночей, когда Володю тщательно оберегали и на корабле и на берегу, даже она не утешала теперь, а камнем ложилась на душу: каждый бушлат чудился закапанным кровью… И все было зыбко и непрочно. Кругом многотысячно и неспокойно пучились татары — в какой‑то смутной связи с радой и Калединым; через Дарданеллы, при участии непоколебимого до сих пор Колчака, пробивались к Севастополю с неслыханной кровью английские дредноуты… Неизвестно, как еще через месяц взглянут на матросскую былую любовь и покровительство, на случай со Свинчуговым… Все чаще и чаще Володе и многим другим, похожим на него, приходило хотенье: оступиться вдруг в какую‑то пропасть и кануть в ней без следа и сознания… И, пожалуй, подобны были такой пропасти податливые, легко проваливающиеся под пальцами клавиши корабельного пианино и кукольно-причудливая, легкая, как засыпание, прелюдия Александра Скрябина… — Вот она забвенной, словно дождевой завесой застилает городские кручи, матросов, карающие дарданелльские дредноуты, весь страшный угол жизни, который назначено видеть и переживать.
* * *
…Все‑таки заглянул однажды на «Качу» и Лобович. Пожал вялые руки кают-компанейским, присел без приглашения.
— Ну, как у вас тут?
— Да ведь чего же… живем.
Лобовичу, изнуренному долгим одиночеством, хотелось задушевно объяснить кают-компанейским насчет «Трувора», — что пошел ради них же уберечь от неприятности — и не одного, может быть, Анцыферова… Но вместо задушевности из‑за насупленного офицерского молчания явственно грянул задирающе-скрипучий гогот Свинчугова:
— Эх ты, едрена… рево-лю-ционный адмирал!
Конечно, никакого Свинчугова и в помине не было — ни в кают-компании, ни на свете… Мглистое, водяное утро в конце декабря, длинный стол, качинский, столетний, обжитой, как родина; за ним, будто на другом краю прорвы, сидят молчаливые, лобастонасупленные, мешают ложечками остылый чай, курят, стараясь если и взглянуть, то мимо друг друга… Конечно, это сам Лобович занес его сюда, в последнее бездельное время что‑то все чаще, все ядовитее навещал его покойный поручик — должно быть, от раздумий, от одинокого лежания в труворовской мрачной, ободранной каюте. Смутясь, забывчиво повторил вопрос:
— Ну, как вы тут, на «Каче»?
— Да ведь чего же… живем. Ждем, когда очередь на Малахов дойдет, охо-хо…
— Да будет вам, господа, какой теперь Малахов! Все кончилось, чего зря говорить. Вон ревком‑то как за порядочек взялся…
— Ну да, вам‑то, конешно, говорить не приходится. Вас‑то на Малахов не поведут!
А может быть, и не о «Труворе» надо было говорить, а о Свинчугове? Или вот еще — из Евпатории только что дошла новость: офицерская шайка схватила там и замучила насмерть председателя Совета, большевика Караева. Тело его, выброшенное на улицу, было неузнаваемо, все в пулевых и штыковых ранах, спинной хребет переломлен так, что затылок касался ног… Лобович видел ростовские трупы, тысячами положенные в Дон. Он шел по пустому коридору жизни, между двух человечьих стен, где с обеих сторон дышала на него горячая, скрипящая зубами ярость, — если бы об этом рассказать, спросить… вот хотя бы того же Анцыферова?
— Если кто, господа, имеет что‑нибудь против моего поступка относительно «Трувора», то скажите прямо и откровенно. Я обиды никому не хочу, я разъясняю.
— Ну да, конечно, какая теперь обида, — уклончиво отвечали офицеры.
Анцыферов ядовито смиренничал:
— Да что уж тут… У меня зубы золотые!
Иван Иваныч, которого будоражило самое отдаленное напоминание о бригадном комитете, ворвался в разговор со своим:
— А про меня вон чего вынесли: повесить! Это за что же вешать? Ну, я при старом режиме ругался — выругай теперь ты меня. Ну, я тебя тогда ударил — теперь ты мне в морду дай раз или два! А вешать за что?
Как будто еще более осиротевший, спускался Лобович с «Качи» в пасмурную сырь порта… На свалочном, занавоженном берегу, где того гляди ржавый ошметок вонзится в башмак, из‑за разбитых ящиков, из‑за плесневеющих вверх килями шлюпок, из самой земли вырастали робкие костлявые одичалые псы — один, два, три… не отрывая печальных глаз от спины Лобовича, помахивая хвостами, тихо следовали поодаль, пока опустивший голову скучливый человек не исчез за трапом «Трувора». И долго еще сидели, подняв жадные морды к пузатой, обмываемой грязным прибоем корме.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Устранение Бирилева с должности начальника дивизиона, в другое время вызвавшее бы громоподобное впечатление, прошло теперь почти незамеченным. Некому и некогда было злорадничать по поводу падения этого надменно-сухого в обращении, всегда особняком державшегося лейтенанта, а о негодовании смешно было думать. Каждому своя рубашка ближе к телу… Самолюбивый Бирилев с виду был тоже спокоен и переживал этот тяжелый и нежданный удар в одиночку.
Рук он, однако, не опускал. Действительно, по натуре Бирилев оказался напористым и цепким. Через Кузубова подбил команду устроить на «Витязе» общее собрание дивизиона — для выяснения обстоятельств. Витязевские были явно возмущены вмешательством бригадного комитета в дивизионные дела. «Нашлись там двое-трое суматошных, свое „я“ показывают, а за ними все, как бараны. Что им Вадим Андреич сделал?» — роптал преданный Бирилеву Хрущ.
Бирилев два дня не показывался на корабле совсем, а накануне решительного собрания вызвал флаг-офицера на свою городскую квартиру.
С какой отрадой вдохнул Шелехов свежий, безбрежно-открытый во все стороны воздух, впервые безбоязненно вдохнул после двухнедельного почти заточения на корабле! Он озирал город глазами только что тяжело переболевшего человека. Почему такой низенький и захиревший Нахимовский проспект? Провинциально-облезлые, тусклые фасадики домов, пустые, не мытые давно магазинные окна, колдобины на мостовой, запорошенные лошадиным навозом, окурками. Прохожие, одетые трепано и бедно, ненастно спешащие по скучным своим делам. И вообще все — посеревшее, прибеднившееся, под стать самому Шелехову, с которого тоже срезан был весь прежний блеск — и золотые фестончики с рукавов, и расшитая кокарда с фуражки, и орленые пуговицы шинели были скромно обтянуты черным. В окне, отразившем его прохожую фигуру, показался сам себе похожим на отставного телеграфистика. Нет, ничего не было жалко — сердце даже радовалось втайне этому оскудению и серости: было бы больнее застать здесь какое‑нибудь праздничное марево, испытать снова укусы щемящих воспоминаний… А может быть, он их уже испытывал, глядя на знакомые опустелые места, только не сознавался, не давал себе воли?.. И когда в сквозине голого бульвара метнулось перед ним охмуренное море без единого судна, без единого паруса, все заросшее грязно-седым ковылем зыби, кидающееся под разрывные, клочкастые тучи, — он охотно запомнил для себя его вымороченную зимнюю пустоту, его отталкивающую человека дикость… Теперь он знал, не по чему будет тосковать, сидя в одиночку на корабле и поглядывая тайком на крыши запретного города.
Бирилев начал разговор в некотором замешательстве, с описания тяжелых своих чувств, ибо тема была чрезвычайно деликатная: надо было внушить Шелехову, чтобы он подтолкнул матросов, Каяндина или Кузубова, обязательно выступить за начальника на общем собрании и даже подсказал им те доводы, с которыми желательно было бы выступить… Растроганным голосом, но отводя взор в сторону, Бирилев сказал:
— Дело не в дивизионе, ясно: я не годен им. Эх, Сергей Федорыч! Конечно, уберут меня, сделают вас, любимого офицера, начальником дивизиона.
— Что вы, — оскорбленно запротестовал Шелехов, — что вы, Вадим Андреевич! — а у самого преступно радостно заскакало: а вдруг? Впрочем, только на секунду… к чему было опять обольщать себя по-мальчишески, если не выбрали даже по-прежнему в бригадный комитет, если забыли… Другие, не вешние текут времена.
— Конечно, я мог бы пойти к командующему, устроиться сейчас же, меня везде примут с удовольствием, но досадно: самолюбие, Сергей Федорыч!
Шелехов согласливо кивал. Он‑то знал, что бывшему лейтенанту уже не устроиться, что паскудная будет жизнь, с волчьим билетом… Но нарочно кивал — из стыдливой жалости, что ли? На прощание благородный и совсем одомашненный Бирилев, сняв со стены какое‑то резное деревянное сооружение, похвастался перед Шелеховым:
— А я вот чем поправляю свое настроение в тяжелые минуты: видите, делаю полную модель «Витязя»! Киль уже готов вполне, вот тут подразумеваются шпангоуты… Как‑то хорошо забываешься за этим!
Он объяснял любовно, какие и где появятся подробности: лебедочки, трапики, выстрела, шлюпочки… На память о годах войны и о совместной службе с Сергей Федорычем он потом повесит «Витязя» в своем кабинете. А Сергей Федорыч будет где‑нибудь греметь по ученой специальности, о, он ведь умница — я в глаза не люблю хвалить, но — умница! И, должно быть, модель «Витязя», висящая над столом, сопрягалась в мыслях Бирилева с каким‑то светлеющим издали, как встарь, временем: под окном тихая травяная улица, на Приморском гуляют барышни в белом, по асфальту печатают шаг ревностные, радостные стараться матросы. То видно было по размягченно-мечтательному его взору… А на Шелехова — странно — потянуло вдруг той же опротивелой сонливой запертостью, которой тюремно дышал две недели на «Витязе».. Встать бы, расправиться, до стона хрустнуть всем засидевшимся телом!
…Вопреки невеселым ожиданиям Бирилева дело его разрешилось без особых потрясений. Кузубов сам, без всякой просьбы, выступил первый, когда матросня, в шапках и бушлатах, навалилась с ветра на бархатные диваны (Шелехов с Бирилевым, слушавшие через раскрытую дверь каюты, узнали его голос — уверенный, с весельной).
— За ним мы везде пойдем! — нахваливал он опытность Бирилева. — Наше минное дело такое, чтоб по ниточке, а их, мин‑то, насыпано, чисто арбузов на баштане!
И, наверно, счудил что‑нибудь подслеповатым, хитро-простаковским ликом, потому что сборище обломилось шумным смехом.
Еще один неизвестный, хмуристый голос высказывался так:
— Нет, офицеров не надо нам выбрасывать. Мы этим только приготовим палку для себя, потому что такие пойдут потом к Каледину. Их надо или на Малахов, или оставить служить, а если нет места — дать им место.
Кто‑то спросил недовольно, вроде Хрущ:
— При чем вы, братишка, про Малахов?
— Да надо про это напоминать почаще. Не напоминать — забываться опять, пожалуй, будут.
Против не выступил никто; резолюцию — чтоб оставить начальника на прежней должности — приняли единогласно (Хрущ тотчас же, торжествуя, помчался с этой резолюцией на «Качу»). Бирилев вышел к матросам, благодарил их сухим, соскакивающим на команду голосом. И пальцы его терзали поля фуражки, зажатой в руке… Шелехов дивился на его ссохшееся, сжавшееся в узкую дыньку лицо…
А еще через час, через какой‑нибудь час в том же салоне перед Бирилевым стоял навытяжку побледневший Лобович, срочно вызванный с «Трувора» семафором. «Трувор», оказывается, принимал вооруженный десант, чтобы отправиться спешно в Евпаторию, — Бирилева случайно осведомил об этом капитан Пачульский.
— Странно, очень странно, господин командир. Я — ваш непосредственный начальник и узнаю подобную новость из частного разговора. Кажется, директиву о походе первый должен знать я, а не вы. Слава богу, меня еще не выбросили за борт!
Лобович почтительно и мягко возражал, что все зависело от ревкома, а не от него: приказали быть «Трувору» на первом положении, он исполняет… Лобович должен был отступить, увидев перед собой багровое рыдающее лицо бывшего лейтенанта.
— Прошу! — взвизгнул на него в упор Бирилев и задохнулся. — Понимаю, когда… матросы! Но когда офицеры… плюют на дисциплину, роняют сами достоинство… к матери… к матери! Это не служба, господин Лобович, не служ-ба-с. Это… мать… мать…
Шелехов, удрученный, удалился на палубу. Над рейдом тяготел десятый или одиннадцатый день тишины с мокрым, быстро стаявшим с черных туманных нагорий снегом, с раздражительной сыростью и странным тепловатым ветром. Погода, рождавшая тоскливые и пьяные позывы… Может быть, воспользоваться тишиной, демобилизоваться и уехать на север? Что могло еще приковывать его, пасынка, к флоту? И откуда и зачем эта нелепая, глухая ревность, когда он смотрит, например, на дымящий неподалеку «Трувор», на крутящуюся подле него золотоголовую толпу черноморцев, волокущих по сходне пулеметы, зарядные ящики живых быков?.. Это — Лобович взойдет на мостик и двинет грозное дело этих людей в море…
Штабные, вчуже притихнув, вполголоса судачили в своей каюте про Бирилева.
Кузубов вспоминал.
— Вот нам с Хрущом тоже один раз такая жара была…
— А что? — заинтересовался Шелехов. Он не однажды задумывался о причинах столь беспокойной заботливости матросов по отношению к Бирилеву. Или со старого режима остались еще трогательные и благодарные воспоминания в матросской душе?
Кузубов охотно разоткровенничался:
— Вот, брат, он завсегда строго, Вадим Андреевич. Когда глядит, бывало, — прямо жгет. Мы с Хрущом его сильнее Колчака боялись. Ну, за дело, конечно: журил, когда дела не с подняли.
— Ты за воду расскажи, — подталкивал Хрущ.
— Это в позапрошлом году, на Стрелецкой… Он тогда супругу к себе взял на Стрелецкую, дачу ей снял около «Витязя». А Хруща приспособил, чтобы он ей по хозяйству помогал. Самое главное — за водой чтоб ходил. А там вода — семь верст до небес, аж на Карповке, три пота из тебя выгонит, пока за ней сходишь. А начальница его раз десять в день, бывало, сгоняет: то обливаться ей, то ребятенка помыть, то, се…
— Раз десять, не меньше, — с похвальбой подтвердил Хрущ.
— Вот Хрущ упехтался один раз и говорит ей: что я, осел, вам дался? Наймите мне осла, я на нем возить буду! Тут что было… Она как заплачет, сейчас же на «Витязь» — к самому жаловаться, сейчас же Хруща вызывают в каюту. И-и… Вот он его чистил, вот он его чистил… Я в это время внизу в моторке поджидал, так и то надрожался весь. — Кузубов, вздохнув, извиняюще пояснил: — Это надо заглянуть в физиологию любви.
«А теперь Бирилев называет Хруща Игнат Василичем, а Ваську Чернышева — Василием Николаичем, и все в порядке, все забыто… Заботятся, чуть ли не обожают. Как и кавторанга Головизнина, который не жалел матросских жизней для своих полубожеских подвигов. Я же — совсем другое…»
А что будет с Бирилевым, если события пойдут вспять, какой развязанный пламень глянет тогда из его глаз? После сцены с Лобовичем в первый раз почуялось отдаленное, недоброе родство Бирилева с есаулом, несмотря на жалостность, на домашность недавнюю…
По-новому, неприязненно-пытливо взглянул на начальника, когда тот вызвал его к себе.
Бирилев сидел один, писал что‑то — для виду, вероятно, — положив ладонь на лоб.
— Давайте, что есть, на подпись, — попросил он хрипловатым свернувшимся голосом, — ни завтра, ни послезавтра, наверно, не приду. Нервы, знаете… — добавил он виновато.
Однако случилось иначе. Пришел той же ночью, необычно переряженный — в штатском пальто и какой‑то кургузой шляпчонке, похожей на женскую. О многом уже знали на «Витязе» — по буйной головорезной пальбе, с сумерек ополыхнувшей город. И все же неожиданно было появившееся в дверях матросской каюты смиренно улыбающееся лицо Бирилева.
— В дровянике у себя только два часа промерз… Стучат в парадное. Я сразу сметил, что неладно… Задним ходом в сарай, стал за дрова, стою, слышу, в доме все вверх дном ворошат. Ну, думаю, надо подальше… На дороге двое уже лежат… как будто артиллерийские. Да, господа, времена.
* * *
И те же железные судороги за бортами, те же поздние огни, что и десять ночей назад…
Как будто одна длилась ночь…
На столе в салоне опять кипел самовар, налаженный Игнат Василичем (только так Бирилев величал теперь своего вестового), и сидели за стаканами чинные, как в гостях, матросы, и Бирилев угощал их шоколадом из кружевной коробки. И опять — как в ту первую тюремную ночь — щелкал крышкой золотых часов.
— Время раннее, господа, — десять. Спать не хотите?
— Ну-у, — вежливо запели матросы.
— Посидим, посудачим…
Каяндин тянул папиросу из бирилевского портсигара.
— Мы, Вадим Андреевич, однако, хотели с вами поговорить. Вот на этот случай, как нынче. Нам‑то ведь тоже демобилизация скоро выходит… надо по домам, пожалуй, скоро собираться.
Бирилев переменился, суше стал с лица:
— Кому же выходит демобилизация?
— Мне вот… Кузубову, Хрущу… Васька‑то послужит, он еще серый.
Бирилев постукивал пальцем по столу. Наверно, и у него эта новость заставила сжаться сердце. Или у вымуштрованного, крепко держащего себя в руках лейтенанта и чувства совсем другие?
Но ведь изменяла, уходила последняя защита…
— Кузубов с Хрущом вон даже в отряд ладят, скучно им. Наш Кузубов — не слыхали, Вадим Андреевич? — на вокзал все ходит, площадку броневую помогает настраивать. Вот работает наш Кузубов, любота!
Каяндин рассказывал с явным насмехательством. Только над кем? Может, офицеров подтравливал нарочно?
Бирилев сказал:
— Я считаю все же, господа, демобилизоваться вам до весны нет смысла. На севере зима, неустроенность… да и в поезде измотаетесь, вряд ли доедете целыми… Вы бы до весны погодили. Тем более, по новому приказу, кто из демобилизованных остается добровольно, оклад до двухсот рублей.
— А что, ребята, вправду, — поддержал его Хрущ, — останемся до весны, засолим каждый по тыщонке. Для дома… у нас такой разговор был, Вадим Андреевич.
— Вот, вот. Между прочим, я думаю предложить насчет Каяндина, чтобы его произвели в ревизоры. У нас по дивизиону вакансия полагается по штату. Теперь офицерских чинов нет, все равны… почему не повысить достойного матроса!
Из Опанасенки полилось солнце:
— Ого, Каяндин… достиг!
Каяндин, застенчиво — даже и его прошибло! — опустив ресницы, чертил карандашом по столу.
— И насчет других — мы там посмотрим. Вообще… господа, могу похвалиться, что я подобрал к себе в штаб самых способных, самых развитых. А почему бы вам всем когда‑нибудь не зайти ко мне на квартиру вечерком? Почаевничали бы, у меня спиртишко где‑то был. Игнат Василич? Наладьте‑ка общий сбор, так денька через три, а?
Бирилев выпрямился и прислушался. Конечно, он не трусил, он держал голову на очень изящном повороте. Но кто это там проботал по палубе с трапа — трое или четверо?
— Из наших кто‑нибудь, — подсказал Кузубов.
— Да, несомненно, из наших, — согласился убежденно Бирилев. — Чужие сюда вломиться не посмеют.
Хрущ принял воинственный вид:
— А если бы и посмели… мы их… позвали бы сейчас ребят с трюма…
— Так. По-моему, спать еще рано, господа. Я бы предложил какую‑нибудь игру с движениями: посмеемся, повеселимся. Знаете, например: «море волнуется»?
«Море волнуется»… В нищенском чемодане воспоминаний хранились у Шелехова кое-какие интересные разноцветные лоскутки. Была сирота, гимназистка панна Зося. Ее взяла в приемыши жена миллионера-фабриканта, владелица баснословного особняка за вьюжной заставой, за Невой. Однажды, когда фабрикант с женой уехали за границу, панна Зося позвала к себе в гости знакомых бедноватых студентов вроде Шелехова, они пили в особняке водку и в огромной полутемной гостиной танцевали под граммофон с Зосиными подругами. Впервые в жизни Шелехов увидел тогда зимний сад (дело было в январе), в этом зимнем стеклянном саду цвели камелии, — и эти цветы студент тоже видел в первый раз в жизни, раньше знал о них только по заглавию романа — «Дама с камелиями», а в тропической листве, на дне сада, сиял круглый каменный бассейн с водой. Кажется, больше всех в тот вечер нравилась ему панна Елена, тоненькая миловидная попрыгунья, похожая на козу, с карими хитрыми глазами. И он завел ее за камелии и там целовал эту дочку подозрительного страхового агента и гешефтмахера, эту податливую девочку, которая через год-два будет улавливать для себя женихов, целовал только для того, чтобы запомнить, оставить на себе след этого зимнего сада, чтобы сказать себе когда‑нибудь: «А ведь я целовался когда‑то в зимнем саду, в кустах камелий…» Зачем так было нужно, он не знал, но пытался даже писать об этом стихи.
Матросы носили табуреты и стулья из кают. Бирилев громко шепнул Шелехову на ухо, так громко, что слышал невзначай проходивший мимо Каяндин:
— Удивительно симпатичные ребята у нас, Сергей Федорыч, прямо на редкость, и так с ними отдыхаешь!
Матросы усаживались на стулья с препирательствами и зубоскальством. Кто‑то прибавил свету, отчего стала возбужденнее и глубже ночь и словно нависла со всех сторон одуряющая призрачность камелий… Бирилев хлопотал, усаживал. Кто за даму? Ну… вот Василий Николаич хотя бы (то есть Васька Чернышев!), Кузубов, Игнат Василич… Шелехов глядел внимательно на лейтенанта, чьи движения его околдовали. Это был не сегодняшний Бирилев, два часа простоявший в дровянике, и это были не матросы.
Игра началась.
— Господа, приготовьтесь: я кричу!
Откуда появился у него такой голос, похожий на бархатное воркованье? Лейтенант забылся, может быть… Зеркала, недвижным вихрем хороводящие вокруг, перенесли его в другие комнаты, пронизанные пчелиным гудением музыки, звененьем стекла, блеском голых плеч, сановитостью пушистых, надвое по-скобелевски расчесанных бород, прикрывающих красный крестик под горлом, как у адмирала Кетрица… Конечно, лейтенанта, внучатного племянника морского министра, этого льва с блестящей фамилией и будущностью, принимали в лучших гостиных. Какие, должно быть, прекрасные там были панны Елены! И он умел вовремя наклониться, сказать воркующим, сухим шепотом ей, панне Елене, опахивающей его цветковыми, послушными глазами…
О, играли очень весело, несмотря на то, что двое лежали на дороге, — кажется, артиллеристы? — и даже Васька порозовел, похорошел, как панна Елена, разошелся вовсю. С него полагался фант за промах, и парень, порывшись в карманах, не нашел ничего, кроме частого гребешка для вычесывания вшей. Впрочем, это нисколько не попретило Бирилеву: он уложил гребешок рядом со своим золотым портсигаром в фуражку, поощрительно показав Ваське улыбочные зубы. Бирилев был душой всего этого веселого беснования. Конечно, никаких матросов не было. Душистые платья, кружась, летали за спиной; спустилась бальная, прогрущенная музыкой мгла.
Кузубов с завязанными глазами выкрикивал фанты:
— Этому… ну, скричать кочетом, ха-ха-ха!
— Этому… слетать на бак!
— Этому…
Кузубов, обычно весьма почтительный, от веселья ударился даже в озорство:
— …поцеловаться с начальником!
Грохнул хохот, Каяндин танцевал гопака, оркестр на хорах безумствовал.
— Ваське! Ваське! Ваське!
Чернышев обвис, словно облитый водой, несчастно щерился. Когда потащили к Бирилеву, утер губы об локоть.
От дверей глазел, скособочась, Агапов, хмылился; наверно, ждал, когда можно улучить минутку, брякнуть, сколько еще прибавилось на улицах к тем, двоим, — повеселиться.
Шелехов отправился выполнять свой фант — это ему досталось слетать до бака. Темноликие, покуривающие рассказывали на палубе про город: «Собрание накрыли… буржуи все севастопольские собрались, члены управы, гласные там… План составляли за Каледина, за Миколашку. Так в шубах на мостовой и валяются, шубы на енотовом меху…» Фантастические огоньки и звезды качала, несла под бортами таинственная вода. Из тьмы вытряхивались далекие, приглушенные грохоты. Но они уже не содрогали тревогой, — они вызывали желание злобно выпрямиться и так, выпрямленно и злобно, не сгибаясь и не прячась, пройти через эту опаляющую ночь. Терять уж как будто было нечего… Он знал все это в жизни — голодные улицы с серым хлебом, талый снег, леденящий, сыростью пробирающийся к голой ноге в башмак… И Жека — тут нашлись великолепнее и сильнее его. Те самые, что жили всегда по ту сторону недоступных, камелиевых, бально сияющих окон, в одном мире с трупной, расчесанной надвое бородой Кетрица. Ага, он уже был на краю — какого злобного и порывистого освобождения!
В темной каюте споткнулся о чье‑то мягкое большое тело.
— Это я, Сергей Федорыч… Бирилев… не пугайтесь…
Сильные судорожные пальцы, как бы роднясь с ним, сжали ему локоть.
— Сергей Федорыч… если бы не семья, честное слово… застрелился бы сейчас, тут же на корабле…
Не Бирилев — придавленный к земле есаул силился ущемить за сердце. Оттолкнуть бы, шагнуть через него за тот край…
ГЛАВА ПЯТАЯ
Поломка руля повлекла за собой нечаянный и большой переворот в жизни витязевских.
Комиссия, осмотрев пароход, постановила отправить его в док на большой ремонт. Капитан Пачульский, заподозрив в этом тайные интриги своих вольнонаемных, только и мечтавших якобы о том, чтобы вместе с военными бить баклуши на митингах, на дармовщинку получая жалованье, потребовал объяснения с комиссией, брызгал слюной, доказывал… Но доказать ничего уже не мог. Шибче его горланил судовой комитет, и еще шибче — свои же вольнонаемные, бывало, ходившие тише воды, а теперь сбросившие прежнее покорство и злобно огрызавшиеся на каждое капитанское слово, кок назвал его даже при всех старой держимордой. Вообще для капитана начинались большие неприятности.
Штабу бирилевскому, ввиду таких чрезвычайных обстоятельств, предложили перебраться на другой корабль.
Куда же? Кроме «Витязя», в дивизионе насчитывалось еще четыре больших парохода. Но «Трувор» только что ушел с карательным отрядом в Евпаторию. Остальные — «Батум», «Россия» и «Херсонес» — тоже вели бродяжью жизнь, то и дело перебрасывались Центрофлотом из одного порта в другой. А штабу, обслуживавшему дивизион денежным и провиантским довольствием, как кормильщику полагалось точно быть в одном месте. Команда собралась на совет и единогласно, в охотку решила: перебраться на бригадный катерок «Чайку», без дела болтавшийся у того, городского берега.
Матросы, не скрываясь, радовались этой перемене, хоть немного взбаламутившей одинаковую сидячую жизнь. Радовались близости города, куда от «Чайки» можно было махать прямо посуху. Радовались тому, что получили в полное самоличное владение какое-никакое, а все- таки целое судно. Вдобавок, как сразу смекнул Каяндин, это сулило и некие секретные и обильные выгоды.
Да и для Шелехова тоже, пожалуй, облегчением было бежать подальше от «Витязя», где, казалось, каждый шаг был запятнан следами мрачных, незабывающихся видений. Запомнилось особенно то, что пришлось пережить утром после бирилевской ночевки и игры в «море волнуется».
В то утро звонили церкви — кажется, было воскресенье. Окрестности рейда, талые, мокрые, заунывно сверкали под солнцем. Что‑то покойницкое крылось в этом сверкании и благовесте. Под Графской, куда Шелехов неотрывно глядел через цейс, суетились черные фигуры матросов. Самое страшное и была именно эта суета около нескладной беловатой кучи. Матросы вытаскивали из кучи не то свертки, не то бревна и, раскачав, бросали в длинную ветхую лодку, причалившую вплотную к ступеням пристани. Конечно, после ночи он знал, над чем там орудуют… На берегу горкой стоял глазеющий народ, мальчишки.
Смертельная тошнота заставила тогда отвалиться от иллюминатора. Тошнота, от которой некуда было уйти, не на что было взглянуть. Завывал празднично благовест, сверкала, кружась, земля… Сбежать бы в гальюн, засунуть два пальца в сухую глотку…
Матросы, не обращая внимания на Графскую, ретиво делили в канцелярии только что полученное обмундирование. Они еще спозаранку нагляделись, ходили всей шатией по городу.
— Набили этих буржуев… подметают с улицы, как сор! В сатинетовом белье, бородки нежные, конусами.
— Сичас балластины всем навяжут, и амба, за боны!
А Хрущ рассказал, что из города бегут, платят по двести — триста рублей извозчику, только чтобы уехать подальше. Работали ночью братишки-анархисты. А большевики, чтобы наперед устранить самосуды, объявили афишками революционный трибунал.
Будут судить вечером каких‑то пойманных пятьдесят монахов.
— Он монах, а заголи ему овчину — под ней три звездочки, — сурово уяснил бирилевский вестовой.
В то утро Шелехов и себе попросил матросскую робу. Сначала хотел только примерить, повозиться около матросов, чем‑нибудь пересилить в себе тошный упадок сил; а потом уже и не снимал… Легче чувствовал себя рядом с ребятами в синей мешковатой фланельке с полосатым треугольным выемом на груди. И от грудастого, сшитого отличным петербургским портным кителя отказался без всякого сожаления. Все равно — не стало теперь ни чинов, ни отличий. И Кузубов, и Бирилев, и Шелехов — все назывались одинаково: военными моряками.
Матросы перестали ошибаться, величать господином мичманом, стал он просто — Сергей Федорыч.
И на новую квартиру переезжал обряженный в казенный долгополый бушлат и новые яловочные сапоги. Старательно выгребал веслом рядом с Опанасенко. Матросы, перевозя на шлюпке канцелярский скарб, рвались через рейд с песней, Каяндин величаво правил рулем. Васька же, стоя на носу, озорства ради изображал марсового и, завидя впереди пузатый, облупленно-серый, очень неказистый на вид катерок, завопил:
— Полундра! «Чайка» по носу!
«Чайка» покачивалась в тихом месте, под кручей. Просторно было на ней глазам.
Напротив через воду синела стройнотрубая, выставившая вперед острые ножевые груди минная бригада. Поодаль громоздилось черное уродливое судно, похожее на плавучий деревянный цирк, без носа и без кормы, по прозванию «Опыт». По рассказам, «Опыт» построили специально для старой царицы Марии Федоровны, которая, ввиду нежной натуры, на обыкновенных кораблях ездить не могла, укачивалась. По особым чертежам инженеры и построили нечто вроде огромной лохани или цирка, в котором, по их мнению, пассажирка должна была себя чувствовать покойно, как на подушке. Однако едва это сооружение пустили по морю, на сравнительно тихую зыбь, его так неистово заболтыхало и вдоль и поперек, что не только старая царица, но бывалые сопровождавшие ее люди истошнились до полусмерти. После этой пробы и поставили «Опыт», въехавший казне в миллион, у стенки на вечные времена.
Над самой «Чайкой» отвесно возвышалась стена гигантского гидрокрейсера «Оксидюс», похоже — французского, так как на палубе сновали необычно одетые матросы — в кофточках и бескозырках с красными помпонами.
«Чайка» понравилась Шелехову своею малостью и теснотой. На носу, за узким лазом, в котором надо было сгибаться до ломоты, помещалась крохотная пещерка для канцелярии. На корме — матросский кубрик: четыре полки для спанья, кухонный стол. За иллюминатором, едва не вровень со стеклом, водяная гладь рейда.
Разместились все шестеро: Каяндин, Кузубов, Чернышев и Шелехов, как он сам того пожелал, — в кубрике; Опанасенко и Хруща положили в канцелярии. Бирилев в первую же ночь ушел на «Качу», загородился за Скрябиным в его каюте.
Матросы ухитрились, провели на суденышко кишку с горячим паром от «Оксидюса», минер Опанасенко оттуда же наладил провода. В кубрике зашипело тепло, загорелось солнышко. Ребята растянулись по койкам, блаженствовали.
— Теперь заживем, — вслух за всех мечтал Каяндин. — До весны демобилизоваться, правда, на кой нам черт. Лежи да лежи, пока кормят. Жалованья по двести бумажек получим — в засол. С первого числа продуктов затребоваем, загоним — деньги в засол. А, Васька?
У Чернышева щеки умильно расползались, как тесто.
— За-со-лим!
— В деревню, черт, царем приедешь!
Каяндин косил краем глаза на Шелехова — не то всерьез, не то ехидничал:
— А Сергей Федорыч, как универсант, лехции нам будет читать, образовывать дураков!
Шелехов, не обращая внимания на его подозрительную ухмылку, ухватился за это с горячностью:
— А что, ребята, вправду! Делать‑то все равно вам нечего. А до весны… до весны мы с вами сможем знаете что?
Даже задохнулся — такое нахлынуло вдруг нетерпеливое бурное мечтание. В самом деле, до весны, живя бок о бок, целое чудо можно сотворить с ребятами. То, чего не удалось довершить в бригадных, разметанных жизнью курсах, вполне можно добиться здесь, на уединенной «Чайке», где потекут неторопливые пустые дни. Каяндин, например, очень смышленый парень и уже хлебнул кое-что от грамоты, — его можно, конечно, на аттестат зрелости; остальных — за четыре класса… Да, вот еще удивить, выучить на досуге хотя бы французскому языку — пусть форсят перед всем флотом! Решил пока не говорить матросам ничего, чтобы потом сразу оглушить их этой своей добротой, своей заботой, своей щедростью, — подавляя в себе насильно рвущееся наружу телячье ликование.
— Схожу на днях в магазин, выберу для вас книги, и уж тогда точно, ребята, распределим свое время, займемся серьезно, а пока, начиная хоть с завтра, побеседую с вами так — ну хоть по истории, по географии, ладно?
Матросов тоже заразило, сладко ежило от устроенности, от делового уюта.
— Ла-адно!
А Кузубов к случаю изрек замысловато:
— Это, по крайности, дело. А то чего мы в жизни видали? Одну физиологию…
Вытягиваясь рядом с матросами на койке, с блаженством купался Шелехов в застойном, хорошо защищенном отовсюду тепле. От катерка не отходил дальше неглубокого овражка, куда обитатели судна, за неимением гальюна, бегали за нуждой. И там, в овражке, отдаваясь желудочным судорогам, надышивался вволю холодным живым воздухом, наглядывался открытым просторно над жизнью небом… чего ему еще не хватало? Так день за днем, глядишь — и прояснеет штормовая даль, подойдет весна, а весной — это он твердо решил — двинет вместе с ребятами на север, начнет жизнь сызнова, как живут все люди… Над водою высоко, в несколько этажей, нависала синяя стена «Оксидюса», хлопотливо и шумно населенного, как хутор. В его тени, у подножия, побалтывалась «Чайка» едва приметным серым буйком, кругом — пустырьки, мусорные свалки, тишь… И какая упрятанная от чужого глаза тишь!.. Даже содрогалось тело от такого нестерпимого успокоения.
* * *
Хрущ неугомонно понукал к действию:
— Судовой комитет надо выбрать. Порядок направить, продукты выписывать.
— Выберем, все будет. Время много.
Однако тут же, валяясь по койкам, и выбрали. Каяндина председателем, Кузубова — секретарем, Ваську Чернышева — членом. Из конторы порта судовой комитет выписал первым делом провианта на месяц: на двадцать пять человек, якобы проживающих на «Чайке», коровьего масла в бидонах, солонины, сахару. Хрущ и Опанасенко выгодно загнали все это добро на балочке, деньги матросы поделили между собой.
Васька, подсчитывая свои бумажки, мешковато мял их в руках, словно стесняясь брать совсем.
— Ребяты… Всеждаки народное достояние ведь…
Каяндин, прохлаждаясь по обыкновению на койке, фыркал:
— Положили мы… на народное достояние!
Вообще баталер вел себя барином, никогда ничего не делал, кроме ничтожной канцелярской работы. Больше сидел, курил, поматывая ногой на ноге.
И во время первой лекции позевывал, сначала укрыто, за Васькиной спиной, потом уже не стесняясь и не стирая с лица гнусновато-загадочной какой‑то ухмылки, словно не верил ни одному слову из того, что говорил Шелехов. Зато остальные сидели выпрямленно, истово, как иконы, так истово, что и не понял Шелехов, уразумели они что‑нибудь из его первой беседы или нет. Рассказал им про славян и древнюю Русь, дошел до Ивана Грозного.
Матросы после лекции вежливо поблагодарили, но тут же, как‑то сразу, в минуту сгинули с суденышка, словно ветром их смахнуло.
В город уходили почти каждый вечер, оставляя, однако, с Шелеховым или Ваську, или Опанасенко посменно: наверно, из сочувствия придумали это между собой… Возвращались поздно.
Из отрывочных матросских разговоров угадывалось, что опять суровеет и мрачнеет воздух над Севастополем… Правда, матросы балагурили, приправляя свои рассказы зубоскальными примечаниями, но нельзя было не почувствовать их раздумчивости и неспокойства.
Крепчали слухи о белогвардейских замыслах кругом Севастополя. В Симферополе, центре татарского края, зрели и копились направляющие силы, стремящиеся сбросить с Крыма ненавистную им советскую опеку и образовать самостоятельное государство, едва ли не ханство.
Выдвигался, гремел, диктаторствовал над всеми национальными организациями некий Сейдамет.
В Крым стягивались с фронта татарские части; в Евпатории, Симферополе, Ялте и Феодосии организовались подпольно сильные офицерские отряды (говорили, что по калединской указке) и вооружали население против Советов и большевистского флота. В самом Севастополе и кругом него, был слух, лазило много переодетых шпионов.
Шептуны на уличных летучих митингах усугубляли мрачное настроение моряков, припоминая пророчество полковника Грубера: «А вы все в мешке… в мешке… в мешке…», указывали даже точное время, когда должны были разразиться неслыханные события: в полночь на двенадцатое января. О полночи этой говорили все чаще, все прихмуреннее и в городе и в кают-компании; дошла эта полночь и до «Чайки»… И неизвестно, кому она больше грозила: матросам ли, ожидавшим, что в эту ночь рванется на Севастополь осатанелая офицерня, чтобы предать их всех поголовному истреблению, или офицерам, которые были убеждены, что в случае чего матросы, прежде чем самим погибнуть, вырежут их в отместку всех до одного.
По видимости же на «Чайке» продолжалось безмятежное, привольное житье. Вот — вечер. Побалтывается катерок на небольшом прибое, как колыбель, в тесном кубрике шипит горячий пар, банно мерцает лампочка, матросы, расстегнувшись до голого, дармоедно валяются, засыпая и опять просыпаясь. Разлеживались так до томи, до одурения.
— Васька, ступай попить принеси! — вяло озоровал Каяндин.
— Вон в углу ведро, пей.
— А ты подай.
— У нищих лакеев нет.
Каяндин чертыхался, расслабленно, со стоном кидал ноги в разные стороны, через голову стягивая с себя духотную фланельку, — мочи не было от жары.
— Ва-аська-а… — бормотал он, в который‑то раз засыпая.
Однажды вечером случилось так, что с «Чайки» ушли все, оставив флаг-офицера одного. За «Оксидюсом» заходило солнце, ложились по рейду чудовищные тени кораблей. «Чайка» покачивалась, вся озаренная преувеличенным и больным пожаром. Почему‑то внезапная пустота, ее полная открытость и эта кидающаяся в глаза яркость почувствовались опасными и угнетающими. Невольно потянуло укрыться куда‑нибудь незаметно.
Но канцелярская каюта слишком вылезла вперед, напоказ. Глубокая и узкая яма кубрика казалась мышеловкой…
Шелеховым вдруг овладел противный, знакомый по витязевским ночам трепет. Отдельные расправы не прекращались, вспыхивали то там, то сям… То крутилась мелкая и лютая зыбь, оставшаяся от громоносного шквала; какие‑то неуемные, полурехнувшиеся одиночки рыскали в потемках… Разве не могли они выследить офицера, забрести и на «Чайку»?
Его внимание привлек край кормы, огражденный низеньким фальшбортом. За этим краем начиналась глубокая вода, казавшаяся еще более глубокой от тени и бликов, бросаемых на нее отвесной стеной «Оксидюса». Этот край что‑то подсказывал… На случай, если придут, можно потихоньку спуститься за него, повиснуть над водой, держась снизу руками за борт: там человека никто бы не увидел. Можно провисеть так полчаса, потом отдохнуть на воде… Правда, холодновато купаться в декабре, но ведь если вопрос пойдет о жизни, об этом не приходится рассуждать.
Вот сумеет ли он подтянуться?
Над головой висела рейка игрушечной чайкинской мачты. Шелехов порывисто уцепился за нее обеими руками и напыжился, силясь подтянуть свое тело. Но тяжелые матросские сапоги никак не отрывались от палубы, словно то не его были ноги. В груди сперлось, лицо удушливо и горячо напружилось от прилива крови… Еще раз со злобой повторил усилие. Пальцы оборвались, и туловище, чужое, бессочное, рухнуло на подломившиеся колени.
Не поднимаясь, Шелехов как будто в первый раз присматривался к себе со стороны — не то изумленно, не то с омерзением.
…Барахло в бушлате, с немощно раскинутыми по палубе ногами, беззащитно ожидающее пинка. Разве это он?
Вся убогая скорченность его существования, все трепетные сидения в подвальной глубине кают, липкое прислушивание к каждому стуку по ночам, собачье-ласковое заискивание перед матросами — все кричало теперь, бесстыдно, вслух объявлялось из скрюченной этой, жалкой спины. Он чувствовал даже особый запах, который испаряла его жизнь, подобный той тухлой душноте, какую вдыхает человек, съежившийся надолго с головой под одеялом.
Когда это началось?
Должно быть, с тех пор, как матросы стали отходить на иную, отвергнутую им развилину пути. Буря относила их все дальше и дальше. Они уже без него повесили за спины винтовки, свергли Мангалова, двинули буйным скопом бригаду на Севастополь. Он притих в стороне, только таращился в иллюминатор заодно с остальными каютными жителями… А как там ревело за бортами, какой ужасающий и увеселительный разыгрывался шквал! Сгинуть бы в нем вольной птицей!.. Да, он не раз воспалялся мечтой об этом, но только мечтой: с него и этого было довольно, чтобы гордиться, отделять себя от Бирилевых.
Ну, а что он сделал для революции как друг, как пособник? Какое‑либо усилие, риск?.. Он не мог припомнить. Он сдавил пальцами глаза, но не мог припомнить… Он не делал. Он только глядел да думал по поводу выгляденного, думал невразумительно и угнетенно, изнуряя свой мозг этим никчемным и ему самому ненужным думанием… Шелехов, наконец, присел, поднявшись на разбросанных за спиной руках. Ясно, что теперь надо было предпринять: завтра же с утра пойти в Центрофлот или в штаб ударников и заявить… Он мысленно привел себя в голую казарменную комнату, поставил перед столом, за которым трудились над какой‑то бумагой трое в полосатых тельниках, с воловьими лбами (должно быть, заправилы из боцманов украинцев), заранее видел, как они, неурочно оторванные от дела, сначала взглянут на него скучливо и досадливо. «Тебе что? Ага — а… Вы бывший ахвицер. Желаете до отряду?..» А пришедший, назвав себя, безвозвратно предложив себя, вдруг заметит в бездне, за глубоким казематным окном, распахнутое бесплодие моря, беспредельную тоску воды и верхушки ближайших, чугунно поднимающихся из зыби судов и поймет, что ему не вернуться уже в тихий свой угол на «Чайке», где его никто из чужих не видит и никто никуда не потребует и где можно в одиночку поужинать куском брынзы, услужливо купленной для него Опанасенко, и потом чай пить до пота, выбегая освежиться, обмахнуться рукой на тесноватую, привычную, как постель, палубу «Чайки» («у нас что твоя дача!» — удовольственно замечает Кузубов, милый Кузубов, с которым тоже проститься безвозвратно, навсегда…). А потом, взяв сверток белья под мышку, — на новую квартиру, на люди, на тысячу чужих глаз, возможно, рядом с кем‑нибудь из тех, которые тогда на Графской, взяв за руки и за ноги, раскачивали…
Кругом сияла мглистая надводная ночь. В тылу горы, загораживающей полнеба, где‑то над оградами Севастополя всходила недосягаемая взорам луна. Уступы гор и зданий млечно мерцали. Кровли крымского города наверху, должно быть, тоже полыхали восточным одуряющим светом. На «Оксидюсе» вдруг бурно проиграли на рояле, словно вырвался многоцветный, стенающий и смеющийся залп… Отзвуки еще долго висели, чудились в тишине томительным криком… Близилась и не давалась чья‑то знакомая до блаженства поступь и улыбка. Еще немного — и готово было ослабеть и отворотиться что‑то в душе, запросить простого, неиздуманного, неизмученного счастья…
Матросы вернулись поздно, около полуночи… Шелехову, свернувшемуся под бушлатом на верхней койке, разбередил глаза неотвязный свет лампы.
Хрущ разговаривал вполголоса, думая, что флаг-офицер спит:
— А здорово ихнего брата пристращали. Наш давеча волокет ведро с водой с‑под горы. Я говорю: зря валандаетесь, не на это ведь учились.
— Теперь их заставь сапоги чистить, и вычистят за мое-мое, — равнодушно подтвердил Каяндин, застилая себе постель.
— Ну, да… это все до поры до времени, до случая…
Матросы поужинали вкусно, с чавканьем.
— На «Оксидюсе» я поглядел: по старому режиму еще живут, — сказал голос Кузубова. — Офицеры — все воротники в золоте. Давеча один факел растопырился, красный, чисто крови напился. Вот мушки просит!
— Долго не протопырится! (Говорил Каяндин.) Вон на «Каче» наша команда с Зинченкой во главе постановление сделала, слыхал, Васька? — чтоб через три месяца была мировая революция!
Слышно было: голос нарочно-дурашливый, глумливый. Над кем он?
Потом пустили пар, полезли спать.
— А мы с тобой, Васька, за эти три месяца сколько? — не менее тыщонки засолим, а?
— Засо-олим!
— Чего ты с ней, с тыщей, корявый черт, делать будешь?
— Ты дай сперва засолить‑то!
Васька кряхтел мечтательно, парное тепло шипело, расползалось в темноте, выгоняя из кожи липкий сок.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Пришло остылое равнодушие ко всему.
Словно тишина после отбесновавшегося грома. Нехотя двигались руки и ноги, вяло варил желудок; предметы, словно опеленатые мглой, тускло доходили до зрения и мыслей… Не опасался уже теперь выходить за пределы катерка. Да никто и не признал бы в этом скуластом, обросшем рыжей шерстью матросе недавнего мичмана. Мимоходом как‑то увидел себя за бортом суденышка, в тихой воде. Пришлепнутый нос красно лоснился — от постоянного пребывания в нечистом, спертом воздухе; глаза, завалившиеся глубоко под лоб, безмолвствовали оттуда и жалобились…
Потянуло однажды на «Витязь», который медлил еще уйти в док, лебедем красовался на том берегу, за уродливым «Опытом».
К кому же там было зайти, как не к капитану Пачульскому? Поднимаясь по трапу, Шелехов ожидал задушевного, чуть ли не бурного свидания. Но на «Витязе» за полторы недели многое переменилось: и веши и люди казались переставленными на новые места, глаза не узнавали ничего, как в чужом доме, а Пачульскому, пожалуй, было только до самого себя; появление гостя лишь всколыхнуло сызнова всю горечь и весь срам, которыми напоследок накачали с верхом старую посуду его жизни, заставив капитана с окровенелыми от ярости буркалами бегать по кают-компании и клясть хриплым надсадным шепотом сволочное время и сволочных людей.
Попросту — за самовластье и за барские повадки вольнонаемная команда вышибла Пачульского из капитанов, заменив его Агаповым.
Капитан плакался, а Шелехов сочувственно и угрюмо хмыкал, не переживая, однако, ни сочувствуя, ни жалости; он уже привык; нагляделся в таком же положении на Мангалова и Бирилева; чего жалеть о том, кто стал мусором, убираемым с дороги!
Роскошная полутьма салона, отражаемая зеркалами, струилась вчуже, вне его. Не верилось, что полторы недели назад он имел право здесь жить, как в своем доме, считать себя чуть ли не хозяином. Настолько тело свыклось, срослось с коростой смрадного чайкинского кубрика! Матросы не мыли и почти не убирали помещения: им было некогда, и даже в складках простыни, не только на койке, пересыпалась колючая каменная пыль. Еще немного осталось Шелехову, чтобы сравняться с теми бредовыми солдатами, которые мертвецки валялись на одесском перроне, уткнувшись губами в заплеванный асфальт. Ну что ж! Ведь тогда его угнетало нечеловеческое расстояние до них, невозможность для него, белоручки, разделить их участь, за которой мерещилось ка- кое‑то последнее, неоспоримое освобождение.
А вот вчера он сам, запершись в канцелярии, часа два без всякого омерзения щелкал вшей в своем белье…
Прошла вторая неделя пребывания команды на «Чайке». Матросы что‑то все реже и реже стали оставаться в кубрике на вечерние посиделки с флаг-офицером. Опанасенко путешествовал отдельно от всех — больше на «Волю», к своим украинским друзьям. Каяндин, Хрущ и Кузубов — вместе: на вокзал, в кино, тралили девчонок по Нахимовскому. Однажды все, только без Шелехова, были в гостях у Бирилева, на рожденье.
— Честь честью принял, — одобрял потом Кузубов, — водочка, закусочка, винцо всякое, то, се. Начальница сама за столом чай разливала. Только вот Васька, черт, ее упарил: шесть плошек чаю отгрыз. Его дергают под столом, а он не понимает. Вот и гонит, вот и гонит!
Каяндин для издевки строго хмурил брови, осуждал:
— Дорвался, хам… До того, что у женщины рука онемела.
Васька возражал: «ну да», по-всячески перечил на насмешки, но видно было, что молодого матроса корежило от стыда… Васька начал тоже вроде Опанасенко отбиваться от общей стаи, — должно быть, тихого парня занудило от постоянных каяндинских высмеиваний и фокусов. Завел себе дружка в минной бригаде, исчезал неведомо куда каждый вечер.
И лекциями уже трудно стало привязывать ребят к кубрику. Прискучило. От Ивана Грозного доплелись только кое‑как до Петра. Матросы, видать, всего наелись до отвалу. И, верно, от пресыщения потянуло на самую крайность, на тайну.
Это Опанасенко однажды попросил:
— Вы бы нам вот что, Сергей Федорович, про бога. Шо он есть в самом деле и какой: с бородой иль нет. Потом тоже про загробную жизнь. Конечно, не это, чем халдеи нам по библии башку морочат, а как у вас по высшей науке проходили, всю правду.
Шелехов задумался. Дикая — на первый взгляд — мысль вскочила в голову. Хотелось не то грустно созоровать, не то разрыдаться. А может быть, вожжи новой власти, нового покорения сами давались в руки? Сделал вид, что соглашается, но с большим колебанием.
— Совершенно верно… в истории философии (есть такая наука) мы в университете проходили об этом всю правду: о боге, о душе… Только трудновато будет, ребята!
— Как‑нибудь обломаете нас, чертей. Очень уж нам интересно.
Беседу отложили до следующего вечера. Про себя порадовался: «Может быть, не будет опять одиночества, не будет обезлюделой „Чайки“, громадного „Оксидюса“ на закатной стене неба…» Теперь в эти дни, одинокие часы его угнетала не боязнь за свою жизнь, а другое, странное. Кантианская вера в призрачность всего видимого, или, вернее, то немногое и, возможно, искаженное, что он знал об этой теории еще в университете, в эти часы завладело не только его разумом, но и ощущениями. Знакомая картина рейда, развернутая перед его глазами, утрачивала вдруг свою жизненную выпуклость и становилась сном наяву. Вода чудовищно рдела: корабли минной бригады на противоположном берегу невероятно купались в красной пыли; матрос с мостика «Георгия-победоносца» неистово кому‑то семафорил, крестясь двумя флагами. И вместе с тем не существовало ни воды, ни кораблей, ни матроса; даже если бы Шелехов заорал, укусил себя, дико катаясь по палубе, все равно не прорвался бы этот призрачный, стеклянный сон. И порой даже сам себе начинал казаться невещественным, заблудившимся среди времени, неведомо когда родившимся.
Может быть, его состояние переходило уже в болезнь?
Главное, никого не оставалось из своих, да и некого было теперь называть «своими»… Однажды, толкаемый бездомной тоской, зашел в знакомый особнячок проведать Мерфельда и Ахромеева, но оба, как он и предугадывал, недели две назад ухитрились демобилизоваться и уехать в Петроград. Хозяйка-адмиральша сначала не узнала Шелехова, не пустила дальше крыльца; узнав, напугалась, изумилась, манерничала перед ним шиньонной головой.
— О, как же вы остались на такой ужас, бедный мальчик! Жить среди зверей… Такой мальчик!.. — Адмиральша многозначительно слащавила глазами, нарочно не оправляя платья, проваленного сквозняком меж ног. — Они же, эти негодяи, скоро не пощадят ни одного офицера!
Шелехов вяло пошутил, тряхнув своими ленточками:
— Я уже, как видите, не офицер, мадам.
И круг опустения замкнулся. На Морской в газетной будке купил несколько журналов и газет, развернул на ходу. Не читал ничего недели две… Сообщалось о мире с немцами, о конце Учредительного собрания. Некоторые газеты кричали о кощунстве, о насилии над священной волей народа. Кричали где‑то далеко над головой, словно Шелехов шел по дну глухого могильного колодца… Перед ним гремел, убегая в вечернее полукольцо улицы, южный трамвай, похожий на ладью под балдахином. И трамвай и улицы были странно малолюдны, как будто все обитатели города заспались от холода и тоски; лишь оголенные, с заостренными вверх прутьями, деревья тихонько шатались над асфальтом. Ветер пробегал сквозь них острой дрожью, — казалось, то было содрогание о Жеке… Севастополь! Вот что осталось от недопитой чаши, оторванной от губ на самом блаженном глотке.
В тот вечер розовые на закате мачты походили на сосны. Север… он вспомнил еще об одном, близком когда‑то и забытом человеке. Может быть, написать ей, Людмиле? Да стоит ли!.. Наверное, давно и память о нем занесло метелью, давно влюбилась, иль умерла, иль вышла замуж. А еще горячее Людмилы другая, красивенькая Аглаида Кузьминишна пыхнула телесным жаром, сугробами, синими морозными стеклами петербургского этажа.
Север, север…
Не раздеваясь, развалился на диванчике в канцелярской каютке. В кубрик не пошел: на палубе Васька беседовал с незнакомым матросом, наверно, воспользовался случаем, когда ушли все с «Чайки», завел в гости дружка. Слышно было, как хрипловатый, ленивый голос спрашивал:
— Харч откуда получаете?
— С «Оксидюса», хранцузы дают.
— Ну, как харч?
— Ничего. — У Васьки по-кунгурски выходило: нишево. — Борщ, каша, обнаковенно.
Наверху, на французском крейсере, прогремела гамма. Со ступеньки на ступеньку — через растворенные настежь сказочные комнаты… От рук еще пахло адмиральшиными духами. Как она играла глазами, эта адмиральша, как она подсказывала — и опять не решился, дурак! Ведь мальчики уехали. Толкнуть бы ее в комнату… Шелехова кидали навзничь томливые, голодные хотения…
— А вот пошли наши однова, — неторопливо, внушительно рассказывал хрипатый, — к Камышловскому мосту, на ту дорогу. Вдруг — ахтомобиль. Стоп. Слезай! «Мы, товарищи, из штаба, с важным поручением к анархисту Мокроусу». Раздели. Еполеты все в золоте. От великих князей с секретным приказом — наши оказались, из гидроавиации ахвицера.
— Что же они — опять на Миколашку хочут поворотить? — дивился Васька.
— А на кого же? Им — что на Миколашку, что на буржуйскую власть, все одно.
— А вот у нас Каяндин намедни читал, — Васька сказал: шитал, — у них такой приказ: как власть возьмут, так всех матросов передавить. Штоб только обязательно на веревке. На такую тварь, говорят, пули жалко, ха-ха!
— Хм…
— Им завидно, что мы властвуем. У вас все в ударном? — спросил Васька.
— Много, да в разных. Вчера человек двадцать ушло на Бердичев. — Цыкнул слюной сквозь зубы, поважнел. — Власть пошли проконтролировать.
— Смотрел и я на вокзале, как поехали.
Шелехов так и заснул нечаянно, как сидел: в сапогах, в застегнутом бушлате. Молодость брала свое. Через незакрытый люк свежесть дула прямо в глаза. Хрусталь ной водой промывала все, что за день наломало душу. И Жека разбросалась рядом на подушке, бестелесная, самая родная на свете.
После Васькиных разговоров, что ли, снилось просторное, и даже во сне тянуло куда‑то… Играли дальние гудки, в смуть уходили поезда.
Тоскливо ждалось следующего вечера. Обдумывал все, как начать перед матросами новую, необыкновенную лекцию.
Действительно, необыкновенную… От одной мысли о ней позывало к щекотному хихиканию. Черт возьми, познакомить матросов с учением о феноменальности, о призрачности мира по Канту! Вот что он придумал в ответ на просьбу Опанасенко.
Любопытство, что ли, толкало к этому — от гнетущего, язвящего душу ничегонеделания?
Или соблазн — ужаснуть равнодушных, охладелых к нему матросов, напомнить им, что существует еще другой Шелехов, не только тот, что спит рядом с ними на вшивой койке и зачастую бегает для них за водой и борщом, но неизмеримо высший, могущественно-знающий то, что им не снилось…
Или пакостное желание — отомстить кому‑то за что- то… За что?
Вообще, нечто разладное зарождалось на «Чайке», как зарождается мокричная плесень под забытой в темном углу сырой тряпкой. Матросы тоже расклеились, бродили чумные от сна, балованные, не знающие, чего бы еще захотеть. К вечеру достали денатурату, напились, подняли в кубрике вздорный крик. Сообща клевали Опанасенко, который горячим, не своим голосом уверял, что весь Крым и Черное море должны вскорости отойти под украинскую раду.
— А Черное море кто покорил, а? Запорожцы. А запорожцы кто? Первые украинские демократы, ваш Иван Грозный — и то их боялся, спроси‑ка мичмана.
— Теперь мичманов нет, все на Малаховой.
— С вами, дурнями, говорить… тьфу!
— Геть з шляху! — разгульно орал Каяндин.
Опанасенко лез жалобиться в канцелярскую каюту, где Шелехов опять отсиживался скучно.
— То не дурни, а Россия, Россия… А шо Россия? В Ростове генерал Каледин воюет. Кубанские казаки на донских, донские на кубанских. Боже ж ты мой… татарва поднялась кругом, своего царства хочет. Большевики говорят — красное, анархисты — шо черное. Одни миазмы от нее остались, от вашей России, верно?
Васька, напившись до дурноты, разбушевался шибче всех. «Чайку» шатал слоновий топот, — хотели выволочь посыльного на палубу, облить водой — не управились, сами попадали. Васька, отбиваясь, вопил погибельно:
— Не хочу Романову поддаваться! Не будет того, чтобы Миколашке поддался я! Подай винтовку, Каяндин, сволочь! Дай винтовку… Плевал я на твой засол! Соли один… в бога…
К ночи, заперев Ваську в кубрике, отправились догуливать на Корабельную, к маруськам.
И только на следующий день после обеда (матросам, расслабленным с похмелья, елось нехотя, через силу) Шелехов упросил всех сесть по койкам, послушать. До вечера не дотерпелось, да и веры не было: вдруг завьются опять с корабля.
— Вот, ребята, с чего мы начнем: что такое есть мир, видимый нам вокруг и в котором мы живем. Вы привыкли думать, что он существует в действительности, так? В самом же деле, как говорит настоящая наука, преподаваемая в университетах, возможно, что в действительности мира не существует, а есть только обман наших чувств, сон наяву!
Это вступление еще накануне шепотом вынянчил про себя наизусть. Теперь оно вдруг показалось книжным, туманным, неубедительным. Против него торчал, словно усаженный насильно, Васька и удрученно мигал…
— Усвойте это, тогда все будет понятно о боге, о душе, о том свете…
— Да, да, — неопределенно и едва ли одобрительно произнес Опанасенко, свертывая цигарку.
— Вот это наука, — сказал Каяндин, закладывая локти за голову и валясь. — А тут живем с тобой, Васька, как пеньки…
И губа, тонкая, себялюбивая, под английским усиком, ехидно подрагивала.
Шелехов ощутил внезапную апатию. Да, полно, выйдет ли толк из всей этой затеи? Не нелепость ли задумал?.. «Да-да, выйдет… должно выйти!» — сцепив зубы, упорствовал кто‑то в нем, кто‑то, нестерпимо рвущийся вылить сейчас же всю свою силу, накипелую и зря пропадающую, все сумасшедшее упрямство свое, всю страсть. Как будто это стало самой важной, самой решающей целью его жизни!
Готов был с пинками броситься, расталкивать безразличных матросов, плясать перед ними от злобного нетерпения…
И на другой день все утро упорно думал, меряя крохотную палубку, сбычившись, заложив руки назад наподобие капитана Пачульского. И мерещилось — точь-в-точь как у капитана Пачульского, кровенели и дичали глаза от кружения однообразного и тесноты… А утро хватило мягким морозцем, и всюду бежало за глазами солнце — бегучим холодноватым блеском, от которого еще яснее, еще тенистее стояли по воде утренние дымящиеся улицы судов. Зачинать бы сейчас, по холодку, толкучую, людную, веселую работу! Матросы, почайпив раза два, валялись по койкам, причем Хрущ опять захрапел, — валялись, судачили от нечего делать насчет невеселого что‑то за последние дни флаг-офицера.
— Все ходит…
— Скучает, можбыть?
— А какая мы ему компания, — заметил Кузубов.
— Думает все, потому что голова сильно работает, — почтительно сказал Опанасенко.
— Эх, я бы на его месте… — возмечтал Каяндин, руки закидывая за голову, — ты дай мне универсантское образование: от меня бы и дыму здесь не осталось! Сейчас в Одессу, на первое время рублей на триста жалованья, Ваську бы себе за лакея приспособил. Пойдешь, Васька? Да чего ты все, Акуля, строгаешь и строгаешь?
Васька поглядел на палочку, которую обтесал кухонным ножом, — тоскливые руки сами просили дела, — поглядел, как будто увидел ее в первый раз, выкинул лениво в иллюминатор.
Попробовал огрызнуться:
— Я бы такого дракона к ногтю.
— Охо-хо-хо! К ногтю!
— А что?
Каядин оживел.
— Ребята, что мы, как паразиты, валяемся, давайте, пока делов мало, флот с Украиной делить. Щирому даем «Опыт». Кто за?
— Ха-ха-ха!
Опанасенко помрачнел обидчиво:
— Ладно трепаться, москаль…
— Ваське — «Чайку».
— Я‑то возьму, — осклабился Васька.
— Ты слушай маршрут: отселева дернешь через Азовское море, мимо калединских духов, они дураков не трогают, пропустят. Потом… у вас там какая река, Кунгурка, что ль? (Васька весь измочился слезами от хохота: «Кунгурку какую‑то, черт, надумал!») Ну, по Кунгурке без паров, на веслах грянешь. Вот‑то все село выскочит. «Бабыньки, бабыньки, никак наш Вася-матрос на броненосце едет!» А Вася сидит, как епископ, только знай — огребается.
— Епископ… Хха-хха-хха!
Кузубов тоже надумал:
— А что, братишки: мы на «Чайке» цари и боги. Поднять якорь, и айда по волнам: сначала за боны, а там… Машину навинтить — ментом! Эх, увидим чего- нибудь в жизни!
Матросы как‑то примолкли, уставившись открытыми глазами в низкий, гробовой потолок. А в самом деле, как это они забыли, что «Чайка», на которой они пятеро состояли полными хозяевами, что привычное их курное жилье, как бы навеки сросшееся с одним местом, с твердой землей, в любую минуту может сняться с якоря и уйти в синее море! В море!.. А что, если вправду? Вот — снялись, дали на полный ход за батареи, за белый, как колокольня, маяк, подкачнулись на волне у крайнего мыса… Ого, простор! Маячат невиданные берега, горы, портовые флаги. Вон белой лестницей проступила Одесса… Вон, под самое небо, кавказские хребты… Вон, за донским гирлом, дымит Ростов… Катится к океану водяная даль.
* * *
Хрущ проснулся, должно быть, от тишины, поднял изъерзанное о подушку, красное, мутное лицо. Каяндин плаксиво сморщился.
— Во что ты дрыхнешь, дьявол, тошно смотреть…
К послеобеда Шелехов наразмышлялся досыта, нашагался так, что ноги ломило от ходьбы. Когда Васька убрал со стола, опять попросил всех присесть. Попросил хмуро, с какой‑то загадкой, словно готовил таинство.
Теперь‑то уж был уверен, что добьется: в мускулах своих, в тугом своем дыхании ощущал, казалось ему, ту самую испытанную воспламенительную силу, которой заставлял когда‑то на митингах балдеть и гореть вместе с собой матросскую толпу. Опять, если б захотел, мог бы в дугу сейчас скорежить железный борт!.. В упор, приказывающе глядел на Ваську, — решил все пытать сначала на нем, как на самом слабейшем.
Спросил:
— Вот этот стол видите?
— Вижу.
— Дотроньтесь до него смелее. Здесь он?
— Здесь, — согласился озадаченный Васька.
— Так вот знайте: в самом деле этого стола нет.
Васька виновато моргал глазами, как попавший в беду. Прочие, видимо, тоже заинтересовались. Каяндин, со спичкой в углу рта, смотрел на флаг-офицера выжидательно и лукаво: дескать, мы‑то с вами вдвоем знаем, в чем дело… Хрущ насторожился, думая, что ослышался. Рожи Кузубова и Опанасенко пищеварительно лучились: вот сейчас Сергей Федорович отчудит какую‑нибудь историю.
— Вы не думайте, ребята, что я шучу. Да, да, стола в самом деле нет, совсем нет. Вы только слушайте: я сейчас вам открою глаза.
Наученный первой неудачей, теперь он сдерживал крепкой уздой свою пылкость, стараясь захватывать их внимание и разумение осторожно, постепенно, с неторопливой вникчивостью.
А может быть, и никакого разумения не было: моргала засиделая, тоскливая муть, ждала невесть и все равно чего…
Каждая извилина его мозга напряглась, как канат в бурю, готовый внезапно и погубительно лопнуть, Шелехов выгнетал из своего мозга, выскребал все, что он мог дать, без остатка, чтобы только как можно ослепительнее уяснить свою мысль, донести ее, не расплескав, пронзительно въесться всей своей тоской в рыхлое, беззащитно поддающееся ему матросское внимание. Что ему поддавались — он уже отчетливо видел, он прозорливо угадывал это по тому, как матросы бессознательно подвигались к нему поближе локтями и подбородками, как у неотрывно слушающего Васьки прояснели глаза, словно речь шла о своем, понятном для него, самом ежедневном, вроде еды и питья. Простак, пожалуй, обгонял всех, первый лез головой в капкан.
Они начинали понимать…
У ликующего Шелехова темнело зрение. Ха-ха! Ведь что совершалось перед ним: в этих пяти башках вверх ногами перевертывалось все мироздание!
— Вы, ребята, знали про это и до меня, только не догадывались… Так как же: есть этот стол?
— Нет, — еще колеблясь, со вздохом отвечали матросы.
Ни мира, ни «Чайки» нет. Только бред, наделанный кругом себя самим же человеком. Пропасть, заунывная, обманная на ощупь.
Палуба в чудовищном закате. Вода, вода…
Приникшие матросы не шевелились, даже когда Шелехов смолкал. А Кузубов с торопливым благоговением подносил спичку к его папиросе, чтоб скорее кончилась пауза. Хрущ соболезнующе покачивал головой, причмокивая: тц! тц! тц! Но изумление его не шло дальше рассудка, не зачумляло чувств: Хрущ был слишком толстокож для ужаса. Вот Васька жалобно кривился: до Васьки дошло… Только Каяндин лицемерил, полулежа сзади всех с недоверчиво-равнодушной усмешкой, застрявшей на его лице, как маска; ею он прикрывал свое поражение. И Каяндин, и Каяндин!
Хрущ задал вопрос:
— Ну, а если… как бы сказать… я вот — есть. Кузубов, скажем, про себя тоже скажет, что он есть. Ну, а как бы сказать, Васька… есть он для нас с Кузубовым или его тоже нет?
Шелехов одобрительно закивал: ага, ага, поняли…
— Да, вы имеете полное право сомневаться: нам никому не известно, существует в самом деле Чернышев или он только обман наших чувств.
— Да я же вот… я говорю… — растерянно заспорил Васька.
— Обман нашего слуха, чудак, — с сердитой горячностью оборвал его Кузубов.
Все глядели на Ваську. Он хмыкнул, съежился, зацарапал кривым пальцем по столу.
Опанасенко напыхался трубкой, надумался вдоволь.
— Да… вот как Сергей Федорыч балакал, все точь-в-точь… Когда жинка у меня померла… Три дня без памяти ходил. Хожу и хожу, как ступа, бачу кругом — ничего нет, ни пса не понимаю.
Ржавый закат выкрасил море, и суда, и унылую кручу над «Чайкой» неспокойно-грязным светом. Шелехов к вечеру вылез из канцелярской каютки — разломаться. За борт нагнулся Чернышев, в углу его глаза застыла собачья тоска, отраженная от желтой воды…
В каюту спрыгнул, повалился лбом в бумаги.
— Кунгурского мужика — Кантом… Подействовало!.. А-а-а…
Бурно корчило всего. Не то смех, не то — ползать, что ли, хотелось, руками терзать Васькины сапоги, просить, чтобы простил непростимое…
Вечером словно сквозь сон заходил на «Чайку» грозный боцман с «Качи», сурово опросил, знают ли приказ — быть всем завтра на бригадном митинге. В кубрик вызвали и Шелехова. Почему‑то Бесхлебный обошелся с ним очень учтиво, даже как будто с преклонением, как и встарь, несмотря на растрепанный полоумный вид флаг-офицера и грязный, не внушающий почтения полосатый тельник. Наверно, после лекции ребята наговорили за глаза лестное.
— Очень приятно… с уважением, с уважением… — бубнил боцман, привстав, обеими руками пожимая ему ладонь. — А вон у нас на «Каче»… наши‑то господчики… от матросской робы, как черт от ладана!
А с Чернышевым вышло нежданное. Кузубов, зайдя ночью в каютку звать на ужин, сообщил новость:
— А Васька‑то наш, фюю-и!.. Озлобел, расстроился что‑то, покатил в экипаж. Сейчас приходил за вещами. С дружком вместе в ударный записался.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
День начинался с невыясненного беспокойства.
На рейде, необычно для столь раннего часа, спешили шлюпки и катерки, переполненные стоящими вооруженными людьми; по бортам судов, туманно теснящихся в даль, чернели там и сям скопления команд — наверно, митингующих; к вокзалу, разбежавшись с горы, оглушительно громыхала артиллерия. На столбах, на привокзальных заборчиках пестрели, несомненно имеющие связь с общей и неожиданной будорагой, свеженаклеенные листовки, под которыми еще издали можно было разглядеть крупную подпись военно-революционного комитета.
Все это Шелехов открыл, пробираясь берегом на «Качу» — на общебригадное собрание, на которое вчера позвал боцман. Зачем позвали, кому и на что он там нужен? От вчерашнего мутная разбитость мозжила во всем теле, словно после припадочной судороги. На вчерашнее вообще тошно было оглянуться, будто до последнего края докатился. И одно только вялое желание испытывал — всегда приходило такое в крайние минуты жизни: прилечь где- нибудь в темном углу, камнем проспать, ничего не чувствуя, год-два…
Топая, срываясь ногами по круче, Шелехов обогнал вооруженный отряд матросов человек в пятьдесят. По злобно-озорным и озабоченным лицам, по торопливому шагу невольно узнавалось, что штыки приготовлены не на парад, а для нешуточного и очень близкого дела. Очевидно, в самом деле что‑то стряслось. Глаза сами собой кинулись по сторонам, ожидая увидеть дым от пожара или еще что‑нибудь вроде этого. Но дыма никакого не было: только за редкими деревьями станции артиллерия продолжала колокольно оглушительно грохотать, и, словно под огнем, кишели бушлатные ватаги, подтаскивая орудия к железнодорожным платформам. Даже в ненастном хлестании ветра отзванивала заунывная, подмывающая тревога.
«Сейдамет… Сейдамет…» — углился черный шрифт на листовках.
Урывками вспоминалось что‑то, долетавшее за последнюю неделю в войлочную глушь «Чайки»; обламывающиеся вдалеке, впросонках, раскаты новой грозы. Разве уже дошло?
Остановился перед листовкой. Что за зловещий подарок она готовила… Буквы хрипло, по-митинговому кричали: «Открытое нападение контрреволюции!..»
В воззвании ревкома сообщалось, что военный диктатор Крыма, Сейдамет, опираясь на татарские эскадроны и офицерские формирования, предъявил Севастополю ультиматум: немедленно разоружиться и подчиниться всем его требованиям. Во исполнение своих угроз штаб Сейдамета уже перехватывает и задерживает в Симферополе продовольственные эшелоны для флота. Феодосия и Ялта заняты эскадронцами, начавшими избиение матросов. Готовится наступление на подступы к Севастополю — на Камышловский мост.
Ревком бил тревогу, ревком призывал к оружию:
— Революционный Севастополь в опасности!
Вот почему чайкинские против обыкновения все исчезли куда‑то с раннего утра, даже не разбудив его. Вот почему сбор всей бригады на «Каче».
И на лицах встречных, одиноко бредущих матросов читалась притихшая суеверная оторопь. В памяти явственнее проступали разные подробности из обуревавших кубрики слухов. Силу эскадронцев и офицерских отрядов эти слухи раздули до восьмидесяти пяти тысяч человек, матросские же ряды, и при Колчаке насчитывавшие раза в три меньше, теперь, после демобилизации и походов, особенно поредели. Если поверить всему — было над чем притихнуть, обеспокоиться. «Веревкой давить… пули жалко на такую тварь…» — вблизи зловеще слышались Васькины слова.
И тотчас же, словно накликанная ими, вывернулась бешеная, налитая кровью морда вагонного есаула. Вот чей запах разносился в ветре, в бряцании орудий… Да, это он, старый знакомый, тучей надвигался из‑за Камышловского моста, ликующий, давно жаждущий всласть расплатиться за все — за поругание свое, за Малахов, за окровавленные седины Кетрица!
На секунду даже сердце захолонуло, до того ясно представилось, что тут уж не просто война должна быть, а что‑то другое, невыразимое по своему ужасу и решительности: корча до последнего хрипа…
«А я… куда же? В этом наряде, пожалуй, и мне тоже несдобровать», — подумалось Шелехову при взгляде на порыжевшие свои матросские сапоги. Впрочем, черт его знает, — а может быть, и вправду нет никаких татар, одна злостная провокация, чтобы довырезать остальных офицеров, с корнем прополоть флот? В кают-компаниях в татар определенно не верили… Но Шелехова угнетало не это, а сознание своей одинокости, которая становилась страшной в такую минуту, — страшно было, что подхватит, швырнет между двумя вихрями, как никому не нужную, жалкую щепку.
Ноги сами порывисто прибавили шагу. Что‑то подсказывало, что последнее решение или последняя судьба — уже недалеко: возможно, даже и усилия воли никакого не потребуется. Все само собой назрело и нависло до предела… С большим вероятием, чем когда‑либо, могла вдруг наступить вечная ночь бесчувствия — так представлялась смерть, когда он примеривал ее к себе равно душным воображением: или — жизнь, вся перечеркнутая, могла начаться сначала. Теперь он был готов к этому: нигде не оставалось для него ни убежища, ни тепла.
Только не поздно ли?
Территория порта бежала на него встречным ветром, нависали кварталами высокие кормы судов, буйные чертежи снастей просекали ненастный воздух. В мрачных просмоленных ущельях, между судами, накатывала и бушевала грязная волна. И небо вверху, над портовыми грязнооконными канцеляриями, темнело ущельем, где кромешно путались снега и мрак. Люди и тут попадались торопливые, потемнелые. Во всем чуялись неують и вместе с тем дикое, подгоняемое отчаянием напряжение.
О, опять перед самой «Качей» навалилось малодушие: безнадежьем кружительно плыла в быстрых облаках железно-серая круча корабля.
Но лишь переступил через борт и с головой очутился в глубокой толпяной воде митинга, сразу притихло все: и мысли, и ветер, и плеск волны. Зинченко, в зеленом походном бушлате, ораторствующий со спардека над толпой, за ним, вперемежку с матросами, фигуры Скрябина, Бирилева, Блябликова, похолодалых, с покрасневшими носами, но слушающих покорно, — метнулись в глаза неясно, словно сквозь слезу. Толпа обступила домовито, спокойно, как своя комната… И — должно быть, такое ощущение осталось у Шелехова невытравленным еще с весны, со счастливых дней возвышения — от многолюдья, от тесноты наплывало смутное обещание какой‑то приятной неожиданности, подарка… Внутренно подобравшись, Шелехов пролез на спардек и стал внимательно слушать Зинченко.
* * *
Положение действительно становилось угрожающим.
Время для выступления распаленного фанатической агитацией многотысячного татарского населения против флота было выбрано очень удачно. Силу флота, поредевшего после демобилизации, ослабляли вдобавок некоторые внутренние распри, разжигаемые украинцами и соглашателями. Часть ударных отрядов еще не вернулась в Севастополь, гуляла на Украине. Ревком мог бросить на защиту главных подступов к Камышловскому мосту, в окрестностях которого уже показывались белогвардейские разведчики, всего сотни две ударников.
Для спасения Севастополя, красного Кронштадта юга, надо было поднять, вооружить на борьбу весь флот, всех способных владеть оружием и готовых, как собственную жизнь, защищать революцию.
«Всех», — сказал Зинченко.
Самое трудное разрешалось вдруг и просто, даже слишком просто. Оно давалось в руки само, падало, как спелый плод. В числе «всех» подразумевался, обязывался и он, Шелехов. Но все же одна мысль не выходила из головы, уязвляла…
Внизу зыбилось марево матросских лиц и фуражек. Знакомая палуба, знакомые люки на ней, две-три полосатых фуфайки, вывешенных для просушки на полубаке, — все знакомые. Из зябко ежащейся толпы двое матросов, чем‑то напоминающих о лете, приветливо щерились Шелехову. Его ученики с бригадных курсов. Вот Кузубов, Хрущ, даже Опанасенко, с таким видом заложивший руки за спину, будто пришел со стороны поглазеть на всю эту чудную суету. Вон Каяндин, и здесь сохраняющий свою себялюбивую отдельность, лениво возлегший на крышку люка. Даже боцман, с достоинством занимавший свое место в кучке вожаков, около Зинченки, покосился на бывшего мичмана и козырнул первый. Хмурой, возвращающейся и жданной родиной пахнула «Кача»!
Но все‑таки зачем — когда Зинченко, заканчивая речь, проголосовал: «Кто за поголовное вооружение, за истребление всех буржуазных паразитов до конца?» — зачем вместе с Шелеховым и, пожалуй, еще прилежнее и дольше матросов тянули руки и Блябликов, и Анцыферов, и Бирилев?
Получилось что‑то непрочное, ненастоящее, не то, ради чего мучился, ломал и казнил себя столько времени. А тут еще Иван Иваныч вытряхнулся снизу, из матросской гущи (он лазил там для демократичности, в шинели нараспашку, в кочегарской блузе) и, как всегда, гаркнул невпопад:
— Ну, хорошо, поголовно… А насчет офицеров как?
Тончайший, смертельнейший волосок натянулся. «Сволочь!» — простонал про себя Шелехов, заранее умоляюще вцепляясь глазами в Зинченко, — в нем одном чуялось какое‑то спасение. Однако бойкий голос, из того же понизовья, осадил вопрошателя:
— Офицеров, товарищ, у нас нет, а тут есть только военные моряки!
— Правильно! — поторопился горячо и даже со злобой поддакнуть Шелехов, так горячо, что в офицерской горке выразительно переглянулись. Некоторые, как видно, только впервые узнали в неизвестном матросе Шелехова, зашептались.
И, как назло, ленточки его бескозырки вызывающе, игриво взвились на ветру.
Его это не трогало, — черт с ними, пускай шипят, как хотят! Важно было закрепить то, что давалось, сделать так, чтобы оно стало по-настоящему… Чтобы матросы, поговорив, не бросили все на половине, не разошлись кто куда. Чтобы не скатиться опять назад, в смрадную щель «Чайки».
Планы, один другого непоседливее, один другого лихорадочнее, вскипали, наперегонки суматошились в голове… Из бригадной команды составится целая рота; ее следовало бы заранее разделить на взводы, на отделения… В свое время, в школе, Шелехов основательно потопал в пехотном строю; теперь он мог бы предложить отряду свои услуги, — ведь моряки слабовато знают пехотные тонкости, например, — взводное ученье, перебежка, цепь: вон Любякин, говорят, оттого и погиб, что шел в наступление стоя.
А что, если записаться взводным инструктором? Боцмана хотя бы попросить, — у того, как видно, сохранилась еще старинная задушевность к бывшему качинскому прапорщику. Нет, нет, не начальствовать, конечно, собирался он над будущим взводом, — ему, Шелехову, кощунственно было об этом и мечтать; его поджигало — сделать что‑то, подвигаться на плацу, на вольном воздухе, поработать, — главное, не с чужими, а со своими, привычными ребятами.
Какое‑то внутреннее мгновение приспело. Если не сейчас, значит — никогда… Выйти и сказать… Самое последнее, самое жгучее про себя, все, все. Про «Чайку», про есаула… Даже не утаить, сознаться открыто, почему труднее ему, Шелехову, решиться, чем им: потому что за есаулом брезжило нечто, может быть, более странное, что‑то вроде неистребленной, хватающей за сердце Атлантиды.
Его, однако, неожиданно опередил Скрябин, который с полупоклоном, очень любезно попросил у Зинченко слова.
И ясно — Скрябин был не один: задушевную дрожцу его голоса, руки его, приложенные театрально к сердцу, подпирала, подсказывала сгустившаяся за его спиной чернота Блябликовых и Анцыферовых… Шелехов вскинулся на него желчно и подозрительно. Жиденькое, жалостное пальтецо, которое вот-вот за борт умахнет с ветром, — призывало матросов вспомнить о том, со сколькими трудами и жертвами завоевал свои моря могучий русский народ. Взять хотя бы незабвенную славную севастопольскую кампанию. Да, как зеницу ока должны мы беречь то, что наши предки, такие же матросы и труженики, как и мы, купили столь дорогой ценой. Татары держали Россию под игом двести лет, но больше им это не удастся! Мы все, как один, встанем за правое дело.
Володя тут же оговорился, что бригада, по особым условиям своей работы, не может, конечно, сразу выделить всех поголовно, да и оружия на всех нет, да и которые по службе заняты… Но все же должны быть наготове все, от первого до последнего, чтобы в нужную минуту выступить одной грудью.
— И отстоять в борьбе равно дорогие нам — флот и нашу святую свободу, ура!
«Про ангелов еще с крестом!» — чуть не зарычал ему вслед Шелехов. Матросы, однако, охотно присоединились к неистовым аплодисментам кают-компанейских и, казалось, взирали снизу по-новому — посмирнелые, поласковевшие… Нет, только казалось. Они коченели внизу, греясь друг о друга спинами, и в глазах у них мутилась нашептанная слухами полночь и еще что‑то тоскливое, ожесточенно — настойчивое. Ослепила мысль — давняя, зарытая глубоко: вот так бы почувствовать, так перененавидеть, как чувствуют и ненавидят они из глубины своей матросской шкуры, — тогда ведь было бы оправдано все: и почему нужно было взять винтовку и зверем рвануться на Каледина, и почему малаховские ночи и Графская… А у него — не та ли, ущемленная обидой, дрянная подачка — жизнь? И чего он мог бы еще ждать? Захлебнувшегося, ослепленного — его выкинуло на край пропасти, на народ.
Он не сознавал, когда и где было, зачем…
— Я бы хотел только добавить… к словам нашего начальника. Чтобы вы помнили каждую минуту… что будет… если они придут к нам опять… как хозяева. Как владыки! — Истерический, не его крик дико отдался где‑то в пустом железе, — Помните: эт-того, товарищи, что будет… нельзя рассказать… ник-какими…
Выдыхивал до дна всю грудь.
— Никак-кими… человеческими… словами!..
Кругом и внизу зияла тишина, хотя уже целые часы прошли с тех пор, как он замолчал, сгинул торопливо назад, в свою тесноту. Возможно, матросы не поняли, что конец, ждали еще. Правда, оборванно вышло как‑то… Мелькнули Володины кроткие обметанные болью глаза. Вот куда пришелся удар! И никакой жалости, как тогда весной… Зинченко глядел притупело, удивленно. «Квиты!» — мысленно крикнул ему Шелехов, торжествуя. Но и не это было самым важным, а то, что его поднимали гребни моря, того самого, что все время недостижимо шло где‑то вне его, — теперь оно приняло его в самую свою сердцевину, лелеяло, играло им… Разрывая всеобщее оцепенение, шибануло воплем с палубы:
— Ребята, вон наши едут, ура им, ура!
На слободской горе, над портом, вился летучий дымок матросского эшелона — подмога к Камышловскому мосту. Иван Иваныч первый заметил, неистово сорвал с себя шапку, орал — багровый, косматый, искореженный, как в падучке:
— Ребята, ур-ра!
Шелехов узнал отраженное — свое бешенство… И оно же ураганом бескозырок, ревом взмело по палубе. С эшелона и с паровоза, облепленных пуговицами лиц, увидали, ответно махали крохотными ручками и шапчонками. И кают-компанейские, которым не след было отставать, тоже орали, помахивая фуражками, от злобы орали до окровенения глаз. С ветром надвигался темный дождь.
Единогласно было постановлено организовать отряд бригады траления, который вооружить сегодня же.
Тому неожиданному, даже фантастическому, что случилось на митинге потом, через несколько минут, Шелехов почти не удивился. В горячечной приподнятости, овладевшей им и похожей на полусон, терялась всякая мера действительности. Казалось, он даже сам предугадывал нечто невозможное… И когда боцман, пошептавшись с Зинченко и другими вожаками, крякнув, вылился перед народом в струну (Бесхлебный любил исполнять дело революции столь же отчетливо и лихо, как и год назад, перед начальством, боцманскую свою службу) и предложил выбрать командира и комиссара отряда, какой‑то разоблачительный свет набежал на Шелехова от боцманской оглядки, — тогда уже, со скрытно и бурно забившимся сердцем, узнал все.
Кают-компанейские, конечно, ничего пока не поняли и, выслушав предложение боцмана, по привычке повели глазами на зяблую фигуру Скрябина. И у всех выразилось на лицах одно и то же уныние: ясно, Володю выбрать вождем боевого, революционного отряда было неподходяще и нелепо. А кому же еще пристало быть в бригаде вторым начальником? Раз не Володю, значит — вообще не из офицеров, а кого‑нибудь лучше из матросов?
Как бы предвидя все эти сомнения, боцман пояснил, что товарища Скрябина, с небольшим народом, лучше оставить здесь, на «Каче», для порядка дела.
Со спардека горячо, очень горячо затрещали ладошки: вот это сознательно, правильно, необходимых безусловно — всех оставить здесь!
— А у нас есть человек, хучь пусть он из охвицеров… Но оно и лучше, шо из охвицеров, — значит, во будет командир! И я за которого человека говорю… вы уси, ребяты, помните, как он нам выяснял за Ленина, когда у нас за Ленина по шее накладывали…
Шелехов до конца этой речи зацепенел, боясь поднять глаза. Каждое слово боцмана раздувало костер незаслуженной и страшной славы. Как тогда, после Кронштадта. А если б они все, простодушные, узнали, поняли, что он делал вчера?
— Матросом, нашим братом, не брезговаит, живет заодно, у кубрике вместе на полке спит, сам вчерась дывылся… Заодно из бачка с ими кушает. Да шо говорить… вы сами тут его слыхали! Эх! — боцман по своей горячности совсем осатанел, двинул себя кулачищем в грудь. — Такие б у нас были уси охвицеры!.. Таких бы мы, братцы, на Малахов не водили… Таких бы мы, братцы, завсегда… от сердца!..
— Правиль-на-а! — гаркнуло распаленно понизовье.
Может быть, очень кстати так случилось, что по кораблю, как выстреленный, брызнул ледяной увесистый дождь, крепко врубаясь в борта и мачты, загоняя шарахнувшихся врассыпную матросов под навес, под брезенты, в люки. Шелехов, не замечая его, смотрел на окраинную, обросшую меловыми слободскими хибарками гору, по которой извивалась обрывисто пустая железнодорожная насыпь. Он мерил себя, мысленно уходящего куда‑то по этой насыпи, и знал, что силы хватит теперь на тысячи длинных бездомных дней… Да, творилось нечаянное, сказочное, но он совсем не ощущал той весенней самоупоенности, когда, под невидимые оркестры, мечтал покорять, вести за собой. Он хорошо понимал, что теперь не он, его вели.
…Митинг по случаю непогоды приканчивался. Боцман, которого выбрали комиссаром, наказывал насчет винтовок и сбора на утро, если не будет тревоги раньше. Поздравительно улыбались Кузубов и Опанасенко, о чем‑то на ходу шутейно покалякал с новым командиром Зинченко. Больше не нужно было льстить ему, ни бояться, ни лезть в глаза, чтобы узнал… А дождь рубил по бортам, обжигал — совсем как наяву.
Беспричинная облегчительная смешливость иголками просыпалась по жилам. О, сколько еще таких, как Жека, встретится там за насыпью, в неиспытанных просторах жизни!.. В толкучке около кают-компании не удержался, расплылся улыбкой, завидев около себя умильную рожу Блябликова.
— Ну, как ваше пророчество, товарищ ревизор? Помните, о политике мы однажды беседовали. По-вашему что‑то не выходит.
— Нет, все правильно, Сергей Федорыч, все правильно, только набольшие‑то просчитались: народ все всерьез понял. А теперь и они рады бы на попятный, да неудобно… И что дальше будет… темная ночь!
Блябликов прицепился, не отставал:
— Сергей Федорыч, у меня просьбица к вам. Приходите ко мне сегодня на «Качу» ночевать‑то, вам и по новой должности здесь удобнее. — Блябликов замешкался, не зная, поздравлять или не поздравлять с новой должностью; лично он, выпади ему такая честь, считал бы себя пропавшим, несчастным человеком. — Я вам и койку свою уступлю, прелестная, удобная койка. Себе походную подвешу. Коньячишко у меня есть. Приходите‑ка, а?
Но внимание Шелехова отвлекла качинская кают-компания, куда загнало его вслед за прочими — от дождя. Пустырь прошлого… Вот где пощипала буря! Гвоздик на памятном месте, на стене, с бумажными махрами: останки портрета Александра Федоровича. Ровно столько же осталось, сколько от мальчишеских бредней, до стыда глупых, радужных, как мыльные пузыри. Из иллюминаторов — отемнелый, будто исподлобья бросаемый свет… Около Анцыферова кидался с оглядкой брюзгливый разговор:
— Куда мы пойдем, мы не записывались! А на корабле кто будет?
— Они и сами говорят: при кораблях для порядка оставят.
— Да какие, спрашивается, татары, откуда они взялись? Чушь, самый мирный народ.
— Около Камышловского моста двое с шурум-бурумом прошли, а у них душа в пятки: ой-ой, кадеты с юнкерами!
— Они на Малаховой храбры воевать…
— Татары и отряд — это только для заманки, — утверждал тоненьким ломающимся голоском Анцыферов. — А на самом деле у них черные списки… Чтобы всех офицеров и интеллигенцию — поголовно… в одну ночь. Вон и Зинченко‑то проговорился: за поголовное, говорит, истребление всех паразитов.
Шелехов не утерпел, грызнул:
— Так это он про вас?
Анцыферов среди общей тишины помолчал и вдруг зажалобился:
— Молоды, молоды еще, господин… не знаю… как вас там!
А вслед, когда уходил, шипом догоняло:
— К-ком-ман-дир…
Но теперь смехом все отлетало, как от деревянного. Блябликов, ходивший все время по пятам, настиг Шелехова у трапа, дрожно схватил за рукав.
— Нет, я вас теперь, Сергей Федорыч, серьезно прошу, сделайте мне одолжение, Сергей Федорыч, насчет ночевки‑то. Сами слыхали, что про эту ночь говорят… на корабле у нас дико… При вас‑то не тронут, Сергей Федорыч! Вы войдите в положение: двое ребяток, куда они в такое время без отца?..
Шелехову и противно было и деликатность мешала отогнать сразу. Отнекивался — по горло хлопот на «Чайке», сдавать дела по дивизиону.
Блябликов так и изваялся на борту: с молящими ручками на груди…
«Вот далась чудакам сегодняшняя ночь!»
…На «Чайке» вопреки ожиданию все показалось теперь родимо и уютно — тем грустноватым, прощальным уютом, каким окутываются вещи в канун разлуки. Да и зря он обижал этот невиноватый, опрятный по своей внешности кораблик, символизируя им все гнусное замертвение своей жизни, свою тюрьму. В сущности и тюрьму‑то сам себе надумал и сам себя в ней убедил: ведь стоило только решиться пойти на «Качу», к тому же Зинченке или боцману…
И минная бригада напротив, где шла суматошная погрузка, и парное теплецо каютки, натекающее с «Оксидюса», и вечереющий в иллюминаторе день — все стало необманное, настоящее. И стол, покрытый клеенкой, холодноватый, лаково-черный, был тоже настоящий! Где‑то Васька?.. Сейчас привести бы сюда дурня, заставить ткнуть пальцем, спросить: а ну, есть?.. Да ты посмотри хорошенько, ведь — есть, есть!..
А все‑таки не смехом, а чем‑то неизлечимым еще, тайно гнетущим отрыгивалось — о Ваське.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Ночь обсвистывала деятельным ветром снасти, дома и памятники. Черноморский флот наполовину спал, наполовину бодрствовал, чутко прислушиваясь и на земле и на воде. У Камышловского моста глядели дозорные. В полночь туда же лязгал эшелон, полный человечьих голосов. Далеко в море, роя зыбь ножевой грудью, скакал «Гаджибей» — карать Ялту, поднявшую руку на матроса. «Румыния», приняв пушки и десант, дымила к феодосийским берегам.
И что‑то пронзительнее ветра пребывало над бессонными трюмными огнями, над братскими кладбищами, над бульварами, над чугунными офицерами, повелевающими с городских площадей, над обманчиво-мирной домашностью Севастополя.
«Ни-ка-ки-ми… чело-ве-чес-ки-ми… сло-ва-а-ми…»
Три слова, родившиеся утром на «Каче», обежали за день кубрики, улицы, рейд. Вечером на всефлотском митинге, с балкона гостиницы Киста, их прокричал еще раз чернобородый, оскаленный… Гололобая площадь грузно переступила с ноги на ногу, качнулась тысячами дул.
К потемкам на «Чайку» заявились Кузубов, Хрущ и Опанасенко, ходившие в экипаж получать винтовки — на себя и на нового командира. Рассыпалось содружество…
Каяндин, оказывается, забрав вещи, ушел ночевать в бригаду заградителей к земляку. «Соображает насчет демобилизоваться, — открыл его тайные намерения Кузубов, добавивший: — Свое „я“ выше товарищей понимает!..»
Васька как сгинул вчера, так и не казался. На ночь каждый вогнал в затвор по пять патронов, приладил винтовку в головах. Только Опанасенко, которому такие хлопоты были не по душе, ворчливо сунул свою под койку:
— Та на шо мне, я на пехоту не учился, я электрик. Вот… до завтра только дожить… Спишусь на «Волю», ий-богу, нехай сами те идейные воюют, с кем хочут.
— Продаешь, жлоб, — скрежетнул, засыпая, Хрущ.
Шатало, колыбелило катерок крепнущим прибоем.
…На спардеке «Качи» светил на палубу единственный огонек из рубки радиста. Время шло к одиннадцати… Радист вздрогнул, увидев в иллюминаторе чуждое, защемленное добела лицо.
— Уходите, некогда, я с Парижем говорю! — закричал он, отступая. Руки его дрожали. Впрочем, узнав вахтенного, тут же стащил наушники, сам заторопился, полез головой вдогонку — в черную дыру.
— Эй, браток, погоди… Что еще за калединцев слышно?
— А ничего…
— А офицера где?
— Та у Скрябина наверху, в карты играют…
У натралбрига, в наглухо задраенной рубке, сидели с вечера за преферансом — сам Скрябин, Бирилев, корабельный инженер — тоже из золотопогонных лейтенантов, и из нижних допустили в свою компанию самого почтенного: Анцыферова. К ночи, однако, без спроса, без приглашения привалили остальные — Блябликов, Иван Иваныч, безыменные с тральщиков. Да и в голову не приходило никому спрашиваться: было что‑то в ночи сбивающее этих людей в одну боязливую кучу, толкающее их поближе друг к другу, помимо разницы в чинах и заслугах.
Кают-компанейские сидели, не расстегивая шинелей, как в караулке, неотрывно и чадно куря. Беседа плелась пустопорожняя, неправдоподобная: о чем угодно, только до самого главного, до сегодняшней ночи ни словом не дотрагивались, как до болячки. Особенно Блябликов ратовал — чуть что, пугливо вцеплялся в разговор, переводил на другое. Говорили о политике: что вот заключили мы с немцами мир, а вчера или позавчера опять подали всем радио, что Германия объявила нам войну; что турки напали на Эрекли и вырезали тамошних наших матросов («хорошую науку дали товарищам, — не на Каледина, а вон куда надо смотреть!»); что в море, говорят, опять вышел «Гебен»… Что же теперь, сызнова вооружаться, чинить тралы? Да какие же мы, с позволения сказать, вояки!
Ералашный Иван Иваныч не вытерпел:
— Война, а они вон чего делают; давеча телеграфисты секретничали, радио еще одно получено: арестовать всех офицеров-дезертиров и которые неблагонадежны. Это как же понять, господа, кого же они будут теперь арестовывать?
Блябликов наскакивал с плачущим лицом:
— Наше какое дело, наше какое дело, Иван Иваныч? Нас это совсем не касается, что вы в самом деле…
Вмешался лихой, вкрадчиво-загадочный дисканток Анцыферова:
— А еще про одно радио они не говорили?
Все насторожились:
— А что?
— Да так… подозрение одно есть. С чего они, как волки, вкось смотрят? И шумок уж идет…
— Да уж говорите сразу, без канители!
Блябликова заранее недужило, бучило всего, как на дрожжах.
— Факт, господа, что они скрывают про английскую эскадру… Удивляюсь, почему Владимир Николаевич как начальник не примет мер. Сто пятьдесят вымпелов, первоклассных, господа! Например, может быть, Дарданеллы уже прорваны, а мы сидим, не знаем…
Кают-компанейские разочарованно пели:
— О-о…
— Слыхали, слыхали…
— Который месяц прорывают. Тут и хода до Севастополя десять — двенадцать часов.
— Колчак бы в таком случае время терять не стал.
Анцыферов выпрямился всем своим старым костяком — ярый, карающий.
— А всемогущий… забыли, господа? В помыслах у нас — мрак, житейские дрязги… А он видит, все с высоты видит. Что же делается на земле, ужаснитесь разумом, господа, что делается? Неужели не вступится, не отведет господь?
Зябкое пробежало по каюте. Иван Иваныч скосился на карту военных действий, закрывавшую полстены.
— А шут ее поймет… Можбыть, вправду?
И многие суеверно повели туда же глазами. Цветники флажков, сердцеобразный, волнисто-полосатый контур Черного моря… А может быть, вправду — уже недалеко за ночью, за зыбями подходит цветное зарево — праздничными огнями из‑за горизонта сигналят победители!.. В угарном куреве смутнели развешанные по стене декадентские этюдики, резные матросские сувенирчики, стопочки нот в тщательных шагреневых папочках. Немощная, никчемная Володина суть… При взгляде на нее еще жесточе явствовало, какая — еще пока неслышно — метет кругом чугунная, все подгибающая под себя буря!.. Голоса стали глухие, рычащие, пересохлые… В двенадцатом часу, когда нечаянно пресекся разговор, Скрябин вспомнил:
— Да, господа, был у нас сегодня Лобович с «Трувора» с докладом. Рассказывал, как они усмирять ходили Евпаторию. Там ведь недавно большевиков порубили… Ну, вот, он и нагляделся. Знаете, входит — и головой прямо вот на этот стол… как женщина.
Кают-компанейские шинели враз подались назад, в полутьму, слабо остерегаясь. Володя мимо них глядел бесчувственными слезными глазами.
— Главных, которых поймали, в очередь поставили к топке. Лобович говорит: крика я не мог вынести. Сошел вниз, рассуждаю перед ребятами: ведь колосники мне костями засорите, машина станет!
Блябликов умоляюще приставал, прижав ладошки к груди:
— Владимир Николаевич, ну не надо! Не надо лучше…
Даже Ивана Иваныча проморозило, приподняло, затараторил всякую несуразицу, нарочно Скрябина путал:
— Да, да, как же… всякие бывают дела! Всякие! Да, да! Они вон тоже говорят, матросы: не офицеров, говорят, а нашего брата поведут в эту ночь… На нас, говорят, тоже черные списки составлены, мы знаем.
— Списки?
Анцыферов изумленно, даже оскорбленно вскинулся на говорившего:
— Какие же это на них списки? Да если что… их безо всяких списков, подряд…
Карты ронял из трясущихся пальцев, подбирал и ронял опять. Дряблое личико пятнилось розовыми пламенами.
— Подряд… каждого сукиного сына подряд! А поджигателей и командиров, молокососов… самих… самих… в топку головой, сукиных…
— Шшш…
Ледяной голос Бирилева снисходительно-усмешливо поправлял:
— Зачем же подряд, капитан? Наши деды умнее делали: каждого десятого на рею.
Что‑то с узды сорвалось… иль сразу во все головы шибануло угорелой сладкой волной.
— Для острастки, верно… на рею, лучше нет!
— Я висельников боюсь… по мне бы — всех на баржу, запевал, да в море спокойненько.
— Забыли, как в шестом году собственное дерьмо ели.
— А-а!.. Шестой‑то бы год сейчас… в шестом‑то году-у!..
— Господа, — вступился бледный Володя, — я бы просил, господа… Я вас бы просил в моем присутствии…
Анцыферов, забывшись совсем, в исступлении рушился на Скрябина:
— И вам, и вам, господин старший лейтенант, извините старика, добрый совет. Помните, Владимир Николаевич, любимчиков тоже по головке не погладят…
Сразу свернулась неловкая, разгоряченная тишина. Только Блябликов крутился посреди каюты, зажав ладонями щеки.
— Владимир Николаевич, — причитал он жалобно, — я болен, Владимир Николаевич, я пойду в каюту, лягу: пожалуйста, господа, если меня кто будет спрашивать, скажите — я тяжело болен… я не могу, я завтра, Владимир Николаевич, разрешите, в госпиталь лягу.
И по-слепому, не попадая куда надо, ткнулся в дверь. Холодное дуновение, долетевшее из черного погреба, снаружи, отрезвило всех. Иван Иваныч брякнулся на стул.
— До чего народ стал слабохарактерный, просто позор!
Скрябин мягкосердечно торопился овладеть разговором:
— Я, господа, Лобовичу сказал: если вам, Илья Андреич, тяжело, вы переводитесь опять на «Качу», ваша вакансия старшего офицера свободна, отдохните у нас. Но… странный он все‑таки человек: подымает голову ц таким тоненьким — тоненьким голоском: «Нет уж, говорит, я с ними останусь…»
Володя, озираясь, тревожно смолк. Да никто уже его и не слушал. За стенами каюты пронесся железный трубный рев. То был не ветер. Звук поднимался откуда‑то из водяных недр, врывался в слух хриплым неостановимым сигналом несчастья. Не было сомненья, ревел неурочный портовой гудок… «Вот оно, ого!» — крикнул Иван Иваныч, медленно поднимаясь со стула. Анцыферов присмирело крестился. Другие одеревенело глядели на иллюминатор, ожидая, что вот — вот выяснится какая‑то ошибка, все стихнет, оборвется. Но завывание не обрывалось: наоборот — росло, жесточало, к нему присоединялись далекие сирены и пароходные истерические гудки, — все это, разметав недавнюю тишину, вздувалось бесноватой рекой воплей и визгов; било в набат над полночным спящим городом, над рейдом. И чей‑то одинокий истошный крик, крик о помощи, рыднул внизу.
— Огонь… тушите огонь, — послышался повелительный хрип Бирилева. Он один не растерялся, взял на себя командование — бледный, сосредоточенно-насупленный. Однако, прежде чем успели исполнить приказание, в дверь шатнулся из темноты всклокоченный Маркуша, ища за что бы ухватиться нетвердой рукой.
— Господа, там радист чего‑то орет… вы бы посмотрели.
Офицеры окружили его.
— Режут? — ахнул кто‑то, не расслышав.
Маркуша мутно скислил лицо:
— Никто не режет, а тревога: татары к Камышловскому подошли. Я к вам, Владимир Николаевич… — Он воззрился на Скрябина и скучно сшиб фуражку набекрень. — Я, Владимир Николаевич, ввиду того что команда моя вся уходит, так и я… пойду, с ними пошарлатаню. Вверенный мне корабль сдаю вам, старшему начальнику. Если паду жертвой за свободу, — голос у Маркуши горько треснул, — пускай, Владимир Николаевич, заместо меня сам народ кого выберет…
Маркуша с погибельной лихостью, пошатнувшись, отдал честь:
— До свиданья всем… У радиста, господа, посмотрите, какую он панику наводит!
На палубе грохало чугуном, гудки и сирены заливались по-кликушьи. Из рубки опасливо, кучей вслед за Бирилевым спускались в мрак.
— Татары ли?
Из освещенного иллюминатора отвалилось назад закованное в наушники, искаженное лицо радиста. Тот же истошный крик рвался, молил из каюты:
— Ва-а-ахтен-най!..
Неизвестно, что прибредилось радисту за одинокое полночное дежурство, оглушенному набатным гудком. И на палубе никого не было, вахтенного давно крутило внизу, в горячей трюмной суматохе. Товарищи не слышали крика… Увидев живых, наступающих в дверь офицеров, радист в беспамятстве забился в угол.
— Оставьте меня, не мешайте… я говорю с Парижем!
И яростно куснул руку, которую Володя по-дружески, успокаивающе положил ему на плечо.
— С Парижем!..
Наушники мешали ему слышать, понять… В коридорчике без толку толмошились очумелые кают-компанейские. Между тем корабль сотрясался; с гулом колебали трап бесчисленные, сбегающие на набережную ступни.
Черноморский флот восставал по тревоге.
А напротив, через коридорчик, в своей каюте лежал Блябликов с открытыми в темноту глазами. Он слышал страшный гудок, и крики, и душегубный топот за своей дверью; ясно было, что уже пришли, кончают всех… Зацепенел в одеяле, не шевелясь, не дыша, приготовившись к последнему, беспомощно ощущая, как одевает все его тело обжигающая и ледяная теплота. Блябликов лежал и мочился.
* * *
Шелехов проснулся в неясном смятении. Голову раздирало скрежещущее железо. Только спустя минуту уразумел, что это по-грозовому, несмолкаемо рычит гудок. Сверху били ногой в люк.
— Сергей Федорыч, тревога… Сбирайтесь, тикаем до «Качи»!
Одевался в торопливом ознобе. Первая мысль была об отряде. Наверно, уже собирался, бушевал около «Качи». Ждал командира. Не думалось, что случится так скоро. И целая гора забот и страхов подвалилась под сердце, укусила… справится ли? Конечно, Шелехов не мог знать, что никакого отряда больше не существовало, что качинские, не дотерпев, похватав винтовки, врассыпную сеялись уже по темным портовым тропинкам, туда же, куда бежали поднятые ночным сполохом и боевым нетерпежом кубрики и трюмы всего флота.
Позже, когда узнал, только вздохнул освобожденно.
…Вещи — поручить Опанасенко. Да и много ли их, вещей? Вот они, кучей темнели, навешанные в углу. Офицерская шинель, китель с университетским значком; еще одна шинель — студенческая, тужурка с синими петлицами, махрявые брюки, на которых засохла еще петербургская грязь. Разноцветные прощальные куски жизни пролетали, как за окном вагона. Что-то подсказывало, что к этим вещам не вернуться больше никогда. Он погрузился на минуту в них лицом — в грустный, отступающий от его прикосновения прах… Так далеко ушло все — за ровень длинных-длинных, как океаны, дней… Ему вспомнилась фраза из прочитанного, неведомо какого романа: «Уходя, он взял с собой любимый томик Боэция[9]…» У него не было любимого томика Боэция. У него не было ничего, что он мог бы взять с собой в дальнюю дорогу… Грустная, но и облегчительная нищета!
Он позвал Опанасенко. Сложил на койку винтовку, патроны, папиросы. Вынул из тайного хранилища школьный браунинг. Горбушку хлеба на всякий случай. Кажется, это было все?
На корме, в синей темени, стояли двое стройных, прямолобых, с винтовками на плечах, как статуи, Кузубов с Хрущом. Он, третий, присоединился — приземистый, немного пригорбленный от сиденья за книгой. Опанасенко высунулся следом, махал из могильного своего логова:
— Счастливо!
За гудком послышалось едва… Чем‑то возбужденным, праздничным опахнул темный воздух, вероятно, от огней, от будоражно поднятого в ночи многолюдья. Осыпалась круча под бегущими штоломными ногами. Завидно было, что нельзя, как Хрущу, с припляской скакать через овражки, разгульно вопить:
— Э-эй, Кузубов, друг! А можбыть, и живые назад не вернемся… а ну, и мать с ней!
Кузубов поспевал сзади мягко, по-кошачьи, — за его голосом угадывалось подслеповатое, смешливо-торжественное лицо.
— Нет, Хрущ, я смерти не хочу. Ты скажи, чего мы видали с тобой в наши молодые годы?
«Теперь‑то увидим!» — хотелось вызывающе крикнуть Шелехову. Ночь обтекала его ознобной, огненной свежестью. Так вот оно какое — то, что манило, и ужасало, и закрыто было от него всю жизнь. Пьяная смертная гарь под окнами ораниенбаумской школы… Бушеванье борьбы и жути, бившееся о стенки его тюремной каюты… Теперь он дорвался, брал свое, до дна вдыхал обжадовелой грудью… Вот оно какое!.. Над портом продолжали штурмовать гудки, рыдание сирен. Прожекторы разрывали нагорный мрак неестественными солнцами. Шлюпки высыпали в темень воинством тревожных, рыщущих огоньков. От всего поддувал обжигающий ветерок напора и опасности…
…Конец ночи был — за севастопольскими рубежами.
Много народу ушло из Севастополя безвестно в ту ночь. Ушло и не вернулось. Шеститысячная волна матросов-повстанцев и портовых в три дня смыла с полуострова малодушную контрреволюцию, а там устремилась далее, на Синельниково, на Ростов, захватив с собой, среди тысяч других, и крошечную судьбу некоего Шелехова.
СЛОВАРЬ МОРСКИХ И ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПОВЕСТИ «СЕВАСТОПОЛЬ»
Аншпуг — деревянный брус, используемый в качестве рычага для подъема и переворачивания тяжестей.
Бак — передняя часть палубы от форштевня до фок-мачты.
Баталер — кондуктор или унтер-офицер, заведующий денежным, пищевым и вещевым довольствием в царском флоте.
Беседочный узел — вид морского узла.
Бизань-мачта — третья мачта, считая с носа.
Блокшив — корпус разоруженного (лишенного оборудования) судна, приспособленного для жилья или хранения запасов.
Бон — плавучее заграждение из бревен, бочек или железных ящиков, связанных между собой цепями или тросом.
Боцманат — старший строевой унтер-офицер в царском флоте.
Ватерлиния — кривая, получаемая при пересечении поверхности корпуса судна горизонтальной плоскостью, параллельной уровню воды.
Выбленочный узел — вид морского узла.
Вымпел — длинный узкий флаг, поднимаемый на брам-стеньге; поднимается на кораблях с начала кампании и спускается с окончанием ее.
Выстрел — брус, укрепленный концом снаружи борта против фок-мачты; во время стоянки судна на якоре на выстрел ставят шлюпки.
Гаечный узел — вид морского узла.
Гардемарин — воспитанник морского корпуса или морского инженерного училища в царском флоте.
Гафель — наклонное рангоутное дерево, нижним концом упирающееся в мачту, сзади на верхнем его конце во время хода поднимается кормовой флаг.
Грот-мачта — вторая от носа мачта.
Гюйс — флаг, поднимаемый на носу военного корабля 1–го и 2–го ранга, стоящего на якоре.
Дислокация — распределение судов по портам для постоянной стоянки или зимовки.
Диспозиция — расположение кораблей для стоянки на рейде или в гавани.
Док — осушаемый бассейн, в который вводятся суда для ремонта.
Дредноут — устаревшее название крупных боевых бронированных кораблей с мощной дальнобойной артиллерией, в настоящее время — линкор.
Задвижной штык — вид морского узла.
Зауряд-прапорщик — младший офицер, произведенный из нижних чинов.
Канонерская лодка, канонерка — корабль небольшого размера для действия у берегов и в реках, имеющий артиллерию среднего калибра.
Кондуктор — промежуточное звание между офицером и унтер- офицером в дореволюционном флоте.
Кильватер — строй кораблей, следующих друг за другом по прямой линии.
Клотик — кружок со шкивами на верхушке топ-мачты или флаг-штока, употребляется для подъема некоторых рангоутных деревьев и парусов.
Майна — команда, употребляющаяся при погрузке и становлении судна на якорь.
Марсовой — матрос, специалист по такелажным работам; на парусных судах — работающий на марсе (площадке на мачте).
Наводчик-комендор — матрос-артиллерист.
Натралбриг — начальник бригады траления.
Ординар — средняя за несколько лет высота воды на морях и реках.
Парапет — вал для защиты от неприятельских выстрелов.
Плутонг — группа орудий, имеющих одинаковый угол обстрела и объединенных в одном месте под командой одного начальника — плутонгового командира.
Полубак — часть палубы около носа корабля.
Полукрейсер — не употребляемое ныне название для обозначения крейсера с небольшим водоизмещением.
Рангоут — совокупность круглых деревянных или стальных трубчатых частей вооружения судна (мачты, стеньги, гафель, реи и пр.).
Рея — поперечное дерево у мачты, на которое подвешивается верхней кромкой парус.
Рифовый узел — вид морского узла.
Роба — одежда, платье. Чистая роба первого срока — одежда, надеваемая в торжественных случаях, при выходе на берег. Губить робу — продавать казенное обмундирование.
Семафор, семафорить — система переговоров на близком расстоянии при помощи ручных флажков или фонарей.
Спардек — навесная палуба, расположенная в середине судна.
Строп — большое кольцо из троса, концы которого связаны, им охватывается груз при подъеме талями.
Такелаж — общее наименование всех снастей на мачтах, стрелах и пр.
Тали — грузоподъемное приспособление, состоящее из двух блоков, соединенных между собой тросом.
Топографический крок — наскоро набросанный план местности, выражающий ее общий характер и выделяющий наиболее важные для преследуемой цели места.
Траверс — направление под прямым углом к курсу судна.
Траление — вылавливание и уничтожение мин.
Тральщик — военное судно небольших размеров, с небольшой осадкой, предназначенное для обнаружения и уничтожения мин заграждения.
Транспорт — вспомогательное судно, предназначенное для перевозки войск, всевозможных припасов, воды, угля для действующего флота.
Тротил — твердое кристаллическое вещество желтого цвета, обладает сильными взрывчатыми свойствами.
Удавка — вид морского узла.
Фалреп — трос, заменяющий поручни у входного трапа.
Фальшборт — продолжение борта корабля над палубой.
Фарватер — безопасный проход для судов, обозначенный специальными знаками.
Флаг-офицер — старший офицер, состоящий при адмирале, начальник штаба.
Фок-мачта — передняя мачта на судне.
Фортрал — передний трал, приспособление для вылавливания мин.
Форштевень — продолжение киля в передней оконечности судна.
Цейхгауз — военный вещевой склад.
Шканцы — часть верхней палубы от грот-мачты до бизань-мачты. В царском флоте — главное, почетное место на корабле.
Шкентель — короткая веревка на судне для подвешивания каких‑либо предметов.
Шлюпбалка — вращающаяся железная балка. Шлюпбалки устанавливаются попарно на борту корабля для подъема и спуска шлюпок.
Шпангоут — поперечное крепление корпуса корабля.
Штурманский офицер — помощник командира по вождению корабля в море. На обязанности его лежит определение местонахождения судна, прокладка пути на карте и т. п.
ПРИМЕЧАНИЯ
В настоящем двухтомнике «Сочинений» А. Г. Малышкина в первый том включены ранние дореволюционные рассказы 1913–1915 годов, повести «Падение Даира» (1921) и «Севастополь» (1931); во второй — рассказы и очерки послеоктябрьского периода (1922–1931) и роман «Люди из захолустья» (1938).
Основной принцип расположения материала внутри томов — хронологический. Большинство произведений печатается по текстам последних прижизненных авторизованных изданий. Рассказы и очерки, не переиздававшиеся при жизни писателя, даются по первопечатным журнальным текстам.
РАССКАЗЫ
Последний Барыков. — Опубликован в «Новом журнале для всех», 1913, № 12, декабрь.
Сутуловские святки. — Опубликован в журнале «Наша заря», Спб. 1914, № 1.
Полевой праздник. — Опубликован в журнале «Современный мир», 1914, № 4, апрель.
Гости. — Опубликован в журнале «Весь мир», 1915, № 10, март.
Качели. — Опубликован в журнале «Весь мир», 1915, № 25, июнь.
Уездная любовь. — Опубликован в «Свободном журнале», 1915, №№ 9—10, сентябрь — октябрь.
ПОВЕСТИ
Падение Даира. — Впервые опубликована в альманахе «Круг», 1923, № 1, датирована автором: «Таврия, 1920 — 21». Печатается по тексту книги: Александр Малышкин «Падение Даира». «Московское товарищество писателей», М., 1932.
В основу повести «Падение Даира» положен подлинный исторический материал — боевые действия советских войск против врангелевцев осенью 1920 года, в частности знаменитая Перекопско-Чонгарская операция 7—17 ноября, закончившаяся полным разгромом белогвардейцев и установлением в Крыму советской власти.
Занимая должность начальника Информационно-исторического отделения Оперативного управления штаба Шестой армии Южного фронта, которым командовал М. В. Фрунзе, Малышкин находился в курсе всех событий, происходивших на фронте, был очевидцем беспримерного героизма красных бойцов. Под живым впечатлением этих событий Малышкин сразу же после успешного завершения борьбы с Врангелем начинает работать над повестью «Падение Даира». Летом 1922 года, после перевода в Москву в Академию РККА, писатель читает свое произведение в литературных кружках «Звено», «Современник» и др. (См. газеты «Трудовая правда», Пенза, № 31 от 10 февраля 1923).
Реальная историческая подоснова сюжета «Падения Даира», его художественных образов обнаруживается при сравнении этой повести с документальным военно-историческим очерком Малышкина «Описание боевых действий 6-й армии по овладению Крымом», созданным почти одновременно с. повестью. В «громадном ромбе полуострова в горизонталях синего южного моря», обозначенного на карте штаба, «где сходились нити стотысячного», — угадываются Крымский полуостров и Черное море. Ромб «связан с материком узким двадцатипятиверстным в длину перешейком» — Перекопом и «еще одной тонкой нитью суши» — Чонгаром и Арабатской стрелкой. Описание перекопских укреплений, возведенных под руководством французских инженеров, почти дословно совпадает с описанием врангелевской обороны, сделанным М. В. Фрунзе в его статье «Памяти Перекопа и Чонгара». (См. М. В. Фрунзе. Избранные произведения, М., 1950, стр. 228). «Даирская скала» — это Турецкий вал, «кошмарная громада взорванного моста» — взорванный белыми Чонгарский мост. «N-я армия», штурмующая в повести Даирскую скалу, — условное обозначение Шестой армии, «Заволжская армия», ведущая наступление по «тонкой прерванной нити», — Четвертая армия, которая действительно до переброски ее на Южный фронт действовала против Колчака в степях Заволжья, «Конно-Партизанская армия», находящаяся во фронтовом резерве, — видимо, Вторая конная, двигавшаяся за Шестой армией в том же оперативном направлении.
С той же верностью историческим фактам переданы в повести подробности штурма Перекопа. Приказ командующего фронтом, приведенный в тексте «Падения Даира», в значительной степени повторяет в сжатом, концентрированном виде исторические директивные указания М. В. Фрунзе, данные им перед штурмом, в частности его приказ войскам Южного фронта № 0011/пш от 5 ноября 1920 года. Рассказ о переходе вброд Сиваша, о грозившем сорвать переправу приливе, о прорыве проволочных заграждений, описание боя на Юшуньских (в повести Эншуньских) укреплениях, отчаянная контратака на наступавшие красные дивизии находившегося в резерве белых отборного конного корпуса генерала Барбовича (в повести Оборовича) — все это вполне документально. Даже тот эпизод повести, который особенно часто служил поводом для упреков Малышкину в «поэтизации стихии»: «И если показывался дымок, деревня — сваливалось все в кучу, задние с лету шарахались на передних: начиналась дикая скачка на дымок, на околицу — с пиками наперевес, с криками „дае-о-ошь!“ В улицах, сразу пустеющих, сползали на скаку брюхами с лошадей, жгли наскоро костры, шарили по погребам, варили баранов, ели, рыскали за самогонкой, гоняли девок — и снова, вскочив на коней, относились, как ветром, в версты, в мерзлую пыль», — был основан на впечатлениях писателя от «действий» «повстанческой армии» Махно. По временному соглашению с советским правительством она была в то время в составе армий Южного фронта. Приказом М. В. Фрунзе она была передана в оперативное подчинение Шестой армии, и советскому командованию пришлось приложить немало усилий, чтобы прекратить бесчинства махновцев. Об этом сообщает, в частности, и сам Малышкин в своей военно-исторической работе и очерке «Перекоп» («Красная звезда», № 256 от 11 ноября 1924 г.).
Целый ряд эпизодов в повести воспроизводит картины жизни Даира. Хозяева белого Даира изображаются как скопище одиночек, чуждых друг другу. Писатель создает серию зарисовок бывших аристократов, спекулянтов, завсегдатаев кафе и ресторанов; нервозность, тревогу, заглушаемый истерическим весельем страх, чувства обреченности, злорадства, лютой ненависти к народу. Белый Даир обречен — он враждебен народу, и потому его сокрушит неумолимый «молот множеств». Весь арсенал изобразительных средств мобилизован для лучшей передачи этой мысли.
Никогда не отступая от исторической правды, Малышкин, как и всякий художник, отнюдь не старался быть только летописцем событий. Поэтому вполне оправданы в повести и некоторые нарушения хронологии, перестановка во времени отдельных исторических эпизодов (например, парад советских войск происходил не на исходных позициях перед Перекопом накануне штурма, как об этом говорится в повести, а тремя неделями раньше — после разгрома белых на Каховском плацдарме) и намеренное абстрагирование писателя от слишком конкретных имен, событий, широко известных фактов. Главное для него — уловить внутреннее содержание описываемых событий, их основную эмоцию. И это блестяще удалось Малышкину. Появление в печати «Падения Даира» было встречено большим числом критических статей и рецензий, авторы которых отмечали прежде всего героический пафос повести, ее значение для советской литературы, рекомендовали всячески популяризовать ее, сделать «достоянием всех красноармейских клубов и библиотек, как книгу, запечатлевшую славные традиции первого героического поколения Красной Армии» («Красная звезда», № 22(622) от 4 февраля 1926 г.).
«У каждого, кто хотя мало-мальски нюхал дым лагерных костров, от чтения этих насыщенных высоким пафосом страниц участится дыхание и загорятся хорошим блеском глаза, забьется не одно сердце, — писал рецензент „Правды“. — Автор хотел дать объективно-эпическую вещь о взятии Перекопа и Крыма, который назван в рассказе Даиром. Но разве можно писать объективно об этом участнику перекопских боев?..» («Правда», № 27 (3256) от 3 февраля 1926 г.).
После первой публикации в 1923 году повесть неоднократно переиздавалась. От издания к изданию автор совершенствовал ее текст, устраняя излишнюю вычурность стиля, стремясь к возможно большей простоте и выразительности.
Севастополь. — Первым отдельным изданием повесть вышла в ГИХЛе в 1931 году. Печатается по тексту книги: А. Малышкин «Севастополь». Гослитиздат, М., 1938.
Как и «Падение Даира», повесть «Севастополь» основана на конкретном историческом материале — событиях, совершавшихся в период между февралем и октябрем 1917 года в Севастополе на Черноморском флоте, где Малышкин служил в это время младшим офицером одного из судов бригады траления.
Замысел повести «Севастополь» созрел у Малышкина к концу 1925 года. Весь 1926 год Малышкин прилежно работал над изучением и собиранием материала. В архиве писателя сохранились хронологические выписки, сведения об отдельных исторических лицах и другие заготовки. В беседе с корреспондентом газеты «Литературный Ленинград» Малышкин сказал: «Когда я в 16-м (очевидно, описка автора. — Л. В.) году пришел на военный корабль, я уже печатался… И вот на корабле я с самого начала стал вести дневники, зная, что эпоха эта исторична и рано или поздно мне придется воспользоваться моими записками. Но использовал их я только через 13 лет» («Литературный Ленинград», № 46(68) от 8 сентября 1934 г.). Неизвестно, насколько достоверна эта запись — дневники Малышкина нигде не обнаружены, но здесь особенно интересно свидетельство о стремлении писателя как можно правдивее и точнее передать описываемую эпоху.
Изучая события памятной ему эпохи, Малышкин одновременно намечает и типаж повести, составляет списки действующих лиц, причем в этих списках фигурируют и такие персонажи, которые в окончательный вариант повести не вошли.
Закончив подготовительную работу, Малышкин приступил к написанию самой повести. Работа шла споро, и уже 23 января 1927 года он сообщал своей родственнице К. Н. Кузовковой: «Милая Клавдия Николаевна, простите, что не сразу отвечаю. У меня была бешеная работа (своя), я ее заканчиваю, не разгибаясь работал все праздники, работал новый год и неделю спустя. Это — первая часть моего романа. Теперь она закончена и уже сдана. Будет напечатана в 8-й книге „Красной нови“. Заглавие — „Февральский снег“.
Вот теперь только поднял голову, свободно вздохнул и дал себе отдых на месяц. Впереди еще колоссальная работа.: надо написать еще две части (пока еще не начатые). Думаю закончить к 1928 году. Видите, какие масштабы!
Очень уж много времени отнимает обыденная работа — и мало остается для сердца. А эта вещь — как будто вылилась из сердца. Прочитаете — увидите». (Центральный государственный архив литературы и искусства.)
Работа над «Севастополем» продолжилась не до 1928 года, как первоначально предполагал писатель, а до 1931-го.
Первая часть повести была опубликована как самостоятельное произведение под названием «Февральский снег». («Красная новь», 1927, № 3.) Остальные части печатались в журнале «Новый мир» (1929, №№ 1, 2, 3, 1930, №№ 11, 12).
Корреспонденту газеты «Литературный Ленинград» Малышкин говорил: «Я еще не научился писать просто, хотя все время стремлюсь к сложному искусству простоты… Иногда мне кажется, что кое-что из написанного мною до читателя не дойдет. Но нет, встречи с читателями, беседы с ними убеждают меня в том, что читатели понимают даже сложные замыслы автора, а вкус читателя поражает своей правильностью». («Литературный Ленинград», № 46 (68) от 8 сентября 1934 г.) Читатели повести правильно поняли замысел автора — показать героя-интеллигента, порвавшего с прошлым, идущего за народом и с народом. Малышкин хотел усилить этот момент, ввести в повествование ряд эпизодов, показывающих, как «вели» Шелехова народные массы. Первоначально концовка повести мыслилась писателю так: после избрания Шелехова командиром отряда он «выводит отряд в предгорья — к подступам. Во флоте паника и гнев… Не Шелехов ведет, а в сущности его ведет отряд. На Крымской дороге перехватывают автомобиль с белыми летчиками из морской авиации. Их приводят к Шелехову. Он должен решить. Он должен дать приказание — убить. Он знает, что этого хочет масса и что она без него все равно сделает по-своему. Но приказание все же должен отдать он. Обреченные стоят перед ним — из того, старого мира. Он приказывает… Отряд и с ним Шелехов — идет дальше — в калединские степи». (А. Малышкин. Рассказы. М., 1931, стр. 41).
Писатель отверг этот вариант концовки, так как он противоречил всей логике развития образа Шелехова. По этому варианту получалось, что увлекаемый революционным коллективом Шелехов не ощущает себя его членом, вынужден подлаживаться, слепо идти за ним и поэтому не чувствует себя счастливым. В действительности же, слившись с массой, став командиром матросского отряда, он обрел наконец подлинное счастье.
Появление повести было встречено многочисленными отзывами и рецензиями, большинство из которых носило благожелательный характер.
И только один из рапповских «деятелей», прикрывшийся псевдонимом «Н. Н.», в обзоре новых произведений, опубликованном в журнале «На литературном посту» (1929, № 3), безудержно расхваливая печатавшееся тогда начало романа А. Фадеева «Последний из удэге», противопоставил его повести «Севастополь». Рапповский критик утверждал, что Шелехов — «тип, показанный в нашей литературе уже не раз, менее интересен, чем Сережа из „Последнего из удэге“. А ведь Сережа в романе Фадеева, конечно, небольшая часть большого целого, в то время как Шелехов заполняет собой все полотно повести А. Малышкина» («На литературном посту», 1929, № 3, стр. 67–68). В этом утверждении проявилось обычное стремление рапповцев противопоставить творчество писателя-коммуниста творчеству писателя-беспартийного.
Именно так расценил эту попытку сам А. А. Фадеев, писавший в своем ответе на эту рецензию: «Нехорошо то, что рецензент нашел возможным противопоставлять (подчеркнуто здесь и дальше Фадеевым. — Л. В.) друг другу два литературных явления, действующих „по одну сторону баррикады“ в широком смысле. Неприлично то, что рецензент нашел возможным сделать такое противопоставление на основании первых глав того и другого произведения… Оставляя в стороне вопрос — кому нужно и кому интересно сравнение Шелехова с Сережей из „Последнего из удэге“, — необходимо сказать, что оценка автора рецензии несправедлива по существу. Неверно, будто тип Шелехова „показан в нашей литературе не раз“. Тем более неверно, что тип Шелехова „мало интересен“» («На литературном посту», 1929, № 6, стр. 13).
Фадеев чрезвычайно высоко оценивает мастерство Малышкина в «Севастополе». По его словам, «повесть эта глубока по замыслу и высокохудожественна по выполнению, а писать такие повести очень трудно…» (там же).
Правильность заключения Фадеева подтверждалась многочисленными откликами читателей.
Многие читатели, сами участвовавшие в событиях, воспроизведенных в повести, предлагали автору внести в книгу отдельные изменения и дополнения. Так, один из них, Биркингоф, сообщал о том, что он тоже с мая по сентябрь 1917 года жил в Севастополе, и все то, о чем писал в своей повести Малышкин, описано исключительно верно. Биркингоф делает ряд частных замечаний, имеющих целью утвердить «истину». Он пишет, например, что в повести «упоминаются „голубые“ миноносцы и среди них „Гаджибей“. „Гаджибей“ был не голубой, а цвета светлого хаки». «Странно, что не упоминается нигде „солдат Волынского полка“ Киселев — правая рука Колчака, без которого он на собрания не являлся (как тогда говорили, Киселев был студент)». (Архив Института мировой литературы им. А. М. Горького).
Эти и им подобные замечания отражали горячую заинтересованность читателей-друзей в работе писателя, говорили о их желании увидеть понравившееся им произведение еще более совершенным, свободным даже от мелких недостатков.
Вдохновленный успехом своей книги, Малышкин в 1933–1934 годах создает на сюжет повести «Севастополь» оригинальный киносценарий. В киносценарии Малышкин значительно больше, чем в повести, уделяет внимание образу большевика Зинченко. Он становится здесь одним из центральных персонажей. Мы видим его пропагандистом, просвещающим матросов, руководителем, ведущим за собой массу, борющимся за каждого человека, в том числе и за Шелехова. В киносценарии (в отличие от повести) рассказывается о гибели Зинченко в бою против калединцев; показано, как воспитанные им люди продолжают дело погибшего большевика. Лирична та сюжетная линия сценария, где писатель рассказывает о мужественной и трогательной любви Зинченко к портовой работнице Тане.
«Севастополь» должен был быть экранизирован одной из украинских киностудий. Но кинокартина по этому сценарию гак и не была создана; сам сценарий опубликован в книге: А. Малышкин. Рассказы, очерки, киносценарии. Пенза, 1950.
Стр. 185–166. Великий полководец в битве при Трафальгаре… — английский адмирал Горацио Нельсон (1758–1805). В битве при Трафальгаре (1805) английский флот под командованием Нельсона одержал крупную победу над франко-испанским флотом, в этом сражении Нельсон был смертельно ранен.
Стр. 170. Из офицерских трупов сложили гекатомбу. — Гекатомба — у древних греков жертвоприношение из ста быков, а позже — всякое большое жертвоприношение; в переносном смысле — массовое убийство или гибель множества людей.
Стр. 176. Бестужевские курсы — высшее женское учебное заведение в царской России, имевшее словесно-историческое и физико-математическое отделения. Было основано группой прогрессивных интеллигентов во главе с проф. А. Н. Бекетовым в Петербурге в 1878 году. Название получило по имени официального руководителя проф. К. Н. Бестужева-Рюмина. Окончание курсов давало право преподавать в средних женских учебных заведениях.
Стр. 179. Будущие Потебни… — А. А. Потебня (1835–1891) — русский и украинский ученый-филолог, профессор Харьковского университета. Известен рядом крупных трудов по языкознанию, русскому и украинскому языкам и фольклору.
…имен Тихонравова, Ореста Миллера, Веселовского, Барсова. — Речь идет об известных русских ученых-филологах. Н. С. Тихонравов (1832–1893) — профессор Московского университета, академик, редактор сочинений Н. В. Гоголя. О. Ф. Миллер (1833–1889) — профессор Петербургского университета, автор книги «Илья Муромец и богатырство киевское», сторонник «мифологического» направления в науке о фольклоре. А. Н. Веселовский (1838–1906) — академик, автор многих работ по фольклору, древней русской литературе, русской литературе начала XIX века, итальянской литературе. Е. В. Барсов (1836–1917) — собиратель и исследователь русского фольклора и древней русской литературы, автор капитальных трудов «Причитания Северного края» (записи текстов и обширные комментарии) и «Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси».
Стр. 284. …наверное, пошныривают еще потемкинцы, очаковцы и деловые ребята с «Императрицы Марии»… — Имеются в виду расстрелянные по приговору военно-полевого суда участники восстаний на броненосце «Потемкин» (14–24 июня 1905), на крейсере «Очаков» (ноябрь, 1905) и моряки, погибшие во время взрыва на дредноуте «Императрица Мария» в октябре 1916 года.
Стр. 323. Блябликов восхищался торжественностью похорон лейтенанта Шмидта… — Лейтенант П. П. Шмидт (1867–1906) в ноябре 1905 года возглавил восстание на крейсере «Очаков» и других судах Черноморского флота. После подавления восстания расстрелян в марте 1906 года вместе с матросами Антоненко, Гладковым и Частником на острове Березань. Летом 1917 года его прах был захоронен в Севастополе.
Стр. 440. Увидите наш «Фанкони»… Про «Гамбринуса» читали у Александра Ивановича Куприна? Про слепого Сашку-музыканта? — «Фанкони» — название кафе в Одессе. «Гамбринус» — название матросского кабачка, изображенного писателем А. И. Куприным в одноименном рассказе. Капитан Пачульский ошибается: еврей Сашка, центральный персонаж этого рассказа, не был слепым, в полицейском застенке ему искалечили руку.
Стр. 528. «Уходя, он взял с собой любимый томик Боэция…» — Аниций Боэций (480–524) — римский философ-идеалист, автор комментариев к сочинениям Аристотеля, трудов по математике, теории музыки и др. Казнен остготским королем Теодорихом, перед смертью в тюрьме написал проникнутый пессимистическими настроениями трактат «Об утешении философией», который, очевидно, и имеет в виду Шелехов.
Л. Вольпе
Примечания
1
Английский адмирал Горацио Нельсон (1758–1805). В битве при Трафальгаре (1805) английский флот под командованием Нельсона одержал крупную победу над франко-испанским флотом, в этом сражении Нельсон был смертельно ранен.
(обратно)2
Гекатомба — у древних греков жертвоприношение из ста быков, а позже — всякое большое жертвоприношение; в переносном смысле — массовое убийство или гибель множества людей.
(обратно)3
Бестужевские курсы — высшее женское учебное заведение в царской России, имевшее словесно-историческое и физико-математическое отделения. Было основано группой прогрессивных интеллигентов во главе с проф. А. Н. Бекетовым в Петербурге в 1878 году. Название получило по имени официального руководителя проф. К. Н. Бестужева-Рюмина. Окончание курсов давало право преподавать в средних женских учебных заведениях.
(обратно)4
А. А. Потебня (1835–1891) — русский и украинский ученый-филолог, профессор Харьковского университета. Известен рядом крупных трудов по языкознанию, русскому и украинскому языкам и фольклору.
(обратно)5
Речь идет об известных русских ученых-филологах. Н. С. Тихонравов (1832–1893) — профессор Московского университета, академик, редактор сочинений Н. В. Гоголя. О. Ф. Миллер (1833–1889) — профессор Петербургского университета, автор книги «Илья Муромец и богатырство киевское», сторонник «мифологического» направления в науке о фольклоре. А. Н. Веселовский (1838–1906) — академик, автор многих работ по фольклору, древней русской литературе, русской литературе начала XIX века, итальянской литературе. Е. В. Барсов (1836–1917) — собиратель и исследователь русского фольклора и древней русской литературы, автор капитальных трудов «Причитания Северного края» (записи текстов и обширные комментарии) и «Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси».
(обратно)6
Имеются в виду расстрелянные по приговору военно-полевого суда участники восстаний на броненосце «Потемкин» (14–24 июня 1905), на крейсере «Очаков» (ноябрь, 1905) и моряки, погибшие во время взрыва на дредноуте «Императрица Мария» в октябре 1916 года.
(обратно)7
Лейтенант П. П. Шмидт (1867–1906) в ноябре 1905 года возглавил восстание на крейсере «Очаков» и других судах Черноморского флота. После подавления восстания расстрелян в марте 1906 года вместе с матросами Антоненко, Гладковым и Частником на острове Березань. Летом 1917 года его прах был захоронен в Севастополе.
(обратно)8
«Фанкони» — название кафе в Одессе. «Гамбринус» — название матросского кабачка, изображенного писателем А. И. Куприным в одноименном рассказе. Капитан Пачульский ошибается: еврей Сашка, центральный персонаж этого рассказа, не был слепым, в полицейском застенке ему искалечили руку.
(обратно)9
Аниций Боэций (480–524) — римский философ-идеалист, автор комментариев к сочинениям Аристотеля, трудов по математике, теории музыки и др. Казнен остготским королем Теодорихом, перед смертью в тюрьме написал проникнутый пессимистическими настроениями трактат «Об утешении философией», который, очевидно, и имеет в виду Шелехов.
(обратно)
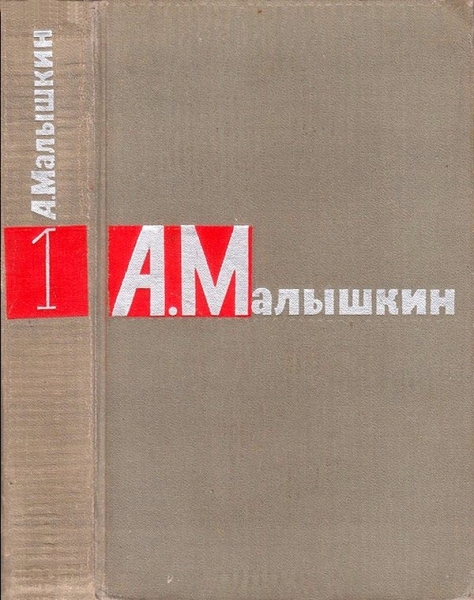
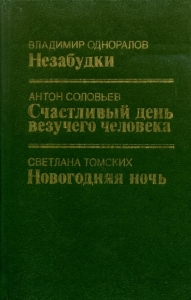



Комментарии к книге «Том 1», Александр Георгиевич Малышкин
Всего 0 комментариев