Дом на Северной
ЗЕЛЕНАЯ КРЫША
ГЛАВА I
Старик стоял в дверях, мокрый с головы до ног. Как-то так получилось, он отстал от поезда, на котором ехал в Москву, сел на попутку догонять, но его по ошибке привезли в райцентр Котелино, где автомашина сломалась; постучал к одним — его не пустили на ночлег, постучал к другим — то же самое; третьи, сжалившись, посоветовали не тратить времени даром и зайти к Катерине Зеленой, на Северную улицу. Старик всем твердил одно: отстал от поезда. Но через Котелино железная дорога ни в кои веки не проходила, и никто ему, конечно, не верил.
— Ой! — воскликнула Катя, замирая от испуга при виде больного, в лихорадке, старика в рваных, грязных калошах, в мокром пиджаке и в шляпе, поля которой тесемками завязаны под подбородком. — Ой, проходите! Где ж вас так намочило? Ой, дождь ведь льет! Ой, осень ведь! Сколько ж время? Полночь! А вы одни в такую непогодь, мамочки родненькие…
Иван Николаевич Курков недоверчиво молчал. Он уж отчаялся найти ночлег, его трясло от холода, а в голове непрерывной цепочкой прыгали слова: «Сгинул. Такое пережил, а в мирное время сгинул. Не пустит эта девка — пропаду». И слезы сами собой набегали на глаза — отчасти от злости на людей, отчасти оттого, что не попадал зуб на зуб.
Катя быстренько растопила уже остывшую печь, охая и причитая совсем по-старушечьи, согрела на загнетке кастрюлю воды и заставила ночного гостя опустить ноги в воду, сварила чугунок картошки, укрыла платком голову старика над чугунком, чтобы прокалить потом, накормила и напоила чаем, и хотя он чувствовал себя прескверно, все же успокоился наконец, но, пытаясь согреться и желая отвести душу, ругал на чем свет стоит здешних жителей.
— Ой, да не похоже на их, — отвечала Катя, подавая из ложечки круто заваренный чай старику, так как у него тряслись руки. — У нас же, поди, все люди как люди. Нелюдей не встречала. Оно же ночь — боятся.
— А человек, если разобраться, в гроб ступил левой и правой ногой. Левой потому, что к сердцу ближе.
— Ой, так ночь же! Боятся. А так что ж, люди — они всегда пустят, поделятся.
— Зна-аю! — Иван Николаевич Курков наподдал в голосе, чувствуя себя в полной безопасности. — Лю-юди! Если ты им нужен, они тебя на руках носят, из ложечки кормят и пятки греют и даже чешут, а нет — вон с глазу! Как соринку, выбросят и вслед плюнут! Зна-аю! Я человек культурного фронта! Столько пережил…
Катя, будто пытаясь искупить вину за всех людей, отказавших в ночлеге старику, постаралась ему угодить. Поняв, что девушка живет одна, старик очень про себя, однако, удивился, еще сильнее наподдал в голосе и разошелся так, что Катя испугалась, а не плохо ли с ним. По словам старика, насколько поняла она, выходило, что только благодаря ему наша страна — Россия и все республики вместе — удушила изверга Гитлера, выиграв тем самым самую кровопролитнейшую за всю историю человечества войну, а его, человека, безусловно выдающегося, не пустили переночевать обыкновеннейшие людишки, судьба коих была в его, Ивана Николаевича Куркова, руках. Катя успокаивала, как могла, сильно волновалась и до утра не могла заснуть. Ей после слов старика, его громкого голоса стало страшно; испугавшись, что действительно оно так и есть, как говорил обиженный старик, и про себя уже ругала людей, черствых, недалеких и этим самым жестоких, из-за которых мог умереть Иван Николаевич. Откуда у нее столь неожиданно взялась жалость к человеку совершенно незнакомому, говорившему в ту ночь бог знает что, она так и не поняла. Этот маленький старичок с реденькими волосенками на облысевшей голове заставил поверить своим словам и возмутиться. Она напоила, накормила старика, уложила спать на русскую печь, а сама то и дело вставала взглянуть, удобно ли ему, не нужно ли чего больному. И с этой минуты вся отдалась заботам о здоровье чужого ей человека. На работу уходила, тревожась и заботясь, чтобы ему было что поесть, попить. Когда он говорил, молча поддакивала, даже если в душе не соглашалась с ним, и резкость его в суждениях относила на счет старости и войны. Осень была холодная, и Катя купила Ивану Николаевичу меховую телогрейку. Купила у молодого парня, воровато рыскающего глазами по сторонам. И только потом, когда деньги были отданы, а она с покупкой заспешила домой, ей пришло в голову, что телогрейка ворованная. Кинулась обратно вернуть ее, но парень словно в воду канул. Катя зашла на овощной склад, где работала вот уже год приемщицей картофеля, посидела на холодном бурте, положив рядом телогрейку, брезгливо время от времени поглядывая на нее.
Сторож Деряблов, всегда питавший к Кате чувство уважения, просеменил неторопливо вдоль буртов и завернул к ней.
— Купила кота в мешке, Зеленая? — спросил он, взял в руки телогрейку и стал мять. — Не гнилушка. Не, добрая!
— Добрая-то, дедушка Федот, добрая, а вот купила-то я у нехорошего человека. Теперь вот жалость.
— У плохого человека?
— У плохого. Какая жалость! А ему, Ивану Николаевичу-то, не в чем ходить. А времь-то, времь-то вон какое уж студеное. Кашляет, дедушка Федот. И ночью и днем.
— Дед твой?
— Ага.
Деряблов сбросил свой полушубок, который носил в любую погоду, даже летом, надел телогрейку. Катя оглядела внимательно. Телогрейка как телогрейка — новая, обшитая черным ситцем. С чего взяла, что купила у вора?
— Сколь? — спросил хитро Деряблов, опуская в нерешительности руку в карман. При всей своей кажущейся бедности он в любое время имел у себя достаточную сумму денег, чтобы тут же купить хорошую вещь или при случае одолжить начальнику. Старик этот умел торговаться, и ему показалось, — да он и знал наверняка, — что Катя уступит телогрейку дешевле, нежели купила.
— Ай, не буду я продавать… Ай, разубедили вы меня… В чем мой Иван Николаевич станет ходить? Надо ж, такая холодина подступилась на нас.
— Хозяин барин. — Сторож стянул с себя телогрейку и кинул Кате.
* * *
Иван Николаевич принял телогрейку как должное, даже поморщился, надевая. Но все-таки растрогался: руки у него, как это всегда случалось с ним в минуту волнения, задрожали. Надел телогрейку и, увидев, что она будто специально сшита для него, сказал:
— Ну что, Катерина, мне в самый, как говорится, раз. Но я в долгу перед тобой не останусь. Не жди. У меня в Москве есть квартира, вот я доберусь туда, я сторицей отплачу тебе. Вот выздоровлю…
— Об чем вы, дядь Ваня? Ничего мне не надо. Вам же, больному человеку, холодно.
Часто Катя, глядя на кряхтевшего старика, находила удивительное сходство между ним и покойной своей матерью, втайне подумывала, что дядя Ваня не кто иной, как ее родной дедушка, по какой-то загадочной причине скрывающий свое родство. В эту минуту глаза у нее туманились от приятных мыслей, и она влюбленно глядела на старика, находя в нем все больше и больше общих черт с умершей матерью. Через какое-то время Иван Николаевич, разгадав отношение Кати к себе, вошел в роль, глядел на нее свысока, стал поучать, теперь его уверенный, густой голос раздавался то во дворе, то в сарае, то на огороде.
ГЛАВА II
Катя, удивительное дело, не ощущала свои года, не замечала в себе никаких перемен. Время тянулось, как казалось, медленно, в душе было тревожно, торопливее обычного стучало сердце. День проходил, наступал другой, третий… Катя часто глядела в зеркало на себя — с заострившимся лицом, худую, бледную, с голубыми глазами. Глядела и не могла понять себя… Жизнь вокруг менялась, но что изменилось в ней самой? Ее подруги Надя Королева и Лена Свекова собрались на стройку в Новосибирск, и она решила было уехать вместе с ними насовсем, да в недоброе, видать, время заболел Иван Николаевич… Катя не уехала, но главной причиной этого все-таки считала не болезнь дядя Вани, пролежавшего в постели всю зиму и весну, хотя и ее нельзя было сбрасывать со счета, а то, что пришлось бы оставить могилку матери.
Было лето, сильно грело солнце; степь дышала трудно и жарко. Катя, проводив подруг, торопливо направилась домой, чувствуя, как нахлынула на нее тоска одиночества, как защемило в горле. Через минуту она уже ничего не видела и не слышала, боясь, что вот здесь, посреди улицы, упадет и зарыдает. Домой она не зашла, заторопилась в степь.
«Господи, что ж такое?» — повторяла она, все убыстряя и убыстряя шаг, чувствуя, как с новой силой охватывает ее и опрокидывает щемящее чувство одиночества, напрасно ушедшей жизни, горькой утраты отца, матери, и она, задыхаясь, торопилась в степь, потом побежала, неожиданно завернула на кладбище и, упав возле могилки матери, зашлась в судорожном плаче, обняла могильный холмик. И только теперь поняла: не оттого ей тяжело и не оттого плачет, что подруги уехали, а плачет по матери, ушедшей из жизни тогда, когда она ей больше всего нужна. «Мамочка моя родная, да на кого ж ты меня оставила одну, сиротиночку, на всем белом свете несчастную? Да зачем же я одна живу на этом немилом свете? Да как же я буду без тебя тут?.. Да за что ж на меня такое наказание? Ой, мамочка, как мне без тебя здесь тяжко…»
Катя все забыла, теперь она жила одним горем и плакала, плакала… Потом замерла, словно прислушиваясь, села, повернувшись лицом к городу. Тихо было, ну ни один стебелек не шелохнется от ветерка; густо пахло моренной под солнцем зеленью, и далеко над степью стояло призрачное марево, и в ней самой тоже стало тихо, пусто и уныло, и только жаром зашлось в груди. Она вспомнила, как до войны с отцом ходила в степь, и как он нес ее на руках, и как она смеялась, и та, далекая жизнь нахлынула на нее столь явственно, что Катя не сдержалась и снова зарыдала. «Господи, что ж это такое?.. — повторяла она. — Что ж это такое?..»
— Доченька, родненькая, чего ж ты, миленькая, убиваешься? — спросил женский голос.
Катя, приподняв глаза, увидела старушку, которая держала за руку девочку лет пяти-шести.
— Так, бабушка. Тут у меня мама… лежит… — ответила Катя, встала, отряхнулась и, отворачиваясь, чтобы старушка не увидела ее заплаканного лица, направилась домой.
Старушка с девочкой пошли следом. Вне кладбища Катя подождала их, все еще не освободившись от нахлынувшего на нее, растерянно глядя себе под ноги и покусывая разбухшие, обмякшие губы, и в каждой былинке, в каждой метелке ковыля видя вопрошающий взгляд: «Что ж это такое?» Кате было тяжело, и она то и дело всхлипывала, вытирая слезы и отворачиваясь. Ее все порывало броситься на траву и зареветь, и оттого, что рядом шла старушка с девочкой, а вверху вовсю пели жаворонки, и солнце жаркими своими лучами горячило лицо, а вокруг столько было жизни и света, она успокоилась.
Старушка не торопилась. Она все понимала и молчала.
Мало-помалу Катя пришла в себя окончательно, грустно поглядела вокруг и спросила:
— Вы в Котелино?
— Туда, — ответила старушка. — Мы вот к Оленькиной маме ходили-то на могилку. — Старушка вздохнула и остановилась. — А у тебя там мама?
— Мама.
— Ма-а-ма-а… — протянула она тихо. — Ишо какое горе. А у нас там Оленькина мамочка, сношенька моя.
— А-а, — сказала Катя.
Ей вдруг стало легче. Она взяла девочку за руку, но та отдернула руку и прижалась к старушке.
— Не бойся, — сказала старушка. — Чего ты боишься? Не съест она тебя, миленькая ты моя.
— Я не кусаюсь, — улыбнулась Катя, теперь она совсем успокоилась. — Хочешь на закорках понесу?
Девочка еще сильнее прижалась к старухе, попросила ее нагнуться и что-то ей шепнула.
— Это на спинушке понесет, значит, миленькая ты моя, — сказала вслух старуха. Девочка опять заставила старуху нагнуться и что-то шепнула, закосившись на Катю. — Нет, не унесет, — ответила старуха, сняла свои парусиновые полуботинки и пошла по колкой траве босиком. Она осторожно ставила широкие плоские ступни ног на траву, напрягаясь при этом спиной и грудью, но все-таки уколола ногу и села на траву.
— Не хочу, — громко сказала девочка.
Катя тоже сняла туфли. Вначале было колко, потом привыкла. Она шла и шла, а старуха все сидела в траве, отдыхая. Ковылисто блестела степь; над далеким курганом кружил коршун, высматривая добычу. Катя оглянулась, села в траву, потом легла, прикрыв от солнца глаза ладошкой, смотрела сквозь пальцы в небо, ощущая телом молодую сухость земли, замирая, повернулась на живот и распласталась, стараясь плотнее прижаться к земле, в которой лежит ее мать, опустила голову и, вдыхая сухой земляной запах, вдруг ужаснулась: ведь по этой земле, возможно, именно по этим корневищам трав, по этой плотной серой массе, изборожденной корнями травинок, муравьиными тропками, ходили мать и отец, ходили живые, и вот уж нет их, а трава растет, а земля все та же, и будто ничто не изменилось в жизни… Катя прислушалась. В траве трещало, поскрипывало, да у нее в висках толклась кровь, да осторожно, тихо, будто прислушиваясь, ходило в груди сердце: туда-сюда, туда-сюда.
Подошли старуха с девочкой. Катя встала. Райгородок уже виден, этот старый городишко с разрушенной в центре, напротив райкома, церквушкой, колокольней, с высокой, кирпичной кладки водокачкой и в большинстве своем железными крышами, — чем, собственно, Котелино и отличался от таких же других райцентров.
— А ты де живешь? — спросила на окраине старуха, вытирая рукавом потное, красное лицо.
— Вот, видите, универмаг строят на месте раймага — там и живу. А вы?
— А мы с Оленькой как раз на другом конце, ишо там, может, знаешь, будет такая длинная, для солдат строили, здания с деревянной крышей, — вот мы там рядом и живем, по Чапаевской, дом двадцать.
— Я в гости приду к Оле.
— Приходи, милая, приходи. Уж радоньки будем. Вот как наткнешься на эту зданию, так с правой руки увидишь бо-ольшущий тополь и колодец с журавлем, колонки-то у нас еще нету, — вот мы там и рядом. Дом двадцать, чтоб тебе запомнить.
— Дом двадцать, Оленька? — спросила Катя.
— Дом двадцать ровно, милая. Как есть ровно двадцать, — ответила старуха, ласково глядя слезящимися от солнца глазами на Катю. — Живем мы одне. Никого более у нас нет… Моих сыночков обоих у эту войну… Одного в сорок втором, а второго опосля ее-то, в сорок пятом… в декабре. Мы с внучкой вдвоем. Ишо как были б рады тебе, милая. Хочь одна душа будет у нас близкая, и на том богу скажем спасибо. Все сродственники мои в селе Кондурино, а я тут перед войной незадолго объявилась. Мы дом купили, хотели продать да уехать, а никто не покупает. Кому он нужен? А перед войной дорого стоил. А на чужой хлеб ехать… Что ж, не великая сладость…
— Бабушка, домой идем, — захныкала девочка.
— Домой, миленькая, домой. А куда ж еще нам иттить?
Они вышли на проселок и побрели по пыли, чувствуя, как тепла пыль и как она приятно щекочет подошвы натруженных ног Катя оглянулась на кладбище. Над ним стояло струистое марево испарений, и над всей этой огромной, еще зеленой, с небольшими белыми переливами ковылистых островков степью висело рыжее крохотное солнце, и было столько простора вокруг, что Катя еще долго глядела на степь, чувствуя, как от волнения у нее влажнеют глаза.
— Вон мой дом, — сказала она старухе и показала рукой. Обе, девочка и старуха, разом поглядели туда.
— Вон самый большой, крыша у него зеленая. И кличут-то меня все Зеленая, — видать, из-за ее.
— Я вижу! — воскликнула девочка. — Вон и тополек.
Катя попрощалась и заспешила домой. Отойдя шагов двадцать, остановилась, долго глядела вслед. Старуха тяжело, валко ступала не гнущимися в коленках ногами. Катя медленно повернула к себе, но через несколько шагов снова остановилась, чувствуя, как ни с того ни с сего подступил к горлу комок…
«Чего я плачу? — спросила она у себя и поглядела вокруг, пытаясь освободиться от нахлынувшей на нее жалости. — Стою, гляжу на людей и плачу. Дура я большая. Вот дура. Небо — вон оно, и ни единого облачка, степь — вон она, простору на всех людей хватит, а дом мой — вон он».
Катя присела возле своего дома на лавке и стала наблюдать, как к строящемуся универмагу подъезжали машины с кирпичом, железобетонными плитами. Глядела на работающих на строительстве людей и думала, как хорошо, если бы у нее была доченька, маленький такой ребеночек. Вот она после работы идет, спешит домой, а навстречу ей торопится девочка маленькая, вся светится от радости. Катя размечталась и не заметила, как подошел Иван Николаевич и сел рядом.
У Ивана Николаевича была одна «загадка». Он часто подсаживался к ней, тихо, незаметно сидел рядом и молча, косясь глазом, глядел на нее. Молча и незаметно. Она ловила на себе взгляд и недоуменно поворачивалась к нему. Иван Николаевич некоторое время молчал, нагоняя на себя еще большую таинственность, и неожиданно спрашивал:
— Все о том думаешь?
Катя терялась и не знала, что и отвечать, полностью уверенная, что старик знает, о чем она только что тайно мечтала. Вот и сейчас он многозначительно усмехнулся себе в бороду, и его глаза радостно вспыхнули:
— Все о том думаешь?
— О том же, — растерянно ответила Катя, так и не привыкшая к его постоянному, но неожиданному вопросу. — Да и как же не думать, дядь Вань… Ой, а об чем еще и думать, если уж не помечтать о радостях? Сегодня, дядь Вань, встречаю старушку с ребеночком, со внученькой. Маленькая такая…
— Замуж желаешь? — спросил Иван Николаевич. Поерзал на лавке. — Дело, конечно, как знать, молодое. Я вон, да что со мной случится, я могу в Москву — раз! — и укатить, а тебе тут прозябать. Сейчас, конечно, я понимаю, что тебе я нужен, защита моя. Все же старик, а все же защита. Глядят люди, которые плохие, и думают: у нее старик дома!
— Ой, дядь Вань, разве я вас в чем обижаю или стесняю, разве ж я о вас не забочусь и не в уходе вы у меня? Что уж тут гневаться, дядь Вань. И никто меня замуж не возьмет. Где тут у нас мужика достать, а мне вон лет-то вон сколько…
— Ты еще молодая. Тебе сколько еще жить впереди. Который мужик понимает, так подумает. А мне что, мне уехать в Москву — там у меня родные, близкие, знакомых полно, аж и в Кремле работают. Там я видный человек, со мною считаются дай бог где, только говорить не велено где. Там я о производительных силах смогу поговорить, со мной — о-го-го, считаются!
— Ой, что вы, дядь Вань…
— Обычное дело. Москва есть Москва. Столица! Идешь по улице, из булочных вкуснятиной пахнет. Зайдешь, бывало, в ресторан, который получше, чтоб подороже все было, и тут тебе всякие-такие кушанья — картошка рассыпная, селедочка, мясо опять же, филе поджаренное, лучок зелененький, требуха маринованная, огурчики опять же маринованные, подливочка — боже упаси, чтобы без чистого сливочного масла. А водочка американская! Хлеб в Москве издревле славился. Нигде такого не было. А на стадионах что творится! Да, Москва всем городам нашим мать! Я, бывало, большой любитель до «Спартака», сидишь, а тебе тут же мороженого холодного, в трубочках вкусных хрустящие пирожные… Бог ты мой! Это ж разве такое бывает на белом свете! Жизнь, окаянная, что наделала! Ничего, Москва еще удивит людей, и еще я с ней встречусь где надо…
Иван Николаевич вытер повлажневшие глаза, подержался рукой за поясницу, пока не выпрямился, и направился на огород за огурцами. Он двигался медленно, осторожно прошел в калитку, постоял и побрел дальше.
Одна из машин, подвозившая рамы для универмага, прямо по пустырю направилась к Катиному дому. Остановилась недалеко от Кати. Шофер крикнул из машины:
— Воды дашь? Машину напоить надо!
— Берите, — ответила Катя и привстала.
Рядом с шофером в кабине сидел толстый, красный лицом пожилой мужчина. Он повернулся к шоферу и сказал громко, думая, что Катя из-за шума невыключенного мотора не слышит:
— Мосластая телка, жилистая.
— Мяса у тебя много, — засмеялся шофер, довольный своей шуткой, выскочил с резиновым ведром из машины и заторопился к колодцу во двор. По дороге он свернул направо к сараю и крикнул: — Что тут у тебя, красавица? Корова? Телка? Невеста ты богатая аль нет? Ну, что тут у тебя?
Шофер был мал ростом, черен лицом, ходить спокойно не умел, руки и голова его, словно на шарнирах, вертелись, поворачивались, что-то делали, говорил он быстро, громко; большие сапоги на нем бултыхали, шаркали. Мужчина производил на земле необычайно много шума. Был он как-то очень некрасив, и только глаза его — большие, голубые — необыкновенно выделялись на черном лице и нравились Кате. Он с грохотом опустил в колодец ведро, ворот ужасающе завращался, и ведро с глухим стуком шлепнулось на воду. В этот момент во дворе появился Иван Николаевич с большим огурцом в руке.
— Эй, малец! — крикнул он, направляясь к колодцу, и в голосе его слышалось неодобрение. — Ты что тут распоряжаешься?
— Воду набираю, — весело ответил шофер. Одной рукой он крутил ворот, а другую держал на отлете, готовясь подхватить ведро. — Как человек не может без птички, так машина без водички. Понял? Кондор! Она самый большой хищник в мире. Кондор, отец, понял?
Он плавно подхватил ведро с водой и, придерживая рукой и коленом, выцедил воду в резиновое ведро, заспешил к машине. Проходя мимо Ивана Николаевича, шофер выхватил у него из рук огурец, откусил здоровенный кусок, сунул огрызок обратно оторопевшему старику и показал большим пальцем:
— Кондор! Во!
— На́ и остальное. Зачем ты мне огрызок оставил?.. На!
— Не, папань, я не лихоимец какой и не какой там тать, оставил и тебе. Правильно говорю, красавица? — повернулся он к Кате и подмигнул, так скривившись, что она рассмеялась.
Шофер залил воду в радиатор, поковырялся в моторе и уехал. Он даже не попрощался, не взглянул на Катю, и это показалось ей очень обидным.
— Каков, а? — спросил Иван Николаевич, негодуя. — Каков, а? Незваный гость хуже татарина! Приехал, откусил огурец — и махнул себе на машине! Деревня! Вот там бы ему обломали рога, да еще пинком под зад наглецу наподдали. Т а м — это не здесь!
— Да ладно, дядь Вань, — ответила Катя, глядя вслед подскакивающей на неровностях пустыря машине.
— Нет, не ладно! — повысил голос Иван Николаевич, подойдя вплотную к Кате, поглядел на огурец, который еще держал в руке, отбросил подальше, сплюнул и довольно сказал: — Вот нахалюга!
После этого Иван Николаевич долго ходил по двору, победно поглядывая по сторонам, поглаживая бороду и всем своим видом показывая, что, появись опять этот шофер, он ему устроит такой разнос, какого давно здесь не видывали.
…Шофер приехал на следующий день, в воскресенье. Иван Николаевич, как нарочно, опять собирался осматривать огурцы. Катя кормила кур, овец. В кабине машины сидел все тот же мужчина с красным лицом и что-то говорил шоферу. Катя услышала шум, вышла из сарая и села на лавку. Шофер, завидев Катю, выскочил из машины и сел рядом. И непонятно было, то ли он усмехается, то ли собирается сказать что-то интересное.
— Сидишь? — спросил. Катя не ответила. Она не знала, что нужно говорить в данный момент, и отвернула от него лицо. — Сидя счастье не высидишь.
— А что я, бегать буду? — спросила Катя и вдруг рассмеялась, сама не зная почему, вдруг ей стало смешно. Она поглядела на шофера и прыснула. — Ой, какой ты чумазый! Точно негр.
— А ты в Африке была? Негра видела?
— Кого?
— Негра.
— А зачем же я его должна видеть? Ой, смешной ты, честное слово! Зачем мне негр?
Шофер подвинулся к ней ближе и дотронулся до ее руки. Катя отдернула руку, вскочила и тут увидела Ивана Николаевича, торопливо шедшего по двору.
— Пятна-то нету? — спросил шофер и засмеялся. — Пятна-то нету? Погляди на свою руку. Вот дотронулся… — Он еще раз дотронулся до Катиной руки. — Смотри, нету пятна. Папаша, — обратился он к подошедшему Ивану Николаевичу, по воинственному виду которого можно было заключить, что он собирается отчитать шофера за прошлое, — пятна нету на руке.
— Какого еще пятна? — угрожающе спросил Иван Николаевич.
— Да он ведь, дядь Вань, говорит… — начала было Катя.
— Постой, Катерина, — хмуро остановил ее Иван Николаевич, подошел вплотную к шоферу (они оказались одного роста) и строго сказал: — Нет. Нет. Нет. Садись.
Шофер покорно сел.
— Говори, — приказал Иван Николаевич и показал привставшей Кате на скамейку. Катя послушно присела, удивляясь тону старика и заходясь неудержимым внутренним смехом. — Теперь, шаромыга, можешь говорить.
— Чего говорить? — спросил шофер и удивленно уставился на старика. — Чего говорить? Говори… говори… А я на слова наложил вето. А что говорить? Говорить нечего, товарищ Робеспьер! И мы не на профсоюзное собрании, дорогой папаша. Чего говорить?
— Как чего? — удивился Иван Николаевич и даже на носки ботинок приподнялся от великого изумления. — Говорить нечего тебе? Ах, вон как?! Издеваться вздумал! Только мне заливал о пятне на солнце, а теперь ему и сказать нечего. Что значит врать любит: только говорил о пятне…
— На каком солнце? — привстал шофер. — Что ты мелешь, старый пенек?
— А это тебе не светило? — Иван Николаевич повысил голос, пальцем ткнул в небо, и в это время до него, видимо, дошло, что шофер обозвал его пеньком, и он на полуслове осекся.
— Фу-ты ну-ты! — Шофер отошел к машине, потом вернулся и, улыбаясь мягкой, приятной улыбкой, сел на скамейку. — Завел тут про пятна, а сам не понимает, о чем мы говорим. Хоть бы спросил: а как тебя, человек с большой буквы, звать-то, величать? Он сразу про пятна. Есть такой паук-птицеед, длина его десять сантиметров… Слыхал? — Шофер направился к машине и не попрощавшись, как и в прошлый раз, уехал.
Катя рассмеялась. Иван Николаевич с недоумением поглядел вслед машине, сплюнул, собираясь на огород осматривать огурцы. Катя долго не могла успокоиться. Ее смешили и шофер, и дядя Ваня, во всем в этот день она видела смешное, веселое.
— Ой, Катерина ты Зеленая, — сказал Иван Николаевич, — не ко добру смеешься. Не ко добру.
— Что, дядь Вань, мне уж и смеяться заказано? Ой, будь лихо, дядь Вань, остановиться не могу.
— Не нравится мне этот архаровец, Катерина, не нравится мне этот субчик, — сокрушенно помотал головой старик. — Нет. Нет. Нет.
Он вспоминал о нем и вечером, за ужином, и опять сокрушенно мотал головой.
Катя как только легла, сразу все забыла и тут же заснула, но ночью проснулась, и долго не могла уснуть. Ей все мерещился этот шофер, его голос, и она не могла себя понять, находила что-то необыкновенное в нем, это необыкновенное влекло и пугало. Ну разве может понравиться парень, который ростом ниже девушки? Он ей не нравится совсем. Она не могла даже приблизительно сказать, сколько ему лет. Такие, как он, и в пятьдесят словно в двадцать. Катя терялась от каких-то неясных своих мыслей и чувствовала, что наверняка это неспроста. В том как он выскочил из машины, как торопился с ведром к колодцу, как откусил огурец — во всем этом она находила смешное, виделся человек легкомысленный в поступках, а следовательно, и в жизни, и такому человеку, думала она, довериться нельзя. Разве мог ей понравиться легкомысленный человек?
Иван Николаевич, несмотря на свои старческие годы, всегда спал, словно дитя, но в эту ночь он неожиданно проснулся и спросил:
— Катерина, ты не спишь?
Катя не ответила, притворившись спящей. Утром она сготовила старику обед и ушла на работу.
Весь день ей было легко и весело. На овощной базе шла подготовка к приему овощей, и все рабочие сколачивали привезенные из магазина ящики.
После обеда экспедитор райисполкома Гаршиков, молодой неженатый парень, привез машину тары и стоял, щурясь на солнце, глядел, как рабочие сгружали разбитые ящики.
— Скорей, бабоньки, — говорил он вяло.
Сторож Деряблов подошел к парню, свернул цигарку, сказал:
— Наше вам. Все шуткуешь, парень? Все котуешь?
— Все котую, — весело согласился парень. — Наше время, Федотыч. Гляди, вон сколько их, и каждая, учти и намотай себе на лохматый хвост, бабонька. Ты, Федотыч, накрути на хвост мою остроумную философию: я парень, а не курица на яйцах, не сижу и цыплят не высиживаю — это раз. А потом что? Потом армию отбарабанил — и водительскую корочку раз в карман! Так? Так. Я никакой не кривой, не рябой, а довольно крепкий и здоровый. Кругом ходют девки… Гляди, вон, вон, вот и дальше, за забором, и в каждом доме, ходют тихо и на меня смотрят. Каждая девка — это не что иное, как девка. Согласен? У всех есть ноги, руки, и разное, и еще кое-что. А психологию знаешь, Федотыч, их, девок? Э, нет-нет, не знаешь. Дожил, Федотыч, до кромешной черты, а таких понятий в головушке не выработал. Некрасиво живешь, Федотыч. Хоть ты и Федот, а все ж не тот. Не учен ты.
— Ну и собака ты, Пашка! — восторгнулся сторож, снял старую военную фуражку, которую носил уж лет пятнадцать, поскреб лысину, поглядел на раскаленное солнце и опять уставился с любопытством на парня.
— Так вот, Федотыч, усеки главное: когда я стою с девкой рядом, она как Хиросима после атомной бомбы — плавится и обнажается до сокровенного.
— Ах ты собака! — повторял сторож время от времени, вытирая мокрую от пота шею.
— Усек, Федотыч? Перпендикулярное мышление лучше горизонтального! Как говорят лучшие асы вождения, крути баранку влево, а то угодишь вправо.
— Ах ты собака! Ах ты собака! — зашелся в смехе старик. — Вот пройдет время, покотуешь, а потом куда денешься? Погляди, баб-то скольки, а все молодые, ядреные. Чего ж лучше-то? Дурак ты дураком, собака такая. Вон Марька, гляди. А Нинка? Соловьева — ладно. А Зеленая?
— Худа, как сухая жердина. Глаза как у ярочки — глупые. Только сине-зеленые.
— Собака тебя съешь, глаза голубые, задумчивые, говорят. Эх ты, собака тебя съешь. Был бы ухоженный да укормленный, как сыр в масле катался.
— Чего зарядил — собака, собака… Слов других нету? А человек мыслит словами, не читал философию? — обиделся Гаршиков и отошел в сторону, а старик стал помогать бабам, все усмехаясь про себя и покачивая головой.
Вскоре закончили разгрузку. Гаршиков уехал. Рабочие сели обедать. Катя ушла в сушильню, потом вернулась. У нее разболелась голова. Она все ходила, не зная, что делать.
— Катя Зеленая, садись, — сказал Федотыч.
Катя нагнулась подобрать упавшую гребенку, неожиданно почувствовав, как стянуло горло, и, не сумев сдержать слезы, зажала лицо руками и убежала в сушильню, уткнулась в угол и заревела. Она краем уха слышала весь разговор Гаршикова с Федотычем и, уловив на себе презрительный взгляд парня, все поняла. От стыда не знала, куда деваться, всю ее затрясло, как в ознобе. Ей подумалось, что несчастнее ее нет в Котелине, и спустя минуту, на кого бы она ни взглядывала, ей казалось, что все ее чураются, осуждают за несчастливость, презрительно глядят на нее.
«Господи, за что ж это мне? — повторяла она, зажимая рот. — Никому ничего плохого не сделала. За что же?»
Катя не заметила, как рядом опустился на корточки сторож и долго сидел молча. Когда она немного успокоилась, Федотыч, догадавшись сразу обо всем, еще некоторое время молчал, потом хмуро сказал, нарочито огрубляя свой тонкий голос, чтобы неожиданно не сбиться на слезливый тон:
— Вот как получается, Зеленая, в жизни-то — один сверху глядит, а другой снизу, а третий вовнутрь глядит, а правый-то бывает один — тот, который вовнутрь глядит. Этот Пашка, я тебе балакаю, собака его съешь самая вонючая, ему-то повезло, на войне не был, молод был. Ребят-то поубивало. Степу тридцатого июня сорок четвертого года убило. Вот он форсит, напускает туману ядовитого, а я тебе скажу вот так: я бы для своего Степы лучше, чем ты, не пожелал бы, поняла меня?
Он встал, у него свело скулы, и он, чтобы не расплакаться вместе с Катей, торопливо направился на улицу, под солнце, оглянулся в дверях на нее, а она уставилась ему вслед, все еще плача, но уже и ощущая внутри себя что-то легкое, светлое.
Дома она не могла усидеть на месте. Иван Николаевич, проголодавшийся, но по своему железному правилу ни за что не бравшийся, пока не придет Катя, с тревогой наблюдал за ней. А она то напевала мелодию какой-то песни, то вдруг смолкала и задумчиво глядела в угол, готовая вот-вот заплакать от малейшей обиды. Ночью Кате в постели было жарко, и она трогала руками свое тело, удивляясь, что руки у нее так холодны, а тело так горячо. В полночь, так и не заснув, встала, посидела чуть на кровати и, быстренько надев платье, направилась в степь.
Луна висела огромная и низкая, и там, вдалеке, неясная тень лежала и, казалось, шевелилось что-то вдали, двигалось, и Катя, завороженно глядя на тень, шла и шла к тени, осторожно ступая на сухую, холодную траву, обжигаясь ее холодностью и ничего не ощущая ни в себе, ни вокруг, будто ноги и руки, каждая часть ее тела жили сами по себе, своей тайной и явной жизнью. Луна висела белая. Но свет ее на земле был темен, у самой земли ничего нельзя было увидеть, и казалось поэтому, что по степи бродит тень, и все от этого было полно таинственности и манило душу своей загадкой. А Катя шла и шла. Куда торопилась? Какою-то неясною силою влекло ее в степь, к тем вон теням, бродившим по степи, к тому вон кургану, неизвестно когда и откуда взявшемуся недалеко от Котелина. Тихо было вокруг, а небо дрожало низкими звездами, сумеречное небо, и только по-над самой обозначившейся тенью кургана висела желтенькая сиротская звездочка.
Катя взобралась на курган, села и замерла, глядя на Котелино. Его не было видно, но там, где находился городок, лежала тень вполнеба, и эта тень тянулась бесконечно, сходилась с другими тенями, с дорогами, степью и небом, и была будто одно, все жило само по себе и в то же время было едино, и в середине этого одиноко висела луна и доверчиво глядела на Катю. Недалеко в степи кричал перепел: «Пьить да пьить! Пьить да пьить!» Значит, она не одна, значит, совсем рядом кричит еще одно живое существо, и в степи, под неверным светом луны, голос перепела казался удивительно чистым, человеческим. Чуть погодя заверещали кузнечики, нагоняя дремучие, загадочные мысли. А вот и подул ветерок, стало зябко, но ей не хотелось уходить. Она сидела и, закрыв глаза, слушала, как кричит перепел, как завораживающе играют кузнечики… Потом Катя встала, услышав шум, оглянулась и замерла. По ту сторону кургана зловеще дымилось небо, длинные языки багряными полосами ложились на полыхнувшую от них степь. Степь горела! Огонь торопился подобраться к кургану, а впереди огня, на кончиках пляшущих багровых языков, испуганно, оскалив пасти, что было сил пласталась в бешеном намете большая стая волков. Под багровым светом пасти волков, казалось, сочились кровью. Катя в ужасе застыла на месте, затем сорвалась и что было мочи бросилась с кургана. Что делать? До города далеко. Как спастись? Катя не чувствовала под ногами землю. Середина волчьей стаи стала отставать, а края, которые образовывали самые огромные длинные языки, словно кровяные мочала, мотались из стороны в сторону, наддали ходу, пытаясь замкнуть Катю в кольцо. Она молча опустилась на землю и протянула руки к небу, на котором стояла большая спокойная луна…
А волки все ближе и ближе, вот коснулись ее…
Катя проснулась, вся дрожа от пережитого во сне, от холода. Луна, побледнев, низко висела над землей, а на востоке уже заалели первые облака от всходившего, но еще невидимого солнца. Воздух посерел, задвигался, стали видны метелки ковыля, уже уловившие первые волны восточного света. И свежий ветерок дохнул над прохладной степью, выгоняя из низин и трав, из мелкого кустарника тени; дохнул — и зашевелились ковыль и кустарники. Катя заспешила домой, оглядываясь на зарю, стремительно развертывающую белый клубок яркого света, на ожившую степь, которая, несмотря на свое однообразие, зашевелилась, заблестела, задвигалась, очищаясь от теней, исходя легкими испарениями.
ГЛАВА III
Утром Катя выгнала пастись овец, накормила кур и, посидев некоторое время перед сараем на солнышке, сготовила обед старику и ушла на работу. Было рано. Городок еще спал, но кое-где уж дымились трубы, да пропылили два молоковоза из соседних сел, видать, со вчерашним молоком. А так было тихо, тяжелый, мокрый воздух низко покоился над землей, исходя прохладой, от которой зябли ноги; на обочине и под заборами, в тени, стояла мокрая трава, роняя росу; багровая волна от огромного красного солнца медленно заливала городок, окрашивая крыши домов и сараев, заборы и воздух в розовый цвет.
Она шла медленно, зная, что еще рано, до начала работы далеко. Но ей хотелось побродить одной. В голове стоял тихий, легкий звон — то ли от розового утра, то ли еще от чего. Кате было легко и приятно, и какая-то щекочущая мысль не давала ей покоя. Пройдя городок из конца в конец, вернулась к своему дому и в это время услышала шум грузовика, подъезжавшего к строящемуся универмагу.
Она села на лавку, посидела так с минуту и медленно направилась к грузовику через пустырь. Здание универмага уже было готово, только внутри велась отделка, белили стены и потолки, настилали пол; громоздились груды кирпича, разбитые стекла; сильно пахло сосновыми досками и краской.
Катя думала: «Пройду мимо, посмотрю вскользь, и ничего мне от него не нужно». Но возле машины сидел другой шофер, не тот, который приезжал. И Катя даже растерялась. Она была уверена, что встретит веселого шофера. А этот был высокий, долговязый, в солдатской форме, только без погон, с веснушчатым лицом. Катя осмотрела универмаг, строящееся общежитие, гараж. На работу она пришла последней. Нина Лыкова, работавшая с Катей всегда на пару, молча посмотрела на нее и что-то шепнула Марьке Репиной. Та тоже посмотрела на Катю и спросила:
— Катька, с чего ты такая бледная?
Катя не ответила, а только повела глазами в ее сторону.
— Катька, тебя спрашиваю: с чего такая бледная?
— Сметаной умывалась, — ответила Катя. — Сейчас велено всем комсомолкам сметаной умываться.
— Скажешь! — обиделась горячая Марька. — У нее как у человека, а она, вишь, издеваться, дуреха, взялась…
— Да молчи ты, Марька, — оборвала ее Нина, обняла Катю за плечи и вместе с ней села на ящик из-под огурцов. — Слюбилась, Катюша? С кем, скажешь? Не спала всю ночь? Ну, скажи мне, Катюша, миленькая, скажи. Скажешь? Ей-богу, я тебе тоже все про себя расскажу. А? Согласная?
— Ничего не случилось.
— Ой, Катька, врешь!
Катя молча принялась за дело: нужно было опять сколачивать старые ящики, приводить их в порядок. Взяла молоток, гвозди. Ей, как и раньше, чудилось, что что-то должно произойти. Она стала думать о шофере, который откусил у Ивана Николаевича огурец, и чем больше думала, тем все с большим интересом вспоминала его. И в том, как он сидел рядом с ней на лавке, как кончиком пальца дотрагивался до ее локтя, было что-то, что вызывало в ней ласковое, нежное чувство. Конечно же он ее называл «красавицей», смотрел пытливо, и не было в его голосе того презрения.
После обеда на работу пришел Федотыч с перевязанной головой, сел на ящик и, сняв сапоги, размотал портянки, развесил их сушить на заборе, выставил свои белые худые ноги солнцу и, прикрыв фуражкой глаза, спросил у Кати, севшей рядом:
— Опомнилась?
— Чего опомнилась, Федот Никитич?
— А ну, ладно, Катерина Зеленая. Ты, Катя, — сказал старик не шелохнувшись, разомлев от благодатной жары, — собака Пашку поганая загрызи… плюнь на его.
Катя все поняла, замолчала. Она была благодарна старику, что он не стал продолжать разговор, что и он, переживший горе, так хорошо и полно понял Катю. Она почувствовала к нему, доброму, отзывчивому старику, такую признательность и полюбила бы его, как родного отца, пожелай он того. И вечером, сидя на комсомольском собрании, она никого не слушала, в ней словно находился кто-то живой, подталкивающий сделать еще один, более значительный и решительный шаг и объявить Деряблову это чувство ее признательности.
Секретарь комсомольской организации Нина Лыкова что-то говорила о поездке в колхоз на бахчи, называла чьи-то имена, но Катя ничего не понимала.
А через неделю рабочие овощной базы уехали в подшефный колхоз на машине. Все сидели в кузове, кроме Марьки, у которой от ветра разболелась голова. Старик Деряблов, собравшийся стать поваром, молча примостился в углу; воздух упругими струями обтекал торопящуюся машину. Катя подсела к старику и тихонько спросила:
— Федот Никитич, вы не заболели? Вон как трясет.
— Не заболел, Зеленая ты Катя, — не открывая глаз, многозначительно сказал Деряблов. — Нет, не заболел.
— Федот Никитич, а вы разве один живете? — спросила снова Катя.
Старик помолчал, медленно открыл глаза, и Катя увидела, что глаза у него в слезах.
— Один, Катя Зеленая. Не береди душу, Катенька.
— Ой, Федот Никитич, да чего вы? Да я вовсе и не думала вас бередить, честное слово. А я только хотела сказать: а не хотите вы ко мне перебраться? Все ж кто вас обстирает да накормит? Да и у меня на душе будет спокойнее за вас. Честное слово.
— Нет, Катенька ты Зеленая, не пойду. Уж буду коротать век в своем доме, я старик-то кряжистый. В том доме жил сын, моя старуха. Как же я брошу? У тебя уж есть Иван, хватит тебе заботы на него. Я как старуху схоронил, Катя, как потерял сына, так теперь буду, собака ты, моя жизнь, память об них иметь. А что памяти лучше, Катя ты Зеленая, как не свой дом?
Катя ничего не ответила. Она подумала, что у нее точно такие же были мысли, когда собиралась с подругами в город навсегда, и что эти вот мысли удержали ее. Нет, она не могла поступить иначе. Где бы ни был человек, куда бы ни стремился, но разве уйдешь от прежней жизни! У человека нет прежней, нет будущей, есть одна, просто единая жизнь. Год ли прожил, век ли — не в этом дело. Разница небольшая.
Стремительно неслась машина, и степь, уже местами пожелтевшая от сухого летнего солнца, будто вертелась и невидимым полотном навертывалась на Катю, и от быстро вращающейся степи, упругого воздуха и чистого неба у Кати кружилась голова, и она, сама не зная, откуда у нее взялись слова, потому что никогда не пела этой песни, запела:
Пчелочка золотая, что же ты не жужжишь, жужжишь? Ой, жаль, жалко мне, что ж ты не жужжишь?Пела она тихо, ее никто не слыхал. Кроме старика Деряблова. У Кати самой от этой песни что-то внутри натягивалось, какая-то тоненькая жилка трепетала, замирая от грустного мотива…
Ой, жаль, жалко мне, что ж ты не жужжишь?Катя помолчала, переживая пропетое, отвернулась, положила руки на борт кузова и уже не пела, а вела этот тоненький, словно ниточка, мотив внутри себя.
Она и не заметила, как приехали. Старик Деряблов окликнул ее. Она спрыгнула с машины, все еще поглощенная мелодией, присела в сторонке на траву и все хотела вспомнить, где и когда услышала впервые эту песенку. И вспомнила: ее пела мать.
И сколько они ни работали в колхозе, ее всюду преследовал этот мотив. Катя, как и все, приехавшие работать у шефов, трудилась с утра до вечера: собирали огурцы на бахчах, таскали тяжелые корзины с огурцами на край поля и там переваливали их в ящики, которые складывали в штабеля, готовя их для погрузки на машины. После работы, вечером, молча шла вместе с подругами, молча разоблачалась и, искупавшись, не проронив ни слова, возвращалась в палатку, где спала их бригада. Деряблов весь день крутился возле двух огромных казанов, тут же, на бахчах, варил супы и каши, обильно кормил проголодавшихся девчат, часто во время обеда или ужина подсаживался к Кате и спрашивал:
— Тяжело, Катерина Зеленая?
— Ой, что вы, Федот Никитич! Очень даже легко. За весь день так умаешься, что аж ложку лень ко рту несть. Ей-богу, кушать не хочется.
— Ну, такое дело не хитрое — умаяться. Огурцов, главное дело, сколько! Погляди, цельный денечек двенадцать человек идут по полю, а конца и края не видать.
— Ой, не видать, — соглашалась Катя. — Ой, как там Иван Николаевич? Ему-то некому поесть сготовить.
— Не пропадет твой Иван Николаевич. Куда старый деется?
— Ой, не говорите, Федот Никитич! Он, как вам сказать, он как ребенок маленький. Целый день меня нет, а он и сварить-то не сварит. Сидит, ждет. Уж такое у всех мужиков.
— Уж такой он мужик, такой, что и зола сыпется. Прогорел этот твой мужик, Иван Николаевич, еле-еле тлеет. Жизни-то в нем с наперсток.
— Я в том самом смысле, Федот Никитич, что все одно он ничего не понимает по хозяйству. Вот мое сердце, Федот Никитич, и болит про него. Не с кем и передать, что все хорошо, чтоб и он-то не беспокоился.
— Черта лысого он тебе убеспокоится, — сердито отвечал, отворачиваясь, Федот Никитич, и в его голосе слышалась зависть к тому совсем неизвестному, чужому человеку, о котором вот эта молодая баба постоянно думает.
Катя после разговора с Дерябловым уходила на небольшой холмик, возвышавшийся среди бахчей, и сидела там долго, слушая, как девчата поют, смеются, глядела на темное звездное небо, обостренно вслушиваясь в ночные шорохи. Она слышала, как в кустиках возится пичужка, как квакают на озере лягушки и как шуршит там камыш, как какая-то птица, бесшумно махая крыльями, пролетела рядом, невидимая в темноте, обдав ее волной прохладного воздуха, слушала и не могла понять себя, у нее от каждого шороха усиленно билось сердце, и казалось, что в каждом шорохе участвует она, Катя, каждый шорох — это она сама, и в каждой маленькой былиночке тоже будто была она сама, жила ею, этой маленькой жизнью травиночки. Кате думалось в такие минуты, что сама она истончалась до предела, становилась вон той тоненькой колеблемой ветром былинкой, и у нее тихонько, помимо ее воли, всплывала в душе мелодия, тоненько звенела на самой последней ноте:
Пчелочка золотая, что же ты не жужжишь, жужжишь? Ой, жаль, жалко мне, что ж ты не жужжишь?ГЛАВА IV
Еще издали Катя увидела Ивана Николаевича, стоящего у калитки. Зашлось сердце, и она, не выдержав, побежала: так ей было радостно. Но Иван Николаевич, завидев ее, скрылся в доме. Когда Катя появилась на пороге, он стоял в скорбно-задумчивой позе на середине комнаты над чемоданом, держал в руках новую — в полоску — рубашку, купленную Катей весной, и даже не взглянул на Катю.
— Дядь Вань! — радостно воскликнула Катя и бросилась ему на шею, ни о чем дурном не подумав при виде старика, стоявшего над раскрытым чемоданом.
Иван Николаевич холодно отстранил ее.
— Я собираюсь.
— Куда? — замерла Катя и только теперь догадалась, что неспроста ведь Иван Николаевич стоит над раскрытым чемоданом и складывает вещи туда тоже неспроста.
— В Москву, Катерина, в Москву. Нет. Нет. Нет. Надоело мне тут. Мне, человеку далеко уже не первой молодости. Надо уезжать туда, где я жил раньше, где меня глубоко уважали и считались со мной, да еще как считались! Что ж я тут, у чужих людей, — им до меня нет никакого дела, — задержался. Нет, крепни, моя воля, сохранись во мне, дух, я уезжаю окончательно в Москву, я здесь больше не могу. Я просто сам сама болезнь, вот почему воля моя ослабла. Пучок болезней! Кому я тут, больной и хворый, нужен? Кому? Никому. Ты погляди, ты вот молодая, послушай меня. Кто в Москве живет? Кто? Ученые — это раз, художники и все композиторы — это два. А еще разные умные, с умственным извержением… Я сам был вон кто…
— Дядь Вань…
— Нет. Нет. Нет! Меня не удержать. В этом несчастном месте, где ни единого человека, который бы меня понял, с которым я бы на равных вел беседу, я должен прозябать всю свою мудрую жизнь? Нет, нет, нет! Нет, упаси меня от унижения. Котелино! Что это такое на мировой карте? Я первый раз в жизни слышу такое название. Вы, Катюша… Я вас не виню. Но ты послушай, как звучит: Москва! Ты только послушай, ты хоть раз в Москве была? Нет, ты в Москве не была. Но послушай; Москва! И тут вдруг мне предлагают — Ко-те-ли-но. Чепуха, бессмыслица, чушь самая наипервейшая! Нет, нет, нет, Катерина, не удержать меня. Это на сто процентов бесполезно. Помоги мне лучше спокойно собрать вещички. Так, это я не возьму, — Иван Николаевич поднял с пола свою старую рубашку и брезгливо отбросил ее — Это тоже. А телогрейку возьму.
— Дядь Вань, ну что ж это такое? — все больше удивлялась Катя, не зная, верить или не верить старику. Он и раньше собирался уходить. Уйти, конечно, всегда мог, но не уходил, а тут он расхаживал по дому, размахивал руками, и во всей его маленькой фигуре было что-то решительное, неукротимое, и Катя испугалась, что дядя Ваня, старик с больным сердцем, уедет, и останется она совсем одна, и всю свою жизнь будет мучиться, что отпустила хворого старика.
— Нет, нет, нет, — отвечал старик, нахаживал из угла в угол, все его вещи уже были собраны, и можно было уходить, но он все ходил, говорил, будто пытался уверить самого себя в правильности своего поступка. — Я давно ждал твоего приезда, целый месяц, чтобы моя душа — у меня душа тоже гордая! — не мучилась, не страдала от угрызения совести: мол, ушел, бросил дом. Это было бы несправедливо. Но теперь, Катерина, моя совесть чиста, я умываю, как говорят, руки и ноги, могу смело сказать — до свидания.
Катя совсем растерялась. Она теперь была уверена, что Иван Николаевич уйдет, и заплакала. Старик, чтобы не видеть ее слез, вышел из дому, походил по двору, затем вернулся.
— Ой, дядь Вань, ну в чем я виноватая?
— Я тебя не упрекаю. Нет, нет, нет! Что ты, Катерина! Разве можно мне, чужому человеку, забытому в мировой сутолоке старику, винить тебя? Нет же, конечно. Нет справедливости на свете. Нет и никогда ее не было.
Иван Николаевич присел на табурет, от возбужденного разговора у него подергивалась щека, он тоскливо смотрел в окно, а Катя быстренько сварила чугунок картошки, нарезала огурцов, помидоров, которые привезла с собой из колхоза, сбегала за четушкой в магазин… Через час старик, выпив и плотно поев, уже не жаловался на жизнь.
— Я, Катенька Ивановна, всегда говорил: на свете есть неприятности, но по высшему спросу справедливость торжествует. Закон миропорядка! Неприятности есть, но со сноской — есть справедливость. Гляди, сколько бы ночь ни длилась, а день будет. Налей-ка мне, Катенька Ивановна. Я никогда не пил, но в этой вот влаге есть нечто такое, чего нет ни в какой другой.
— Пейте, дядь Вань, — наливала Катя. — Я сейчас уборкой займусь, а вы овечек пустите пастись.
— Тут, Катенька ты мой свет, уж строить начали какие-то дома, где мы всегда овец пасли. Уж рядом с двором нельзя.
— Ой, не говорите, дядь Вань, я видела… Душа кровью обливается, как вспомню: раньше-то было, раньше степь зачиналась почитай что у нашего порога, а сейчас… Погода изменилась, дядь Вань, глядите, только начало сентября, а уж холодно… Очень холодно…
— Да, — многозначительно сказал Иван Николаевич; кряхтя встал, собираясь на улицу. — Вот уж сколько живу у тебя, а не заметил, как быстро идет оно, наше драгоценное время…
Катя вымыла полы, прибрала в доме. С этого дня она старалась не уезжать на картошку в отдаленные села и отдалась вся заботам о старике.
Поздно осенью старик опять заболел и всю осень и зиму не выходил на улицу. Когда Катя спешила домой и видела его, стоявшего у окна и ждущего ее, у нее в груди сильно билось сердце от нахлынувшей жалости, и она торопливо бросалась готовить ужин и самый лучший кусок клала Ивану Николаевичу, у которого неожиданно стали трястись руки, плохо слушались ноги, он был очень слаб. Дни сменялись ночами, время столь быстро уходило, — казалось, только вчера была зима, а нынче уже вовсю поет на тополе свою веселую песню скворец, важно расхаживает подле сарая, останавливается перед крыльцом, то одним глазом, то другим глядит и не поймет, что это такое перед ним. Увидев выходившего из дома старика, взлетал на тополь и, задрожав приспущенными крылышками, начинал петь. Иван Николаевич, воскресший по приходе тепла, смотрит на забор, затем, отдышавшись, направляется к лавке и, усевшись поудобнее, греется на солнышке. Воздух еще прохладен, со степи налетал пахнущий талым снегом ветер: прозрачное голубое небо стояло торжественно и высоко. Старик глядел на солнце, переводил взгляд на копошащихся возле строящегося общежития людей и ждал Катю. В полушубке ему было тепло, но ногам, обутым в валенки и калоши, все равно холодно. Он сидел час или два, осторожно привставал на полусогнутые, дрожащие ноги, направлялся в дом, а часа через два снова выходил. Этим он очень сердил скворца, пугая того шаркающей походкой. Скворец взлетал на голую ветку, глядел недовольно на старика, и что-то про себя бурчал, — видать, это был тоже старый скворец, и ему не доставляло особенного удовольствия часто взлетать, не сделав то, ради чего садился на землю. Старик, поворотив голову, долго глядел на скворца, а скворец в свою очередь посматривал на старика, и чем-то они друг другу очень не нравились.
С каждым днем солнце припекало все сильнее и сильнее. Старик по-прежнему выходил в полушубке, но его размаривало, и он возвращался в дом, ложился на печь и лежал часа два, отдыхая телом и чувствуя, как мелким ознобом из него выходит хворость. К середине лета ему совсем стало хорошо, и теперь он семенил по двору, покрикивая на кур, овец и Катю.
Однажды, облокотившись о забор, он наблюдал с интересом за стройкой и за машинами, подъезжавшими и стройке. Один из самосвалов неожиданно свернул, через пустырь направляясь к их дому. Старик даже привстал, испугавшись, когда самосвал вплотную подъехал к забору.
— Принимай гостя! — крикнул шофер, высунувшись из кабины.
Старик всматривался в шофера, пытаясь отгадать, кто же это подъехал. Вроде знакомый. Подошел к кабине — действительно, за баранкой сидел шофер, который в прошлом году откусил у него огурец.
— Во-первых, гражданин водитель, — сказал наставительно старик и сердито хлопнул себя по бокам, — здравствуйте. Невежда! Это во-первых, а во-вторых…
— Во-вторых, как приехал, так и уматывай, Кондор, дорогой. Кондор!
— Я такого не говорил, — рассердился старик и погладил свою бороду.
— Нет, говорил, папаша. А спета песня ваша…
— Не говорил, сукин ты сын, такое!
— От сукина сына и слышу. Осторожно на крутых поворотах, Кондор, заносит, а в человеке девяносто процентов воды. Особенно на крутых поворотах после дождя.
— Кошмарный ты человек, гражданин водитель.
— От такого же комара и слышу. Я вот сейчас напою водицею моего жеребчика и — будь здоров, папаша-дедушка! Назови мне третью в Европе по длине реку? Не зна-аешь!
Шофер выскочил из машины и тут увидел Катю, стоящую у сарая.
— Ох, красавица! — Шофер забыл ведро и направился к ней, маленький, черный, улыбающийся. — Это ты, Катенька Зеленая? Здравствуй, здравствуй!
— Здравствуй, — тихо ответила Катя. — Кто тебе сказал, как меня зовут?
— А земля сказала. Земля у меня словно мать родная, все знает, обо всем говорит. Как поживаешь? А злой у тебя папаша. Прямо кипяток. Фу-ты ну-ты, все мы от Марфуты… Пошли посидим на лавке.
Старик зло сплюнул и не торопясь, с гордым, заносчивым видом направился во двор, постоял во дворе и, досадно махнув на скворца, пошел в дом. Катя присела рядом с шофером и улыбнулась. Она сама не знала, почему вдруг на нее напал этот мелкий, беспричинный смех. Ей было смешно, что он, шофер, такой грязный, чумазый, как будто уж лет сто не мылся, у него в мазуте подбородок, на нем рваный пиджачок… все ее смешило, всю распирало от смеха, и она не могла усидеть на месте.
— Ой, чего ж ты такой? — спросила она, не удержавшись, и повела плечом, и так, что самой стало удивительно легко, просто, будто и человека этого знала давно-давно, и было ей с ним хорошо.
— Какой «такой»? — спросил шофер, оглядываясь и заражаясь смехом. — Немазаный-сухой, так?
— А хоть бы и так!
— Так-то так, красавица, но я же не байбак. — Шофер подвинулся и взял ее за руку. — А меня ты разве знаешь, красавица, Катя Зеленая? Нет, не знаешь меня. Вот в чем погибель твоя.
— Чудно как говоришь, чумазый. Ты поп, что ли? Об чем тебя ни спроси, все ты знаешь, на все-то у тебя ответ готов. Как звать-то тебя по имени?
— Юра я буду, — глухо ответил шофер, подумал и добавил: — Да, действительно Юра. Юра — это неплохое имя. Правда?
— Имя — все хорошие. Вон чудно как говорят: «Как хочешь зови, только хлебом корми». А ведь и правду говорят!
— Юра — хорошее имя, правда, красавица? А сколь тебе лет?
— Лет мне? Не маленькая, чай, я. Уж… А что тебе лета мои сдались? Лета не красят человека, а мудрят его. Есть люди, которые живут двести лет и двести лет молодые. А умрут — сразу стареют.
Шофер направился к машине, сел в кабину, потом выскочил оттуда с ведром.
— А любить меня будешь, красавица? — спросил он, останавливаясь, но вдруг сорвался с места, заспешил к колодцу, с грохотом опустил в колодец ведро, чуть не сорвав ворот с петель, перелил воду в свое резиновое, обмочив при этом брюки.
И тут вышел из дома старик.
— Все бегаешь, шустренок? — спросил он миролюбиво у шофера и сел на крыльцо, что-то пережевывая.
— А ты все брюхо набиваешь?
— Кто? Я? — Дядя Ваня вскочил, готовый броситься на обидчика. — Да как!.. Да кабы ты сдох, дурак окаянный!
Шофер остановился напротив старика, улыбаясь, и подмигнул ему.
— А вот, старик, у моего дружка собаку звали Кабсдох.
— Ну и…
— Чего ты так в людей жалом жалишь? Какая тебя муха укусила? Муха цеце? Али пострашнее? Прям кипяток. Фу-ты ну-ты, все мы от Марфуты!
— У меня мать была, мил человек, Прасковья Леонидовна, а не Марфа, — сдержанно ответил старик.
— Чудак человек, так это ж присказка такая.
Шофер направился к машине, залил в радиатор воду и снова сел рядом с Катей. Она задумчиво глядела на стройку. Уже наполовину возвели двухэтажный кирпичный корпус общежития, рабочие вбивали белые бетонные столбы вокруг здания — для забора, — а грейдер медленно двигался от стройки к улице, прокладывая дорогу.
— Чего ж ты, и не поемши поедешь? Дядь Вань, а у нас чего-нибудь не найдется разве поесть?
Старика уже не было на крыльце. Возле крыльца важно расхаживал скворец, косился на дверь.
— Э, Зеленая, теперь-то мне и подавно некогда. Вот хлебушка-то кусочек не пожалей для молодца.
Катя убежала в дом и вынесла ему большой ломоть хлеба с маслом.
— Что ж ты сразу не сказал, что кушать хочешь? — Катя вправду заволновалась, и ей не хотелось отпускать шофера голодным.
Шофер взял ломоть, влез в машину, откусил кусок и, помахав рукой, уехал. Катя села на скамейку, снова уставилась на стройку и не услышала, как рядом сел Иван Николаевич и о чем-то спросил. Хорошо ей было сидеть под солнцем, глядеть на стройку и чувствовать теплую, ласковую жизнь. За весь этот день Катя больше не проронила ни слова. А ночью ей снова чудился разговор с шофером, теплое солнце и сидевший рядом старик.
ГЛАВА V
На другой день Катя ушла на работу раньше обычного. Уже с утра солнце нещадно палило, и по улице плыли испарения, сильнее обычного пахло бурьяном, картофельной ботвой. Возле молокозавода сгрудилось машин десять с молоком и телеги с флягами со сметаной. Подле райисполкома стояло несколько «козлов», привезших, видать, председателей сельсоветов; шоферы, сойдясь у одной из машин, рассказывали анекдоты, смеялись. Один из них оглянулся на Катю. Тихо было на улице. Толстым слоем лежала еще прохладная пыль на проезжей части, и только вверху звенело от напористого солнца, гудело от пронзительной голубизны неба. И от этого неслышимого звона было радостно, хотелось подольше побыть на улице…
Старик Деряблов спал, постелив на ящики свой неизменный, видавший виды романовский полушубок, который носил еще его дед, говорили, что этот полушубок деду подарили ссыльные декабристы. По лицу старика ползали мухи, но он спал крепко, почмокивал губами, ничто его не тревожило. Никто еще не пришел на работу. В больших ящиках набросом лежали зеленый лук, повядшие слегка за воскресенье огурцы, хотя и велено было сторожу спрыскивать их водой.
Катя прошла на склад, вытащила оттуда несколько пустых ящиков, корзин и принялась за работу. Вскоре пришли Нинка Лыкова, Марька Репина, Нюрка Соловьева.
— Ой, бабоньки, гляди-к, работает! — вскричала Лыкова, высокая, светловолосая. — Ой, умора! Вить пришла-то неспроста, а вить пришла-то из-за старого бабника Деряблова, а што, а мужиков-то раз-два и обчелся, а на безрыбье и рак настоящая даже рыба!
Все дружно захохотали. Марька Репина толкнула Нинку Лыкову, и та со смехом, дурашливо вскрикнув, грохнулась со всего маху на сторожа. Деряблов вскочил, как ошпаренный, замахал руками, будто отбиваясь от наседавших на него воров, запричитал:
— Тьфу! Тьфу! Изыди, дьявол, изыди, дьявол! Окаянная! Ах ты, Нинка! Тьфу, черт, напугала старика, бесстыдная жеребчиха, насмерть!
— Ой, бабоньки, — заливалась в смехе Нинка, — ой, не могу! Ой, бабоньки, вить он же меня не пущает! — Она нарочно схватила старика за полы пиджака и, потянув его на себя, упала, хохоча и брыкаясь, будто отбиваясь от наседавшего на нее Деряблова. — Ой, заберите его! Он же меня насилует!
— Тьфу ты, пропасть! — отбивался старик. — Тьфу ты, ошалелая!
Девки, ухватившись за животы, хохотали до слез. Катя не могла стоять и, присев на корточки, плакала от смеха. Деряблов наконец отбился от державшей его Нинки и, отойдя на почтительное расстояние, стал ухмыляться и покачивать головой, ощупывая себя, как будто убеждаясь, а цел ли, а невредим ли.
— Окаянные, соснуть старику не дадуть… Тьфу, ошалелые! Разве ж так можно? Попалась бы ты мне ране, поглядели бы тады.
— А как бы воры? А ты дрыхнешь без задних ног, а ты задаешь храповицкого, аж вон стены и заборы во всем городке нашем ходуном ходют, — сказала Нинка Лыкова, все еще смеясь. — Воры — ладно. А кабы бабоньки какие гулящие да нахальные набросились, ить пропащее тода дело твое, мужик. Завяжут и — знай наших! А?
Девушки дружно грохнули, снова хватаясь за животы, а Лыкова упала на полушубок, на котором спал Деряблов, и закаталась на нем в неудержимом смехе.
— Вот непутевые! — разозлился старик и направился под навес, стал оттуда сердито швырять пустые ящики. — Оруть, мать вашу за ногу! Мужиков ишь мало. Дурь бы вышибить с вас, запрячь бы вас вместо волов да пахать. А ты, Нинка, секретарь еще кумсимольский, а дура дурой нахальной, вот скажу куда, а то и первому доложу хозяину в райком, тогда попляшешь с жиру. Старика позорить, здеваться над ём вздумала, кобылица малахольная…
Девушки, пристыженные, принялись за дело, а Деряблов разошелся, ругая их, их матерей, отцов и братьев и, наконец, парней, которые не могут обуздать кобылиц.
Через час приехал Гаршиков на машине. От него пахло духами «Шипр». Он небрежно хлопнул дверцей, развальцой моряка, хотя моря никогда и не видел, прошел к Деряблову, кивнул мимоходом рабочим, уселся в тенечке и закурил.
— Ты старик Деряблов? — спросил он и пустил правою ноздрею дым (левая у него не продувалась), помахал руками, разгоняя дым.
— А чего тебе надобно? — удивленно уставился Деряблов на парня. — Я Деряблов ли? Я — это Деряблов.
— А непохож. Знал одного Деряблова, но тот старый, а ты… — Деряблов улыбнулся, оглядывая себя, ожидая похвалы… — А ты… на мертвеца похож столетнего. Скоро умрешь…
— Окстись, дурень! Чтоб тебя в дышло, паразит! Чтоб тебя корова забодала и черта лысого вместо жены посадила!
— Теперь узнаю Федотыча, — тихо продолжал парень. — Ты, Федотыч, мою философию усекаешь? Нет, Федотыч, ты мою философию не усекаешь. Это точно. Извилины у тебя мохом поросли, травою. Дожил до кромешной черты, а мою философию не усекаешь… Эх, Федотыч, идет столкновение миров, в космос люди забрались и наломают там таких дров, что тебе, маленькому жучку, жарко будет, сгореть ведь можешь, паря, а ты вот ящики кидаешь старые, охрану несешь на овощной базе, а Вселенная-то лопается, вон трещина на небе появилась. Даром, думаешь? А начинается такое, что трава поседеет. Идет столкновение миров…
— Какая трещина? — удивился Деряблов, оглядывая чистое небо. — Все котуешь? — Сел напротив него, снял сапог и размотал портянки.
— Котую, старче, котую. Но ведь время-то, время-то летит, идет гигантское столкновение миров. На небе вон трещина, а ты о чем меня спрашиваешь? А ты тут вон чем занимаешься! Грех да смех. Одни держат в руках гнилую картофелину, а другие держат в руках, словно картофелину гнилую, земной шар, третьи — Вселенную, но на картошке гнилой ползают букашки, а на шарике-то нашем ползают люди, черт возьми! Намотай себе на хвост, это тебе говорит Павел Гаршиков, без двух минут сорока секунд студент. Идет гигантское столкновение миров, которые не мы с тобой, Деряблов, выдумали, не мы, значит, и прекратим это столкновение. Понял? А ты — «котуешь»! Котую, отвечаю тебе, но это еще ничего не значит. И точка. Это нужно не только мне, но и еще кому-то. Не мы же создали, черт побери, гигантские миры, Землю, Луну, Марс и Млечный Путь. Вот, Федотыч, травка растет. Вот она, зелененькая, растет. Вот я ее беру и — р-раз, нет ее. Травинки нет. Вот росла она секунду назад, а ее уже нет, будто и тысячу лет назад не было. А теперь гляди кругом. Гляди своими выгоревшими глазами, гляди хорошенько, Федотыч, гляди. Вон бабочки капустницы летают, солнце светит, земля, слышишь, вращается? Слышишь? Ось скрипит. Ты вот стоишь передо мной, буркалами уперся в меня и ничегошеньки не соображаешь из того, что говорит тебе завтрашний студент Московского университета. А все прежнее. Так вот, Федотыч, и человек. Усек меня?
Деряблов ничего не понял, но пытался понять, в какую сторону клонит парень и не хочет ли он снова посмеяться над ним, шумно вздохнул и, потерев нос, усмехнулся.
— Скажешь…
— Вот, Федотыч, как все на самом деле. А ты — «котуешь»! Да. Понимаешь теперь, в чем дело, где оно, столкновение миров? Столкнутся — и расшибутся, а нас ведь — тю-тю! Не мы придумали гигантское столкновение миров, черт тебя побери, Федотыч. Но мы-то люди. Люди мы — это ты понимаешь? Али не сечешь? Ничегошеньки ведь, может, не останется. А ведь каждой мошке хотелось бы жить. Даже травке. Она как и мы, только безголосая да мозги внутрь направлены. У человека мозги направлены вовне, а у травки вовнутрь. То есть только на себя. Потому она такая слабая и за себя не может постоять. Хотелось, Федотыч, чтоб не так было. Надо менять положение. Или ты доволен? Усек? Нет, я вижу, ты не усек. Секретарь райкома, когда я ему это сказал, ответил: «Сидеть тебе, Павел, если не остепенишься». Он грамотный, а ты, Федотыч, извини-подвинься, недоделок ровно. Возьми нашу Землю, возьми ее с большой буквы. Она вертится по огромной, — замечу: для нас, людей, — это по огромной, а по вселенским масштабам не более, чем комар по своей орбите, вертится и очень даже быстро…
— Ладно, Павел, тебе надо мной точить свой язык…
— Нет, Федотыч, я тебе сейчас докажу… Гляди, вот я становлюсь в угол. — Гаршиков, став в самый отдаленный угол, закрыл глаза и присел на корточки. — Вижу! Вертится! Поскрипывает и несется — аж в глазах искры! — вскричал он так громко, что Деряблов со всего маху от страха брякнулся об пол и тонко заскулил, а к двери, побросав работу, кинулись девушки. — В правую сторону! — продолжал кричать Павел Гаршиков. — Вертится в правую, вот в эту. Но в том вон уголке что-то шипит, боюсь, океан переливается, уйдет в космос, и земля без воды останется, переливается вода-а! Держи, Федотыч, ее! — смеялся уже Гаршиков. — Держи мотню, а то обмочишься.
Старик все понял и сделал вид, что просто сидел на полу, встал и сказал:
— Иди ты к дьяволу. Врет-то все, стервец. Ох, врать-то ты мастерища!..
Девушки негромко смеялись. Катя, когда приезжал Гаршиков, не могла и слова сказать. Боясь на него поднять глаза, ругала его про себя и ненавидела. Она видела и чувствовала его безразличные, презрительные взгляды на себе и все собиралась быть равнодушной, словно его и нет, но ничего не получалось. При Гаршикове она чувствовала себя так, будто аршин проглотила. Катя отошла от двери и стала перебирать огурцы. Совсем не было весело. Она слышала, как Деряблов говорил что-то, как Нинка захохотала, невольно улыбнулась одними губами, словно в забытьи, во сне, осторожно перебирая огурцы, плохие кидая в кучку на землю, а хорошие в ящик. Нашла небольшой зеленый огурец с нежной кожицей и, присев на ящик, задумалась, глядя на него. «Рос он, рос, бедненький, тянулся к солнышку, пил водичку, тянул ее корешками, словно губами, из земли, а его сорвали… Так и любовь отбросят прочь… Ну что ж это? — спросила себя Катя. — Что ж это я совсем нюни распустила? Гордой надо быть. И не замечать его».
Но чувство жалости, нашедшее на Катю, не проходило, и она с пронзительной ясностью ощущала, как ей жалко всех, особенно всех обиженных. Она глядела на солнце, на траву, зеленеющую под забором, на увядшие перья лука, на стоящих в дверях, и всех ей стало необыкновенно жалко, так, что слезы навернулись на глаза. Ее руки, молниеносно брали огурцы, глаза определяли, куда их класть, а голова и вся Катя будто не участвовали в работе, а жили своей тревожной жизнью.
— Умора! — подошла смеющаяся Нинка Лыкова, Взяла тот самый зеленый огурец, который Катя только что держала, вытерла о полу фартука и смачно надкусила. — Фокусник! Факир! А со змеями умеешь делать представление?! — крикнула парню.
— Умею, если змеей будешь ты, — ответил Гаршиков, выходя из склада. — Умею! — Он попытался обнять Нинку.
— Ну, ты, осторожно на поворотах! — Нинка оттолкнула Павла и принялась за работу.
Марька, став рядом с Катей, воровски огляделась, зашептала ей:
— С чего это Нинка с ним?.. А? Катька, мы же договорились не обращать на него внимания, а она крутит напропалую. Слышь, Катька?
— Ой, не знаю, Марька… Должно быть, ей нравится…
— Но мы же договорились, — с досадой проговорила Марька, волнуясь необыкновенно. Видно было, — и это давно все знали, — что Марька влюблена в Павла.
Из овощехранилища показался Деряблов, постоял на солнышке, направился к парню и спросил с самым серьезным видом:
— Выходит, съешь тебя собака, пыль от вращения?
— От земного вращения, а вертится она от волнения, — ответил Гаршиков, помогая Нинке Лыковой ставить ящики с огурцами в кузов грузовика. — От чего же еще, Федотыч?
— А дурь в твоей башке от чего? — спросил, не меняя тона, Деряблов и постучал себе пальцем по голому черепу. — Никак голова у тебя не с того конца зарублена, собака тебе съешь дохлая.
— Ты вот что, Федотыч… Пыль у меня от тебя. Известно, с кем поведешься, от того и наберешься. Зубов у тебя, Федотыч, нету, чтобы язык закусить, так ночью, когда будешь спать ложиться, старайся прищемить его дверью. А то шибко длинноват у тебя, болтается. Вместо шарфа зимою можешь им шею обматывать — теплый.
Деряблов обиделся. Теперь, когда Гаршиков приезжал за огурцами, он демонстративно уходил в сторонку и не появлялся, пока машина не уезжала. Стоило машине уехать, как он выходил на солнышко, снимал фуражку и бросался помогать девушкам, и шутил с охотой, и не обижался на их шуточки, и отнимал у них самую тяжелую работу. Ему не полагалось днем работать, он мог уйти домой и там наработаться сколько ему угодно, — ведь у него был огород, держал он кур, гусей, и уток, и поросенка, — но, сбегав на минутку домой и покормив животину, он спешил на овощехранилище. Здесь проходила самая интересная часть, как ему представлялось, его жизни. И так год за годом торопилось время, и он, не замечая торопливости его, жил, забываясь днями и тоскуя в полнолунье, когда спать не хотелось и тянуло на тоскливое размышление об убитом сыне, без времени ушедшей жене, и в такие лунные ночи, когда округ было необыкновенно тихо, выть ему хотелось от боли по сыну.
ГЛАВА VI
После работы Катя сразу направилась домой, хотя ее звали посидеть у Марьки. Она торопилась, будто ее кто подгонял. Все казалось, что дома случилась беда, сейчас она узнает что-то такое… Сердце у нее захватывало, шумело в голове. И так в последнее время каждый день.
Иван Николаевич, уж совсем одряхлевший в последние годы, как всегда, сидел на лавке у калитки и ждал ее. При виде Кати он довольно ерзал, однако напускал на лицо недовольство и глядел в сторону.
— Проголодались? — спрашивала Катя. — Дядь Вань, я хотела пораньше, да работы по самые уши.
— Яйцо сырое выпил, после замучила изжога проклятая, — бормотал в ответ Иван Николаевич и уходил на огород. Между огуречными грядами, рядом с чучелом, отпугивающим воробьев и скворцов, стояла маленькая табуреточка, на которой старик любил сидеть. Он умащивался на табуреточке, часами глядел на зелень, на порхающих над цветками насекомых. Порою рядом на грядку садилась Катя. Он ей рассказывал о том, что в Москве у него бессчетное число родственников, знакомых, которые его ждут, не дождутся. Но никогда, сколько она помнит, он не писал писем и ни от кого не получал.
Катя сготовила ужин, позвала старика. Он медленно в доме снял кепку, осторожно потрогал пальцами кончик своего языка.
— Шершавый, — скорбно объявил он. — Одна беда, говорят, не ходит. Пришла беда — отворяй ворота.
Старик подхватил двумя пальцами горячую картофелину, положил ее на ломтик черного хлеба и, сокрушенно вздохнув, откусил.
— Так вот, Катенька Ивановна, скажи мне, этот черный человек, то бишь шоферик, кто он такой?
— Ой, дядь Вань, шоферик он, — весело отвечала Катя, стараясь рассеять все сомнения старика.
— Ты вот, Катенька Ивановна, скажи мне: чего он хочет?
— Ой, дядь Вань! Чего он хочет? Он работает рядом, кирпичи да доски возит на машине. А что ж ему, запрещено заезжать к нам? Он не вор какой.
— Так вот, Катенька, не нравится мне. Как хочешь, дело твое хозяйское. А только…
— А я чё, в него влюбленная? — засмеялась Катя и, подавившись картофелем, закашлялась.
— Тебе он, Катенька, — выждав, когда она перестанет кашлять, внушительно, глухо проговорил старик. — Ты в него влюблена.
— Ой, дядь Вань! Хоть стой, хоть падай. Слава богу, дядь Вань, не маленькая. Мне лет-то вон сколько… Папа в мои-то годы и мама меня имели. Так что, дядь Вань, тревога ваша, ох, как без всякой почвы под собою!
— Гляди, гляди! В том-то и беда, ты не молоденькая. В том-то и беда.
— Да что вы меня пугаете, дядь Вань? — удивилась еще пуще Катя, посерьезнев и пытливо всматриваясь в старика, и, боясь выдать свое волнение, стала передвигать на столе тарелки.
Иван Николаевич ел, как всегда, медленно, нехотя, осторожно пережевывая пищу редкими желтыми зубами, и глаза у него в это самое время тускнели, он уходил в себя, и нельзя было понять, то ли он брезговал пищей, то ли испытывал глубокое наслаждение.
Катя, взглядывая на медленно жующего старика, терялась, принималась ходить по дому, вытирая пыль на комоде, на котором стояли фотографии матери, отца и одна, самая любимая ее фотография — мать и отец вместе, и между ними сморщенная, подслеповатая старушка в платочке, видать, бабушка ее, о которой она ничего не знала. Руки ее переставляли что-то, перестилали постель, вытирали пыль, а в голове вертелась одна мысль — о шофере. В том, что старик упомянул его, Катя увидела недобрый знак. Нет, в последнее время она не думала о нем, не таким ей представлялся ее суженый. Этот был какой-то смешной, суетящийся человек. Но достаточно было ей увидеть его, как казалось: знала этого человека всю жизнь, так давно, будто и жил он с самого детства в соседнем доме.
Осторожно, боясь потревожить старика, Катя вышла на крыльцо, поглядела на стройку — там торопились к Октябрьским праздникам сдать общежитие, работали днем и ночью, оттуда доносился грохот сбрасываемого с самосвала кровельного железа, треск электросварки, голубоватые шары ее вспышек виднелись, несмотря на то что было еще светло. Солнце, опускаясь за далекий курган, пронизало поверх Котелина воздух розоватым цветом, а степь лежала в сиротливой дымке и, казалось, исходила тихим, печальным звоном. На самом же деле дышала степь безмолвием и кротостью, и в ее покорности судьбе было что-то недоверчивое, гордое… «Совсем у них по-другому, — думала Катя, глядя на стройку. — Не чета нашему овощехранилищу».
Вскоре на крыльце показался старик, стрельнул глазами по сторонам и засмеялся.
— Катя, гляди, скворчонок на тебя косится!
— Ой, дядь Вань, вы его научили…
Иван Николаевич вздохнул и многозначительно сказал:
— Прожил я, Катя, долгую жизнь, длинную…
Катя замерла, ожидая, что сейчас дядя Ваня, этот старый, много повидавший человек, который столько лет у нее живет, но о котором она совсем ничего не знает, кроме того, что он из Москвы, что-то расскажет.
— Да, дядь Вань?
— Жизнь моя, Катенька, текла долго, и вот я хворый, в душе чувствую непомерную тяжесть, а тягость эта, Катенька, не от долгих лет, от болезни моей…
— Да, дядь Вань…
— Ну и вот, я в этой жизни прожил долго, а кому ж умирать хочется? Нет. Нет. Нет. Живому существу противопоказано умирать.
— Что вы, дядь Вань! — воскликнула Катя и встала. — Ну что вы, ей-богу, меня пугаете?
Старик ничего не ответил, ушел на огород. А Катя заволновалась, ей думалось, что старик недоговаривает. Видимо, она в чем-то очень провинилась, раз старик ведет такие разговоры. И тут же стала придумывать: а что же такое могла сделать? Вины явной как будто не чувствовала, но чем больше она думала и не находила вины, тем тревожнее становилось на душе. Катя присела на лавку, посидела с час и медленно направилась вниз по улице. Пустынной была она. Напротив двора Коршуновых стояла машина. Возле школы остановилась, вспомнив, как бегала сюда учиться и как встречала ее мать, появляясь неожиданно из-за забора, обнимала ее и целовала, целовала… И как от нее пахло тогда! Тот запах Катя и сейчас помнит… Стоит ей только подумать о матери, запах тут же появляется… Катя обошла округ школы и вернулась к дому. На лавке сидели старик и шофер Юра.
— А-а! — Шофер встал и радостно заулыбался. — А… Вот она, Зеленая Катенька. Где была?
— Где была, там меня нету, — ответила неласково Катя, вспомнив, как Иван Николаевич называл шофера черным человеком, и удивляясь, как это название точно подходит к нему.
— Машина моя забарахлила, шел пёхом домой, — гляжу, а на лавочке старче дремлет, дай, думаю, помирюсь с им. А?
— Плут он, Катенька, зубы заговаривать умеет не хуже цыган.
— Плут, да все у меня тут, — постучал себя по лбу шофер и, неловко хохотнув, сел рядом с Катей. Глаза его загорелись веселым блеском, и он, глянув на Катю, снова хохотнул.
— Плут, — повторил с прежним упорством старик, — знаем мы сейчашных людишек. Зна-а-ем…
— Ничего ты, папаня, не знаешь, хороший, ничегошеньки. Человек — это сплошь загадка. Все-то ты, родимый, и врешь, хоть и седой.
— Зна-а-ем… — поднимал кверху палец старик.
ГЛАВА VII
В жизни бывает часто, что безделица, так, какой-нибудь никчемнейший пустячок, играет такую же роль, как и важное событие. А потому и говорят умудренные: мелочей не бывает, все важно. И они правы были. Катя соглашалась с ними полностью, потому что сама всегда была занята какими-то мыслями; эти мысли не отпускали ее ни на шаг, и мысли, как ей казалось, очень какие-то важные; кто что сказал плохого о ней, радость ли, маленькая ли, большая, — это не имело значения. Все требовало раздумий, нервов, было капризно и не подчинялось обычному велению логики. И Катя часто убеждалась, что этот пустячок столь же важен, как и все остальное. Глядя на скворца, поселившегося в скворечнике, она думала, что вот живет маленькая птичка, червячков носит, песни поет. Но год назад скворец погиб от холода, а вслед за ним погибли голенькие скворчата, и вот представила Катя, как летал этот скворушка, кормил детишек, старался, чтобы они были сыты; а ведь и его растили, кормили, беспокоились о нем, и до него тысячи маленьких пташек старались из последних сил высидеть, накормить птенцов, порадоваться жизни, вели цепочку поколений во Вселенной до этого вот замерзшего скворца, до нашего двадцатого века; сквозь тысячи, миллионы лет тянулась ниточка — и вот нет ее, этой ниточки. А как тогда над ее слезами потешался Иван Николаевич! А как Катя тогда закричала: «Жизнь — это вот не мелочь! А важнее этого что должно быть? Ничего важнее жизни нет, дядь Вань».
Катя посидела на лавке, и так ей стало грустно от слов шофера, что она заново вспомнила эту птичку и почувствовала, как у нее защемило в глазах от слез, точно что-то должно было случиться. Но все молчало, только слышно было, как где-то куковала кукушка.
Катя встала.
— Ты куда? — спросил старик, цепко и сердито оглядывая ее.
— Посмотрю универмаг. Ой, что ж так долго у нас строят!..
Возле универмага все еще были навалены кучи стройматериалов и царил тот невообразимый хаос, который по обыкновению бывает на стройках, когда все мелочь, а главное только одно — строящийся объект. Фасад был застеклен. Рабочий день уже закончился, и в этот вечерний час, когда солнце, прячась за домами, тополями и ветлами Котелина, заливая палевым боковым светом степь, стыдливо зарделась над далеким окоемом, здесь, среди куч битого кирпича, досок и камня, было как-то особенно уютно. Осторожно касаясь пальцами стекла, Катя обошла универмаг, постояла в тени и неожиданно для себя направилась к старухе, которую в прошлом году встретила на кладбище. «Вот закрутилась, — думала она, вспоминая во всех подробностях встречу со старушкой, девочку Олю, — вот закрутилась и человека забыла». Она свернула в переулок, опять в переулок — а вот и бывшая казарма, и большущий тополь, почерневший от старости, со сломанной верхушкой. А вот и Чапаевская улица, дом 20, и напротив колодец с журавлем. Забор вокруг огромного дома под железной крышей когда-то был, о нем можно судить по полусгнившим толстым столбам. Рубленое крыльцо заскрипело под осторожными Катиными шагами. Строился он, видать, надолго и на большую семью, словно не дом строили, а себе памятник, — зеленые дубовые наличники даже не потрескались от времени, жестяные кружева вокруг по кромке крыши лишь слегка обветшали, петушок на коньке смотрел на восток; фундамент каменный, высокий, словно тысячу лет должен простоять. Катя постучала, никто не отозвался, и она отворила дверь.
В большой комнате пахло влажным, выскобленным полом, стояли здесь две табуретки, стол, железная узкая кровать, большая русская печь.
— Есть кто? — спросила Катя, уставясь на дверь, ведущую в соседнюю комнату.
В доме никого не было. Огромная русская печь стояла в углу, и кто-то на ней копошился. Катя заглянула на печь — серая кошка играла с мертвым мышонком. Катя постояла возле крыльца, подождала, думая, что чистые полы, выскобленные добела, окна, вымытые до прозрачности, — все говорило, что хозяйка собиралась уехать или уж уехала. Только жаль, дом не заперла. И тут Катя увидела старушку. Глядя себе под ноги, та медленно брела к дому. Вначале она Катю не узнала, а потом, попристальнее вглядевшись, слабо улыбнулась.
— Ох, милая, ни сроду б я тебя не признала. Гляжу, идет ктой-то, а кто — не скажу. Зрения мои стали никудышния.
— Как живете? — обрадованно спросила Катя, приседая рядом со старушкой на лавку возле дома.
— Да как живем? А да по-старому. А и ничего нам не исделается, милая. А што нам? Оленька у сестры меньшой у деревни, милая, а мне одной на сторожбе на склада́х много ль надо!
— А где вы работаете?
— Я? Да на склада́х сторожу. Одними сутками сторожу, а другими дома поделываю. Ой, что мы сели, пройдемте в дом. Чаем угощу. Оленька вспоминала тебе, милая. Она в школу вить пошла-то.
Старуха говорила, а Катя глядела на ее полное, розовое лицо, на большие руки, и почему-то не хотелось расспрашивать, говорить, отвечать, а хотелось посидеть молча, попрощаться и уйти. И она так бы и сделала, если бы старуха не пригласила ее в дом, не напоила чаем.
…Катя ушла поздно. Она шла по темным, уже сумеречным улицам, еще источающим дневное тепло солнца, и думала: «Зачем я ходила к ней?» Старушка рассказывала о своих сыновьях, убитых на войне, о муже, попавшем в аварию и тоже умершем, о матери своей, о ее смерти; говорила она тихим, монотонным голосом, подносила к глазам платок, но из ее рассказа Катя так и не сумела определить, что это были за люди, только одно поняла: старуха любила своих сыновей, особенно младшего, и согласилась бы свою жизнь не задумываясь отдать за них.
— Ты иди, милая, тихо, — на прощанье сказала старуха, которую звали, как оказалось, Татьяной Петровной.
На улице было темно, хоть глаза выколи, и Кате все казалось, что она с кем-нибудь столкнется и напугает человека.
Недалеко от дома ее окликнули. Она оглянулась, никого не увидела и оттого, что никого не увидела, испугалась еще сильнее, хотя всей спиной ощущала, что голос знакомый. Катя хотела побежать, но ее снова позвали:
— Катя!
По голосу она узнала шофера, замерла на минуту, не откликаясь.
— Ой, это ты, Юра? — спросила она, чувствуя, как дрожит вся от страха, слышала его легкие шаги, торопливое дыхание.
— Ты откуда?
— Ой, как темно! Гостила. А ты чего тут?
Он взял ее руки своими, потом его руки обхватили ее плечи. Поцеловал в губы. Она растерянно вскрикнула и отвернула лицо. Юра молча обхватил ладонями ее голову и с силой прильнул, встав на цыпочки, к ее губам. И чувствовала какое-то время Катя, как дрожали у него руки, как он сам был горяч и от спешки не мог вымолвить ни слова. Замеревшая в первое время от неожиданности и не знавшая, как быть, оттолкнула его, повернулась, еще неприятно ощущая его руки на своих плечах, — там, где он держал плечи, горело, горели и щеки. Она направилась домой, остановилась не оглядываясь. Юра брел следом. Катя оглянулась. Теперь видела его, четко и ясно увидела Юру, маленького, тщедушного, с понуро опущенной головой.
— Юра, чего ты пришел? — спросила торопливо, негромко и сделала шаг к нему.
— Ничего. Я ждал. Святое мое слово — ждал.
— Ой, с того времени ждал? — вырвалось у Кати. И оттого что Юра промолчал, стало жаль его. Она беспокойно оглянулась, нежно и благодарно посмотрела на него.
Шофер, обычно разговорчивый, молчал, исподлобья глядя на нее, и взгляд этот, молчание действовали на Катю сильнее слов. Она подошла к нему и спросила:
— Обиделся?
— Обиделся, — ответил шофер, помедлив, и, отвернувшись, звонко хлопнул себя по сапогу.
— Ой ты, — засмеялась Катя и направилась к лавке.
Подождала, пока он подойдет, и села. Он посидел некоторое время на расстоянии, потом подвинулся ближе и положил руки ей на плечо.
— Ты чего? — спросила она тихонечко и незаметно придвинулась к нему.
— Ничего, — ответил он, неожиданно обхватил ее голову руками и сильно потянул к себе, ища губами ее губы, и не успела Катя опомниться, как с ужасом ощутила, что по ее животу шарит холодная рука.
Она вскочила, вся задохнулась от бросившейся в лицо крови.
— Ой, Юрка, ты дурной такой! С тобой прямо и посидеть нельзя…
Шофер молча сидел на лавке, опустив голову; в его понуро склоненной фигуре было что-то укоряющее, и Катя больше не садилась, а стояла рядом, все еще с брезгливостью ощущая, как по теплому животу (от только что случившегося) бегают мурашки.
— Я пойду, — сказала она.
А уходить ей вовсе не хотелось. Обыкновенное любопытство разбирало ее, боязнь ни за что ни про что обидеть человека удерживала.
— Куда? — спросил Юра, вытащил сигареты и закурил.
— Ой, не кури! Дядь Вань увидит! — испугалась Катя, оглядываясь.
— Ладно, — лениво ответил шофер, смял сигарету и выбросил. — Спать пойдешь? А где, если не тайный секрет, спишь, красавица? Возьми меня с собой, стеречь буду.
— Ты чего, Юрка, дурной, что ли, совсем — такое плести?
— Ну, да оно же кругом темно. Куда же я пойду? Мне вон в соседнюю, считай, деревню переть. А как заблукаю? А? Кто отвечать, красавица ты моя, будет? А? Что? Бог наложил вето.
— Ой, как же быть, Юрка? — спросила Катя, боясь, что услышит старик. В ней самой, чувствовала она, словно что-то закипало, и каждая ее жилка напряглась, расправляя заснувшие было пружинки. — Как же ты-то? Юра? Ведь и правда дороги не найти.
— И то, — повторял в ответ шофер, взял Катю за руки и осторожно потерся щекой о ее щеку.
Катя задумалась, попросила его подождать и ушла, стукнув калиткой. Она осторожно прошла в дом, постояла в сенях, отворила дверь, прислушиваясь, не храпит ли старик. Цвиркал сверчок в углу, чуть слышно похрапывал старик. Катя хотела было прикрыть дверь, как услышала голос:
— Катя, ты?
— Я, дядь Ваня.
— Ты с кем?
— Так, ну, я с Нинкой Лыковой, — соврала Катя. — Скоро буду.
— Кто ж, Катерина, ночью-то говорит? Ночью люди, спят.
— Знаю. Мы скоро.
Она прикрыла дверь, постояла в сенях, прислушиваясь, не встал ли старик, и вышла. Возле тополя Катя остановилась. Что-то сердце шибко у нее колотилось, и от напряжения устала она. Ветра не было. Тополь стоял не шелохнувшись, и она прижалась к нему, тоскливо подумав о том, что вот ждет ее этот глупый, неловкий человечек, которого и жаль потому, что стоит и ждет ее.
Шофер сидел на лавке, ловко пряча в кулаке горящую сигарету, курил. Катя подошла тихо, он даже не услыхал ее шагов.
— Дядь Ваня не спит, Юра, — шепотом проговорила Катя, села рядом и поерзав, встала. — Ты, может, на сарае переспишь? Только, ой, тихо надо, а то проснется, чего доброго. Он чтой-то тебе не любит.
— Мне его любовь — до фонаря, мне твоя нужна, — просто сказал Юра и затянулся.
— Ой ли!
— Я тебе говорю, красавица. Я не шаляй-валяй, а человек, который свою гордость имеет. «Любви все возрасты покорны», — говорил Карл Маркс. Помнишь? Вот возьми: что ж, по-твоему, Катенька ты Зеленая, головушка ты бедовая, к примеру, даром хожу да на тебя гляжу? Я же знаю, что тебе нравлюсь. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Не так, что ли?
— А ну не так? И Пушкин говорил о любви.
— Но он все одно великий, как и Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Но…
— Погоняло. Не погоняй, не запрягал. Откуда тебе это все известно?
— Уж мне, красавица, все известно. У меня кровя такие, цыганские.
— Ой, скажешь! Смешно-о… А как пойдешь домой в темень непроглядную? Неизвестно, упадешь ли через колоду? — рассмеялась тихонько Катя, оглядываясь и закрывая ладошкой себе рот, показывая и ему, чтобы не говорил и не смеялся.
— А я буду вот на этом месте, красавица, спать. — Он снял с себя пиджак, расстелил на лавке и лег.
— Ой, сдурел, Юрка! Ой, турок несчастный! Умрешь ведь из-за тебя, непутевого. Пойдем, я тебя на сарае пристрою. А то ведь, ой, как проснется дядь Ваня! Он же тебя, такого вертлявого, что ты огурец откусил, до окончания века не забудет, черными словами проклинать будет.
— За что ж он меня так клянет? Неужели за огурец? Да я ему машину огурцов из совхоза «Степного» привезу, черту горбатому!
— Пошли. Только тихо. Ой, присядь! — воскликнула Катя и присела, озираясь.
Но тревога была напрасной. Ей показалось, что хлопнула дверь. Она взяла его за руку, повела во двор, в дальний угол, где стоял сарай. Прошли мимо крыльца; постояли, прислушиваясь, возле сарая. Катя в темноте нащупала лестницу. Шофер быстро взобрался на сарай по лестнице, подал руку. И рука была такой сильной, что, когда он потянул, Катя вскрикнула. Прошлогоднее сено сильно пахло заплесневелостью. Юра сразу сел, и Катя, сказав, чтобы не шумел, направилась за постелью. В сенях постояла. Тихо в доме, только пел песенку сверчок. Боясь зашуметь, она прошла на цыпочках к чулану, отперла его и, плотно прикрыв за собою дверь, включила свет. В чулане хозяйничал дядя Ваня. Катя заходила сюда редко. Очень удивилась, увидев здесь кучу каких-то старых фуфаек, полушубки, возле стенки прямо на полу стоял тазик, полный сухарей (старик, памятуя прошлое, запасался харчами), половину из них источили мыши, два старых ведра полны тоже сухарями. В куче лежали поломанные старые табуретки, керосинка, пучки проволоки. Катя пробралась к стенке, осторожно сняла поддевку, фуфайку, прихватила старую подушку и вернулась к сараю.
— В чулане нашла, — сказала она, подавая вещи. — В дом боюсь заходить. Ой, темно-то как!
Шофер взял вещи, попытался расстелить, потом вернулся к краю сарая.
— Катенька, а где ж тут стелить? Ничего не пойму.
— Ой, уж он ничего не может! — Катя торопливо, чувствуя, как у нее внутри будто что-то закипает, заливает ее всю, полезла наверх. Стала так же торопливо стелить.
В это время дверь в сенях скрипнула. Катя присела. Присел и Юра, придвинулся к Кате, обхватил ее за пояс и привлек к себе, жадно и торопливо целуя сухими губами. Катя ударила его по рукам, но он не отпускал, все сильнее и сильнее сжимая ее, сильными оказались руки у черного человечка.
Катя лежала не шелохнувшись; не хотелось говорить, все казалось, что вот-вот заскрипит под тяжестью старика лестница и тогда позору не оберешься. Но старик постоял на крылечке, поглядел во все стороны, кашляя и шаркая подошвами, побрел обратно в дом. Шофер молчал, осторожненько перебирая Катины волосы, почему-то боясь первым начать разговор. Кругом темно и тихо, звезды лежали на небе далекие, с трудом донося до земли сквозь расстояния свой свет, и оттого, что так необыкновенно тихо, ему все больше и больше хотелось разрушить эту тишину, темноту и дело было только за тем, что он не знал, о чем ей сказать.
— Катя, волосы у тебя!.. — шепотом проговорил он и положил пук волос себе на глаза.
— Чего? — спросила она тоже шепотом, не поворачивая к нему лица. — Времь-то сколько, не знаешь?
— Детское время, Катенька ты Зеленая. А вот волосы у тебя красивые, гляди, какие длинные. Ты что их, ты отращиваешь? Говорят, в Москве косу можно в магазине купить. Купил, прицепил такие, навроде твоих… и красавица.
Катя поглядела в его сторону и облегченно вздохнула. Лежать было неловко, но не хотелось ей и пошевелиться, и, прильнув теплой спиной к телогрейке, от которой пахло мазутом, она старалась думать о чем-нибудь серьезном. Но в голове мелькали картины, связанные только с дядей Ваней. Она глядела в черное, усыпанное далекими, проглядывающими будто сквозь туман звездами небо и загадывала: упадет ли звезда, нет? Вскоре далеко вниз от Большой Медведицы, прочертив мгновенный путь, покатила звезда: у Кати в груди вздрогнуло, и она с печалью обреченного человека подумала: к добру ли это или нет? Видать, к добру, раз таким коротким был путь у звезды: у добра путь всегда короток.
— Катя!
— Чего тебе? — нарочно грубовато спросила в свою очередь Катя и сразу подумала, зачем же это она так грубо отвечает.
Она встала и не попрощавшись, пятясь, ногой искала лестницу. Юра, привстав, поцеловал ее. Она ойкнула, когда нога, свесившись, не нащупала лестницу, потом тут же лестница была найдена, и Катя, обхватив его голову, быстро поцеловала сама. И тут же спустилась на землю.
ГЛАВА VIII
Подруги трудились, Федотыч лежал на расстеленном полушубке и постанывал. Тихое, приятное чувство наполняло Катю. Она посидела у ворот на ящиках, раздумывая, пытаясь разобраться с собою, и впервые ей не захотелось находиться, работать вместе с подругами, которые стучали молотками, разбивали старые ящики, подметали — готовились к приему новой картошки. Она сидела у ворот, все еще колеблясь и не решаясь подойти к подругам. В это самое время приехал Гаршиков.
— Зеленая! Поздравь!
— Ой, с чем тебя, Павел? Разве с опозданием на работу.
— Нет, Зеленая, не угадала. Меня невозможно отгадать, я как вон та невидимая вечерняя звезда, которую ты видела сегодня ночью.
— Которую, Павел, звезду? — у Кати замерло в груди. Она приподнялась, насторожилась.
— Это я к примеру, Зеленая. — Гаршиков рассмеялся. — Но скоро я смогу крикнуть: Эврика! Я документы сдал в Московский Ломоносовский университет. Усекла? Государственный! Но скажи еще, Зеленая, что такое жизнь? Я выучусь, буду известным человеком, тебя, наверное, больше не увижу, буду творить дела, ходить, говорить, я же буду философом! Пройдет лет сто… А дальше? Что такое жизнь, Зеленая?
— Уж я думаю, Павел, то, что сегодня, и есть жизнь. — Катя успокоилась и с вызовом глядела в глаза Гаршикову, чувствовала, что выдержит его взгляд, чего, впрочем, никогда не случалось, и ее уже слегка изнутри подтачивал червь смеха. Она не смеялась, по-прежнему грустно смотрели ее глаза, вялыми были мысли и жесты, но в груди у нее, словно на дрожжах, подплывал к горлу смех; странно — она чувствовала этот смех, но ей было совсем не смешно.
— То, что есть? — спросил он, поводя рукой кругом, так и не спрыгнув с подножки автомобиля. — Нет, Зеленая, усекай главное: жизнь — не это. Это видимость. Жизнь, жизнь интересная, настоящая, полнокровная — это не это и не вот это. Поняла? Ты вот человек?
— Ой, не знаешь?! И спрашиваешь, точно философ какой… Ай, не знаешь…
— А ты мне ответь: ты человек? Не уклоняйся, прямо говори мне, потому что в последнее время… Нет, ты мне ответь на этот, может быть, самый важный вопрос, когда-либо за последние два миллиарда лет задаваемый человеком человеку, а потом будешь глядеть в глаза мои ясные. У меня глаза прекрасные, но не про тебя они, Зеленая. Будем откровенны. Но ты ответь на этот один сакраментальный вопрос, имеющий, может быть, историческое значение: ты человек?
— Ой, прилип, как репей! Неужто ты не видишь! Руки, ноги, голова… Вот пусть тебе лучше Нинка Лыкова ответит.
— Но ведь время-то, время-то, Зеленая, идет гигантскими шагами. Машине пора под погрузку, а ты мне не ответила на главный, можно сказать, глобальный вопрос. Правда, не ты одна этим незнанием страдаешь. Все страдают. Вот гляди, Зелененькая. — Гаршиков сел на крыло машины и повел рукой вокруг себя. — Вот гляди. Люди живут. Черт знает сколько. Много. Время считает секунды, годы. Вселенная дышит энтропией, торопит нас, говорит нам: «Люди, ответьте на главный вопрос свой! Ответьте: для чего живете?» Нет, Зеленая, ответа. Были, конечно, ответы. Но ответы породили столько новых вопросов, что люди терялись, а растерявшись, свалили вину за неум на слабого, начались войны. И ты, Зеленая, не знаешь ответа на вопрос главный: для чего?
— Нет, знаю, Павел, — ответила быстро Катя, поглядела внимательно на парня и рассмеялась. — Ой, уморил! Вон девчата на нас глядят и думают: о какой такой жизни мы калякаем? Сейчас ты столько наговорил, а что будет потом? Что будет потом?
— Жизнь, Зеленая, сама усекаешь, вещь не смешная. Земля-то вертится, время стучит на гигантских часах космоса, вокруг девки глядят, а я парень — усекаешь это? — не из последних.
— Да уж… хвастать тебе пристало.
— Старче! — крикнул Гаршиков Федотычу, который все еще лежал на полушубке в глубоком раздумье по поводу внезапной болезни в животе.
— Чего тебе, Пашка — оторви нос? Чего тебе, оглоед, съешь тебя поганые собаки, надоть от мене?
— А ничего не надо, кроме шоколада, — пропел Гаршиков, передразнивая Федотыча. — Ничего не надо. Ответь мне на главный вопрос. Глобальный вопрос под силу лишь глобально мыслящим людям. Но ты скрываешь одно, ты с дьяволом заигрываешь. Черт тебя возьми и сжарь на том свете на сковородке, ты хочешь продать эту тайну дьяволу за большую цену. Не шути с огнем! — возвысил голос Гаршиков. — Жи-изнь! Она идет. Лю-юди! Они, Федотыч, кто сват, кто брат, а кто примазанный. Сейчас век какой? Космический! А почему ты хочешь продать тайну? Сакраментальную! Джордано Бруно! Продавал? Нет! Коперник, великий светоч! Продавал? Нет. А ты, плесень на великой оси Вселенной, росинка в гигантском атоме бесконечности, продаешь. Разве это дело? Нет. Это не дело. Клянусь своим черепком. Ты продаешь…
— Чего ты, Пашка, съешь тебя поганая собака, орешь? — Федотыч пожал плечами, посмотрел на Катю, и растерянная улыбка запорхала на его заросшем лице. — Чего орешь? Прямо как на трибуне казакуешь. С ума свихнулся, что ли? Перед девками выкобениваешься, чего ли?
Гаршиков выкатил свои синие большие глаза, будто от удивления, спрыгнул на землю, затем сел на крыло машины и поманил Федотыча к себе, как-то странно крутя пальцами, причмокивая языком. Деряблов, ничего не понимая, подошел, находясь во власти этого странного, вечно пытающегося подшутить над ним парня. Старик знал, что над ним подшучивают, и в то же время, съедаемый детским любопытством: «Что же будет дальше?» — подошел к парню. Гаршиков повел пальцем вверх. Деряблов запрокинул голову, следил за пальцем.
— Не продал? — завораживающе доверительно спросил Гаршиков, не глядя на старика, постучал тому по голому черепу. — Ответствуй правду. Будешь гореть на том свете, жариться на сковородке. Не продал? Говори как на духу, так как есть. Ответствуй!
— Да ничего не продал, Пашка, — слезливым голосом проговорил старик, оглядываясь на Катю, прикусившую от смеха язык и готовую в любую минуту прыснуть.
— А тайну, в которую я тебя посвятил?
— Какую ж тайну, Пашка? — ничего не понимал Деряблов, присев от тяжести неожиданно свалившегося на него обвинения. — Какую такую тайну, Пашка?
— Ты слыхал, как скрипит земля, старик? Слыхал. Не отбрехивайся, старче. И этот скрип ты продал. Продал кому? Продал нечистой силе! Кто это к тебе, старче, на метле приезжал ночью? Прелюбодействуешь с ведьмой? Кто, ответствуй?! — Гаршиков со смеху с трудом говорил.
— Да ты чего, Пашка? Серьезно? — совсем растерялся Деряблов, и по его растерянному виду можно было заключить, что из сказанного парнем он ничего не понял и уж никак не мог предположить, хотя подобное повторялось часто, что Гаршиков над ним просто смеется.
Подошли Нинка Лыкова, Марька, Нюрка. Нинка Лыкова была в новой короткой юбочке, привезенной в подарок матерью из Москвы, черной блузке, все догадывались, что оделась она специально для Гаршикова; белые свои красивые руки, оголенные до плеч, она держала перед собой, сцепив на животе.
— Да ты чё, Пашка? Спятил, что ли? Я продал! Да я ничего не продавал. Я на войне не был — не взяли.
— А вот врешь ты! — Гаршиков уже не скрывал, что смеется, но старик, заметив это, все еще никак не мог взять в толк, в чем и почему его обвиняют.
— Не вру, Пашка. Ей-бо! Не вру. Зачем же мне врать! Правда, бабоньки? Поганый ты, Пашка, человек, если подумал такое обо мне. Я сроду не врал. И съешь тебя, Пашка, самая поганая сучка, на которую ни один кобель не позарится. Кобель ты здоровый, Пашка, и есть.
— А на фронте ты продал чертежи одной секретной пушки. Ты забыл разве?
— Каки чертежи? — Старик от удивления даже присел, словно его кто по голове ударил.
Нинка Лыкова, не сводя влюбленных глаз с парня, заливисто смеялась, Нюрка от смеха вытирала слезы, и только Кате стало жаль бедного старика, и она смеялась и плакала одновременно, не зная, как ему помочь.
— Пушка — ракета «РУ-1152117 ДД», то есть дальнего действия! — громко сказал Гаршиков и ухватился за живот. — Не продавал? Не ври!
— Так, Пашка, я у фронте-то не был, — плаксиво отвечал все наконец понявший старик и не знавший еще, как же отплатить парню. — Я, Пашка, на первой империалистической кресты получил за храбрость, а ты, сукин сын, съешь тебя сучка паршивая и через зад выплюни, чтоб усю жизнь вонял, надсмехаться, точно француз, над стариком вздумал.
— Кто? Я? А что, девоньки, надсмехался я над стариком? Никогда такого не было! — отвечал Гаршиков. И тут он дал волю себе, смеялся так, что Нинка Лыкова с испугу, что с парнем случилось плохое, стала икать.
Глядя на него, рассмеялся и Деряблов. Проходивший мимо человек заглянул на овощную базу и спросил:
— Падучая прихватила?
Кате стало грустно, и она отошла от машины. К ней подошли Лыкова, Марька, и они втроем некоторое время сидели молча. Стоило Нинке сесть, как коротенькая юбочка ее задралась, оголяя полные белые бедра. Она постоянно одергивала юбочку, но видно было по всему, что ей очень нравилась и сама юбочка, и само занятие одергивать.
— Вот возьму сошью себе такую, — сказала Катя, глядя на Нинку. — Раньше прятали коленочки, а теперь — на, гляди, коли уж так тебе хочется. Да, Нинка?
— Ой, чего мы сидим! — крикнула Марька. — Давайте работать, а то вон туча к нам в гости!
Словно стремясь подтвердить ее слова, раздалось далекое тарахтение грома. Все оглянулись и увидели, как огромная черная туча, правым концом разворачиваясь к городу, сверкнула молнией. Через минуту закрыла солнце, все еще стремившееся прорваться лучами сквозь хмарь к земле. И как только услышали гром, все смолкли. Деряблов перестал ворчать на парня, схватил лопату и начал сгребать в бурт раскиданную на просушку, мокрую от гнилости картошку. Рабочие бросились уносить зеленый лук под навес, громко хохоча, поглядывая на тучу, так неожиданно и некстати закрывшую небо. Один Гаршиков, будто его не касались капризы погоды, сел спокойно на крыло машины, достал из кармана программу для поступающих в вуз и стал сосредоточенно читать.
Катя торопилась. Она бегала с охапкой лука. Картошку не успеют унести, так хоть в бурт ее собрать, чтобы совсем не размыло дождем. А гроза уже дышала повлажневшим, холодеющим воздухом. Все чаще погромыхивало, вот прошлась по земле первая, вторая и третья волна обеспокоенного воздуха, тяжелого от влаги, громыхнул рядом, за домами, коротенький, но крепкий гром, смолк на секунду-другую, и только слышно было, как где-то там, за тучами, обложившими весь небосклон, недовольно поурчал, успокаиваясь, и затих. И вдруг совсем над головами треснул, словно лопнула каменная скала, с такой силой, что Нинка, тащившая куль с луком, растянулась на земле. И сразу порывами налетел ветер, подхватил соломинки, завертел фуражку Деряблова, и сыпанул реденький дождичек. Увидев, что Нинка Лыкова упала, Гаршиков вскочил, сунул в карман программу и начал помогать. Но тут хлынул проливной дождь.
Капли залетали под навес, падали на руки, лицо. Катя глядела с восторгом на дождь, не замечала капель. Дождь сплошной завесой висел на улице, густо шумел, поглотив все шумы. И только изредка в сторонке слышно было, как погромыхивало. Тут уже властвовал дождь, а где-то еще погромыхивало, там дождь только готовился пролиться. Все сидели молча, один Гаршиков в кабине читал, готовясь к вступительным экзаменам. Катя сквозь густой дождь видела Гаршикова — как он там сидел, позевывая и не удосуживаясь взглянуть хотя бы в ее сторону. «И зачем он должен смотреть в мою сторону?» — спросила она себя, почувствовала на себе чей-то взгляд и обернулась, — точно так же, только сзади нее, стояла Нинка Лыкова и глядела на парня.
А дождь лил.
Лил и вечером. Катя, сняв тапки, под дождем побежала домой. Иван Николаевич сидел у окна и, надев очки, читал книгу.
— Чего читаешь, дядь Ваня?
— Книжонка. Интересная. Хочешь?
Катя глянула на обложку толстой книги и очень удивилась: дядя Ваня читал Библию.
— Чтой-то? — спросила она и рассмеялась. В бога уверовали или как понимать? Навроде не набожные были.
Старик молча поглядел на Катю, — видно было, как он щурил глаза за очками, внимательно всматриваясь в нее, глядел так, словно ожидал от нее чего-то необыкновенного. Катя не могла усидеть на месте, прошлась по комнате, постояла возле комода, направилась в другую комнату, в которой не жили. Здесь стоял огромный стол, лавки вдоль стен, было сильно захламлено. В куче лежали: материнские туфли, старые платья, отцовские резиновые сапоги, хлопчатобумажные галифе, старые ящики с разной всячиной, ржавые обручи, истлевшие веревки. Комната была большая, никто в ней не жил с войны, ее заколотила мать именно в тот день, когда они получили похоронку. Катя очень хорошо помнила, как утром встала, поеживаясь от холода, и мать уже все решила относительно этой комнаты, неимоверно холодной, такой холодной, что Катя, когда задувала пурга и боялась ходить за водой к колодцу, соскребала со стен в ведро снег, натапливая его целое ведро.
Печник, молодой хитроватый парень лет двадцати двух, хромой то ли на левую ногу, то ли на правую, — Катя уже не помнила, — примерил заранее отцовскую новую шинель (мать отдавала шинель за печь, которую он должен был сложить), недовольно нахмурился, полагая плату мизерной и набивая себе таким образом цену, хотя по всему было видно, что шинель ему нравилась и он боялся упустить ее. «Но… согласен… уж…» Печь парень построил за два дня, клал ее быстро и весело, насвистывая бравурную песенку. А вечером, когда печник ушел домой, к ним постучал почтальон и принес то, чего они больше всего опасались — похоронку. И вот она стояла сейчас как раз в этом же углу, как и в тот раз, и где у них, пока печник не сложил печь, стояла железная печурка, и так как трубу через вынутое стекло в окне вывели на улицу, она стояла и грелась. Постучали. Она пошла открывать. В печурке тонко свистело от ветра, и этот свист так и остался навсегда у нее в ушах. На всю жизнь… Стоило бы зайти сюда, постоять чуть, как этот тоскливый свист ветра находил на нее и она вспоминала тот вечер, до мельчайших подробностей.
В немощной безнадежности не однажды стояла у этого окна Катя, — молча глядела во двор, слезы катились из глаз — чувствуя безысходную тоску и бессилие что-либо сделать, слышала в себе этот свист, думала о матери и отце. Намаявшись и настрадавшись душою, замирала от усталости.
Катя села на печурку. А за окном шумел дождь, и ей казалось, что это у нее в голове шумит кровь; от шума было хорошо, и она, тоскливо озираясь, будто еще выискивая следы матери, не могла взять в толк, как ей удалось столько времени прожить без отца и матери. Неужели жизнь устроена так жестоко и так неумолимо и нельзя сделать, чтобы вот дочь их, Катя, обернулась — и она, мать родная, на пороге стоит, глядит своими ласковыми глазами? «Доченька, умаялась без меня-то?» Неужели это может происходить только во сне?
Катя заплакала. Слезами горю не поможешь, все это она прекрасно знала, но часто человек бессилен перед самыми простыми своими чувствами, и ему приходится искать утешения в слезах. Катя не заметила, как в комнату вошел Иван Николаевич.
— Плачешь? — Он подошел ближе и опустился рядом с Катей. — Не надо плакать. Нет. Нет. Нет. Что такое слезы? Слезы — это работа железок в глазах. Вот лучше прочитай в Библии про апостола Павла.
— Отстаньте, дядь Ваня, со своим апостолом.
Катя посидела еще с минуту на печурке, затем стала прибирать в комнате. Она с таким остервенением сбрасывала в кучу старый хлам, подняв при этом большую пыль, что старик с изумлением, сняв очки, уставился на нее. А она этим самым словно старалась избавиться от горьких мыслей, от своей, наконец, одинокой жизни. Она раскраснелась от работы, засучила рукава, вынула раму, что ни разу не делала, и сразу густой шум дождя заполнил комнату, повел тоскливую песню о вечной жизни, о том, что пока дождь идет, жизнь не остановится, из года в год будет прекраснее, интереснее…
— Вот так, дядь Ваня, — сказала она, глядя, как старик старается ей помочь, уносит хлам из комнаты в сени. — Хватит, намаялась в тесноте. Надо по-человечески жить. А то, ой, мы, как нищие, в тесноте да в темноте. Вон какая комната-то светлая, пять окон.
— Да, Катерина, тут просторно от света, солнечная сторона, — отвечал Иван Николаевич, усаживаясь отдохнуть на печурку. — Умирать тут — и то легко.
— Ой, дядь Ваня, скажете!
— А что, Катерина? — Иван Николаевич оглянулся на дверь, потянувшись, хрустнуло при этом в его суставах. — Человек не рождается и не умирает. Я читал. Поняла?! Так красивее жить, когда знаешь это. В душе у тебя поселяется загадка, и сам думаешь: «Что ж я такое?» Он переходит, — вот я читал в одной книжке, не в Библии, — из одной формы в другую. По Библии поется по-другому, у нее наша жизнь ни во что не ставится, бичуй себя, истязай, а, мол, заживешь, во как заживешь — по ту сторону, в раю. А тут мучайся. Нельзя ли наоборот — тут живи во! А там, как здесь, помучайся немножко.
— Эх, дядь Ваня, зачем вам это? Ой, что это все мужики помешались, что ли, на этом? Гаршиков наш, так тот сегодня всю душу мою извел, все спрашивал: зачем я живу? Вы, дядь Ваня, опять же о смерти. Об аде, о рае, а они, дядь Ваня, все — и рай, и ад — все вместе.
— Ничего ты, Катерина, не понимаешь, — обиженно сказал на это старик, глянув укоризненно на нее, бормоча про себя, что, мол, с бабы возьмешь, мол, он бывал с такими умными людьми, с такими беседовал и на такие высокие темы, что если бы она, Катя, услыхала хоть краем уха ту беседу, то задрожала бы от благоговения перед Иваном Николаевичем.
Кате жизнь сегодня казалась не такой сложной и непонятной, как раньше, она словно коснулась какой-то тайны, познав ее, освободившись от неизвестного, и жизнь, жизнь других, даже жизнь всех, казалась доступной именно в сегодняшний день, и потому она так твердо глядела в глаза Гаршикову, так дерзко ему отвечала, так как чувствовала в душе право на такой подвиг — на тот чуть насмешливый тон, который она позволила себе.
Старик вышел, а Катя принялась подметать рассохшийся, щелястый пол. Катя мела осторожно, медленно, оглядываясь, прислушиваясь, — ей почудилось: кто-то за ней наблюдает, кто-то глядит ей в спину Но за окном лил дождь, старик ушел в другую комнату.
Через полчаса вернулся Иван Николаевич, протопал к окну и неожиданно спросил:
— Чего?
— Что чего, дядь Ваня? — подняла на него глаза Катя, не разгибая занемевшую спину.
Что еще говорил этот ваш Гаршиков? Об жизни? А еще о чем? О чем таком? Умно говорил… А-а, ну что там с баб возьмешь! — с досадой сплюнул в окно старик, махнул при этом вяло рукой. — Москва, Катерина, это да!
— Ой, дядь Ваня, вы мне сто раз говорили про столицу-то. Я ведь разве что против имею?
— Ну, так об чем говорил Гаршков? — раздраженно переспросил старик, уставясь неподвижными глазами на Катю.
— Не Гаршков, а Гаршиков, дядь Ваня. Трепался обо всем. Об чем не лень. «Ты, говорит, ответь мне на главный вопрос…»
— Ну? — не стерпел старик, заволновавшись, и от волнения даже снял очки.
— «В чем, говорит… ну, для чего, то есть, говорит, живешь?» То есть, мол, человек для чего живет? А сам непонятно для чего живет. — Катя говорила протяжно, стараясь подражать Гаршикову, готовая прыснуть со смеху: — «Ответь на мой сакраментальный вопрос, имеющий, может быть, историческое значение». Дурак он большой, вот кто он, дядь Ваня.
— Ну, так и что же сказал Гаршиков? — не утерпел старик. — Дальше как? О производительных силах и производственных отношениях говорил?
— «Вот, говорит, округ меня, это что — жизнь?» — «А что, отвечаю, еще? Разве нет? Это как раз, отвечаю, и есть жизнь». А он говорит, что я очень ошибаюсь и что, говорит, человек за два миллиарда лет не ответил на главный вопрос: для чего?
— Ну? — Иван Николаевич заходил по комнате, сцепив руки на спине. — Ну? Это очень-очень… — Его глаза как-то странно вспыхнули горячим блеском. — Вот с кем бы поговорить… О главном вопросе. А так умрешь, душу отдашь… А за что, за какие грехи, зачем? Никому не известно. Я прожил, Катерина, долгую жизнь. — Иван Николаевич остановился, торжественность проскальзывала в его голосе, и казалось он хотел поведать нечто важное, неожиданное, и Катя, замерев, уставилась на него с ожиданием. — Эта жизнь, Катерина, не просто жизнь обыкновенного человека, а есть в ней стороны тоже очень даже выдающиеся, за которые я бы давал не только ордена наивысшие.
— Да, дядь Ваня, — продохнула Катя и села на печурку. Ей думалось, дядя Ваня откроет сейчас одну из своих тайн, которых у него, по ее глубокому убеждению, было полно.
— Но, Катерина, судьба индейка, а жизнь наша копейка. Есть непонятное в судьбе человеческой. Жизнь и смерть мешаются, и не знаешь порою, куда идти — к смерти ли, к жизни ли. Куда лучше? Не знаю. Нет сейчас надписей на камнях, которые были раньше. Сместились полюса, завихрились, их понятия иные, хотя названия и старые. Полно в нашей жизни великого и смешного — и не более, Катерина! Вот в чем вопрос. Это меня всегда мучило. Где истина? Нет одной истины на земле. Ходит она в чужой одежде. И одежда-то ее не ее, а чужая. Вот и гадают, рядят: где она? А она та, да не та. И поэтому, Катерина, я жизнь иногда не понимаю, хотя вон сколько прожил, не понимаю до ненависти. Одно так, а другое этак, не должно быть все шиворот-навыворот в ней. И не говори мне в ответ. Я ответа слышать не хочу. Не хочу! Нет. Нет. Нет. Вот так…
— Но дядь Ваня!..
— Не говори мне ничего. Я слушать не буду. — Старик сплюнул и, нарочито громко топая, заторопился вон. Он стоял в сенях, тяжело, шумно дышал, еще не успокоился.
— Все ясно, дядь Ваня. Стопочку выпьете?
— Давай, Катерина. Душа у меня не на месте, прямо трясет, а все… Успокоить ее надо. Время мое останавливается, Катерина. Ноги у меня все время холодные. Мне, Катерина, много лет, так много, что все года не помню. Вот как… Года свои не помню. А уж если человек себя не помнит, так его довела жизнь, то разве он чужое вспомнит? Только через себя он может уважать другого. Только через себя. И никак. Поняла? Никак. Эх, Москва! Ну, давай, Катерина. У меня все жилки трясутся, словно их кто за концы дергает, какой-то звон по телу идет, аж ушам больно. А может, кто и дергает за нервы и говорит: пора. Последняя клеточка вздрогнет, прошепчет: пора.
Уж очень сегодня разволновался Иван Николаевич, Катя даже испугалась. Не стало ли с ним плохо? Она поддакивала каждому его слову, а он все говорил и говорил, договорился до того, что сейчас, мол, ляжет, а Катя пусть приложится к его груди и пусть услышит последний вздох, последний удар сердца. Катя налила стакан водки, он отпил половину, остальное прикрыл картонкой, удовлетворенно вздохнул и хитро поглядел на нее.
— Ну?
— Да ну, дядь Ваня, вы уж меня совсем испугали! Ей-богу, я уж подумала, чем-то обидела вас.
— Не ты, Катерина, люди обидели.
— А в чем, дядь Ваня? — удивилась Катя, принимаясь снова за уборку в доме.
— Помнишь, Катя, я пришел? Помнишь? Зуб на зуб не попадал, а оне меня не пустили потеплиться в дом.
— А я-то пустила.
— Ты пустила. Нет. Нет. Нет. О тебе я не говорю.
— А я не люди? Ой, не знала!
Иван Николаевич смолчал. Его снова заинтересовала какая-то общая, великая, как думалось, мысль, которая сразу ответит на все вопросы его и всего человечества. Но эта мысль не приходила в голову, запаздывала, и самое простое оставалось без ответа. Но старика все равно чаще и чаще интересовали общие, невероятные мысли, которые он плохо понимал и которые с трудом улавливал и часто принимал неясность за значительность и важность. Как раз то, что он плохо их понимал, и привлекало его, и, постоянно думая об этом, он пытался понять: что такое истина? Если дать точный, умный ответ на этот извечный вопрос, то все остальное раскроется само по себе, и перед ним, как перед чародеем из сказки, не будет неясного и запретного, он все познает, все подчинится ему. Все остальное, встречающееся в повседневной жизни, не привлекало, потому что было привычным, приносило одни неприятности, казалось мелким, неинтересным, потому что обычное — это повседневная жизнь, которую, однако, он принимал как долженствующее, само собой разумеющееся, хотя и ничтожное с точки зрения такого неразрешимого понятия, как «истина». Будучи привередливым, он не замечал в себе этой привередливости, полагая, что не она суть в жизни.
Старик вышел в сени, остановился у раскрытой двери и, глядя на шумевший дождь, тихонько от удовлетворения засмеялся.
Катя услыхала этот смех, облегченно вздохнула, принимаясь вновь за уборку.
К вечеру комната была готова, чисто блестела мокрым, выскобленным полом.
— Дядь Ваня! — неожиданно для себя крикнула Катя в гулкой от сырости комнате, боясь, что он не услышит из-за дождя. — А женатый раньше вы были?
Иван Николаевич по обыкновению своему сразу не ответил. Катя помолчала, ожидая, подошла к открытому окну. Солнце уже, судя по времени, село. Тоскливо гляделись двор, сарай. Она вспомнила сегодняшнюю свою работу, подруг, Гаршикова с книгой в кабине автомашины, и все они — люди и все остальное — проносились у нее в голове, рождая какой-то легкий, приятный шум, который, сливаясь с шумом дождя, шумевшего сейчас так же, как и тысячу, десять тысяч лет назад, приносил приятное, удивительное ощущение слитности ее чувств с этим шумом.
ГЛАВА IX
Впоследствии Катя не могла понять, что заставило ее убирать комнату. Им со стариком вполне хватало прежней, вдвое больше этой, с русской печью, перегораживающей ее так, что у них была не одна, а на самом деле две комнаты. Катя на другой день простояла битый час в комнате, оглядываясь, прислушиваясь.
— Вот сюда кровать бы, а вот сюда стол; шифоньер можно поставить вот сюда — и обязательно с зеркалом.
Через неделю Катя затеяла побелку, после которой комната казалась еще просторнее. Часто ее в этой комнате одолевало мучительное желание хозяйничать — переставлять, подметать, что-то делать… Временами ей представлялось, что она не одна. То ей чудилось, как бегает по полу маленькая девочка, как она, Катя, ее мать, глядит на девочку и радуется. В Катиной груди словно звенела какая-то струнка, и этот звон вызывал у нее тоскливое ожидание перемен. Порою она плакала, зажав рот руками, иногда видела, как эта комната убрана красивыми вещами — шкафами зеркальными, столами новыми, стульями, тумбочками на тонких, изогнутых ножках; в углу горит, как у Нинки Лыковой, лампа, а с потолка вместо желтого абажура свисает трехрожковая люстра, смело метнувшая яркий свет во все углы комнаты. Катя видела комнату убранной, чистой, полной всего и разного, в ней ходил ребенок, ее дочь; сидел у окна и курил, — она ощущала так явственно запах табака, что даже чихнула, — ее муж.
Со временем Катя все же перенесла свою кровать в ту комнату, забрала еще кое-какие вещи. Прямо с кровати можно было смотреть во двор. Ночью, вынув раму, она подолгу глядела с кровати в темный провал на далекие звезды и думала о том, как хорошо там, ближе к звездам, где летают спутники, проносятся ракеты, куда устремились космонавты, вслушивалась в каждый незначительный шорох, доносившийся с угла или с улицы. Однажды Катя вылезла из окна во двор, села на лавке, продолжая все так же глядеть на звезды, думать о том же. Была глубокая ночь, но ей не спалось, и, конечно, Катя очень испугалась, услышав недалеко от себя чьи-то шаги.
— Катя, — голос был знакомый, — не бойся. Это я.
— Ой, напугал! Чего ночью расхаживаешь? Откуда ты? — спросила она, узнав шофера.
— Да, где я был? Где? — спросил себя он. — А был я в командировке.
— Молчком убёг — и ну, ни слуху тебе, ни духу, — Катя осеклась, сообразив, что упрекает его в чем-то, а какое она имеет право упрекать? Она отвернулась.
Оба некоторое время молчали, ожидая, кто заговорит первый.
— За цементом ездил. В Омск. Сама знаешь — не ближний свет. Попал под дождь, верхние мешочки мои поплыли. А я тебе, Катенька Зеленая, красавица ты моя злющая, привез подарочек. Возьмешь — обрадуешь, откажешься — обидишь.
Он показал что-то в руке, но Катя в темноте не разобрала что.
— Видишь, — тихо сказал шофер, и тут только она заметила, что он почему-то грустный, растерянный, в его голосе так и прорывалась печальная нотка, — видишь, я о тебе думал. А думала ли ты, красавица, обо мне?
— Да, — еще тише ответила Катя, помедлив. И тут неожиданно для себя чуть не заплакала, вспомнив, как сидела в комнате, как скрывала от самой себя, что мужем все время видела в своих мечтах Юру, и, боясь разреветься, встала.
— А я вот привез, — протянул шофер руку.
Она коснулась руки, почувствовала, как вздрогнула его рука, потом нащупала и сам подарок — на горячей огромной руке лежало что-то холодное. Катя, испугавшись холодного, отдернула руку.
— Да ты, Катенька, дотронься, пощупай.
Юра придвинулся совсем близко к ней, так близко, что она слышала, как он дышит. Она хотела отступить назад, но что-то ее держало, хотела ступить вбок, но не могла поднять ногу, чувствуя, как немеет телом, как прихлынувшая кровь затопила грудь, шею, лицо, как сдавило в груди и дышать стало труднее. Однако, несмотря на желание отойти, стоять вот так, чувствовать рядом Юру, его дыхание было приятно; горячая волна крови, заполнившая грудь, всколыхнула в ней давно забытые ощущения, и, боясь шевельнуться, чтобы не упасть, Катя некоторое время стояла, словно неживая, только в голове какая-то мысль копошилась, жила сама по себе и торопила Катю, торопила куда-то…
— Юра, — Катя ослабевшей рукой вытерла вспотевший лоб.
— Возьми, — попросил он, осторожно дотрагиваясь до ее руки. — Бусы.
— Бусы? — спросила Катя, опускаясь на лавку. Ей хотелось закрыть глаза, не говорить, а так вот плыть в полусне, когда мысли и чувства, слившись воедино, влекут тебя в чудную, прекрасную страну под именем сон.
Юра что-то говорил, она ничего не могла расслышать, понять, слова будто пролетали сквозь нее не останавливаясь, и она не улавливала их смысл.
— Бусы? — переспросила шепотом Катя.
Он ловко взмахнул руками, и не успела она моргнуть, как накинул на шею бусы. Они холодной полоской обхватили шею, и Катя от неожиданности даже вскрикнула. Юра рассмеялся, положил ей на плечи руки, поцеловал ее, и она не отстранилась, как было всегда, а только замерла, задержала руки на бусах, подалась вперед, и спустя минуту, когда Юра сидел молчаливый, спросила:
— Юр, а что это за бусы?
— Вот они, Катенька, — оживился он, придвигаясь к ней поплотнее. — А я заглянул в магазин, гляжу — ну, всего полно, товаров для женщин больше, чем у кочующих цыган, а бусы — желтые, полные, так и переливаются на солнце — лежат под стеклом на витрине и говорят мне настоящим, — черт, возьми цыгана голыми руками, обожжешься! — настоящим человеческим голосом: «Вот, молодец удалой, цыган, возьми бусы, подари Кате. Красивые! Особливо днем». Вот днем посмотришь — сразу меня вспомнишь. А как вспомнишь, так и полюбишь.
— Скорый какой! — рассмеялась Катя.
Говорил он быстро, глядя Кате в глаза, и глаза его в темноте от далеких звезд поблескивали таинственно и загадочно, и он словно задыхался, все убыстряя и убыстряя речь, и то ли оттого, что говорил торопливо, то ли еще отчего, но от разгоряченного Юры так и несло жаром.
— А как же ты ночью домой пойдешь? Вон в прошлый раз оставили поддевку, фуфайку и подушку на сарае, а дождь пролил. Ой, что было! Дождь прямо лил, что тебе из ведра. Так намокло все, подушка расползлась. Еле-еле просохла! Вот ты какой вред дяде Ване навел. Ой, хорошо он не знает. Ой, сраму бы было!
— А я так на сено ляжу, — сказал Юра. — И буду тихо лежать. — И он показал, как будет лежать и насколько будет тих и спокоен.
— Нет, Юра, иди домой. Спасибо тебе за бусы.
— Я вон в какую темень притопал, Катя. Все тебя тут караулил, — с обидой сказал он. — Вон на моих двенадцать только.
— А то мало? — удивилась Катя, растерявшись от его обиды, и присела рядом. — Времь-то сколько вон!
— Так ну что там, — махнул он рукой, встал, собираясь уходить. — Дело не во времени.
— А в чем?
— А в том, — ответил он, слегка присвистнув, и не попрощавшись направился по улице прочь от Кати.
— Юр, ты уходишь?
— А что мне, Катенька, делать?
Он шел медленно, вздыхал, потом остановился, подождал, пока подойдет она, и взял ее за руки.
Попрощавшись с Юрой, она, все еще смеясь и вздрагивая от смеха, чувствуя, как по всему телу разливается спокойное, приятное тепло, направилась к себе.
Еще не встало солнце, и цепочки облаков по горизонту как бы в задумчивости, не освободившись от ночной дремы, медленно плыли встречать на восток солнце, туда, где реденькие облака, словно пушинки, висели над белым, ярко исходящим светом ранней зари, сильно полыхнувшей из-за края неба. Катя выглянула в окно, протопала босиком по холодному полу к другому, плохо соображая со сна. И тут услыхала — на улице лаяла собака. «Ах, вон оно что», — подумала усмехнувшись, направляясь снова к кровати, но тут догадалась, что собака лает где-то недалеко.
В углу двора лежала куча хвороста, мокрая от росы. На куче, укрывшись своим пиджачком, похрапывая, спал Юра, а за забором, наскакивая на спящего врага, лаяла собачонка. Катя прогнала дворнягу и, присев возле Юры, стала разглядывать его. Никто ей не мешал. Черные курчавые волосы его сбились набок и торчали во все стороны, смуглое, чистое, какое бывает у всех смуглых, без единого прыщичка, лицо было безмятежно спокойно, приоткрытый рот обнажал ровные белые зубы. И оттого, что так безмятежно было лицо, так беззащитно приоткрыт рот, из которого как-то особенно мирно, с легким свистом, вылетал храп, Кате стало жаль его, спавшего из-за нее бог знает где. Во сне Юра выглядел совсем другим, каким-то мудрым, будто думал о чем-то. Вот и солнце выплыло на небо, заблестело в росинках на траве и прутьях. Катя осторожно тронула его за руку, и он проснулся. Долго глядел одним прищуренным глазом и ничего, видимо, не видел вначале, потом открыл второй глаз…
Юра вскоре ушел, так и не расставшись со сном, как казалось Кате. Весь день он находился перед глазами Кати — сонный, с одним прищуренным глазом, с безмятежно спокойным лицом человека, не привыкшего к уюту и чувствующего себя везде одинаково удобно. Конечно, надо бы ему брюки выгладить, пиджачок выстирать, выгладить рубашку, чтоб ему не приходилось всегда ходить чумазым. И она, трогая на груди бусы, ясно и чисто заблестевшие под солнцем янтарным блеском, затаенно улыбалась.
Весь день не покидало ее это легкое, удивительное чувство, в груди что-то тихо пошевеливалось, будто там открылось какое-то светлое окошко, через которое прорвалась к ней новая волна ощущений, радостное и легкое чувство. Катя испугалась, считая, и не без оснований, что влюбилась.
— Времь-то сколько? — то и дело спрашивала она на работе у Деряблова, который с утра ходил сердитый, ни с кем не разговаривал, часто усаживался на расстеленный полушубок, одетый сегодня на редкость в чистую рубашку яркой расцветки, подаренную ему закоренелым «врагом» Гаршиковым, в новые кирзовые сапоги, побритый, подстриженный.
В полдень он исчез на час, а вернувшись, расстелил рядом с собой газеты, вытащил из-за пазухи четушку «Московской», оглянулся, жадно облизываясь, на баб, вылил водку в стакан и выпил. Раздобревший, сидел некоторое время грустный, затягивал невеселую песню, а затем встал и, подходя по очереди к каждому работающему, говорил:
— А у меня в это время сын погиб. Смертью храбрых! Степа погиб, мой сыночек. В это самое время, тридцатого июля, сыночек погиб, мой Степушка. Так вы не подумайте чего, я по усопшему. Слава те, господи, меня, дурака старого, оставил, а его, молоденького… Кости его гниют. Слава те, господи, сутана тебе возьми! — По его лицу текли слезы, борода вымокла, выцветшие глазки, наполненные слезами, сидели глубоко и печально глядели на мир и даже без слез вызывали сострадание. — Меня он приберег, я ему нужон, а сына-то Степушку прибрал, Так на что ты сделал это, господи ты окаянный?!
А в это время над городом низко торопились облака, застилая солнце, и по земле прыгали тени, и оттого, что тени прыгали, мельтешили, а рядом ходил, плакал старичок, Кате было особенно нехорошо. «Какая несправедливость, — думала она, наблюдая за Дерябловым, бегая из-под навеса к машине за ящиками с огурцами. — В чем он, этот старик с жиденьким пучком коротеньких волосинок на грязно-розовой голове, провинился? И кто готовит людям такое горе? Знать да плюнуть тому в лицо».
— Времь-то сколько? — спросила Катя у Нинки Лыковой, протирая платком вспотевшее лицо.
— Да что тебе время, Зеленая? Все время и время. Уж который раз. Можно подумать, время для тебя главное.
С тех пор как Гаршиков, не попрощавшись, уехал в Москву поступать в университет, Нинка перестала следить за собой, грозилась то и дело, что уйдет из комсомольских секретарей, с Марькой Репиной совсем не разговаривала, считая ее главной виновницей случившегося, и в ее фигуре, походке, даже в ее красивых длинных ногах появилось что-то вызывающе неприятное, надменное: плевать, мол, я теперь на все хотела. Юбку Лыкова укоротила настолько, что старухи на улице оглядывались и плевали ей вслед: «Сучка-то бесстыжая! Тьфу. Срам-то… Срам видно. Тьфу!..»
В обеденный перерыв Катя быстро поела, взглядывая на успокоившегося Деряблова, и рада была тому, что старик успокоился, но и тревожно стало в груди, и никак не могла она освободиться от этой тревоги. Солнце выглядывало из-за туч, торопливо грело людей, землю и снова пряталось. Лыкова молча сидела одна на бочке из-под капусты и, болтая ногами в белых капроновых чулках, читала «Анну Каренину». Репина, пристроившись на солнцепеке, загорала, сняв кофточку, лузгала семечки и изредка косилась на Лыкову; рядом с ней сидела Соловьева. «Что делать? Что делать?» — с тоской спрашивала себя Катя, оглядывая подруг. Не терпелось уйти хотя бы в магазин, но заведующего, чтобы отпроситься, как обычно, не было. Катя встала и направилась вдоль забора, возле которого буйно росла лебеда, над ней облачками висели мошки. Она не знала, куда идет, зачем, но вот вспомнила что-то, направилась к старику Деряблову, улегшемуся на полушубке. Но посередине двора остановилась. «Чего же я хочу? — спросила себя и направилась к Нинке, вся сосредоточенная в себе. — Что ж это такое?» Будто что-то ввинчивалось в грудь, проходило сквозь нее, уносило с собою Катины мысли, чувства. Что ж это такое?
— Нинка, — спросила Катя растерянно, — у тебя никогда не бывало такого?
— Чего? — отрываясь от книги, лениво спросила Лыкова.
— Ой, Нинка, в груди так тревожно, так тревожно. Уж больно. Не беда бы, а?
— Помене думай о нем, — бросила Нинка, уткнулась в книгу и уж отвечала, не отрываясь от книги.
— О ком?
— О ком хочешь. Не думай.
— А если чего, из комсомола погонят?
— Погонят, — просто ответила Нинка. — Мы тебя числим, а так твое дело, гляди. У тебе куснуть чего нету?
— Так я уплела что было, — ответила Катя, думая крепко о чем-то своем, тревожась, хотя — убей — не знала, о чем. Если о Юре, то нужно ждать вечера, и никуда он не денется.
Катя постояла подле Нинки и направилась к старику. Он лежал, полузакрыв глаза, глядел на облака, голубое, в просветах, небо. Иногда облако, на которое он глядел, принимало странную форму, и старик словно видел профиль своего сына, и то, что видел, пугало его и, как магнит, притягивало. Изредка Федотыч представлял, что он — то не он, а сын его, а он, старик, вон там, в небе, в форме какого-то облака, а сын лежит на теплой земле, глядит на небо, и мысли его и чувства — все об отце. От подобной игры на душе у старика становилось легче, и он ласково улыбался, стараясь не упустить из виду знакомый, родной профиль, наслаждался сладкими, ласкающими сердце чувствами.
— Дедушка Федотыч, — спросила Катя, присев рядом, — вы спите?
Старик ничего не ответил, досадуя, что его потревожили, выругался про себя, совсем прикрыл глаза, ожидая, когда Катя уйдет, и в то же время боясь пошевелиться, чтобы, не дай бог, не исчез на небе профиль сына.
— Дедушка Федотыч, а вы бы ко мне в гости пришли, — сказала она.
Рядом за забор села ворона и так громко каркнула, что старик вскочил и прямо при Кате нехорошо обозвал ее. Ворона улетела, а Федотыч сказал Кате:
— Не приду. А будя время, приду. Поняла? У мене хозяйство. Чего ж я — шляться, а хозяйство нехай к чертовой матери горит, так, по-твоему? Это твой трухлявый пенек с утра до потемок в огуречной грядке мух ротом ловит, а мне, милая, не до гулянья.
— Ну, так я, дедушка Федотыч… — начала Катя.
— А я туда же, — неумолимо отрезал старик.
Вечером Катя сидела на лавке с дядей Ваней, то и дело поглядывая на улицу. Но Юры не было. Возле универмага стоял самосвал. Катя наблюдала за самосвалом, и сердце у нее замерло, когда вдруг машина тронулась с места.
Солнце село, уже сумерки полнили землю, а Юра не приезжал. Все было так, как всегда: Юра появлялся внезапно, уходил, а потом снова удивлял своим неожиданным приходом. Но если раньше Катя его не ждала, то сегодня, после всего… Катя весь сегодняшний день думала, что вечером он приедет и она ему скажет: ждала его, волновалась, пусть Юра правду знает — она любит.
ГЛАВА X
Осень всегда казалась ей таким временем года, когда наступает полное умиротворение в природе. И от такой мысли тихой благостью наливается человек, и он, глядя на пожелтевшие листья, потускневшую, словно вылинявшую, траву, белые полные облака, необыкновенно мягкое небо, слыша тоскливый крик птиц, прощающихся на время со своей родиной, с лесом и травой, прощает многое жизни, становится мудрее и добрее.
Так думала Катя, направляясь после работы на Чапаевскую улицу, куда была направлена агитатором. Кате нравилась эта общественная работа, и она по домам ходила с превеликим удовольствием. Когда бы ей пришлось побывать в стольких семьях, о которых она никогда и не слышала? Каждый дом — это лицо человека; придя в дом, ты как будто заглянул в душу хозяина. Будучи очень любопытной, Катя не скрывала это и расспрашивала обо всем — о работе, о зарплате, о мужьях и детях — и каждый раз поражалась разным отношением людей к горю, страданию, радости. Но всех влекло одно: желание жить лучше, чем сейчас, — будь то семья с достатком или без. Разве могла Катя удержаться, когда рассказывали ей о своей жизни, чтобы тут же не рассказать о своей? Она даже немного подстраивалась под судьбу какой-нибудь женщины, рассказывая о себе. Она не лгала, и в том, что судьбы во многих случаях оказывались похожими — в радости ли, в горе ли, — конечно, виновата жизнь.
Чапаевская улица была длинная, вымощена колдобистой гравийной дорогой, вдоль нее росли огромные старые ветлы; на месте этой улицы, говорят, давно еще протекала речушка, в которой водилась рыба, и ныне еще сохранилось русло, и сейчас, несмотря на мощеную гравием дорогу, сама дорога проходит как бы в низине, а дома, стоявшие ранее на берегу, сейчас тоже стоят на возвышении. Многие старожилы называют улицу прежним ее названием — Речной. Когда-то здесь размещался пехотный полк в котором служил Катин отец. Еще эта улица славилась колодцами. И сейчас самая вкусная питьевая вода — на Чапаевской улице.
Катя, задумчиво глядя на старые ветлы, многие из которых, опустив пожелтевшие листочки на гибких ветках до земли, дуплами, словно слепыми глазами, взирали на улицу. Вон и единственный колодец с журавлем, а тут же недалеко и до дома. Катя поднялась на крыльцо и постучала.
Катя не узнала Татьяну Петровну, так она изменилась. Старуха в свою очередь тоже не признала Катю, приподнялась на кровати, пытаясь понять, кто же пришел. Она глядела на Катю и все быстрее и быстрее моргала, и глаза, не узнавая, наливались беспричинной тревогой: уж не случилось что?
— Здравствуйте, — сказала Катя, догадавшись, что старуха больна.
— День добрый, милая, — слабо ответила старуха.
— Сидите, сидите, — опередила ее Катя. — Вы меня не узнаете? А я вас тоже не узнала. Богатой будете. Ой, так разбогатеете, денег девать некуда будет!
Старуха слабо улыбнулась, пошарила рукой на стоявшей рядом табуретке и, найдя какие-то таблетки, положила одну в рот.
— Какими судьбами? — спросила, улыбаясь, и сразу зашлась в кашле. — Будь он неладен, кашель этот. Чай, милая, я простудилась. Все одно мне. А вот боюсь — Оленьку застужу, присмотру за ею никакого. Она и так, милая, вся усталая с учебы. Программы-то нынче вон какие, шиш я сама в их разбираюсь.
— А где она? — спросила Катя.
— Иде! У школе, милая, у школе. У их уроки поздние, во второй смене ходют. Такая аккуратная, такая заботливая, прямо как взрослая, Оленька моя милая. — Старушка, как только упоминала внучку, вся преображалась от умиления и нежности. — А у тебя, милая, запамятовала имя…
— Катя.
— А у тебя, милая Катя, есть детишки? — Старушка опять сунула таблетку в рот.
— Ой, нет у мене детей, — вздохнула сокрушенно Катя, сняла плащ и принялась убирать комнату, хотя и убирать, видимо, не надо было, потому что пол чист, окна чистые, печку недавно побелили и все вокруг носило следы чистоплотной хозяйки. — Никого у меня нет, один дядь Ваня, старичок, — говорила Катя. — Вот соберусь замуж, тогда заимею много детей.
— А у меня ведь было двое сына. — Старушка поднесла к глазам платок и всплакнула. — Одного прямо убили опосля всей войны, на посту. А лета его были…
— А Оленька от младшего? — спросила Катя, уж не зная, что и спрашивать, чтобы не бередить больное.
— От его, миленькая Катя, от его, Митеньки моего, — отвечала старушка, и Катя подумала, что в чем-то, видимо, старушка ошибается, так как Оле восемь лет, а война кончилась сколько лет тому назад, и как же Оля может быть дочерью сына, убитого в сорок пятом году? Она подумала об этом, но ничего не сказала, решив, что старушка, возможно, ошибается.
— Зашли б в гости? — Катя села рядом.
В коридоре стукнула дверь, и на пороге появилась девочка в круглой белой вязаной шапочке, новом синем платьице, новом пальтишке, белых чулках.
— Баб! — крикнула девочка громко, но, завидев чужого человека, остановилась, смущенно повернувшись к вешалке, сняла с себя пальто, шапочку и серьезно продолжала: — Купила две буханочки хлеба — белого и черного, и масла, как велела.
— Хорошая ты моя, умница, — ответила ласково старушка и прослезилась. — Ежели не ты, моя спасительница…
— Ба-аб, ну чего ты опять за свое глупое дело взялась? — серьезно сказала девочка. В ее голосе прозвучали наставительные интонации.
— Не буду, внученька, не буду. Я сейчас тебе, миленькая ты моя сладушка, сготовлю поисть. — Старушка приподнялась.
— Не вздумай, баба, сама сготовлю. Поняла? Тебе бы только канителиться. — Девочка сняла ботинки, положила их на табуретку и принялась хлопотать у печки.
— А ты тетю помнишь? — спросила старушка.
— Не-е, — не повернувшись, отвечала девочка, в ее неторопливости было что-то важное. — У меня две пятерки сегодня.
— Умница ты моя, — прослезилась вновь старушка, но все же поднялась, пересела на табуретку, посидела, как бы примериваясь к своим силам, и включила электроплитку в сеть.
Катя собралась уходить, с нежностью, уже одеваясь, наблюдала за девочкой, и у нее набежали слезы на глаза.
— А вы к нам обязательно заходите, — пригласила она, уже стоя в дверях, оглядываясь на девочку, серьезно и сосредоточенно чистившую картошку, и ей так хотелось смотреть и смотреть на нее, и жалость, и нежность, горькое чувство вины залили Катю, и она торопливо вышла, чтобы не расплакаться. Как хорошо иметь ребеночка, особенно если это девочка!..
Катя брела медленно, и ей казалось, будто сейчас она коснулась удивительного счастья. Старуха больна, но счастлива только потому, что рядом вертелся комочек молодой жизни — девочка. Это и есть, видимо, счастье. Одному этому счастью можно отдать себя всю.
Уж был вечер, и по темному небу с севера неслись облака, обещая дожди, торопливо шумели, роняя лист, ветлы, тополя; где-то высоко в небе сторонкой пронеслись реактивные самолеты, разорвав на время обманчивую тишину осеннего вечера. И на городок опускались ранние сумерки, серые сумерки осени.
Катя, думая о старухе и девочке, недалеко от дома завернула к универмагу. Денег у нее с собой не было, но хотелось поглядеть, что же можно купить будет с получки. Давно мечтала купить радиолу. В дверях она столкнулась с мужчиной, отскочила в сторону и быстро вошла в универмаг. Универмаг был гордостью районного начальства, выбор товаров тут не очень велик, но зато ситца, всевозможной материи очень много, выбор большой; стояло множество радиоприемников, радиол, украшений, лежали на витрине точно такие же, какие подарил ей Юра, янтарные бусы, стоившие целых двести рублей. Катя бусы не носила, хотя обида на него давно прошла.
Она поднялась на второй этаж, где находились хозяйственные товары, обувь, походила и спустилась вниз, направляясь домой.
В дверях опять столкнулась с мужчиной.
— Катя? Ты?
Она сразу узнала его, хотя было темно, жиденько горевшая у входа лампочка совсем не давала света. Сначала ей хотелось бежать, бежать и не откликаться, так сразу вдруг стало обидно и мучительно за все — за мучения, за то, что он долго не приходил, но ноги плохо слушались, а в голове, словно кто ударил обухом, зазвенело, у нее сразу так стало сухо во рту, что она слова не могла вымолвить.
— Катя! — Юра узнал ее, подошел, оживленно что-то говоря, радостно суетясь, от него пахло машинным маслом — это сразу ощутила Катя, не переносившая запахов машинных масел. Она сделала шаг в сторону, чтобы избавиться от запаха, но Юра взял ее за руки своими горячими руками. — Я тебя ждал, Катенька ты Зеленая. Пошли, я на машине. Да что с тобой, красавица ты моя? Столько не виделись, а ты как будто и не хочешь меня… и не рада мене?
Он все пытался заглянуть Кате в Лицо, но она, нагнув голову, не отвечала, стесненная обидой, комом застрявшей в горле, в любую минуту готовая разреветься. Юре стоило больших трудов уговорить ее сесть в машину. А когда он включил в кабине свет, Катя не смогла сдержаться и заплакала, попыталась открыть дверь и уйти. Он включил скорость, машина тронулась, направляясь по дороге мимо нового общежития в степь, где видно было, как мотаются столбы света от других автомобилей, прыгающих на ухабинах. Машина неслась быстро, из-под колес вылетали ожившие от света и грохота, еще не успевшие улететь перепелки, куропатки, летели некоторое время в свете фар, радуясь и пугаясь, и ныряли в темноту. Они ехали так час, в кабине стало жарко, и Катя опустила стекло.
— Жарко? — спросил Юра, выключил мотор, и сразу уплыл куда-то шум, исчезли сквозняки, осталась только, казалось, одна Катя.
Катя ни о чем не думала, обида сама по себе прошла, на время ее охватило равнодушие, было все равно, куда едет машина, долго ли будет мчаться по ночной степи. Машина остановилась. Катя соскочила на землю, направляясь в темноту.
— Ты куда?
Ее словно кто подстегивал, звал в степь. Было темно, только вдали виднелись какие-то огоньки. Но это было так далеко. Катя услыхала догонявшего, запыхавшегося Юру и остановилась. Она совсем не устала от быстрой ходьбы. Ее волновало не присутствие Юры, а сама степь, огоньки, таинственно горевшие вдали, — огоньки бередили какие-то смутные ощущения.
— Катенька, ходишь ты, скажу я тебе! — проговорил Юра, останавливаясь рядом. — Смотри, Катенька. А до машины, видишь, сколько? До машины, как до звезды небесной, далеко! А?
Катя не ответила. «Что говорить, — думалось ей, — когда и так все ясно. А слова — это всего лишь слова. Слова и останутся словами». Она поглядела на Юру, — в слабом свете фар чуть виднелось его бледное лицо, но глаза, ставшие, казалось, еще глубже, отливали влажным блеском, затаенно отражая далекие огоньки. Глаза были словно небо, в них так же горели звезды.
— А чего ты так долго не появлялся? — спросила Катя, поворачиваясь к нему и теряясь от неожиданно пристального взгляда Юры. — Опять ездил?
— Ездил. А потом машину ремонтировал… У меня права отбирали на месяц. Святое мое слово!
— За что? — удивилась Катя.
— Да шибко гонял по городу машину, Катенька ты Зеленая, выскочил разочек на площадь Центральную, а тут ГАИ. Хоп меня за это самое, прокол сделало. А ну в этот же день… Давай сядем, чего стоим?.. В этот же день, как нарочно, столб, — ну, это, ну, сдавал назад под погрузку… сшиб телеграфный, хотел удрать, а тут мильтон стоит, рукой машет. Подошел!.. «Ваши права?» — козырнул. Козырять они мастера. «Заглянем в отделение». Права в карман и — жуй резину, гони самогон. Лишили на месяц. Просил. Разве дадут! — горько покачал головой Юра, сел на траву, села рядом и Катя. — Целый месяц слесарил.
— Это что такое? — спросила Катя, глядя на далекие огоньки и думая, что далекие огоньки — это как счастье, которое зовет, манит, и видишь его, но только знаешь, что никогда оно не будет твоим.
— Машины дружков ремонтировал на автобазе, — с досадой отвечал Юра, как бы ненароком касаясь Катиных рук. Катя руки не отняла, Юра обнял за плечи.
— Расскажи мне что-нибудь, Юра. Слышишь, кузнечик заблудший поет свою песенку? — Катя отстранила его руки, легла на живот, подперев голову руками.
— О чем?
— О чем-нибудь. Ой, ну разве не о чем говорить? — спросила Катя, сама не зная, о чем, действительно, ей говорить, но ей хотелось услышать от Юры о том, что он думал, когда не видел ее столько, испытывал ли желание увидеть ее.
Катя резко повернулась к нему. Юра будто ожидал именно этого, жадно прильнул к ее губам, и не успела Катя слова сказать, как почувствовала его руки, сильные и цепкие, у себя на груди, хотела крикнуть, но не смогла, чувствуя с какой-то безнадежной радостью: не вырваться из таких рук.
…А после Катя лежала, отвернувшись, и плакала. Молча плакала. А Юра лежал рядом, глядя на звезды, нарочито громко вздыхал, показывая тем самым, как ему тяжело от ее слез.
Спустя час Кате стало легче. Ей хотелось лежать, свернувшись в комочек, глядеть в небо, вдыхать горький воздух и ни о чем не думать. В ветре, в этих запахах, в тревожно мерцающих звездах чудилась какая-то необходимость, которая будет продолжаться бесконечно, — все так же будет дуть ветер, мерцать звезды, плыть потоками полынные запахи, а человек — чувствовать себя песчинкой среди этой бесконечной степи, звезд и ветра. Человек все видел, все знал, хотя и изменить как будто ничего не мог. И в этой способности все знать и чувствовать было нечто настолько поражающее воображение самого же человека, что ему становилось от всеизвестности, от предстоящего тоскливо.
Катя встала и медленно зашагала прочь. Куда и зачем? Ей было все равно, нужно было только идти. Молча шагать по пожухлой траве, уйдя мыслями и чувствами в себя, глядеть под ноги или вовсе не глядеть никуда, заранее зная, что сколько бы ни смотрел, все равно ничего не увидишь, потому что, кроме травы и далеких огоньков, ничего нет в ночной степи. Потрескивала сухая травка под ногами, это Катя скорее ощущала, чем слышала. Юра шел сзади молча, потом ему молчание надоело, и он зашагал торопливее. Почему она идет так долго? Почему молчит? Он то и дело оглядывался на машину, пока не потерял ее из виду, обеспокоенно оглянулся еще, взял Катю за руку.
— Катенька, а где машина? Ты не видишь? Только что видел свет фарный, а сейчас нету. Где? Может, кто сел в кабину? Где? Не видишь?
Опомнившись, Катя остановилась и только теперь заметила: нигде не видно ни единого огонька. Сколько ни смотри, темно, как в погребе. Только рядом что-то колыхалось, сонно дыша горьким полынным запахом, — это степь, это ее дыхание слышала Катя. И больше не видно ни зги. Катя в первое время испугалась, все мысли сразу в ней исчезли. Она всматривалась в темноту, где, по ее предположениям, должна быть машина.
— Ой, где, правда, где машина?! — воскликнула она, беря Юру под руку.
— Черт ее возьми, только что была, а теперь не видать. — Юра растерянно оглядывался вокруг. — Пошли обратно, а то придется ночевать под открытым небом. Дождик может пролить. Вишь, звездочек не много, туч много. Черт, укрыться будет негде. Вот так Анаконда! Так вот в чем погибель моя. Помнишь «Песню о вещем Олеге»? Ведь у нас как у него. Калибр на калибр не приходится.
Они повернулись, как казалось, обратно на сто восемьдесят градусов. Юрина тревога передалась Кате, и она теперь боязливо оглядывалась, сильнее и сильнее сжимая Юрину руку. Юра ругал степь, ночь, тучи, еще кого-то, глядел во все глаза по сторонам, но ничего не было ни слышно, ни видно, только ветер тоненько посвистывал в травинках да однажды, испугав Катю, пролетела над головами огромная птица так низко, что Катя присела.
— Ой, надо же! Что ж это такое? — спросила она, переводя дыхание.
— Сова, — отвечал Юра, останавливаясь, шумно потягивая носом, пытаясь определить по запаху бензина направление к машине. Но пахло только полынью, и она глушила все запахи. — Они, черти эти, совы, имеют привычку пугать людей. Чуть ли не на голову садятся. У них же глаза, черти, у этих мудрых сов, видят вокруг даже ночью. А ты ничего, Зелененькая, не видишь вокруг?
— А ты тоже, — рассмеялась Катя. — Ой, ты, Юрик, тоже ничегошеньки в темнотище такой не видишь. Ведь темно, хоть глаза выколи.
— Хоть глаза выколи, — повторил Юра и рассмеялся, сел на траву. — Давай будем спать. Все одно ничего не найдем, вот тебе святое слово. Ты пошла, а я, дурак, за тобой… Садись.
— Если только отдохнуть немного, — согласилась Катя, присаживаясь рядом. — Скажи вот мне, Юра…
— Чего сказать? — Он взял соломинку в рот и стал водить по Катиному лицу.
— Ой! — воскликнула Катя. — Скажи мне, Юра… Только откровенно, а то будет неинтересно.
— Давай лучше пойдем, поговорим по дороге.
Они встали и направились по степи. Катя каждым своим нервом чувствовала малейший шорох, малейший порыв ослабевшего ветра, каждый вздох идущего рядом. Она молчала, обидевшись, что он не дал ей высказаться до конца.
— Ну, Зелененькая? — спросил Юра.
Катя смолчала.
— Что ты у мене хотела спросить?
— Ой, да ничего… Чего уж спрашивать! Пойдем искать твою машину.
— Нет, ты скажи, Катенька, — останавливаясь, сказал Юра и взял ее за плечи.
Катя отстранилась.
— Хорошо, я тебе скажу. Говорят, мечта — это крылья. А вот ты имеешь эти крылья? — торопливо спросила Катя.
— Ну, Зелененькая, — рассмеялся Юра, — скажешь же ты! А? Скажешь… Мечту? Мечту ту, Зелененькая ты моя Катенька, мы имеем. Я вот Горького читал про старуху Изергиль и про сердце Данко. А мечту имеем мы, — задумчиво проговорил Юра. — Еще бы! Еще бы не иметь мечту! Конечно, имеем. А ты?
— Нет уж. Ой, хитрец! Мы о тебе ведем речь, — засмеялась Катя. — Нет уж, Юрик, давай говори.
— Ладно, Зелененькая. Вот погляди туда — ничего не видишь? Фу-ты от Марфуты, мне показалось, что вижу огонек.
— Ой, и мне показалось! — воскликнула Катя, останавливаясь и придерживая Юру за руку. — Продолжай.
— Первая мечта, Катенька, — это вот как увидел тебя, так захотелось поласкать тебя, погладить, моя красавица. У меня мечты — очень много их. На каждый день. А вообще хочется — иметь хорошую машину на ходу, всегда новую, чтоб она работала, как часики золотые швейцарские, чтоб все хорошо. Съездить в Африку, поглядеть на крокодилов живых — это мечта детства. Поглядеть в тот айн момент, когда крокодилы и бегемоты подерутся. Все ж интересно. Кто кого осилит? И тот здоровый, и у того зубы — будь здоров. В Америке посмотреть на небоскребы. И главная моя мечта — после смерти, чтоб не в землю закопали, к червям, а спиртом залили, в стеклянную банку, которая поболе, положили…
— А чего ты в спирту будешь делать? Пить его не сможешь, не разведенный же, — рассмеялась Катя. — Чудак-человек! В спирт захотел.
— Как чего? Жить.
— Да как ты там будешь жить, чудак-человек? Тебя туда положат после смерти. Чудотворец ты смешной. Вот придумал, ну, обсмеялась я!
— Как-нибудь выкрутимся там, в банке. Может, оживу. Всяко бывает. Говорят, живут, говорят — вот святое слово, бывает. — Юра даже растерялся от Катиного смеха. — Я и не подумал. Вот черт же надоумил мечту иметь спиртовую…
— Ой, умора! — смеялась Катя.
— А знаешь, Катя, у моего дружка собаку звали Кабсдох, — сказал Юра то, что говорил всегда, когда попадал в неловкое положение и появлялось сильное желание пошутить над собой.
— Ой, ну и что?
— Как что? Интересно.
— Ну что тут такого интересного? — все еще смеялась Катя, беря Юру под руку, удивляясь его наивности, его странной, как ей казалось, глупой мечте. И тут неожиданно для себя она вспомнила, как ждала его, как давала себе слово больше не встречаться с ним и вовсе даже не разговаривать; столько было передумано, пролито слез от обиды на него и на себя, а теперь все забыто, и ей приятно вот так бесконечно идти с ним, будто ничего плохого и не было. — А интересно было тебе, когда целый месяц не приходил? Что думал?
— О ком? — спросил Юра.
— Ой, о ком! О ком ни о ком, а вот кое о ком. Просто думал о чем? Или ничего такого в голову не приходило тебе?
— Я тебе говорил, машину отобрали. Дел-то у меня, Катенька ты моя Зелененькая, много. Дел полно. Думать некогда. Рабочему человеку не думать, а делать надо. Вот в чем погибель моя — дел невпроворот. Ей-бо!
Катя смолчала. Она ожидала не такого ответа. Выходит, о ней он и не подумал, а занимался своими делами. Показалось даже: Юра что-то скрывает.
— А ты о себе ничего не расскажешь? — спросил Юра, остановился, пытаясь разглядеть что-то смутно чернеющее впереди.
— А что я? Я помню, как мама мечтала в войну. Она была красавицей, не то что я. Волосы у нее были черные, вились, а с лица белая-белая и руки вот такие длинные, узкие, как у княжны какой. А и фамилия девичья у нее, правда, была не частая — Нарышкина. И вот она мечтала всегда вслух. Говорила тихо, так тихо, я даже пугалась. Я спрашивала: «Мама, ты что делаешь?» Она отвечала: «Мечтаю, чтобы кончилась война, а мы все вместе поедем путешествовать, будем жить на берегу Волги в палатке, а по утрам отец будет ловить рыбу — это его любимый отдых. Мы с тобой разведем костер для ухи, а потом будем купаться. Понимаешь, все втроем!» Для нее это была самая главная мечта. Ах, как я ее понимаю! Она после уж войны-то умерла. И все говорила: «Доченька, на кого ж я тебя, бедненькая, оставлю?» Она знала, что умрет, готовилась к этому…
— Зачем? — растроганно спросил Юра, которого тронул Катин тихий голос, рассказ о ее матери, имевшей мечту, чтоб закончилась война и возвратился ее муж, после гибели которого она не смогла жить. Ему было жаль Катину мать, правда, жалость эта была мимолетная и сильно расстроить его не могла, через минуту он рассказанное забыл и с тревогой глядел по сторонам, высматривая машину.
Они ходили по темной степи долго. Возвращались, как им казалось, строго назад, некоторое время стояли, оглядываясь, но все было напрасно. Сели отдохнуть, потом лежали молча, было не до разговоров обоим. Юра пытался по звездам определить, где они находятся, но, кроме Полярной звезды, он других звезд не знал, а Большая Медведица, которую он еще знал, была постоянно скрыта облаками. По совету Юры решили идти прямо на Полярную звезду, полчаса торопились к Полярной звезде. Устали и сели отдохнуть. Юра, положив голову на колени Кати, сразу заснул. Катя крепилась, стараясь не уснуть, но сон морил, и она, вспомнив Ивана Николаевича, который будет ругать ее, злиться, волновалась, собиралась разбудить Юру, надеясь сию же минуту разыскать машину и вернуться домой, но Юра так жалобно свистел в обе ноздри, так сладко спал…
Катя проснулась рано. Рука, неловко подложенная под голову, занемела; ноги устали от тяжелой Юриной головы. Серый сумрак просыпающегося утра покоился над повлажневшей, еще сонной степью, в этом сумраке, казалось, кто-то жил, шевелился, глядел на Катю своими невидимыми глазами; там и сям пятнами лежали тени не сломленного за лето бурьяна; местами клубился летучий туман, вытягивался над землею, разлохмачивая во все стороны свой белесые космы, а на востоке, где сгрудились большие стада облаков, пробивались из-за земли чистые, упругие пучки лучей, и от них там с каждой секундой становилось все ярче, сине-зеленые, желтоватые, палевые полосы забороздили небо, бросая на землю неверные свои отблески, от которых, тревожно и беспокойно вытесняя сумрак, заходили по степи пятна света. И вот жидкий свет вдруг полыхнул с такой неожиданной силой, с такой яростью выплеснулся из-за края неба, что на земле стало светло.
В такую рань еще наслаждались полным покоем тушканчики, суслики, отряхивали отяжелевшие перышки перепелки, степняки. Высунувшись из своих нор, тревожно смотрели на восток зверушки; еще не взлетали птицы, еще спали букашки; пауки в паутинных царствах промеривали свой путь на мокрой паутине, и только мошкара уже каруселью встречала восход, предвещая хорошую погоду. Вчерашний вечер был обманчив. И текущие облака, и торопливый шепот встревоженных ветром листьев, с поспешной опаской слетавших с деревьев, — все это не закончилось ожидающимися дождями, непогодой, как думалось. Теперь, глядя на клубки мошек, веселой каруселью встречавших восход, Катя сразу определила: быть вёдру. Она сняла с себя кофту, сложила и осторожно опустила на нее Юрину голову и, освободившись, встала. Недалеко возвышался курган. Катя заспешила к нему, продираясь сквозь высокий, закоричневевший к осени, неломкий от обильной росы бурьян. Курган весь пестрел сусличьими отнорками; у подножия его, где рос высокий бурьян, приютилось большое количество перекати-поле. Катя с трудом пробралась к кургану. Коршун, всю ночь дремавший на столбике, кем-то давным-давно вбитом в макушку кургана, с неохотой взмахнул мягкими после ночной дремы крыльями и опустился невдалеке, потом опять взмахнул и низко понесся над степью, высматривая полевок. А Катя взобралась на вершину, огляделась. Уж было утро, но все живое еще спало, кто укутавшись в туман, кто спрятавшись под бурьян, а кто в нору, кто в еще не растаявшие кое-где, жиденькие, зыбкие сумерки.
Вдалеке что-то чернело. Приглядевшись, Катя определила — машина.
ГЛАВА XI
На работу Катя по обыкновению опоздала. Заведующий базой Моргунчук сделал ей строгое внушение, заявив о необходимости в этот ответственный момент сложного международного положения приходить на работу «тютелька в тютельку».
Моргунчук был с лица тонок, с красивым прямым носом, сердит на свою проплешину, всегда тщательно скрывал ее, начесывая волосы на облысевшее место, пучил глаза. Подчиненных он отчитывал так, будто те были виноваты не только в сиюминутном грехе, но и во многих других, о которых он, проницательный человек Моргунчук, знает, и всегда выходило, что грехов он знал больше, чем те, кто совершил или мог совершить этот грех. Он мог с полным основанием сказать первому встречному: «Ты виноват!» — и был уверен, что не ошибся, потому что когда-то все-таки в чем-то, но этот первый встречный был или будет виновен. Это было отправной точкой жизни Моргунчука. Отправная точка жизни стала и его отправной точкой руководства на овощебазе Котелина.
Моргунчук в то утро стоял в воротах без фуражки, полагая, что волосы от солнца или от дождя обретут способность регенерироваться и лысина его неожиданно покроется густыми волосами. Дома же он в великой тайне натирал лысину растительным маслом, прослышав, что подобные процедуры весьма способствуют прорастанию волос, и накоплению мудрости. Моргунчук при всем при том носил галстук, считая такое свидетельством высокой культуры, носителем прогресса на современном сложном историческом этапе. Как говорил, одним словом, Гаршиков: «Бо-олшой человек дремучая Моргунчук».
— Это ты опять опоздала?! — сказал он так громко, завидев Катю, что она от неожиданности вздрогнула.
Моргунчук любил говорить громко, чтобы все слышали, преследуя, как он считал, чисто педагогическую цель, полагая таким образом внушить подчиненным необходимость ходить исправно на работу, а себе — право появляться в любое время, не беспокоясь о том, что они придут на работу не вовремя. Будучи не первый год женатым, он тем не менее по очереди ухаживал за всеми женщинами, работающими на базе, и всеми по очереди был отвергнут. Однако такое обстоятельство не обескуражило себялюбивого Моргунчука, но зато породило в нем безудержное стремление доказать, что все они потому отвергли в нем мужчину, что ни больше ни меньше, как поняли «свою недостойность».
— Понимаешь, что такое десять минут опоздания?! Погоди, не уходи. Я с тобой, кажется, разговариваю! Преподобная Зеленая! Пого-оди! Зе-ле-на-ая! Ты понимаешь, у нас в СССР проживает двести с лишком миллионов людей, а может, в данную секунду родилось еще немало. Соображаешь, если каждый опоздает на десять минут? Сколько получится?.. На столько времени удалится наша главная цель и наше движение!
Катя остановилась, не слушая его и, так как подобное приходилось слушать уже не первый раз, все еще переживая бессонную ночь. Заметив, что его не слушают, Моргунчук понял, что она опоздала из-за каких-то своих дел. Наперед зная, что за каждым человеком водится грешок, а следовательно, его всегда можно ругнуть и обязательно попадешь в цель, Моргунчук, как обычно, подозрительно посмотрел на Катю, ехидненько сощурил глаза, как будто уже уличил Катю в грехах.
Заметив его ехидненькую улыбочку, Катя повернулась и быстро ушла под навес. Подле бурта сидели ее подруги, укладывая картошку в мешки. Она села, прихватив пустой мешок, и принялась набирать картошку.
— Чего циклоп придирается? — спросила Нинка Лыкова, не поднимая головы, быстро кидая в мешок картошку и отбрасывая в сторону гнилую.
Катя не ответила. Она просто не слышала; ее все влекла какая-то мысль, которую она силилась ухватить, но эта мысль, приятная, нежная, от которой в голове стоял радостный звон, вилась вокруг да около, и поймать ее было невозможно. Но и оттого, что мысль вилась рядом, прекрасная, хотя и непонятная, ей стало удивительно хорошо, и она боялась одного — упустить эту непонятную мысль.
Женщины к обеду устали и сели отдыхать, а Катя работала, не замечая по-прежнему никого вокруг, пока Лыкова не обняла ее сзади за плечи и не опрокинула на спину. И тут женщины расхохотались так, что вернувшийся из дому сторож Деряблов уставился на них, удивленно хлопая глазами.
— Жеребчихи, — проговорил он довольно, улыбаясь и глядя на них повеселевшими глазами.
— Сам ты мерин сивый! — крикнула Нинка Лыкова. Деряблов обозлился, сплюнул и направился в угол базы, куда недавно привезли машину моркови. Он очень любил морковь. И ни разу за свои семьдесят пять лет не наелся ее досыта, до отвала. Выбрав самую крупную, сел, очистил ее и с наслаждением откусил, зачмокал, морщась от боли, так как жевать было почти нечем — во рту у него торчало несколько коричневых обломков. С сожалением старик подумал, что теперь в жизни он не сможет восполнить этот досадный пробел, и пожурил свою непутевую жизнь, лишившую его еще одной радости.
— Федотыч, жуешь? — спросил подошедший Моргунчук.- — Кого?
— Ай не видишь? Морковка.
— Так, Федотыч, ведь в СССР двести с лишком миллионов жителей, если каждый по морковке… Это двести с лихвой миллионов штук морковки. В куче этой и тыща не будет…
— А ты, Ляксандрыч, помене на сторону-то ее, родимую, испущай, гляди, тогда и хватит.
— Молчу! Почисти мне. На вид у нее витаминов полно, — сказал Моргунчук, садясь рядом и поворачиваясь так, чтобы солнце пригревало лысину.
Деряблов достал складной ножичек, обтер о голенище своего кирзового сапога, дунул, демонстрируя полную чистоту, и очистил морковку.
— Крупней, крупней, — посоветовал Моргунчук.
— Не то, Ляксандрыч. У толстой морковки нету сладости природной, соков земных, которые она берет в жизни. Она все одно что толстый человек — пузо во! А ум тонюсенький — во. Пузо — во, а сил всего — во! Сок в морковке — оно ить проявление, знаешь, силы. Как бы у человека тоже — цвет определяет здоровость его.
— Ну-ну, — довольно ответил Моргунчук, принимая слова Деряблова за хорошо скрытую лесть, потому что заведующий был худющ до невозможности. — Каждый человек — это как вот гриб, Федотыч, правильно говорю. Стоит — красавец, а разрежь его — увидишь в нем червоточинку. Угу.
— Нету. Не…
— А вот послухай. Подходишь к грибу и гадаешь: с червячком, нет? Всегда говори: с червячком. Не ошибешься. Оно вон как. Ошибочка и будет если, все одно опять же с выгодой для тебя. Все в пользу. Ошибочка такая будет маленькая, что будто ее и вовсе не было. Угу? — Моргунчук тщательно пережевывал каждый кусочек морковки, боясь подавиться.
— Нету. Не угу.
— Вопросы? Нету. Слушай, я опытный человек, Федотыч. Поставь меня во главу района, так я чего ж не потяну? Как бы не так! Потяну. Человека я до последней ниточки знаю, вижу его и сквозь его. И не ошибся ни разу. Думай о червоточинке — не прогадаешь. У меня, если хочешь знать, своя научная штука с подходами к жизни, своя наука о червивом грибе. И я тебе скажу, Федотыч, самая наиправильная в мире. Изменить ее невозможно: много грибов, червей еще больше. Им надо где-то жить, а лучше всего жить в грибе. Так что дальше получается, надо ее, жизнь-то дорогую, подстраивать и устраивать, человека надо найти без червоточинки. И что? И нехай выковыривает, и решает, и командует. Угу? Вот сложно в чем, а ни в чем другом не вижу я.
— Нету. Не угу. Сам?
— Я сам? Я сам? Назови? Примеры? — Моргунчук сделал вид, что не понял его.
— Чего?
— Мой червячок назови, которого нету во мне. Не назовешь! Один чистый, без червоточинки, грибок, — обрадованно заключил Моргунчук и, привстав, оглядел себя с полной уверенностью, что нигде не найдет у себя ни единого изъяна.
— Мать при своей жизни в дом для престарелых… Нету? — спросил, прищурившись, Деряблов.
Подошла Катя отпрашиваться с работы на час раньше, присела на ящик, ожидая, когда же мужики закончат разговор.
— Федотыч, ей же на пользу. Пускай посидит там, среди своих единокашниц, жизнь посмотрит опять же. А дома у ей с женой единая ругань. Опять же здоровье в ее пользу. Для ее же пользы.
— Дак ведь не хотела она, кака ж польза для дела?
— Человек, Федотыч, опять же существо изгибистое, сегодня не хочет, завтра благодарить, видишь, будет. Угу?
— Ну, дак если… — многозначительно произнес Деряблов, однако в душе не согласился с начальником, пристально поглядел на него и беспокойно заерзал.
— Баба, когда рожает, кричит от боли, потом радуется, — поднял глаза Моргунчук.
— Твоя, Ляксандрыч, ой, не радовалась…
— Молчу! — угрожающе произнес Моргунчук слово, после которого все знали, разговаривать было опасно, а не то влетит так, что долго будешь помнить. Это слово магически действовало на рабочих базы. Катя тоже решила, что сейчас отпрашиваться не стоит, лучше выждать, и уж собралась уйти к подругам, но неожиданно для себя спросила:
— Можно мне сегодня уйти домой раньше на час?
Моргунчук зловеще молчал. Окаменело его лицо, только он быстрее обычного заморгал. Через минуту напряженного молчания он с силой втянул носом воздух, тонкие крылья носа затрепетали. Это было тоже плохим предзнаменованием. Потом Моргунчук резко встал, постоял молча и бросил:
— В райком. Важное государственное дело!
— Он сдурел? — спросила Катя старика, глядя вслед уходящему начальнику.
— Стал быть, — ответил растерянно Федотыч, искренне жалея, что разозлил заведующего.
Катя постояла, оглядела огромные бурты картофеля, громоздившиеся по всему пространству овощной базы. Старик с нежностью и доброй усмешкой тоже оглядел картошку и довольно вздохнул:
— Какая уродилась! Вот в войну такую бы. Ешь — не хочу.
Катя направилась к подругам. Кто обедал уже, не дождавшись обеденного перерыва, а кто, примостившись поудобнее на солнцепеке, подставив солнцу лицо и закрыв глаза, дремал. Все лениво перекидывались шутками, поглядывая в дальний угол двора, где вокруг огромного бурта картофеля копошились присланные на помощь учащиеся. Катя посидела молча возле Нинки Лыковой, потом пошла, лавируя между кучами картофеля, любуясь на крупную картошку, вдыхая приятный тяжелый запах земли. Какой был денек! Нежаркое золотистое солнце низко висело в густом от запахов воздухе, разливая по земле последнее тепло; медленно плыла над домами и улицами, вспыхивая на солнце, паутина; крыши домов и сарайчиков мягко отливали красками; то в одном дворе, то в другом блеяли овцы, протяжно раздавалось мычание. Хорошо было. Бабье лето всегда прекрасно, думала Катя, ощущая на лице ласковую паутину солнечных лучей. Катя постояла возле работающих учащихся, повернула обратно. И тут поймала себя на том, что ей не сидится, сразу стала искать причину. Но так как видимой причины не было, а настоящую — ожидаемую встречу с Юрой, — по суеверности скрывала, то она убедила себя, что причины вовсе нет никакой и принялась за картошку.
В пятом часу, когда она собралась уходить домой, появился Моргунчук. С ним, припадая на левую ногу, пришел отставной пехотный капитан. Капитан был ростом невелик, кряжист, держался осанисто; грубого покроя лицо с глубокими складками на лбу и на щеках заносчиво строго, большой мясистый нос горбился, подчеркивая заносчивость, придавая лицу эдакую холодную самоуверенность. На нем красовался отутюженный, чистый китель и неожиданно старенькая, вся помятая, выцветшая фуражка военного образца. Он остановился позади Моргунчука, ожидая, пока заведующий позовет, глядел перед собой, однако глаза его из-под мохнатых бровей смотрели холодно, но оживились при виде девушек любопытством. Моргунчук поманил пальцем Нинку Лыкову. Она нарочно не заметила манящего жеста, с преувеличенной сосредоточенностью принялась за картошку. Моргунчук отправился к ней сам, подрагивая от раздражения ногами.
— Лыко-ва, — сказал он раздельно, останавливаясь позади Нинки, сидевшей на корточках перед буртом, — товарищ Лы-ко-ва! Соберите комотряд. Товарищ военный капитан…
Лыкова будто не слышала, выставив напоказ свои белые колени, бесстыдно оголенные подвернувшейся коротенькой юбчонкой; ее полные руки плавно изгибались, когда она брала картошку. Казалось, вся она, красивая, стройная, бесстыдно прикрытая просвечивающей насквозь нейлоновой кофточкой, говорила: «Вот я, красавица, каким пустым, нестоящим делом занимаюсь». И действительно, в ее лице, красивом странным блеском глаз, было что-то укоряющее.
— Товарищ Лы-ко-ва! — раздраженно проговорил заведующий, переступая позади нее.
Лыкова была первой его жертвой, как говорили, смеясь, подруги. Она первой не приняла ухаживания заведующего. И Моргунчук это запомнил, хотя и побаивался ее. И тут случилось то, что должно было случиться. Нинка подалась назад, встала и со всего маху сильно толкнула спиной заведующего. Тот от неожиданности взмахнул руками, стараясь удержать равновесие, стремительно попятился, налетел на штабель старых ящиков, дружно рассыпавшихся. Моргунчук некоторое время ловил воздух руками, оглянулся и громко крикнул:
— Лыкова!
— Чего Лыкова, притча во языцех? — спросила Нинка, смеясь отмахивалась от пыли руками.
— Вы мне тут этими штучками не играйте, — перекосясь от злости, проговорил Моргунчук, стараясь строгостью в голосе восстановить свой престиж, так стремительно упавший на глазах уважаемого ветерана. — Ты секретарь, а ведешь себя как эта, как эта, как эта… Тьфу!
— Как кто? — надменно спросила Нинка с угрожающей иронией, ввергая заведующего в беспричинный страх, заставляя его тут же перестраиваться.
— Ты секретарь…
— Давно уж нет. Меня переизбрали, уважаемый товарищ Моргунчук.
— А кто у нас это? — спросил Моргунчук вполне мирно, косясь на капитана, строжея голосом: все ж стремление не ударить лицом в грязь перед капитаном брало верх.
— Так «это» теперь не на нашем базу, — ответил за всех старик Деряблов, выступая из-за капитана. — Лыкова девка хорошая, сладкая до мужиков, но больно моднющая. Юбочка на ей больно непартейна. — Деряблов отплатил Нинке за сегодняшнюю обиду, повернулся и, не ожидая, когда Лыкова придумает ответ, скрылся за широченной спиной военного.
Моргунчук решил тут же, возле картофельной кучи, дать слово отставному военному. Женщины расселись полукругом на ведрах, ящиках. Катя, обхватив колени, изогнулась тонкой спиной, уставилась на капитана. У пришедшего голос оказался громкий, визгливый. Стоило ему заговорить, как весь он покраснел, покраснели шея, лицо и руки, и от напряжения на лбу выступили капельки пота; холодные, стального цвета глаза неожиданно заслезились — он то и дело доставал из кармана огромный платок и вытирал лицо.
— Товарищи солдаты! — громко начал отставной капитан, подавшись грудью вперед и глядя перед собою невидящими от волнения глазами; сделал паузу: — …мирной профессии. Война давно прошла. Следы заросли травой. Но! Должен вам заявить, что поджигатели войны не унимаются, грозовые тучи не сходят с чистого горизонта…
Капитан произнес длинное вступление насчет опасности атомной войны и только потом уже перешел непосредственно к теме своей беседы.
Как только он закончил, вскочила Нинка Лыкова.
— Товарищ капитан, — сказала она, — у нас в Котелине нет бомбоубежища, нет и атомного.
— Лыкова! — крикнул Моргунчук, привскочив с ящика. — Это не наше дело — нет бомбового убежища. Не перебивай товарища капитана! Нет, так это не нашего ума дела. Грибовидное облако — это вам не гриб червивый, не картошка. А грибовидное облако! По-ня-ла?
— Зачем же нам говорить об этом, если у нас нет ни единого бомбоубежища и мы ни разу не видели, с чем его едят? — спросила опять Лыкова, поглядела на Катю, прося поддержать ее.
Катя не слыхала ничего, ей не хотелось слышать ни о разрушительных бомбах, ни о чем другом, ни тем более о смертях. Она смотрела на заходящее солнце, порозовевший от него воздух, вспомнила смерть отца, матери, и ею овладело беспричинное беспокойство.
— Лы-ко-ва! — прикрикнул Моргунчук, выходя из себя. — Замолчишь, наконец?!
— Товарищ капитан, а одеяло брать? — спросила опять Нинка.
Позеленевший от злости Моргунчук догадывался, что Лыкова готовит какой-то подвох, не вытерпел и злорадно проговорил:
— Вы не понимаете, что такое атомная война! Это вам не картошка гнилая!
— А мы думали, что это еще хуже! — сквозь смех прокричала Нинка, поднимаясь с ящика и откровенно, не стесняясь капитана, потягиваясь до хруста в теле.
Капитан облизал сухие губы, ожидая вопросов, но вопросов не было. Все дружно направились домой, хваля погоду. Теплынь стояла необыкновенная. Земля источала густые запахи увядшей травы, сильно пахло картошкой, по улицам медленно плыл прогорклый дым с огородов. Даже на центральной площади, на центральной улице, первой асфальтированной улице в Котелине, сильно пахло дымом сжигаемой картофельной ботвы.
Катя глядела бездумно на выбитую гравийную дорогу, сворачивала, когда встречалась машина. Солнце опустилось низко, раздаривая свой свет земле. Но домой Катя в самый последний момент не завернула, а прошла мимо. За Котелином остановилась, опять глянула на солнце, низко повисшее над степью. В его густых лучах будто что-то происходило, будто кто-то там шевелился, временами являя над розовато-лиловой степью какие-то странные очертания. Так и хотелось стоять, смотреть на вечернюю зарю, на степь, печально потерявшую после захода солнца свои краски.
Домой Катя возвращалась медленно, а сердце стучало в груди, отчетливо выделяя каждый свой толчок. Возле двора Юры не было, и она, так весь день ждавшая, облегченно вздохнула. Слышно было, как в сарае покрикивал на кур и овец Иван Николаевич, как тоненько попискивала на тополе синичка; Кате казалось, что у нее кто-то в груди дергает за жилочку, отзываясь на голос старика, на писк синички.
Она посидела с полчаса и направилась в дом. У крыльца ее окликнул знакомый голос.
— Как, Зелененькая, дела? — спросил Юра, быстро подходя к ней. — Что в жизни произошло? Где твой оглоед? Живой? Али богу молитвы кладет?
Из сарая с ситом вышел Иван Николаевич и, не поздоровавшись с Юрой, направился в дом. Через минуту он, хмурый и молчаливый, неторопливо спустился с крыльца, по-прежнему не замечая шофера и Катю.
— Как дела, старый? — спросил Юра, явно уязвленный тем, что старик его вовсе не замечает.
— Что ты за человек? — спросил Иван Николаевич, подходя к шоферу вплотную и пристально всматриваясь в его лицо. — Кто? Ответь мне. Что тебе тут нужно? Нет. Нет. Я этого двуногого вижу впервые в жизни. Он надумал что-то пакостное. Черное. Нет. Нет. Я этого человечка вижу впервые. Он замыслил черное дело. Нет. Нет. Нет…
— Меня впервые видишь? Кондор! — изумился шофер, тыча себя пальцем в грудь. — Меня впервые? Ну, старый, как же это? Мы, считай, с одного фронта с тобой. Только ты с трудового, а я с военно-огненного. Ну, старый, даешь! Своих, почитай, людей срамит. Во Анаконда!
— Нет. Нет. Нет, — все так же несокрушимо повторил Иван Николаевич.
— Пойдем в дом, Юра, — предложила Катя, направляясь в сени, а шофер, все еще не в состоянии избавиться от изумления, глядел на старика, качал головой да прищелкивал языком.
— Чего это он? — спросил Юра уже в Катиной комнате, когда она щелкнула выключателем. — Какой Чип-ча! Вождь индейского племени.
— Не любит чего-то тебя.
— Вот дьявол старый, вот черт, — отмахнулся Юра. — Чудак-человек, коптит небо, а небо-то одно. Коптишь — копти, но тебе же с этого неба воздух брать.
Он сел на стул, Катя включила приемник, и по дому разлились красивые звуки вальса Штрауса.
В соседней комнате загремело ведро — это сердитый Иван Николаевич не мог успокоиться и, раздраженный, свалил ведро с табуретки. Юра с любопытством разглядывал фотографии — ее отца, молодого человека в офицерской форме, с упрямым, длинным лицом, мать; потом перевел взгляд на приемник, Катину кровать, старый, потрескавшийся шкаф. Все ему было интересно. Он ловил на себе мимолетные Катины взгляды и смущался. Катя молча, плавно, в такт музыке, скользила по комнате, поправляя занавески на окнах, вытирая пыль со стола; то вдруг принялась подметать пол, что было совсем ни к чему, пол был выскоблен так, что лоснился под светом. Она раскраснелась, волосы выбились из-под косынки. Юре она именно сейчас очень нравилась. И чем больше Катя ему нравилась, тем досаднее становилось на самого себя. Внешне бесшабашный и смешливый, Юра зачастую внутренне был очень сосредоточен, серьезно размышляя над тем, над чем смеялся, и корил себя за легкомысленность.
— Эх, Катенька, красавица ты моя… — продохнул Юра, ерзая на стуле.
Катя замерла с веником в руке, поворотив из-за плеча к нему лицо…
— Чего ты сказал? — спросила она, чувствуя, как прилила кровь к лицу.
— Я говорю: Зеленая ты моя, хорошая. — Он встал и быстро подошел к окну, распахнул его и выглянул во двор. — Их-ты, уже темно. Уже осень. Гляди, дождем пахнет. Никак дождичек пролил. А где этот старик сердешно-сердитый, вождь Чип-ча, золотой пудрой обсыпанный?
В соседней комнате закашляли, и Юра неожиданно засмеялся, показывая пальцем на дверь:
— Старый Кондор, слушает.
Катя обеспокоенно замахала рукой, призывая его успокоиться, и вышла; о чем-то долго говорила, а Юра, сгорая от любопытства, вслушивался в доносившиеся голоса, но ничего нельзя было услышать. Вскоре в комнату вошел Иван Николаевич, молча поставил на стол четушку, постоял, обдумывая свое положение, потом нехотя присел сам, а Юра включил приемник погромче, не сводя со старика своих нахальных, упрямых глаз. Катя принесла квашеную капусту, малосольные огурцы, помидоры, жареную картошку и пригласила к столу Юру. Старик разлил водку по стаканам и, взяв свой, спросил, цепко глянув на шофера:
— Пьешь?
Юра не успел ответить, за него ответил старик:
— Пьет. И без очков видно. А как же! Нет. Нет. Нет. Водка до хорошего не доведет. Это тебе известно, молодой человек, или нет? На данном этапе такие понятия вам известны?
— Мы, во-первах, не молодой человек. Так что, Кондор, — серьезно ответил шофер, принимая тон старика, — мы в атмосферу не летали, мы даже воевали в некоторых моментах, и очень ответственных. Имеем медаль «За отвагу». Это раз. Во-вторых, не пьют кретины короткохвостые, всякие там козявки. Но мы тоже не пьем, мы только благородно выпиваем, потому как русскому человеку интерес выпить. А пьют пускай алкаши, папаша-мамаша, я не ваша. Как говорят англичане, ядрен тебе в правое легкое! А мы, в-третьих, не муха цеце, что проживает на могучих травах в Африке, где ведется народная борьба против колонизаторов — от океана до океана, а ренегатов солят в бочках, как у нас грузди.
Старик с любопытством поглядел на шофера, сразившего его серьезностью, напористым тоном. Шофер оглянулся, — видать, ему понравился свой ответ.
— Кушайте, — сказала Катя.
Юра подцепил вилкой огромный помидор, с трудом его проглотил. Он так ловко отделал старика, сразив его мухой, имеющей странное название и ни разу им не виданной, борьбой против колонизаторов от океана до океана, непонятными словами, тем, что он воевал и имеет медаль.
— Сколько тебе лет, архаровец? — спросил старик.
— Мне? Много. На десять лет больше, чем Иисусу Христу Назарету, когда он принял великие муки во имя наивысшего смысла. Я лично из автомата скосил одного немецкого офицера. На войне, конечно. Не как думают некоторые ренегаты и оппортунисты.
— К нам ходишь зачем? — Старик остановил взгляд на шофере. — Нет, не надо мне объяснять.
— Дядь Ваня, — взмолилась Катя, — ну что вы, ей-богу! Не успели выпить, а уж пошло-поехало с языка…
Юра некоторое время молчал, ошалело глядя на старика; стакан с водкой, так и не выпив, медленно поставил на стол. Он направился к выходу столь стремительно, что старик, не ожидавший такого, поперхнулся огурцом. Катя вскочила, собираясь остановить Юру, но Юра, будто что-то вспомнил, круто повернул обратно и тихо присел на табуретку, а через минуту, никому не сказав ни слова, снова направился к двери.
Старик и Катя недоуменно переглянулись, Катя встала, направляясь вслед шоферу. Старик взял Юрин стакан, посмотрел на свет, медленно выпил из него, откусил огурец и смачно зажевал, уставившись невидящими глазами в угол.
После этого Юра долго не приходил к ней, месяца два.
ГЛАВА XII
Если пройти по улице Северной к центральной площади и свернуть влево, не миновать самую длинную в Котелине Чапаевскую улицу, пройдя которую очутишься за городом — как раз в том месте, где русло бывшей речки было наиболее глубоким. Есть там места, где вода стоит все лето. Правда, она напоминает уж и не воду, а лужи грязи, но и этого достаточно, чтобы барахтаться ребятишкам, купаться уткам и гусям. К этим местам райцентр, суживаясь, выпирает своими вытянутыми концами; совсем недалеко от овражистых мест видны реденько стоящие домики, маленькие неказистые домики по одному, а то и по два выступили за пределы незримой черты городка. Весной и осенью овраги переполняются водой, тогда не узнать речушку, которая, пенясь и ярясь в круговоротах, несет мутные воды в степь, заливает низины, ямы, просто пологие места, каких полно подле города, и разливается особенно широко, вольготно растекается по степи, образуя на время довольно большие озера, на которые садятся перелетные гуси, журавли, утки. Летом на месте разлива долго стоит зеленая трава, зачастую между владельцами коров и овец идет отчаянная борьба за сочную траву, в любое время дня и ночи вы увидите там пасущихся коров, овец, коз, а летом, когда от невиданной жары пожухнет трава, заливные луга выглядят особенно привлекательно, даже жаворонки поют необыкновенно радостно и звонко именно над заливными лугами.
Октябрь в этом году выдался дождливым. Катя, надев резиновые сапоги, направилась после работы в школу, где она училась в десятом классе вечернего отделения. Шли они вчетвером — она, Нинка Лыкова, Соловьева и Марька Репина. Как обычно, Лыкова говорила о ребятах, которых в Котелине почти нет и вряд ли будут, потому что все, кто за нею бегает, конечно, не сто́ят и мизинца с ее ноги и что, закончив школу, она обязательно поступит учиться в институт в Москве. Нинка была в болонье, в нейлоновой косынке; Катя любовалась ею — так она ладно была скроена, одета, и даже рваные резиновые сапоги на Нинке сидели как-то особенно, облегая ее красивые ноги.
Катя молчала, слушая и не слушая подруг. Говорили все, но слышался только голос Лыковой — говорила громко, беззаботно, не боясь, что кто-то услышит. Катя за всю дорогу не проронила ни слова. Никто из подруг этого не заметил. И так ей стало обидно, так ей хотелось какого-то внимания, сочувствия, что чуть не разревелась.
У дверей она отстала. Никто не заметил, так все были увлечены собою. Катя направилась по Чапаевской улице и шла долго, пока не очутилась за городом, возле оврагов, наполовину полных воды; в овраги шумно скатывались со всех сторон мелкие ручейки. Под ногами чавкало; то и дело слышались крики перелетных гусей, низко пролетающих над городком. В ранних осенних сумерках чувствовалось, вот-вот упадет с неба снег. Далеко над степью и дальше — это над полями ближайшего совхоза — покоился стылый, промозглый воздух. Катя вышла к оврагам и некоторое время стояла, в недоумении припоминая, что раньше ей не приходилось видеть здесь столько воды, оглянулась, присела на корточки и уставилась на воду. Что ей думалось? Она глядела-глядела, потом встала, увидев человека, идущего по расхлябанной дороге в Котелино, подождала, пока он, безразлично посмотрев на нее, протопал мимо. Человек был одет в черное пальто, топорщившееся бугром на спине, а может, он на самом деле был горбатый, переступал медленно и осторожно; было видно, идет он давно, взгляд у него равнодушный, мимо скользящий. Ничего такого в нем Катя не заметила, но через минуту ей стало нехорошо, она даже испугалась, вспомнив глубоко надвинутую на глаза, вымокшую под дождем кепку, большое бледное лицо, глаза, встретившие Катин взгляд с тем безразличием, как если бы встретил он в степи лужу воды. Катя оглянулась. Как было неуютно, холодно, тоскливо кругом. «Что же будет дальше?» — подумала она о себе, присаживаясь на корточки перед водою. Катя внутренне видела себя, будто глаза смотрели каким-то обратным зрением, просматривая всю ее — от головы до пят. Поэтому как-то особенно чутко ей слышалось все, что происходит с ней. Прощупывая себя этим «обратным зрением», она никак не могла заприметить в себе признаки беременности, хотя чувствовала, что именно так оно и есть. Как она догадалась об этом, так с тех пор с нее и не спадал жар, все время у нее словно была повышенная температура. Мерила температуру — она была нормальная. Но все время в теле покоился какой-то сгусток, то и дело посылавший во все стороны тревогу, плескавший при воспоминании о беременности к глазам такие горячие волны, что у Кати рябило в глазах. Катя стояла долго, домой ушла, когда стемнело. Лежа в постели, слушала себя: что же будет дальше?.. Думала о Юре, который не появлялся уже давно. Иногда ей казалось, что теперь-то уж он, Юра, привязан к ней, желает того он или нет, незримой нитью. «Что же это за ниточка такая? — спрашивала себя, прислушиваясь к мышиным шорохам в подполе. — Как бы ее потрогать? Вот жила-жила, а тут р-раз — и опозорилась. А как узнает Иван Николаевич? А как узнают на работе? Лыкова со свету сживет своим смехом». Но как раз почему-то меньше всего Катя боялась Лыковой. Лыкова будет смеяться не над Катиным положением, а над тем, что она не сможет выкрутиться из этого положения… «Вот Марька — та другая, та начнет языки точить. Уж она разохотится».
Ночью Катя встала, не одеваясь, прошлепала к окну, — показалось, кто-то стоит с той стороны. Постояла, вглядываясь в темень. Стучал по стеклу с нахлестом реденький дождичек. Ничего нельзя было увидеть, только ощущалось за окном нечто огромное, властно покорившее в этот час мир, — то была ночь.
«Вот хожу, соображаю, — подумала Катя, укладываясь спать, как бы одновременно прислушиваясь к себе, стараясь что-то понять. — А дальше что будет? А дальше что? Что ж это у меня за жизнь такая — думать и волноваться! И так всю жизнь? — Она тихонько заплакала, жалея себя, Юру, свою непутевую жизнь. — Неужто жизнь моя вся такая? Неужто? Все ждала, ждала…»
Она вспомнила отца, мать. И вся жизнь представилась не чем иным, как непрерывным ожиданием чего-то прекрасного, полного радостного порыва, ожидания, ожидания во имя жизни… Ожидать и ожидать, и нет другого выхода.
— Катерина! — раздался громкий голос Ивана Николаевича.
Катя смолкла, перестала всхлипывать, услыхав, как что-то громыхнуло за стеной, и ее будто ветром сдуло с кровати, она вскочила с испугом, кинулась в соседнюю комнату.
— Дядь Ваня! — закричала она страшным голосом, шаря по стене выключатель.
— Катерина! — спокойно сказал старик.
Катя, услышав его голос, почувствовала слабость в ногах и опустилась на пол.
Старик включил свет, наклонился над ней.
— Что с тобой, Катерина? Нет, что с тобой, Катерина?
— Ой, дядь Ваня, думала, с вами стряслось страшное, — плакала Катя, поднимаясь с трудом. — Я думала… Я так испугалась! Ой, дядь Ваня, не могу… Чего ж я так испугалась?
Она села на табуретку, закрыла лицо руками и, плача, мелко засмеялась, потом быстро направилась к себе в комнату. И уже лежа в постели, слыша, как у нее лихорадочно стучит неуспокоенное сердце, подумала с облегчением: «Ой, как хорошо, если будет ребеночек! Это ж такое счастье. И кто мне его, такой щедрый, даст? Ничего мне больше и не надо. А что еще надо человеку, кроме вот такого счастья?»
Иван Николаевич все же заглянул в Катину комнату. Он что-то сильно недоумевал.
— Катерина, с кем ты нашептываешься? Вот лежу, а мне в голову разные мысли лезут.
— Одна, дядь Ваня. Одна. Сама с собой говорю. Меня тоже разные мысли так и бередят, так и бередят.
— А я-то мыслю: с кем она в шепоточки играет? А ты сама? — Старик включил свет, оглядел все углы. — Ну, да спи.
Катя улыбнулась, засыпая, а старик погасил свет, постоял в дверях, шепча и оглядываясь, и направился к себе.
С этого дня Катя старалась не думать о случившемся. Она отвлекала себя от мысли о происшедшем тем, что, мол, до «конца» еще очень далеко, а сейчас есть дела куда поважнее, полагая в душе, «про себя», это самым главным. В первое время, играя с собой в несерьезность, она повеселела. Мол, ей все нипочем, и так жить можно. И в этой игре с собой находила на время удовлетворение. Но временами она задумывалась, вслушиваясь в себя: что же там, внутри у нее? Часто Катя приходила с работы, садилась подле окна, подперев ладонями голову, глядела во двор и каждый раз пыталась мысленно проследить свою жизнь. В ее сознании обрывочно проносились мать, отец, приход дяди Вани. Но если раньше такие картины захватывали ее всю, то теперь они медленно проплывали где-то сторонкой, теперь прежнее не трогало ее особенно так глубоко, наводило грусть, но не потрясало; и еще она замечала, будто все это проходило через левую половину головы, а правая была занята неясным, таинственным в своей неразгаданности, полным ожиданий, тревог. Катя решила, что неясность и есть судьба ее настоящая, судьба ожидаемого ребенка.
Иван Николаевич заметил перемену в Кате. Долго ходил, приглядываясь, его тревожила перемена в ней. И он по своей привычке, пытаясь вначале узнать причину перемены, а потом уж проверить честность человека в отношении к себе, выжидал, нащупывая в случившемся какие-то ниточки, ведущие к раскрытию тайны, втайне, если оправдаются надежды, думал испытать при разоблачении момент, который ему доставлял огромное наслаждение. Нужно заметить, что это было слабостью старика, слабостью, принесшей ему массу разочарований и огорчений. Он по опыту знал, что человек всегда скрывает свои слабости, а разоблачение их воспринимает как кровную обиду. Уличив самого близкого друга в мелких грехах, Иван Николаевич на всю жизнь наживал врага. И все-таки соблазн доставить себе приятное преобладал у старика над трезвостью расчета. Старик знал хорошо Катю, она была перед ним раскрытая, без каких бы то ни было хитростей, тайн, чем обычно окутано большинство людей. И вот, заприметив это в Кате, Иван Николаевич страшно растерялся, затем принялся лихорадочно искать причину тайны. Когда? Где? И не находил. Катя, сама того не ведая, сломала привычный уклад жизни старика. Он принялся следить за ней. Порою даже ходил к базе, через кого-нибудь наводил справки, когда она приходит, когда уходит, часто ли посещает школу. Недоумение его росло изо дня в день все больше и больше. Иван Николаевич, изыскивая новые способы узнавания, рылся регулярно в ее сумочке, пытаясь найти какие-нибудь вещественные улики. Не найдя улик, старик решился на последний козырь.
— Катерина? — спросил он как-то раз, когда Катя по обыкновению, придя из школы, готовила ужин.
Катя смолчала.
Дядя Ваня сделал обиженное лицо, хлопнул дверью, ступил прямо под дождь. Катя бросилась за ним, боясь, что он застудится.
— Дядь Ваня! — крикнула она, хватая зонтик, который сушился в сенях.
Но старик готов был даже на простуду. Катя догнала его, стала с ним под зонтом.
— Дядь Ваня, ну что ж это такое? — спрашивала она, а он неожиданно направился в сарай.
Дождь сеялся мелкий, частый, завесив водянистой сетью все вокруг. Куры, нахохлившись, сидели в сарае, у двери, и, мечтая о своем птичьем счастье, прикрыв глаза, дремали; овцы доедали картофельные очистки; пара чужих голубей, нашедших убежище в Катином сарае, копошилась на перекладине. Как только старик вошел в сарай, все живое на некоторое время замерло, поглядывая на него. Куры испугались меньше всего, но на всякий случай от двери отошли, а петух, дремавший на одной ноге, так как именно на одной ноге он всегда видел свои лучшие сны, наоборот, шагнул навстречу старику и хлопнул крыльями.
— Дядь Ваня, ой, ну что это вы убегаете от меня? — Катя вслед за стариком появилась в сарае. — Что ж вы, ой, так?
— Нет. Нет. Нет. — Старик, оглянувшись, увидел ведро и сел, закрыл лицо руками. — Я буду жить в сарае. Я опротивел миру, который, бывалоче, в ноги мне кланялся, выпрашивал у меня совета. От меня пахнет не так. — Иван Николаевич начинал издалека, повергая Катю в полное недоумение. Но своим словам он верил. И оттого, что верил сам, верили и другие. — Меня не видят. Мною брезгуют. Я среди двуногих — самой низкой пробы. Что я для людей? Мелкая букашка, я, который Гамлета играть не может, а Александра Матросова тоже — по известным всему миру причинам, потому как стар! Что?! Ничто!! Но знай! — Иван Николаевич говорил громко, поворотив к Кате заплаканное лицо. Он заходил по сараю, размахивая руками. Только петух вскокотывал, неотступно наблюдая за стариком. — Ничтожная былинка! Так пусть она сгинет и рассыплется в прах. И никому не будет ни горько, ни сладко. Прочь из этой жизни! Достаточно тебя оскорбили людишки, которые не стоят тебя. Не хороните только меня на кладбище. Нет. Нет. Нет. В степи мои бренные косточки заройте, засыпьте землицею, этой единственной одеждой, достойной меня. Чтоб ветер сровнял потом могилку с травой. И пусть, пусть ни одна душа не вспомянет больше Куркова Ивана Николаевича, человека честного, но горько прожившего свои страшные годы. Пусть затеряется могилка, развеется мой бедный прах. И никто больше на этом свете не вспомянет меня, грешного, ничтожнейшего человека с большой буквы. Нашел себе место — Котелино. Ко-те-ли-но! Люди узнают — со смеху помрут! Котелино. Это звучит так же первобытно, как котел, казан, помет. Нет. Нет. Нет. Не уговаривай меня, Катерина. Чем скорее наступит смерть, тем лучше. Или уеду в Москву, где мое сердце мясом приросло, или одно — верная гибель, полное забвение меня, человека с такой большой буквы, что страшно сказать. Если бы не я… Люди, что они значили бы? Нет. Нет. Нет. Москва — вот что…
— Дядь Ваня, ну чего вы? — Катя не могла видеть, как мучается старик, как обреченно машет руками, собираясь будто вот сейчас лечь и умереть прямо в сарае, как по его лицу текут неподдельные, искренние слезы. — Я же не хотела. Я готова, дядь Ваня, прощения просить на коленях. Дядь Ваня, если…
Но Иван Николаевич уже вошел в роль своего отчаянного положения, ему на самом деле казалось, что несчастнее его нет и не было на земле человека, все в нем дрожало от сознания собственного унижения, собственной никчемности, и он уже видел степь без конца и края, слышал тоскливый посвист ветра в зарослях ковыля, одинокую, размытую дождем и временем могилку, в которой он погребен. Он со стоном опустился на ведро.
— Нет. Нет. Нет, — шептал старик, поводя головой, как бы освобождаясь от страшного видения.
На него жалобно глядела своими кроткими глазами ярочка, помахивая коротеньким курдючком, один лишь петух сердито вскокотывал, нахаживая позади старика. — Невозможно представить меня, человека с такой большой буквы, в степях, среди ветров, в полном забытьи Здесь же столько лисиц, разроют могилку, косточки вытащат, погрызут… Где ты, Курков?!
— Дядь Ваня! — со слезами, умоляюще проговорила Катя.
— Нет. Не хочу говорить, — отвечал, всхлипывая, Иван Николаевич. — Не хочу. Не могу. Не хочу произносить вслух самое постыдное для человека: меня презирают. Как раба, как ничтожность самую низкую. Я прожил долгую, длинную жизнь. У меня пол-Москвы знакомых. Каких знакомых! Министрам такое не снилось! Светила! В своем роде, конечно. Нет. Нет. Нет. Что в том, что меня обидели, хотя я этого никому не прощу. Но ведь я работник культурного фронта. Какие светила решали со мной проблемы! Пробле-мы! Никто не знает, что такое про-бле-ма! Никто. Но ведь я работник культурного фронта! Я прожил восемнадцать лет т а м. Т а м, хотя я благодарен провидению, где не должен быть. Мое место в Москве, вечной Москве. Я туда направляю свою ладью. Туда! Ты, Катерина, не знаешь, что такое Москва. Это замечательно. А меня презирают. Дожил старый, больной человек… Курков!!!
— Да кто ж вас презирает? — взмолилась Катя, подходя к старику; в ее сознании промелькнули все знакомые лица, бывающие у них, которые могли как-то ненароком обидеть старика. И никто вроде не мог. Разве один Юра? Тот мог сказать что-нибудь обидное, зная, как плохо к нему относится старик. Катя пристально посмотрела на дядю Ваню и спросила: — Юра?
— Он, — устало продохнул старик.
— Ой, он приезжал сегодня? — все так же тихо, с большим сожалением спросила она.
— Нет. Нет. Нет. Не приезжал.
— Вчерась?
— Презираешь… ты меня, Катерина.
— Как? Ой, что вы, дядь Ваня! — Катя закашлялась, удивленно глядя на старика. Уже было темно, и она плохо видела его лицо, ей показалось, что она ослышалась. — Как? Вы что-то… Или я ослышалась? Чего это вы такое говорите-мелете? Дядь Ваня, сколько мы прожили, разве вам есть в чем меня попрекнуть? Скажите? Ну, чего вы там молчите?
Старик не отвечал. Он затеял весь розыгрыш, довел до той точки, когда он уже не был похож на игру, стал неприятным и ей, и ему. Старик лихорадочно искал выход из сложившейся ситуации и, не найдя, сказал:
— Ты своими словами, Катерина, меня попрекаешь и презираешь. Этими самыми своими вопросами и словами. Попрек — он всегда поперек горла становится.
— Да как вам не стыдно, ой, дядь Ваня! — не стерпела Катя. — Я с вами делюсь, что у меня есть. Как вы можете говорить мене такое? Совесть поимейте, загрызет потом. Бегаю цельными днями, готовлю, стираю… Вы ли у мене не накормлены, не обстираны? Хлеб мой пополам, все пополам…
— Я тебе, Катерина, эти попреки не прощу, — сказал тихо старик, направляясь к выходу. — Пойду собираться. Нет. Нет. Нет. Еще раз нет. Уезжаю в Москву. Соберусь, возьму свой чемоданчик старенький, сяду на поезд товарный, на ветер и сквозняк, на купейный, конечно, у меня денег не найдется. И не хочу! Где там деньги! — говорил про себя старик, но Катя все слышала. — Какие там деньги! Одену, как и прежде, свое тряпье, возьму посох на дорогу. А заболею — не беда. В кювете лягу… Вот только боюсь я, Катерина, если дождичек будет, очень не люблю лежать, Катерина, на сырой земле, помирать… Очень.
Катя молчала, не зная, что и сказать. То ли шутил старик, то ли вправду грозился уйти… Но так стало жаль старика, что она не выдержала и бросилась к нему.
— Дядь Ваня, простите меня, дуру, — заплакала она, обнимая его, худого, одинокого. — Что ж это я вам такое дурное сказала, сама не помню. Простите меня, я не хотела обидеть.
Старик осторожно отнял ее руки от себя и вышел из сарая. Над землей уже покоились промозглые сумерки, сырая земля чавкала под ногами. Угадывалось, как там, вверху, ходили тучи, как дышало небо холодом и дождями. В дом старик вошел торопливо и, не слушая уговоров Кати, начал собираться. Как это было не однажды, раскрытый чемодан поставил посреди комнаты, надел двое брюк, две рубашки и пиджачок, новые кирзовые сапоги, купленные Катей весною, и начал сносить свои вещи, аккуратно укладывать в чемодан. Катя стояла подле него, жалобно глядела на старика. За столько лет жизни под одной крышей она привыкла к нему, может быть, даже полюбила, но всякий раз, когда Иван Николаевич собирался уходить, у нее больно сжималось сердце: вдруг уйдет на самом деле!
— Куда ж на ночь глядя? — спросила она жалобно, бросилась к плите — картошка чуть подгорела, мясо тоже.
Катя поставила на стол сковородку, принесла из стоящей в сенях кадочки соленых огурцов, резко, укропно запахших. Дядя Ваня, проголодавшийся к вечеру, остановился посреди комнаты, у него слюнки потекли, сокрушенно махнул руками, подошел к окну. Катя налила стакан водки, упросила сесть за стол, подвинула огурцы, которые он очень любил. Старик глядел прямо перед собой, выставив вперед острую бороду и не смотря на Катю, бочком присел к столу, так же отстраненно взял стакан задрожавшей рукою, — видать, ему тоже нелегко дался розыгрыш, — ойкнул и с сожалением выпил.
— Я, дядь Ваня, всегда вас уважала, — сказала Катя, покосилась в его сторону (старик сосредоточенно закусывал). — Кого ж мне уважать, как не вас? У меня никого из родных нет вовсе-то.
Иван Николаевич оглядел стол, подхватил маленький, в пупырышках, огурчик, сдул с него укропинки и причмокнул языком.
— Огурчик на белом свете, Катерина, — это все равно что Марс на темном небе: звезд нет, а он один лучики на людей шлет. На столе что угодно пусть находится, пусть даже икра, черная или красная, балыки всякие, омары и крабы, виноград и яблоки, апельсины и лимоны, мандарины, всякие сладости, а огурчик — это что называется для меня жар-птица. Он всегда в лучшем качестве пребывает.
Катя молчала. Ей было хорошо оттого, что старик обо всем уже забыл, с готовностью принесла еще целую миску огурцов. Но ведь еще в подполе, в холоде, хранились у нее соленые помидоры, лучше которых, по словам Ивана Николаевича, он не ел восемнадцать лет. Она принесла еще помидоров, старик, нахваливая, по очереди ел то помидоры, то огурцы.
— Я много лет прожил, Катерина, — сказал он, многозначительно подняв палец. — Родился в Москве. Не скрою — под Москвой. Станция Кубинка. Не спорю — под Москвой. Я тебе говорил?
— Ой, нет, дядь Ваня, говорите.
— Воды подай… Нет. Нет. Нет. Постой. Чаю поставь. Чай согревает. Так я о чем? Да вот, родился в Москве, то есть под Москвой. Я всю жизнь, полную и богатую, жил в центре. «Спартак» моя любимая команда. Чай поставила?
— Поставила.
— А дай-ка ты мне капусты малосольницкой, Катерина. Капуста — это такая вещь… Как вот звезда Венера на темном небе в лучшие времена моей долгой жизни. Капуста там была! Там я ее ел. Но все равно дай. Долго я жил, Катерина?
— Долго, дядь Ваня.
— А ты уж и рада, что я долго живу?
— Рада, дядь Ваня.
— А ты дай-ка, Катерина, мне капустки. Пока я живу, тебе — ни-ни, плохо не будет. Я тебе в лучшем свете жизнь подам. Поняла? А дай-ка мне, Катерина, капустки.
— Ой, дядь Ваня, не проквасилась она еще как следует.
— А тебе уж и жаль? Вот, говорят, инстинкт частнособственничества всего сильнее на свете. Говорят. Нет. Нет. Нет. Говорят. Эх, а не с кем мне поговорить тут о самом главном — о смерти и жизни, ведущей к смерти. Вот человек живет, а что самое главное для него? Не знаешь. А самое главное — жизнь. Но ведущая к смерти, то есть жизни человеческой… Не с кем мне поговорить тут на умные темы, на производственные отношения и производительные, черт возьми, самые силы. Они разрешают все на свете. Без них… А вот там, в Москве… Я жил в самом центре. Эх, я говорил, что под Москвой… Ну, так капустки дашь?
Катя бросилась за капустой, принесла полную миску.
— Нет. Нет. Нет, — отодвинул миску старик. — Ешь ты сначала. А то даешь мне то, что сама в пьяном виде даже не съешь.
— Я не буду, дядь Ваня.
— Почему это?
— Не проквасилась.
— А что же мне даешь, поганица? Стало быть, я глубоко и долго проживший, с военной точки зрения стратегический старик, должен кушать, а ты нет, выходит?!
— Ой! Ну, так просили, дядь Ваня.
— А если я яду попрошу? Дашь? А? Дашь? Обрадуешься и дашь! По глазам вижу поганицу, хитра урка. Эх, молодежь, запереть бы вас туда, там бы вы по-другому запели. Не уважаете нынче почтенных. А пример с кого брать вам? Передо мной и глубокие старцы падали ниц! Падали и ползли ко мне на животе вшивом своем, просили у меня ума. Ума просили! Я родился, может, чтобы источать только один ум. В уме есть слово. То слово знаю на свете один я. В нем сила и огромная творческая бомба. Эх, Катерина, нет мне равных по уму. Нет. Нет. Нет. И не будет.
Иван Николаевич пустился в обычные свои брюзжания. А Катя слушала, ожидая, когда же старик продолжит рассказ о своей долгой жизни, о которой она, прожив столько лет вместе, ничего не знала. Дядя Ваня всегда начинал с того, что прожил долгую и длинную жизнь, но продолжать не продолжал, вечно намекая на что-то, о чем Катя могла только догадываться. Старик часто говорил о полной мудрости жизни где-то «там», но где это было «там», умалчивал. Засыпая за столом, он еще раз упомянул о своей удивительной жизни в центре Москвы, о стадионе, на котором играет его любимая команда «Спартак», проигравшая однажды на его «собственных глазах» никчемной, не умевшей правильно ударить по мячу команде «Динамо».
— Проиграла… — проговорил со слезами на глазах старик и показал на пальцах счет. — Проиграла… пять — ноль. Срам и позор невиданный!
Катя уложила его спать, кинула под лавку чемодан, в который старик успел уложить полотенце, мыло и самодельную деревянную расческу для ухода за бородой, постояла, прислушиваясь к сонному бормотанию на печи, и вышла в сени, все еще прислушиваясь — то ли уж к себе, то ли к чему-то еще.
Ночь уже властно охватила землю, выставила в редких просветах быстро несущихся туч сторожевые маяки звезд и принялась гонять волглый воздух по улицам да оврагам.
Утром Катя ушла на работу, а старик все еще спал.
Сыро было, хлябало под ногами, и на душе у Кати было так же нехорошо, как и в природе, — то ли от поздней осени, славной промозглым воздухом, ледяными лужами, к утру обмерзающими узорчатыми кромками тонкого льда, то ли от суматошно несущихся к югу туч, низко приопустившихся над землею, — Катя не знала. Недалеко от универмага буксовала автомашина, съехав с проезжей части гравийной дороги. Автомашина протяжно ревела, разбрасывая колесами во все стороны шматы грязи. Катя поглядела на машину и медленно направилась на работу.
Моргунчук в брезентовом плаще стоял за штабелями старых, разбитых ящиков и, делая вид, что работает изо всех сил, наблюдал за приходящими рабочими. Заметив Катю, он недовольно отбросил ящик и вышел навстречу.
— Зеленая Екатерина, — сказал он на ходу, неожиданно свернув на склад, — почему ты, несознательный гражданин, собралась опоздать на работу?
— Кто? Я? — удивилась Катя.
— Не я же! Мне из хорошо проверенных источников известно, что ты должна была сегодня опоздать.
— Кто ж — ой! — вам набрехал? — удивлялась Катя все больше. Ей было и смешно, и обидно.
В воротах появилась Нинка Лыкова, сонно потянулась, направилась под навес, где должны были сортировать картошку.
— Лыкова! — крикнул Моргунчук, снял шапку, протер лысину платком, пропитанным каким-то раствором, долженствующим способствовать прорастанию волос. — Почему опоздала? На две минуты! Слышишь аль нет? Премию надоело получать? Если каждый гражданин опоздает на две минуты… Слышь, что получится? Подсчитай, небось шибко грамотная!
— А кто, товарищ Моргунчук, вчера опоздал? — спросила Лыкова, торопливо оглядывая себя и махнув приветственно рукой Кате. — Пиши на меня, а я на тебя напишу в партийную организацию. Я на две минуты опоздала, а ты на два часа. Напишу, и все подпишут.
— Но-но! — построжел Моргунчук. — Уж и не пошутить у себя на работе? Вон Зеленая хотела нынче опоздать. Работать надо! Если каждый гражданин…
— Кто вам набрехал на меня? — перебила его Катя.
— Кто ж ему набрешет, кроме собаки шелудивой, — смеясь, проговорила Нинка Моргунчуку.
Кате он сказал:
— У мене разведка работает четко. Вы еще спите в сладеньком сне, а я уже все знаю про ваши мысли и деяния. Кто, где, чего. А на тебя, Лыкова, нет только атомной бомбы, — все ж не стерпел, с досадой проговорил Моргунчук, добавляя поспешно: — Молчу!
— Так-то уж лучше, — съязвила Лыкова. — А про атомную войну, так это было бы прямо прекрасно избавиться от таких мозгляков, как ты. Правда, Катя?
Катя смолчала, направилась под навес, стала обрывать подмороженные листья у вилков капусты. Вскоре пришли все. Кате стало легче. Нинка Лыкова была сегодня злая, то и дело распекала всякого, кто попадался под руку, но больше всех досталось завбазой. И только Кате сегодня от нее не досталось, она будто щадила ее. Под конец работы Лыкова взяла Катю под руку, увела в дальний угол и с явной злостью призналась:
— Получила вчера письмо от Гаршикова, из Москвы. В Котелино он не вернется, в Москве ему нравится, поступил учиться в университет, только не на тот факультет, на который хотел, забыла, как называется… Привет передал тебе одной…
— Мне? — вспыхнула Катя поспешно и пожалела, потому что увидела, как ревниво и подозрительно поглядела на нее Нинка. — Зачем мне?
— А у него спроси! У него узнай! Он ничего не написал мне, кроме одних ненужных слов. Катенька, ты только никому не говори. Ладно? Обещаешь? Ну, обещаешь?
— А чего?
— Честно?
— Когда я тебя подводила?
Нинка оглянулась и шепотом проговорила, сморщившись при этом, словно от боли:
— Первая ему написала. А он… А он… Не оценил. Ты понимаешь, Катенька, какой он страшный, холодный, равнодушный человек? Это он назло сделал. Подлец! А как думаешь, Репиной не пишет?
— Нина ты моя молоденькая, — отвечала Катя, не зная, что и сказать. Она никогда еще не видела, чтобы Лыкова плакала.
— Он… он… негодяй! — повторяла Нинка. — Я же ему все рассказала, что к нему отношусь не как к Моргунчуку, а он: «Слушая академиков, профессоров… У меня иная жизнь началась… эта… интеллигентная, нет, интеллектуальная. Нужно раздвигать горизонты собственной слепоты, чем дальше видишь, тем больше желание увидеть еще дальше. Шесть лет проучусь, а там увидим, кто кого — я науку или наука меня. Кто кого вперед ногами понесет. А пока слушаю академиков…» Слушай, слушай, а мы тут, Катенька, и без его академиков проживем.
— Давно-то пришло письмо?
— Месяц назад.
— А что ж молчала? — удивленно вскинула Катя глаза.
— Простая ты душа, Катенька. Тебе можно все доверять. Я все крепилась, не хотела никому рассказывать, а вот нашло сегодня на меня…
— А ты по-настоящему?
— А?
— Любила-то по-настоящему? Если так, то откуда у тебя к нему такая злость?
— Да не так, Катя, все по-другому. Я теперь все поняла, — сказала спокойно Лыкова, запахивая на груди плащ, помедлила, собираясь что-то сказать, но не сказала, а, вздохнув, предложила: — Пойдем домой, а? Отчего мне с тобою хорошо? Вот рассказала тебе — и хорошо. Ты случайно не богомольная?
— Да нет же.
— А отчего мне так хорошо с тобой?
— Не знаю, Ниночка. А мне сегодня чтой-то так было тошно. Ой, чего-то так у меня душа болела. Весь день. Ой, не знаю почему. Крутит в душе и крутит. Скажи, Нина, скажи без утайки: ты счастливая? Ты такая красивая, молодая совсем, вон на тебе военный смотрел, аж неудобно всем было. Мне куда там, я старая, на пять лет старее.
— Не знаю я. Какое там счастье без счастья, Катя! Тошно только, как ты сказала, — это хоть отбавляй. Ой, что это мы запричитали, заплакали? И без мужиков обойдемся! Пошли по домам. А ведь все ж без них как? Устроены бабы… пропади они пропадом! Пропади эти мужики и вместе с ими Гаршиков! Я ему отвечу — он у меня попляшет!
Катя направилась в универмаг. Долго выбирала, что бы купить с получки Ивану Николаевичу, выбрала модные, в продольную полоску, узкие брюки, какие носили в Котелине приезжие командированные. Она собиралась обрадовать старика, у которого все брюки были залатанные. По дороге домой встретила Татьяну Петровну, которая с девочкой за руку направлялась в магазин. Старушка была одета в черное пальто, на голове от дождя повязана клеенка, у девочки поверх пальто наброшена прозрачная полиэтиленовая накидка.
— Не узнали? — спросила Катя, останавливаясь напротив старухи.
— Не узнала, — призналась та и сняла клеенку с головы, так как дождя не было. — Вот лицо навроде знакомое, а не узнала. Память у меня, как решето. Что положишь, то и просеется.
— Я Катя.
— Катя! — обрадовалась старушка. — Ох ты, миленькая моя, а я об тебе думала. Об тебе-то я думала стольки раз и уж не чаяла встретить-повстречать. У нас тут, миленькая, такая несчастья. — Старуха смахнула с ресниц слезу. — Вот опосля твоего прихода не прошла и неделя, началось тут такое. Я вот куплю карандашики моей Олюшке, так и вернусь. А уж ты подожди, не сочти за труд, миленькая, и все честь по чести расскажу.
Они направились в универмаг, потом к старухе домой. Старуха не знала, как начать свой рассказ, показывала на девочку, давая понять, что неудобно говорить при ней.
— Бабусь, а мы домой идем? — спросила девочка.
— Домой, моя миленькая, прямо домой, хорошая ты моя девочка… Ой, прямо не знаю… — обратилась старуха к Кате. — Ой, прямо голова идет кругом. Что делать? Что делать? Думаю-думаю, а ответа не придумаю.
Катя видела, как волнуется старуха, но та ничего определенного не говорила. У дома старухи на крыльце стояла небольшого роста полненькая женщина в мужской, на «молнии», из болоньи куртке, в туфлях, белом нейлоновом платке. Лицо у нее вблизи оказалось миловидное, кругленькое, одно из тех лиц, глядя на которое невозможно определить, что за человек перед тобой.
Женщина, судя по всему, была знакома старухе, но они со старухой не поздоровались — это сразу заметила Катя. Она посторонилась, пропуская старуху и девочку. Девочка прижалась к старухе, боязливо глянула на женщину. Катя споткнулась в сенях, налетев на ведро, при этом женщина, шедшая впереди ее, дернулась, со страхом оглянулась.
— Постойте! — крикнула Татьяна Петровна из дома.
Катя и женщина остановились в коридоре. Темно было, смутно серели узкие окна, похожие на бойницы. Безмолвно, тяжело — от испуга — дышала женщина, глубоко втягивая в себя солоноватый от квашеной капусты воздух. Женщина косо глянула на Катю. Кате неловко было стоять молча, хотелось о чем-то спросить, она повернулась, но задела стоящий на лавке самовар, и он с грохотом упал на пол. Женщина поспешно бросилась в дом. Следом вошла Катя.
Татьяна Петровна прибирала, переставляя табуретки, убрала на печь кастрюли, сковородки.
— Раздевайтесь, — предложила старуха, присела подле печи, уставившись на горевшую под желтым абажуром лампочку. Катя заметила, как болезненно покраснели у старухи щеки, уши, как от напряжения широко раскрылись ее небольшие глазки, выцветшие, жалостливые.
Женщина неторопливо сняла куртку и оказалась, как и предполагала Катя, довольно плотной, в коротенькой, выше колен, юбочке, плотно облегающей бедра, и в мужской, ладно сидевшей на ней голубой нейлоновой сорочке.
— Вот, мамаша, — сказала женщина, глядя в упор на Татьяну Петровну, небольшими твердыми, чуть выпуклыми темными глазами — что-то в них было отдаленно монгольское. Женщина быстренько сделала начес, хозяйски окинула комнату, села на табуретку и, нервно порывшись в сумочке, вытащила пачку сигарет, закурила.
— Что «вот»? — спросила Татьяна Петровна все с тем же мучительным выражением лица, судорожно ощупывая свое платье, и еще жалобнее стали ее глаза. — Ты ж помнишь, Валюша, то время? Помнишь? — Старуха вытерла слезы и оглянулась на Катю, стоящую у двери, так и не решившую, уйти ли ей, или подождать.
Катя огляделась. Девочки не было. Она еще не могла понять разговор старухи и женщины, но помнила слова старухи по дороге из универмага, беспокоилась и теперь уж без промедления заключила, что виной того несчастья, о котором говорила старуха, и есть эта женщина, крепко сбитая, уверенная в себе, с твердыми, навыкате, глазами, курящая торопливо сигарету, такая моложавая, с таким здоровым румянцем на полных, гладких щеках.
— То время, то время… Сколько мне, мамаша, было лет? Мне лет было всего ничего. Видишь, как быстро пролетели годы! Теперь я свободна. С тем дураком разошлась, с кретином рыжим, с Поповым. Да ты помнишь. Лучше бы он раньше сдох, когда болел, чем встретился мне на пути. Честное слово. И жили с ним один год ничего, а потом закрутило-завертело. Запил. Мучилась. А теперь у меня руки свободные.
— А как же я? — взмолилась старуха, привставая с лавки. — Как же? Я ее, считай, вскормила, вспоила. Я для нее была и мама, и папа — все вместе. Не могу я так все порушить. Лучше бы ты не приходила. Все своим чередом катилось, ну и пусть катится. А ты вот пришла… Девочка учится, ею не нахвалятся учителя, а ты хочешь взять, увезти. Подумай, Валюша, не для себя я пекусь об этом деле. Мне ничего не надо, жизнь моя на конце веточки — р-раз, и от ветра веточка обломалась. Конец-то видать хорошо. На всю жизнь-то для себя ничего не делала и не знаю, как это для себя можно жить. Уж и не получится у меня, ежели и захочешь. Да и зачем? Незачем. Для ее и живу одной. А не будь ее, Оленьки-то моей, уж на этом свете и делать нечего мне. Нечего. Ты уж пожалей, Христа ради, хоть меня на последних летах-то моих. Разве уж не хочешь меня пожалеть? Ну на какую-нибудь жалость, хоть прошлую, пожалей, а то ведь пропаду совсем. Хочешь, на колени стану?.. А или ради Мити пожалей. Он любил тебя. В последнем письме о тебе только и писал, мать забыл, а тебя помнил…
— При чем тут Митя? — резко сказала женщина, взглянув на Катю, по всему было видать, что ей неприятен этот жалостливый разговор. — Митя свое отходил, теперь нет Мити.
— Но так… — Татьяна Петровна намочила полотенце и приложила к вискам. — Ведь ты ж за ём ходила, ведь ты ж его любила. Так хочь уж ради себя-то, а не ради меня исделай.
— Не могу, мамаша. Не мо-гу. Понимаешь? Она, дочь, не вещь. Мне, стыдно сказать, давно за тридцать. Жизнь теперь моя будет в заботах о дочери.
— Но так ране она была тебе не дочь, ты все бросила, побежала за мужиком? Поманил он всего маленьким мизинцем, а ты и побегла. Когда бросил, дочь нужна! — неожиданно громко и зло проговорила Татьяна Петровна. — Ты сказала тогда, что к дочери никакого касательства иметь не будешь. Я же ее выкормила с молочных дней. Она же думает, что ее отец — это Митя, мой сыночек. Зачем же порушать все это? Зачем, скажи? Это делать нельзя, нельзя…
— А так можно? — вскочила женщина и, обращаясь к Кате, продолжала: — Мать жива, стыдно сказать, здорова, а дочь ее говорит, что мать умерла, дочь даже знает, где могилка матери, то есть моя. И ходит, стыдно сказать, на могилку, плачет на этой мнимой могилке. Это кощунство над материнством! Смешно, стыдно сказать, мамаша! Смешнее не придумаешь. Вы представляете, стыдно сказать, что она делает, ребенка совсем лишает матери, а сама выдумывает разные истории, строит предлоги — и все это при живой матери. Мы так не договаривались. Я нахожусь в полном уме, мамаша. Я — это ее мать. У меня все на ее права, мамаша. Стыдно сказать, вы представляете, — снова женщина повернулась к Кате, — мать родная живет в Чкалове, ну, сейчас в Оренбурге, а ее заживо похоронили. Вы представляете, что это такое?! За такое самоуправство под суд строгий советский надо! В тюрьму сажать надолго! Хорошо, у меня сердце, знаете, чувствительное, когда узнала, страшно переживала, а в милицию не пошла, а за такие штучки надо бы прищучить виноватых. Стыдно сказать…
Катя не знала, что на это сказать. «Конечно, — думала она, — лишать мать ребенка нельзя, но и матери бросать ребенка уж и подавно нельзя». Она глядела на Татьяну Петровну, которая то и дело мочила полотенце и прикладывала к вискам, не слушала женщину, только мучительно морщилась, словно от боли.
За окном потемнело, старуха включила свет, и лицо в электрическом свете ее стало еще болезненнее, но яркий румянец на щеках женщины тоже померк, глаза потемнели, налившись загадочным блеском. Женщина нехорошо улыбалась, растягивая и без того тонкие губы.
— Давай начнем по порядочку, — сказала старуха спокойно, и по тому, что она говорила тихо, видно было, это стоило ей больших усилий.
— Мамаша, мы знаем заранее, что вы скажете. Знаем. — Женщина погасила сигарету, бросила ее в печь. — Не маленькие. Все знаем.
— Погоди, Валюша. Ты забрюхатела не от моего сына.
Женщина слегка смутилась, но пересилила себя, твердо посмотрела на Катю, недобро растянув губы в холодной улыбке.
— Допустим. Я любила Дмитрия, но война с этим не посчиталась, она его прибрала. Судьба это, мамаша, называется.
— Да. Митенька мой… Был такой ясный мальчик. — Татьяна Петровна заплакала, уставясь на портрет, висевший на стене, молодого, стриженного наголо солдата с красивым нахмуренным лицом, большими, широко раскрытыми глазами, будто спрашивающими что-то. — Да он всегда мне, миленький, говорил: «Мама, не надо, мама, я сам сделаю». Вот он какой был у меня. Мать свою любил, почитал. Господи, да как же ты со мной распорядился? Да на что ж мне такая постылая жизнь без тебя, моя деточка миленькая? На что?
Катя пыталась успокоить старушку. Женщина нервно закурила. Из комнаты, закрытой на замок, раздался голос внучки:
— Бабусь, ты опять за свое?
— Не буду, миленькая ты моя хорошиночка, — отвечала, вытирая слезы, старуха.
— Ну что вы… — успокаивала Катя, сама готовая разреветься.
— Вот, Катя, как получилось. Пусть Валюша подтвердит. Ребенок когда появился, дети не спрашивают разрешения идти в свет. Идут. А уж как получится дальше, в ответе только одна мать. С них-то какой спрос, с ангелов-то? Что они понимают в жизни? Ничего не понимают и не ведают. Она, Валюша-то, с ребеночком к мамке своей сразу побегла. Аграфена Макаровна женщина суровая, она: «Цыц! Откуда взяла, туда и неси, а мое имя не позорь, а то отец дрын возьмет да испишет спину, а потом выгонит. Чтоб, мол, в моем доме нагульного ребенка не было». И прогнала Валюшу. Валюша ко мне в слезах. А что я могла поделать? Ребенок ни при чем. Он должен исть, пить должен, в теплом уходе его надо держать. Приняла я ее, хоть и сердце разрывалось, что не от Мити мого-то, а от не знаю кого. Валюша скрутилась с Поповым, заведующим магазином, собралась уезжать вскорости после войны. Что ты скажешь, Валюша? Уеду, мол, от ребенка, мол, отказываюсь. Усю жизнь, если хочешь, знать о нем ничего не знаю, ничто нас с тобой, мамаша, не связывает, так как Мити нет, и не приступлюсь я к дочурке-то. Что хочешь делай с им, а пусть только он у тебя останется, а хоть в детдом отдавай, мне никакого дела не будет до ее-то. Так, Валюша? Вот я и пустилась на хитрости. Так ну не для себя же я такое исделала, не для своего самолюбия! А и ты, Валюша, для такого дела, для другой жизни против не выпирала.
— Кто, интересное дело, мать ребенка? — спросила женщина и встала. — Вы меня похоронили, но зато я не похоронила сама себя. Не для этого я бросила мерзавца Попова. У Советской власти мать права имеет еще. Я вот возьму, если плохо будешь себя вести, так вот это ты получишь, когда милицию приглашу. — Она показала кукиш и встала с табуретки. — Не увидишь ни разу ее, хоть и люби ее и без нее жить не моги. Увезу. Что захочу, то и сделаю. Она мой ребенок… И имя другое дам. Что ты, мамаша, можешь для нее в жизни сделать? Одни охи да ахи. Я мать, я ее научу. Она уже взрослая девочка. — Женщина подошла к двери, ведущей в другую комнату. Дверь, была на замке. — Откройте, мамаша, дверь. Быстро! Мне некогда. А нет, то я милицию позову. Ишь какие! Научила ребенка, что мать ее родная, стыдно сказать, умерла. Ишь! Открой сейчас же!
— Не кричи, — расслабленно отвечала старуха, доставая из кармана ключ, отомкнула замок. — Оленька, доченька милая, иди сюды.
Девочка, испуганно озираясь, медленно вышла из соседней комнаты, сердито поглядела на женщину, Катю и уткнулась Татьяне Петровне в подол.
— Оля, доченька моя, иди сюда, я — это твоя настоящая мама, — сказала женщина ласково.
Катя поглядела на женщину, — так был ласков и тепел ее голос, столько в нем неожиданно оказалось нежности, что Катя своим глазам не поверила: эта ли женщина говорит?
— Нет. Не моя вы мама, — отвечала девочка, крепясь из последних сил, еле сдерживая слезы.
Женщина, сделав шаг вперед, застыла, у нее красными пятнами пошло лицо; она как-то странно повела головой, закатывая глаза, на ее губах снова появилась нехорошая улыбка. У Кати, сбиваясь, затрепетала в сердце какая-то жилка, и она, опасаясь упасть, присела, боясь, что и с женщиной сейчас станет плохо, не хотелось глядеть на нее, сраженную, как ей казалось, сраженную в самое материнское сердце. Не хотелось глядеть и на девочку, старуху. Было обидно, что у этих, в сущности, совсем чужих людей так нескладно сложилась жизнь, так безобразно устроены они среди людей. Но ведь виновата одна — эта женщина. Как жаль, что нет среди них третьего, трезвого и мудрого, который смог бы справедливо рассудить правых и неправых, успокоил бы и огорчил, заставил понять друг друга, удержал от ненависти, которая возникла уже между этими людьми, потому что они уже переступили ту грань, которая отделяет ненависть и человечность.
Женщина снова закурила. Она затягивалась быстро, а сигарета разгоралась нехотя, и это ее злило, и от злости дрожали у нее пальцы.
— Оленька, миленькая моя Оленька! — запричитала старушка. — Вон как получилось. Все рухнуло у нас, весь нами сотворенный мир. Что же теперь, теперь-то что же будет, миленькая ты моя, хорошая ты моя доченька? Она мне чужая, выходит, Оленька… Так ли, Оленька? А как у нас свинка была, а ты в бреду металась, чуть не умерла, а я сидела ночами и днями напролет, а я чуть с ума не сошла, — так разве за чужими ходят?.. А я сидела, а я уж молила бога, чтоб я умерла, а тебе бог сохранил. Я молила, чтоб он забрал мою жизнь, а Оленьку оставил в здравии, а не ты-и… Не ты-и! Не ты-и, Валька! Да срази тебя гром, а на глазах моих слезинку не увидишь, такая сейчас у меня к тебе, извергу, злость! А ты вон чего хочешь! Где, где, Оленька, скажи мне сейчас, где твоя мама настоящая? Где? Говори! Умерла, умерла, умерла! Вот иде ее мать настоящая…
— Допустим, — проговорила быстро женщина, бросила сигарету к печке, напрягаясь, словно ожидая удара. — До чего довела ты, мамаша, ребенка! Стыдно сказать! До че-го до-ве-ла — родну-ую ма-ать не узна-ает. Отказывается. От родной матери отказывается. Которая ее родила. Так что же дальше будет? Если в нашей Советской стране, где полно справедливости, дети будут отказываться от матерей? Стыдно сказать, что будет. Стыдно сказать! Стыдно сказать! Я этого не допущу. И никто не запретит. Ольга, марш ко мне! Я твоя мама. Брось эту полоумную старуху, она тебе никто. Она тебе даже не настоящая бабка, чужая. Стыдно сказать — с чужим полностью человеком ты столько прожила. Не верится мне! Она тебе, как вот эта тетя, чужая. Я вас научу. Ишь ты! Я тебя растопчу, мерзавка такая! Чего захотела, от матери отучила ребенка! Врешь, крепостные времена кончились. Нет царских сатрапов. В наше время не отучишь, паскудница. Постоять Советская власть за нас сумеет, мамаша.
Женщина подошла к девочке. Та еще сильнее прижалась к старушке. Но женщина была не только решительная, но и сильная. Она ловко схватила девочку за руку, пытаясь оттянуть от старухи. Девочка держалась, тогда женщина дернула ее так, что она вместе со старушкой чуть не упала. Девочка заревела. Опустив руки, заплакала и старушка. Тогда женщина дернула, разозлившись, посильнее девочку, девочка упала, успев схватиться за ногу старухи, а старушка наотмашь ударила женщину.
Если бы не Катя, все кончилось бы плохо. Разъяренная такой неслыханной дерзостью, женщина отпустила девочку и бросилась на старуху.
— Чего, чего вы делаете?! — Катя кинулась к разъяренной женщине, поймала ее за руку, изо всех сил притянула к себе, поймала другую руку, которой она продолжала махать, стремясь ударить побольнее старуху. — Как не стыдно! Какая ты мать после этого?! Опомнись, негодяйка! Чего ты делаешь? Опомнись!..
— Отпусти, отпусти! — рвалась женщина, все еще горя желанием отомстить старухе. — Моя дочь!… Она меня бьет! Отпусти ты, мерзавка! Селедка паршивая, отпусти!
— Вон отсюда! — громко закричала Катя. Она была сильнее и ловчее женщины, и та это почувствовала, сопротивляясь уже по инерции. — Чтоб тебя здесь не было! Вон отсюда!
— Я с милицией приду! — Женщина схватила куртку, хлопнула дверью так, что стекла в окнах задрожали. — С милицией! Слышите?
Старуха плакала, ревела Оля. Катя помогла подняться старухе и тоже заплакала…
Женщина, слышно было, протопала по сеням, нарочито громко топала, давая понять, что она из тех, кто так просто с поля боя не уходит, потом задела ногою ведро, наддала по нему ногой, и оно долго гудело в сенях. Обиженная, со стыдом выдворенная из дома, она теперь ненавидела этот дом. У нее от злости все жилы внутри дрожали, — от унижения, от негодования подвернувшимся прутом с яростью хлестнула по окну, которое осыпалось мелкими стеклянными осколками. Она еще долго кружила возле дома, придумывая одну кару страшнее другой этим людям, считая их прямыми виновниками случившегося, крушений всех надежд. Виноват этот дом, эта старуха; все ее несчастья в личной жизни произошли из-за того, что ребенок жил в этом ненавистном доме! И мысль, что вся ее жизнь испорчена именно потому, что она бросила маленького ребеночка, который еще нуждался в материнском молоке, буквально на второй день после своего появления на белый свет, вселила в ее душу суеверный страх, а вместе с ним и боязнь ответа за случившееся. Но с тем большим уж ожесточившимся желанием женщина стремилась теперь отнять ребенка у старухи.
ГЛАВА XIII
Катя ушла домой поздно. На улице часто останавливалась, оглядывалась, вспоминая, как женщина со всех сил ударила чем-то по окну и как зазвенело разбитое стекло. Кате все казалось, что без нее может произойти несчастье. Дойдя до центральной площади, она повстречала женщину, но в полутьме не смогла рассмотреть лицо. И вернулась. Нет, в доме и вокруг было спокойно. Но почему же так сердце болит?
Иван Николаевич сидел у печи и щурился в книгу, а по щекам его скатывались на бороду слезы. Он поднял на Катю глаза и прицокнул языком.
— Черт ее возьми!
— Кого? — удивилась Катя, стаскивая с себя плащ. — Библию, ой ли?!
— Ее. Как увсе у них тут правильно. Апостолы говорят. Апостолы дела делают, одни великие. Неужели человек так не может? — Старик встал, опять сел и прочитал, поднося книгу близко к глазам: — «Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскрешают, и нищие благовествуют». Нет. Нет. Нет. Катерина, это такое, что ежели б в жизни такое было, то с меня р-раз сорок годков — и я тебе в женихи бы прыгнул. Вот это книга, вот это сказка! Даже получше. Мир — это не знаю что. Катерина, если взять прошлое, настоящее и будущее — это что? Как думаешь? Эх, нет умного человека поговорить о нравственной основе современного человека и о производительных силах. Не с кем. Мир тесен, хотя мир велик, — многозначительно произнес старик слова, где-то им услышанные. Он часто прочитанное или услышанное выдавал за свое, стараясь этим удивить людей, заставить их о нем думать и восхищаться. — А ведь, Катерина, гляди, что пишут: «Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мудрецов, а иди благовествуй царствие Божие». А? Видишь? Это Лука говорил, умный, зверюга, был. А я тебе еще скажу от себе: предоставь живым жить, а счастливым соли съесть побольше, а страждущим дай счастья, а плачущим радость и улыбку, а уж безденежным денег и пошамать хорошо. Надо добавить это в Евангелие и Библию. Мне т а м один говорил: «Иван, знай, Библия вся такая, ее тоже сделали люди. Такие горемыки, как и мы. Человеку страшно без всего жить, даже без бога. У человека есть страх, веселье, смех, боль — от природы. А причины возникновения всего этого не видно. Кто дал это? Никто не знает. Вот он и выдумывает причины. И только мудрец раньше всех доходит, что все равно все будут в одном месте, а остальные создают учения, библии, уцепляются за них, как утопающий за соломинку. А лежать будем там, где все золото сгниет, трухой источется, а слава не задержит разложение в прах человека. Но как, как все это обойти? Как?
Старик говорил, а Катя подмела в доме, полила цветы в горшках, вымыла посуду. Она слушала краем уха старика, но слушать ей было неинтересно. Библию она давно сама пыталась прочитать, но не смогла, было скучно от сухости, от непонятной там жизни, от поучений, и от разговоров о том, что в Библии написано, уклонялась.
— Катерина! — громко сказал старик, сердито просверлив ее своими колючими глазами. — Не слушаешь? А я говорю слово, которое академику, Герою Социалистического Труда, слушать интересно. Министр меня с удовольствием слушал. Ми-ни-стр! Президент! Генерал! Маршал! Всем интересно. Я вон думаю за всех людей на свете, я им помогу. Все будут мне благодарны. А не написать ли мне Евангелие от Ивана Николаевича Куркова?
— Ой, дядь Ваня, — рассмеялась Катя. — С вами не наскучишься. Сядьте да и напишите. Авторучка вон какая уж хорошая.
— Нет. Нет. Нет. Ты не понимаешь. Я серьезно. Писать надо не авторучкой, а пером. Пером гусиным. Я серьезно.
— Ой, я так же, серьезнее нельзя. Уж поздно, дядь Ваня.
Старик посерьезнел, замолчал, вспоминая, что он сегодня по-настоящему и не поужинал. Обида кольнула в груди. Катя это заметила.
— Дядь Ваня, что вы говорите, истинно правда, — пыталась засмеяться она. — Вот я вам штаны купила. Поглядите. Не нравятся разве?
Старик молча обрадовался, но вида не показал, залез на печь и со злости хватил кулаком подвернувшуюся кошку так, что заломило руку. Катя поймала заметавшуюся по дому кошку и уложила спать с собой. Выключила свет, как услышала:
— Катерина!
— Чего, дядь Ваня?
— А ты знай, что я сегодня не ужинал, лег на пустой желудок, — громко сказал старик и стукнул сильно кулаком по стене.
Катя молча включила электроплитку и начала готовить ужин.
— Что ж, дядь Ваня, сразу не сказали? Вон в кастрюле суп, а вон в казанке картошка и мясо тушеное, уж думала, что поесть можно, — сказала Катя.
— «…будете искать меня и не найдете, и где буду я, вы не можете прийти», — ответил старик. — Готовь не готовь, а кушать я не буду, голодным помучаюсь.
— Готовить или как? — спросила Катя, но старик не ответил, вздохнул тяжко и отвернулся к стене.
Катя подождала ответа, но не дождалась, выключила с досадой плитку и пошла спать, в первую минуту сильно сожалея о своей решительности, но вскоре услышала похрапывание старика и успокоилась. Она не могла уснуть, лежала, слушая свиристение кузнечика, шуршание мыши в подполе; вскоре послышался шум за окном — закрапал дождичек, дождик усиливался и вот уж с нахлеста зачесал по окну. И дом наполнился нутряным сдержанным гудением. В другой бы раз Катя переживала капризы Ивана Николаевича, но сейчас об этом сразу забыла, погружаясь в воспоминания о нехорошем в доме Татьяны Петровны. Как было ужасно! И что самое ужасное, так это то, что все произошло при ребенке, который уж подавно ни при чем. А вдруг женщина вернется?
Катя до утра не могла заснуть, тревожась за старуху. Вскочила, еле забрезжил рассвет, спеша натянула кое-как платье, плащ, прихватила зонтик и под моросящим дождем, оскальзываясь, бросилась на Чапаевскую улицу. Она была уверена, что обязательно что-то случилось. Всю ночь сердце у нее так стучало, так стучало, нашептывая беду… Но в доме на Чапаевской тихо. Холодный воздух над домом прорезывала струйка дыма, вытекающая из массивной кирпичной трубы, в окнах был свет. Старушка не спала. Катя направилась обратно, гадая, почему ей было так нехорошо, так тревожно билось сердце. «Зачем все эти волнения?» — думала Катя. На центральной площади увидела автомашину, и ее словно кто по голове ударил — она вспомнила случившееся с нею, Юру и сразу решила: «Вот почему так было».
Дома Катя быстро приготовила есть, накормила овец, кур, голубей, бегая из дома в сарай и обратно, разбудила старика, чему тот, не привыкший к этому, очень удивился:
— Вставайте, дядь Ваня, кушать пора. Умрете с голоду.
— Я не буду, — буркнул старик в ответ и повернулся на другой бок.
— Ой, дядь Ваня, хватит. Воздухом ли будете питаться?
— А хоть бы.
— Ну, так глядите, на меня не серчайте вслед раз, а то я вам припомню сегодняшний разговор. Я вчерась штаны купила. Такой будете модный, хоть жени вас.
Старик с любопытством поглядел на Катю, подумал, помедлив, однако с печи слез, оглядел брюки со всех сторон, даже дунул на них, с трудом натянул на себя, презрительно при этом сморщившись.
— Готова цацка! — саркастически проговорив, выходя на середину, он развел руками. — Арестант! Гляди, перед тобой урка настоящая в цаце. Чего только не хватает, не знаю.
— Ну, так сейчас такие брюки модно, — еле сдерживала смех Катя.
— Ну, так… Раз так, тогда горшок на голову можно нацепить, — говорил старик, сохраняя саркастический тон. — Теперь видишь, век такой, раз модно, то можно. Видишь, теперь ноги у меня как у кавалериста буденновской армии. Гляди, карманы спереди есть и сзади, а маленьких кармашиков для часов карманных — нет их. Это тоже мода такая? А?! Мода такая?! Мода как погода, сегодня дожди, а завтра жары. Курам на смех! На по-смех! На, Катерина, эти брюки-дрюки, пускай их кто другой носит, а я на арестанта походить не спешу. Хватит. Отсидел я там и относил свое. Отдай этому цыгану, а не мне.
— Ой, вовсе не цыган! Ой, дядь Ваня, злой ты!
— А мне пусть хоть крокодил, лишь бы человек был. А он не человек, он выблюдок какой-то, — заводился старик, поспешно стягивая с себя брюки.
— Не будете носить? — спросила Катя, жалея уж, что поторопилась купить их.
— Не буду. Не турок я, чтобы кривоногий ходить и людям на посмех быть. Отдай своему цыгану. Пусть прикроется.
— Да не цыган он! — воскликнула Катя.
— А мне все равно.
— А что ж тогда попреками меня осыпаете! — Она бросила с силой брюки, которые подал ей старик, в угол и направилась на работу.
ГЛАВА XIV
Небо низко провисало к земле, суматошно летели к югу, касаясь городских крыш провисающими брюшками, тяжелые тучи, и порывами налетал ветер, качая озябшие, облетевшие давно ветлы, тополя, носил в воздухе реденькие мокрые листочки, а над городом, закрывая временами горизонт, в каком-то феерическом танце, собираясь в небольшую тучу, а затем широко расстилаясь огромной сетью по горизонту, летали стаи грачей. Они мельтешили по небу, кричали, и в том, как они суматошно носились, кричали, было что-то дикое, нездешнее, становилось тревожнее на душе, и Кате хотелось бежать куда-то, избавиться от крика, от ветра, от голых, озябших тополей и ветел, мерзнущих на ветру. Она направилась к универмагу, потом в степь. Зачем? В степи было то же самое — низкое, торопящееся небо, грачи, плясавшие, видимо, свой ритуальный танец по уходящей навсегда осени, — для кого, может быть, первой, а для кого последней. Образуя огромную карусель, они неслись от земли к небу и обратно. В их танце было что-то пугающее и вместе с тем завораживающее.
По-над самой степью овальный полукруг неба горел ярким розовым светом, сочась холодом, а небо, будто подплывшее на розоватом свете, уходило с севера. Так вот почему суматошно кричали, носились грачи, наполняя окрестность торопливым испуганным кличем! Из-под разреженных над степью туч прорывался розоватый свет невидимого солнца. Степь лежала молчаливая и равнодушная, глубоко, сдержанно дышала, и в ее молчаливости были грусть и тоска увядшей осени. «Скоро выпадет снег», — решила Катя.
На работу она опоздала, но Моргунчука не было, и все обошлось. Весь день Катя маялась. Было беспокойно, нехорошо на душе. Нинка Лыкова, жалевшая теперь, что открылась вчера Кате, настороженно следила за ней, как бы Катя не поделилась с кем-нибудь вчерашним. Наконец не вытерпела и подошла.
— Катька, лица на тебе нет.
— Так уж какое лицо! Всю ночь не спала.
— С кем? — подалась вперед Нинка.
— Да уж с кем! С горем вдвоем. Воевала со стариком своим. Да и с чужими тоже не сладко пришлось. Ой, чего говорить… Сама, чай, знаешь. И душа у меня болит. И сейчас болит.
— Ой, Катька, Катька! — покачала Лыкова головой. — Как мне эта работа опротивела! Если б ты только знала. Мне восемнадцать лет, красивая я, раз парням нравлюсь, знаю я это, а сижу, перебираю картошку. Да плевать я на нее с высокой колокольни хотела! Тьфу, черт! Пусть Марька работает, Соловьева пусть, а с меня довольно. Уйду в универмаг.
— Так, ну, продавщицей не возьмут так, сразу, нужно получить звание — продавец.
— Нет уж, Зеленая, пойду даже в ученицы…
— Ну, так хоть свой человек там будет, все кой-какого дефицита подбросишь по старой дружбе. Свой человек, как говорится, в конторе. Напротив моего дома будешь трудиться.
Нинка засмеялась, вытащила новую авторучку из сумочки и не долго думая тут же написала заявление об увольнении по собственному желанию. Они рассмеялись. Катя неожиданно подумала, что и ей, видимо, настал черед уходить на другую работу, что-то она задержалась на овощной базе. Но куда вот только? Так до конца рабочего дня она гадала, куда ей пойти работать, но ничего не придумала.
После работы Катя направилась на Чапаевскую, к старушке, по дороге забежала в продовольственный магазин, купила девочке шоколадку.
Старуха лежала на кровати в пальто. Катя сразу заподозрила беду и, как всегда в таких случаях бывает, старалась оттянуть разговор о неприятном, спрашивала совсем о другом, но наконец пришел черед, спросить о главном. Старуха показывала слабой рукой на дверь, глаза у нее слезились и ничего не видели. Катя перестала спрашивать, затопила печь, так как в доме было холодно. Оглядела комнату — Олиных вещей не было, и ей все стало ясно. Вскипятила чай, принесла из сеней варенье, из ложечки напоила старуху чаем.
— Что? Как? — спрашивала поминутно Катя, но старуха заливалась слезами, махала руками, наконец спустя час или два сумела сказать:
— Мне пора умирать…
— Татьяна Петровна, дорогая моя, ну что вы такое говорите! — испугалась Катя, успокаивая старуху. — Все еще образуется. Вот посмотрите. Ой, ведь как бывает в жизни-то, а потом, гли-ко, а туч на небе как не бывало. Ну что ж, что жизнь наша-то такая бабская? А уж крепиться надо. Вам еще нужны силы. Что? Не так?
— Не судьба, — горько сказала старуха. — Не судьба. Подстерегла ее возле школы. Я с одной стороны дожидаюсь, а она с другой. Уговорила, а девочка в ее сторону пошла, хотя всегда этой стороной ходила, угрозами, мольбами, слезами, привела милицию… А Оленьке мать стало жалко, сердце-то у нее добренькое, хоть и маленькое. Права ее, матери. А што я сидела, когда она умирала от свинки, так это ни во что. Плакала, молила бога, готова была сама умереть, так это ни во что. Судьба. Так богу угодно. — Старуха откинулась на спину, долго не отзывалась, сколько Катя ее ни спрашивала. Катя смерила ей температуру — тридцать восемь.
Потемнело. Кате стало не по себе, и она принялась за старуху, напоила чаем с малиновым вареньем, молоком с содой и маслом. Укрыла потеплее, собираясь уходить. У двери оглянулась — старушка жалобно глядела вслед, будто умирать собралась, будто не увидит больше Катю. Глаза, полные слез, потемнели, не жилец она на этом свете. Катя, оглянувшись, даже обмерла, ей показалось, что старуха с минуты на минуту умрет. Она сняла плащ и вернулась.
…И все-таки Катя уговорила Татьяну Петровну поселиться на время у нее в доме. Они пришли поздно. Старуха, поддерживаемая Катей, еле взошла на крыльцо. Катя провела ее в свою комнату. Иван Николаевич, собиравшийся было устроить Кате разнос за свой голод, молча наблюдал, как Катя раздевала старуху, как провела к себе в комнату. Удивленно пожал плечами, недоумевая, открыл Библию и сосредоточенно начал читать, хотя ничего не видел, строчки прыгали, расплывались… Катя выглянула из своей комнаты, ища полотенце. Через минуту растопила печь, поставила варить картошку в чугунке.
— Помогите, — попросила она, убегая с чайником в свою комнату.
— Кто? — спросил строго старик и, демонстративно не притрагиваясь к картошке, стал с книгой под абажуром. — «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине».
— Ой, дядь Ваня, о чем вы говорите?! — Катя торопливо принялась чистить картошку. Старик в своих широченных, трижды залатанных штанах, которые Катя купила еще давно, в фуфайке, со всклокоченными волосами и остро торчащей бородой выглядел смешно, и Катя, позевывая от усталости и желания поспать, довольно поглядывала на него — старик молчал.
С этого дня Ивана Николаевича словно подменили. Вначале он сопротивлялся тому, что старушка оставалась в их доме, потом, поняв бесполезность своего упорства, молчал. Молчание продолжалось месяца полтора. Период молчания сменился периодом чтения книг. Старик не давал Кате покоя, требуя, чтобы она приносила книги, преимущественно романы, и с поразительной жадностью, не замечаемой ею ранее, проглатывал один роман за другим, с неистребимым интересом следя за развитием событий в романе. Обычно он сидел с книгой у окна, прочитывал страницу, затем, уставясь на снег, проговаривал ее вслух, победоносно оглядывался, собираясь своей памятью «сразить» наповал Катю или старуху. После обеда старик ходил по дому, рассуждая вслух о смысле жизни, о никчемности суеты, о вреде праздности, о тщетности забот, о «нетленности» слова, о непонятном назначении человека, о вреде сна и о его в то же время пользе, о ненужности тяжелого физического труда и о пользе умственного, и о многом другом.
Порою Катя заставала его за таким занятием. Он ходил по комнате, держал в руках книгу, и говорил: «Что есть человек?» «Человек есть биологическое существо природного происхождения». «Что есть природа?» «Природа есть субстанция космического происхождения». «Что есть космос?» «Космос есть нечто непостижимое, мрак, бездна, понять которую человек ни в настоящем его развитии, ни в будущем его развитии не сможет, но будет стремиться к этому». «Что есть бог?» «Бог есть концентрированная сила человеческого ума». «Ум — продукт мозга, а мозг — продукт тела человеческого. Следовательно, биологическая сила — вот откуда идет человек». А сила? «Сила идет из необозримых бездн космических».
Увидев Катю, дядя Ваня смутился, и впервые за два месяца спросил:
— Кто есть ты?
— Кушать хотите? — сказала Катя, подозрительно поглядывая на старика: ей показалось, что старик выпил.
— Катерина, кто эта женщина? — спросил Иван Николаевич, закрывая книгу, которую держал в руках.
Катя уже сто раз объясняла Ивану Николаевичу про старуху, и ей казалось, что после рассказанного даже пенек бы расстроился, но только не дядя Ваня.
В первое время, когда старушке стало лучше, она попыталась установить контакт со стариком, вышла к нему, хотела в чем-то услужить, но он так кольнул ее своими маленькими глазками, так резко, демонстративно отвернулся, что она собралась было уходить от Кати, на что, вероятно, и рассчитывал Иван Николаевич. Потом, когда ей стало совсем хорошо и она, пытаясь угодить сердитому старику, начала называть его по имени-отчеству, первый кусок и самый лучший класть тоже ему, старик смягчился. Дальше — больше. Ему понравилась она. Сготовленное Татьяной Петровной он находил вкуснее, лучше, аппетитнее. Кончилось тем, что Иван Николаевич с нетерпением ожидал возвращения Татьяны Петровны с работы, запретил ей возвращаться в свой дом. Но с ней он все же был строг, и она его боялась пуще всего. В присутствии Татьяны Петровны, вздрагивающей при каждом его слове, Иван Николаевич старался выдержать тон. Он стал еще степеннее, важнее, жаловался вслух на скудность и бедность людей вообще, а нынешнего поколения в частности, досадуя на невозможность изложить свои ученые воззрения лицу достойному, его понимающему и глубоко мыслящему. Он жаловался. И в своей жалости находил нечто унизительное, недостойное его.
— Татьяна Петровна, — часто говорил он, остановившись возле окна, пронзительно всматриваясь в снег, тихо и ровно ложившийся на землю, — вы человек простой, вам трудно понять меня, человека, проницательно мыслящего и скакнувшего из Москвы в этот край. В край, забытый богом, как говорится. Нет. Нет. Нет. Не отвечайте мне. Я все знаю, вижу, чувствую и понимаю. До всех оснований вижу. Я прожил долгую, таинственную жизнь, жизнь волшебника и философа. Вам сколько лет?
— Шестьдесят пять. А вам?
— Не перебивайте течение мысли! Я прожил долгую, трудную во всех отношениях жизнь. Заслужившим да воздаст жизнь. Я просидел, вернее, прожил, я не животное какое-нибудь, восемнадцать лет т а м. Я изучил жизнь во всей ее биологической плоти и красной крови. Я работник культурного фронта. Я знал, что такое производственные отношения и производительные силы, я, как вам известно, не мог не изучить камень нашей жизни и философию во всей ее тягчайшей основе. Вот откуда идет подобное в мое мировосприятие человека и гражданина. Я прочитал, как известно вам, столько книжек, что из них можно построить вот такой дом, в котором мы живем.
— За что вы т а м были? — осмелилась спросить Татьяна Петровна.
— За что там бывают! Гм. Нет. Нет. Нет. Вы не поймете. Ибо лучше не понять, чем понять ложно, — загадочно проговорил Иван Николаевич, оглянувшись на старуху. — Ибо жизнь лучше не знать, чем знать. Знание ибо не приведет к добру. Знающий да знающего не возлюбит, да ожесточится против его. В грехе твоем есть жизнь, в понятии истинном.
— Вот и у меня как получилось, — расчувствовалась старуха, вспомнила Олю и заплакала.
— Ищите и обретете, — сказал Иван Николаевич. — Ибо жизнь что есть? Искание — вот жизнь. Биологически. Вот жизнь моя продлилась долгая, да и не долгая такая она. Упаду я где-нибудь в канаве, как бездомный пес, отлетит душа моя, душа великого правдолюбца и честнолюбца Куркова!
Вошла Катя. Иван Николаевич сделал недовольный вид, напустил на себя еще больше важности.
— Катерина, собака, сидящая на сене, вредна. Курица, сидящая на яйцах, полезна. Диалектика жизни такова! В чем ее суть? Грибы, в лесу растущие, полезны, а на дороге — вредны. Солнце хорошо днем, а луна — ночью.
Катя рассмеялась. Иван Николаевич в последнее время все больше стал говорить что-нибудь подобное. Серьезность, с которой он это делал, смешила Катю. Она, принимаясь за уборку, с облегчением думала, что им троим теперь веселее и лучше, чем было раньше, когда жили порознь. Она ходила по дому, прислушиваясь к разговору Ивана Николаевича, вернее — к его монологу. Радость сменялась грустью, когда она вдруг начинала думать о себе, о Юре, о той щемящей безысходности, в которой очутилась. Раньше было невесело, но и сейчас нелегко, беременность давала о себе знать.
«Хорошо, — думала она, — вот я живу, учусь, работаю. Сегодня это будет, завтра, потом состарюсь, в старости своей найду утешение. Но я ведь не смогу, как Иван Николаевич, я же не могу и двух страниц в Библии прочитать, мне тошно, тоскливо от них. А Иван Николаевич смог всю ее одолеть, перенять оттуда интонацию и сейчас вести беседу в духе писаний Библии. В этом мы разные люди и жить одинаково не сможем».
И на нее навалилась тоска, от которой выть хотелось. «Господи, маменька моя родная! — шептала Катя, еле сдерживая слезы, подметая одновременно пол. — Да куда ушел, почему не возвращается Юра? Почему же он не придет, не посидит, не успокоит меня собою? Видимо, плохо ему, раз не приходит. Раз придет, потом два месяца не приходит. Лучше уж пусть вовсе не приходит…» И Катя чувствовала, как подкатывается комок к горлу, как он словно прокатывается через само сердце, и она явственно ощутила, замирая, стараясь сохранить, прочувствовать непонятную еще ей, рождающую боязнь жизнь. Что это за жизнь? Кате стало жарко от нового ощущения, она торопливо ушла в другую комнату и села. Вытерла слезы, на мгновение замерев, пытаясь еще раз почувствовать то, что почувствовала только что. Она замерла, уставилась в пол, как бы прощупывая себя внутренним зрением, задерживаясь то там, то сям, и то, что она «увидела», сказало: да, есть.
Она встала, не зная, плакать ли, радоваться ли. Потом присела на табуретку и беззвучно засмеялась. По щекам текли слезы, и она их слизывала языком.
* * *
Юра пришел через неделю. Снега стояли глубокие, ослепительно белые под яркой, полной луной, прямо с раннего вечера взбиравшейся на чистое, слегка подернутое изморозью небо. В центре Котелина гудели автомашины — это рядом с пекарней, которая находилась прямо за бывшим церковным садом, ныне совсем запущенным. По морозному воздуху была разлита чистая тишина, хрупкая, та, которая особенно бывает ощутима вдали от больших городов и заводов. Поэтому когда Юра по обыкновению резко дернул, широко распахивая всеми окоченевшими порами взвизгнувшую калитку, это сразу услышали в доме, правда, не придавая скрипу особого значения, так как соседка Коршунова имела привычку вечером забегать то за спичками, то за опарой, то просто зайти на вкусно пахнущий дымок, чтобы узнать, что же это соседи готовят. А угостят, так не обеднеют.
Катя бросилась к обмерзшему окну. Юра шел неторопливой, чуть вихляющей, этакой небрежной походочкой, одетый в демисезонное пальто, распахнутое, конечно, длинный шарф залихватски лежал на плечах, старые валенки специально запорошены снегом (пусть подумают, что новые, а если снег и растает, то неизвестно, как они еще будут выглядеть). В зубах у него дымила огромная гаванская сигара, купленная для пущей важности, с трудом всунутая в длинный деревянный мундштук. Он чему-то усмехался, покачивал головой, слегка подделываясь под выпившего, хотя вот уже с неделю только и думал о предстоящей встрече и в рот от волнения не брал ни росиночки, собираясь всех в Катином доме поразить трезвостью и серьезностью рассуждений. Он хотел пройти перед окнами стройный, как хлыст, твердой, опять-таки серьезной походочкой, чтоб, увидев его, сказали: вот это мужчина, вот на кого можно положиться! Но в последний момент как-то само по себе пришло в голову, что лучше быть немного выпившим, и за какую-то секунду недельная задумка полетела вверх тормашками.
Катя, заприметив Юру, вытанцовывающего какой-то замысловатый танец, обмерла, потом, спохватившись, бросилась в свою комнату, крикнула старикам, что если будут спрашивать, ее нет дома; хлопнула дверь, и в ту же минуту донесся Юрин нарочито бодрый, сбивчивый голос.
— Папаша… комсоставский привет! Добрый вечер в это морозное время. Бубликов вам и пряников целую гору, и к этому, красивые вы мои, хорошие, бутылочку аш два о в сорок два градуса. Привет — привет! Вам, папаша, лично авиационный комсоставский привет!
Послышался шум. Это Юра, не снимая пальто, сел на табуретку и случайно задел ногой другую, опрокинул се. Все молчали. Дядя Ваня молчал и сурово, стараясь поймать ускользающий взгляд пришедшего, смотрел на него, а Татьяна Петровна нервно теребила передник и бросала тревожные взгляды на дверь Катиной комнаты. Недавно вставленная стоваттовая лампочка под абажуром разливала по комнате яркий свет. Было неловко от такого яркого света, и все — уж так получилось — одновременно посмотрели на лампочку.
— Мороз взялся нынче, папаша, — нарушил затянувшееся молчание Юра обычным своим голосом, и Катя поняла, что он не пьян.
Старики опять промолчали. Стало неловко, только Юра кашлянул, смутившись, хотя в душе всегда полагал себя конченым человеком именно потому, что, как он сам считал, его никогда ничем нельзя было смутить. Юра считал себя отчаянным из отчаянных.
— У вас в сенях дверь намерзла. Как бы очистить намерз, так не скрипела б по-льдиному, — старался завязать светский разговор Юра, необъяснимо пьяный тон сменяя на совершенно трезвый, поражая этим Татьяну Петровну напрочь. Теперь она решила окончательно, что Юра пьян. Как бы в подтверждение ее мыслей Юра продолжал: — Оно бы и щеточку перед дверью из капрона постелить можно. Али из перекати-поле, али ножик положить, все ж почистить снег удобно, папаша.
Все продолжали молчать. И тут Юра, умышленно уводивший разговор в сторону от главного, чтобы в результате невероятных хитросплетений стало ясно, где Катя, не выдержал тонкого, умного разговора и спросил напрямик:
— Папаша, я тебя спрашиваю нормально: Катя Зеленая где?
— Нет. Нет. Нет. Я тебе по-советски отвечаю, мил человек: она у нас учится в десятом классе средней советской школы. Лучше учиться, чем не учиться. Один ученый стоит двух неучей.
— Слушай, папаша, кондор — самый большой в мире хищник, а ты врешь? — сказал Юра, чувствуя, как летит куда-то в бездну вся его долгая подготовка к этой встрече, а тот вежливый, ледяной тон, который должен был сопутствовать в разговоре со стариком, сменился обычным, придирчивым. Куда делись приготовленные серьезные слова!
— Кто врет? — взмыл ястребом Иван Николаевич, и та неистребимая вражда, появлявшаяся всегда при виде этого человека, бурно заклокотала в нем, с бешеной силой от вспыхнувшей злости заколотилось сердце.
— Ты врешь, оппортунист паршивый, если на то пошло! — бросил вызов шофер, ругая себя за ершистость последними словами, но не в силах сдержаться, проклиная уж не старика, а себя. — Вы, папаша… Но дело не в этом. Не кипите, как ядерный взрыв! Анаконда! не суетитесь, как электрон вокруг протона. Здесь не Гонолулу, не мефистофельская страна. Ферштен? Или нет? В школе ее нет, хотя неучение и тьма, а учение — свет. Я же был там. «Ауфвидерзеен!» — сказала она сегодня родной школе, источнику знания. И тьма потеряла власть нынче. А толще Толстого писателя не было на свете. Поняли? Я хотел сказать в том смысле, что неправда…
— Нет, я не стерплю! — закипел с вулканической силой Иван Николаевич, вскакивая с лавки.
— Папаша, кондор — это хищник, самый крупный из птиц, папаша, — примирительно продолжал Юра, однако в нем от слов старика тоже закипала неприязнь к нему, но он всячески старался сдержать ее. — Вот видишь, папаша, эти мои руки? Видишь, они трудовые! Поставь рядом с моими. Видишь, твоих две, а моих половина одной. Видишь?.. Так что кондор, папаша, хищник.
Дядя Ваня невольно глянул на свои руки и поспешно убрал их за спину. Руки у шофера действительно были огромные и, видать, очень сильные, и это Иван Николаевич сразу понял, увидев, помимо желания, мощные, узловатые мышцы, толстые пальцы с въевшимся в них маслом, с черными прожилками мазута, который так-то просто не смоешь, руки, имеющие большую часть жизни дело с железом, маслами.
— Вот, папаша, у альбатроса крылья шириной — три и пять десятых мэ. Мои руки много добра сделали и — зла. Они у мене сами по себе, я за них — ни-ни, не отвечаю, — продолжал Юра с таким спокойствием, которого в себе он сам и не подозревал.
Не подозревала о нем и Катя. Она не смогла усидеть и вышла — ведь этот сумасброд мог бог знает чего натворить! Юра, увидев Катю, вскочил, моментально стащил с себя пальто, шапку, бросил в угол и улыбнулся всем своим лицом — и губами, и глазами. Смахнул ладошкой снег с валенок.
— Вот, видишь, папаша, кондор — это хищник из Южной Америки. Ты ошибся. Да мне нельзя врать, душу выну и на стол положу, заместо свечки пускай светит. Пусть полюбуются люди: это, мол, Гурьянов положил чужую душу за враки. Вон какой Гурьянов! Катя… — Юра пошел навстречу. У Кати щеки покраснели, и она зарделась, чувствуя, как наливается вся — то ли от стыда, то ли еще от чего другого — теплом. Как это бывало в такие минуты, когда приходилось сильно волноваться, она плохо стала видеть сузившимися глазами. — Здравствуй, Катя!
— Здравствуй. Здравствуй. Ты чего воюешь с дядь Ваней? — спросила она и сразу провела его в свою комнату, оставив дверь открытой, чтобы и показать себя полной хозяйкой, и чтобы старики не подумали чего плохого. — Садись. Чего ты такой невзлюбчивый к дядь Ване? Не успел прийти и — на тебе — уж война. Садись. Вот сюда, к печке, а то не прогрелось в комнате. Так. Сиди. Чаю хочешь?
— Ах ты, черт! — спохватился Юра, оглядывая себя в зеркале платяного шкафа. — Ах, черт и дьявол, новый пиджак забыл надеть. Пальто надел, а пиджак забыл, не успел. Пиджак, знаешь, больно красивый, и узкие, модные брючки. У меня их несколько, одним словом, пять пар, и все новые, импортные. Нет, вру, шесть у мене… Не вру. Святое слово, не вру! Не веришь?
Юра посокрушался некоторое время, притворяясь человеком богатым, солидным, но забывчивым, пытливо поглядывал на Катю, стараясь узнать, верит или нет. Катя принесла чаю. Он сразу сел за стол, не дожидаясь приглашения, не спуская с нее глаз. А она смущалась под его взглядом, беспокойно суетилась, и все не хотела оставаться с ним с глазу на глаз. Наконец, прикрыла дверь, села напротив.
— Ой, где ж пропадал? Что ж так долго не видать тебя? Я все ждалки прождала. Уж подумала, что не встреча нам с тобой. Нету и нету. Где ж пропадал?
Юра смутился. Потом отхлебнул глоток чаю, откусил печенья, внимательно прищурившись, поглядел на Катю и грустно улыбнулся.
— Знаешь, Катя, красавица ты моя бесподобная, — тихо, как бы в задумчивости, проговорил он, не сводя с нее глаз.
Глядел он на нее широкими, влажно блестевшими глазами пристально, неподвижно. Ей даже стало не по себе от его неподвижного взгляда, и она подумала, что лучше бы он не говорил то, что хотел сказать, хотя она и не подозревала, что именно Юра хотел ответить на ее слова. Но от его взгляда было нехорошо. И Кате от догадки стало не по себе. Лучше оставить все так, как было, думалось ей, так лучше, и все как-то само собой образуется. И если он скажет то, о чем она догадывалась, пряча эту догадку поглубже, будто ее и не было, пряча подальше от себя, то нужны будут новые, неприятные какие-то слова, неприятные взгляды и все остальное, что и погубит его любовь к ней. А ее он любил, она это видела по глазам.
— Я ездил в Минск. Район получал новую технику, машины, потом ездил на автозавод в Москву. Тоже машины получал. Гурьянов нужен везде, как есть серьезное дело. Меня начальство ценит, я специалист высшего класса. Меня ценят, со мною не пропадешь… Машин навезли уйму, завалили весь район. Больше, чем людей. Гурьянова и туда и сюда, нарасхват.
— Ой, ладно хвастать-то, — сказала весело Катя.
— А я не хвастаю, Катенька. Кабсдох, не хвастаю.
— Ну, чего ж в Москве видел? — спросила Катя упавшим, слабым голосом, довольная, что, оказывается, Юра пропадал не здесь где-то, а ездил по важным делам. И не куда-нибудь, а в Москву.
— Ничего не видел, — сокрушенно, все так же не сводя с нее глаз, продолжал Юра, осторожно положил свою руку на ее, теплую, мягкую. — Я ходил и видел не то, что видел. Не Москву. Я ее видел и ранее, когда воевал. А видел тебя, Катенька. И все мне думалось, когда что-нибудь интересное видел, как бы хорошо, если бы рядом была ты, а смотрели бы мы Белокаменную вместе. Одному мне не шибко интересно. Увижу что хорошее — и уж не мило; а как бы, думаю, вместе распрекрасно было! Измотался, Катенька ты моя распрекрасная, без тебя. Что делать? А ты без меня не скучала?
— Скучала. А я думала долгое время, чувствовала, будто ты рядом, вот близко стоишь где-то. И точно тебя кто держит и не пускает.
— Держит.
— Ой, кто? Угадала я? Вот видишь, Юра, я все знаю и все на расстоянии вижу.
— У тебя, что ли, локаторы? — удивился он, залпом выпил остывший чай, повернулся к двери и погрозил пальцем, вскочил, крадучись направился к окну. — Думал, кто следит.
— Кто ж там может следить? Никого нету. Сиди. Дай твою руку. Вот так. А теперь скажи: ты, Юра, три месяца был в командировке? Ой, ведь, врешь ведь? Соскучился, говоришь, а что-то не шибко торопился? Ой, ведь врешь, ведь? А вот я уж думала, а и не знаю почему, я всю голову продумала… Не узнаешь ни за что.
— Скажи, Катенька, скажи! — умоляюще проговорил он. — Скажи, моя милая Катенька, зуб выдерну — не отгадаю. Святое мое слово.
— Дядь Ваня говорит, что ты цыган, а раз так, то отгадай. И не хочу я тебе бередить понапрасну, Юра, — заговорила она медленно и тихо, уйдя сразу вся в себя. В какой-то миг на Юриных глазах она буквально преобразилась. — Господи, что говорить, Юра! Мы не дети. Как хочешь, знай, но для тебя это ничего, и я от тебя ничего не хочу, не думай ничего. Думала, ошиблась, но три месяца прошло…
— Чего, чего, чего три месяца? — нетерпеливо заморгал Юра, неловко навалившись плечом на стол и чувствуя, по обыкновению, как ножом прошелся холодок по животу. Такое у него бывало, когда сообщали что-нибудь неприятное. И глаза его снова широко и пристально глядели на Катю, что-то в них вздрогнуло настороженно и замерло, и только веки напряглись, постепенно суживаясь. — Не веришь мне? — выдавил из себя Юра неожиданно пришедшее к нему. — Не веришь мне? А я тебе, как святое слово, верю и говорю. Как мне тебе доказать? Дай нож, я себе палец сейчас отрежу. Дай нож, я сейчас отрублю, чтоб доказать! Дай! Докажу…
— Ты с ума спятил?! — Катя засмеялась, наклонилась над столом и ласково провела по его жестким волосам ладошкой. Он поймал ее руку, прижался губами. Кате стало щекотливо, приятно, но она стыдливо отдернула руку, глаза ее повлажнели, наливаясь горячими слезами. Ей приятно было от слез, от того, что вот она смотрит на Юру, и он видит ее слезы, видит и понимает. И вот уж первая слеза кинулась по щеке, на стол, и Катя вытерла глаза.
Она давно готовилась к этому, к встрече, представляя, как придет Юра, и как она скажет ему обо всем — обо всем, что было и будет. Катя тогда и слова знала, какие именно скажет, все приготовила заранее, вроде все рассчитала. А сейчас эти слова выскочили из головы, и даже если что она и припоминала, то уж казалось не столь стоящим, как тогда.
— А ты в Москве не была? — спросил Юра. — А хочешь, дай мне еще чай. А если лень, не стоит. Я чай пью всегда. И зимой и летом, Катенька ты моя Зелененькая, тебе, чай, чаю много надо напасти, — рассмеялся Юра игре слов «чай чаю» и еще раз повторил, встал и быстро-быстро заходил по комнате, будто что-то придумывая и торопя мысль, и, пока Катя ходила за чаем, раз двадцать прошелся от окна к двери и обратно. Глаза его лихорадочно блестели.
— Москва — город большой, — ответил, видать, своим мыслям Юра, заслоняя этими словами основную, мучившую его мысль, словно щитом. Но то, что он пытался это сделать, а не, как обычно, мыслить вслух, разозлило его. И он решился спросить: — Скажи мне, Катенька, скажи только правду! Вот ты недавно упомянула три месяца, так этими словами, чего ты хотела сказать? Скажи? Чего скрывать от мене? Не утаивай! Если я так долго был в удалении и не приходил к тебе, то я не поверю сам себе. Это меня больше всего и волнует. Вот же святое мое слово. И тогда лучше, лучше не говори, если ты этим словам могла поверить. Я тебя, Катенька, люблю. Вот. — Он встал, будто собираясь уходить, снова сел и торопливо начал пить горячий чай, обжигающий губы. — Я тебе говорю это. Святое мое слово. Ты не веришь мне?
— Уж верю.
— Ну, так, а чего, если веришь, ты про три месяца заговорила? Думаешь, легко ли тебя не видеть и не слыхать? Ух как нелегко мне бывает. Вот тебе святое мое слово.
— Не об этом я, Юра, и не волнуйся. Я тебе верю, — проговорила Катя, жалобно глядя на него, видя в нем настойчивость, неловкость, чувствуя это и в себе и не зная, решиться или промолчать, и в то же время ощущая в себе, как твердо толкает ее в груди сердце: говори-говори… «Как бы чего не подумал плохого, как бы не подумал, что я его сманиваю», — решила Катя.
— Совсем не об этом, Юра, я тебе говорю. Совсем не об этом…
— А об чем же? — Юра, склонившись над столом, перестал пить чай и пристально всматривался в Катино лицо. — Об чем?
— Ребенок будет, Юра, — сказала Катя, чувствуя, как наливаются глаза слезами. Она не выдержала и заплакала. Она хотела его тут же успокоить тем, что это ни к чему его не обязывает, это ее личное дело, а не его, но не могла. Вышло бы очень плаксиво.
Юра некоторое время глядел на Катю, не сводя с нее глаз, будто всматривался, видел ее всю, чувствовал каждую ее жилочку, но что-то не мог в ней понять.
— Нехорошо? — сказала она просто так, то ли спросила, и, запрокинув голову, посмотрела на него как бы свысока и уж заранее решив: будь что будет, все равно хорошо не будет.
— Нет, красавица, не нехорошо, — ответил степенно, но неожиданно твердо Юра и направился к окну, постоял некоторое время там и, повернувшись к ней, сказал: — Все.
— Что все?
— Это я не тебе, а себе, — ответил он, поглядев в окно на луну. — Кончено!
Луна стояла в небе чистая, белая, вокруг нее дрожал тонкий морозный круг, сотканный из тысяч разноцветных точек, нежно опутавших ее, но она светила ярко, густым своим зимним светом, и если смотреть на нее долго, то казалось, что она удаляется от земли, летит стремительно в космос. И в этом зримом, удивительном качестве луна выглядела особенно торжественной, блистательной и завораживающей. И почему-то казалось Юре, что пока светит луна вот так ярко, все будет хорошо. Он вздохнул и вернулся к столу.
— Пора, — посмотрел на Катю и улыбнулся ласково, все еще находясь под завораживающим действием луны. — Теперь как это мы с тобой встретились в жизни? Ты, как луна, смотришь на меня, святое мое слово. Шли-шли по свету — оп! — и встречаются. Живут не тужат два человека на разных, как говорится, меридианах, а потом сталкиваются случайно, и смотри, что у них получается!.. Как два шара — катятся, катятся, столкнулись шибко, отталкивается от них третий — это ребеночек.
Юра чему-то радостно хмыкнул, встал и больше не мог усидеть на месте, его неудержимо несло то к окну, то к двери, то к шкафу.
— Проводишь меня? — спросил он Катю.
Она сразу встала, направилась одеваться, все еще не выходя из оцепенения, в котором пребывала десять минут назад, когда сообщила Юре о беременности.
Печь уже не топилась, по дому гуляли острые струйки сквозняка; старушка, укутанная в вязаную шерстяную шаль, стояла подле печи, подставляя теплу то один бок, то другой, а с печи доносилось похрапывание, сонное бормотание. Старушка увидела вышедшего из Катиной комнаты Юру, зачем-то сняла с плеч шаль и села на табуретку и окончательно сконфузилась.
— Катенька, ты уходишь?
— Вернусь, Татьяна Петровна, скоро.
— До свидания. Огненный привет Ивану Храповицкому, — сказал Юра, натягивая пальто, нахлобучив шапку; и еще раз сказал: — Комсоставский привет!
— До свидания, — ответила старушка, торопя в мыслях Юру.
На улице Юра остановился, поджидая Катю, поглядел на луну. Белая луна всегда ему нравилась, потому что каждый раз наводила его на размышления о необходимости вечной жизни для человека. Мысли в нем при луне бродили глубокие, беспокойные, таинственные, он временами боялся этих мыслей и желал их одновременно. При луне в ясную, морозную пору он как-то сразу успокаивался, ощущая, как в нем подспудно точно живчики какие-то начинали шевелиться, тревожа осевшее на него спокойствие, таинственные чувства и мысли, о которых он даже не подозревал. Они, просачиваясь из каких-то тайников, не открытых еще, хотя временами и подозреваемых, каждый раз поражали неожиданным своим появлением. Луна светила, а он глядел на нее, восторгался ее яркостью, белизной, тем, что она ничуточки не изменилась, сколько он помнит. И каждый раз поражала его воображение. И эта луна проливала на землю такое обилие ненужного света, что было не по себе; свет был яркий, но бесполезный — это тоже его поражало.
— На луну глядишь? — прервала его мысли Катя.
— Да ну вот, светит, — отвечал, не отрываясь от луны, Юра, и сразу на душе стало легко. И он усмехнулся, ласково потрепал Катю по спине, и тому, что Катя не отстранилась, обрадовался и, обхватив ее своими ручищами, приподнял над землей.
— А ну, как волки? — спросила Катя.
— Какие волки? Из волк выйдет толк, — отвечал весело Юра. — Есть волки пострашнее. Если вот человек тебе не по душе, не можешь на него глядеть, тебе муторно от его, то это вот и будет волк. Тогда человек сам себе волк. А разве нет? Сделает сгоряча, а потом жизнь всю — как рыба на сковородке прыгает. Рыбе лучше, она раз-раз — и готова, а человек всю долгую жизнь прыгает. Нет, жить надо осторожно, с опаской, оглядываться надо…
— Рассудительный какой, — рассмеялась Катя.
— А вот такой. Вот у нас как вышло. Значит, что? Так надо. А раз надо, нечего дурака валять: решено. Правильно Говорю? Али как? Ты ведь умная, ты подсказывай.
— Ой, чего мне говорить, Юрий! Согласная я с тобой на все. С оглядкой хорошо, да вот где оглядку взять, если нету ее? Говорить мы умеем. Умеючи ли делаем — вот в чем вопрос. — Катя заговорила быстро, толком не понимая, что говорит, и, как обычно, стараясь избавиться побыстрее от назойливых мыслей. То, что говорил Юра, она принимала близко и все же видела, как трудно бывает делать так, как говорят, хотя сама привыкла поступать согласно сказанному.
Они вот так, разговаривая, вышли за городок. Насколько хватало глаз, стелилась белая под луной степь, и по целику, ровно и гладко укатанному ветрами, стлался лунный, мерцающий на чистом полотне снега, свет, и только там, ближе к совхозу, овальная полоска теней обложила степь, кое-где повернулись к ним сугробы, своею яркой белизною выделяясь на ровном снежном столе.
— Вот видишь, слева… — сказал Юра. — Видишь, дома выходят из Котелина? Вон третий — видишь? — это мой дом. Окна светят, видишь?
— Вижу. А говорил — живешь далеко.
— Там и живу.
— А кто тебя не пускал ко мне? — спросила Катя и открыто посмотрела ему в лицо, и от спокойного взгляда Юре стало совестно. Хотя совесть не давала возможности ему сказать обо всем, он виновато проговорил:
— Жена, дети.
— Ты женат?! — воскликнула Катя, удивившись настолько, что от своих же слов поперхнулась, поплыло у нее в голове, хотя она и не ожидала ничего другого.
Юра молчал, тоскливо поморщился, поглядел на снег, понимая, что должен был сказать это ей давно. Да все боялся. Вдалеке по снежной равнине двигались желтенькие огоньки — это, видать, ехали автомашины в городок. Среди белого лунного света желтые огоньки казались так некстати, что он перестал за ними следить. Он еще что-то хотел сказать ей — о том, что жену не любил никогда и она его тоже, и когда говорил о волке, то имел в виду именно себя и никого другого. Но сказать об этом ему было трудно сейчас. Он полнился волнением, глядел вбок и молчал. Сказать? Но как? Скажет, — а она уйдет и больше ее не увидишь, потому что столько принес ей горя. Не простит. Молчание ее давило его. Он видел на снегу свою косую короткую тень, что-то в ней пытался разглядеть, понять, но тень шевелилась, когда он шевелился, повторяя его движения, замирала, когда он замирал, и он, боясь быть замеченным, скосился на Катю. Ее не было. Он резко повернулся. Только что она стояла. И услышал скрип Катиных шагов.
— Катя! — крикнул он, догоняя. — Катя, куда? — Он шагал рядом, боясь дотронуться до нее.
Катя молчала, его слова не доходили до нее. Обиды не было, она ждала этого, ожидала с самого начала. Так теперь казалось. И только не могла понять, почему именно с ней случилось? И все у нее не так, как у людей, и вот теперь, если б не было у него жены, она спокойно ждала бы ребенка, а Юра жил бы у них. Что же еще нужно? Ничего. Работа, учеба, жить дома, воспитывать ребенка. Сознание полноты счастья сделало бы вдвое сильнее ее, и она носила бы не стыдясь своего ребеночка, накупила бы заранее ему ползунков и всего необходимого, сколько всего в универмаге. Вон как теперь завертелось, то-то сердце болело, то-то все не по себе было.
— Катя, ты чего?
— Ничего. — Катя остановилась, заплакала и уж ни о чем не думала.
— Катенька ты моя, ну в чем я виноватый?
— Ни в чем.
— Разве ж я виноват, что тебе встрел на дороге своей? Ну, скажи мне. Я вот шел, шел по дороге своей жизни, гляжу — ты идешь по круглой земле, идешь навстречу, ты мне понравилась. И у меня ж ни жизни не было увсю жизнь, ни семьи, как полагается, вот святое слово… А ее-то я давно не любил. Вот помнишь, я о волке говорил, так то я о себе говорил. Вот тебе святое слово! Клянусь, хочешь, вот этой луной?! Чтоб она мне больше не светила, если я хоть слово соврал.
— Будешь брести по дороженьке своей, опять встретишь… — Катя старалась сдержать слезы, закусила до боли нижнюю губу.
— От любви любви не ищут, от людей к людям не бегают. — Юра старался заглянуть ей в лицо, но она отворачивалась, а он так настойчиво пытался это сделать, что Катя сдалась и подняла на него заплаканное лицо. — Катенька ты моя Зелененькая, если хоть раз побегут из твоих глаз слезинки, то хоть провалиться мне сквозь землю, святое слово я тебе, Катенька ты моя, говорю. Провалиться мне, стать прахом. Пошли, я тебе домой провожу.
— Ну, и что мы будем делать? — спросила Катя сухо. Это было так деловито, сухо, что Юра удивился перемене, ее спокойному тону. Эти сухие, совсем спокойные слова не спрашивали, а скорее относились не к Юре, а к Кате. Юра посмотрел на нее, ответа не нашел, понял, что ответ не нужен, и только пожал плечами.
— Не провожай меня. Я сама. До свидания.
— Катя! Я хотел ответить! Катя, чур только! — говорил он громко вслед. — Не вздумай, Катя! Я приду скоро. Я решился. Все!
Катя не оглянулась. Она вбежала в сени, захлопнула дверь, постояла, чтобы отдышаться, и вошла в комнату, все оглядываясь, прислушиваясь, ожидая, что вот-вот за ней войдет Юра.
Старушка сидела у печи и дремала, на коленях мурлыкала кошка. Катя направилась сразу к себе. Разобрала постель, села, собираясь с мыслями; тут вошла старушка, присела на табуретку и жалобно поглядела на Катю.
— Теть Таня, почему не спите? — спросила она. — Ой, спать давно пора. Я засиделась.
— А и чего он тут заговаривает, миленькая? — спросила старушка. — Мал ростом супротив-то.
— Был бы человек.
— Твоя правда, милая, твоя. А с чего я его раньше-то не видывала? Разве не приходил?
— Не приходил, в последнее время, теть Таня. Ой, теть Таня, не говорите, — сказала Катя полушепотом. — Ой, теть Таня, садись вот сюда рядом, на кровать. Ну чего на меня так смотреть?
— Шибко, милая, любишь его, — старушка сокрушенно покачала головой.
— С чего взяла?
— Було видать, как толичка он пришел к нам. Как бы не так — не приметила бы, милая.
— Теть Таня, садись. Теть Таня, хужей у меня… У меня.
— У тебя? — раскрыла рот от удивления старушка, испуганно поглядела на Катин живот. — Когда? А он?
— Знает.
— Слава богу, — перекрестилась испуганно Татьяна Петровна, все сразу поняв и обо всем догадавшись и просияв оттого, что он знает, доволен, даже рад случившемуся. Старушка обо всем догадалась, хотя Катя еще ничего не сказала.
— Теть Таня, он женат. — Катя уткнулась старушке в грудь и заплакала.
— Господи, святой мучитель… — только и произнесла старушка, поглаживая Катю по ребристой спине. Она решила, что наступило плохое время для Кати, и заплакала тонко, с подвывом, сдерживая себя, тут же вспомнила тот день, когда объявилась Олина мать, все печальные свои дни, еще что-то забытое, но оставившее вместе со всем одну неясную, глухую тоску, словно зазубринку на сердце, которая не давала покоя, и залилась слезами, жалея Катю, себя, всех людей, хлебнувших горя. И уж хотелось ей выть просто, выть от своего же плача.
Они не заметили, увлекшись своим горем, как на пороге появился Иван Николаевич — в одном исподнем, с запутанной, взъерошенной бородкой, злые глаза его глядели сердито и недовольно. Он молчал, старался понять, почему они вдруг плачут, терпеливо ждал. Увидев его, старушка вмиг вытерла глаза и встала, оправляя сбившееся платье.
— Плачем? — Старик не моргая смотрел на старушку, поджав одну ногу, точно старый петух на шесте; вся его щупленькая фигурка задавала именно этот вопрос. — Все о том плачем? О несчастье?
— Откуда, Иван Николаевич, милый, вы узнали об ём? — спросила удивленно старушка, поглядела на Катю, пожала плечами, перевела взгляд опять на старика.
Катя сразу поняла хитрый маневр старика, перестала плакать и спокойно, как бы давая понять, что все отплакано, сказала:
— Дядь Ваня, идите спать, на пушку не берите. Мы плакали о прежнем, так что не выведывайте. Ой, любопытства девать некуда! Любопытство не порок, а простое свинство. Идите спать. А ты, теть Таня, марш спать тоже! И я спать. Все — спать! Чего вздумали ночью реветь, — попыталась рассмеяться Катя, но вместо улыбки появилась на лице жалкая гримаса. — Хорошо, теть Таня, что вы у нас, а то и поплакать не с кем. Ой, что б я делала одна, не представляю!
— Не ко добру, — бормотал, подозрительно глядя на них, старик, переступая босыми ногами на холодном полу. — Ох, не ко добру… Катерина! — вдруг вспомнил он, что Катя недостаточно почтительна к нему. — Ты чего не спишь? Больной старик, богом и небом забытый, лежит на печи, еле живой, а ты тут нюни распустила! Плачешь! Счастья хочешь выплакать? Плакать можно. Но лучше не плакать. Скрепить дух, молчать и в молчании находить упоение. Я восемнадцать лет рассуждал т а м об этом. Слышишь, восемнадцать лет! Я понял, молчание — это золото. И уразумел также, что слово — это серебро. Лучше плакать, но еще лучше не плакать. Найти надо… Найти… — Старик не смог подыскать слова, хлопнул дверью и, сердито стуча голыми пятками, протопал к печке. — Не ко добру. Нет. Нет. Нет. Не ко добру. Слышишь?! Катерина!
— Ой, дядь Ваня, не расходитесь. — Катя совсем успокоилась и не рада уж была своим слезам, хотя и чувствовала, что после слез как груз с плеч сбросила, стало легче.
— Молока дай! У меня изжога. Из-за вас я проснулся. Спал. Нет. Нет. Нет. Вгонят меня в могилу до скончания века и косточки мои разбросают по степи, будут их волки грызть. Будете искать меня и не найдете, бога просить, а он вам не ответит за вашу злость и неблагодарность мне за мою с вами жизнь. Не ответит, Катерина! Не ответит!
— Кто вас не найдет? — Катя ходила по дому, вспоминая, куда же поставила молоко, потом вспомнила, бросилась в коридор, нащупала в темноте бидончик, который поставила еще вечером и забыла. Молоко смерзлось… — Ну так чего, греть? Кто это в изжогу молоко пьет? А кто вас не найдет?
— Ты, конечно, искать не будешь!
— Ой, через тыщу лет не токо меня, вообще никого не будет. Если будет такая война, о которой говорил военный, — все горит, железо прям на улице плавится. Какой же дурак захочет тогда жить? — Катя убрала конфорку, поставила бидон прямо на угли.
Катя стала рассказывать, о чем говорил им военный, и вдруг всплеснула руками: дядя Ваня храпел.
ГЛАВА XV
На следующий день вечером Катя торопилась домой переодеться, чтобы пойти в школу. Намерзшие за весь день на холоде валенки легко поскрипывали по снегу, розоватому от мутно-багровой вечерней зари, широко растекшейся по небу. Катя, намаявшись за день на морозе, — весь день пришлось отгребать лопатой замерзшую картошку, — шла легко, торопко. Недалеко от дома из переулка навстречу выкатил самосвал, заурчав, двинулся на перепугавшуюся Катю. Она ойкнула, сворачивая на обочину, прогрузла по колено в снег. Самосвал промчал мимо, а у нее, когда выбралась на дорогу, кольнуло в животе, она согнулась в поясе, подождала, пока уймется боль, и потихоньку направилась домой, чувствуя, как боль еще живет в ней. И Катя еле шла, вслушиваясь в себя, гадая, что же это у нее заболело. Боль появилась под желудком, прострелила поясницу и растеклась по ягодицам.
Дверь в сарае была открыта. Катя свернула закрыть, но в сарае на поленнице сидел Иван Николаевич и, наблюдая за овцами, говорил еле слышно:
— Овца ты овца и есть. Нет. Нет. Нет. Овца, сказано, и есть овца. Петр Первый говорил: «Женщина не человек, курица не птица, прапорщик не офицер». А как сказано, так и есть. А раз так и есть, то моргай не моргай своими буркалами, а кроме как на мясо, не годишься. Прав я? — обращался старик к петуху, который боязливо, но стараясь не потерять всегдашней своей важности, расхаживал возле овец, косился на старика, кокотал. — Курков всегда прав!
Старика забавляли овцы и куры; он их вышучивал, называл кривоногими, косоглазыми, обжорами, бездельниками, даром жующими чужой хлеб, который заработан кровью и по́том. Овцы молча жевали сено, куры нервно, недовольно вскрикивали на своем курином языке, только серая, незаметная в полутемноте сарая гусыня, засунув голову под крыло, спала.
— Дядь Ваня, нашли место беседовать! — сказала Катя обернувшемуся на шум старику. — И чего вы такие с ими разговорчивые? В них влюбленные? И-их, смотрю, и-их, вижу, что мясца захотелось испробовать! Давно не ели.
— Нет, Катерина, лучше беседовать с баранами в образе овцы, чем с баранами в образе человека, — мрачно отвечал он. И она поняла обиду старика, его мрачный тон ей открыл все. Не могла только придумать причину, побудившую Юру прийти. Конечно, был Юра, но теперь все выяснилось, и она ему сказала, что пусть ничего такого не подумает, она его не винит и это ни к чему не обязывает его, и он, как ей показалось, даже легко вздохнул: мол, все хорошо, что хорошо. Из чего Катя заключила, что он доволен оборотом нескладного дела. И вот он пришел. Зачем? Она припомнила, как он подарил ей бусы, которые носила летом не снимая, припомнилась степь в ту ночь, его смешной разговор о счастье. Как ей легко было тогда, удивительно, когда Юра сказал о желании лежать в спиртовой банке!.. Все это припомнилось вмиг, и в тот же миг на какую-то секунду стало легче, а спустя совсем немного времени Катя подумала, что если все бывшее так удивительно и было пусть не полным, но все-таки счастьем, то теперь это счастье может и не быть. Нет, не может, что началось, исчезнуть так неожиданно, как началось! И будет продолжение того случая, счастье все-таки продолжается. Упал клубочек, а теперь свяжи варежку. И в ней будет тебе в ненастье то ли тепло, то ли холодно. Клубочек упал случайно, а потянулось…
* * *
Юра повесил заляпанный маслом полушубок в сенях, бросил на пол свои собачьи рукавицы, как он всех уверял — из волчьей шкуры, хотя от рукавиц за версту несло псиной. Считавший, что разница между волком и хорошей псиной невелика, старался подкрепить «доказательство» на породу своих рукавиц выдумкой: «Ехал ночью домой в степи, возле ракитника на дороге стоял огромный волк. Ни с того ни с сего волк бросился на машину, схватил зубами баллон и прогрыз его, раздался оглушительный взрыв — аж машину кинуло в сторону с дороги. Но и он, бедняжка, попал под машину, хлопнуло его по голове».
Катя увидела полушубок, войдя в сени. В доме говорили. Она осторожно притворила дверь, прислушалась. «Переоденусь потихоньку и уйду в школу», — решила она, ступила в комнату и не успела захлопнуть дверь, появился он в дверях ее комнаты. Он улыбался, торопился навстречу.
— Я вот, видишь, старый бедуин, приперся к тебе. Мы вот тут с Татьяной Петровной устроили небольшое открытое профсоюзное собрание, вынесли важное решение по Вьетнаму, Лаосу и американскому беспардону, тебя избрали в председатели. У нас с ней полный контакт, меня понимает с полуслова. Вот! Святое слово. Не нужны никакие там ремни-приводы. Фу-ты ну-ты, какие у тебя щечки! Мама моя пекла такие шанежки. — Он стоял перед ней, почерневший еще больше лицом, сухощавый, в новом пиджаке, в хромовых сапогах, выбритый и чистый, говорил быстро, весело, ласково глядел на нее, только глаза его, вернее, в глубине глаз что-то застывшее настороженно следило за Катей. Катя молча сняла пальто, повернувшись к нему лицом, ссутулясь под вязаной кофточкой, опустив руки на животе, — да и вся она опустилась, сжалась, жалобно глядела на него, не зная, что сказать, как вести себя после своих дум о нем. Так же уныло прошла к столу, села, не принимая шутливого тона Юры, отстраненно глядя, слушая, не видя уж и не понимая его.
Юра поговорил-поговорил и смолк. Татьяна Петровна подошла к Кате. Юра закурил, поминутно взглядывая на нее, лицо его будто ожесточилось, ссохлось на скулах.
Катя глядела на пол, на печку, табуретки, лавки, вязанку хвороста, репродукции на стенах, — все было, как прежде, все молчало и будто изменилось, но она старалась уверить себя в привычности, обыденности происходившего.
— Теть Таня, чайку бы, — попросила Катя.
Старушка со всех ног бросилась ставить чай.
«Что она так бегает, так старается?» — подумала Катя про себя. Но старушка, вся изнервничавшись, пока Катя молчала, постаралась поскорее прервать тягостное молчание, услужливостью сделать ей приятное, услужить и Юре, если подвернется случай. Она согласна на все, лишь бы все стало хорошо, лишь бы закончилось благополучно. Она подумает о них, а уж о себе еще придет случай. «Им жить, а мне помирать, — думала старушка, разливая чай дрожавшей от волнения рукой. — Им жить…»
— Садись чай пить, — сказала Катя, села сама, пригласила взглядом и старушку.
— Сажусь, — ответил сухо Юра, степенно сел, руки по-школьному положил на стол, нехотя поежился плечами.
— Пришел, — сказала Катя в тон ему, чувствуя, как опять у нее закололо в животе, боль прострелила насквозь спину. — Ты ведь любишь чай?
— Я, чай, чай очень люблю, Кабсдох, — сказал Юра слова, которые раньше вносили обычно легкую, шутливую атмосферу, но сегодня никто шутки не заметил. Старушка сидела как на иголках, вскоре вышла, осторожно прикрыв дверь, остановилась с той стороны, прислушалась и перекрестилась: «Господи, помоги…»
Катя отхлебывала мелкими глотками чай. Юра отставил стакан, навалился грудью на стол, собираясь что-то сказать. Катя, боясь почему-то откинуть спадавшие на лицо волосы, замерев, молчала. Она чувствовала на себе его взгляд, и от этого взгляда кололо в висках. Она поставила стакан (все равно чай не могла пить) и, не меняя положения, подвинула занемевшие ноги, чтобы как-то унять появившуюся в них дрожь.
— Катя, — проговорил Юра и положил свою руку на ее; чувствуя, как ее рука дрожит, сразу понял, что не только рука, но и она вся дрожит. — Катенька, успокойся. Моя Зелененькая… Я ж вижу, тебе нелегко. Успокойся. Дай мне вторую руку. Вот так. А теперь успокойся, подними лицо. Вот так. Вот так. Вот моя рука, видишь? Это же мои руки, в ней твои обей умещаются. Смотри: вон они — и нет их. Успокойся. Успокоилась?
— Я давно спокойная, — отвечала Катя, убирая свои руки, принимаясь снова за чай. Стакан в руках задрожал, и это ее выдало. — Не знаю. Простудилась я. Меня напугал самосвал недавно, вылетел из переулка — на меня прям.
— Номер какой? Я ему, стервецу, обломаю рога! Не запомнила номера?
— Не до номера было. Вот меня и трясет. Я прямо вся обмерла, думала, задавит. Еле отдышалась.
— В следующий раз номер запоминай. Я поговорю. У меня разговор короткий, если, паразит, не понимает, что женщин пугать нельзя. Я такое дело не оставлю. Он, паразит, узнает еще Гурьянова. Успокоилась?
— Да я давно спокойная. Вот ты неспокойный чего-то. Ой, что с тебя станет! Как с гуся вода… Ой, говорить или нет? Уж промолчу. Бог с тобой. Думай, что ты хороший, все мужчины так думают. И ты такой. Разве не правду говорю? Вон дядь Ваня и тот: курица не птица, а женщина не человек. Додумался, старая калоша. Неправда?
— Неправда, — отвечал Юра торопливо, залпом выпил остывший чай. — Нет, дорогая Катенька, неправду говоришь. Ты думаешь, мужики жестоки к женщине. А это неправда. Хочешь, я тебе скажу, что я о себе никогда не думаю, что я хороший, в мыслях такого нету, потому как я знаю, что я за птица. Хорошие люди — в книжках: Онегин, князь Болконский, Печорин, бедная Лиза, Дубровский. Дубровский мне боле всех по душе. А я это знаю, в жизни такими не бывают, хотя и похожи на жизненных, потому как жизнь со сложностями, в книге сложности расписаны, а в жизни заранее ничего не знаешь. Там прочитал книгу — ага, вот он поступил так, а не так, это хорошо, а это плохо. А в жизни такого нету. Твоя неправда, Катенька. Хочь — верь, а хочь — не верь. Я почему к тебе вернулся, не скажешь? Не знаешь потому что. А из книги узнала бы. Вот тогда приехал в первый раз, помнишь, в первый который раз? Помнишь? Так вот, в тот раз я поехал вечером домой, лег спать на крыше, а ты мне приснилась, красавица ты моя. Стоишь на леднике на самой верхушке Кавказа, на Эвересте…
— Эверест в Гималаях.
— Ну, в Гималаях стоишь, на леднике ледовом, смеешься, манишь меня: «Иди ко мне». Думаю, дай заеду, посмотрю, кто это меня манит. Я тебя тогда слабо запомнил. Заехал вот… И ты меня привязала. Насовсем. Святое мое слово. Я все обрубываю, начинаю по-человечески. Я полюбил тебя — и все. Все. Святое слово, поняла?
— Ой ли? — усмехнулась Катя.
Ему не понравился ее смех, он пристально посмотрел влажными широкими глазами на нее. Катя тоже взглянула в его глаза и ужаснулась — так они были открыты, доверчивы, столько в них было мольбы и жалости, изумление и испуг ребенка, — такие глаза не лгут.
— Отрубил, а дальше-то чего? Начал новую жизнь.
— Все, Катя, моя красавица, все, начинаю по-человечески. Гурьянов тоже человек. Я тебя встретил не на леднике, а на земле. Идут по миру два человека, один родился здесь, а другой черт знает где. И вот встретились. Нет, как хорошо устроена жизнь! Ей-бо! Хорошо, что уж говорить. За одно это хорошо. Все, обрубываю канаты, иду в океан бурь жизненных, строю плоты, вырубываю крепкие греби. И хорошо, Катенька ты моя красавица, как распрекрасно, что мы связаны узелком навечно! Никуда ты от меня не денешься. Найду. Этими руками я землю разгребу до дна, а тебя найду. Жить ведь Гурьянову хочется по-человечески, Катенька. По любви. Как я жил! Эх, как я жил! Не было у меня жизни. И точка. Рублю канаты. И точка.
— А запятая. И за…
— И запятая.
— А дети как же? — спросила Катя, не поднимая глаз.
— А как? А как? Одному двадцать лет, другому — в армию собирается, доченьке двенадцать лет.
— Ну и… — спросила Катя.
— Ну… — повторил Юра укоризненно.
— А обо мне подумал, Юра? Я ведь тоже человек. И хочу по-человечески. Как же быть?
— Катя, я тебе скажу. Все скажу. Первый сын совсем не мой. Из армии пришел после войны, взял ее с сыном. Она нажила от офицера, а его, говорит, убили, а обещал после войны жениться. Пожалел. Так что, видишь… Вот тебе мое святое слово! Клянусь тебе, пожалел. — Юра испуганно смотрел на Катю. — Дай чаю. Не веришь? Сколько девок, мол, а взял вон с ребенком.
— Верю. Но ой как получится! Обо мне-то подумал? Вот скажи: подумал?
— Подумал.
— Как?
— Сегодня написал заявление. Ношу с собой.
— А обо мне опять не подумал?
— Не думал.
— Меня даже не спросил, согласна ли я. Ну так не так?
— Ребенок будет, так чего уж спрашивать, не о себе думаешь. О ребеночке надо подумать, чего спрашивать, у его же не спросишь. А главное — он. Поняла? Чего по мелочам тебя бередить. Мужское дело заведеное.
* * *
В комнату на цыпочках вошла старушка, за ней появилась плешивая голова Деряблова. Шапку он держал в руке; в вечном романовском полушубке, в здоровенных чесанках, одетых в калоши, из которых во все стороны торчала солома, старик сгорбленно, красный с мороза, стоял в дверях, потягивая простуженным носом и ворочая длинной шеей.
— Катя, твой? — сказал старик, разжал кулак и показал кошелек. — Твой?
— Где ж ты, дедушка Федотыч, нашел? Тут и денег-то не миллион. Ой, никогда не терпела кошельки, деньги и не теряла их. А тут потеряла. Садитесь чай пить. Всю ночь на морозе просидеть не сладко.
— От чая не откажусь. Посидеть можно, еще засветло, никто не украдет картошку. А мне говорит Моргун: «Федотыч, ты не терял кошелек? Там денег тыща». Отвечаю, а сам думаю: куда он клонит? Неспроста завел разговор. «А кто ж?» — спрашиваю, а сам думаю крепко: «Кто?» — «А вот, — говорит, — правда», — показывает кошелек. «Точно, — думаю, — она, Зеленая», — смотрю в его и вижу — денег в ём одна медь. Эх, думаю, вон почему, а так бы не отдал. А тут политика взыграла показать такой форс. Моргунчук, он, съешь его кобелина, голова, палец в рот не клади.
— Да вы, ой, забыла сказать, полушубок снимите, жарко.
Катя помогла старику снять полушубок. Старик поворачивался медленно, разглядывал убранство дома, все примечая, сравнивая со своим домом и причмокивая языком. Распутал длинный шарф на тонкой шее, снял душегрейку из овчины, точно такую же, какую Катя в свое время купила дяде Ване.
Дверь распахнулась, на пороге появился Иван Николаевич, сухо поздоровался с Дерябловым, пробормотал какие-то обвинения в адрес Татьяны Петровны и Кати, переобулся в другие валенки и сел к печи.
— Гостя принимаешь? — спросил у Кати, постреливая колючими глазами по сторонам. — Раньше лучший угол отводили гостю, а сейчас рюмку махонькой не поднесут.
— Не надобно, — отвечал смущенный таким поворотом Деряблов, вежливо высморкался в полу пиджака. — На службе мы. Дело суровое — мороз. Сорок цельных стоит градусов.
— Ой, так и ведь выпить чего у нас найдется? — обратилась Катя к Татьяне Петровне, испуганно уставившейся на Ивана Николаевича.
Не успела Катя сказать, как та тут же кинулась к горке и вытащила из дальнего угла четушку, подала Кате. И стало всем ясно, что нужно пройти теперь в Катину комнату и сесть за стол, что и было сделано. Деряблов чинно поздоровался с не менее чинно подавшим руку Юрой, сел рядом и сразу спросил, а где он такие сапоги купил. Юра, сильно переживавший, что не дали закончить разговор, сразу не ответил. А когда Деряблов вторично спросил, ответил коротко:
— Трофейные.
— Воевали с немцами? — удивленно поинтересовался Деряблов, подмигивая Ивану Николаевичу: мол, видишь, какой человек — воевал!
— Нет, не с немцами, — ответил Юра. — С фашистами.
— Трофейные, значит? — переспросил Деряблов, дотрагиваясь до голенища сапога.
— Заходим в город один, Дрезден, а там фабрика работает, движется конвейер, а на ём сапоги стоят, только офицерские и яловые. Бери по праву победителей — не хочу. Взял себе пару, отцу пару. Фабрика, говорят, до сих пор работает, а по конвейеру сапоги до сих пор шпарят.
— А мой Степа тридцатого июня сорок четвертого года погиб смертью храбрых, — проговорил старик Деряблов, вытер повлажневшие глаза, помолчал, поглядел на Ивана Николаевича, на Катю, расставлявшую тарелки с огурцами, луком и капустой, посмотрел жалуясь, с мольбой. Сидевшие за столом промолчали. И оттого, что все промолчали, старику стало легче, облегченно вздохнул. — Нам с Иваном Николаевичем, старикам, не пришлось повоевать. В первой-от мировой в крестах ходил, а нынче без волос. Кресты блестели, а нынче лысина моя. Старики мы, а что со старика возьмешь? Нуль, как говорил, помнишь, Катя, Гаршиков. Я ему черта лысого в жены прочил. Учится нынче. Ученый будет, съешь его собака. Он все о столкновении миров, о мировой трещине твердил. Пойдет по этой части. Помнишь, Катя?
Иван Николаевич подождал, пока разлили по стаканам водку, и спросил у Деряблова:
— Как вот ты, Федот, понимаешь войну? В центральном значении. Лучше плохой мир, чем война? Конечно. Нет. Нет. Нет. Конечно, так. Но вот ты не участвовал, а я участвовал в особом, так сказать, смысле и понимании таинственном. В противоестественном естестве, так сказать, участвовал. В твоем понимании, что такое война? Каждый, так сказать, имеет свое понятие. Я, как работник культурного фронта, так сказать, его лучшей части, имею свои понятия в этом явлении.
— Война есть война, кто кого убьет, — ответил Деряблов, поглядывая на Юру и будучи сражен необыкновенными словами Ивана Николаевича: — Само собой, война есть безобразие…
— Но… — начал Юра.
На него махнул рукой Иван Николаевич, презрительно отмахнулся: мол, не ввязывайся, не твоего ума дело.
Юра поглядел на Катю и стерпел, хотя все в нем подалось вперед, он готов был дать бой старику.
— А был такой человек, — продолжал прежним голосом Иван Николаевич, оглядывая всех за столом, но дольше всего задерживаясь на Юре. — Был. Умный. Проницательный. Ума палата. Ему на недосягаемую высоту памятник поставить. Поставят. Работник культурного передового фронта! Он жил восемнадцать лет т а м… — Иван Николаевич показал пальцем вверх, посмотрел туда, и все посмотрели. — И вот этот мудрейший из мудрецов не терял времени даром, изучал жизнь во всех ее четырех измерениях. Высочайший, так сказать, человек был, с глубочайшим миропониманием, изучал жизнь во всей плоти и, так сказать, ее красной крови. Нет. Нет. Нет. Это трудно передать о таком, так сказать, человеке. Производственные отношения и особенно производительные силы — это выше всякого вашего миропонимания, прочего такого и особенного. А он изучал производственные отношения, производительные силы, многое другое, что не поддается обычному явлению. Он смотрел на звезды, а думал о производительных силах, смотрел на землю, а думал о звездах, он ходил и думал, а в душе делал всякие умственные упражнения, а люди его презирали, не понимали, кто он такой, почему ему уготована роль высокая. И вот жил этот человек, жил восемнадцать лет т а м, познавал движения звезд и судеб людских, войны и мира, однажды остановился и сказал: «Стоп! За дело». А шла война. Война! Он думал о войне, так сказать, суть ее прощупывал, чтобы, так сказать, из своего положения исходя, нанести смертельный удар. А было это среди лесов, а они т а м делали рукавицы с тремя пальцами для солдат и воинов. И вот он однажды взял материал рукавицы и думает… Он долго думал. Все думают, почему он думает? А он вот так склонился над рукавицей и думает. И так он продумал три дня на работе и три ночи, лежал, но не спал, а думал. А потом обрезал с себя космы длинные, утеплил ими указательный палец рукавицы. Так что он даже толстый стал. И отдал. Попала рукавица на фронт. И вот сидят в окопах солдатики. Мороз, снег, огонь разводить нельзя: враги. Окоченели все. И вдруг дозорный кричит: «Враги!» Все вскочили, а это было… Нет. Нет. Нет. Не вру. Под Москвой было. Под ее самым боком столичным. Вскочили солдатики, хвать ружья, пулеметы, пушки. А руки у них-то окоченели, стрелять оне не могут. И только у пулеметчика, у одного только, когда он увидел несметные полчища врагов, руки были в тепле. Он застрочил. И положил много врагов. И враг не прошел. И потом думают командиры, что ж такое, почему у всех руки окоченели, ведь враг взял бы Москву, и все, а у пулеметчика — нет. А враг собрался прямым ходом в Москву. Осмотрели рукавицы пулеметчика. И что-то в них твердое в пальце нашли, распороли. А там волосы мои. Вот, думают, что спасло нас — волос и мудрость человека. И вот кого надо к Герою представить. Все так подумали, одновременно причем. Тыщу человек было, а подумали все именно так и одновременно. Вот что такое война, люди. Может драться сто миллионов людей, а спасти может один, решает конец один.
Деряблов глядел прямо в глаза Ивану Николаевичу. Татьяна Петровна словно окаменела, ей так было неловко, что она чуть не упала. Только Юра жевал свои губы; он мысленно обозвал ослом Ивана Николаевича и спросил:
— Восемнадцать лет просидел т а м? Но не набрался ума.
Иван Николаевич прямо стервятником взмыл над Юрой, готовый до смерти заклевать его, — встопорщилась его бородка, глазки стрельнули колючим светом, стремясь упредить подвох.
— Не просидел, уважаемый, а прожил и ничего не растерял из себя человеческого, мудрости набрался. Животные пусть сидят, а люди настоящие живут. Умственно высокие люди живут. В отличие от некоторых. — Иван Николаевич остался доволен своими словами, все еще по-прежнему угрожая и готовясь вцепиться в жертву.
— За что ж, интересное дело, прожили там восемнадцать лет? — спросил Юра, осторожно тыкая вилкой в огурчик. — Не секрет?
— Не за деньги, — отвечал Иван Николаевич. — Не за деньги, как обвиняют некоторые. Нет. Нет. Нет. Я к деньгам брезгливость имею с давних пор. А за самое горькое и единственное для человека — ум. Обвинили напрасно. Миллиона рублей мне не надо!
— Съешь тебя собака, как брешет! — восхищенно проговорил Деряблов. — Человек! Вот человек — как Гаршиков! Тот у меня тоже все про ум говорил, послушаешь его — и никаких опосля институтов не надо.
— Сам-то что? — спросил Иван Николаевич у Юры.
— Сидел три года, — беспечно сказал Юра.
— Сидел? — уточняюще наводил справки Иван Николаевич. — За что?
— Человека…
— Мокрое?
— Да ну! — не понимал уж, куда клонит старик, Юра.
Сидящие за столом притихли, с напряжением смотрели на старика, ведущего какую-то сложную игру.
— Задавил на машине? — угрожающе спросил Иван Николаевич.
— Да ну, — кивнул Юра.
— Нет. Нет. Нет. Заметано! Та-ак я и знал, — продохнул зловеще Иван Николаевич, сузив и без того маленькие глазки, страшные от разгорающегося в них гнева и презрения. — Так я и го-во-рил себе. Нет. Нет. Нет. Не ко добру. Говорил я это, Катерина? Скажи только правду? Говорил! Вон куда ведут дороги этого человека, вон в какие уркаганские места. Убийца! Человека… Почему же три года? Катерина! А что я говорил! Передо мной убийца!
Катя с ужасом глядела на Юру. Он поймал ее взгляд и понял: сморозил глупость. За столом все замерли, было неловко оправдываться, потом задвигались, с опаской поглядывая на странно улыбающегося Юру.
— Катя, я пошутил, — растерянно проговорил Юра, чувствуя, как летит в бездну. — Святое дело. Я думал…
— Во-он! — неистово закричал, воздев палец вверх, Иван Николаевич. Дернулся Юра. И все за столом сжались, испуганно отодвигаясь от него. Татьяна Петровна кинулась со всех ног в другую комнату. Деряблов, вытянув тонкую шею, оторопело моргал, как-то странно подскакивая на табуретке. А Катя плакала, обхватив голову руками.
— Ты чего, ты чего шумишь, старая крыса?! — угрожающе спросил Юра, положив на стол свои огромные ручищи, которых больше всего и пугался Иван Николаевич. — Кондор! Урка плешивая! Ты чего вот тут шумишь? Ишь! Крикун нашелся! Песок с него сыплется, а он, вишь, как царь Николай Второй, кричать! Умный какой! Может, старая крыса, я тебя попугать имел в уме! А он кричит, полоумный. Замолчь! Бобик нестриженый! Туда же, орать! Врать меньше, спаситель в кавычках, надо!
Юра встал, а Иван Николаевич, бросившись бежать в другую комнату, дико и несуразно вскрикнул.
* * *
Катя провожала Юру. Она всхлипывала, а Юра, пожимал плечами и говорил:
— Катя, я же пошутил, святое слово. Да я же курицы, сколько ни работал, не задавил. Было однажды. Было. Сам себя чуть не задавил. Стою на дороге, соскакиваю с подножки, а тут машина. Толкнула меня, чуть поцарапала. А ты веришь шулеру.
— Ой, ну зачем такое ляпнуть? Ты враг разве себе? Тут и так душа изворотами ходит, а он — ляпнуть такое! Нарочно не придумаешь.
— Пусть не форсит. Рукави-и-цу сшил с теплым пальцем! Москву спас!.. Врет. Сидел в тюрьме восемнадцать лет, а ума не набрался. Я взял и ляпнул, что, мол, и мы с этим делом знакомы, пусть не завирается, не кочевряжится. Назло ему. Мол, лыком тоже не шиты. А чего он такое? Твой дядя? Дедушка? Родной?
— Ой, да нет же. Он одинокий. Попросился заночевать, домой возвращался, видать. Пустила, так и живет. Жалко его. Уж как к себе привыкла.
— А старушка?
— У нее такое горе. Лучше не говорить. Одинокая тоже. Горе у нее, жалко ее. Добрая такая, мне с ей куда как лучше стало. Поплачем все вместе. А так родных у меня-то никого. Где-то есть, а где — не знаю. Я думала вас помирить с дядь Ваней, а ты такую напраслину возводишь, такое плетешь. Как ты только придумал?
— Думал, посмеемся — и все. А его, вишь, на Эверест поперло, на самую высокую вершину, на ледник. На вот, мой паспорт, погляди, если не веришь. Чистый, ни единой отметины.
— Господи, да верю, верю! Но как же можно так поступить?
Юра оправдывался, что так неумно пошутил. Теперь и впрямь выходило, что на Катину голову посыплются огорчения. Сокрушаясь, они выбрели по целику за город. Дул ветер здесь; метель плела свои хвосты, закручивая их все туже и туже, растаскивая сугробы и наметая новые. В ее работе чувствовалась нерастраченная сила, в густом гудении слышался приближающийся ветровой вал; тревожно пели провода.
— В следующий раз, вот тебе святое слово, буду только молчать, — сказал Юра, глядя в сумеречную сутемень степи и улавливая ее мощное, сдержанное гудение. Он закутал Катю полой полушубка. — Не задувает?
— Ой, как дует! А ведь как плохо, окажись в степи один сейчас. Пропадешь ведь, если один.
— Пусть подует. Это ничего, переживем. Всяко было, а уж такую непогоду — раз плюнуть, — отвечал беспечно Юра, уже забыв случившееся. Прямо на глазах меркнул свет месяца, еле просматривающийся сквозь обступившие облака, и над степью рождались все новые и новые потоки воздуха, стягивались в пружины и со страшной, неожиданной силой обрушивались на Котелино.
Они постояли, чувствуя душою, как тревожно в воздухе, и как эта тревога передается им, и направились в кинотеатр «Космос». На центральной площади дуло не так сильно, хотя сквозняки носили потоки летучего снега то в одну сторону, то в другую. Возле касс кинотеатра никого не было. Они сидели в полупустом зале. Катя посмотрела начало фильма и сидела, закрыв заболевшие глаза. В груди у нее было тревожно, как в тот раз, когда она ждала Юру. Сейчас он сидел рядом, но все равно было не по себе. Как дальше будет?
После фильма Юра проводил ее домой, а сам, подняв воротник, подпрыгивая, ударяя одну ногу о другую, заспешил обратно. На метельных улицах редко горели фонари, желтоватый свет с трудом пробивался сквозь снежную кисею, и Катя, смотревшая Юре вслед, увидела его только возле первого фонаря — как он бежал, хлопал ногами в сапогах, смешно размахивал руками.
Иван Николаевич сидел в Катиной комнате за столом, читал книгу. Как только Катя вошла, он захлопнул книгу, строго взглянул на Катю, и по его сердитому взгляду она поняла, что он готовился к разговору. Ей стало неприятно, пожалуй, впервые, что старик вмешивается в ее дела.
— Катерина! — громко сказал старик, увидев Катю. — Татьяна Петровна! Иди сюда.
Старушка молча стала у двери, кутаясь в шаль.
— Катерина!..
— Дядь Ваня, читать наставления мне не надо. Ой, надоели со своими библиями, — отвечала Катя, и разобрала постель, давая понять, что не намерена разговаривать.
— Я, Катерина, прожил долгую жизнь, трудную. — Старик менял тактику. — И в жизни моей было много трудностей. А отсюда опыт у меня огромный…
— А вот семью вы создали? — Катя подняла на него побледневшее лицо, и в глазах у нее запрыгали слезинки. — Зачем вам опыт, если вы семью не смогли создать? А семьей люди держались тысячи лет.
— Но, Катерина, дело не в этом. Нет. Нет. Нет. Не в этом. Катерина, есть дела важнее…
— Нет, вы мне скажите, дядь Ваня. Я хочу знать. Не может без семьи быть человека! Моя мама так любила отца, что умерла без него. А ведь я-то осталась, — значит, семья была? Была! А вы тут ходите, крутите, вертите. Вы людей не любите, дядь Ваня.
Старик постоял, послушал Катю и направился к себе в комнату. Лицо его стало озабоченным, глаза непривычно замерли, не прыгая, как обычно, с человека на человека, и Катя подумала, что Иван Николаевич все понял и собирается признать свою вину. Старик в эту минуту понял одно: не соглашаться с Катей нельзя. Первый раз старик видел ее такой решительной и даже испытал чувство, похожее на робость, страх. Если Катю не остановить, она начнет, пожалуй, командовать им, что особенно тревожило Ивана Николаевича, понявшего вдруг, что в случившемся он проиграл. Он уже привык к размеренной, заведенной, словно часовая пружина, жизни, страшился перемены, которую, как он думал, обязательно принесет Юра. Он снял с вешалки полушубок, постоял с минуту и стремительно вернулся в Катину комнату.
— Чтоб ты знала, Катерина, и ты, Татьяна Петровна, в эту, так сказать, последнюю минуту и секунду моей жизни, — начал торжественно старик, обращаясь к Кате, севшей к себе на постель. — Был человек такой, у него была сложная, длинная жизнь, и он прожил ее так, как велит совесть нашего времени. Безудержное время, безудержная и совесть, наполненная поворотами и изгибами, как речушка весной. Да, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, — вот откуда стронулся и на путь истинный благонравный… Был человек, и надобно ему было по заслугам место воздать на земле, и ум титанический его сгинул, и прах его — след лишь на дороге.
Катя, собиравшаяся спать, а перед сном поговорить со старухой, первое время не понимала его.
— У меня, Катерина, — чтобы и ты знала, Татьяна Петровна, — была семья, — продолжал Иван Николаевич, садясь за стол и подперев ладонями голову. — Ты права, Катерина, в настоящем понимании вопроса семьи как ячейки государства и другого не менее важного политического фактора. Ты права. Нет. Нет. Нет. Еще как!
— Дядь Ваня, ну о чем — ой! — говорите? — спросила Катя, ничего не понимая из сказанного стариком. Она забыла обиду и горела одним желанием — чтобы старик кончил говорить и ушел к себе спать. — Ничего я ведь не понимаю сейчас. Ой, честное слово!
— Катерина, упрек твой горит во мне огнем, обжигает мое честное сердце. Как человек кристальный, способный только на добро, я хотел бы сказать, что у меня, прожившего долгую, трудную жизнь, у меня, который рожден был для дел великих, у меня, который в недавнем прошлом…
— Дядь Ваня, вот вы недавно о пальце рассказывали, а кто ж вам поверил? — спросила Катя. — Ну, так чего ж тогда старайтесь? Ой, палец спас Москву и всю родину нашу милую от фашистов! Смешно, дядь Ваня. Ой, памятник вам, может, поставят?
— Поставят, — мрачно отвечал старик, пытаясь понять, куда же клонит Катя. Он решил, что после происшедшего, особенно после того, как Катя ушла с тем цыганом, а они народ вольный и без преград особых, и тот наговорил ей с три короба, а она, переняв его слова на веру, стала ставить вопросы ребром и спрашивать о самом больном, семье и прочем, Катя, которая боялась его обидеть неловким словом, теперь, собираясь замуж, чему противился Курков, по всей вероятности замыслила что-то против него и спокойная жизнь поставлена под сомнение. — Я бы еще, так сказать, о многом другом, о выдающемся героизме мог поведать. Мог! Знайте, Катя, и ты, Татьяна Петровна, что т а м я восемнадцать лет обдумывал жизнь человеческую, простого человека, с чувствами глубокими и искренними, все ее производительные силы и производственные отношения, в их тягостях видел здравый, передовой и прогрессивный смысл. И предначертания судьбы. В ее страданиях — искупающую вину славой. Я, Курков, работник культурного фронта, терзался горестями таких, как ты, как миллионы других. В приказаниях юношей малодумных из охраны видел и находил веление безудержного времени, и от сознания именно своей героической правоты мне было легко, легче, чем здесь, когда ты не знаешь, что это есть именно это, а не что другое. Тут надо слушать, делать, а тут толкнуть, задеть двуногого нельзя. В порядке истинном, глубоком и строгом — смысл цели великой. Вот, Катя. Порядок т а м целесообразен, необходим, — он приносит простоту, обеспеченность, не сковывает меня, возносит до понимания всеобщего счастья. Ох, Катерина, меня ты не поймешь, мне нужен собеседник с образованием.
— Дядь Ваня, что ж о семье увиливаете? — Катя слушала внимательно, не все понимала, ей жалко было смотреть на старика.
Татьяна Петровна, прикрыв рот платком, молча, сосредоточенно переводила глаза с Кати на Ивана Николаевича и готовилась заплакать.
— В самом начале, Катерина, я скучал по семье. Двое сыновей у меня. Жена вскорости, которую я безмерно любил, умерла, не вытерпела удара и скончалась. Храни ее земля. Она свое получила. Честнейшая была женщина, хотя меня и понимала только по-своему. А сыновья мои поженились. А я привык, окреп там, чистый воздух действует лекарственно. Суровая пища. Но Христос хуже питался и стал святым. Библиотекарем я был, культурным человеком. Оброс знакомыми, все более работниками культурного фронта. Жизнь потекла…
— Ну? — не удержалась Катя. — Дальше-то чего?
— А дальше что, — смутился старик. — Дальше я это… я написал письмо домой, сыновьям. Оба поженились, у обоих дети, живут, говорят, хорошо, квартиры есть у обоих, выучились. Может, врут, прикидываются перед отцом…
— Ой, приехали бы навестить, — не утерпела Катя.
— А мой-то Димочка деточек не заимел, — прослезилась старуха.
— Ну вот, я им пишу как-то. Нет. Нет. Нет. Не обычное письмо. Целый год сочинял это письмо. Это такое письмо! Я его храню. Копию. Древнеримский император позавидует письму моему. Уму его, красноречию. «Не подумайте, что отец, — пишу, — ворюга несчастный. Говорите людям правду истинную, что его одурили, а он сам никогда из банка, где работал, миллион не брал. Случай виноватый. Добейтесь, мол, сыновья, чтобы его не как урку какую содержали, а как человека с высокими понятиями совести, справедливости, а по уму, то есть как работника культурного фронта». Я и тогда уж жил неплохо, но думаю — кашу маслом никто не портил. Лишнее слово не помешает. Слово и есть слово. Обходится дешево, да стоит дорого. Я много думал в то время над значением слова. И у меня свое правильное, очень даже в наше время свое на этот счет мнение. И вот я им это написал…
— А дальше-то чего? Подождите, дядь Ваня, я воды напьюсь. — Катя побежала напиться воды, вернулась, запыхавшись, вся, бухнулась на кровать. — Ой, дядь Ваня, скоко вы пережили, бедненький! А чего ж молчали? Все молчали. А дальше чего?
— Нет. Нет. Нет. Ничего не подумайте. Я им написал. И это было мое слово на сорока листах. Второе Евангелие от Иоанна, то бишь русского Ивана. Всю мудрость человеческую вложил в него. А мудрость велика, так велика, что нельзя объять необъятного. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это было письмо! Я его тридцать три раза переписал, вложил столько мудрых мыслей, которых хватит всем людям ровно на век наш двадцатый и всем будущим людям на Луне, Марсе и Венере. На век целый! Среди них были, как знать, изумруды и брильянты, сапфиры и алмазы, жемчуг и кораллы, рубин и яшма, бирюза и агат и многие драгоценные слова. Но ни одного не драгоценного! Это были драгоценные мысли, плоды горького ночного бдения при тусклом свете желтого ночника в сонном бараке, когда все спали, каждый звук человека рождал во мне новые мысли. И вот ответы. «Если ты, отец, не сошел с ума, то честно неси свой крест. Не надо строить махинации с деньгами, с миллионом снова и позорить имя. Свое опозорил, а наше не тронь». Вот как! Я думал о них, грезил ночами, думал, что письмо их вразумит, а они… «Не толкай своих сыновей на преступление, забудь прежнее, начинай заново, нормальную теперь жизнь… Ты мать сгубил своими финансовыми подвигами и любовью к золоту…» Вот так! Благодарность отцу любящему, кровно связанному всеми жилками своего любящего сердца с ними. Я там понял, что нет, оказывается, у меня семьи, сыновей. Я один, как инок, в пустыне человеческой иду по жизни, бреду. Но я им не простил. Нет. Нет. Нет. Не прощу!
— Дядь Ваня…
— Катерина! Мое сердце бьется наискосяк! Не как у обычного смертного. Я прожил долгую жизнь… Нет. Нет. Нет. Я отомщу! Я не могу простить… Если б не мои сыновья, простил, а своим, в которых моя кровь течет, не могу!
— Дядь Ваня, ужас какой! Сыновья-то родные, разве можно? Что вы говорите!
— Все, Катерина, можно. А раз такое дело — и подавно. Я оделся и пойду пешком. Пойду, упаду в канаву, пусть меня заметет, а потом весною размоет мои косточки вода и понесет удобрять поля. И я им отомщу, я им не прощу. — Иван Николаевич вытер слезы, постоял подле стола, поглядел на женщин и медленно направился к выходу.
— Дядь Ваня, — тихо прошептала Катя, боясь после всего услышанного говорить громко, — это жестоко. Ой, вы жестокий человек, дядь Ваня! Что ж это такое — не простить родное дитя? Отродясь такого не было в русском человеке. Так нельзя, чтоб совсем ужесточиться. Всего живем-то один только век, и тот неполный, а вы так будто на тыщу лет замахнулись прожить, век-то один — дунул — пфф! — нет его. Нужно торопиться всех простить на свете, всех-всех отблагодарить, а то ведь не успеешь, чтоб с чистой совестью уйти, откуда пришел. А разве можно умереть и не простить? Себе не прощай, а другому — уж надо отвязать себя от них, чтоб и они тебе простили. Дядь Ваня, миленький, сделай ради меня, ради Татьяны Петровны такое дело. Мы ж все люди пришли…
— Нет. Нет. Нет. Для меня нет точек. Нет. Нет. Нет. Для меня нет точек в жизни. Нет. Поняла? От и до — нет! Я не пришел и ушел. Нет!
— Но жестокость — ой! — самая страшная точка! — воскликнула Катя.
— Катенька, миленькая моя, правда! — подхватила старуха.
— Двенадцать лет и зим не прощал, а теперь пойду, паду к ногам сыновей-кровопийцев, и буду — отец у ног приблудных сыновей! Хороша картина будет. Горько… Но пойду, раз ты хочешь. Пойду. Нет. Нет. Нет. Я прожил долгую жизнь, я Библию тридцать три раза прочитал.
Старик повернулся и быстро вышел. Катя бросилась за ним, догнала уже в сенях, остановила, попыталась его вернуть, но старик против обыкновения уперся.
— Скажи, Катерина… — спросил он, — этот каторжник, который убил человека, не придет больше?
— Дядь Ваня, он никогда не сидел, он пошутил. Ой, дурак он!
— А он своими глазами глядит так, будто все понимает. Выйдешь за него — я осиротею. Не люблю я его очень.
— За что?
— Сразу не понравился. Сразу на дом так смотрел, зацепиться за тебя хотел. Прощай, Катерина.
Старик хлопнул дверью. Катя оделась, выскочила во двор, за ней побежала старуха. Ивана Николаевича в сарае и вокруг не было. Кромешная темнота стояла на улице, ничего нельзя было увидеть. Метель забивала дыхание, и Кате, метавшейся по двору в поисках старика, казалось, что она попала в сумет мягкого снега, из которого нельзя выбраться. Старик словно сгинул. Она металась туда и сюда, плакала от бессилия, уже не зная, что и делать, наконец догадалась выбежать со двора. Возле забора, сев на корточки и повернувшись спиной к ветру, сидел Иван Николаевич. Катя приподняла его на ноги, пытаясь увести в дом, но он плакал, говорил, что хочет умереть под забором. С превеликим трудом и с помощью Татьяны Петровны привела Катя упирающегося старика в дом.
ГЛАВА XVI
Разыгравшаяся к вечеру в тот день метель не стихла, а загуляла на второй день с такой первобытной, необузданной силой, что дома в Котелине, вообще крепко стоявшие, прочно рубленные в этих местах известными мастерами своего дела, прославленные далеко окрест, заскрипели, закряхтели от сильного напора. Метель примеривалась, прикидывала свои силы в первый день, прокладывала пути снежными завалами во второй, а затем, когда замела все овраги, сараи, небольшие домишки, гаражи частников, поленницы, небольшие окраинные домики, накатала себе дорогу — разгулялась вольготно и широко. Судорожно гудели телефонные провода, неся тревожную весть из деревень и сел, по городам и весям, по колхозам и совхозам. Обрывались от обвального напора снега электропровода; то и дело гас свет, заставляя дежурную бригаду электриков, не смыкая глаз, трудиться день и ночь. Несколько бульдозеров весь день расчищали центральную площадь перед райкомом и исполкомом, расчищали с интервалами в два часа, прокладывали дорогу по заметенным улицам. Один бульдозер крутился на овощной базе, где работала Катя, мял гусеницами снег, скреб ножом по мерзлой земле, счищая заносы, наворачивал вороха снега. Но через час все нужно было начинать заново.
Попрятались воробьи и вороны, исчезли синицы, точно сгинули в степях. Попряталось все живое. Только иногда в навороченных кучах снега пробегавшие на работу или домой с работы люди замечали закоченевший трупик воробья. И горестно вздыхали, ругали погоду. Да в коротких паузах между неистовством метели, когда думалось, вот-вот стихнет разбой, тревожный воздух раздирался карканьем проголодавшейся вороны, мелькнувшей на низком небе.
Так продолжалось два месяца. На Новый год в Котелине впервые за многие годы не привезли елки. Только в двух из четырех школ новогодние празднества были с елкой. А метель гудела, казалось, радуясь этому, и изрядно надоела людям, которые, как великого праздника, ждали обычных, нормальных дней; оживало в людях, когда они глядели на глубокие, непролазные снега, извечное чувство русского человека, хлебопашца, заставлявшее его вместе с досадой выявлять чувство тайной гордости за природу, сумевшую наворотить столько снега, что никакие бульдозеры не смогут убрать, — приберечь бы это добро к весне! В томительном ожидании конца чувствовалась радость предстоящего, когда обилие снега обернется обильным половодьем, а следовательно, хорошими всходами, тяжелым колосом. Зрели все ближе к весне в людях нетерпеливые чувства предстоящей работы.
Катя измоталась за последние деньки. С утра, еще в потемках, когда сквозь обмерзшие окна проницал в дом нарождающийся день, она уж носилась из сеней в дом, готовя есть, откапывала занесенный с верхом сарай, чтобы накормить овец, кур и гусыню. Иван Николаевич, сказавшись больным, точно сыч, сутки напролет коротал на печи время. Втайне он думал, что если выживет в это смутное в природе время, то и дальше будет жить, ни с кем не разговаривал, глядел в пол, хлебая горячие щи, охал, причитал про себя, и в его сумрачном лице было что-то злое и жалкое. С дежурства Татьяна Петровна приходила к обеду, принималась за дело, жалея Катю, избегала оставаться наедине с Иваном Николаевичем и все ждала весну, рассуждая об этом вслух, когда ночи будут короткие, а дни теплые и долгие.
На базе Кате приходилось тоже нелегко. Лыкова давно ушла работать в универмаг продавцом, а Марька Репина, простудившись, с месяц лежала в больнице с воспалением легких. То и дело приходилось отгружать картошку, капусту и лук. Огурцы и помидоры месяц назад кончились. Женщины сами таскали мешки, жаловались на тяжесть, опасаясь последствий. Моргунчук только криком помогал, не притрагиваясь, однако, к тяжелой ноше.
— На санках, на санках! — кричал он Кате, тащившей куль с картошкой. — Не надрывайся! Зима не завтра оборвется. Экономьте силы! Картошка не утром вырастет. В Союзе двести с лишним миллионов народу, если каждому по одной картофелине в день, вон сколько!
К концу февраля поползли слухи, что в соседнем районе, на север от Котелинского, метель сдала, а спустя неделю утром жители райцентра впервые увидели солнце, лохмато повисшее на низком небе, гуртами облаков бегущему к югу. Солнце выглянуло, точно изумляясь проделанной метелью работе, посмотрело на снежную равнину и задумалось. Катя в это время отгребала от сарая снег, увидела солнце и присела на снег. Солнце совсем не грело, но Катя запарилась от работы, и ей показалось, что солнце греет.
Вскоре Катя расчистила снег, отворила дверь, вбежала весело в сарай и закричала:
— Ой, миленькие мои, солнце!
В сарае было тепло, возле овцы лежал черный комочек, еще мокренький. Катя нагнулась над ним и обмерла: на соломе лежал крохотный ягненок, от него курчавился парок. Овца, крупная комолая матка, тревожно наблюдала за Катей, выставив торчком уши, переступая ногами.
Катя взяла ягненочка на руки, опустилась рядом с овцой. Ягненок мелко-мелко дрожал, вырывался. «Весна, уж весна», — подумала Катя, стягивая с головы платок, чтобы закутать ягненка.
— Сиди, сиди, маненький, — шептала она, наполняясь прямо-таки умилением.
Вторая овца, ярочка, пыталась подойти к ягненку, но матка поддала ей в бок, и после этого, воинственно встряхивая головой, делая угрожающие выпады к ярочке, ходила вокруг Кати, жалобно блеяла, а ягненочек смотрел черными глазами на Катю и вздрагивал.
В доме Катя опустила ягненка подле печи, не раздеваясь села на табуретку, и глядела-глядела на курчавенький комочек, закрывший от усталости глаза.
— Дядь Ваня, гляди, ягненок, — сказала Катя. — Гляди, дышит!
— Всякая тварь, Катерина, дышит. И да не дышит, как знать, не живет, — со значением отвечал Иван Николаевич; с печи все-таки спустился, надел телогрейку, прислонившись к теплому боку печи, посмотрел на ягненка.
Вдруг ягненок забеспокоился, двинулся вперед головой, коснулся мордочкой пола и встал на задние ножки; покачиваясь, вихляя от слабости задом, укрепился на передних, которые то и дело подгибались, и тут он стрельнул доселе безнадежно висевшим хвостиком, выпрямил и весело замотал им. А вот и заблеял, сыпанув по полу шариками овечьего помета: «Бэ-кэ-кэ-кэ-э-э-э!»
— Ишь, живая тварь. Все понимает. Без ума, а понимает, — довольно глядел на ягненка старик. — Агнец! Вот уж воистину агнец! Жить хочет, живая тварь.
— Ой, дядь Ваня, кто ж не хочет! — Катя взяла ягненка на руки, присела с ним на корточки, опустила его на пол, и ей стало неловко: уж не помещался между коленями живот ее, пришлось раскорячить ноги, но сидеть стало неудобно вовсе. Она встала, засобиралась на работу.
Как ни смешон был ягненок, как ни ничтожен этот тепленький комочек, в сущности только начавший жизнь, но в Кате он пробудил какие-то еще неясные чувства к собственному ребенку, видимо такому же маленькому и беспомощному. Она брела на работу, глядела по сторонам, а мысли ее уносились в неопределенное время; будет и у нее, как вот у людей, как, возможно, у овечки, такой же маленький, беспомощный, но ее ребеночек. Катя боялась даже загадывать о ребенке, так ей захотелось как можно скорее иметь его, а уж об остальном — будь что будет.
Дни летели быстро. Кате все казалось, вот-вот найдется выход из создавшегося положения, и она то собиралась в первое время лечь в больницу и избавиться от предстоящего позора, то ей становилось мучительно, что она могла даже подумать об этом, и спрашивала Юру:
— Как быть мне? Ой, позора скоро ведь не обберешься! Позор-то, позор!.. Вот я уж подтягиваю живот резинками, а оно, брюхо, уж не слушается меня. Он растет, своего требует. Смотри, у меня аппетит, прям ем и ем.
— Досадуешь, Зелененькая? — спрашивал Юра. Он в последнее время больше молчал.
— Ой, ты так спокоен, точно рад! Досадуешь! Ой, кто б мог на моем месте не досадовать? Хотела б я того видеть.
— А он пусть растет, — отвечал Юра. — Земля как мать родная, все на ей растет. Пусть себе растет. Хуже не будет. Не мешай, радоваться будешь потом. Нас-то жизнь скосит не через сто лет, а травка молодая на ей ростки даст.
— А дальше-то чего?
— Дальше-то? Дальше я заявление подал на развод.
— Ну, и?..
— Не хотят, паразиты-дьяволы: мол, при такой семье несурьезное дело затеял. А то, что мы не живем скоко лет с ей, ничего. Первый ребенок из жалости, второй — это когда я три года за длинным, вербованным рублем бегал, а она принесла мне подарочек — нате вам! — это очень даже сурьезно, дьявол их бери. И то, что она открыто мне в глаза смеется об этом, это очень даже сурьезно.
— Им говорил?
— Неудобно. Тебе вот первой ляпнул про такое дело. А свидетельство о браке я на мелкие кусочки порвал. Вот так. Вот так. — Он показал, как это у него получилось, и сердито сплюнул. — Все, Катенька, обрубил. Все. Святое слово. Это твой пенек виноват, жили б вместе.
— Подожди маненько, Юра. У тебя семья, дети, жена. Авось выйдет к лучшему. Ой, а дядь Ваня нынче о тебе ни слова. Он стал нынче шибко важный, ведет себя — ну, тайный советник прошлого века. Мне лишь в школу неудобно ходить. Там немолодые, а все ж…
— Ты кушай поболе, крепче будя.
— Зачем? Умрешь с тобой.
— Оно ж так лучше. А мы все утерпим. Войну утерпели, такое утерпели, а уж с собой мы, красавица моя, дорогуша ласковая, утерпим. Вон мои руки — сильные они, нас жизнь не согнет, мы ее еще поворочаем в разные стороны. Кушай поболе.
— Ой, говорила, у меня аппетит — не говорить лучше, — отвечала Катя, не зная, то ли рассмеяться, то ли заплакать.
После такого разговора она несколько дней не могла себя понять. Вот и сегодня при виде ягненка ей очень захотелось иметь ребеночка.
Она не торопилась на работу, но знала, что давно опоздала — все равно бульдозер приходил позже и не успевал к приходу рабочих выгрести со двора снег. К дверям хранилищ не пройдешь, весь двор под крыши завален снегом.
Катя все еще видела перед глазами ягненочка, слышала Юрин голос: «Ты кушай поболе». И у нее счастливо млело сердце. Она, обманывая себя, считала, что на сердце у нее радостно от солнца, стремилась главную причину оставить в сторонке и не коснуться ее и этой маленькой обманной хитростью ввести неясную, мнимую беду, которая могла объявиться, в заблуждение. Катя знала за собой эту слабость, но шла на хитрость сознательно.
Во дворе овощебазы рокотал бульдозер, двигавший перед собой огромные, рыхлые вороха снега. Моргунчук бегал по очищенному пространству и давал указания бульдозеристу. Деряблов после ночного дежурства, на котором, по обыкновению, хорошо выспался, тоже подавал голос, советуя то одно, то другое. У ворот толклись еще трое рабочих, беседуя о погоде, о политике, о том, что война во Вьетнаме — это самое последнее дело для империалистов, жаждущих крови простого народа, поглядывали на солнце, желтеньким комочком повисшее среди рваных облаков. Там, вверху, все еще тревожно перемещались к югу облака, все еще бурлило, обещая новые неприятности, и воздух был густо насыщен снежной пылью, не успевшей осесть к земле, то и дело, словно гонцы новой метели, спешно летели редкие хлопья.
— Слыхала последние новости? — спросила Нюрка Соловьева. — Нет? Не слыхала?
— Да нет, — настороженно повернулась к ней Катя, из последних сил втягивая живот, и от догадки, что новость о ней, лоб повлажнел.
— Нинка Лыкова замуж собралась. Платье купила белое, фату вот такую длиннющую, можно подмести все улицы Котелина. Перчатки.
— Да ну? — не верила Катя, радуясь, как будто это ее близко касалось, повеселев и прищурившись, беззаботно рассмеялась. — Рано-то ей. Двадцать лет — с ума сойти. Я в ее годы — в мыслях такого не было. Кто ж заворожил? Вот выкидывает цирковые номера. Кого окрутила? Гаршикова?
— Павел ей плохое письмо написал. Он гордый. А вот окрутила одного шофера, говорят, интересный. Будто, правда, женатый был. Да жизнь не сложилась, развелись.
— Ой, шофера! — воскликнула Катя и закусила язык, пожалела, что сорвалось удивление, так как сразу показалось, что Нюрка очень подозрительно поглядела на нее. И то, что молча, особенно не понравилось Кате, видя в том какой-то тайный смысл. Катя отвернулась поправить пальто.
— А тебе не хочется? — спросила Соловьева, глядя прямо Кате в лицо широко распахнутыми своими глазами, в них сквозила мольба ответить так, как Нюрке хотелось, и Катя бы ответила так, как хотелось Нюрке, но совсем растерялась от прямого и наболевшего вопроса.
— Чего?
— Замуж.
Катя промолчала, проглотила слюну, и так и осталась с открытым ртом.
— А мне третьего дня Павел приснился. Веришь? К чему это? Если он стоит и улыбается, как вот на хорошей открытке артист, глядит на меня, руки назад, а в руках хлыст держит, — к чему это? К хорошему, плохому ли? Иль как?
— Не знаю. Верно, к хорошему. Не знаю, что и сказать. Ой, вот хлыст-то мне не совсем нравится. Отгонять, значит. Ой, не знаю, что тебе и сказать. Вот если бы не хлыст…
— Да черт с ним, с хлыстом! — воскликнула Соловьева. — Русский мужик без хлыста все равно что черт без хвоста. Поняла? Хлыст мы сломаем, не это главное, Катя. Ой, Катька! Ой, спасибо! Выручила.
— Да в чем?
— Да ни в чем. — Соловьева хитро улыбнулась, схватила лопату и бросилась сгребать снег.
— Молодость в радость ударила, — сказала Катя, тоже принимаясь за снег.
Весь день бульдозер крутился по двору, пока не выгреб снег. А к вечеру распогодилось. На очищенное от туч небо выплыла давно ожидаемая луна. Мутноватый ее блеск напоминал, что неожиданно может разыграться метель.
* * *
Нинка Лыкова пригласила на свою свадьбу всех с базы, кроме Моргунчука. Тем более странным показалось, что он прислал ей дорогую открытку с поздравлениями. Но об этом знали только Нинка и ее мать.
Катя села рядом с Нюркой Соловьевой по правую сторону от невесты, молчали, хотя вокруг стоял такой галдеж, хоть уши затыкай. Жених Нинки, высокий, плотный и, видать, очень сильный мужчина лет тридцати пяти, улыбался во все стороны своим крепким, широкоскулым лицом, кивал то и дело приходившим поздравить знакомым через все столы:
— Приветик! Парад-але!
Он часто и сильно обнимал Нинку, довольную, шумливую, шептал ей что-то на ухо, отчего Нинка краснела и покатывалась со смеху, поднимала на него свое красивое лицо и говорила сквозь смех:
— Ты-ы! Умора! Ты-и!
На женихе был черный костюм, но не новый. Это сразу определила Катя, с завистью поглядывая на него, сравнивала с Юрой. А на Лыковой новое белое платье, белая кружевная фата. И родители Нинки тоже были на зависть молодые, во всем новом. И квартира у Лыковых была в новом четырехэтажном доме, самом высоком в Котелине, и недавно купленная радиола, и приемник стоял дорогой и тоже новый, и огромный сервант с посудой свидетельствовали о зажиточности. И приглашенные были очень интересные люди, вежливые, сдержанные, — это тоже нравилось Кате. Старик Деряблов, приглашенный Нинкой в самую последнюю очередь, и то, назло Моргунчуку, сразу крепко выпил, и его немного развезло; он, чувствуя от выпитого вина и сытой пищи смелость, взялся произнести тост.
— Ниночка! В торжественный час твоей жизни, а также твоих родных родителей, которых сразу полюбил и зауважал, я тебе хочу пожелать… Всяко у нас было на работе! Чё говорить. Кто старое вспомянет, тому глаз, съешь его собака, вон! Мы люди, Ниночка Лыкова, а теперь, а теперь уж в народе говорят, свою фамилию продала на Шушарина. И мужа твоего я люблю. Он вон какой шофер! А шофер, съешь его собака, проживет, рублик всякий в кармане окажется. Богатырь он. Дай бог вам, деточки, не того, не того, что у меня… Моего Степу убили-и фашисты тридцатого… тридцатого… фашисты-и… — Старик заплакал и сел.
Всем на какое-то время стало неловко.
— При чем тут его Степа? — спросила тихо Соловьева. — Нинка свадьбу гуляет, а он про своего Степу. Надоел он со своим Степой.
— Ну, убили же его, — ответила Катя, готовая разреветься.
— А Степа его, говорю, при чем? Иди домой и плачь, неча тут вставляться со слезами, беду скликать.
— Ой, Нюрка, не заказывай! С кем ему поделиться? А как нету никого? Не с кем ему. Что ж, в себе носить? Так всю жизнь не вытерпишь… — Катя вспомнила, как успокаивал ее старик. Кто из отцов не мечтает погулять на свадьбе своего сына? Разве не мечтает об этом каждый отец?
После этого свадьба покатилась по намеченному кругу. Катя тревожно поглядывала на Деряблова, Соловьеву и чего-то ожидала, и уж свадьба была ей в тягость, и жених не казался таким красивым и могучим; ей захотелось поскорее выбраться из духоты новой, дорого обставленной квартиры на улицу да подышать свежим воздухом. Один из мужчин включил приемник; комментатор чистым, спокойным голосом сообщал о расправе в Африке реакции над борцами за свободу и независимость, о злодеяниях мафии в Италии… Потом пошли сообщения о расследовании преступлений нацистов, о международной промышленной выставке, о невиданном урожае хлопка-сырца в Узбекистане… и об урагане на Курилах. Катя внимательно слушала сообщения, сквозь гул голосов прислушивалась к передаваемому.
Жених и невеста встали. Стало видно — жених действительно высок, широк в плечах, по длинным рукам можно было заключить о его силе. Гости кричали «горько», а молодые желанным, длительным поцелуем угождали гостям. Какое-то время и Катя кричала «горько», потом почувствовала тошноту от спертого воздуха, вина, сытной и обильной пищи, от которой ломились столы, и, боясь быть замеченной, крадучись выбралась из-за столов, с трудом разыскала в горе сброшенных в прихожей свое пальто, вышла на улицу. Даже на улице было слышно, как гуляла свадьба, как шумела… Как только Катя отдышалась, сразу же ей подумалось, что напрасно ушла, можно было посидеть, поглядеть на Нинку, от которой, казалось, так и исходило безудержное счастье. Сейчас, пожалуй, сдвинули столы, пустились плясать, а уж Нинка, Нинка такая мастерица плясок!.. Недаром на старой работе без всякой музыки показывала какие-то мудреные, африканские пляски, танцы, извиваясь всем своим гибким телом так, что у подруг дух захватывало. Катя сняла вязаный платок с головы — стало жарко — и направилась по улице в свою сторону. Тень ее, скосясь в сторону, плыла впереди. Луна светила вовсю, обещая морозные дни, но воздух, насытившись снегом, отяжелел, и в его недвижности, морозкости Катя открытым ртом улавливала волглые весенние струйки.
Катя не спешила домой. В ее сознание осторожно, сторонкой, пробивалась мысль о ребенке, постепенно и неумолимо затмевая все остальное. Она представляла, как будет нянчить его, учить, рассказывать о бабушке, дедушке. Она так размечталась, что уж почти наяву чувствовала его у себя на руках. Шаги скрипели по снегу, и этот чистый скрип завораживал ее, поддерживал в ней мысли о ребенке, будя какие-то неясные, но приятные в своей усладе чувства.
Возле домов, сараев и заборов, возле каждого сугроба, даже обыкновенной былинки, чудом не занесенной снегом, лежали четкие, чистые тени, наводившие на ночную жизнь загадочность, таинственность; Кате казалось, что в мире теней шла своя, недоступная пониманию ее жизнь, и то, что она не понимала ту, чужую жизнь, лишний раз убеждало ее в призрачности своей, в существовании загадочного, таинственного.
Катя миновала центральную площадь, свернула к своей улице и испуганно остановилась. Прямо к ней через улицу направлялся человек. Катя уж узнала в нем Юру. Она так была занята собою все это время, так долго думала о ребенке, что о Юре подумать ей не приходило в голову. На Юре был все тот же полушубок, валенки и большая заячья шапка, в которой он выглядел выше ростом.
— Как ты здесь оказался? — спросила сразу Катя, тайно радуясь встрече.
— На свадьбе гуляла? — спросил Юра. Снял рукавицу и крепко пожал ей руку. — Чего ж там делала, пила?
— Как чего? Нинка Лыкова счастли-ивая… Ой, ты знаешь, он тоже шофер! — воскликнула смешливо Катя, хлопнула Юру ладошкой по груди, отчего он улыбнулся и взял ее под руку. — Радиола у них вот с такими ножками! Никогда такой не видывала. Бога-чи-и!..
— Да уж!
— Ой, честное слово. Вот та-акая большая. — Катя развела руками и показала.
— Катенька, а мне, знаешь, сказали, чтоб я в командировку собирался.
Катя, собравшаяся рассказать, как кричали «горько» и как молодые не сговариваясь вставали и дружно, крепко, смело до неприличия, целовались и как им за смелость хлопали, остановилась, словно ничего не понимая, и с ужасом посмотрела на него. В ее глазах столько было неподдельного страха, что Юра испугался.
— Надолго?
— Да снова в Минск за машинами. Не все получили. Прямо на завод.
«Что ж я так испугалась?» — спросила себя Катя, пытаясь успокоиться, посмотрела на луну, и от спокойного света луны ей стало легче, и она тихонько засмеялась, проговорив совсем не то, что хотела:
— Тебе спокойнее будет.
— Да уж, — хмуро ответил Юра. — Там тоже не мед и не сахар.
— Ой, все ж не так, как здесь, — не соглашалась Катя. — Люди там новые, новые знакомства опять же. И все новое. Я бы радовалась.
— Я тебе сто раз говорил, — недовольно сказал Юра, останавливаясь и заглядывая ей в лицо.
— Чего?
— Тебя же не будет. Вот тебе говорю тыщу раз, а ты думаешь, человек сказал и тут забыл. Каково мне там будет, хочу я знать? Ты не знаешь. А я знаю. Потому и не хочется туда. Ты знаешь, что Каспийское море ниже уровня моря, одно такое в Европе. Если прорыть канал к Черному морю, все стечет туда.
— А если к нам прорыть? — спросила осторожно Катя, пытаясь понять, куда клонит Юра.
— У нас гор нету, знать, вытечет к нам. И купайся, сколь хочешь. А не то затопит. Вода, знаешь, есть вода.
— А если эта вода — ой! — вытечет на наше Котелино? Затопит нас вместе с тобой, — проговорила Катя весело, вдруг останавливаясь как громом пораженная: мысль о том, что погибнет не только она, но и ребенок, пришла после восклицания и больно резанула по сердцу, сама мысль показалась ей кощунственной.
Юра не ответил. Они остановились возле Катиного двора, и Катя, чувствуя, что еще не прошла боль в сердце, попрощалась. В сенях, закрывая дверь, обернулась и увидела его, понуро глядевшего ей вслед. В своей комнате Катя, испытывая смутное беспокойство за сухость с Юрой, подошла к окну, но Юры уже не было. Долго она не могла простить себе. И не могла понять себя. Почему она такая?
Осторожно, стараясь не шуметь, разделась и, шмыгнув под одеяло, замерла. Ноющая боль разлилась по животу, — видать, переела на свадьбе. Катя, выбрав удобное положение, склонившись на левый бок, замерла. Лежала, прислушиваясь к себе. Чуть сильнее обычного стучало сердце, да потягивало в животе, и от этой тянущей боли — вот словно кто ухватился ручками, так она представляла зарождение боли, — и тянет, тянет. Становилось мучительно-приятно от боли, казалось, кто-то живой тянет, и она улыбалась, забыв все на свете. В ней бьется, это ясно чувствуется, бьется жизнь. Каждая ее жилка трудится не только на нее, но и на другую жизнь. Она задрала рубашку на грудь, раскрылась вся из-под одеяла и, осторожно касаясь, провела пальцами по животу, замирая через каждую секунду, словно вот-вот нащупает рукой ту, еще непонятную, тайную жизнь. Глядя на свое голое тело, Катя почувствовала, что себе уж не принадлежит, в этом теле кто-то живет, распоряжается ею. Ей стало неприятно, она пошевелила пальцами ног, чтобы убедиться в обратном, что все принадлежит ей и только ей, но и в то же время эта мысль холодком прошлась по ней, рождая на мгновение неприязнь к тому, кто хочет завладеть ее жизнью. Но именно сейчас она ощутила, несмотря ни на что, свою силу, красоту ощутила, как подчиняется ей каждая жилочка, каждый мускул. Нет, она — это она принадлежит себе, но и еще ребеночку. А разве плохо?
Чего только не приходится думать… Катя укрылась с головой, набирая под одеяло тепла, довольно улыбаясь своим мыслям.
Несколько дней носила в себе она то радостное чувство, которое так неожиданно пришло к ней в тот вечер, когда Юра, хмурый и недовольный, брел прочь от Катиного дома, подозревая за Катей какие-то скрытые помыслы. Но Катя все это время много ела, больше обычного, работать могла не уставая с утра до вечера, добродушие ко всякому человеку не покидало ее.
Иван Николаевич не преминул воспользоваться обстоятельствами, заставлял Катю готовить чуть не каждый день пельмени, очень полюбившиеся ему, снова вошел мало-помалу в свою прежнюю роль, покрикивал на женщин, получая от этого большое удовольствие, черпая из создавшегося положения новые порции энергии для своей жизни. Уехать он никуда не уехал, теперь и вовсе никуда не собирался, однако ловчее прежнего используя для этого гибкую пружину своего извилистого опыта. В лабиринте тонких хитросплетений он чувствовал себя как за каменной стеной.
Татьяна Петровна, посвященная в Катины дела, относилась к ней как к страдалице, мученице, многого, однако, не понимая. Ее удивляло, например, что Катя может весело петь, рано вставать, смеяться, аппетитно кушать. В этом она находила нечто для себя необъяснимое, подразумевая под Катиными выходками натяжку, сверхъестественное напряжение своих нерастраченных сил. И помогала ей, как только могла, всякий раз с состраданием, со слезами на глазах глядела на нее.
— Катя, — спросила как-то она, — ну чего ты улыбаисся?
— Как чего?
— Вон, говорят, ныне-то, милая, разрешают… Вон Машка Стрыгина, бают, ее тоже случай попутал, исделала. Разве устерпишься! Ну, в больнице-то ослобонили…
— Ой, теть Таня, раньше не вразумилась пойти на такое дело, а уж нынче-то поздно. Шестой месяц. Шутка ли! Человек уж он. С ребенком-то, однако, лучше, теть Таня. Пока меня любит опять же.
— Господи, миленькая моя! — Старушка зарыдала и бросилась к Кате, обхватила ее ноги и запричитала. — Прости меня, дурную и старую, ни в чем не помню себя. Господи, совсем старуха ума лишилась, как Оленьку забра-али! Прости меня, грешную, винова-атая я перед то-бо-ою!..
— Ой, ну да в чем виноваты? — спросила Катя. — Вовсе ни в чем. Такая уж наша бабья доля быть. Куда денешься, сиди и гляди, как брюхо набухает. Набухнет, и уйдет баба от своего мужика к своему ребеночку, тоже властителю. Всю жизнь мы служим — то мужику, то ребенку, а еще говорят — равноправие у мужчин и женщин. Какое уж равноправие! Мужик-то все одно рожать не смеет, не будет он. Ой, заставлять его никто не будет. Мужика бабой не сделаешь, а бабу мужиком.
— Дело женское. Мужикам не ведать о бабах никогда до последнего. Не смогут. Бог сделал такое.
— Ой, теть Таня, истинный бог, так оно и есть, — воодушевилась Катя, тут же вспомнила Юру, молча ушедшего в последний раз от нее. На следующий день он уехал, так и не придя, сколько Катя ни ждала, проститься. — Теть Таня, а чежало сами-то носили?
— Катенька, миленькая, нету. Совсем нету было тяжести, — развела руками старушка. — Вот ношу, а сама ить думаю: сроки поджимают, а чего не видать, не слыхать, пузом не чувствую. Душою, умом чувствую, а пузом нет. А потом мой-то уехал кудай-то, в одну этую ночь принесла я мальчугана. Дома никого не было. Едва встала, ноги-то насилу понесла, воды нагрела… Ну, и едва-едва… Он приехал, а у него вот сын. Вот как надо — любить будет боле там, где мене горе. Малы дети — мало горе, а большие дети — большое и горе. Вот Ванечка мой вырос… Для войны, вышло, я его так легко носила. Для войны и Митечку носила. А Оленька моя надежда к старости. Хоть раз ее увидеть, бедненькую, хоть бы перед смертью. Оё-ёй, родимочка моя, а да куда ж дела-ась ты-и? Я ж ее поила, от себя отрыва-а-аючи, я ж ее кормила с ложечки-и!.. Она ж моя родненькая-а!..
Пришедший с улицы Иван Николаевич заглянул к ним, шумно потянул в себя воздух, громко спросил, махнув на них шапкой:
— Что плачешь? Что, хоронить меня собрались? Рано еще. Вот подожди, век наш не кончился.
Старушка сразу замолчала, а Катя, скосившись глазами, глянула на старика, считая почему-то, что тот шутит, но по лицу поняла: он не шутит. Катя повернулась к нему и — бог ты мой! — испугалась: так жестоко вызывающим было его лицо; словно хищник, держал перед собой растопыренные пальцы, так он смотрел, таким она его никогда не видела. Старик вернулся к себе. Татьяна Петровна призналась:
— Боюсь я, миленькая, его. Не знаю чего, а боюсь.
— Ой, теть Таня, — сказала Катя, — а я-то, турок несчастный, собралась было вас отрядить за его замуж. Ей-бо! Ой, умереть можно!
Старушка поджала губы, ничего не ответила; Катя, всхлипывая от смеха, прошлась к окну, вскидывая ошалевшие свои глаза на старуху, оделась и направилась в сарай. У сарая остановилась, заметив почтальона, направлявшегося к ним с письмом. В сарае включила свет, разорвала конверт. «Дорогая Катя! Ты, безусловно, будешь в высшей степени удивлена, получив от меня депешу. Но такова жизнь! Сель ави, как говорят французы. Обращаемся мы всегда туда, где нас поймут и оценят. Обращается к тебе студент Московского университета, единственного в стране, Павел Гаршиков…» Катя не смогла дальше читать, буквы прыгали перед глазами, дрожали руки. Успокоившись, она достала письмо и прочитала его до конца. Письмо было коротенькое, в полстранички. «…Я не обращаюсь, Катя, а сообщаю, что я в прежнем своем качестве жив, учусь, безусловно, как и должно быть, хорошо и отлично. Среди моих однокурсников я не самый молодой, и это меня смущало сразу, а теперь нет. Ломоносов тоже начал учиться не с юных лет. Годы мне не мешают. Получил я письмо от Нюры Соловьевой, пишет, что Лыкова ринулась замуж. Об остальном молчит. Меня съедает простое гражданское любопытство: как и что? Только ты можешь не утаивая обо всем написать. Веришь, Катя, я изменился. Я знаю, к тебе был несправедлив. Извини, пожалуйста, если можешь. Сель ави. Я много читаю, слушаю лекции. Но, оказывается, трудно все прочитать. Напиши мне несколько слов. И все забудь. Студент МГУ Павел Гаршиков».
«Вот еще, — озабоченно подумала Катя, понюхала письмо. Она усмехнулась, довольно швырнула письмо в угол сарая: — Вот тебе!»
Катя села на ведро, подумав о Гаршикове, его насмешках над ней, подняла письмо, аккуратно разорвала на мелкие кусочки и положила в карман, обрадовавшись, что хоть так сможет отомстить ему за все обиды.
«Вот так», — с чувством исполненного долга подумала она, направляясь в дом. И весь вечер Катя вспоминала письмо Гаршикова, злорадно и довольно усмехалась так, как будто ей наяву удалось наказать его за прежние проделки.
На другой день Катя как бы невзначай спросила Соловьеву:
— Павел тебе пишет?
— Да ну его. Он, видишь, теперь, когда стал изучать одного ученого — Аристотеля, то точно не может понять, любит ли или нет меня. Пусть он полюбит самого Аристотеля. Пусть. Только я, кажется, Катенька, все-таки люблю. Он приедет в апреле на неделю. К тебе зайдет. Дурак он со своим философом Аристотелем.
* * *
О полученном письме Катя не сказала, но в душе она праздновала победу. На все окрики и понукания Моргунчука никак не отвечала. Когда Катя несколько бочонков с протухшими огурцами передвинула от двери, на их место поставила бочонки с квашеной капустой, Моргунчук совсем взбесился:
— Екатерина Зеленая Ивановна, — сказал строго, еле сдерживая свой командирский пыл, чувствуя, как у него мурашки побежали по спине. «Как на войне», — мелькнуло у него. — Не сметь! Как посмела?! Нарушен исторический порядок! Он был до нас, он был при нас, он будет после нас! Незыблемо! Не сметь! Сейчас, когда каждая минута дорога для грандиозных дел, она вон что! Не сметь!
— Катитесь вы подальше со своей минутой! — ответила спокойно Катя.
— Чего ты имеешь в виду? Молчу! — воскликнул искушенный в словесных сражениях. Моргунчук, снял шляпу, торопливо зачесал на розовом черепе реденькие волосики, свирепо буравя глазами женщин. — Молчу!
— А то, — глухо ответила Катя. — Знаю, чего… Вот и хорошо. Молчите. Гаршиков приедет. Знаете?
После этого Моргунчук, демонстрируя деловое усердие, побежал выговаривать следующим рабочим. Его голос слышен был уже на другом конце базы.
Странное было положение у Моргунчука: чем больше усердствовал, тем больше шишек падало на его голову, брошенных своими же подчиненными. Это очень сердило заведующего, но и давало повод вынашивать в своей голове планы мстительной расплаты, после которой всех увольняли, а на базе оставался один он — герой Моргунчук. Но сознание того, что он не всесильный, успокаивало его пыл, заставляя направлять энергию на изобретение мероприятий для небольшого коллектива базы. «Атомная война в условиях города Котелино» пройдена, — думал он горько, мучительно соображая, как же быть дальше с мероприятиями. — Чего-то нужно еще присовокупить в этот год. Теперь бы культпоход на озеро Рицу. Далеко. Денег мешок надо, но главное — запланировать, показать устремления, а там видно будет…»
Катя сама не ожидала от себя такой прыти, но победа над заведующим была одержана в присутствии Нюрки Соловьевой и Марьки Репиной. Теперь Катя старалась закрепить свою победу и до конца выдержать тон с начальником — серьезный, самостоятельный. Но к вечеру, изрядно устав, она уже думала совсем по-другому, жалела, что нагрубила Моргунчуку, можно было обойтись и без намеков, на которые уже не было серьезных оснований. Правда, ходили слухи, что заведующий тайно увез с базы мешков десять картофеля.
Катя не торопилась, она отсидела два часа на уроках и направилась домой. Одна мысль тревожила ее — это мысль о Юре. Он, не попрощавшись, уехал в командировку. И то, что она в тот вечер ушла, не сказав ему ни слова, а он стоял растерянный, глядел ей вслед, казалось ей теперь непростительным равнодушием. И ее воображение вновь и вновь возвращалось к тому моменту, когда светила вовсю луна, от домов на снег ложились резкие, четкие тени, а он ступал рядом, упрашивая ее беречь себя, а она бросила его возле своего дома, ушла к себе. Нет чтобы сказать что-нибудь ласковое, доброе. Она была слишком занята собою, в ее поступках просматривается черствость, эгоизм холодной души.
Она ходила по улицам, но ничего не видела, шла по дороге, укатанной машинами, а видела перед собою какую-то ледяную степь, которую обязана преодолеть, а эта ледяная степь, холодная, белая, и есть она, Катерина, и эта вот степь не позволила в тот вечер поступить так, как велит сердце. Мимо проносились автомобили, сигналили, а одна машина остановилась, шофер высунулся из кабины и закричал:
— Полоумная! Под колеса захотела, курва?!
Катя не слышала слов. В ней тихо, мягкой струйкой, вливался волглый ветерок вечера; подтаявший на дорогах за день снежок песком поскрипывал под ногами; в голове стоял легкий стеклянный звон, и в этом звоне ей чудился голос Юры, слышала она бешено вертящийся ворот колодца — это в тот первый раз, когда Юра набирал воду. И еще что-то, пожалуй, самое важное, которое должно появиться, она должна была понять, ощутить — это важное должно с секунды на секунду появиться. Что же это такое она должна понять, ощутить? Жизнь? Она живет сама по себе. Катя терялась в догадках, вспомнила, как ожидала всю жизнь чего-то, ждала-ждала, нетерпеливо билось сердце… Но ожидания так и остались ожиданиями. Она даже не знает, что именно она ожидала. Иногда в полудреме ей мерещилось голубое от цветов поле, ласковый ветер треплет головки цветов, волосы, солнце низко висит над степью, и пахнет распаренной травой, дрожит прозрачная синяя даль, и оттуда, из этой дали, должен кто-то появиться… Катя неотрывно глядела в эту даль, переступая по цветам, сердце у нее замирало, и вся она, легкая, словно пушинка, вздрагивала от стука собственного сердца, торопилась туда, в синюю даль. Зачем? Что ее там ожидало? Катя просыпалась, испытывая сладостное ощущение от воздуха, цветов и неба.
Катя передохнула у себя во дворе. Сарай был заперт, а значит, овцы и куры накормлены.
Она молча поужинала, посидела, слушая, как дядя Ваня вслух читал какую-то политическую книгу, посмеивался, хитро взглядывая на Татьяну Петровну.
— Нет. Нет. Нет. Ты смотри, баба глупая, в политике не смыслишь, погляди, что делают американцы, — посылают дипломата с якобы научной целью а сами… Нет. Нет. Нет. Ты посмотри только. Куда моим апостолам! Далеко до их изгибов. Вот у меня т а м… Что ни говори, а порядок был т а м. Жизнь в порядке — это есть жизнь в человеческом понимании, ее, как знать, лучшем выражении. Порядо-ок! Так вот т а м был один. Хе-хе! Тоже, с позволения сказать, «дипломат». Может, врет, не знаю. Но говорил такое про их, что не поверишь. Не поверишь. Дипломаты тоже люди, — многозначительно поднял вверх палец Иван Николаевич. — Тоже люди.
Катя полила цветы в горшках, смахнула пыль с подоконников и у себя в комнате принялась за уборку. Каждую минуту подходила к окну, ей казалось, вот-вот кто-то придет, потом она совсем бросила убирать. Все валилось из рук. Она бездумно глядела на стены, окна. Минуты, часы таяли на глазах, вот уже слышно было, как старики укладываются спать, как покрикивает сердито Иван Николаевич, требуя, не дожидаясь субботы, чистых простыней. Все последние дни Катя казнила себя, и в ее собственном представлении нет наказания, которое могло бы искупить ее вину перед Юрой.
Дни потеплели, уж хлюпал под ногами мокрый снег на улицах; в степи наст заметно осел, уж появились грачи. Они нахально расхаживали по городу, среди них можно было увидеть осторожных ворон, пытающихся спрятаться среди грачей, в скворечнях шла отчаянная война между воробьями и синицами, совсем не думающими, что прилетят скворцы, выгонят тех и других.
Иван Николаевич стал чаще выходить во двор, подолгу наблюдал за возней вокруг скворечников, грелся на солнышке, с каждым днем пригревавшем все теплее, давал указания старушке. Старушка молча соглашалась, видно было теперь по ее повеселевшему лицу, что она привыкла к голосу Ивана Николаевича.
Через неделю наметили сбросить снег с дома и сарая. Сбрасывала Катя. Она осторожно залезла по стремянке на крышу дома, укрепилась ногами между двумя скобами, как делала обычно, стала лопатой откалывать слежавшийся наст. Со стороны двора получилось хорошо, но когда она перебралась на другую сторону, то сразу поскользнулась, а боясь грохнуться на живот, изогнулась и упала на бок. За скобу ухватилась лишь одной рукой. Но одной рукой удержаться было трудно. Катя съехала вниз и полетела с крыши. Ушибиться сильно она не могла: со стороны огорода никто всю зиму снег не трогал. Катя прогрузла в снег до живота. Она не помнит, как ей удалось извернуться в воздухе, чтобы упасть не на живот. Она только помнит, как вскрикнула с испуга, как извернулась и как что-то хрустнуло в спине… Татьяна Петровна сразу заревела, услышав вскрик Кати, еле добрела до нее, села рядом и залилась слезами, причитая, будто по покойнику.
Катя сидела некоторое время молча, прислушиваясь к себе, только глаза слезились. В теле ничто как будто не болело, в животе замерли, прислушиваясь, — как там, наверху? Катя осторожно приподнялась и ушла к себе. И дома дала волю слезам. Татьяна Петровна неожиданно обнаружила бойцовские качества:
— Ишь начальник! Командует! Из грязи, да в князи!
— Она молодая, — оправдывался с непривычки старик, обнаруживая трусость.
— А ей, може, нельзя, пес ты паршивый! — повысила голос старушка.
— Ты молчи, урка мокрохвостая!
— Сам ты мурка! Пес бессовестный! — не расслышала Татьяна Петровна. — Ей, может, нельзя. Спросил бы, дурак старый! Уеду я к себе скоро отсюда.
Катя легла поверх одеяла на кровать, некоторое время молча слушала перебранку за окном. Ничто не болело, только нога ныла, которую подвернула. Хлюпали капли за окном; солнце, розовое, огромное, опускалось на ночь, вовсю полыхая на окнах. Снова будет тепло, взметнется вверх трава, пойдут дожди, установятся короткие ночи, и всюду заявит о себе жизнь иная — насекомые, птицы, звери…
Катя ощупала уже довольно выпуклый, упругий живот. Ноги посинели от ушибов, от взбухших вен, и она тут услышала знакомый полет комнатной мухи. И улыбнулась, радуясь ей. Муха села на окно. Катя подошла и тихо, ласково глядя на нее, сказала:
— Живи. Весна ведь.
А еще через недельку оплешивевшие курганы в степи закурились паром; улицы городка поплыли в талой воде, просыхая местами на солнцепеке. Центральная площадь первой сбросила снег, уставилась асфальтированным черным глазом в небо. А вскоре у Кати во дворе появилась сухая проплешина, задымилась и через три дня высохла. Это высохшее место полюбил старик, и пока вокруг черно гляделась мокрая земля, уже проткнутая кое-где иголками молодой травы, мог часами греться на солнце. Здесь встречал с работы Татьяну Петровну, часов в одиннадцать утра; здесь зачастую заставала его Катя, возвратившись с работы. Старик убегал в дом только пообедать, отдохнуть на печи, снова возвращался с книгой на это место.
— Заметь, — обращался он к Татьяне Петровне. — Есть страны, где снега в глаза не видели.
— Как так? — удивлялась она.
— А вот так! — победно восклицал старик и пускался в длинные рассуждения о красотах никогда им не виданных стран. На что Татьяна Петровна отвечала:
— А по мне — лучше нашего русского и нету — ни климату, ни природы, ни красоты.
— Нет. Нет. Нет! — восклицал Иван Николаевич. — Африка ты темная.
Татьяна Петровна, обидевшись, уходила в дом завтракать.
На Катю с некоторых пор, а именно с того момента, когда она упала с крыши, старик смотрел внимательно, подозрительно, чуя что-то не совсем ладное. С ней он почти не разговаривал, перенеся всю тяжесть своего нелегкого характера на Татьяну Петровну. Но иногда спрашивал загадочно:
— Как у тебя?
— Ой, у меня? Чего-то вы темните!
— Вообще. В мировом масштабе. Жизнь от нас не скроешь…
— Какую жизнь я скрываю? Чего вы мелете?
— Ну, я вообще. Во всемирном, как знать, масштабе, — уходил от ответа старик. Кате казалось, что он не только о чем-то догадывался, но и кое-что знает. Она настороженно глядела прямо ему в глаза. Катя уходила в дом, но долго усидеть не могла. Остро пахло на улице распускающимися на тополях и ветлах почками, со степи ветер приносил крики грачей и галок, над далекими курганами орланы роняли в чистое небо радостные крики. В воздухе появился забытый за зиму тонкий, чуть дрожащий звук насекомого. Запахи, крики птиц, зудение насекомых, яростно пригревавшее солнце беспокоили Катю, тревожили ее воображение. Она приходила в восторг от божьей коровки и как чудо, положив ее на ладошку, показывала всем:
— Божья коровка! Улети на небо, дам тебе хлеба…
— Нет. Нет. Нет. Что ни говори, а жизнь есть жизнь, — говорил замысловато Иван Николаевич, постреливая в Катю своими колючими глазками. — Жизнь понять надо. Она тогда тебе откроется. В ней есть высший порядок. В ней есть что-то такое, отчего жить хочется, а умирать не хочется.
* * *
Катя в это воскресное утром вертелась во дворе. Она не снимала пальто, чтобы не был виден живот, сгребала накопившийся за зиму во дворе мусор, осторожно водя граблями по уже пробивающейся сквозь влажную землю зелени. Каждая травинка, резко буравившая своим молодым зеленым тельцем землю, умиляла ее, пробуждая чуть ли не материнскую нежность, словно каждая травинка, каждая птичка — это ее дети.
— Миленькая ты моя травиночка, расти, расти, — повторяла она. — Расти большая. Вот та-ака-ая бо-ольшая.
Разомлев от тепла, она ушла отдохнуть. Полежала, поругала себя снова за тот незабываемый случай, чувствуя, как с каждым днем Юра становится ей все дороже, и не могла больше представить свою жизнь без него, горячее желание увидеть его переросло в нетерпение. Вспомнив мужа Лыковой, она пожалела, что тогда позавидовала ей. Именно о таком муже, как Юра, мечтала, именно в нем сошлось все, что близко, дорого.
Думая о Юре, Катя глянула в окно и обомлела: возле колодца стоял Юра. В одной синей рубашке, босиком, без фуражки — все было сложено рядом на чемодане. Он стоял и пил из ведра воду. Катя поморгала, боясь, что это галлюцинации. Нет, он не исчезал. Вон он плеснул оставшуюся воду себе на ноги, достал из сапога портянку, вытер ноги, натянул носки, ботинки, зачесал пятерней волосы, поглядел на ее окно, — лицо бледное, худое. Направился в дом.
Катя бросилась в один угол, второй — кругом было не-убрано, ей всегда казалось, что он придет в будний день, а не в воскресенье.
— Комсоставский привет! Папаша, мамаша! Кондор! — слышался его крепкий голос, напористо ввинчивающийся в Катю. — Прибыл из дальних странствий, из Белоруссии, то есть из Белой Руссии, Москвы и других городов необъятной нашей Советской страны. Пересек самую длинную в Европе реку… Какую? А не знаете? Волгу — три тысячи шестьсот девяносто в длину не метров, а километров. Подчеркиваю. Урал! Третье место по длине — две тысячи пятьсот тридцать опять же не метров, а километров. Подчеркиваю! Прибыл в полном комсоставском и авиационном здравии прямо к Кате. Где она?
— В комнате, — глухо буркнул Иван Николаевич.
— Проходить, — засуетилась Татьяна Петровна, ласково глядя на Юру.
Катя закусила нижнюю губу и, не чувствуя под собою ног, шагнула навстречу. Они сели рядом, Катя не могла выговорить ни слова, а только всхлипывала, а он держал ее за руку и говорил:
— Святое слово, приехал. Черти, машины дают не те, какие нужные. Нету. Вот черти-дьяволы. А как ты тут?
— Ой, как… Да так, ждала тебя. Обиделся, когда уехал?
— Кто? Я? Святое слово мое, что я, хам какой, обижаться?! Ты чего, что ж я, проходимец-пижон, не вижу, что тебе не до меня в такое смутное время?
— Но я думала…
— Думала-а… Мало что ты могла подумать, моя Зелененькая. Баба чего ж подумает? Ясно чего. Пошли на улицу, тепло, светло и мухи не кусают, хоть сам расти, а траве не давай.
— Кушать хочешь?
— Да ну ее — кушать. Анаконда быка, зверюга, проглотит.
— Ой, так недолго!
— Да пошли на улку, хоть на свету на тебя погляжу, на приданое наше полюбуюсь — подросло, гляжу.
— Да уж конечно. Вон видишь, как на дрожжах, — ответила Катя, смутившись Юриного пристального взгляда.
Они сели возле сарая на солнцепеке. Юра все поглядывал, усмехаясь, на Катю, послал ее надеть янтарные бусы, подаренные им, а когда она надела бусы и вернулась к нему, сказал:
— Я тебе еще подарки привез.
— Чего привез-то? — поинтересовалась Катя.
— Подарочек — для шахини. Вот тебе святое слово Иисуса Христа. Папа римский такое не носил. Как в древнем Риме.
Вовсю гомонили воробьи; растопырив крылышки, пели скворцы; всхлопывал крыльями, громко вскукарекивал петух, а куры, утомленные от обильной пищи, радостно-деловито горланили, и гусыня купалась в луже возле двора, — все пело, заявляло о себе во весь голос. Катя глядела вокруг и не могла нарадоваться. Юра щурился то на Катю, то на солнце, что-то ей говорил, но она не слышала ничего, а открыв рот, усевшись впервые так, не стыдясь, как ей было удобно, раздобревшая, тихая и счастливая, поглядывала на Юру. На его вопросы не отвечала. Она не понимала, о чем он ее спрашивает, ей ни говорить, ни спрашивать не хотелось. Юра рассказывал о своей поездке, а она думала: «Господи, о чем он говорит?» Она в этот день была ошеломлена и Юриным приездом, и криком воробьев, и солнцем. От всего в голове стоял радостный гул. Так они просидели до вечера. Вечером ушли ужинать. Юра со стариком не заговаривал, косо взглядывая на него. Старик хмурился, важно, чинно держал вилку, не забывая покрикивать на суетившуюся вокруг стола Татьяну Петровну.
— Сидим. Кушаем. Время стучит. Часы отлетают в вечность, — сказал старик, ни к кому в особенности не обращаясь, но в торжественности интонации сквозил вызов на разговор.
Никто ему не ответил. Иван Николаевич обвел всех взглядом и тоже ничего не сказал.
Юра поерзал на табуретке, вытер руки, радостно поглядел на Катю, подмигнул ей.
— Подарочек, Зелененькая, — во, для шахини! — Он внес чемодан, поставил на стул, поглядел вопросительно на Катю. Она даже привстала от нетерпения, потянувшись глазами к нему. — Э, нет, не гляди. Я достаю сперва — вот! — Юра вынул пузатую бутылку и поставил ее со стуком на стол. — Тебе, Кондор, комсоставская! Пей, радуйся, вспоминай иранского падишаха.
— В чем дело? — заморгал Иван Николаевич, отстраняясь от подарка. — Что такое? Опять шухер?
— Коньяк. Кондор! Пьют только президент гваделапупской республики и как в древнем Риме! Коньяк.
— Где тут написано, что оно коньяк? Не написано.
— Как же нету, папаша? Фу-ты, ну-ты, снова от Марфуты. Это французский. «Наполеон»! Улавливаешь ухом? Мешок целковых. Дипломатический. Пили только из таких сортов Людовик Четырнадцатый и Людовик Пятнадцатый, остальным королям не давали — дорого стоит. А еще он лекарственный. Выпьешь — три года лишней жизни. Сообразил? Три года! Со стакана. Лекарст-во! Пей — нэ хочу. — Юра не слушал старика, вяло отмахивающегося от заманчивых предложений. — А теперь, Катенька, не гляди. Отвернись. Стоп — это я сам себе говорю. Нет, не тебе. А вот это. — Он достал белые тапочки, протянул Татьяне Петровне, изумленно глядевшей во все глаза на него. — Белые… оп-ля! — тапочки!
— Господи, мне-то зачем? Без их прожила столько лет и еще проживу. У их никуда — белые ить.
— Мамаша, не тапки, а форзан пли! Польские, мутерзон! Белые. Носили только графини и эти, в блеске и нищете, куртизанки, князьям не давали. Помрешь — тогда наденешь. При жизни носить опасно. Ограбят. Блеск и нищета.
— Спасибочки, — поджала губы Татьяна Петровна и посмотрела с укором на Катю.
— Да вы чего, мамаша? Это же коленкор! Катенька, скажи. Наденьте. Вот вы пришли в преисподнюю. Так? Пришли. Тут на кресле сидит бог, кушает картошку рассыпчатую, а запивает коньяком французским (его там много, целая бочка), а внизу ручеек бежит тепленький, он ноги в теплую водичку опустил, блаженствует, коньячок пьет, картохой закусывает. А рядом еще ктой-то сидит. А вы этак смотрите на бога… «В ад», — говорит он, а лица от бокала не поднимает. Вы укоризненно переводите взгляд на тапочки: мол, в таких тапочках — это ж курам на смех! Он удивляется, что вы еще не ушли, поднимает лицо, видит тапочки, догадывается, в чем дело. Стоп машина! «В рай, — говорит. — Но туда вход только босиком».
Сад же кругом, яблоки под ногами ворохами лежат. Не дай бог наступите на яблоко — святые. Вы этак скидываете тапочки и говорите: «Носите на здоровье». А ему тапки хорошие вот так нужные. А теперь последнее. Стоп, машина! — сам себе говорю.
Юра распахнул крышку чемодана совсем. Катя уже посмеивалась, ожидая снова такого же подарка, как тапочки, с неловкостью поглядывая на дядю Ваню.
— Вот тебе. — Юра положил перед Катей что-то блестящее, в сумеречном свете дома переливающееся голубым и фиолетовым цветом. — Тебе, Катенька! Подарочек. На рынке у циркачки купил. Еле уломал.
— Чего это такое? — недоумевала Катя, заходясь нервно-радостным смехом.
— Гляди, одежда такая. Красиво. Как в древнем Риме. Королева носит, ей-бо! Хоть раз в жизни нужно быть королем или королевой.
— А чего с ей делать? Ты чего, сдурел или как? Трусы! Батюшки, где ты такую охламонину достал? Ты прямо сдурел — обсмеют ведь! С ума сойти, без минуты шесть.
— Так наденешь — ведь глаз не оторвешь. Надень. Хоть раз в жизни королевой будешь.
— С ума сойти! Где надеть? На улице, выходит, так ли? Вот чудачок! Надеть! Где надеть-то, на чердаке ли разве? Что я, турок совсем — надевать?!
— Батюшки-светы! — только и произнесла Татьяна Петровна, разглядывая ослепительно блестевшие трусы, бюстгальтер, сплошь облитые стеклярусом, переливающиеся под светом всеми цветами радуги. Татьяна Петровна прислушалась, вскочила, точно ошпаренная кипятком, замахала руками: — Тише! Спрячьте, спрячьте, а то идут. — И заспешила к выходу.
Катя сгребла со стола подарок, сунула его под одеяло. Раздался мужской голос, через минуту вошел Павел Гаршиков, держа в руках шляпу, плащ.
— Здравствуйте, — радостно сказал он, оглядываясь, ища, куда бы положить плащ и шляпу. На нем красовался новенький костюм с широченными плечами и очень узкими, в обтяжку, брюками, яркий галстук, белая нейлоновая сорочка. — Извините, Катя, я на минутку. Извините, что неожиданно. Телефоны у нас в Котелине не у всех.
Катя принесла из другой комнаты табуретку, забрала у Павла плащ и шляпу.
— Я слыхала, что приехал. Мне Соловьева позавчера хвасталась, — сказала она, оглядывая высокого красивого Павла Гаршикова с хорошо выбритым, усмешливым лицом, на котором торчали тонюсенькие рыжие усики. — Думала, не зайдешь, побрезгуешь. Дядь Ваня, это Павел Гаршиков. Студент московский. Ой, умный! Бабы от него с ума сходили, а некоторые замуж даже вышли. Умный, ну прям до коликов, ну прям до чертиков.
Старик привстал, поздоровался, как-то пристально, лихорадочно присматриваясь к студенту своими цепкими, колючими глазами.
— Павел Гаршиков? Студент? А что в Москве нового? Нет. Нет. Нет. Не из праздного любопытства ради, а из очень серьезной привязанности к столице. Много прожил, но многое забыл. У меня сейчас частичная амнезия. Так что я много прожил, много забыл.
— Дядь Ваня, ой, дай человеку сесть, — сказала Катя, усаживая Гаршикова рядом с Юрой.
— Что ты, Зеленая, меня это ничуть не смущает, — ответил за старика Гаршиков, удобно устраиваясь за столом. — Три дня в Котелине. Все зовут к себе в гости, а я прилетел всего на три дня на суперлайнере «Ту-154». Комфортабельная машина. В наш реактивный век, век скоростей и открытий, этим никого не удивишь. Но все ж приятно лететь на суперлайнере по голубому океану.
Катя была рада приходу Гаршикова. Она узнала, что он приехал несколько дней назад, однако как-то забыла, будто и не существовало его вовсе, — так она была занята своими делами. Он сидел, красивый, хорошо и просто одетый, с нежным лицом, говорил необыкновенно, не так, как говорят в Котелине, но главное — никогда в жизни ей не приходилось сидеть рядом со студентом из Московского университета. Она не знала, куда его усадить, какую положить ему ложку, вилку. Катя суетилась вокруг него, и Юра ревниво следил за ней, шумно при этом сопя. Она забыла обиды. Ей было так приятно, что он пришел к ней все же как к старой, хорошо знакомой. Пришел — и вот уже говорит о чем-то необыкновенно, как умел говорить только он. Катя разлила по стаканам оставшуюся водку, все выпили предложенный за студентов тост, и он, Гаршиков, выпил, отнюдь не смутившись, восприняв тост как должное.
— Как недавно установили ученые, — сказал Гаршиков, — пить вредно. А мы, реликтовые ископаемые, пьем и еще хвалим. А ты, Зеленая, поправилась. Но, как установили ученые, худые живут дольше и лучше. Им легче. Время идет гигантскими шагами вперед, химия, глобальнейшая наука, — еще быстрее, а смотрите, на повестке-дня старый, как мир, реликтовый, можно сказать, вопрос — ожирение значительной части человечества. Но это нашего гигантского времени вопрос. Во времена расцвета народов, например, древняя Греция ожирением не страдала. А сейчас Америка страдает. Половина больных от ожирения — в Америке. Болезнь изобилия! Болезнь времени.
Гаршиков ел и говорил, ни на кого не глядя, и сказанное тоже как будто ни к кому не относилось. Только Татьяна Петровна шумно вздыхала, все поняли, что ее вопрос об ожирении волнует.
— Разумный хомо сапиенс не ожиреет, — со значением сказал Иван Николаевич, быстро достал из кармана книжечку, в которую записывал интересные мысли, и спрятал обратно, осторожно, медленно, разжигая слабенький огонек разговора.
— Разум — понятие весьма относительное. Как вас по имени-отчеству?.. Очень хорошо, Иван Николаевич. Так вот, разум — понятие очень и очень даже относительное, как недавно установили ученые, следовательно, за последние несколько тысяч лет разум не ушел сколько-нибудь вперед.
— Как так? — не поверил Иван Николаевич, будучи в восторге от этой дерзкой, необыкновенной мысли.
— А вот так, Иван Николаевич. С точки зрения научной. Недавно нашли какие-то приборы для вождения судов — четвертый век до нашей эры. Установили, что они ничем не отличаются от наших, современных. По принципам работы! Вот так, старче. Время летит, время точит древо жизни, а мы глядим на эти червячки и ничего не можем поделать. А маятник стучит, Вселенная скрипит своей несмазанной осью, рассыпая искры комет и звезд. Стучит маятником время. Маятник есть в каждом человеке.
— Сердце! — воскликнул Юра, наблюдая за Гаршиковым. — Оно у нас маятник.
— А вы не шофером случайно работаете? — спросил его Гаршиков.
— Им, — с вызовом ответил Юра.
— Тогда я вас знаю. Каждый человек всегда узнает человека. Но это неважно, — сказал студент смутившемуся окончательно Юре. — Важно не менее другое — жизнь! Вот все мы тут сидим, выпили малость, кто молчит, кивер чистит, весь избитый, мотая длинный ус, а кто говорит. А жизнь — вещь не смешная даже, как думают некоторые. Земля-то вертится, время стучит на гигантских часах космоса, а мы сидим, говорим. Я, кстати, говорю. Но позвольте задать вам один сакраментальный вопрос. Я не для этого пришел, я пришел всего лишь на одну секунду. Так сказать, долг вежливости. Точность — вежливость ученых. Этот вопрос о жизни свойствен каждому разумному. У меня, у человека вообще, у вас всех, у тебя, Зеленая, у вас, у вас — четырнадцать миллиардов клеток-нейронов. У меня четырнадцать миллиардов и две. Не на много больше, всего на два, но, правда, очень важных. Но не в этом дело, не в том, что они важнее нескольких миллиардов. И я уверен, каждая из этих клеток задает себе вопрос и другим клеткам. Имманентность этого вопроса известна. Я везде в связи с этим провожу эксперимент, как натуральный химик. А нужно ответить на главный вопрос — для чего? Я много книг прочитал, говорил с академиками, профессорами, докторами наук, но неясно — для чего?
— Как так? Для чего как? — спросил старик. — Как для чего? Именно: для чего?
— Живете для чего? — повторил вопрос Гаршиков.
Старик ошеломленно повел глазами, не зная, что и ответить, сидел так минуты две, потом подскочил, точно ужаленный.
— Именно! Как, для чего? — громко проговорил старик. — Именно!
— Для людей, — ответил Юра и принялся за огурец. — Глупо будет, если только для себя.
— Но для чего? — взмолился Гаршиков, поведя рукой кругом. — Для чего? Они, мы, все… Для чего? Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Но сейчас можно так вопрос и не ставить. Старо. Для чего?
— Тоже для людей, — невозмутимо ответил Юра, уверенный больше чем когда-либо в своей правоте. — Не для чего, а для кого. Ответ: для ближнего человека.
— Нет. Трижды нет. От имени всего человечества говорю: нет. Далеко не научный ответ. В своей обыденной, обывательской правоте вы чудовищно правы, но если копнуть поглубже, снять второй пласт, если…
— Нет. Нет. Нет, — согласно проговорил Иван Николаевич, благодарными глазами уставившись на Гаршикова. — Соломенным волом не орать, сенным конем не воевать. «Изжени из него всякого лукавого и нечистаго духа…» — вот какой ответ дает вековая мудрость.
— Не знаю, какая там мудрость, но подозреваю, и не без оснований, безусловно, что ответ добудем не скоро. Вопрос без ответа — это все равно что солнце без тепла. Красиво, но паршиво: не греет. Любые ответы породят новые вопросы. Ответа не может быть. Никто не знает. Так устроена жизнь, что вопросы могут возникать, но чем больше опыта накапливается у ученых, тем меньше шансов получить ответ. Никто не знает. Но этот вопрос ведет в бессмысленность. И, как недавно установили ученые, на земле есть два вопроса, которые, как мне кажется, не имеют и не должны предположительно иметь ответа. Почему Вселенная бесконечна? И как это так вдруг — без конца и без края?! Почему на земле есть человеческая жизнь? И для чего? Вот два вопроса — в общих, конспективных чертах. В чем их истина? В чем? Не знаете. Как установили ученые — никто не знает.
— Ой, неправда твоя, — ответила Катя, смеясь. — Все-то всю жизнь одни вопросы задаешь, отвечать не отвечаешь. Ты все такой же, Павел. Ничуть не изменился. А помнишь Деряблова, как он в угол становился на колени слушать скрип земной оси? Ой, в жизни нашей много чего интересного, правда, Юра?
Иван Николаевич вышел в другую комнату, через минуту вернулся и, остановившись в дверях, неожиданно для всех гневно проговорил:
— В слове истина! В слове ответ.
Гаршиков приятно улыбнулся в ответ на голос старика, повел приятно плечами, не оборачиваясь на него, аккуратненько положил в рот кружочек лука. Ему не хотелось отвечать. Все, что хотелось высказать, чем хотел поразить сидящих, было высказано. Он уже раскаивался, что завел разговор, убил понапрасну время, поговорить с Катей о Лыковой не успел. Его смешил этот старик, словно первоклассник, глядевший ему в рот, ловивший каждое его слово, и он, подзадоривая, говорил о вещах странных, необъяснимых, ему самому непонятных.
— Слово так слово, — Гаршиков согласно кивнул. — Мы с вами говорим словами. Если эти слова имеете в виду, то, конечно, тогда о чем речь? Все ясно и понятно.
— Нет. Нет. Нет. Вначале было слово, — подтвердил не так уж гневно Иван Николаевич, уловив в словах студента снисходительность к себе, убоявшись, что этот умный, грамотный студент, собеседник, с которым он мечтал поговорить годами, вдруг возьмет и перестанет с ним вести так нравившийся ему разговор, поэтому продолжил медленно, рассуждая вслух: — Я был т а м восемнадцать лет. Наблюдал людей. Эксперимент удался. И убедился по всей научности в своей правоте. Во-первых, слово — всему бог. Мы подчиняемся слову. Так, Катя. Так, Татьяна Петровна. Так, ты вот, цыган. Истинно так. Вертись не вертись земля, но если слово было сказано наоборот, то она не будет для нас вертеться. Я скажу: земля не вертится. Погляди кругом, все погляди. Вертится? Нет, никто не видит. Не вертится. Слово все может. Резать, бить, терзать, казнить, возносить. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть…» «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Нет, не я это выдумал. Но к этому пришел. Приходит слово и говорят: «Я хочу, будь ты человеком». И ты будешь человеком. Потом оно захотело любовь тебе подарить. И преподнесло тебе ее, а вместе с ней у тебя дети — опять от слова. Травы поросли на лугу, леса в листве, в реках рыба, а и вражда, любовь, ненависть и все остальное — все слово. Вся жизнь — слово. Слово — это жизнь. Напишут на бумаге два слова: студента расстрелять молча. И молча низвергнут тебя. Опять же слово главное лицо здесь. А нужно будет тебя вознести, опять слово главный и единственный козырь. Слово, слово, слово. Главное — слово! Оно все может. Не пущать его, держать. Вот как. Вот истина. Вот ответ на все.
— Предположим… Альтернативно, — ответил Гаршиков, улыбаясь, как улыбаются первокласснику. — Слово кое-что значит. Но позвольте, — студент явно подражал кому-то из своих преподавателей, — что это за странное т а м, как изволили вы выразиться, старче, изволили только что упомянуть?
— А… — разочарованно махнул рукой Иван Николаевич, ожидавший, что студент примется сейчас ломать копья, сейчас, когда, как ему казалось, он высказал свое самое глубокое суждение о жизни. — Все то же. А вот вы, студент Московского университета, и вот скажите: прав я или неправ?
— Альтернативно с вами можно спорить, так как недавно установили ученые — все в нашей жизни относительно, всякая вещь материальна, а слова, как известно даже человеку с нулевым интеллектом, не материальны. А отсюда историческая закономерность. Это, кажется, не вопрос жизни и смерти. Так ведь, Иван Николаевич, дорогой старче, земля наша маленькая! Большие вопросы ставить нельзя, вредно, — спокойно, слегка усмехаясь, заключил Гаршиков.
— Нет. Нет. Нет. Все дело в слове, — не соглашался Иван Николаевич. — Вы говорите — маленькая. А словами можно доказать, что на самом деле она во Вселенной самая большая.
— Альтернативно, — неопределенно ответил студент, которому надоел разговор с нудным стариком, и он посматривал по сторонам, выбирая момент уйти. — Нельзя всех дохлых собак вешать, старче, на одно только слово.
— От дохлых собак воняет, — со значением сказал Юра, положив свои огромные руки на стол. — Один учится. — Он посмотрел на студента. — А другой ничего не делает, волынит всю жизнь, решает вопросы, которые любая курица решит. — Он посмотрел на Ивана Николаевича. — Одному в голову приходят слова, другому приходят тоже слова, и все одинаковые. Так, Катя? Так. Почему приходят слова одинаковые? Ответьте мне? Не ответите! А вот если у меня попросят по-хорошему рубашку, я отдам. Майку — я отдам. Раз такое дело, раз человеку нужнее, я отдам. Я все отдам. Но если мне скажут такое слово: «Дай рубашку!» — и таким повышенным голосом, то я так дам вот этим кулаком — косточки не соберет, а не то рубашку. Вот и слово, Иван Николаевич Курков. Всяко слово бывает.
— Кулаки у тебя не как у ученого, здоровые, — сказал Гаршиков иронически.
— Здоровые, чего там, — смущенно согласился Юра.
— Главное в жизни не кулаки, а порядок, тогда кулаки не нужны будут. Слову дать порядок. Сказано: молчать! Молчи. Встал, поел, поработал; поел, говорить нельзя, поужинал, свободный порядок главное, а не так — кулаком. Так и дурак сумеет. Лег и лежи, хочешь спи, а не хочешь — не спи. Нет, порядок есть порядок. Вот что я люблю. А как вышел оттуда, так, веришь, студент, все завертелось. Как чуть что, тебя последними словами обзывают. А нет, чтобы их запретить. Пообедать негде, поспать негде, все с трудом. А т а м все приготовлено. Плохо ли, хорошо ли. Начальство любит людей послушных, верных. Чистота кругом, хорошо. Слово силу имеет. Сказано — сделано.
— Старче, как установили ученые, согласно теории относительности, вероятности, согласно логике факта, слово мы внедряем в дело, облекаем в материальную оболочку. И Аристотель прав. — Гаршиков досадливо усмехнулся.
Он ерзал на табуретке, подыскивая предлог, чтобы уйти. Юра слушал старика, и в глазах его можно было прочитать укор, и он время от времени перебивал старика. Наконец, окончили говорить, и Юра сразу воспользовался моментом:
— А вот, студент, назови мне вулкан в Европе с самым длинным названием… А? Что? Чегошеньки? То-то. А? Чего?.. Не знаем. Понятненько. А вот — Хваннадальехнукур! Высота его?.. Ах, не знаем тоже. А? Чегошеньки? Не знаем. Две тысячи сто девятнадцать метров, а не сантиметров и не километров. Подчеркиваю. Ровно и ни сантиметра больше.
Гаршиков рассмеялся, вставая. Лицо его расплылось в задумчивой, иронической улыбке, казалось, он говорил, что все это чепуха, а вот то, что я знаю, мол, — это да, этого никто не знает, потому что не каждому дано знать.
— Назовешь… Не всякий мудрец ответит. Аристотель, мой любимый мудрец, и то, пожалуй, затруднился бы.
— Не я назвал, а люди в Исландии. Страна такая есть. Вот вам святое мое слово. А на всякого мудреца, студент, довольно и простоты, — ответил Юра, простодушно стараясь посмотреть в глаза студенту.
Но Гаршиков избегал Юриного взгляда, и будто сильно на него досадовал.
Гаршиков натянул плащ, не меняя своего настроения, которое умел сам создавать себе, взял шляпу, упавшую было из рук, но которую тут же ему подал стремительно бросившийся за ней Юра. Катя сразу поняла, что Гаршиков пришел, конечно, не просто ради старой дружбы, а хотел узнать подробности о Нинке, и все выжидала момент, собираясь ему все рассказать. Когда они собрались уходить — Гаршиков домой, а Катя провожать, — вдруг раздался оглушительный треск — как из пушки выстрелили Гаршиков даже, схватившись за голову, присел, пригнувшись, сделал несколько шагов к двери, собираясь бежать, а Катя, уже настроившаяся рассказать ему все о Лыковой и о себе тоже, побледневшими губами зашептала: «Господи…», перекрестилась, ничего не понимая.
Гаршикову она могла рассказать все о себе, от него пахло духами, которых никогда не было в Котелине, он был совсем другой, нежели она, как будто человек с другой планеты. Он и на Юру не похож, было в нем что-то такое не от людей, которых знала она, следовательно, он и воспримет отстраненно, не проявит никакой заинтересованности, его мало тронет Катина судьба. Но зато она выскажется. Но помешал грохот разбитого окна. Мимо нее пулей пролетел Юра, столкнулся с Гаршиковым, собиравшимся ускользнуть из дома, отчего тот упал на спину. Юра в сенях дико закричал:
— Машка! Стой, курва! Стой, курва! Сто-ой, змея подколодная!
Катя с ужасом оглянулась на Ивана Николаевича, ожидая увидеть его мертвым, — почему-то была уверена, что именно он и был причиной этого грохота. Но Иван Николаевич стоял живой у стола и растерянно глядел на разбитое окно. Катя еле дотащилась до табуретки, все еще не выпуская из виду Ивана Николаевича и Татьяну Петровну, испуганно таращившихся на окно. Она пыталась что-то понять, увязать грохот с Иваном Николаевичем, ожидая, что будет еще что-то более неожиданное и неприятное.
— Не ко добру это, — еле слышно проговорил дрожащим голосом старик. — Не ко добру. Нет. Нет. Нет. Я всегда говорил: не ко добру.
Гаршиков подошел к разбитому окну, посмотрел, как Юра гнался за какой-то женщиной, невозмутимо попрощавшись, направился домой. А остальные так и стояли, пока Татьяна Петровна не бросилась завешивать разбитое окно.
ГЛАВА XVII
Все завертелось: недавно совсем было по-другому, а теперь перевернулось с ног на голову. Катя просидела до утра в своей комнате в ожидании Юры, гадая и строя догадки самые невероятные. Нелегко было от случившегося и старикам. Они легли, но спать не спали. Катя слышала, как те вполголоса обсуждали происшедшее, как досадовали, что именно в этот момент у них был такой ученый человек, ученейший из ученых и, видать, знаменитый на всю Москву, как Гаршиков.
Катя прождала Юру до утра, но он не вернулся. Все стало на свое место: Юре стыдно, он не придет. Она с трудом дождалась восьми часов и направилась на работу, где думала забыться и отдохнуть от дум.
Моргунчук уже ходил из одного склада на другой, громко, так, чтобы все слышали, отдавал распоряжения, и Катя удивилась, что в такую рань он уже трудился. Все рабочие, к ее удивлению, тоже были на своих местах, и Катя поняла, что опоздала. Как ни спешила, а все ж опоздала.
Весною тревожила одна забота — выбрасывать со складов гнилые, испорченные за зиму овощи. Раньше Катя могла весь день заниматься такой работой, но сейчас от неприятных запахов сильно подташнивало, она то и дело выходила на улицу отдышаться.
Нюрка Соловьева и Марька Репина делились впечатлениями о Гаршикове, по их злорадному смеху можно было заключить, что обе недовольны его приездом. Моргунчук крутился недалеко от подруг, подслушивая их разговор, его так и разбирало любопытство. Заметив, что Катя уличила его, подошел к ней, некоторое время сердито-изучающе смотрел на нее одним глазом.
— Мобилизовать все резервы и силы, — сказал он твердо, как бы упреждая все Катины возражения. — Мобилизовать, взять во всеоружии в это исторически ответственное время. Ты понимаешь, каждая минута — это уже много. У нас в СССР проживает двести тридцать миллионов человек, но если каждый сэкономит минуту, это сколько же минут?! А! Ты поняла?! Преподобная Катюша Зеленая, двести с большим лишком миллионов минут! Я тебя не ругаю за сегодняшнее опоздание. Ты думаешь, я не знаю. Я человек добрый, у меня душа младенца. Душа моя — это младенец! А положение наше сложное. Хорошо, что не только у нас сложное положение, а и во всем мире. Это уже другое. От такого нам легче. Но в мире обстановка наисложнейшая. Нужно объяснить людям. Я записал тебя снова в агитаторы. Объяснишь людям. Дам тебе газеты, понимаешь, объяснишь. Будешь маяком. От этого во многом зависят успехи общих успехов.
— Так я получаю, Александр Александрович, газету.
— Вот тебе, молоток, задание. Объясни, что нужно хорошо работать. Кругом крепко стоим, но обстановка чревата. Чревата. Поняла? Погоди, погоди. Дай поговорить. От этого зависят успехи общих успехов.
— Работа ждет, — сказала Катя, направляясь на склад.
— Слушай, Зеленая, может, мобилизуешься? — доверительно приблизился он. — Прочитаешь лекцию. Мобилизуешься и прочитаешь. Сама понимай, с вертихвосток ни грамма не возьмешь. А ты серьезная, старше́й-то их. Мобилизуешься? Тему дам тебе: «Здоровье наших детей — наша забота!» Я тебе расскажу, как надо.
— Ой, что вы! Не смогу.
— Гляди, Зеленая, гляди. Не опаздывай! А то у меня не отвертишься. Как это так ты не можешь, а опаздывать — первая!
Весь день Катя работала, на обед не уходила — не хотелось есть. В теле ощущалась слабость, и она только изредка выходила под яркое солнце обсохнуть, так как сильно потела. Оставив капустные чаны, из которых сильно пахло прелью, отчего у нее кружилась голова, выходила во двор и, подставив лицо солнцу, чувствовала, как медленно просачивается в нее солнечное тепло.
После работы Катя в школу не пошла, а постояла на центральной площади, надеясь встретить Юру, поглядела на разъезжающихся работников райкома и побрела по Чапаевской улице к оврагам. Земля еще была сырая, а овраги, переполнившись водою, недовольно урчали, отдавая избыток влаги лугам. По черной земле ходили грачи. То там, то сям островками зеленела трава.
И тут она увидела человека: одет он был во все черное, переступал устало, осторожно ставил неверные свои ноги, будто протопал не один километр по тяжелой земле, смотрел прямо перед собой, будто никого и ничего не видел, и этим своим взглядом искал что-то далекое, призрачное и стремился к этому далекому, призрачному. Катя поглядела на его бледное лицо и вздрогнула, вспомнив ранние осенние сумерки, старика с бледным лицом, в черном пальто, черной кепке, с бугром на спине…
«Это беда моя», — подумала Катя и съежилась, присев на корточки перед оврагом. Через минуту встала, направляясь кружным путем домой, растерянно оглядываясь на черного путника, бредущего устало по земле.
* * *
Юра не приходил. Неделю она ждала. Терпение ее кончилось, и она направилась на автобазу. На автобазе спросила у стоящего возле разобранной автомашины пожилого мужчину о Юре. Мужчина равнодушно поглядел на нее и спросил:
— Вы кто? Сестра?
— Сестра, — соврала Катя, стараясь выдержать взгляд мужчины.
— Тут такая закавыка… — с готовностью стал объяснять мужчина, сняв полосатое кепи и почесав за ухом. — А ну, пошли к его машине!
Он направился к недалеко стоявшему самосвалу, открыл дверцу, в кабине никого не было.
— Тут такая закавыка, что без поллитры не разберешься, — сказал мужчина, глядя вприщур на Катин живот. — Он тут усю зиму спать ходил в машину. Он с ей-то, женкой, не живет. Уж такая стерва, настоящая курва. Деньги забирает за него полностью. И копейка в копейку. Он только живет прогрессивкой да левой копейкой. А в наше время какая левая, сами знаете. Слезы одне. А он ни днюет, ни ночует дома, живет как собачонка какая. А сам душевного покроя человек, золотые его руки. Навчерась диво отмочил. Посадил ее в машину и давай по степу гнать со всего маху. Гонит, гонит. Она: «Стой!» Он — ни в какую, гонит, машина по оврагам прыгает Она пугается, степя не ровныя, побило ее в кабине. Она: «Прыгать буду». А он: «Прыгай, курва, богу молить буду, свечку поставлю на разрушенном народом алтаре». Нашла-таки на его стервозность, гонял курву четыре часа по степям, по кочкам, оврагам, рессору сломал. Она в милицию побегла: так и так, муж убить хотел. Она в милицию, а он ей вослед: «Еще разобьешь окно — под колеса положу, весь день по тебе буду ездить!» Дали ему пятнадцать суток, собрание было у нас. Она была: «Коммунистов у вас много, людей нету настоящих. Вон что вытворяют, женщин бьют». — «Коммунисты не подлецы какие, — ответил я ей. — А если бы ты мне попалась, то жива, говорю, была бы только наполовину, а он ангел, что тебя не сбросил в овраг! Ты б у меня, говорю, сама спала всю зиму в кабине, а я на перине цуциком лежал, в потолок плевал». Такая тут закавыка.
Катя, не попрощавшись с мужчиной, ушла. И перед ее глазами стояла быстро несущаяся машина по степи, за рулем сидел Юра, а рядом женщина, которую она никак не могла представить. Самосвал яростно ревел, прыгал на колдобинах, в трескучем громе машины чудилась ненависть к женщине. И Катя с мстительным, тайным наслаждением подумала, что так и надо той женщине, принесшей столько неприятностей. Оттого, что Юра подвергся таким унижениям, а сам молча переносил страдания и лишения, всю зиму спал в машине и, чтобы не спать в машине, соглашался поэтому на любую командировку, Кате стало нестерпимо жаль его, дорогого и любимого ею человека.
Возле отделения милиции Катя перевела дыхание, смело вошла в помещение. За столом в приемной комнате сидел молодой краснощекий милиционер и разговаривал по телефону. Кончив говорить, он записал что-то в книжку, спросил:
— По какому делу, гражданка?
Катя была совсем спокойна, сердце стучало ровно, сказала тихо, чуть кашлянув при этом:
— Хочу видеть Гурьянова.
Она твердо глядела на милиционера, но не видела его, хотя он стоял перед глазами. Ей хотелось сказать какие-то нужные, необходимые слова.
— Гурьянова, Гурьянова, Гурьянова… — Милиционер порылся в книге. — Как его по имени?
— Гурьянов Юрий, — ответила Катя. В горле у нее пересохло, и она отвернулась, ища, куда бы сесть. Ей стало тяжело стоять, на лбу выступили капельки пота.
— Гурьянов Юрий… Гурьянов Юрий… повторял милиционер, роясь в книге. — Нету. Есть Гурьянов Андрей. А ну-ка, паспорт поглядим. А по отчеству как?.. Так-так. Вот и паспорт. Вот он тут и есть: «Гурьянов Андрей Федорович. Русский. Год рождения… Социальное происхождение…» Нету Юрия. — Милиционер поднял глаза на Катю, помолчал, внимательно разглядывая ее, как бы давая ей опомниться.
Катя ничего не могла на это ответить, исподволь ее начинало колотить. Она побледнела, уже не могла удержать запрыгавшие губы. Милиционер все понял, растерянно крикнул:
— Шапугин! Пусть придет Гурьянов! А вы, гражданка, кто, если не скрывать, будете?
— Се… сестра. — У Кати прыгали губы. Она совсем растерялась, и куда делось приобретенное недавно спокойствие. Вспомнила, что назвала неправильно по имени Гурьянова, а разве сестра может не знать настоящего имени? Я, ой, я не сестра… Я… Я…
— В таком положении уж имя знать надо, — наставительно проговорил краснощекий милиционер, строго, укоризненно глядя на Катю.
В этот момент в торце длинного, узкого коридора показался Гурьянов. Он не знал, зачем вызвали, но предполагал — подметать двор. Это его не расстраивало и не беспокоило: двор так двор, все равно. Гурьянов имел в своем характере особинку. При виде начальства, милиционера или просто человека, от которого зависел, у него вмиг вскипало в груди упругое желание показать себя полностью независимым, более того — бывалым, прикинуться эдаким бесшабашным человеком, которому и море по колено. Чем больше от этой особинки в характере он получал неприятностей, тем сильнее в нем крепла, разрасталась она. Имея душу нежную, легко ранимую, он этим как бы старался создать противовес ей. Вот и сейчас, появившись в коридоре, независимо поднял глаза к потолку и засвистел лихой мотив какой-то разбойничьей песни.
— Гурьянов, тут вам не конюшня! — прикрикнул милиционер, сопровождавший его.
— Эх, святое мое слово, гражданин милиционер, думаю я, что может быть лучше, чем вот так спокойненько идти по деревне, у казаков оне называются станицами, в шароварах, какие носили запорожцы, а в кармане у тебя по сотенке, по зелененькой бумажонке. И чтоб карманов не менее трех! А шаровары, шаровары — в них по бабе можно спрятать, вот какие чтоб, — говорил громко Юра, чтобы все слышали, видели, что он не грустит, а что ему все нипочем, все трын-трава. И впрямь перед Катей был разбитной, разудалый молодец, — если бы только она его не знала.
— Зачем тебе такие шаровары? — спросил язвительно милиционер. — И деньги?
— А затем. Ребятенкам по червонцу, чтоб знали Гурьянова Юрку, запорожского казака! Им запомнится такое на всю жизнь. Пусть морс пьют от пуза, голубей покупают, каких хотят. У меня таких не было. Пусть помнят Гурьянова Юрку!
Увидев Катю, Гурьянов смолк и быстро направился к ней. Милиционер поотстал, качая головой.
— Катя, красавица, я только о тебе думал. Какими судьбами? — спрашивал он быстро, взглядывая на дежурного милиционера, махнувшего рукой: мол, можете выйти на улицу.
— Как же ты сюда попал? — спросила Катя. — Почему тебя зовут не Юрой, Андреем? — Она оглядывалась, ища, куда бы присесть. Ей непременно хотелось присесть, потому что в ногах ломило, и она уж не могла стоять на месте. Наконец увидела позади здания штабелек досок, села и с удовольствием протянула ноги.
— Во-вторых, я не мог, стыдно было, — признался он, усаживаясь рядом и беря ее за руки.
— А во-первых?
— А во-первых, зовут меня на самом деле Андреем — это по паспорту. Прочитал у Гоголя в «Тарасе Бульбе», что Андрей предатель. Прочитал — не по себе стало. Андрей Болконский — это здорово, но он аристократ. А я казак. Мне нравится Юрой. Тогда я не думал, что такой у нас с тобой танец выйдет, — сказал он, придвигаясь к ней поближе, заглядывая в мягкие Катины глаза. — Катенька, я не виноватый. Прости меня. Было стыдно за тогда. Да еще при студенте из Москвы. А тут она, Машка, бах в окно колом. Нате вам триста грамм! Бегает шибко, я не догнал. Прямо бугай, а не баба. Прямо-таки… Ох, не могу просто слово подобрать более или менее… А на другой день приходит на работу: «Свези в Степное, к родным». Я и повез по степу, так теперь пусть попомнит… Сижу теперь вот здесь, отдыхаю, а сам все думаю про тебя: как ты? Вот, думаю, как выйду, то ни словом, ни делом не доставлю ей неприятность. Вот я окончу здесь пребывать, тогда… Теперь нужно жить все с приятным, вот и ребеночка надо будет определять.
— Ой, правильно говоришь, — согласилась Катя. — Я после того вечера спать не могла, так ни одну ноченьку глаз не сомкнула. Лежу, а сна нету. Все чего-то сильно потею. Прям сил нету моих никаких. Да еще тебя нету. Все одно к одному. Сама не своя вот уж сколь дней.
— Ну, это мы изменим. Бросай работу, в декрет иди. Освобожусь — заживем мы с тобой по-человечески. Давно у мене такого не было.
— Да неудобно ведь, разговоры пойдут. И так все глядят на меня косо. Уж скрываю, скрываю…
— Не скрывай. Я тебе говорю. Святое мое слово. Чего там, ходи открыто, твердо по земле, пусть видят, пусть радуются, что мы им сына и гражданина подарим. Глаза поверх, поверх — от гордости! Чего там! Поняла меня?
— Да поняла. А все ж…
— К нам на базу иди учетчицей. Скажи: Гурьянов, мол, просил. Меня уважают начальственные люди. Еще как! Как узнают, так все по-другому будет. Это, мол, Гурьянов просил. — Юра встал и торопливо зашагал перед Катей. — Мы еще такой дом отгрохаем, всем на завидки. Вот только выйти отсюда спокойно. Как бы чего не приписали мне.
— Не беспокойся, не припишут. Видят же люди все. Уж ты тут спокойно-то веди себя, дорогой мой. Помни обо мне. Ведь я ж тебя люблю. Хоть думай об этом.
Гурьянов остановился напротив Кати, недоверчиво, виновато улыбнулся.
— Хы, меня-то? Святое слово? Меня-то, меня-то не за что, Катюшенька, любить, я вон какой… Да ты чего, Катюшечка, да ты это чего сказала? А? Чего? Да брось. Да я вон какой черный весь Мне милиционер говорит, что удивлен, как у мене могут быть дети. Поменьше я ж тебя, токо вот руки одне мои, землю могу перевернуть, дать мне любовь токо человеческую. Нет, меня не за что любить. Это я точно знаю. Ты? Меня? Да вот кто ж поверит, красавица ты моя нескончаемая? Катенька, кто? Да ты вон молодая.
— Я, я… Да уж береги себя, — сказала она ласково, глядя ему в глаза. Он сел рядышком, вскочил, снова сел. — Да я, грешным делом, думала: чего тебе ко мне приставать с детьми? У тебя трое, а у меня один. И то вилами еще на воде написано. Думала до сего дня. А как сказали в мастерской, что ты всю зиму спал в машине, так у меня сердце сжалось и думаю: на всю жизнь он мой. А ты уж береги себя.
— Куда я денусь? Святое слово. Куда? Такие люди, как я, если захотят, все равно не гибнут и никуда не денутся. Никакая анаконда не проглотит. Никуда. Вот мои руки, вот весь я, захочу, так я дыру в земле насквозь пророю. Хочешь? День и ночь буду рыть, почище крота. Нет, меня земля породила, не зря. За меня не беспокойся. А на автобазу сходи. Учетчица нужна нам. Вот и как раз. Сходи-сходи, Катюшечка! Ох, так ты меня расстроила, так расстроила. — Он отвернулся, вытер слезу.
Крикнули:
— Гурьянов! На место! Начальник идет!
Катя услышала милиционера, вскочила, чувствуя необходимость сказать что-то очень-очень важное, но это важное неожиданно вылетело из головы, и она судорожно пыталась вспомнить его, глядя на Юру растерянными глазами.
— А ну их! Подождут Гурьянова, никуда не денутся, — небрежно бросил он, поднимаясь в своих же глазах на недосягаемую высоту, сел на штабелек, забросил нога на ногу и длинно цвиркнул сквозь зубы. — А ты, между прочим, знаешь, как зовут олененка маленького?.. Неблюй! Смешно, а? Как станет если тебе невмоготу, вспомни сразу — Неблюй! Это такой манюсенький олененок после месяца рождения. Запомни: Неблюй. Ах ты, черт, а назвали же как! Вот люди, ну, придумают!
— Ой, Юра, иди-иди. Ой, нельзя с ими шутить. Ты чего смеешься? — испугалась Катя. — Храбрый какой! Иди-иди, сам ты Неблюй. А я в отпуск уйду. А потом попробую к вам учетчицей.
— Гурьянов! Гражданин Гурьянов! — крикнули опять, на этот раз построже.
Он обхватил ее, что-то прошептал, но Катя волновалась и не расслышала, в ней, в груди, так сжалось, что она чуть не упала, у нее было такое состояние, как будто она видела его в последний раз. По дороге домой, немного успокоившись, Катя все гадала, что Юра сказал, ведь это было так важно. Недалеко от дома остановилась, вспомнила все, все, до мельчайшей подробности восстановила сказанное им во время встречи и нашла его последние слова:
— Катюшечка, береги ребенка. А меня не люби, я во́ какой, в отделении сижу.
* * *
Катя знала теперь, что нужно делать. Вернулась на работу, написала заявление об отпуске, а когда Моргунчук по своему обыкновению бросил заявление обратно, объяснив, что сейчас он в запаре, сейчас невероятно сложно, так не было сложно даже во время войны, сложно на базе, а следовательно, уж и во всем мире и подавно, она пригрозила твердо, что вообще уйдет и с человеком глупым работать не будет, так как он не подозревает о существовании простых советских законов.
В отпуск она ушла. Правда, Моргунчук подписал заявление и тут сказал, что сам не был в отпуске пять лет, сейчас же напишет заявление об уходе вообще и пусть овощная база, благодаря которой держится Котелинский район, а может быть, и вообще вся республика Российская, летит в тартарары. Под конец Моргунчук снял с себя фуражку, сильно ею ударил о землю. Катя посмотрела на Моргунчука, на его фуражку и направилась домой.
А через неделю Катя договорилась на автобазе о том, что через месяц выйдет на работу. При всем том она чувствовала, что именно так и надо поступать. От своих определенных, твердых поступков ей стало лучше.
Дома Катя объявила об отпуске, впервые перестала скрывать свою беременность. Дядя Ваня смолчал, сильно недоумевая, и на ее живот глядел точно на невзорвавшуюся бомбу — с ужасом и растерянностью. Катя с этих минут перестала прятаться, ходить стала осторожнее, останавливалась, когда слышала, как изнутри пребольно бьется в живот ребенок — то ли ручками, то ли ножками. Порою на месте удара у нее появлялись синяки. Она с ласковой осторожностью дотрагивалась до синяка и нежно говорила:
— Дурачок ты мой! Кого же ты бьешь, миленький? Маму свою.
И ласковое, большое это слово трогало ее до слез, заставляло вспоминать детство. Детским воспоминаниям Катя зачастую отдавалась целиком. Теперь у нее было свободное время, не работала, подолгу можно было предаваться мыслям о детстве, о будущем своего ребенка, привыкая к нему, еще не появившемуся на белый свет, но уже ставшему частью ее жизни. Кончилось время, когда нужно было платком затягивать набухающий живот, можно не торопиться, ходить медленно, ступать по земле свободно, дышать полной грудью и не ожидать, немея при мысли, что вот-вот тебе при людях станет нехорошо.
Во дворе немного подсохло, местами пробилась зеленая травка и буйно вытягивалась вверх; Кате, ходившей в последнее время босиком, приятно было ощущать подошвами колкое молодое травяное племя, валом лезшее из земли, копаться в грядках, высевать лук, укроп, горох, огурцы, рассаживать рассаду помидоров. По такой жизни Катя соскучилась и не предполагала, что можно, оказывается, жить в усладу себе — ходить, глядеть, думать, вспоминать и мечтать. Когда в универмаг направлялась Нинка Лыкова, тоже с большущим животом, необыкновенно раздобревшая, в широком, с бесконечными оборками платье, Катя закатывалась в смехе:
— Ой, угораздило! Три месяца прошло, а гляди, уж скоро родить. Неужто я такая страшная? А ведь она опосля понесла…
За несколько дней Катя управилась на огороде со всем, кроме картофеля, — нужно было выждать, чтобы подсохла земля. Дни стояли теплые, погожие, но на севере к вечеру всякий день всплывала по горизонту, точно корабль на море, лиловая длинная туча, опрокидывалась восточным распушенным концом, и Кате казалось, что слышит она далекие раскаты грома. В такие минуты словно тень проскальзывала по земле, становилось глухо и тихо, даже скворцы, испуганные необыкновенным явлением, переставали петь, тревожно возились молчаливые синички, жалобно попискивая. Тополь стоял, не шелохнувшись своими маленькими липкими листочками, горько пахло молодой зеленью. Но дождя не было еще несколько дней. Катя все поглядывала на крышу, которую пора было красить, с нее послезала вся краска. Катя приготовила краску и выбирала теперь время, решаясь и не решаясь, боязливо поглядывая на крышу. В самой Кате происходили какие-то перемены, и она это чувствовала, упругий живот, налитой до предела, не давал склоняться, и хотя Катя силу в себе чувствовала необыкновенную и в последнее время даже насморка не было, так она окрепла телом, все ж в животе будто сопротивлялись любым ее усилиям работать.
На Майские праздники на демонстрацию Катя не пошла, а раньше весенние праздники никогда не пропускала, нравилось ей идти в толпе, слышать музыку, видеть на трибунах знакомых.
В середине мая Катя все же собралась красить крышу. Вынесла во двор зеленую краску, щетку, поглядела на небо, вполовину с севера охваченное облаками, и услыхала голос Ивана Николаевича, с утра лежавшего на печи:
— Катерина!
— Ай! — Катя торопливо вошла в дом.
— Нагрей, Катерина, молока, у меня жар. — Дядя Ваня вздохнул так, как если бы собрался умирать.
Катя машинально приложила руку к своему лбу и почувствовала жар. Провела рукой по лбу — он был в росинках пота; она сразу ощутила росинки и на спине. Катя крикнула Татьяна Петровне, а сама присела, соображая, когда же простудилась. От мысли, что простудилась, закружилась голова. Зачем-то взяла щетку и полезла по лестнице на крышу. На третьей перекладине ойкнула от боли в животе, присела, стараясь выбрать удобное положение, провела осторожно по всей округлости живота, осторожно спустилась на землю. Прислушалась к себе — боль не появлялась. «Нужно посидеть», — решила Катя, но усидеть на месте не смогла, направилась к сараю, оглядываясь, ища, куда бы себя деть. Заглянула в сарай, повернула к дому. В сенях присела на лавку, блуждая взглядом по полу, боясь остановиться, сосредоточиться на себе, так как накатывалась изнутри на нее боль не боль, но зарождался в ней самой подспудно страх перед чем-то неотвратимым, и тут взгляд остановился на стремянке, ведущей на чердак. Катя ухватилась за нее, как тонущий за соломинку.
Дверца лаза откинулась легко, хотя и не открывалась уже года два. На чердаке, в полутьме, сразу стало легче, спокойнее. Она, присев подле лаза, отдышалась, оглядела заваленный хламом чердак: на проволоке висела старая одежда, фуфайки, истрепанные пальто, какие-то тряпки трудноопределимого назначения, длинными паутинами провисали истлевшие куски веревок.
В левом углу стоял стол. Как он сюда попал? Стол был высокий, застеленный почерневшей клеенкой. Справа громоздилась куча хлама из кусков досок, лопат, граблей, колес непонятного назначения, рассохшегося чана. Странно — Катя совсем не могла припомнить, видела ли она все это раньше, когда приходилось сюда забираться починить прохудившуюся крышу. Она попала сюда будто впервые, хотя помнила, что была здесь, и у нее сжималось сердце при виде вещей, которые в свое время интересовали отца, мать, нужны были им. Она не помнила ничего из находившегося здесь, словно впервые попала. Стало неловко в животе, и она, собираясь еще более внимательно разглядеть чердак, чтобы припомнить, была ли здесь, хотя точно помнит, что была, протиснулась к столу, присела рядом на какую-то дощечку. Маленькое грязное окошечко над столом еле пропускало свет, но Катя, присаживаясь от невольной тяжести в животе, успела все-таки заметить на столе какие-то предметы, окутанные толстым слоем пыли, — то ли алюминиевые миски, то ли казанки какие, — опять подумала, что не помнит ни стола, ни этих странных предметов, в своей непроницаемой задумчивости стоящих на столе.
Ей опять стало неспокойно. Все будто хорошо, до родов около месяца, но ей тревожно. Пытаясь понять свое состояние, определить, отчего же ей все-таки неспокойно, уловить какой-то момент, гладила себя по животу. Она не могла усидеть, став на четвереньки, пролезла под стол. «Неужели мама и папа еще этот стол затащили сюда? — подумала она, чувствуя, как ей неловко с согнутыми поневоле под столом ногами, как их скрючивало, сводило судорогами, присела, стараясь вытянуть ноги. — Смотри, сколько здесь всякого! А я и не видела. Так всю жизнь проживешь в доме, а что на чердаке, останется тебе неведомо».
Катя уже говорила шепотом, стараясь отвлечь себя, но боль, зародившаяся в пояснице, медленно заполняла живот выше, заполнив, подержалась с минуту, не резанув нигде своим острым лезвием, нехотя истаяла, словно просочилась куда-то. Но спустя минуту-другую опять появилась, как бы говоря: я здесь, я не дремлю. Катя осторожно легла на спину, положив голову на подножку стола, было неловко, особенно ногам, но все же стало будто легче, и она, боясь шелохнуться, чтобы не нарушить установившееся равновесие в теле, глядела, скосившись, по сторонам: вон в углу куча с хламом — торчат грабли, лопаты, черенки старые, потрескавшиеся, а вон плотно прикрытый пылью, испепеленный молью, кажется, полушубок то ли пальтишко, а рядом, кажется, платье то ли старые отцовские штаны. Скорее всего штаны. Отец, придя из воинской части, которая стояла на Чапаевской улице, снимал военную форму, считая себя в душе глубоко гражданским человеком, обряжался в рубашку, штаны, телогрейку, если была зима, и с видимым удовольствием ходил по дому, стучал молотком, вечно что-то строгал, пилил. А когда надоедала работа по дому, с ружьем уходил в степь, на охоту. А мама, мама-то все вертелась возле него, повторяя, какой муж нескладный в гражданском, что если бы она встретила его в гражданском, то никогда не вышла за него бы замуж, потому что в гражданском он похож на плохого колхозного бригадира…
Катя вспоминала, ощущая, как незаметно, исподволь возвращается боль первой, еще не очень сильной волною, как разливается ниже поясницы, и как, отхлынув от поясницы, плеснулась по животу, мелкими струйками докатилась до груди, а потом прочно установилась по всему животу, свела ноги судорогой, и вдруг потянуло изнутри живот вниз, словно желая оторвать его от Кати. Катя не выдержала, подвела ноги к себе, повернулась на бок, и боль прошла. Исчезла на минутку самую маленькую и снова заявила о себе, протягивая щупальцы во все стороны. Дышать стало труднее, Катя открыла рот, забирая побольше воздуху, слыша, как забилось ускоренно сердце.
«Что же это такое? — спрашивала она себя, переворачиваясь на другой бок, ища удобного положения, но боль прочно облегла ее со всех сторон, не истаивала. — Что же это такое? Ой, ведь совсем недавно было по-другому! Тут боль и тут, ой, как тянет! Что ж такое? — стонала она. — Еще этого не хватало. Надо вниз спуститься. Надо, а то и помереть можно».
Катя, сделав усилие, приподнялась на четвереньки, постояла немного, но поняв, что так нельзя стоять, оползла ножку стола, собираясь забиться куда-нибудь в угол, — может быть, легче станет. Она понимала, что находится в смешном положении — ползает вокруг ножки стола. Но в то же время не имела сил остановиться, унять мучительную боль. Катя несколько раз огибала на четвереньках ножку стола, устала, опять легла, поджала ноги, и боль отпустила ее. Пролежала так с полчаса, боясь шелохнуться, отдыхая и собираясь, как только станет возможным, спуститься с чердака. Там, в своей комнате, она быстрее найдет то положение, при котором ей будет не так больно, напрасно она забралась на чердак, здесь душно, пыльно, пахнет чем-то неприятным. Ее с самого начала, как только она залезла на чердак, стал преследовать запах жженой серы. Боль внизу пройдет. Но боль словно висела в ней, притаилась, выжидая, и Катя уж боялась, что она не пройдет совсем, ей будет вот так невыносимо больно долго, всегда. Она испугалась этого, застонала, желая побыстрее избавиться от боли, которая, вероятно, глядит своими воспаленными глазами на жертву, вот-вот бросится и вцепится смертельными когтями.
Так оно и случилось вскоре. Кольнуло под грудью, тут же откликнулось пониже, протянулось к пояснице острой, режущей струйкой и облило по всему низу живота жгучей болью, надрывно потянуло вниз, и она застонала, перепугавшись, прокусила до крови губы, сдавленно закричала:
— Мама! Мама… Мама-а!
На нее словно наползала какая-то горячая, жуткая волна, продиралась под кожей сквозь тело, прошлась по животу, стягивая все болевые жилки венцом вниз, и она поворачивалась, стремясь поскорее стряхнуть с себя эту боль, которая провинчивалась через все тело, не давая возможности вздохнуть полной грудью. Катя чувствовала, понимала, что задыхается, еще немного — и она не выдержит, умрет, желая уже этого, лишь бы избавиться от боли, неотвратимо, с неумолимостью сверхъестественного надвигающейся на нее.
— Ты гляди, ты гляди, — лихорадочно шептала она, и эти слова, вдруг обретшие реальность, торчком стояли у нее в голове, тоже мешая, помогая избавиться от боли — Умру! Нет. Неужели? Маленький, маленький, а что делает? Гляди, гляди, ах ты паразит, ах ты звереныш несмышленый! Ой!
«Он там, — мелькнуло у нее о Юре, — байки рассказывает про шаровары запорожские, а тут мучайся. Мама, мама, что же это такое? Мам-ма!» Катю свело судорогой, она хотела выпрямиться, потом подобрать ноги под себя, повернулась резко и почувствовала… ей стало легче. Катя повела глазами, повернула шею, вытягиваясь ею, — так было легче вдыхать. И услышала, как закричал ребенок. Она даже не поняла сразу, что закричал ребенок и легче стало оттого, удивленно повела глазами вниз, к ногам, слабо улыбнулась, все еще боясь пошевелиться, и отерла совсем мокрое лицо.
* * *
Первой крик услышала Татьяна Петровна, искавшая до этого Катю в доме, в сарае, на огороде, — пролил дождь и мог Катю намочить. Татьяна Петровна, в который раз пробегавшая через сени в дом, услыхала крик ребенка и перекрестилась:
— Свят-свят-свят!
Залезла на чердак. У нее тряслись руки и ноги. Как увидела она Катю в луже крови, все поняла, не помня себя, убедившись, что та жива, спустилась вниз.
Хорошо вода в казанке была горячая, и она тут же поставила еще, крикнув старику подложить в огонь дровишек, налила в тазик воды и полезла на чердак. Уронила тазик с лестницы, не держали от волнения слабые руки. Дважды старуха роняла тазик, расплескивая драгоценную горячую воду. Не с испугу руки тряслись, не такое приходилось видеть, а все происходило от торопливости. Поднявшись на чердак, Татьяна Петровна успокоилась окончательно, приговаривала:
— Куда ж тебя занесло, милушка? Чего ж тебя понесло, голубушка?
Конечно, вначале ребенок… Она укутала его, поглядывая на Катю, молчаливо, виновато улыбающуюся. Ребенок попищал-попищал и смолк, а старуха отложила дела и уставилась на него.
— Сколько времени, теть Таня? — спросила Катя, устремив глаза на окошечко.
— Да уж… Да вечер ить. Дожжик шпарит. А я-то убеспокоилась: куда, думаю, она ушла? Она, милушка, вон иде, девочку принесла нам в радость, людям в сладость. Ишь молчит, молчит, а хочешь, голубочек, кричи-кричи. Нехай старый дурак-то услышит да попривыкнет. Синенький ребеночек больненько, ну, да ничего такого, бывают и такие, а живут потом припеваючи сто лет и не жалубятся.
Катя расслабленно махнула, приподнялась. Татьяна Петровна помогла ей, шепча заклинания, которые должны избавить Катю от болезней и осложнений. Катя молча глядела на старушку, не испытывая той радости, которая должна прийти, как она думала, когда появится на свет ребенок.
Катя помогла старухе спуститься, отдала ей закутанного в пеленки ребенка, достала из сундука давно припасенные распашонки, пеленки…
Весь вечер с этого момента они не приседали ни на минуту. Иван Николаевич демонстративно не слазил с печи, считая, что кончилось для него блаженное время. Впервые пришло ему в голову за столько лет жизни у Кати, что если оттеснят его на второй план, придется простить сыновей и вернуться к ним.
ГЛАВА XVIII
К полуночи Катя с Татьяной Петровной сильно притомились, еле на ногах стояли. Старуха совсем выбилась из сил, села на табуретку, тупо глядя на Катю, не могла и руки поднять, так все ныло в теле от усталости.
— Моя Оленька помене росточком вышла, а вот уж покрупнее, — сказала она, ласковая и бессильная от забот, но довольная, с тем легким, труднообъяснимым чувством, когда усталость потопила человека, а ему все же эта усталость в радость.
— А кормить, ой, не надо? — тревожно поглядела Катя на кровать, где, завернутый в пеленки и одеяло, лежал ребенок.
— Кормить-то сразу ни в коем, погодить трошки, пусть ее голодочком протянет, пусть потянется да покричит, уж кричать-то полезно, надо. А вот ноготки что недоросшие, так это к болезням, злые недруги своими ноготками так и цепляют болезни, так и вешают, тут уж гляд да гляд за ней насторожить. А вот моя Оленька… Мать ее не знала, куда девать, то ли отдать кому, то ли в детдом спихнуть. Ну, думаю, уходит ребеночка, ой, уходит. И взяла. Я ее с пипеточки кормить кормила. Так она у меня ни в разу, маленькая, не простуженная. Где-то она?
— Ой, теть Таня, подрастет, мать настоящую найдет.
— Так уж если, — согласилась старуха, вытирая слезы. — Да уж подрастет, тогда и поумнеет.
— А то, — Катя уверенно и быстро согласилась.
— Мать — она все одно как едино пупком с ребенком увязана. Вот я зубами как наловчилась, приохотливо делаю дело это больное. Сколько так делано в жизни, в ней ко всему приучаешься, а особливо когда что на добро все. Було так, что вскорости опосля войны забегаю к Матрене Столбовой, а она благим ревет матом — родила, а отцепиться нету сил никаких, а все ж наружу торчит, кровь хлещет. «Дура, говорю, ребенка — ладно, еще народишь, а ить себе погубишь, грызть надо, коли само не вышло, не брезгуй таким делом». — «Не могу-у!» — кричит. «Как же, говорю, не можешь, коли жить хочешь?!» — «Хочу-у!» — кричит. «Ну, коли хочешь, учись, гляди, как люди грызут». Отгрызла.
Катя прибрала в сундук лишнее и принялась мыть пол. Иногда у нее в животе появлялись боли, она останавливалась передохнуть и снова принималась за уборку. Устав так, что дрожали руки, вытерла взопревший лоб.
— Юра через три дня придет, а то я б оставила, — оправдывалась она. — А дядь Ваня небось спит?
— Чего ему станет, спит старый. Ему одно — спать. Не шибко в ём любви к ребенку. Он и сам как ребенок — то подай, это сделай, то поднеси, одне капризы. А в дождь ить спиться, дай бог времени только. Слышь, барабанит? Как зарядил в полдень, так не остановится к утру.
— Теть Таня, может, дать грудь? — спросила Катя, не слушая ворчание старухи, занятая своими мыслями, тем, как придет Юра, и как ему объявят о ребенке, и как он, конечно, будет несказанно рад. Желаемое чувство встречи подгоняло ее, торопливо, она только изредка бросала взгляды на ребенка, досадуя и волнуясь, что тот не кричит, не просит грудь, но и радуясь: ребенок у нее не крикун.
— Катюша, первое молоко дурное. Сцеди его в стаканчик, да поставь, да потом плесни в окно, а уж далее гляди, как попросит — не морить, справно кормить, береги от простуды пуще глаза своего — мой тебе совет. Сырости, как цыпленок, боится. Так ну а он, ребеночек, все одно что цыпленочек. Ишь, дождь-то принарядился шпарить, мог бы и подождать.
Катя отерла мокрый лоб плечом, вымыла руки и стала сцеживать молоко в стакан.
— Чуть оставь, жалко добро-то, — сказала старуха, зевая и охая. — Грудь у тебя — вон молоко-то струит как. Уж я-то жалею — опосля войны не родила еще. Вот жалость. Совестливо було, думала, мужика нету, убило в самом начале войны, в первые самые дни не уберегся, бог знает что подумают. А нянчила бы нынче внучонка, вот радость-то светила мне. Совестно было. А тогда я с силой была, могла и принести ребеночка. Как назовешь?
— Ой, не знаю! Ой, Юра придет, подскажет, поди, у его на имена прямо страсть, он такие знает — не выговоришь, — отвечала Катя, то и дело подбегая поглядеть на ребеночка. — Спи-ит, глазки закрытые. Ой, носик морщинится, ой, скукосилась как! Личико, личико скукосила! Спать я у стеночки положу, а уж сама с краю, пока кроватки нету.
Катя ходила по комнате, усталая, но довольная, в груди радостно тукало сердце. Усталость растекалась по всем, казалось, ее жилкам, но спать не хотелось. Горели щеки, предплечья рук. Боль в животе не отпускала, ломило в бедрах, но радость не оставляла ее, потому что все уже позади — вот радость, на кровати. И Катя уже ревновала девочку. К кому только? Не важно. Когда Татьяна Петровна говорила что-нибудь ласковое о своей Оле, то в Кате медленно поднималось недовольство, и она, сжав искусанные губы, молчала, затаивала обиду. В ней просыпалась ревнивая мать-кормилица, та, которая не отпустит ребенка ни на шаг от себя, будет вместе с ним плакать и радоваться, до конца своих дней не сможет надышаться на него. В этом нарождающемся исступлении было что-то древнее, временами это отталкивало кажущимся язычеством, но вместе с тем в нем преобладало неиссякаемое, словно родник, чувство, наполненное любовью, чувство, которое никогда не сможет породить вражду, ненависть.
Катя от жизни ничего не хотела, кроме добра. В повседневных своих неудачах сохранив нежную любовь к ней, а теперь благодарила ее за случившееся. Она ходила по комнате с мокрым полотенцем, как бы раздумывая, что ж делать, остановилась в углу, отвернулась от Татьяны Петровны. Кофта была мокрая от постоянно сочившегося молока. Обтерла мокрым полотенцем грудь, надела другую кофту и села на кровать. Рядом присела сонная старушка, только по привычке любопытствуя. Но грудь ребенок не брал, сколько Катя ему ни давала. Он слабо ворочался, морщил личико, не открывая глаз, испускал при этом какие-то странные звуки, пузырил нос и рот. Катю забавляло вначале это, потом испугало. Когда ей показалось, что он взял сосок, успокоилась. Она слегка надавливала на грудь, чтобы ребенку легче было сосать, но вскоре убедилась, что ребенок грудь не сосет. Она растерянно оглянулась на Татьяну Петровну.
— Маненький, — сказала сонно старуха, прикрывая ладошкой рот. — Вот моя Оленька…
— Ой, перестаньте вы со своей Оленькой, надоело! Сколько можно! — с досадой проговорила Катя. — Чего ж она, теть Таня? А? Не берет.
— Намочилась, чай. Перепеленай пеленки сухие, их у печи я угрею. — Старуха прихватила сухие пеленки и ушла к печи, расстелила на теплой печке, села рядом, насильно открыв глаза, боясь, что заснет и свалится с табуретки.
Она услышала, как вскрикнула Катя, и, оставив пеленки, направилась поглядеть. Катя развернула ребенка и, зажав рот рукою, в ужасе глядела на него.
Старушка подошла, глянула и сразу все поняла.
— Господи, синюшняя какая-то… Оё-ёй! Беги, Катюша, в больницу.
— Поздно, теть Таня, там никого нету.
— Уж беги, миленькая, скорей. Не ждать-то надо, а бежать со всех ног. Знаешь, где больница? От центральной площади к церкви — это на Чкалове улице. Беги, миленькая, не теряй времечко, не теряй. Час потеряешь — жизнь проплачешь.
— Теть Таня, а может, понесем?
— Так ить загубим-то! Гляди, погубим. Тьфу, тьфу, типун мене на язык! Беги, миленькая. Так и так, скажи, раньше-то времени, мол, на свету божьем появилась. Оне добрые, в горе грех не помочь. Приведи скорей врача, а я укутаю потеплее ребеночка.
— Ой, теть Таня, боюсь! — Катя бросилась одеваться, оглядываясь. Она никак не могла попасть в рукава плаща, схватила зонт и, почувствовав, как от волнения у нее заболело в животе, выбежала из дому.
Дождь лил густой, с нахлестом; железная крыша дома гудела от напора. Временами дождь шквалом обрушивался на город, и тогда все меркло вокруг и тонуло в густом шуме. Ноги Катины разъезжались, вода потоком стремилась по улице, волоча щепки, хворост, прихваченные во дворе.
Фонари не горели на Северной улице, и Катя торопилась в полной темноте, то и дело натыкаясь на заборы. Не прошла она и полпути, как выбилась из сил. Боковой ветер завернул зонт, и она оказалась под дождем, теперь зонт скорее мешал, чем помогал. Катя на минуту останавливалась передохнуть, чтобы унять страшно колотившееся сердце. В голове то ли от шума дождя, то ли от чего другого ломило так, что она не выдержала, присела на корточки, глубоко задышала, чтобы унять боль. Через минуту снова бежала, хватая открытым ртом воздух.
На центральной площади Котелина горели, к удивлению, фонари, вокруг них повисли туманно-белые шары дождя, но света от фонарей на самой площади не было. Возле райкома горели еще гирлянды майской иллюминации; весь фасад старого купеческого здания был усеян разноцветными лампочками, и от их великого множества было, пожалуй, несколько светло, видны были, во всяком случае, против них сильные, косые струи дождя. Как только Катя увидела наяву дождь, сразу же почувствовала, как вымокла и как дождь хлещет по ее разгоряченному спешкой телу.
«Где же улица Чкалова? Слева от райкома. Ага, напротив церкви. Никогда не приходилось бывать в детской больнице. Вот церковь помню, там еще рядом есть высокая колокольня со сброшенным с нее колоколом, который надвое раскололся при падении, — сбросили, говорят, еще в двадцатом году». Катя свернула влево, в темную, совершенно невидимую улицу, часто усаженную тополями. Старые тополя росли здесь давно, сколько помнила Катя. Деревья глухо гудели под дождем, судорожно, боясь уронить свое достоинство, проседали вниз ветки, задевая друг о дружку. Дождь совершенно смыл липкие, горькие тополиные запахи.
«Только бы побыстрее, найти улицу», — думала Катя. Но как раз оттого, что торопилась, спешила, больницу сразу и не нашла, а пробежала до конца улицы, пристально всматриваясь в немые тени домов, сумрачно насупившиеся под проливным дождем. Улица внезапно кончилась. Катя растерянно оглянулась. В ней медленно зарождался испуг: а вдруг не найдет? Что тогда? Испуг подхлестывал, и она со знобящим ужасом до боли всматривалась в незнакомые дома, готовая в каждую минуту расплакаться. Но найти в такой дождь ночью неосвещенное здание больницы оказалось не так-то просто, пришлось вернуться к центральной площади, снова направиться по улице, наугад свернуть в первый переулок направо. Переулок она не увидела, но, споткнувшись о бровку мощенной гравием тропы переулка, нащупала ногой (туфли она потеряла еще на своей улице) бровку и свернула. К великой радости, выбрела к церкви, а потом уж ей ничего не стоило найти больницу, которая была совсем недалеко, буквально в ста метрах. Катя постучалась, ей тут же отворили. Врачу, к которому привела отворившая дверь няня, Катя все рассказала, рассказала, правда, сбивчиво, горя нетерпением тут же увести его к больному ребенку.
Высокий, невероятно худой врач с продолговатым, бледным, костистым лицом и заспанными глазами, еще очень молодой, терпеливо и внимательно выслушал рассказ, посмотрел на ее босые грязные ноги и произнес всего одно слово:
— Бывает.
Врач вышел, долго не появлялся, а вернувшись, просто и спокойно сказал, вновь глянув на ее босые ноги:
— Машина вернется через несколько минут. Подождем.
— Ага, — согласилась Катя и тоже заметила, что босиком, туфель на ногах нет; с нее текло в три ручья, а вокруг грязные следы — наследила она. То, что врач говорил спокойно, серьезно, успокаивало, более того — ей теперь виделось в спокойствии врача спасение, душа сразу поверила в самый лучший исход: она придет, а девочка, ее маленький ребеночек, улыбается, просит есть.
— Дома лучше не рожать. Обыкновенно сейчас рожают в больнице, — сказал врач уверенно. Но странно — Кате казалось, эта уверенность врача происходила не из утверждения сказанного, а из безразличия к происходящему. Казалось, врач говорит совсем не о том, что думает, говорит по необходимости сказать по данному случаю несколько слов, а в голове у него абсолютно другие мысли, не имеющие никакого отношения к происходящему. И это было правдой: врач находился под впечатлением прочитанного романа.
— Но я родила раньше срока, — ответила Катя, поглядывая на лужу, растекающуюся под нею. Ей стало неловко, и она вышла в коридор, постояла возле двери. До чего в больнице было тихо, тепло, приятно, обнадеживающе пахло лекарствами!
«Не тепло укутали девочку, — подумала Катя, а через минуту окончательно уверилась, что девочка посинела, заболев, только потому, что не закутали как следует в теплое, не согрели вовремя; в чистоте, теплоте больницы Катя видела единственное спасение ребенка. — Отдам, пусть полежит в больнице. И я полежу».
Катя присела на стул, наслаждаясь покоем, теплом. Посидела так совсем немного. Ей стало тревожно, и она заглянула в кабинет к врачу.
— Скоро? — чуть слышно спросила она.
— Я же по-русски сказал: через пятнадцать минут, — невозмутимо отвечал врач, не отрываясь от книги, боясь прервать цепь событий, развивающихся в романе.
— Ну, так я думала… — проговорила Катя и притворила дверь.
Но оттого, что врач проговорил невозмутимо, спокойно, как, видно, всем говорил до нее, — с той невозмутимостью, которую скорее назовешь равнодушием, — Кате стало неспокойно, она растерянно оглянулась и направилась к выходной двери. «Он же маленький, ведь каждая минута дорога, — думала она, выглядывая на улицу. Дождь с шумом хлестал по деревьям, земле, больнице и по церкви напротив. — Льет-то как! Он, маленький, ждет». Катя собралась было бежать домой, теперь дорогу знает, дойдет быстро, но сообразила, что в такую непогоду «Скорая помощь» вряд ли найдет ее дом. Катя представила испуганное лицо Татьяны Петровны, беспомощное, худенькое тельце ребенка, и сильная боль резанула по сердцу: терять нельзя ни минутки, нужно торопиться, все кончится плохо. Она растерянно оглянулась, как бы ища поддержку, сочувствующий взгляд, и, оставив дверь открытой, шагнула за порог. Вон церковь стоит. Церковь стоит, а дождь ее хлещет. И Катя словно нашла спасение, кинулась к церкви, шепча по пути горячие благодарственные слова. Казалось, за огромным зданием прячется кто-то сильный, могущий ей помочь, достаточно лишь у него хорошо, нежно попросить. Но кто он такой? Она не знала. Ей было все равно. Она упала на мокрые ступени перед дверью, давно заколоченной толстыми гвоздями, по которым с равнодушием хлестал дождь.
— Господи, если ты есть… Господи, я тебя умоляю, сохрани ты ее! Я буду тебе свечки ставить, молить за других тебя, любить. Господи, ты же видел, какой он синенький, мой ребеночек маленький. Умереть может!.. — исступленно проговорила Катя. Произнесенные слова довели ее за минуту до полного изнеможения. — Ой! — с ужасом воскликнула она, вспомнив свои слова о смерти, удивляясь простоте их, вскочила, как ужаленная, кинулась в больницу, прокричала невозмутимому доктору свой адрес. Ее трясло, словно в лихорадке. Она поверила своим словам, что ребеночек, ее ребеночек, может умереть. И побежала домой. «Господи, — шептала она, — я буду любить тебя. Помоги, если сможешь, если ты есть. Господи!.. Помоги, господи!..»
* * *
«Скорая помощь» стояла у двора, насторожив в непогоду красные огоньки. Катя облегченно вздохнула, обрадовавшись, что «скорая» прибыла раньше ее. Шофер сидел в светлой кабине, читал газету. Его нельзя было хорошо рассмотреть из-за потоков воды, стекающей по стеклу кабины, но видно было, что он спокойно читает, совсем не волнуется, и это как нельзя еще больше успокоило Катю. Она пересекла двор по дорожке, взбежала на крыльцо и дернула набухшую водою дверь, приостановилась в сенях, ожидая услышать крик ребенка, но было страшно тихо, только слышалось, как с яростным остервенением полощет дождь крышу.
Врач стоял возле стола, на котором на расстеленных пеленках лежал голенький ребеночек. Татьяна Петровна с заплаканными глазами стояла рядом и держалась рукою за грудь. Увидев Катю, она неловко ступила к ней бочком, не сдержалась и крепко обхватила ее:
— Мила-ая моя Катенька-а…
У Кати подкосились ноги. Она все поняла, но не настолько, чтобы поверить в смерть ребенка, удивляясь, что ребеночек лежит на столе голенький: простудится. Она пыталась отстранить старуху, выглядывала из-за нее на стол, на врача, молча, серьезно, видать, будучи не впервые свидетелем вот таких сцен, невозмутимо, как и в больнице, смотрящего вбок. Он как бы терпеливо ждал, когда же, наплакавшись, успокоятся люди.
Наконец Кате удалось освободиться от причитающей, вцепившейся крепко в нее старухи, и она, подойдя к столу, сразу все поняла, поняла, что произошло ужасное, невозможное, то, что не должно было произойти. Но все же ее не покидала надежда. Отчаянная надежда держала ее, и она с мольбой и ужасом глядела на врача, ожидая от него каких-то решительных шагов, которые дадут опору ее надеждам. Она глядела неподвижно на врача, но врач ничего не предпринимал, он невозмутимо, словно читал по-прежнему роман, смотрел вбок, потом перевел взгляд на ребенка. Он ничего не предпринимал, будто был обыкновенный человек, не могущий помочь.
— Доктор, спасите… Ой, доктор! Я вас просила… — Она хотела укором вернуть доктора к действию, ее все еще не покидала надежда. Она ведь знала, какой был тогда спокойный доктор, как он внимательно читал книгу, и если бы не потерянные минуты, кто знает, ребеночек был бы спасен. И вот Катя стремилась укором заставить доктора предпринять то, что может сделать только он, — помочь.
— Обыкновенно следует рожать в больнице, в родильном отделении, — ответил медленно, раздельно врач, стремясь строгим тоном успокоить женщину.
— Ка-атенька-а, да ты ж моя родненькая! — причитала старуха, вновь бросаясь к ней. — Да померла деточка наша-а… маленька-а-а!
Катя плохо видела от слез, судорожно вытягивая шею, глядела на стол, но никого не видела и, бессильная, опустилась на кровать. Обида неслышно заполняла ее, подогревая в ней злость на доктора. Столько было мук, страданий, столько за последнее время пришлось пережить! Во что превратились ее горе, страдания? В бессилие. Видать, горькая судьбина стерегла ее. Она никого не винила, но ведь не бывает такого, чтобы все были бессильны! Кто-то же может ей помочь? Но вот и врач стоит, опустив лицо, глядит из-под себя и думает строгим взглядом успокоить. Она считала все время, что врач не просто смотрит, а думает о чем-то важном, о том, как лучше и быстрее спасти ее дочь.
— Вы еще сможете определенно иметь детей. — Это сказал врач. И это теперь услышала Катя. Но не такие слова она хотела слышать. Катя, обхватив голову, повалилась на постель в рыдании, мокрая, съежившаяся и совсем одинокая в своем горе.
— Неужели нельзя, неужели нельзя помочь? — повторяла она, готовая сделать что угодно, лишь бы врач помог, готовая унизиться перед ним. На все, на все она была способна.
— Катенька-а, миленька-а… — повторяла старуха, останавливалась подле стола, некоторое время глядела на сморщенное, некрасивое личико ребенка, так и не успевшего ни разу в жизни улыбнуться, с каким-то скорбным, нечеловеческим выражением обиды на лице. Ребенок, который так и не узнал матери в этой жизни, будто укорял людей, весь белый свет за то, что ему не дали пожить на земле, пожить человеком среди людей. Как только старуха мысленно доходила до того, что ребенок родился, но за свою короткую жизнь ни разу не улыбнулся, не узнал мать и теперь никогда не узнает, какая она у него чудесная-то, с ужасом вскрикивала: — Ка-атенька-а! Катенька-а! Госпо-оди-и, и за что, за что ты ее? Да я ж молила тебя, госпо-оди-и!
— Никому, к сожалению, не удавалось остановить смерть, — сказал врач, порылся в сумке, достал какие-то бумаги и, сев за стол, аккуратно разложил их, снова вздохнул и начал писать.
Вокруг стола, а значит, и вокруг врача, ходила, причитала старушка. Он не слушал ее, но ему было неприятно от слез и причитаний женщин, и он недовольно морщился, записывал не то, что надобно, ошибался и никак не мог настроиться на спокойное, столь необходимое для работы, неторопливое течение мысли. Он очень ошибался, полагая, что его присутствие успокаивает женщин. Присутствие его, наоборот, обостряло боль. Врач, который обязан прийти вовремя, чтобы избавить ребенка от смерти, сидит мирно, тихо, с невероятным спокойствием записывает что-то в тетрадь. Она бежала, торопилась, не подозревая, что было поздно. Судьба уже распорядилась. Катя видела в этом великую обиду, жестокость, которую ничем нельзя оправдать.
Катя приподняла с подушки лицо. Врач сидел. Старуха принесла икону из другой комнаты, поставила на комод и, шепча молитву, перекрестилась. Катя глядела на врача, но в первую минуту не видела его; ей казалось странным, что он, живой, протянув ноги, сидит, склонившись над столом, на котором лежит незавернутое тельце ребенка, и спокойно пишет. Но вот Катя, как сквозь туман, увидела его, с кощунственным спокойствием сидящего за столом. Врач был так же невозмутим, как и в тот час, когда она просила в больнице о помощи. Но если тогда умное, сосредоточенное выражение лица вызывало в ней уверенность в благополучном исходе, то сейчас она видела в этом жестокость, основную причину, приведшую к смерти ребенка. Катя с минуту глядела на него широко открытыми глазами, полными ужаса от внезапно пришедшей мысли, что перед ней — истинный виновник смерти. Он сидит спокойно за столом и записывает что-то. Ему смерть будто была нужна. На лице его сейчас Катя прочитала удовлетворение случившимся. Если смерть после первого душевного надрыва, безотчетной скорби наводит человека на печальные размышления о жизни вообще и своей в частности, то невинная, внезапная смерть поражает человека сильнее и глубже, и рана от случившегося долго не заживает, порою всю жизнь, и на предполагаемого виновника смерти переносится весь праведный гнев, который порою способна вызвать смерть.
— Он сидит, — тихо прошептала Катя, не отрываясь глазами от врача.
— Я сейчас уйду, — отвечал врач машинально, дописывая что-то в тетрадку. И то, что он отвечал спокойно, так же как тогда, в больнице, когда читал книгу, резануло ее так же остро, как и в больнице.
— Вы виноваты. Ой, вы, вы, вы! — медленно проговорила она, привставая.
Врач невозмутимо продолжал свое дело, кончил писать, аккуратно сложил бумаги в портфель, ручку в карман, с секунду подумал: а не забыл ли чего?
— Вы, вы, вы… убили-и!
Старуха, стоявшая перед иконой и отвешивающая поклоны, услышав Катины обвинения, решила, что на Катю напал бес, та спятила с ума, схватила икону и кинулась к Кате. Врач тем временем, испугавшись, несмотря на свою невозмутимость, попятился к двери, не сводя по-прежнему умных, внимательных глаз с женщины. Татьяна Петровна протянула руки с иконой, шепча молитву, призывая ангела-хранителя снизойти на Катю. Катя увидела икону, вспомнила, как она вымаливала на паперти перед церковью спасение своему ребенку, как плакала и унижалась, и в ней яростно застучало желание отомстить тому, кто не внял ее мольбам. Она тут же схватила икону и с отчаяньем бросила об пол. Старая икона разбилась со страшным грохотом.
— Просила-а… Я его просила-а… Ой, я ж молилась, теть Таня… Просила-а я его, так просила-а… Ой, не захотел спасти! Так будь же ты трижды проклят! Сгори ты огнем! Пламенем изойди! Будь прокля-ат! — Катя еще успела босыми ногами с остервенением броситься на разбившуюся икону.
Старуха повалилась на Пол, прикрыла икону, загораживая от Катиных ног, с ужасом простирая к Кате руки.
Но Катя с новой силой зарыдала, повторяя:
— Я просила-а!.. Просила-а!.. — Она опять увидела себя возле церкви под дождем, и слезы с новой силой хлынули из глаз.
ГЛАВА XIX
Гурьянов остановился возле универмага, долго глядел отсюда на Катин дом, затем обошел универмаг несколько раз, возвращаясь к прежней своей мысли, которая преследовала его вот уже несколько дней: ему не нравилась своя жизнь, он испытывал к ней отвращение. Гурьянов обдумывал ее тщательно и находил свою вину во всех бедах, обрушившихся на Катю, на свою семью, на него самого, наконец. Кругом, куда ни кинь, виноват он один. Неудавшаяся жизнь с первой женой, которую он вздумал пожалеть, обернулась трагедией для Кати. Его желание поухаживать за Катей обернулось тем, что он полюбил ее, а любовь его — вон что! Хуже не придумаешь. Нет, недаром его Машка обвиняла во всем, даже в том, что он решил пожалеть и взять ее с ребенком. Пожалел! О случившемся с Катей Гурьянов узнал от милиционера. Этот добрый милиционер потом отпустил его во двор развеять тоску, а Гурьянов взял и ушел на целый день. К Кате прийти побоялся, а бродил по степи без толку целый день, ничего не выбродил, но схлопотал еще пятнадцать суток. Какой он подлец, этот Гурьянов! Кругом одни беды от него, подвел милиционера, себя, в тяжелые дни оставил Катю на произвол судьбы. Нет, такое не прощается. «В чем же дело? — спрашивал себя Гурьянов. — Хочу сделать добро, выходит одно худо». Очень не нравилась ему своя жизнь. «Пить не шибко пью. Курю… Но эта привычка еще с войны, да и все люди курили, вон Тарас Бульба из-за своей паршивой трубки погиб… Нету жизни! Уходить надо в потусторонний мир, но как уйдешь? Ведь не умрешь же так, посреди бела дня. Не хочешь, а жить надо, так устроен человек, что живет вот отпущенное, а дальше… не ясно, что дальше. Жизнь идет, шагает… Скучно тебе, горько, тяжело, невмоготу даже если, но все равно живешь… Эх, как она устроена, дали тебе ее, чтоб прожил по-человечески, начертил кто-то тебе белую линию, а вот иди по ней не сворачивая, ибо справа грязь, ноги замажешь, слева — то же самое, а вот иди, стремись по линии белой, дошел — что-то тебе на том конце люди скажут? Что скажут, если не сорвался, прошел чисто, хорошо? Ясно, что скажут, не плохое уж во всяком случае».
Гурьянов поглядел на Катин двор. Возле калитки стояла Катя в белой кофточке, черной юбке, а перед ней низенькая, очень плотненькая женщина в мужской рубашке с засученными рукавами. Катя, сложив руки на груди, слушала, а низенькая женщина что-то говорила.
Гурьянов сторонкой прокрался ко двору, перелез через забор, притаился за сараем так, чтобы его не было видно.
— Допустим, я нашла себе мужа, — говорила твердым голосом женщина, торопливо вытащила из сумки пачку сигарет, закурила, поглядела, зажмурившись, на солнце и продолжала: — Жизнь такова. Я начинаю все заново. Рву старые связи. Все заново. Все абсолютно! Ольга у мамаши. Она меня похоронила, но зато я не похоронила себя. А это главное. Я с этим не посчитаюсь. Интересное дело — она на меня обижается, как будто я не человек и застрахована от слабостей. Допустим, она безграмотная, недалекая, но все же прощать людям разве нельзя? Она меня, допустим, похоронила, хуже не придумаешь. Но я забыла не потому, что мне Ольгу девать некуда, она большая девочка, самостоятельная, но, допустим, по другим причинам. Ольга пусть у мамаши…
— Пусть, — перебила ее Катя, оглянулась, и Гурьянов, выглядывавший из-за сарая, увидел бледное ее, такое родное лицо, что у него дыхание перехватило.
— Допустим, я иногда буду наезжать, но вы не возражайте. У меня будут свои интересы, — продолжала напористо женщина. — Я его теперь уже по-настоящему люблю. Я не ошибаюсь Я знаю мужчин хорошо. Он грамотный, инженер по авиационной части. Серьезный. А это главное. Ему сорок пять лет. Но не подумайте, он не был женат. Мы с ним обо всем договорились: как, что, чего. Все точно, определенно расставим по своим местам, и жизнь пойдет ладно и порядочно. Я уверена. Мы обо всем договорились. Что он принесет в нашу квартиру, что я, как будем жить, питаться, что покупать. Я все продумала на все случаи жизни. Я начинаю заново.
— Как ее начать, жизнь-то? Она ведь не начинается, продолжается ведь. Заново ребенок начинает, а мы уже продолжаем с вами, — вздохнула Катя.
— Ольга, иди попрощайся с мамой! — крикнула властно женщина.
Из дома вышли старуха и девочка. Увидев возле сарая Гурьянова, старуха перекрестилась, присматриваясь к нему, а узнав, покачала головой и улыбнулась.
— Здравствуй, добрый человек.
— Здравствуйте.
Девочка простилась с женщиной. Женщина сухо попрощалась со всеми и ушла, гордо неся свое короткое, полное тело.
Юра молча присел на траву возле сарая. И весь этот день он молчал. Катя говорила, а он молчал. Катя, чувствуя, как проклевывается сквозь недавно перенесенное горе желание говорить, рассказала ему все, а он слушал, молча принимал ее боль, молча сокрушался. В его молчании было что-то неловкое. Но что — никто не мог понять. Говорить в Котелине все умели, а молчать — никто. А вот Гурьянов умел. Вечером Катя вместе с ним сходила на работу к Деряблову, а оттуда по дороге домой ему сказала:
— Ой, Юра, не знаю почему, а уезжай на полгода. Надо так.
Гурьянов молча согласился: раз надо, то надо. Он готов был сегодня уехать, зная, что ей будет от этого хорошо. Он и сам понимал, что нужно уехать, обдумать свое житье-бытье, привести в порядок мысли, чувства. Катя его поняла, и он Катю понял. И был благодарен ей за это.
* * *
Катя вышла на работу в автомастерскую через день после появления Гурьянова, как и договорилась раньше. До обеда сидела на работе. К обеденному перерыву к ней приходила Оля, и они направлялись обедать домой. Часа за два до конца рабочего дня опять на работу заявлялась Оля и не отставала от нее ни на шаг. После работы отправлялись вместе к Деряблову, кормили его кур, овец, козу. По дороге домой на центральной площади каждый раз встречали приехавшего на каникулы из Москвы Гаршикова. Он заговаривал о всяких пустяках:
— Видишь, Катя, я в настоящее время поглощен идеей всеобщей цельности. У простого атома есть ядро, электроны. Мы, люди, отличаемся, разумеется, отличаемся, но и мы состоим из атомов, ядер, электронов, мельчайших частиц. В самой мельчайшей частице мы увидим, что я и дерево, предположим, и вот этот камень похожи друг на друга, как близнецы. Объединение всеобщее человека и материального мира — в этом глобальность разума человеческого. Я бросил филологический факультет, перешел на химический. Здесь — будущее, больше нигде ничего серьезного не сделаешь.
Он долго рассуждал о всеобщем единении живого и неживого, о человеке, о космосе, о московской жизни, недалеко от Катиного дома прощался.
Однажды, попрощавшись с Гаршиковым и уже войдя во двор, она услышала шум, доносившийся со степи. Катя бросилась со двора, за ней Оля.
По степи один за другим торопились тракторы. Их было пять. Они тянули плуги. А за ними оставалась длинная полоса черной земли, готовой принять зерно.
Катя, замерев, глядела на черные полосы, протянувшиеся по степи, и подумала: «Вот начинается новая жизнь для степи. И для меня тоже».
1976
ДОМ НА СЕВЕРНОЙ
Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
С. ЕсенинI
Во дворе дяди Антона напротив небольшого дома, покрытого камышом, стоял длинный саманный сарай; левый угол его отводился летом под кухню и кладовую. В этом сарае, у печи, стоял на коленях дядя и, пузыря толстые щеки, дул что есть мочи на угли. В печи дымило, трещало, дядя кашлял и чертыхался, протирая слезящиеся глаза, но дрова не загорались.
— Здравствуйте, — сказал Мирошин, опуская портфель на чистый земляной пол.
— А? Чего? — спросил дядя Антон, собираясь оглянуться, все еще не отрываясь от печи, потом, словно рак, попятился на карачках, оглянулся и громко чихнул: — Р-раз! Ядрен твою в дышло! Два! Разрази тебя гром! — поднялся, глядя на Мирошина, не узнавая его, вытер мокрый лоб рукавом и подошел. Глаза у него сузились, налились слезами и все еще, видимо, не видели; он часто моргал, приходя в себя.
— Я — Сергей Мирошин.
— Фу-ты, черт косолапый, Маруськин сын? Здоров! Я думал, эт кто другой. Садись с дороги. Лизка! — закричал неожиданно громко он. — Лизка! Ты чего, оглохла? Иде ты там? Лизка! Я нанимался тебе кричать? Лизка-а!
Так и не дождавшись ответа, дядя сердито стащил с себя телогрейку, сунул ноги в калоши и, пригибаясь под тяжестью своего огромного массивного тела, заторопился в дом.
Спустя час они сидели втроем за столом, а дядя, раздевшись до майки, из которой выпирало полное, удивительно белое тело, много ел, громко, смачно облизывал масленые пальцы и спрашивал:
— Так чего говоришь? Кто, значит? Журнилист? Добро. В люди, значит, прешь. Добро. Лизка! — неожиданно закричал он маленькой, тихой, молчаливо суетящейся старушке с больным, бледненьким личиком. — Иде капуста?! А что, Серега, — тихо спросил дядя, — ты вот что там на своем месте делаешь? Ну вот это, то есть на службе? А?
— Пишу статьи.
— Пишешь?
— Пишу.
— Добра служба?
— Мне нравится.
— Ага! — как-то злорадствуя, с вызовом проговорил дядя и даже привстал и, не сводя прищуренных, презрительных глаз с жены, продолжал: — Я что говорил? Сказал, будет вместе с «самым», и сделал. Сказал, добьется верхов, сдела-ал! Сказал «пробьюсь», и сделал — вот за это, Серега, гордость моя за тебя и любовь дядькина. Уважа-аю! Хочешь, пир закачу на всю деревню, чтоб все ахнули? У меня все есть: сметана — во! Лизка, тащи ведро сметаны! Ставь на стол! Торопко в магазин — три «белоголовки»! Мне ничего не жалко для него. Ни-че-го!
— Спасибо тебе, дядя Антон, но лучше не надо, — ответил Мирошин, добродушно усмехаясь, и посмотрел на тетю Лизу.
Дядя еще долго говорил, а Мирошину стало тоскливо: он почувствовал в себе усталость. В доме пахло уксусом и чем-то прогорклым, и, хотя они выпили, ему все равно был неприятен этот устоявшийся запах, и Мирошин молча глядел на маленькие окна, шторы из грубого тюля, икону в углу, давно засиженную мухами, и желал одного — поскорее выйти на улицу. Казалось, что Сергей никогда не расставался с дядей, каждый день видел этот вот дом, стол со сметаной, желтым свиным, еще прошлогодним салом, картошку в алюминиевых мисках, капусту. Ему не хотелось больше ни о чем расспрашивать дядю…
Но дядя вскоре потащил племянника к соседям, и Мирошин молча сидел у соседей за столом, на котором стояло такое же сало, капуста, отказывался от водки, а дядя напускал на себя таинственность, подмигивал хозяину и, многозначительно понизив голос, говорил:
— Сам кумекай. Да чего ему водка! Коньяки да эти, которые заграничные, пьют в Москве.
— Да не могу я весь день пить! — злился Мирошин и энергично отставлял стакан, а дядя тут же подвигал обратно.
— Как метро? — спросил сосед. — Не ломается? Вот в войну, бают, там только сидели да поплевывали. Правильно это? Наверху бомбеж — ушам больно! А они сидели и поплевывали. Правильно это?
— Метро стоит, — отвечал Сергей, улыбаясь.
Но как только соседи заводили разговор о работе, дядя вставал и неподдельно, искренне глядел влюбленно на племянника и говорил:
— Журнилист он!
Сергей знал наверняка, что дядя и понятия не имел о его работе, а возможно, впервые в жизни видел живого журналиста. Но дядя объяснял людям, что племянник пишет большие статьи, имеет влияние и стал большущим человеком.
Дядя чуть ли не силой потащил его еще к кому-то, потом еще… И везде одно и то же. Мирошин перестал выпивать, сердясь и считая свой приезд окончательно, пропащим, и проклинал втайне дядю: с таким благоговением ехал в свою деревню, где родился, рос, где у него похоронен дедушка, а тут — водка, глупые, ненужные разговоры и всюду дядя со своим громыхающим голосом, хвастовством, со своими толстыми, красными руками. От этих невеселых мыслей у Мирошина даже хмель вышибло из головы, и спать он спешил совершенно трезвый, стараясь не глядеть на дядю, на низко нависшее над землей солнце, готовый хоть сегодня уехать в Омск.
— Хочешь к Алексеевым? — спросил дядя, остановившись напротив небольшого домика со ставнями, из трубы которого ленточкой вился дымок, и, хитро подмигнув, толкнул калитку. На них с хриплым лаем бросился лохматый пес. Дядя замахнулся рукой, и тот, взвизгнув, опрометью кинулся прочь.
Прошли сени, какой-то темный закуток, открыли дверь в комнату. Здесь горел свет, кто-то тихо говорил, пахло горелым хлебом и дымом.
Возле печи, нагнувшись, спиной к вошедшим стояла женщина и мешала в кастрюле; на кровати, удивленно уставившись на них, сидели две девочки лет пяти — семи.
— Здоров, — сказал дядя и подтолкнул Сергея.
— Здравствуйте, — ответила женщина, поворачиваясь к ним, поправляя растрепавшиеся волосы и зажимая в зубах то ли спичку, то ли шпильку — Сергей не разобрал в полутемноте. Он сразу узнал Зину.
— Здравствуйте, — тихо, так тихо, что не услышал своего голоса, проговорил он, все еще не решаясь отойти от двери и чувствуя, как пересохло во рту. «Может быть, это не она, — подумал он, глядя на ее полную фигуру, белое бледное лицо, глаза никак не мог разглядеть. — Возможно, не она?»
II
Сергей проснулся, оглядываясь, почувствовав во сне чье-то прикосновение. Но никого не было. Прямо на него уставилась, повиснув над деревней, белая полная луна, и отсюда, с сеновала, где он спал, укрывшись старым полушубком, она казалась совсем близкой. Сонный, мерцающий на шиферных крышах свет залил всю деревню, поля и околки; было так хорошо видно вокруг, что он даже различил дальний, еле видимый проселок, тянувшийся серой лентой среди местами скрадывающих его охристо поблескивающих полей. Зинин дом молча белел под луной, каждый колышек штакетника мерцал по-своему неярко, загадочно.
Сергей в последние два года все чаще представлял встречу с Зиной, встречу через столько лет, воспоминания, сближение, нечто удивительное, прежнее. И мучился, ожидая и боясь этой встречи. Невозможно же не почувствовать себя заново счастливым под этим небом, среди лесов тех же самых, среди… Но что же? Вместо прежней Зины увидел уже немолодую, некрасивую женщину, которую с трудом узнал. Эх, время…
Мирошин размечтался. Теперь, как ему казалось, можно довольно холодно смотреть на вещи, явления, размышлять, и нет для него и не будет загадок. Была молодость, красота, а теперь пришла зрелость, потом старость. Природа…
Мысли его текли ровно, неторопливо и чем-то ему самому нравились, нравились эти рассуждения, законченные в своей незыблемой простоте. И чем-то тревожили. Неужели человек, состарившись, покинет навсегда этот дом, землю и вместе со своими мыслями, чувствами исчезнет? Сотни, миллионы людей ходили, пили, ели, любили и ненавидели и — их уже нет? Неужели нет, хотя бы вот тех, которые жили совсем недавно — в прошлом веке? Миллионы людей! Красивые и безобразные, старые и молодые — никого нет. А ведь каждый человек вел себя так, будто ему дана вечность и он проживет по крайней мере миллион лет.
Мирошин, одевшись, спустился на землю. Остановился под тополем, росшим подле колодца, и посмотрел на луну. Тихо было. Лунный свет под тополем пятнами дрожал на земле и был охвачен каким-то торопливым, ознобистым дыханием, словно и его будоражили эти же неспокойные мысли.
Мирошин все думал. Временами ему казалось, что он видит и как будто чувствует одновременно вереницами проходящих перед ним людей прошлого века. Сергей глянул в колодец, дохнувший на него трухлявостью деревянного сруба, и решительно направился в лес.
Уже за деревней оглянулся на чьи-то шаги. Мирошин признал ее сразу и даже не удивился. Она шла торопливо. На голове черный платок, в руке поблескивало ведро. Увидев ее, Сергей словно встряхнулся. Вдруг услышал треск кузнечиков, поскрипывание дергача, и во весь голос совсем недалеко кричал перепел: чего тебе? чего тебе? Он поглядел удивленно на нее, недоумевая. Вот… повернется, исчезнет.
— Зина, ты? — спросил тихо он, останавливаясь.
— Будто не я, — торопливо ответила она, подходя и оглядываясь. — Боже мой, я не чаяла больше увидеть тебя… А я каждое лето с детьми сюда приезжаю… Я приезжаю. Все здесь… все…
— А я приехал вот… между прочим, из-за тебя, — сказал он и пожалел, чувствуя, как у него стало сухо во рту и как ему неловко, будто что-то мешает — стоять, говорить, смотреть. Ведь совсем недавно холодно, снисходя только к слабостям своих чувств, рассуждал о том, что она постарела, подурнела и вовсе не хотелось увидеть ее снова. И он тихо пошел, глядя перед собой.
— Сколько лет прошло, — сказала она, осторожно ступая по траве, забыв ведро, и по тому, как глядела перед собой, ноги ставила нарочито твердо, он понял — Зина плакала. — Сколько лет прошло. Вот как тебя забрали в армию…
Мирошин не знал, о чем говорить. В нем словно что-то зашевелилось, словно у него внутри медленно закипало, наверное, злость — не мог понять, глядел вокруг и видел все как-то необычайно остро, и не только каждую былинку под тяжеловатым лунным светом, но и, казалось, то, что под былинкой.
— Не знаю, — сказал досадно и сел подле одинокой березки, прислонясь спиной. — Не знаю. Хочешь знать, так знай: я тебя любил. Я тебя долго помнил… Но к чему это говорить? У тебя дети, у меня… дети, все так изменилось… Вон посмотри на меня, да и на себя тоже… Тогда ты не решилась, а теперь зачем жалеть? Прошлое ведь не воротишь, все дается раз… — Он равнодушно посмотрел на нее и снова почувствовал себя старым, у которого вся жизнь, по крайней мере большая ее часть, уже пролетела.
Луна стояла высоко в густом синем небе. От Зины падала на траву короткая широкая тень, и он подумал, что жизнь их стала на столько короче, на сколько вот эта тень короче Зины.
Она плакала. Ничего не говорила, а глядела на Сергея и не видела его от слез. Она не знала, что говорить, было больно и тяжело, и еще она была в таком сильном смятении от своих обнажившихся чувств, что просто голова шла кругом.
— Сережа, — сказала она. — Я тебя любила всегда. Ты не веришь? Всегда, Сережа…
Он встал, собираясь сказать, что если бы она его любила, то тогда, когда ему и ей было по восемнадцать, согласилась бы выйти за него замуж. Но он ничего не сказал.
Лунный свет падал на ее заплаканное лицо, на шею, плечи. Он взял ее за руку и посмотрел в глаза. Она давно сняла платок, и от распущенных, растрепанных волос, близкого, знакомого лица повеяло чем-то настолько родным, что Мирошин неожиданно смутился. Она обхватила его голову, прежде чем он успел что-либо сказать.
— Зина, не надо, — сказал он твердо, отстраняясь, повернулся и заспешил к дяде Антону, не оглядываясь. Он торопился. Она постояла на месте, все еще плача, и опустилась в траву.
III
Мирошин всю ночь не спал, снова перебирая в памяти случившееся. В нем накипало яростное желание уехать и больше сюда не возвращаться.
Утром спустился с сеновала, выпил большую кружку молока, ерзая под колючим прищуром дяди, съел пять яиц и отказался совсем от водки. Он настраивался уезжать.
— Ты вот мне скажи, — начал издалека дядя. — Вот ты, статься, статьи пишешь?
— Пишу.
— А вот как эт ты их выдумываешь, скажи? А? Вот, к примеру, моя Лизка, она, сколько ты ее ни проси, не напишет, а? Вот если, значит, насчет уборки настатейничать…
— Берем сам факт уборки. Привлекаем статистику, потом разбавляем немного лирикой, вставляем в рамку и — готово.
— И — готова! — Дядя даже привстал, вызывающе поглядел на жену. — А, Лизка! Поня-ла? Готова! Ядрен твою в дышло! Уважаю-ю. Уважаю-ю. Слышь, Лизка, уважаю. У нас вся такая порода — ум прет, девать некуда. Поняла, Лизка? Эт не у ваши-их, сморчков!
— Чего уж не понять, — вздохнув, отвечала тетя Лиза, жуя хлебную корочку. — Была б шея, а хомут найдется.
— А если, Серег, про меня?
— Так и напишем: Антон Алексеевич Жиздров рано утром вышел в поле. Роса еще не спала, солнце только окрасило в нежно-розовый цвет перистые облака, и он подумал: «Добрый будет день».
— Хе! — привстал дядя Антон. — Добро. Уважаю! А если я подумал не то, к примеру, мысли мои оборотились в другую сторону? Вот ты это написал, а, к примеру, я совсем иначе помышляю? А?
— То есть дождь идет?
— Да, надвигается дождить.
— Так и напишем: черные тучи обложили небо, накрапывал дождь, далекие сполохи бороздили горизонт, а Антон Алексеевич подумал: надо не терять время, готовить технику, чтобы потом… А вообще, дядя, я сегодня уезжаю. Приезжайте ко мне в Москву, поговорим и о моем деле, — неожиданно заключил Мирошин.
— Так то ж автобус обратно пойдет опосля обеда, — сказала тетя Лиза, ласково глядя на него. — Чего ж торопиться?
— Люблю мозговитых! — воскликнул дядя и налил племяннику стакан сметаны. — Пей-пей, не брезгуй. Уважаю я тебя. А, Лизка!
Потом Сергей сидел на завалинке на солнце, глядел себе под ноги и думал. Дядя мастерил грабли, снимая лыко с толстого ракитника, и все о чем-то говорил, время от времени обращая к Сергею свое широкое пунцовое лицо, удивительно молодое для его шестидесяти пяти лет, а Сергей думал о вчерашнем, думал и не мог теперь представить, чтобы он, Сергей, рассудительный, столько повидавший, мог так позорно убежать от женщины, которую любил. В самом деле, почему убежал? Она тогда пожелала, чтобы они поженились только после его прихода из армии. Но ему было всего восемнадцать. Он, конечно, обиделся, разозлился. Но никто ведь не просил его приезжать сюда, искать встречи.
«Надо поговорить с ней, — подумал он, волнуясь, и почувствовал, как сухо во рту и как неприятно от сухости в пальцах. По двору ходили белые жирные гуси с гусятами и гоготали, пощипывая траву, а на заборе сидел громадный медно-черный петух, косился на Сергея, всхлопывал крыльями и кукарекал. Петух поворачивал голову, и взблескивали на солнце его красные перья. Столько было самодовольства у петуха, что Сергей не выдержал его кукареканья, вскочил и замахнулся рукой. Петух недовольно вскрикнул, грузно, взъерошив перья, спрыгнул на улицу и тут же позвал кур. Что-то снова разозлило Сергея, он подбежал к забору и опять замахнулся. И в это время увидел — с ведрами к колодцу спешила Зина. Рядом с ней шла девочка в майке и трусиках. У Сергея сразу созрело решение.
— Дядя, — сказал он. — Дай мне ведра, воды принесу.
— Лизка! — крикнул дядя. — Воды принесла?
— Да ить у нас, поди, полные ведра, — ответила тетя Лиза, появляясь в дверях с шапкой в руках, в которой попискивали недавно вылупившиеся цыплята. Сергей заскочил в сени, выхватил с лавки полные ведра и, не найдя куда вылить воду, плеснул под забор.
Зина у колодца, нагнувшись, сердито выговаривала девочке. Заметив Сергея, засуетилась, боязливо оглядываясь, подхватила пустые ведра и заторопилась обратно.
IV
В Москву Сергей прилетел на следующий день вечером. В жаркие июльские вечера в столице уютно, кажется, что город — большая квартира и чужие люди будто все твои знакомые, желание и заботы их — тоже тебе известны и близки. И если ты москвич, тебе все понятно и доступно.
Дома никого не было. На кухонном столе нашел записку от жены: с сыном и матерью уехала на дачу и приедет только через неделю. Сергей наскоро съел банку шпрот и вышел на балкон. Солнце еще не село, прячась где-то за домами; окна верхних этажей истекали багрянистым отблеском зари; на тротуарах, тополях и липах, на прохожих и автомобилях, изредка проносящихся по улице, лежал красноватый полусвет от окон.
«Она убежала от меня, — думал он, язвительно усмехаясь и с каким-то непростительным благодушием глядя на прохожих. — Она от меня, дурака, убежала».
На следующий день Сергей к девяти пришел к себе на работу, молча поздоровался со всеми в редакции, сел на свое место у раскрытого окна.
Его любили на работе, как любят всегда человека за дело, не просто за то, что ты улыбаешься всем и в общем хороший малый, а товарищ, никогда не подводивший, на которого можно положиться, которому доверяет начальство. Сергей материал давал быстро и именно тот, необходимый позарез в данный момент, в данном, как говорил главный редактор Николай Николаевич Медьялоков, большой любитель шахмат, миттельшпиле.
Он уже несколько лет собирался заняться серьезной литературой, писать художественные очерки о шоферах, их нравах, быте. Он любил запах машинных масел, запах промасленной одежды, любил наблюдать за работой шоферов и сам мечтал поработать шофером и сдал специально для этого на права шофера 3-го класса. Но вот уже столько лет это оставалось мечтой…
На следующий день Сергей принес главному редактору материал о рабочих Омского механического завода.
— Ну, что новенького в Сибири? — спросил главный, жестом приглашая сесть и поворачиваясь в кресле из стороны в сторону.
— Тепло в Сибири, — отвечал Мирошин, но не сел, тем самым давая понять, что не намерен долго задерживаться. — Хорошо. Воздух чист. Особенно в деревне.
— Возили обкомовские… или?..
— Нет, у меня там деревня, в которой родился. Заехал.
— Родились? Ну и как?
— Что как? — спросил в свою очередь Мирошин.
Главный, молодой мужчина, лет тридцати трех, низкого роста, с кривыми сильными ногами и узким, строгим лицом, считал себя большим знатоком человеческих душ и начинал всегда издалека, полагая, что индуктивный метод беседы открывает много неожиданного для руководителя. Он называл этот метод своим личным стилем и был очень горд таким открытием.
Главный сделал вид, что поглощен читкой принесенного материала, быстро скользя взглядом по исписанным страницам, хмыкал, качая головой. Несколько абзацев действительно прочитал, с тем чтобы специально сделать по ходу замечания.
— Вот здесь усилить: о значении работы в сложных климатических условиях — акцент! — Он пометил жирно красным. — А вот здесь — конкретизировать. Машин — а сколько? Работают — а их потенция на поле? А вообще — отлично. Рад. Поздравляю.
— А теперь отпустите меня на недельку, на время, которое я должен был использовать для этой статьи.
— Хорошо. Отлично, — раздумывал главный, делая паузы. — Отлично. Когда вы написали очерк? Еще в Омске?
— Да нет. Вчера на работе. И вечером. Дома.
— Хорошо, отлично, — сказал главный, пристально поглядывая на Мирошина. — Хорошо. Но вот к нам поступил тут один матерьялец с места, короче говоря, оттуда, тоже из Омска, — почему я сразу о тебе подумал, — с того же завода. Посмотрите. — Он быстро протянул несколько листков, исписанных мелким почерком, и выжидательно посмотрел на корреспондента. — Нужно обработать. Пишет рабкор.
— Не возьму. Я не рабочая лошадка, на которой можно без конца ездить. Каждый месяц я обрабатываю по три-четыре вот таких опуса, с позволения сказать. Но вы знаете, лучше написать еще одну статью, чем обработать вот это… Есть другие, кто может, а не только я…
— Но интересы… авторитет. Рабкор пишет.
— До свидания, Николай Николаевич.
Главный хотел было возразить, но Мирошин уже вышел, и слышно было, как торопливо направился к лифту.
В последние дни после приезда из командировки Мирошина словно подменили. Вечно куда-то спешил, брался за какое-нибудь дело и, не доведя его до конца, тут же принимался за другое. Начал несколько статей, очерков и наконец, все забросив, пошел посидеть на суде, где слушалось дело о мелком хулиганстве. Судили маленького человечка, обреченно глядевшего в зал, за побои, нанесенные жене. Тут же сидела и жена подсудимого, полнотелая женщина, с широким белым и чистым лицом, округлыми сильными руками, кротко глядела в зал с видом пострадавшей. Но в ее взгляде проскальзывало что-то знакомое Мирошину. Только потом он понял, что точно так же на него порою — с укором пострадавшей — смотрела жена.
«И странно, — думал он, сидя в загородной электричке и направляясь на дачу. — Кругом творятся такие чудеса, летают на Луну, собираются на Марс, люди прилагают гигантские усилия, чтобы осуществить пересадку сердца, создают искусственные условия для жизни мозга, борются против рака и тысячи других смертельных недугов, а тут же рядом с больницей Склифосовского, где спасают умирающих людей и работают тысячи сложнейших механизмов, умнейших и самоотверженнейших людей, идет суд, судят ничтожных людишек. Странно».
Сергей сошел за одну остановку до своей и направился пешком через лес. Солнце, наливаясь блеклой розоватостью, коснулось верхушек сосен; воздух погустел, и терпко запахло смолой и ландышем; налетавшись за день, наевшись мошек, сонно и сыто попискивали зяблики, пеночки. Он остановился, оглядываясь, и подумал, что совсем недавно где-то — то ли в Бардино, то ли уже в Москве — почувствовал ландышевый запах, сильный и тонкий запах. Где же? Мысленно перебрал всех знакомых, с которыми встречался. Нет, не мог вспомнить.
Жена со своей матерью сидели под яблоней на раскладушке и, лениво отмахиваясь от комаров, говорили вполголоса о знакомых.
— Быстро что-то ты, — лениво сказала жена и поднялась. Она была в шортах, босиком, и ее несколько рыхловатое белое тело уже приятно покрылось легким загаром.
— Сделал дело — гуляй смело, — ответил наигранно весело он и сел на раскладушку. — Я в своей деревне был. Как вы тут без меня отдыхали?
— Ни-че-го, — сказала жена, растягивая слова и поворачиваясь перед ним, показывая, как она загорела. — От-ды-ха-ли! Еще на юг на месяц — совсем отлично! А вы?
— Работал как белый раб. Максимка спит?
— Макс отдыхает, товарищ Серж, — ответила жена, смеясь, и направилась на веранду за вишнями.
Сергей переоделся, открыл гараж, где стоял старый, неработающий «Москвич», и улыбнулся, почувствовав запах масла. Нет, недаром же все его родные братья — шоферы, а их четверо, и ему, видимо, надо было стать шофером, а не журналистом. Расстелил старый полушубок под машину и лег…
Он долго лежал не шевелясь, слыша, как рядом с гаражом, устроившись на сосне, жалобно попискивает пеночка-теньковка, как низом тянет сквознячком и, качаясь, шелестят от него сухие травинки, вызванивая своими тонкими стебельками тоскливую песенку, и в его душе будто что-то сдвинулось, тронулось; ему самому стало тоскливо.
— Се-ерж! — позвала жена, села на корточки рядом с машиной.
— Ты вот что, дорогая, зови меня не по-французски, а по-русски, — ответил помедлив он.
— Это почему же?
— Все потому же. Мне кое-что надоело.
— Мне ничуть не меньше надоело. Я верчусь целый день с ребенком, а между прочим, у меня работа посложней, чем у тебя.
— Вот и ешь свою работу с перчиком. Кто тебе не дает.
— С тобой говорить… — рассердилась жена.
— С тобой тоже. Никто тебя не заставляет брать отпуск за свой счет и прозябать на даче.
— Знаешь… — жена повернулась и, напружинив свои полные загорелые ноги, быстро пошла прочь.
Сколько он помнит, у них всегда были вот такие недомолвки. Жена работала инженером и не без особой гордости говорила, что у них в КБ всего два оклада по сто девяносто рублей и один из них принадлежит ей. В ее словах всегда был скрыт многозначительный намек на его меньший оклад. Она любила повторять: «Я сама сделала себе сто девяносто». Эти «сто девяносто» набили ему оскомину: они звучали как присказка к любому разговору.
Когда стемнело, он уехал в город. Дома сидел на балконе и смотрел на небо, а в голове роились мысли, подгоняя одна другую, торопясь, но и не мешая друг другу, и в их торопливости, скоротечности, будто отрешенности от него, Мирошина, он с тоской улавливал горькую суетность, так похожую на роящийся в небе звездный свет.
Он лег поздно. А утром разбудила его жена.
— Приветик. — Она обеспокоенно оглядела обе комнаты и, улыбаясь, подошла к нему: — Ты чего?
— Ничего.
Она внимательно посмотрела на него:
— Ты знаешь, Сережа, я думаю, а не съездить ли мне на юг? Ты как думаешь?
— Возьми Максимку и поезжай.
— Я хотела тебе еще вчера сказать, но ты такой был злой. Что случилось?
— Ничего.
— Я поеду одна, устроюсь, а потом мама приедет с Максимом. Ты смотри, сколько у нас пыли. Ты туфли не снимал?
— Снимал.
— Ты смотри, сервант прямо запылился… туалетный столик. Не включай телевизор, у него предохранители перегорели. Поедем в Крым. А смотри, на трюмо — слой пыли. Туда поедут многие из нашего КБ. Скучно не будет. Ты знаешь, я в спортлото опять ничего не сорвала. У нас на работе Вегин пять цифр угадал.
Жена играла в спортлото давно. У нее был свой метод игры. Когда кто-нибудь выигрывал, она в следующий раз зачеркивала именно те цифры, на которые пал выигрыш. Пока что метод не принес успеха. Но она с упорством одержимого продолжала придерживаться своей системы, считая, что, чем дальше, тем вероятность выигрыша больше.
— Нет, — сказала уверенно она. — Надо сыграть глобально, чтобы «Жигули» купить.
— У нас есть машина. Лишняя вещь — это, как сказал один умный человек, лишняя мозоль на ноге: мешает идти, — ответил, зевая, Мирошин.
— Много ты понимаешь, Серж. Толстой был графом и глобальным писателем, и больше никто, кто не был графом и не был богат, не стал и не станет глобальным писателем. Богат — это вещи, это много вещей, а в век научной резолюции стыдно не иметь предметы удобства. Значит…
— Тоскливо, Светлана.
— Ах, тебе тоскливо, а мне? Ты думаешь только о себе, у меня жизнь не такая великолепная, как ты думаешь.
— Ничего я не думаю. — Он вышел на балкон. Здесь пахло чем-то знакомым, и он явственно ощутил тонкий, словно лезвие, запах ландыша. И Мирошин отчетливо вспомнил: той ночью, когда Зина его догнала, от нее пахло ландышем. Он прикрыл за собой балконную дверь и сел. И впервые после приезда он не стал отвлекаться от воспоминаний… «Я тебя всегда любила…»
V
Все эти дни стояла жара; в редакциях и отделах царило уныние, тоскливое ожидание конца рабочего дня. Главный даже не поглядел на Мирошина, вялым жестом пригласил сесть, а сам, подставив лицо вентилятору, сидел, полузакрыв глаза, наслаждаясь потоком прохладного воздуха.
Мирошин постоял и нерешительно вышел. Зачем зашел? Домой не хотелось, и он медленно, выйдя на Тверской бульвар, направился вниз.
Через три дня снова появился на работе и попросил у главного редактора командировку в Омск.
Главный внимательно, изучающе посмотрел на него и почесал за ухом.
— В Омск?
— Да.
— Вы неделю назад, насколько я помню, приехали… Да, кстати, если уж надумали ехать, мы никак не можем выполнить план по командировкам… Зайдите, кстати, относительно этих злосчастных писем. Вы, я думаю, собираете матерьялец? Так что поздравляю. Через неделю полетите. Да, туда сейчас летают Ту-154. Комфорт.
VI
Мирошин не через неделю, а через месяц с лишком летел в Омск. Рядом с ним сидела девушка и, положив на розовые коленки тонкопалые сухие руки, с каким-то стоическим напряжением глядела перед собой. Он торопился. Ему хотелось сейчас же встретиться с Зиной, обо всем поговорить и решить что-то очень важное для него. В этом нетерпеливом ожидании он находился все последнее время. Все дела отошли на второй план. Неужели она по-прежнему его любит и любила всегда? Что же тогда им помешало, им, здравым, умным людям? Что?
Мирошин поглядел на девушку, сидящую все в той же позе, — на ее небольшое, бледное тонкое личико, закушенные губы, нервные прищуренные глаза Что-то в ее лице было знакомое.
— Вы в Омск.? — спросил он, чуть наклонившись вперед.
Девушка кивнула, мельком бросив на него испуганный взгляд, и тут же приняла прежнюю позу — напряженно-выжидательную.
— И я вот, — продолжал он глухо, глядя на свои ноги, — я вот тоже туда. Хороший город?
Девушка кивнула, потом встала, собираясь выйти, но подумала и села. Мирошин снова поглядел на девушку и пожал плечами.
— А вы знаете, между прочим, я из Омской области. Там я прожил восемнадцать лет. И вот уже…
Он поглядел на нее, она — на него и кивнула, никак при этом не выдавая своего отношения к сказанному.
— Вот, понимаете, я не знаю, как вас звать, между прочим, может быть, это и не нужно, но понимаете, вот живут два человека, и они, вам это покажется, вероятно, странным, без ума друг от друга; один предлагает, как говорили раньше, руку и сердце, а она говорит, что, мол, давай подождем, когда ты придешь из армии, и все в общем такое… Понимаете? Понимаете, девушка милая, что творится? Раз они любят друг друга, значит, они жен и мужей никогда и не любили, А?
Девушка молча глядела на него, но не отвечала, кивнула ему и отвернулась, уставясь в иллюминатор. Самолет ровно гудел, подергиваясь, и чуть подрагивали его крылья, и, наверное, от его гуда тоже вокруг него там, за стенкой, подрагивал воздух, подрагивало далеко окрест, и даже на земле, возможно, дрожали листья на деревьях, вода в реках и озерах, и только привыкшие ко всему люди торопились по своим дорогам, тропкам, мельком взглянув на самолет.
— Вы меня извините за назойливость, — продолжал Сергей, повернувшись к ней. — Но меня мучает всегда одно. Вот говоришь со знакомым, говоришь ему о самом близком, дорогом, а он смотрит на тебя и думает бог весть о чем. Человек же не должен пропускать ни одного слова другого человека, такого же, как ты. Слушать, решать, принимать участие. А у нас чем дальше, тем больше немых. Правда же? Нет, меня просто покоряют слова Уолта Уитмена: «Первый встречный, если ты захотел поговорить со мной, почему бы и мне не поговорить с тобой». Правда, здорово? Понимаете? Столько искренности, столько неподдельного участия в других…
Когда Мирошин на аэродроме сходил по трапу, к нему подошел мужчина в красном берете и тихо укоризненно проговорил:
— Молодой человек, а не симпатично глухонемых обижать.
— Каких глухонемых? — удивился Мирошин, останавливаясь.
— А вот что давеча вы распинались перед ей, перед девушкой.
— А… а… — испуганно ответил он.
Сошел Сергей с автобуса возле гостиницы, быстро все уладил и торопливо направился к Иртышу. Тих был осенний уже город, ласковое вызревшее солнце вызолотило воду и опавшую листву.
Мирошин направился в ресторан пообедать. Глядел из окна ресторана на реку, на ее медленную текучую воду, на ракитник в воде — ближе к тому, дальнему берегу — и ничего вокруг не видел. В ресторане народу было мало. И тишина располагала к раздумьям. Он вспомнил немую девушку в самолете, ее жалостливую улыбку и вздрогнул. Потом подумал: «А не все ли равно?» Ведь и жене и многим другим, с абсолютным слухом и отлично поставленным голосом, он говорил то же самое. Но что же?..
VII
Дядя Антон, если у него, случалось, разбаливался живот и он слышал в нем утробное бормотание, клокотание, исцелялся своим испытанным способом: выпивал два кувшина молока, забирался на сеновал и там на сене укладывался спать животом вниз. В животе трещало, бурчало и попискивало, а он спал, и ему всегда снилось одно и то же — будто едет на телеге, запряженной волами, лежит на самой макушке груженной сеном телеги, а под ним трещит сухое сено с дальней делянки, и он видел в это время огромное белое поле зрелой пшеницы, а на поле стоял высокий человек с распущенными волосами…
В этот день живот заболел неожиданно, к вечеру стало невтерпеж, и он полез на сеновал, ощущая, как плещется в животе выпитое молоко, как прогибается под ним обтрухлявевшая лестница, и тут дядя уловил краем уха шум автомобиля и почему-то немедля стал спускаться на землю. В груди у него что-то екнуло, он словно догадался, что машина едет к нему.
И точно, машина (такси) остановилась возле их двора, из нее вылез Сергей с огромным желтым портфелем, в серой куртке, каких не носят в Бардино, и заспешил к дяде.
— Здравствуйте, — сказал он, заметив дядю, так и не спустившегося еще с лестницы. — Вот снова приехал.
— Здоров, Серега, здоров, — ответил дядя. В это время у него с животе так свело, что он, крякнув, присел, чувствуя, как от напряжения загорячились глаза и заболело в затылке. — Здорово. Не ожидал тебя. Здорово…
— Что с тобой, дядя Антон?
— Э, не говори. Проклятущий живот. Уродился я с таким животом. Лизка! Гостюшка родного примай. — Он выпрямился, но, не доходя до завалинки, ойкнул и снова схватился за живот.
Появилась тетя Лиза, заохала, засуетилась, провела Сергея в дом, нажарила яичницы с салом и усадила есть. Сергей вяло ел, слыша, как дядя ругает свой живот, жену, сыновей, никогда не приезжающих к нему из города, ругал и погоду, хотя погода стояла отменная, ругал петуха своего, вздумавшего вдруг закукарекать прямо у него под ухом, ругал и гусака, и дом свой старенький, а когда устал от этого и почувствовал, что может разогнуться, полез, кряхтя и постанывая, на сеновал. Через минуту заснул крепким сном, могуче похрапывая.
Тетя Лиза, охая и причитая, уговаривала Сергея отдохнуть, но он заспешил на улицу. Вот тот низенький дом — крыша под шифером, выкрашенные в синий цвет ставенки, вон тот сарайчик, где спала в молодости Зина и куда приходилось тайно пробираться ночами, и он ощутил запах прелой соломы, терпковатый запах мокрой гнилой картошки, которую Куля, Зинина бабушка, сушила в этом сарайчике. Он навсегда сохранил ощущение прикосновения к ее шее, щекам и рукам… Он сохранил их в себе необъяснимо почему. И странно, новые ощущения не смогли заглушить первоначальные, и он вновь и вновь возвращался к ним, заново переживая.
Сергей направился на кладбище. Постоял на старенькой, провалившейся могилке дедушки, поглядел на уже заматерелую березу, посаженную год спусти после смерти дедушки, потрогал подгнившую снизу оградку.
Сергей вернулся к дяде, прихватил лопату и решил подправить могилку дедушки, направляясь обратно нарочно мимо Зининого дома. Дверь в сени была закрыта, ставни тоже. Но все-таки показалось: кто-то из-за закрытых ставен наблюдает за ним. За околицей его догнал дядя и до кладбища шел молча, сопя и иногда останавливаясь послушать, а не заболел ли живот.
— Это ты молодец, надумал, — сказал он, перепрыгивая кладбищенскую канаву. — Почитать надо усопших. Басковый был ли, нет ли, а все ж человек помер. Почитать его надо хуть мертвого, раз некогда о живом подумать. Правильно говорю?
— Конечно, дядя.
— Эт я тебе в назидание баю. — Дядя остановился подле провалившейся могилки, оглядываясь, потом посмотрел на полыхавшую зарю и сказал: — Вот я знаю, это могилка Житнякова Митяя — вот гляди, какая могилка. А ты знаешь, эт самый его-то внук, Иван-то, своему отцу, сыну вот этого, в земле что лежит, голову разбил амбарным замком. Сукин сын! Яблоко от яблони недалеко падает. По-чи-та-ние — вот что. Сын о своем отце не думает, глотку зальет — и дурак дураком. Вот семья-то. Вот я вон нашему отцу, твоему деду Алексею, каждый год поправляю оградку. Готовлю новую, железную, чтоб надолго.
— Правильно, дядя, — сказал Сергей. — Уважай сам, уважат тебя.
— Уважут, Серега, меня уважут все.
— Тебя будут уважать. Тебя боятся. Ты вон какой здоровый.
— Это правда, сила в мене есть, Серега.
— Есть! — подтвердил Сергей, подравнивая могилку. — Есть. У тебя сила есть.
Дядя глядел, как Сергей подравнивает могилку, изредка выдергивал сухую травинку, потом сказал сокрушенно, тяжело дыша при этом:
— Все будем там. Эт мы знаем. От нас никуда не деется такое дело вечное. Так ведь?
— Так, дядя.
— Эт ты говоришь верно. Вот шестьдесят пять лет протекло словно один день. Особливо опосля войны. Как один день. Тридцать лет пролетело, а где времечко? Нет времечки. Сгинем, и черви нас пожрут. Вот! Да я ни за что не дамся этим гадам ползучим. Ни за что! Но где время взять, чтоб еще хуть столько прожить?
Дядя топнул ногой, точно спрашивал у земли, и, сердясь, сел на траву и огляделся.
— Скажи, дядь, Алексеевы дома?, — спросил Сергей и тоже присел, ожидая ответа.
— Эт какую ты спрашиваешь? Зинку-то? Зинка-то, она ж подалась, значит в город. С детенками. Спустя неделю как ты уехал. Бросила, значит, все, дом, значит, даже не заперла, стерва, и уехала. Мать ее-то померла, бабка туда же, дом, думаю, на заколоте, братьев ее понесло за длинными рублями. Не знаю, картошку приедет ли копать. Чего не знаю, того не знаю. Чегой-то жила-жила, а тут опосля тебе взбрыкнула — и давай бог ноги! В одночасье съехала. Чего?..
— Уехала?
— Чертенок ее знает, чего понесло. Жила б себе… Наверное, муж запил. Гукают, бьет ее.
— Бьет?
— Ну а чего, ежели, к примеру, на бабу псих напал. Бьет, поди, раз нужно. Это делают. Ты ране с ей-то… а?
— Да.
Дядя чему-то засмеялся, забыв о больном животе.
А ночью Сергей не мог уснуть. Вышел во двор, потом на улицу, постоял возле колодца, глядя на спящую деревню, на полную луну, смотревшую на землю сквозь жиденькие облака. И направился к Зининому дому.
Калитка скрипнула робко и сиротливо, прислоненное к забору коромысло упало на землю. Открыл сарай, чиркнул спичкой. Кучей лежала вязанка хвороста, поленья, и пахло жженым — видимо, от закопченной железной печурки. Он глядел вокруг, будто старался что-то увидеть, будто что-то искал, потянул в себя затхлый воздух. Нет, пахло только жженым. Горелой пшеницей. И точно, на железной печурке увидел кучу обуглившейся пшеницы. Возле стояло ведро с водой. Он дотронулся до ведра и сел рядом, провел по холодному железу рукой, подумал, что, возможно, после Зины никто до него не дотрагивался.
Посидел, сжег все спички, удивляясь тому, что пришел сюда, сидит, будто чего-то ждет, и направился к выходу.
Не мог он себя понять, ласково глядя на дом, забор, сарайчик, баню… А ведь впервые ее поцеловал в бане. Он зашел, выждав, когда Зина окажется в бане одна, и обнял ее. Она в валенках, фуфайке и большой вязаной белой шали сидела на куче поленьев и дула в печь. Вскрикнула, потом быстро оглянулась, и он ее поцеловал. Она ничего не сказала, только закрыла лицо руками…
Мирошин всю ночь бродил вокруг деревни и лег спать, когда забрезжил рассвет, но так и не заснул.
Рано утром дядя в полушубке сидел на завалинке и, прикрыв колени полотенцем, сбивал в деревянной маслобойке масло.
— Скажи, Серега…
— Я, дядя, уезжаю.
— Нет, — дядя удивленно поглядел на племянника, но мысль свою продолжил: — Вот скажи: на Луну нашенские скоро полетят али повременят немного? Ты вот эт, не чурайся моих таких мыслей.
— Скоро, дядя. Ты не помнишь новую фамилию Алексеевой Зины?
— А чего, помню. Лесная такая фамилия — Зверева она будет. А ты никак заедешь к ней?!
— Заеду.
— Это твое дело. Давай только, значит, только, сам знаешь, наша порода во, а они всю жизнь были — не пришей кобыле хвост. Ни то ни се. От нее, от Гали-то покойной, а у ей пятеро было — мал мала меньше, ушел муж. Дело разве от детей уходить? И родня у них такая непутевая, вся разведенная и разнесчастная. Ей-богу! Такая уж порода. Лизка! Правильно говорю?
— Чего орешь, старый дуралей, — отозвалась рядом стоявшая тетя Лиза.
— Кто дуралей? — строго спросил дядя и конфузливо заморгал. — Чего плетешь, старая? Тебе кто соли под хвост насыпал? Чего несешь при племяше?
Отчаянно хлопнув крыльями, на забор взлетел петух и громко прокукарекал. На нем огненно от вставшего розового солнца блеснули перья. Мирошин махнул на него рукой, петух хлопнул крыльями, но не слетел с забора. «На кого похож петух? На дядю!» — осенило Мирошина.
В автобусе вспомнил петуха, который чем-то так похож на дядю, и засмеялся. И почему-то ему стало весело. Приятно было смотреть на леса, голые, убранные поля, чистое осеннее небо и город вдали, и реку, так чудесно было ощущать себя, едущего в автобусе.
В Омске он довольно быстро узнал в справочном бюро, где живет Зина. На трамвае доехал до 5-й Северной и отыскал деревянный дом за высоким забором с окнами во дворе и на улицу. Долго маячил вдалеке от дома, ожидая, не выйдет ли она. Неожиданно хлопнула калитка, вышла Зина с высоким худым мужчиной лет тридцати пяти.
Он нахаживал по номеру из угла в угол, сто раз ложился на кровать, собираясь читать книгу, а сам все думал, что завтра уж обязательно поговорит с Зиной. Номер Сергей занимал один. Гостиница была старая, потолки высокие, с лепными амурами, номера просторные, двери с огромными медными ручками, но мебель, графин и стакан, светильник и вся обстановка имели современные хрупкие формы.
Он лег на кровать не раздеваясь, попытался уснуть. Через минуту привстал, вдруг поняв, что и мысли его и чувства, все, что делает, преходяще, — пробьет час и наступит полное ничто для них, для него и для нее.
«Ведь то, что между нами — мной и Зиной, — подумал горько он, — имеет значение только для нас. Умри кто-нибудь из нас — она или я, все исчезнет, никто и знать ничего не будет. И что же тогда? Для кого-то останется город, небо и земля, звезды и река… Так почему же тогда не могу я трезво все обдумать, подойти к ней и все высказать? Почему? Все это так удивительно просто, невероятно просто».
Утром Мирошин вспомнил, что нужно съездить на машиностроительный завод, и, найдя этот, в сущности, простой, но убедительный предлог, отложил встречу в Зиной и поехал на завод.
После обеда вернулся в гостиницу, пообедал и направился на Северную улицу. Более часа стоял в переулке, поджидая ее. Из калитки вышла девочка с авоськой, через некоторое время — маленькая старушонка в зимнем пальто и с велосипедом. Минут через двадцать девочка вернулась, неся в авоське два вилка капусты. А вот Зина. Она поправила на голове синий шелковый платок, осмотрела рукава вязаной кофты и быстро направилась в противоположную от него сторону.
Мирошин надвинул на глаза шляпу, облизал сухие губы и, чувствуя в себе появившуюся нервную дрожь, медленно направился следом. Улица кончилась, пора было окликнуть. Но он прибавил шагу, все еще не решаясь окликнуть. Зина повернула к остановке, в это время подъезжал трамвай… Мирошин набавил ходу и побежал. Трамвай остановился. Она уже зашла в трамвай, который тут же тронулся, и он заскочил в него на ходу Зина оглянулась, и в какую-то секунду он увидел в ее широко раскрытых глазах ужас, смятение… Он видел одни ее глаза, но это будто были не только глаза.
— Зина, — сказал он, подходя к ней. Она все так же продолжала глядеть на него, села на свободное место спиной к нему и опустила голову.
Он, держась за поручень, смотрел на ее спину, а мимо проходили люди, толкали его; трамвай спешил по улицам, переулкам, дергаясь, останавливался и снова торопился, а Сергея мотало, заваливая то в одну сторону, то в другую, и казалось, не будет конца и края остановкам, переулкам, улицам и столбам, мелькающим за окнами… На конечной остановке Зина торопливо сошла. Он догнал ее и попридержал за руку.
— Ты зачем приехал? — спросила она и остановилась, потом, будто опомнившись, быстро пошла, не глядя на него. Свернула в переулок, еще в один, и они очутились на высоком берегу Иртыша. Тут реденько росли березки, стояли скамейки, на одной кто-то сидел. На противоположном берегу сгрудились низенькие домики, дебаркадер и возле него на воде толпились лодки, катера, тыкаясь дебаркадеру в бок.
Она села на скамейку и заплакала.
— Зина, почему? — спросил Мирошин, зачем-то стараясь говорить шутливо. — Я тебя искал и вот… «Кто ищет, вынужден блуждать».
— Зачем, зачем? — повторила сквозь слезы Зина, не слыша его. — Я уехала из Бардино, я думала: все, больше не увидимся. Не надо было мне идти тогда… Господи, я такая несчастная, я так переживала… Тогда я тебя сразу узнала. Как только ты вошел в мой дом с дядей, я тебя сразу узнала… и со мной чуть истерика не сделалась. Потому что я весь тот день только о тебе и думала. Ну отчего я такая? Такая я невезучая. За что мне такое горе, Сережа?
Он ждал, когда она выскажется, глядя то на нее, то на реку. Дул ветер, и было видно, как над стремниной реки летают сорванные с деревьев листья.
— Зина, не надо плакать, слезами не поможешь. Я только недавно понял, как тебя любил. Ты меня прости, что я тогда уехал. Я не думал приезжать в Бардино, я себя удерживал. Но вот приехал. Я скрывал от себя, что приехал из-за тебя. Все это время ждал и искал встречи с тобой, не зная, что жду не кого-нибудь, а тебя. Я много ездил и много в последнее время повидал и понял. Но совсем недавно я понял… Не знаю, как сложится жизнь, но без тебя я не буду спокоен.
— Не говори, — заплакала она и уткнулась ему в грудь. Он отстранился и поцеловал ее в мокрое лицо; она всхлипывала, а он целовал и не знал, как успокоить ее. — Я такая дрянная. Я такая… Это я во всем, виновата, это я тогда подумала бог весть что… когда ты, когда тебя в армию забирали. Но я думала, что так лучше будет… Я подумала… Так мне и надо, так мне и надо за мою дурость…
— Не плачь, ну не плачь же, — успокаивал он.
— Не буду, хорошо. Не буду, хорошо. Но как же это получилось? Это же… Но как же это получилось? Сережа? — Она вытерла лицо платком и впервые прямо посмотрела ему в глаза. И большие синие глаза, и мокрые губы, и брови — все показалось ему сейчас таким близким, родным, будто и не было стольких лет разлуки и они всегда видели и знали друг друга, и еще будут знать долго, долго…
— Ну не плачь, — повторял снова он, заметив, как она быстро-быстро заморгала, как повлажнели ее глаза и покраснело лицо.
— Я не плачу, — ответила она, вздохнув. — Я не плачу. Я только немного волосы приберу… Я с утра была сама не своя… Когда ты уехал из Бардино, с ума чуть не сошла, я не могла смотреть на дом твоего дяди, я везде тебя видела. В баню зайду, слышу, будто ты сзади стоишь, дома просыпаюсь ночью, чувствую тебя… Нет, я там не могла. Я вот только немного успокоилась — и вот ты опять… Ты надолго приехал?
— На десять дней. Я в командировке. На машиностроительный завод.
— А как нашел, меня? Я ведь Зверева теперь.
— У дяди узнал.
— Ты в Москве теперь, говорят?
— После армии поступил в университет, женился и живу в Москве. Я журналист. Спецкор в газете.
— Я слыхала.
— А ты?
— А что я? Я как все. У меня все неинтересно. Что у меня может быть. Я тебя три года ждала… ждала… Я до последнего дня… что ты приедешь, не могла я знать, что так все будет… — Она представила заново свои ожидания и заплакала, вспомнив, что столько лет прошло, столько время унесло тревог, а вот сейчас, когда они наконец-то встретились, она не знала, как быть, как будет все дальше.
От ее слов и слез Сергей почувствовал себя неловко. Он понимал, что виноват. Ведь тогда из армии или после армии достаточно было ответить, и все, возможно, сложилось бы по-другому. Но он, злясь на нее, чувствуя себя тогда все еще оскорбленным ее отказом, ни разу не ответил и, спустя три года, собрал все ее письма (их было сто двенадцать) и отослал обратно. Сейчас он понимал, то был порыв мальчишества. Как дорого это ему обошлось…
Мирошин встал. Встала и она.
— Мне надо на занятия. Я и так первый урок пропустила.
— А когда мы встретимся? Тебе обязательно нужно?
— Обещала контрольную дать сегодня. Я, Сережа, в вечерней школе веду математику. Я так рада, что мы встретились, я так долго ждала этого… Но это… Но видишь, нужно спешить. Все в спешке, — она виновато улыбнулась. — Давай завтра встретимся?
— Здесь?
— Здесь. Я отпрошусь. Я так ждала, я долго ждала этого дня! Ты представить себе не можешь. — Она отвернулась, чтобы смахнуть слезу, поправила платок и, вынув из сумки маленькое зеркальце, привела себя в порядок. — А теперь проводи меня до троллейбусной остановки. Ты-то сам не торопишься? Возьми меня под руку. Вот так. Ты не смотри, что я такая плаксивая стала. Видишь, все кувырком. Мама умерла, тебя потеряла, да и все остальное… Завтра я не буду такая. А ты что же молчишь?
— Быстро уходишь, — ответил он.
— Но ведь нужно, Сережа. Меня ждут. У меня же работа такая, Сережа. И потом, это даже хорошо. Просто не знаю, как тебе объяснить… Видишь, надо побыть еще одной… Что-то в моей голове закрутилось. Видишь, я даже видеть стала плохо.
— Ты не плачь, — сказал он, подходя к троллейбусной остановке.
— Стараюсь, а ничего не получается. Такая я дура, что плачу почем зря. Другая даже глазом не поведет, а я плачу. Дочери у меня совсем другие. Не знаю, в кого они. А у тебя сын?
— Сын.
Народу в троллейбусе было мало, и он, сев напротив, молчал. Зина ему о чем-то рассказывала, а он только улыбался, и ему стало жаль ее. Что-то в ней появилось такое, от чего она старалась сама избавиться — жалость к своей жизни. И, пытаясь избавиться, в сущности, от самой себя, она только сильнее моргала или вдруг неестественно громко спрашивала о чем-нибудь, и тут же самой после этого вопроса становилось неловко и стыдно, и она краснела…
«Она ведь еще ребенок, — подумал он. — А говорят, что женщины всегда трезвее своих сверстников».
— До свидания, — сказала Зина, улыбнулась нарочито весело и торопливо вышла из троллейбуса.
Мирошин поехал дальше, провожая ее взглядом.
— До свидания, — повторил он про себя. — Вот и до свидания.
В гостиницу не стал заходить, а направился ужинать в «Пирожковую», которая находилась в том же здании, что и гостиница. В маленькой «Пирожковой» было тепло, уютно, пахло бульоном и мясными пирожками. После встречи с Зиной ему стало хорошо, и он с удовольствием думал о сегодняшнем дне.
VIII
Утром к Мирошину пришел тот самый рабкор Артамонов, из-за которого он приехал в Омск. Рабкор оказался человеком с высшим образованием, инженером-плановиком. Он принес целый портфель корреспонденции, фельетонов, заметок, рассказов.
Каждый из его рассказов начинался со слов: «Поднималась багряная заря. Солнце еще спало, но его движение уже было заметно внутренним чутьем наблюдательного человека…», «Рабочий Иртышов Иван Иванович чувствовал как-то себя необыкновенно весело и почему-то радостно…». «Поднималась багряная заря» и в статьях, и в повестях.
— Я рассказы читать не буду, — сказал хмуро Мирошин. — Я не специалист. Литература — дело сложное. Я не пишу рассказы.
— А все же? — просил инженер-плановик, считая, что журналист набивает себе цену, все так же оценивающе глядя на него и стараясь определить, куда он клонит. — Потом, может, художеством займемся? — Инженер-плановик вытащил из громадного портфеля несколько страниц и протянул Мирошину.
Статья начиналась так: «Поднималась багряная заря». Вторая, третья статьи начинались тоже с «зари». И только одна, кажется, шестнадцатая по счету, где писалось о ночной смене, начиналась: «Отполыхала багряная заря».
— Нельзя ли попроще? — спросил Мирошин, читая очередную статью.
— Отчего же, можно. Давайте покрасивее: алый свет окрасил землю в багряно-желтый цвет, высеребрил зеркальную гладь реки и шумно качающиеся на крутых берегах березы…
Мирошин отобрал три статьи, в которых были конкретные детали, цифры, фамилии людей. Инженер-плановик воровски засуетился, вытащил из портфеля три своих рассказа, положил их на стол и торопливо молча вышел, боясь, что журналист заставит взять рассказы обратно.
Мирошин принял душ, оделся. За все время работы с инженером-плановиком он не переставал ощущать присутствие рядом кого-то третьего, невидимого, но почти явного, в номере.
За час раньше Сергей пришел на условленное место. Глядя на широкую реку, вспоминал, что где-то недалеко от этого места стоял острог, в котором сидел Достоевский. Но радостное ощущение встречи не покидало его. Такого с ним давно не было. Даже когда вручали диплом об окончании университета, и то его не покидало чувство неудовлетворенности — будто он мог сделать больше, чем сделал. Такое состояние у него было часто в детстве, когда отец приезжал из Омска и привозил полный чемодан конфет, пряников, халвы, бубликов, белого хлеба, книжек с картинками…
Стал накрапывать дождичек. Мирошин примостился под деревом. Ветер дул с реки, и было довольно холодно. Зина запоздала на целый час.
— Здравствуй, — сказала она весело, торопливо пожимая его холодные руки.
— Здравствуй, здравствуй, Зина. Ждал тебя — чуть не замерз.
— Это же не Москва, у нас в Сибири холодно. Что же будем мы делать в дождь такой? Стоять под деревом?
— Пошли ко мне в гостиницу?
— А туда что, пускают посторонних?
— Ты же со мной.
— Ой, правда!
Сойдя с троллейбуса недалеко от гостиницы, они побежали, так как полил сильный дождь, и она бежала, нагнувшись и широко разбрасывая в стороны ноги, и смеялась, а он, ухватив ее за руку, тоже бежал, перепрыгивая лужи, чувствуя, как хлещет прямо в лицо упругий косой дождь. Около гостиницы она, нагнувшись, снизу посмотрела ему в лицо и расхохоталась:
— Ой, умора, весь мокрый!
— А ты?
— А на мне-то плащ хоть. Вообще женщины, как и гуси, промокают меньше, у них же, говорят, жировая прослойка есть! Ой! Не знаю! Ну надо же! Смотри, смотри! Какой дождичек! Ведь потоп будет. Ну надо же!
Он взял ключ, и они стали подниматься по лестнице, следя на ковре; она оглядывалась на свои мокрые следы и торопилась, боясь, что остановят, боясь за него и за весь сегодняшний день. Но никто их не остановил. И когда Сергей замешкался с ключом, пытаясь открыть дверь, она оглядывалась по сторонам и нетерпеливо бралась несколько раз за холодную медную ручку и говорила:
— Ой, наследили. Надо же. Попадет же.
— Вот черти! — повторял он, поддавшись ее нетерпеливости, а когда дверь все-таки с легким скрипом отворилась, и он включил свет и оглянулся, и увидел ее с бисеринками капель на выбившихся из-под платка светлых волосах, мокрым бледным лицом и большими, немного виноватыми, испуганными глазами, то невольно улыбнулся и взял ее за руку.
— Зина.
Окно было отворено; слышно было, как на улице хлещет дождь, как с клокочущим грохотом шумит водосточная труба.
— Ой ты, шторы совсем намокли, — сказала она, бросаясь закрывать створки. У нее вымокли руки, она села в кресло.
— Ну? — спросил бодро он, садясь напротив, налил себе стакан воды и выпил. — Как я живу?
— Хорошо живешь. Один в такой большой комнате? Смотри, кресло новое, трюмо, столик и шкаф, и еще ванная. Хорошо устроился. Сколько платишь?
Он назвал. Она удивилась, привстала, развела руками и совсем по-детски, уже глядя как-то одновременно на все вокруг, спросила:
— А за что? Ведь ты только спишь? Я никогда в жизни не жила в гостинице. Надо же, сколько берут! Но ты же, конечно, преувеличиваешь! Ну, никогда бы не подумала. — И она снова повела глазами, привстала, чтобы лучше на все посмотреть, а он, глядя на нее, подумал, что вот уже сколько лет ездит по стране, но ни разу в гостинице, в его номере, не было такой близкой, красивой женщины. Приходили, конечно, приходили, приносили ему «смотреть» различные статьи, очерки, глядели на него как на человека, который за здорово живешь, в свое нерабочее время не будет знакомиться с их писаниной, и поэтому в их ожидании, в их неестественных надуманных словах и жестах было назойливое желание заявить о своем праве на внимание. И зачастую они были ему неприятны. И оттого, что рядом сидела Зина, которую любил, и теперь в этом не сомневался, ему стало так хорошо, что Сергей не мог усидеть на месте и встал.
— Ну что, давай вина возьмем?
— Я только сухое. И немного…
— Сухого так сухого. Твои слова для меня закон. Я в детстве, помню, начиная с пятого класса, пил только бражку. Мы со старшим братом своровали однажды кувшин бражки, снесли в сарай, спрятались в ясли к корове и пили по очереди. Он десять глотков, и я десять. Он пять глотков, и я пять. А помнишь, как ты пришла к нам, когда мы у вас голубя своровали, и дали тебе бражки вместо кваса. Помнишь?
— Нет.
— Ты выпила и говоришь: больно от вашего кваса язык толстеет. Помнишь?
— Помню. Это было в седьмом классе.
— Это было в шестом классе, на масленицу. Еще мать твоя в этот день ногу сломала. Помнишь?
— Помню. Я, Сережа, все помню, — сказала она, отворачиваясь. Он испугался, что Зина сейчас заплачет, и замолчал, и слышно стало, как с густым нахлестом полощет дождь окна, как звенит, захлебывается, с клекотом и завыванием, труба; Зина посмотрела на него пристально, и он понял: она все помнит. Встал, медленно вышел в коридор, тихонько прикрыл дверь, направляясь в буфет, а в голове все стоял ее тихий голос: «Я все, Сережа, помню». Он понимал, что за этими словами скрывается, чувствовал за собой вину и не знал, как заглушить это неприятное чувство и успокоить ее.
Вина в буфете не оказалось, и он быстро вернулся.
— Бражки нема. Банкет отменяется.
— Вот и хорошо, — сказала Зина уже весело. И он удивился, как она быстро переходит от печали к веселости и наоборот, обнял ее и поцеловал, и она не отстранилась, а только отвела его лицо и посмотрела ему в глаза, и он снова ее поцеловал… И она заплакала.
— Ты чего?
— Не знаю.
— Тебе нехорошо?
— Не знаю. Мне плакать хочется. Не надо успокаивать, я все равно буду, я не могу… Такая я, мне все кого-то жалко и так грустно, грустно… Я как вспомню, как ждала, как ждала… так не могу, плачу, и все. Годы наши с тобой — мимо пролетели. Плачу, и все.
— У тебя, возможно, дома неприятности? Что-то, возможно, произошло, случилось? Муж…
— Ничего. Я так. Муж у меня хороший, добрый. Он младшую дочку любит без ума, больше, чем я.
— А что же?
— Не знаю.
Она смотрела на свои руки, потом потихоньку привстала и подошла к окну, растворила его. И сразу с удвоенной энергией ворвался в комнату шум дождя. Он подошел, обнял за плечи, она, оглянувшись, поцеловала его и вдруг сникла, прижавшись к нему.
— Сережа, не подумай… Вот пришла к тебе, плачу, порчу тебе настроение. Какая я ужасная женщина, самой от себя иногда, бывает противно. Плачет, ноет… Надо же.
— Ну что ты, Зина? Ну о чем ты?
— О чем? Я вот пришла, а меня ждут… Не подумай… Муж у меня хороший, добрый, такой порядочный; только он, надо же, какой-то такой несобранный, неустроенный, там, где другие делают со смехом, ему достается потом и кровью. Ему вот уже скоро тридцать семь, а он все еще будто ему двадцать пять, отпустил бороду, по каждому пустяку правду доказывает — надо же такое, в его-то годы… Он ведь скульптор, какое-то новое направление ищет, хотя я знаю, что в такие годы уже не ищут направление, если ты его не нашел. Ему заказы, какие он хочет, не дают, это его угнетает, ему стыдно и муторно, что мы живем только на мою зарплату. Он все ждет, что вот-вот его осенит — и тогда! А что тогда! Он не знает. Он просто ждет. В Ленинграде у него не получилось, он переехал в Ташкент, разругался на всю жизнь из-за этого с родителями, а они у него оба доктора наук, в Ташкенте не получилось, он уехал в Томск, потом в Тюмень, на Сахалин… и только в Омске осел. Ты ничего не подумай, он добрый, хотя и помытарило его. Он умный. Он хорошо чувствует и понимает прекрасное, но он сам-то такой неприспособленный к жизни, что, не будь меня, он давно бы погиб. А приспосабливаться не хочет, да ему и некогда. Правда, с ним ужасно, но его так жалко, плакать хочется. Ей-богу. Глупая я, правда? — Она уткнулась ему в грудь и затихла. Он молчал, и только слышен был шум дождя да в коридоре кто-то ходил, топая своими ножищами.
От ее рассказа, такого искреннего и печального, ему стало жаль Зину и ее мужа, неустроенного, бестолкового человека, от доверчивого голоса повеяло чем-то родным, близким, и он припомнил, что мать его тоже всех жалела и всегда плакала, и, дай ей возможность, она обнимет и пожалеет всех, кого потрепала жизнь, у кого хоть капелька есть горя. Ее голос, простые, непритязательные, чистые своей искренностью слова не опустошали, а осветляли что-то внутри, взывая к самому доброму, что есть и может быть у человека, — участию, к чистым и светлым помыслам и поступкам. И жить после этих слов хотелось так же просто, как ее голос, ее слова…
Зина ушла поздно.
Он проводил ее и медленно пошел обратно. Дождь перестал, только срывами налетал влажный ветер.
Трамвай уже не ходил, и он ступал на мокрые трамвайные рельсы, хлюпал по лужам, не оглядываясь, засунув руки в карманы и глядя исподлобья на беловатые под ночным светом, длинные, как бесконечная дорога, рельсы, а в голове все еще стоял ее голос: «Бедненький, как ты все время был без меня? Бедненький ты мой!» Он невольно усмехался и отвечал уже себе: «Я-то не бедненький. Я-то наверняка не бедненький».
Так ему было приятно вспоминать весь разговор с ней, весь этот вечер, тихий, ласковый голос, и слова ее, жесты, и всю ее, всю, какая она есть, милую и такую удивительную в своей непосредственности, что он не стал заходить в гостиницу, а направился по улице, свернул в переулок и брел, пока не понял, что заблудился. И, блуждая, стараясь выбраться на свою улицу, к гостинице, все улыбался и довольно мотал головой.
Весь следующий день Мирошин провел на заводе, в парткоме завода, ходил по цехам. Торопиться было некуда. Зине обязательно нужно было идти на работу, и только в одиннадцать вечера она освобождалась от занятий.
В десять он уже стоял недалеко от школы и ждал, глядя на дверь, а когда чуть раньше одиннадцати быстро из дверей школы вышла она, Сергей даже растерялся — так она стремительно подбежала, так доверчиво прижалась к нему, сказав, что еле дождалась конца занятий. В ее голосе не было и тени сомнения, что и он ждал, волновался. Мирошин сразу это почувствовал, с испугом подумав, что ведь через день уезжать, и был убежден, что и она подумала о том же и ее тревожат те же самые мысли и чувства.
Луна низко висела над городом и бросала неяркий, красноватый свет, а в тени домов и узких проулков было вовсе сумеречно. Сергей глядел на луну, и ему казалось, что и луна думает о том же, и молчаливые, таинственные в своей дреме дома, в которых все уже давным-давно спали, и люди, во сне продолжавшие жить дневной жизнью, ее заботами, тревогами, тоже думали о том же.
— О чем ты? — тихо спросила Зина, когда они вышли к Северной улице.
— О том, что «человек — общественное существо, способное производить орудия труда и использовать их в своем воздействии на окружающий мир…»
— А почему?
— Что почему?
— Почему ты об этом думаешь? Ты именно сейчас об этом подумал? Или раньше? Скажи…
— Вспомнил о недавно прочитанном в одной энциклопедии определении, что такое человек. Как, оказывается, просто.
— Надо же, на самом деле как просто, — сказала она. — Просто все и вполне объяснимо. Но это больше подходит для школьников.
— А что школьник — не человек?
— Но ему же нужно попроще. Ему все нужно разложить по полочкам. Не скажешь же, что многое простое необъяснимо. Он не поймет.
— Например?
— Что например?
— А что он не поймет, например? — Мирошин приостановился.
— Ну, вот как объяснить нас с тобой?
— Ну…
— Вот тебе, общественное существо, и ну, — сказала Зина, поглядела на него, и они оба рассмеялись.
— Хорошо ты подметила, — проговорил сквозь смех он, обнимая ее и привлекая к себе.
— С кем поведешься, от того и наберешься, — ответила она, и они снова рассмеялись. — Вот ты какой умный-нужный. Тебе дают отдельный номер, как кум королю. Надо же быть таким.
Зина говорила, вдруг смолкая на минуту-другую, задумывалась над чем-то, видимо серьезным и важным, и в ее голосе, лице, в том, как она смотрела на него, была какая-то недоговоренность, будто кто-то тайный, сильный запретил высказываться и смеяться до конца. Он хотел Зину спросить, о чем она недоговаривает, но и сам чувствовал в себе то же самое, какую-то тайную пружину, которая всему, даже самому необходимому, не давала высказаться до конца, и он понимал, что это что-то, давившее на него и на нее, комом лежавшее на них и не дающее им раскрыться полностью, — это прошлое, годы, прожитые врозь, имеющие свои, только для себя — раздельно для них — тайны и чувства, и его тайны ей принадлежать не могут, как бы ни любил Зину, потому что она до конца им не поверит и до конца их не примет и не поймет, так же как теперь ему до конца ее не понять. Тайна — это прошлая жизнь. Она и разъединяет их. Они вот уж сколько лет шли по разным путям, жили в разных измерениях. В этих смутных чувствах, которые он явно ощущал, но не мог точно выразить, было что-то необъяснимое…
— Ты уедешь? — спросила она, садясь на лавку возле забора и глядя на низкую красную луну. — Мы больше, наверное, не увидимся… Видишь, на самом деле все просто…
«Вот тот груз, который лежит на нас и который нужно сбросить», — подумал он, торопливо сел и взял ее за руки. Руки у нее были теплые, мягкие, и обе вместились в одной его.
— Ты почему вдруг такие вещи говоришь? — спросил он, глядя ей в лицо, освещенное сумеречным красноватым светом, видя, как испуганно замерли у нее глаза, так же, как тогда в гостинице — с мольбой и с испугом. — Что же мы с тобой: нашлись, разъехались — и все?
— Но ты уедешь? Но ты уезжаешь завтра?
— Ну и что?
— Как что? В Москве у тебя вон — чего только нет. Ты такой…
— Какой такой?
Она ничего не ответила, а только, он это заметил даже в темноте, побледнело у нее лицо; Зина уткнулась ему в грудь и заплакала. Он пытался успокоить, гладил рукой мягкие ее волосы, уложенные в два больших вьющихся локона, свисающие к шее, гладил волосы и шею и никак не мог успокоить, понимая, что и успокаивать ее не надо, что и сам уж стал волноваться.
На другой день, последний перед отлетом, Зина пришла в гостиницу рано, сняла свой светло-бежевый плащ с белым воротником из искусственного меха, поправила волосы, села в кресло и ни словом не обмолвилась о вчерашнем. Весь день была веселой, казалась беспечной, и только изредка он ловил на себе ее испуганный взгляд и замечал в ней напряжение и такую печальную ласковость, что ему непонятно было, как на него, в сущности обыкновенного человека, так можно смотреть.
Они бродили по городу, и кругом ворохами лежали желтые мокрые листья, деревья оголились и зябли на ветру. Зябли у нее руки, и он согревал их в своих, а она говорила о том, какой он хороший, как много в нем такого, чего нет в других. Мирошин смущался. Но все-таки ему нравилось то, что говорила она, так как убеждало в ее любви. А сейчас для него это было главное.
Зина обещала приехать провожать в аэропорт.
Но сколько Сергей ни ждал на следующий день, она так и не приехала, но, когда самолет круто взмывал вверх над аэродромом, а он увидел там, внизу, на земле, «Волгу», быстро несущуюся к аэровокзалу, решил, что в «Волге» спешит Зина…
IX
В Москве было холодно. Все удивлялись капризам погоды, ибо прогноз обещал потепление, чуть ли не жару.
Как и в тот раз, Мирошин прилетел вечером, но вечер в осенней Москве — это уже совсем другое, хотя и прошло всего лишь полтора месяца со времени того прилета из Омска. Рано темнело. В переполненных электричках пахло яблоками и вареньем, сушеной травой и цветами — не полевыми, которые везли летом, а своими, дачными. Несмотря на сырую погоду и холод, на улицах бурлила людская толпа; люди — одни одетые вполне по-январски — бегут по делам, не замечая ничего и никого вокруг. И в спешке людской, и в тихом осеннем очаровании городских парков и скверов есть много прелестного. Москва — город веселый, город сам по себе. Тоскливо тебе, но глядишь, как озабоченно торопятся люди, как мощным гулом автомобилей исходит мостовая, — кажется такой никчемностью твоя тоска…
Мирошин остановился на Погодинке, постоял и прошел вниз к Новодевичьему монастырю, петляя по закоулкам, затем к Лужникам, посмотрел отсюда на темную Москву-реку. Он знал, что дома никого нет, и впервые за многие годы не захотелось в пустую квартиру. Позвонил из телефона-автомата одному приятелю, другому… и уехал на дачу.
На даче светились окна. Он очень удивился, считая, что теща и жена с сыном, как договаривались, давно в Крыму. На веранде перед примусом сидела теща и варила ужин. Тут же вокруг табуретки, на которой стоял примус, катался на велосипеде Максимка, бросившийся сразу к отцу. Теща привстала, щурясь, так как плохо видела без очков.
— Здравствуйте, — сказал Мирошин. — Вот и я. Не ждали? А где Светлана? А почему и вы не на юге?
— А почему мы должны быть на юге? — выдерживая строго вопросительный тон, с горьким упреком сказала теща и вытерла рукавом вспотевшее лицо.
— А как же? Светлана вам письма не присылала? Не приглашала?
— А почему Света должна нас приглашать? Она там в своем доме, что ли, живет?
— Но она с вами и со мной договаривалась?
— А почему она с нами должна договариваться? Отцу надо было подумать. А Свете некогда. Она и так, бедненькая, так устала за год, так устала. С сыном хороводится, на работу бегает, а отдохнуть, извини-прости, когда?
— Но она мне сказала, что…
— Но мне ничего не сказала, — перебила его теща, начиная злиться на Мирошина, не привезшего на дачу ни продуктов, ничего, что говорило бы о его беспокойстве о семье. Она молчала. Кипело только там, внутри нее, от злости, и она сдерживалась с трудом, то и дело вытирая потное лицо. Мирошин отпустил сына и заходил по веранде.
— Как же так? — удивленно сказал он, останавливаясь напротив тещи и засовывая руки в карманы. — Как так?
Женщина, собиравшаяся унести кастрюлю с кашей, опустила руки и с вызовом поглядела на него.
— Чего — как?
— А вот то, что в прошлом году был этот же крымский вариант: уеду — напишу — мама с Максимкой приедут. В этом году опять тот же анекдот. Это насмешка, уловка, прием такой?
Женщина, что-то начинавшая понимать, догадываясь о совершенной оплошности, молча соображала, что делать дальше, тупо глядела на него, отбросив желание сейчас же отчитать зятя.
— Как? Света телеграмму прислала, — сказала она примирительно. — Максимка затемпературил.
— Покажете мне? Я посмотрю. Я увижу…
— Вон она, чай, на подоконнике лежит. Максимка, куда упрятал телеграмму?
Максимка пулей промчался в комнату и также пулей вернулся обратно и отдал телеграмму.
— На.
«Доехала Устроилась хорошо Отдыхаю Света», — прочитал Мирошин, медленно положил телеграмму в карман, повторяя растерянно: — Доехала хорошо. Доехала хорошо… У нее всегда хорошо.
Он сел у окна. В саду было темно и ветрено, и слышно было, как по стеклу окна стучат ветки яблони.
На следующий день в редакции он появился рано. Но главный уже сидел в своем кабинете и просматривал набранные полосы. Над столом сизым облаком стоял дым.
— Здравствуй. Садись, — сказал главный, не поднимая головы и водя мундштуком трубки по полосе. — Так-так-так… Хорошо. Так-так-так… Отлично. Так-так-так… Превосходненько. Как слетали, Мирошин? — спросил, не поднимая головы. — Скажите, вы, наверное, хороший матерьялец заготовили? Так-так-так…
— Кое-что есть.
— Так-так-так, отлично. А впрок?
— Найдется и впрок.
— Так-так-так, отличненько. Настроение хорошее — это превосходненько. Как там в Сибири? В смысле погоды, климата, вообще? Знаете, я ведь был только в Новосибирске, в Академгородке. Слышали, какой потоп был у нас?
— Осень.
— Да. Понимаю. Осень, конечно, есть осень. Сибирь, конечно, есть Сибирь. Вы закончили обработку материала?
— Нет.
— Закончите — заходите. Мне ваш материал вот как нужен. О делах месткомовских ваших завтра. Кстати, у вас усталый вид, можете немного отдохнуть, попить пива в Доме журналистов.
Мирошин сел за свой стол. Отсюда, из окна шестого этажа, видны были крыши домов, трубы, Останкинская телебашня; густой волной вливался в окно городской шум. Мирошин писал быстро, торопливо, однако продумывал каждую фразу и только изредка зачеркивал то, что казалось ненужным, некоторое время смотрел в окно и снова принимался писать. А к вечеру положил на стол главному редактору статью на двенадцати страницах.
— Готово? — спросил редактор, протягивая руку за статьей.
— Да.
— Так-так-так, хорошо. Смотреть буду завтра, сегодня уже поздно. Баста. Вопросы, предложения, пожелания?
— Нет, Николай Николаевич.
— До свидания. Завтра жду в одиннадцать десять. — Он записал что-то на откидном календаре, достал из книжного шкафа гантели и, подождав, пока выйдет корреспондент, начал заниматься гимнастикой.
Мирошин сегодня не обедал, но есть не хотелось. Медленно брел по Садовому кольцу. Было еще рано, и можно бы зайти к кому-нибудь из приятелей, мысленно перебирал их… Роман Запаринов — начнет сразу читать свои скучнейшие юмористические рассказы; Виктор Леонов — смотрит футбол, а потом будет часа два обсуждать перспективу развития отечественного ширпотреба; Виктор Лесницкий — нет; Геннадий Крюков — жена больна. Мирошин перебрал знакомых и уехал домой. Изжарил на сковородке яичницу, поел и лег спать.
Проснулся в полночь, попытался уснуть и не смог. И мыслей определенных в голове не было, какие-то обрывки виденного проплывали в сознании, и он то явно видел снова сарайчик, ведро с водой и обуглившуюся пшеницу на печурке, то баню, то дом, то кладбище, то инженера-плановика Артамонова, то ее: вот Зина сидит, лежит, смеется, плачет или торопится из школы к нему. Тихо в квартире. В доме напротив горят окна — там тоже, видимо, кто-то не спит: за занавеской мелькает тень — человек ходит по квартире, думает, решает в этот поздний час свои проблемы. Сергей прошел на кухню и зажег свет. «Бедненький ты мой, как ты все это время был без меня?» Она повторяла это не однажды. И все-таки Зина недоговаривала. Да и он тоже недоговаривал. И всегда они, независимо от того, как сложится их судьба, будут недоговаривать. Как ни ломай голову, но никуда ведь не денешься от прожитой жизни…
Мирошина даже пот прошиб. Вернулся в спальню, решив, что ему нужно трезво обо всем подумать, ведь он, слава богу, прожил достаточно, чтобы рассудить спокойно и здраво. Он же не глуп. Это скажет любой. «Один может сделать за день столько, сколько все остальные в отделе» — это слова главного редактора. Правда, тогда главный предлагал его в местком и очень-очень захвалил. Но неважно. Пусть будут издержки, но все-таки… Так вот, дорогой мой Мирошин, вы были счастливы со своей женой? Или нет? Вспомните, дорогой мой, когда родился Максимка, вы от радости чуть под машину не попали. Нализались так — впервые в жизни, — что лыко не вязали. Это вы помните? Помните? Не лгите, помните! Вы жену на руках носили, и все удивлялись, какой вы, дорогой мой, хороший муж. А квартира? Вы танцевали от радости, когда получили. Да-да, именно танцевали. Год! А радость жены, а ваша радость? Было это? Было. А радость совместной жизни? Было это? Такое не выбросишь.
«Да, — ответил Мирошин себе. — Да-да-да! Никуда от этого не денешься. Вот это у меня и у нее будет висеть комом на шее всю жизнь. Я себя обманывал».
В доме напротив по-прежнему мелькала за занавеской тень человека, быстро ходящего по комнате. От ярко светившегося окна, от мелькающей тени становилось не по себе, Сергей не мог уснуть. Открыл балкон, постоял, глубоко вдыхая свежий ночной воздух, неотрывно глядя на окно в доме напротив.
Утром приехала теща. Он, так и не уснувший до утра, очень удивился. Теща снимала плащ, а он стоял в прихожей, гадая, зачем она приехала. Теща, сосредоточенно что-то обдумывая, молчала.
— Зачем приехали в такую рань? — спросил он, зевая, и сейчас только почувствовал, что ему захотелось спать.
— Зачем я приехала рано? — переспросила она, сохранившая еще с детства способность изобретательно отвечать вопросом на вопрос, чем не однажды ставила любопытных в тупик. Это было отличительной чертой ее характера.
— А Максимка один остался?
— А почему Максимка один остался? За ним разве соседка не сможет доглядеть?
Мирошин решил не спрашивать, все больше и больше удивляясь тому, что теща пожарила картошки, сварила кофе, а пока он ел, прибрала в квартире, постирала сорочки, майки. Ни разу о нем вот так не беспокоилась, и он очень удивился этой перемене. И в каждом ее жесте, в каждом движении чувствовал, что она наблюдает за ним, не сразу догадавшись, что тем самым мать Светланы пытается искупить вину перед дочерью, которую так неуклюже выдала мужу.
Через два дня приехала жена. По его подсчетам, Светлана должна была приехать через пять дней, и он ждал ее и не ждал, не зная, как отнестись к тому, что она не взяла на юг, как обещала, сына, и в то же время тревожили его еще другие мысли. В прошлом году приблизительно в это же самое время ему позвонили. Какой-то незнакомый женский голос спросил: «Вашей жены нет дома?» — «Да, а что?» «А то, что вы кретин!» — ошарашил его голос. «Простите, — сказал он, — вы не туда попали». И положил трубку. Телефон снова зазвонил: «Мне наплевать на вас и вашу жену, но у моего мужа есть ребенок…» «Почему вас интересует моя жена! — выкрикнул он в трубку. — Моя жена интересует меня, и я прошу вас со своими проницательными намеками ко мне не звонить…»
И вот вечером, когда Мирошин, собираясь прочитать последний свой очерк, вышел на балкон вдохнуть свежего воздуха, в прихожей раздался звонок. Он даже не обратил на это внимания, продолжая глядеть на липы и тополя, которые трепал сильный завихривающий ветер, на низкие облака, текущие нескончаемо над городом, и во всем: и в этой полутемноте, в домах и быстро текущих облаках — была какая-то необходимость, был необъяснимый свой ритм, своя музыка, сообщавшая всему вокруг то неповторимое, без которого немыслим сегодняшний день. Сергей снова услышал звонок.
В дверях с чемоданчиком в одной руке и с огромной соломенной шляпой — в другой стояла загорелая жена. Первое, что заметил, было спокойное, сытое, загорелое довольство хорошо отдохнувшего человека. Темно-синее короткое платье с длинной «молнией» на спине выгорело на юге до белесо-голубого, село и еще сильнее подчеркивало ее фигуру. Загоревшие ноги и шея отдавали легкой синевой, волосы, связанные в два пучка, делавшие ее похожей на подростка, сильно выгорели.
— Приветик, — улыбнулась она.
— Заходи, — он включил свет и забрал у нее чемодан. — Отдохнула? Рано что-то, мадам, прибыли?
— Не рано, — ответила она усталым голосом и сбросила с ног туфли.
— Ну, как вояж на южные окраины нашей страны? Увенчался полным успехом? — спросил Мирошин, все еще разглядывая ее и стараясь найти в ней ответ на мучившее его.
— Неплохо, — ответила жена, спокойно и пристально поглядела на него. — Все время тепло. Дождей не было… Народу сейчас, сам знаешь, не июль месяц. А как ты тут без меня? Я, знаешь, в спортлото выиграла! Мне скоро повезет. Если на юге начала срывать…
— Ты нашла свое счастье на юге, — сказал он ровно, но наигранно весело и засмеялся.
— На что ты намекаешь? — Жена удивленно посмотрела на него. — Что это ты вздумал смеяться? Смеется…
— Перестань говорить глупости…
— Это ты говоришь глупости, а не я.
— Ладно… — сказал Мирошин. Он вдруг понял, что весь день сегодня чувствовал себя неважно. Редактор, как показалось ему, говорил с ним сегодня немного свысока, чего никогда не случалось, письмо, которое написал Зине, куда-то сунул и весь день не мог вспомнить — то ли отослал его, то ли потерял, а очерк, маленькую, в сущности, заметочку, которую раньше мог написать за полчаса, даже не начал. Он подошел к окну. Один за другим загорались в доме напротив окна; в их ярком свете было что-то веселое, и в шуме сухой осенней листвы тоже слышалось веселое оживление, будто деревья радовались и вечеру, и ветру, и тому, что Мирошин со своими мыслями и чувствами в этот день совсем не считал себя счастливым. Он зажег везде свет, и в квартире стало нестерпимо ярко.
— Ладно, — сказал снова и ушел в спальню читать очерк. — Отдохнула, и ладно.
— Ты досказывай, — заговорила угрожающе жена, считавшая всегда, что лучшая форма защиты — это нападение, снимая платье и обнажая свое полное, загорелое тело; только под бретельками лифчика виднелись узкие белые полоски.
— Мне не о чем договаривать.
— Скажи на милость. Знаешь, мне это кошмарно надоело.
— Что именно?
— Твои выкрутасы — вот что. Не успела жена приехать, с дороги отдохнуть, столько не виделись, а у него, между прочим, одни упреки.
— Я тебя, Свет, ни в чем не упрекаю. Делай что хочешь и как хочешь. В конце концов, если хочешь, считай, что твоя жизнь — твое личное дело. Поняла?
— Чего ты хочешь?
— Я ничего не хочу.
— Боже ты мой, я не пойму, чего ты хочешь? Что ты говоришь?
— А то, что ты, Света, меня обманываешь. И если хочешь знать, мне это тоже вот так осточертело.
— Что?!
— В прошлом году ты разыграла вариант: мама, Максимка и я — вот что. В этом, мадам, изволили разыграть тот же старый вариант. Забыла? У тебя, видимо, мадам, склероз от старости. Вот что, поезжай, пожалуйста, отдыхай, как твоя душа пожелает. Но не лги! По мелочам не лги хотя бы. Противно! Ты же все-таки, как ни говори, интеллигентка, по образованию, конечно. А ты посмотри на себя, мне тебя жаль как человека. У тебя знакомые — посмотри кто? Продавщицы гастрономов, лотков! Скажи мне, кто твой друг… поговорку помнишь? И дело не в том, что она продавщица! Они приходят, говорят о пропавших огурцах, о сале, которое пришлось отдать пьяницам, или о тряпках, о тряпках, о тряпках и о тряпках. Сколько можно? У тебя интересная работа, но я ни разу не слышал, ни разу, повторяю, чтобы ты говорила о работе. Ты конструктор! Ты почитай литературу…
Жена, ушедшая в другую комнату надеть халат, так и не надев его, появилась в дверях.
Мирошин посмотрел на нее. С жены вроде загар сошел. Она стояла бледная, но невозмутимая, губы плотно сжаты, глаза присужены — в них яростный гнев оскорбленного.
— Читала не меньше тебя. Ты забываешь, что я верчусь не только за себя, но и за тебя. Ты муж, ты должен мне доставать все эти тряпки, все это к праздникам. Как у других. Знаешь, ты глубоко заблуждаешься, считая, что этих лоточниц я приглашаю для своего собственного удовольствия. Любой мой сотрудник, даже начальник КБ, лопнет, а икорки не достанет, треснет, а замшевую куртку, французские туфли не достанет, а вот они, лоточницы, достанут, и ты сам знаешь… Я их, может, ненавижу. Ты заблуждаешься. У меня раньше не было ничего, а жизнь шла, теперь у меня все есть, но жизнь-то проходит. Знаешь, ты же палец о палец не ударил, чтобы достать что-то, привезти, у других, между прочим, этим мужья занимаются. А ты мне говоришь: интеллигенция! Какая интеллигенция? Если раньше Онегин был интеллигент, это было видно. Интеллигент пол не мыл и не подметал. Сейчас нет интеллигентов, а есть интеллигенция! Это ты так думаешь… Если Печорин был интеллигент, это было видно. У него был слуга… он жил…
— Онегин и Печорин не были интеллигентами. Ты путаешь разные вещи. Они были дворяне, и они были привилегированным классом…
— Меня класс не интересует! Меня интересует, как живет человек. Если хорошо, со вкусом, над каждой копейкой не дрожит, он больше интеллигент, чем ты, хоть пусть и на лотке торгует. А у тебя в кармане лишь малиновый звон. Раньше были интеллигенты, а сейчас их нет Все смешалось. Сейчас — интеллигенция! А ты этого не понимаешь, дальше надо смотреть. Надо быть хоть чуточку оборотистей. Понял?
— Как ты?
— Хотя бы как я.
Жена говорила быстро, размахивая халатом, который так и не надела, и в ее голосе чувствовалось торжество человека, добравшегося наконец до того, что ему казалось победой.
Мирошин вышел из спальни, но она направилась за ним, повторяя о необходимости думать так, как ей казалось правильным: она его учила. Он вышел на балкон и закрыл дверь.
Раньше у них тоже возникали ссоры, но в самом начале уже был виден конец им, и он первый приходил мириться, а после этого жена, чувствуя себя виноватой, становилась добрее, ласковее. Но сейчас Мирошин не мог понять жену. Откуда у нее такое потребительское отношение к жизни? Знакомые ей нужны только для того, чтобы что-то купить, приобрести. Конечно, она была одна у родителей. И сейчас еще теща глубоко убеждена, что ее дочь обладает выдающимися музыкальными способностями.
Впервые появившись в квартире у своей будущей жены, Сергей был удивлен: на столе, шкафах, просто на полу стояли безделушки, то ли сувениры, то ли подарки… Мать Светланы, угостив его чаем, то и дело заговаривала о своей дочери. Финалом этой беседы был показ пухлого альбома с фотографиями единственной дочери: с пеленок, на которых лежал толстенький, ухоженный ребенок, до последнего курса института — в черном толстом вязаном жакете с жестким высоким воротником, плотно облегающей короткой юбке, белокурая маленькая головка на тонкой шее… Вот она в десятом классе, и, между прочим, у нее в аттестате только две тройки, а то она бы получила пусть серебряную, но медаль, — холодные глаза с еле заметными, утонувшими в них зрачками, расплывшееся лицо неопределенного рисунка. Вот возле Большого театра, вот возле афиши — опера Чайковского «Иоланта», вот в сквере около фонтана, а вот на даче, лежа в траве, в гамаке и на велосипеде, а вот за пианино, за столом с приятелями: в вытянутой руке с браслеткой — фужер с шампанским, а вот в машине за рулем… Все для большой биографии. У самого Сергея только две фотографии: у отца на коленях сидит надутый карапуз с большими ушами, в четвертом классе — остриженный наголо, с оттопыренными ушами, в шубке из овчинки домашней выделки. Может быть, ему так дороги эти пожелтевшие фотокарточки потому, что их всего две.
Жена все тараторила, обвиняя его в невероятных грехах, и в ее голосе, в лице, во всей обнаженной фигуре было нечто такое, от чего ему становилось досадно за себя и грустно. Казалось, Светлана обманывает себя, его, обманывает всех, с кем соприкасается, и в этой бесстыдной лжи, как ни удивительно, участвовал и он сам, ибо он — ее муж, ибо он обманул когда-то себя, Зину, а следовательно, и всех знакомых, родных; таким образом, в этом кругу лжи находятся, того не подозревая, столько людей. И всему причина — один он.
Мирошин подставил в ванной голову под кран, зная, что жена стоит совсем недалеко, ждет его, наэлектризованная и решительная, готовая высказаться до конца. Беспомощно оглянулся, и если бы из ванной был выход на улицу… Постоял еще некоторое время, пережидая, слыша шлепки шагов Светланы, и направился в спальню — будто спать.
— Правда глаза колет! — жена зашла в спальню и стала надевать на себя халат, все еще злая, твердая в своей решимости, как солдат в рукопашном бою.
— Вот что, Светлан, отстань. Ты мне порядком надоела, — сказал он глухо.
— А, порядком надоела! А мне не надоело вертеться на кухне, бегать за тряпками? И после этого меня упрекают, что я не интеллигентка! Сам-то ты кто? Сам ты из деревни! А тут, видите, порядком надоела.
— Светлан, — нарочито примирительно спросил Сергей и, когда она вышла в коридор, закрыл дверь; но она тут же открыла ее, — чего тебе надо? У моей матери…
— А моя что, не мать, по-твоему?
— Я хотел сказать, что у моей матери было восемь детей, но такого тарарама я не помню. А у нас один ребенок, и ты еще обвиняешь меня в тяжких грехах…
— Ну и что хорошего в том?
— В чем? — спросил он.
— В том, что твоя мать всю жизнь с пузом ходила. Представляю! Это значит, нужно сидеть дома. Радости, знаешь, немного, с пузом всю жизнь.
— Как ты смеешь так говорить: ты же сама женщина. У меня пять братьев!
— Ну и что?
— Я горжусь этим.
— Нашел чем хвастаться!
— Мой старший брат погиб под Москвой!
— Ну и что? Миллионы погибли… Мало ли кто погибал. И я не виновата, что он погиб. Москва — это столица, а погиб он не потому, что я тут жила.
— У тебя логика, как у гиппопотама, но у того хоть шкура толстая, — медленно проговорил он, постоял в прихожей, собираясь сказать ей что-то обидное, но так ничего и не придумал, хлопнул дверью и заспешил на улицу.
Уже было часов одиннадцать, в квартирах гасили свет. Мирошин вышел на Малую Пироговскую. Дул порывистый ветер. По мостовой с легким шелестом, утопая в шуме ветра, стремительно неслись «Волги», «Жигули»… Он сел в сквере на скамейку и, откинувшись на спинку, стал смотреть на низкое облачное небо. Шум ветра, шелест машин успокаивали. Где-то за облаками летали спутники, там были луна, и солнце, и звезды, и еще, возможно, какие-то миры, где тоже есть с такими же мыслями и чувствами существа. И вот он, Мирошин, сидит на скамейке в сквере, на земле, глядит на небо… А там, на другой планете, тоже сидит кто-то и смотрит на это же небо и думает о том же. И вот он, Мирошин, такой же, вероятно, как тот, сидит на земле… И что его мысли? Что его чувства? Никто, кроме него, не знает, что Мирошин сидит, думает: у каждого свои дела, заботы, мысли. Да и какие у него мысли? Он даже привстал, подумав, что все те мысли, которые совсем недавно его волновали, неинтересны, мелки… И мысли его ничтожны, и жизнь его, казалось, никому не нужна…
Все последнее время Мирошин молчал, думая о смысле жизни. Он стал пристальнее приглядываться к людям, пытаясь отыскать в них нечто значительное, что позволяло им радоваться, веселиться, не задумываясь над тем, над чем он постоянно думает. Каждый его знакомый жил, веселился, плакал, и в каждом из этих проявлений характера участвовало незначительное обстоятельство… Но что-то было скрыто за каждым их поступком. Что? Это было тайной. Также, видимо, была тайной и его переписка с Зиной. В каждой тайне было что-то значительное, а постигнуть ее, казалось, невозможно.
Главный редактор долго удивлялся перемене в Сергее и однажды спросил:
— Сергей Васильевич, вам, вероятно, кстати, нужна командировка?..
— Зачем?
— Вы в последнее время, я констатирую это компетентно, поверьте, мне, озабочены чем-то. Поезжайте… на строительство КамАЗа?
— Это не мой профиль и не моя область.
— Но… Хотите в Байконур с Бутько?
— Нет.
Сергей был, что называется, действительно выбит из колеи. С женой уже месяца два как не разговаривал. Сидя за столом, они молча ели, пили чай, старались избегать друг друга. Он пытался найти примирительный тон, но ни тон, ни что другое не помогали, и Сергей чувствовал и понимал, что в жене зреет какая-то непреклонная, злая отчужденность к нему. Но знал, что и в нем зреет то же самое. Становилось жаль себя, ее и прежде всего сына, который уже давно жил у тещи.
В этом году в городе долго не выпадал снег. В декабре под Новый год голыми стояли мокрые деревья, сырой ветер бродил по улицам и дворам, и москвичи, привыкшие к морозам и снегу, проклиная непутевую погоду, одевались, по обыкновению, по-зимнему и жили по-зимнему
X
Так продолжалось еще месяца три. Сергей устал от работы, тревог и внутренней неустроенности. Внешне спокойная, неторопливая его жизнь на самом деле была полна душевной суеты. Он ходил на работу, правда, с некоторых пор потерял способность быстро, почти молниеносно писать статьи, очерки; все чаще его видели сидящим неподвижно за столом в задумчивости. И мог он сидеть так час, два, три, почти ни с кем не разговаривая, на вопросы главного редактора отвечая односложно: «Да», «Нет». Находился в редакции со всеми, но будто и не было его, словно что-то отъединяло от всех, и сотрудники, невольно это чувствуя, смотрели на него с большим, однако, пониманием. Сергей сам не мог точно сказать, какие такие глубокие мысли приходили ему в голову, считая себя просто уставшим, полагая, что усталость отупляет человека. И правда, когда кто-нибудь из сотрудников рассказывал о каком-нибудь невероятном случае или о сногсшибательном броске хоккеиста Мальцева по воротам канадских профессионалов, Мирошин молча глядел на рассказывающего, а если к нему обращались, отвечал вопросительно: «А? Что?»
Сергей постоянно думал, уставая от назойливых мыслей, будто бессменно дежуривших где-то в голове; эти мысли решали задачу с несколькими неизвестными и касались его, жены и Зины. В этом треугольнике участвовали и дети, которые могли пострадать больше всего. Ему казалось, что неизвестные с детьми никогда не привести к необходимому знаменателю, какая бы умная электронная машина ни бралась за это. Она, пожалуй, могла бы решить вопрос целесообразности того или иного варианта, но вряд ли сумела бы учесть родственность, любовь к сыну, то, что составляет, наверное, основную, если не главную сторону жизни всех известных и неизвестных.
Сергей пытался выяснить причину наступившего конфликта в их семье. Были у них со Светланой общие радости и горе. Вот когда умер ее отец, то смерть буквально изменила Светлану: она вдруг почувствовала себя взрослой, стала заботиться о семье всерьез, даже в ее походке появилось новое для него — озабоченность. Она повзрослела мгновенно. Ей было тогда двадцать семь лет. Но через год эта озабоченность вылилась в некую целеустремленность, которой правила формула: «Жизнь проходит, а у меня ничего нет». Вот тогда и сработала пружина «знакомые». Вот когда перестали довлеть над ней психологические обстоятельства: любовь к нему, потому что муж — это всего лишь мужчина, а он на многое не способен; к сыну, потому что он у матери, смерть отца — за давностью и — слезами горю не поможешь, — плачь не плачь, а будет все то же, — вот когда она стала сама собой.
Мирошин часто думал о своей жизни, о детстве в деревне, вспоминал родных, Зину. Ее вспоминал все чаще и чаще. Чем ему было хуже, тем больше замыкался в кругу воспоминаний и совсем недавние встречи с Зиной в Бардино и в Омске считал счастливейшей полосой в своей жизни.
Он давно мог уехать отдыхать, еще в сентябре. Но все выжидал чего-то, собираясь уйти в отпуск зимой. Как-то они со Светланой катались на лыжах довольно далеко от дачи, и она вывихнула ногу. Сергей полтора часа нес ее на руках. На даче ногу он ей сразу вправил — в армии научили. Согрел чаю. Они с аппетитом поели взятые с собой консервы, хлеб, масло. Он в свитере и в японской куртке с «молнией» стоял у окна; она сидела у печки в теплой дубленке и в оренбургском платке.
Был вечер. Окна заиндевели от мороза. Солнце уж село, стыли в небе первые звезды, и над обснеженным лесом, над полями повис прозрачный молодой месяц. Глубокие снега, слегка подернутые румянцем зари, лежали величественно и безмолвно. Везде был розоватый от зари снег — на деревьях и заборах, на крышах и столбах, и в его яркой белизне чудилось что-то первозданное, не верилось, что рядом, всего в пятидесяти километрах отсюда, жил огромный город, дымили трубы и неслись нескончаемым потоком автомобили, а дворники денно и нощно скребли во дворах, на улицах и скверах. Из темноты и тепла так хорошо было глядеть на снег, и лес, и небо… В Мирошине словно что-то ворохнулось.
— Свет, как хорошо, и мы здесь с тобой, а? — сказал он, не оборачиваясь, чувствуя, что и на душе у него так же легко, светло, как за окном, и сразу мелькнуло в памяти детство, когда с утра до вечера носился с саночками по сугробам.
— Слушай, Сергей, знаешь, что я подумала? — Она говорила медленно, задумчиво, и очень спокойно, глядя на огонь, и по ее раскрасневшемуся лицу, по ее волосам, дубленке и розовым рукам метались багряные блики. Он оглянулся, посмотрел на ее спину.
— Что?
— Что?… Я, знаешь, хочу спросить: что случилось? Ты на меня, когда нес на руках, спасибо тебе, конечно, большое, ты на меня смотрел такими глазами…
— Кто? Я? Какими?
— Знаешь, такие холодные, чужие… Ну ни капелечки сострадания мужа или вообще близкого человека. Это ведь, сам знаешь, ужасно. Ужасно, ужасно. Это просто ужасно. И не говори ничего, даже…
— Что ужасно?
— А вот то, что ты так смотрел на меня. Ты меня не любишь, не скрывай, я вижу. Я это только сейчас поняла. Я прямо перед собой увидела твои глаза и все поняла, все. Знаешь, я же все кошмарно вижу, от меня ничего не скроешь. Я не такая глупая, как ты думаешь. Не такая. Что случилось? Скажи мне прямо. Выдумывать не надо. Что случилось?
— Как что? Вот именно — что?
— Что случилось? Ну?
— Да что говорить… Мы слишком по-разному, мне думается, смотрим на многие вещи. Что говорить… Что словами скажешь? Ничего. Все можно сказать, но все будет неправда. Ты же знаешь: не люблю говорить. Для тебя слова потеряли смысл. Девальвация слов. К тому же ты, Свет, страдаешь комплексом целесообразности, совмещаешь его со своей формулой жизни: «У меня все есть, но жизнь проходит». А получается, что как бы ни жила — хорошо ли, плохо ли, но жизнь все равно проходит…
— Знаешь, Сергей, ты глубоко заблуждаешься насчет меня. Я как раз, да будет тебе известно, страдаю от своей чувствительности. Это знают все в нашем КБ. Все знают, кроме тебя.
— Может быть.
— Не может быть, а точно. Я ужасно чувствительная. Просто ужас, что в наше время могут быть, знаешь, такие чувствительные. А потом, смотреть по-разному — это хорошо. Два полюса. Они притягиваются, а мы отталкиваемся. Ты говоришь, что я интеллигентка, а поступки, знаешь, мои говорят, что я мещанка. Так? Ну, а вот ты кто? Интеллигент?
— Да.
— Такой же, как и я. Ты закончил МГУ, а я МВТУ. Ты работаешь, я тоже. У тебя свои интересы, и у меня — свои. Что еще? Круг знакомых? Но позволь… Это мое личное дело. У меня свои интересы. У меня широкая натура, как у всех русских. Меня не интересуют твои, твой круг, а почему тебя интересуют мои? Это же несправедливо, знаешь…
— Не подводи базу, не оправдывайся. Мои интересы. Твои интересы-ы…
— Я не оправдываюсь.
— Мои интересы, твои интересы… У тебя семья и у меня, но у нас одна семья, один ребенок. Так надо состыковать твои и мои интересы — вот какие должны быть интересы. А ты только стараешься выгадать, урвать от жизни…
— В чем? Выгадывай ты! Кто тебе не дает?
— Когда кто-то выгадывает, то кто-то прогадывает… Выгадывают, естественно, обязательно мещане.
— На что ты намекаешь?
— Не…
— Нет, не догадываюсь, — перебила она его.
— На юг намекаю. На обман. На прошлый и позапрошлый, подозреваю, что и раньше был обман.
— Но ты меня не любишь… — тихонько проговорила она.
— Есть еще порядочность!
— Ах, вон что… Вон что! Выходит, я… Выходит, все вон какие великолепные, а я одна — утри мне нос. — Она оглянулась на него и заплакала. Он почувствовал сразу себя виноватым и подошел к ней, пытаясь успокоить ее, хотя совсем недавно, когда говорил: «Да, выходит. Я скрывать не буду», совсем не было жалости, наоборот, выговаривал это твердо, с какой-то обидной мстительностью глядя на ее спину, чувствуя в себе решимость сказать все, что думал и думает сейчас о ней. Но Светлана отстранилась от него, поведя плечами и наклонившись вперед к огню, перестала плакать. На потолке, на стенах, в полумраке углов метались дымчатые, розоватые тени… Огонь догорал, тихо постреливая в печи. Лицо ее бледнело и вскоре совсем расплылось в неярком, смутно-розовом свете от догоравших головешек.
Сергей стал говорить о том же, о чем говорил совсем недавно, упомянул звонок, еще какие-то случаи, которые могли бы избавить ее от попыток лгать, изворачиваться. Она молчала. Это его начинало злить, и снова им овладело прежнее обидное чувство. Раз Светлана молчит, думалось ему, значит, не отрицает, а, наоборот, полностью с откровенным, бесстыдным упоением соглашается с ним. В ее спокойствии, в немой, застывшей фигуре — в согбенном в поясе стане, в протянутых к огню толстых в красном трико ногах, в неподвижном лице сквозило полное равнодушие, если не безразличие к нему. А главное, к тому, что так возмущало его.
— Ты, наконец, почему молчишь?! — разозлился окончательно Сергей и начал лихорадочно раздувать погасший огонь, подбрасывая в печку холодные ровные полешки, которые заготавливали еще летом. От полешек исходил крепкий запах спирта. Такой густой и крепкий, что Мирошин чихнул, полез в карман за платком и заметил, что у него задрожали руки.
— Что говорить… — сказала жена спокойно и тихо, заметив, что у него дрожат руки.
— Как что говорить?!
Оттого что Светлана говорила спокойно, тихо и сидела не шелохнувшись, точно для нее все уже было решено, и она смирилась с этим, и в этой своей смиренности чувствовала себя превосходно, разозлило его окончательно, и он, с трудом сдерживая негодование, проклятую дрожь в руках, поднял на нее глаза и облизал горячим языком высохшие губы.
— Действительно, о чем говорить? Нам не о чем говорить.
— Ты о чем?
— Я ни о чем! — Он сплюнул и встал. Встал столь стремительно, что она отшатнулась, испугавшись, что Сергей ударит ее, и он это заметил. У него действительно дрожали руки, и он мог ударить ее, хотя никогда даже не предполагал, что может ударить женщину…
Отошел к окну и сел подле на стул Только теперь Мирошин явственно ощутил непреодолимый барьер, существующий между ними.
«Шесть лет прожили два человека, — думал он, глядя в темный угол. — Шесть лет, а вот сидят совершенно чужие люди. Шесть лет жили рядом, спали, ели, говорили, ходили в кино, заботились о каких-то вещах…» Совсем недавно он не мог и подумать, что она ему чужая. Часто, перебирая в памяти, как ему казалось, основные черты ее характера, минуя субъективные предвзятости, Сергей на первое место ставил любовь ее к различного рода безделушкам, необыкновенным, оригинальным, таким, которых не было ни у кого из знакомых, к репродукциям художников, которых она не знала, но о которых много говорили, стремление хорошо и дорого одеться… Больше вроде ничего такого не замечал… И еще в ней было равнодушие. Если избивают под окном кого-то, пусть избивают, в следующий раз умнее будет. Сергей пытался выложить в стройную цепочку все звенья ее характера. Определенно он не мог ее понять. Нет, не мог. Но понял одно: довериться жене, самому близкому человеку, как казалось, не может. Для нее он человек, мужчина, как все остальные, с той лишь разницей, что его Максимка зовет папой. Она часто говорила ему: «Ты меня не любишь». Но ни разу не сказала: «Я тебя люблю». Даже в чувствах своих жена была потребителем.
Она молчала. Молчал и он. Потом нашарил на полу упавшую с плеч куртку и вышел на улицу.
Он не признавался себе, что ищет подходящий выход из создавшегося положения. И если бы не Зина, долго бы его искал. Мысли в голове словно плавали, плескаясь в воде, ни к одному из берегов не приставая. Сергей шел по лесу, смотрел на деревья, утопая в снегу, пока не выбрел к полю. Солнце уже село; по полю и лесу была разлита сизая прозрачная дымка, внутри которой, как бы отдельно, сами по себе, рдели багряные и пронзительно палевые полосы остывающей зари. Поле было огромное, и ровное, и пустынное. Но в воздухе будто кто-то незримо присутствовал, и Сергею представилось: на него глядят, кто-то глядит вопросительно и ждет ответа на свой вопрос. Сергей даже не пытался представить себе, что это был за вопрос. Он знал его.
XI
Огонь в печи погас. Жены подле не было. Прислушиваясь в полной темноте, натыкаясь попеременно на стол, стулья, кровать, зная, каким-то образом ощущая всем собою заранее, что ее нет, стараясь убедиться в верности своего ощущения, чиркнул спичкой. Нет, жены на самом деле не было. Оделась, прихватила с собой лыжи, сумки. Он успокоился, увидев, что она ничего не забыла.
Светлана стояла на платформе и ждала электричку. Сергей потоптался рядом, переминаясь с ноги на ногу, глядя на заиндевевшие провода, на размытый фиолетовый воздух над путями, ничего не сказал, но неожиданно подумал: пора в отпуск. Он ходил взад-вперед. Электрички долго не было. Совсем потемнело, по небу рассыпались мелкие, далекие звезды.
«Неужели ей не холодно стоять? — подумал он, зябко поеживаясь, постукивая ботинком о ботинок. — Так и во всем. Ей все нипочем. Я сибиряк, мне холодно, а ей все нипочем».
Электричка, притормаживая на окоченевших рельсах, присунулась к платформе, постояла, скрипнув задубеневшими дверьми, и так же плавно, скрежетнув вагонами, точно своими суставами, понеслась дальше.
И в электричке, и дома, и на следующий день жена не проронила ни слова…
А через два месяца, уже в мае, Сергей зашел к главному редактору и положил заявление на стол.
— Так-так-так, — постучал главный по столу пальцем, быстро и сверляще, видимо подражая кому-то из высокого начальства, поглядел на Мирошина и вышел из-за стола, потом вернулся, стремительно сел и взял ручку. — В отпуск?
— Да.
— Кстати, какая сегодня в Москве погода?
— Дождь.
— Кстати, вы знаете, что дождь к урожаю?
— Знаю. Я родился в деревне и рос там.
— А кстати, май — это последний месяц весны. А весна… Вот я хотел бы узнать, что нового на планете, именуемой человеком по имени…
— На моей планете все по-старому, — ответил Мирошин.
— Вы это серьезно, кстати? — спросил, быстро глянув на корреспондента, главный.
— Собственно, о чем вы спрашиваете? Что вы имеете в виду?
— . Ну-с, понимаю, вы боитесь проговориться. — Он быстро подписал заявление. — Как местком? Сейчас можно в Коктебель по литфондовской путевке?
— Нет. Я в Омск.
Главный редактор встал, постоял так с минуту и быстро вышел из-за стола. Ему стало любопытно, но он не хотел сознаваться, что ничего не знает о корреспонденте, кроме того, что тот уезжает в отпуск в Омск. По всему было видно, что корреспондента, хорошего работника, съедают какие-то мысли, которые, в общем-то, и работе мешают. Главный остановился напротив и применил свой последний козырь — положил руку Сергею на плечо, полуобняв его, и, глядя прямо в глаза, спросил:
— Что?
— Моя планета, — ответил серьезно Мирошин. — Все это на моей планете.
В самолете он сидел у окна, глядел на облака, сахарной цепочкой повисшие над землей, на города, приютившиеся у рек и гор, на ленточки рек, бесконечно узкие сверху и бесконечно длинные, теряющиеся в дымке, а самолет ровно гудел, стремясь в ослепительную голубизну, туда к солнцу, где белое и голубое сходились; Сергей глядел то в иллюминатор, то на людей, то на снующих туда-сюда стюардесс, то и дело предлагающих воду, и ему казалось, что самолет летит медленно, а земля, над которой тащится самолет, слишком велика и что вообще само время будто остановилось. Но когда самолет, истошно завывая, заходил на посадку, вдруг пришло в голову, что прилетели необычайно быстро, неплохо бы еще посидеть в самолете, подумать, хотя Сергей ни о чем не думал и не старался думать. В нем жило словно одно сильное чувство: быстрее. Самолет сверлил густой туман, завывая так, что сам содрогался, а вокруг него, точно сговорившись, густо носились огромные лохматые куски тумана; мокрые крылья, с трудом просматриваемые из иллюминатора, нервно качались, готовые оторваться, мокро лоснились, и самолет то проседал, словно провалившись, то вдруг неожиданно заваливался набок, и тогда, испугавшись, пассажиры спешно хватались за уже пристегнутые ремни и, убедившись в их крепости, замирали сердцем, а у Сергея было такое чувство, точно что-то должно случиться. И он с холодным равнодушием к себе, к пассажирам, ко всему на свете ждал…
Но ничего не случилось. Самолет сел в назначенное время, подкатил трап. С крыльев и с винтов Ила капало, трап был скользкий, над бетонной площадкой, незаметно поднимаясь вверх, белел туман. На улицах и площадях города стоял туман; автомобили двигались медленно, с зажженными фарами, и Сергей с трудом отыскал гостиницу, в которой раньше жил. В полутемном вестибюле пахло сухостью хорошо убранного помещения; в креслах сидели десятка два приезжих, стояли и у стола с надписью: «Администратор». Мест не было. Мирошин постоял у колонны, поглядел на потные окна, на мужчин и женщин, удивляясь себе, нежданно-негаданно оказавшемуся здесь, в чужом городе, среди незнакомых людей, в старинном здании гостиницы, где нет мест и где потные окна и пахнет сухостью. Вышел на улицу, сел в трамвай и долго ехал до автостанции, где через час купил билет на автобус до Бардино, сам не зная, зачем ему понадобилось к дяде. По дороге, когда и ехать-то осталось с полчаса, неожиданно передумал, решив, что нужно было вначале встретиться с Зиной и уж затем поехать в Бардино. Сошел с автобуса и на попутной машине вернулся в Омск.
В гостинице по-прежнему не было свободных номеров, и администратор, женщина с серьезным лицом, то и дело объявляла:
— Граждане, свободных мест нет и не будет!
Сергей подождал, пока освободится одно из кресел, сел и просидел так в полузабытьи до утра, а утром отыскал Северную улицу. Ему не пришлось Зину ждать. Она сама, озабоченно роясь в хозяйственной сумке на ходу, шла в его сторону.
— Ой! — воскликнула Зина тихонько, увидев его, оглянулась и, ни слова не говоря, заспешила в переулок, прошла в какой-то тупичок. — Ты меня напугал.
— Здравствуй, — сказал он и поставил рядом тяжелый портфель, взял ее за плечи, пристально посмотрел в глаза и подумал, что никогда никого он так не любил, как Зину, которая, надвинув на самые глаза старенький голубой платочек, испуганно глядела на него. Она растерянно заморгала, слезы задрожали у нее на ресницах.
— Сережа… — она не смогла сдержаться и заплакала, а он молчал, успокаивая. — Сережа, так нельзя. Честное слово, я сегодня утром о тебе думала, и мне было так грустно и нехорошо, и я еще подумала, что радоваться буду, раз так нехорошо на душе у меня. У тебя как, Сережа?
— Так, — ответил быстро он.
— Как же ты прилетел? Ты давно прилетел? Портфель тебе носить не тяжело? Я все вспоминаю Бардино, и мне так жаль… Так жаль. Это, наверное, от старости, Сережа, это от старости, и мне тебя так жаль, мне всех так жаль, плакать хочется. Вот сижу на уроке, у меня такие ребята чудные, хорошие, если б не работа, я, наверное, повесилась. Я такая дурная, Сережа, сижу и вспоминаю тебя и… плачу. Вот дура. Вот честное слово, плачу, и все, — сказала она и быстро посмотрела на него, будто он не верил. — Отвернусь, а сама плачу. А отчего, дура, плачу, не пойму. А у тебя, Сережа, не так?
Какой-то мужчина заглянул в тупичок, посмотрел на них и, засмеявшись, ушел.
Они постояли еще с минуту, потом, ни слова ни говоря, побрели потихоньку по переулку и очутились у Иртыша. Вода шумно плескалась о берег, и в тумане, видимо, над водой кричали чайки. Почему они летали в тумане над рекой и что им там нужно было?
«Чайки кричат, — думал он, — чайки кричат».
Они спустились к самой воде. Он хотел сказать, ради чего приехал, но не мог решиться и, понимая, что волнуется и от этого не может ни стоять на месте, ни сказать то, важное, ради чего, собственно, приехал, повторял: «Чайки кричат, чайки кричат».
— Ты, Сережа, надолго приехал?
— Нет, — коротко ответил он и, взглянув на нее, затоптался на месте.
— А ты в какой гостинице остановился?
— Нет свободных мест…
— Но командировочным всегда оставляют места, я знаю.
— Я не в командировку.
Она удивленно вскинула на него глаза, смолчала, потом осторожно направилась по берегу, изредка задумчиво взглядывая на него, ничего еще не понимая, но уже и догадываясь обо всем, но только не верила этому, о чем догадывалась, а вернее, боялась уже того, что надо будет этому поверить.
Она шла долго и ни о чем не спрашивала, не говорила, и только в ней самой происходило что-то недоброе, болезненное, и он это понимал и чувствовал, ощущая в себе тоже что-то такое, что, как ему представлялось, происходило в ней. Не было еще ничего сказано, но уже каждый ясно представлял, что будет сказано, и оттого, что было все ясно и понятно, но явно никто ничего еще не сказал, обоим стало неловко, и они растерялись.
XII
В столовой, куда она привела его обедать, свет не горел, и в уютной полутьме густо пахло кислыми щами, мясом и луком. Они сели в угол к окну, отсюда был виден размытый в тумане высокий забор, деревянные постройки. Только сели, как она встала и ушла за ложками и вилками. Она будто пугалась предстоящего разговора и под разными предлогами уклонялась: то уходила за солью, которой не оказалось на столе, то убегала причесаться, и в ее движениях появилась порывистость, которой он и не замечал раньше.
— Ты чего бегаешь? — спросил глухо он.
— За ножиком…
— Сиди, я сам, — сказал он, принес ножи, вовсе не нужные, потому что не будешь же котлету резать ножом, и посмотрел на нее. «Вот сижу напротив нее, — подумал он, чувствуя, как основательно сидит на удобном, твердом стуле, наливаясь вдруг необъяснимым желанием говорить о чем-нибудь легком, смеяться над собой, над всем, над чем можно смеяться, но и чувствуя необходимость поговорить о том, ради чего приехал. — Сижу и смотрю на нее, и мне хорошо, чуть не весело. Как, в сущности, мало человеку надо». — Знаешь о чем я думаю?
— О чем же? — шепотом спросила она, настораживаясь, замирая и не поднимая на него глаз.
— Мы живем в такой суете, что просто себя на замечаем. Чувствуешь, все тебе мешают, злишься даже на себя, иногда нападает прямо такая тоска… У тебя никогда не бывало?
— Нет, не бывало. А у тебя часто?
— Часто. Хочется простоты. Вот мой дом, вот мой огород, а вот погреб. Сосед копает картошку, копаю и я, сосед в лес за дровами, в лес и я. Вечером сижу, попил чаю, греюсь у очага. Хорошо, приятно. Ночью вышел на улицу — звезды, тишь, луна. Утром корове задал поесть, вычистил навоз…
— Но если сегодня картошка, завтра картошка, навоз, послезавтра — картошка, навоз… И сто лет так? Если?
— Разумеется, Зина, это не так красиво, но иногда хочется уйти в эту примитивность, очиститься там от суеты. Ведь тысячи лет жили так наши предки и не видели в этом ничего плохого…
— И еще им что-то надо было…
— Чего?
— Пушкин писал стихи, а его герой маялся, искал смысла жизни. Пушкин звал к лучшему будущему, а его убили. Лермонтов звал к отмщению…
— А его убили… Думал, Зина, сказать, что-нибудь эдакое легкомысленное, легкое, а пришли — Пушкина убили, Лермонтова убили. Человек может убить кого-то, мстить кому-то, но в каждом он убивает себя и мстит себе… Правда же?
— Да, Сережа. — Она замерла, глядя на него, порывисто встала и, торопливо одевшись, сказала: — Пойдем. Не надо говорить. Сережа, меня же дочка ждет. Ой, какая я дура, меня ждут, а я сижу, говорю. Сама не знаю, что говорю.
Она торопилась домой, казалось забыв его, а он, чуть отстав, глядел себе под ноги, и мало-помалу им овладело тоскливое чувство одиночества и неприязни к себе. Вот приехал за три тысячи километров, спешил, волновался, а она вон торопится от него, а где радость встречи, а где все то, ради чего он приехал? Мимо проходили люди, проезжали автомобили, мелькали деревья, клумбы, а она все шла, не останавливаясь, будто старалась убежать от него, от людей, автомобилей, возможно, от своих мыслей…
Вот остановилась у троллейбусной остановки и оглянулась, подождала, пока Сергей подойдет, и снова заспешила.
— Куда бежишь? — спросил он, но Зина не ответила, остановившись, внимательно посмотрела на него.
— Ты чего?
— Я? Я ничего. Я так, Сережа. — Она повернулась и пошла, а он спешил рядом и недоумевал. — Ты меня, извини, Сережа. Я такая бестолковая, я просто не могу понять, что со мной творится. Весь этот день просто невероятный — вот встретила тебя у нас в городе. Нет, это же нормальный человек не перенес бы. Иду, а ты навстречу… И потом… потом, Сережа, я чего-то так боюсь, Сережа. Ведь ты пойми, что-то будет обязательно. Не может так все просто кончиться. Нет, я такая ужасная женщина, нет, от меня одни страдания всем. Лучше б мне умереть… Я же должна быть на работе… Сколько времени?
— Пять часов.
— Пять? А ушла в одиннадцать. Вот видишь? У меня голова раскалывается. Я уже час пропустила, ребята будут ждать меня. Видишь…
— Да не расстраивайся, Зина… Не плачь.
— Я не плачу. Хотя тут надо во весь голос реветь.
— Погоди. — Он попридержал ее за руку. — А ну-ка улыбнись!
Она жалобно заморгала и улыбнулась.
Уже был вечер. На улицах стало людно.
Мимо шли люди, толкали их, а он глядел на прохожих, пожимая плечами, видел их озабоченные лица, и казалось ему, что видит он те же лица, что и в Москве видел, и на них та же печать озабоченности, спешки, и точно так же они торопились, точно так же подгоняли каждого дела, заботы, тревоги. Что-то было общее у людей столь разных городов, чем-то они были похожи — то ли своей озабоченностью, то ли тем, что каждый город похож на другой, как каждый человек при всем отличии все же похож на другого.
XIII
Она оставила его в комнате, а сама с хозяйкой, маленькой сердитой старушонкой, вышла в коридор. Пошептались в коридоре, поговорили вполголоса, и он по их виду понял: обо всем договорились.
Старушка подошла к нему, затем повернулась к Зине и что-то зашептала, а Зина закраснелась и вдруг села на табуретку, растерянно глядя на него.
— Мой брат двоюродный, тетя Ксеня, — сказала она старушке то, что, видимо, говорила в коридоре.
— Ну да, ну да, — закивала старушка, сердито протопала к окну, фартуком смахнула пыль с подоконника. — Двоюродный братец. Бываеть, и двоюродный бываеть, что ж, мы понимаем. У нас в Тюмени…
— Да брат…
— Да ну что ж, пускай себе будеть хоть троюродный, — сказала старушка и села на сундучок, а Зина встала, попрощалась и ушла, пообещав позвонить завтра с утра.
Сергей сел на старый диван, откинулся на спинку и незаметно для себя уснул.
Проснулся поздно. В затылке, и в пояснице ломило, во рту обметало горьким и неприятным. Горела лампочка на длинном, засиженном мухами проводе: старуха сидела в углу, вязала. Он огляделся. Комната была небольшая, но с высоким потолком, длинными стрельчатыми окнами — явно не для жилья предназначался этот дом. На подоконнике стояли столетники; на стене висели две рамки с фотографиями; пахло чем-то кислым — то ли затхлым воздухом, то ли снедью, приготовленной давно.
— Проснулся? — спросила старуха, продолжая вязать. — Сходил бы покушать. Уж поздно…
— Схожу, — ответил Сергей и направился на улицу.
Небо было звездное и холодное, туман уже не плыл по городу, хотя все еще пахло сыростью и поздней осенью, а ведь был май месяц. Поеживаясь от холода, но и не желая возвращаться за плащом, он свернул на проспект Ленина. Поднял воротник пиджака и побрел вниз. Есть не хотелось. Не торопился, вспоминая сегодняшний день. Конечно, совершенно ясно, у них не простые отношения. И он с радостью думал, что она, Зина, любит его. Иначе как все это объяснить — все что было? Вот только ее стремительный уход чем объяснить? Она будто старалась убежать от него. Но в ее поспешном желании уйти, в порывистом, подчас непонятном восклицании или взгляде он видел скорей сумятицу в ее встревоженных чувствах. Сергей остановился на улице, захваченный врасплох нежданной мыслью, а в голове вертелось: «Любит, любит». «Спокойно, — говорил он себе, — спокойно. Чему ты радуешься, дорогой? Чего торжествуешь? Посмотри на свои виски. Седина. А годы… годы… Нет, милый мой, не так все просто. Подожди…»
Он продрог и зашел в кафе, но там толкалось много народу. Он снова направился по улице вверх, перешел мост через Омку. На узкой речушке стояло несколько ярко освещенных катеров, которые увозили на прогулку желающих.
Сергей купил билет на катер, сел на корме и, придерживая на груди за отвороты костюм, глядел на воду. Катер через минуту дернулся, мелко и яростно застучал мотором, задрожал, исходя нутряным густым гудом и, рассторанивая носом тяжелую ночную воду, повернул к Иртышу. Медленно плыли навстречу мост, увешанный гирляндами огней, желтые квадраты окон, стоящих на берегу домов, и он глядел на все это, думая, зачем и почему сел на катер, который дрожит от внутреннего клекота, будто собираясь развалиться; вода с густым шелестом текла навстречу, и в ее шелесте, в мелком напористом гуде катера чудилась скрытая сила. Только приглядевшись, Сергей увидел, что на всех скамейках, вплотную прижавшись друг к дружке, сидят парни и девушки, переговариваются, смеются, и все были, как ему представилось вначале, знакомы между собой, и только он один сидел, никого не зная. В темноте, под жиденьким желтоватым светом фонарей лица парней и девушек были бледны, глаза лучились мягким стеклянным светом, одежда на них казалась необычайно красивой, угадывалось в их глазах, в приглушенном говоре молодых людей знакомое. Но где он видел эти лица, глаза? Всматривался в них, пытаясь вспомнить. Но что вспоминать, подумал, если на самом деле никогда их не видел. И ему стало обидно за себя. Ведь думает совсем о другом и, стараясь отвлечь себя от той, основной мысли, придумывает другие, будто тревожившие его. Прожил столько лет и за это время, милый мой, конечно, никому не сделал худа, никто не скажет, что Мирошин подлец и негодяй… Никто. Но сколько сделано? Сколько? Служил в армии, учился в университете… работа… Но ведь постоянно чувствовал себя способным на большее, чем то, что делал, и всегда казалось, еще немного, чуть — и он перейдет последний рубеж и займется наконец стоящим, основательным, переступит грань мелкой суеты и перед ним откроется… Он чувствовал, он знал, что был способен на большее, и готовил себя к этому. Но прошло время… Оказалось, себе и другим вот уж столько лет… лгал. Жизнь со Светланой, потакание ее, а следовательно, и своим мелким капризам, есть самая настоящая ложь, от которой теперь никуда не денешься. Ложь — пусть она творилась заведомо без его участия и согласия — вот самое страшное, что может быть. И все те радости, которые у него были с женой, радовали в свое время ее и его, и все они от на чала до конца были лживыми… И во всем этом виновен только он. Он презирал себя сейчас и ненавидел за все, за всю свою, думалось ему, лживую жизнь…
Катер разворачивался, и по боку его с шумом хлестали мелкие, злые волны.
Весь путь обратно, почти целый час, Сергей простоял подле рубки, глядя на воду.
XIV
Проснулся Сергей оттого, что услышал звонок. Прислушался. Старушка копошилась в углу, искала, присев на корточки, что-то около стола.
— Телефон звонил? — спросил Сергей, все еще улавливая звуки, отдаленно похожие на телефонный звонок.
— Чего, милый? Не, не звонил. Рано. Поди, спать еще можно. Мне-то по старости не спится, а тебе — спи. — Вздыхая, она нашарила под столом наконец вязальную спицу, приподнялась, исподлобья глянув на Сергея, прищурив маленькие выцветшие глаза на сморщенном личике. На старушке была телогрейка, под ней теплая коричневая блуза, топорщилась у пояса черная сборчатая юбка. Ходила старушка тихо, осторожно, видимо, плохо видела, так как внимательно и неторопливо всматривалась во все встречавшееся на пути и будто сердилась, что табуретка стоит на пути, а веник лежит возле порога.
— Из Москвы будешь? — спросила, надевая черное пальто.
— Да.
— Это хорошо, что из ее, Москвы-то.
— А родился, бабушка, я недалеко от Омска — в Бардино. Слыхали?
— Слыхала? Слыхала-то слыхала. Стал быть, наш, здешний. Город хорошо знаешь?
— Нет, что вы, Москву лучше знаю.
— Вот то-то и оно. Свое родное нынче все запамятовали. Бяда нынешняя, бяда, вот откель бяда грядеши, — сказала многозначительно старушка, постояла у двери и осторожно вышла.
Сергей заходил по комнате: ждал звонка. Не терпелось поговорить с Зиной, сказать наконец решительно обо всем, что думает, о том, что любит и не мыслит свою жизнь без нее. Прошел час, а Сергей все ходил, прислушивался, не зазвонит ли телефон. Из окна была видна улица, изредка по мостовой проезжала машина, оставляя в чистом прозрачном воздухе, пронизанном косыми лучами еще низкого, утреннего солнца, сизое облако гари. Медленно шли с сумками старики, видать, в магазин за продуктами. Было сравнительно рано — девять часов, но ему уже казалось — бесконечно долго нет звонка. Сел на табуретку и стал разглядывать столетники, стол, кровать, диван, потом встал у окна и начал считать прохожих на улице. Прошел еще час и еще. Решив, что не будет звонка, медленно снял с вешалки плащ. В коридоре раздались торопливые шаги, такие торопливые, что он даже испугался. Дверь резко дернулась и отворилась, на пороге — Зина.
На ней была серая шелковая кофта, синяя юбка, вокруг шеи голубой платочек, а на ногах — коричневые английские туфли с большой медной пряжкой.
— Здравствуй, — сказала она порывисто, улыбаясь, как бы спрашивая: «Ну как, хорошо?»
— Здравствуй. — Он подошел к ней и потрогал газовый платок. — Я ждал звонка.
— Ой, а я и забыла про телефон. Ой, что ж это я? Я в парикмахерскую ходила с утра. Конечно, лучше б позвонила, а то заявилась ни с того ни с сего. Здравствуй, я ваша тетя.
— Нет-нет, — сказал он. — Это хорошо, что ты пришла. Я ждал звонка, а ты пришла. Это замечательно просто. Садись. Вот сюда у окна. Какая ты красивая…
— Не надо мне это говорить… Я себя знаю, я вовсе не красивая. Я часто думала, что от того несчастная, что некрасивая.
— Ну что ты, — сказал он и обнял ее. — Что ты, наоборот, красивая. Честное слово. Лучше тебя нет.
— Нет-нет, не говори… — Она встала, подошла к окну.
— Ты что, Зина?
— Ничего, ничего…
— Дома что-нибудь случилось?
— Ничего, ничего… Я так. Это пройдет. Я вот думаю, что из дому убежала сегодня, с утра, а меня ждут… Я такая дрянь, и ты меня будешь ругать, и ты меня будешь осуждать… Ты первый скажешь, не скажешь, так в душе подумаешь, что вот она бросила дом, семью, побежала… Я такая дрянь, что просто ужас. — Он обнял ее, и она уткнулась ему в грудь. — Нет, нет, не успокаивай меня, я как вспомню, что у меня такой честный, преданный муж, порядочный… В нем есть что-то от цветов… Вот цветы, например гвоздики, никогда ведь в грязь не бросишь… Так и он, как подумаю, душа стонет прямо…
Сергей успокаивал ее как мог: усадил на диван, сел рядом и говорил ей какие-то слова, вроде того: «Что ты? Ну брось. Ну нельзя же так. Ну перестань». То и дело вставал, но тут же садился и снова принимался успокаивать и, оттого что она плакала, отчаивался больше и больше. Казалось, они встретятся, поговорят, и он просто, свободно и откровенно, потому что решился окончательно, обо всем ей скажет, и так как она его любит… «Ведь главное — решиться, а все остальное зависит от тебя, — думал Сергей час назад, когда ждал от нее звонка, но сейчас вспомнил, что эти слова — «ведь главное — решиться…» — принадлежат Светлане, и ему стало обидно на себя, неприятно и противно от этих слов. Возможно, у нее горе, а он лезет со своими глупыми мыслями. Сергей с испугом огляделся и только сейчас увидел, в какой убогой, жалкой комнатушке они встретились, в комнате, где, видимо, лет пять не мыли пол, стены усижены мухами и клопами, где никогда не проветривают — такой был затхлый запах.
— Плачь, — сказал он, вставая от обиды, оттого, что вот они здесь, в этой комнате…
— Чего?
— Плачь, говорю.
— Я уж наплакалась.
— Тогда пошли на улицу, — сказал он, считая, что оскорбляет и свою и Зинину любовь, находясь в этой комнате, торопливо надел свой плащ. На улице постояли у подъезда и направились к Иртышу. Он сел на парапет, а она стояла рядом, и оба смотрели на реку. Сергей глядел на реку, думая о Зине. Вот она пришла к нему, ради него сидела, прихорашиваясь, в парикмахерской, по всему было видно, что надела на себя от косынки на шее до туфель лучшее, что у нее было — ради него опять-таки! — но пришла, стоит, прижавшись к нему, вспоминает… мужа… Он не мог понять ее и терялся, и чувствовал, что сильнее и сильнее любит Зину. «Плачь, плачь», — говорил, а сам видел беспомощность ребенка в этой женщине, трогали его и плач и ее слова, и завидовал он мужу ее… и ему до слез казалось невозможным то, ради чего приехал.
— Ты мужа любишь, наверно? — спросил и почувствовал, как пересохло во рту, как рушатся все его надежды, ради которых приехал.
Она смолчала, осторожно села рядом на парапет и положила руку ему на плечо.
— Нет, Сережа. Как я могу двоих любить? Но, Сережа, когда я заболела, он не отходил от меня, бриться даже перестал — так переживал. Как же, Сережа? — растерянно спросила, и посмотрела ему в глаза, и тихонько отвела взгляд, и, опять встретив его глаза, виновато потупилась.
— Зина, мы не маленькие, слава богу. Что скрывать?
— А что? — спросила она удивленно и насторожилась, одновременно боясь того, что он скажет и желая этого.
— А то, что я тебя люблю! — Он спрыгнул с парапета и пошел, а она за ним. — Что скрывать? Знай это. Я тебя люблю и всегда это буду говорить, — запальчиво продолжал он. — И все испортил я, никогда я тебя не забывал, а сейчас вот… сейчас, видишь, что со мною творится. Чем дальше, тем все больше я убеждаюсь, что люблю тебя сильней. Вот видишь… Видишь… Мне больно, Зина, от того, что у нас получилось.
— Что?
— Зина, давай вместе? Зина? Нельзя же обманывать себя бесконечно, и ты лжешь мужу, живя с ним, а ведь не любишь его… Я лгу жене, ребенку, себе, всем. Всем лгу! И тебе, всем!
— Господи, — испуганно проговорила она, останавливаясь. — Господи, что со мной? Голова у меня, голова… Сережа… Не надо.
— Зина, что с тобой? — Он обнял ее, и она, отдышавшись, долго смотрела на него. Нет, он не мог с ней расстаться. Он гладил ее по лицу, волосам… — Зина?
— Не могу, Сережа.
— Что? Что не можешь?
— Мне нужно домой… побыть… одной, Сережа. Я же слабая. Я прямо так не смогу, у меня голова разламывается. Так же нельзя, Сережа, пойми меня. Нельзя так.
— Можно. Обещаешь мне? Обещай! Мы же знаем друг друга давно. Я помню тебя вот такой, и такой вот еще помню тебя. У нас с тобой жизнь похожа, нелегкая жизнь. И зачем ее еще усложнять самим? Зачем? Скажи? Зачем, зачем?..
— Не надо, Сережа.
— Что не надо? Это надо. Надо, надо…
— Ничего не надо. Мне домой… Ты из-за меня приехал, а моя вот такая неблагодарность, — вяло сказала она тихим голосом. — Вот я какая…
— Зина, обещаешь? — спросил он глухо. — Тогда как быть дальше?
— Обещаю тебе всегда любить, — ответила она тихо, обхватила его голову и поцеловала. — Обещаю… Что обещать, ты же знаешь, Сережа. Я тебе все обещаю. Все, все…
Сергей посадил ее в трамвай, договорившись, что она обязательно позвонит завтра утром, а сам быстро направился к Иртышу. Ему стало жарко, хотелось раздеться и броситься в холодную воду. Он с таким жадным видом, облизывая сухие губы, ходил по набережной, что прохожие боязливо оглядывались на него. Было похоже, что он собирался броситься в реку.
XV
Но в воду он не собирался бросаться Ходил по набережной от моста к речному вокзалу и обратно, пока не почувствовал, что проголодался. В ресторане плотно пообедал, удивив официанта тем, что заказал сразу три вторых, и вышел на улицу.
Еще было совсем рано. Солнце пригревало головы и плечи прохожих, молодые листочки на деревьях весело блестели, бросая дрожащие тени на землю; густой воздух был удивительно чистым и горьковато пах зеленью. Сергей сел в скверике, поглядел на чистое небо и глубоко вздохнул. Давно не видел такого синего неба, не дышал таким чистым, пахучим воздухом, и он глядел вокруг, все больше и больше наливаясь радостью.
Сергей встал и медленно направился на квартиру к старушке, намереваясь поспать, но неожиданно для себя повернул к реке, петляя по переулкам, узеньким улочкам, скверам. Остановился подле одиноко стоящих ворот, на которых была прикреплена мемориальная доска, указывающая, что здесь в остроге жил Ф. М. Достоевский. Обошел ворота. Ворота как ворота. Ворота острога, в котором сидели бандиты и гений. Ворота как ворота, из кирпича и камня. В основании археологи уже успели вырыть яму. Он постоял, посмотрел на них… Что скажешь? Ничего, кроме того, что здесь, известно было по книгам, сидел один из гениев русской литературы. Он еще напишет об этих воротах, о Достоевском, о реке, о самом городе, удивительно красивом городе, который был не столь давно самым большим городом Сибири, городе на берегу Иртыша, в котором столько парков, скверов, столько старинных домов, памятников, о городе с таким чистым воздухом и таким небом…
Он сел на скамейку в скверике, ни о чем не думая, ощущая внутри себя невероятное желание делать что-то, говорить и думать…
Старушка обедала. Сергей посидел на диване, просмотрел купленные газеты, лег и незаметно уснул. Проснулся часа через три. Старушка опять ела. Что делать? Сергей не мог успокоиться, хотя и успокаивал себя и пытался подтрунивать над собой, столько повидавшим, столько пожившим, но волнующимся, словно восемнадцатилетний парень. Что ж ему волноваться? И вспомнил, что обо всем до конца они с Зиной так и не решили. Что она скажет завтра? Нет, он не мог сидеть и слушать, как чавкает старушка. Вышел на улицу и медленно направился на завод.
В редакции заводской многотиражки застал рабкора Артамонова.
— Как ваши дела? — спросил он весело Артамонова, сидящего за столом, толстого, неповоротливого.
— Садитесь. Прошу вас. Мы, как говорится в народе, хлеб жуем. А вы как?
— Вот приехал… — неопределенно ответил Сергей.
— Спасибо вам за статью. У нас есть кое-что новенькое. — Он придвинул ногой к себе портфель и, порывшись в нем, протянул журналисту заводскую газету, на второй полосе был портрет Артамонова и крупно теснились слова: «ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБКОРА Н. АРТАМОНОВА».
— Поздравляю, — сказал Мирошин инженеру-плановику, и тот хитро, понимающе на него посмотрел, помедлил и, снова порывшись в портфеле необъятных размеров, все так же не сводя с него всепонимающего взгляда, вытащил очередную статью и протянул журналисту.
— Напечатайте. Нет, сейчас читать не стоит. Зачем утруждаться.
Мирошин взглянул только на начало статьи и все понял: это была одна из тех старых, которая начиналась с «поднимающейся багряной зари над заводом». Артамонов быстро забрал статью и вытащил из нагрудного кармана две новые заметки.
— У нас еще кое-что…
— Художества не надо, — перебил Мирошин. — Давайте лучше в цех сходим, походим по заводу.
— Это я мигом. Это я и желал предложить, вот возьмите статейки, посмотрите на досуге, много времени не уйдет. Станки с программным управлением желаете посмотреть в механическом цеху?
Инженер-плановик аккуратно встал, забежал вперед и распахнул перед корреспондентом дверь, и по длинному коридору он шел сзади и сбоку и в то же время как будто чуточку впереди, успевая открыть вовремя то одну дверь, то другую, и все полушагом, полубегом, не выпуская лицо корреспондента из виду. У очередной двери как-то странно наклонялся вперед и, глядя на Мирошина, каким-то образом оказывался впереди, мгновенно протягивал руки, которые за какой-то миг словно вырастали до невероятной длины, открывал дверь, и снова у него были обычные короткие, даже чуть пухловатые руки человека, физически не работавшего. И при всем при том улыбаясь, хитро посматривая журналисту в глаза.
Так и в цехе, в длинном душноватом помещении, в котором плотными рядами, стояли токарные, фрезерные, строгальные станки, Артамонов в самое последнее мгновение опережал Мирошина — чуть-чуть, — но так, что это сразу бросалось в глаза. Он будто даже и желал этого. Сергею неловко стало, и он пожалел, что пошел с ним в цех, где так приятно пахло маслом, каленым железом, где можно было вдоволь наглядеться на работающие станки, на работающих, людей — токарей, слесарей, фрезеровщиков, и ему даже приглянулся молодой паренек, совсем ребенок, сосредоточенно стоящий за токарным станком. У него были такие тонкие руки, такой вид. Мирошин подошел к нему, попросил обточить деталь, расспросив, по обыкновению своему, обо всем: о матери и отце, работе и учебе… И направился дальше. Чуть поотстав, торопкой иноходью бежал сзади и в то же время будто немного впереди плановик-инженер и своим елейным голосом, от которого Мирошину было неприятно, рассказывал о том, о чем корреспонденту можно и не рассказывать, что знают все — предположим, даже прима-балерина…
Сергей постарался поскорее уйти. Станки с программным управлением теперь не интересовали. Инженер-плановик испортил ему сегодня весь день — своими статьями, голосом, походкой, один вид его раздражал Сергея.
Был вечер. Красное небо над мостами обещало ветреную погоду, сырой воздух был еще тепл.
Мирошин не спеша брел по набережной, увидел впереди себя женщину. Чем-то со спины женщина была похожа на Зину. Он догнал ее… Это была не Зина. Потом долго глядел ей вслед, пока она не скрылась, и повернул обратно.
У старушки в комнате Мирошин посидел некоторое время, глядя на еще светлые окна, досадуя и ругая время, которое никак не хотело торопиться. Столько ходил, думал, ждал, а еще был только вечер, ранний вечер в сибирском городе. Старушка вязала за столом, накинув на плечи пальто, иногда оборачивала свое бледненькое личико к нему и укоризненно качала головой. Недоумение было на ее лице, в ее маленьких глазках. Она будто говорила: «Зачем ты сидишь здесь?» Мирошин и сам этого не знал, зачем сидит. И возможно, ему казалось, что старушка думает именно так, а не иначе, потому что он сам себя спрашивал об этом же.
— Времячка скольки? — спросила старушка.
— Да семь часов вечера, — ответил Сергей и подумал, что ведь и на самом деле еще рано.
— Ох, ох, — повздыхала она, откладывая вязание. — День нонешний утоп. День и ночь — сутки прочь.
— Да, — сказал он. — Спать лечь — время быстрее и пролетит. Утоп, говорите?
— Оно, вишь, и так не шибко медлит. Уж летит как, уж летит как — будто один день, так быстро жизнь прожила. А уж мне-то годков будет восемьдесят три.
— Да, немало, — сказал он, думая о Зине. — А Зину давно знаете?
— Зину? Ее-то давно. Чай, сродственники давношние. Давношние сродственники — вишь как. Давношние… — многозначительно добавила она. — А ты вить ей никак не братец?
— Нет.
— Нет? А кто ж ты ей? Кто ж ты ей?
— Мы из одного села, — нашелся он и виновато заморгал, подумав, что даже вспоминать о Зине приятно, о том, что они из одного села, учились в одной школе. И комната, которую он так возненавидел за убогость, теперь, узнав, что старушка родственница Зины и эта родственница жила здесь, уже не казалась ему такой убогой, и он посмотрел вокруг повлажневшими глазами.
XVI
Проснулся Мирошин в шесть часов, услышав сквозь сон звонок. Звонил телефон. Он в этом не сомневался, потому что и во сне сто раз за ночь ему снился этот звонок. Но пока натягивал брюки, надевал туфли… открывал дверь… Телефон замолчал.
В семь часов заворочалась старушка, приподнявшись поглядела на него, потом встала и поставила чайник греться на кухне, попила чаю и снова легла спать.
Мирошин оделся, сел у окна, ожидая звонка. Но вот уже было девять часов, а телефон по-прежнему молчал.
В половине десятого, когда солнце стало смотреться прямо в окно, проснулась старушка, молча оделась и ушла.
В двенадцать часов Мирошин выглянул в коридор: не снята ли телефонная трубка. Нет, трубка была на месте. На полу перед телефонной тумбочкой сидел черный лохматый кот и выжидательно глядел на телефон, будто тоже ждал, когда тот зазвонит.
Мирошин побрился, слушая сквозь жужжание бритвы, не раздастся ли телефонный звонок. Потом долго сидел у окна, наблюдая за прохожими, будто ничего не случилось, будто не ждал звонка, а в голове шумно пульсировала кровь, стучало в затылке, и от этого стука, от шума, хотя он и старался не волноваться, было противно. Сергей старался ни о чем не думать, уверенный теперь, что звонка не будет, смотрел на улицу, где медленно, не торопясь, спешили женщины и мужчины.
Почему не было звонка? Неужели она не могла позвонить?
Уже прошло столько времени… Он зло сплюнул и лег на диван, решив пойти поесть в «Пирожковую», не спеша все обдумать и принять одно твердое и окончательное решение. Что это могло быть за решение, он не знал. Да оно его и не интересовало. Главное — нужно было принять его. Мирошин лежал, положив руки за голову, забросив нога на ногу, и смотрел в окно. Казалось, вот-вот зазвонит телефон. Явственно представлял, как она, запыхавшись, торопится в телефонную будку, набирает номер, и вот… вот… Но звонка не было.
Вечером, когда пришла старушка, он, ни слова не говоря, ушел на улицу. Широкая красная заря, так же как и вчера, остывала под порозовевшим от нее мостом, обещая ветер. Но было тихо, тепло, и в этой широкой заре, в тихом теплом вечере чувствовалось ожидание.
Сергей постоял на набережной и направился к мосту, думая и пытаясь найти причину того, почему она не пришла и не позвонила, но, сколько ни придумывал причин, ни одна не казалась убедительной. Не могла же Зина просто так не прийти? И он стал вспоминать… Это было, кажется, в седьмом классе, когда они с Толькой Филимоновым в переулке, недалеко от Зининого дома, лежали на молодой травке, о чем-то (сейчас он не помнил) говорили и вдруг увидели Зину. Было сумеречно. Филимонов побежал навстречу, чтобы напугать ее, а он, Сергей неожиданно почувствовал ревность и сразу же вспомнил, что ревность чувствовал и раньше… Потом сильно болел, долго не ходил в школу, и она пришла от класса навестить его, и он тогда заметил, какое у нее красивое лицо, какие мягкие волосы, и впервые подумал, что любит ее… А это было, кажется, еще в шестом классе.
Он подумал, что они так связаны всей своей жизнью, так хорошо знают друг друга, что просто невозможно ей не понять его. От этих мыслей Мирошин почувствовал уверенность в себе, какое-то право на эту любовь, на Зину и быстро заспешил к ее дому. Но чем ближе подходил, тем меньше в нем становилось уверенности в себе, в том, правильно ли поступает.
Мирошин остановился в переулке. Дом был деревянный, довольно большой, видать, свой. Два окна ярко светились. За занавесками кто-то ходил. Сколько ни всматривался он, не мог разглядеть ходившего. То казалось, что ходит женщина, то мужчина.
Сергей, кляня себя, воровски оглядываясь, приблизился к забору, отыскал щель и поглядел во двор, куда выходили два окна. В это время дверь в доме отворилась, и во двор вышла Зина. В руках держала тазик с водой. Поглядела быстро влево-вправо, отошла немного от дверей и выплеснула воду. Он тихонько позвал ее. Зина пристально поглядела в его сторону, не спуская глаз с забора, подняла стоящее на завалинке ведро с водой и вылила воду в тазик.
— Зина, — позвал Сергей громче. Она выпрямилась, затем прислонилась к стене дома и помотала головой. В дверях показался высокий, худой мужчина в белой сорочке, с бородой.
— Зинульчик, куда ты поставила горчичку? Оленок колбаску обещала есть только с горчичкой.
— Не знаю.
— В холодильнике нету. Я смотрел.
— Посмотри в шкафу.
— А ты почему стоишь, а ты почему это даже в темноте бледная? А ну-ка заходи мигом в берлогу.
— Посмотри в шкафу, — повторила она.
— Посмотрю, Зинульчик, посмотрю. Марш-марш в берлогу. А ну-ка, а ну-ка торопись…
Мужчина взял тазик с водой, оглянувшись, пропустил ее в дом и затворил дверь, потом снова отворил дверь и зачем-то посмотрел по сторонам. Сергей отпрянул от забора, и, не выпуская из виду освещенные окна, постоял, раздумывая и не зная, что предпринять, и направился в ресторан.
Поев, долго ходил по городу и вернулся к старушке поздно. Отворила ему дверь соседка по квартире. Старушка, тонко посвистывая носом, спала.
Утром Мирошин проснулся еще раньше, чем накануне, полежал, пока старушка не позавтракала и не ушла, встал, побрился и снова лег, давая себе слово подождать до одиннадцати звонка, а затем плюнуть на все и пойти завтракать. Лежал, как и вчера, глядел на окно, чувствуя во всем теле деревянное спокойствие, от этого внешнего спокойствия, от того, что лежал и ждал вот уже второй день, но она не звонила, хотя была жива и здорова, как смог он в этом недавно убедиться, каждая клетка в нем дрожала от напряжения. Стало горько и обидно от злости на Зину, на себя, и он с сожалением подумал, что не вовремя родился на свет, что, видимо, всегда ему будут сопутствовать одни неудачи. И с необыкновенной ясностью представил свою прожитую жизнь, начиная с того момента, что впервые запомнил, и до вчерашнего вечера, когда в ресторане выпил бутылку водки и не опьянел, выпил, чтобы напиться, чтобы этим отомстить ей, Зине, которую, конечно, любил и которую вчера ненавидел всей яростью своей истосковавшейся по ней души.
Мирошин лежал, и не было в нем ни любви, ни ненависти. Как и вчера, казалось, вот-вот зазвонит телефон, и она придет, и все тогда станет на свои места; он расскажет ей что-то такое, отчего невозможно будет его не понять. Но звонка не было ни до обеда, ни после…
Сергей, будто налившись чем-то тяжелым, вышел на улицу, выпил две кружки кваса, поел и направился на набережную.
Постоял, глядя на реку, затем быстро зашагал прочь от реки, сел в троллейбус и, проехав некоторое время, сошел. Возле школы на скамейках сидели взрослые ребята, учащиеся вечерней школы, курили, разговаривали.
— Она уже не работает. Ушла от нас, — сказала пожилая женщина, откинув на спинку стула грузное свое тело и глядя равнодушно на него. — Не знаем причины. Ушла — и все.
— Как? — только и спросил, холодея, Мирошин, чувствуя, как рвалась последняя ниточка, так его все это время обнадеживавшая, вспомнив про которую, он всегда испытывал не только тайную надежду, но и полную уверенность в своей силе. Теперь ниточка оборвалась.
XVII
Над полями и околками густились, клубясь, облака, а там, на горизонте, повисли гибкие темно-синие полосы дождя, сквозь которые просвечивало нежное белесое небо, и на какой-то миг угадывались за ними свет и какое-то оживление, потом будто опускался занавес и вокруг мутной пеленой клубился мокрый туман.
«И все-таки она позвонила, — думал он, слыша, как чаще и весомее стучали капли по верху автобуса и как через минуту косой дождевой поток упруго захлестал по окнам и тонко зазвенел автобус, загудел протяжно от хлесткого напора сильного, струистого дождя. — Сказала, что не может встретиться, просит уехать его хотя бы в деревню. Позвонила ровно в полночь. Не хотела звонить совсем, но вот уже пятый день не спит из-за этого, зная, что он ждет и волнуется… И позвонила». «Не ищи меня сейчас, не ищи. Не надо, у меня дети… Подумай, Сережа. Я тебя люблю, ничего плохого не подумай, Сережа… Я такая дрянь, но что делать? Что?»
Дождь с каким-то остервенелым восторгом хлестал по автобусу по размытому проселку, и автобус, пробуксовывая, медленно тащился. До Бардино было недалеко, но несколько раз шоферу и пассажиркам приходилось выходить под дождь и толкать автобус. Шофер, молодой чумазый парень, сосредоточенно и испуганно глядел на усиливающийся дождь, отчаянно крутил баранку, когда автобус, суматошно вертя вхолостую колесами и завывая мотором, стремительно заносило в сторону. Привстав на полусогнутые ноги, парень прикусывал губы, и его смуглое лицо проступало красными пятнами, и только суженные глаза наливались испуганным бешенством, и он шепотом, страшно проклиная бога, матерился, а автобус, как щепку в крутую волну, несло уже в другую сторону, и пассажиры, замирая, хватались за поручни…
К дяде в дом Сергей ввалился мокрым с головы до ног.
В прихожей тикали часы; на столе стояли немытые чашки, миски; немо и простодушно смотрела на него с печки кошка; ходившая в сенях курица, когда Сергей открыл дверь, прошмыгнула между ног и тут же, вскочив на стол, принялась, точно ее никогда не кормили, яростно долбать клювом кусок желтого сала.
— Кш-ша! — махнул на нее рукой Мирошин, и она, кудахтая, с шумом кинулась к окну и била крыльями до тех пор, стараясь проломиться сквозь стекло, пока он не поймал ее.
Сергей сел у окна и уставился во двор, чувствуя, как медленно стекает нагревшаяся на его теле вода. Дождь густо лил, но теперь не с такой яростью. Улица была пуста, и только пузырящиеся лужи будто жили сами по себе, вспучивая на поверхность мутной воды россыпи больших и малых пузырей. Дом Зины виднелся из окна.
В коридоре стукнула дверь, и вошел дядя Антон.
— Эт-та ты? — сонно спросил он, протягивая холодную мокрую руку и жалобно глядя ему в глаза: — Эт-та ты не в самый, значит, раз пожаловал, племяшек.
— Здравствуйте, дядя. — Сергей радостно бросился к дяде, будто не видел его по крайней мере лет сто, обнял, тыкаясь в холодные заросшие щеки, ощущая внутри себя хлынувшее вдруг в душу чувство искренней, родственной любви к этому сонному, пахнущему кислым старику, но он знал, что радуется не дяде, а какой-то внутренней своей радости: все-таки Зина позвонила! Дядя сел, присел рядом и Сергей.
Дядя молча посмотрел на племянника.
— Эт-та ты не в самый раз, — сказал он тихо, тоскливо, поглядел вбок и виновато заморгал.
— Почему же, дядя?
— Да эт-та вот уж схоронили тетю твою, значит, Лизу.
— Тетю Лизу?! — крякнул Сергей, подпрыгнув на скамейке, и глядя на дядю, и не веря ему, и ругая уже себя за только что вырвавшуюся из него радость.
Дядя положил руку на плечо племянника, вздохнул, потом трудно встал и ушел в горницу. Сергей растерянно огляделся. Все так же стоили печка, стол, старинная швейная машинка «Зингер», прикорнув в углу, накрытая куском черного ситца, лавки, кровать, под которой сидела в корзине клуша и, не мигая, смотрела перед собой. Тапки тети Лизы, все еще в засохшей глине, подле печи. И никто их не убрал. Все было как прежде… Сергей увидел в дверь сутулую дядину спину у окна в горнице и понял, что все так, как сказал дядя Антон, все будет жить своей прежней жизнью — и дом, и стол, и печь, даже вот эти старые тапки в глине, и не будет только тети Лизы, тихой, удивительной доброты старушки, которую никто всю жизнь не замечал. Если, предположим, нужно было сходить весной за ведром картошки к тете Лизе и по возвращении тебя спрашивали, у кого одолжил, ответ был один: «У дяди Антона». А ведь дядя Антон об этом ведре картошки и не знал. Тетя Лиза ушла, никого, кроме мужа, не потревожила в этой жизни, и от сознания этого особенно было больно Сергею. Горько думалось: умри он, уйди из жизни, никто, кроме, может, Максимки, матери да братьев и сестер, не вспомнит его добрым словом. Все будет как прежде, но его не будет. Неужели и Зина забудет? И он с горечью подумал, что так и надо, уйти бы только побыстрее, избавившись от всех этих волнений, и пусть, пусть никто его не помянет добрым словом…
— Как же? — спросил тихо Сергей, подходя к дяде Антону, думая, что, возможно, недаром в первый день приезда в Омск его так тянуло в Бардино. Что его толкнуло вернуться? Доехал до Бугаевки, и сердце у него ныло, так ныло… И он вернулся в Омск. В горнице еще сохранился запах воска, лекарств и чего-то такого, что всегда бывает в помещениях, где находился покойник. Здесь стояла кровать, на которой тетя Лиза померла. Лавка, на которой лежала мертвой…
Дядя, не отвечая, смотрел в окно. Дождь перестал, но еще беспокойно дышали лужи, и небо темнело суматошно текучими тучами.
— Она чем болела, дядя?
— Да эт-та теперь все одно. Давно балакали: рак у ее. А кто ж в эту поверь станет верить. Рак, сказывают, быстро идет, а она ж хворала, считай, десять летов. Спинушка у нее шибко побаливала, а кто ж его знает, чего было. Кто? Ни одному господу не известно, потому как скрыто все в человеке, внутри его. Человек внутри себя сам по себе. Кто ж его знает? А ходила! — Он вдруг повернулся к Сергею и удивленно проговорил: — А ходила, гляди сам себе, ходила до последнего дню… А я, дурак: Лизка да Лизка!.. А надо уж было… Лизонька. Звать… Она уж на скате была. Ну а кто ж ее знал? Кто? Сколько лет прожили… Она не перечила ни в чем, золотой, считай, была… Ну не без того, чтоб, значит, поворчать, не без того, но… Все… с лаской. А только один раз сказала: «Смотри, Антоня, смотри, умру, как ты будешь…». Если б только знать, я б ее на руках носил… Лизавета-а… — Дядя заплакал.
Дождь совсем перестал, они вышли во двор, сели на мокрую завалинку и сидели некоторое время молча. Воздух был сырой и теплый, по двору ходили не спеша куры, высматривая в грязи дождевых червей; петух, уныло опустив подмоченный хвост, посматривая одним глазом на Сергея, вздрагивал, поднимая голову, и кокотал, когда вдруг корова затопчется в сарае или поросенок завизжит в закутке.
— И давно? — спросил Сергей, отрешенно глядя в небо и чувствуя внутри себя такую жалость ко всему…
— Да недавно. Дней будя двенадцать. Ох, я не могу, как она посмотрела в последний раз… Лицо задергалось, глаза открылись… Так жалобно поглядели на меня в последний раз… Век не забуду! Что было в глазах… Почти полвека вместе…
— Как же, я не знал? — спросил досадливо Сергей.
— Да отбил телеграмму в тот день, значит, в Москву. Сыновья мои приехали и уж разъехались.
— Я в Омске больше недели. В первый день хотел приехать, довез автобус до Бугаевки, и я что-то, дурак, вернулся в Омск.
— Ну?
— Все по делу моему…
— А…
На землю оседал мокрый теплый вечер. Дядя, положив на колени огромные красные руки и смотря на улицу, на которой никого не было, молчал. Ему было тяжело. Он никак не мог смириться с тем, что вот только что, совсем недавно, была Лиза и уже нет ее Сергей все порывался что-то спросить. Но как-то неловко спрашивать в таких случаях, думалось ему, нужно говорить о чем-то постороннем, значительном, — не задеть бы еще свежую рану, а значительность разговора должна уравновешивать тяжесть утраты.
Дядя ушел на кухню и, став на колени, принялся раздувать огонь. Но сколько ни дул, мокрый хворост не загорался, со всех щелей печи сочился беловатый дым.
— Дьявол, на! — Дядя вскочил и, зачерпнув полную кружку, воды, плеснул в печь. — На! Гори теперь! Ты у меня подымишь, зараза! Подавись ты трижды, проклятая печь! Ты и Лизавету изводила, проклятущая, чтоб тебе!
Сергей даже к дверям подошел посмотреть, на что дядя с таким остервенением ругается.
Дядя Антон, оставив печь, принялся доить корову. Занимаясь делами, дядя чувствовал себя лучше, суетился, громко сам с собою разговаривал, и, глядя на него, казалось, что ничего страшного не случилось, вот-вот он крикнет: «Лизка! Я нанимался кричать?!» Но стоило войти в дом, как, видимо, он сразу представлял жену, ее муки, все, что совсем недавно здесь происходило — ее мертвую, с пятаками на глазах, тонкие, высохшие совсем руки, на которых она проносила почти пятьдесят лет истертое алюминиевое кольцо, подаренное им в день свадьбы, односельчан, запах свечей, запах смерти, — и ему становилось не по себе.
Сидели они за столом у окна, ели сало, сметану с творогом. Под розовым абажуром ярко горела лампа, бросая по углам прозрачные тени; сиротливо тикали ходики. И в этот час вечера, когда необыкновенно тихо кругом, а за столом, аппетитно уплетая сало, сидит дядя, а за окном темно, и все кажется, будто кто-то ходит по двору и все старается заглянуть в окно и почему-то не заглядывает, как хорошо могло быть, если бы не умерла тетя Лиза, если бы еще не знать, что в городе, совсем отсюда недалеко, возможно, в это самое время думает о нем Зина.
Сергею не хотелось больше расспрашивать о тете Лизе. Ночью, когда лежал не печи, слушая, как кряхтел, ворочался на кровати дядя, неожиданно подумал о Зине, о последнем свидании, и даже привстал, явно вообразив ее, родную, близкую, и неожиданно подумал, что нехорошо, когда рядом дядя Антон тоскует об умершей жене, вспоминать Зину. Но через минуту снова представил ее, сел на печи, потом откинулся на спину…
А утром, когда рассвет стал проклевываться и заголубились окна, укрылся одеялом, намереваясь уснуть. Дядя встал чуть свет, натянул, поеживаясь, холодную одежду и вышел на улицу. Слышно было, как доил корову, гремел ведрами, сонно сопел и охал, и кашлял, и кормил кур, гусей, поросенка. Сергей в это время слышал необыкновенно обостренно, настолько явственно представлял все, что делает дядя, что от напряжения устал. И все-таки заснул.
Дядя разбудил его часов в десять. Радостно было вставать: в доме светло и просторно от яркого солнечного света, бьющегося прямо в окна, от свежего воздуха; утренние запахи, свет воспринимались необычайно остро, и обоняешь и видишь их ярко, точно и, помимо сознания, начинаешь радоваться, полно и глубоко дышать.
На улице за ночь подсохло. Земля подернулась тонкой илистой пленкой, дышала ровно и глубоко; тополя и березы, глянцем отсвечивая на солнце, лениво шевелили в прохладном воздухе листочками, а верховой ветер был еще прохладен и несмел.
Наскоро позавтракав, они направились на кладбище, прихватив с собой лопаты. Но поправлять могилку не пришлось, так как грязь вокруг свежей могилы тети Лизы стояла глубокая, и надо было выждать, чтобы подсохло. Направились обратно, дядя спросил:
— Надолго ли приехал, Серега?
— Дней на десять, наверное.
— Эт-та хорошо ты придумал: вот приехал.
Сергею неловко было признаваться, что приехал случайно, что и не думал приезжать, и промолчал. Дядя тяжело шел, шумно сопел и был занят своими мыслями. Сергей глядел вокруг — на леса, поля, на деревню и думал, что поживет здесь дней десять, отдохнет от забот, тревог а потом уедет в Омск и там совершенно твердо потребует от Зины определенного ответа. Земля была мягкой, податливой, чавкала под ногами; они шли напрямик, по лугу. Трава росно блестела на солнце, жаворонки уже вовсю пели, и было так прекрасно вокруг, и мысли у Сергея появлялись ровные, спокойные, убедительные; все тревоги как-то сами собой отодвинулись на второй план, и он тут же дал себе слово трезво и спокойно подумать о своих отношениях с Зиной. Сейчас, когда так хорошо понял и прочувствовал дядину скорбь, его собственная казалась ничтожной. Он глядел вокруг, и все будто убеждало его в этом.
Дядя остановился и спросил:
— Что?
— Ничего я не сказал…
— А мне, это… послышалось, будто кто сказал…
Сергей посмотрел внимательно на дядю, сразу все понял, но ничего не сказал и уже во дворе, когда сел на завалинке, прогнав петуха, сказал про себя:
— Показалось…
XVIII
Весь день Сергей трудился на огороде, вскапывая с дядей грядки под огурцы и помидоры. Раздевшись по пояс, молча, неторопливо работали. Изредка Сергей останавливался, глядел на зеленые луга, леса и от яркого света зеленого воздуха, птичьего гомона радостно, полно вздыхал. Во дворе Зининого дома стояла корова. Сергей даже вздрогнул, увидев во дворе корову: значит, в доме живут. Не она ли? И стал наблюдать за дверью. Никто не выходил до вечера. Корова ушла. Дом одиноко стоял, уставясь окнами, прикрытыми ставнями, на улицу. Никого не было ни во дворе, ни на огороде, словно никто совсем и не жил в том доме, не ходил по огороду, не сидел ни разу под тополями, на лавке у забора, и в этой сиротливости, в этом запустении была какая-то жестокая неумолимость — то ли времени, то ли еще чего-то. Это ощущалось Сергеем настолько остро, что он не мог долго смотреть на дом. Эта неумолимость была как судьба. И он впервые подумал, что вот это стечение обыкновенных обстоятельств, которое у него сейчас с Зиной, — это стечение и называется, как бы он ни хотел, судьбой.
Вечером на кухне, вскипятив самовар, пили чай. Пахло дымом и чаем. Дядя вспотел, пил кружку за кружкой, начинал рассказывать о севе, о непорядках в колхозном саду, о том, что думает взяться за колхозный сад. Дядя говорил, глядел на племянника и был доволен, что тот слушает внимательно и серьезно. На самом деле Сергей думал о Зине.
Солнце село, но раскаленное небо еще плавилось, и жаркая палевость стекала туда, за горизонт; на земле не было теней, и вокруг ясно и одинаково видно. Тихо на всей земле и уютно. Дремали куры, готовились ко сну гуси; слышно, как во дворах доят коров и сзывают ко сну детей. А в небе, над лесами, уж сторожила жиденькая луна, медленно наливаясь белесостью. Бездумно и сонно повиснет она над землей, и будет казаться, что все в мире изменчиво, и только луна вечная, и неизменен ее взгляд, обращенный к земле.
Сергей напился чаю и вышел во двор.
— Значит, поди, спать пора, — сказал дядя, направляясь за ним, вытирая мокрую шею, лоб, бормоча что-то себе под нос. И только сейчас Сергей неожиданно увидел, как постарел дядя Антон, похудел и как свободно висит на нем рубашка, а штаны, залатанные еще тетей Лизой, сильно топорщатся сзади, дядя будто стал ниже ростом.
— Спать так спать, — ответил Сергей, зевая. — В деревне раньше ложатся спать. Это хорошо.
— Эт что, эт, конечно, если во внимание брать нашу ранность для поля, хозяйства, — сказал задумчиво дядя и сел на завалинку. — Мы с Лизкой, поди, раньше сидели долго, семечки лузгали, сидим и не заметим, как время пролетало. Уж больно она любила со мной сидеть. Значит, ты, говорит, Антоша, сиди, пусть у нас ничего не будет, но если сидишь рядом, значит, уж хорошо. А я-то, дурень, я не понимал ее. Если б знать… Вот человек как устроен… Мало дано — да много спрошено.
— Да, — сказал Сергей. — А вот скажи, Алексеевы не приедут этим летом в Бардино?
— Не приедут? Нет, не приедут. Они не могут. Писано письмо Зинкой, прислала своим сродным, сказывает: не ждите, не могу. А у тебя к ей шибко внимание нежное?
— Не то.
— А чего же?
— Да так, — ответил Сергей и поспешил спать.
— Слушай, Серега, — остановил его дядя.
— А?
— А вот в своей статейности ты пишешь вот о Бардино, а что же все похоже на Бардино? Я вот читал… С Лизкой мы вместе…
— О Бардино.
— Молодца! В нашей родне умственно все были вон какие! А о чем статейничаешь нынче?
— Подожди, дядя, напишу обо всем, — проговорил торопливо Сергей и ушел спать. Приехав в Бардино, он, боясь ошибиться, тайно от себя рассчитывал, что Зина тоже приедет, и строил какие-то невероятные планы…
Ночью на печи было душно, и он выходил несколько раз во двор, сидел на завалинке, глядел на полную, яркую луну. На земле было спокойно. Стояли, поблескивая листвою, околки, кое-где блестели стеклом лужи, и в полутемноте, в мокром еще воздухе, казалось, происходило нечто непонятное, но полное значительного смысла, который нельзя понять, но можно будет наполниться им, этим непонятным смыслом, ощутить в себе, не понимая ее, эту значительность, и Сергей, чувствуя, как толкается в ребра сердце, решил, что уедет вскоре, что не может сидеть здесь, в Бардино, в тупом бездействии ходить, любоваться природой, так как ему нужно что-то делать, работать… Конечно, здесь хорошо. Но не отдых сейчас нужен, а работа, которая отвлечет его.
Там, за лесами, темнело, и казалось, оттуда доносятся стрекотание кузнечиков, крики ночных птиц, темнота наполняет сырой лунный воздух шорохами, вскриками, всхлипами… Сергей подошел к колодцу, постоял возле тополя и медленно направился в поле, с мольбой смотря округ, будто старался что-то узнать у этой ночи, что-то понять, прощаясь с нею надолго. И это небо, луна, и эти удивительные, припущенные непонятно откуда взявшимися тенями луга, полные ночной суеты насекомых, и эти волной накатывающиеся запахи молодого бурьяна, тополя — все это, несмотря на его старание, никак не могло вытеснить забродившее в нем острое чувство любви…
Сергей брел по лугу, ощущая мягкую податливость влажной травы: сторонкой, подле околков, бродил так же одиноко туман; еще негустой, он собирался в мелкие табунчики, набирался сил…
Сергей сел возле одинокой березы, под которой сидел в прошлом году, и, пытаясь как-то сразу, одновременно понять все, вобрать в себя невозможное, — и дядю с его горькими думами о прожитой жизни и умершей жене, и тетю Лизу, лежавшую в могиле, и Зину, и ее мужа, и Светлану с ее любовью к себе, к вещам, возможно, к кому-то из мужчин, которого он еще не знает, ее мать и свою мать, даже главного редактора и Артамонова, Бардино и луну, воздух, — все хотелось ему понять единым махом, ощутить что-то, почувствовать это что-то… Но только сжался Сергей в комок, обхватив ноги, и задумчиво уставился на луну. Он чувствовал, что в нем все есть от всего — от его самого до воздуха и луны, вот-вот оно, но в то же время вроде и нет… ничего нет.
«Дорогой мой, — очнулся Сергей и, прищурившись, глядя вокруг, — дорогой мой, вы пытаетесь понять самого себя. Вы пытаетесь свести все концы воедино и напрасно тужитесь, ибо этим самым единым, этим узлом являетесь вы. А теперь, отталкиваясь от этого единого, определите лучше отношение свое к каждой стороне в отдельности. Вот именно — в отдельности. И тогда вы поймете».
Утром Мирошин не сказал дяде, что собирается уезжать. Как бы дядя ни повернулся — лицом ли, спиной, во всем виделось ему что-то жалкое, недолговечное, будто дядя был уже не жилец на этом свете. Сергей докопал грядки, приволок из леса несколько жердин, чтобы поправить развалившийся забор, а дядя помогал, насовав полный рот ржавых гвоздей, крепко держал жердь своею сильной волосатой рукой, потел и с остервенением вколачивал гвозди в жерди. Дядя работал не торопясь, долго примериваясь. Сергей торопился, отбил себе пальцы и, глядя на толстую, красную, в реденьких рыженьких волосиках дядину шею, тряс прибитой рукой и подумал, что с такими сильными руками, с такой могучей шеей можно прожить еще долго, пожалуй, дольше его, Сергея. И тут же спала с него жалость, не дававшая ему что-то предпринять, и он сказал:
— Дядя, завтра еду.
Дядя стоял на колене и прицеливался ударить по гвоздю. Рука его замерла, помедлив, сильно ударила… но мимо. Гвоздь согнулся.
— Чего это? Не мое конешное дело, значит, Сергей… Гляди не оступись. Ты вон чего добился, с тебя и спрос круче…
— Ничего я не добился.
Дядя вытащил гвозди изо рта и удивленно, с искренним изумлением уставился на племянника, потом сплюнул на руки и аккуратно прибил последнюю жердь.
XIX
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои…
Ф. ТютчевПервым делом, приехав в Омск, решил сходить к Зине. Сергей был так решителен и уверен в себе, хотел зайти сейчас же к ней домой, но, когда приблизился к ее улице, увидел деревянный дом, решимость спала, и он, свернув в переулок, где поджидал раньше, стал ходить взад-вперед. До вечера проторчал в переулке, но Зину не увидел. Пришел к старушке. Старушка не удивилась его приходу, ничего не спросила, провела в свою комнату и, так же ни слова не говоря, постелила ему на диване и села пить чай.
Сергей лег молча, не сказав старушке ни слова, и, повернувшись лицом к спинке, постарался уснуть. Лежал долго и терпеливо, пока старушка не попила чаю.
— Я вам заплачу завтра за квартиру, — сказал он, когда старушка погасила свет, собираясь спать.
— Заплачено.
— Как заплачено? Деньги у меня есть.
— Зина, вишь, в прошлый раз заплатила мене за месяц.
— Понятно, — ответил он, раздумывая, отвернулся к спинке и стал гадать, почему Зина заплатила за него.
В час дня Сергей пообедал в той самой столовой, где они обедали в первый день его приезда, посидел на набережной и медленно, обдумывая свое положение направился на Северную улицу. Долго ждал. Часа в четыре увидел старушку, свою хозяйку, которая не спеша отворила калитку и вошла к Зине во двор. Сергей не знал, что и делать. Ведь все удивительно просто: нужно открыть калитку, войти. И дал себе слово, что, как только старушка уйдет, тотчас же направится к Зине. Через час старушка появилась на улице вместе с Зиной. На Зине было синее в крупный белый горошек платье, резиновые шлепанцы, волосы связаны в пучок на затылке, лицо озабоченное, раскрасневшееся; она о чем-то торопливо говорила старушке, идя рядом с ней, потом остановилась, попрощалась и направилась к себе.
Сергей молча, боясь, что она уйдет, догнал Зину у самой калитки. Она с ужасом поглядела на него.
— Ты?
— Я.
— Ты зачем, зачем пришел? — быстро проговорила она, все еще не опомнившись, испуганно глядя на него. Она побледнела, у нее дрожали губы. — Господи, как ты меня испугал, я прямо отдышаться не могу.
— Здравствуй. Я уж отчаялся тебя увидеть…
— Подожди. Подожди. Я сейчас оденусь, подожди немножечко. Лучше ты иди, а я тебя догоню. Оденусь и догоню. Иди. Я мигом.
Минут через пять Зина догнала его. Она была все в том же платье, только туфли надела. Свернули в переулок, остановились. Она все оглядывалась, будто собиралась вернуться домой, потом взяла его за руку и повела, и он почувствовал, как горяча ее рука. Шли долго по переулку, потом по улице и снова по переулку.
— Я был у дяди, — сказал он и тут же подумал, что сказал не о том, нужно сразу спросить, любит его или нет. Если по-прежнему любит, значит, нужно решиться…
— Я знала.
— Кто сказал?
— Тетя Ксеня.
— Какая тетя Ксеня? — спросил он и подумал: «Что я спрашиваю? Зачем я это спрашиваю? Как глупо получается».
Сергей сел в скверике на скамейку, а она стояла рядом, не садясь, все в нетерпеливом, боязливом ожидании. Он встал.
«Всем хорошо, — думал он, глядя на прохожих. — Все удивительно, все будто просто…» По улицам сновали машины, но воздух был чист, пахло недалекой рекой.
— Пошли, — сказала она. — Вот в это здание. Это железнодорожный институт. Тут во время гражданской войны колчаковское правительство заседало.
В вестибюле был полумрак, хотя и горели старые большие люстры; тускло отсвечивал мрамор. Они прошли мимо большой группы студентов, направляясь по длинным коридорам… Один коридор кончался и тут же начинался другой, и так без конца; ступеньки вели вверх, вниз, и, казалось, коридорам, ступенькам и этажам не будет конца. Она торопилась чуть впереди, перед ним мелькали ее белые упругие ноги, и уже на каком-то этаже Сергей, когда она собиралась подниматься на следующий и идти, идти снова долго и утомительно по коридорам и лестницам, идти непонятно, бесцельно, идти и идти, чтобы, возможно, успокоиться, и он не мог понять зачем, хотя чувствовал, что это необходимо, обнял ее сзади и привлек к себе, и она, вдруг замерев на секунду, будто только этого и ждала, жадно прильнула к нему и, вся горячая, торопливая, задыхаясь, стала целовать его…
Они присели на низенький подоконник. У нее подвернулось платье, оголив полные бедра, и она тут же одернула его.
— Зина, ты помнишь наш разговор?
— Я помню, я все, Сережа, помню, только я тебе… Я тебе хотела сказать… Не могу я так. Я тебя хотела попросить об одном. — Она посмотрела на него и, обняв его, тихо проговорила: — Сережа…
— Что ты хочешь попросить? — Сергей встал, словно почувствовал недоброе.
— Обещай мне одно. Я тебя умоляю. — Она заплакала, отвернулась.
— Пожалуйста, но ты скажи, чего обещать?
— Сережа, ты видишь, какая я дрянная… Я тебе доставляю одни неприятности. Но, Сережа, ты помнишь, я была совсем не такая, я раньше не плакала. Помнишь? Это не знаю отчего, Сережа…
— Ну?
— Я в таком положении. Я даже не думала. Я даже не могла представить, что так получится. Лучше бы я тогда отревелась и не пошла… Я одно только хотела узнать, когда пошла за тобой, там, помнишь? Я одно только хотела — хотела узнать, любил ли ты меня раньше? Я не могла представить даже большее, Сережа! Ты же знаешь меня, ты же всю меня знаешь… Ты меня прости, я сама не знаю, что говорю. Но что делать? Но что делать? Я с ума сойду.
— Зина, но я тебя люблю. Я знаю это. Я всегда тебя любил.
— Сережа, прошу тебя об одном — уезжай.
— Но, Зина… Вот…
— Сережа, у меня дети. Как ты не поймешь? Я плохая мать, и хуже ты не найдешь, но пойми, я же им мать, а они мои дети.
— Я их буду любить. Обещаю тебе. Всю жизнь, как своих.
— Но у них же есть отец. Они не сироты. И потом, Сережа, ты посмотри, Сережа, и у тебя то же самое — ребенок. Что ж получается, чтобы нам не страдать, нам на всех плюнуть… Еще горше будет, когда мы на их горе радость нашу попробуем построить… Какой это эгоизм! Это страшно, Сережа. И муж у меня больной, у него туберкулез, ему нужно есть всегда горячее… Он же пропадет. Я его жалею, он же человек, без меня пропадет. И он такой… Я дрянь такая, я гадкая, но он без меня… без меня ему никуда… Пропадет.
— Что же ты предлагаешь? — спросил хмуро Сергей и сел рядом, чувствуя, как все, что окружает его, становится бесцветным и далеким: и потолок, и пол, и окна, и она.
— А разве я знаю… — Она всхлипнула и, зажав лицо ладонями, заплакала.
— Давай будем хотя бы в одном городе жить. Надо же как-то вместе…
— Не знаю. Сейчас я ничего не соображаю и ничего не знаю. Я боюсь чего-то, Сережа; я как увижу тебя, у меня сердце колотится вот так, вот так, и в глазах весь белый свет так и прыгает, так и прыгает. А главное не это, я боюсь, что может что-то случиться. Я не за себя боюсь, Сережа… Дети… Если муж узнает, он не переживет… я так боюсь… Я не за себя боюсь, Сережа… Я бы лучше умерла, чем так жить. Я не за себя, видишь… Уезжай, Сережа. Надо побыть раздельно. Надо. Я это предчувствую. Видишь, надо…
Сергей не ответил. Встал и направился по коридору, слушая, как немо и глухо — то ли в нем, то ли где-то вне его — стучит сердце и как этот стук, нарастая, больно отзывается в голове, и он неожиданно для себя решил: лучше, если он улетит, и им действительно, ему и Зине, надо спокойнее и обстоятельнее подумать обо всем. Она шла сзади и что-то говорила. Он ее не слушал. Главное было решено. Оно давило своей бесповоротностью, словно бездна открылась, куда нужно прыгнуть, и он, зная, что прыгнет, все же думает: прыгать или нет. И хотя Сергей не слушал ее, все, что она говорила, понимал, словно кто-то посторонний жил в нем, слушал и ставил его в известность о ее мыслях.
* * *
На следующий день Сергей улетал. Он все ждал, что Зина приедет его провожать, ходил взад-вперед перед аэровокзалом, видел в стеклянной стене своего двойника и все ждал. На площадь один за другим подъезжали автобусы, из них поспешно выходили пассажиры, а ее не было. Она не обещала прийти провожать, но он ждал. Ровно в двенадцать часов нужно было идти к самолету. Сергей подождал, пока выйдут все пассажиры из только что прибывшего автобуса, — не было, — поднял свой тяжелый портфель и направился к самолету.
— Сережа! — услышал он, медленно направляясь к группе пассажиров, спешащих к самолету. Это была Зина… На ней та же кофточка, которая ей так шла, новые английские туфли, только лицо у нее было совсем растерянное и бледное. Она всхлипывала, в расширенных глазах был страх. Сергей поставил портфель на землю и кинулся к ней…
Она припала к нему и затряслась от плача, и он вдруг почувствовал все ее волнение, всю ее, такую беззащитную и слабую… Какой она сейчас показалась худенькой, маленькой…
— Зина. Зина… обещаешь ждать? Зина?
— Сережа, что ж я без тебя… Тебе пора. Иди… Я буду тебя всегда ждать. Всегда, всегда, Сережа! Всегда…
Сергей побежал. На трапе оглянулся и помахал рукой и потом, когда самолет, заваливаясь набок, круто, так круто, что Сергея отбросило на спинку кресла, набирал высоту, во все глаза смотрел из иллюминатора… Но ее не увидел. Потом увидел шоссе, по которому мчалась «Волга», как и в тот раз, когда улетал…
В аэропорту Домодедово Сергей не спеша сошел по трапу и направился к аэровокзалу, стараясь ни о чем не думать, но ощущал в себе, в голове, в груди и даже в ногах, какую-то необычную тяжесть. Тяжесть эта была не от усталости, а от раздумий, будто каким-то странным образом сгущенных его мыслей и влитых в него — в голову, в грудь, в ноги, и они, эти мысли, то есть что-то горячее, тяжелое, оттягивали голову, как непосильный груз. Он постоянно встряхивал головой, стараясь освободиться от тяжести.
Недели две Мирошин никак не мог избавиться от этого состояния. Он сильно похудел. На работе очень удивились его приходу. Главный редактор, занятый важными делами проходившего в Москве международного симпозиума ядерных физиков, обрадовался преждевременному приходу корреспондента.
— Здравствуй. Садись. Отдохнули? Отличненько. Так-так-так. А не кажется ли вам, дорогой мой, что мы, я и вы, переживаем историческое время, стоим на пороге величайших открытий в области ядерной физики?
— Я вышел на работу, — сказал Сергей, не садясь, хотя главный и сделал широкий жест, указывающий на кресло, и даже чуть-чуть привстал, как бы стараясь придвинуть кресло Мирошину. Сергей догадался, что он очень нужен главному, который чуть-чуть всегда заискивает перед сотрудниками, если ему что-то нужно.
— Как вам кажется?
— А? — спросил Сергей, совершенно забыв, о чем его только что спрашивал главный.
— Что «а»? — удивился главный редактор, пристально глядя на корреспондента, и Сергей видел, как в его глазах появилось недоумение. — Дело не в «а», а в историческом моменте. Дело не в вас, а в моменте. Вы как сопричастник. Бутько один не протянет. Вам нужно вместе. А? Отличненько. Согласен? Да, кстати, как там в Сибири? Тепло? А в вашей деревне воздух свежий? А?
— Свежий.
— Так-так-так. Отличненько. Отдохнули. Но вид у вас не самый презентабельный. Поздравляю вас. Но поздравлять еще не с чем. Так?
— Так, — сказал вслед за редактором Сергей.
— Ну вот и отличненько. Рад. Поздравляю вас. Вам выпишут удостоверение, дадут значок, кстати, полтинник за него оставите секретарше. Как говорил в свое время Юра Гагарин…
— Да.
— Вот и отличненько. Так-так-так. Помните, проверка писем входящих на вашей отнюдь не тонкой шее. Идите.
Сергей только дома вспомнил, что прежде всего нужно было захватить удостоверение, служившее пропуском, а завтра с утра поехать в университет, где перед началом работы симпозиума устраивалась пресс-конференция.
Жена с Максимкой и тещей отправились в деревню к родственникам на все лето. Он постоял на балконе, поглядел на низкое облачное небо, ощущая тоскливую пустоту в груди, и лег спать. Но не спалось. Встал и начал ходить по квартире. Чем дольше и торопливее ходил, тем все больше хотелось ходить и ходить. Пробовал почитать, но, оставив это, опять стал ходить по квартире, чувствуя, как наливается одним желанием, как медленно откуда-то появляется это желание — написать письмо Зине.
Писал часов до двух ночи, потом запечатал письмо в конверт, успокоился и уснул. Он написал все, что думал в последнее время о своей жизни и ее.
Рано утром Сергей уехал в университет. Сидел на пресс-конференции, курил сигарету за сигаретой, написанное Зине заново всплывало у него в памяти. В одиннадцать часов уехал в Кремль, где был дан обед в честь гостей, и опять его интересовали не физики и не симпозиум, а мысли, изложенные в его письме. Вечером написал еще одно письмо.
Мирошин заходил на почту через день, и каждый раз молоденькая девушка коротко отвечала: «Мирошин? Нет». Он молча уходил. И временами острая обида то ли на Зину, то ли на свое бессилие поднималась в нем, и он тут же давал себе слово бросить все, не думать ни о ком и ни о чем. Ведь ей достаточно было написать всего два слова. Только два слова. И Сергей торопился домой. С ненавистью глядел на мебель, которую некогда с такой любовью выбирал, тахту, кресло, письменный стол, телевизор — все, казалось ему, было виноватым в его бессилии, в том, что от Зины нет писем. Он не мог жить в квартире и стал жить на даче.
Часто ночью на даче он просыпался и вдруг ощутимо различал в глухой дачной, позванивающей кузнечиками тишине тонкий, еле уловимый звон, ведущийся на самой высокой, самой тоненькой и хрупкой ноте, так что этот звон тоскливый и печальный, тонкий, жалобный, отчетливо звучал в тишине и исходил будто из него, Сергея. Он садился в постели и слушал, улавливая, как в груди замедленно билось, замирая, сердце, заглушая этот тоненький, готовый в любую минуту оборваться, звон. Что это за звон? Откуда исходил? Будто из груди. Сергей прислушивался: звук, казалось, повисал в воздухе над ним. «Все в нашей жизни, как этот вот звон, — подумал Сергей, — готовый оборваться в любую секунду… Готовый оборваться, исчезнуть. Беречь надо…» И долго Сергей лежал с открытыми глазами, перебирая в памяти все, что хотя бы чуточку указывало на причину того, что Зина не отвечала на письма, и не находил… Мысленно прослеживал заново все встречи с ней, начиная с детства и кончая последним днем… Все напрасно. Как-то раз Сергею пришло в голову: Зина мстит ему. Вот что! Мстит за то молчание — в армии он не отвечал на ее письма. Наконец-то была найдена убедительная причина, и спокойно можно подождать, и эта глупая причина — месть — пройдет сама по себе. Он приободрился, втайне даже торжествуя: пусть подождет, а он теперь знает причину и так же спокойно и тоже по-своему мстительно будет ждать. Он ей ответит этим же, а она не знает. Но он-то знает…
Пока Мирошин жил этим тайным мстительным чувством, все было хорошо. Пролетел месяц, второй, проходил третий… Он снова забеспокоился, уже не до конца веря выдуманной им же причине, но все-таки цеплялся за нее и старался много работать, уклоняясь от командировок.
В конце августа после сдачи очередного номера, вечером, Сергей, не торопясь, как обычно, брел пешком домой. Было пыльно и жарко, и он собирался, придя домой, принять душ, потом засесть за очерк по материалу, который у него был заготовлен давно, и уехать на дачу. Прямо против магазина «Березка», на улице Горького, Сергей увидел женщину и растерялся. Женщина стояла около витрины, разглядывая украшения на манекенах. Зина… Подошел поближе. Это была не Зина. Он долго наблюдал за женщиной, чувствуя, как в нем страшно колотится сердце. Мимо спешили люди, машины. Все стремилось к своей цели… Ему некуда было спешить, его никто не ждал.
«Нет, надо лететь», — подумал Сергей, сел в метро, направляясь на Главный почтамт, ощущая в самом себе горькую жалость к своему одиночеству, к тому, что вот он, Сергей, один в Москве, один на целой земле…
Он взял письмо, которое ему протянула девушка, и, торопливо, на ходу разрывая конверт, заспешил к выходу.
«Товарищ Мирошин С., Зина просила известить вас, что ей очень плохо. Я выполнил ее последнюю волю. Ее супруг К. Зверев. P. S. Больше Зиночка ничего не просила передать».
— «P. S. …ничего не просила…» — повторил Сергей вслух, завороженно глядя в письмо. — «P. S. ничего не просила». Она не просила. Как же она не просила. Чего это она не просила? То есть как это не просила? Почему?
Сергей заспешил по тротуару все быстрее и быстрее, через минуту-другую уже бежал. Но вдруг свернул на мостовую и поднял руку. Такси остановилось.
— На Погодинку! — отрывисто сказал. — Быстро!
Мысли его лихорадочно перескакивали с одного на другое. Он не мог сразу подумать о чем-то определенном. Сергей еще не собирался в Омск, но уже поехал домой за портфелем и деньгами, а оттуда снова на работу, зная, что главный еще там, нужно попросить командировку и, если редактор не разрешит, все равно уехать.
— Отпустите в командировку, — сказал Мирошин, влетая в кабинет к редактору, когда тот занимался гимнастикой.
— В Омск? — спросил главный и положил гантели в шкаф.
— В Омск.
Главный подумал секунду-другую, сверляще и неприятно глядя Сергею в глаза, и решительно нажал кнопку звонка. Вошла молоденькая секретарша.
— Командировку не выписывайте, — сказал резко он, а хотел сказать наоборот, но слово было сказано, и он под него стал подстраиваться. — Полетите за свой счет. Материал по симпозиуму… не ахти. Вы самый толковый. Я надеялся… Что с вами творится, Мирошин? Отпуск за свой счет. Вот так, — решительно заключил он.
— Да. Спасибо, — ответил Мирошин и, не попрощавшись, вышел.
* * *
Самолет улетал утром, и Сергею пришлось всю ночь просидеть на аэровокзале. Овладевшее им в самом начале торопливое, словно лихорадка, чувство сменилось тупой усталостью. Он сто раз перечитывал письмо, откладывал, заново перечитывал, а когда сел в самолет, опять решил перечитать, но вытащил, махнул рукой и сунул обратно в карман, уставясь в иллюминатор, и так просидел до конца пути.
Когда самолет, завывая и содрогаясь, заходил на посадку, Сергей увидел на шоссе, ведущем к аэродрому, «Волгу», и в груди у него что-то ворохнулось, кольнув, — как и в тот раз, «Волга» стремилась к аэродрому, но ведь ее-то, Зины, нет.
С превеликим трудом он нашел такси и поехал на Северную.
— Это вам на какую ж Северную? — переспросил таксист, молодой усатый парень.
— На какую? — спросил Мирошин, глядя по сторонам, с тихим удивлением обнаруживая в себе спокойствие, ощущая в груди неожиданно новое чувство облегченности, которое появляется, когда знаешь: что-то случилось, произошло, и это происшедшее независимо от тебя, и что это — независящее от тебя — внесло определенность, ясность в какие-то отношения, в порядок вещей, чувств… Но наряду с этим в нем теплилась надежда: его хотели обмануть, письмо — хитрость, уловка.. Возможно, сама Зина сделала…
На Северной Мирошин отпустил такси. Еще было рано. Стылый воздух покоился над землей, насытившись за ночь запахами зелени, земли, домов. Мирошин заторопился по Северной, прошел всю улицу, а нужного дома не нашел. Вернулся. То же самое. Дома ее не было. И вообще вся улица была незнакомая.
— Это Северная улица? — спросил у прохожего.
— Северная. А вам только какая нужна? — спросил в свою очередь прохожий.
— Да Северная!
— Да какая Северная? Их, дорогой человек, в нашем городе больше дюжины. Так прямо иди, они все и будут — первая, вторая, третья…
Сергей молча направился прямо по улице — все время вдоль высокого дощатого забора. Два часа шел, ни у кого не спрашивая, проходил переулки, какие-то тупики, трамвайные пути, и странно: ему все больше и больше хотелось идти и идти… Лучше бы идти вот так бесконечно, только бы знать, что она ждет. Заборы высокие и низенькие, выкрашенные в зеленую краску и коричневую, тянутся вдоль улицы. Заборы, за которыми люди устроили себе жизнь.
Мирошин остановился, у него мельтешило от заборов в глазах, какое-то время казалось, что заборы шевелятся…
Но когда выбрел в переулок, где поджидал раньше Зину, сразу узнал и эту Северную улицу и дом.
Как только Сергей подошел к двери, она отворилась, и на пороге появился, будто поджидая его, мужчина, ее муж. Сергей посмотрел на мужчину и сразу же увидел гранитное надгробие, подле которого на корточках сидел маленький морщинистый старичок и выкрашивал большую букву З в золотистый цвет.
Мужчина часто-часто моргал, его заросшее лицо, нерасчесанная борода, бакенбарды, длинные, до плеч, волосы как-то жалобно, будто они тоже были в растерянности, смотрели на Мирошина; маленькие глаза его слезились, и он, видимо, из-за слез не мог хорошо рассмотреть Сергея.
Мирошин торопливо закурил, глубоко затянулся и вдруг понял, что не может вот так стоять, смотреть на ее мужа, его растерянное лицо, жалобные слезящиеся глаза, грязную сорочку, что ему необходимо на что-то решиться.
Он потоптался на месте, сел на тут же стоящий табурет, посидел с минуту и встал.
В небольшом дворе стояли в штабелях черные от старости доски, вдоль забора тянулась низкая поленница. И кругом стояли банки, заляпанные зеленой краской, — на поленьях дров, земле, на груде кирпича, сваленной возле забора, подле дома. Там и сям, по обыкновению неряшливых домов, валялись разбитые стулья, столы, старые побитые кастрюли, щепки… Сергей все глядел и глядел, и чего-то искал, и не мог найти, хотя и не сумел бы ответить, что именно искал. Ага, вон тот тазик, из которого Зина тогда плеснула воду…
Разбросанные вещи продолжали лежать там, где их оставили, напоминая о горе. Мужчина следил за взглядом Сергея, и у него, уставшего за время болезни жены, лежащие где попало вещи ничего не вызывали, кроме болезненного отупения.
Сергей молча протянул пачку с сигаретами, мужчина отказался. «Как же это случилось? — подумал Мирошин, чувствуя, как на него накатилась горячая волна, застилая глаза. — Как же?»
— Как? — тихо спросил он.
— …Да крышу красила… Хотели уехать в другой город… Хотели дом продать… Красили… У меня радикулит, вот и вызвалась она… Залезла она… К нам в это время дядя Иван топал с чемоданом, а она возле конька стояла… «Ой, кричит, это к нам, это Сережа. Сережа-а!» Заторопилась с крыши… встречать хотела… И вот помутилось в глазах… Прямо, бедненькая, скатилась на землю… Мучилась долго… два месяца. Одно время лучше было… — Мужчина жалобно заморгал, посмотрел на Мирошина, отвел взгляд вбок и, подчиняясь какому-то властному чувству, нахлынувшему на него, торопливо полез в карман за платком. — Вас поминала… под конец…
Мирошин, затягиваясь, с сочувствием всматривался в мужчину, мысленно благодаря его за деликатность, за то, что не спросил, кто он такой, Сергей, и что здесь нужно ему, человеку, которого Зина вспоминала в самый последний момент своей жизни, когда умирающий вспоминает обычно самое дорогое, близкое… Сергей был уверен: мужчина обо всем давно догадался. Он прекрасно его понимал, этот чужой человек, и проникся сразу к нему нежной симпатией, к тихому, доброму, любящему ее, Зину, мужчине. Мирошину стало стыдно за себя. Вот стоит перед ее мужем, думает, глядит на него, ожидая и не желая каких-то откровений, он, в сущности виноватый буквально во всем, в том, что не сложилась ни ее жизнь, ни его, он, допустивший из-за своего эгоизма какую-то мелочь, испортившую и их жизнь, и вот этого человека, и всех…
И в то же время в нем подспудно копилась неприязнь к этому тихому, беспомощному человеку, с которым Зина столько жила и которого не хотела бросить, жалела, и из-за этой же, видать, беспомощности, как ему казалось уже через минуту, когда, сощурившись, неотрывно глядел на его заросшее лицо, судорожно пытаясь что-то на нем разглядеть, так много знавшем о ней, — из-за этой вот противной беспомощности и погибла. Сам не мог покрасить, пожалела его… Пожалела его… Его пожалела, а сама умерла. И он все еще смотрел на этого человека и уже ненавидел его, понимая, однако, свою несправедливость, считая, что в своей неприязни зашел слишком далеко. Ведь и он страдает не меньше, этот мужчина, и он не виноват, что любил ее.
— Да, я не прав, — про себя, шепотом ответил своим мыслям Сергей, жадно затянулся и, не сказав больше ни слова, зашагал прочь.
— Постойте! — крикнул мужчина слезливым голосом, но Сергей не расслышал. Остановился Мирошин на берегу Иртыша, остановился и долго там стоял, глядя на розовую воду, розовый мост и воздух, и на большое красное солнце, невысоко повисшее над рекой, которое завтра поднимется на небо и покатится по нему, роняя по обыкновению своему, свет на землю, реку и город.
1973




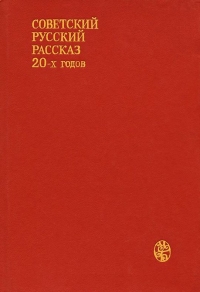


Комментарии к книге «Дом на Северной», Владимир Никонорович Мирнев
Всего 0 комментариев