Юрий Козлов Новобранцы
Коростели в сыром лугу
Мать с Терешей приехали
Не темно, а сине-сине. И звезд в небе — как насыпано.
Мы с бабушкой сидим на ступеньке крыльца. Бабушка вздыхает и что-то шепчет. Наверное, молится. Я привалился к ее мягкому боку, и мне уютно и надежно.
Тихо. С гудением пронесся жук, щелкнулся в листву. Подошла тетка Фекла, села рядом.
Синева стала вязче, будто в нее подлили черноты. Скрипнула дверь. Загремела цепь на воротке колодца. И заныл вороток: пить-пить-пить.
Далеко, возле клуба, балалайка бойко выбивает елецкого.
Прошел по дороге человек, пыхтя папиросой.
…Вернулась из клуба Нюра, села рядом, подперла худенькое лицо рукой, печально вздохнула.
— Чего рано? — спросила Фекла.
— Скушно, — ответила Нюра, — хоть бы спектакль Устин Ефимыч затеял…
— Василий-то пишет?
— Пишет. Как неделя, так письмо… Скучает, — томно сказала тетя Нюра. — В моряках служит голубенок мой… в городе Кронштадте. Чует сердце — окрутят Василия мово тамошние девки.
— Ты смотри за собой лучше, — сердито забрюзжала бабушка. — Как вечер, круть хвостом — и на гулянку!
— Давай, маманя, лучше споем, — сказала Нюра, — а то на душе сумно и спать неохота… Давай-ка запевай старинную прощальную…
— Давай, — соглашается бабушка, — потешимся на сон грядущий… Ты, Феклуша, следи за мной, а ты, Нюрка, не забегай и ниже бери.
Бабушка кладет руки на колени, распрямляется и запевает хрипловато-протяжно:
Ээ-эх да-а за речко-о-ой…Дотянув «за речкой», бабушка умолкает, словно раздумывая, петь ей дальше или нет. Слышно, как в хлеву поскрипывает жвачкой корова, гукает жутковато на колокольне сычик и бойко выбивает кто-то на трехструнке плясовую.
Бабушка кладет мне горячую руку на плечо и снова затягивает:
Э-эх да-а за речкой…Фекла и Нюра подхватывают вторя:
Эх-х да за речкой, за-а-а реко-о-о-ой!..У бабушки голос тусклый, надтреснутый. Тетка Фекла поет широко, мягко. И тонко, печально выводит Нюра:
Эх да расставалась, Эх да расставалась, Расставалась я с тобо-о-ой…Бабушка и тетка Фекла смолкнут, а Нюрин голос звенит, звенит. И печально мне делается. И так жалко песенную тетку и солдата, с которым она прощалась, провожая его на войну, что впору заплакать.
Песня кончилась. Умолкла балалайка у клуба. Нюра ушла в избу. Слышно, как взбила кулаками подушку, улеглась на кровать.
Повеяло запахом вянущей травы, какой-то пресной сладостью. Дернул коростель и смолк, словно испугавшись. Тишина. Мигнул и погас керосиновый свет в последнем окошке. А я замечаю, что звезды будто бы передвинулись в небе, сделалось светлее, а босым ногам стало холодно.
— Малец-то, Митревна, спит совсем, — говорит тетка Фекла.
Бабушка прикрывает мне спину чем-то теплым, должно, своим платком.
— Онтось! Набегался! Сейчас ему день-то в год, а у нас год, как сухое поленце в лежанке, глянь — и угольки… Заглянуть бы вперед, как жизнь-то устроится?.. Серенька, дрыхнешь, что ли?
— Он уже без задних ног, — смеется тетка Фекла. — Мой Алешка и ужинать не стал, до сенника добрался и готов!
А я не сплю. Я плыву куда-то, все слышу, будто сквозь какую-то тихую музыку, и мне очень хорошо.
— Дуняшка-то что пишет? — спрашивает соседка.
— Обещается приехать, — вздыхает бабушка и гладит меня по спине твердой ладонью. — Пиши не пиши, отрезанный он ломоть!
Я знаю, что мать вышла замуж за фабричного механика, а меня взяла и «отрезала». «Ну и ладно, — думаю я, — буду жить вдвоем с бабаней… Пойду в МТС, на тракториста выучусь, потом куплю бабушке ситцу на платье, полусапожки с ушками, а себе гармошку и решето леденцовых петушков друзьям…»
В прошлом году я хотел работать конюхом и лучшей судьбы не желал, а теперь стану трактористом в промазученных, как кожаных, штанах, в стеклянных квадратных очках, и чтобы обязательно руки у меня сделались черные и большие.
Вот ребята будут завидовать! Сяду на железное, корытцем, сиденье, дерну за какие-то рычаги, и пошла-поехала! Острые лемеха отворачивают пласты земли, как масло, из трубы пыхает керосиновый дым, сзади, опасаясь подлетать близко, прыгают в борозде грачи. Рыжий Санька бежит наперехват, кричит: «Сережка! Сережка!»
— Сережка! Сережка! — тормошит меня бабушка. — Совсем рассолодел, пойдем спать…
Возле правления колхоза дед Евсей бьет шкворнем в подвешенный на тополе обрубок рельса.
— Бринь-нь-нь! Бринь-нь-нь! — плывет в горячем воздухе стальной звон. Полдень.
Лешка, я, Санька, Федька и Гришка чиним бредень у нас в саду. Мишка указывает, а младшие Прокопюки мешаются. Работа подвигается плохо. Сетка прелая, дыра на дыре. А здесь еще, как на грех, пришла Нюра. Увидела, что мы латаем хорошими нитками рвань, принялась меня ругать, будто у нее черная катушка пропала, а она, дурочка, ищет ее третий день. Явилась тетка Фекла и подлила кипятку.
— Никакова ума — одно озорство! Другие-то дети своих родных покоют, ублажают поведением, а от этого одни слезы горькие!
Это она из-за петуха на меня обозлилась. Я Феклиному петуху ноги связал и натравил своего, чтобы он ему наклевал.
Тут Фекла углядела остаток ниток, начала замахивайся на Лешку и причитать, что шпулька была у нее последняя и она берегла ее пуще глаза, теперь, ежели идол кудрявый прохудит штаны, пускай ходит, как собаки его рвали в подворотне, и сверкает в прорехи телешиной.
И Нюра и Фекла ругались зря. Нитки принес Мишка.
Нюра сказала: «Щас я ихнюю снасть в клочья серпом разнесу!»
Тетка Фекла ухватила Лешку Херувима за волосы и потащила под замок. А мы скрутили бредень и побежали на пруд.
Когда привязали сетку к кольям, начался спор, кому волочить первыми. Решили метать жребий. Из девяти палочек сделали две короткие, их вытащили Мишка и Федька. Ребята разделись. Федька зашел «от глыби» и, уже стоя по пупок в воде, вдруг выпучил глаза и сказал:
— А ну как сорок пудов поймаем?!
Мы опешили. Такая куча рыбы не шуточки. Мишка начал чесать в стриженом затылке, Санька и Гришка надули щеки. Федька, скривившись плаксиво, спросил, будто сорок пудов толстых карасей уже прыгали в траве на берегу:
— Как делить-то будем, мужики?..
Да, это тоже задача! Безмена у нас нет. А надо не просто разделить — справедливо. Решаем рыбу разбросать на девять равных куч, потом Мишка отвернется, Санька, указывая кучку, будет спрашивать — кому? Мишка объявлять, скажем, мне, или Гришке, или Федьке.
Толька Прокопюк вспоминает про Лешку. Ему тоже надо долю. Спохватились, что и Петьке Желдакову надо выделить рыбы. Петька нам дал бредень, а сам остался дома.
Итак, сорок пудов карасей решено разделить на одиннадцать душ. Но тут возникает вопрос, тоже очень важный, — куда девать улов?
Венька Прокопюк говорит, что рыба в такую жару протухнет в одночасье, а соли в лавке нету, и надумал свою долю отдать Федьке, так как должен ему еще с пасхи пяток яиц: проиграл, когда катали на лугу.
Федька, захлебываясь от жадности, вопит:
— Слыхали?! Слыхали?! Обратного ходу нет! Он мне свою рыбу отдал!
Федька вылезает из воды и бьет с Венькой по рукам. Он сияет, доволен, подмигивает, хихикает. Очень у него нутро жадное.
— Дурак ты, Венька! В воскресенье базар в Кулакове… отвезу, продам! Картуз себе справлю, потом справлю…
Федька думает, что он еще купит, но Венька опомнился, стал требовать свою рыбу обратно. Федька сложил из грязных пальцев дулю. Венька, недолго рассуждая, въехал ему круглой головой в мокрое пузо. Мы стали их разводить. Началась свалка. Катались и топтались по бредню, пока не устали. Потом снова штопали дыры.
Вода в пруду была теплее парного молока, ловить одно удовольствие. Но караси почему-то не попадались, а лезла в бредень всякая дрянь: головастики, кусачие жуки-плавунцы, страшные тритоны, которые, как уверял Санька, по вечерам превращались в летучих мышей и вцеплялись девкам в белые платки.
Мы было приуныли. Венька стал жалеть, что стребовал с Федьки рыбу. Вдруг Прокопюки — Витька и Митька — вывалили из мотни вместе с пахучей тиной такого здоровенного карася, каких, наверное, даже Трифон не ловил. Он был толстогубый, холодный и золотой, как медный самовар, когда его ототрешь толченым кирпичом.
Повезло и мне с Венькой. Мы завели бредень под нависший на воду куст, побултыхали ногами и вытянули на траву сразу десятка два карасиков с мизинец ростом.
Потом удачу как отрезало. Мы совсем пали духом. Бредень окончательно расползся, нитки кончились. Стали думать, что делать с уловом. Делить никак не выходило, решили варить уху.
Мишка побежал домой за посудой, Федька за ложками. Мы стали собирать на костер сухой бурьян и веточки. Натаскали такую груду — хоть быка жарь, а ребят нет и нет, как провалились.
Наконец явился Федька, принес три обкусанных ложки, краюшку хлеба и горсть пшена для заправки. Мишка вернулся пустой.
— А где котел? — спросил Гришка.
Мишка задрал рубаху и показал спину. На ней отчетливо вздулась красная полоса. Ясно — попал матери под горячую руку.
Побежал за посудой Санька. Принес вместо чугуна худое ведро. Сказал, что лучшего не нашлось, а дырки можно заткнуть травой и замазать тиной. Послали младших Прокопюков за колодезной водой. Гришка стал разжигать «прожигалочкой» — увеличительным стеклом — костер. Воды Прокопюки не принесли. Ведро текло, как решето. Ни замазка, ни затычки не помогли.
Я вспомнил про большой, ведра на два, чугун, который стоял в хлеву. В него бабушка сливала для коровы охлебки. Пошли за чугуном с Мишкой. Помои вылили на землю, взяли с крыльца ведро с колодезной водой и потащились на пруд.
Уха вышла жирная, с густыми блестками, но почему-то отдавала сальной тряпкой. Хлебали по очереди. Лешка прибежал, когда варева оставалось на донышке. Зато ему досталась вся гуща и голова от большого карася.
Сполоснули посуду, разложили на просушку бредень, собрались играть в чертей. На той стороне пруда вылезла из крапивы сопливая Ленка — Гришкина сестра — принялась что-то кричать. Девчонка была глупая и картавая, мы едва разобрали, что приехала из Москвы моя мать.
Бабушка умыла меня на крыльце прямо из ведра, вытерла лицо фартуком, пригладила на макушке хохол. Всхлипнув, поцеловала и сказала шепотом:
— Серенька, богом тебя прошу, поздоровкайся с родителями как следует и за столом сиди тише травы. Не позорь меня, не показывай нрав…
В избе тесно от гостей и душно пахнет блинами. Приехала чулковская родня. Пришла материна подруга Шура Никишкина, красивая, высокая; соломенного цвета коса, как у девушки, переброшена на грудь. Егорушка тоже красивый и нарядный в черной ситцевой косоворотке с белыми пуговицами, кудри зачесаны на левую сторону и свисают над глазом. Он курил у раскрытого окошка с курносым усатым дядькой в зеленой толстовке и черных узких брюках.
Дядька мне не понравился. Шея у него была тонкая с острым кадыком, лоб бочонком с залысинами, щеки впалые, будто он набирал слюны, чтобы плеваться. Мать одернула на мне рубашку и подвела к усатому.
— Сережа, познакомься, это твой папа!..
— А на кой он мне? — спросил я.
Мать покраснела и больно дернула меня за волосы: «Фулюган деревенский! Не получишь подарков!»
Дядька строго сказал:
— Дуня, его надо воспитывать словом, он маленький… Здравствуй, Сережа!
Он подал мне узкую жесткую руку. На ней не хватало двух пальцев — указательного и среднего. Я сразу прозвал его куцепалым — конечно, в уме.
— Будем знакомы… Ты называй меня дядя Терентий, а лучше Терентий Прокопьевич!..
— Мое дело подневольное, — сказал я, — как прикажут, так и буду звать — хоть горшком. А в подарках я не очень нуждаюсь!..
— А ты ерш! — сказал Терентий Прокопьевич. — Но я старший, и меня надо уважать… У меня на фабрике авторитет!
Когда все стали усаживаться за стол, мать тишком ущипнула меня за ухо. Бабушка вздохнула. А Нюра сказала тихо:
— Ты рукам-то волю не давай…
— Он распустился, — окрысилась на нее мать, — это не ребенок, а кикимор лесной!.. Садись рядом!
Но получилось, что кто-то замешкался, а Егорушка взял меня за плечи и отодвинул за себя, и я очутился за столом между Нюрой и теткой Феклой.
— Ничего, Серенька, — сказала мне на ухо Фекла, — все перемелется, мука будет… Наваливайся на еду полным ртом!..
Стол был накрыт богато. Две сковороды с яичницей, на расстеленном полотенце две стопы блинов, две тарелки с нарезанной толстыми кружками колбасой, вареный целиком куренок, две красногорлые бутылки водки. Свежие огурцы и лук я не считал. Этого добра ешь хоть десять раз в день.
— Мужики, мужики, откупоривайте, — распоряжается бабушка, — да подымем за приезд дорогих гостей!
Когда все чокнулись с матерью и Терентием Прокопьевичем и выпили, я слышал, как Дарья одернула своего Наума: «Ты не позорься! Нутро свое темное не выставляй, колбасу-то хватай не руками, а суй на вилку!» Наум поперхнулся и положил надкусанный ломоть.
Мне сделалось его жалко. Он в МТС лучший тракторист, а дает собой командовать. Дарья что прикажет, то и сделает. Велела усы и бороду сбрить — сбрил. Стал сразу молодой и чудной, словно у него лицо босиком. Ну, телок и телок.
Егорушка разговаривает с Терентием Прокопьевичем. Про войну, конечно.
Бабушка стучит лафитником по столу: «Мужики, мужики! Донышко у стаканчиков пересохло!» Все опять выпивают, закусывают, а я уже наелся, сижу мучаюсь, так-то мне хочется к ребятам на улицу.
На кровати для показа разложены подарки: куски ситца, два цветастых платка, какие-то коробки, синяя матроска, коротенькие штанишки на лямках, чтобы не спадали на бегу, и коричневые с ремешками башмаки. Я разглядываю матроску и думаю: хорошо бы сейчас напялить ее да слетать к ребятам пофорсить.
Егорушка свернул в трубку сразу два блина, откусил и сказал набитым ртом:
— Ты вот, Терентий Прокопьич, говоришь, мол, живем мы тихо-мирно, сыто! Нет! Ты на пшеничные блины не завидуй, мы их по праздникам лопаем, а будние дни на ржаной краюшке выезжаем! И войны, конешно, у нас нет, а хожу я ночами с маузером!.. Был у нас в селе такой Яшка Михалев. Гармонист, плясун, ну и на руку нечист… В позапрошлом году его за кражу колхозной ржи осудили. Он из мест заключения бежал, объявился тут в лесах. Ограбил магазин, выгреб кассу на спиртозаводе, сторожиху жизни лишил… Милиция землю роет, а Яшка будто в шапке-невидимке! Встречаю цыгана, и говорит он мне: видел, мол, утром по первому свету, как Яшка Михалев шел к Гагиной деревне. Это от нас версты три. У меня догадка, к кому. Там у него дружок, Митраков Карпуха, ворюга из ворюг. Пройдоха кривой. Ему еще мальчишкой кнутом глаз выхлестнули.
Звоню в Пронск. Пока милиция раскачалась, пока собралась, приехала, конечно, бандита не нашла. Заворачивают они ко мне, тары-бары. Кто про Михалева сказал? Как сказал? А потом предлагают: сдай, Никишкин, пистолет! Отвечаю: ищите, забирайте, коли обнаружите!
— Ты бы, Егор, право, сдал бы его, — сказала Шура. — Наживешь греха!
Егорушка так и вскинулся на жену:
— Я маузер в награду из рук дорогого товарища Фабрициуса получил за храбрость!..
— Господи! Да хватит вам, будто поговорить больше не про что! — сердится бабушка. — Лучше ешьте, пейте… Феклуша, угощайся! Влас Никифорович, ешь! Марьюшка, ты блинка-то возьми, куренку вон ногу отломи, колбаски!
Марья, несмотря на жару, сидит в шерстяном платке, накинутом на плечи, Влас парится в суконном пиджаке, который вздыбился у него на груди горбом, а рукава до того узки, что диво, как он пролез в них своими ручищами. Едят они, как в прорву, а бабушка их все потчует, словно они дорогие гости, а не моя мать.
Я разглядываю ее исподтишка. Она важничает. Жует по-городскому, не раскрывая рта. Хлеб держит щепотью, отставив мизинец. Видно, заносится, что на ней блестящая красная кофта, а на груди в три ряда «жемчужные» бусы, с которых Нюра и тетка Фекла не спускают глаз.
— Ох, погляжу я, очень вы злой, Егор Семенович, — говорит мать. — Неужто возьмете и убьете человека пистолетом?..
— Ну, Дуняшка, ну и глупая ты! — осерчала на нее бабушка. — Дура ты набитая! Я — старуха и то бы рукой не дрогнула на бандита!
Мать покраснела, как ее кофта, и стала трясти стрижеными волосами. Терентий Прокопьевич застучал куцепалой ладонью о стол и принялся непонятно и длинно говорить про законность и право судить, а я тихонько вылез из-за стола и бочком, бочком вон из избы.
Лешки Херувима дома не оказалось. Отправился к Прокопюкам. Вся шатия-братия была здесь, и еще много разного сопливого народа, девчонок и мальчишек, которые тихо сидели на подоконниках, на печи, у порога.
Поперек избы была поставлена лавка. Ее занимали Лешка, Петька, Толька, Колька, Митька, крутили из ветлового листа козьи ножки и плевали на пол. У всех густо нарисованы сажей усы и бороды. Мишка Прокопюк выглядывал из-за ситцевой занавески, отгораживающей судник, и говорил: «Граждане бывшие фронтовики! Совесть имейте! Не куритя в клубу!»
Ребята подвинулись, дали мне место и сажи с печной вьюшки. Я сделал себе бороду и усы. Митька, прилаживая на кленовый гребень листок бумаги, похвалился:
— Это Мишка постановку придумал! Пускай Устин подавится своими репетициями!
За занавеской шла возня, что-то падало, раздавался Мишкин шепот: «Федька, черт! Сюда стань! Глаза, глаза пучь! Не так, а чтобы страшнее! Санька, ты за печку схоронись! Гришка, ты сюда! Венька, подпояшься, подол оборвешь, тогда лупка от матери будет!..» Потом все стихло, и перед нами появился Мишка, на носу у него красовались согнутые из проволоки очки. Руки он держал за спиной, хмурил белые брови и жевал губами.
Мишка прокашлялся и натужно сипато объявил:
— Ночь!.. Слева луна, справа звезды! Прямо богатая изба кулака Иванова!
Я позавидовал. Ну и Мишка! Все точно как в клубе. Мишка сдвигает очки на лоб.
— Кто будет чадить махрой, буду удалять вон!.. Пожалейте, мужики, баб — то есть женщин и детишек!
Мы хихикаем и пихаемся локтями. Все по-настоящему. Мишка командует: «Музыка, валяй!» Митька верещит на гребешке: «Светит месяц, светит ясный…» Мы дружно с притопом подхватываем: «Светит полная луна!..»
Прокопюк кричит:
— Хватит! Это же не вечерка, а постановка!
Занавеска отодвигается. Перед нами открывается внутренность «богатой избы»: судник с копчеными чугунами, на стене штопаное сито, в углу ухваты и веник из чернобыла. На табуретке стоит пустая четверть, в которой Прокопючиха сбивает масло.
Федька — поп и Гришка — кулак прикладываются к ней, крякают и орут друг на друга козлячьими голосами.
У Гришки — мироеда для пузатости засунута под рубаху подушка. Она все время вываливается, и Гришка хватается за живот, словно его подбирает на понос.
Федька — поп задыхается в огромном полушубке. На голове баранья шапка. Кусок свалявшейся овчины — борода — привязан веревочкой к ушам.
Из-за печи вылезает Венька, покрытый платочком, в материном сарафане, подпоясанном фартуком. Это жена кулака Матрена.
Венька — Матрена пищит, что пришел единоличник Фролов, у него с голоду ребятишки помирают, как мухи.
Опять же из-за печи появляется Санька — единоличник в сажевой бороде и усах. Он просит у кулака пуд муки. Кулак и поп обещают ему целый мешок. Но за это он должен поджечь колхозный амбар.
Санька отказывается. Поп кричит: «Он в милицию побегить! Его надо кончить!» — и прицеливается в Саньку из ухвата.
Мишка делает выстрел — бьет палкой в заслонку. Но падает убитым почему-то не Санька, а Венька — Матрена и высоко задирает ноги. Мы ложимся от хохота. Венька без порток, а зад у него, сбитый на лошадях, вымазан густо дегтем.
Вдруг Венька вскакивает с радостным воплем: «Папанька пришел!» Мы оборачиваемся. У дверной притолоки стоит, вытирая слезы, Иван Васильевич Прокопюк.
Мелкотня потихоньку начинает сползать с окон и печи.
— Уморили… Но кончайте балаган, — говорит Иван Васильевич, — сейчас мать явится…
Он никогда на своих Прокопючат не ругается, а вот мать колошматит их чем под руку подвернется. Вот бы мне такого отца. Он и скот режет, и портняжит, и плотничает. А косить начнет — любота!
Бабушка только руками всплеснула:
— Ты что, идол, в трубе ночевал?
— Нет, бабаня, я на репетиции был. Ну, бабаня, ну и Мишка, ну и мозговитый!
— Щас я тебя тоже мозговитым сделаю! — начала грозить бабушка, скручивая посудную тряпку жгутом. — Иди отмывай харю свою страшную!
Гостей уже не было. Бабушка убирала со стола. Мать, Нюра и Терентий Прокопьевич ушли на пруд купаться.
Когда я смыл усы и бороду, бабушка усадила меня пить чай с московскими подушечками. Чаепития я любил, даже когда вместо сахара у нас была сушеная дольками свекла. Нюра за это дразнила меня «купец Иголкин».
— Бабаня, он на матери-то моей насовсем женился? — спросил я.
— Записались, — вздохнула бабушка. — Обещали им от фабрики комнату…
— Дай-то им бог, — сказал я от души, — а я отрезанным ломтем проживу!
— Чего тебе вздумалось? — удивилась бабушка и, отвернувшись, стала промокать глаза передником. — Ох, Серенька, птичий у тебя еще умишко… Ты полюби Терентия Прокопьевича, подружись с ним. Он, видать, человек умный…
— Конечно, умный! — согласился я. — Вон у него какой лоб — бочонком. Бабаня, а я с куцепалым и с матерью в Москву не поеду!. Я с тобой всю жизнь буду жить!
— Хорошо бы так, Серенька, — согласилась бабушка и опять вытерла глаза передником. — Ты хоть и озорник, а я тебя люблю… Да ведь против материной воли не пойдешь, как она захочет, так и будет!
— Это мы поглядим, бабаня! Как они соберутся, а я в Болотовский лес ходу и буду сидеть там за кустами, пока они не уедут. Мы с тобой дружно заживем, стану я трактористом — куплю тебе полушалок нарядный, и будешь ты ходить по селу, как невеста!
— Ох, Сережка, слова твои мне дороже всякого золота… А как вырастешь, женишься, забудешь и бабку и мать! Станем мы как пустое место для тебя…
— Бабаня, вот те крест господний, ни в жизнь! Ты сама сообрази: я в ночное собираюсь или к Барковейке в сад за яблоками, а баба — жена моя: «Серенька! Не смей! Не дыши!» Вон как Наума дохлая Дарья замордовала; я такой судьбы не хочу!
Бабушка принялась смеяться, обнимать меня и дала еще две конфетки.
Ну и нескладно день начался. Только глаза продрал, и все пошло наперекосяк. Наверное, не с той ноги встал.
Мать с Нюрой пекли кислые блинцы. Нюра дала мне со сковороды, горяченький. Я куснул, а он прилип к зубам и ошпарил все нёбо до волдыря.
Пошел к Лешке Херувиму, хотел подговорить его за земляникой сходить, а он охромел. Зацепился за порожек ногой и вышиб большой палец. Устин Ефимыч косточку ему вправил и велел неделю сидеть дома.
Лешка лежал на лавке, задрав больную ногу, и кряхтел.
— Дерет? — полюбопытствовал я.
— Ужас! — пожаловался Херувим. — Дай бог до вечера дожить!
Я испугался, что Лешка помрет, как его отец, стал его жалеть и уговаривать, чтобы он терпел и про могилу забыл думать.
— Хочешь, я тебе колбасы принесу?
— А какая она? — Лешка перестал трясти ногой и сел.
— Из мяса, костей нету, кожицу сдери и глотай не жуя!
— Давай, тащи, — согласился Лешка и закатил глаза. — Может, от нее полегчает! Может, и выживу тогда…
Я побежал домой. Колбаса, густо пахнущая чесноком, целое кольцо, лежала в сундуке. Я сразу все обмозговал: отломлю кусок, а в сундук посажу кота.
Все вышло складно. В избе никого, сундук без замка. Оттяпал зубами хороший кус, заодно прихватил подушечек, только кота поймать сразу не смог. Он будто чуял, что его запрут, шмыгнул под печь. Выкурил его оттуда кочергой, а он залез под кровать. Я за ним, успел сцапать за сломанный хвост — в избу вошли мать и Нюра. Я Бесхлебника отпустил, чтобы не заорал. Мать охнула:
— Вот страсть линючая, напугал! Вылетел, как наскипидаренный!
Нюра сказала:
— Плюнь на него… Я тебе о деле! Как хочешь, Евдокия, мой совет, мальца-то не бери с собой! Обживетесь… Как еще сами-то характерами сойдетесь?
Мать ответила злым голосом:
— Не лезь с глупыми советами! Вы ему потатчики, он совсем от рук отбился, а Тереша — мужчина строгий, к порядку приучит! Выдрессирует!
— Что он, собачонка, что ли? — возразила Нюра. — Ой, Евдокия, погляжу, весь свет у тебя в окошке, что твой Терентий…
— Я своего счастья не упущу! — сказала мать. — А Тереша — механик первой руки. Такие мужья на дороге не валяются!
— Я его не хаю, — вздохнула Нюра, — был бы тебе хорош… А мальчишку оставьте.
— Как Тереша решит! — оборвала мать.
«Очень мне он нужен, Тереша, — думал я, — решальщик! Его бабушка как попрет, так до самой фабрики охать да почесываться будет, и все бегом!»
Потом мать стала показывать Нюре какой-то пояс с резинками, тетка чмокала губами, ойкала. Мать расщедрилась: «Я тебе его, Нюшка, дарю, я за хорошим человеком толстеть стала. А ты дохленькая, но ушьешь, и выйдет по талии!»
Мне надоело под кроватью, хотел уже колбасу съесть и вылезать, но тут мать принялась уговаривать тетку ехать к ней на фабрику, и я навострил уши.
— Чиво тебе в навозе пропадать? Привязанная ты, что ли? На фабрике-то отработала свой урок — и вольная. Хочешь, книжкой забавляйся, хочешь, семечки лузгай, желаешь, на лодке с кавалерами по Москве-реке катайся с гитарой… Василий отслужит — тоже пристроим!..
— Ой, Дунюшка, не мани, не мани! — засмеялась тетка. — Не хочу на фабрику, не хочу на лодке плескаться… Я в городе зачахну!
— Ну и глупость! — осерчала мать. — Ей добра желают…
— Ну и пускай! — сказала Нюра. — Тебе этого уже не понять… Я приду вечером со скотника, руки-ноги, кажется, отваливаются, сяду на порожек, во ржах перепела, будто человечки, покрикивают, на выгоне коростели, как калиткой на ржавых петлях скрипят, хлебом пахнет с поля, со двора скотиной, я глаза закрою, слушаю, дышу и чую: силы-то у меня прибывает… И так-то мне хорошо, и такая на душе радость, обняла бы это все и не отдала никому!
— Как была ты в девчонках малахольная, так и осталась, — сердито фыркнула мать. — Ну и целуйся со своей деревней!
Наконец Нюра с матерью ушли в сени, стали там чем-то греметь. Я выбрался из-под кровати, вылез в окно и направился к Лешке.
— Эх, Серега, Серега! В Пронск ты ходил, что ли? — начал попрекать меня Херувим. — Из-за твоей колбасы кишки до икоты скрутило…
Колбасу он проглотил по моему совету не жуя, как Петькин Шарик хлеб, и сказал, что хотя в животе сделалось сытно, но вкусу он не разобрал. Конфетам он обрадовался и спрятал их на божницу за иконы, матери к чаю. Я решил его удивить и принялся хвастать: мол, меня берут в Москву, где пристроят к фабрике, и я буду кататься на лодках с кавалерами, играть на гитаре и петь. Лешка приуныл, начал завидовать. Я его еще немного помучил и заявил:
— Только я отказался! Тебе этого не понять… Ведь придешь вечером со скотника, руки-ноги оторвались, глаза закроешь — печеным хлебом пахнет, из хлева коровой и навозом, в лугу коростели скрипят, а силы у меня в руках и ногах непочатый край, и так-то в Москву ехать не хочется, так не хочется…
И до того я себя разжалобил, представив, что уезжаю из деревни от бабушки, от приятелей — заплакал. Лешка меня обнял и стал утешать.
После обеда Терентий Прокопьевич завалился в саду под яблоней спать, мать уселась рядом и отмахивала от него веткой мух, шепотом рассказывала, что в доме при фабрике, где мы будем жить, есть бухгалтерский мальчик Витя, очень тихий и умный, и я обязательно должен с ним подружиться, брать пример. А деревенские дурные привычки бросить и забыть. Все делать, как Витя, который называет родителей только на «вы» и папочка и мамочка.
Терентий Прокопьевич всхрапывал. Рот у него был разинут, я хотел, чтобы ему туда влетела муха, а еще лучше две. Вот бы он поперхнулся да подскочил.
— У тебя глаза, как у барана! Ты меня не слушаешь, — сказала мать и хлопнула меня веткой по лбу. — Совершенно распустился! Ну, погоди, я за тебя возьмусь!
Ближе к вечеру мать меня остригла, потом стала мыть в деревянном корыте за двором. Бабушка носила в чугунах подогретую воду, терла мочалкой спину, а мать ее ругала, что я совсем «зачервивел». Бабушка оправдывалась: «Он сам себе казак, я с Нюркой на работе день-деньской, он и атаманит!»
— Ты бы, мать, сама хоть для приличия человеческий облик приняла, — заворчала мать на бабушку. — Мне за тебя стыдно перед Терешей! Чулида и чулида! Подол оболтан, ноги в навозе, смотреть на тебя тошно!
Бабушка виновато вздохнула. Мне сделалось ее жалко. Для меня она была всегда самой красивой, нарядной и умной. За бабаню я готов был драться с кем угодно. Я плюхнулся задом в корыто и обдал мать мыльной водой. Она отскочила, принялась стряхивать юбку и кофту. Бабушка все поняла, притворно сердито закричала:
— Паук тонконогий, вытяну по телешине костлявой, чтобы держался!
Мать, снимая мокрую кофту, брюзжала:
— Нескладеха ребенок, надо же было уродить!
Бабушка, вытирая меня жестким полотенцем, шепнула:
— Не озоруй ты, господи, потерпи два денька…
Я догадался: значит, мать со своим ненаглядным Терешей через два дня уедут, я останусь с бабушкой — и возликовал.
После мытья мать напялила на меня синюю матроску, коротенькие, выше колен, штаны на помочах и скрипучие твердые сандалии, остро пахнущие кожей.
— Ну вот и образился, на ребенка стал похож! — хвасталась она, поворачивая меня во все стороны. — Не срамно и на люди показаться!
Не знаю, как чувствует себя корова, когда на нее наденут хомут и запрягут в плуг, ну уж не лучше, чем я в том костюмчике. Я не знал, куда себя девать, как руки-ноги употребить. Даже голова сделалась глупой.
Сама мать нарядилась в цветастую кофту, коротенькую юбку, черные с ремешками туфли на высоких каблуках и словно на цыпочки встала, на шею нацепила другие, из красных стеклышек, бусы. Они свисали ей до толстых коленей. Тереша нарядился тоже, надел белую рубаху с галстуком, белые узкие порточки, будто девок задумал пугать вечером привидениями.
— В будний день-то надо бы меру знать, — сказала бабушка.
Мать заносчиво тряхнула стрижеными волосами.
— Чай, мы из Москвы! А там все Абакумово соберется.
Я. догадался, что пойдем в клуб.
Еще с покоса Устин Ефимович начал готовить спектакль и, когда раз в неделю, а то и два, устраивал репетиции. На них собиралось чуть не полсела. Сначала фельдшер уговаривал народ, что потом неинтересно будет смотреть, не пускал, а потом махнул рукой.
И на этот раз в клубе было полно. Как всегда, перед началом репетиции Устин Ефимович предупредил: «Кто будет курить, делать реплики — не погляжу, что старый, выведу!» Это он под Петькиного деда подкапывался. Евсей сядет на первую лавку, положит бороду на палку, слушает внимательно. Фельдшер отвернется, а он шуточку и подбросит.
Устин Ефимович суетится, шарит по карманам, ищет очки, а они у него на лбу. Спохватившись, он спихивает их на толстый, в красных прожилках нос и читает по книжке:
— Направо беседка, налево — садовая скамья, вдали…
Фельдшер, не отрываясь от книжки, показывает пальцем в угол.
Все поворачиваются, смотрят туда, начинают хихикать. В уголке, сморенная духотой, мирно спит бабка Анисья, обняв жестяное ведро. Шла за водой, заглянула в клуб, а теперь так продремлет до конца репетиции. Под носом у бабки углем нарисованы усы, наверняка Митьки Прокопюка работа. Все тихо веселятся.
— Сейчас начну удалять, — грозится Устин Ефимович и продолжает: — Сквозь деревья видно озеро. Лунная ночь… Появляются Счастливцев и Несчастливцев!
На «сцену», где стоит в зеленой кадке пыльный фикус, покашливая, подталкивая друг друга, выходят Николай Мымрин, Федькин отец, и старший конюх Желдаков.
— Роли выучили?
— Знамо дело…
— Счастливцев, стань сюда, — командует Устин Ефимович. — Несчастливцев — сюда! Вы прогуливаетесь по саду, встречаетесь у беседки. Начали!
— Ты!.. Аркадий!.. Поужинал? — каким-то голосом из живота ревет Илья Фролович.
— Нет еще! — отвечает тоже криком дядя Николай. — Я нынче и не обедал! Сам знаешь, с председателем в мытыес ездил, вал к жатке править!
Устин Ефимович плюхается на лавку и горько вздыхает.
— Ну чего ты городишь? Чего несешь? Давайте снова…
Мать у окна в окружении баб что-то рассказывала тихо, показывала руками. Пальцы у нее ловки, так и снуют, будто она завязывает нитку, которая то и дело рвется. Бабы округляют рты и, словно ужасаясь, берутся за теки. А Терентия Прокопьевича задержал однорукий предколхоза Крымов «на пару минут».
Ко мне подсаживается Митька Прокопюк, начинает щупать штаны, матроску и восхищается:
— Чистый ты жених… Хоть сейчас под венец!
Устин Ефимович в какой раз заставляет повторить артистов одно и то же. Дед Евсей ворчит: «Мне бы эту ролю, я бы отбрил!»
— Ты, Аркадий, поужинал? — орет Илья Фролович, взмокший, как на покосе. Федькин отец заглядывает в бумажку и только разевает рот, собираясь ответить, Евсей громко шепчет:
— Колюшка, ширинку застегни, скворец вылетит!..
Дядя Николай испуганно хватается за брюки. Зрители хохочут. Кто-то даже топает ногами. Фельдшер наскакивает на старика: «Выди вон! Выди вон! Я предупреждал!» Митька настойчиво тянет меня за руку на улицу, уговаривает показаться на зависть ребятам.
Но приятелей у клуба не видно. У клена на лавочке сопливая Тонька пестует тряпичную куклу. Она и сообщает нам: «Все ребята в кузне работают!»
У стайка, где куют лошадей, возле разобранной жатки председатель колхоза протирает тряпочкой большую шестерню. Ребята сидят на коновязи, болтают ногами. За растворенными воротами в сумерках кузницы бьется пламя, посапывают с присвистом мехи. Слышны голоса, и осторожно, «с перестуком», раз звонко по наковальне, раз глухо по какой-то железке ударяет ручник.
Из кузницы выходят потный Сидор в кожаном фартуке и рукавицах и Терентий Прокопьевич. Он тоже в фартуке, белая рубаха прилипла к плечам, брюки в пятнах ржавчины, нос и лоб в угольной пыли. Он что-то измеряет в механизме жатки, говорит кузнецу: «Передаточный вал укоротим, шестерню посадим на шпон!»
Когда они уходят обратно в кузницу, Крымов уважительно качает головой: «Золотая голова! В МТС не взялись делать, а ему на час работы… Механик!»
Я начинаю хвастаться перед ребятами, что это мой отец. Они, наверное, завидуют, а Митька Прокопюк не верит. Я божусь самыми страшными клятвами, Митька ухмыляется: «Дай порток поносить — поверю!»
За углом кузницы снимаю штаны. Митька требует и матроску. Приходится отдать. Пока Митька форсит по селу в моем костюмчике, ко мне подлизывается Федька, тоже хочет поносить штаны на лямках и обещает отдать галку с подбитым крылом, за ним на очередь становятся Санька, Петька Желдаков и Мишка. Но хитрый Митька почуял неладное и близко не подходит. Венька, Колька и Толька бросаются в погоню, настигают брата, валят его в пыль и разоблачают. А так как драные ситцевые штанишки Митьки напялены на меня, самый младший Прокопюк лезет голышом в куст бузины возле Барковейкиной клети и горько рыдает.
Но и я возвращаюсь домой в слезах. Терентий Прокопьевич прикрывает меня, а мать заходит то с одной стороны, то с другой и норовит хлестнуть прутом.
— Это надо! Совсем новый костюмчик, его бухгалтерский Витя только два года носил, а ему на один час хватило!
Огромная плоская луна выглядывает из-за яблонь. Ее свет заливает сад, лишь под плетнем густая тень, и мне кажется, что там кто-то хоронится, а кринки на кольях наклонились друг к другу, словно две головы, и шепчутся.
Мы лежим с бабушкой под коричной на колючей дерюжке, укрывшись одеялом. Благодать. А в избе спать нет никакой силы. Духота и стрекают блохи. Бабушка и полыни на пол стелила, и золу в щели между досками сыпала, но тварям попрыгучим хоть бы хны.
Где-то на большаке, далеко гремит телега. Бабушка рассказывает мне сказку. Мне страшновато и жалко, что никто из ребят не слышит жутковатой истории про лешего. Вот бы вместе побоялись!
Луна выкатывается над макушками яблонь и почему-то делается все меньше и меньше. Колдовской свет ее превращает сад в большой опасный лес. Я вижу, как молодой сильный мужик, мой дедушка, разведя тележный ход, накатывает вагой тяжелое дубовое бревно. Лошадь в оглоблях беспокоится, закладывает уши, фыркает. Потом дедушка ведет ее под уздцы. Лошадь влегает в хомут, ход скрипит. И вдруг дед превращается в бабушку, она щекочет мне за ухом и смеется: «Я тебе быль-небыль плету, а ты дрыхаешь!»
И опять все становится на место. Никакого леса нет, а только три яблони, кринки на кольях, копешка сена. За плетнем скользкая от лунного света соломенная крыша Феклиной избы, труба со вмазанным в нее чугунком без дна.
— Вот он довез дуб до риги, — говорит бабушка, — ему соху надобно было сменить, только подвернул ход, чтобы скинуть, леший и проснись! Как сам бряк наземь, все ходуном затряслось, потом как встал на ноги, как захохочет, как в четыре пальца засвистит! Дедушка и обмер…
— Ой, бабаня, ой, как страшно-то, — шепчу я и лезу глубже под одеяло. — Зачем же леший бревном притворился?
— Видать, устал шляться по лесу, прилег отдохнуть на поляне, а дубовым бревном прикинулся на случай, вдруг прохрапит до утра, тут девки в лес нагрянут по ягоды да на него спящего наткнутся. Леший-то не любит, ох, как не любит, чтобы его видел кто. Ну, давай и мы дрыхать…
Я зажмуриваю глаза, но то ли лунный свет мешает, то ли спать расхотелось, сон нейдет. И бабушка ворочается.
Далекий стук тележных колес протянулся через тишину ночи, как веревочка. И эта веревочка становится все тоньше и тоньше и сходит на нет.
— Рад, что мать-то повидал? — спрашивает бабушка и подтыкает мне под спину одеяло.
— Рад, — отвечаю я. Но в ответе моем неправды больше, чем правды. Матери я радовался лишь когда ребята завидовали, что она у меня городская и нарядная. А с бабушкой мне лучше. Иной раз мы с ней только поглядим друг на друга и все поймем без слов. Я обнимаю ее за шею и глажу по щеке. Бабушка тихонько вздыхает.
— Хорошо-то как, Серенька… Вот так бы нам жить, жить, чтобы никогда не помирать…
— А мы и не помрем!
— Была бы наша воля, — говорит бабушка. — Да нетто от нее, от могилы, отвертишься! Все туда юркнем…
— А что потом?
— Потом суп с котом! Вырастут из нас лопухи, елки-палки, трава разная, и будто нас никогда не было!
Мне не хочется юркать в могилу, где нет ни солнышка, ни такой вот молочной луны, ни голубого неба, ни пруда с булькающими по вечерам карасями.
Я подваливаюсь к бабушкиному теплому боку и думаю, что я-то уж как-нибудь смерть обхитрю. Я ведь ловкий! А вдруг не обхитрю?.. Мне становится страшно до мурашек. Лезу с головой под одеяло. Бабушка угадывает мои мысли и смеется:
— Ты, Сережа, живи, о смерти не задумывайся… Твой черед во-о-на где! Ты думай о том, коли родился на белый свет, значит, не задаром, значит, для какого-то назначения, и ты его угадай, свое назначение, и выполняй честно!..
Цыган Кондраха
В раму кто-то постучал кнутовищем. Я выглянул в окно.
— Вели бабушке торопиться, — сказал Егорушка Никишкина то поспеем к шапошному разбору!
У крыльца стояла новенькая телега на железном ходу, запряженная гладким брыкучим мерином Додоном, на котором обыкновенно ездил председатель.
Бабушка стала переодеваться, я уселся опять завтракать. Молодая картошка была вкусная, рассыпчатая. Одно плохо, вместо соли приходилось прихлебывать старый капустный рассол — кислятина страшная, глаза на лоб лезли.
Бабушка вышла из чулана нарядная, как барыня, в старой Нюриной кофте, в ее баретках с пуговками, правда, они давно отлетели, и в длинной ситцевой юбке. Она принялась наказывать, чтобы я ни на шаг не отходил от крыльца, а потом передумала и приказала тоже собираться.
— Хоть под моим приглядом будешь, а то опять утопнешь!
Вчера я, Санька, Лешка Херувим и Гришка стали плавать в свином корыте, что замокало в пруду. Сидели нагишом, гребли руками и пели озорные прибаски. На середке корыто стало тонуть, а мы орать и глотать тухлую воду. Спасла нас тетка Наталья, полоскавшая белье, а потом до самых дворов лупила мокрой тряпкой.
Ехать на базар в Кулаково мне не хотелось. На сегодня мы сговорились стрелять из Мишкиного самопала. Старший Прокопюк сделал его из медной трубочки. Прикрутил ее проволокой к яблоневому сучку-загогулине, получился почти настоящий наган.
Мишка сказал, чтобы, кто хочет бабахнуть, принес по десять спичек для пороха. Четыре уже у меня завернуты в бумажку и засунуты под ларь. В коробке, хранившейся за печной трубой, было всего семь штук. Вместо взятых я подложил горелые. Я начал было врать, что у меня схватывает брюхо, но бабушка прикрикнула:
— На телеге утрясешься! Собирайся, не гневи меня!
Я принялся старательно тереть кулаком глаза. Егорушка засмеялся: «Ты луковицей попробуй, складней получается!» — и уступил мне вожжи и кнут. Я сразу забыл про стрельбу. Жалко, никто из ребят не видел, когда мы ехали по селу. Только дед Евсей сидел возле правления, чертил что-то палкой по пыли. Он приподнял шапку, здороваясь, я помахал ему в ответ кнутом.
Широкий большак тянулся с бугра на бугор. Посвистывали суслики. Пара коршунов кругами плавала над ржаным полем. Егорушка соскочил с телеги, сорвал колосок, обмял его в ладонях, попробовал на зуб:
— Еще неделя, и пора косить!
— Экий колос тяжелый, как баба беременная, — радовалась бабушка. — Лето хоть и жесткое было, но с хлебушком мы нонче! И государству отвалим, и себе оставим…
— Ох, боюсь, боюсь, — насупился Егорушка, — не идет из головы Яшка Михалев! Хлеба сухие, как порох, брось спичку…
— Типун тебе на язык, Егор, — испуганно сказала бабушка. — Неужто Яшка последнюю жилку с землею оборвал. Это же… Это же… это как младенца убить…
— Волк он давно, — сказал Егорушка и начал скручивать папироску. Толстые пальцы у него дрожали, и табак просыпался на колени.
Большак свернул на кочковатый луг, где паслось стадо. Большая черная собака, лениво побрехивая, гонялась за теленком. Пастухи сидели под ракитовым кустом, должно, завтракали.
— Ты, Егор, с Кондрахой поговори, — сказала бабушка.
Я сразу навострил уши.
Кондрахой звали старого цыгана. Я его ни разу не видел, но от приятелей знал, что Кондраха был человеком ужасным — конокрадом, грабителем и «злыднем». Я пристал к бабушке с расспросами:
— Бабаня! Ты цыгана Кондраху видела когда?
— Приходилось…
— Страшный он разбойник?
— С чего ты взял?
— Как с чего?! Ведь Кондраха лошадей ворует и маленьких ребятишек режет ножиком. Обязательно он страшный, иначе нельзя!
— Это про него врут, — сказала бабушка. — Лошадей, может, и ворует, такая цыганская натура… Для цыгана чужую лошадь увести, что тебе сметаны лизнуть. Очень они коней любят. Мне еще мама-покойница говорила, будто цыгане их язык понимают и сами по-лошадиному калякать могут…
— Бабаня, а как по-лошадиному?
— А так! Каля-маля, маля-каля…
— Кто их научил?
— Отстань, репей! Не знаю… Наверное, это у них от бога…
Бабушка спрашивает Егорушку, страшно ли приходилось ему на войне, а я мечтаю, как хорошо было бы, умей я разговаривать с коровами, лошадьми, птицами. Сколько выгоды получается! Вместо того чтобы пропадать на огороде, стеречь гряды, приказал курам, мол, не сметь в огурцы и полшага — головы отверну! А сам иди гуляй! Беги на пруд или в кузницу — куда хочешь!
Потом я стал думать о цыганском боге. Видать, он у них хороший, коли научил калякать с лошадьми. А от нашего бога никакого проку. Красуется себе в углу в паутине и ничего не может.
— Каля-маля? — спрашиваю я лошадь. Додон прядает ушами и, будто удивляясь, фыркает. Я радуюсь, что у меня «конский разговор» получается. — Маля-каля, каля-бубу дудит в трубу!
Мерин прибавляет шагу, а потом трусит дробной рысцой.
— Бабаня! Бабаня! Он меня разумел! Все до толечки понял!
— Отстань, чирей! — сердится бабушка. — Дай ты нам спокою! Дай поговорить по-людски!
Из-за бугра, словно вырастая, появляются макушки ветел, усеянные грачиными гнездами, потом соломенные крыши, и, наконец, открывается село. Перед ним на широкой площади множество подвод, прилавки, ларьки и снующие взад-вперед, как мураши, люди.
— Вот и Кулаково! А большой нонче базар, — сказал Егорушка и, забрав у меня кнут, подстегнул мерина.
Прогремел мост. Людская толчея обступила нас.
Егорушка нашел свободное местечко у коновязи, отпряг мерина, кинул ему под морду охапку травы. Бабушка достала из-за пазухи платочек, завязанный узлом. В нем лежала «колхозная казна». Отсчитала Никишкину денег и строго наказала, чтобы очертя голову ничего не покупал, а сначала бы оглядел товар да прикинул и так и сяк.
Бабушка осталась караулить сбрую, а меня Егорушка взял с собой в «казенную лавку». Боясь потерять его, я ухватился крепко за подол Егорушкиной рубахи. Теперь я уже не жалел, что поехал на базар. Никишкин расщедрился и у лохматого мужика с вишневым носом купил мне леденцового петушка.
У щелястого, сбитого из прелого горбыля ларька толпились мужики, почти все в солдатском, кто покупал гвоздей, кто точильные брусы.
В ларьке на деревянных колках висели тяжелые занозистые дуги, связки веревочных вожжей. На прилавке охапками лежали синеватые, жирные от смазки косы-литовки. Егорушка долго копался в них. Выберет косу, поднесет к глазу, словно прицеливаясь в продавщицу, попробует ногтем жало и отложит. Потом начнет выбирать из отложенных. Толстая скучная продавщица в черном халате, не сходившемся на животе, принялась ворчать:
— Ну что ты в них копаешься?! Железо, оно и есть железо!
— Это ты правду говоришь, — отвечает ей Егорушка, снова перекладывая косы, — железо не навоз!
— Вот щас возьму и гамазин закрою, — стала грозиться продавщица. — Перерыл все, насвинячил, а мине убирай да складай!
— Не имеешь права ты этого делать, — поддразнивал ее Егорушка. — Ты советская купчиха и обязана радеть о прибыли!
— Была бы прибыль, коли бы я в чайной торговала, — сказала, зевая, продавщица.
— В чайную тебя не поставят!
— Это почему?
— У тебя живот уемистый, — ответил Егорушка серьезно, — от тебя в чайной убыток выйдет… Ты небось за прием фунтов пять хлеба уминаешь!
Продавщица засмеялась: «Дурачок ты кудрявый! Я на сносях!» — и дала Никишкину проволоки, чтобы связать косы.
Потом Егорушка выпивал с двумя мужиками за ларьком на траве. Закусывали вареными мятыми яйцами, зеленым луком и теплым огурцом.
Мне дали яйцо и большой желтый огурец. Яйцо я съел, огурец выбросил, стал лизать петушка и слушать мужиков: очень они хвалились, кто сколько побил на фронте белых.
Молодой мужик, кудрявый, как Егорушка, но рыжий и с выбитыми передними зубами говорил:
— Окончательно фашисты распоясались и в Италии и в Германии, что дальше будет?..
Второй мужик, квадратный, красноглазый, с толстыми мокрыми губами, которого звали Юшкой, сказал сердито:
— Плевал я на твоих фашистов! Я в гражданскую пулеметчиком на тачанке был… Развяжут фашисты войну, опять за пулемет сяду!
Когда мы вернулись с косами к своей подводе, бабушка разговаривала со старым цыганом. Нос у него был кривой, голова огромная, в черной гриве, борода седая. Ручищи длинные до колен, на всех пальцах серебряные кольца, в ухе большая серьга. А как он был красиво одет! Красный бархатный жилет прямо на голое тело, а из кармашка в кармашек толстая цепочка. Шаровары синие. Сапоги, хотя и рваные, но с лаковыми голенищами.
Егорушка кивнул цыгану и стал укладывать косы на дно телеги, а бабушка сказала:
— Ой, Егор, ой Егор! Ты послушай Кондратия! Он нынче утром Яшку видел! Кондратий-то ночью своих коней на гагинском лугу пас…
— Помолчи, Алена! — сердито буркнул цыган. — У Кондрахи одна голова!
И тут-то я догадался, что этот старик и есть знаменитый Кондраха, но испугался его не очень. Пока бабушка и Никишкин о чем-то шептались с цыганом, меня так и подмывало узнать, вправду ли он понимает лошадиный язык и может на нем разговаривать. Я потянул старика за жилет.
— Кыш отсюдова, малый, — замахнулся на меня Кондраха. — Кыш!
— Это мои внук, — заступилась бабушка.
— Конопатый сильно, но в табор я его возьму, — сказал цыган и ухватил меня за ухо. — Лошадей пасти заставлю, котлы лудить! Кур воровать научу! Пойдешь ко мне в табор?
— Каля-маля, маля-каля! — ответил я Кондрахе. — Каля-бубу дудит в трубу!
— Гей, люди! — развел руками цыган. — Да ты заговариваешься!
— Это я с тобой по-лошадиному беседую, — пояснил я цыгану, — ты же лошадиные слова понимаешь!..
Цыган засмеялся, стал меня тискать, расспрашивать. Но здесь ввязалась бабушка и сердито сказала цыгану:
— Брось ты с ним калякать, он же тебя до смерти заговорит! Давай дело порешим… А ты, Серенька, беги, погляди, где горшечный ряд… Мне блинницу надо. Вертайся быстрее!
Так я и не узнал в тот раз, умеет ли Кондраха разговаривать с лошадьми.
Четыре выстрела
Пришла на обед Нюра и сказала, что с утра в Кривом Рогу стоят табором цыгане и чтобы я никуда от избы не шлендал и смотрел за курами в четыре глаза. Но только Нюра за порог, я сразу к Лешке. Он сначала боялся идти со мной, пришлось уговаривать, обещать, что Кондраха и его лошадиному языку обучит.
Кибитки — две телеги, а на обручах латаная мешковина — и шатер парусиновый стояли на дне лощины. Цыганские лошади паслись по склону. У одной телеги была подперта дугой оглобля, на ней висел черный котел, а под ним горел огонь. Старая сморщенная цыганка мешала в котле длинной ложкой.
Когда мы осторожно подошли к телегам, старуха плеснула в нас варевом и что-то закричала, должно «прочь отсюда!», а из шатра вылез лохматый Кондраха и будто нам обрадовался:
— Гей, люди! Каля-маля, маля-каля! Ходи смело! Начнем говорить лошадиными словами!
Он что-то буркнул в шатер по-своему, по-цыгански, оттуда появились две молодые бабы в пестрых юбках, одна босая, другая в желтых остроносых сапожках, за ними девочка, черноглазая, с распущенными по спине волосами, с большими серьгами в ушах. Девочка приветливо нам покивала, мы сразу перестали бояться.
Цыганка в желтых сапожках вытащила из кибитки кудрявого сонного мальчишку в рубашонке до пупа. Он увидел нас, заплакал.
— Маленький, думает, вы его бить будете, — сказала, смеясь, цыганка, — я ему обещаю, что не тронут, а играть пришли…
Кондраха заглянул в котел, принялся ломать через колено хворост, покрикивать на старуху:
— Давай, давай, мать, делай огонь злее! Гости твоего кулеша хотят пробовать!
Старая цыганка посмотрела на нас из-под руки и улыбнулась. Беспортошный мальчик подошел к костру и принялся заливать угли. Старуха шлепнула его ложкой по смуглому залу. Цыганенок отскочил, потирая ушибленное место, стал топать ногой на бабку, чего-то лопоча, должно, ругался. Молодые цыганки закричали на старуху. Кондраха, уперев длинные руки в бока, хохотал.
— Внук говорит, что пожар тушил… ой, горе мне, ой, беда! Совсем голову скружили старику! Никто не слушает!
Девочка смело подошла к Херувиму, взяла его за руку. Лешка покраснел, стал вырываться. Босоногая цыганка сказала:
— Красивый, чего упираешься?! Роза тебя в женихи выбрала!
Лешка побелел. Старуха закричала на Розу. Кондраха закричал на старуху. Цыганки закричали друг на друга. Я перепугался, хотел убежать. Но Роза засмеялась: «Старые люди, другой шутки у них нету! Давайте играть!»
Девочка стала учить нас игре в тычки заточенным остро гвоздем, показала, как метать с пальчиков, со лба, с плеча. Меня игра не занимала. Я все поглядывал на Кондраху, ожидал, когда он начнет учить нас лошадиным словам. Старый цыган, насупившись, сидел у костра, курил маленькую кривую трубку и не торопился, а может, ему было жалко, чтобы мы тоже умели.
Цыганка в желтых сапожках, прихватив подолом дужку, сняла с оглобли котел, поставила на траву. Другая расстелила тряпку, наломала на нее лепешек и бросила кучу ложек. Кондраха вынул из бороды трубку, выбил ее о сапог.
— Гей, люди! Садись пробовать цыганского варева!
Мы стали отнекиваться для приличия, но к котлу уселись поближе. Старуха подала Кондрахе бутылку со вздетым на горлышко стаканом. Цыган вытер его подолом жилетки, налил, прищурясь, половину выпил и плеснул, совсем на донышко, старухе.
Или я сильно проголодался, или варево вправду удалось, но мне кулеш показался очень вкусным. Главное, что густой. И чего туда было не навалено: и молодая картошка, и морковь целиком, пшено, а сверху плавали пережаренный лук и сало.
— Давай наваливайся, — командовал старик нам с Лешкой. — Давай, кто перегонит!
Потом старик стукнул по котлу своей новенькой расписной ложкой, и цыганки стали черпать со дна, вылавливая куски красной жесткой солонины и разваренной курятины. Роза удачно подцепляла то ногу, то грудку и подсовывала по очереди мне и Лешке. Молодые цыганки переглядывались. Кондраха, каждый раз как хлебнуть из глубокой ложки, расправлял усы, вздыхал и подмаргивал нам одобрительно.
Старуха кормила цыганенка. Тот вертелся, зажимал рот руками. Цыганка в желтых сапожках покрикивала на него. Цыганенок и ухом не вел, не боялся. Кондраха взял мальчишку к себе на колени, дело сразу наладилось. Цыганенок глотал варево, как грач, не жуя.
Опорожнили котел до самого дна. Мы с Лешкой здорово подсобили. Особенно Леха — у него живот вздулся барабаном. Отдуваясь, он похлопал себя по брюху: «А ничего, в цыганах жить можно!» Кондраха покачал лохматой головой:
— На сытое пузо, конечно… Ты на голодное попробуй!
Лешка совсем осмелел и сказал:
— На голодное я, дядя Кондрат, лучше на своей печке просижу! А за хлеб-соль тебе спасибо! Теперь давай учи нас лошадиному разговору…
Молодые цыганки продели в дужку котла палку, понесли к роднику мыть.
— Надо бы вздремнуть, старый я, но коли пришли, деваться некуда, — вздохнул Кондраха и, заложив два пальца в рот, протяжно свистнул.
Лошади перестали щипать, подняли головы. Старик свистнул еще раз, и лошади пошли к кибиткам, пофыркивая и прядая ушами.
— Вот тебе, каля-бубу, и лошадиный язык!
Цыган что-то сказал Розе, и она достала ему из шатра длинный кнут с короткой, обтянутой кожей рукояткой.
— Орлик! Хоп! — крикнул Кондраха. Кнут выписал в воздухе восьмерку и звонко щелкнул.
Поджарый, с втянутым брюхом, гнедой конь с точеной злой головой вдруг подобрался, прянул на дыбы и пошел на старика.
— Хоп! Хоп! Орлик! — Цыган, грозя свернутым кнутом, тихонько пятился по кругу, а конь, всхрапывая и страшно нависая над ним, припрыгивал следом.
Беспортошный мальчишка визжал. Роза хлопала в ладоши. Мы стояли разиня рот. А старик, словно живой росой умывшись, сделался ловким, красивым и будто ростом прибавил. Он то отступал от лошадей, то наступал, выкрикивая какие-то слова, наверное, волшебные, потому что кони то поднимались на задние ноги, то бежали по кругу бок о бок и, дружно повернувшись, рысили в обратную сторону. Кружились, гордо выгибая шеи, кланялись.
Это было удивительно, даже страшно. Маленький головастый цыган казался мне колдуном. И я в этом уверился и уже ждал, что сейчас старик прикажет лошадям, и они заговорят по-человечески.
— Дедушка давно, еще молодым, в цирке работал, — сказала Роза гордо. — Артист был, красивый, а как спину сломал, обратно вернулся в табор…
Старуха подкладывала в костер хворост, зевала и что-то ворчала, кажется, ругала Кондраху. Кони, устало поводя боками, окружили старика, а он ломал лепешку и угощал их, ласково похлопывая по шеям.
Пришли молодые цыганки с котлом воды, снова подвесили его на оглоблю. Вдруг маленький цыганенок заплакал и полез на руки цыганки в желтых сапожках, стал грозиться кулаком.
По склону лощины ленивой развалочкой к табору спускались двое мужиков. Роза спряталась за мою спину, зашептала: «Нехорошие люди, нехорошие люди! Беда!» Кондраха, глядя на них исподлобья, собирал в ладонь кнут. Колени у него мелко тряслись.
Мужики подошли к костру. Длинный, в рыжем пиджаке, подпоясанном ремнем, в широченных суконных брюках заглянул в котел и пинком опрокинул его в огонь. Взвился пар, угли зашипели, длинный засмеялся. Голос у него был бабий, а лицо как из перекисшего теста, дряблое, с желтизной. «Не балуй, Жбан!» — сказал второй мужик и поправил висевшую на плече стволом вниз коротенькую ладную винтовку.
Я на всю жизнь запомнил его белесые пристальные глаза под широкими черными бровями, тупой, с ямочкой, подбородок, залепленный в двух местах бумажкой. Видно, когда брился, порезал.
— Что я тебе вчера говорил? — спросил Кондраху мужик с винтовкой. — Прочь отсюда, цыганская сволочь!
Старик молчал, опустив голову. Босоногая цыганка проворно схватила корявый сук, замахнулась:
— Ты уйди! Нашу таборную волю Советская власть не трогает! Мы цыгане-кочевники, а лавок не грабили, людей не убивали, Яшка!
Мужик сделал какое-то неуловимое движение, и цыганка, икнув, упала. Старик отступил на шаг, и восьмигранный злой кнут сам собой отбежал назад для удара.
— Ги-ги-ги! — затрясся длинный, и в костлявом кулаке у него, точно выпрыгнув из рукава, очутился наган.
Старуха схватила горсть углей и взвыла от боли. Роза бросилась к деду и прикрыла своим телом. Я не знаю, что случилось со мной, будто какая-то сила подняла меня и кинула на длинного, а другая сила ударила в лицо и отшвырнула через оглобли кибитки. Следом прогремели три выстрела.
Дальше в памяти сохранились лишь обрывки. Испуганные глаза Лешки, вытирающего мне разбитые губы рубахой. Тоскливое ржание гнедого Орлика, встающего на передние ноги и падающего. И еще один выстрел. Плачущий Кондраха на коленях перед убитыми лошадями. Цыганки, запихивающие в телеги какие-то тряпки. Длинный бандит, закладывающий в барабан револьвера патроны.
Потом бандиты направились вниз по широкой лощине. Шли они медленно, не оглядываясь. Который был с винтовкой, нагнулся, сорвал ромашку и заложил ее за ухо.
Потом молодые цыганки, Роза, старуха и Кондраха впряглись в оглобли. Мы с Лешкой помогали, подталкивая телеги сзади. Я упирался так, что не хватало дыхания, плевался кровью и тихо скулил. Мне было страшно.
— Вот, каля-маля, и весь разговор, — сказал старый цыган, прощаясь с нами, когда кибитки выкатились на большак. — Жалко коней, ай, жалко! Но слава, что сами живые… Гей, люди, трогай!
Из тряпок в первой кибитке вылез мальчишка и что-то закричал, показывая бабам кнут.
Цыганки запели хриплыми рыдающими голосами и в легли в оглобли.
«Прокосная» уха
Начала сенокоса мы ожидали с нетерпением, как праздника.
Первый день его и вправду праздник. И нарядов в нем много, и песен, и рабочего задора. Все показывают себя, не жалея сил. И мы, мальчишки, участвуем в работе наравне со взрослыми.
Потом-то праздничность слиняет. Начнется страда. Страдание. Вот уж метко окрестил народ уборочную пору. Хоть еще тысячу лет голову ломай, а другого названия не придумаешь.
И сна в сенокос мало, и еда скудная — кислое молоко да квас. Утром в прохладе еще бодришься. В полдень — невмоготу. Духота. Зной. Оводье и слепни — тучей. Жалят, хоть кричи. Лошади бьются. Того и гляди вывернут оглобли или опрокинут навьюченный до неба воз. А дню нет конца.
Даже нам, мелкотне, которой труд еще не в обязанность, а только в удовольствие, — тяж ко. Ничего не попишешь, так устроена жизнь. Праздник в ней отдельно, а работа отдельно.
В моей деревне сенокосная пора начиналась на петров день, это двенадцатого июля, в самый травоцвет. Выходили в луга и мал и стар. Мужики обязательно варили «прокосную» уху.
Главной и безошибочной приметой, что этот день близок, а с ним и уха, был стальной перезвон по всему селу.
Обычно косы начинали бить вечером, как уберут скотину. Во ржах, в хлебном тепле булькают перепела. За избами на задворках, а где и у крылечка, в перекличку с перепелами: «Тилинь-тюк! Тюк-тилинь!»
Вот и закат потух. По окоему жутковатым, каким-то тревожным светом пробегают зарницы. А молоточки тюк да тюк. Но это для равнодушного или совсем тугого уха. Мы так в будто однообразном звоне различали, кто именно бьет косу.
Безногий Клим, например, «ковал», как мы говорили промеж себя, «без никакой красоты». Блям-блям! Ни звону, ни затейливости. Но зато считалось, что лучше Клима никто жало не тянет. Его коса шла и по росе и по сухой траве змеей.
А вот Иван Васильевич Прокопюк — он то камаринского выбивает, то елецкого. Собирайся, девки, и пляши под его молоток.
— Душа у него так устроена, — говорила бабушка, — ему любое дело в радость!
Красивее всех отбивал косу Егорушка Никишкин. Закроешь глаза и слышишь песню. Мы с Петькой все мороковали, как у него это получается. Подсмотрели. Егорушка сидит на чурбачке, мурлычет под нос протяжную, а под нее подлаживает молоточком. Раз клювиком по косе, несколько раз по бабке-наковаленке.
Постигнув секрет, мы тут же пустили его в дело. Я «ковал» бабушкину косу, друг пел. Потом я пел, а Петька «ковал». Потом бабушка отодрала нас за уши.
И вот наступал вечер, когда перезвон стихал, а мужики собирались у сельсовета на бревнах, курили, позевывали. Мы сидели на сырой траве, поджав зазябшие ноги, и терпеливо ждали.
Старший конюх Илья Фролович, Петькин отец, будто нарочно медлил, поглядывая на нас. Мы пугались — вдруг мужики раздумают варить уху. И облегченно, радостно вздыхали, когда Илья Фролович говорил:
— Ну, значит, утречком?
На бревнах начиналось движение. Мужики кашляли, ерзали штанами. Иван Васильевич отвечал: «Надоть бы… Не нами положен обычай, не нам его и рушить…»
Дальше уже было неинтересно. У взрослых начинался разговор, где луга поспели и надо спешить начинать, а какие оставить напоследок.
Когда я прибежал домой с известием, что «завтра утречком», бабушка достала из сундука чистый, слежавшийся по сгибам платок, завязала в него глиняные, прожаренные в печи миски и новенькие расписные ложки.
Чтобы не проспать, я упросил ее постелить в сарае, ближе к петуху, на старой воротне. Здесь было прохладно, а главное, что будильщик под боком.
За плетнем в хлеву густо сопела корова. Мекал ягненок. На насесте пищали куры, должно, снился ястреб и им было страшно. А петух Петруха, кривой и жилистый, сидел на жердочке надо мной. Он ночевал от кур наособицу. Ничего в нем примечательного с виду не было. Ни росту, ни голоса, ни хвоста. А я им гордился. Не нашелся в селе еще кочет, который устоял бы с ним в драке.
В положенное время Петруха просыпался. Привставал на жердочке на тощих ногах и слушал. Петушиное пение катилось от двора к двору.
Вот и соседский молодой петушок покричал тоненько «кукареку». Теперь наш черед. Петруха вытягивал голую шею, надувался, будто расправлял плечи, и начинал «бурлить». Внутри у него клокотало, как в закипевшем самоваре. Куры шумно возились на насесте. Петруха оглушительно хлопал пыльными крыльями и орал сорванным басом короткое: «Ку-ку-ру!»
Звонкая перекличка продолжалась дальше. Петруха слушал ее до конца, потом, кряхтя, усаживался, а я засыпал.
Будил он меня лучше бабушки. Слетев, вернее, тяжело плюхнувшись с жерди на постель, начинал месить железными лапами пальтушку, которой я укрывался, клевать пуговицы и сердито созывать кур.
Я подхватывался и, не умывшись, бежал к Петьке. Над дорогой еще висела пыль, кисло пахнущая овцами и коровьим духом — теплом навозного хлева и вялой травой; за кузней на выгоне зло мыкал бык. Звонко хлопали кнутами пастухи.
Петька встречал меня радостным известием, что отец ушел с мужиками к фельдшеру готовить бредень. Я разносил это известие по приятелям. Их было много, и поспевал я к завтраку, как говорила бабушка, к шапошному разбору. Картошка остыла, а пшенные блинцы хоть колесом по дороге катай.
— Ничего, бабаня, — утешал я ее, — зато для ухи в животе места больше!
Только устраивался за стол, как прибегал Петька: мол, ребята все собрались, и одного десятеро не ждут. Какая уж тут еда. Не то что холодная картошка, сливки с медом в горло не полезут. Бабушка это понимала, не ругалась, а тетя Нюра наказывала: «Вы, идолы тонкорукие, в глыбь-то не лезьте, а то уходитесь!» То есть тетка беспокоилась, что мы утонем.
Пруд был глубокий, с надежной земляной плотиной, выложенной плитами желтого известняка. Он назывался Большой под церковью, потому что на бугре неподалеку стояла церковь, приспособленная под колхозную кладовую. И в отличие от другого пруда, что за селом, тоже большого и глубокого. В том мочили коноплю. А караси в нем не водились, даже лягушки передохли от этой конопли.
В Большом под церковью купали лошадей. На пологой левой стороне было полднище. Сюда в самую жару пригоняли стадо. Коровы после дойки, спасаясь от оводья, заходили в воду по брюхо. Овцы сбивались в кучки, голова к голове, тяжело вздымая горячими боками.
Дальше по берегу сплошной стеной шли ракитовые кусты. В прогалах между ними на мостках, «портомойнях», бабы колотили вальками белье, купались взрослые девки, а мы таскали у них сарафаны, завязывали их беспощадными узлами и потешались, как они грызут «орешки».
Наше место для купания было в самом «кончике», мелком, с прогретой водой, с тинистым жирным дном. Здесь мы вволю ныряли и плавали, громко бултыхая ногами.
Правый берег был крут, весь в глинистых осыпях и ямах, заросших крапивой. По-над ним тянулись раздерганные плетни колхозного сада. Караульщиком в нем сидел дед Наум, высокий ростом и широкий в плечах старик, но такой плоский, что мне казалось — его вытесали из большой доски. Взял кто-то тесину, тяп-ляп топором и вырубил человека. Потом к доске приклеил острый кривоватый нос, прилепил под ним усы из белой свиной щетины, наклеил такие же брови, спрятал под них маленькие голубые глаза, на желтых щеках и лбу прорезал глубокие морщины.
Вот от этого деда и шла слава пруду, что карасей в нем «уйма». Метрически «уйма» определялась Наумом в пятнадцать возов.
— Конешно, ежели только крупенных взять, — говорил дед, — выйдет воза четыре! С мелюзгой, то всех пятнадцать!
Крупенными считались караси величиной в два лаптя.
Если в количество я верил, как и все мои приятели, то в размере карасей, несмотря на малолетство, здорово сомневался, хотя деда уважал и даже дружил с ним.
Наум был всей деревенской ребятне первый потатчик и доброжелатель. Он делал нам свистки, вил из конского волоса лески и бесподобной длины кнуты из лыка и старых веревок. В свободное от этих дел время Наум окашивал бурьян или белил известью стволы яблонь.
Я до сего дня помню все сорта яблонь: коричная, сахарная, бель, бордзор, терентьевка, грушовка, анис, шафран, антоновка. Груши: бессемянка, тонковетка, медовые дули.
Когда все это садовое изобилие обретало некоторую съедобность, дружба наша с Наумом нарушалась. С этого момента вся ребятня с возраста как начинала передвигаться в вертикальном положении и лет до одиннадцати (старше уже начинали работать по-настоящему) вступала со сторожем, говоря современным языком, в состояние войны. Сговорившись, мы совершали шумные набеги на сад, чтобы завладеть десятком зеленых яблок или деревянистых груш. Дед, защищая общественную собственность, палил в нас из ружья. Заряд в него забивался с дула толстым рябиновым прутом и воспламенялся от фитиля.
Само собой, можно было явиться в сад гласно и мирно, и дед бы насыпал падаличек сколько унесешь. Сбитых червем яблок лежали вороха. Но так нам выходило неинтересно. И деду тоже, наверное.
Словно орда, с визгом и криками мы вторгались в сад кто через плетень, кто сквозь него. Дед Наум вопил дребезжащим басом: «Орелка! Втю! Втю! Куси мазуриков!» Орелка, худой, репьястый пес, знавший нас как облупленных, конфузливо глядя в сторону, добродушно побрехивал. Исполнив долг, уходил за шалаш и принимался, страшно щелкая белыми клыками, выкусывать блох на животе.
— Эх ты! Тютя! — укорял собаку дед и лез на карачках в шалаш, где у него лежал свалявшийся тулуп, стоял горшок с простоквашей, накрытый краюхой хлеба.
Пока костлявый зад сторожа в холщовых портах, окрашенных луковичным отваром, торчал из шалаша, мы торопливо набивали пазухи яблоками.
Потом кто-нибудь подавал команду: «Мужики, бегим!» Всё дружно пускались наутек. В это время дед выползал на белый свет с ружьем, кряхтя, распрямлялся, клал его в яблоневую рогульку и, прокричав жуткое: «Картечью! Пли!» — стрелял.
Длинный грохот разносился по саду. Тучей взмывали над куртинами вишни скворцы и воробьи. Пухлый клуб белого дыма скрывал деда.
Укрывшись под кручей на берегу пруда, мы грызли яблоки, такую кислятину, что только и можно есть в детстве и обязательно добытую с риском для жизни, рассказывали, как «зужжела» картечь, и показывали друг другу дырки на штанишках и рубашках.
Наум в это время, посмеиваясь, хлебал простоквашу, потом начинал слоить липовое лыко на лапти. Хотя с обувью в деревне было плохо, но в лаптях ходил один дед Наум.
— Мне сапог али ботинок — казнь! — говорил дед Наум. — Там жмет, там трет! Ни надежной носки в них, ни размеру! Нога в обувке должна в блаженстве покоиться, в холе, как молодуха за хорошим мужиком… Ноге простор нужен!
Не знаю, как в качестве носки, но по «простору» лапти у Наума выходили замечательные. Если бы их составить, то наверняка в следу они вытянули как раз метр.
Вот и представьте, какие караси обитали в пруду. Правда, «крупенные» ни разу не ловились — оттого что, по словам деда, они были хитрее лисы.
— Он — тварь, но у него тоже ум! — говорил дед. — Он бредень за версту чует! Сетка-то поверх идет, а он, в тине зарывшись, сидит и в ноздрю хихикает!
Собравшись на плотине, мы терпеливо ждали ловцов. Терпение иссякало, кто-то бежал в разведку и приносил теплую весть: «Сидять, жують!» Это означало, что у крыльца Устина Ефимовича, над которым была приколочена гвоздем можжевеловая рогулька, «показывающая погоду», мужики, выпив по стопочке больничного денатурата, поднесенного фельдшером от простуды, закусывают его зеленым луком.
Коротая время, мы пускали по воде блинчики плоскими камешками. Когда это занятие надоедало, посылали к больнице очередного гонца. Если запалившийся посланец возвращался со словами: «Уже грузють в телегу!» — мы ликовали. Ждать оставалось недолго.
И вот, наконец, на плотине появлялись мужики и полок, запряженный коротконогим брюхастым мерином. Бредень снимали, растягивали по земле. На телеге оставалась дубовая лохань, налитая колодезной водой, туда пускали пойманных карасей, чтобы они «отдали» тинный дух. В лохани плавал деревянный кружок — так вода на ходу меньше выплескивалась.
Подвода уезжала низким берегом в «кончик». Мужики осматривали бредень. Находили дыры. Привязав к палочке (вместо иглы) суровую нитку, ссученную из конопли, затягивали их. К крыльям бредня привязывали клячи — толстые колья, к ним вожжи. В мотню клали пару кирпичей.
Командовал приготовлениями Илья Фролович. В молодости он два года работал в Астрахани на рыбных промыслах и числился непререкаемым авторитетом. И если мужики в этот день шли на пруд кто в чем, во всяком рванье, то Илья Фролович наряжался, «как жених».
В люстриновом пиджачке, в чистой рубахе, побритый, со строго поджатыми губами, со взглядом исподлобья, он казался нам необыкновенным, чуть ли не чародеем.
Наверное и вправду в Петькином отце было что-то особенное, что даже фельдшер заискивал перед ним и ходил во время рыбалки только в помощниках. Задрав с носа на лоб жестяные очки, Устин Ефимович смотрел на него снизу вверх, то и дело спрашивая: «Илья Фролович, так ли все, ладно ли?» Илья Фролович отвечал: «Все ладно!» — делил мужиков, кому идти по той стороне, кому по этой — по глыби. Спорить никто с ним не осмеливался.
Приготовления закончены. Мужики расходятся по местам. Разбирают веревки. Мы даже перестаем дышать. Илья Фролович кивает головой. Бредень с шорохом, цепляя всякий сор: камни, палочки, пересохший навоз, сползал с плотины в воду.
Глиняные грузила топят сеть. Деревянные поплавки-лопаточки покачиваются кривой линией вдоль плотины. Илья Фролович, прикладывая ладонь к глазам козырьком, всматривается в пруд, командует:
— Пошел, разом! Дружно!
Линия поплавков выгибалась подковой. С этого момента на берегах пруда устанавливается напряженная тишина. Наша ватага делится пополам. Одни идут за мужиками по левому берегу, другие по правому. Тут как в лотерее. Вся надежда на авось. Может, кто из мужиков раздобрится и даст место рядом с собой — подержаться за тугую веревку. Хоть шагов пять.
Такая удача давала потом право рассказывать: «А вот энтим разом! Оно как вышло, если бы не я, то и не вышло!» И все соглашались. Если кто-то возражал, его можно было изничтожить. «А ты невод тащил? Ну, тащил?» И ничего не попишешь! Раз за веревку не держался, то и не можешь знать. Сиди уж и молчи.
Мужики тянут бредень, сопят, упираются. Кто-то острекался крапивой, ругается шепотом. Лица у всех сердитые. Под руку лучше не соваться, так пихнут, что заикаешь.
— На том берегу! Жми рыбу с кустов! — командует Илья Фролович. Мужики, не переставая тянуть, сильно хлещут веревкой по воде, «отжимая» карасей на глубину.
— Во, во! Теперь пошла!
А нам действительно чудился золотой блеск в тяжелой прудовой воде, где по солнечным пятнам вольно плыл гусиный пух. «Вона! Эва, какой здоровый!» — показывали мы друг другу.
Пруд сужается. Мужики отвязывают веревки от клячей, лезут в воду. Бредень идет совсем медленно. Мы тихонько негодуем — караси небось успевают зарыться в тину. Эх, дали бы нам!
Самое интересное начинается близко к «кончику». Здесь мы принимали в ловле самое деятельное участие. Лезли в теплую, как парное молоко, воду и начинали шубаршить — плюхать руками и ногами, нырять головой в тину, загонять рыбу в ловушку.
Поднимался такой шум, такие волны и бурая муть, что лягушки выскакивали на берег.
— Давай, давай! — кричит фельдшер. — Копай его из глины, черта бокастого! Топчи ему хвост!
— Картина! — восхищался дед Наум. — С такой канонады хто хошь разум потеряет! В точности как под Вофангоу. Идем ротой, а в гаоляне, в ихнем просе, — шевеление! Понятное дело — японцы засаду держат! Мы штыки наперевес да как «ур-ра» взревели и — в просо. А там две бабы — молодуха да старуха… Водкой пришлось отпаивать, они было рехнулись. А у рыбы оно тоже чувствие есть! Она небось думает, что конец света пришел…
Дед обычно являлся с ведерком. В луга он и носа не казал, но долю рыбы получал обязательно. Мужики Наума уважали. У деда был полный Егорий за русско-японскую войну.
Бредень уже совсем на мели. Крылья валяются в грязи, по ним топчутся ногами. Трещат, рвутся нитки ячеек. Никто этого не замечает. Мужики тянут мотню — широкий, сужающийся к концу мешок из частой сетки. Мы суемся помогать, но нас в горячке отпихивают.
Мужики распрямляются, вытирают носы, лбы и счастливо вздыхают. Густая тинистая вода сбегает в пруд. Крохотные карасики проскакивают сквозь ячейки. Мотня шевелится, как живая. Мы слышим ни с чем не сравнимый звук — шлепанье многих рыбьих хвостов и тел.
Илья Фролович снимает сапоги, раскручивает чистые портянки, вешает их на голенища. Обстоятельно подсучивает брюки вместе с кальсонами и идет к бредню, увязая по щиколотку в тине. Фельдшер подставляет ведро. Илья Фролович выбирает из трепещущей кучи самых крупных карасей. Хватает он их за головы парами, споласкивает, бросает в ведро. Фельдшер несет полное к телеге, вываливает в лохань.
Конечно, в два лаптя нету. Самые крупные в мужскую ладонь, может, чуть больше, но и такие нам кажутся огромными.
Обычно карасей набирали ведер шесть-семь. На две ухи. Мужичью и бабью. Штук пять давали деду Науму. Он кланялся и уходил, заговорщицки подморгнув мне в сторону сада.
Сердце мое разрывалось. Хотелось и в луга на уху и в сад — отведать печеного карася. Дед запекал рыбу под углями. Ну и вкусно у него получалось. Отколупнешь чешую, возьмешь, обжигаясь, сладкое горячее мясо, присолишь — и во рту у тебя рай.
Рыбы набрано вдоволь, а в мотне ее будто и не убавилось. Но никто на нее не претендует. Ее выпускают обратно в пруд. Так повелось, чтобы и на «зажаточный сноп», то есть на первый день уборки хлебов, осталось, и на следующий год водоем бы не оскудел.
Никто не объявлял пруд заповедным, но без «приговора» общества ловить в нем рыбу было как конокрадство. Как-то мы сделали с Петькой из мешковины бредень, подговорили Федьку Мымрина и отправились на пруд, захватив чугунок, ложки и горсть ржавой соли, «попраздновать ухи». А угостились вдоволь сырой тряпкой. Тетка Катя Баркова гнала нас по всему порядку, нахлестывая по телешине и приговаривая: «Не лезьте, жиганы, в общественное! Не орите, черти ротастые! Это вам в урок, чтобы уважали общее добро!»
Отполоскав бредень от тины, мужики идут домой переодеваться. А мы важно шагаем за подводой, прислушиваясь, как в лохани плещутся караси.
В ближнем лугу полно народа. Весной его заливает Истья, и трава здесь самая лучшая. Половина луга уже в валках. Мужики, в промокших рубахах, косят вперегонки. Бабы разбрасывают валки, чтобы быстрее провяли. Пахнет медом. Стригут кузнечики, будто подгоняя косцов.
Катя Баркова, самая голосистая баба в деревне, пронзительно кричит: «Косари-и-и, шабашить!»
Илья Фролович раскладывает рыбу на две кучи. Кто-то из баб отворачивается, он показывает на ворох прыгающих тяжелых карасей, спрашивает: «Кому?» Баба, подумав, отвечает: «Нам» или: «Мужикам». Такая дележка считалась без обиды.
Пока рыбу чистили, мы таскали ведрами воду из родника.
По кромке луга тянулся до реки овраг. На дне его в сыроватой прохладе жил родничок — маленькое холодное озерко, в котором плавали пушинки одуванчиков и отражались облака. На дне родничка, в прозрачной, как воздух, воде кто-то жутковатый, неведомый нам шевелил песчинки и даже камушки с горошину. Подбросит вверх горстку, даст осесть на дно и опять подбросит.
От родника начинался ручеек. Он то прятался в зеленой осочке, то разливался по окатанной цветной гальке, похожей на рассыпанные бусины. Пауки-водомерки носились табунками по скользкой воде. И маленькие были среди них, словно жеребята-стригунки.
Живая вода бормотала себе под нос какую-то сказку. Не навязываясь: хочешь слушай, хочешь нет. Но мы ее боялись. Опасная была эта сказка, она могла «увести». Когда мы брали ведра, собираясь за водой, тетка Катя Баркова всегда напоминала, чтобы мы шли по воду, а не за водой. А то, мол, вода уведет нас за собой в безвестье, и нам не вернуться.
Деревянным корцом мы осторожно черпаем воду, стараясь, чтобы в него попало облако. Устин Ефимович наказывал: «Вы, ребята, с тучкой воды берите, уха вкуснее выйдет!»
И вот подвешенные на связанных треногой кольях котлы полны.
Жарко бесцветным пламенем горят дрова. Устин Ефимович, подвязанный чистым фартуком, раскладывает «снадобье»: перец молотый и горошком, лавровый пахучий лист, соль, какие-то сушеные и свежие травки, мелко порубленный укроп.
«Мужичью» уху доверяют готовить только ему. «У Ефимыча дар на это дело, — говорят мужики, — из воды да рыбы такое генеральское блюдо сотворит, что брюхо меры не знает!»
Как только вода в котле начинала бить ключом, фельдшер запускал рыбу. Поднималась высокая пена. Он сгребал ее большой деревянной ложкой на шипящие угли и бормотал: «Тут важен момент! Не промахнуться бы!»
Не помню, в какой последовательности что закладывалось из «снадобья». Помню сосредоточенное лицо фельдшера со сдвинутыми на лоб очками и напряженные глаза мужиков. Когда Устин Ефимович пробовал варево, морщился или качал головой, или, вскинув клокастые брови, недоумевал, они тоже морщились и качали головами.
— Ах ты, кусай тебя мухи! — восклицал фельдшер. — Ах ты!
Мужики крякали огорченно и переглядывались. Я пугался, что уха не вышла. Фельдшер доставал из кармана косушку водки с какими-то кореньями, выливал ее в котел, снова пробовал. И, зажмурив блаженно глаза, сладко вздыхал. Мужики тоже облегченно вздыхали. Кто-то обязательно говорит значительно: «Ишь ты!»
Илья Фролович робко спрашивал:
— Удалась ли уха, Устин Ефимович?
Фельдшер гордо хмыкал и разводил руками. Лица мужиков озарялись улыбками.
Костер заливали. Снимали котел остудить. На расстеленный брезент высыпались ложки, расставлялись миски. Большими ломтями во весь каравай нарезался хлеб. Устин Ефимович вооружался черпаком, спрашивал: «Юшки? Или со дна?» — и наливал в подставленную глиняную посудину, как было заказано.
«Бабья» уха выходила всегда хуже. Они заправляли ее пшеном. Получался какой-то рыбный кулеш. Пшено разопреет, вместо карасей кости да головы с белыми глазами. Я раз к бабушке пристроился. Не было в бабьей ухе ни запаха, ни вкуса, ни остроты, что хлебнешь ложку и сидишь, как грач на припеке, с раскрытым ртом, а потом растечется по всем жилочкам до самых пяток блаженство.
Мужики опоражнивали свой котел до дна. Бабы свою уху никогда не дохлебывали, хотя хвалились, что она удалась куда лучше летошней — значит прошлогодней.
После еды мужики валялись на траве, распустив брючные ремни, курили, зло кашляя от едкого дыма, говорили о погоде, что по всем приметам лето будет ведренное и трудодень выйдет не «стограммовый», как в прошлом году, а потянет на кило.
Бабы укладывались в сторонке. Иные лениво сплетничали, иные, прикрыв платками ноги от мух, спали. А мы тащили котлы к роднику мыть.
Работа эта была нам интересна. Довести закопченные котлы до яркого блеска считалось честью. Мы оттирали их пучками травы и песком. Но сначала мы их женим. Из одного котла делаем мужика, из другого бабу. Мужику наводим глаза, усы, большой зубастый рот. Бабе — сияющие щеки. Она получается такая веселая, что и нам самим весело.
Мы надеваем на макушки котлов венки из пахучей кашки и синих колокольчиков и «справляем свадьбу» с плясками и песнями до усталости.
Кулеш на цельном молоке
Ох, как мне хотелось спать в то утро. Но бабушка расщекотала меня, умыла и отправила к пастухам с завтраком, наказав, чтобы я быстрей возвращался.
Тащил я узелок за тряпичные уши, зевал во весь рот и думал: поделятся со мной пастухи кулешом или все сами выхлебают, как прошлый раз. По дороге я заглянул в сельсовет. Там никого не было, только брюхатый шмель сердито гудел, тычась в стекло, и висела на телефоне чья-то шапка. Потом заглянул к Петьке. Мать его сказала, что Петька пропал чуть свет, и теперь его надобно с собаками искать.
На завалинке сидел, опершись бородой о палку, дед Евсей, тощий, как Кащей, старик, Петькин дедушка.
— Здорово, Евсей Панкратыч! — поприветствовал я деда.
— Куда бежишь, Серенька?
— Завтракать несу пастухам… Нынче наш черед. Кулеш вот, целый горшок, по три яйца и две пышки…
— Небось на снятом молоке! Бабка твоя, Алена, скупей скупого!
Дед захихикал, ерзая портками по завалинке. Очень он был насмешник и вредный. Прошлой зимой подучил меня лизнуть топор. И язык мой прикипел к обуху. Он и над Петькой разные штучки устраивал. Велел внуку накласть в шапку яиц и надеть на голову — обещал за один мах цыплятков вывести. А сам тресь по макушке, у Петьки яичница и потекла по ушам.
Я обиделся, что мою баба ню назвали скупой, и сказал деду:
— Ты сам скупердяй, у тебя навозу не выпросишь!
— Навозу я тебе в пазуху могу накласть вволю, — захихикал дед, — а что на цельном молоке кулеш — ни в жизнь не поверю!
— Сейчас поверишь! — Я развязал узелок, поставил на завалинку горшок, достал ложку: — На, пробуй!
— Ну-ну! — дед зачерпнул ложку, вторую, третью. — Не разберу! Вроде на цельном молоке, а будто и на снятом… Не разберу, дай пышки.
Я и пышку ему дал. Дед хлебал кулеш, вздыхал, вздымал глаза в небо, потом заключил:
— Хлебать можно. Беги, Серенька, а то пастухи заждались. Так-то я ладно назавтракался…
Только я свернул в прожог, навстречу Федька, Лешка Херувим, Санька и Петька. Они бежали, как на пожар. Я присоединился к ним и на ходу узнал, что за ними никто не гонится, а Мишка Прокопюк упал с пожарного сарая и пропорол кишки.
У больничной коновязи стояли две телеги. В одной храпел мужик, подложив под голову кнут. Под телегой лежала пестрая собака. В другой рылись фельдшеровы куры. На больничном крыльце сидела тетка с подвязанной щекой и четверо младших Прокопюков: Венька, Колька, Толька и Митька. Колька с Толькой не имели еще своих порток, но были приняты в нашу ватагу за смелость и отчаянную драчливость.
Венька плакал. Братья уговаривали его:
— Венька, а Венька! Кончай, а то мы начнем!..
— Уйдите, — всхлипывал Венька, — я не плачу… они сами текут. Боюсь, вдруг Мишка помрет…
— Такие не помирают, — сказала зло баба, — ево трактором переехай — и как с гуся вода… Ой, сил моих нету, а он, черт, без череду шмыгнул!
Не успели мы расспросить, как Мишка упал с пожарки, а он тут как тут.
— А ну, покажь, — попросил Федька.
Мишка задрал рубаху. На животе у него красовалась белая нашлепка, приклеенная крест-накрест ленточками пластыря.
— Подумаешь! — скривился завистливый Федька. — Щепку в брюхо воткнул… Вот гвоздь бы!
Мишка присвистнул и разжал левый кулак. На ладони лежали рыболовные крючки. Новенькие, с ядовито-острыми жалами. Целое богатство.
— Устин Ефимович дал…
— За что?
— За так…
Мы сопим, соображая, как это здрасте-пожалте и на тебе — два крючка.
— Кинем менка! — Федька выворачивает из-за пазухи гусиное яйцо-подкладень, железную трубочку плеваться бузиной, красное стеклышко.
— И рогатку с тянучей резинкой! — требует придачи Мишка.
Федька прячет свое богатство обратно.
— Захочу, мне Устин целую горсть насыплет!
— Захочи! — наседает на хвастуна задиристый Митька.
— Захотю! — Федька решительно идет к крыльцу.
Баба с завязанной щекой заступает ему дорогу:
— Я тебе, идол, как шваркну по макушке! Занимай черед!
Федька садится на ступеньку, а мы располагаемся на траве под больничными окнами.
— Никак кулешом пахнет? — принюхался Мишка.
— Пастухам вот несу… Завтракать…
— Дай хлебнуть, а то кишки подвело, — просит Мишка.
Ну, как товарищу откажешь? За Мишкой Петька съел три ложки. Потом Лешка с Венькой. Потом опять Мишка. Митьке, Тольке и Кольке досталось по чуть-чуть. Тут захотел кулеша Федька. Пришлось отдать ему три яйца. Пастухам осталось совсем ничего: полторы пышки и три яйца. Сообща подумали и это доели. Как раз вышла из больницы баба. Нос толстый, как свекла, во рту кусок ваты, легла в телегу.
Федька надул щеки, решительно открыл дверь с медной ручкой.
Цепляясь друг за друга, мы лезем на узкий карниз под раскрытым окном. Оно затянуто от мух марлей. Из окна пахнет лекарством и папиросным дымом. Слышно, как внутри дома скрипит дверь. Марля вздувается и опадает.
В приемной фельдшер Устин Ефимович что-то бубнит, шелестит бумагой — очки ищет. Потом громко спрашивает:
— Где болит?
— Вота! — пищит Федька. — Под самым пупком… Заноза!
— Ничего не вижу…
— Она у меня нутряная!
— Нет таких заноз, — бормочет фельдшер, — что ты мне голову морочишь! На вот, Федор, мятную лепешку…
— Нужна мне лепешка! Лучше занозу выдери и крючков давай… штук пять!
— Ну-ну, — смеется фельдшер, — понятно… Вымогатель ты, Федор, — раз, вульгариус-симулянтус — два… Ну, что же, ложись сюда на лавку.
— Холодно, клеенка.
— Ничего, ничего… Терпи, коли крючков хочешь! Марьванна! — громко зовет фельдшер.
— Иду! — отзывается Марьванна, новая акушерка.
Моя бабушка ее не любит и прозвала стриженой вековухой. А мне Марьванна нравится. В селе красивей ее никого нет. Как она приехала, так все девки стали чернить брови углем и делать на глаза кудри.
— Марьванна, — говорит фельдшер, — я хочу большим ножиком распороть Федьке живот, достать из кишок занозу!
— Вот и хорошо! — соглашается Марьванна. — Сейчас подам самый большой!
В приемной начинается возня. Что-то с грохотом падает. Звенит разбитое стекло. «У-у-убива-а-ают!» — пискляво воет Федька. Марля обрывается, и мы видим выпученные Федькины глаза. Мы обрушиваемся с карниза и пускаемся наутек.
На лугу за кузней, обезножев, падаем на траву.
— Живорез очкастый! — тяжело дыша, говорит Федька и вытирает слезы больничной марлей. — Ну, я ему палец тоже отхряпал!
— А ну, покажь, — сипит Петька.
— Я его дорогой потерял…
— Пузо покажь!
Федька, лежа на спине, задирает рубаху. Мы внимательно созерцаем Федькин пупастый живот. Ни царапинки!
— Ножик у него тупой! — уверяет Федька. — Они вдвоем навалились, он согнулся…
Ребята затевают игру в «чижа», а я заглядываю в узелок, где в пустом горшке брякают ложки. Что делать? Как ни тужу мозги, ничего придумать не могу. Повесив голову, плетусь домой, а бабушка навстречу. Отчаяние охватывает меня.
— Бабаня, милая! Я кулеш съел весь до донышка. И пышки и яйца!
Бабушка всплескивает руками.
— Да куда же в тебя, окаянного, поместилось? Господи! Ты же от заворота кишок помрешь!
Умирать мне не хочется. Ох, как не хочется, и я пускаюсь в рев. Бабушка обняла меня, стала целовать в макушку.
— Бабаня! — ору я. — За что я один должен помереть?! Дед Евсей хлебал кулеш, Петька хлебал, Прокопюки!
Бабушка смеется:
— Смолкни, идол! Я испугалась — ты один столько убрал!
— Бабаня, ты не жалей кулеша-то… Его все хвалили, — говорю я сквозь слезы, — вот, честное слово, хвалили…
Мы возвращаемся домой. Я доволен, что все обошлось, и начинаю хвастаться, что, мол, было бы плохо, если бы я разбил горшок с кулешом, а то ведь сколько людей накормил, сам наелся и еще прибыль получил. Мишка мне дал крючок! Настоящий, стальной! И завтра я им наловлю рыбы, хоть соли в бочке.
Но про крючок, видно, я зря проговорился. Бабаня треснула меня по затылку и пригрозила не пустить на речку.
В ночное
Ну и бабаня, навалила работы — дохнуть некогда. Кур надо гонять с огорода, пол подмести, натаскать в чугуны воды, хворосту нарубить. Но, отложив все дела на потом, я сидел верхом на пряслах и соображал, куда бы употребить кусок сыромятного ремня, который выменял вчера у Федьки за круг подсолнуха и свинцовую биту.
Как ни крутил, ничего не получалось. Для уздечки мало. На пояс — коротко. Получалось одно — разменяться обратно.
Любимый мой Петруха расшвыривал граблястыми лапами кучу печной золы и, как заводной, бубнил: «Вот она-а! Ка-какая! Вот она-а!» Сбегать бы на ток, где ребята веют рожь. Нельзя! Надо дела делать, а то бабушка в ночное не пустит.
Пожалуй, начну собираться. Конец августа, ночи уже холодные. Надо взять ватную пальтушку. Правда, она тяжелая, будто ее не ватой простегали, а железом, но теплая. А на ноги? Куда ни кинь, кроме новых ботинок, обувки у меня нет. Бабушка выменяла их на базаре у какого-то мужика за четыре стакана пшена. Это на случай, вдруг мать вытребует меня в Москву. Не в валенках же ехать.
Ботинки были замечательные. Я уже их раз обувал, когда ходил в клуб на постановку. Ребята завидовали. У одного ботинка подошва была из красной резины, у другого из черной. Сами парусиновые, мыски — кожаные. Их можно было обувать на любую ногу: хочешь на левую — правый, на правую — левый. Очень удобно.
А от кожаных сандаликов, что привез Терентий Прокопьевич, остались рожки да ножки. Я их промочил и сушил в печке, они скрючились. Бабушка сандалики сунула в ведро, подметки взяли и отвалились.
С шапкой выходило худо. Заячью бабушка не даст. А с босой головой так замерзнешь — и резиновые подметки не помогут. Тут я вспомнил: в чулане, где стояли ларь и прялка с колесом, из которого я выломал пару точеных спиц играть в «чижа», на гвозде, вбитом в потолочную матицу, висела затканная паутиной большая шапка с костяным козырьком. Я рассудил справедливо: дед помер давно, бабка картуз носить не будет, вся стать владеть им мне.
В душной избе тикали ходики. Гиря — мешочек из обрезка чулка, набитого песком, — висела почти до пола. На суднике роем гудели мухи. Кот Бесхлебник сидел на лавке и намывал гостей. Увидев меня, кот сразу полез под печь. Я взял ухват с самой длинной ручкой и скинул картуз.
Ну и пыли в нем было, едва выколотил об угол печи. Померил, он оказался малость великоват, голова проскакивала в него, как в ведро. Я затолкал в него посудное полотенце, и вышло как раз. Если слегка придерживать рукой, скачи хоть наметом, не свалится.
Пока был в избе, куры забрались в огород. Едва успел выгнать, пришла с тока бабушка, вся в мякине. Я ей доложился, что еще ничего не сделано, но сейчас все исполню. Бабушка сказала:
— Твой «сейчас» до рождества надо ждать! Я сама.
Бабаня меня жалеет. Я слышал, как она говорила тетке Фекле, будто я при живой матери сирота и у нее сердце кровью обливается. И за дедов картуз она не ругалась. Полотенце выкинула, распорола околыш и ушила. Стал он мне тютелька в тютельку. А ботинки в ночное не дала. Велела, как спать захочу, пальтушкой укрыться, а ноги сунуть в рукава. С моей бабушкой не пропадешь. Ее даже предколхоза Крымов хвалит, что она все умеет, а если какой совет даст, то иной министр такого не сумеет.
— Ох, бабаня, ох, бабаня! — стал я ее хвалить за ушитый картуз. — У тебя не голова, а целый сельсовет! Ни один бы министр до такого не додумался, а ты раз-раз, и готово!..
Потом бабушка сварила в самоваре два яйца. В чистый лоскуток завязала щепотку соли. Налила бутылку молока, дала пять картофелин в восковой кожуре, ломоть ржаного хлеба. К холщовому мешочку привязала веревочку, получилась торба. Туда сложила припас. Я надел пальтушку, картуз, через плечо приладил торбу и стал ждать.
Я совсем запарился, покуда ожидал Петьку. Наконец он приехал на огромном мосластом мерине, по прозвищу Ваня Сонный. Мерин был сильный, но такой медлительный, будто действительно дремал на ходу, как пчеловод Ваня Карябочкин.
На лошадь я забираюсь с крыльца. Мое место за спиной у Петьки. Бабушка строго наказывает: «Вы, анчутки, лошадь не гоните, ей и так досталось! Ну, трогайте!»
Мы дружно ударили пятками в ребрастые бока. Мерин тяжело вздохнул и переступил толстыми, с рыжей бахромой над копытами, ногами. Мы ударили еще раз. Мерин еще раз вздохнул и затрюхал рысцой. Спина у него была прогнувшаяся, как крыша на избе Феклы, а в отвислом брюхе что-то булькало.
Когда мы, подбоченясь, трусили мимо Прокопюков, из избы сыпанули с ложками и кусками хлеба в руках Колька, Толька, Митька и Венька и, гикая, пустились в пляс по пыли, горланя:
Чичер-пачер чудеса, рыжий в краску мазался! Поглядите: Петька-бес на дохлятину залез!Петька изловчился и огрел веревочной путой настырного Митьку по острым лопаткам. Прокопюки дружно взвыли и побежали выламывать колья из плетня. Ваня Сонный наддал ходу. И пока Прокопюки сокрушали плетень, мы уже были далеко.
Колхозный выпас начинался сразу за селом. Низкий сырой луг, поросший кустами, шел до самой речки. Весной Истья заливала его, а когда вода спадала, мы ловили корзинами по колдобинам щурят и плотвичек.
Ребята были уже здесь. Мы спутали мерина, сняли с него оброть. Он постоял, словно собираясь с силами, и неуклюже запрыгал к лошадям. У дымного костерика на стеганой кацавейке лежал Илья Фролович. Мишка Прокопюк, Лешка и Федька ломали сушняк. Мы присоединились к ним. Пока запасались на ночь топливом, солнце опустилось за Болотовский лес. Пока пекли картошку, ужинали, незаметно подкралась темнота.
Мы оделись и улеглись ближе к теплу. В синем небе высыпали звезды. От реки чутко тянет холодом, пахучей сыростью. А нам хорошо.
Тихо. Бормочет себе под нос какую-то сказку огонь. Илья Фролович закурил, махорочный дым здесь пахнет резко и перебивает запах осоки.
За лохматым кустом дернул коростель: «Тыр-тырры! Тыр!» Просвистели крыльями низко над лугом утки. Бледная тень метнулась неподалеку, кто-то запищал пронзительным смертным голосом в траве.
— Ой, страшно-то как! — зашептал трусоватый Федька.
— Сова это, — сказал Илья Фролович, — видать, мышь закогтила… Ложитесь, ребята, а я лошадей соберу… Ватничек-то мой подстелите тоже.
Проснулся я оттого, что Мишка совсем стянул с меня пальтушку и спине стало зябко. У прогорающего костра лежал, подперев щеку кулаком, Илья Фролович, курил, тихонечко мурлыкал какую-то песню.
Илья Фролович бросил в угли окурок и всхлипнул.
«Никак плачет, — подумал я, — чегой-то он?» Глаза у меня сладко слипаются. Я тащу с Мишки одежку на себя. В траве гулко отдается топот стреноженных коней, в уши сквозь вязкую дрему лезет.
Лошадиный топот и слова песни уходят все дальше. Сон заклеивает слух и плетет какую-то сладкую небылицу: меня избирают председателем колхоза, потом назначают начальником милиции и я женюсь на мельниковой Тоньке.
На рассвете меня пробрало до кишок. Мишка совсем сдернул пальтушку. Я плюнул на него — не драться же с ним, сонным, — и уселся возле теплого кострища. Илья Фролович ворошил прутиком пепел.
— Дядя Илья, то ли мне снилось, то ли въяве, а будто ты пел и плакал? — спросил я.
Илья Фролович нахмурился, сердито сказал!
— Приснилось тебе!
Я подумал и согласился, что приснилось, и начал рассказывать, как меня выбрали председателем колхоза. Илья Фролович свернул цигарку, сунул жичинку в угли и, когда она загорелась, прикурил, сбил огонь о траву, сказал:
— Давай, Сережка, помолчим да послушаем…
Над лугом тонким пластом висел туман. Лошади стояли неподалеку, сбившись табунком. Туман резал их пополам. Голова и спина сами по себе, ноги и живот сами по себе. У речки кричал коростель. Второй близко у лошадей, а третий далеко-далеко.
— Невзрачна птичка. Ни наряда у нее, ни голоса, — сказал Илья Фролович. — Всей песенки, будто ветер калиткой скрипит… А вот отыми ее у луга, у ночи, у рассвета — и осиротеют они, потеряют живую душу…
Илья Фролович вздохнул. «Тырр-тырры! Тыр! — дергали в сыром лугу коростели. — Тырр! Тырр! Тырр!»
— Пора! — сказал Илья Фролович. — Буди ребят…
Вороньи прогнозы
Бабушка стоит на крыльце, смотрит из-под руки в голубое небо и говорит:
— Серенька, тащи грабли, давай сено в прожоге скопним, а какое в саду, в сарай перетаскаем. Боюсь, дождем все захлещет!
А небушко ясное, будто протертое. Теплынь, безветрие.
Мне с колючим сеном возиться не хочется. Я вершу мастерю из ивовых прутьев и начинаю уверять старую: мол, никакого дождя и слыхом не слыхать.
— Ты со мной не спорь, лень кривоногая, — осерчала бабушка, — ты лучше послушай, как ворона кричит! Сидит вон башкой на восход и перхает, как рыбьей костью подавившись… Быть с той стороны дождю!
Сено мы убирали до вечера. Только-только управились, закрапал дождь.
Утром я лишь продрал глаза и — к окну. По стеклам так и барабанит. На улице ни собаки. Небо обложено тучами, холодными, серыми, беспросветными. Словно лето взяло и отрезало и началась осень.
Я пристал к бабушке, откуда ворона про дождик узнала. Бабушка сердилась.
— Откуда, откуда, — ворчала она, гремя чугунами, — видать, соображает…
Бабушка сокрушенно вздохнула. Дым не хотел в трубу выходить, лез обратно в избу, как его ненастье назад загоняло.
— А как соображает?
— Не знаю… Вон Евсей Желдаков говорит, что у него к снегу и дождю колено мозжит… Видать, и у вороны к непогоде в костях боль объявляется. Ах, отстань ты от меня, репей, с дурацкими разговорами!
Бабушка ушла в сарай за сухими щепками, а я накинул ее овчинную душегрею и побежал к деду Евсею.
Евсей сидел за столом, ел хамсу без хлеба и читал газету, держа в руке очки и отставляя их далеко от глаз.
— Здорово, дедуля! — закричал я от порога, как можно громче.
Дед вздрогнул и сердито сказал:
— Ведь с горшок, а ревет чисто медведь!
— Так ты же глухой, как доска, — оправдывался я.
Евсей отложил газету, спрятал очки, вытер руки о колени и, приставив ладонь к желтому уху граммофончиком, зашумел:
— Это верно, ты ближе подойди!
Но только я приблизился к старику, он больно сцапал меня за волосы:
— Попался, кикимора страшная! Я тебе покажу «глухую доску»! Я тебе покажу, как дразниться!
Я вырвался, оставив деду клок волос и бабушкину душегрею. Дед выбросил ее в окно, я подобрал, вытер слезы и побрел домой, ругая себя за беспамятливость. И обижаться на деда было нельзя. Сам виноват.
С неделю назад, когда мы с Петькой курили за избой сухой ветловый лист, дед погнался за нами с хворостиной. Мы спрятались в коноплю и стали его дразнить.
Дед Евсей, когда бывал выпивши, любил песни и носил прозвище Писня, оттого что говорил: «Сейчас я вам писню спою». Вот сидели мы с другом в конопле и кричали: «Писня! Писня!» — добавляя к прозвищу зазорное словечко.
Петьку-то отец в тот раз выпорол, а мне обошлось. Потому я и забыл, что за мной должок.
Короче, так я и не узнал, каким же образом ворона погоду угадывает. А вскоре случилось, что я воспылал гневом и собрался искоренить все горластое воронье племя.
В воскресенье бабушка ушла на базар. Я был оставлен дома со строгим наказом: дальше крыльца — ни шагу! На мое попечение доверялся огород, теленок на привязи и три гусенка в толстых пуховых тулупчиках.
Не успела, наверное, бабушка дойти до большака, как я очутился на пруду, где мои приятели, обмазавшись жирной тиной, играли в чертей. Меня сразу приняли в компанию. Ох, и весело нам было.
Когда я вернулся с тиной в голове и в грязной рубашке, бабушка выгоняла кур из избы. Они ошалело кудахтали и бросались в окна. Под печью выл кот. Возле судника по полу растекалась молочная лужа и валялись черепки.
— Ах ты, дитя глупое, — сказала бабушка, — никакова ума во лбу — одна гулянка! Ну, и рожна тебе вместо гостинца!
Потом бабушка принесла с огорода гусенка с расклеванным животом, стала кричать и тыкать дохлятиной мне в нос.
— Мы их для ворон растим? Для ворон?.. Пойду сейчас за чересседельником к Илье Фроловичу!
Пришлось выжать слезу! Бабушка сразу подобрела и дала леденцового прозрачно-оранжевого петушка на сосновой свежей лучинке. Я лизнул петушка один раз и спрятал его на божницу за икону.
Бабушка пошла в огород окучивать картошку. Я увязался за ней и, стараясь загладить вину, деятельно помогал. На старом клене на меже сидели, насупившись, две вороны. Бабушка опять разгоревалась и принялась их ругать:
— С ружья бы вас, обжор!
Я обрадовался подсказке, побежал в избу, взял петушка и помчался на другой конец деревни к Митьке Упанишу.
Митька был года на четыре старше меня — лет двенадцати. Мы с ним дружили. Я любил его за смелость, за умение ездить на лошадях.
А Упанишем прозвали Митьку из-за матери. Митька объезжал неуков[1], а мать ему слезно кричала: «Митя, упанишь! Дяржись, упанишь!»
У Митьки было тяжеленное фитильное ружье с длинным граненым стволом и толстой неуклюжей ложей, треснувшей и связанной проволокой. Ствол он нашел в пожарном сарае, а приклад выстрогал из березового чурака.
Порох он делал сам. Сдирал головки со спичек и примешивал к ним толченый уголь. Для дыма. Считалось, чем больше дыма, тем порох сильней.
Леденцовому петушку он обрадовался. Мы лизали его по очереди. Когда осталась одна лучинка, Митька притащил ружье, забил рябиновым шомполом заряд, а вместо дроби насыпал чугунное крошево от старой сковороды. Положив ружье на плечи, как жердь, мы отправились к свинарнику, где к вечеру на ветлах собирались тучи ворон.
Укрепив ружье на пряслах, Митька нацелился, а я поджег затравку. Выстрел получился толстый, словно палкой сильно ударили по матрасу, набитому сеном: «Пу-у-ух!» Но дыму было много.
Вороны взмыли с всполошным криком, покружились и улетели куда-то. Я огорчился. Мне представлялось, что после выстрела они посыплются дохлыми с дерева, как дождь. Митька утешил меня: мол, они полетели околевать. Я побежал домой скорее порадовать бабушку.
— Глупый ты, совсем умом пришибленный, — осерчала неожиданно бабка, — такой грех ты учинил! Нельзя птиц убивать! Им и так жизнь трудная. Это ведь только в песне поется, что птичка божия не знает ни заботы, ни труда. Людям они помощники… Гусениц склевывают, жуков, всяких козявок-букашек…
— Так мы не птиц стреляли, а ворон, — разъяснил я бабушке.
— Ворона тоже птица!
— Тогда пускай не клюет наших гусят!
— Вот и караулить надо было! Эх, дитя! Посадить бы тебя ночью на сук, на ветряном юру, да в стужу, да с голодным брюхом! Узнал бы, как вороной быть!
— Бабаня! — обрадовался я своей догадке. — Теперь я узнал, как она погоду чует плохую. У нее коленки простужены и ноют к дождю!
Бабушка подумала и сказала:
— Кто знает… Может, не коленки у нее болят, а косточка какая в крыле?
Вечером я долго не мог уснуть. Лежал на печи, смотрел в окно, где в палисаднике в тоскливом лунном свете качалась тень от сиреневого куста, и представлял, как у вороны болят простуженные кости, а она кряхтит и, может быть, плачет по-своему, по-вороньи. И нет у нее на зиму ни валенок, ни шубейки, ни муравьиного спирту, как у деда Евсея Желдакова, чтобы растереть колени. Жалко мне ее было.
Новая молотилка
Нюра полоскала с мостков белье, хлестко колотила его вальком. От того берега отскакивало эхо: ох, ох, ох. Я сидел под кустом, смотрел, как водомерки гоняются друг за другом вокруг поплавка, и нехорошими словами ругал Шуру Никишкину, попавшуюся давеча навстречу с пустыми ведрами.
Вдруг я увидел — через плотину бежит бабушка, размахивая головным платком, за ней, поддерживая пазуху, толстая Прокопючиха, за ней тетка Фекла с граблями, следом девчонки мал мала.
— Серенька, — завыла Нюра, — никак беда случилась… Беги, Серенька!
Ну и летел я, даже колючек под ногами не чувствовал. Но беды никакой не было. По селу ехал трактор, постреливая из тонкой трубы угарными колечками, тащил на прицепе огромную машину. Она сияла свежим красным лаком, какими-то шкивами, шестернями с цепями. Оказалось, что это сложка-молотилка. За ней густо бежали ребятишки, шли бабы, мужики и старухи.
Рядом с трактором суетился, размахивая руками, должно, механик, весь чумазый, потный, отталкивал в животы любопытных.
— Не кидайся под колеса! Имейте совесть, наглядитесь!
За рулем трактора сидел Наум, полуобернувшись назад, вытянув шею и разинув рот от напряжения. Механик и ему указывал сердито: «Давай, давай! Шпарь быстрее, не сахарная, не развалится!»
Митька Прокопюк и Лешка все забегали, забегали вперед, ложились животами в пыль, норовя заглянуть под молотилку, что там у нее «в нутрях». Я начал хвалиться ребятам, что на тракторе едет моя родня. Федька не поверил. Я стал кричать:
— Дядя Наум! Дядя Наум, здорово!
Наум увидел меня, закивал головой и закричал в ответ:
— Здорово, Серега! Вот она, с иголочки! А ты говорил!
А я ничего не говорил. Что он придумывает!
— Ну, выкусил? — спросил я Федьку. И сразил его окончательно. — Теперь каждый день на тракторе буду ездить!
Федька приуныл и стал рассказывать, что у него есть свинцовая гирька на ремешке и с ней не страшно ходить хоть в Болотовский лес, хоть ночью на кладбище. И он уже давно хотел ее мне отдать, да все как-то случая не подворачивалось.
Я пообещал прокатить Федьку три круга, но с условием, чтобы он не хватался за руль и рычаги. Приятель согласился и сказал, что гирьку он непременно отыщет, она куда-то задевалась.
Трактор с молотилкой свернул в прожог к новой риге и сломал Барковейкин плетень. Тетка Катя не ругалась, только крикнула механику: «У тебя что, глаза на пупу?»
Пока устанавливали на току молотилку, мужики и бабы толпились вокруг и давали советы, как лучше ее развернуть. Дед Евсей совсем закомандовался и начал гнать прочь ребятишек, будто ему уже отдали сложку под охрану.
Старухи пристали к нему с расспросами, как же, мол, железная штуковина молотить будет, каким местом. Дед Евсей важничал больше тракториста Наума и объяснял: «Задним она местом молотит! Задним! Наберет старух, какие костлявее, насажает внутре, на снопы, и будут они мослами колосья обминать! А трактор возить молотилку вокруг тока, чтобы тряско выходило и старухи бы не дремали!» Анисья замахивалась на деда батожком: «Как был ты смолоду озорник-пустобрех, таким, видать, и помрешь!»
Наум с механиком, установив молотилку, сразу стали что-то отвинчивать, протирать тряпками, а я, вспомнив про Нюру, побежал на пруд.
Тетки уже не было. Карасей на удочку тоже не попалось. Как висела корка на крючке, который я согнул из булавки, так и висела. Я и знал, что будет пусто. Смотал леску на ореховую хворостину, пошел стежкой по задам домой и наткнулся на Егорушку.
Он сидел на траве, мотал головой и так дышал, будто его гнали верст десять кнутом.
— А-а, Сережка, — сказал он, словно обрадовавшись. — Я смотрю — кто это идет, а это ты…
— Сложку-молотилку привезли, дядя Егор, — сообщил я новость.
— Это хорошо, Сережка, что молотилку, — вздохнул Егорушка и, морщась, принялся вытирать ладони о колени, о траву. — Это даже очень хорошо… Теперь все хорошо будет. Ты иди домой. А я тоже…
Он тяжело, упираясь подламывающимися руками в землю, встал, и, когда пошел, его бросало из стороны в сторону. Я еще подумал, что ему здорово сегодня будет от Шуры. Она всегда ругалась, если Егорушка крепко выпьет.
Белье уже висело на веревке между яблонями и на плетне. Нюра мыла пол. Я начал ей рассказывать про молотилку, она засмеялась: «Уже знаю, твоя новость с бородой! Тащи-ка мне чистой воды!» Только я взял ведро, как прибежала Шура Никишкина, растрепанная, в слезах, начала что-то шептать тетке. Та заохала, бросила мытье, засуетилась, потом открыла сундук, достала полотно, велела мне держать за угол и, надрезая ножиком, отрывала от него полосы.
Я удивился, как она самовольничает. Бабушка хранила его на смертную рубаху. Нюра прикрикнула на меня: «Не суйся под руку, пырну остриком по пальцу!»
Шура Никишкина скомкала тряпичные ленты, зачем-то сунула их под кофту и торопливо ушла.
Я пристал к тетке, для чего она испортила новую холстину. Она ничего не ответила и принялась за пол.
— Ну и влетит тебе от бабани! — начал я пугать тетку. — Ну и будет тебе дерка за волосья!
Нюра, выкручивая тряпку, начала ко мне подкрадываться, прицеливаться, но я увернулся. Выскочил в сени и подпер дверь граблями.
Хлебное поле
Санька скучно сидел в короткой тени под копной, поджав острые колени к подбородку. Майка ползает возле, что-то лепечет, пытается встать на толстенькие, в перевязочках, ноги.
— Навязалась на мою голову, — жалуется Санька. — Жизни от нее никакой нету, хоть с колокольни топись!
Я рисуюсь перед ним богатым кнутом с кожаными махрами. Правда, кнут не мой, а дяди Николая. Я у него в помощниках. И сделал уже три ездки к колхозной риге на телеге, груженной до неба снопами ржи. А Санька в няньках. Он уговаривает меня на замену, сулит отдать глиняную свистульку, похожую на свинью с собачьим хвостом. Но если в нее налить воды, то она, несмотря на безобразие, выделывает трели, как соловей.
Мужики уже завершают последний воз. Поблескивают вилы-двойчатки на длинных держаках.
Я соглашаюсь на свистульку, потом раздумываю и требую ножик. Санькин отец выточил его из обломка косы; ручка ясеневая, гладко очищенная стеклом, в ней прожжена дырочка для шнурка. Можно привязать его, и никогда не потеряешь. Приятель показывает мне дулю, но, когда дядя Николай зовет: «Серега, иди подсажу!» — соглашается.
— Ладно, пользуйся моей простотой…
— Побожись, что отдашь!
Санька «божится» — то есть дает страшную клятву, что, если не отдаст нож, его живьем съедят лягушки, отопреют руки-ноги, отвалится язык, и он на веки вечные останется немым.
Теперь я спокоен. Сделка совершена по всем правилам. Санька убегает. Возы, каждый как гора, валко раскачиваясь, уползают с поля на дорогу.
Жара. Чудится, что небо спеклось от зноя, сделалось синевато-тусклым, твердым, как полив на горшках.
Майка цепляется ручонкой за мой палец, встает на ноги. Я делаю ей «козу», она совсем по-настоящему хихикает. Я думаю, была бы у меня такая сестра, и на два ножика не променял. Усаживаю девчонку на колени и пою считалочку: «Раз, два — кружева! Три, четыре — нацепили! Пять, шесть — кашу есть! Семь, восемь — сено косим!»
За буграми, как большой сердитый кузнечик, стрекочет железным голосом конная жатка. Это во второй бригаде. Зато в нашей самые лучшие косцы: Прокопюк, Илья Желдаков. Егорушка и еще пятеро мужиков.
Косцы движутся ступенчатой цепочкой. Взмах — шаг, взмах — шаг. Дружно, легко, будто сами собой взлетают косы.
На косы настроены грабельки — «крюки». Они подхватывают срезанные стебли ржи и ровно, колосьями в одну сторону, укладывают их тяжелой охапкой. За каждым косцом идет вязальщица, закутанная до глаз платком, за опояской — пук свясел. Два-три быстрых движения, и на жнивье лежит толстый сноп.
Внизу и вверху широкие, посередке туго-натуго перетянутые, складные снопы похожи на разомлевших девок, прилегших отдохнуть на просторном поле.
Майка засыпает у меня на руках. На крохотном носике блестят капельки пота. Кладу ее в тень под копну на чью-то одежду и прикрываю платком.
Без дела скучно. Рассматриваю усатый колосок ржи. На одной грани синевато-черный рожок спорыньи. Вышелушиваю зерна и вдруг вспоминаю, как давеча дядя Николай сказал: «Вот зерно, с виду оно просто, будто и понимать в нем нечего. А ведь в нем чудо скрыто. Человек его съест или птица склюет — силы у них прибудет. Брось его опять в землю, снова прорастет. Оно живое!»
Пройдя гонку, мужики взваливают косы на плечи и не торопясь возвращаются. Достают из деревянных брусниц с водой длинные бруски. Косы вскрикивают: «Еще! Еще! Еще!»
Прокопюк подкручивает усики и коротко бросает: «Пошел!» Сталь широким полукругом вспыхивает на солнце. Рубаха у Ивана Васильевича на спине почернела и прилипла между крутыми лопатками. А он взмахивает косой легко, будто играя, красиво. Я ему завидую.
Илья Желдаков выжидает и, отпустив шагов на десять Прокопюка, тоже коротко говорит: «Пошел!»
Вот уже три косы взлетают одновременно. Потом четыре…
Егорушка Никишкин идет последним. Косит он плохо, часто останавливается. Мне работа его не нравится, портит весь лад. В сенокос он самому Прокопюку «пятки подрезал», а нынче как вареный. Бабы-вязальщицы смеются, кричат: «Лександра! Ты следи за своим кудряшом! Он, видать, по ночам не стога охранять ходит, а к Надьке больничной на сеновал!» Шура работает, не разгибаясь и не отвечая.
Из села рысью возвращаются пустые подводы. Рядом с возчиками вижу щекастого Федьку, Мишку, длинного Петьку, Лешку, Веньку, а Саньки нет.
Лешка, пока грузят на полки снопы, рассказывает, что сложка-молотилка работает — только успевай зерно отгребать да подвозить рожь. От него узнаю, куда девался Санька. Остался на току скирдовать солому. Ну, рыжая репа! Ну, врун! Придется с ним сегодня драться!
Только возы со снопами скрылись за бугром, на рессорной тележке, запряженной взмыленным Додоном, приехал Крымов, с ним безногий Клим. Бабы снимают с телеги флягу, укутанную по горлу ветошью, два каравая хлеба, миски, ложки и яблоневый пенечек с наковаленкой-бабкой.
Потом под руки снимают Клима, бледного, рыхлого парня. Ноги у него как плети. Он таким и родился, а мы, ребятишки, зовем его безногим.
Просыпается Майка, начинает хныкать. Я щекочу ей розовые пяточки усатым колоском. Она сначала беззубо смеется, потом начинает реветь. Я и в пляску перед ней пускаюсь, и на голове стою — орет, как резаная. Прибегает тетка Настя, берет девочку на руки.
От земли, как от перекаленной печи, пыхает жаром. Хлебом пахнет. Если закрыть глаза, так и привидится, что на широком конике — лавке вдоль окон — лежат, «выхаживаясь», горячие караваи, только что снятые с пода и прикрытые чистыми полотенцами, а слюни так и набегают во рту.
Подходят мужики, устало присаживаются возле копны, закуривают. Председатель записывает что-то в мятую тетрадочку. Клим, поплевывая на молоток, отбивает косы. Бабушка развязывает флягу, откидывает крышку. Жирный, пахнущий бараниной пар щекочет ноздри.
Председатель прячет тетрадку с карандашом под фуражку.
— Порадуемся, мужики! Прикинул начерно, выходит будто по шестьдесят пудов на круг…
— Труден хлебушек, да сладок! — улыбается бабушка, разливая по мискам похлебку, потом режет большущими ломтями каравай.
Вязальщицы садятся отдельной кучкой, пересмеиваясь и переругиваясь. Мы хлебаем с бабаней из одной посудины и одной ложкой.
— Это не еда, — говорит тетка Настя, — работников-то так не кормят. — И подает мне новенькую глубокую ложку. — Трудись, Серенька, а я чуток вздремну…
Крымов вылавливает из своей миски кусок мяса и перекладывает нам. Бабушка сердится. «Ты бы сам, ведь один нос остался!»
— Я двужильный, — отшучивается председатель. — Мальчишка-то растет, ему много есть надо!
— Крапивы ему много надо в одно место! — фыркает Катерина Баркова. — Весь до капельки из озорства! Так и шнурует, так и норовит проказу учинить!
— Кончай балаболить, — заступается за меня Иван Васильевич Прокопюк. — Сережка молодец, себя в обиду не даст и за друга постоит. И трудиться охотник… Молоти похлебку, Серега, не слушай!
А жирное варево, как огонь, и все едят медленно. Сначала долго дуют в ложку, держа под ней ломоть, потом осторожно схлебывают.
Тетка Настя, укрыв ноги платком, спит вместе с Майкой под копной. Додон переступает в оглоблях, хлещет по бокам хвостом. Его заедают слепни. Клим неутомимо тюкает молотком. Егорушка стоит, опершись локтями о телегу, задумчиво курит. Шура суется к нему с миской. Он отворачивается: «Отстань от меня!»
Двое верховых, вскидываясь в седлах, рысят по пыльной дороге. Бабушка смотрит из-под руки:
— Никак милиция? Волков с каким-то…
Верховые сворачивают к стану. Это точно Федор Волков, с ним молодой милиционер. У обоих к седлам слева приторочены винтовки. Не доехав шагов десять, они спрыгивают с лошадей, привязывают поводья им к ногам и идут вразвалочку, широко расставляя ноги в пыльных сапогах.
Мужики бросают жевать, выжидательно глядят на милиционеров. Бабы приветливо зовут: «Федор Иванович, давай с парнишечкой к нам, баранинкой с разварки угостим!» Волков отмахивается от вязальщиц, направляется к Егорушке. Лицо у него под козырьком страшное, в потных разводьях. Рот кривой.
— Ну, Егор! Ну, Егор! — цедит сквозь зубы Волков. — Кто тебя просил, кто посылал?
Мужики поднимаются. Никто ничего не понимает. Спрашивают старшего милиционера, что случилось? Волков, как-то обмякнув, устало отвечает:
— Он башку свою дурацкую под бандитские пули подставляет, а я нарекания должен выслушивать! Меня начальник живьем ест! Ты покажись, покажись народу, красавчик! Тебя кто милицейскими делами заставлял заниматься?
Бабы обступают Егорушку. Он на них сердится, потом рывком сдергивает через голову потную рубаху. Бабы ахают. Грудь у него широко перебинтована холстинными бинтами в бурых пятнах. На боку повязка сбилась, и я вижу красную сырую полоску.
Волков отводит глаза, морщится:
— Ведь возьми Яшка левее — и покойник… Эх, дурак!
— Значит, дурак не я один… Со мной гагинские мужики были — Юшка да Рыжий Семка… Повязали мы бандитов в сарае у Митракова, на подводу и — в Пронск…
— Пистолет-то сдал?
— Теперь он мне без надобности!
— Ну, чего ты, Федор, к человеку пристал? — сердито говорит бабушка. — Он вам вон какую подмогу сделал!
— Ты, Алена, не встревай! — зло обрывает бабушку Волков. — Заступница! Думаешь, я не знаю, что ему во всем подсобляла… Сыщица нашлась! И внуку твоему бы порки дать хорошей, почему он сразу в сельсовет не прибег? Герой! Сниму вот сейчас портки и выпорю!
Вязальщицы смотрят то на меня, то на бабушку. Волков берется за пряжку ремня. Я хочу убежать, схорониться в рожь, а ноги не слушаются. Прокопюк, словно догадавшись, как я перепугался, обнимает меня за плечи и прижимает к себе. Егорушка, усмехаясь, говорит:
— Это я ребятам велел молчать…
Волков, что-то бормоча под нос, ни на кого не глядя, отходит к копне, где спит с девочкой тетка Настя, распускает ремень с наганом, бросает его на снопы, снимает гимнастерку и тельную рубаху с завязочками вместо пуговиц. Плечи у него широкие, костлявые, в конопушках. Берет чью-то отбитую уже косу и идет к началу гонки.
Бабы угощают молодого милиционера похлебкой.
Безногий Клим вытирает пот с лица, прилаживает на наковаленке косу.
— Экая жарища! Трудно хлебушек достается. Жестокое лето выдалось…
Шура, всхлипывая, перевязывает Егорушку.
Солнце вспыхивает на стальной полосе. Вз-зы-нь! Взянь! — радостно звенит коса. Барковейка и бабушка идут вязать. Они едва успевают за Волковым.
Мужики скручивают цигарки. Парень-милиционер садится, приваливается к колесу телеги, ставит между сапог миску, откусывает от краюшки и засыпает.
Духота. Безветрие. Зной. Хлебом пахнет.
Бык с рыбьим хвостом
На мельнице тишина. Завоза нет. Глухонемой мельник Николай «кует» жернова. «Не мели хрушко! Мели мягко!» — разговаривает его молоток с камнем.
Мы сидим под плотиной на гнилой колоде. Булькает вода, просачиваясь между сваями. Под мельничным колесом, обросшим зеленой бородатой слизью, в бучиле всплескивается рыба.
— Благодать… Чего-то мне так хорошо, будто праздник какой, — вздыхает Петька.
Конечно, ему праздник. Он поймал плотвичку и семь пескарей. А у меня в ржавом ведерке только три пескаря. Когда я нагибаюсь их разглядывать, они начинают метаться и стучать глупыми носами в жесть.
«Ничего, — думаю я, — сейчас возьму и наужу целое ведро. Да как по селу пройдусь, да как меня все увидят. Ну, Серенька! Ну, молодец!»
Я еще не подозреваю, что в жизни существуют слава, престиж, первенство, но уже чего-то из этого набора требует моя маленькая душа.
Стрекозы, треща крыльями, носятся над водой. Посреди омута, где кружит пена, кто-то сильно бурлит, должно, крупный голавль подбирает мошек.
— Петь, а Петь? Рыба-то чего утихомирилась? Давеча вон так и дергала!
— Ты сколько раз ешь?
— Как все…
— Ну сколько?..
— Завтракаю — раз! В обед — два… Когда бабушка добудится меня — ужинаю… Да на огороде огурец сжую или репу… А если в лугу, то горлупы налуплюсь, баранчиков, кудрявчиков…
В лугах подкармливаются все деревенские мальчишки и девчонки. Там вдоволь кочетков, мясистых стебелей щавеля, кисловато приятных на вкус, горьковатой горлупы и баранчиков, отдающих каким-то лекарством. Но больше всего мы любим кудрявчики, сочные сладкие стволики какой-то травы.
— Огурцы и кочетки не в счет, — говорит Петька. — И выходит, ешь ты три раза. Так и рыба. Давеча она завтракала, теперь надо ждать, когда у нее обед и ужин!
«Ну и Петька! Ну и башка! — думаю я восхищенно. — Чего хочешь знает! Не задаром его Сова хвалит».
Петька уже перешел в четвертую группу, а я во вторую. Все четыре группы занимаются в одной комнате, только на разных рядах. Школа мала, от того и теснота. Старенькая Алевтина Власьевна, толстая, кубышечкой, и в очках, похожая на пыльную сову, что сидит на книжном шкафу, чаще всех назначает Петьку дежурным.
Если у других ребята жуют на уроках или плюются из трубочек рябиной, то, когда дежурит Петька, все шелковые. Какие мы с ним друзья — водой не разлить — и то спуску не даст. Сразу в журнал записывает.
И вот пришло, наверное, рыбе обедать. Петька хватается за удилище, выдергивает окунька с мизинец. Снимает с крючка и бросает в омут. Через минуту вытаскивает красноперого с ладошку. У меня ни гугу! У Петьки опять окунек.
Осматриваю вздетого на крючок червяка. Он веселый, так и крутит хвостом. Плюю на него погуще и для большей надежности осеняю живот крестным знамением, как делает бабушка перед всякой работой. Но, видно, выполняю ритуал без веры. Возможно, и левшой. Рыбы моего червя не трогают. Зато Петькин поплавок из обломанной пробки крадучись заплывает под куст бредняка, омакнувшего в воду узкие листья.
Петька вытянулся, замер. Поплавок ныряет в глубину. Короткая борьба — на песке прыгает голавль. Какой он красивый! Весь серебряный, плавнички красные. Глаза — как стеклянные бусины из бабушкиного ожерелья. Она надевает его по праздникам на синюю сатиновую кофту, и тогда наряднее ее никого в селе нет.
Вскоре Петька выуживает толстенькую плотву. Я начинаю злиться и колдовать ему под руку: «Не ловись! Не ловись! Разрыв-трава, и ты, песий корень, нацепите ему пиявок вместо рыбы, а рыбу пошлите мне! У Петьки уже много!»
Но ни разрыв-трава, ни песий корень, каких мы, мальчишки, в глаза не видели, но считали могучими помощниками во многих предприятиях, не спешат выполнять мой наказ. И когда Петька снова выуживает рыбешку и отправляет ее обратно в омут, я сердито отчитываю друга:
— Вредное ты Дело устраиваешь! Рыбу бросаешь в речку, а она там рассказывает, что мы ее ловим! Оттого у меня и не клюет!
Петька сконфужен. Ему такого и в голову не приходило. Он думал, делает хорошо — пускай маленькая растет.
Я попрекаю его еще сердитее. Я уверен, что так оно и есть. Ведь рыбы должны разговаривать между собой. Все животные разговаривают: коровы, овцы, собаки. Иначе нельзя. А то как бы мой лохматый Тимоха узнал, что в овраге дохлый теленок валяется. Он от двора не отходил. Прибежал Петькин Шарик и рассказал про теленка.
— Как же они говорят? — спрашивает Петька.
Это вопрос! Не так-то просто на него ответить. Я и сам не знаю. Ну, птицы понятно — голосами. Собаки и кошки — тоже. А в воде не закукарекаешь, не залаешь. Только рот разинешь — и сразу захлебнешься.
— А вот так! — нахожусь я и показываю лицом, губами, руками, как немой мельник. Видать, у меня здорово получается. Друг соглашается, что рыбы именно так и беседуют меж собой.
— Ладно, Серенька, теперь я по-другому буду!
Отцепив с крючка красноглазую плотвичку, Петька шепчет ей «на ухо»:
— Я тебя отпущу, а ты скажи там, чтобы они Серенькиного червяка жрали! Пускай хватают, он — как мед!
Рыбка шлепается близ свай. Видно, она ушиблась или Петька ее помял в кулаке — долго лежит на поверхности, потом, слабо шевеля хвостом, боком уходит в глубину.
У меня рука уже занемела от удочки, а поклевки нет как нет.
— Петька, ты, видать, ей плохо наказывал!
— Она еще от радости не очухалась, — оправдывается Петька. — Ты жди…
Я запасаюсь терпением. Представляю, как рыбешка плавает в бучиле в самой глуби и суется то к одной, то к другой рыбине, нахваливает моего червя, будто бабка Устинья. Та, если чего на базаре купит или в лавке, будет весь день ходить и нахваливать. Всем соседям надоест.
Но тут меня охватывает тревога. Устинья не раз и ругала покупки. Шленскую овцу срамила чуть не год. Заплатила за нее, как за стельную ягненком, а она яловая. «Чтобы ты исдохла и околела вверх копытцами, — ныла бабка, — и страшный этот мужик тоже бы сдохнул, чтобы его раздуло и лопнуло!»
Но плотвичка оказалась не в бабку. Наверное, так превозносила моего верткого червяка, что соблазнился хороший голавлик.
Ух, и рад я. Молодец, Петька!
Только снова забросил удочку, поплавок сразу пошел под воду. Я дернул. Какой там! Ореховый прут согнулся, затрещал. Живая сила навалилась через леску и удилище на руку. И счастье, и волнующая сладость борьбы захватывают меня. Лишь бы не сломалось удилище, леска-то надежная. Она сплетена дедом Наумом в четыре волоса.
Его работа славится. Ежели зацепишь за корягу, надо рвать вдвоем.
Толстый холодный окунь бунтует на песке. Пока освобождаю крючок из широкой глотки, Петька вытаскивает тоже здоровенного. Но чуть меньше моего.
Поклевка следует за поклевкой. Мелочь мы отпускаем с «наказом», чтобы приводила большую. Удача делает меня таким щедрым, что если друг велит своей рыбешке подманить для меня «самую крупнющую», то я для него «самую-самую разбольшущую».
Солнце припекает, начинает покалывать в глаза, отражаясь от воды. С лугов наплывает густой запах спеющей травы. На мельниковом дворе в сарае гогочут гуси, наверное, немой забыл их выпустить. Поплавки лежат неподвижно. Видать, рыба наобедалась. Но это меня уже не огорчает. Недавняя удача все приукрасила. Неба, зелени, речки, облаков прибавилось вдвое, втрое. Они стали наряднее, будто в них добавили краски, протерли и обмыли.
Я заглядываю в ведерко, радуюсь на большого окуня. Мне и сладко на душе, и мучит раскаяние. Я сознаюсь:
— А я, Петька, давеча молил, чтобы тебе не ловить… И разрыв-траву, и песий корень на тебя натравливал!
Петька, только что счастливо улыбавшийся, как-то сникает. В глазах боль, как будто палец он прищемил дверью.
— Ты, Петька, меня прости… Уж так мне зло стало: тебе ловится, а мне пусто. Потом-то я исправил. Я твоего червя хвалил со всех сил, чтобы тебе выудить самую большую на свете!
Худенькое, с цыплячьим пушком на острых скульях лицо друга хорошеет, уходит обида.
— Спасибо, Серенька! Это ты по-доброму сделал… Давай рыбу в кучу свалим и разделим ровно!
Я согласен, хотя и жалко крупного окуня. Вдруг при дележке достанется не мне. А уж так хочется похвалиться перед бабушкой, так хочется. Я любуюсь на него, может, в последний раз и горжусь.
— Ох, и здорово я с ним справился! Как попер, как попер! Он туда, а я сюда! Небось таких крупенных нигде на свете нет!
— В нашей Истье, может, и нет, — соглашается Петька, — а в других есть. На сорок пудов попадаются! Папань-ка, когда в молодости в Астрахань ездил, там ловил…
Ого-го! Сорок пудов весит колхозный бык Черкес. Это я точно знаю, мужики говорили. Пытаюсь вообразить такую рыбину. Приделываю быку хвост от окуня, на широкую спину колючий плавник. Ну и страшилище! Окунь-бык никак не лезет в речку. Не хочет. Бродит по лугу, роет копытами дерн и орет грозным басом.
— Нету таких рыб! Не может быть!
— Как нету? — удивляется Петька. — Я не вру… Папаня говорил — значит, есть.
Мне хочется верить другу. Петька никогда не сбрешет. Даже при нужде, когда лупка грозит. Я сразу вывернусь, чего хочешь придумаю, а он не станет.
Поднатуживаю воображение, но бык, которого боятся даже пастухи, никак не превращается в рыбу. Я опровергаю существование таких громадин. Я принимаю мир лишь в том виде, что рядом со мной.
— Нету такой рыбы!
— Как же нет? Папанька своими руками ловил!
— Во сне он ловил!
— Значит, вру?
— Брешешь, как сивый мерин!
— Папаня говорил…
— И отец твой брехло!
В глазах у меня со звоном вспыхивает голубой огонь. Сквозь какой-то гудящий туман вижу пустую раковину-беззубку, торчащую из песка под самым носом. Удивляюсь, а потом понимаю, что лежу. У друга кулачок свинцовый. Встаю. Ноги дрожат.
У Петьки лицо суровое, рот узкий, кулаки наготове.
— Ну, есть или нету?
— Нету таких окуней! Врунище! — ору я.
Петька размахивается, но я уже начеку. Увертываюсь и сую его головой в живот под дых.
Теперь повержен Петька. Он сидит, широко расставив руки, упираясь ими в песок. Разевая рот, икает, не в силах заглотнуть воздух.
— Нет или есть? — торжествуя, спрашиваю я.
Петька мотает стриженной лесенками головой, подымается. Ноги у него тоже трясутся.
— Есть!
— А я говорю — нету!
Крепко сцепившись в обнимку, так, что трещат кости, а может, пустые ракушки, мы катаемся по песку. Петька, отстаивая общую правду, свою и отца, одолевает. Садится на меня верхом и сыплет в лицо и ноздри песок.
— Жри землю! Жри землю!
Я изворачиваюсь ужом. Вдруг какая-то сила сносит с моего живота Петьку, а меня вздергивает на ноги.
Перед нами мельник, босой, голый по пояс, в старых красноармейских портках. Загорелое, с облупившимся носом лицо гневное, глаза вытаращены, будто он нас сожрать хочет.
Немой мычит, что-то показывает руками, грозит пальцем. Мы, перетрусив, начинаем хлюпать носами.
Мельник подносит кулак Петьке, потом мне и уходит. Все понятно: если опять задеремся, то он нам поддаст.
Немой очень не любит забияк. Бывает, на мельнице подвыпившие мужики затеют ссору из-за очереди или еще чего и, распаляясь на драку, начнут хватать друг друга за грудки, из избы выйдет красивая толстая мельничиха и скажет: «Кумовья, кумовья! Ай, ай, ай! Это же последнее дело квасить носы! Позову вот Николая Палыча!»
Мужики, самые озорные, сразу тише воды и ниже травы. У немого сила непомерная — всех разбросает по двору, как кутят, и прогонит с мельницы. Мужики его боятся и зовут «чертом контуженым».
Некоторое время мы сидим молча, насупившись. Это не от злости, а, скорее, от стыда и виноватости друг перед другом.
Глаз заплывает, и я прикладываю к нему холодный голыш.
— Здорово ты меня звезданул, — говорю я Петьке, но не с укором, а с похвалой. Так у нас принято. Хороший удар надо ценить и, получив, гордиться им.
— Ты мне тоже ловко въехал, — отдает должное Петька. — Все никак полно вздохнуть не могу!
— Не-е… ты прикладистее! Вона, глаз-то!
Петька жалостливо смотрит на синеющую скулу. Вздыхает:
— Больно тебе? Давай подорожника нарву. Может, отсосет… Лучше бы ты мне синяк устроил!
Петькино сострадание и доброе участие вызывают ответный добрый порыв. Но я не знаю, что бы сделать хорошего для друга. А это надо совершить немедля.
— Петя, рыбу будем делить — бери самую крупную! А хочешь — все бери!
— Что рыба, что рыба! — говорит Петька. — Лучше давай всю жизнь дружить, дружить, дружить! Никогда не жениться и не умирать!
Мельник выглянул из амбара. Убедившись, что у нас мир, исчез, и опять в горячем душистом воздухе несутся удары молотка, приказывающие жернову: «Не мели хрушко! Мели мягко!»
— Петь, а Петь! А этой, отцовой рыбиной можно накормить все Абакумово?
— Можно!
— А Чулково?
— И Чулково!
— А Чулково и Абакумово сразу?
— Если помаленьку… Ну, хлеба чтобы и картошки вприкуску… Дед говорит, чулковские на еду злые, и наши не уступят.
Вдали у обрыва, словно роящиеся пчелы, густо кружат ласточки-береговушки. Без устали бормочет в сваях вода. А я размечтался: хорошо бы сейчас выудить сорокапудовую рыбину. Я надуваюсь от натуги, упираюсь пятками в камень и тащу из омута на волосяной леске… быка! Глазищи у него красные, рога как кинжалы! Ну и страсть!
— Тьфу на тебя! Чтобы тебе сдохнуть! Пузом-утробой на кол налететь!
— Кого ты так? — с тревогой спрашивает Петька.
Я рассказываю другу про Черкеса, который никак, хоть ты тресни, не хочет превращаться в рыбу.
— Надо же выдумать! — удивляется Петька. — Это твой любимый Гоголь! Я тебе говорил — зачитаешься!..
Первая книжка, по которой я научился читать, осилил целиком и влюбился в колдовство печатного слова, была «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Вижу себя унылым мальчиком, скучающим у деревенского окна. В избе за ночь настыло. Бабушка моет на суднике картошку, вся в красном отсвете от пылающих в печи Дров, словно в красном ситце.
Мне скучно. Книжку бабушка отобрала до вечера. Черный кот сидит смирно на сундуке. Тимоха, лопоухий щенок, попросился на улицу и, наверное, вдосталь носится по сугробам.
Я начинаю ныть: «Бабаня, читать хочу!» Бабушка, устанавливая ухватом чугун в печь, сердито цыкает;
— Смолкни!
— Бабаня, хочу книжку…
— Экий олух царя небесного. Сказано, после ужина читать! Запру вот книжку в сундук!
Угроза действует безотказно, а ведь сама подсунула мне эту книжку, на которую ставился чугунок с горячим пшенным кулешом.
Первую страницу я осиливал по слогам два дня. А к концу недели уже свободно владел чтением. Это был праздник. Праздник, растянувшийся на всю жизнь.
Помню теплый бок лежанки, дрова постреливают угольками из затопа. Бабушка, поплевав на пальцы, бросает их обратно. На лавке стоит трехлинейная керосиновая лампа с обколонным стеклом. Мы сидим на полу, на свалявшейся овчине. Сверчок чирикает за печью. Слышно, как в бревнах стены работают жуки-древоточцы, разрушая человеческое жилье. Один жук там был какой-то особенный. Он тикал, как бабушкины ржавые ходики, которые вдруг ни с того ни с сего возьмут и остановятся. Думаешь, что они умолкли навсегда, а они: тики-так, тики-так, снова оживали.
Передохнув, я берусь за книжку. Щенок, выпятив язык, смотрит то на меня, то на бабушку. А она то расплывается в улыбке, то охает или негодует. Потом говорит:
— Может, хватит? Жалко сразу такую книжку глотать! А читаешь ты звонко, разборчиво. Я этих хохлов озорных вижу как въяве.
Я рад, что мое чтение нравится бабушке. Сердце ликует от похвалы. Я счастлив.
Когда волшебная книжка кончилась, бабушка собрала в соломенный севалок десяток яиц, большую редьку, пахнущую землей, клубок пряденой шерсти и отправилась к Алевтине Власьевне — сельской учительнице. Она жила на другом конце села в маленькой избе с косыми окошками, глядевшими пузырчатыми стеклами на выгон.
— Бабаня, милая, ты другую не бери, — наказывал я бабушке. — Другой нам не надо! Проси похожую!
Бабушка вернулась румяная, пропахшая морозом. Пока снимала платок, расстегивала шубейку, я весь извелся. Мое нетерпение, видно, передавалось собачонку, и он льстиво суетился вокруг, поскуливая.
— Эко вас наскипидарило, — улыбалась бабушка, — торопыги вы да жадные. Может, мне от ворот поворот был?
Я собрался лезть на печь да поплакать в темноте. Бабушка достала из-под кофты сверточек. В нем были пачка чая, кусок рафинада и книжка.
— Как наказывал, таку и дали… Гоголь называется.
Мне чаю подарили, а тебе учительница велела ходить в школу!
Праздник начался снова. Господи! Сколько восторга испытал я, читая «Тараса Бульбу», сколько слез уронил на захватанные пальцами страницы.
Потом бабушка собрала по соседям кое-какую зимнюю одежонку для меня и отвела в школу — тесный и веселый дом, где мальчики и девочки в таких же, как у меня, кожушках и подшитых валенках гудели, будто трудолюбивые пчелы, над учебниками.
— Они озорники, но не злые, — сказала Алевтина Власьевна, вводя меня в класс. — Ты тоже озоруй, только в меру, и я тебя буду любить… А это вот Гоголь Николай Васильевич!
На стене висел портрет носатого человека с длинными волосами.
— И он уже давно помер, — сказала девочка с желтыми, как у козы, глазами.
— Он бессмертный, — сказала учительница, — а ты, Антонина, другой раз, как будешь сигать с крыши, обязательно угробишься…
Девочка засмеялась:
— Я тоже бессмертная!
— Поживем — увидим! — сказала учительница и посадила меня возле длинного мальчика со строгим лицом. — Петя, вот тебе приятель, читает он славно, помоги ему в письме и арифметике…
День клонился к вечеру. Пора домой, да не хочется уходить с речки. Над розовой водой толкутся мошки. Лениво всплескивает рыба. Само собой проворачивается мельничное колесо. Рры-ры-рыы-ры, — сердито ворчит оно.
— Дегтю просит, больно ему… Ишь, злится!
— Это ось трет, — говорит Петька, — чего ей больно? Она железная… мертвая…
«Нет, живая! Живая!» — думаю я. Для меня все живое. Правда, по-своему. Камень — по-каменному, железо — по-железному.
Булькает меж свай вода: буль! буль! А я слышу: «Бегу, бегу, бегу!»
— Петь, а Петь! Куда наша Истья бежит? Вон она все буль да буль, бегу да бегу!
— Истья в Оку, а та в Волгу…
— А Волга?
— В Каспийское море.
На мостках, к которым привязан полузатонувший дощаник, появляется Тонька, старшая из пяти мельниковых девок. Она с Петькой в одной группе. Алевтина Власьевна иначе, как Стенькой Разиным, ее не зовет. Очень Тонька отчаянная, ни одному мальчишке не уступит. Мне она нравится. С ней дружить надежно — не подведет.
— Мы с мамой в Пронске были, — говорит Тонька, черпая ведром воду. — Ей зуб дергали, мне ситцу на сарафан купили, девок всех остригли, они гнид развели. Животики на них надорвешь! Головы репами. Глаза по луковице. Сидят сейчас на лавке и орут вперегонки!
Я не слушаю Тонькины новости. Гляжу на тупоносый дощаник, похожий на свиное корыто, думаю: «Хлеба взять, надергать луку, чугунок для варева, удочки…»
Когда Тонька уходит, говорю другу:
— Лодку видишь?
Петька с полуслова понимает, что к чему.
Возвращаемся мы голодные, пропеченные солнцем, довольные.
Бабушка радуется улову и ужасается на глаз. Он совсем закрылся, только щелка осталась.
За синяки и шишки, полученные в драках, она никогда не ругалась. Видно, считала, что в том мире, в котором я живу, есть свои правила и законы и ей их не изменить. Зато она отводила душу на врачевании.
Лекарство было одно — марганцовка. Целая четверть. Фиолетовую жидкость, набивавшую оскому, принимали вовнутрь и наружно.
Фельдшер Устин Ефимович, по прозвищу Коновал, пользовал этим препаратом окрестные села и хутора. Надо сказать, в целительную силу марганцовки верили все поголовно. Иных медикаментов в деревне, наверное, не было.
Бабушка заставила меня выпить три лафитника чудодейственной жидкости. А я, приложив намоченную этим же составом тряпку к глазу, пустился во все тяжкие:
— Ты, бабаня, еще не такую рыбу попробуешь! Днями я тебе на сорок пудов окунька отхвачу! А ты всю родню собирай, всю деревню, но со своим хлебом! Мне не жалко, пускай угощаются…
— Идол ты кривой и хвастун! — смеется бабушка.
Ведь придумал! Точный ты дед Наум! У того караси в два лаптя, у тебя окуни по сорок пудов!
Слово за слово, и выходит у нас с бабушкой раздор. Я в обиде лезу на печь.
Бабушка жарит рыбу на таганке, зовет ужинать. Я притворяюсь, что сплю.
— Одуванчик ты, одуванчик! — говорит бабушка. — Летаешь ты без заботушки, а мне до слез страшно, куда, в какие моря-окияны занесет тебя судьба?
«Ладно, — думаю я, — окияны, окияны! Вот после петрова дня накопаем червяков навозных да и поплывем на Волгу удить…»
И уже сквозь сон слышу, как бабушка обсасывает каждую косточку, причмокивает и вздыхает громко от удовольствия.
— Бабаня, — бормочу я, — ты Нюре-то оставь. Ишь, размолотилась…
Сон плавно уносит меня в неведомую страну, в которой много еды, зеленых лугов и счастья.
Там, за последним поворотом
Вечером я собираюсь на Волгу. Как было уговорено, беру чугунок, соли, несколько молодых картошек и укладываюсь на лавке без забот. Петька зайдет, разбудит.
Нюра тянет из-под головы подушку:
— Серенька, вставай! Речка пересохла!
Хватаю узелок, удочку, бегу к Петьке. Он навстречу.
— Чего проспал?
— Не я проспал, а дед! Обещался ни свет ни заря растолкать…
Солнце уже поднялось. Оно в мглистой дымке висит над землею, словно большой желток. Верная примета, что днем будет жарынь. Идем задворками, потом стежкой через пахучую коноплю. Вот и проселок на мельницу. Трава на обочине пыльная, в колесном дегте. Петька оглядывается и смеется:
— Вон еще один рыбак!
За нами трусит кот Бесхлебник. Такой он любитель рыбы, как возьмешься за удочку, сразу он тебе и лучший друг и брат. Хоть плачь — не отвяжется.
Я грожу ему удилищем. Кот сразу останавливается и даже начинает глядеть в другую сторону. Вроде ему никакого дела до нас нет. Он, мол, спешит на речку просто так.
Я серчаю на кота. Недавно принес пескарика, бабушка дала банку. Я его хотел откормить, потом зажарить. Рыбка весело сновала взад-вперед. Бесхлебник сидел рядом с банкой, жмурил зеленые глаза и трогал лапой воду.
Я ему сказал: если будет пугать рыбу, худо придется. Он сразу полез под печь. Башковитый кот, все с первого слова понимает.
Утром на полу валялись стекляшки, а кот исчез и не показывался на глаза целый день, покуда я остыл.
Почему кота прозвали Бесхлебником, я не знаю. Но он вправду хлеба не ел, а вот зеленые огурцы грыз на грядках за милую душу. Кот и молоко не любил, а только вершки. Нальет ему бабушка в глиняную черепушку, Бесхлебник даст отстояться молоку и лапкой, будто ложкой, сгребет сливки.
Мышей он не ловил, зато галок, скворцов, воробьев, голубей караулил часами, и всегда удачно. Однажды кот принес, должно с болота, дикого утенка-пуховичка и выпустил его возле наседки с цыплятами. Утенок отряхнулся, покачался, заорал «пя-пя-пя» и побежал к цыплятам. Они, может, и приняли бы его в свою компанию, а наседке он не понравился. Она взъерошилась. Как налетела, как долбанула его клювом, так он вверх лапами и перевернулся.
Не успел я схватить хворостину, Бесхлебник тут как тут. И такую отвесил курице плюху, что перья посыпались.
Наседка чуть не человеческим голосом завопила: «Караул! Убивают!» — и схоронилась в крапиву. Куры с петухом тоже заорали, полетели через плетень. На крыльцо выскочила бабушка, думала, что мы с Петькой устроили драку.
Мы ей все по порядку рассказали. Утенок лежал на траве и дрыгал перепончатыми лапками. Я хотел его пустить в бочку с водой, стоявшую у крыльца, но бабушка запретила:
— Не трогайте, он уже кончается. Пускай его кот-душегуб и доест, может, паразит, своим грехом подавится!
Бесхлебник долго смотрел на околевающего утенка, потом взял его в пасть и унес в избу.
Мы сидели на подоконнике и ждали, что выйдет дальше. Утенок оклемался и пищал на всю избу. Кот наблюдал за ним и, будто играя, опрокидывал его лапой на спину.
А мы ждали, когда кот подавится. Слово за слово, и вышел у нас спор: съест он утя или нет?
— Сейчас он его закусит и облизнется!
— Не будет, — сказал Петька. — Бесхлебник сердечный! Ему птенца жалко!
— Он думает, с какого конца жевать!
— Видишь, не ест!
— Он сытый! Он давеча слупил пять голубей, одну ворону и семь огурцов! Я бы сам после такой закуски в сметану плюнул бы!
— Ладно! — сказал Петька. — Даю два дня сроку. Он протрясется за это время. Но коли на третий день не сожрет — гони конфет!
Прошло и два, и три, и четыре дня. Бесхлебник утенка не трогал, а даже принес ему задушенного воробья, которого потом съел сам. Кормила пискляка бабушка травяной сечкой, кашей и рубленым яйцом.
Спал утенок вместе с котом. То устроится между лап под самую усатую морду, то возле живота. Иной раз и на спину коту залезет. Когда Бесхлебник уходил по своим кошачьим делам, утенок носился по избе как ошалелый и орал: «Пя-пя-пя!» Бабушка не раз выговаривала коту:
— Ты, идол глазастый, взял горластого на воспитание, так и сиди с ним в няньках, а мне недосуг. У меня от родного внука голова распухла!
Так утенок и прижился. Прозвали мы его Котов Сын. Забегая вперед, скажу: Котов Сын вырос и превратился в складную серую утку. Пробыла она у нас осень и зиму, а весной улетела на пруд, а куда оттуда, не знаю.
Но вернемся к рассказу о коте. Надо было рассчитываться за проигрыш. Конфеты-подушечки хранились в сундуке в жестяной коробке. Я взял две подушечки, подумал и добавил еще две. А то получалось обидно. Петька будет сосать конфеты, а мне ничего. Я уже собрался захлопнуть крышку и не смог. В сундуке стояло несколько кринок с молоком. Бабушка собирала сливки на масло. Вершки были так соблазнительны, что у меня в тот момент, наверное, выросли хвост и усы, как у кота. А то почему бы я замяукал…
Какая-то сила макнула палец в кринку, а я лишь облизал его. В общем, когда опомнился, дело было сделано. Над моей бесшабашной головой нависла гроза. Длань у бабушки была жесткой от мозолей и тяжелой. Треснет — искры из глаз.
Вообще-то бабаня была добрая, но вспыльчивая. Потом-то, когда запал пройдет, сознавайся ей в чем хочешь, только и скажет: «Ладно, прощаю! Повинную голову и меч не сечет».
В тот день на повинную у меня не было никаких шансов. Бабушка с утра была сердита. Соседка нажаловалась, будто я курил ветловый лист и ее беспортошного Кольку обучал. А теперь вдобавок будто я и сливки подобрал. Я приуныл. Выручил Бесхлебник, попавшийся на глаза. Через минуту он очутился под крышкой сундука.
Мне обошлось. Кот получил хорошую трепку. И здесь интересно вот что. Бесхлебник не отличался честностью, и от бабушки перепадало ему бою не раз. Но, думается, кот принимал кару за воровство как справедливое возмездие. Никогда не обижался. Отдубасит его бабаня комлем веника, а через пять минут у них мировая. Она что-нибудь делает, а Бесхлебник так и вьется возле ее ног, трется боком, мурлычет.
— Эва, как ты поешь хорошо, — хвалит его бабушка, — будто сказочку мне баишь… Ну, спасибо тебе. Вот так бы нам и жить всегда дружно.
А вот после этой выволочки за съеденные мной сливки Бесхлебник исчез. Бабушка каждый вечер вздыхает, укоряет себя. Мол, кот помер от ее побоев. Валяется дохлый в полыни на меже, и вороны клюют его очи. А какой был умница, какой красавец! Ведь ни одного светлого волоска — весь как столетняя сажа!
Мне жалко бабушку, как она о коте убивается. И сознаться хочется, душу облегчить. И боязно.
Я-то знаю, где Бесхлебник. Он в колхозном саду у караульщика Наума в шалаше живет. Я уже ходил за ним, хотел принести домой. Бесхлебник оцарапал мне руки в кровь и убежал в малину.
— Обидел ты его, — сказал дед Наум, когда я поведал ему правду. — Тебя бы вот так ни за что ни про что! Ты осерчал бы? То-то! Так и любая скотина. Всякой живой твари и ума отпущено и характера. Но, конечно, в пропорции… Вон лягуха! У нее тоже ум, конечное дело, лягушачий. Ее, скажем, учителем или счетоводом не назначишь, а тебя можно! У тебя ума с колокольню, но ты не гордись! Ты умнее — учи! А обижать не надо. Живая тварь, она тоже понимает, что кривда, что правда…
Решившись, я доложил бабушке про кота, сознался, что посадил его в сундук, и про подушечки рассказал.
— Ладно, прощаю тебе последний раз, — сказала бабушка. — А ты запомни мое слово — чужой вины на себя не бери, а свою на безвинную спину не взваливай! Отсюда и вкус к правде у тебя появится!
Бабушка ушла и вскоре возвратилась с Бесхлебником. Как она его уговорила, не знаю. Кот от нее не отходил ни на шаг. А меня он долгое время не замечал, будто я пустое место.
Вот и мельничные постройки. На кудлатых ветлах орут молодые грачи. У коновязей груженые подводы. Пестрые куры роются под телегами, клюют рассыпанное зерно.
Мельница сегодня в деле. Поскрипывая, крутится осклизлое колесо, сверху по лоткам на широкие плицы хлещет вода.
На мостках под плотиной, где привязан дощаник, Тонька колотит вальком белье. На кусте бузины развешаны сарафанчики сестер. Их у нее четыре. Бабы говорят, они состроены на одну колодку. Только по росту и различишь.
В Кулакове на базаре продают скопинских матрешек. Мельниковы девки точь-в-точь. Глаза пуговицами, носы курносые, белобрысые, и одна другой на голову ниже. Поставь рядом, выйдет лесенка.
— А-а! Рыбачки, — приветливо встречает нас Тонька, — вы чуток погодите, я отполоскаюсь… Я знаю, рыба любит, чтобы тихо…
Петька подмаргивает мне, и я плетусь по берегу с узелками. Нечего на глазах вдвоем торчать. Так мы дорогой сговорились.
Оглядываюсь, кота нет. В лугу над пересохшей старицей кружит плаксивая пара чибисов. Вдали бабы ворошат сено. Скучно стало в лугах, никакой нарядности, ни цветочка. А скоро станут здесь стога, каждый как большая изба без окон. Поглядишь, будто деревня взяла и разбежалась по берегам Истьи. Изба так, изба сяк. Хорошо в ночном спать под стогами.
Позевывая, усаживаюсь у воды. Отсюда видны только коньки крыш мельничных построек. Время тянется медленно. Правду бабушка говорит, что ждать да догонять хуже нет. Полежал на одном боку, на другом. Вздремнул. Петьки нет и нет.
А вдруг немой поймал его? Подкрался — и хвать. Это точно — поймал. Иначе Петька был бы уже здесь.
Я представляю, как Петька сидит в темном амбаре, пропахшем мукой, где хранится гарнц — плата за помол.
А мельничиха уже скачет на лошади в Пронск за милицией. Надо выручать друга, покуда не поздно. Амбар крепкий и замок большой, но я знаю дыру — подкоп, Тонька показала. Мы через этот подкоп в амбар лазили голубей ловить.
Только собрался, из-за мыска выплыл тупоносый дощаник. На носу важно, будто он начальник, сидит кот, сзади Петька сильно гребет лопатой.
Лодка, хрустя песком, притыкается к берегу. Гружу узелки, глиняную черепушку с навозниками, удочки и, срывая досаду, ворчу на Петьку:
— На кой кота взял! Я этому злыдню пескаря в жизнь не прощу! Лучше бы Тимоху взять — брехал бы, сторожил, А с этого никакой работы не спросишь. Ест он больше коровы, а проку ни на чих!
— Ладно тебе, — миролюбиво говорит Петька, — не объест он нас. Где двое, там и третий прокормится…
— Ты, Петька, как хочешь! Я Бесхлебнику и крошки не дам!
— И не давай! Я с ним поделюсь. Садись — поплыли…
Петька вручает мне новенькую деревянную лопату.
Течение в Истье медленное. Неуклюжая лодка едва движется, хотя мы крепко налегаем на «весла». Как попали в тень от облака, так и не выберемся. Хорошо русло свернуло, и толстое, похожее на кривую колокольню, облако осталось в стороне.
— Петь, а ну как немой или сама лодки спохватились?
— Некогда им… Сегодня завоз большой, только с поставами управиться. В два постава мелют.
В два постава — это в два жернова. Тут, конечно, мельнику не до лодки.
— Тонька-то знает. Она и лопаты дала. Хотела с нами, да стирки много…
Вдали белеют меловые обрывы. В голубом небе в недосягаемой выси кружат, будто уснув, не шевеля крылами, коршуны. И медленно плывет наша утлая лодка во времени и пространстве, а может, время и пространство плывут мимо нас.
Что-то происходит со мной. Такое ощущение — я будто есть и будто меня нету. Я стал берегом, зеленым ивняком, небом и речкой. Пронзительная и сладкая боль входит в мое сердце. И это щемящее до слез чувство слияния с природой, с Родиной с той минуты, наверное, осталось в моей душе на всю жизнь.
Я оглядываюсь на Петьку. Он улыбается мне. Я ему, И, выходит, словно мы с ним обнялись и снова поклялись дружить, дружить и никогда не умирать.
Ни расстояние, ни время не смогли нарушить мальчишескую клятву.
Мимо ползут неторопливые кусты. Разогнав лодку, отчерпываем пригоршнями теплую воду: дощаник здорово протекает. Ноги наши, черные от загара, пыли и царапин, отмокают, и даже не верится, что они могут быть такими чистыми.
Речка делает плавный поворот. Над левым берегом вырастают сухие вершины древних ветел, усаженные грачиными гнездами. Потом появляются серые соломенные крыши. Это Кулаково. Здесь не раз бывал с бабушкой на воскресных базарах. А от мельницы до Кулакова, если быстрой ногой, даже не запыхаешься. Речкой же плыли, будто оно на краю света.
Истья здесь широкая и мелкая. Через нее бревенчатый мост с новыми перилами. Перед ним углами быки-ледорезы из бревен, окованных железными полосами. Рядом брод. Мост служит в осенние паводки да весной в водополье.
На броду мужик поит лошадь. Он в красной рубахе, расстегнутой до пупа, стоит в телеге, распустив вожжи, подсвистывает лошади, чтобы ей пить вкуснее было.
Лошадь маленькая, круглая, как колобок. На хомуте и шлее медные бляшки. Пьет лошадь сквозь зубы. Подымет голову, подумает и опять припадет к струе.
Когда мы проплываем мимо, мужик говорит:
— Припозднились с рыбалкой-то… Утречком на заре такие голавли играли — морды по ведру! А щас что, щас одна мальва!
Мужик дергает вожжами: «Но-но! За летка!» Телега, увязая в ослепительном песке по ступицу колес, выезжает пологим подъемом на берег.
На краю моста сидит, свесив черные ноги, мальчишка с удочкой, смотрит на нас из-под руки.
Вблизи вижу, что у мальчишки не удочка, а кнут с волосяным кончиком.
Мост низкий. Хватаясь за сваи, проводим лодку под ним. Сверху сквозь щели между бревнами на головы сыплется земля.
Мальчишка лежит на брюхе, опустив вниз лицо. Оно у него красное, как вареное. Чубик белый, брови белые; глаза синие.
— Петька, а Петька, — сипит мальчишка, — ты куды едешь? Я гляжу, вроде это ты, вроде не ты, а это ты…»
— На Волгу плывем, — отвечает Петька.
— Скоко это верст?
— Далеко! Поедем с нами!
Мальчишка вздыхает. Глаза у него делаются несчастными.
Петька говорит мне, что это его сродственник, то ли племянник, то ли дядя, а может выйти, даже какой-то дальний брат — Минька.
— Я бы што… Я бы как есть, — сипит Минька. — Я корову пасу. Охромела, в стадо не гоняем. Вон она, злость рогатая, ходит по лугу. Об трех ногах, а так и караулит меня, чтобы в огород чей забраться!
— Ты спутай ее кнутом, и поплыли, — находит решение Петька.
Минька даже захрюкал от радости.
У осклизлых мостков портомойни сажаем в лодку Миньку. Он прихватил с собой длинный кол. Втроем дело идет куда лучше. Минька мужик старательный, упирается колом со всех сил, даже язык выпячивает.
Крыши деревни делаются все ниже и ниже и исчезают. Макушки ветел с гнездами чуть виднеются над берегом.
Шипит вода под днищем лодки. Истья блестит, брызгает в глаза солнечными зайчиками. Бесхлебник упарился, наверное, в своей черной шубе, развалился на носу.
— На что вам кот-то? — интересуется Минька.
— Как на что? — удивляется притворно Петька. — Был бы он просто кот, тогда не на что, а он ученый!
— Как ученый?
— Книжку Пушкина читал? «И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо — песнь заводит, налево — сказку говорит…» Читал?
Минька вздыхает. Книжки такой он не читал. Ему только нынешней осенью в школу. И он верит. И завистливо, с опаской поглядывает на Бесхлебника.
Петька сильно налегает на лопату и запевает:
Ты, моряк, красивый сам собою, Тебе от роду двадцать лет!..Я подхватываю:
Но морям, по волнам! Нынче здесь, завтра — там!..И в два голоса, стараясь перекричать друг друга, чтобы как можно громче, налегаем на припев, который нам очень нравится.
По морям, морям, морям, морям, Нынче здесь, а завтра там!И вдруг песню нашу обрывает грозный голос:
— Минька! Ах ты, косматый пугало! Марш домой!
На берегу стоит широкая тетка в кособокой юбке с мокрым подолом. В одной руке у нее головной платок, в другой гибкая жичина.
— Ты что корову без пригляда бросил? Я тебе что наказывала? Нашел дружков!
Баба показывает нам колючую акациевую жичину:
— Щас я вас, разбойников, запорю! Не сманывайте человека, когда он при деле!
Петька шепчет сродственнику: «Сигай! Тут мелко!» Минька обреченно плюхается в воду. Глыби ему по пупок.
— Белобрысый ты петух и глупый, как кур, — ругает его баба. — С кем ты связался? Они вон какие атаманы! Им родители что рогожа под ногами. Они и живут лишь самовластием и разбоем!
Пока Минька брел по воде к берегу, повесив голову, баба костерила нас на все корки. По ее выходило, что мы виноваты, взяли да сманили ее сопливого Миньку, а корову ихнюю нарочно загнали в чужой огород в капусту.
Когда мы оттолкнулись колом на глубину и почувствовали себя в безопасности, я закричал:
— Ты нас уму-разуму не учи! У нас ума с колокольню! Нас завтра счетоводами назначут, а у твоего Миньки никакой грамоты!
Баба засмеялась, сделала толстые руки в бока кренделем:
— Ох, господи! И серчать-то не хочется. Ну, плывите, плывите! Может, где водяной в омут унесет! Будете ему раков считать!
И опять река несет нашу лодку мимо зеленых низких берегов. Ладони саднеют от работы лопатами. Меловые обрывы все так же далеко. Только почему-то они теперь у нас с левой стороны.
— Петь, а Петь! Куда наша Истья впадает, я теперь знаю… А вот куда Каспий течет?
Петька морщит облупленный нос и думает. А я не подозреваю, в какую пучину искушений толкнул друга. Ему и соврать хочется, чтобы не ронять чести первого ученика, и совесть не позволяет.
— Не знаю…
Я хихикаю и торжествую. У меня в памяти засела картинка из книжки, что хранится в школьном шкафу: какой-то человек подполз на карачках к краю земли, высунул за воздух голову, а там дальше прорва и звезды.
— Зато я знаю! В прорву Каспий течет!
— В какую прорву?
— В обыкновенную. Сам видел в книжке!
— Ты глобус видел?
— Ну, видел. И крутил, и рябиной в него стрелял.
— То-то и оно! Земля точь-в-точь такая. Никакой прорвы, никакого краю у нее нет!
Вот дурак, вот набитый, ругаю я себя, как же про глобус забыл? И Алевтина Власьевна говорила, что если идти всегда прямо и прямо, то опять вернешься на прежнее место. Я даже как-то собирался сходить, да пятку занозил.
— Петь, а когда Волга? Скоро?
— За последним поворотом.
— Широкая она?
— Угу.
Петька гребет, а я, положив лопату, разглядываю медленно наползающий меловой обрыв, над которым струится горячее дрожащее марево. Мне очень хочется увидеть Волгу, где живут огромные, ростом с быка, рыбины.
Петька гребет как заводной. Я уже на махался, рук не чувствую. Легонькая, гладко вытесанная из осиновой пластины лопата тяжелее амбарной гири. А последнего поворота все нет и нет…
* * *
Осенью родители «истребовали» меня в Москву. Провожали меня до станции Денежниково бабушка и Петька. Мы сидели на полке, на пружинистой овсяной соломе, накрывшись брезентовым чапаном. Бабушка шла рядом» набросив на спину мешок, и говорила:
— Ты учись… В школе веди себя тихо, как мышь. А мы про тебя каждый вечер думать будем. И ты про нас думай. И выйдет, будто мы вместе. Зима-то промелькнет, глянь — и лето. И ты приедешь, и будет нам всем праздник!
Дождь застил поля. Синяя гряда туч лежала на холмах. Колеса скрипели и резали раскисшую дорогу. Лошадиные ребрастые бока курились паром.
Пожалуй, тоскливее этого дня в жизни моей мне не выпадало.
Когда вагон тронулся, я прижался лбом к холодному, в грязных дождевых разводьях стеклу окна и заплакал.
Ох, как трудно я приживался в городе, а еще труднее в семье. Я тосковал о деревенской вольнице, друзьях, просторном небе. Как только кончался учебный год, я уезжал в деревню.
За Рязанью поезд «Москва — Мичуринск» вкатывался в медлительный степной рассвет. Сонно громыхали под колесами мосточки через одетые в знобкий парок речушки. Полустанки встречали спящий поезд грачиной перекличкой и криками петухов.
После Рязани я выбирался в тамбур. Проводник недовольно ворчал. Я не слышал его добродушной ругани. Сердце мое обмирало, когда среди зелени лип показывалась низкая красная крыша моей станции. Медленно проплывает мимо подножки акациевая изгородь. Лязгают буфера. Я вижу бабушку. Босоногую, худенькую, в ситцевом чистом платке. И столько доброго света будет в ее глазах, что сразу отойдут от меня все горести.
Бабушка вытрет рот концами платка, перекрестит меня и поцелует в лоб шершавыми губами. «Ну и длинный ты стал! Да худой, да тонкий, что кнутовище! Ступай! Не притворяйся!»
Я обернусь и сквозь какой-то радужный туман увижу потупившегося Петьку. Почему-то конфузясь и отворачиваясь друг от друга, мы поздороваемся с ним по-мужски за руку.
Потом мы будем долго ехать в тряской телеге, тесно обнявшись и вздыхая. Бабушка подхлестнет вожжами дремлющего на ходу мерина. Он всхрапнет от неожиданности и затрусит разбитой рысцой. Навстречу из сырых лугов поднимется огромное косматое солнце, послышится скрип коростелей, повеет чем-то до боли знакомым…
Мы с Петькой влюбленно переглянемся, не подозревая, что война уже стоит на пороге и это последняя наша встреча.
Непризывной возраст
Глава первая Беззаботный июнь
1
Колька Косой не показывался во дворе уже второй день. Мы послали к нему в подвал Илью Циделькова и Женьку Комкова, в разведку. Вернулись они с известием, что из-за двери, обитой рыжей растрескавшейся фанерой, пахнет клеем и раздается скрип.
— Пилит, — сказал Илья.
Женька добавил, что их не пустили даже на порог. Сама Марья Степановна, тетка Кольки, прошептала в щелку: «Гуляйте, Коля занят».
— Эх вы! — презрительно хмыкнула Шурка Пикетова. — А если пошлют в противнический генеральный штаб? Поцелуете пробой и домой?..
Шурка была девчонкой решительной и смелой. Она сняла с бельевой веревки пересохшие наволочки Колькиной тетки и легко проникла в комнату. Правда, понять, что строит Косой, не смогла.
— Режет и клеит. Вот такое большое! — Шурка развела руками. — Весь уляпанный, а тетка помогает…
В том, что тетка помогает Кольке, не было ничего удивительного. Они жили, как говорят, душа в душу. Мы не слышали, чтобы Марья Степановна повысила когда на племянника голос. И он, чем бы ни занимался, в разгар любой игры, стоило ей позвать: «Коля, ходи домой!» — сразу бросал все и спешил в подвал.
Илья Цидельков как-то вздумал его дразнить — Колька строго поджал губы: «Она мне самая главная родня, как же я ее ослушаюсь?..»
Колька и появился в нашем тесном горластом дворе в сопровождении тетки.
— Мальчики, это мой племяш, — сказала Марья Степановна, — он ко мне на завод будет устраиваться, в ФЗО. Он сирота, вы его не обижайте. Зовут его Николай, фамилие Косой…
Марья Степановна наказала племяннику быть смирным и ушла. Ее во дворе уважали. Она работала токарем на заводе «Компрессор», что в те времена было почти в диковинку.
— Это она зря, — насупился Колька, — я сам за себя постоять могу! Сразу драться будем али погодя?.. Выходи двое!
Колька скинул кургузый пиджачок и стал подсучивать рукава розовой в горошек рубахи. Мы опешили от такого напора.
— Ну и репа деревенская! — восхитился Игорь Комков.
Голова у отчаянного парнишки была действительно круглая, чуточку приплюснутая, как репа. Колька набычился и прижал кулаки к груди.
Драться никому не хотелось и уступать тоже. Смелых людей мы уважали, но после проверки.
— Видишь? — спросил Илья и показал пистолет в кобуре из цветной столовой клеенки.
— Ну!
— Баранки гну! Если ты храбрец — стрельни!
О своем пистолете Илюха рассказывал страсти. Он будто бы пробивал кирпичный забор навылет. «Кто желающий бабахнуть? — спрашивал Илья ребят. — Только я с себя ответственность снимаю!» Охотников не находилось.
— Давай сюда, — сказал Колька. — Заряжен?..
— Двадцать спичек! Может разорвать! — стал пугать Илья. — Пойдем в гараж. Боюсь безвинных жертв!
Гаражом мы звали задний двор, где стояли под навесом какие-то зеленые телеги на чугунных колесах и большой помойный ящик, облепленный толстыми мухами.
В гараже Колька прицелился в помойку и зажег затравку. Пистолет зашипел и тихонько «пукнул». Мы подняли Илью на смех — мстили за свою трусость.
Колька же пистолет, сделанный из медной трубочки, оценил положительно и заявил, что ему надо «стоящего» пороха, и выдал соответствующий рецепт.
Мы было засомневались, но Колька задрал подол рубахи и показал живот, выше пупка красовался рубцеватый шрам…
Так вот Колька был принят в нашу компанию. Вскоре мы поняли, что эта деревенская репа умеет буквально все.
Колька брался за любое дело, и все у него получалось. На этот раз он появился из подвала хрустящий от клейстера и объявил, что сделал самолет и сейчас полетит, помолчав немного, добавил:
— Прошу записываться в экипаж, мне нужны штурман и бортмеханик.
По жеребьевке на палочках в «кругосветный и беспосадочный» в качестве штурмана и бортмеханика попали Илья и Марина Карельская.
Экипаж ушел за самолетом, чтобы доставить его на аэродром — крышу трансформаторной будки в углу двора.
Игорь Комков, любивший командовать, обиделся, что не попал в летчики, презрительно бросил: «Ну-ну, резвитесь, детишки!» и ушел домой. Женька крикнул вслед брату: «Пушкарь малахольный!» Через год, после десятого класса, Игорь бредил военной службой, собирался поступать в артиллерийское училище.
Вскоре из подвала появились «летчики». Илья с Мариной несли по большому крылу из дранок, толсто оклеенных газетами. Колька тащил фюзеляж с нарисованной бельевой синькой звездой.
Самолет осторожно втащили на крышу и начали сборку. Зинка Топтыгина, писклявая девчонка, которая даже мух жалела, заныла:
— Количка, Количка… Тетичка плакать будет…
— Смолкни! — цыкнула Шурка. — Чего на роду написано — того не миновать! Угробится, мы ему серед двора памятник отгрохаем!..
Сережка Тютя, завистливая душа, сказал:
— За памятник я с дома двадцать три прыгну! Давай самолет!
— Видели мы таких героев, — осадили завистника. — Ишь, на чужую славу рот до ушей разинул!
Лиза Кадильникова зашептала Шурке:
— Ты погляди, какой он симпатичный!
Шурка согласилась, но с поправкой, что Кольке надо бы уши подрезать, тогда бы он стал даже красивым.
— Много ты понимаешь! — возмутилась Лиза. — Герои всегда красивые, хоть с ушами, хоть без них.
Когда сборку самолета закончили, Колька влез в кабину. Аппарат смотрелся. Малость портили впечатление торчащие из газетного фюзеляжа ноги в парусиновых ботинках.
Беспосадочный перелет начинаем! — крикнула Марина.
Сережка Тютя ударил в ведро. Мы грянули на других «инструментах». Мелодию подсказал момент.
Все выше, и выше, и выше! Стремим мы полет наших птиц!..В распахнутое «итальянское» окно вывесился портной Пикетов, бравый усач в жилете, утыканном иголками. Его соседка тетя Соня обратила к нему свои помидорные щеки.
— Клавдий Денисович! Вы гляньте на этого милого мальчика, на эту ушастую заразу на крыше! Он хочет быть как Чкалов!..
— Тьфу! Все сбесились на перелетах, — высморкался Пикетов, — а кто будет портняжить? Все станем летчиками, а приличные портки где сшить? Придете на поклон Пикетову! Придете — а вам кукиш! Пикетов тоже улетел!
— Ах, замолчите! — взбеленилась тетя Соня. — Выходит, вся жизнь только на ваших штанах и держится? Андрей Нилович уже у вас шил!
Портной заложил пальцами уши и скрылся в глубине комнаты.
Андрей Нилович — это мой отец. Он работает на «Шарикоподшипнике» старшим вахтером, по военной привычке любит ходить в форме. В прошлом году портной состряпал ему галифе. Они получились замечательные: с высоким простеганным корсажем из сатина и стальными пряжками по бокам, чтобы «приталивать», со штрипками, с карманами «в рамочку». Но, как сказал батя, без мыла в них и черт не влезет. Мать продала галифе на Тишинской барахолке старьевщику.
— Внимание! — заголосил Илья.
Мы замерли. Трансформаторная кирпичная коробка превратилась в аэродром. В заоблачные выси, к подвигу, к славе сейчас взмоют оттуда крылья.
— Контакт!
— Есть контакт!
— У-у-у-у! — загудели мы.
Колька разбежался. Малышня закричала «ура!». Во всю мочь загремело: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!..» Когда Кольку вытащили из лоскутьев бумаги и драночного лома, он, ничуть не конфузясь, произнес:
— Спорил ведь с теткой — надо материей обтягивать. Простыню пожалела…
Тетя Соня ликовала:
— Количка! Будь бы я Марьей Степановной, я бы носила тебя на руках! Окажись я товарищем Калининым — дала бы тебе орден!
Надя Шигина хохотала. Портной тоже. Он чуть не вывалился из окна.
— Имейте совесть, темные люди! — завопила тетя Соня. — Я не знаю, что с вами сделаю! Надька, смолкни! И вы, Клавдий Денисович, имейте ноздрю на совесть! Мальчик хочет стать пилотом, перестаньте ржать, как жеребцы без овса!
Грузчик Волков, трудно преодолевая земное притяжение, поднялся с лавки.
— Я вам покажу полет! Так шарахнусь — стены содрогнутся!
Тетя Соня ударила тревогу:
— Тося! Нюрочка! Бежите за матерью, он полез гробиться!..
Но грузчик добрался только до забора, где было немного травы и полуденной тени. Снял рубаху, расстелил ее, упал и уснул.
Из окна портного доносился картонный голос репродуктора. Станция имени Коминтерна передавала сообщение ТАСС, что распространяемые иностранной печатью заявления о приближающейся войне с Германией не имеют никаких оснований.
2
Мы выстрогали корабль из толстого чурака и дали ему имя флагмана Краснознаменного Балтийского флота. «Марат» имел пять мачт с проволочными винтами. Множество пушек из гвоздей с отрубленными шляпками делали его похожим на ежа.
Могучий дредноут сулил нам безраздельное господство в окрестных «морях». Но дождя уже не было неделю, они мелели на глазах, в них могли плавать лишь парусники из бумаги.
«Неприятельский флот» под командой Сережки нагло крейсировал вдоль берегов. «Адмирал» Тютя обзывал наш линкор утюгом и бревном. Илья перекинулся на сторону Сережки, подкупленный чином капитана первого ранга.
Мы с Женькой сидели на заборе. Пикетов, отставив шитво, читал на подоконнике газету. Илья с Тютей командовали размокшими кораблями. Тетя Соня, как всегда, кричала:
— Сережа, драгоценный мой, и ты, милый Илья, чтобы вам подохнуть в этой грязной колдобине, в этой кошачьей моче! Или мне самой умереть, чем видеть вас с этой проклятой игрой в войну!
Но стоило портному присоединить свой голос к мнению тети Сони, как она дала ему отпор.
— Имейте царя в голове, Клавдий Денисович! Вы уже закоснели в своих нитках. Вы можете мечтать только о четвертинке водки! А мальчики мечтают о море, а где его взять в нашем жутком дворе! Я вас спрашиваю: где?!
— Это не двор, а Канатчикова дача, — сказал портной и с треском захлопнул раму.
Канатчиковой дачей называлась психиатрическая лечебница.
— Жестокий человек, — закричала тетя Соня, — на улице не продохнуть, а он закупорился, он хочет нажить астму!..
Действительно, духота стояла, как в бане. Мертво никли простыни на густых веревках. Из окон свисали перины и лоскутные одеяла, похожие на пестрые шахматные доски.
Над крышами дремали облака, будто ватные горы. Постепенно из белых они делались синими и тяжелыми.
— Хорошо бы дождя, — сказал Женька и запел:
А море бурное шумело и стонало…Я подхватил:
О скалы грозные дробя за валом вал!..Мы очень старались, выходило трогательно, со слезой:
Как будто море жертвы ожидало, Стальной гигант кренился и дрожал!Не успели допеть про девушку-гордячку, которая не захотела полюбить матроса, за что он бросил ее в бушующий простор, как сумерки накрыли двор. Из переулка ворвался ветер. Старый серебристый тополь, росший у забора, зашумел, показывая матовую изнанку листьев. Простыни захлопали. Тетя Соня подала команду:
— Илья, беги в подвал до Волковых! Сережа, зови Кадильниковых! Женя, ты до мамы, Леша, брось мечтать о принцессе, стучи к Хлуповым — у меня душа кровью обливается на ихнюю беззаботность!
У тети Сони были парализованы ноги, но она смело и самоотверженно стояла на капитанском мостике нашего двора.
Едва хозяйки успели торопливо, комом снять белье, обрушился ливень. Мы спрятались в подъезд. Водосточные трубы гудели, изрыгая потоки воды. Местные «моря» выходили из берегов. Небо над двором озарялось пронзительным светом и взрывалось. Гром катился над крышами сокрушительными ударами. Мы воображали, что это бьют орудия главного калибра нашего линкора.
Туча, сверкая и грохоча, уплыла к Арбату. Сквозь редкий косой дождь умыто сияло солнце. Пенистые ручьи бежали со двора в переулок. «Марат» блокировал вражеский флот в узком заливе. Тютя и его каперанг выкинули белый флаг.
В честь выдающейся победы был дан пышный банкет с мороженым. Одна порция за 25 копеек на четверых. Кружочек в двух вафельках лизали по очереди. К шапошному разбору появился Вова Хлупов с лодочкой из голубой жести. Он поставил ее в лужу, всунул внутрь горящий огрызок свечки, и через минуту лодочка, бормоча «пу-пу-пу-пу», побежала словно настоящая моторка, разрезая мутную воду.
Я срочно вызвал Кольку Косого. Он сразу разгадал секрет двигателя и пообещал сделать такой же для линкора. Но, подумав, сказал:
— Будем строить всамделишный пароход!
Мы приняли идею с энтузиазмом, который перешел в легкую рукопашную. Все стремились занять на будущем корабле руководящие места. Я сумел пробиться в рулевые.
Распределив командные вершины, мы принялись за постройку судна. В гараже за страшными телегами лежал целый штабель соснового теса, пахнущий смолой и летним корабельным бором. Кому он принадлежал, неизвестно, да мы этим и не интересовались.
Колька от строительства был освобожден, он конструировал паровую машину. На эту цель Марья Степановна пожертвовала ему цинковый стиральный бак. Правда, худой.
Через два дня тес превратился в «Скитальца морей», огромный кособокий ящик с капитанской рубкой, похожей на собачью конуру. Но мы изъянов не замечали. Для нас «Скиталец морей» был писаным красавцем. Даже Игорь Комков заявил, что мы молодцы.
— Но учтите! — предупредил Игорь. — Будущая война — война моторов! На суше, в море и воздухе будет побеждать тот, у кого крепче броня, больше скорость и сильнее пушки!
Артиллерийское вооружение и броню мы отвергли. «Скиталец морей» задумывался как мирное судно для кругосветных плаваний. А что касается скорости, то в этом мы полагались на Кольку — он работал как одержимый.
На «Скитальца» пришел взглянуть сам Митька Попов, конопатый силач в вельветовых штанах и старом тельнике. По утрам он жал чугунный двухпудовик двадцать раз. У него уже проклевывались черные усики, за что он носил прозвище Усатый.
В школе его считали непробиваемой пробкой и драчуном. Учителя Митьку откровенно не переносили, кроме классной руководительницы географички Екатерины Ивановны, сокращенно Катеньки. Она уважала Усатого за справедливость и смелость. Я раз поделился с ней мыслью, что с такими плечами и кулачищами, конечно, можно быть и справедливым и смелым. Это было весной, когда Попов отлупил двух прыщавых молодцов из десятого, заставлявших курить первоклашку. Катенька возразила, что Попов и без мускулов был бы справедливым и смелым. И совсем он не «пробка», а умница, но, конечно, лентяй без всякой меры.
Узнав, что штурманскую часть возглавляет Женька Комков, а я в рулевых, Митька сказал:
— Навигация — дело сложное! Чуть что — трах, и на мели! Заползайте утречком для просвещения…
В условленное время мы с Женькой отправились к Попову. Родители его, гидрографы, работали на Севере, а он обитал с бабушкой и атаманил, по мнению соседей, как ему на ум придет.
Миновав тесный коридор с мусорными ведрами, мы очутились в кухне, где ревели керосиновыми голосами примусы, а хозяйки колдовали над кастрюлями. В уголке Митька чистил картошку. Я удивился, как это ловко у него получается, будто всю жизнь только картошкой и занимался. Клубеньки чистые, без единого глазка, кожура — сплошная просвечивающая лента.
Мне тоже приходилось дома заниматься готовкой, но, убей меня громом, я такого не достиг.
— Шамать хотите? Будет гуляш! — сказал Митька. «Нет? Тогда пошли в кают-компанию…
Кают-компанией называлась узкая комнатка, перегороженная вытертой плюшевой занавеской. Стены ее были завешаны картами. Конечно, не теми, которые надоели нам в школе, а настоящими морскими. С отметками глубин, опасных для судоходства мест, маяками, фарватера, ми. Одни названия чего стоили! Канин Нос. Маточкин Шар. Карские Ворота. На другом полотнище — мыс Фиолент, Арабатская стрелка, Тарханкутская коса.
Я даже задохнулся перед этими картами. Живое море накатывалось шумными валами на ветреные берега. Тяжелые сухогрузы, раскачивая мачтами, спешили в порты из экзотических стран: Тасмании, Австралии, Новой Зеландии…
Не думалось и не гадалось, что через два с лишним года на берегу этого моря я буду ползать по-пластунски, рыть окопы полного профиля, ходить в учебные атаки и вспоминать эту комнатку с дубовой этажеркой в углу, на которой стройный фрегат, великолепное чудо, распустив паруса, плыл в неведомые края под стеклянным колпаком.
Над фрегатом висели фотографии в ореховых рамочках с зарывшимися в пену миноносцами и бравыми моряками в сюртуках с погонами.
Женька толкнул меня в бок. Принято было думать, что погоны носили только враги — белогвардейцы.
У отца в сундучке хранился обломок клинка с серебряным кавказским эфесом и несколько снимков на твердом картоне. Там батя тоже красовался в погонах и с двумя Георгиевскими крестами на груди. Я никому, кроме Женьки, не показывал карточки, хотя очень гордился, что отец мой «настоящий вояка».
Как-то мать застала, когда я раскладывал снимки, и раскричалась: «Сколько раз я тебе, деревянной голове, долбила, не смей трогать!»
На германском фронте, под Ригой, отца за храбрость произвели в прапорщики, а в гражданскую войну он командовал красноармейской ротой. Воевал в армии товарища Федько, а потом на Южфронте. Чухонцем его называла мать под горячую руку. Моя бабушка была литовкой. По словам матери, она ни бум-бум не знала по-русски и была «тронута» на чистоте. Бабушку-литовку я не помнил, она умерла, когда мне исполнился год…
— Вы модель руками ни-ни! Грохнется! — предупредил Митька и исчез за занавеской.
Оттуда тянуло табачным дымом и слышался кашель. Мы засунули руки в карманы, чтобы не соблазняться.
Появился Митя с пачкой книг.
— Вот! Это надо осилить и переварить, а иначе в море не суйтесь!
Вдруг из-за плюша вышла бабушка Наталья Сергеевна — с белыми как снег волосами, заколотыми высоким гребнем. Она курила из костяного мундштука тощую папироску «бокс». Глаза у нее были синие и хитрые. Наталья Сергеевна выбила окурок в цветочный горшок на подоконнике.
— Здравия желаю, капитаны первого ранга и адмиралы!.. Митька, покажи, чем ты их пичкаешь? Ага!.. Лухманов — подойдет… Новиков-Прибой — замечательно! А вот всякие лоции и таблицы не по ихнему уму…
— Наталья Сергеевна! — осерчал Митька. — Еще раз прошу, не вмешивайся в чужие дела. Если они любят море — одолеют любую науку. Терпение и труд все перетрут…
— Хо-хо-хо! — сказала на это Наталья Сергеевна, закуривая новую папиросу и усмехаясь. — Тяп-ляп, и они адмиралы!
— Бабуля!
— Ну что бабуля? Будто я не знаю этих диких камчадалов!
Заметив, что я с интересом приглядываюсь к фотографии морского офицера — я любовался кортиком, висевшим у него на боку, — Наталья Сергеевна гордо заметила:
— Это мичман флота его императорского величества… Блестящий балбес и мой братец Викентий. Он командовал контрминоноской во флотилии Раскольникова. Расстрелян белогвардейцами в Черном Яру, на койке в тифозном бараке…
Старуха строго посмотрела на Митю, на нас, словно оценивая, и добавила:
— Дай бог любить вам так Россию и служить ей!..
Ушли мы нагруженные книгами, полные решимости одолеть все трудности мореходной науки. Мне достались «Соленый ветер» парусного капитана и писателя Лухманова, «Уничтожение девиации компасов» и толстый том каких-то таблиц.
«Соленый ветер» я проглотил мигом. Из «Девиаций» сделал вывод, что мне ни в жизнь не осилить этой премудрости. Но не отступился.
Раскрыв книжку на середине, обложившись таблицами, я целый день скучал на лавочке под окном портного Пикетова, надеясь, что его кудрявая Шурка поймет, какого славного моряка она променяла на тихоню Вову, катавшего ее на сверкающем харьковском велосипеде.
Шурка не поняла. Зато тетя Соня оценила:
— Вовик! Вовик! — вопила она. — Брось свою дурацкую езду, не пыли на белье! Ты посмотри на Лешу, на этого умненького мальчика, как он прилежно читает, набирается знаний!..
3
К воскресенью Колькина паровая машина была готова и ждала испытания. Мы водрузили ее на подставку из кирпичей и долго любовались. А любоваться действительно было чем — стиральный бак опутывали медные трубочки, змеевики с кранами и заглушками, пружины. Завершали буйство Колькиной конструкторской мысли ветеринарный градусник и «редухтор» — две шестерни с цепью и рычаг с деревянной рукоятью. Несведущим пояснялось, что этот «редухтор» будет вращать гребное колесо, установленное (в будущем) на корме «Скитальца морей».
Машина с лошадиным градусником сияла медью и оловом. Колькин широкий лоб сиял от пота и волнения. Шурка Пикетова смотрела на него одурелыми влюбленными глазами и чаровала выстриженной челкой и накрашенными красным карандашом ногтями. Вова Хлупов, покинутый Шуркой вместе с его новеньким велосипедом, завидовал. Мы с Женькой таскали чайником воду — для пару. Илья Цидельков и Сережа Тютя пугали маленьких:
— Котел может разнести, возможны обильные жертвы!..
«Стендовые испытания» начались в одиннадцать часов.
Митя Попов разжег примус, сунул под котел и накачал; Примус взревел так страшно, что сопливая малышня полезла хорониться за помойный ящик.
— Через десять минут пару будет хоть отбавляй, — пообещал Колька.
Прошло десять и двадцать минут, пару как и не было, зато из кособокого крана тоненько заструилась вода. Конструктор попробовал ее на палец: «Горячеет!» Все стали тоже пробовать. Вода была комнатной температуры. Колька завинтил в «кишках» своего детища какую-то гайку — поднял давление. Лошадиный градусник запотел. Все начали говорить шепотом.
Тютя под предлогом наведения порядка удалился к малышне за помойку. Наконец из краника побежала настоящая горячая вода. Как раз в этот момент в гараж влетела рыжая Тоська.
— Вы тут — там во дворе!.. Там Пикетов в окно плачет!
— Сейчас я ему утру слезы! — пообещала его дочь Шурка. — Опять назюзюкался!
Регулярно, как по расписанию, раз в месяц, портной запивал и шумно безобидно скандалил. Выбрасывая из окна лоскутья, старые выкройки из газетных листов, кричал: «Алеша, ша! Нервы кончились! Я не Примитей (разумелся Прометей), прикованный у иголки! Я — Пикетов! Все! Лавочка ликвидирована! Ходите без порток и кепок!»
Затем во дворе появлялась Ариша Пикетова, рослая красавица в засаленном сарафане, с толстым младенцем на руках. Кланялась жильцам, торчащим в окнах. «Прощайте, суседи! Не поминайте лихом, ухожу в родную станицу!» Тетя Соня уговаривала ее: «Опомнись, Ариша! Куда ты пойдешь в такую даль. Ты пиши заявление, мы подпишемся. Пускай за этим лишенцем-кустарем придут ночью».
Портной никого не боялся. Лишь Шурку. Стоило ей топнуть на отца, тот сразу сникал. «Алеша, ша! Ложусь, сплю, как покойник во гробе!»
Сегодня было что-то не то…
У окна портного стояли плачущие женщины с охапками сухого белья. Пикетов торчал из окна, прижав к животу, словно грелку, черный репродуктор, дребезжавший картонным голосом:
— …все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция — мужчины и женщины, отнесутся с должным сознанием к своим обязанностям. Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един…
— Тихо! — цыкнули на нас. — Товарищ Молотов выступает. Война! Фашисты напали!..
После речи наркома иностранных дел была длинная томительная пауза. Молчал репродуктор. Молчали люди.
Чего ждали взрослые, не знаю. Мы, мальчишки, ждали, что сейчас любимый маршал Клим Ворошилов скажет по радио: «Товарищи! Наша Красная Армия перешла в наступление! Фашисты бегут!..»
В июньском небе над крышами плыли легкие облака. Большой змей с мочальным хвостом, потеряв ветер, косо падал за дома. Гремел по Малой Дмитровке трамвай. В соседнем дворе пронзительно свистели голубятники. И уже десять часов шла война.
Глава вторая Ближний тыл
1
23 июня 1941 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных, родившихся с 1905 по 1918 год включительно. 26-го из нашего дома ушли в армию сразу восемнадцать человек.
Первого июля получили повестки мой батя и Иван Петрович Комков. Они были командирами запаса. Мы с Женькой на проводах поплакали, но втихаря. Игорь не капнул ни слезинки. Он вообще был суровый, а как началась война, сделался бирюк бирюком. Вместе с Поповым Игорь ходил в военкомат, но в добровольцы их не записали, велели ждать своего часа.
Мы с Женькой тихонько ехидничали над добровольцами, а они ходили обнявшись, как Фотя с Мотей, и шептались. Потом крупно поругались. Митька утверждал, что месяц — от силы два — и Гитлеру крах. В Германии уже наверняка начались революционные выступления. Игорь обозвал его дураком.
В середине июля нас «мобилизовали», как мы гордо говорили девчонкам. Понятно, не на фронт, а строить оборонительные сооружения.
От школы до трамвайной остановки мы валили шумной толпой, но лопаты несли, как винтовки, «на плечо».
Вову Хлупова мать в дорогу упаковала в вату и бинты — у него постоянно болели уши. Сначала он чуть не плакал, но вскоре прибодрился.
— Ребята, может, я похож на раненого? — приставал к нам Вова.
Мы с Женькой утешали его: да, вполне похож. Хотя больше он смахивал на чучело. Митька Попов хихикал. А Игорь злился и добавлял «с» к слову раненый. Его назначили в наш «отряд» старшим от школьного комитета комсомола.
В переполненном трамвае Игорь занудливо наставлял нас, как вести себя под обстрелом и бомбежками. Чего-чего, а уж эти вещи он знал назубок. Разбуди его ночью — с закрытыми глазами отбарабанит про дальность полета и убойную силу винтовочной пули, разлет осколков гранат РГД и Ф-1, мощность авиабомб, про пулеметы, окопы, блиндажи и бог знает про какие еще военные премудрости.
Взрослые с интересом прислушивались к Игорю. Военный с рубиновой «шпалой» на петлицах одобрительно усмехнулся.
— Молодец! Подкован хорошо, на командира отделения потянешь хоть сейчас. Я бы от такого бойца не отказался!..
Игорь покраснел от удовольствия. Когда мы сходили у вокзала, командир попрощался с ним за руку.
— Генеральская башка у тебя, Игоряха, — сказал другу Митя Попов.
— Я ее не мороженым питал, — гордо ответил Игорь.
Это он поддел нас с Женькой. У Игоря был целый угол книг по военному искусству, уставы РККА и иностранных армий. Они приобретались на деньги от школьных завтраков и сданного утиля в магазине «Военная книга» на Арбате. А мы с приятелем свои денежки шикарно проедали, предпочитая мороженое и ситро самым передовым военным мыслям.
У Белорусского вокзала и на площади — яблоку негде упасть, столько собралось народа — и военных, и гражданских стриженых парней с самодельными котомками за плечами, чемоданчиками, узлами.
Киоски с морсом трещали. От лотков с горячими пончиками тянулись хвосты очередей.
Прямо на мостовой расположился целый табор цыган. Молодые красотки, увешанные монистами из серебряных николаевских рублей, вывалив смуглые груди из пестрых кофт, кормили младенцев. Расхристанные старухи ловили в толпе желающих узнать судьбу.
Проходили строгие патрули, бренча шпорами. Тяжелые шашки с раздвоенными медными головками эфесов вызывали у нас зависть. В нашем понимании война еще была в бешеном топоте конских ног и стальном неотразимом блеске клинков.
Мы едва пробились на вокзал и насилу разыскали поезд № 240-«бис» на путях между теплушками и бензиновыми цистернами, возле которых расхаживали часовые.
Нас провожал помощник военного коменданта, вежливый лейтенант, опутанный хрустящими ремнями. Разумеется, активность лейтенант проявлял из-за нашей учительницы Екатерины Ивановны. Это она возглавляла нашу отару, нагруженную лопатами, бельишком, авоськами с батонами и халами.
Помощник коменданта поддерживал Катеньку за локоток. Она заливалась румянцем. Толстенная пепельная коса, накрученная на затылке, оттягивала голову. Нежный курносенький профиль казался надменным. Пушистые ресницы затеняли серые глаза.
Парни с котомками и командиры оглядывались на Катеньку и добрели лицами.
Наш эшелон (все по-военному) был составлен из старинных дачных вагонов, вытащенных из запасников. Слепые окна в них не мылись, видать, со времен революции. В фонарях над дверями окаменевшие свечные огарки были затканы густой паутиной. Мы заняли вагон почище и сразу разлеглись на деревянных лавках. Вскоре пришлось уплотниться. Нагрянули горластые напористые девчата с какой-то ткацкой фабрики с чайниками, ведрами, лопатами, обмотанными ветошью. В запущенном вагоне сразу стало шумно и обжито.
У ткачих оказалась свежая «Правда». Игорь сразу завладел газетой. Сводка Совинформбюро была сдержанно безрадостной. Наши войска, как и вчера, отходили по всему фронту. На Северо-Западном направлении немцы подходили к Ленинграду. На Западном — к Смоленску. На Юго-Западном приближались к Киеву.
— Это временное, — сказал Игорь. — Заманим, растянем вражеские коммуникации, заставим распылить силы и ударим! И в наступление прямым ходом до Берлина!
— Какие там растягации-распыляции! — горько вздохнула мрачная женщина, старшая у фабричных. — Клюют нас фашисты!.. Пока мы на Берлин соберемся, германцы у Москвы будут…
У Игоря побелели и затряслись губы.
— За эти слова… за такое! Расстрелять вас надо!
— Бодливой корове бог рогов не дает! — зло ответила ткачиха и ушла в дальний угол вагона.
— Сволочь! — бросил ей вслед Игорь.
Ткачихи, и пожилые и молодые, растерянно молчали. Катенька со слезами в голосе крикнула:
— Игорь Комков! Сейчас же извинись! Грубиян!
— Не подумаю! — жестко сказал Игорь. — С этой мадамой, желающей победы Гитлеру, мы еще разберемся!
— Правильно! — поддержала Игоря худенькая большеротая девушка, хозяйка газеты. — Пускай Ныркова на меня не обижается, а разговорчики она ведет вредные! Она трусиха и паникерша!
Ныркова зарыдала. Несколько ткачих набросились на девушку:
— Вы, молодые, много о себе понимаете! Вы хотите Гитлера победить, а Ныркова не хочет? Она троих проводила на фронт — мужа и двух братьев! И на окопы вызвалась первая ехать!
— Бабоньки, милые! Товарки вы мои! — выла Ныркова. — Да я личными бы руками Гитлера удавила, хотя воробья жалею ударить, а меня под расстрел!..
Ныркову отпаивали валерьянкой. В вагоне царило недружелюбное молчание. Всем было почему-то стыдно друг друга.
В десять к составу подогнали паровоз. В двенадцать тронулись. Поезд наш шел по пригородному расписанию, не пропуская ни одной станции, задерживался на разъездах, давая обгон военным эшелонам.
Попов, поднатужась, опустил несколько рам. В вагоне загулял горячий ветер. Катенька сидела пригорюнясь. Ткачихи пели: «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону…»
Заводские кирпичные окраины Москвы остались позади. Млели под солнцем поля и березовые нарядные перелески. В покое и тишине зрели хлебные нивы. Но покоя и тишины им оставалось совсем немного — до октябрьских стылых дождей.
Илюха подсел к девушке-ткачихе, узнал, что ее зовут Жанной, и принялся над ней подтрунивать: она везла толстую стопу книг, перевязанную бельевой веревкой.
— Сейчас смеешься, но скоро спохватишься, — отбивалась сердито Жанна, — лопай колбасу — я у тебя и крошечки не попрошу, а ты мне в ноги еще поклонишься!
Так оно и вышло. На окопах книжный голод мучил нас сильнее голода физического. За книгами стояла строгая очередь, хотя читать приходилось урывками.
На станции Шаликово в вагон набились призывники, им надо было в Можайск на сборный пункт. Всех сопровождала многочисленная слезливая родня. У Игоря от женского плача даже нос скривился.
— Выть надо на похоронах, — брюзжал он, — а в бой провожать гордо, весело, чтобы человек знал — на него надеются, чтобы сердце у него было светлое, отчаянное! Вон как в Кубинке!..
В Кубинке, которую давно проехали, на платформе наяривали на гармошках, пели и плясали и мобилизованные, и провожающие. Могучий парень с пьяным воспаленным лицом обнял за плечи женщину, должно — мать, и орал частушки.
Вокруг парня, невпопад дробя каблуками, повизгивая, махая платочками, кружили толстая старуха в синем ситце, две девчонки и смуглая, похожая на черкешенку, стройная девушка. Старик в бостоновой тройке кричал: «Федька! Воюй, шельмец, не оглядываясь! Помни — ты мехедовского роду, какой, что работать, что драться, — никому не уступал! Не жалей головы за нашу Сэ Сэ Эр!»
В Можайске поезд долго держали перед семафором. Дудели в жестяные рожки сцепщики. Пахло угольным дымом. Какие-то люди с толстыми узлами наперевес и чемоданами бегали по путям. Два красноармейца, один с овчаркой на поводке и с наганом, второй с винтовкой, провели человека в милицейской форме со связанными назад руками.
— Это шпион, — сказала испуганно Катенька. — Вдруг и нашего Игоря забрали…
Игорь ушел за кипятком и пропал. Мы с Женькой разглядывали из окна воинский состав, подошедший на соседний путь. На платформах стояли пушки. В дверях товарных вагонов, заложенных деревянными перекладинами, виднелись лоснящиеся крупы огромных артиллерийских коней.
— Ох, как не нравится мне Игорь сегодня, — вздохнула Катенька, — не знаю почему, но боюсь за него… немилосердный он сделался, какой-то опасный, как нож… Я раньше не замечала этого.
— Он не злой, он суровый, — сказал Женька про брата. — С пятого класса волю закаляет. Спит по-суворовски на голой кровати, без одеяла. Видели, как он ел — кусок хлеба с солью и водой прихлебывает. И дома так…
— Задрыга он, — скривился Митя, — у людей кишки пищат, а Игоряха будто на Кавказ за чаем пошел! Вы ждите, а у меня терпежу нет!
Он с мямлил батон и кусок «любительской», от еды осоловел и полез на узкую, вдоль всего вагона, багажную полку, наказав, если сверзится, чтобы его не будили, а затолкали под скамью. Митька мог спать как в прорву. Он и на уроках ухитрялся дрыхнуть.
Ребята тоже зашуршали в сумках, принялись жевать.
Закричал паровоз. «По вагонам! По вагонам!» — раздались командирские голоса. Длинный лязг прокатился вдоль воинского состава. Тут и появился запыхавшийся Игорь с двумя чуть теплыми чайниками. Поставил их на лавку и поманил меня и Женьку в тамбур.
— Давайте прощаться! Я на фронт… Катенька пускай не беспокоится. Маме напишу, она меня поймет… Митя хотел со мной — скажите, чтобы не обижался, так уж вышло…
Игорь обнял нас и выпрыгнул с площадки на шпалы. Эшелон с пушками уже набирал ход.
Катенька даже позеленела, когда узнала, что Игорь уехал на фронт, собралась на станцию к коменданту давать какие-то телеграммы «по линии», чтобы ученика 9 «Б» класса Комкова сняли с воинского поезда. Пока тормошились, наш 240-«бис» тронулся.
Ткачихи сочувствовали классной руководительнице. Ныркова сказала:
— Отчаянный, черт! Этот в бою себя жалеть не будет!
2
Боже мой, какое это испытание, какая каторга рыть целый день закаменевшую глину. А с утреннего солнца до первой вечерней звезды в июле пятнадцать часов.
Хуже всего приходилось в полдень. Земля раскалялась. В угарном мареве качались холмы, лес, телеграфные столбы вдоль большака. Казалось, что все горит бесцветным пламенем. Пыльный воздух застревал в горле. Пот слепил глаза.
Первое время мы так выматывались, даже не ужинали, а добравшись до колхозной риги, бухались на солому и засыпали, наверно, еще в момент падения. Но и во сне мы копали. Митя Попов жаловался даже, что во сне рыть глину еще труднее, лопата то гнется, как бумажная, то ломается.
Противотанковый ров начинался от косогора над топкой речушкой, шел через луг, поросший красными метелками конского щавеля, потом обочиной ржаного поля к болоту. Широкий и глубокий, он смахивал на канал без воды. По земляной перемычке его пересекал большак Вязьма — Ельня.
Когда мы приехали сюда, через луг тянулись лишь в два ряда чистенько отесанные колышки, бегал пыльный лейтенант с рулеткой и с тысячу народу: смоленские студентки, колхозницы, школьники — начинали ковырять целину.
Мы было приуныли, никто на нас не обращал внимания. Катенька с Нырковой собрались искать начальство. Но вскоре оно появилось само в лице потного лейтенанта с рулеткой и представилось: «Начальник строительства лейтенант Горобец!» Катенька покраснела и пискнула: «Екатерина Ивановна… рада познакомиться. Нас тридцать человек из трех седьмых классов».
Ныркова сказала: «Мы фабричные! Нас пятьдесят. Я старшая».
— Мало! — огорчился лейтенант. — Обещали пятьсот!
Катенька виновато стала объяснять, что «московских окопников» был целый поезд, но его растащили в Вязьме.
Лейтенант вырвал из мятой тетрадки листок, что-то черкнул на нем черной авторучкой.
— Вот наряд к бригадиру Степанычу! Идите в село, он расквартирует ваши команды… Вон стежкой, прямо и прямо!
Катенька и Ныркова поплелись через горячий луг. Лейтенант хмуро сказал:
— Братва, девчата, сейчас означу участки и за дело!
Илья Цидельков потыкал тупой лопатой землю.
— Она каменная, ее надо динамитом!..
Лейтенант Горобец усмехнулся:
— Мне все равно. Валяй — рви динамитом, аммоналом, толом, хоть соплями, но два кубометра грунта за смену вынь! А распорядок дня таков: в пять ноль-ноль подъем, умывание, завтрак. Кому приспичит — может посидеть в лопухах. В шесть — работать! В тринадцать — обед и отдых, на все час. В двадцать один, ни минутой раньше, конец работы, ужин и так далее!..
Лейтенант взял в помощники Митьку и отмерил рулеткой участки нам и ткачихам. Мы сбросили рубахи на узлы и взялись за лопаты. Илья был прав, такую твердь мог осилить лишь динамит.
Вернулись Катенька с Нырковой. С жильем было трудно. Ткачих поселили в клуб к смоленским студенткам, а наш сводный распихали по дворам колхозников — по одному, по двое.
Мы, «камчатская пятерка», так нас звала учительница за пристрастие к задним партам, взбунтовались. Мы могли ссориться, оголтело спорить, иной раз и «стыкаться» в гараже, доказывая правоту кулаками, но дружили крепко. Катенька обозлилась и стала грозить «трибуналом военного времени». А лейтенант сразу понял, в чем дело.
— Ребята, не рвите на груди тельняшек! Определю вас на постой всех вместе, если не боитесь мышей… Просторно, мягко, уютно! Над головой звезды, когда нет дождя — чистый дворец!
Дворцом оказалась старая рига-развалюха. Вечером к нам заглянула рослая девочка, покрытая по-женски платочком, в фартуке и с ведерком.
— Здравствуйте вам, — сказала она нежно и застенчиво. — Я Глафира. Я парного молока принесла… Катерина Ивановна у нас будет жить… Я девятый кончила, хотела на курсы медсестер — не берут… Буду вам воду возить на ров…
— Ужасно героический подвиг! — съехидничал Женька.
Глафира не обиделась, только печально вздохнула.
— Это вы устали… Потом обвыкнете и все образуется…
И верно, дней через десять мы втянулись в работу. И как обещала Глафира, все образовалось. Дьявольская боль в плечах и спине приутихла. Черенки лопат сделались удобными, не набивали «водянок». И земля стала податливой.
Сказать же, что мы перестали уставать, значит погрешить против самой правды. Выматывались, да еще как! И еда была скудная — картофельный кондер с блесточкой жира или каша из ржи, намятой из колосков. С таких харчей лишь бы ноги волочить, а мы вкалывали! Силы нам придавало сознание, что помогаем родной Красной Армии. А она действительно была нам родная. В полках ее сражались наши отцы, братья, дядья и наверняка еще какие-то отдаленные родственники.
Мы гордились, когда удавалось «обштопать» на выработке соседние бригады. Были счастливы, если нас хвалил лейтенант Горобец. Мы лезли из кожи вон, стараясь понравиться симпатичной Глафире, подвозившей работающим питье на бочке-водовозке, запряженной грустным мерином с седыми губами.
В Глафиру мы влюбились всей «Камчаткой», кроме Митьки Попова, на которого не действовали ни жара, ни любовные чары. Он клеймил нас «гнусными распутниками» и «бабниками, подрывающими тыл», а потом, видно от зависти, сам врезался в суровую Жанну, тоже отрицавшую любовь.
Митька стал каждый вечер умываться в лягушечьей речке и исчезать, а мы подглядывать за ним. И выследили. На закате Митька, взяв Жанну за руку, водил ее вдоль ржаного поля и, сделав плачущую рожу, подвывая, читал стихи:
Все кончено — я слышу твой ответ, Обманывать себя не стану вновь, Тебя тоской преследовать не буду! Прошедшее, быть может, позабуду — Не для меня сотворена любовь!Утром, мстя за «распутников», Женька сказал Мите, точившему лопаты:
— Очень дерьмовый ты поэт! За такие стихи, как ты сочинил, надо выпороть крапивой! Ни одной рифмы про войну, никакой идеи!..
Я думал, что Митька сейчас треснет черенком Женьку по лбу, до того он ужасно вытаращился на критика. Катенька закудахтала: «Ребята, ребята!»
— Он малахольный! — сказал Митька. — Он Пушкина не знает!
Женька, считавшийся среди нас самым начитанным, сконфузился, но нашелся:
— Про Пушкина надо проверить. Может, ты врешь, как про корову!
Тут Митька осерчал по-настоящему и налупил бы Женьке за милую душу, но прилетел «мессер», и мы полезли хорониться в щели.
Попов страх не любил, когда ему напоминали про корову, хотя мы его за язык не тянули, сам рассказал со всеми подробностями, какую шуточку с ним сыграла криворогая Зорька.
Было это на второй день, когда мы начали работать на рву. Вечером мы едва доползли до риги, пожевали всухомятку черствых батонов и, кряхтя как старички, стали косточка по косточке укладывать свои тела на прелую солому.
В душных сумерках за ольховыми кустами жалобно покрикивала птаха. Над зубчатой полосой леса небо время от времени озарялось острым светом, и пробегал сухой гром от края до края горизонта. Бои шли уже за Смоленском — под Ярпевом, Ельней, на Духовщине.
— Пользы от этой канавы — тьфу! — вдруг сказал Митька. — Пускай бабы копают, а наше дело мужчинское — воевать! Наше дело или грудь в крестах, или голова в кустах! Надо с Игоря брать пример… Вот человек! Гад, конечно, ведь уговаривались… Ладно!..
Мы пропустили Митины слова мимо ушей. Утром хватились — Попова нет. Догадались: смылся на фронт. Хотя нам было обидно и зло на товарища, но когда лейтенант Горобец спросил про него, мы с форсом ответили: «На передовой!»
— Теперь дела там пойдут, — заявил лейтенант, — попрем немцев! Главком направления, маршал Тимошенко, только его и ждал!..
Катенька, узнав про «фронтовика», пустилась в слезы:
— Игорь Комков, негодяй безжалостный, сбежал, теперь этот — усатый бандит! Меня же судить будут!..
Никуда он не денется, — успокоил учительницу Горобец. — Армейские тылы — не проходной двор. Привезут, или сам явится…
Лейтенант как в воду смотрел. В конце рабочего дня мы увидели знакомую плечистую фигуру, ковылявшую с большака вдоль рва.
— Не замечаю на груди крестов, — поддел Илья.
— В риге покажу, — пообещал Митька, — жаль, что ты со мной не был! И тебе бы хватило!
«Кресты» мы увидели и пришли в тихий ужас.
— Ой-ой-ой, — запричитал Вова. — Кто же тебе так сиденье изукрасил? Сам Тимошенко или его помощники?..
— Было дело под Полтавой, — мужественно ухмыльнулся Митька, — клейте мне подорожником! Все горит, будто я этим местом перец ел!
Мы нарвали лечебной травы, и пока врачевали товарища, он поведал свои приключения.
…Выбравшись с первым светом на большак, Попов устроился на телегу к фуражиру-красноармейцу, проехал с ним километра четыре в сторону Ельни и выяснил, что на передовую попасть не так-то легко. На большаке и на проселках контрольно-пропускные пункты, а конные патрули проверяют документы у встречных и поперечных — военный ты или местный житель, а без пропуска пожалте в комендатуру!
— Вот так, малый, — сказал фуражир, — человек ты советский — я вижу, и что на фронт хочешь — правильно! Парень ты здоровый… Ищи какой штаб и честно просись на службу… Я сам доброволец вроде тебя, в Перемышле подобрал винтовку да и пристал к части…
Совет показался Мите дельным. Он распрощался с фуражиром и свернул в лес. Набрел на тропинку и, насвистывая, споро зашагал, ориентируясь на гул отдаленной пушечной стрельбы.
Вскоре тропинка вывела его на проселок, изрезанный колесами. Потянуло дымом, гречневой кашей, пережаренным луком и салом. В молодом сосняке раздавались голоса. Попов обрадовался, направил в ту сторону стопы, и тут раздался грозный окрик: «Стой! Руки вверх!» Из-за дерева вышел боец с карабином, направленным ему в грудь.
— Чего орешь, свои, — сказал Митя, — здравствуй!..
— Заткнись! — приказал часовой и бабахнул вверх.
Прибежал лейтенант, здоровенный парень. Жуя на ходу, сердито спросил:
— Откуда? Куда? Кто такой? Из Петрушина, что ли? Корову ищешь?..
Попову бы сказать честно — так, мол, и так. Иду на фронт, в разведку хочу проситься, а он растерялся и брякнул, что да — он из Петрушина, а корову зовут Зорька.
— Правый рог у нее кривой? — спросил лейтенант.
Митька подтвердил, что кривой. Лейтенант достал из кобуры наган и взвел курок.
— Ну вот что, бабушкин внук! Шагай вперед! Рыпнешься — застрелю!
Наш товарищ, как он честно сказал, перетрухнул, решил выложить правду. Командир сунул его стволом нагана меж лопаток и зыкнул:
— Молчать!
Минут через пятнадцать они вышли к лесной деревеньке. Просторная, вся в утренних тенях, она смотрелась нарядно и мирно. В кустах под маскировочными сетями стояло несколько машин. В пруду красноармейцы поили коней. Белые гуси с морковными носами недовольно гоготали на берегу. Напрямую через огороды лейтенант повел Митю к новенькой избе с высоким в нарядной резьбе крыльцом.
На ошкуренном бревне под ее окнами сидел скуластый сержант и рвал на полосы парашют. Его окружал рой деревенских девочек. Строго поджав губы, они следили за руками бойца, делившими скользкий шелк.
— Не хватайте, как голодные, — ворчал сержант, — всем достанется! Надо, чтобы справедливо и поровну. Нашейте себе платьев и юбчонков и будете как принцессы на горошине!
Девочки хихикали, пихались локтями.
— Товарищ Терентьев где? — спросил лейтенант. Сержант, не отрываясь от важного дела, кивнул на окна.
Через сени с земляным полом Митя под конвоем лейтенанта вошел в избу, голую, будто ее ограбили. Кроме огромной печи, где на приступке намывал гостей котенок, да стола, в ней ничего не было.
За столом на табурете, неудобно закинув голову, спал капитан с потухшей папиросой в пальцах. На полу валялись листы бумаги. Лежал немецкий автомат с веревочкой вместо ремешка, зеленый вещевой мешок и шахматная доска.
— Товарищ Терентьев, проснись! Дело к тебе!..
Капитан вздрогнул, разлепил тяжелые веки. Брови у него были белые, нос в розовых веснушках лупился.
— Ну, что у тебя, горит? — сказал он недовольно.
— Вот, задержали в расположении субчика!
И когда лейтенант начал докладывать, Митька готов был сгореть со стыда за свою глупость. Надо же попасть на такой тупой крючок с несуществующей деревней Петрушино.
— Разберись, товарищ Терентьев, где его безрогая корова и что он сам за козел! — сказал лейтенант, пряча в кобуру револьвер.
— Разберемся, — пообещал ему капитан, и похоже, что дружески подмигнул Попову. — И корову найдем, и козу!
Лейтенант, сурово посмотрев на Митю, ушел.
— Простенько он тебя купил, — сказал капитан и сладко зевнул во весь большой рот. Зубы у него были широкие, белые. — Вот так вашего брата, цап-царап и в кутузку! А ты небось мечтал уже к вечеру кучу подвигов совершить?.. Откуда знаю? Ты десятым будешь за неделю» Жизни от вас, добровольцев, нет! У меня дел — удавиться!..
В раскрытое окно залетел шмель, погудел, как бомбовоз, сел на раму. Щебетали девочки, хвастаясь друг перед дружкой шелком.
— Документ какой хоть догадался взять?..
— Так точно! — по-военному отчеканил Митя и выложил свидетельство о рождении.
— Значит, москвич!
— С Малой Дмитровки!
— Почти соседи… Рядом жили… Я в Настасьинском, дом пять, пятиэтажный…
— Пятиэтажных там нет, — сказал Митя, — самый высокий — четыре, это напротив нашей школы. И он дом три! Пятый номер двухэтажный.
— Правильно, — согласился капитан. — А чем Дегтярный переулок знаменит, кроме драчунов?..
— Чехов там жил!
— Тоже верно, — развеселился капитан. — Это я тебя проверил на всякий пожарный… Извини, не представился: капитан Терентьев из контрразведки… Ну вот что, хитрый-Митрий, я с тобой, как с земляком, по-дружески! Понимаю, сочувствую, но бери-ка ты ноги в руки и топай обратно. Строй оборону! И скажи там, пацанам, дружкам, что героев на передовой и без вас достаточно! Понял?
Митя промолчал. А капитан, озлившись или нагоняя страху, ударил кулаком по столу так, что котенок брякнулся с приступки и юркнул под печь.
— Понятно, я тебя спрашиваю?!
Но Попов был не из тех, кого можно взять на голос. Он тоже ударил в столешницу и, если ему верить, закричал: «Я не землекоп и не баба, а надев армейскую форму, не отсиживался бы по избам, в тылу, а грыз немецкие танки зубами! Воевал бы — или грудь в крестах, или голова в кустах!»
Ну, капитан Терентьев и выдал ему крестов…
Дни идут в беспросветной работе. Немцы захватили Ельню. В той стороне небо ночами лишь помаргивало красными сполохами, а теперь сплошь в зареве, и слышны отчетливые удары пушек. Идут слухи, что Красная Армия начала наступление.
Мы радуемся и верим этим вестям. Как не верить? Ночами по большаку к фронту движутся войска: колонны пехоты, грузовики, пушки. По гулу моторов определяем — есть и танки.
К рассвету движение замирает. В небе появляется чудной двухфюзеляжный самолетик и, поблескивая стеклами кабины, кружит и кружит, что коршун, высматривающий добычу.
Стоит самолету исчезнуть, на большаке начинается столпотворение. С запада спешат беженские обозы, тысячные гурты коров. Бестолково шарахаются репьястые овцы. Пыль. Оводье. Крики. Блеянье.
Скот обгоняют санитарные машины-фургоны, бортовые полуторки, зеленые армейские фуры, колхозные телеги, где на соломе лежат вповалку раненые красноармейцы. Повозочные, матерясь, хлещут кнутами по безвинным скотским ребрам, норовя проскочить опасный участок большака, укрыться в спасительном лесу.
Мы вкалываем, тупея от усталости и духоты. В небе ни облачка. Солнце шпарит по спинам до волдырей. Гусиными клиньями летят горбоносые «юнкерсы». Иногда они бомбят большак, думается, ради озорства. Видно же, что это не войска. Низко со свистом проносятся тощие «мессершмитты», прозванные красноармейцами «глистами». Сыплют свинцовым горохом.
Колхозницы, устало распрямляясь, смотрят им вслед. «Ой, проклятые, будет на вас управа! Ох, найдется на вас железный кнут!»
И «кнут» нашелся. Летели «юнкерсы», как всегда, по-хозяйски, неторопливо, постанывая перегруженными моторами, и вдруг бросились в стороны. За одним бомбардировщиком вытянулась тугой спиралью лента дыма. Второй, заваливаясь на крыло, начал падать на лес. А к солнцу свечой взмыл краснозвездный ястребок.
Потом все небо заходило ходуном от пропеллерного рева. Три «мессера» бросились на наш самолет.
Бой был так скоротечен, что мы только успели сообразить: наша взяла! Один «глист» полыхал, упав на ржаное поле. Второй куда-то исчез, а третий удирал чуть не по макушкам елок. Его настигал стремительный, похожий на кинжал, самолет.
Потом за лесом грохнуло, вспух черный столб.
— «Як первый»! — восхищенно крикнул лейтенант Горобец. — Эх, сотенку бы нам таких машин!
«Як» давно улетел, а мы, не жалея глоток, все еще орали «ура».
Как всегда в обед мы приводили в порядок шанцевый инструмент. Митька словно заводной крутил точило, а я направлял лезвия лопаты и вспоминал Кольку Косого.
— Николай крутить бы не стал, он бы сразу придумал…
— У Репы башка техническая, — соглашался Митя. — Он нам всем сто очков даст вперед… Его вещи слушаются… Он возьмет гнутый гвоздь и забьет, как прямой… А у нас прямые гнутся…
Вова с Илюхой раздували костер. Женьку послали к ткачихам за солью и пригласить Жанну на пир. Глафирин отец, Степаныч, дал нам кусок сала и пшена.
Варево уже стало пениться, пришел лейтенант Горобец, какой-то унылый, мутный.
— Ребята, тут такое дело… Одним словом, берите лопаты и за мной…
В деревне дневал ППГ — подвижной полевой госпиталь — подвод сорок, груженных санитарным имуществом и ранеными. Колхозницы поили их молоком, угощали сметаной, яичками, медом. Расспрашивали бойцов, что делается на фронте.
— Воюем, — отвечали красноармейцы. — Нас вот ранило, многих убило, а какие целые, те дерутся! Немцы?.. А что немцы! И они от пуль не заговоренные. И кричат, когда свинцом куснет, и помирают, ежели в убойное место угадает пулька. Вот танков у Гитлера много да и самолетов, что воронья на скотомогильнике. Околеть от бомбежек хочется. А сами-то фрицы полбеды!
— А вам бы и надо целить все по самолетам да по танкам, — дала совет бойкая кладовщица Фроська.
Красноармеец, с перевязанной головой, с черными синяками под глазами, возвращая ей пустую кринку, сказал:
— Ежели бы из твоей сахарницы в них целить! Вон она какого калибру, в дверь небось не лезет!
Раненые — и те, кто перемогся, и те, кому от боли небо с овчинку казалось, — засмеялись. А колхозницы так и раскатились хохотком, повеселели. Если уж такие парни — все в бинтах и то зубоскалят, им, видать, сам черт не брат.
— Пошли, пошли, ребята! — заторопил нас лейтенант.
Вздыхая и волоча ноги, мы поплелись за Горобцом на кладбище, рыть братскую могилу.
Кладбище было старинное, заросшее сиренью, акацией и плакучими березами. Обломанные черные кресты торчали из зеленой травы. Стреноженные кони паслись между могильными холмиками.
Каменная церковка умыто белела под огромными ветлами. На колокольне ссорились молодые галки. В церковной кованой ограде лежали в последней шеренге красноармейцы, умершие дорогой от ран.
Босая старуха и девочка подросток отгоняли ветками мух. Девчонка хныкала: «Ты, бабка-косолапка, не смей так говорить! Не будет германцам победы! Чай, я на карте видела — Россия вон какая, а Германия так себе, будто цыпленок плюхнул коричневым!»
С паперти поднялся врач-майор, остроносый, с запавшими щеками, красноглазый.
— Ройте здесь, в ограде… Здесь надежно, могила не потеряется. Постарайтесь, хлопцы, я вам спирту налью!
Земля была легкая. Мы работали изо всех сил. Конечно, не за спирт, а лишь бы скорее кончить с жутковатым делом. Горобец копал с нами на переменки.
Майор стоял на краю ямы, засунув руки в карманы грязных галифе, и спал с открытыми глазами. Раз его так качнуло, что он чуть не упал в могилу.
— Совсем вымотался, — пробормотал виновато. — Хватит, труженики, саннорма по военному времени соблюдена…
Могила получилась глубокая, но тесная. Покойников укладывали друг на друга сам врач и лейтенант Горобец. Никто из нас не решился дотронуться до мертвых.
— Засыпайте! — приказал майор.
Мы взялись за лопаты, а Митя Попов взбунтовался:
— Я не буду! У них глаза смотрят!
— Надо лица прикрыть чем-то, — предложил Горобец.
— Надо бы, — вяло согласился майор. — Ветками если?..
Мы обломали кусты сирени с уже семенными кистями, и Горобец закрыл ими мертвые молодые лица. Старуха тихонечко причитала. Девочка не проронила ни слезинки, только дрожала.
Мы возвращались с кладбища потрясенные. Даже голубой день померк.
— Ничего, ребята, придет время — будет им памятник, — сказал Горобец, то ли нас утешая, то ли себя. — Война! А на войне главное, как ты воюешь, а не как похоронят…
Никогда нам не работалось так уныло. Илья ковырял глину, вздыхал, потом сказал:
— Ведь это герои, а их без оркестра, без салюта… У меня на душе гнусно, будто я виноватый перед ними!
Вечером ребята сразу улеглись спать. Мы с Глафирой устроились на бревнах под огромным вязом. Сквозь прорехи в листве мигали звезды. За пряслами по проулку проплыл высоко навитый воз. Брякнула уздечка. Запахло соломой, усталой лошадью.
— Тятька колхозную рожь возит, — прошептала Глафира, — пятнадцать мешков уже намолотил и спрятал. Председательша велела, но чтобы ночью… Она говорит, если германцы нагрянут, мы не прокормимся, в леса уйдем — партизанить! Ой, Лешка, ты молчи, это дело тайное! Я нечайно подслушала, молчи!
— Мы сегодня бойцов умерших хоронили, — сказал я.
— Знаю, — вздохнула Глафира. — Ты смерти боишься?
— Боюсь! Особенно как представлю, что мне в глаза земля сыплется — мороз по спине!
— И я боюсь, — вздохнула Глафира.
В сарае запел петух. Через минуту-две ему откликнулся другой. С неба упала звезда. Рядом с бревнами, сердито хрюкая, протопал ежик.
— Тятька говорит — немцам нас не победить, — сказала Глафира, — наше дело правое, будем воевать и стар и мал. И Григорий Григорьич, наш директор школы, говорил — мы выстоим и против семи Гитлеров. Дай сроку, наклепаем самолетов, пушек!..
Я хотел рассказать, как мой отец воевал в гражданскую на бронепоезде, у которого вместо брони пушки были укрыты березовыми кругляшами. Но тут протяжно пискнули дверные петли. Глафира заерзала: «Ой, ой, мамка встала». Сердитый голос с призевотой сказал:
— Глашка! Отсылай кавалера спать! Ему чуть свет на окопы, и тебе делов хватит. Брысь в хату!
Я посидел немного один и побрел спать. За высоким воротным проемом, чтобы груженный снопами воз мог въехать в ригу, небо уже зрело румянцем. Храпели ребята. Ржала строго кобылица, подзывая жеребенка.
Не успел я коснуться щекой соломы, как очутился на тендере паровоза с березовой трубой. Из нее валил густой дым. Я был в кожанке и перепоясан крест-накрест пулеметными лентами. Рядом стояла Глафира, я обнимал ее за талию. Она сбрасывала мою руку и плаксиво, почему-то Женькиным голосом, ныла: «Прими грабли, что я тебе — девка, обниматься…»
Утром, только взялись за лопаты, из-за леса вынырнул «юнкере». Летел он низко. Мы даже разглядели фигуру штурмана в стеклянном фонаре. Концы крыльев у самолета были выкрашены желтым, а черные кресты, оконтуренные белым, ярко выделялись.
Все полезли в щели, ожидая бомбежки, но «юнкере» выпустил за собой только хвост листовок.
В листовках было напечатано: «Девочки-мадамочки, не ройте ваши ямочки. Придут наши таночки — зароют ваши ямочки!» Лейтенант Горобец велел их подобрать все до единой.
— Бумага хотя и хреновая, но пригодится для целей гигиены. Задницей, видать, немцы свою пропаганду придумывали, мы ее этим местом и читать будем!
Катенька покраснела и хихикнула, предложила сделать «контрпропаганду». Вдвоем с Жанной принесли из деревни облезлую школьную доску и суриком на ней написали: «Смерть фашистским танкам — наш ответ!»
Доску мы приколотили к телеграфному столбу. А листовки пошли по назначению. Понадобится кому сбегать в лощину, в местечко, огороженное реденьким плетнем, обязательно скажет: «Пойду гитлеровскую агитацию читать».
3
В полдень из деревни прибежал, будто за ним гнались волки, тонконогий мальчишка в ситцевых штанишках, закричал:
— Мамка! Тетка Тоня! Ребята! Шкрицев привели, айдате глядеть!
Много народу, побросав лопаты, сыпануло напрямую в село. Любопытство разбирало, такие ли немецкие солдаты страхолюдные, как их рисуют в карикатурах.
Я пристроился к Глафире на водовозку. Она прибодрила мерина кнутом, и мы поспели раньше всех.
Поодаль от сельсовета, где над крыльцом выгорал кумачовый флажок, у колодца с журавлем стояла кучка пленных, окруженная широким кольцом баб и ребятишек.
Два красноармейца, закинув винтовки за спину, черпали бадьей воду, лили в обросшее зеленью водопойное корыто. Двое бойцов с пристегнутыми к поясам стальными касками курили. Пятый — сержант в пограничной фуражке — держа под уздцы фыркающего, тянущегося к воде коня с навьюченными на седло скатками шинелей и поверх них ручным пулеметом, насмешливо говорил:
— Ну, чего набегли! Мы не бродячий цирк с медведями, представлять не будем!
Пленные черпали из корыта алюминиевыми стаканчиками, пили. Наливали воду в обшитые серым сукном фляжки. Я разглядывал немцев. Особенно их лица. Пыльные, усталые. Пропотевшие узкие мундиры со слепыми тусклыми пуговицами расстегнуты, а то просто накинуты на одно плечо.
Немецкие солдаты в свой черед с любопытством разглядывали окружавших их людей. Переговаривались, ухмылялись на девчат-окопниц. По всему видать было, что чувствовали пленные себя без страха.
Через толпу пролез седоватый мужчина с костыликом, в мятом пиджаке и лоснящемся от старости галстуке.
— Я учитель… Разрешите я с ними поговорю… Должны же они понимать, что они представляют народ с огромной культурой, с революционными традициями…
Красноармейцы-конвоиры переглянулись. Сержант смерил учителя с головы до ног недобрыми глазами.
— Ну, ну… поговорите…
Учитель по-немецки сыпал без запинки. Пленные вытаращились на него, пожимали плечами. Плотный крутолобый солдат, скуластый и курносый, как мордвин, с перевязанной рукой, подвешенной к груди на ремне, отвечал учителю коротко и резко. Будто цепной кобель огрызался на надоедливую шавку.
Учитель краснел, сучил костыликом. Скуластый ловко щелкнул подкованными каблуками и, вскинув здоровую руку, брехнул: «Хайль Гитлер!»
— А ты думал, он тебе на шею бросится? — зло спросил пограничник, и губы у него дурно свело. — С ними пулей надо говорить! Эх ты! Миротворец! Марш отсюдова!
Учитель, припадая на палочку, нырнул за спины женщин. Колхозницы зароптали: «Больно ты, начальник, грозный! Ты нашим Григорьичем не помыкай, мы его уважаем!»
— Тихо, тихо, гражданочки! — поднял руку пограничник. — Здесь не общее собрание колхоза, а я вам не бригадир, не председатель, чтобы на меня недовольствовать…
— Становись! — подал команду пограничник.
Немцы четко построились. Видно, были здорово вымуштрованы и приучены к подчинению.
Когда маленькая колонна тронулась по деревенской знойной улице с одуревшими от жары курами, хоронившимися в лопухах, кто-то из пленных заиграл на пронзительной губной гармонике. Тяжелые сапоги с короткими широкими голенищами ударили в пыль.
Гадко у меня было на душе. Не видеть бы этих солдат. У сельсоветовского крыльца толстая бабка пеняла учителю:
— Я, знамо, дура! А ты, Григорьич, ученей ученого и не нашелся! Он тебе хвастать начал, а ты бы ему по наглым зенкам: не тропи широко — портки лопнут! Э-эх!
Я отстал от ребят, помог Глафире налить бочку, но не у этого колодца, где пили немцы, а что был у околицы. Глафира сказала:
— Я после этих брезгаю! Я близко стояла, от них запах противный!
Конечно, запах был обыкновенный, солдатский: потом, ремнями, прелыми сапогами.
— Ой, Лешка, не болтай! Никакими не портянками, а несло от них фашистами! — заспорила Глафира. — Ну, сплошными фашистами!..
Через неделю всех окопников распустили по домам. Оборонительные рубежи занимали части Красной Армии.
Пока ребята собирали барахлишко, мы с Поповым понесли Степанычу точило. Мне хотелось увидеться с Глафирой. Но ее дома не оказалось. На обрывке газеты я написал для нее свой домашний адрес. Степаныч сказал:
— Ты не сомневайся, передам. Может, и свидитесь, но наперед, малый, загадывать нельзя… Говорят, будто немца остановили, а как дальше выйдет?.. В одно верю — победим! Третьего числа в июле слушал я по радио в сельсовете товарища Сталина, он сказал: наше дело правое, враг будет разбит! А у него высокая колокольня, ему ох как далеко видно! Ну, счастья вам, ребята!..
Глава третья Грозная осень
1
Холодно. Темнотища страшная, сидишь будто в угольной яме, а не во дворе жилого дома. Окна плотно зашторены, чтобы ни лучика света на улицу не пробивалось.
Ежимся с Женькой на скамейке, глядим в звездное небо и сетуем на свою судьбу. Родиться бы года на три раньше, были бы на фронте. Ни в армию, ни в ополчение нас не берут. Куда ни совались, один ответ — не призывной возраст!
На той неделе ходили в военкомат, стояли часа три в очереди. Илья ловкий малый, протырился вперед. Мы ему завидовали, но зря. Военкоматовский лейтенант вывел его за воротник, сказав: «Надоел хуже горькой редьки! Ведь второй раз выгоняю!», врезал в зад пендаля. Лейтенант с кем-то Илюху спутал — он пришел записываться в добровольцы в первый раз. Мы с Женькой покинули очередь сами.
В осеннем небе ножницами скрещиваются прожекторные лучи. Над крышами, там, где сад «Эрмитаж», вспухают клубы огня.
Трах! Трах! Трах! Трах! — бьют зенитные «восьмидесятипятки». После оглушительного грохота в паузе слышно, как снаряды сверлят воздух. Наконец между звездами вспыхивают фиолетово-красные огоньки разрывов. Звук от них — будто рвется клеенка.
Из «Эрмитажа» доносятся голоса зенитчиков. А по крышам градом барабанят осколки. Первое время мы их собирали для коллекции, теперь сметаем метлой в углы. Есть здоровенные — по кулаку. Жахнет таким в темечко, сразу глазки закроются. На всякий пожарный на дежурство надеваем зимние шапки.
Налеты каждую ночь. В метро мы не ходим. Во-первых, маленькое удовольствие дремать в тесноте. Во-вторых, надо приучаться к боевой обстановке. В-третьих, бомба два раза в одно место не попадает. А одна уже ахнула по соседству в дом 29.
Прошли по переулку патрули. В Москве сейчас строго. Вез специального пропуска ночью на улицу не показывайся, сразу заметут или в милицию, или в комендатуру. И днем порядочек четкий. Все москвичи чувствуют себя военными.
Правда, когда началась эвакуация на восток, была неразбериха. Я думаю, тут без немецких провокаторов и шпаны не обошлось, но рабочие, милиция и армия быстро навели порядок. 17 октября выступил по радио секретарь ЦК и МГК партии товарищ Щербаков и сказал, что за Москву будем драться до последней капли крови и столицу не сдадим.
Время, наверно, часа два ночи. Отбоя воздушной тревоги все нет. В небе тихо. Батарея в «Эрмитаже» дала только четыре залпа.
Знающие люди говорят — немецкие бомбардировщики на высоте ниже, чем семь километров, над городом не держатся. Да и прорываются к Москве из сотен самолетов единицы.
Посвечивают скользкими боками аэростаты заграждения. Сейчас их даже днем не опускают. Иногда девчата из ПВО водят их по улице, ухватив за веревки с боков, словно безногих слонов.
На днях с таким слоном мы видели Катеньку. Поговорили на ходу. Катенька жаловалась: пошла в армию — думала, отправят на фронт, а приходится подымать и опускать «безмозглую кишку». От нее узнали, что лейтенант Горобец воюет, командует ротой.
Мы рассказали ей про Игоря: он прислал, пока единственное, письмо-коротышку. Катенька обрадовалась: «Камень с души! Я за него так переживала. Игорь честный мальчик, умный, но очень суровый. Привет ему напишите!»
С письмом Игоревым вышел и смех, и грех. Он писал, что воюет. Товарищи у него хорошие. «Бог войны гремит, а я таскаю катушку суровых ниток». Нина Михайловна, мать, прочитала эти строки, побледнела, заплакала. «Господи, его контузило, он стал заговариваться!» Женька едва ей объяснил, что Игорь в артиллерии телефонистом, а письмо зашифровано для сохранения военной тайны. Бог войны — пушки. Суровые нитки — провода. Мы это точно знаем. Одно время увлекались телефонами из пустых Спичечных коробков, соединенных ниткой.
Белеют на темных окнах бумажные кресты. Моя мать до сих пор уверена — газетные полоски сохраняют стекла от взрыва бомбы. Глупость штатская! Самая лучшая защита — зенитки и истребители. Было сообщение — за одну ночь наши ястребки сбили на подступах к Москве сорок семь фашистских бомбардировщиков.
Всем москвичам известны имена славных истребителей: Виктор Талалихин — таранил «хейнкель», лейтенант Александр Лапилин сбил восемь самолетов, сержант Иван Струков — четыре. Вот кто сохраняет наши дома!
— Я уже кочерыжка, — бормочет Женька, — а ребятам небось еще хуже достается…
Илья, Вова Хлупов и Митя роют окопы где-то за Вереей. Колька Косой работает на заводе «Компрессор» и во дворе не показывается. Шурка Пикетова и Марина Карельская ходят в госпиталь, который в нашей школе.
Вчера Марина жаловалась: «Ой, мальчишки, устаю, как собака! Скребу, мою полы. Целый день тряпку и щетку из рук не выпускаю, потом кому письма читаю, кому пишу. У нас верхнеконечники».
Верхнеконечники — это кто ранен в руки, а то и совсем без рук. Но по Марине не заметно, что ей достается. Щеки как помидоры, того и гляди, лопнут. И вообще она такая здоровая и красивая стала, даже стыдно смотреть. Война, а ей будто трын-трава.
Шурка тоже драит полы, носит горшки, нам же врет, что учится на сестру.
Лиза Кадильникова стала совсем черная, как головешка. Нос острый, глаза злые. Она как-то сказала: «Я ничего не боюсь! Хоть с Гитлером схвачусь один на один и удавлю! Силы во мне мало, кормежка в столовке сволочная, но я злостью возьму! От станка до победы не отойду. Сейчас норму гоню на полтораста процентов, наловчусь — буду давать двести!»
Лиза на своей пуговичной фабрике делает гранаты. Мы с Женькой инвалидничаем. Я едва вылез, как сказал врач, из крупозного воспаления, а у Комкова левая рука в гипсовом лубке. Шарахнулся на чердаке, когда тушил зажигалку.
— Жрать хочется, — вздыхает Женька.
— Мне тоже… Ты чего бы съел?
— Черняшки с солью!
— А я бы ситного с изюмом!..
Женька вздыхает и густо сплевывает.
— Ведь раньше и не елось… Хлеба было завались! Давай вспомним» сколько сортов?..
— Черный. Раз! — говорю я и загибаю палец.
— Черный заварной» — добавляет Женька. — Два!
— С тмином!
— Украинский!
— Серый…
— Пеклеванный.
— Бородинский!
— Ситный!
— Ситный с изюмом!
— Горчичный! С закрытыми глазами смямлил бы кило!..
— А халы?
— А халы с маком?
— Батоны по рубль сорок!
— Булочки французские по тридцать шесть копеек!
— Булочки по семьдесят две! А калачи? А рогалики?..
— Калорийки!
— Бублики забыл?..
Да, бублики это вещь! Я аж захлебнулся, а на зубах захрустела нежная корочка.
— Ну и провокатор ты, Женька! Вчера колбасой настроение испортил, сегодня бубликами. Кишки к горлу подкатывают… Давай лучше смешные анекдоты рассказывать…
Но ничего веселого на ум не идет. Не знаю, что вспоминает Женька, а я как въяве вижу пекарню-павильон «Бублики». За стеклами огонь в печи. Суетятся в белых рубахах и штанах, в высоких колпаках пекари. Возле павильона остановка. Люди поджидают трамвай и наблюдают за их работой. Вот мастер раскатал длинную колбаску из теста. Быстро, как автомат, рвет ее и склеивает колечки. Иногда бросает колечко на весы, где гирьки, и всегда вес точный, будто в аптеке. Чуть в стороне окошко. Подошел, заплатил двадцать пять копеек, и вот он — прямо из печи, горячий душистый бублик. Если берешь десяток, их нанижут на чистую мочалину, завяжут — неси!
Ноги у меня совсем окоченели. Женька достал пачку махорки. Я из клочка газеты скрутил козью ножку. Мы тайком начали покуривать. Не так есть хочется. Глотнешь горького дымку, голова закружится и «червячок» в желудке притихнет.
Затягиваемся по очереди. У ворот раздались чьи-то шаги. Мы насторожились. «Леша! Женя!..» Узнали по голосу — Надя Шигина. Надя подошла, поздоровалась, села рядом. От шинели ее пахнет сыростью, ружейной щелочью.
— Дежурите?
— Грудью прикрываем родной двор и любимых жильцов!
— Балаболки!.. А я спать иду, отпустили до завтра…
— Наган-то с собой?
Из-за борта шинели Надя вынула револьвер, покрутила у Женьки под носом, сунула обратно.
— Тетя Надя, дай хоть поделиться, — попросил Женька.
— Не дам. Вдруг бабахнешь! Я сама боюсь этого револьвера хуже жуликов…
Мы захихикали.
— Милиционер называется!
— Не милиционер, а младший лейтенант. И дайте мне закурить, не то надеру уши, что вы меня теткой обзываете. Я от этого старею…
Женька отсыпал Наде на толстую скрутку.
— Сводку слушала?
— Тяжелая обстановка, ребята!
Надя рассказала, что с сегодняшнего числа Москва объявлена на осадном положении, нарушителей порядка будут предавать суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и других агентов врага приказано расстреливать на месте.
Мы одобрили суровое постановление. Всякая шпана здорово распоясалась, грабит магазины, склады, квартиры эвакуированных.
Сидим, тесно прижавшись — так теплее — курим, пряча огоньки в рукава.
— Страшно подумать, — вздыхает Надя, — немцы уже в Можайске, в Калинине, под Тулой… Но Москву им не взять! Выстоим! Обязаны! Ведь Москва не просто столица государства, как Париж или Лондон, она надежда трудящихся мира!..
— Ты как в газетную передовицу смотришь, — съехидничал Женька.
— Дурак узкоглазый! — Надя постучала по груди ладонью. — Вот сюда я смотрю!.. А вы еще мальчишки, зам все трын-трава, лишь бы озорничать да плясать на крыше…
Мы не обиделись. Что было, то было. Когда мы очень шумели во дворе и Надя обливала нас из окна водой, мы в долгу не оставались: «Девочка Надя, чего тебе надо?» — орали мы дурашливыми басами, держась подальше от ее окна. И жалостливыми голосами, «под Надю», отвечали: «Ничего не надо, кроме мирмилада! Да и женишка!..»
Когда мы вернулись со Смоленщины, увидели Шигину в милицейской форме — она ей очень личила — с наганом на поясе, тут же взгромоздились на трансформаторную будку и рыдающими, блатными голосами завыли утесовскую «Мурку»:
Здравствуй, наша Надя, здравствуй, дорогая! Здравствуй, дорогая, и прощай!Про обещанную Наде пулю-маслину мы не допели. Пронзительный милицейский свисток сдул нас с крыши и понес в спасительный с несколькими выходами подвал…
— Ну, я спать, — сказала Шигина и достала из кармана шинели сверточек. — Нам сладкий паек выдали… Передайте Сереже Тетюхину.
Надя ушла. Мы стали нюхать сверток и гадать: сахар? Соевые батончики? Леденцы? Любопытство заело. Развернули. В пергаменте оказался ком слипшихся подушечек. Не удержались, отколупнули по одной.
С Тютей вышла на днях беда. Потерял продовольственные карточки. Утром был Сережка как Сережка — веселый, никогда не унывающий пацан, из магазина вернулся морщеный старичок.
Мы сидели в «гараже» на борту «Скитальца морей», ломали голову, как помочь товарищу. Сережка плакал. Шурка Пикетова гладила его по спине, утешала.
— Удавлюсь, — сказал Сережка таким деревянным голосом, что мне стало жутко.
Шурка аж подскочила как ужаленная.
— Молодец! Правильный выход! Сейчас ремешок принесу… От батьки остался, крепкий, почти новый!
Сережка испуганно от нее стал отодвигаться.
— Выбирай место, куда привязать! Лешка с Женькой тебе кирпичей подставят, а я за ремнем… Эх ты! Тютя сопливая!
Мы с Женькой опешили. Ну и Шурка, ну и Шурка! Не задаром ее отец боялся. Шурка обернулась моментом. Принесла банку свиного смальца, кулечек пшена. Сережка заупрямился — не хотел брать. Шурка на него прикрикнула:
— Без разговоров! За меня не переживай, я прокормлюсь, меня раненые маленько питают!
Мы с Женькой в складчину собрали килограмма четыре картошки. Сережка оживел, забормотал благодарности. Тут в «гараже» нарисовалась Марина Карельская в школьном задрипанном пальтишке, из которого она выпирала со всех сторон, достала из противогазной сумки две банки мясных консервов.
— Держи и молчи, а то мать меня с ногами изжует!
Сама Тетюхина потом хвалилась по всему дому, какой у нее Сережка дельный и хозяйственный — в магазинах шаром покати, а он карточки «отоварил» по-царски.
Холодно. Тихо. Где-то далеко занимается пожар. Женька, привалившись ко мне, спит. Дремлют в осеннем небе аэростаты. Отбоя тревоги все нет.
120-й день войны.
2
В комнате хоть волков морозь. Лежу под ватным одеялом. За окном порхают снежинки. Вставать не хочется, а ведь сегодня праздник. И какой! Всем праздникам праздник! 24-я годовщина Октябрьской революции. Вчера выдавали по талонам пшеничную муку. Мать обещала напечь блинов досыта, велела пригласить ребят.
— Настанет время, годовщину Октября будут отмечать все народы земли, — сказала она, — запомни мои слова!
Мать здорово «подковалась» политически. Раньше, кроме сплетен по дому да кино, ее ничего не интересовало. Сейчас без газеты дышать не может. Обстановку на фронтах знает до корочки, но начнет рассуждать, как она бы руководила боями — уши пухнут! И слова не скажи против — сразу в попреки, Я, мол, жизнь прожила, а у тебя за спиной лишь семь классов с переэкзаменовкой по французскому, которую не сдал. Она военную службу знает, не один год с отцом в кавполку прослужила. Смехота! Кавалерист верхом на палочке!
С трикотажной фабрики мать ушла. Устроилась на производство к Лизе Кадильниковой. Учится на штамповщицу, а пока заколачивает и таскает ящики с гранатами. Работа тяжелая, а она радуется: «Я стучу молотком и думаю: вот тебе, Гитлер, еще один гвоздь в гроб!»
Пока раскачивался, вставать — не вставать, на лестнице раздался дробный грохот, будто сыпалась из рваного мешка мерзлая картошка. Как вчера на овощной базе, где мы с Женькой вкалывали до ночи.
Не успел выпутаться из одеяла, в комнату ввалились ребята: Тютя, Женька, Вова с заваченными ушами, Илья и Митька в грязных, прожженных ватниках.
— Глядите! — возмутился Илья. — Мы его защищаем, строим доты и дзоты, а он нежится в постельке!
Я обрадовался ребятам. Обнялся с «защитниками». Женька ревниво сказал:
— Ну что за сентиментальный человек! Тут потрясающее событие, а он слюнявится, как девка!
— Какое событие?!
— На Красной площади военный парад был!
Я сел на постель и чуть не заплакал от обиды. Проспать, проворонить парад! Мало этого — оказывается, вчера в станции метро «Маяковская» состоялось торжественное собрание в честь 24-й годовщины Октября, где выступал товарищ Сталин. Речь его транслировалась по радио, а мы пролопоушили, жрали в хранилище печеную картошку.
— Одевайся молнией и — на Красную площадь! — скомандовал Митя.
Во дворе нарядно лежал снег. Сестры Волковы катали друг дружку на санках. Полозья скребли по земле. У ворот разговаривали накрашенная управдомша в лисьем воротнике и всегда хмурая, сердитая Анна Ивановна Тетюхина.
— Прямо с парада и на фронт?
— Прямо на фронт!
— Да-а, — захныкала Тетюхина, — танки-то ихнии вона, рядом!..
— Близок локоть, а попробуй укуси!..
Переулками, спрямляя путь через проходные дворы, мы вышли на улицу Горького возле кинотеатра «Центральный». Видно, с оцепления шагали кучками милиционеры с винтовками за спинами. По осевой рысили конные патрули.
Мы припустили к Охотному ряду. Красные флаги хлопали на ветру. Тяжелое, уже зимнее, небо висело над крышами. Улица Горького казалась сурово насупившейся. Каких-то четыре месяца назад она была веселая, нарядная, с утра до позднего вечера заполненная народом, машинами, залитая светом. Сегодня она суровая, фронтовая. Витрины магазинов заложены мешками с песком — дома стали похожи на крепости.
Мы любили главную улицу Москвы. Сюда нас водили родители любоваться в витринах движущимися макетами будущего метро. Катали на первых троллейбусах от Охотного до Белорусского вокзала. Потом, школьниками, мы встречали здесь челюскинцев, папанинцев, Чкалова, Громова, славных летчиц Гризодубову, Осипенко, Раскову. В последний мирный Первомай наш класс участвовал в демонстрации. Мы шли в колоннах Свердловского района. Играли духовые оркестры. Нарядные люди на ходу весело плясали под баяны. У Красной площади все смолкли, подтянулись. Стало тихо и жутковато торжественно. Когда вступили на площадь, я не видел ничего, кроме Мавзолея Ленина. Наша колонна шла от него совсем рядом, в третьем ряду. Члены правительства приветствовали демонстрантов.
И вот снова Красная площадь, откуда недавно ушли в подмосковные окопы, перестроившись из парадных рядов в боевые колонны, красноармейские батальоны.
Зачехлены рубиновые звезды на башнях. Разрисовано пятнами здание ГУМа, закрыт защитными дощатыми чехлами Мавзолей. Кричат галки в крепостных зубцах. Небо то порошит на брусчатку площади мягким снежком, то сыплет жесткой крупой.
Замерли у Мавзолея часовые в остроконечных суконных шлемах. Из репродукторов со здания Исторического музея летит песня:
Мы не дрогнем в бою за столицу свою, Нам родная Москва дорога!..У Лобного места столкнулись с Федором Федоровичем, завучем школы. Поздоровались. Федор Федорович приподнял облезлую котиковую шапочку-пирожок.
— Пошел за газетой в киоск, а ноги принесли сюда, — сказал тихо. — Вот стою и прислушиваюсь к ходу истории, как въяве слышу ее тяжелый ход и как въяве вижу рязанского дворянина Захария Ляпунова, сводящего за бороду с престола царя Василия Шуйского; польских интервентов, сдающихся на милость ратников князя Пожарского и торгового мужика Кузьмы Минина. Молодого Петра в солдатском плаще вижу, а вьюга раскачивает мерзлые трупы на бревнах, что зубец — то стрелец. Въезжает в лакированном ландо после Ходынки Никола Второй… И вижу, хотя никогда и не видел, живого Владимира Ильича, идущего утром по площади, озабоченного и усталого… Советской России только второй год…
Голос у Федора Федоровича осекся. Отвернувшись, будто от ветра, он смахнул со щеки слезу, произнес шепотом:
— Тогда выстояли и сейчас выстоим…
Куранты Спасской башни пробили одиннадцать. К нам подошел плотный мужчина в коверкотовом реглане с меховым воротником.
— Не стойте! Проходите!..
— Нашелся хозяин! — огрызнулся Митька. — Мешаем?
— Проходите!
Под карнизом Спасской башни строго загремел электрический звонок. Ворота раскрылись. Под аркой мы увидели сторожевую будку и красноармейца с винтовкой с примкнутым штыком. Из Кремля вынеслись гуськом три черные длинные машины, пересекли площадь и исчезли в проезде за глыбой Исторического музея.
Федор Федорович дошел с нами до Охотного ряда к метро.
— Это был Он, — таинственно сказал завуч. Мы не поняли. — В тех машинах… товарищ Сталин!.. А вы, мальчики, запомните этот день на площади… Когда-то, может, в шестидесятую годовщину Октября, когда этот день будет историей, вы будете гордиться, что видели Красную площадь в грозный час!
3
Мы сколачивали ящик под песок — тушить зажигалки, во двор заглянула Наталья Сергеевна, Митьки Попова бабушка.
— Здравия желаю, капитаны первого ранга и адмиралы! Развяжетесь с делом — прибудьте к старухе на военный совет!
Ящик получился как картинка. Поставили его во второй подъезд, наполнили песком и отправились к Наталье Сергеевне.
В «кают-компании» было чуть теплее, чем на улице. Наталья Сергеевна, в ватной кацавейке, сером платке и шерстяных перчатках без пальцев, накрыла на стол.
— Известно, что каперанги и адмиралы хлещут коньяк. Но за отсутствием оного и принимая во внимание ваш цыплячий возраст — будет чай!
Появилась вазочка с засахарившимся абрикосовым вареньем. Чайник под ватной Солохой и тарелка, накрытая тарелкой. Наталья Сергеевна сняла верхнюю, мы так и ахнули. Разве могла адмиральская выпивка идти в сравнение со стопой горячих блинчиков из пшеничной муки!
У меня, как у верблюда, потекли слюни. Женька облизнулся и мужественно начал врать, что мы налупились дома. Стыдно было объедать старуху. Наталья Сергеевна закурила папироску и, посмеиваясь, сказала:
— Не лгите вы мне! Двадцать лет учительницей работаю — по зрачкам мысли читаю… Не оголодите меня, я уже божья птичка — чуть поклюю и сыта!..
Мы убрали блинчики, варенье и чайник опорожнили. Даже вспотели. Наталья Сергеевна унесла посуду и вернулась с деревянным ларцом, окованным медными гвоздиками. Он был набит пожелтевшими бумагами. Старуха долго рылась в них, покуда нашла узелочек из бархатного лоскутка. В нем было завязано колечко с остро сиявшим камушком.
— Давным-давно, еще Митька в пеленки дул, мечтала я: станет внук мужчиной, женится — его суженой подарю колечко… И исполнила бы слово, да пришла крайняя нужда!
Мы поняли, что Наталья Сергеевна хочет колечко продать. Она сердито сказала:
— С голодухи умерла бы, а от слова не отступилась! Ведите меня в военкомат или иной пункт, где принимают ценности в Фонд обороны. Армии надо помочь в правом деле… Ничего мне не жалко для Красной Армии…
Наталья Сергеевна достала из ларца фотографию, долго на нее смотрела, вздыхая, и поцеловала.
— Здравствуй, Ваня! Все собиралась к тебе на могилку, видать, теперь и не соберусь…
На карточке с замятым уголком была молодая Наталья Сергеевна в белом передничке и косынке с крестом, а ее обнимал за плечи человек с повязкой на глазу, в высокой папахе и френче с накладными карманами. На перевязи через плечо чеченская кривая шашка, на поясе наган, на груди в матерчатой розетке орден Красного Знамени.
— Это мы в Ростове…
— Значит, вы воевали?..
— Всего пришлось, мальчики! И раненых из боя выносить, и в Крыму в подполье работать, и у врангелевского полковника Туркула в контрразведке сидеть, ждать расстрела… Ну, давайте собираться!
Колечко с огоньком она хотела надеть на палец. Оно не держалось — сваливалось. Пальцы были высохшие, как еловые веточки. Завернула в ватку и убрала в карман.
С нашей помощью Наталья Сергеевна влезла в суконное пальтишко с плешивым воротником, повязалась шерстяным платком и взяла кривую палку, лаковую от времени.
Клюкой своей она очень гордилась. В молодости, курсисткой, Наталья Сергеевна ходила на поклон к Льву Николаевичу Толстому в Ясную Поляну. И там какой-то странник вырезал ей палку из сука дерева, росшего на усадьбе писателя.
Мы как-то спрашивали Наталью Сергеевну, как Лев Толстой выглядел. Она ответила: «Издали видела — мужичок с бородкой». А в литературе он великан!»
На улице мела поземка. Прохожие бежали согнувшись, пряча лица в поднятые воротники. Зима начиналась рано и обещала быть суровой. Покуда добрались до военкомата на Пушечную, мы с Женькой стали как сосульки. Губы не шевелились. Наталья Сергеевна едва ползла в своих «рыбьих мехах» да еще посмеивалась: «Холод полезен — бодрит! Не дает человеку расслабляться! Голод да холод обезьяну работать заставили…»
В военкомате столпотворение. Коридоры забиты призывниками — молодыми парнями. К военному комиссару очередь — здесь все пожилые степенные граждане.
Наталья Сергеевна вклинилась в очередь, мы за ней. С неудовольствием, но нас пропускали. Потом вышла осечка. Сутулый мужчина в армейском ватнике, подпоясанном брючным ремнем, читавший книгу, выставил локти:
— Станьте в хвост! О какой деликатности речь? Тут не театральная касса, не булочная, не карусель!..
Наталья Сергеевна ткнула брюзгу клюкой.
— Федор Федорович! Не узнаю!
Это был наш завуч. В школе его любовно и необидно прозвали Наш Федя. Он удивился и приподнял котиковый пирожок.
— Простите, Наталья Сергеевна! Вам-то чего в военкомате?
— В добровольцы хочу!
— Хоть бы в обоз третьего разряда взяли, — уныло вздохнул Федор Федорович, — боюсь, что пригоден только в богадельню…
Очередь зашевелилась. Из кабинета военкома вышли богатырь в толстых роговых очках, в длинной до пят кавалерийской шинели и военкоматовский лейтенант в кроличьей безрукавке.
— Я краснознаменец! У меня боевой опыт! Меня Подвойский знает! Я буду жаловаться Тимошенко! — грозился очкастый.
— Жалуйтесь вволю! — сказал лейтенант. — А Николай Ильич Подвойский сейчас с краснопресненцами на оборонительных работах… Могу дать адрес!
Наталья Сергеевна бесцеремонно протолкалась к лейтенанту. Он ее выслушал и, взяв под руку, увел куда-то по коридору.
— Да-а, — вздохнул Федор Федорович, — вон как! С орденом, опытом и…
Он грустно покачал головой и погрузился в чтение. Я заглянул на обложку. Это оказался русско-немецкий словарь.
Наталья Сергеевна ушла и как провалилась. Мы уселись на подоконник. Призывники голышом, прикрываясь руками, пробегали по холодному коридору, топая пятками и приговаривая: «Ух! Ух! Ух!», исчезали то в одной двери, то в другой. А кто стремился на прием к военному комиссару, несолоно хлебавши (Федор Федорович в том числе)) отправлялись по домам.
Наконец появилась Наталья Сергеевна и показала нам бумажку — квитанцию:
— Скоро колечко станет снарядом или ящиком снарядов! Я совсем не кровожадная старушенция, но если эти снаряды подобьют один танк или поразят хоть двух гитлеровцев, я буду довольна!
Кое-как, против ветра, доползли до Пушкинской площади. У витрины «Известий» перёд картой стояли люди. Красная линия, обозначавшая наш фронт, прогибалась жуткими углами к самой Москве с юга, запада и севера.
— Глядеть страшно, — сказал Женька.
— Ничего, мальчики, — вздохнула Наталья Сергеевна, — я не генерал, не командующий, но знаю — народ победить нельзя!
Шла вторая половина ноября. Немцы взяли Калинин, Истру, Яхрому, Солнечногорск, Венев, Богородицк, Михайлов. На Северо-Западном направлении им оставалось до столицы тридцать километров.
Глава четвертая Время больших надежд
1
Прибираем с Женькой в мрачной пыльной дворницкой, греемся махорочным дымом и на все корки ругаем управдомшу.
Клавдия Семеновна, всегда раскрашенная, как афиша, уговорила временно поработать дворниками, наобещала золотые горы: полушубки, рабочие карточки, а поднесла кукиш с маком. Оформила обоих на полставки. Получилось, что вкалываем мы вдвоем и в кочегарке, и на уборке улицы, а благ нам как полдворнику. Мало того, грозит, если рыпнемся «дезертировать с производства», упечет в трибунал.
Подмели сор, сидим на верстаке, горюем, вдруг вваливаются Илья и Сережка Тютя в материном пальто и валенках.
— Ребята! Победа! Ура!
— Какая победа? Где победа?
— Сообщение Совинформбюро — «Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы»!
Ну и отплясывали мы на радостях — дворницкая ходуном ходила.
Вскоре Сережка достал где-то карту европейской части СССР. Мы ее подклеили, повесили на пыльную стену. Каждый вечер собираемся, отмечаем обстановку на фронте.
Холодно, голодно, а настроение праздничное. Красная Армия наступает. Здорово получил Гитлер под Москвой: вместо парада вышел немцам драп-марш.
Илюха вспоминает скуластого капрала, говорит:
— Хотел бы я видеть его фашистскую рожу, небось скосоротился, аж зубы раскрошились!
Дни идут. Красная Армия громит немецкие дивизии. Мы верим, что победа близка, конец войны не за горами.
Минул декабрь. Наступил январь сорок второго. Морозы убийственные, под сорок. Люди бегут на работу утром, вздыбив воротники и обвязавшись шарфами. Чуть зазеваешься, щеки или нос так и ошпарит, будто крутым кипятком. Изо рта пар, как из самовара. Одежка, не успеешь из дому выйти, сразу дубенеет. Да и в комнате не юг. На стеклах изнутри наросло на палец льду. Спим одетые.
Мы с Женькой мерзнем зверски, но радуемся, что мороз помогает нашим войскам. Василий Иванович Ионов, сосед Тетюхиных, как-то подслушал наши восторги и сказал: «Глупый народ! Мороз никому не союзник, он и немцев гробит, и наших бойцов — не выбирает!»
Мы зовем Ионова кладовщиком. Он носит одну шпалу, капитан, и служит где-то интендантом. Мы его тихонько презираем, хотя дотошная Анна Степановна откуда-то вызнала, что он и на фронте побывал и был ранен. Длинный, мосластый, узкоплечий Ионов совсем не походил на военного. И еще была у него особенность — имел как бы два лица. Одно — вежливо-унылое, а другое — суровое, беспощадное. Это беспощадное выражение проступало, когда капитан задумывался. Пригреется у печурки, смотрит в огонь, покашливая, скулы каменеют, большой рот делается злым, глаза свинцовые. Жутковатое в нем что-то жило.
Сережка Тютя за Ионова заступался, говорил, что он очень хороший человек, не курит, не пьет и смирный. Сережка, как попка, материны слова повторял. Анна Степановна интенданта обстирывала, а когда он ночевал дома, готовила ему, и уж обязательно вечером нас зазовет на чай.
Раз Илюха, я, Женька и Сережка играли у Тетюхиных в подкидного. Кладовщик сидел на любимом своем месте у железной печки, подбрасывал щепочки, кашлял.
Мы шлепали пухлыми картами и обсуждали последние события. А они были важные. 26 государств подписали декларацию о сотрудничестве в войне против фашистской Германии. Присоединились к антигитлеровской коалиции Англия и США.
Тютя с Ильей говорили, что теперь дела пойдут «на курьерских», такой силищи Гитлеру не выдержать. Женька был настроен мрачно:
— Когда немецкие танки лезли через канал Москва-Волга, что-то ни Америка, ни Англия в друзья-помощники записываться не спешили!
Василий Иванович посмотрел на Женьку, ухмыльнулся.
— У них политика, парень… Тит, иди молотить! Спина болит! Тит, иди кашу есть! А где моя большая ложка?!
Интендант зашелся кашлем и, качаясь, придерживаясь за стену, ушел в свою нетопленную комнату.
В феврале морозы отпустили, повалил снег. Лепит день и ночь. Мы, дворники, встаем темно и ложимся темно. Устаем как цуцики. Фанерными скребками сгребаем с проезжей части улицы снег к тротуарам в плотные сугробы, потом вывозим корзиной на салазках во двор. Навалили гору, чуть не до второго этажа.
Иногда, одолжив у матери валенки, нам помогает Тютя. Работа идет веселее. Сережка — малый трудолюбивый и выдумщик. Раз говорит: чтобы было легче, давайте думать, будто мы не дворники, а зимовщики на Таймыре, срочно чистим площадку для самолета. Мне выдумка понравилась. А Женька взбеленился: «Замечательно! Тебя назначим Папаниным. Очень ты на него похож, только сопли от валенок отломи!»
Тютя обиделся. А я Женьку понял, отчего он злится. Проку от нашей работы для фронта нуль! Хоть лопни мы от усердия.
Дернуло же попасть управдомше на удочку. Хорошо хоть валенки выдала. Совсем новенькие, деревенской валки. Ноги в них как в раю. Муж и сын у Клавдии Семеновны на фронте, ну она и расщедрилась из своих запасов.
Но все это мелочи — и снег, и мороз, и десятипудовые салазки. Главное, что немцев отогнали далеко от Москвы, сражается геройски Севастополь, несокрушимой крепостью стоит окруженный голодный Ленинград.
Все личные беды и трудности отступают на какой-то дальний план. Живем ожиданием весны и лета. Живем большими надеждами.
В канун двадцать четвертой годовщины Красной Армии Народный комиссар обороны в приказе объявил, что недалек день, когда наша армия разгромит врага и на всей советской земле снова будут победно реять красные знамена.
2
Еще в начале зимы, убирая хлам в дворницкой, мы обнаружили под верстаком стопу кровельного железа, жирно смазанную солидолом. Она и родила мысль о «буржуйках», то есть печках-времянках.
Почему эти печки назывались «буржуйками», я не докопался. Мать тоже невразумительно объяснила. Мол, еще в разруху после гражданской войны люди их так прозвали. Греются возле печки-самоделки и говорят: живем по-буржуйски.
Ну ладно. Правильно или не правильно объяснение, суть не в этом. Главное, что мерзли мы в дворницкой и на улице мерзли, и дома.
Нашли в ящике ножницы, раскромсали лист и приуныли. Не знаем, как соединительные швы делать. Решили клепать. Нарубили проволоки. К вечеру, сбив в кровь пальцы, сочинили какое-то чудовище. Смотреть было тошно.
— Эх, Кольки нет, он бы сразу скумекал, — вздохнул Женька.
Я согласился — Колька сумел бы. А где его взять? Утром к нему забегал — на двери замок. Соседка сообщила, что он уже неделю носа не показывал. Николай пятый месяц как слесарничал на заводе «Компрессор», по его словам — чинил какие-то насосы и частенько ночевал прямо в цехе. Тетка его, Марья Степановна, уехала в эвакуацию на Урал, а товарищ наш не захотел.
И вот, бывает так, лишь про него мы подумали, открылась дверь — и Косой собственной персоной перед нами. На макушке шапка из трикотажного меха, пальтушка в снегу, через плечо противогаз и торба. Рот до ушей, глаза веселые. И сразу с порога:
— Жрать хотите?..
Мы возмутились — вот дурацкий вопрос! Есть мы хотели постоянно. Колька достал из торбы буханку черного и банку настоящих мясных консервов.
— Вот здорово! Где разжился?..
— Не украл! Распечатывайте, я сам как волк!..
Намазали на ломти волокнистое мясо с жиром, едим, поглядываем друг на друга. Очень нам хорошо. Не только от вкусной еды, а вообще, что сидим вместе.
Жуем, вспоминаем Вову Хлупова и Митю, которые работают на лесоповале. Поели, конечно, не досыта. Горбушку и четверть банки мяса оставили Илье с Тютей.
— Чего изобретаете?
Печку…
— Карикатура это на Гитлера, а не печка!
Мы критику приняли без обиды. Что правда, то правда. Колька скинул пальто, раскопал в хламе лом, деревянный молоток-киянку — и пошла греметь. Ловкий человек. Ножницы, какими мы изуродовали руки, кромсают у него железо словно бумагу. Киянкой трах, трах, трах — шов как по ниточке. Не успели оглянуться, корпус «буржуйки» готов. А дверцу сварганил — залюбуешься!
— А трубу?
— Будет и труба!
— Тут еще железа «буржуек» на тридцать…
— Продавать, что ли?..
— Сказанул! Илье надо? Надо! Тюте! Наталье Сергеевне! Хлупову! Шурке Пикетовой… Ну и семьям фронтовиков!..
— Одобряю! — сказал важно Колька. — За неделю постараемся…
— А у кого паровое отопление?..
— Насмешил! У них пару только что изо рта!
Дом наш, угловой особнячок, выходивший одноэтажным кафельным фасадом с зеркальными окнами на Малую Дмитровку и Старопименовский переулок, со двора как-то хитро получился двухэтажным. До революции принадлежал он канатному фабриканту Красильшикову. Буржуй ли чудил или еще почему, половина особняка была на паровом отоплении, половина на печном. Военная зима уравняла всех. Холодище стоял у жильцов и с центральным отоплением и с печным.
С этого вечера производство «буржуек» пошло как по конвейеру.
Москвичи помнят эти железные печурки. Крепко они закоптили фасады домов — трубы выводились в форточки — много в них сгорело стульев, шкафов, этажерок и даже книг.
Возле них, короткого тепла, писались письма на фронт и горе делилось. Пекли на них дерунки — оладьи из тертой картошки, и тошнотики — тоже оладушки, но из картошки мороженой. Много было возле них передумано и пережито.
Когда пришла моя очередь и я установил в комнате на двух кирпичах на табуретке «буржуйку», размером с посылочный ящик, и сказал, что это Колькино мастерство, мать принялась превозносить его:
— Какой додельный мальчик! Все умеет, все может! Золотая головушка!..
Я не стал ей поминать, что про Кольку раньше от нее только и было слышно: «Бес и бес! Минуты без выдумки не может. Я бы на месте Марьи Степановны так бы его отхолила, так отхолила, сразу бы и самолеты и пароходы забыл!»
Отец же всегда за Николая заступался. «Технический ум у парня. Талант! И руки золотые!» У отца была бритва с перламутровой ручкой и звонким лезвием, на котором готическим угловатым шрифтом с одной стороны вырезано «Золинген», с другой «Гутен морген!». Отец бритвой дорожил. Рассказывал, что он нашел ее в немецком блиндаже на Рижском фронте и она служила ему и товарищам на германской и гражданской войнах.
У бритвы выкрошилось жало. Ни в мастерской, ни старик точильщик, ходивший по дворам с легким станком на плече, восстанавливать жало не взялись, а Колька вручную выточил щербины на оселке…
Печек из казенного железа получилось двадцать пять штук. Выбросили обрезки, подмели помещение. И тут заявилась управдомша с каким-то красноглазым человеком-хорьком, с ног до головы в черном хроме.
— Ребята, возьмите санки, довезете товарищу железо!
— Какое?..
— Кровельное!
Но от него в дворницкой даже не было запаха. Клавдия Семеновна перерыла все углы. Мы с Женькой ей помогали, стараясь поднять погуще пыль. И надо было видеть управдомшу, когда хромовый тип сказал:
— Не принимайте меня за фрайера, дорогуша! Я не подарю вам два кило сливочного масла только за красивые глаза!
3
Часов в одиннадцать вечера за мной прибежал Женька. С фронта приехал Иван Петрович и просил, чтобы я зашел к ним.
В комнатушке Комковых было не продохнуть от керосинового чада. Нина Михайловна жарила на керосинке картошку. Иван Петрович, краснолицый, широкий, чем-то непохожий на себя, наверное, потому, что во рту торчала трубка — до войны он не курил, — а может, из-за прически ежиком, резал финкой буханку круглого хлеба. На петлицах у него было три зеленых кубика — старший лейтенант.
На клеенчатом липучем диване клевал носом лейтенант, тоже краснолицый и большой, и лежала целая охапка оружия.
Иван Петрович поздоровался со мной за руку, стал расспрашивать про отца: где он воюет, что пишет.
Отец писал скупо, в месяц письмо. «Жив, здоров». Где он воюет, я не знал, знал только номер полевой почты. Подремывавший лейтенант сказал: «Это где-то на Украине… Тоже не мед. В степи как на блюдце!»
Когда картошка поспела, меня оставили ужинать. Перед едой выпили спирту. Понятное дело: Иван Петрович и лейтенант, которого звали Слава. Иван Петрович поднял чашку, сказал:
— За русскую пехоту!
Нина Михайловна добавила:
— И за артиллерию! За Игоря…
Иван Петрович нагнул голову и вздохнул.
— И за Игоря, конечно… Чтобы ему как в песне: «Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой…»
Нина Михайловна заплакала. Иван Петрович погладил ее по голове словно маленькую.
— Война, Нина! У меня тоже душа о парне болит, но я им горжусь!
— Суровый ты стал, жестокий! — упрекнула Нина Михайловна.
— Приходится, Нина! Но когда я посылаю своих бойцов в огонь, совесть моя перед ихними матерями чиста!..
Лейтенант Слава как-то сразу захмелел, начал вспоминать, как отбивали танковые атаки под Яхромой. Бестолково вспоминал, я только и понял, что танков было пятнадцать, несколько прямой наводкой подбили зенитчики, а остальных накрыла «катюша».
Под разговоры очистили сковородку и целую миску хамсы. Нина Михайловна снова принялась за готовку. Лейтенант Слава опять начал про танки, видно, они сидели у него в печенке. Иван Петрович сказал:
— Ну что ты заладил как про попа и его собаку, помолчи, я ребятам про Рокоссовского расскажу…
— За него выпить надо, — сказал Слава. — Командарм! Красавец! И умом взял, и ростом, и обхождением!
— Не перебивай, — попросил Иван Петрович, — нет у тебя, Славка, божьей искры на рассказы…
— Все у меня вот где! — Слава постучал кулаком по широкой груди. — До самого смертного часа, все до травинки, до снежинки!
— И у меня здесь, — сказал Иван Петрович, — и я это поле помню. Каждый окопчик, всех бойцов в лицо… От деревни две печных трубы да обмерзлый садочек, голый как скелет! Там батарея… Утром, чуть свет забрезжил, слышу — в лощине машины буксуют, обрадовался, думал, подкрепление… Глядь, из-за развалюх выходит командарм Рокоссовский и еще трое генералов. Этих не знаю. Докладываю командарму: рота такая-то, штыков столько, пулеметов столько, командир роты такой-то!..
Рокоссовский спрашивает, как настроение. Отвечаю: готовы умереть как один! Командарм вроде усмехнулся, поднял бинокль и долго смотрел на поле, на лес за ним, потом, протирая оптику, сказал: «Помереть для солдата дело обычное… Но вы, старший лейтенант, настраивайтесь на жизнь! Берегите людей — выстоять надо сегодня! Выстоять и — победить!»
Иван Петрович посмотрел слепыми глазами на нас с Женькой, большой заветренной рукой очертил полукруг, раздвигая стены комнатки.
— А свет над полем занимается холодный, немилосердный. И ворон летит низко. Перья у него в крыльях скрипят на морозе, как по железу. А где-то чуть слышно танковые моторы зашумели. И сердце у меня захолонуло и тоже стало железным!..
Нина Михайловна тихонько вытирала слезы. Лейтенант Слава пьяненько улыбался и кивал вареным лицом.
Тут керосинка начала чадить, гаснуть, и нас с Женькой послали за бензином. По нужде его жгли вместо керосина, подмешав соли, чтобы не вспыхивал.
Полуторка грязно-белого цвета, на которой приехали командиры, стояла в сугробистом тупичке у входа в подвал. Видать, на фронте ей здорово досталось: ветровое стекло в пробоинах, трещинах, кабина косо посечена пулями, в дверцах вместо стекол гнилые фанерки.
В кузове по углам привязаны на попа две бочки, валяется смерзшаяся солома, лопата с обломанным черенком, трос, кувалда. Попинали валенками солому и вытащили грязную брезентовую сумку. В ней моток провода, пакля и… в твердой, ящичком, кобуре «парабеллум». Нас так и затрясло. Нашли бы алмаз с лошадиную голову, так бы не обрадовались.
Обсудили на скорую руку, что с ним делать?
— Возьмем! — сказал Женька. — У них и так по арсеналу!..
Это было справедливое решение. У Ивана Петровича ТТ и автомат ППШ, у лейтенанта Славы такой же «Токарев» тульский и автомат, но немецкий, «шмайсер» называется. Конечно, «парабеллум» им лишняя морока.
Нашли под рваным сиденьем шланг, насосали ведро бензина. Женька потащил его домой, а я шмыгнул в дворницкую прихоронить пистолет.
Утром Иван Петрович с товарищем уехал, а мы занялись оружием. «Парабеллум» по устройству оказался прост, как детский пугач. В кобуре была еще запасная обойма.
— Ну, теперь держись, сволочи! — погрозил Женька.
Под сволочами разумелись шпионы и диверсанты. О них много разговоров было в очередях: там-то на чердаке застукали немецкого лазутчика, там в проходном дворе поймали. И мы очень надеялись отличиться, схватить шпиона и, естественно, получить медали. Но Тютя с Ильей подняли нас на смех, рекомендовали на помощь пригласить бабку Климахину. Она будет указывать, кто шпион, а мы делать ему «хенде хох!».
Толстая, похожая на пивную бочку с руками-ногами, бабка Климахина была знаменитостью в нашем доме. Бомбежек она не боялась. Потушила две «зажигалки», упавшие во двор, но чокнулась на шпионах. Отчудила раз, что все с хохота икали. Вечером Климахина стирала на общей кухне и повесила сушить над плитой двое трикотажных панталон размером с галифе. Утром их нет как и не было. Бабка без лишних слов за патрулями.
Мы застали на кухне столпотворение. Жильцы шумят, ничего не поймут. Патрули смотрят друг на друга, моргают. Климахина верещит: «Вечером были, утром исчезли! Кто взял?! Известное дело — диверсанты! Им для маскировки!»
Необъятные панталоны нашлись за плитой. Их туда Тетюхина отправила, чтобы не болтались над кастрюлями.
Ладно, смех смехом, а пистолет — вещь! На дежурстве засунешь его под пальто и никакие темные углы не страшны.
4
Простоял битый час за хлебом — матери на рабочую карточку 700, мне — на иждивенческую — 300 граммов, потом в овощном за картошкой, только через порог, мать тычет в нос бумажку, а сама заливается в три ручья. Сердце так и покатилось. Думал — извещение, что отца убили. Оказалось, повестка в милицию.
— Достукался, — рыдала мать, — вот под расписку с нарочным вручили, чтобы к десяти явился!.. Видишь, «экстренно» и красным карандашом подчеркнуто два раза. Говори, чего натворил?..
Ничего я не творил. И не мог припомнить. Правда, ворохнулась мысль: не пронюхали ли милиционеры про пистолет? Не должны! Про оружие знали Сережка и Илья. А эти ребята — хоть зубы рви живьем, хоть миллион давай — не скажут.
— Ума не приложу, — заявил я как можно равнодушнее и даже плечами пожал. — Может, по каким дворницким делам?..
— Сознавайся, балбес, — причитала мать, — сознавайся! Я пойду с тобой, а то расстреляют, как Мушкета!
Мушкетом звали толсторожего парня из соседнего двора, Витьку Понырина, из блатных. Надя Шигина рассказывала, что в октябре его и еще одного бандита расстреляли во дворе мехового магазина на Большой Дмитровке. Застали, когда они взламывали дверь в комиссионный.
Кое-как отделался от матери, побежал к Женьке. Ему повестки не было, но он тоже перетрухнул и дал мне инструктаж: на все вопросы отвечать — не знаю, не ведаю.
Совет хорош, но шел я на Каляевскую, как заяц в гости к голодному волку.
Заглянул первым делом в дежурку. Накурено, карболкой воняет. Дежурный пьет чай из котелка без ничего, зато крякает и отдувается по-купечески. На толстом носу пот, лицо глупое. Помощник дежурного австрийскую винтовку чистит, смотрит ствол на свет. В углу трое рваных пацанов: девочка с косичками и двое мальчиков. Девочка их из рук кормит хлебом. Они глотают не жуя, только пищат: «Маня, еще!»
Я показал дежурному повестку. Он глянул, принялся ворчать:
— Ясно ведь написано — на втором этаже, девятая комната! Грамотный, сам бы разобрался. Отрывают людей! Думаешь, мне делать нечего?
Поднялся на второй этаж, очутился в длинном коридоре. Пол грязный, в углу жестяная урна, как на улице, у глухой стены скамейка. Прошелся взад-вперед, а какая комната № 9, поди угадай. Дверей много, номеров нет. Наверно, для секретности.
Решился, заглянул в первую попавшуюся комнату. За столом человек сидит, на плечах пальто с барашковым воротником, подпер бритую голову кулаком, думает.
— Здрасьте!
— Закрой дверь, зараза, — ответил человек скучно, — вызову!..
Я выполнил указание и сел на лавку переживать. Раз так встретили, значит, дела мои плохи. Напротив, за дверью, обитой коричневой клеенкой, глухо тюкала пишмашинка. Потом перестала. Из комнаты этой вышла Надя Шигина, перетянутая ремнем, как оса. Лицо строгое, в руке бумаги. На меня не глянула. Дернула дверь к этому грубияну и начальническим голосом:
— Переярченков! Я твой почерк не разберу, он у тебя как пьяный забор!
Что ответил Переярченков, я не расслышал. Надя обернулась, и сердито воскликнула, и даже притопнула сапогом:
— Лешка! Чего прохлаждаешься?! А ну быстро!..
За клеенчатой дверью оказалось квадратное чистое помещение. У окна большой стол с черным «ремингтоном», какая-то тетка в дырявом шерстяном платке, приткнувшись с уголка, читала журнал.
Шигина подтолкнула меня в спину: «Иди! Иди!» Тетка поднялась и протяжно сказала:
— Лешка! Милый!..
Я даже попятился. Это была Глафира. В латаной шубейке, в подшитых валенках с кожаными высокими задниками, с провалившимися глазами, она показалась до того несчастной, что вместо того чтобы бодро и весело сказать: «Здравствуй, Глафира!» — я заплакал. Глашка тоже заплакала, и у Нади Шигиной губы раскисли.
Потом мы обнялись. Я чмокнул Глафиру в шерстяную макушку. Она ткнулась мокрым носом мне в ухо.
— Худой ты какой, — вздохнула Глафира, — даже пух на щеках!.. Едва тебя разыскала… Помню: Малая Дмитровка, а дальше выскочило. Догадалась вот в милицию заехать, спасибо Надежде Ивановне… Два часа у меня свободных, до двенадцати…
Часы на стене в футляре гробиком щелкнули и глухо начали отбивать. Было одиннадцать.
— Глафира, идем ко мне! Тут рядом… Илью увидишь, он дома, ему в вечернюю смену, Женьку. Мы, как соберемся, тебя всегда вспоминаем. Митя и Вова Хлупов на лесозаготовке… С Тютей познакомлю. Помнишь, рассказывал, как он на тополе на суку повис вниз головой?.. С девчонками, с Колькой Косым!..
— Нельзя, Лешка, то есть не могу я, — сказала Глафира, — и ты им скажи, я их всех помню и помнить буду… Давай вдвоем побудем.
— Идемте, ребята! Я вас устрою, — сказала Надя.
Глафира достала из-под стола котомку с веревочными лямками, и Надя Шигина повела нас в комнату, где сидел сердитый Переярченков. Она что-то ему шепнула, Переярченков взял палочку и, прихрамывая, заковылял к двери. С порога он как-то льстиво улыбнулся Глафире и сказал: «Рад был познакомиться!»
В комнате пахло черствым махорочным дымом. За окном стоял март, с холодным солнцем, холодным синим небом, а у меня было ощущение, будто я очутился в том душном августе — тревожном и длинном, как год, и разговор шел о тех днях. И вдруг меня пронзила мысль, ведь там уже полгода немцы! А Глафира в Москве?..
— Глафира, а где мать и отец?..
— Там, — вздохнула Глафира, — живы пока… Толстую Фроську помнишь — кладовщицу?.. Ее немцы прямо на крылечке застрелили, она красноармейцев раненых прятала. Школу сожгли, директора Григорь Григорьича повесили и председательшу… А отец старостой сделался…
— Как старостой! — ужаснулся я.
Глафира усмехнулась и стала глядеть в окно. На заснеженной крыше дворового флигеля сидела лохматая ворона. На шесте, привязанном к трубе, болтался на ветру обрывок антенны, а на проводах какие-то клочки бумаги и дранка — видно, останки летнего змея.
— Так надо, — не оборачиваясь, сказала Глафира, — верь мне!..
Вошла Надя Шигина с чайником и кружками, на бумажке слипшиеся леденцы.
— Вот вам чай! Сейчас галет принесу…
— Ой, господи! — как-то по-бабьи, почти по-старушеночьи, охнула Глафира, — памяти ни на грош! Не надо галет, ничего не надо!
Зубами она развязала веревочку, затянувшую горловину котомки, выложила на стол кусок сала в газетке, банку консервов, каравай деревенского хлеба, достала из кармана шубейки ржавый складничок, выточенный из косы. Надя от угощения отказалась, погладила Глафиру по плечу и ушла.
Заметив, что я внимательно рассматриваю просаленную бумагу — это была какая-то немецкая военная газета, — Глафира опять усмехнулась.
Мы пили чай, жевали пахнущее чесноком и уже с изрядной ржавчинкой сало, ели невкусные жилистые консервы, оказывается, тоже немецкие, а вот хлеб был русский. Оккупационный, как сказала Глафира, — из отрубей, с овсяными опасными занозинами и горошинами вместо изюма.
Меня мучила догадка. Я никак не решался высказать ее вслух. Лишь исподтишка разглядывал Глафиру. Она была такая же симпатичная, как летом, но — будто постарела. У губ сделались морщины, а между широкими бровями залегла гневная складка.
Когда она брала ножом мясо, я увидел на кисти левой руки розовый шрам.
— Пулей?..
Глафира нахмурилась и спрятала руку.
— Осколком. От своей же гранаты… Знаешь, чугунные такие — лимонки.
— Больно было?
— В горячке и не почувствовала. Это в октябре, я тогда со связистами из армии была в окружении под Вязьмой.
— А сейчас ты партизанка?
— Так уж получилось, — ответила и не ответила на мой вопрос Глафира.
— Бесстрашная ты, Глафира!
— Страшно, Леша! Ой как страшно, но надо! Конечно, в армии лучше и в отряде в лесу лучше. Там все свои, а тут ходишь, немцы на тебя смотрят, и сердце того и гляди через пятку выпрыгнет!
— Неправда, ты смелая!
— Никакая не смелая, как все!..
Тут в комнату вошел мужчина в суконном пиджаке с барашковым воротником, в заячьей шапке, лицо, как у ежика, в седой щетине. Отогнул рукав и посмотрел на часы.
— Машина ждет…
— Я сейчас, Василий Андреевич, — сказала Глафира и покраснела. А я глупенько разинул рот, узнав в небритом «кладовщика», то есть интенданта капитана Ионова. И он, разумеется, меня узнал, но не подал виду. И я не стал ломать голову, почему Глафира зовет его Василием Андреевичем, когда он Василий Иванович. Значит, так надо. Глафира завязала мешок, смела со стола крошки.
— Давайте присядем…
Мартовский день сиял за грязным стеклом. В коридоре кто-то разговаривал. А мы молчали.
— Ну, вот и все… Прощай, Лешка!..
Человек, которого я знал как капитана Ионова, поднял Глафирин мешок и вышел, сутулясь и покашливая. Глафира взяла меня обеими руками за лацканы пальто. В глазах у нее стояли слезы.
— Вы думайте обо мне… хоть изредка…
Две слезинки скатились по щекам.
— Ты туда? — спросил я шепотом.
Глафира закрыла глаза.
…В коридоре я увидел на лавке мать, она разговаривала с Шигиной. Рука об руку мы вышли на улицу. Ехали машины. Спешили по делам люди Реденько падала капель на солнечной стороне с карнизов. Двое мальчишек сбивали снежками длинную сосульку. На душе у меня было смутно и больно.
— Ну и скрытный ты, Лешка, весь в батю, — сказала мать, — я слезы проливаю, думаю, что его упрятали в тюрьму, а он с ухажеркой любезничает! Ладно, ладно, не фыркай, я пошутила. Я понимаю…
— Эх, мать, ничего ты не понимаешь! Мне стыдно! Вон я какой, ростом в версту, и отсиживаюсь в тылу, а она — девчонка — воюет! Игорь Комков воюет, а на много ли они нас с Женькой старше?..
— Они духом вас старше! — сказала мать и без всякого перехода добавила: — Чтобы ему, черту сухорукому и кривому, рыбьей костью подавиться и сдохнуть!
Я догадался, что это она про Гитлера. Кто-то матери сказал, что у Гитлера нет глаза и сухая рука. Она этому верила.
— И ты не спорь со мной! Нелюдь он! И вся его компания нелюди!
5
Уже два месяца идут бои в Сталинграде. Два месяца немцы, как бешеные, штурмуют город. Мы засыпаем и просыпаемся с одной мыслью, как там наши?!
Иван Петрович Комков через день ходит в военкомат и на медицинские комиссии, рвется на фронт. Лейтенант Слава — он теперь майор, комполка — прислал ему письмо из Сталинграда. «Воюем, Иван! Иной раз небо с овчинку, но держимся. Нет у солдат фюрера такой крепости духа, чтобы сломить дух наших бойцов!»
У Клавдии Семеновны, нашей управдомши, в Сталинграде убиты муж и сын, в один день. Зашла она к нам, моя мать ее обняла, обе заплакали.
Я ее едва узнал. Она всегда ходила веселая, губы накрашены, брови дугами, нарядная. А тут явилась старуха: голова трясется, из-под платка седые космы, щеки запали, глаза провалились.
У нас было немного водки, на карточки получили. Мать ее выставила на стол, мне велела поджарить омлет и очистить селедку. Сама Клавдию Семеновну раздела, усадила.
— Ей, Леша, надо обязательно выпить, умягчить сердце. Оно у нее сейчас черное, закаменевшее… Я, Лешка, не злая, но пускай наши слезы, наше горе немецким женам и матерям жестоко аукнется! Мы на ихнее не зарились и со своим уставом не навязывались, их сыновья и мужья пришли нас завоевывать. И нет у меня сейчас к ним жалости ни на ноготь!..
Клавдия Семеновна выпила стопочку, не поморщилась. Мать налила еще. И эту выпила, как воду. Потом собрала селедку в носовой платочек:
— Пошлю своим мужикам посылочку… Они оба солененькое любят… — Клавдия Семеновна хитренько захихикала. — Это бабка Климахина выдумала, что их убили. Она меня не любит…
Мне сделалось страшно. Через несколько дней Клавдию Семеновну увезли в больницу.
…Вставать утром не хочется. В комнате сыро, пахнет плесенью. «Буржуйку» топим газетами и моими прошлогодними учебниками. Хотя бумагу делают из дерева, тепла она дает нуль.
Нас заставляют холить в школу, но там тоже холодрыга. Все сопливятся и чихают, как заводные.
Чаще всего собираемся в дворницкой. Покуриваем, когда есть чего. Слушаем сводки Совинформбюро — Надя Шигина подарила нам репродуктор, Колька Косой моментом соорудил проводку.
Вчера, пятого ноября, передавали сообщение: «В районе Сталинграда наши части отбили все атаки противника. Уничтожено до 800 немецких солдат и офицеров. Защитники города показывают пример самоотверженной борьбы с врагом…»
Заглядывают в дворницкую Илюха с Митькой, редко, правда. У них сменная работа. Они чувствуют себя настоящими работягами. И издеваются над нами. Илюха не поздоровавшись сразу орет:
— Кто есть обуза для фронта?!
Усатый в тон ему отвечает:
— Обузой для фронта есть следующие личности: Комков, Андреев, Хлупов!
— Почему?!
— Не производят никакой продукции, кроме дерьма!
— К чему приговорим?
— Бить до слез!
После этого начинается свалка. Хотя нас трое, но Митька с Ильей всегда держат верх. Здоровые черти! Накачали мускулы на вагонетках.
Девчонок совсем не видим. Они хоть и немного постарше нас, но Ариша Пикетова хвастается, что ее Шурка заканчивает медицинские курсы и станет врачом.
А через неделю, зареванная, она принесла нам записку от Шуры.
«Ребята, дорогие! Так вышло нескладно. Домой не смогли забежать. Уезжаем с Мариной на фронт. Очень жаль, что вы нас не видели, какие мы красивые в военной форме. Будем вам писать…»
6
За окнами попархивают снежинки, а зима, похоже, только на крышах. На школьном дворе — грязь, в переулке — грязь. И настроение вот в такие серые дни грустное. На душе муть какая-то, ничего делать не хочется.
Вова Хлупов с Женькой затеяли еще на перемене «морской бой», начался урок, а они никак остановиться не могут. Наша старенькая учительница, Яна Ивановна, бубнит что-то про три пункта, куда едут с разной скоростью грузовик и паровоз. Ворона за окном пролетела, а снег повалил гуще. Интересно, где сейчас Марина с Шуркой?.. Молодцы девчонки! А мы троицей — Вова, я, Женька — чуть не каждый день ходим в райвоенкомат, и начальник второй части, капитан с протезной рукой, злится: «Не обивайте порог напрасно. Не пошиты еще для вас пилотки!»
— Андреев, к лоске! — доносится до меня голос учительницы.
И тут в класс торопливо вошел завуч Федор Федорович.
— Ребята! Девочки! Дорогие мои! Яна Ивановна! — обнял математичку. — Товарищи! Наша родная Красная Армия полностью окружила немцев в Сталинграде!..
Кажется, я первый закричал «ура», все подхватили.
После уроков собрались у Вовы Хлупова. Вовина мать, Светлана Николаевна, как угадала — испекла в этот день пирог с картошкой. Тоненько нарезала настоящей копченой колбасы. Вовин отец, летчик-испытатель на каком-то заводе, иногда присылал им свой паек.
В самый разгар пира бабка Климахина вызвала Светлану Николаевну в коридор. Вернулась та с заплаканными глазами, начала греметь в буфете пузырьками, накапала в рюмочку чего-то резко пахучего и как-то виновато посмотрела на нас:
— Ариша Пикетова без памяти… Шура погибла…
Был 550-й день войны.
Завтра мы снова пойдем в военкомат.
Новобранцы
Воскресенье без берега
Кажется, только что закрыл глаза, а команда «подъем» уже выдергивает из-под колючего одеяла с наваленной поверх для тепла шинелью.
Хотя бы еще минуточку, ну, пол минуты понежиться на твердой подушке, но прыгает с верхней койки Жигунов, уже в брюках, словно он попал в них на лету. С кряхтением напяливаю волглый ботинок, а второй никак не нашарю на привычном месте.
— Выходи строиться на физзарядку! — орет дневальный, и, вторя команде, заливисто свистит медная боцманская дудка.
На «средней палубе» — в широком проходе казармы — стоит, словно манекен в витрине Пассажа, что на Кузнецком, мичман Пертов, старшина роты. Пуговицы на кителе надраены до горячечного блеска, на щегольских брюках удивительная складка. Выбрит, ясноглаз, приветлив. Лишь дергается левая изуродованная немецким тесаком щека.
Ну, где ты, проклятый ботинок?! Под соседней койкой… Быстро затягиваю сыромятный, раскисший шнурок и выбегаю из опустевшей казармы. За мной трусит, зевая, шаркая всунутыми на босу ногу бутсами, Петька Осин и за ним отчаянный «сачок» Бехлов Сашка, пытавшийся прокемарить зарядку на чужой койке под видом сменившегося с ночной вахты дневального. Но нервишки, видать, не выдержали.
Мичман кивает ему приветливо, хотя от него ничего не укрылось. Вечером Бехлову наверняка придется маршировать на камбуз — чистить картошку. Норма для «сачка» — мешок. Картошка с грецкий орех, какими торгуют — рубль десяток — пацаны на любом углу города. Мешка хватает до утра. И вдобавок ходишь всю неделю с траурными ногтями и не отмывающимися пальцами.
Последним покидает роту Матросик, лохматый пес, наш любимец. Упражнений он не делает, но положенное на зарядку время терпеливо сидит на ротном крыльце. Матросик умница, служака и пройдоха.
На улице холодно. Январь! Зима добралась и сюда, на юг. Впрочем, какая это зима — одна слякоть. В заливе черно, от уток и гусей и прочей пернатой живности. В садах зеленая трава. Огромные акации и не думали сбрасывать листву. Вместо снега — дождь.
Запихиваюсь в тесный строй на свое место. Командир отделения Сироватко, рябоватый парень, злой, но отходчивый, по-отечески сунул мне кулаком в бок.
Начинает моросить. Мозглятина, наверное, зарядила на целый день. За крышами казарм видны круглые лесистые горы, с них шубой ползут к морю сырые тучи.
Накрылось у ребят увольнение. Особенно у «женихов». Девчонки не придут — не дуры таскаться по дождю. А кроме пляжа да тесных духанчиков на горластой базарной площади, где торгуют кислым вином и пахнущими дымом шашлыками, в городе деться некуда.
Дождик припустил сильнее. Мы ежимся. Командир нашей третьей роты, длинный лейтенант Чимиркян, по пояс голый, посмеивается.
— Моряки, моряки! Сохраняй выправку! Осин, что как ржавый гвоздь согнулся?!
— Хо-о-олодно, товарищ литинант…
— Сейчас согреемся!
Не знаю, как все, но ребята нашего отделения недолюбливали этого сухопарого лейтенанта. И побаивались…
— Сми-и-ирно!
Грудь колесом, подбородок вздернут. Эх, жизнь флотская!
— Напра-а-во!
«Гак! Гак!» — четко грохают каблуки.
— Бего-о-о-ом, — поет ротный, — марш!
Полтораста пар ног, обутых в тяжелые, розового цвета, американские башмаки на толстой подошве из какой-то странной кожи, промокающей, как рыхлая бумага, дробно бухают по каменно убитому плацу, по лужам. Вдох-выдох, вдох-выдох…
Круг, третий, четвертый… Команда перейти на шаг, затем остановиться и разомкнуть ряды. Начинаем упражнения. Дождь кропит по спине, по лицу, но нам уже тепло. Отличная штука — зарядка! Вялые мускулы наливаются бодрой силой, голова свежеет. И небо будто становится выше, светлее, а день грядущий даже сулит какие-то радости.
Рядом со мной старательно приседает, делает наклоны, выпады сухой, весь скрученный из жил, и мускулов, Валя Жигунов — мой приятель. Сзади сопит белобрысый, похожий на отмытого поросеночка, Саша Бехлов.
— На завтрак макароны с говяжьим фаршем и кофей, — говорит он под счет упражнениям. — Рубанем! Повеселимся!
Интересно, откуда успел узнать? Хотя при его возможностях… Все коки, баталеры, хлеборезы, завы и замы по продчасти у него приятели и земляки. Даже заведующий столовой главный старшина Чайкин, бывший борец, с широкой грудью и бабьим пронзительным голосом, благоволит к Сашке.
Бехлов любую свободную минуту отирается на камбузе. То помогает наряду поднести продукты от склада, то перевешивает с баталерами мешки с крупой. И все в угоду своему мамону. Очень любит Сашка плотно, как он говорит, «почавкать».
После завтрака — личный осмотр. Командиры отделений проверяют чистоту тельняшек, «гюйсов» — так мы называем синие матросские воротники, — пуговиц, ботинок, поясных блях. И мичман Пертов тут как тут. Неряхам приходится худо. Наряды вне очереди раздаются торжественно, как медали.
Лично у меня все в порядке. А первые месяцы казалось, что вся служба моя морская будет состоять из сплошной драйки ротной палубы тяжелой шваброй, чистки картошки и мытья жирной посуды в сырой и жаркой посудомойке…
Осмотр закончен. Минутный перекур — и снова построение на занятия. И так каждый день с шести утра до одиннадцати вечера, до отбоя. Все под команду, все по минутам, под голосистую боцманскую дудку. Но сегодня воскресенье, и учеба только до обеда. После полудня — увольнение на берег.
— Ты погляди, погляди! — шепчет Жигунов.
Мимо строя движется процессия: Сашка Бехлов с медицинской книгой под мышкой и его «корешок» Осин. У Сашки походка старческая, дряблая. Ноги едва волочатся. На курносой щекастой физиономии страдание. А Петька, худой, длиннорукий пацан с лицом острым, как нож, поддерживает ладонями живот, тихо постанывает.
— Ну и гад! Ну и сачок! — возмущается Жигунов. — Это же не подсвечник, а целый канделябр!
Подсвечником, а вернее, «подсвешником» окрестили Сашку еще дорогой.
Нас было двести пятьдесят стриженных «под нулевку» шестнадцати-, семнадцатилетних мальчишек, всеми правдами и неправдами, добившихся раньше срока призыва в армию. Мы ехали в часть куда-то на Кавказ. Наши вагоны часто подцепляли к разным составам и подолгу задерживали на узловых станциях, пропуская эшелоны с боеприпасами, самолетами, танками, пушками, укрытыми зелеными брезентами «катюшами». В открытых дверях теплушек, свесив ноги на улицу, сидели веселые бойцы, а в хвостах эшелонов на платформах дымили на ходу полевые кухни.
Мы провожали красноармейцев завистливыми глазами. Мы завидовали их новеньким автоматам, обжитым вагонам и тому, что они едут на фронт. А нам до передовой, как обещал лейтенант Чимиркян — начальник команды, предстояло еще «хватить шилом патоки» в учебном отряде.
За Мичуринском, на станции со странным названием Избердей, будущий наш ротный командир «застукал» ребят, когда они резались в «двадцать одно». Метал банк Сашка Бехлов.
У Сашки на руке была корявая татуировка: «Нет в жизни сщастья», но в карты ему везло всегда, а в этот раз особенно.
На кону лежала внушительная куча мятых трешек и пятерок, шапки, шерстяные перчатки домашней вязки и даже чьи-то кальсоны.
Как появился лейтенант в вагоне, никто не видел. Он словно с потолка спрыгнул. Карты полетели на улицу, деньги и барахло по углам, а банкомета он приподнял за пыльный бобриковый воротник школьного пальто так, что у того вывалились из рукава пара тузов и бубновая десятка.
Всем, играющим и болельщикам, тоже досталось. Битый час мы утюжили ноябрьскую грязь по-пластунски на глазах базарчика возле станции, где старухи и девчонки торговали молоком, яйцами, горячей картошкой и бледными картофельными оладьями, которые почему-то назывались «христосиками».
Бабки нам не сочувствовали, а очень одобряли действия лейтенанта: «Ты их, командир, уму-разуму наставляй сурово — война, она не по карманам шнырять! Люди на фронте погибают, а они, — у-у, каторжники…»
Торговки почему-то принимали нас за арестантов.
После команды «По вагонам!» Витька Сидорин и Жора Аркатский, проигравшиеся вчера до копейки, слегка поколотили Сашку. Тот побежал жаловаться, размазывая по щекам кровь из расквашенного носа.
Лейтенант Чимиркян, как потом рассказывали, приложил ему к переносице мокрый платочек и утешил:
— Пустяки, Бехлов! Раньше шулеров били медными подсвечниками.
С его легкой руки Бехлов и получил прозвище…
«Больные» скрываются за дверями санчасти. Из ротной канцелярии выходит Чимиркян. Командиры взводов занимают свои места в строю. В затылок нам равняется четвертая рота.
Дождь перестал, выглянуло солнце, и голубое южное небо просочилось меж тучами. Ветер донес с рейда сирену канонерской лодки.
— Ро-о-ота! Смирно! Шаго-о-ом марш!
Рубим строевым, не жалея ни ног, ни подметок. Плац гудит. Следом грохает четвертая.
Между ротами идет отчаянное соперничество: у кого лучше строевая подготовка, кто лучше ходит под парусом, лучше в учебе по специальности. Даже в увольнении мы стараемся перещеголять друг друга шириной клешей, посещением запретных духанов и стычками с патрулями, «которые из пехоты».
— Раз! Раз! Левой! Левой! — подсчитывает Чимиркян. — Запевай!..
— Боцман в дудку грянет, земля, прощай пока-а! — затягивает наш запевала Сидорин. Слух у него как у дубового бревна, но голос здоровый.
Мы дружно подхватываем:
— «А море, словно в шутку, ударит под бока!..»
В учебном отряде у каждой роты своя строевая песня, доставшаяся от предшествующего выпуска. И в песнях мы тоже соревнуемся.
— «На родном борту линкора ввысь уходят мачты!» — тенорами взвивается четвертая. Парни там неуступчивые и любят держать верх.
Мы не сдаемся и налегаем на глотки вовсю:
— «Не подкачнется к нам тоска неважная!..»
Четвертая выкладывается до предела:
— «Я вернусь, подруга, скоро, не грусти, не плачь ты!..»
Соперники наши сворачивают на контрольно-пропускной пункт к воротам, торжествуя победу. Но мы в последний момент вырываем у них первенство, хотя визгливо, зато громко:
— «Ребята по морю гуляют всласть!..»
В казарме тишина, только шлепают мокро швабры по доскам и густо сопят Бехлов с Осиным. Работка им выпала до отбоя. Палубу надо надраить до морского блеска. Понятие это, конечно, условное, но если на белой тряпочке не останется следов грязи, когда ее потрешь по доскам, можно считать, что морской блеск достигнут.
В санчасти у них номер не прошел. Сашке уже было дали освобождение от занятий и нарядов на два дня — у него оказалась повышенная температура, подвел Осин: стал вынимать градусник из-под мышки — к ногам доктора упал пузырек с горячим кофе.
Ребята ушли в увольнение. Остался взвод, заступающий в караул, и которые «без берега», то есть я с Валькой Жигуновым. Воскресенье без берега мы получили за «блинчики». Не знаю, кто придумал эту моду, но считалось «шиком», выдрав из бескозырки каркас, растянуть ее стальной пружиной в плоский блин.
Мне тогда это безобразие почему-то казалось красивым.
Валентин затратил целый вечер, выпотрошил две бескозырки, и утром мы стали в строй на зависть всей роте» представляя, как через пару дней прошвырнемся по городу, получив увольнительные.
Лейтенант охладил наш пыл. «Блинчики» пришлось срочно демонтировать и вшивать каркасы на место.
Я устроился на подоконнике, читаю «Соленый ветер» — любимую книжку о море. Валька обложился нитками, лоскутками, ножницами — подгоняет кому-то по фигуре суконную фланелевку. Жиганов — знаменитость на весь отряд. Он здорово портняжит, вштопывает в брюки запретные клинья так, что никакой комендант не заметит. Талант его открылся неожиданно. Командир отделения Сироватко пропалил утюгом насквозь выходные брюки.
— Капут! В транце пробоина, — вздохнул Сироватко, человек бережливый, даже скупой, и выплеснул на тлеющую материю кружку воды. — Такие бруки! Такие бруки!..
От расстройства старшина первой статьи не выговаривал букву «ю», и руки у него тряслись. Жигунов достал где-то кусок подходящего сукна и так заштуковал дыру и заворсил швы, хоть в лупу разглядывай — не догадаешься.
На «чудо» приходил любоваться сам заведующий портновской мастерской Боря Зак, в свое время модный одесский закройщик, кривоногий щеголь в офицерских бостоновых брюках и штучном кителе.
— Краснофлотец Валя, вы гений! — восхитился Зак. — Сам знаменитый Паганини помер бы от зависти на ваши пальцы!.. Если вы пойдете ко мне в мастерскую, я образую из вас великого мастера…
Но Валька не захотел стать портным, даже великим. Он бредил морем и кораблями…
Много лет спустя счастливый случай свел меня с капитаном первого ранга Жигуновым. Мы хотя и с трудом, но узнали друг друга. Был товарищ в юности легким и стройным краснофлотцем, встретился мне грузный, с заметным жирком старший морской офицер с большим унылым портфелем и, наверное, солидной плешью под высокой фуражкой с золотым шитьем и бронзовыми листьями на козырьке.
Мы обнялись.
— Плаваешь?..
— Было и прошло… нынче в штабе… плаваю в бумагах…
Дальше разговор как-то не клеился. И вдруг я увидел на форменной тужурке «каперанга» тусклую пуговицу! Не совсем чтобы, но!..
— Краснофлотец Жигунов! — сказал я чуть в нос и слегка заикаясь. — Почему пуговка затуманилась?! Наверное, швабра о вас плачет?!
— Мичман Пертов! — засмеялся Валентин. — Черт возьми, похоже-то! А помнишь, как он нам…
— А ты помнишь?..
— А как нас песочили?..
— А сонный взвод?!
— А…
И вспомнили мы себя салажатами в красноносых ботинках, своих командиров и песню нашей третьей роты «Боцман в дудку грянет», и здесь же, на улице спели:
Не подкачнется к нам тоска неважная. Ребята по морю гуляют всласть. Над нами облако и такелажная. Насквозь пропитанная бурей снасть…Потом в какой-то тесной пивнушке крепко помянули Сашу Бехлова, Жору Аркатского, Веню Корюшина, Петю Осина и других наших товарищей, которым не довелось дожить до седины, как это посчастливилось нам с Вадькой Жигуновым.
А в то памятное воскресенье мы оба были без берега.
Погода на улице разгулялась. Солнце бьет прямо в окна. Дежурный взвод переодевается, скоро развод караула. «Сачки» яростно трут швабрами палубу. Я глазею в окно. Через дорогу, напротив казармы, расселись под деревьями шустрые ребятишки, поглядывают на роту и тоскливо кричат: «Моряк! Моряк! Купи орех! Купи айвушку! Есть непромокаемый папирос!»
«Непромокаемые» папиросы — это удивительно душистый табак самсун, набитый в кустарные гильзы из какой-то жирной бумаги. Она до того вонюче тлеет, что курить папиросы можно только с великого отчаяния; Мы приспособились ломать их и крутить козьи ножки.
…Перед вечерней прогулкой меня вызвал в коридор дневальный, Венька Корюшин. Вижу Женьку Комкова — он во второй роте, будущий сигнальщик. Мне показалось, что глаза у Женьки опухшие и красные.
— Пойдем за роту, посидим, — сказал Женька.
Я любил эти «сидения», когда мы, не торопясь, вспоминали своих школьных приятелей, учителей, знакомых, делились вестями из дома. Мы очень с ним дружили, а встречались редко. И не оттого, что привязанность наша остывала, — служба не оставляла времени.
Мы уселись за ротой у забора в темном уголке на мокрую скамью. Ветер посвистывал в макушках огромных акаций, подпиравших черное небо. Желтыми квадратами светились окна казарм. Стеклянно поблескивали лужицы на плацу. Иногда сквозь свет проносились мутные фигурки и исчезали в низком длинном строении.
Женька курил и плевался в темноту. Я думал, что у него неприятности, и не навязывался с разговором.
Дневальный, лопоухий Корюшин, вышел на крыльцо, слюняво посвистел в дудку и завопил: «Пииготовисся на виченюю по-о-улку».
— Давай сачканем! — предложил я.
— Давай, — согласился Женька. И вдруг, содрогнувшись всем телом, громко прошептал: — Мать пишет… Игорь убит…
— Как убит?! — глупо переспросил я.
Женька не ответил. Ветер туго гудел в сучьях над головой. В темноте помаргивали на клотиках учебных мачт белые огни — переговаривались световой морзянкой сигнальщики ночной вахты.
Возле казармы смеялись ребята. Рота строилась на вечернюю прогулку, а я вспоминал, как вошел запыхавшийся Игорь с двумя чайниками кипятка, сунул их на скамью и поманил нас в тесный тамбур. «Давайте прощаться! — огорошил нас Игорь. — Я на фронт!.. Маме я напишу!..»
Месяца через полтора он прислал первое письмо. Мы читали его взахлеб.
После Сталинградской битвы Женька получил не всегдашний треугольник с чернильным штемпелем «Воинское», а самодельный конверт. В нем, кроме письма, были три фотографии. Игорь сидел на каком-то ящике в одной гимнастерке и без шапки. Сзади было натянуто белое полотно, должно простыня. Ее кто-то придерживал — рука вышла на карточке очень отчетливо.
«Снимали для дивизионной газеты, — писал Игорь, — упросил фотографа сделать и для вас…»
Игорь здорово возмужал, только шея осталась такой же тонкой и кадыкастой. На гимнастерке у него был привинчен орден Красного Знамени и Гвардейский значок. На недавно введенных погонах красовались сержантские лычки. И вот…
Рота ушла на прогулку. У казармы дневальный Венька Корюшин докладывает:
— Товарищ мичман! На лавке сачки маскируются, давеча курили.
Поскрипывая ботинками, подошел мичман Пертов, в темноте чуть белело лицо под козырьком.
— У него брата убили, — сказал я. — Мы жили в одном доме, учились в одной школе…
Мичман молча повернулся и ушел.
— Теперь нас с матерью осталось двое, — сказал Женька и тихо заплакал.
«Сонный взвод»
Занятия в этот день начались немного необычно. Вместе с инженер-капитаном Голубевым, читавшим нам курс радиотехники, в учебный класс осторожно, бочком, вошел майор Приступ — начальник санчасти отряда.
Появление майора медслужбы вызвало в наших рядах легкое волнение, выразившееся в виде невнятного гула, словно поднятого роем мух. Но отсутствие свиты в накрахмаленных халатах с мельхиоровыми биксами и спиртовками, означавшими какую-то очередную прививку, всех успокоило.
Инженер-капитан стремительно, как он все делал, набросал на доске схему, и занятия начались. Меня вызвали первым.
Пока я безнадежно блуждал между катодом и анодом и нес ахинею, добрая половина класса уже спала. Майор Приступ достал из нагрудного кармана кителя блокнотик в клеенчатом переплете.
— Так, согласен, электроны устремляются с нити накала к аноду, что же следует дальше? — бросал мне спасательный круг преподаватель капитан Голубев.
— Дальше следует… катод, — тянул я, пуская безнадежные пузыри и оглядываясь на товарищей. — А потом следует… ну, это самое, которое…
Майор что-то ковырял карандашом в своей книжечке и с любопытством смотрел на спящих. Иногда он качал седой головой, но скорее с сочувствием, чем с укоризной.
Потом у доски очутился Быков, лобастый парнишка, который, по определению Сироватко, «витал всегда мимо устава». Под холщовой «голландкой», за ремнем Быков неразлучно таскал большую книгу, состоящую сплошь из цифр и математических закорючек… Каждую свободную минуту он листал ее, облизываясь и шмыгая толстым носом.
—. Он же чокнутый! — уверял всех Сашка Бехлов. — Мыслимое ли дело. Ну, был бы «Граф Монте-Кристо», а то арифметика!.. Мишка, сколько будет помножить триста семьдесят пять на двести восемьдесят три и разделить на семнадцать?..
Быков, не отрываясь от книги и, самое поразительное» казалось, не задумываясь, отвечал. Мы хватались за бумагу, вычисляли — получалось точка в точку.
— Во! Во дает! — восклицал Сашка. — Башка, астроном-лунатик!
Сашка любил Быкова, всячески опекал его, и надо было видеть, с какой почти материнской заботой заставлял надраивать пуговицы, помогал стирать робу.
Мишка был неряшлив и рассеян. Сначала его «исправляли», особенно командир отделения, а потом и он махнул рукой. Быков стоически переносил все внеочередные наряды на камбуз, вахты и дневальства.
Правда, дневальным по роте его назначили только один раз. И «математик» отличился, назвав капитана второго ранга, начальника штаба — лейтенантом. На «просветы» и величину звездочек Быков внимания не обратил, он руководствовался только числом.
«Кап-два» до того изумился, что, сняв фуражку, потрогал себя за затылок, любезно сказал дневальному: «Благодарю вас!» и ушел, стремительно развевая полами кожаного реглана.
Дежурный по роте старшина Кузьмин чуть не сел мимо, табуретки, плачуще приговаривая: «Ой, лихо всем будет! Ой, лихо!» Мишка пожимал плечами.
«Лихо» никому не было. Видно, начальство кое-что знало, и вскоре Быкова отчислили на какие-то курсы…
Когда лунатик-математик вышел отвечать, я с легким сердцем уселся на свое место. Мишка был любимчиком капитана. Голубев души в нем не чаял. Быков разбирался во всех процессах, словно сам жил внутри какого-нибудь конденсатора и ощупывал каждый электрон, о которых мы в то время имели такое же представление, как о загробной жизни.
Быков, хрустя мелом, рисовал какую-то схему. Голубев что-то усложнял в ней. Майор медслужбы что-то сосредоточенно писал. А мы спали. Кто откровенно, как Жорка Аркатский, кто вполглаза, маскируясь тетрадями и книгами.
В сон нас бросало на всех классных занятиях без исключения. Даже в «морском кабинете», уставленном прекрасными моделями знаменитых крейсеров и фрегатов русского флота. Даже во время рассказов участника Цусимы мичмана Тованюка мы погружались в клейкую дрему, словно нас укусила африканская коварная муха цеце, в самый разгар сражения в проливе, под грохот японских снарядов, начиненных разрушительной и вонючей «шимозой».
Конечно, дрыхли мы не оттого, что руководствовались пословицей — солдат спит, служба идет. Просто не втянулись в режим. Рабочий день с небольшими перерывами продолжался семнадцать часов, а наши юные организмы не справлялись с такой нагрузкой. Но мы были уже «задействованы» в войну, а она диктовала свои жесткие условия. Армия и флот требовали подготовленных специалистов.
Успеваемость в третьей роте была низкой. Командиры и преподаватели нервничали. Дисциплинарные меры в борьбе со сном ощутимых результатов не приносили. Тогда против спячки выступила медицина. Понятно, мы-то об этом ничего не знали.
Мишка и майор Голубев оживленно дискутировали. Валя Жигунов, он сидел напротив доктора, сражался с дремотой из последних сил, зевал как плотва в сухом ведре. Я смотрел в учебник радиотехники, а видел мать. Она строчила на разболтанной машинке «Зингер» заплатку. У нее было усталое, оплывшее к подбородку лицо майора, и она говорила: «Если ты будешь драться с Вовой Хлуповым, внеси добавочное сопротивление… Конденсатор в пятьсот микрофарад…»
— Встать! Перерыв!
Голос дежурного по классу выдернул меня из бреда и яви.
В коридоре учебного корпуса топали ноги, раздавался хохот. Майор, вздыхая, засовывал блокнотик в карман. Жорка Аркатский, привстав со скамьи, опять плюхнулся на место и опять принялся раскачиваться и всхрапывать.
— Бедняга! — сказал майор Приступ. — Просните его, пусть сходит умоется… Это же не сои, это казни египетские!..
Жорку дернули за ухо. Он вскочил и четко отрапортовал:
— Я не сплю, товарищ инженер-капитан!..
Доктор изящно поклонился:
— Майор медслужбы, с вашего позволения…
Это была вторая «осечка» у Аркатского. Однажды, когда Жорка принялся выделывать носом трели, прислонившись к бухте манильского троса, мичман Тованюк легонько потряс его за плечо. Жорка вскочил и радостно проорал ему в лицо: «Я не сплю, товарищ вице-адмирал!» Старый мичман развел руками: «Это было бы прекрасно!.. Но, сожалею, сожалею!.. Начиная службу, я забыл положить в свой ранец маршальский жезл!»
Мы ржали, а Жорка потом рассказывал, что ему в это время снилось, как вице-адмирал Октябрьский, командующий флотом, награждает его орденом. Вообще-то Аркатский никогда не ошибался. У него был метод — только его неудержимо начинало клонить в сон, он «заводился», несколько раз повторяя про себя: «Я не сплю, товарищ…» и дальше воинское звание преподавателя или инструктора, ведущего занятие. «Пластинка» всегда срабатывала безотказно.
Мы с Жигуновым пытались овладеть ценным приемом — не получилось. Главное было в том, что Аркатский спал с открытыми глазами. Для нас это оказалось недостижимым.
К вечеру стало известно, что майор Приступ побывал и в других учебных подразделениях. В роте запенились слухи. Был даже такой, будто набирают «водолазный десант» для высадки в Босфор.
Все стало по местам, когда начальник штаба учебного отряда зачитал приказ о сформировании сводного взвода, командиром которого временно назначался майор медслужбы Приступ. Опять возникли слухи, но отчетливые — «спятиков» доктор будет лечить сном. Взвод тут же окрестили «сонным».
Счастливчики, попавшие в него, улыбались. Им откуда-то стало известно, что ложиться спать они будут на час раньше, а вставать на час позже. Из нашего отделения в список попали Осин и Аркатский. Они ликовали. Однако жизнь сурово нарушила их радужные мечты.
Мы, вкусно покряхтывая, залезали под грубые одеяла на жесткие матрасы, казавшиеся мягче лебяжьих перин, а майор Приступ строил своих подопечных, и они, топая, как табун лошадей, бежали на берег моря. Поднимались они за полчаса до общей побудки и опять мчались к соленой воде, сверкая розовыми ботинками и голыми коленками, делая на бегу упражнения.
«Сонный взвод» просуществовал две недели. Трудно утверждать, что именно он помог избавиться от спячки и вялости на занятиях, но какая-то положительная идея в его сформировании была. Дремали «салаги» на занятиях уже от случая к случаю, и то соблюдая самую тщательную маскировку. Да и в службу и в режим мы уже втягивались. Распорядок дня не изменился, но появилось свободное время, и еды стало хватать, и уставать стали меньше.
Неожиданная весточка
Только заступил на дневальство, прибежал рассыльный из штаба: «Андреев, срочно до комиссара!» Сашка Бехлов, которого я сменил, висел грудью на подоконнике в умывальной комнате и амурничал с одной из девчонок, которых мы презрительно звали «детсадом». Правда, рожица у этой была смазливенькая, но из-за одних только бантиков в косичках лично я и близко бы к ней не подошел.
— Сашка, держи дудку и повязку, — сдернул я его с подоконника, — меня Косяков вызывает…
Бехлов сразу же забыл про свою толстушку за окном, пристал ко мне как банный лист — для чего, мол, меня вызывают-то, в чем провинился… А я и сам ничего не знал. Но понимал — высокое начальство по пустякам вызывать не станет. Я волновался и, обозлившись на настырного приятеля, огрызнулся:
— Орден, наверно, дадут…
Храбриться-то я храбрился — как говорится, «давил флотский форс», а душа мандражила. Майор Косяков по пустякам салажат не ругал, но и добреньким не был. И если вызывал на личную беседу, значит, случилось что-то серьезное. Но у меня, как я знал, особых грехов, кроме слабой успеваемости по приему «на слух», не было.
— Не ломай голову, — посоветовал Аркатский, — не съест!..
Кабинет у замполита был тесный — не в пример генеральскому и поскромнее, чем у начальника штаба. Без ковровых дорожек, без чиновной симметрии. В углу — простенький канцелярский стол, четыре разномастных стула, старое кожаное кресло. На стенах большие карты — Европы и европейской части СССР, густо исчерченные цветными карандашами. На тумбочке, застланной чистой бумагой, приемник «телефункен», на одежной вешалке — с вытертой вороненостью ППШ, кожаный планшет и «люгер» в деревянной кобуре.
Я доложился, как положено, по форме.
— Вольно! — разрешил Косяков. — Садись, куда нравится. Хочешь — в кресло… Правда, в нем в сон кидает — я его даже побаиваюсь…
Замполит прошелся по кабинету, закурил и тут же ткнул папиросу в железную баночку. Я чутко уловил, что он нервничает, и насторожился.
— Я вот по какому вопросу тебя вызвал, Андреев, — тихо сказал он и помолчал. — В анкете ты написал, что отец у тебя пропал без вести…
— Написал, товарищ майор. Как было сообщено, так и написал. А по-настоящему — он убит. Похоронен на станции Плетеный Ташлык…
— Откуда известно, что убит и где похоронен?
Я рассказал Косякову про последнее письмо отца, которое я скрыл от матери, и приписку в нем. Пускай думает, что отец пропал без вести, ей так легче…
— Правильно ты поступил или не правильно — я тебе не судья, — согласился Косяков. — Но тут вот что… Из штаба партизанского движения получен пакет. В нем фотография и записка всего в три слова: «Передайте Леше Андрееву». Мы с генералом подумали — не от отца ли?..
Сердце мое больно сжалось: а вдруг!
— Ну, ну, крепись, моряк! — успокоил Косяков и достал из стола фотографию размером в пол-листка ученической тетради.
Чуда не случилось. Хотя это тоже было чудо — у телеги, груженной какими-то ящиками, стояла Глафира, засунув руки в карманы узкого мундирчика, и бородач в кубанке — с орденом Ленина на гимнастерке, перекрещенной ремнями. За ними виднелись вооруженные люди, несущие на плечах мешки, и силуэт «ЛИ-2».
Я сразу догадался, что фотографию прислал капитан Ионов по просьбе Глафиры. А бородач, что рядом с ней, наверное, командир партизанского отряда. Ишь как гордо смотрит… Стой! Да это же лейтенант Горобец!..
За окном моя третья рота, не жалея подметок, рубила по плацу строевым и мальчишескими отчаянными голосами орала: «Мы, моряки, горим огнем, в последний смертный бой идем…» А замполит Косяков, подперев красивую голову рукой, переживал вместе со мной смоленскую окопную страду, бомбежки Москвы, горечь разлук и потерь и радости молодого бытия.
Майор поглядел на часы и включил «телефункен». Сквозь треск разрядов близкой грозы прорывался голос диктора, перечислявший названия городов, освобожденных Красной Армией, количество пленных и трофеев.
— Это в Белоруссии, — заметил Косяков. — Широко наступаем! Думается, к победному концу дело. А как мыслят ясные умы третьей роты?.. Что у вас на полубаке — стратегия или студентка Люся?
— Гадаем, куда попадем после учебного…
На «полубаке»
С двадцати двух часов и до команды на вечернюю прогулку целых сорок пять минут выпадало на «личное время». Кто хотел, писал письма, читал, надраивал пуговицы, но большинство собиралось в умывальнике, большом помещении с длинными цинковыми желоба ми-корытами, над которыми были протянуты трубы с сосками.
Мы любили здесь собираться. Умывальник стал как бы неофициальным клубом роты. И ему даже дали название «полубак», совсем по-корабельному.
Особенно людно бывало на полубаке в ненастную пору. Здесь можно было курить, не соблюдать форму одежды, в обход запрета сделать мелкие постирушки и — самое главное — поговорить, сколько душе влезет.
Здесь любой мог проявить способности и в военной стратегии и как рассказчик, показать фокус и крепость мускулов, отжавшись на цементном полу бессчетное количество раз. Здесь раскрывались «таланты», велись задушевные разговоры и крикливые споры, что «линкоры уже пережиток, а надо душить фрицев подводным флотом!». Здесь вспыхнула чечеточная эпидемия. Ею переболел весь отряд.
Однажды краснофлотец Липец из четвертого взвода, ничем до этого не примечательный парнишка, вдруг «забацал» чечетку.
Мы разинули рты. Надо отдать должное, танцевал Липец красиво, виртуозно. Без всяких, казалось, усилий. Длинные его ноги в огромных розовых ботинках то сплетались веревочным жгутом, то циркулем разъезжались по корявому цементу, как по льду, а грубые подметки с железными подковами то гремели, словно барабаны в бешеном ритме, то шаркали, словно пришептывая, то нежно щебетали какой-то капризный мотивчик.
Любое дело, доведенное до вершин совершенства, обладает каким-то оптическим обманом, оно кажется со стороны исключительно легким. И с этого вечера начался повальный пляс.
«Бацали» в перерывах между занятиями, в карауле плясала бодрствующая смена, камбузный наряд разбивал казенную обувку в посудомойке. Плясали индивидуально и группами. В проходах между койками, в ротном коридоре. В умывальнике царило чечеточное столпотворение.
Когда мичман Пертов начал гонение на плясунов, они стали укрываться в парке, где мы занимались гимнастикой и штыковым боем. По вечерам оттуда доносился стук ботинок и подсчет: «Раз, раз, два-три! Раз, раз, два-три!»
Но вскоре чечеточная волна хлынула в отлив. Строй плясунов редел. То есть происходил естественный отбор. Упрямо «бацали» лишь единицы, натуры, вероятно, одаренные, упрямые и не боящиеся труда. Но «полубак» не опустел.
Наверное, со стороны любопытно было бы послушать, как «стратеги» третьей роты обсуждали сводки Совинформбюро и прогнозировали ход будущих наступлений — Генеральный штаб побледнел бы от зависти.
В общем-то эти мальчишеские рассуждения, как бы они ни были нелепы, строились не на песке. Начался сорок четвертый год, позади была битва под Москвой, Сталинград, Курская дуга. Только что полностью освобожден Крым.
Причастность, хотя и крохотная, к подвигу народа наполняла нас гордостью и… обидой. Кто-то сражался, а мы занимались нудной морзянкой, зубрили законы Ома и Фарадея вместо того, чтобы, перепоясавшись пулеметными лентами, ходить в атаки.
Разумеется, начальство об этих разговорах знало и пыталось как-то нейтрализовать «патриотические» настроения, мешавшие учебе.
Замполит майор Косяков не раз словно ненароком заглядывал на «полубак», его тотчас окружала толпа, и, если бы не команда на вечернюю прогулку, ему бы не выбраться из умывальника до утра.
Он был боевым офицером, тактичным и умным человеком. Рассказывая о боях, в которых ему пришлось лично участвовать, он ненавязчиво проводил мысль, что в войне высокая выучка и дисциплина, организованность являются главными факторами победы.
Рассказы его о схватках с немцами мы впитывали, как сухой песок воду, а «факторы» пропускали мимо ушей.
Мы любили этого щуплого майора с веснушчатым простоватым лицом деревенского парня, с какой-то подскакивающей походкой, хотя в нем не было ничего «морского» — ни строевой выправки, ни умения с шиком носить форму, ни командирского голоса.
Самый последний салажонок знал, что Косяков прошел Крым, рым и медные трубы.
В сорок первом он вывел группу краснофлотцев и пограничников из окруженного румынами Измаила и на рыбачьих лодках добрался в Одессу. В первом морском полку участвовал в обороне этого города. Потом дрался в Севастополе. Весной сорок второго участвовал в десанте на Керченский полуостров. Контуженного и раненного, его привязали к бревну два краснофлотца и переправили через пролив.
Но, наверное, кроме личной храбрости было у Косякова за душой еще что-то особенное, чего мы по мальчишеству не понимали. Однажды в увольнении мы с Женькой Комковым стали свидетелями интересной сценки. По улице, тяжело громыхая ботинками, шла в полной боевой выкладке рота морских пехотинцев, наверное, на вокзал. Все было на них новенькое — и обмотки, и заплечные сидора, и серые шинельки, коляные и необмятые, но все новое сидело на них складно, ловко. Сразу было понятно, что это бывалые служаки, которых во что ни одень, а с новобранцами не спутаешь.
Вел роту капитан, тоже в армейской шинели, но в морской фуражке. Вдруг в глубине строя кто-то крикнул пронзительно: «Полундра! Косяков!» Ряды смешались. Целая толпа бойцов бросилась к нашему замполиту с восторженными криками. Потом его несли на руках чуть не целый квартал. Потом капитан, будто ничего не случилось, подал команду: «Рота, смирно! Шагом марш!» Четко, как на строевом смотре, грохнули подметки. Кто-то запел высоким рыдающим голосом: «Нас в пехоту сражаться послали, беззаветных морских сыновей!..»
Грубые и торжественные голоса подхватили:
«Только мы бескозырки не сняли и не сняли тельняшки своей!..»
Чеканя шаг, чуть раскачиваясь в такт песне, рота уходила к вокзалу. С наивной, неподдельной тоской звучали суровые слова:
«А любимое море нас кличет, и мы видим в туманной дали, как проходят в победном величье после боя с врагом корабли!..»
Больше пота — меньше крови
— Вперед! Вперед! — несется над полем усиленная мегафоном команда. Мы бежим, стараясь не сбивать дыхания. Сырой песок пружинит под ногами. До «противника» еще далеко, нужно сохранять силы для решающего броска.
— Фланкирующий пулеметный огонь! — кричит в рупор ротный.
Цепь ложится, окапывается. Острая короткая лопатка с хрустом врезается в легкий грунт. Несколько движений — и готов мелкий, что корыто, окопчик. Можно передохнуть до следующей команды, уткнувшись потным лицом в прохладный песок.
Чайки скрипуче кричат над мутной прибойной полосой, взмывая и косо падая на угловатых крыльях к воде.
— Ориентиры — шлюпочный пирс и отдельное дерево! — раздается командирский голос. — Перебежками! По одному — справа, слева! Вперед!
Тактические занятия мы любим, хотя достается на них дай боже!
— Вперед! Вперед!
Едкий пот щиплет глаза. Тельник прилипает к позвоночнику, будто пропитанный до ниточки канцелярским клеем. Винтовка становится все тяжелее. Ловкая саперная лопатка все непослушнее. Живот, колени, локти промокли и саднят от бесконечных переползаний.
Наконец слышится команда на «большой перекур». Оружие моментально в «козлах». Ослабив ремни с подсумками, мы валимся на песок с пробивающейся кое-где острой травкой.
Краснофлотец Тарасов, пижонистый малый, с золотым зубом, вытряхивая из ботинка песок, брюзжит:
— Копаемся, как вороны в дерьме… Ну понятно, были бы мы пехтура! Но мы же полундра!
Мичман Пертов кисло жмурится. Я давно приметил, что старшина недолюбливает этого вертлявого парня, но старается сдерживаться. Мы тоже не жалуем «фиксатого» за его наглость и попытки всегда кого-либо унизить.
— Судьба — не книжка» в нее не заглянешь! — спокойно говорит мичман, нарочито не замечая протянутую Тарасовым пачку папирос. — Я на Тихоокеанском служил, в дивизионе «подплава» торпедным электриком и гадать не гадал окопы рыть, а в Сталинграде пришлось!
Мичман Пертов командовал в Сталинграде ротой автоматчиков. Наш отделенный Павел Сироватко был в этой роте рядовым.
С моря порывами налетает ветер, пропитанный солью. Море синее-синее. Но вот наползло на солнце облачко, синь исчезла. Море нахмурилось, как человеческое лицо. Волны загустели, стали тяжелыми. На прибрежных мелях они обрастают белыми гребнями. На зализанном песке, куда волны достают шипящими языками, вздрагивают хлопья пористой пены.
Наконец облако уползло к горизонту, и снова чередой бегут тугие валы — зеленые, голубые, синие…
Экономный Бехлов сворачивает цигарку и ехидничает: «У кого табачок — у того и праздничек!»
Жигунов «забивает» у него «сорок», я — «двадцать». Осину остается «десять» — окурок с угольком, только губы припечь.
Пайкового табака почти никому до конца месяца не хватает, и не считается зазорным «стрельнуть бычка» или попросить на скрутку. Не обращаются только к Тарасову. Раз Витька Сидорин, сам всегда щедрый, попросил у него докурить. Тарасов прищурился на Витьку, потом на папироску и щелчком запустил ее за забор. Не было сказано ни слова, а всем стало так гадко, будто каждому из нас плюнули в лицо…
— Разобрать оружие! — командует ротный.
Мы строим оборону: роем окопы полного профиля с выдвинутыми вперед пулеметными ячейками, с ходами сообщения в тыл. Работаем одержимо, словно вот-вот из окраинных садов, где зацвел инжир, вывалят вражеские автоматчики в коротких сапогах, с напиханными за голенища «пеналами», со «шмайсерами», упертыми откидными прикладами в живот…
Я уже в земле по грудь. Грунт как масло, хоть октябрятам копать. Слева от меня Сидорин, справа — Жигунов. Дело у него не ладится: выкинет пару лопаток и дует на ладони.
— Валька, не падай духом! — подбадривает его Сидорин. — Мужайся и преодолевай трудности военной жизни!
Но, как всегда бывает, призывать к мужеству легче, чем мужаться. Сидорин все чаще присаживается на край окопа и уныло бубнит:
— У меня спина в мыле. В ботинках даже пот хлюпает…
— Больше поту — меньше крови! — говорит подошедший мичман. — Солдатская истина не хитра, но мудра! Мозоли набил? Значит, не уважаешь лопату, и она тебя не уважает. Бери пример с Андреева — лопатой орудует любо-дорого посмотреть, как фронтовик!
Пертов уходит вдоль «обороны», а я, довольный его похвалой, наставляю Сидорина:
— Не суетись, лопаткой не мельтеши! Черпай грунт полно, не теряй. Черенок держи легко, но чтобы не елозил в руках, — не набьешь водянок…
Так учил нас на Смоленщине лейтенант Горобец. Где он? Может, и костей его не осталось…
— Уж больно ты сапер! — злится Сидорин, что я начинаю помогать не ему, а Вальке. — У тебя не окоп, а кривая могила!..
— А у тебя гальюн! — парирую я его подначку.
«Непутевый» Осин
В субботу нам показывали кинофильм «Оборона Севастополя». Там есть эпизод, когда моряки-черноморцы бросаются с гранатами под фашистские танки. В карауле в бодрствующей смене мы разговорились с Осиным об этом эпизоде.
— Мы будем сражаться не хуже! — сказал Петька.
Мне стало жутко. Я представил, как мои ребра трещат под стальными траками вражеского танка.
— А под танк ложиться страшно!..
— Страшно! — согласился Осин, — а если надо?.. Так я себе рот заткну, глаза закрою и брошусь!..
Я ему поверил. Петька был очень добрым человеком, весь нараспашку, всегда готовый прийти на помощь. Мог отдать последний рубль, закрутку табака, иголку с ниткой, отстоять вахту. И делал он это просто, без всякого насилия над собой и не выговаривая ничего в обмен. Но в нем сидел какой-то веселый проказливый бес, не дававший ни ему, ни другим покоя.
Раз перед побудкой он зашил штанины всему отделению (себе тоже) — кому левую, кому правую. Дежурил по роте главный старшина Кузьмин, человек пожилой, трусоватый. Призванный из запаса, он до войны плавал радистом на океанских сухогрузах и был специалистом высокого класса. Он занимался с нами передачей на ключе — ставил руку.
По команде «подъем!» мы дружно срывались с коек и чуть ли не на лету, почти с закрытыми глазами попадали в брюки и выбегали из роты на построение. На этот раз после команды вышла свалка. Кто ползал по палубе, кто прыгал на одной ноге, сшибая в тесном проходе других. Кузьмин схватился за голову и завопил: «Вы что творите?! Что творите?! У меня пятеро ребятишек, вы меня под расстрел ставите!»
Отмочил шутку Осин и во время прививки. Процедура эта проделывалась конвейером. Мы стояли в шеренгу, задрав на головы тельники. «Медбратья» шли с банками йода, мазали спины. Петьке лишь мазнули по лопатке ватой, он ойкнул и брякнулся пластом. Фельдшера перевернули его вверх лицом и чуть не взвыли. Глаза у парня были остекленевшие, а изо рта сочилась радужная, пахнущая мылом, пена. Осина, как бревно, руки и ноги у него не гнулись, положили на носилки и утащили в санчасть… Оттуда под винтовкой увели на гауптвахту на трое суток.
Павел Сироватко хотя и получил «разнос», был эти три дня умиротворенный и добрый, как человек, которого долго мучила зубная боль и вдруг наступил покой. А главный старшина Кузьмин, тот прямо сиял. «Я говорил, что этот фокусник плохо кончит! Говорил! И штрафной ему не миновать!»
Кузьмин никак не мог простить Петьке недавнего розыгрыша. На классных занятиях Осин был дежурным. Встречая инструктора, он подал команду: «Встать, смирно!», доложил, что присутствуют два отделения третьего взвода в количестве двадцати трех человек, больных нет, «нетчиков» нет.
Главный старшина машинально козырнул — словно муху согнал со лба. И тут раздался въедливый голос начальника строевой части Тукаева: «Товарищ главный старшина! Что это за отдание воинского приветствия?! Смирно! Не разговаривать! Не пререкаться со старшим!»
Кузьмин побледнел и взял под козырек, обводя глазами класс. Тукаева нигде не было. Мы едва сдерживали хохот…
Гауптвахта нисколько не охладила Осина. На занятиях по гимнастике он снова отколол трюк. В нашем взводе никто не отличался умением работать на снарядах, а Петька даже не допрыгивал до перекладины турника. Инструктор негодовал, приказал двум страхующим подсадить его, чтобы он сделал простенький переворот.
Осина взгромоздили на перекладину, он кувыркнулся и повис, как-то «завязавшись» на железной, отполированной до блеска трубе.
Инструктор опешил. В его практике такого не случалось. Краснофлотец висел вниз головой, беспомощный и жалкий, и лепетал: «Чего это со мной? Ребята, как же я теперь?» Мы пытались «развязать» Осина, выкручивая ему руки и ноги. Петька орал. Начали снимать турник с растяжек, но тут он сам «развязался» и упал на опилки.
Мы трое — Захаров, я и Бехлов — помалкивали. Петька трюкачил на снарядах так, что нашему инструктору и во сне не виделось. Он родился и вырос в цирке. Мать его была наездницей, отец гимнастом.
«Разоблачил» Осина лейтенант Чимиркян. Мы сдавали нормативы на полосе препятствий. Начиналась она с коридора из колючей проволоки, потом шел забор, за ним бум — длинное противное бревно на метровой высоте. Один конец у него был свободен и раскачивался, как пружина. После бума шел ров, преодолев его, следовало пробежать стометровку, с ходу забросить две гранаты в окоп и поразить два чучела штыком.
Самым трудным был бум. Редко кому удавалось добежать до конца бревна.
Полосу препятствий я лично прошел более или менее подходяще. Положил одну гранату в окоп, вторая перелетела цель и чуть не угодила в лоб Сидорину, подававшему гранаты обратно. Средне завершил штыковой бой.
У чучел стоял Сироватко с шестом, обшитым кожей, с кожаной бамбушкой на конце, похожей на футбольный мяч. Надо было по правилам штыкового боя отбить его удар и нанести чучелу укол. Левое поразить коротким, правое длинным с выпадом. Когда я фехтовал с командиром отделения, то зевнул и получил хорошую затрещину бамбушкой. Сироватко всегда требовал «реакции» и покрикивал: «Штыком бьешь врага, а не вилы в навоз суешь! Бей четко!»
Лучше всех полосу прошел Жорка Аркатский. А Осину не везло. Он повис на заборе, едва выбрался из рва. Бревно же вело себя как дикая лошадь. Оно мотало Петьку из стороны в сторону, поддавало его под каблуки и, наконец, сбросило. Взвились черные полы шинели, как крылья, и Осин, сделав полное сальто, с винтовкой и мешком за плечами, приземлился на ноги, плюнул на строптивый снаряд: «Оно же взбесилось».
Мы тихонечко хихикали. Чимиркян, прищурившись, смотрел на Осина. Лицо у него было строгое, но довольное.
Когда Петька, выставив винтовку от живота, словно кол, побежал к чучелам, мы возликовали. Сироватко наверняка приготовил хорошую оплеуху. А Осин вдруг бросил винтовку и с воплем «ура» прыгнул на шест. Командир отделения, не ожидавший такой прыти, упал.
Чимиркян вместо того, чтобы рассердиться, смеясь, сказал: «Осин, в ротную канцелярию! Остальным продолжать занятия!»
О чем шел там разговор, Петька не рассказывал, а чудить бросил. И почти каждое воскресенье мы смотрели свой цирк.
Последний раз Петю Осина видели в Секешфехерваре, когда прорвались немецкие танки. Узел связи грузился на катера. Петька был на борту мотобота, увидел, как по берегу катят на руках орудие, выдвигая его на прямую наводку, кинулся подсоблять артиллеристам.
Наверное, до сего дня у его родных хранится извещение со словами: «…пропал без вести…»
Наш матросик
Матросик достался нам от предшествующего выпуска вместе с песней «Боцман в дудку грянет».
В отряде у каждой роты была своя песня, а собака только в нашей. Рассказывали, что ее привез с собой новобранец Алтухов.
Первое время пес проживал на нелегальном положении, потом к нему привыкли, будто он обитал в отряде со дня его формирования. Когда краснофлотец Алтухов покинул отряд, Матросик остался в роте. И получилось так, что койка, под которой на старом байковом одеяле, сложенном вчетверо, спал пес, досталась мне.
— Ты вот что, Андреев, ты собаку не обижай, — сказал мичман Пертов, — от тебя и требуется всего-навсего вечером положить ему подстилку, утром убрать… Ты малый вроде добрый… Ты меня понял?..
— Так точно! — щегольнул я знанием воинского языка и приложил руку к непокрытой стриженой голове.
— Отставить! — приказал мичман. — И запомни, краснофлотец Андреев, честь не отдают даже маршалам: в бане, на стрельбище, в столовой и в том месте, куда и царь пешком ходит, и, понятно, если без головного убора! Укладывай тумбочку, заправляй койку!..
Матросик внимательно поглядывал то на старшину роты, то на меня. Глаза у него были большие, умные. Когда мичман ушел, пес лизнул мне руку, словно говоря: «Ничего, салага, привыкнешь!» Я почесал ему за ухом, он разинул пасть и блаженно вздохнул.
Мы с ним подружились. Ребята звали его «Наш страшненький раскрасавчик». Он и действительно выглядел не ахти. Туловище сильное, грудь широкая, ноги короткие и кривые. Морда похожа на посылочный ящик. Но все скрашивали глаза. Когда с ним разговаривали, чувствовалось, что он все понимает и мучается, не умея ответить.
Матросик участвовал с нами в тактических занятиях, первым выскакивал из роты по сигналу учебной тревоги и шел за строем. Не важно, какая была погода, дождь или мокрый снег. Он никогда не сачковал. Мы им гордились. Матросик украшал, а вернее, скрашивал наш суровый быт. Служба далеко не мед, и учебная программа по военному времени выматывала нас изрядно, и сна нам не хватало, и свободных минут, но, постигая жестокую науку, мы не теряли доброты. В мальчишеских сердцах наших всегда торжествовала любовь ко всему живому. Мы дарили ее Матросику.
Одно время, пользуясь дружбой Матросика, когда наш взвод назначали в караул, я приспособил безотказного пса в подчаски. Закутавшись в бараний тулуп и устроив в тепло приятеля, усевшись под навесом, где стояли шлюпки, я сладко дремал или предавался мечтам.
Чутье у пса было отменное. Стоило еще бог знает где появиться проверяющему или разводящему со сменой.
Матросик начинал возиться под овчиной и тихонько рычать. Но однажды вышла осечка. Посты проверял мичман Пертов, и собака даже не вякнула. Старшина роты всегда угощал Матросика сахаром.
С этих пор псу в караул ходить запретили. А в стенной газете появилась карикатура. Я сплю, свернувшись калачиком, а рядом с винтовкой стоит Матросик.
Собака доставляла нам немало веселых минут и огорчений, конечно.
Первые дни службы нам еще были кое-какие послабления. Старшина роты, разворачивая койку, задирал матрас дыбом, и приходилось заправлять ее снова, да и не раз, и не два. Потом, к вздернутому верблюжьим горбом матрасу, стали добавляться наряды. Понятно, это была не прихоть старшины, а наука аккуратности, призыв к дисциплине. Довольно быстро мы к этому приучились.
У старшины роты был глаз точнее любого ватерпаса. Сразу от входа он замечал любой горбик на койке. Матросик же, пока мы постигали премудрости корабельной службы, скучал в пустой казарме. А от скуки, как известно, существует единственное лекарство — сон. И пес спал.
Свободных коек всегда хватало. Кто-то находился в карауле, кто-то на камбузе. У Матросика была слабость, он любил спать на чистых, свободных постелях. Правда, он соблюдал субординацию. Он не дрыхнул на кроватях командиров и, разумеется, на койках второго яруса. Он отсыпался на нижних матросских койках. Беда же заключалась в том, что пес не заправлял после себя лежбища.
Но чего не стерпишь ради любимца! И мы терпели и замечания, и наряды на камбуз, и дневальство. Но однажды грянула гроза. В третью роту нахлынуло большое начальство. Матросик, выспавшись, справлял свои собачьи дела, а командиры, взирая на измятое одеяло, требовали наказания разгильдяю. Кровать принадлежала Тарасову. Взвод лишили воскресного увольнения. Ущерб был невелик. Все стерпели, лишь Тарасов взбунтовался. Он пошел жаловаться мичману Пертову, что из-за какого-то «кабыздоха» он страдать не должен.
Неизвестно, какой вышел разговор у него со старшиной роты, но Тарасов вышел от Пертова злой, как волк. В воскресенье после занятий мы завалились дрыхнуть. Вдруг в роту бомбой влетел Венька Корюшин и крикнул: «Ребята! В парке Матросика повесили!»
Мы еще не были в сражениях, но уже видели и бомбежки, и трупы, и людское горе, на которое щедра война. Все это принималось нами с чувством ужаса, жалости, сопереживания. Война огрубляла наши души, но не могла вытравить человечности. Мы любили жизнь и любили все живое.
Убийство Матросика мы считали таким же гнусным делом, как убийство старика, беспомощного раненого, доверчивого ребенка, подошедшего приласкаться.
Мы знали, кто повесил собаку. После отбоя Жора Аркатский вызвал Тарасова в умывальник. Мы хотели устроить ему «темную». Аркатский сказал: «Не надо! Я один! Так будет честно…»
Утром роту выстроили перед казармой. Начальник штаба отряда что-то сказал Чимиркяну. Жорка не стал дожидаться опроса. Четко, как на строевом смотре, он сделал три шага вперед. Чимиркян скомандовал:
— Мичман Пертов, отведите краснофлотца Аркатского в канцелярию отряда!..
Жорку увели. Мы ждали «морали», но никто из командиров не произнес ни слова.
Жорка содержался на гарнизонной гауптвахте под строгим арестом: горячая пища через сутки и по тыловой норме… Вернулся он оттуда худой, обросший по щекам голодным пухом. Мичман Пертов принялся через день «втыкать» ему наряды на камбуз. Мы понимали: старшина хочет, чтобы Жорка быстрее выправился отощавшим на гауптвахте телом.
Тарасов больше в отряде не появился. Мы его увидели во флотском полуэкипаже, когда нас распределяли в части. Он служил в кадровой команде — хлеборезом в столовой.
А Георгий Аркатский, наш неиссякаемый фантазер, не боявшийся отстаивать доброту хоть кулаком, — погиб.
Тяжелая пуля из винтовки «маузер» попала ему в бедро. Кусочек свинца в никелевой оболочке был уже на излете и затащил в рану волокна шинельного сукна. И Жора сгорел от гангрены.
«Аз», «буки», «веди» и т. д.
Военная служба мне нравилась. Но, дело прошлое, от специальности радиста воротило, и рвения в учебе я не проявлял. Попал я в группу «клоподавов» — так дразнили в отряде радистов — единственно из-за того, что имел восемь классов образования. Кто-то в кадрах заглянул в мою анкету и безапелляционно определил, кем мне быть.
Кажется, Декарт говорил, что ничто так не зависит от случая, как выбор профессии. Можно возразить: случай случаем, а прежде всего необходима воля, чтобы достичь желаемой цели. Я этого не отрицаю и даже ниже приведу факт.
А у меня воли, видимо, не хватило или применял я ее не так. Получив отказ на просьбу перевести меня в группу рулевых, мы принялись вместе с Валей Жигуновым (он просился в мотористы) строчить каждый месяц многословные рапорты о «списании» в действующую армию. Что из этого вышло, я расскажу в другой главе. А в этой речь пойдет о Веньке Корюшине.
Самым старательным в нашем отделении был Веня — длинный лопоухий парнишка. Сироватко всегда ставил его в пример.
Койка у Вени заправлена лучше всех в роте. «Гюйс» безупречно чистый, каркас в бескозырке на месте, роба наглажена, поясная бляха доведена пастой и суконкой до золотого блеска, огромные бутсы как зеркало, — брейся перед ними.
Когда он дневалил по роте, ребята чуть не плакали: на койке не посидишь, в коридоре закурить упаси бог, сорок раз пройдешь, мимо поста дневального, сорок раз козыряй.
Любое самое пустячное поручение командира отделения Веня бросался выполнять бегом. Мне тогда думалось, прикажи ему кто-либо из командиров прыгнуть с крыши ротного здания, он бы шмякнулся оттуда, не зажмурив глаз.
И еще Венька любил встревать в разговоры. Сидят краснофлотцы «у бочки», курят, хохочут. Травит любимец роты Жорка Аркатский. Вранье, конечно, самое дикое, но складно.
Венька слушает, разинув рот и сияя глазами. Когда фонтан Жоркиной выдумки временно пересыхает, почитатели сворачивают ему папироску, Корюшин ломающимся баском проникает в разговор:
— А у нас в Гагиной деревне!..
Какие знаменательные события произошли в рязанской деревне Гагино, Веньке рассказать не удавалось, потому что сразу же кто-то заканчивал:
— Была черная коза о семи сиськах!..
Венька был настырный парень, поэтому несчастная коза щеголяла даже в розовой шерсти с одним соском на вымени.
Ходил Корюшин всегда прямо, словно проглотив ручку от швабры, губы строго поджаты, беленькие, похожие на зубные щетки, бровки нахмурены.
— Чудной малый, — не раз говорил Валя Жигунов. — Пыжится, дуется, морщины на лоб нагоняет… Понимаешь, какой-то он придуманный!.. Будто в школьном спектакле третьеклассник наклеил ватную бороду и представляет Деда Мороза…
Тонкостей приятель объяснить не мог, но дальнейшие события показали: был он близок к истине.
Острый на язык Витька Сидорин дал Корюшину прозвище Живетя.
Радисты обучаются «морзянке» на слух. Это довольно трудно и нудно. Можно с ума сойти, пока начнешь соображать.
Инструктор Кузьмин отбивает медленно на ключе букву: точка — тире. Зуммер пищит на весь класс: «Ти-тааа…»
— Какой знак?
Бехлов отвечает:
— «Аз»!
«Таа-таа-ти-ти», — выдает ключ.
— «Буки»! — четко угадывает Сидорин.
— Краснофлотец Корюшин! Какой знак? — спрашивает инструктор и, неуловимым движением кисти нажимая на черную головку ключа, заставляет зуммер пропеть: «Ти-таа-таа-таа…»
— Получился знак «живетя»! — чеканит Венька.
— «Живете»! — поправляет инструктор.
— Так точно! — подтверждает Корюшин, — получился знак «живетя»!
Отсюда и родилось прозвище.
Но как бы там ни было, Венька учился отлично. Парнишка оказался не так-то прост, как выглядел.
Мичман Тованюк говорил: «За сорок лет на флоте я видел блестящих юношей, но такого понимания морской службы, такого желания служить я еще не встречал! Одарен!..»
Сейчас я думаю и уверен в этом, что у Корюшина «лежали в ранце» если уж не маршальский жезл, то адмиральские звездочки наверняка.
Солдатами не рождаются. Солдатами становятся. А генералом или адмиралом нужно родиться. Без божьей искры военачальником, как художником или композитором, не станешь.
И если бы не та проклятая мина, магнитно-акустическая с фотоэлементом, на которую наскочил Венькин катер в апреле сорок пятого, быть бы ему когда-нибудь адмиралом.
Не ладилось у него только с радиотехникой. И здесь была серьезная причина. Спустя время мы узнали, что у Вени только четыре класса образования. Что нам давалось более или менее легко, Корюшин брал штурмом, за счет сна и тех крох свободного времени, которые нам выпадали.
А тогда мы подозревали, что он примитивный подхалим и выслуживается, и устраивали ему розыгрыши.
За казармой были расставлены тяжелые не в подъем столы, насквозь пропитанные маслом. Здесь мы чистили личное оружие — винтовки образца 1891/1930 гг.
Среди нас были асы, с завязанными глазами в считанные секунды разбиравшие и собиравшие и пистолеты, и винтовку, и станковый пулемет. Некоторые ребята на гражданке ухитрились по нескольку раз пройти курс всеобуча при военкоматах. А Венька только осваивал «ружжо».
Однажды Корюшин старательно выдраил канал ствола, принялся за затвор. Работал он по-крестьянски обстоятельно и серьезно. Мы занимались тем же самым, исподтишка наблюдая за Веней.
Вот он собрал затвор, вложил его на место и по-уставному, придерживая большим пальцем пуговку курка, без щелчка спустил боевую пружину и озадаченно почесал жирными пальцами крутой, с двумя макушками затылок.
На белой тряпочке осталась лишняя часть. Венька тихонько оглянулся, вынул затвор, снова разобрал. Снова тщательно протер, смазал каждую деталь. Собрал. И опять оказалась лишняя часть — ударник с бойком. Корюшин вздохнул, подумал и снова взялся за разборку. Хмурясь и шепча что-то, он самым тщательным образом собрал затвор, а на ветошке поблескивала глянцевая от масла боевая пружина.
Венька засопел, оттопыренные уши сделались свекольного цвета. Мы едва сдерживали смех. Жорка Аркатский, — подбрасывавший Корюшину, которого мы в этот момент отвлекали, то пружину, то ударник от своей винтовки, — чтобы не заржать, полез под стол, вроде бы уронив ершик.
Веня разобрал и собрал затвор еще раз. А на тряпочке, как укор, лежал стальной боек.
— Товарищ старшина! — сопливым голосом закричал Венька. — У меня в затворе дяталь лишняя!..
Хохот стоял повальный. С КПП дежурный даже прислал краснофлотца-рассыльного узнать, в чем дело.
Три вечера подряд Жорка драил ротную палубу, а Корюшин сделался отрядной знаменитостью.
Все стало на свои места после стрельб. Венька «перестрелял» даже признанного снайпера лейтенанта Чимиркяна.
Командир учебного отряда снял с руки «кировские» часы и вручил их салаге перед строем. И надо сказать, что этой наградой наше отделение гордилось больше, чем Венька, правда, я раз подсмотрел, как он вертелся в умывальнике перед зеркалом, надувая щеки и закладывая руку на грудь, как Наполеон, чтобы было видно часы.
Последняя встреча
В город я собирался охотно. Даже побрился — второй раз в жизни, хотя нужды в этом не было. Занял у Жигунова одеколона. Чимиркян, раздавая увольнительные, предупредил: «Жоржиков» не изображать, в конфликты не вступать, но честь флота блюсти свято! На ходу не курить, при помощи двух пальцев не сморкаться!»
За ворота КПП мы вышли нарядным строем: белые чехлы на бескозырках, синие воротники, белые форменки, черные брюки. Через квартал от отрядных казарм строй распустили.
— Ты давай за билетами, — сказал Саша Бехлов. — Сегодня «Джордж из Динке-джаза» — дурацкая комедь, но сойдет. А я — за девчонками. Только не протрепись, что мы с учебного, говори — с кораблей…
Сашка отправился за подружками. Я, не очень надеясь на удачу, — за билетами. В городе работали два кинотеатра, а чтобы попасть на сеанс в воскресенье, следовало сделаться или кудесником, или генералом.
На базарной площади тихонько пошумливали духаны. В горсаду обиженно кричал маленький ишак, привязанный к зеленой скамейке. Хохлатые желтые удоды сидели на телефонных проводах. На припеке, возле столба с репродуктором, стояли люди, задрав головы к его черному квадратному рту, слушали сводку Совинформбюро, которую читал Левитан.
Войска Прибалтийского и Белорусских фронтов продолжали успешное наступление, в районах Витебска, Бобруйска и Минска окружены десятки вражеских дивизий…
Сообщение было радостным, но настроение у меня испортилось. Кто-то сражается, а я жру паек «морской-Б», зубрю законы Ома и Фарадея и вот, как на гражданке, иду в кино, будто война меня не касается. До того стало тошно на душе, что я послал Сашку с его девчонками к черту и поплелся в отряд.
Я уже сворачивал к горсаду, когда меня окликнули: «Эй, моряк! Погоди, черт длинный!» Меня догонял парень в байковом халате, в шлепанцах без пяток. Правую руку в гипсе он поддерживал левой, прижимая к груди, будто младенца.
— Ты не Андреев, случаем?..
— Ну, Андреев…
— Тогда, полундра, идем! Тебя дружок кличет!..
— Кто это?..
— Идем, идем, увидишь!..
Мы вошли в госпиталь через главный подъезд. В просторном вестибюле висели портреты Чайковского и Пушкина.
Несколько человек в серых рубахах с тесемками вместо пуговиц, в кальсонах сидели на подоконниках, курили и потешались над рыжим верзилой в коротком, выше голых колен, халате.
— Это самовольщик-пикировщик, — пояснил мой провожатый, — у него начальник госпиталя Семенова рубаху и кальсоны отобрала, а халат ему выдали лишь грех прикрыть…
В помещении пахло дезинфекцией. Широкая деревянная лестница вела на второй этаж. Пожилая санитарка-грузинка, старательно мывшая ступени, сунула нам под ноги тряпку и яростно закричала:
— Ногу тирай! Ногу тирай! Госпитал не духан!
Откуда-то появилась женщина-врач, в белой шапочке, белом халате, в хромовых ярких сапожках.
— Это куда, товарищ краснофлотец?
— В седьмую, — ответил за меня парень с гипсовой рукой. — Москвича приятель…
Врачиха прикусила губу, нахмурилась, потом разрешающе кивнула.
Седьмая палата оказалась квадратной комнатой с двумя окнами на улицу. В ней стояло пять коек. Посреди стол, на нем чайник, стеклянная банка с молоком. На табурете сидел одноногий плечистый малый, что-то писал. Некрашеные костыли лежали на полу. У глухой стены на койке кто-то похрапывал. А у окна на койке, опершись спиной на высокие подушки, подтянув одеяло до груди, сидел Вова Хлупов.
Я очень ему обрадовался. Мы поздоровались, Вова, криво улыбнувшись, сказал:
— Нечаянно тебя увидел в окно… Смотрю, вроде ты… Попросил ребят…
— Здесь и Комков, — порадовал я товарища, — на сигнальщика учится. Я на радиста, никак не дождусь, когда на передовую…
Одноногий, что писал за столом, выругался, поднял костыли и, громко стуча ими, запрыгал из палаты.
— Это Климов Ваня, разведчик, — сказал Вова, — вообще-то очень хороший человек… Тяжело ему…
Что-то в голосе Вовы мне не понравилось, но я не понял и по-дурацки стал жаловаться на свою тяжелую жизнь, искренне завидуя школьному товарищу, что он уже повоевал и ранен.
— Ну, как на фронте? Много фашистов побил? — сыпал я вопросами. — Наверное, скоро опять на фронт?..
Вова посмотрел на меня, и такая в его глазах была смертная тоска, такой крик, что я осекся.
Обметанные болячками губы Вовы задрожали. Он откинул одеяло.
Сразу никак не мог сообразить, что же это такое? Видел глазами две коротенькие культи, обтянутые бинтами, а мозг не принимал этого видения.
— Вот и все… А воевал я… И немцев не видел… Там деревня, крыши… А мы по снегу, по полю… бежим… бежим… Я и во сне по этому полю все бегу, бегу, бегу… Проснусь, а…
Как я вышел из госпиталя, как меня остановил патруль — не помню.
Вернувшись в роту, я лег на койку. Хотелось выть. Выть от тоски, от какой-то мерзкой вины перед Вовой за свои целые руки, ноги, толстую рожу. Даже глаза не мог закрыть, тотчас видел обрубленное короткое тело и старческие морщины на лице приятеля.
Вова был человеком мирным, но неуступчивым. Мы его любили за стойкость и честность. На него можно было положиться в любом случае.
Зимой Вова ходил в коротких брюках и с голыми коленками — закалялся. Но что-то у него не получалось. Коленки-то выдерживали самую лютую стужу, а вот с ушами не везло, они болели то и дело, даже летом.
Вова учился отлично. В классе его считали самым способным учеником. Особенно он сошелся с Игорем Комковым. Вова тоже мечтал стать командиром…
Я пошел к Женьке в роту. Женька слушал меня отвернувшись и вздрагивал, как от озноба. Я знал, о чем он думает. Он представлял себя безногим. Мы уговорились попросить у своих командиров на завтра увольнительные и сходить в госпиталь.
Нас отпустили без звука. Чимиркян дал две пачки папирос и сто рублей на гостинцы. Мы купили орехов, несколько айвушек желтых и твердых, словно из дерева, кувшинчик мацони и бутылку виноградного мутного вина, Чем ближе мы подходили к госпиталю, тем отвратительнее становилось у меня на душе. Я не мог, не хотел видеть белесые от горя Вовины глаза. Я всегда легче переносил свою боль, чем чужую.
— Женька, я не могу!..
— Не будь сволочью! Это же предательство!
Но чем и как мог я сейчас выручить Вову? Если бы можно было отдать ему ногу, я бы отдал.
Хохлатые желтые удоды сидели на проводах. На углу, как и вчера, возле столба с репродуктором, стояли, подняв головы к черному его рту, несколько человек, слушали сводку с фронтов.
Это был тысяча семидесятый день войны.
Подъезд госпиталя оказался запертым. Где-то в палатах играла мандолина. Мы посвистели в открытые окна, потом бросили камешек. Высунулась круглая голова. Высунувшийся сделал рукой какой-то знак и исчез. Мы подождали, подергали дверь и пошли во двор. Там с полуторки сгружали кипы белья. Здесь же была вчерашняя врачиха, но без халата — в форме. Она оказалась в звании капитана.
— У нас банный день, морячки, приходите вечером или завтра… Постой! Это ты заходил вчера к Вове Хлупову?..
— Так точно, товарищ капитан!
— В общем, больше не приходи… Его отправили… в другой госпиталь!..
— В какой, товарищ капитан?
— Не знаю!
Врач круто повернулась и ушла куда-то в пристройку…
Лишь много дней спустя удалось мне узнать, что ни в какой другой госпиталь Вову не отправляли… Он сам, вскоре после моего посещения, страдая не столько от физической боли, сколько от чувства непостижимого уродства, вскрыл себе бритвой вены…
Долго еще — даже после войны — будут мне сниться могилы моих школьных товарищей…
Пост у шлюпок
Небо посветлело, а на земле темнота сделалась гуще. Так всегда бывает перед рассветом. Далеко, на окраинной улице, закричал ишак. Ему откликнулся другой. Четыре часа. Скоро смена. Ишаки на Кавказе как петухи в России. Мы приноровились по ним угадывать время.
Я сижу на старом вельботе, вросшем в песок, держу меж колен винтовку и думаю, неужели прошло восемь месяцев? Будто вчера стоял в нестройной шеренге добровольцев во дворе райвоенкомата и тот самый капитан с протезной рукой, подтрунивавший над нами насчет непошитых пилоток, вычитывал по списку фамилии. И ребята выходили с котомочками из строя в команду «двести», команду «пятнадцать» или «сорок». Что скрывалось за этой нумерацией, никто из нас не знал.
Митю Попова и Илью вызвали в команду «двести». Вову Хлупова в «пятнадцатую». И когда он вышел из общего строя, так жалобно на нас оглядывался, что капитан сказал:
— Ребята, не от меня зависит… Будь моя воля, не стал бы вас разлучать.
И вот Вовы уже нет в живых. Попов с Ильей Цидельновым в Забайкалье. Женька на Дунайской флотилии» прислал одно письмо и как под воду нырнул. А вдруг и вправду нырнул! Жутковато становится от этой мысли. А что у меня впереди? Наверно, буду сидеть в радиорубке, что в скворечнике, и живого немца в глаза не увижу. Дернула же нелегкая попасть в «клоподавы».
Тишина. Чуть заметно дышит море. Обхожу дозором шлюпочные сараи, причал. Скорее бы смена. Спать хочется, аж рот раздирает зевотой. Ребята, наверное, в караулке поднялись и начкар, то есть начальник караула, главный старшина Кузьмин занудливо их инструктирует.
Вспомнил, как недавно отличился на этом посту. И все из-за Кузьмина. Когда ему выпадало идти начальником караула, он любил наводить на салаг страху. Выставит живот и пошел: «Товарищи, будьте бдительны на постах. Особо у шлюпочного пирса, не ровен час — заявится с моря диверсант и подымет шлюпки на воздух! Такие случаи уже бывали!»
Где бывали, Кузьмин не говорил. В диверсантов мы, конечно, не верили. Очень нужны им шлюпки, а потом, от фронта до наших сараев с причалом надо добираться самолетом. Бои уже шли в Венгрии.
Но одно дело не верить, а другое ночью одному, да еще шакалы целой бандой воют и плачут — мороз по спине. Тогда я то ли вздремнул стоя, то ли помечтал с закрытыми глазами немного, глянул, а он вылезает из моря на утоптанный волнами песок.
В руке у него поблескивал ножик. Я закричал: «Стой, кто идет?! Стой! Стой, стрелять буду!» Все по уставу, но залпом…
Ребята рассказывали, я садил из винтовки, как из пулемета. Когда начальник караула и бодрствующая смена прибежали к сараям, я и на них заорал: «Не подходи, стрелять буду!», хотя стрелять было нечем. Все пятнадцать патронов пошли на диверсанта. Он бездыханно лежал на песке, ногами в море.
— Крепко ты его, — похвалил Кузьмин и стал втыкать спички в пулевые пробоины, — три обоймы влепил! Но он, я думаю, неделю уже дохлый — воняет здорово!..
Ребята хихикали, но Кузьмин сказал:
— На посту лучше перебдить, чем недобдить. Я в кадровую, помню, у склада боепитания корову угрохал и начальство благодарность вынесло за четкую службу. Я рогатую скотину десятым патроном уложил, а Андреев пятнадцать пуль вогнал. Дельфин хоть и дохлый, но по габаритам — не корова. Это надо учесть!..
Уже совсем светло. Низко над береговой чертой пролетела стая чаек. Опять закричали ишаки. Разводящий ведет смену.
…В караулке духота. Кузьмин и разводящий Павел Сироватко сражаются в шахматы. Отдыхающая смена храпит на двухъярусных койках. Бодрствующая разложила на столе карту и «стратегует».
6 июня союзники открыли второй фронт — высадились в Нормандии. Сидорин, заглядывая в бумажку, отыскивает на карте занятые ими города. За два месяца они продвинулись порядочно. Жигунов измеряет ниткой — кому ближе до Берлина, нам или союзникам?
Сашка Бехлов, ему всегда все известно, критикует союзнические танки «шерман» за слабую броню и вооружение и превозносит американскую консервированную колбасу, которую будто бы в действующей армии нам будут выдавать каждый день по банке на нос.
— Сашка, у тебя весь ум в брюхе! — возмущается Жигунов.
— А вы гении, золотые умы, — отбивается Сашка, — сожрали вчера мой ужин, сегодня я на вас отыграюсь!..
«Стратеги» склоняются над картой, измеряют, высчитывают.
— Здорово союзнички нажимают, — говорит Сидорин, — молодцы! Открыть бы им второй фронт годика на два пораньше, а не отстреливаться яичным порошком!
Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, и мы чистосердечно радуемся успехам англо-американских войск. Мы не знаем, что германский генеральный штаб снимает с западного фронта десятки дивизий и танковых корпусов, бросает их против Красной Армии. Мы не знаем, что политиканы Америки и Англии, подталкивавшие Гитлера к нападению на СССР, вынужденные под давлением обстоятельств и своих народов объявить войну фашистской Германии, сейчас спешат спасти любой ценой хоть что-то от коричневой империи.
Мы не знаем, что до победы остался 271 день.
Сашка Бехлов и Жигунов, переругиваясь, моют термосы, собираясь на отрядный камбуз за завтраком.
— Интересно, а куда нас, салаг, растолкают? — думает вслух Сидорин. — Вот уж действительно мичман прав, что судьба не книжка, в нее не заглянешь!
Резолюция красными чернилами
Прямо с занятий нас вызвали в роту. Мы уже знали — к генералу.
В роте было тихо и скучно. Дневальный с сочувствием поглядывал на нас. Старшина первой статьи Сироватко угрюмо молчал, помогая мне раздувать утюг.
Отделенный был с утра не в духе. Ночью роту подняли по тревоге. Наше отделение построилось первым, а когда роту вывели за город, Чимиркян и начальник строевой части учинили проверку, оказалось, что наше отделение сплошь обуто на босу ногу.
К концу сборов Сироватко подобрел и, сидя на подоконнике, дал нам последнее наставление:
— Как войдете, четко под козырек! В нос не гундеть и не верещать, как баба, у которой сперли гусака, а по-флотски! Та! Та-та!.. Генерал страх не любит, кто кашу жует!..
В штабе нас встретил дежурный офицер. Он критически осмотрел нас, видимо, остался доволен внешним видом, но сказал что-то очень загадочное: «Ага… ну-ну…»
За дежурным, франтовато придерживавшим пистолетную кобуру на длинных ремнях, мы бегом (по-корабельному) поднялись на второй этаж.
В крохотной приемной стоял небольшой столик и несколько жестких стульев, со стен неодобрительно поглядывали на нас прославленные русские флотоводцы в густых эполетах.
Солнечный прямоугольник лежал на крашеном стерильном полу. Дежурный исчез за высокой клеенчатой дверью. Медные гвоздики поблескивали на ней, словно судовая клепка.
В раскрытое окно ворвалась песня:
Ты не плачь и не грусти, моя дорогая!.. Если в море утону, знать, судьба такая!..Четвертая рота возвращалась на обед. За черной дверью царила тишина. Минуты тянулись, как резиновые. Мы начали трусить.
— Сейчас он нам врубит! — шепотом сказал Валька, имея в виду начальника учебного отряда.
Я тоже боялся генерала, но он мне нравился. Высокий, стройный, ходил, опираясь на резную палку с тремя серебряными колечками, выкидывая резко вперед правую йогу. Лицо у него было мужественное, открытое. Чем-то он походил на моего отца.
А особенно мне нравился его голос — сиплый, но командирский, непререкаемый. Когда генерал говорил, лицо его делалось сизо-багровым. Мне казалось, только так должны разговаривать и командовать бывалые просоленные моряки.
Наконец высокая дверь бесшумно распахнулась, появился дежурный, веселый, чем-то довольный, и сказал совсем не по-уставному:
— Ну, морячки! Приказ голов не вешать, а смотреть вперед!..
Мы четко перешагнули порог, четко отрапортовали.
Генерал стоял у большого стола, опираясь на неразлучную палку. Широкое скуластое лицо его было неприветливо, светлые выпуклые глаза смотрели на нас испытующе и пронзительно. Я вспомнил Валькины слова, и в животе стало холодно.
— Вольно! — приказал генерал после затянувшейся паузы. — Только орать не нужно, не глухой еще!.. А выправка хорошая… бравые военморы! Николай Васильевич, ты как думаешь?..
У окна на дубовом стуле сидел замполит Косяков.
— Рвутся на фронт, — сказал сипло генерал, — неукротимо рвутся!.. По четыре рапорта накатали! Они думают, у начальника отряда и у командования флотом только и дел читать ихнюю…
Генерал кашлянул, видимо проглотив какое-то крепкое сравнение. Косяков рассмеялся.
— Не злись ты, Иван Кириллович… Четыре — это вполне нормальное явление, я так считаю! Помнишь Шепелева? Тот — десять! Вот это размах! И ведь добился… Я таких людей непреклонных уважаю!
Мы взбодрились и переглянулись. Генерал, скрипя и пристукивая протезом, налегая на палку, прошелся по ковровой дорожке. Мне послышалось, что он чертыхнулся.
— По-твоему, нормальное явление, выходит? — поморщился генерал. — А когда с нас очень нормально командование требует на флот подготовленных специалистов?! У нас разнарядка. Все точней расписано, чем в аптеке! А они вот, вот эти самые военморы, учатся кое-как! Они же лентяи, клешники и «жоржики»! И через ихнее нерадение я получаю от командующего фитиль! Теперь им вздрыгнулось на фронт! Они мечтают, наверное, что маршал Жуков только на них и надеется!..
— Да нет, — возразил Косяков, — ничего они не мечтают… Учеба у них прихрамывает… Но я думаю, они совершенно нормально хвосты подтянут! Так ведь?..
Мы молчали. «Хвосты» подтягивать нам не хотелось, учиться надоело, а в словах генерала «они мечтают» была правда. Мы действительно считали, что наши персоны на фронте крайне необходимы и т. д. и т. п. Честно признаться, стыдно даже спустя много лет рассказывать о тех «подвигах», которые мы собирались совершить, попав на передовую.
— Товарищ генерал-майор! Разрешите! — Валя Жигунов вытянулся в стойке «смирно». — Я думаю, что флот не пострадает, если нас двоих спишут в батальон морской пехоты! Товарищ комиссар, я прошу поддержать наше ходатайство!..
— Скатертью вам дорога! — захрипел генерал и даже стукнул своей клюкой в пол. — Катитесь в пехоту, в летчики, в обоз на дерьмовую бочку, в танкисты, в парашютисты! Хоть в тартарары!
Мы возликовали. Косяков достал из кожаного портсигара папиросу, не торопясь, разминая ее, он с любопытством и доброжелательством смотрел на нас. Начальник отряда неуклюже сел на стул, согнул руками в колене искусственную ногу.
— Только вот я вам что скажу… Ничего-то у вас не выйдет! Война, ребята, я вам по-солдатски и по-отцовски говорю — не кто во что горазд! Война прежде всего — высокая организованность! Огромнейший и тяжкий труд, а не «уря!». И не грудь в крестах, а пот, кровь, смерть! И в данный момент командование поставило перед вами боевую задачу — овладеть воинской специальностью! И вы ее обязаны выполнить! А на ваших рапортах накладываю резолюцию красными чернилами — отказать!
Мы умоляюще уставились на замполита. Косяков посмотрел на генерала, и оба чему-то заулыбались.
— Николай Васильевич, ты не скромничай, — сказал генерал, — ты покажи военморам, покажи!..
— А что, вполне нормально, покажу, — согласился Косяков, — это мой рапорт… на фронт тоже прошусь, а это рука командующего флотом!
Поперек исписанной четвертушки бумаги размашисто, с угла на угол, пробежал жирный карандаш: «Считаю, такого рапорта не было!»
— А ведь какой у него опыт! — сказал генерал гордо. — Ведь он десантник с пяток до макушки!.. Но!..
Когда мы выходили из кабинета, слышали: «Как хочешь, Иван Кириллович, а во вторник время найди! И мундир со всеми орденами…»
Через день или два в коридоре возле поста дневального появилось объявление о комсомольском ротном собрании.
Я срочно помчался в прачечную к Вальке. Он готовился к воскресенью, накрахмаливая «форменки». Одним из пунктов в повестке дня собрания значился наш отчет об учебе. Хвастаться нам было нечем!
— Заболеть бы, — сказал Валька, — ты пощупай лоб, может, у меня температура с утра?.. Нету! И у тебя тоже холодный… А вдруг у нас животы схватило?..
— Вполне! — согласился я. — Может быть, у нас аппендицит?..
Но только мы нацелились в санчасть, нас перехватил Чимиркян. Врать ему не стоило. Лейтенант понял наш замысел.
— Надо смотреть правде в лицо, — сказал ротный, — трусость никому не украшала биографию!..
Собрание началось вяло. Командир роты выступил с небольшим докладом о ходе учебы, о строевой и тактической подготовке. Хотя Чимиркян многим «отдавил мозоли», а особенно прошелся по нашему отделению, все сопели и отмалчивались. Председательствовал Жорка Аркатский, но и он проглотил язык и только мямлил:
— Товарищи, кто хочет слова?! А, товарищи…
В углу сидели генерал и Косяков, украшенные боевыми орденами. Начальник учебного отряда морщился и рассматривал свою палку. Наконец он не выдержал:
— Не пойму! Где я, на поминках или на комсомольском собрании?!
— На собрании, товарищ генерал, на собрании! — заверил его Косяков. — Вот краснофлотец Бехлов слова просит!..
Сашка сразу вынырнул из-за чьей-то спины и, не моргнув глазом, заявил:
— Давно прошу! Желаю даже выступить! И про свое отделение, и про себя!.. Тут товарищ лейтенант намекал, что мы не отделение, а босяцкая команда! Категорически не согласен. И без портянок мы готовы были отразить врага! Вот если бы у нас винтовки без затворов были!..
Сашка всегда был щеголем. Даже смерть он принял отутюженный как на парад. Он погиб майским утром на Ангелинштрассе в Вене, неся патрульную службу. Бандит-власовец выстрелил ему в спину. Пуля прошла сквозь сердце и вышла из груди, сорвав с накрахмаленной форменки медаль «За отвагу»…
— Как учишься? — спросил генерал.
— Только на отлично! — ответил за Бехлова лейтенант Чимиркян.
— Тогда про портянки забудем, — сказал генерал и толкнул плечом Косякова. — Вот комиссар не даст соврать, мне раз пришлось в одних трусах командовать… И ничего, выдержали три атаки!..
Дальше собрание пошло как по маслу. От желающих выступать не было отбою. И мы с Валькой, притихнув, здорово стали надеяться, что про нас запамятуют. Не забыли! И так песочили, впору сквозь землю рухнуть до самого раскаленного ядра.
Больше всех ополчились на нас Витька Сидорин и ушастый Корюшин. Ну понятно, Витька — комсорг, а Вениамин куда полез?..
Хотя, положа руку на сердце, он выступал правильно. Просто тогда обидно было, сам держался на ниточке.
Валька верно говорил про бороду. Корюшин во флот пробрался по липовым документам. Ему шестнадцатый только пошел. Он подтер свидетельство о рождении, прибавил себе возраст и — в военкомат, благо ростом удался на ржаных пышках. На эту удочку военком и попался.
Примерно за месяц до собрания все всплыло. Веньку вызвал генерал, дал ему взбучку, но часов не отобрал, и мичман Пертов повез его в полуэкипаж, а оттуда должны были салаге вставить перо до самой Гагиной деревни. Не знаю, кто сжалился — оставили на флоте в порядке исключения.
— Товаришшы! Я с ними рядом на койке, согласно распорядка дня, погружаюсь в сон, — сказал Венька и посмотрел на свои часы, словно боялся пропустить время отбоя. — Оно, конешно, мне мамаша говорила, чужой секрет в одно ухо впустил, в другое выпусти, но это не тайна!.. Они что говорят промеж себя?.. Они шепчутся: пущай в штрафную, а на фронт! И рапорт пишут командующему флотом! Если мы все начнем писать рапорты командующим, что получится?..
Венька обвел всех строгим сухим взором и пожал плечами, вероятно не зная сам, что получится, если вдруг вся третья рота усядется строчить вице-адмиралу просьбу об отправке на фронт.
Косяков с генералом переглянулись. Командир учебного отряда хотел что-то сказать, но замполит положил ему руку на колено.
— Кабак получится, — зашептал кто-то громко.
Веня не принял подсказки, подозревая каверзу, пожевал губами и изрек:
— Вот у нас в Гагиной деревне…
— Была зеленая коза с одной сиськой в гармошку! — закончил во весь голос Жора Аркатский.
Собрание грохнуло. Хохотали все, генерал даже уронил палку.
Представительница мелкого рогатого скота пользовалась популярностью в ротах отряда и приучила многих, хвастунишек и любителей встревать в чужие разговоры, к «морскому порядку». Стоило рассказчику лишь заикнуться с превосходством: «А вот у нас…», как тут же выскакивала «коза».
В заключение выступил начальник учебного отряда.
— Мы, ваши командиры, гордимся вами, — сказал он, — мы гордимся, что вы патриоты, что вы беззаветно любите Советскую Родину!.. Большинство говоривших здесь правильно понимают свой долг перед Отчизной — это учиться военному делу! Отлично учиться! Мы с замполитом вчера подсчитали — за прошлый только месяц в штаб поступило триста рапортов с просьбами отправить на фронт!
Косяков заглянул в книжечку и поправил:
— Триста двадцать…
— Вот слышите, триста двадцать рапортов! И всем командование отказало! Но я хочу вам сказать вот чего!..
Мы вам верим! Мы принимаем каждый рапорт как свидетельство, что вы не салажата, а моряки! Не мальчишки, а зрелые мужи!..
По рядам прокатился тихий гул. Косяков, прикладывая руку к сердцу, сказал:
— Только просим вас, товарищи краснофлотцы, не пишите рапортов! Поймите нас правильно! Ваш день придет!
— Ваш день придет! — сказал генерал. — И кто знает, как сложится судьба военная… и кому из вас выпадет принять смерть в бою… Одно знаю и твердо верю в это — никто из вас не струсит перед врагом!
Генерал сурово и пристально оглядел нас, словно стараясь проникнуть в будущее.
— Я верю в вас, салажата!..
* * *
И вот — дождались…
Скучный асфальтированный двор, со всех сторон замкнутый окнами. Проездная арка, запертые ворота. Часовой.
Двор то пуст, то заполняется моряками. Это флотский полуэкипаж.
Нас, взвод радистов, выстроили возле «переходящей» роты.
Где-то бренчит гитара: «Ах, поцелуй же ты меня, дорогая! Как безумный, тебя я люблю…», а я думаю: ведь, кажется, вчера стриженный «под нулевку» в черт знает каком лапсердаке я стоял под осенним дождем во дворе райвоенкомата и жадно лупил глаза на бравого морского лейтенанта и молил бога, чтобы меня вызвали по списку именно в его команду.
Неужели уже пролетело девять месяцев?!
— Подтянись, салаги, — говорит Сашка Бехлов, — на горизонте начальство!
Через двор идет группа офицеров. Старшина переходящей командует «смирно». Петька Осин шепчет мне в затылок:
— Жорка-то каланча, так в глаза и лезет!.. Герой хренов, рад, что первый по алфавиту!..
Но вызывают нас вразнобой.
— Краснофлотец Сидорин!
— Есть, краснофлотец Сидорин! — отвечает Витька и выходит из строя.
— Краснофлотец Бехлов!
— Есть!
— Краснофлотец Андреев!
— Есть, краснофлотец Андреев! — Я беру свой туго набитый вещевой мешок и выхожу из строя.
На фронт
Вагон мерно потряхивает на стыках рельсов. Я сижу, вывесив ноги из теплушки, и радуюсь: я еду на фронт.
Команда, пополнение в морскую бригаду, в которую я попал, сборная, пестрая: человек пятнадцать тихоокеанцев, державшихся особняком; два сержанта из береговой обороны; человек пятнадцать выписанных из госпиталей морских пехотинцев, щеголявших в обмотках и лихо замятых бескозырках; толстый краснофлотец — музыкант с трубой, с которой он кухтался, как с малым дитем.
Эшелон тоже был сборный: в других вагонах ехали летчики-гвардейцы. Их «МиГи» с отнятыми крыльями стояли на платформах посреди состава.
В нашей команде, и наверное во всем эшелоне, я был самый младший. Ни мой клеш, ни чубчик, лихо начесанный на брови, никто всерьез не принимал. Только Меркурий Лищук, начальник команды, тяжеловесный, с волчьим загривком главстаршина, в стареньком кителе «хебе», уклеенном орденскими ленточками и нашивками за ранения, мимоходом спросил, откуда я.
— Плавал на броняшках! На флоте с сорок третьего! — отчеканил я начальнику.
— Солидно, но нескромно, — сказал Лищук и отошел распоряжаться погрузкой. А я покраснел. Сорок третий уже заканчивался, когда я получил повестку «Явиться… иметь при себе ложку, кружку» и т. д. На бронекатерах не плавал, а лишь на судоверфи выкрасил одному днище.
Из флотского полуэкипажа после учебного отряда я попал на ВСКа, что расшифровывается как «вновь строящиеся корабли». И прослужил там ровно одиннадцать дней. На двенадцатый меня отправили обратно в полуэкипаж, там я угодил под горячую руку формировки и, к своей великой радости, в эту команду.
Когда мы оборудовали нарами теплушку, один из морских пехотинцев, высокий плечистый парень с пшеничными усиками, взял надо мной шефство, поручив обменять на привокзальной барахолке кусок туалетного мыла и десяток камушков для зажигалки на бутылку водки.
— Будем корешами, салага, — сказал шеф, — со мной не пропадешь!
Я вырос на метр. У шефа на изжеванной, пропахшей дезинфекцией гимнастерке сверкали три «Красных Звезды» и «Отечественная война», погнутая, с облупившейся от пулевого удара эмалью. Но здесь появился Лищук и выразительно поднес ему к носу костистый кулак, поросший черными волосами.
У «шефа» сузились глаза, а рот под шелковыми усиками вытянулся в нитку.
— Ты сделай выводы, главный, — просипел он и начал обморочно бледнеть. — Я из триста шестьдесят девятого, отдельного, Керченского, Краснознаменного батальона!.. Я, Витька Ергозин!..
Дружки его — Шпак и Шпаковский, похожие, как близнецы, оттащили Ергозина в угол и что-то горячо зашептали, и он сделался скучным и тихим. Лищук взял мой сидор и забросил в свой угол.
— Запомните, морячки, молодой никому шестеркой не будет! Ясно?!
Мы подъезжали к Помошной, когда эшелон задержали на разъезде — начали пятить задним ходом и загнали в тупик какой-то разбитой станции.
Было раннее утро. Неживая тишина обступала станцию. Всюду из бурьяна торчали размытые дождями печные трубы. Видно, когда-то к станции примыкало большое село или поселок. Теперь лишь запущенные сады и толстые вековые осокори с засохшими вершинами напоминали о человеческом жилье.
На стене сколоченного на живую нитку барака красовалась табличка «Комендант». В открытое окошко сбегались провода. Внутри постукивал телеграфный аппарат. Рядом под плетневым навесом дымила плита и дивчина с могучей грудью и «парабеллумом» на поясе рубила никелированной саблей зеленую тыкву.
Лихие истребители немедля атаковали ее. Дивчина оказалась начальником станции.
— Коменданта нет! А я знать не знаю, и знала бы — не сказала, — отрезала начальница так сухо, что авиаторы увяли. — Когда надо, тогда и отправим! Гуляйте, хлопчики, гуляйте!
Летчиков сменила морская пехота. Неотразимые кавалеры в армейских штанах и застиранных тельниках пустились в такой дремучий треп, что железнодорожница плюнула.
— Ну вас к ляду! Несерьезный какой народ моряки! Вон летчики завалились себе спать!.. У меня Эльза пропала, а они регочут!
Герои Керчи и Новороссийска отступили на исходные позиции и полезли на нары, ворча, что они от сна опухли и скоро начнут помирать. Не унывал только музыкант. Он разложил папочку нот, намереваясь подудеть в трубу, но ему веско предложили заткнуться. Трубач оказался человеком, тертым жизнью, собрал ноты и куда-то исчез.
Небольшое оживление вызвала появившаяся на путях босая старуха в юбке из мешковины и такой же кофте, расшитой цветными нитками по вороту и рукавам.
— Ой, моряки-солдатики, якие вы молодые, якие писаные красавцы-богатыри, — запела она умильно и заискивающе. — Вы уж на старую не серчайте… Я чего хочу спросить, ай найдется якая свитка, али якой бросовый мундир, али обувка? Наготу босяцку прикрыть. Читвиро дивок у меня голопупы!
Ергозин послюнил желтые усики и сказал бабке, мол, надо, чтобы «дивки» пришли сами — он хочет на них «побачить», яки они гарны и задасты.
Бабка вздохнула: «Кобель ты усатый!» Лищук крякнул и так глянул на остряка, что Ергозин схватился за голик и стал подметать вагон.
Главстаршина вытащил на свет свой мешок, настоящий морской чемодан из парусного суровья с медными люверсами для шнуровки, и вытряхнул из него целую кучу барахла. Он отдал бабке два тельника, новый кусок портяночной байки, теплую фланелевую рубаху и полный флакон тройного одеколона. Старая, сладко жмурясь, понюхала пузырек и вернула: «Дивки и так прыткие, а я для дикалону старей старова!» Раскошелились и другие.
Через час из скучного оцепенения нас вывел пронзительный скрип и крики: «Цоб! Цоб! Цоб-цобе!», и слюнявый, мосластый вол с отбитым рогом вытащил прямо на путь огромную немецкую фуру. Она была полна мелкими черно-полосатыми арбузами и огурцами размером со снаряд от «сорокапятки».
Волом командовали двое стриженых пацанов в лищуковских тельниках с уже окорнатыми до плеч рукавами.
Они висели на них балахонами, почти до пяток, и были подпоясаны веревочками.
— Побачьте, моряки! Бабка Килина кавунов и огуркив вам дарует! — закричали пацаны и стали швыром сгружать их возле рельсов. — Мало если, еще привезем!
— А где же девки? — полюбопытствовал главстаршина.
Пацаны переглянулись и захихикали, закрываясь острыми локтями.
— А мы и есть дивки! Это бабка нас стрыгеть под хлопцив, чтобы вошей не водить!
В полдень в вагоне сделалось хуже, чем в парилке. Мы перекочевали на воздух, купались и стирали белье в мелком ставочке с тяжелой глинистой водой. Где-то неутомимо дудела труба. Ергозин плевался арбузными косточками и ворчал:
— Пока не поздно, утопить бы его в пруду вместе с гудком и сульфеджио. Не дай бог в один взвод угодим, в гроб загонит!
Время тянулось медленно. Стальная колея будто вымерла. За полдня тихонько просопел чумазый паровозик с балластными платформами да прошел пустой санитарный поезд. Постепенно наш эшелон погрузился в томительный сон.
Я ушел в сады. Они были изрыты траншеями. Валялись немецкие каски, коробки от противогазов, железные ленты от «МГ», рваные бинты. Из обвалившихся окопов несло трупным духом.
За рухнувшей водокачкой я наткнулся на старую могилу, огороженную проволокой и ржавыми спинками кроватей. Возле креста из двух дощечек лежал цветок колючего татарника.
В ограде на ленивце от «Т-4» сидела девочка в сарафане из солдатской бязи. Она качала чурбанчик, напевая и прикладывая его к груди, на которой прорисовывались сквозь смуглую от грязи кожу воробьиные хрупкие ребрышки.
— А це Титок, — сказала девочка, пестуя деревяшку, — братику мой, я родила. Сыротына я, тильки и родни у мене…
Девочке было лет пять. Босая ступня левой ноги обмотана тряпочкой, на тоненькой шее болтались бусы из ягод шиповника.
— Чья ты, девочка?..
— Своя…
— С кем же ты живешь?
— С народом… Он там! — доверчиво ответила девчушка. — У хати-землянки с бабой Килиной. А в цией могилке мой тато, я ему квиток принесла!
— Это же бурьян, татарник! Ты бы рвала васильки, ромашки. Вон их сколько!
— Ни-и! То дуже гарный квиток! Другие не гожи. Теи коза Эльза поедае, а его не може! Она тильки рот раззявит, а ей под язык шпылька! Она «ме-э-э» и как побегить! А мамо эсэсманы в неметчину угнали…
Подошла начальница станции, таща за рога мекающую бокастую козу. Девочка насупилась, пролезла сквозь оградку и, грозясь «Титком», куда-то ухромала.
— Серчает за цветы, — сказала железнодорожница, — я бы эту шкодливую Эльзу сама пристрелила, да на весь Плетеный Ташлык одна молочная скотина!..
— Как вы сказали? Какая эта станция?!
— Плетеный Ташлык… А ты чего побелел, морячок? — встревожилась железнодорожница. — Что с тобой?..
— Отец у меня здесь похоронен!
— Это могила сорок первого, — вздохнула железнодорожница. — Была и надпись — кто здесь лежит, фашисты ее уничтожили. И в степи за станцией безвестных могилок полно…
— Нет, отец здесь похоронен у водокачки. В письме было написано.
— Ну, значит, здесь, — согласилась начальница станции, — а девочка Нюрка придумала, что это могила ее батьки… Девчонку-то отступавшие красноармейцы Килине оставили, она всех сирот собирала… Ну, оставайся, морячок, поговори с отцом…
Возле обвалившегося погреба, где в крапиве валялся искореженный «максим», я увидел куртину колючего татарника. Обмотав ладонь полой «голландки», выломал самый крупный стебель с тугим пурпурным цветком и положил его рядом с девочкиным на могилу. В зеленой траве они сияли, как сгустки живой крови.
Когда я вернулся в вагон, Лищук внимательно посмотрел на меня, но ничего не спросил. Глаза у меня были заплаканы. Я забрался на нары в темный уголок. Морская пехота, заняв у летчиков домино, забивала «козла». Лищук штопал протершийся рукав кителя и пел:
Если ранят тебя больно, отделенному скажи, отползи назад немного, рану сам перевяжи…Голос у главстаршины был противный, словно гвоздем по стеклу. Десантники морщились, но терпели.
Незаметно я уснул. Мне приснилась наша тесная комнатушка. На столе возле швейной машинки лежал цветок татарника. На стуле сидел какой-то военный в боевых ремнях, закрыв широкими ладонями лицо. Но я узнал его и радостно крикнул: «Папа!» Военный, не отнимая рук, поднял голову. Из-под пальцев сочилась кровь. Он сказал что-то беззвучно, а я понял по губам: «Это дуже гарный квиток! Меня эсэсманы убили!» «Они врут!» — закричал я и проснулся.
— Вижу, мучаешься, я и разбудил, — сказал Лищук, — мне в духоте всегда страсти снятся. И тебе, наверное, примерещилось?
Я рассказал ему про свое сновидение, про давнее письмо от отца и могилу у водокачки.
— Будь она многожды проклята, эта война! — вздохнул по-бабьи Лищук. — Сколько горя, сколько беды принес нам фашист. — С минуту он сидел молча и неподвижно, потом деловито начал складывать в кисет свои швейные принадлежности.
* * *
Наш состав простоял в тупике до рассвета. А всю ночь мимо грохотали темные молчаливые вагоны и платформы, где под брезентом угадывались танки и орудия. Эшелоны с войсками шли один за другим — почти в затылок друг другу.
Где-то на фронте готовилось большое наступление.
Трудная работа война
Выглядываю из сарая. С соломенной крыши льет. Дождь лупит второй день не переставая. Два красноармейца-повозочные ловят в саду коня. А он будто с ними играет: подпустит близко, взбрыкнет и отбежит. Красноармейцы устали, ругаются. Один грозит: «Я тебя, фашиста, сейчас застрелю!» Конь насмешливо пофыркивает.
За голым осенним садом, сколько охватывает глаз, скучная равнина. Вдали селения, лесопосадки. Дальше все завешено непроницаемой хмарью. Оттуда несется размытый дождем пушечный гул. Там Будапешт.
Ребята почистили оружие, пожевали всухомятку, скучают. Оживились немного, когда проныра и добытчик Шпаковский притащил корзину крупных румяных яблок, Лищук тут как тут:
— Где взял?!
— Хозяйка подарила!
— Смотри мне!
Яблоки сочные, изумительного вкуса. В сарае хруст стоит сплошной, все едят. А я с трудом осилил лишь одно яблоко. Болят челюсти, болит прикушенный язык.
Позавчера на марше попали под бомбежку. Меня так шарахнуло комлыгой земли по спине, что только сегодня туман в глазах и звон в голове прошли. А Ергозина унесли в санроту и сразу увезли в госпиталь.
— Вот не повезло, вот не повезло, — горевал Шпак. — Ну в бою бы понятно, а то ни с того ни с сего — трах по темечку. Теперь мы его не увидим, теперь его по чистой наверняка!
Но сегодня кто-то разведал, что Ергозин очухался и просит выручки.
Шпаковский забрал корзину и исчез, словно растворился в воздухе. Это у него получалось как у волшебника. Стоит Шпаковский рядом, смотрит тебе в глаза, ты моргнул, а его уже и след простыл…
Ребятам яблоки надоели, расползлись по сараю — кто-то дрыхнет про запас, завернувшись в шинель, кто-то шуршит бумагой — пишет письмо. Лишь комвзвода мнет и мнет яблоки, будто завод по переработке фруктов, и на лице никакого удовольствия. Наш самодеятельный трубач восхищается: «Ну, товарищ главный старшина, и жрун ты!»
Лищук запустил огрызком на улицу в навозную пузырящуюся лужу, ухмыльнулся:
— Ты, Егор, жрунов еще не видел!.. Дай-ка мне на скрутку гвардейского…
Лищук скручивает толстенную «братскую» папиросину. Снова ревут штурмовики. Ребята переглядываются, понимают, что летчики не на прогулку вылетели в такую погоду — тучи ползут чуть не по земле. Видать, скоро и наш черед. Мы уже два дня стоим в этом большом венгерском селе.
Появился Шпаковский, грязный, мокрый — хоть отжимай. Шепчет: «Я «цундап» достал, поедем, Лешка, выручать Ергозина! Возьми у Шпака шинель и плащ-палатку».
…Шпаковский гонит мотоцикл по целине. Чудом удерживаюсь в люльке. Это не езда, а какая-то скачка. Навстречу нам по разбитой дороге идут войска, машины с боеприпасами — у них на бортах опознавательный красный флажок, — пушки, пехота в машинах и на своих двоих. «Тридцатьчетверка» тянет на буксире «студебеккер». А вот еще один, сползший в канаву. Несколько человек подсовывают под колеса бревна и доски, с десяток бойцов упираются плечами и руками в кузов: «Раз, два — взяли!» Мотор ревет на предельных оборотах. От мокрых шинелей валит пар.
— Трудная работа война! — кричит Шпаковский, свешиваясь к люльке. — А ты небось думал — одни ордена да подвиги?
Перекресток дорог. Ветер рябит лужи. Под навесиком две девушки-регулировщицы с карабинами за спинами. Скучные, унылые, некрасивые. Но только увидели Шпаковского, заулыбались, похорошели. Удивительный человек, кругом у него знакомые.
Шпаковский тормозит так, что у меня захватывает дух. «Цундап» разворачивается вокруг оси.
— Клава, Машенька! А вот и мы! Держите подарочек от Военно-Морского Флота!..
— Спасибо, Количка! — девчата любуются на красивый, в перламутре будильник. Шпаковский дает газу. Мчим по дороге, тоже разбитой, но свободной от войск. Слева в чахлом тополевом лесочке, насквозь просвечивающем, зенитная батарея. Пушки задрали стволы вверх, стерегут небо.
Справа какая-то усадьба. Железные крыши, большие окна. У ворот алебастровые львы — у одного отбита голова, из шеи торчит ржавая арматура. Вкатываем во двор, Шпаковский уверенно загоняет мотоцикл за сарай, где скособочился изрешеченный пулями желто-пятнистый «хорьх».
С двух крытых грузовиков сгружают раненых, укладывают, усаживают на длинную открытую веранду. Раненые усталые, серые от перенесенных мук и от этого все на одно лицо. Санитары и санитарки одних уносят или уводят в дом, другим говорят: «Потерпите, миленькие, потерпите!»
Распоряжается очередностью сестра, толстенькая, с кукольным симпатичным личиком и непререкаемой властностью. Но Шпаковский и ее чем-то обворожил сразу.
— Обождите минуточку, — сказала сестра, — приму раненых и разыщу вашего товарища…
Минуточка растянулась на час. Санитарные фургоны укатили. Раненых разместили по палатам. Мы со Шпаковским забрались на веранду, курим, слушаем, как шумит по крыше дождь.
Приходит накрывшаяся с головой шинелью сестра, расстроенная:
— Нету Ергозина, как провалился!..
— Сбежал?
— У нас не сбежишь, — строго гордится сестра, — у нас насчет этого железный режим! Наверно, где-то спрятался, в карты играют. Сейчас я их притончик найду!
Во двор вкатывает горбоносый «студебеккер» — король дорог — в кузове полно бойцов, накрывшихся брезентом. Из кабины выпрыгивает майор в кожаной танкистской тужурке, молодой, румяный, веселый.
— Разгружайся!
Из кузова сыплются автоматчики, помогают слезть раненым. Их человек двенадцать. У кого голова в бинтах, у кого руки. Один с костылем. Левая ступня у него толсто замотана, на правой ноге хромовый сапог, а другой он держит под мышкой. А один вообще чучело и чучело. Голову украшает крохотная пилотка. Руки из рукавов жеваной шинельки торчат на две четверти, полы не скрывают пижамных штанов, заправленных в ощерившиеся щучьими пастями кирзачи.
Шпаковский как его увидел, так и затрясся: «Маменька родная, сейчас умру!» Тут и меня схватило. Если бы не майор, упал бы я на пол со смеху. Это же наш Ергозин!
— Старшина! Построить дезертиров от клистира! И начальника госпиталя ко мне! — приказал майор.
Начальника госпиталя, конечно, не нашли. Майорский гнев принял на себя Хирург капитан Беленький, рыжий, плечистый и скучный.
— Почему раненые убегают? Почему в госпитале нет дисциплины?
— Больше не будут, — уныло винился капитан Беленький. — Примем меры, товарищ майор…
Капитан Беленький дождался, когда машина с майором уедет, и начал ругать «дезертиров». Ругался он скучно, самым крепким выражением было «негодяи, шпана подзаборная», потом приказал всем идти в санпропускник, а Ергозина остановил.
Я моряков уважал, теперь не буду! Ступай в изолятор!
— Товарищ капитан, Владимир Сергеевич, я здоровый как бык! Отпустите! — заныл Ергозин. — Вот за мной ребята приехали…
— Приехали и уедут! Без тебя не заблудятся. Марш за мной, морское чудо, а вы, дружки дорогие (это он нам), чтобы скатертью вам обратная дорога! Все!
Заводим «цундап», с пушечным грохотом, глушители у него сняты, чтобы лучше тянул мотор, выезжаем со двора. С веранды кто-то в белом подглядывает за нами.
Отъехав с полкилометра, останавливаемся. Шпаковский берет узел.
— Ты, Лешка, сиди, как мышь! Я скоро!
Дождь кропит по плечам. Потрескивая, остывает мотор мотоцикла. Разбрызгивая грязь, проходит колонна трехосных ЗИСов, за каждым на прицепе приземистые длинноствольные пушки.
Шинель на плечах промокла насквозь. Чтобы не дрожать, настраиваю себя, что это тоже война. Настроился и задремал. И вдруг:
— Здорово, Алексей!
— Здравствуй.
Ергозин, кутаясь в плащ-палатку, едва затискивается в люльку. Я устраиваюсь на седло за спину Шпаковского. На сей раз он ведет мотоцикл плавно, как на воздусях.
Добираемся без происшествий. Ребята рады Виктору. Взводный ворчит что-то про Военный совет, про «фитиль», который он получит, но все понимают — это для проформы, потому что главстаршина в обход интендантских преград уже раздобыл Ергозину новенькую шинель и сапоги. Остальное — галифе, гимнастерку и тельняшку собирают с мира по нитке.
Ночью нас подымают по боевой тревоге. Грузимся в машины. На рассвете нас высаживают в широкой лощине. Тут полно всех родов войск. На грузовики укладывают раненых.
За гребнем склона взлетают ракеты: белые, красные, зеленые.
Совсем рассвело. По склону вниз спускаются наш ротный, командир батальона майор Струков и какой-то армейский подполковник. Доносится фраза: «За пивоваренным заводом оседлаете дорогу и дальше, моряки, не зарывайтесь!»
Боевое крещение
Где-то слева жестко бьют танковые пушки. Пить хочется, хоть бы свиная лужа попалась!
— Не отставать! Не отставать! — кричит Лищук.
Мы бежим по какому-то пустырю, может — по огороду. Ноги такие тяжелые, будто к ним привязаны чугунные гири. В глазах темно. В горле занозистый кол. Алюминиевая ложка, провалившаяся глубоко в голенище, трет ногу.
Впереди сараи с черепичными крышами, квадратная и широкая труба. Дальше опять черепичные крыши, макушки деревьев, колокольня. За ней, сбитые ветром набок, два черных столба дыма.
Спотыкаюсь о лежащего красноармейца, падаю. Подымаюсь и догадываюсь — убитый! Винтовка в стороне, голова подвернута, словно он смотрит себе под мышку.
— Вперед! Вперед!
В правой руке у меня карабин, через плечо, связанные обрывком телефонного провода, два снаряженных диска к «Дегтяреву». Опережая меня, сопит коренастый Иван Шпак — пулеметчик. Шинель между лопаток у него распорота, болтается клок.
По всему пустырю там и сям ткнувшиеся фигурки. Утром здесь наступала наша пехота.
Сплошной строчкой работает скорострельный «МГ». Пронзительно распарывая воздух, кажется над самой макушкой, пролетают снаряды. Где они рвутся, не вижу, но немецкий пулемет умолк.
Подбадривая себя, что-то ору.
— Береги дыхание! — сипит Шпак.
Добегаем до сараев. Под стеной одного «тридцатьчетверка». Два танкиста возятся с гусеницей, третий, без шлема, беловолосый, присев на корточки, жадно курит.
Шпак на ходу забирает у него «бычка». Трусим дальше. Из-за развалин, из садов стучат выстрелы. Выскакиваем на прямую, мощенную булыжником улицу. В кювете опрокинутая вверх обрезиненными колесами противотанковая пушка. Поперек станины, выставив голое пузо, висит немец.
С ревом парами проносятся горбатые «ИЛы». Там, где колокольня, взлетают одновременно три красные ракеты.
Вдали через улицу перебегают согнувшись фигурки. Шпак мягко заваливается в кювет, бьет короткими очередями. Фигурки падают, потом вскакивают и скрываются за домами. Шпак скалится: «Околевать побежали!» Я подаю ему диск, а сам лезу из кювета — надо же хоть разок стрельнуть из карабина. Шпак тянет меня за ногу обратно и так обкладывает «трехэтажным», что в развалинах через дорогу кто-то хохочет: «Так его, салагу, приучай к дисциплине!»
Лежим долго, а может, это мне только кажется. Стрельба перемещается то влево, то вправо от нас. Шпак прислушивается, командует: «За мной! Броском!» Перебегаем улицу и ныряем в каменную коробку разбитого бомбами здания.
За толстой кирпичной стеной устроились пятеро из нашего взвода: Николай Шпаковский, два тихоокеанца — плотные парни с бакенбардами и усиками — всегда неразлучные и за это получившие прозвище Фотя с Мотей. Ергозин, пристроив к стене кожаное кресло, стоит на нем, наблюдает за улицей.
Откуда-то появляется Лищук, лицо грязное, в потных разводьях. Садится, привалившись спиной к кирпичам, закуривает, осматривает пощепанный пулей приклад ППШ, достает ножик и выстругивает занозины.
— Ну, чего там? — спрашивает Шпак.
Лищук складывает ножик, звонко щелкая лезвием, убирает в карман.
— Танки… Видел «ИЛы»? Они их долбают, да не шибко получается, они как клопы расползлись по улицам и садам…
— Противотанковых гранат надо бы, — говорит Шпаковский.
— Сейчас рожу! — Лищук добавляет замысловатое ругательство и заканчивает: — Обойдешься пушкой!
К нам под стену жалует лейтенант-артиллерист и двое связистов: молодой — с катушкой провода и пожилой — с печальными шевченковскими усами, с ящичком полевого телефона. Под грязной трикотажной шапкой у него к уху прибинтована телефонная трубка.
Лейтенант угощается у ребят табаком и недовольно ворчит, что ему страсть до чего противно и осточертело воевать в городах. Немцам наплевать, они хоть родильный дом с младенцами под оборону приспособят, а нам» приказано, чтобы не наносить урону гражданскому населению и строениям.
Пожилой телефонист подсоединяет к клеммам провод, садится, крутит ручку и вызывает «Розу».
Связь с «Розой» установлена. Лейтенант «смещает» Ергозина с кресла и смотрит через стену в бинокль. Пожилой связист подремывает над аппаратом, будто он и не на войне. Молодой затевает с тихоокеанцами менку. Ему приспичило иметь флотскую пряжку, и он предлагает за нее сначала «парабеллум», потом эсэсовский кинжал с рукояткой черного дерева, потом добавляет часики.
Шпаковский смеется: «За флотскую бляху надо послужить, а этого дерьма мы тебе воз задарма отпустим!»
— Мишин, кончай базар! — говорит лейтенант-артиллерист, не отрываясь от бинокля. — Лучше сообрази пожевать!
Связист Мишин, может, на год-два старше меня, но, судя по тому, как обношено и пригнано на нем обмундирование и амуниция, боец бывалый. Он мне нравится. И чем-то он смахивает на моего деревенского дружка из детства — Петьку Желдакова.
Мне хочется ему подарить флотскую пряжку — у меня их две. Но стесняюсь, ребята могут подумать, что мне захотелось чужих трофеев.
Связист Мишин досылает патрон в патронник карабина, исчезает в развалинах. Возвращается он очень быстро, прижимая к груди буханку хлеба и брус сала. То и другое в налипшей земле. Кинжалом он чистит их и точно, будто всю жизнь только этим и занимался, делит на одиннадцать кусков.
Все уписывают черствый хлеб и шпиг, аж за ушами пищит, а я не могу. Все внутри у меня сгорело. Пожилой связист из-за пазухи достает помятую фляжку:
— На, глотни! Это молоко… Перемогись, сынок, пожуй!
— Не лезет!
— У меня тоже после первого бою в глотке стряло, а я силком!
Интересно, откуда он узнал, что я в первом бою?
Связист Мишин протягивает обломанную плитку шоколада.
— Держи сладенького!..
Нет, выберу момент, обязательно подарю ему флотскую бляху. Ведь не просто так ему захотелось — может, он мечтал быть моряком…
На дороге начинают рваться мины. Обстрел продолжается минут десять. Все сидят хоть бы хны. А мне мины, кажется, выворачивают душу наизнанку. Не сам разрыв, а когда она летит и воет.
Я вспоминаю убитого красноармейца, о которого споткнулся, и думаю: вот убило бы меня пулей или осколком в этом первом бою, а домой бы прислали похоронку — погиб смертью храбрых. А какой это бой — из оврага перебежал поле, метров пятьсот, и сижу под стеной…
Лищук словно читает мои мысли:
— На данный момент мы свое дело сделали. Это с виду серенько, без знамен и барабанов, как в кино, а клинышек вбили!
— А сейчас фрицы этот клин начнут вышибать! — говорит лейтенант-артиллерист. — На шоссе коробочки, три штуки!.. Афанасьич, вызывай «Розу»! И чтобы — как ювелиры! — Чуть помедлив, лейтенант добавляет: — Афанасьич, передай — «тигры»! За ними пехота, но жиденько…
Прибегает наш комроты, старший лейтенант в армейском ватнике нараспашку, в ватных штанах и морской фуражке. Ребята эту фуражку прозвали «последний парад». Командир роты надевает ее только в бою. С ним связной, краснофлотец из тихоокеанцев, балагур и насмешник, Федя Шимардов.
— Лищук, я на тебя надеюсь, — говорит ротный, — а я в третий, там взводного убило…
Комроты и связной, словно привязанный за старшего лейтенанта веревочкой, исчезают.
— Лейтенант, ну что там? — спрашивает Лищук артиллериста.
Тот лягает ногой в ободранном хромовом сапоге: мол, отстань, и начинает выдавать координаты на стрельбу. Афанасьич, не повышая голоса, четко повторяет их в трубку.
— По местам! — командует Лищук. — Шпак, ты за лейтенанта и связистов отвечаешь головой!
Под стеной мы со Шпаком, Афанасьич с ящичком телефона и лейтенант-артиллерист. Афанасьич подмаргивает мне дружески и показывает, чтобы я свернул ему папироску. В этот момент лейтенант выкрикивает: «Огонь!»
Тотчас где-то слева рявкает орудие. Впечатление такое, будто не провода донесли туда команду, а голос лейтенанта услышали батарейцы.
Лейтенант подает новую команду. Афанасьич повторяет ее в трубку.
Голоса орудий сливаются в один длинный выстрел.
— Хорошо-о! — кричит лейтенант. — Молодцы! Афанасьич, передай, так держать!
Мне страсть до чего хочется увидеть «тигров», но Шпак грозит кулаком: «Сиди, салага!»
Невидимая батарея бьет еще раз. Лейтенант командует: «Отбой!» и спрыгивает с кресла.
— Гады, уползли за дома, теперь их на шоссе и сахаром не заманишь, будут щупать нас где-то правее, — говорит он и устало жмурит глаза.
В развалинах появляется армейская пехота — автоматчики. Все молодые парни, бесшабашные, веселые. Командует ими старшина, под стать нашему Лищуку, краснолицый, квадратный, глаза выпученные. От него, как от перекаленной печи, пышет жаром, силищей.
— Откуда вас привалило? — спрашивает Шпак.
— Приказано моряков ободрить — они, говорят, желтой кровью истекли, — острит губастый детина с косой хулиганской челкой на глаза. Автоматчики смеются. Старшина достает из-за голенища кисет, закуривает.
— Где командир?
Как из-под земли вырастает Лищук, весь в красной кирпичной пыли. Суровое лицо старшины расплывается в улыбке.
— Здорово! Меркурий Иванович!
— Петро! Здорово!
Лищук и старшина обнимаются, хлопают друг друга по спине.
— Жив, чертяка!
— Жив, Петро!
— Кого из наших хлопцев встречал?
— Ты первый!
— Ах, черт! И я никого! Вот как нас разбросало!..
Автоматчики расползаются по развалинам. Немцы начинают обстреливать дорогу из минометов. По кому бьют, непонятно. Шоссе сзади нас пусто.
— Психуют фрицы, — говорит Лищук.
Но, оказалось, немцы не зря лупили по дороге. Только отгремели разрывы, из кювета в развалины к нам ныряют ротный и капитан с немецким автоматом на груди, то ли казах, то ли узбек — лицо коричневое от загара, глаза щелками. Полы шинели у него заткнуты за ремень, в кулаке большой двухствольный пистолет-ракетница.
— Лищук, выдели человек десять автоматчиков и одного «ручника», — приказывает ротный, — надо проводить артиллеристов к церкви!
— Мы через сады покатим орудия на руках, — поясняет капитан. Говорит он по-русски совершенно чисто, каким-то учительским голосом, будто читает диктант в классе. — А в садах нас без прикрытия фрицы перестреляют!
— Есть! — Лищук козыряет одновременно и капитану и ротному и командует: — Ергозин, Шпак, Шпаковский, — взводный называет еще фамилии. Я умоляюще смотрю на комвзвода. — Андреев остается здесь при связистах! Старшим группы назначаю Ергозина!
…Ребята возвращаются через час. Шпак протягивает мне новенький «шмайсер» и две плоских сумки с магазинами к автомату.
— Держи, это тебе подарок от зисовцев!
Зисовцами он зовет артиллеристов 57-миллиметровых противотанковых пушек, которые будто бы делают на московском автозаводе имени Сталина.
Ружейно-пулеметная стрельба вспыхивает в городе очагами. Иногда в нее вмешиваются пушки. На нашем участке тихо. Лейтенант-артиллерист опять торчит на кресле. По его словам, мы на танкоопасном направлении. Афанасьич сердито крутит ручку телефона, вызывает «Розу» и просит какого-то Ивана немедля гнать Мишина с батареи на НП.
Не прошло и десяти минут, прибегает связист Мишин.
— Тебе какой приказ даден? — ворчит Афанасьич. — Ох, Натолька, я тебя цепью буду приковывать!..
— Так я линию проверял, — оправдывается тот, — я свое дело туго знаю. — Мишин заговорщицки подмаргивает мне и постукивает по карману шинели, кивает на воронку от авиабомбы, которую ребята приспособили под гальюн.
Лезу в воронку, Мишин за мной.
— Ну, что тебе?
— Давай морскую бляху, а я тебе пугач! Новенький, как зеркало! — Мишин вытаскивает из кармана никелированный «браунинг» с костяными плашками на рукоятке.
— У тебя же «парабеллум» был?..
— Уже промахал!
— Как?.
Мишин кратко объясняет мне солдатскую игру, своего рода лотерею. Встречаются два бойца. Один предлагает: «Махнем не глядя?!», второй соглашается: «Махнем!» Тут же содержимое карманов меняет владельцев. Одному достаются часики, другому огрызок карандаша или замызганный платочек с вышивкой «Незнакомому бойцу от Лены». Но оба довольны, какое-никакое, а развлечение.
«Браунинг» мне не нужен, но проворный Мишин мне полюбился.
— На! За так! Ты на моего дружка очень похож, вот за это дарю!..
Мишин тут же перепоясывается флотским ремнем и радуется.
— А ты тоже похож!.. На Миньку! Ух и драться здоров был, ка-а-к даст! Аж из сопатки кровь вулканом! Ух и гад был ползучий!..
Я обижаюсь, что похож на гада ползучего, требую ремень назад.
— Чего плохого сказал? — оправдывается Мишин. — Про гада ведь к слову. Минька мой лучший друг был!
Когда мы вылезаем из воронки, Шпак сразу понимает, в чем дело, и смеется:
— Ах, салаги, салаги! Вам бы еще в казаки-разбойники играть, а не воевать!
В томительном ожидании проходит еще час. Потом немцы под прикрытием танков и минометного огня снова наступают вдоль булыжного шоссе.
Наша артиллерия охлаждает их пыл. Немцы откатываются. Лейтенант командует отбой.
Небо все в рваных облаках заполняется грозным гулом. Звено за звеном, звено за звеном идут краснозвездные штурмовики, их сверху прикрывают истребители.
— Это не сорок первый, когда мы бутылками от ихней брони отбивались, — говорит Афанасьич, — а ихним самолетам кулаками грозили! Капут фрицу!
Нынче у нас передышка
Занавесили разбитые окна плащ-палатками. Пролом в стене, немецкую пулеметную амбразуру, закрыли платяным шкафом. Сгребли в угол стреляные гильзы, пустые ленты от «МГ», осколки стекла, покурили. Махорочный дым отбил чужой дух, сразу стало обжито, будто мы здесь на постое уже неделю.
Три этажа над нами пустые, а в первом, сплошь занятом лавчонками, лавочками, где и поместиться только двум покупателям, магазинчиками, устроились на дневку штурмовые группы гвардейцев из армейского корпуса. Славные ребята, У нас с ними хорошая боевая дружба.
Ергозин прозвал их «славяне, давай, давай» — из-за ихнего командира, лейтенанта, у которого то и дело срывается с языка: «Славяне, давай, давай!»
Брожу по квартире. Полы паркетные, двери из матового стекла, конечно, побитые. Шелковые стульчики. Диванчики на собачьих ножках, на которых ни лечь, ни сесть как следует. Интересно, кто здесь жил? Наверное, вот этот господин барского толка. Губы брезгливо опущены, под глазами мешочки, нос картофелиной. Разглядываю подобранные фотографии. Вот он в расшитом шнурами мундире, вот в штатском, вот за большим письменным столом…
На всех фотографиях на лице господина отпечатки граненых шляпок гвоздей, какими подбиваются немецкие солдатские сапоги. Видно, кто-то, снимая фотографии, бросал их на пол и давил, мстя за что-то.
Сунулся в комнату, уставленную по стенам от пола до потолка книгами, шибануло такой вонью, что чуть не вырвало. Немцы устроили в библиотеке отхожее место.
Выглядываю из кухонного окна во двор. Идет снег. У машины пригорюнился часовой. Два бойца разложили в углу из щепок костерик для души, сидят возле огня на корточках и хохочут. Понятное дело, соревнуются во вранье. А за несколько кварталов от нашего дома стрельба. Бои идут днем и ночью. Немцы дерутся отчаянно, за каждый дом, за каждый подвал. Отступая, гитлеровцы взрывают предприятия, склады, жилые дома, учреждения, вымещают злобу на гражданском населении.
Пришел командир роты, старший лейтенант Пугачев, левая рука упрятана под шинель, щеки пылают румянцем, но он перемогается. Три дня назад его цапнуло осколком. На моих глазах он сам вытащил из раны кусочек стали, а в санроту сходил лишь перебинтоваться и сделать укол от столбняка.
О чем ротный толковал с ребятами, не знаю. Я в это время хоронился за шкафом в вонючей библиотеке. После недавнего разговора я стал Пугачева бояться. Однажды он подсел ко мне на перекуре, слово за словом вытянул всю подноготную, как гипнотизер, потом заметил — мол, дедушка Крылов в свое время правильно сказал: пироги должен печь пирожник, а сапожник заниматься обувкой.
Я его намек сразу понял — это он о моей профессии радиста, — и заявил, что из взвода не уйду, пока не ранят или не убьют…
— Я тебя понимаю, Андреев, — сказал ротный, — очень понимаю, но прикажут — куда денешься!
А тут еще Ергозин добавил: мол, от знакомого писарчука из штаба слышал — всех радистов корабельных в тыл… Побрить, поодеколонить и законсервировать, покуда им новых линкоров да крейсеров не отстроят…
Как только комроты ушел, я выбрался из укрытия. И тут навстречу — снова он, Ергозин:
— Краснофлотец Андреев! Собирайте «сидор» и в штаб, будете оттуда из «эрбешки» стрелять по ненавистному врагу!
Я было поверил и упал духом, но Лищук, чинивший прямо на себе разодранные на коленях ватные брюки, сделал горлом «кхе-кхе», что означало среднее командирское неудовольствие, и Ергозин сказал:
— Не плакай, Лешка, это я тебя разыгрываю…
Лищук никому меня не дает в обиду, но сам карает за малейший проступок. Был случай — выбили мы немцев из одного опорного пункта, я увидел целую кучу фаустпатронов и решил освоить трофейное оружие. Кстати, на них была и инструкция в виде рисунка, как обращаться с «фаустом». Взял трубу с набалдашником и только пристроился у окна — взводный тут как тут и такую мне закатил оплеуху, что я чуть не вывалился на улицу.
— И запомни, друг ситный, заруби на носу, — свирепствовал Лищук, — не хочешь ежели остаться без рук или без глаз, не трогай чужого оружия! Бери пример со Шпака, Ергозина, Шпаковского! Ты видел, чтобы они немецкую гранату колупали или вот эту дрянь? Нет! Ну и сделай выводы!
А еще очень не любил наш командир разговоры «про баб» и похабные анекдоты. И тихоокеанец Федя Шимардов, когда командир роты взял его в связные, дурашливо перекрестился. «Слава богу, ведь это же не взвод, а монастырь дев целомудренных».
Принесли в термосах ужин — гречневую кашу-рассыпуху со свиными шкварками и фляжки с водкой — наркомовскую чарку. Только расставили котелки» вооружились ложками» объявился Шпаковский.
— Хлопцы! Я в подвал лазил… какие там лань, кишасонь, кишлань! О-о-о!
— Садись, рубай гречку, бабий угодник!
— Ребята, взводный! — каким-то курлыкающим голосом сказал Шпаковский. — Айн момент! Погодите жрать! Там в бункере сплошь венгерские гражданочки и ребятишки, есть и сосунки, и все какой день не евши! Вспомним святые традиции нашего флота! «Славяне, давай, давай» тоже собирают им харч!
…Укладываемся спать: на паркет ватник, под голову «сидор» с барахлишком и патронами, вместо одеяла верная шинель, сбоку автомат. Иван Шпак устраивается с комфортом, сдвигает диванчики, застилает их красным парашютным шелком. Немецкая авиация на таких парашютах сбрасывает по ночам — красное в темноте не видно — окруженным войскам контейнеры с боеприпасами, медикаментами, продовольствием, горючим.
Январский хмурый день угас. Только начинаю погружаться в сладкую дрему, раздается грохот и ругань. Кто-то чиркает зажигалкой. Шпак, путаясь в парашюте, ползает по полу. Потом он упрямо сдвигает диванчики, снова ложится и опять брякается на пол.
Просыпаюсь от кошмара. Кто-то волосатый, провонявший потом, ружейной щелочью, табачным перегаром, наваливается мне на лицо и душит. Впору заорать. Отбиваюсь руками-ногами, выпрастываю голову. Фу-ты, черт! На меня наброшено три шинели и какая-то попона. Шпака и Шпаковского рядом нет. В углу, словно красный глаз, торчит огонек цигарки.
Тишина. Значит, близко утро. К этой поре стрельба обычно стихает. Лишь в Буде, на той стороне Дуная, упрямо бахает штурмовое орудие и по-собачьи тявкают немецкие «эрликоны».
Выбираюсь из душного логова, приспичило по малой нужде. Топаю на кухню. В разбитое окно порхают снежинки. Дую через подоконник во двор. Тут же раздается вопль: «Гад! Ты что творишь! Застрелю, паразит!» Но дело сделано. Улепетываю от окна.
В соседней со «спальней» комнате приглушенный смех, возня. Кто-то считает: «Раз! Два! Три!», и голос Ергозина: «Ну погоди, дудка, я отыграюсь!» В комнате при свете карманного фонарика и двух фитильков в блюдцах Шпак с размаху хлещет колодой карт по носу Ергозина. Остальные игроки: Шпаковский, Лищук и лейтенант «Славяне, давай, давай» давятся от смеха. Хоть свету не очень, но замечаю, что и носу Меркурия Ивановича крепко досталось.
После «носов» начинается игра в «очко». Играют азартно, запальчиво, проигрывая десятки тысяч и срывая огромные куши. В банке ворох денег, здесь и румынские леи, венгерские пенго, греческие драхмы, старые царские «катеньки», зеленые долларовые бумажки, японские иены, турецкие лиры и желтенькие, цвета детского поноса, керенки. Но это деньги «понарошке». Кончится игра, Ергозин соберет казну, и она будет покоиться в «сидоре» возле запалов для гранат, байковых портянок и индивидуальных перевязочных пакетов, до следующего карточного припадка.
В Буде стрельба разгорается все сильнее.
А до победы еще 111 дней.
Победная весна
Всю ночь трясемся в кузовах грузовиков. Куда, никто не знает. Лищук помалкивает, а может, тоже в неведении.
Иногда шоферня жмет, аж ветром прохватывает насквозь, иногда еле ползем или стоим. В апрельской голубоватой темноте угадываются силуэты танков и самоходок, идущих обочь шоссе целиной.
На остановках дремлем, привалившись друг к другу, или курим, пряча огонек в рукав, «братскую». Вдоль колонны бегает какой-то командир в высокой военторговской фуражке и клеенчатой немецкой накидке и тоненько кричит: «Не курить! Не курить! Не демаскируйте колонну!» В небе гудят самолеты. По звуку моторов — наши «петляковы» или «СБ», но кто знает, что им на ум придет, могут принять и за немцев. Интересно, видят ли летчики огоньки цигарок?..
Когда колонна стоит, очень чувствуется, что наступила настоящая весна. Пахнет травой, молодой листвой. Раз даже слышали где-то за шоссе в пруду или болотце — хором кричали лягушки. Все их слушали, будто соловьев, а Шпаковский принялся рассказывать, как он их мальчишкой надувал через соломинку, а бабушка его лупила и грозилась, что бог его накажет.
На рассвете переезжаем колею железной дороги и опять долго стоим. Командиры подразделений собираются кучкой, рассматривают карты, что-то обсуждают.
Подъезжает «виллис» в сопровождении бронетранспортера. Два генерала, высокое авиационное начальство, осматривают железную дорогу, видно, оценивают работу летчиков. Кругом множество бомбовых воронок, в полосе отчуждения опрокинутые разбитые вагоны, два паровоза, но сама колея уже восстановлена немецкими инженерными частями. Летчики уезжают. А нам приказ выгружаться. Занимаем свежие траншеи. До нас они были заняты армейскими пехотинцами. В весеннем лесочке дивизион «катюш», в кустах у дороги пушкари.
Пока комбат собирает ротных командиров, потом ротные скликают взводных, Шпаковский откуда-то уже узнает, что наша задача перехватить железную дорогу и шоссе на Санкт-Пельтен и не пропустить немцев, если они прорвутся из Вены.
Солнышко уже поднялось высоко, хорошо пригревает. Многие после бессонной ночи подремывают, да еще весна нагоняет истому. Настроение какое-то шальное, безответственное, будто война уже кончилась. Конечно, не у всех такой настрой. Нашего взводного хоть запирай в клетку. Его опять допекают зубы. Он полощет рот водкой из фляжки, с отвращением ее выплевывает и рычит: «Ш-ш-шво-очи!»
Старший лейтенант Пугачев тоже не в духе. «Разлеглись! Расселись! Люди головы кладут, а у них курорт!» Почесал в затылке, наверное, придумывая, чем нас занять. Но не придумал. Отругал Шпаковского за брезентовые, не по форме, сапоги и ушел. Ротный вообще душа человек, его любят, но иногда находит «полоса» — лучше на глаза не попадайся.
Может, старший лейтенант про курорт и прав. В Вене идут бои, а мы отсиживаемся…
Устроив голову на патронный ящик, подремываю, слушаю, как Ергозин подначивает Егора-трубача.
— Ну что Вена? Город как город! Дома, крыши, подвалы…
— Сам ты темный подвал! — горячится тот. — Там каждый камень пропитан музыкой! Штраус! Легар! Кальман!..
— Ладно, Жора, не лезь в пузырек! Ты вот что скажи: правду ли говорят, что в Вене на набережной есть мраморная доска, а на ней написано: «Здесь пьяному Штраусу Дунай показался голубым»?
Такого поклепа на знаменитого венца Егор перенести не может и бормочет что-то про шулеров, которых нужно расстреливать теплым дерьмом.
У соседей гвардейцев тоже какая-то мелкая свара. Двое не поделили лопату, тянут ее друг у друга и поминают богову родню и какую-то банку свиного смальца, то ли съеденную одним из претендентов на шанцевый инструмент, то ли им потерянную.
Лейтенант в ушастых по фронтовой моде галифе помирил спорщиков, вручил вторую лопату и заставил обоих рыть, наверное, совсем ненужный окоп. Бойцы разделись по пояс и, сверкая белыми спинами, вкалывают и оба довольны. А ссорились-то они из-за душевной тягомотины. Нет ничего хуже, чем сидеть в безделье, зная, что рядом дерутся и гибнут товарищи. А тут еще весна и совсем близко конец войны…
Лейтенант нагнул тополевую ветку, хотел отломить, но пожалел. Сорвал клейкий листочек и нюхает, на худеньком липе блаженство, даже восторг, и его надо как-то излить. И он изливает его песней, аккомпанируя себе на гитаре:
А жена мне родит сына в доте, Неприступный он будет боец. Подрастет — попадет он в пехоту, Где провел свою юность отец!..Жора-трубач, услышав бреньканье, аж подскочил. Он ненормальным делается, если при нем неумехи берутся за инструмент.
Когда в Братиславе Шпаковский «строфеил» из немецкого штабного автобуса огромный перламутровый аккордеон и начал старательно вымучивать «Синенький скромный платочек», Жора сразу пресек его исполнительскую деятельность: «Коля, тебе же медведь не на ухо наступил, а сразу на всю голову. Кроме тележного скрипу, ты ничего не достигнешь!»
Лейтенант поет, терзает струны, и Жора не выдерживает:
— Товарищ лейтенант, разрешите инструмент!
— Инструмент, морячок, это когда топор и рубанок… Ну попробуй, сработай нам цыганочку с выходом!
Жора долго возится с гитарой, подкручивает колки, прислушивается, как звучит каждая струна. Снова подстраивает. На лице лейтенанта скорбная улыбка: таких музыкантов под его началом полсотни.
Жора берет сильный аккорд. Гитара ахает удивленно и радостно, словно узнав хозяина. Ахает еще раз и дарит музыканту обрывки мелодий, отдельные фразы. Но каждая фраза, каждый обрывок ювелирно отгранен. И вдруг из этой сверкающей скороговорки возникает прекрасный мотив: «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты…»
Голос у гитары глуховатый, щемяще берущий за сердце. И вот она уже плачет, тоскует своим цыганским нутром о дырявых шатрах, о неприкаянной таборной свободе. Гудят бомбардировщики, несущие свой карающий груз, может быть на Берлин, на восточном берегу Дуная хлестко бьет артиллерия, а я ушел из войны в детство. Вижу старого цыгана Кондраху, мертвых лошадей и впрягшихся в оглобли кибиток молодых цыганок…
После полудня радиостанция дивизиона «катюш» открытым текстом получает, известие, что наши войска взяли почти весь центр Вены. Из уст в уста повторяются названия: Шенбруннский дворец, Западный вокзал, дворец Франца-Иосифа, площадь Героев…
Вскоре появляются немцы, сумевшие вырваться из окружения. Но это разрозненные группки, без командиров, без желания драться. Напоровшись на ружейно-пулеметный огонь, они отходят. Один сдается в плен. Для храбрости он изрядно хватил рому и потому улыбается. Но немец этот вояка. На мундире значок за ранение, в петлице орденская ленточка — Железный крест второго класса. Когда его обыскивают, из кармана вытряхивают крест первого класса и медаль за зимнюю кампанию 1941/42 года. Был под Москвой.
— Во какого эсэсовца отхватил! — гордится конопатенький ефрейтор, пленивший гитлеровца. А немец, сразу перестав улыбаться, слезливо вопит: «Нихт эсэсман! Их панциргренадирен!»
Танкиста уводят, а старшина-усач, ротный скопидом, учитывающий каждую обмотку, каждый патрон, сворачивая экономную цигарку, ухмыляется:
— Ишь, кум, расплакался… А под Вязьмой он нам кукольный театр представлял! Издевался, герой вверх дырой!..
Кто-то ахает от неудовольствия: «Иван Васильич! А чего же ты ему в морду не дал?»
— В сорок первом не мог, силенки не было, а сейчас нельзя — я Женевскую конвенцию строго блюду… Но, товарищи, именно про этого фрица я шутю, а что немецкие танкисты мне представление делали, чистая правда. Смешное было представление…
Старшина вставляет в пестрый наборный мундштук самокруточку, улыбается. И все ждут веселой байки, фронтовой были-небыли, а слышат горькую повесть из сорок первого, как стоит колонна пленных красноармейцев на обочине старой смоленской дороги. Все понурые, грязные, в дурно пахнущих бинтах. А на дороге бесконечная колонна танков Гудериана…
Старшина выбивает из мундштука чинарик, убирает его в карман.
— А дальше что, Иван Васильич?
— А дальше, ребята, как у всякого представления — занавес!
Ох, как медленно тянется время в ожидании. Апрельскому дню, кажется, не будет конца. Приносят термоса с макаронным супом. Повар перестарался, навалил туда говяжьих консервов, а варево остыло и сверху чуть не на палец подернулось жиром.
— Такую пищу надо принимать в мороз, — ворчит Шпак, — мыслимое ли дело, сало хоть каблуком проламывай!..
Вдобавок супешник зверски пересолен. Ергозин обтирает травой ложку, потом выскребает щепочкой котелок.
— Как с корабля в сорок первом списался, ни одного кока настоящего за войну не ветрел. Сплошные самозванцы, Лжедимитрии какие-то. Скольких ни спрашивал, никто поваром на гражданке не работал. Тот сапожник, тот скорняк. А один тип попался — санитаром в морге был, покойников таскал. Во, клянусь, как узнал — не могу его кондер употреблять, воротит с души. И помер бы я с голоду на передовой, если бы не ранило и не попал в госпиталь!..
Веселое оживление вызывает попугай, хрипун и ругатель. Его разыскал в будке путевого обходчика Шпаковский и притащил вместе с клеткой.
— Сейчас я ему башку отверну и сделаю рагу. Конину я ел, верблюжатину ел, голенища от сапог ел. Теперь попробую попугая!
Птица будто понимает человеческие слова, угрюмо нахохливается, а потом отвратительно-скрипучим голосом кричит: «Эмма, курва! Гитлер, курва!» и еще с десяток немецких ругательств.
Старшина, Иван Васильевич, от попугая в восторге и выменивает его у Шпаковского на зажигалку в виде пистолетика.
— У вас музыкант есть, а в моей роте все бесталанные, пускай их хоть птица веселит!..
Вечереет. Опускаются прохладные сумерки. Бесшабашное весеннее настроение сменяется тревогой, предчувствием близкой опасности. Кончились хождения «в гости», разговоры. Пулеметные расчеты, стрелки, петеэрщики занимают в траншеях места.
Ночь проходит в бдении. В той стороне, где Вена, небо помаргивает отсветами ракет. Красным пунктиром, медленно, так кажется издали, уходят вверх и гаснут трассы зенитных автоматов.
Шпак курит из рукава и вздыхает.
— Лешка, у тебя есть девушка?..
— Может, есть, а может, уже и нет… Я же тебе рассказывал про Глафиру, она в партизанах была…
— Не всех же убивают и в партизанах и на фронте…
— Заткните фонтан, что вас, чертей, разобрало! — ругается Ергозин. — Это старухам-богаделкам простительно про смерть талдычить! Накличете на свою голову! Вон, как Федя Шимардов!
Тихоокеанца Шимардова убил снайпер под Братиславой. Федя как будто чувствовал свою смерть, был в этот день скучный и, переобуваясь, сказал: «Вот накручу чистые портянки и потопаю прямо в рай!..»
У железной дороги яростная вспышка автоматной стрельбы. Взлетают ракеты. Потом тишина. Немного погодя стрельба вспыхивает на участке соседей слева. И снова тишина.
Победа
8 мая. Уютный австрийский городок Грейн. Из всех окон свешиваются на улицу белые полотнища. Мы торчим здесь уже неделю — бригаду то ли пополняют, то ли расформировывают. Мичман Лищук принес из штаба известие, будто Гитлер не то застрелился, не то отравился.
По мутному Дунаю, со стороны Линца, плывут трупы людей, коней, какой-то древесный хлам. На улицах танки, армейские обозы. Снуют командирские «виллисы». День стоит солнечный и по-летнему теплый. Толпы пленных немецких солдат бредут под конвоем беззаботно покуривающих наших парней.
Наш взвод занимает шикарную виллу какого-то удравшего богача. Мы стираем носки и портянки в мраморных ваннах, холим буржуйской ваксой кирзачи и вертимся перед огромными зеркалами. Готовимся «штурмовать» зенитную батарею — она располагается в абрикосовом садочке и — сплошь из девчат. Командует ею, правда, мужчина, старший лейтенант, носатый горец Иза Хамитов.
— Абрек проклятый! Собака на сене! — ругает комбата Ергозин.
Утром, заняв у меня чистый тельник, лихо распахнув ворот гимнастерки — чтобы видно было «морскую душу», при всех орденах и с двумя «вальтерами» на ремне, Ергозин ходил на батарею «в разведку». Но — неудачно.
— Батарея не техникум-общежитие! — сказал Хамитов. — Танца-дранца приходи делать после войны! Не послушаешь — пистолетом твой зад стрельну!
Славные керченские десантники Шпак и Шпаковский пустили в ход дипломатию: подарили командиру батареи ящик сигар в золотых ярлыках и толстую бутылку с завинчивающейся пробкой и негром на этикетке… Расчет был точный. Кавказец не был бы кавказцем, не отдарившись и не записав нас в кунаки. Он прислал корзину колбас в блестящем станиоле, которую доставили сержант и младший сержант — Галя и Валя, сверкающие медалями, сапожками и шелковыми коленками.
— Битте-дритте! Кушайте колбаску, морячки! — сказала улыбаясь сержант Валя, стреляя карими очами в Ергозина. — И на комбата нашего не обижайтесь — ведь он нам и отец-командир и мама…
— Злая мачеха он, — улыбнулся Ергозин и, чаруя зенитчицу, прокурлыкал что-то по-журавлиному.
— Он замечательный человек! — заступилась за комбата Галя. — Просто ему известно, что все моряки изменщики — им верить нельзя, у них в каждом городе по жене…
Девушки-сержанты козырнули и, четко повернувшись через левое плечо, отбыли под надежное крыло отца-командира.
— Вот так женихов-трепачей щелкают по носу, — усмехнулся Лищук и, достав из мешка флотский китель с завесой орденов и медалей, послал меня на батарею за утюгом. — На всякий случай надо все-таки подготовиться… Вдруг большое начальство вызовет…
Шпак и Шпаковский деликатно покашляли. Лищук сконфузился, врать он не умел:
— Ну, начальство — не начальство, а вообще…
Я тоже для «вообще» наутюжился, соскреб пух с подбородка, нацепил медаль и… Был выставлен часовым у подъезда. Около двенадцати ночи меня сменил Шпаковский.
— Ты, Леша, на ребят не обижайся, — успокаивал он, выкладывая на ступеньку — чтобы были под рукою — гранаты и запасные автоматные диски. Боец он был предусмотрительный, серьезный. — Ну что с них взять? Чего они видели? Передовая — госпиталь, опять передовая, опять госпиталь… А здесь культурные девушки, среднее образование, граммофон, танцы… Не обижайся, у тебя все впереди!
Только я улегся на кожаном диване, явился в очень хорошем настроении мичман Лищук.
— Ты отдыхай давай, спи — я тихо, как мышь, — прошептал он и отвратительным своим голосом заскрипел: «Топится, топится в огороде баня, женится, женится краснофлотец Ваня… Не топись, не топись, в огороде баня, не женись, не женись, краснофлотец Ваня…»
— Товарищ мичман, ну дай поспать!
— Молчу, молчу! Тоже ложусь…
С улицы в раскрытое окно было слышно, как четко протопал патруль — каждый шаг впечатывался в тишину. Табачный басок спросил: «Морячок, сколько на твоих трофейных?» Голос Шпаковского ответил: «Двадцать четыре нуль-нуль…»
А в мире в это время происходило такое!..
Берлинский пригород Карлсхорст. Здание бывшего военно-инженерного училища. Вместительный зал. Стены, покрытые серо-зеленым сукном. Над ними знамена держав-победительниц.
24 часа 0–0 минут, 8 мая
В зал входят Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, главный маршал британской авиации сэр Артур В. Теддер, генерал-полковник Спаатс, адмирал сэр Гарольд Беррау, генерал Делаттр де Тассиньи, члены делегаций. Все садятся за стол президиума. Председательствует маршал Жуков.
2-я минута, 9 мая
Маршал Жуков обращается к дежурным офицерам:
— Пригласите представителей германского командования.
В зал входят генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Штумпф, генерал-адмирал фон Фридебург.
6-я минута, 9-е мая
Маршал Жуков обращается к германской делегации:
— Знаете ли вы, для чего приглашены?
Кейтель отвечает:
— Да. Знаем.
10-я минута, 9 мая
— Я предлагаю подойти сюда. — Маршал Жуков показывает Кейтелю рукой на столик, приставленный к столу президиума. — Здесь вы подпишете акт о безоговорочной капитуляции.
Стрекочут киноаппараты, щелкают «лейки» журналистов.
17-я минута, 9 мая
Кейтель медленно подписывает акт о безоговорочной капитуляции. За ним подписывает фон Фридебург, потом Штумпф.
30-я минута, 9 мая
Акт переносят на стол президиума. Первым его подписывает маршал Жуков, а за ним — представители союзного командования.
43-я минута, 9 мая
Маршал Жуков говорит:
— Немецкая делегация может быть свободна.
44-я минута, 9 мая
Кейтель, Фридебург, Штумпф, сопровождающие их лица выходят…
* * *
— Лешка! Подъем! Победа!
По городу катится разрозненная стрельба. Лищук вставляет в автомат «магазин», я хватаю ручной пулемет. Стрельба нарастает шквалами. Так стреляют — сплошной чертой — только когда пан или пропал. На зенитной батарее заревел крупнокалиберный «ДШК». У подъезда грохочет из автомата Шпаковский и орет, срывая голос:
— Братва! Победа! Ура-а-а!
На улице столпотворение. Стрельба. Объятия. Крики «ура». Латунные гильзы устилают мостовую.
Я целуюсь с каким-то усатым старшиной-танкистом. Дарю ему с руки швейцарские часы «Омега», он отвинчивает Гвардейский значок:
— Держи, сынок! Это — сталинградский!
В светлеющем майском небе лопаются разноцветные ракеты. Фосфорные трассы струями несутся к звездам.
Мой «Дегтярев» отказывает — перекалился ствол.
…Утром зенитчицы поставили на табурет граммофон с зеленой ребристой трубой, и начались танцы. Пластинка была единственная, безнадежно заигранная. Сладенький вальс с трудом прорывался сквозь шипение музыкального инструмента. Но на такой пустяк — равно как и на тесноту — никто не обращал внимания. Танцевали самозабвенно.
И вдруг музыка оборвалась. Или кто заводил пружину — переусердствовал, или срок пришел граммофону… На помощь пришли танкисты — народ с зажитком, имеющий большое пристрастие к музыке. Явились сразу с несколькими аккордеонами. Но аккордеониста среди них не оказалось ни одного…
Виктор Ергозин пошептался с Лищуком и куда-то исчез. Вернулся он скоро — с охапкой длинногорлых бутылок, в сопровождении Женьки Комкова и еще одного незнакомого пехотинца, которые несли в руках по канистре.
Мы с Женькой бросились обниматься. Зенитчицы зашептались: «Братья встретились, братья…»
— Вот вам гармонист, — представил, едва выговаривая слова, Ергозин. — Зовут его Толик — одолжил у гвардейцев… вместе с вином… Я уже… «Токай» называется…
Виктора развозило на глазах.
— Толя может на всем… Он и на этом может, и на этом… Толя, ты на этом вот можешь?
Пехотинец хитренько улыбался.
— Это клад, а не человек! — не унимался Ергозин, он раскис окончательно. Ребята увели его в дом. Сержант Валя негодует на пьянчужку. Пехотинцу Толе дают огромный, сверкающий перламутром аккордеон.
Женька, подхваченный кем-то из зенитчиц, исчезает в толкучке. Теснота. Для меня так это хорошо. Танцор я самозваный, никто не замечает моей беспомощности. А прибористка, сержант Лина, ничуть не сердится, когда я наступаю ей на ногу, и ободряет: «Ничего, ничего, ты смелее! Ты слушай счет: раз, два, три! Раз, два, три!»
Эх, танцевать бы мне, как наш взводный! Вон он как крутит раскрасневшуюся от удовольствия Нину. И не подумаешь, что в Меркурии Ивановиче весу центнер.
Танцуют все: и кто может, и кто не может. Два танкиста, ухватив друг друга за бока, выплясывают такое немыслимое, и оба до страсти довольны.
Мелькает в круговерти лицо Шпаковского. А вот Иван Шпак, придерживая за талию, будто хрустальную, томно полузакрыв глаза, вальсирует с врачихой-капитаншей. Лицо у нее строгое, словно она сейчас прикажет пулеметчику: «Не очень-то веселитесь! Сейчас отберу пижаму и отправлю в изолятор!»
Мелькает еще какое-то знакомое, даже очень знакомое лицо. Мелькает и исчезает. Кто-то мне улыбается и машет рукой. Но что из того? Сегодня все улыбаются друг другу.
Иван Шпак, очутившись рядом, говорит: «Лешка, оглянись, на тебя одна дева глаз положила!» Капитанша добавляет, не меняя строгого выражения лица: «Очень симпатичная, но у нее кавалер подполковник!»
А дева, в звании старшины, не только «положила глаз», она смело пробивается меж танцующих и, сердито сказав моей партнерше: «Извините!», берет меня за руку:
— Я ему улыбаюсь! Я ему знаки подаю, а он не признает!
— Глафира!
Танцующие обтекают нас, а мы обнимаемся, целуемся и ревем. Целуемся и поливаем друг друга слезами.
— Ты чего?
— Я от радости! А ты?
— И я от радости!
Выбираемся из толкучки. Глафира подводит меня к подполковнику с мужественным и очень знакомым лицом. А по сияющим глазам Глафиры я уже догадался, что сейчас будет сказано:
— Знакомься, Леша, мой муж!
С нарочитой официальностью мы обмениваемся рукопожатиями.
— Краснофлотец Андреев!
— Подполковник Горобец!
Потом мы с ним обнимаемся.
Кружатся в вальсе пары. Много пар — в танкистских комбинезонах» в армейских, видавших виды, гимнастерках, в офицерских кителях.
Синенький скромный платочек Падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь…Мерный тяжелый грохот, нарастая, заполняет улицу. По шестеро в ряд идут в колоннах пленные немцы. Молодые. Средних лет. Пожилые. Гренадеры. Альпийские стрелки. Артиллеристы. Танкисты. С орденскими ленточками в петлицах грязных мундиров. Со значками за рукопашные бои и ранения. Покорители европейских столиц.
Танцы прекращаются. Мы смотрим на пленных угрюмо и молча. Они на нас не глядят.
За колонной едут армейские фуры с какими-то узлами. На фурах тоже сидят пленные — наверное, больные. Красноармейцы-возницы идут пешком, потряхивая вожжами. С последней фуры соскакивает курносый — рыжий, как солнце, старшина, увешанный медалями, кричит нам:
— Чего, славяне, заскучали! Микитенко, гармонь!
Ездовой протягивает ему затертую трехрядку. Старшина размахивает ею во всю ширь мехов:
Эх, сыпь, Семеновна, Подсыпай, Семеновна. У тебя ль, Семеновна, Юбка клеш зеленая…Медные голоса гармоники звонки и пронзительны. Разбитые кирзачи, бутсы, хромовые сапожки сами собой выбивают чечеточную дробь.
Славяне пляшут. Жесточайшая, какой еще не было в истории, война не истребила в них любви и уважения к жизни.
Бабка Прасковья, солдатские дети и Солдатка
Бабка толклась у печи, маленькая, костлявая, — подметала в угол сор замызганным ястребиным крылом.
— Ты как в Крым за солью на волах ездил, — сказала она ворчливо. — Орда-то вскочила, есть просит…
Петька свалил у затопа поленья, нащепал топором лучины, слазил в подпол за картошкой. В избе было холодно, сумеречно, словно за мокрыми рамами не утро, а уже поздний вечер. Орда — белобрысые девочки Ленка и Тамарка и кривоногий Игоряха — тихо, как тараканы, шушукались на печи.
Когда дрова на поду разгорелись, бабка задвинула чугун к огню и, задыхаясь, села на лавку.
— Ох, Петька, видать, смертынька на пороге, а помирать мне нельзя… Пропадет без меня орда… Буду Манефу Васильевну ожидать…
— А может, она их бросила, — сказал Петька. — Кормить нечем, одевать нечем…
— Пустой ты мужик! — осерчала бабка. — Табачище вон смолишь с Шуркой, а ума капля! Станешь вот отцом-матерью — попробуй брось! Чую, беда с ней вышла… Как мы зиму переживем — не знаю! И муки у нас мало, и картоха в нонешнем году уродилась плохо… А сильней всего я немца-германца боюсь!
Петька вздохнул, фашистов он тоже боялся. Вчера соседка тетка Груша принесла долг — пузырек керосину, говорила, что немцы уже в Скопине и в Михайлове и даже были в селе Троицком, от которого до Карповки семь километров. И одна «танка», тетка показала ее меньше печки, провалилась на мосту, и ее бросили.
Когда картошка поспела, Петька слил пахучую воду и поставил парящий чугун на стол. Ребятишки уже сидели на своих местах, хихикали, пихались локтями.
— Пускай веселятся, — сказала бабка, когда Петька хотел навести порядок.
Старуха дала ребятишкам по три картофелины. Себе выбрала самые маленькие, корявые, а Петьке, как старшему, — четыре, которые покрупней и рассыпчатей. Всем по щедрому ломтю хлеба. На него смотреть было страшно-голая картошка и серый капустный лист. На пудовую дежу две пригоршни несеяной муки.
Петька хмуро жевал «лякушек», как он звал бабкино печево, поглядывал исподлобья на ребятишек, думал: «У младшего шея, того и гляди, оторвется, ему бы сейчас молока парного, через неделю бы оживел!»
Жальче всех было Петьке кривоногого Игоряху. Тамарка и Ленка, его сестры, девки жох, хотя всего на год старше, так и шили за бабкой по пятам, и насчет еды проворные. Пока Игорек, обжигая пальцы, колупал картофелину, лепетал что-то, девчонки свою долю слопали и у брата прихватили.
Детей оставила жиличка, Манефа Васильевна, учительница, эвакуированная из Смоленска. Получила с оказией весточку от мужа, что лежит в госпитале в Горьком, в ночь собралась, как на крыльях. Обещалась вернуться через неделю, прошел месяц — ни слуху ни духу. И от отца нет Петьке писем — хоть бы словечко черкнул: живой, мол!
Петька съел три картофелины, четвертую подложил Игорьку. Девчонки завистливо насупились и полезли на печь, в тепло.
— Петика, миий, кусьная катошка, — лепетал картаво Игоряха.
С улицы кто-то постучал в раму. Бабка пошла открывать дверь, ворча:
— И есть-то сморчок, а барабанит, как стоящий…
Бабка точно угадала — это оказался Петькин приятель, Шурка Галкин.
Шурка поздоровался с Петькой по-мужичьи за руку и сел на лавку, важно закинув ногу за ногу в больших яловых сапогах с подвернутыми голенищами.
— Беда мне, — сказал Шурка, — поясницу так и разламывает, видать, к снегу!
Покряхтывая, Шурка достал из кармана ватной пальтушки толстый ситцевый кисет и стал сворачивать цигарку. Бабка осуждающе покачала головой, но ничего не сказала.
Петька очень дружил с ним, и в школе за одной партой сидели, и в ночное лошадей гоняли, и карасей вместе ловили. Шурка был парнишка сильный, добрый — последнюю пуговицу отдаст. Одно плохо, наобещает, а сделать не сделает. Как-то у него не получалось, чтобы выполнить обещанное. То одно, то другое.
— Известия-то есть от батьки? — спросила бабка.
— Где там! Он небось в боях. — Шурка поперхнулся дымом, а откашлявшись, сказал сердито: — На передовой не особо распишешься, сама небось знаешь?!
— Да-а! — подтвердила бабка понимающе. — Писать на войне некогда, успевай только от пуль хорониться…
Игоряха, управившись с едой, полез, сверкая голой попкой, к сестрам на горячие кирпичи. Петька стал стирать тряпкой со стола, а Шурка делал ему знаки: кивал на дверь, подмаргивал. Петька подумал, что впереди еще дел куча, но не обязательно хвататься, как угорелому, за них с утра.
На улице Шурка сунул ядовитую цигарку в кадку с дождевой водой, стоящую у крыльца, позеленел и, жалобно глядя на Петьку, сказал, длинно сглатывая слюну:
— Видать, от глистов тошнит… Но очухаюсь, и мы на охоту пойдем… Там их тыщи!.. Кишат…
— Кто кишит?
— Утки, — сказал Шурка загробным голосом и вынул откуда-то пару толстых латунных патронов, покрытых бурым налетом. Одна гильза была заткнута газетной бумагой, другая грязной ватой. — Дробь в них картечная, отец сам катал на сковородках!.. На версту все живое кладет…
С голодухи, что ли, Петька сразу представил чугунок с горячим супом: из золотых блесток жира торчала белая утиная гузка. Он даже запах похлебки почувствовал, мясной, сытный и сладкий вкус ее, и принялся, как давеча Шурка, длинно сглатывать слюну.
— А ружье где возьмем?!
Ружье оказалось под рукой. Оно лежало в пожухлой крапиве за плетнем.
Задами, таясь от «сглазу», ребята побежали на Дьячков пруд. На развороченных бороздах хрустела под ногами бурая картофельная ботва, раскисшая клейкая земля тяжело липла к подошвам. В пустых садах тоскливо пахло опалой листвой, только рябина да кое-где возле сараев бузина дразнились красными ягодами.
Пруд был далеко за деревней, в крутобокой лощине. Почему его звали Дьячковым, Петька не интересовался. Зато все мальчишки знали, что на середке он бездонный. Даже самый лучший ныряльщик Егорка Кузьмичев не мог достать дна и, вынырнув, выпучив озорные глаза, кричал:
«Ужас глубочина! А водишша холодна, чисто кипятком жжеть!» Еще было доподлинно известно, что в пруду затоплен сундук, окованный «ржавой» медью. И тот же Егорка разведал, что он набит под крышку золотом. Но клад никому не давался, надо было знать слово.
Уток оказалось три: две серых утицы и гордый нарядный селезень. Заметив мальчиков, они неторопливо отплыли к противоположному берегу.
— Сейчас я их! — сказал Шурка, закладывая патрон и с натугой запирая ржавый затвор. — Лишь бы попасть!..
— Попадешь! — уверил его Петька и с надеждой посмотрел на ружье — разболтанную берданку с большой медной мушкой, неряшливо припаянной оловом.
Берданка, как и пропитанные дегтем сапоги, принадлежала Шуркиному отцу, знаменитому на весь район трактористу. Отцовскую обувку Шурка носил с разрешения матери, а ружьем завладел сам, правда, тайком.
Охотники присели за ветловый куст, на котором уцелело несколько желтых листков. Ствол берданки, чтобы надежней целиться, Шурка положил на рогатульку, сплюнул и прищурил глаз. Петька зажмурил оба глаза и заткнул уши, ожидая огненного грохота. Так он сидел долго и думал, хорошо бы друг убил пару — вышло бы по штуке. А если одну, то при дележке резать ее следует вдоль, получится ровнее, без обиды. Наконец ему надоело сидеть в глухоте и темноте, он открыл глаза. Шурка, прижав щеку к прикладу, обмотанному проволокой, все еще прицеливался. Петька вынул пальцы из ушей.
— Ну, чего ты?
— Жду, как сплывутся…
Ожидать пришлось долго. У Петьки озябли ноги и руки. Наконец утки собрались кучкой. Шурка выпятил язык и нажал на курок. В ружье что-то слабо звякнуло, а выстрела не получилось.
— Осечка, — сказал Шурка и едва осилил затвор. Патрон остался в ружье. Стрелок даже сломал ноготь, а выковырнуть его не смог. Пришлось выламывать сук и им, как шомполом, выбивать гильзу.
И второй заряд дал осечку. Утки плавали себе, не обращая внимания на охотников, плескались, громко крякали, чистили перья. Когда Шурке надоело клацать впустую, он навязал берданку Петьке. У того тоже стрельбы не получилось. А уткам; видно, надоело на пруду, они вдруг с шумом поднялись, сделали несколько низких кругов и стали круто подниматься ввысь. Мальчики провожали их взглядом, пока птицы не превратились в черные точки, а потом совсем исчезли в мутной дали.
— Соли бы им на хвост! — сказал Шурка. — Чего им не сиделось?! Барыни какие!..
Охотники уныло пошли к деревне. По дороге они поссорились.
— Никудышное твое ружье, — попрекал Петька дружка. Ему было обидно, что не придется попробовать жирной похлебки.
— Теперь никудышное, конечно, — защищался Шурка и вертел во все стороны берданкой. — А как бы уток настреляло, так бы сразу — кудышное!.. Отец из него шестерых волков убил, а раз как в коршуна ахнет!
И здесь ахнуло! Да так, что ребята присели. То ли Шурка нечаянно нажал на курок, то ли ружье само по себе — думало, думало да и стрельнуло.
— Ну, а ты говорил — никудышное, — гордился Шурка, боязливо неся берданку в вытянутой руке. — Этому ружью дай только пороху!.. Мы еще зайцев наколотим воз!
С охоты разговор перескочил на колхозные дела, и Шурка стал хвастать, что его вызывали в правление и уговаривали работать на тракторе. Но Петька урезонил завравшегося приятеля:
— Тракторист — верхом на палочке! Чай, сам знаешь, скот угнали, трактора угнали, хороших коней угнали, одна живодерня осталась! Молотилку зарыли в овраге… И фашисты, того и гляди, нагрянут! Ты думаешь, их на нашу Карповку завидки не берут? Берут! Они небось все локотки пообкусали?!
Подходя к деревне, ребята спрятали берданку в чужом сарае в солому, заткнув тряпочкой дуло.
На улице было безлюдно, тихо. Лишь у колодца на старой липе, где летом в дупле жили осы, сидела, встопорщившись, ворона и гадко каркала, словно подавившись. Да у Кузьмичевых в сенцах кто-то стучал молотком. Ребята посвистели, но Егорка даже носа не показал, а из соседней избы Шуркина мать закричала в фортку:
— Санька, марш домой, хватит собак гонять!..
— Сейчас я тебе оладышков овсяных принесу, — зашептал Шурка. — Мать, должно, уже напекла. Ты чуток погоди, как она отвернется, я их раз — и в пазуху!..
— Не надо! — сказал Петька. — Я не хочу… Я могу не евши хоть год терпеть… Ежели для Игоряхи?..
— Ну, жди!..
Шурка ушел, а Петька сел возле колодца на перевернутое водопойное корыто, втянул руки в рукава и пригорюнился.
Скучно. Холодно. Деревня как вымерла, даже кур не видно. Сырой ветер гонит сплошные тучи, дергает рябью по лужам. Тележные колеи залиты всклянь мертвой осенней водой.
Петька вздохнул, вспомнив, как дед Иванов говорил, что Карповка теперь, если рассуждать по-военному, ничейная деревня. С его слов получалось, что это вроде бы сразу и хорошо и плохо.
— Ежели наступления нет — сиди, радуйся! Ежели бой, тогда пожгут! — уверял всех дед Иванов. — И теи, вражеские солдаты, и этии, наши солдаты, будут садить в нее из пушек, кому не лень!..
Бабы ругали деда и обзывали паникером, а Петька ему верил: старик побывал на двух войнах.
В какой раз принялся моросить дождь. Петька въежил голову в плечи и поглядел на Шуркины окна. Увидел, как товарищ приплюснул нос к стеклу, потом подышал на него, чтобы отпотело, и начал писать что-то пальцем. На всякий случай Петька покивал ему утвердительно: понял, мол. Но овсяных оладьев он не дождался, потому что увидел: в Карповку, с большака, где стояли черные столбы с оборванными проводами, со стороны Михайлова, сворачивали войска: пеший отряд, телеги и впереди верховой.
Петька испугался, подумал, что это фашисты, которые собрались с духом, чтобы захватить ничейную деревню. Он уже подхватился, чтобы дать деру, но услышал песню:
Средь голубых уральских вод, В боях Чонгарской переправы!..Пели здорово, горласто, с присвистом, с каким-то озорством, особенно напирая на слова припева:
Прошла! Прошла! Тридцатая вперед! В пламени и славе!..Петька обо всем забыл и кинулся, не разбирая луж, навстречу.
Красноармейцы шагали устало, но в ногу. Мокро поблескивали стволы винтовок, граненые и ножевые штыки. Некоторые несли на плече пулеметы с круглыми дисками.
В повозках, укрывшись кто чем, сидели перевязанные бойцы. Ездовые, потряхивая вожжами, шли рядом.
Петька поспел в самый раз. На раскисшей обочине, напротив высокой избы деда Иванова, два красноармейца снимали с лошади человека в черной кожанке, перетянутой тугой портупеей. Его, как маленького, отнесли на руках к плетню и поставили на землю, подали оструганную палку. И здесь Петька увидел, что правая нога его в сапоге, а на другой, толсто укрученной тряпками, резиновая большая галоша, перевязанная веревочкой. Под мышкой у человека в кожаном пальто висел автомат стволом вниз.
— Сизов! Два взвода оставить здесь на ночевку, остальным продолжать движение на Тырново! — сказал человек командирским, не терпящим возражений голосом.
Тщедушный боец в стальной каске, наверное, Сизов, придерживая рукой приклад винтовки, побежал, оскальзываясь на грязи, тоненько крича: «Шестой взвод! Четвертый взвод!..» Второй красноармеец, коренастый, с широким красным лицом, крючконосый, в барашковой кубанке с зеленым верхом, достал из жестяной коробочки папироску, ловко прикурил ее от блестящей зажигалки и протянул человеку в кожанке:
— Держите, товарищ капитан!..
— Спасибо, старшина, — сказал капитан. Он обернулся и увидел Петьку. — Ну и деревня! Вымерла, что ли?!
Мальчик оробел и, немного запинаясь, ответил:
— Не-ет… Живые… Какие скот угнали… Какие, видать, испугались… Мы ничейные… Ждем, когда нас жечь начнут…
— Кто жечь?! Почему жечь?!
— Это дед Иванов, вон в окно смотрит, он так говорил, как ничейная деревня, так все и стараются, кому не лень, из орудий в нее попасть!..
— Угу! Понятно! — сказал командир, пристально, холодными, как дождь, глазами оглядел Петьку, усмехнулся и приказал старшине развести бойцов по избам и проследить за отдыхом.
Когда Петька прибежал домой с этим известием, бабка стала брюзжать:
— Господи, а у нас и самовара нет, чайком защитничков погреть!
Потом она загнала ребятишек, возившихся на полу, обратно на печь, послюнила посудную тряпку и принялась оттирать перед осколком зеркальца на суднике сажу из морщин. Как раз в это время в избу, толкаясь, вошли человек пятнадцать красноармейцев с оружием, с мешками, с какими-то железными коробками. Кто-то буркнул:
— День добрый, хозяева!
И бойцы, кто сняв мокрую шинель, кто как есть во всем, даже не ослабив ремня, стали укладываться на пол, на лавки.
Бабка, причитая, сунулась что-то подстелить им, но красноармеец в шинели с обгорелым рукавом, устраивая рядом с собой пулемет, сказал, сердито моргая:
— Не лезь ты к нам, старая, мы уже спим как убитые!..
В избе запахло кислым сукном, мокрой кожей, ружейной смазкой. Через минуту от храпа дребезжала посуда на полке.
Петька все порывался к пулемету, хоть бы пощупать, но бабка на него заругалась, велела принести дров, намыть два ведра картошки. Ребятишки, свесив головы с печи, глазели на спящих бойцов, шептались. Петька, занятый делами, не заметил, как Игоряха сполз по приступкам на пол и, перелезая через лежащих вповалку красноармейцев, наступая им на животы, на головы, на руки, добрался до пулеметчика.
Пулеметчик спал навзничь, широко разинув рот, лицо у него было простоватое, молодое, доброе. Правая рука с черными подноготьями лежала на пулемете, а левая, с пальцами, сжатыми в щепоть, на груди. Он, видно, хотел расстегнуть крючки шинели и не успел.
Игорек внимательно заглядывал ему в рот, трогал жёлтые брови и розовый шрам на лбу, с которого еще не совсем сошел бурый струпчик, и, улыбаясь, лепетал:
— Папи сплит… Папи…
— А ну брысь на печку, беспортошная команда! — приказал Петька.
И слышал, как Ленка шептала брату:
— Дурак кривоногый!.. Пускай папа будет вон тот, с усами, или вон тот, у какова заместо шапки железный горшок…
В избу вошел старшина, стряхнул у порога дождь с кудрявой кубанки, недовольно заворчал:
— Уже спят как мухи! Было ясно и понятно сказано, всем разуться и раздеться, отдыхать по-людски! Ну, сейчас я устрою побудочку!..
Бабка сказала сердито:
— Я тебя щас рогачом как попру! Будильщик нашелся!..
— Ишь ты, заступница какая, — сказал вяло старшина и привалился плечом к притолоке.
— Видать, ты ихний начальник и, может, даже умный, — не уступала бабка, — а парни пущай спят, как спят! Мы их с внуком разуем и портянки ихнии и носки высушим!.. И ты бы, чем зеньки-то под лоб дурно закатывать, тоже бы лег! Хоть на печь, хошь куда нравится и дрыхал бы!
— Спасибо, мать… Спать не буду, но посижу…
Старшина повесил кубанку на одежный гвоздь возле двери, отодвинул на лавке чью-то ногу в грязном сапоге, из-за голенища которого торчала рукоятка ручной гранаты, и, когда садился, даже застонал. С минуту он сидел, подперев щеку сильной ладонью, но рука подломилась, и он чуть не ударился лбом о стол. Ребятишки захихикали.
— Кыш! Кыш! Орда окаянная! — осерчала на них бабка.
— Я округовел совсем, — виновато сказал старшина и прищурился на печь, на ребячьи головы. Должно, в глазах у него все двоилось, может быть, даже троилось, и он подозрительно спросил: — Откуда у тебя, старая, столько содомы?..
— С кудыкиных гор! Это внучата мои — солдатские дети! — гордо ответила бабка и стала пробовать щепочкой картошку в кипящих чугунах. — Никак, поспела… На-кось вот тебе с разварочки картофину!..
Но старшина уже спал, уронив голову на стол, и широкая его спина с торчащими лопатками, обтянутыми мокрым сукном, поднималась могуче и ровно.
— Бабуся, дай хоть половинку, — заныла Ленка, — исть так хочется…
— Ох, девка! Ох, девка! Совести у тебя ни на медный грош! — укорила ее бабка, подавая на печь всем по штуке, а Петьке сказала. — Што с несмышленых спросишь, у них весь умишко в животе!..
Но когда бабка отвернулась, Петька забрался к чавкающей ребятне и грубовато стал им внушать:
— Жрать хотят все! Я тоже, может, даже больше всех… А кто сейчас главнее?.. Я спрашиваю, кто?!
— Красноармейцы, — сказала шустрая Тамарка и на всякий случай спрятала картофелину за спину.
— Правильно! И строго наказываю вам, проснутся военные дяденьки, будут обедать, чтобы ни одна душа к столу не лезла! Чтоб никаких побирушек я не видел!..
Девчонки послушно согласились. Петька человек был справедливый, но иногда, под горячую руку, мог и треснуть больно по макушке.
Когда Петька, подхватив тряпкой, ставил чугуны на стол, старшина проснулся.
— Добро! Сейчас войску побудку играю!..
Бойцы подымались вяло, удивлялись на босые ноги, ворчали на старшину, что не дал поспать, но, принюхавшись к густому картофельному пару, разгулялись, повеселели.
Маленький ловкий красноармеец, которого товарищи почему-то называли Клавкой, вытряхнул из мешка две круглые буханки подового хлеба, длинный брусок сала с прилипшими к нему клочками бумаги. Ему вручили финку с красивой наборной ручкой, он попробовал жало на ногте, сказал: «Ну, Клавка, востри глаз-ватерпас! Народу туча собралась! Кило меньше, кило больше, а все в твою пользу!» — и моментом раскромсал на точные куски хлеб и сало.
Бойцы принялись лупить картошку; обжигаясь, перекатывали в ладонях, дули, прежде чем откусить.
Петька забрался на печь к ребятишкам и старался не смотреть на жующих бойцов. У него даже закружилась голова, так хотелось хотя бы разок вцепиться зубами в крутую горбушку. Ощутить вкус чистого ржаного хлеба, его пьянящую сытость, волшебный кисловатый запах чуть подгоревшей корочки. И он закрыл глаза, представляя эту волшебную увесистую краюшку, от которой сколько ни откусывай полным ртом, а она не убывает.
И вдруг звуки жевания прекратились. Тягостная, нехорошая тишина повисла в избе. А у Петьки жарко запылали уши от стыда. Перед столом топтался Игорек. Босой, в сползающих штанишках, худенький, он жалко улыбался и, оглядываясь на печь, канючил:
— Хебца хатю… Хебца…
Отдернулись и замерли руки, протянутые к чугунам, кто-то остановил у самых губ надкусанную пайку. А у старшины широкое заветренное лицо вдруг сделалось плачуще-злым, и он сказал сипатым, каким-то неживым голосом: «Сынок! Милый!» — и подхватил мальчика к себе на колени. А следом и бабка, и девчонки, и Петька оказались среди бойцов за тесным столом.
И какой вышел неожиданный, радостный праздник, когда бойцы развязали свои «сидора»! Как ни тощи были заплечные мешки красноармейцев, вырвавшихся из окружения, с боями прошедших по вражеским тылам, все же среди гранатных запалов, пакетов с бинтами, пистолетных и винтовочных обойм, жирно смазанных патронов россыпью откопался заваленный кусок рафинада, пачка пресных галет, белый сухарь и даже мятая шоколадка в ломком станиоле, однажды припрятанная бойцом про черный день и забытая, потому что слишком много выпало на его долю этих черных дней.
Потом красноармейцы опять улеглись, но уже вольготно, раздевшись, и вскоре снова захрапели, словно соревнуясь, кто громче и трескучее.
Старшина сидя подремал с полчасика и ушел. Петька помогал бабке сушить портянки и носки бойцов. С улицы доносились какие-то голоса, дождик тихо стучал в стекла. В щели, в кирпичном тепле, уютно скрипел сверчок. Ребятишки тихо хвалились друг перед другом подарками.
Стало уже смеркаться, когда старшина вернулся. На груди у него висел автомат.
— Ну и крепок солдатский дух! С улицы, со свежего, аж с ног шибает, как нашатырем! — сказал он, посмеиваясь. И, нагнувшись к спящим на полу, всмотревшись в лица, стал трясти двоих. — Проснись! Проснись, ребята!.. Сизов, ты собирайся со мной! Шакиров, остаешься за старшего, в двадцать ноль-ноль сменишь посты… Подъем в ноль-ноль часов! Ежели припозднюсь, следуй на Тырново, капитан знает!
Старшина и ловкий красноармеец Сизов, которого за столом называли Клавкой, пошептались и ушли.
— Вот, Петюшка, какая солдатская доля, — сказала бабка, — слякоть, дож дождем, а ты иди!..
Петька вздохнул, зевнул протяжно да и полез на печь к ребятишкам. Потеснил их чуток, натянул на голову шубейку, вдохнул приятный запах теплой овчины и не удивился, когда из темного угла выплыл селезень с радужной грудью, раззявил плоский костяной клюв и стал дышать на него холодом, а потом обидчивым голосом закричал: «Ты што, Климов, строй путаешь! Разлепи глаза-то!» И Петька разлепил глаза. На столе горела «летучая мышь» и гасничка-фитилек в блюдечке с керосином.
Дверь была раскрыта настежь. Бойцы, горбатые от мешков, стучали оружием, сапогами, выходили в сени. А двое бережно, словно сырые яйца, перекладывали из железного ящика в мешки круглые рубчатые гранаты. Бабка сидела на лавке, прикрывала рукой качающийся огонек, говорила:
— С вас, мужиков, сейчас один спрос — воюйте крепче! А мы, ваши бабки, матеря и сестры, трудиться будем не разгибаясь, помогать вам!..
— Вот потому этой войне и дали имя народной, — сказал боец, завязывая горловину мешка и пробуя его вес. — Все сто семьдесят миллионов людей, как один, солдатами стали!.. Ну, прощай, мать! И ежели у Ивана Василича, у старшины, выйдет дело, будете вы жить как по-царски!..
Потом Петька опять уснул, но без снов. Разбудила его Ленка. Бегала по малой нужде на крыльцо и влезла под шубу, как ледышка.
— Ой, Петя, ой, Петенька, — зашептала она, прижимаясь, — ты поглянь на улицу, ты поглянь, что там деется!
Петька кое-как оделся, напялил на босу ногу сырые ботинки и вышел на крыльцо.
Было уже светло, холодно. Шел моросящий дождь. Где-то на краю деревни горланил петух, у Кузьмичевых в сарае скулила собака.
Под окнами избы стояла пароконная фура. От огромных, мосластых лошадей шел пар. В телеге, накинув на спину кусок парусины, нахохлившись, сидел красноармеец Сизов и курил, пряча папироску в мокром кулаке. Старшина с подоткнутыми за ремень полами шинели отвязывал от задка худую вислобрюхую корову. Бабка, в кособоко надетой юбке, в валенках, шлепала по грязи вокруг коровы, всплескивала руками и причитала:
— Сыночки вы мои! Желанщики вы ненаглядные!
Бабка обняла корову за шею с низким подбрудком, поцеловала в белую плешинку между рогами.
— Мы хотели ее забить, да пожалели — стельная и одни кости, — сказал старшина. — Видно, как гурт гнали, бросили, она обезножела… Благо стога сена рядом… Прощайте!
Старшина тяжело влез в телегу. Кони без понукания переступили захлюстанными мохнатыми ногами и, словно падая, влегли в хомуты.
Петька совсем замерз. Ветер прижимал печной дым к земле. Облака опускались все ниже и ниже и начали сеять снежную крупу. А бабка, не замечая ни холода, ни промокших валенок, ходила вокруг коровы, оглаживала ее раздутые ребрастые бока.
— Чего пугалом стоишь! — сердито сказала бабка. — Бери за веревку и веди, а я буду погонять!
— Куда вести? — спросил Петька.
— Туда-сюда! В избу! Некуда нам Солдатку, кроме избы, ставить!..
Мальчик сразу догадался, что Солдаткой бабка окрестила корову, и эта кличка ему понравилась. А поместить ее действительно было негде. Бабка уже давно никакой скотины не держала, только пяток кур. Да и те перевелись. Двух сварили отцу на дорогу, остальных перетаскала лиса, а может, и вороватая собачонка Кузьмичевых. Курятник же был мал, корове не повернуться. И там была яма, заложенная сверху досками, где Петька сам зарыл сундук с добром: отцовы скороходовские ботинки, костюм, тульскую гармошку, две иконы, медный щекастый самовар, учебники с тетрадями, сатиновый красный галстук и бабкин смертный узел.
Петька очень беспокоился, что Солдатка застрянет в тесных сенцах, но все обошлось.
Странное дело, на улице корова почему-то казалась совсем небольшой, а в избе сразу раздалась и заполонила своими боками почти все свободное место.
Орда проснулась, ссыпалась с печи кто в чем и полезла к Солдатке, стала дергать за хвост, заглядывать в широкие ноздри, просить молока.
— Терпите маленько, — улыбалась бабка, вытирая корове спину рваным мешком. — Будет молоко и сметана!.. Вот ума не приложу, как мы ее прокормим?..
Но девчонок занимало не сено, а где будет спать корова — на печи или на кровати. А Игоряха шлепал в ладошки: «Ошадь! Ошадь!» — и пискляво ржал.
Пришел дед Иванов, укрученный поверх полушубка шерстяной шалью, с прозрачной каплей над зелеными усами, будто на улице ужасный мороз. Долго смотрел на корову, приставив к никлым бровям ладонь козырьком, словно Солдатка была невесть где, в какой дали, и заключил, что она хотя и тоща «как шкилет», но будет страсть удойной.
Пришел Шурка с матерью. Тетка Настя долго ощупывала вымя, сказала, что корова уже «причинает», и велела брать у нее сено из прикладка за двором. Когда мать ушла, Шурка свернул толстую цигарку, выкатил по-хозяйски из печи уголек, прикурил. Дома баловаться табаком он боялся. И, важно дымя, не вдаваясь в подробности коровьих статей, сказал:
— Ты, бабка Параша, слушай мово дельнова совета!.. Я про корма!.. Тебе стадо можно держать… Бери косу, коси и вози!..
— Чего возить-то, сопли твои табашные? — насмешливо спросила бабка.
— Ну, ты сказанешь! — обиделся Шурка. — Я ей дельное, а она хиханьки-хаханьки!.. А проса-то какой клин стоит! Все одно под снег уйдет!.. Мы с Петькой накосим, а мамка лошадь даст…
Шуркину мать недавно избрали председателем колхоза, вместо ушедшего на фронт Семена Кузьмичева.
И с этого утра корова задала всем работы. Девчонки сделались скотницами, бабка вроде заведующей фермой — только указывала, Игоряха состоял при ней неизвестно в каком качестве. Петьке же забот выпало хоть пруд пруди: корм добывать, воду таскать корове на пойло, и дрова, и печь топить, и… портняжить на ребятишек. Но он понимал, что без его рук в хозяйстве пойдут нелады, работой не тяготился, все делал быстро, ловко и стал даже покрикивать на Прасковью Селивановну, когда та заступалась за девчонок: «Ты бы, Петька, сам навоз убрал, маленькие они…» А Солдатка, конечно, и мыслей не держала в своей большой рогатой голове, что проживает она не в хлеву, а в избе, и, когда приспичивало, плюхала и журчала на пол без стеснения.
Иногда Шурка приносил газеты, и Петька вслух читал сводки Совинформбюро, что под Москвой идут тяжелые бои и наши войска стоят насмерть. Между тем жизнь в Карповне оживилась. В большой колхозной риге на току застучали цепы. Бабы стали возить из скирд ржаные снопы. Наладили старенькую веялку. Стемна дотемна она ржаво повизгивала шестернями, гремела решетами. Зерно ссыпали в мешки и развозили по дворам сушить на печах. А после сушки отправляли на станцию на элеватор в фонд обороны Родины.
И раз кудрявая Ленка набрала с печи целый подол зерна, принялась потчевать корову, приговаривая: «Ласточка ты моя рогатенькая! Красотуля! Кушай-жуй!»
Никогда Петька не видел бабку такой обозлившейся. Она отняла рожь у девчонки, ухватила ее за льняную кудель и, дергая, кричала:
— Ах ты соколиха-разбойница! То ж солдатский хлеб! Ты у батьки свово украла! Ты батьку свово оголодила, а он, может, раненый-безногий!..
Ленка забралась на печь за трубу и просидела там, тихо скуля, до ночи. Петьке было жалко девочку, и он тайком от всех сунул ей яблоко антоновку, что дала ему старуха Федоровна.
…Шли дни. Северный ветер гнал тучи, низкие, косматые, грозящиеся снегом. По утрам лужи подергивались ледком.
Однажды, чуть свет, пришел дед Иванов. Петька удивился. На шубе у деда нарядно висели, позванивая, Георгиевские кресты и медали, которые он получил за Порт-Артур и за войну с немцами, участвуя в Брусиловском прорыве в Галицию.
— Желаю здравия! — бодро оказал дед, разгреб зеленые усы и попробовал выпрямить спину.
— Ты, Максим Терентьич, никак, хмельной? — спросила бабка.
Дед Иванов надевал «бант» только по великим праздникам.
— Эх, Паша! Давно такое занятие в отставке! Хотя бы по нонешнему дню и надоть бы стакашок!.. Гвардия наша советская фашистов бьет, и Москвы им, чертоломам, не видать будто ушей своих!
Бабка заплакала и стала креститься в пустой угол на паутину. Дед посидел немного, передохнул и пошел, бренча крестами и стуча палкой, разносить радостную весть по деревне.
Как-то Петька проснулся, словно его толкнули. Он открыл глаза и подумал, что случилось необычное. В избе было светло, как-то уютно и даже нарядно.
Корова лежала на полу, тихо постанывала. На рогах у нее красовались тряпочки-банты, девчонок работа. Петька оделся и вышел на улицу. После темных сеней ему показалось, что он ослеп. Все было бело. Белые крыши, белое поле, дорога, по которой отчетливо печаталась цепочка собачьих следов да кое-где птичьи крестики.
Белый пушистый снег лежал на перилах крыльца, на столбиках изгороди. Он казался теплым и мягким, как пух. А пахнул он пронзительно холодными утренними яблоками, какие мальчик любил подбирать под старой коричной.
На ветках ясенка тоже лежал снег и сидели, притихнув, толстые воробьи. Петька слепил комок и запустил им в дерево. Воробьи с шумом снялись и перелетели на березу к Шуркиному дому. И белые мягкие хлопья стали сыпаться и с ясеня и с березы.
Бабка стояла в одной кофте и разномастных валяных опорках на босу ногу с охапкой соломы в руках и улыбалась, глядя на поле за деревней, непонятно где сливавшееся с белым небом.
— Вот зима все и принарядила… Хорошо! Ты, Петька, вели ребятишкам гулять, пускай порадуются!..
— Куда тебя на холод вынесло, — выговорил Петька бабке. — Лежала бы себе на печи!
— Належусь скоро, Петюшка… Належусь на том свете, надоест мне лежать, да не встану!.. Ни снегу там, ни дождя!..
Опять заладила про свое! Совсем из ума выжила, старая!
Бабка не обиделась, понимала, что ругает ее внук любя и жалея.
— Счастливый ты, Петька, человек, — сказала бабка, — сколько у тебя впереди! Ну, ты не хмурься, я не от зависти… Я ведь тоже пожила, всего видела: и плохого и доброго! И горюшка, и счастья!
— Чего уж там! — сказал Петька. — Какого ты счастья видела?..
— Маленький ты еще, глупый! — сказала бабка. — Ты думаешь, что счастье-то, оно как золото сверкает? Нет! Счастье-то не в сундуках схоронено, а вокруг тебя и каждый день!..
Петька махнул рукой, для него жизнь была просто жизнь, неизмеримая и бесконечная. А что это настоящее счастье, человек, видно, начинает понимать перед последним своим порогом.
Петька сбегал к Шурке, но тот где-то мыкался с ружьем, потом он завернул в сельский Совет проведать, нет ли почты, потом заглянул на конюшню. А когда вернулся, снег у крыльца был весь истоптан, салазки, вытащенные из сарайчика, валялись посреди дороги, а на них сидела тряпичная кукла с таким страшным лицом, нарисованным химическим карандашом, что, пожалуй, ей только и следовало обитать в подпечье, пугать домового, если бы он там водился.
Петька устроил санки на место, а уродину в сердцах забросил на крышу.
В избе он застал суету. Соседка из большого чугуна замывала пол, а бабка трусила на протертые чисто доски свежую, пахнущую холодом солому. Корова лежала. Широкие, как обручи, ребра ее устало вздымались. Девочки сидели, свесив ноги с печи, строго молчали, переглядываясь. Игоряха, перевязанный крест-накрест бабушкиным шерстяным платком, прыгал на кровати.
— Порадуйся, Петька, — сказала бабка, — одарила нас Солдатка!..
В закутке, между торцом печи и стеной, на ватной подстилке лежал гнедой, цвета нового кирпича, теленок, подвернув неуклюже ноги с крохотными, будто прозрачными копытцами. Он был блестящий, словно только-только вымытый, лобастенький, с белым вихорком.
— Бычок-разбойничек! Ну красавец, ну красавец! — сказала соседка.
— Титилек, титилек, — лепетал Игоряха.
— Теперича заживем! — сказала бабка. — И как мне за этих солдат молиться, какому угоднику?! Проснусь я, ночь-полночь, лежу, лежу на старых своих боках, и все-то они у меня перед глазами, и каждому-то поклонюсь я низко-низко в ноги…
На всю жизнь запали в память мальчика звуки ударявшейся в жесть молочной струйки. В начале дойки они были весело звонки и будто вскрикивали радостно. Потом, когда подойник наполнялся, они становились глуше и лишь довольно бормотали.
Потом бабка разливала молоко по кружкам, через чистую тряпочку, приговаривая: «Эту кружку Игоряхе-неряхе! Эту Ленке — голой коленке! Эту Та марке-кудряшке! Эту бычочку-сыночку!»
Иногда молоко переливалось через край, и бабка громко схлебывала лужицу со стола.
Первые дни орда жадно выпивала весь удой и завистливо поглядывала на долю бычка. Но Солдатка прибавляла и прибавляла, молоко стало отстаиваться в кринках, бабка снимала кленовой ложкой вершки и делала вкусную картошку-толченку.
Один раз Петька застукал Игоряху, когда тот, запустив пятерню в кринку, вытащил ее оттуда словно одетую в толстую белую варежку и, жмурясь, мурлыча, стал облизывать, роняя густые капли на рубаху и на пол.
— Чево ты делашь? Чево творишь? — закричал на него Петька бабкиным голосом. — Одену тебя хворостиной, идола безмозглова!
— Кусьно, кусьно, — залепетал Игоряха, сияя своими удивительными синь-васильками и протягивая Петьке ладошку. — На! Лизи… кусьно!
— Кот ты, кот! — сказал Петька не в силах сердиться на проказника. — Ну, что мне с тобой делать?..
Игорек обнял Петьку за ногу и принялся мяукать.
Зима пришлась на этот год лютая. Тетка Настя говорила, что холода, пожалуй, забирают куда сильнее, чем в тридцать девятом, когда морозы побили почти все сады. Печь топили по два раза, а на стеклах изнутри нарастало на палец льду. Ребятишки даже по большой нужде терпели до крайнего, так было ужасно выскакивать в сенцы, где из всех щелей в бревнах лезли колючие бороды мороза, и холод, словно вода, тек с улицы из-под двери.
Петька вставал затемно, плотно одевался, брал салазки, веревку и шел в колхозную ригу за соломой.
Ломкая тишина царила вокруг. Над белыми крышами деревни неподвижными столбами стояли печные дымы. Холодные звезды шевелились в черном небе, свет от них шел колючий, длинными иглами. Мороз сразу лез под кожушок, принимался щипать за щеки, за нос. Снег пронзительно ахал под валенками.
Пока мальчик навьючивал на санки солому, утаптывал, увязывал, восточная половина неба линяла, наливалась зеленым светом. Темнота медленно отступала и, уходя, словно слизывала с неба звезды. Над белыми холмами вытягивались розовые полосы, как легкие перья. Постепенно они накалялись, и, когда на них уже было невыносимо смотреть, рождалось солнце. Петька, припрыгивая возле санок, любовался, как огромный медный шар подымается над землей.
И вот в самые холода хлынули через Карповку и мимо нее, прямо полем, войска. Они шли сплошным потоком. Телеги, пушки на конной тяге, танки, сани-розвальни, зашпиленные брезентом, выкрашенные белым грузовики, нагруженные крепкими ящиками.
Целиной катили лыжники. А пехотинцы-красноармейцы с винтовками и автоматами, которые в валенках, которые в ботинках с обмотками, почти бежали. Они на ходу хлопали руками по бокам. Пар курился над ними. И вся улица повизгивала, крякала, вскрикивала под их ногами. Петька торчал на крыльце, покуда не пробрало до кишок.
— Видать, на Михайлов наступают, — поделился Петька с бабкой своей догадкой. — А я все глядел, нет ли наших, что ночевали осенью?..
— Они небось давно головы сложили, — сказала бабка. — Сам газету читал, насмерть воевали, ни шагу назад…
Дверь с натугой растворилась, в избу дохнуло холодом, и, стуча заколяневшими сапогами, вошли двое бойцов в новеньких белых полушубках, в шапках с опущенными ушами. Брови у них были заиндевевшие, а щеки и носы, ошпаренные морозом, лоснились, должно смазанные каким-то жиром. Один из них поставил у двери «сидор», с трудом растягивая ссохшиеся на холоде губы, хрипато выдавил: «Драсе!», сбросил на лавку собачьи рукавицы, негнущимися пальцами развязал под подбородком тесемки, снял суконную на трикотажном меху шапку. И Петька узнал старшину, Ивана Васильевича. Второй военный тоже развязался и расстегнулся.
— Благодать! Как жаркий юг! Вот запах только…
— Притерпишься, товарищ капитан, — сказал старшина, — понятно, запах от коровьих оладьев не розами, а навозами, но зато в наличии молоко! — Старшина подмигнул Петьке, ребятишкам, бабке. — Ну, здравствуй, орда! Здравствуй, Прасковья Селивановна! И ты, кормилица-поилица корова, здравствуй!..
Бабка, не зная, чем угостить, куда посадить дорогих гостей, заохала, засуетилась, полезла в печь за похлебкой, опрокинула чугунок. Но Петька нашелся: брякнул на стол весь удой. Корову только-только подоили, и молоко в подойнике еще пенилось и дышало теплом.
Капитан копной сидел на лавке, пристально оглядывая избу с большой облупленной печью и корову, тупо занятую жвачкой, и притихших малышей, и растрепанную бабку с тощей седой косичкой, выбившейся из-под платка.
Жесткое лицо капитана с суровыми морщинами в углах рта отмякло, холодные серые глаза потеплели, и он, словно перешагнув что-то внутри себя, должно, войну, сделался совсем молодым и красивым парнем.
Петька нацедил гостям молока.
— За твое здоровье, бабуся! — сказал командир-капитан и залпом, словно спирт, выпил молоко и даже поморщился. — Вкусно… но для солдата это ясельный напиток!
Старшина, выловив пальцем из своей кружки какую-то соринку, прихлебывал молоко маленькими глотками…
— Слабость моя — молоко!.. А особо парное… Оно мне всегда мамкой пахнет, добрым теплом, моей деревней… А мать, это когда я мальчонкой был, для меня коровой пахла… Дояркой она работала, придет с фермы вся молочным духом пропитанная, и кофта и волосы…
— А ты поэт! — сказал капитан и как-то странно, а Петьке показалось с завистью, посмотрел на старшину.
— Душевный он человек! — сказала бабка.
— Я не хаю его, бабуся, я его люблю, — сказал капитан и принялся застегиваться и завязываться.
А старшина раскрыл мешок и выложил на стол на глазах обомлевших ребятишек шесть банок консервов, липких от солидола, толстый кус сала с чернильной надписью «шестой взвод», две буханки ржаного хлеба, кирпичик пшеничного и кулек слипшихся леденцов.
— Это вам бойцы-ночлежники прислали гостинца!
— Ну уж вы воюйте, как лучше, — сказала бабка на прощание, — да жизни свои отчаянные не ставьте зря под пули, чай, вас и матеря и бабки ждут!..
Войска прошли, и в Карповке опять началась обыденная жизнь, веселей застучали цепы в колхозной риге. А председательша, тетка Настя, уже заботилась о посевной и обещала Петьке, что он весной пойдет прицепщиком на трактор.
Минул январь, морозы стали спадать, зато февраль — кривые дороги — навалил снегу выше окон. Дни летели незаметно. Несколько раз за Петькой приходил Шурка, звал на охоту. Но мальчику было по дому дел невпроворот. Бабка совсем разболелась, и ему доставалась вся работа, даже на ребятишек приходилось стирать, у Прасковьи Селивановны хватало сил только корову подоить. И Шурка стакнулся с Егоркой. Петька не раз их видел, как они тонули в сугробах на задворках на самодельных лыжах с ружьем и рыжей собачонкой Букеткой.
«И наплевать! — думал Петька обидчиво. — Охотники! Зайцы небось со смеху обмирают!..»
Но Шурка подстрелил-таки здоровенного русака, принес его и, немного гордясь, сказал.:
— Зайца на троих дели!.. Решили, как ты многодетный, тебе половину, а нам другую на двоих, и мне шкуру!
Заяц валялся под порогом, обтаивал. Девчонки слезливо поглядывали на него, видно, жалели косого.
Егорка пнул зайца валенком:
— Чистый ведьмедь! Здоров, едва доперли! Ты, Петька, шкуру не испорти! Из нее прямо тулуп можно сшить!
Петька угостил охотников молоком и картошкой с пылу, с жару. Стрелки с устатка умяли чугунок толченки и кринку опорожнили до дна.
Пока ребята ели, Петька ободрал зайца, выпотрошил и разделил тушку, как было по уговору.
Егорка отпустил сыромятный ремешок на штанах.
— А молоко-то так себе! Вот наше молоко, ух! Пальцем на хлеб можно мазать!
Петька знал, какая лядащая коровенка у Кузьмичевых — одно название. Но Егорка был завистливый и норовил, чтобы во всем был его верх.
— Хватит врать-то! — заступился за честь Солдатки Шурка. — Через ваше молоко можно газету без очков читать!..
— Подумаешь! — сказал Егорка. — Зайца убил, нешто это заяц! Это блоха!
Охотники поругались и стали попрекать друг друга каким-то патроном, будто бы украденным у красноармейцев. Дело чуть не дошло до кулачной. И бабка, лежавшая весь день на кровати, пригрозила из-под ватного одеяла:
— Вот встану и отхожу вас сковородником!
Шурка и Егорка на скорую руку помирились, забрали свою долю зайчатины и ушли.
Но бабка не поднялась ни вечером, ни утром другого дня. Петька переделал все дела, накормил ребят тушеной зайчатиной, выпроводил на улицу, сам уселся к окну, поближе к свету, подшивать валенки. Бабка что-то забормотала, мальчик оставил работу и подошел к ней. Старуха лежала, глядя в потолок, выпростав поверх одеяла большие темные руки. Высохшие до кости, узластые в суставах пальцы все время шевелились, словно на ощупь отыскивали оброненную иголку. Нос у бабки сделался совсем как у Бабы Яги — крючком. Вот и щеки ввалились. Дышала она тяжело и редко.
Петька погладил бабку по холодной руке и не удержался от выговора:
— Говорил я тебе — не выскакивай на холод, а ты все, как молодка, нараспашку да на босу ногу!..
Крохотное личико бабки задрожало, из уголка глаза по морщинам сбежала слеза и расплылась пятном на подушке. Посинелые губы зашевелились, и Петька разобрал;
— Помираю… я…
И мальчик поверил, что Прасковья Селивановна умирает по-правдашнему, и с тоской попросил:
— Ты погоди… Был бы я один — другое дело… Я, почитай, уже мужик! А мелюзга-то?.. И батя с фронта вернется, спросит, почему тебя не уберег, наказ его не исполнил?! Не помирай, бабка!..
Но бабка уже не слышала и не видела лица внука. Его застили другие образы, забытые и полузабытые: отец в бараньей шапке, какие-то бородатые, поющие мужики, молодая улыбающаяся мать с серпом в руках, крохотный голый мальчик в люльке, кудрявый парень в ситцевой рубахе, обтирающий косу пучком травы. И эти лица, когда-то родные и давно ушедшие в небытие, были как берега, мимо которых она уплывала куда-то.
— Не помирай, бабка! — закричал Петька со слезами и схватил бабку за плечо. — Потерпи хоть до тепла! Как я тебя хоронить буду?! Землю-то ломом не уковырнешь, как железо земля!..
Пришли с улицы ребятишки, извалянные в снегу. Петька вытер слезы, раздел Игоряху, посадил на печь, а девчонок послал к соседям.
Первой пришла попрощаться с Прасковьей Селивановной толстоносая от нюхательного табака старуха Федоровна. Она посидела в ногах у бабки, сказала Петьке: «И вправду Паша собралась преставиться, ишь как обирается…» — и ушла оповещать других старух.
Петька накормил ребятишек, напоил телка и задумался. Надо было доить корову. У бабушки это выходило просто. Видно, так устроено, что, со стороны ежели глядеть, всякая работа проста и легка, а как самому выпадет, не знаешь, с какого края подойти.
Петька решился, натюряхал в пойло вареной картошки, сполоснул подойник, взял чурбачок, который служил бабке скамеечкой. Помедлив, он уселся на него, сунул под вымя ведерко и осторожно потянул за сосок (сильно дергать боялся — вдруг оторвется), потянул еще раз. Корова, пофыркивая, сосала пойло из чугуна, подымала голову, что-то жевала, а с мохнатых губ сбегала вязкая струйка.
Петька потянул в третий раз, ожидая, что сейчас-то ударит в дно звонкая, пахучая белая струйка. Солдатка шумно вздохнула и через плечо оглянулась на мальчика. Петька дернул за сосок и сказал, подражая бабке:
— Кормилица-поилица, дай молочка кружечку: бычочку-сыночку, Игоряхе-неряхе!..
Корова опять шумно вздохнула, как-то напружинилась, и раздалось: плюх! плюх! плюх!
На печи завизжали радостно. Петька обозлился и запустил в ребятишек попавшимся под руку рваным валенком. Ребятишки легли и закрылись подушкой.
Корова захаписто хватала полным ртом картошку, Петька дергал ее за толстые соски и чуть не плакал — хоть бы крохотная капелька молока упала в подойник. И заплакал бы, не объявись Шурка. Дружок прибежал без шапки, в накинутой на плечи материной стеганке.
— Отец письмо прислал, — весело сообщил он. — Ему медаль выдали — тыщу фашистских танков побил. Командиры сказали, как другую тыщу набьешь, будет тебе орден!
— Врешь ты все! — не поверил Петька.
— Конечно, вру, — легко согласился Шурка. — Но медаль папаньке дали всамделе, «За отвагу» называется! Меня мамка прислала спросить, бабка Прасковья померла ай нет?
— Даже не собиралась! — сказал Петька сердито.
— Ну и хорошо, — сказал Шурка, — пускай живет! С ребятишками тебе не управиться. Я от матери слышал, в Совете разговор был, ежели жиличка еще сколько-то там не объявится, заберут орду в детский дом, как сирот!..
— А ты это видел?! — Петька сложил кукиш и сунул под нос приятелю. И стал наступать на Шурку, готовый драться за ребятишек. — Забиральщик нашелся! Они что, побирушки?! Они что, безродные?! Али некормленые, али в холоду сидят?! Вот вырасти своих и забирай!
Шурка заморгал немного ошалело и виновато оправдался:
— А я что? Я ничего.
— То-то! — смягчился Петька и по-доброму попросил: — Ты помоги мне корову подоить, я дергал, дергал, а она мне вон блинов напекла.
Шурка захихикал, очень ему понравилось, как Солдатка угостила приятеля навозными лепешками, стал куражиться:
— Ты орать здоровый, а как на дело — тебя нет! Сейчас я вам покажу, как доить!
Мальчишка напустил на себя важность, уселся на чурбак и, рисуясь перед ребятишками, глазевшими на него с печи, хлопнул корову по лодыжке:
— Давай, давай, раскошеливайся! — и в этот момент получил такого пинка от Солдатки, что загремел под лавку вместе с подойником.
Девчонки, спрятавшись за подушку, давились от смеха, а Игоряха лепетал:
— Каова, каова, Шуку ас!
Шурка выбрался из-под лавки и категорически заявил:
— Ты, Петька, хоть в голос кричи, хоть как, я к ней пальцем не притронусь!
Забрал вместе с пяльцами заячью шкуру и ушел, со всех сил бухнув дверью.
Петька рассердился на друга, на себя, на корову, взял подойник, уселся и… надоил больше чем половину ведерка. Процедив молоко, заставил ребятишек выпить по кружке, пригрозив, что иначе не пустит гулять. Потом налил большую жестяную кружку, самую большую, и, приподняв голову бабки, почти силком заставил ее выпить посудину до дна. Бабка слабо сопротивлялась, пыталась оттолкнуть Петьку, но сил у нее не было.
— Ты со мной, старая, не спорь! — сказал Петька. — Я знаю, чего делаю!
Потом мальчик занялся приборкой избы, а когда оглянулся, увидел, что бабка сидит на кровати, опустив ноги, дышит тяжело, словно она бежала от кого-то во все лопатки, и качает трясущейся головой.
— Одень меня, Петюшка, — попросила бабка жалобным голосом. — Дует по полу то…
Петька натянул бабке на тонкие ноги шерстяные кусачие чулки, помог влезть в валенки, набросил на плечи шубейку.
— Есть я хочу! — сказала бабка и заплакала.
Петька усадил ее за стол, наложил в тарелку, горой, картошки с зайчатиной. Бабка все съела, вытерла рог платком и сказала:
— Ну и греховодник ты, Петька!.. Я ведь помирала, а ты, непутевый, взял да и спугнул смертыньку. А теперича я перемоглась и, видать, жить еще буду долго.
— Ну и живи! — сказал Петька, сел рядом и обнял бабку. — Тебя что, гонят на тот свет?
Бабка положила ему голову на плечо и сказала шепотом, словно боясь, что кто-то подслушает:
— Счастливый ты, Петька, человек. Добрый! Таким всю жизнь и живи.
А мне бы до Победы дожить.
Из эвенкийской тетради
Глава первая
1
Левка Минич и я укладываем вьюки. Патрушев чистит оружие. В печи трещит смолье. Костя гремит сковородой, что-то крошит на дощечке, добавляет в клокочущие кастрюли.
Красное холодное солнце заглядывает сквозь заросшее ледком окно на плиту, тонет в жирном пару.
Геолог Зинаида Антоновна, строгая рослая девица в профессорских черепаховых очках, и щупленькая радистка Вера, затерявшаяся в огромном ворсистом свитере, с треском рвут и мечут на куски тючок байки. Каждому должно выйти по две пары портянок, толстых, мягких. Они надежно будут покоить наши ноги и в резиновых сапогах, и в кирзачах, в сухе и тепле.
— Повариха, как с обедом? — спрашивает начальник отряда Комков, не отрываясь от планшета с картами.
— Готов!.. Супец амброзия, пишша богов, с говяжьими консервами, на второе пельмени…
С грохотом расставляются вокруг тесового щелястого стола скамьи и табуреты. Охапкой сгребаются на топчан патроны, ножи, винтовочные затворы. Костя, натянув на ладони рукава рубахи, подает огненные жестяные миски. Едим молча, сосредоточенно.
— Как супчик? — лебезит Костя. Добрейший человек, он тщеславен, как все самодеятельные повара, и напрашивается на похвалу.
— Маленько старым носком отдает, — вредничает Левка, — но хлебать можно!..
Зинаида Антоновна гипнотизирует конопатого мальчишку своими великолепными окулярами. Левка просит добавки «амброзии» и невинно говорит ей:
— И вполне!.. Евгений Ваныч второй день носки ищет…
После обеда снова принимаемся за работу.
— Товарищи! Товарищи! — призывает ко вниманию Зинаида Антоновна. — Укладывайте вещи только строго по порядку, согласно описи! Это облегчит нам походный быт. Поглядите в список и узнаете: в каком ящике консервы, а где зубная паста…
Ну что же, по порядку так по порядку. Но вот беда, ее творение опись — тщательно разграфленный лист бумаги — коварно исчезла, видно не желая облегчать будущую нашу кочевую жизнь.
Перерыли вьюки, ящики, перетрясли спальные мешки, заглянули даже в кастрюлю с остатками пищи богов. Нету!
Забегая вперед, скажу: опись мы обнаружили в мешочке с нитками, но не было у нас уже вьюков с консервами, ни муки, ни зубной пасты.
Наконец все, что требовалось уложить, упаковать, увязать, покоится на своих местах, надежно скрученное ремнями и веревками. Ребята отправились за поселок, в тайгу, пристреливать винтовки, девчат утащили на танцульки местные летчики, галантные кавалеры в меховых штанах. Мы с Евгением Ивановичем домовничаем.
В бараке уютно, пахнет сухими валенками, луком. Густым, кирпичным теплом пышет огромная печь. В открытом поддувале помаргивают затухающие угли. Комков расстелил на столе карту, что-то брюзжит в усы, черкает карандашом.
Его обуревают хозяйственные заботы. Кроме инструментов, оружия, одежды, у нас полторы тонны продовольствия. Тащить за собой такой груз накладно.
— Сделаем так, — говорит он, — найму тебе сотню рогачей, и зимником, на нартах, завезешь харчи в верховья Тембенчи. Устроишь там базу, отпустишь людей и с Филиппом Елдогиром налегке двинешься отряду навстречу. А я захвачу провианта только на половину маршрута — килограммов триста, двух каюров, Матвея Комбагера и Дарью, его сестру…
Мне льстит ответственное поручение, но, вспомнив свою прошлую «кладовщицкую деятельность», я начинаю отнекиваться.
— Ничего, ничего, справишься! — уверяет меня начальник отряда.
— Командир дивизиона тоже так думал…
Женя начинает хихикать. В сорок пятом году мы служили с ним в отряде «морских охотников», он — сигнальщиком, я — радистом. Однажды баталер, наш поилец и кормилец, попал за какой-то проступок на гарнизонную гауптвахту. Вручая мне ключи от продовольственного склада, корабельное начальство искренне полагало, что не боги горшки обжигают. Я тоже так думал. Через десять дней и ночей явился «с берега» сильно похудевший баталер и принял кладовку обратно. При передаче весы обнаружили недостачу: десять килограммов сливочного масла, двадцать килограммов сахара и печенья и… излишки в полтонны мяса!
Недостача образовалась из-за множества друзей, в том числе и старшины первой статьи Евгения Комкова, забегавших в свободную минутку разделить мое макаронно-крупяное одиночество, а заодно перекусить перед обедом или ужином, а вот про говядину ничего внятного сказать не могу. До сего дня явление это для меня осталось загадочным.
…В тамбуре топот валенок, смех — вернулись из тайги стрелки. За окнами нехотя гаснет бледный северный закат. Ужинаем и укладываемся в спальные мешки.
Утром кто-то сильно застучал в раму. За окнами маячила путаница оленьих рогов. Я оделся и вышел на улицу. Морозец градусов пятнадцать. Из всех труб поселка сизыми столбами упираются в голубое небо дымы. Тройка оленей, поводя боками, опустив головы, стоит перед окнами у поленницы лиственничных кругляков. На нарте меховой куль, пушистый от инея, с длинным шестом в руках.
— Здравствуй, бойе! — сказал куль мальчишеским голосом. — Давай манатки грузи, давай товары грузи, аргишить надо!..
Под кручей на льду Кочечумо сбилось в кучу большое стадо оленей, бегали пестрые собаки. Каюры пришли с зимних пастбищ на два дня раньше. Начальник отряда объявил аврал. Девчата, мобилизовав всю подходящую посуду, заваривают дегтярной густоты чай, открывают банки со сгущенным молоком — каюры будут «гостевать». А мы, как легендарные крючники-волгари, таскаем из барака мешки с мукой, тюки, ящики, катаем бочки, грузим их на нарты под присмотром важного мальчишки со смоляной челкой из-под мехового капора.
2
Тишина нарушается только свистом полозьев да пощелкиванием оленьих копыт. День пронизан апрельским солнцем. Снежная целина ослепительна и режет глаза, словно дуга электросварки. Едем по реке. Она пролегла, как дорога, среди непроходимой, утонувшей по пояс в снегу тайги.
Впереди, то скрываясь за лесистыми мысками на поворотах, то снова появляясь, скользят по сахарной белизне семь быстрых оленьих связок. В каждой по пять груженых нарт.
Олени бегут ровно и весело, только чуть замедляют ход, Витька Оегир, доброжелательный и любопытный человечек, взмахивает хореем: «У-у-у! Орон!» И снова монотонное пение снега под узкими полозьями. Нагоняем аргиш. Витька пересаживается на свою упряжку. Моя стажировка закончилась. Некоторое время я разглядываю до лоска отполированный ладонями кривоватый шест, воплощавший в руках юного каюра сразу и руль, и тормоз, и рычаг переключения скоростей.
«Гениальное всегда просто, — думаю я. — Но что мне делать с этой гениальностью? Как я буду этим дрючком управлять?..» Осторожно стукнул по горбу среднего рогача. Он вздрагивает и, повернув симпатичную морду, смотрит на меня, словно вопрошая: «Ну, что кипятишься?!» Стукнул по спине другого. Олешки делают шаг, второй и останавливаются.
Обхожу упряжку вокруг. Она тоже проста: широкая лямка надета на грудь оленю, от нее узкий ремешок к передку нарты. Кажется, все в порядке. Усаживаюсь на нарту, замахиваюсь палкой и испускаю вопль, похожий на паровозный гудок: «У-у-у-у!» Олени рывком берут с места в галоп. Я остаюсь на снегу. Потом я бегу за упряжкой и ору: «Стой! Стой, рогатые!»
…Солнце все ниже сползает по ясному небу к тайге. Длинные тени ложатся на снег, и прозрачная синька заливает колею, проложенную передними санями. На ночевку останавливаемся уже в сумерках. Макар Оегир, коренастый, по-кавалерийски кривоногий, старший каюр, старик Филипп Елдогир и Витька отпрягают оленей, рубят на берегу сухостой, таскают жерди на лед. Женщины разбирают пожитки. Я взваливаю свои тюки на спину и лезу на берег. Пока натягиваю между деревьями палатку, на заснеженном льду реки уже стоят конусы чумов, и над ними вьются, улетают в звездное небо снопики красных искр.
Залезаю в палатку и только тогда чувствую, как устал, даже есть не хочется. «Ладно, — думаю я, кутаясь в спальный мешок, — консервы открывать не буду, а вот дневник сейчас достану и сделаю запись. И буду отмечать регулярно каждый день…»
Но… «Суждены нам благие порывы…»
3
Если изобразить маршрут нашего отряда графически, то получится треугольник, упирающийся острием в Северный полярный круг. Вот там-то я должен заложить продовольственную базу. Символический треугольник этот (конечно, мало похожий на геометрическую фигуру) образуется реками Ямбукан и Тембенчи, текущими соответственно с севера на юго-запад и юго-восток, а в основании его река Кочечумо.
Половина поисковых работ приходится на бассейн Ямбукана. Двигаясь на север к истокам его, геологи будут обследовать обнажения и выходы коренных пород. Потом отряд перевалит водораздел, выйдет на реку Тембенчи и двинется вниз по течению на юг. Отряд сейчас продвигается к устью Ямбукана, откуда начинается работа, а я на север.
Обыкновенно меня будят крики, хруст снега. Это каюры собирают по тайге оленей. Сегодня проснулся — тишина. Откинул полог — на улице метель. Чумы, они шагах в двадцати, едва-едва различаются. Снег летит косо тяжелыми мокрыми хлопьями. Стволы деревьев с одной стороны залеплены снегом, они похожи на путников, застигнутых непогодой и повернувшихся к ветру спиной.
В палатке холодно. Полотнище над головой провисает брезентовым пузом. Ударяю в него кулаком, снег с протяжным вздохом съезжает, но зато с этого места начинает капать на голову. Сидеть одному скучно, читать не хочется, спать не хочется. Пойду-ка я в гости!
У чума Оегира, на нартах, свежеразделанная оленья туша. Вывалянные в снегу собаки, рыча и скалясь друг на друга, лижут что-то под полозьями. За родвугой, покрышкой чума из выделанных оленьих шкур, смех, громкий разговор. Приподымаю полог.
— Андрей, Андрей! Давай залезай!.. Маленько обед будем делать!
Посреди чума два котла с мясом, на фанерном столике в ладонь высотой чайники, кружки, сахар, банки со сгущенкой. Вокруг на камусных одеялах семейство Оегира и старики Елдогиры — Филипп с Пелагеей.
— Садись к котлу!
— Чай хлебай, глотай мясо!
Приглядываюсь, как «глотать». Не простое это дело для человека, приученного к тарелкам, вилкам и ложкам. Мальчишка, хихикая над моим замешательством, проводит «инструктаж», съедает в замедленном темпе приличную порцию оленины. Подбородок у него блестит от жира, глаза сыто маслятся.
— Чиво хитрова?
Беру в левую руку кусок сочного, с кровцой, мяса, зубами захватываю сколько нужно и ножом снизу вверх, у самых губ, мимо носа — чирк! Прожевал и снова — чирк! Конечно, у меня это медленно получается — боюсь за кончик носа.
После еды у старших большой разговор об охоте, оленях, о погоде. У нас с Витькой свой диалог. Оказывается, он круглый пятерочник и его отпустили из интерната на месяц раньше.
— …Я хочу петь, как Кола Бельды, быть вертолетчиком, как Иван Усов, охотником и еще врачом, как Петр Петрович…
— Слишком много для одного человека, чтобы все получалось хорошо…
— Дедушка Филипп лучший каюр, и проводник, и знаменитый охотник, а один человек! Мой отец Макар хороший пастух, бригадир и почти олений доктор, он тоже один человек!..
Ну, что тут возразишь, когда пример перед глазами.
Макар, вытирая пот со лба, говорит:
— Еще день стоим, олешки ягель кушают, отдыхают, потом шибко едем!
Старый Филипп поддакивает:
— Верно, верно! Куда спешить? Один день стоим, второй день стоим… Большой аргиш у нас, однако, успеем, бойе! Весна совсем застряла…
4
…Все случилось в доли секунды. Нарта с ходу налетела полозом на заструг, опрокинулась, а меня будто кто схватил за воротник и бросил в трещину, где пузырилась черная, угрюмая вода. Мне показалось, что меня сунули в кипяток. Но завопил я не от холода, а от страха, что утащит под лед. Как выкарабкался — не помню.
— Однако, шибко шумел. Здоровый мужик! — одобрительно сказал старик и закричал: — Пелагея! Давай парку! Давай портки, старуха! Унты! Волоки все!
По реке несло морозным сквозняком. Одежда сразу заколянела, как жестяная. Старик помог мне напялить воняющую псиной пыжиковую рубаху-парку. Потом я залез в тесноватые меховые штаны и меховые унты и бежал за упряжкой, пока не стало жарко. Километра через два мы нагнали аргиш. Олени с трудом тащили тяжело груженные сани через дикие торосы. Река здесь шла между отвесных скал ростом с десятиэтажный дом. В расщелинах, забитых снегом, торчали какие-то голые кустики. Место было суровое, мрачное.
— Большой порог! — сказал Филипп. — Совсем плохо лодкой ходить, шибко худое место! Будешь коли плыть назад, левой стороной держи, а то пропадешь!.. Совсем близко держи к берегу!..
Уже третью неделю мы в пути, а погода над нами куражится. Сырая пурга сменяется яростными промороженными ветрами, которые продувают до костей. На снегу схватывается наст. Он, как наждак, сгрызает деревянные полозья, ранит оленям ноги. Иногда весь день приходится подсоблять оленям, толкая нарты сзади. Утром я выползаю из палатки как разбитый. Ноги и руки чужие. Филипп помогает мне уложить вещи на нарты и утешает:
— Ничиво, ты молодой, один день, два дня отдохнешь на боку и опять веселый станешь!
Мы с ним крепко подружились. Вышло это как-то само собой. Пелагея тоже ко мне благоволит, хотя старуха она сварливая, крикливая. Каждое утро не на ту ногу встает. Она поит меня крепким чаем и врачует глухариным жиром мои обмороженные щеки.
А дедушка Филипп, седой, сухонький, легкий на доброе дело, ворчит, когда я не осиливаю кус мяса:
— Плохо ешь, откуда силы будут!..
На правом бедре у Филиппа удобно подвязан узкий нож с костяной ручкой в долбленых деревянных ножнах. К ним на ремешке подвешены оленьи зубы. Спрашиваю, зачем?
— Тысячу дикий олешка добывал, тогда зубы брал! Другие люди пускай знают, какой Филипп Елдогир охотник!
5
Солнечным морозным днем 18 мая олений караван свернул со льда реки на большой остров, поросший тальником и куртинами толстых лиственниц. Тальник был в белых погрызах. Снег истоптан вдоль и поперек заячьими следами и лосиными копытами. В одном месте мы наткнулись на толстопятый след. Филипп велел привязать собак.
— Шибко большой медведь, наверное, сохатого приходил кушать!.. Собаки сердитый народ, драть его побегут… Однако, у хозяина лапа тяжелая, побьет лаек. С кем соболей добывать будем?..
Каюры долго выбирали место для лабаза. Наконец нашли четыре подходящих дерева, стоящих как надо. Срубили их, оставив пеньки метра по три в вышину — ноги лабаза. Гладко очистили от коры, в вершинах прорубили выемки-пазы, в них закрепили бревна-поперечины — получилось два деревянных «П», больших, как ворота. На них устроили настил из толстых жердей, на него уложили бочонок топленого масла, мешки с мукой, сахаром, ящики с консервами. Все надежно укрыли от непогоды брезентами и корьем.
— Однако, выдержит, — сказал Филипп, слушая, как жерди тихонько поскрипывают. — Еще можно грузить! Зря кричит!..
Пообедали. Оегир взялся чинить нарты, Филипп ему помогает, Витька у них то ли в подсобниках, то ли прорабом: подает инструмент и командует. А я составляю, согласно указанию Зинаиды Антоновны, опись-ведомость в двух экземплярах. Один представлю перед ее ясные очи, другой при товарах, чтобы медведи, не дай бог, не перепутали съестное с радиобатареями, ботинками и хозяйственным мылом.
Через час, когда длиннющая бумага готова, с тоской вижу, что весь титанический карандашный труд пошел насмарку. Подложил копирку наизнанку. Снова черчу, пишу и удивляюсь, до чего человек сам себе ухитряется отравлять жизнь.
Заканчиваю уже при свете костра. Слабые звезды чуть мерцают в голубом ночном небе. Серыми тенями бродят меж деревьев олени. Витька сидит у огня, смотрит, как пламя облизывает бледным языком котелок с варевом, о чем-то думает.
Утром расстаемся с Макаром и его семейством. Он уходит к оленьим стадам, которые пасут сейчас старшие сыновья, а мы с Филиппом будем пробираться к водоразделу — горному тундровому плато, — перевалим его и приедем, как говорит старик, на Ямбукан-речушечку.
Глава вторая
1
В морозных туманных сумерках делаем остановку на ночлег у безымянного, закованного в лед ручья.
Филипп занимается упряжками, отвязывает постромки, снимает заскорузлые от пота лямки. Олени, покачиваясь, отходят от нарт, встряхивают всей шкурой, как собаки, и бегут наперегонки в тайгу. Замечательное животное олень. Вынослив, неприхотлив, пропитание добывает сам. Ни дворов ему не надо, ни поилок, ни запасов кормов. Для человека Севера он и транспорт, и пища, и одежда.
Мы с Пелагеей достаем с грузовых санок шесты, железную печурку, родвугу.
Через час сидим перед опорожненным котлом, опьяневшие от еды и дымного тепла. Ножи, служившие нам сразу и вилками и ложками, покоятся в ножнах. Круто заваренный чай со сгущенным молоком венчает трапезу. За чумом скулят и грызутся собаки — делят мослы.
Филипп снял через голову парку, довольно поглаживает себя по животу:
— Хорошо, сыто… Глухари токуют, чуют, весна близко! Совсем помирать не надо…
— Пойдем на охоту!
— Ох-хо-хо, — вздыхает старик. — Устал маленько… Спина кричит, нога кричит — лежать хочу!
Пелагея, прикурив от угля обгорелую трубочку, затянулась, важно выпустила дым.
— Правда, правда! Совсем старый Филипп получился… Ты молодой, ты иди!..
«Легко сказать — иди! — думаю я, напяливая сапоги. — Глухаря в лицо-то не приходилось видеть… А вдруг заблужусь?! Или из-за угла медведь на меня набросится?! Это ведь не парк — тайга!..»
Но искушение велико! Если повезет, будет чем похвастать перед приятелями. Беру ружье и для «самообороны» карабин.
Забрел в какую-то низинку, стою, прислонившись плечом к дереву, слушаю. Тишина. Потом, совсем рядом, кто-то начинает ломать сухие палочки. О глухаре, скрытной птице, прозванной мошником за пристрастие держаться на глухих моховых болотах, я знаю только по книгам. Сведения эти скудны, но авторитетны. Когда глухарь токует, к нему можно подойти почти вплотную, но обязательно прыжками «под песню». В это время у него уши заложены, как паклей, утверждают авторы охотничьих рассказов.
Старательно придерживаюсь «инструкций». Но глухари здесь в тайге какие-то не такие, не литературные, не затыкают ушей. Видел только что-то размашистое, тяжелое, шумно пролетевшее среди деревьев.
Вот совсем светло сделалось. Я примостился на валежину отдохнуть. Вытряхнул из голенищ снег, закурил, глянул на чахлую лиственницу напротив и обмер! На пружинящей вершинке — шапкой докинуть — глухарь. Большая, черная, словно литая, птица сидела, вытянув бородатую шею и чуть приспустив крылья. Потом раздался какой-то странный звук, словно ножиком по бруску, и я не сразу догадался, что это глухарь начинает токовать. Вершинка качнулась, птица шевельнула крыльями, нашла равновесие и… звонко, словно кастаньетами, стукнула: «Чок! Цок!» Умолкла на секунду и запустила костяную трель, да с переливами, с какими-то коленцами.
Возвращаюсь по своим следам. Натыкаюсь на наших оленей. Некоторые лежат, иные копытят в снегу я Мы, достают ягель. Гладкий красавец бык, закинув на спину кустистые рога, внимательно и доверчиво разглядывает меня, В замшевых губах кусок белого мха. Вот и чум. Пелагея набивает снегом чайник. Филипп собирает плетенный из узких ремней аркан-маут.
— Чиво не стрелал? Добыча где?..
— В тайге поет!
— Правда, правда, пускай веселится! Харчи есть, чай пей, сахар грызи…
Всходит солнце. Старик, закинув на руку свернутую в кольца кожаную змею аркана, смотрит, как в вершинах деревьев дробится, брызгает нестерпимым светом ослепительный шар.
Здесь простоим дня два-три. Надо дать отдых оленям. Здесь проводники оставят свои «манатки» — нарты, зимнюю одежду, кое-какие продукты. Вернутся они сюда в начале октября, когда начнется сезон охоты на соболя.
2
Лежу в спальном мешке, обмотав челюсть вязаным шарфом. Перемежаясь, стучит по брезенту палатки тихий дождь. Конец мая, кажется, наступила долгожданная весна. На реке кричат гуси. Сейчас и я заору. Зуб донял — терпенья нету, хоть на стену кидайся. Ни зубные капли, ни анальгин не помогают. Осталось испробовать крайнее средство.
Наливаю всклянь кружку девяностапятиградусного.
Не успел отдышаться и вытереть с обросших щек слезы, как густое веселое тепло волной ударило в ноги и откатилось в голову. Боль, постреливая, отступила, а палатка вдруг закачалась вверх-вниз, вверх-вниз.
Сколько проспал — не знаю. Казалось, только-только закрыл глаза. Все так же шептались с брезентом капли. Перекликались гуси. В голове мутным прибоем еще шумел спирт, но зуб, мучавший меня подряд трое суток, молчал. Я даже потрогал его, чтобы убедиться, цел ли.
«Хорошо-то как, — подумал я, — неужто прошло?! Сейчас поднимусь и схожу к старикам…» И тут в палатку просунул рога любимый олень проводника, одноглазый Компо, сказал ласково: «Иди чай пить, коли не спишь…» Потом на месте оленя оказался дедушка Филипп, седая бородка его принюхивалась к спиртному запаху.
— Вставай, бойе! Старуха Пелагея ждет, говорит, кушать тебе надо, без еды совсем худо!..
Я вылез из мешка. Тайгу, затянутую сырой дымкой, штормило. Я шел по раскисшему снегу к чуму, будто по палубе «Малого охотника», надежно и широко расставляя ноги. Старик семенил рядом, чмокал губами, сочувствовал.
— Вчера звал, кричал… палатка молчит, не шевелится. Я пугался: может, помирал? Ходил смотреть, ничиво! Носом сопишь! Плохое дело — болеть… Утром снова звал, палатка бурчала немного, и опять тихо… Теперь за ногу таскал, ты глаза открывал-закрывал, но вставал. Старуха Пелагея на охоту ездила: куропачей тебе добывала…
В чуме уютно, тепло, дымно. Пелагея, толстая от меховых одежек, важно восседает перед очагом, подкладывает в огонь сушняк. Дрова постреливают колючими искорками. Чайник кипит, бунтует, гремит сердито крышечкой.
Булькает, пенится вода в котле, где варятся куропатки, Филипп пробует дичь острием ножа.
— Еще день стоим, снег в тайге помирает маленько. Тепло снег кушает. Олешкам легко будет, идем в тундру, песни поем, разные стороны глядим, речушечку Киркана видим, маленько ногами двигаем, два дня, три дня — речушечку Ямбукан приезжаем!
Я разглядываю карту, которую скопировал с планшета, но «речушечку» Киркану не нахожу. Пропала куда-то речка.
— Нет здесь такой реки, Филипп Якимыч! Вот Хороки, вот Ямбукан, Гекташи, Амнундакта!..
— Чиво так?! — встревожился эвенк. — Пересохла, что ли?..
Он разглядывает карту, качает белой головой и передает лист кальки жене. Старуха, пощупав бумагу, хмыкает.
— Хорошая бумага, крепкая, а все брешет! Куда Киркана бежала?.. Охо-хо! Совсем чудное дело!
Я лишаю карту доверия, прячу ее на дно сумки к бесполезным зубным каплям, и мы в молчаливом согласии едим куропаток.
После еды долго чаевничаем. Потрескивают дрова. Пелагея колет старинными щипчиками твердый сахар. Филипп, наливая кипяток, повел носом:
— Пакнит!.. Огонь где-то сукно кушает!..
Что кушает огонь, обнаружила Пелагея. Это ее суконный зипун, отороченный по подолу и рукавам собольим мехом. На приталенной спине прогорели две дыры с кулак величиной.
В один мах чайник выплеснут на угли. Маленькое извержение — дым, пар, зола. Нарядный зипун отомщен.
Мы со стариком вылезли на улицу, меня разбирал смех. Старик невозмутимо чмокал трубкой. Чум дымил во все дыры. Пелагея, причитая, лупила костер палкой.
— Ай-ай, зипун! Красивый зипун!
Собаки, усевшись поодаль, сосредоточенно и серьезно ожидали развития событий. Хвосты у них были предусмотрительно поджаты.
Мы ушли со стариком от греха. Пахло пресной снеговой водой. На полянках из-под снега просунулись кочки. Лакированная зелень брусничника радует глаз. Час назад кочек еще не было. Пронзительно и весело свистела какая-то птаха:
«Си-и-и-ли! Си-и-лип!»
— Тебя зовет, Филипп Якимыч… Ишь как кричит: «Филипп! Филипп!»
— Умный чиликалка, — сказал старый эвенк, — все знает! Скоро тепло будет, лето совсем рядом…
3
Мы пробираемся по крутому склону узкой долины, заросшей кустами. Внизу грохочет в камнях, брызгает пеной ошалевший от буйной вешней воды какой-то поток. День пасмурный, теплый, слегка припорошенный дождем. Филипп на учуге впереди пальмой — тяжелым, острым как бритва ножом на длинном древке — прорубает тропу, следом на комолом олешке меховой копной восседает Пелагея с неразлучной костяной трубочкой в морщинистом рту. За ней на аркане связка завьюченных нашими пожитками рогачей. Я с посохом в руках замыкаю шествие. Собаки плетутся в арьергарде.
К вечеру мы добрались к заснеженной круче, за ней тундровое плато водораздела. Тайга здесь чахлая, низкорослая. Деревья словно присели на корточки, прячась от жестоких ветров, прорывающихся зимой через тундру с Ледовитого океана. Ночью над белым гребнем в серой пелене облаков вдруг открылся черный бездонный провал. В нем мерцала звезда. Я поглядывал на нее из палатки, из ватного тепла спального мешка, будто птенец из скворечника.
Утром мы начали подъем на водораздел и к полудню, искупавшись в снегу по уши, выкарабкались в тундру ровную, как бильярдный стол. Глазу не за что было зацепиться на этой плоскости. Лишь кое-где торчали какие-то ревматически скрюченные палки. Наверное, по одной на две-три версты. Меня товарищ уверял, что тундра своеобразно прекрасна и очаровывает. Вполне допускаю, не устань, не проголодайся и не промокни я до последней нитки, и тундра завоевала бы еще одного поклонника: унылость-то ее действительно грандиозна. Пока мы переодевались в сухое, из мятых туч проглянуло солнце. Красоты оно окрестностям не прибавило — просто стало теплее.
Занудливо-плоское однообразие пейзажа убивает в зародыше всякое представление о пространстве. За два дня мы прошли километров сорок, а у меня такое впечатление, будто мы маршируем на месте.
Наконец-то Киркана! Без предисловия тундра оборвалась снежным откосом. Внизу из тумана, похожего на жиденькое молоко, торчали макушки деревьев.
— Глупая твоя карта, — сказала Пелагея. — Река, однако, не олень туда-сюда бегать. Река одно место живет… сам гляди!
После Кирканы «двигаем ногами» по тундре еще три дня. На четвертый выходим к Ямбукану. Опять снежный откос. Туман. Пока проводники отыскивают место для спуска, я, подстелив куртку, лечу, как на салазках, вниз и со страха и упоения ору что-то вроде «караул!».
Проводники спускались в долину, наверное, час, а я полминуты. Мелкие ссадины и шапка, оставшаяся где-то в недрах сугроба, куда меня вогнало вниз головой по каблуки, — ерунда. Игра, как говорят, стоила свеч.
4
…Брезентовый летний чум и палатка стоят на островке-бугорке среди ручьев, луж и крохотных озер, глазеющих из зарослей тальника. Вокруг безбоязненно плещется, крякает, с шумом взлетает, с размаху плюхается на воду утиный народ. Тайга в нежной и прозрачной зеленой дымке — лиственница распускается. Я привык, что в средней полосе России весна нетороплива, и от первой капели до первого листочка она тянется целых два месяца. А здесь, на Севере, весна «курьерская». Глядишь на голубое небо, на зелень, и не верится, что каких-то десять дней назад бушевала пурга, а двое суток назад чум стариков и моя палатка стояли между сугробами.
Горячее марево дрожит над опасными скалами мутного и стремительного Ямбукана. Видел я быстрину Дуная в Железных Воротах, но не равняться ей с таежной рекой.
Напившись чаю, мы с дедушкой Филиппом нежимся на прохладном мху, подставив босые пятки солнцу. Гукает кукушка. Я набиваю ружейные патроны, старик листает учебник истории древнего мира, случайно очутившийся в моем рюкзаке.
Из чума вылезает непричесанная сердитая Пелагея. Начинает в десятый раз перекладывать вьюки, награждая их пинками.
— Куда полотенце скрылось? Куда ушло?
Отколотив ни в чем не повинные мешки, подозрительно поглядев на нас, старуха скрывается под брезентом. Эвенк толкает меня в бок и довольно хихикает. На «скрывшемся» вафельном полотенце у нас разложены дробь и гильзы.
Я собираюсь сегодня плыть к своему отряду, он должен быть где-то километрах в пятидесяти ниже по течению. Плот мы уже сделали. Он вышел размером… Здесь я задумываюсь, как предметнее передать его величину? Сказать, что он был чуть больше садовой калитки — не совсем точно. С половинку ворот — явное преувеличение. Вообразите нечто среднее.
Связанный тальниковыми прутьями из четырех «кисленых» бревен, он держался на воде с сомнительным достоинством.
Я не берусь толковать терминологию дедушки Филиппа, у старого охотника «кисленое» дерево обозначало сопревший на корню сухостой. Время и какие-то неведомые нам процессы превратили тяжеленную, костяной твердости лиственничную древесину в подобие пористого, легкого и ломкого пенопласта.
Когда я лихо сбросил с плеча такое бревно, оно развалилось на несколько кусков. В душе моей поднялась некоторая паника, но я успокоил себя, ибо давно убедился на собственной шкуре, что ежели «туземец», будь то убеленный сединами лесной объездчик, или мальчишка Климка из крохотной деревушки, приткнувшейся на берегу Ильменя, на самом юру, или ласковая Марфа Васильевна, отчаянная рыбачка из приморского села Тишково, делает что-то по-своему — не удивляйся, не критикуй, не суйся под руку с советами. Смирись на свою же пользу. За их плечами собранный по крупицам местными поколениями опыт.
После обеда Пелагея укладывает мне харчи в кожаную сумку — потакуй, наказывает:
— Не спи! Дремать иди на берег, плот вяжи крепко! Плот пропадет, сам пропадешь… Большая вода, как пешком аргишить?!
Я устроился на плоту, с собой взял двустволку, карабин, туго набитую съестным котомку, уложил под руку видавший виды «ФЭД». Филипп Якимыч шестом отпихнул бревна на течение, река подхватила их и понесла.
Минут через пятнадцать плаванья, если так можно назвать оголтелую гонку с какими-то древесными обломками и огромными ошкуренными стволами, среди пены и мешанины волн пришлось еще раз убедиться, что река реке рознь.
Какие красоты проносились мимо, не знаю! Все силы и внимание отнимала борьба с рекой, если так можно назвать жалкое размахивание веслом.
В одном месте плот попал в водоворот. Я видел, как гигантская воронка без усилий всосала ствол лиственницы с корнями и макушкой, и, кажется, даже слышал, как, проглотив его, причмокнула.
Со мной Ямбукан обошелся милостиво. Плот сделал по краю воронки стремительный и плавный круг и помчался дальше. Испугаться я, видимо, не успел. Немного обмерло сердце, как на «американских горках».
Впереди похожая на гневное лицо монгола скала, белая пена намыливает его несокрушимый подбородок. От камня навстречу несло горячим ветром — «монгол» дышал.
Река, как мне показалось, ныряла под скалу. Но Ямбукан всего-навсего делал поворот, не ручаюсь за абсолютную точность, градусов под девяносто. Течение нацеливало плот на острый подбородок «монгола». Я отчаянно принялся ковырять волны самодельным байдарочным веслом, выдохся и, положившись на авось, вцепился в перекладины-ронжины.
Плот ухнул в водяную яму, содрогнулся от удара, встал дыбом и снова ухнул в яму. Водой меня накрыло по макушку. Но ничего — пронесло!
На сей раз Ямбукан отобрал у меня ружье, фотоаппарат и роскошно вышитый трудолюбивой Пелагеей патакуй с вяленым мясом. А я сказал спасибо себе, что послушался старого эвенка и не сделал плот из свежих бревен, сбитых железными скобами. «Кисленая» древесина, как пробка, выдержала все удары. Не подвели и тальниковые связи.
Сколько я плыл? Пять часов или два — не могу сказать. Я замерз, устал, набитые веслом волдыри на ладонях лопнули. Нужно было где-то пристать к берегу, привести руки в порядок и обсушиться. Течение прижимает плот к левому берегу. У подошвы каменной горы осыпь, поросшая густым тальником. На кустиках уже лопнули почки. Вдруг в клейкой зелени открывается прогал, я вижу несколько палаток, чадящий костерок и у воды, совсем рядом, человека, подпоясанного патронташем, с ведром в руке.
Снова мелькают кусты. Слышу крик:
— Евгений Иванович! Кто-то на плоту!..
Глава третья
1
Раньше всех просыпается дежурный. Прохладно. С деревьев на палатки капает роса. На реке над кипящей шиверой висит борода тумана. Местное время четыре утра.
Поеживаясь и поругиваясь, дежурный раздувает костер, гремит посудой. Если в этом качестве девчата, обходится без ругани и жестяного грома.
Дежурный варит на завтрак ведро макарон и эмалированную кастрюлю фруктового киселя. И изо дня в день на обед и ужин макаронный суп с волокнистым лосиным мясом или консервами и опять же макароны с киселем.
Продуктов у нас вдоволь. Имеем в кухонном арсенале разнокалиберные сковороды, кастрюли, мясорубку.
Но никто не хочет усложнять себе жизнь приготовлением разнообразных блюд.
Умывшись речной водой, мы рассаживаемся вокруг липучего огромного стола, сколоченного из смолистых плах. За этим сооружением мы выглядим пигмеями. Стол достоин, чтобы за ним пировали былинные Микула Селянинович, Алеша Попович, а из простых смертных — сам автор его, Саша Патрушев, на которого поглядишь и возрадуешься: богатырь и характером покладист и добр.
После завтрака мы, помогая друг другу, влезаем в брюки из твердого «пожарного» брезента, такие же куртки и, раскорячив руки «самоваром», словно цирковые борцы, уходим бить шурфы.
В палаточном лагере остается радистка Вера и дежурный.
В дежурных сегодня Левка — ротастый конопатый парнишка, у которого вместо бороды лезут какие-то ржавые перышки. За школьным поясом у Левки торчит «медвежатник», страшный ножик, помесь кубинского мачете и турецкого ятагана, за спиной карабин 43 — «Чехословенска зброевка». Мальчишка жаждет встречи с медведем. Шкура его обещана какой-то Люсе из девятого «Б».
Мой шурф — у подножия выветренной скалы, торчащей как крепостная башня из акварельной зелени молодых лиственниц. Деревца целый день накрыты ее тенью, они тонки и длинны. В шурфе холодно, будто в погребе-леднике. Грунт спаян вечной мерзлотой в крепчайший бетон. Для того чтобы выбросить пару совковых лопат мелкой крошки, четверть часа я сокрушаю его кайлом, стальными клиньями и кувалдой.
Вверху в каменной дырке гудит ветер. Внизу Левка тяпает топором дрова. В стороне, шагов за триста, звякает кувалдой Саша Патрушев, человек, навсегда околдованный тайгой и помешанный на камнях.
Я выбрался из ямы и только присел перекурить, как появилась Зинаида Антоновна. Заглянула в шурф, порылась в выброшенной породе и вполне корректно выругала меня за какие-то песчаники, которые я нашел, не поставив ее в известность. В порядке самокритики я признал свою сиволапость в геологии и был великодушно прощен.
После обеда схватка с мерзлотой продолжается до тех пор, покуда внизу Левка не ударил молотком в подвешенную на сук кирку. Вылупившись из грязных брезентовых доспехов, блаженствую с кружкой крепкого чая в одной руке, с куском сахара в другой. После плотного трудового дня даже посидеть на бревне, опустив плечи, приятно.
Патрушев возвращается с шурфа, нагруженный пестрыми камнями, окаменелыми растениями, кристаллами.
Я с восхищением разглядываю друзу аметиста. Грани каждого отростка безукоризненны, в них совершенство и математическая точность. От изящного, с заостренной вершиной, как у карандаша, драгоценного густо-вишневого турмалина исходит поэтическое колдовство.
Дни проходят в упорном труде. Вешняя вода спадает, струи Ямбукана становятся прозрачнее, а тайга делается зелено-непроницаемой. И наконец я увидел камень, ради которого мы набивали костяные мозоли.
Он лежал на подстилке из белесого мха — кусочек золотистого света, маленькое чудо, которое называлось исландским шпатом. Кристалл шпата выковырял в своем шурфе Саша Патрушев, а Евгений Иванович, сияя и бормоча: «Если сказать, что он дороже в пять раз золота, значит ничего не сказать! Это минерал-чародей! Минерал минералов. Это не я сказал, это сказал Ферсман!», раз десять пожимал ему руку и поздравлял, словно не природа, а усатый богатырь родил этот камень.
Патрушев гордился и смотрел на нас снисходительно. Ему была объявлена благодарность в приказе по отряду.
Потом-то мы находили достаточно кристаллов, а Левка Минич откопал одни размером с футбольный мяч. Но слава и все сопровождающие ее почести и блага всегда достаются первым.
2
…Рано утром Матвей и Дарья пригнали оленей, погрузили на них две палатки, спальные мешки, вьюк с консервами, напились чаю и исчезли в тайге.
Я очень обрадовался, когда Евгений Иванович велел собираться в маршрут.
Не могу долго сидеть на одном месте. Я не принимаю это как достоинство или недостаток. Я думаю, что тяга вдаль живет в душе каждого, как отзвук первобытной потребности, жажда узнать, что же там, за поворотом реки, за кромкой закатного леса, за облаками, уснувшими на холмах.
Мы долго усаживались в надувную лодку, попрекая друг друга габаритами. Наконец Саша Патрушев взял резиновый блин за веревочку, поддернул голенища литых ботфорт и вытащил на быстрину.
— Лодка не теплоход! — сказал Комков, поддав мне в спину коленом, когда я попытался освободиться от твердых, как кремневые булыжники, горных ботинок Зинаиды Антоновны. Я не стал пререкаться, понимая, что любое возражение будет квалифицировано как мятеж и меня высадят на берег. И придется «аргишить» пешком.
Мы плыли мимо скал, отражающих солнечный свет. Мимо огромных оползней. В хрустальной воде под лодкой проносились стремительные тени рыб и каменное, без единой подводной травинки, дно. По берегам млела душная тайга.
В полдень открылся дикий, хватающий за душу вид.
— Чертова пашня! Курумы! — сказал Евгений Иванович, подгребая коротенькими веслами к берегу.
Курумы — это разрушенные временем скалы. Левый берег реки на протяжении нескольких километров издали действительно был похож на пашню, изнуренную суховеями. Вблизи «пашня» оказалась нагромождением унылых до тоски каменных глыб. Некоторые достигали солидных размеров, человек выглядел перед ними как муравей возле арбуза.
Ни деревца, ни цветка, ни птичьего голоса. Безрадостнее я ничего в жизни не видел. Это был кусочек лунного мертвого пейзажа… Зинаида Антоновна сказала то, о чем мы с Женей подумали, но не решились произнести вслух: «Как после атомной войны!..»
К вечеру мы открыли землю обетованную. У впадения в Ямбукан речки Амнундакты на пологом мысу кружевной дымок костра. Проводники пришли тайгой раньше нас.
Мы вытащили лодку на хрустящий теплый песок, и тотчас под ноги нам с лаем выкатились две собаки, Бобка и Дамка. Чуть спустя появился Матвей, заспанный и недовольный.
— Приехали, — сказал он, — три человека такой дохлой лодкой… маленько резины, маленько воздуха… Какой, однако, дурак придумал?..
Женя отвинтил пробку. Лодка засвистела и, как живая, стала сморщиваться. Матвей покачал головой, плюнул на нее и пошел в чум досыпать.
Резиновую лодку он боялся и презирал. Ребята рассказывали, что, переправляясь весной через Ямбукан, Матвей забыл завернуть ниппель, и его едва спасли.
Напротив нашей палатки, на кочковатой брусничной полянке, — два маленьких чума, два костра, два котелка над углями и две лайки, Бобка и Дамка, ревниво берегущих имущество своих хозяев. На нас собаки не обращают внимания. Но стоит Дарье перешагнуть какую-то символическую границу у матвеевского чума, как Бобка незамедлительно бросается на Дамку (кстати сказать, что женское имя присвоено злобному кобелю) и начинается славная потасовка с визгом, воем и клочьями шерсти.
То же самое, но в обратном порядке происходит, если этот заколдованный рубеж переступает Матвей.
Комков и Зинаида Антоновна целыми днями лазят по скалам, лупят их молотками, разглядывают, ощупывают, чуть ли не на зуб пробуют. Иногда они спорят между собой, а чаще ругают какого-то кандидата наук Соина, отрицавшего «в контактах» присутствие песчаников.
А я таскаю за ними рюкзак, который они старательно нагружают камнями. Делают это они так добросовестно, что я начинаю недовольно ворчать:
— Вы что, думаете, я ишак?!
Евгений Иванович, укладывая очередную порцию образцов, ухмыляется:
— А ты думал, экспедиция — курорт?
Когда возвращаемся к палатке, Комков начинает заполнять полевые дневники, Зинаида Антоновна готовит еду. Я, упаковав образцы в штапельные мешочки, укладываю их во вьючные сумы и сажусь играть с Матвеем в шахматы.
Половину фигур эвенк вырезал сам. Они весьма условно походили на придворных его величества шахматного короля.
— Однако, им не жениться, — говорил Матвей, — чиво им красота, не девки… Им думать надо!..
Однажды я каким-то чудом обыграл большого мастера, и червячок самомнения, питаясь этой победой, вырос до ужасных размеров. Я считал себя почти шахматным гением. Но у Матвея я не выиграл ни одной партии.
Зинаида Антоновна присвоила Матвею титул чемпиона всей тайги. Я злился, Женя посмеивался, эвенк немного гордился и утешал меня:
— Однако, бойе, ты маленько можешь шахматы двигать… Одно плохо, думаешь лениво, как медведь сытый…
Иногда за клетчатой доской меня сменяла его сестра, великая модница в расшитых бисером сапожках и немыслимого канареечного цвета шали с кистями. Дарья делала первые шахматные шаги. Матвей скучно подремывал, вяло передвигал фигуры и в положенное время уныло говорил: «Однако, мат выходит…»
— Однако, погоди, — отвечала Дарья, — тебе тоже мат выйдет…
Как-то утром Зинаида Антоновна растолкала нас и, смеясь, сказала:
— Вставайте, лежебоки! Такое происшествие, а вы как сурки!..
— Пожар, что ли? — заворчал геолог. — Я спать хочу, у меня руки-ноги как чугунные после вчерашнего похода…
— Вставайте!
Мы высунулись из палатки. На сизой утренней полянке на кочке стояла шахматная доска, возле сидела, позевывая, Дарья. Матвей нервно расхаживал, иногда он хватался за могучий лоб и что-то бормотал.
Дарья обернула к нам красивое скуластое лицо и устало сказала:
— Его царю шах!.. Матвей давно голову ломает, но будет ему и мат!
Этим же днем мы ушли с Евгением Ивановичем в дальний маршрут, захватив с собой поверженного чемпиона. Наш путь лежал к истокам Амнундакты, что в переводе с эвенкийского означает Ледяная река. Геолога там интересовали выходы коренных пород на обнажениях.
3
…Через неделю, когда мы вернулись с Амнундакты в лагерь под скалой, первым, кого я увидел, был дедушка Филипп. Он сидел у палатки радистки, слушал музыку. Вера готовила обед. Мы обнялись со стариком. Эвенк потрогал меня за ребра, помял шею и довольно сказал:
— Совсем жирный стал, хороший мужик сделался, как сохатый осенью!.. Старуха Пелагея скучает, велела в гости ходить, чай пить, таймень кушать будем… Большой таймень ловила старуха!
Мы сидим в распахнутом настежь чуме под прикрытием дымокуров, пьем чай, лакомимся удивительно вкусной рыбой, которая тает во рту, как сливочное масло.
Пелагея, веселая и добрая, хлопотала у костра. Филипп рассказывал об охоте, о медведях-шатунах, угрюмых и опасных, о таежных страшных пожарах.
Солнце заглядывало в чум, золотило старые камусные одеяла, вышитые бисером патакуи и пыжиковую рубаху, на которой храпел, вздрагивая во сне лапами, молодой пес Умурукдо. Вокруг на многие сотни километров лежала тайга, невеселая горная тундра Эвенкии, где даже по справочнику приходится по одному человеку на семьдесят четыре квадратных километра.
— Хорошо! — сказал дедушка Филипп и запел.
Мелодия была скачущая. Старик пел с закрытыми глазами, говорят, так поют соловьи. По коричневому, морщинистому лицу блуждала улыбка.
— Какой молодой был, хвалится, — сказала Пелагея. — Удачливый, сильный! Какая тайга большая, а сейчас он старый, а тайга такая же, и ему уже помирать скоро, может, завтра, но не жалко. Он жил честно, никого не обманывал, ни птицу, ни зверя… Про Митьку с Егором поет, какие сыновья хорошие летчики…
Мне тоже хотелось петь. Но не нашлось слов, вернее, смелости найти свои слова, чтобы рассказать, что я покорен красотой Эвенкии, люблю этих стариков и мне хорошо с ними. Привычно избитое лезло на язык о поющей под крылом самолета тайге. И еще я думал, что скоро по нашим следам сюда, в глухомань, придут люди, проложат просеки и дороги, возведут поселки и рудники. Напуганное гудом пил, шумом моторов, покинет эти места зверье. И мне было жалко дикой природы. Но такова жизнь. Она требует, чтобы здешние богатства — древесина, уголь, графит, шпат — служили на благо человека, а не лежали бесполезно.
Глава четвертая
1
Проводники вьючат оленей. Туча злых слепней гудит над ними. Олени бьются и сбрасывают вьюки.
Работа на этом большом обнажении закончена. Хотя мы выбились из графика, но геологи довольны. Они уверены, что разведали промышленное месторождение. Теперь наш путь к истокам Ямбукана.
Зинаида Антоновна в зеленой курточке и щегольских брюках в обтяжку, с карабином за спиной и босой, в застиранной тельняшке Костя Угрюмов складывают последнюю палатку. Я запихиваю в брезентовые мешки кухонную посуду. Левка пришивает на штаны заплату.
Евгений Иванович, радистка Вера и Саша Патрушев уже ушли, а мы замешкались.
Наконец аргиш тронулся. Передовым, на белом олешке, Филипп, у него за спиной в кожаном чехле винтовка, в правой руке пальма — прорубать тропу. Следом ведут оленей Пелагея, Матвей и нарядная Дарья.
Мы с Костей бредем сзади и потешаемся от души над Левкиными штанами с красными латками, пришитыми толстыми, как сапожная дратва, нитками.
Я вспоминаю Левкино появление в отряде. Это было в Красноярске на перевалочной базе. Мы закусывали в маленькой клетушке среди кип спецовок, гроздей ботинок, мешков с мукой и тупоносых валенок, когда Евгений Иванович втолкнул к нам хлипкого мальчишку с засаленными волосами до плеч, черноморских клешах и в каблукастых ботинках на безобразно толстой подошве.
— Напоите его чаем, дайте валенки, ватные штаны и прочее, — сказал начальник отряда. — Это прима-труба из ресторана «Енисей», у него среднее образование, если считать, что в пятом, шестом и седьмом он провел по два года…
Парнишка не то всхлипнул, не то хихикнул. Евгений Иванович усадил его на мешок с мукой.
— Отец пытался при помощи брючного ремня сделать из него слесаря, но он по призванию геолог, хотя и не подозревает об этом!
Конечно, Женя шутил. Но у него было чутье на людей, которые, однажды в любом качестве приобщившись к геологии, становились ее рабами.
…Сокращая путь, Филипп сворачивает с берега реки в тайгу. Идем звериной тропой. Воздух неподвижен и густ от запаха прели и сырости. Зеленый сумрак обступает нас. Полчища комаров победно трубят свои марши.
Мы напяливаем на лица душные волосяные сетки накомарников.
Идем по дебрям долго. Наконец появляется впереди голубой просвет и открывается долинка, заросшая полярной березкой. Лес из такой березки, достигающей макушками наших колен, похож на заросли стальной проволоки. Идти по нему мученье.
Быстрый ручеек заблудился среди карликовых деревьев. Вода в нем до того холодна, что зубы ломит после первого глотка.
Наконец проклятая растительная проволока позади. Выходим на берег Ямбукана. Если верить часам, то по местному времени сейчас полночь. А светло как днем.
У Севера свои понятия о дне и ночи. За поворотом натыкаемся на костер. Саша спит на песке, Вера что-то стряпает, Евгений Иванович чистит рыбу.
Снимаем вьюки, складываем их в штабель, натягиваем палатки.
2
Жизнь поискового геологического отряда такова, что больше суток, редко двух, на одном месте не задерживаемся. На этом участке Ямбукана интересных обнажений, то есть выходов на поверхность коренных пород, мало. Река скупо приоткрывает «окошки» в земные кладовые. Но в галечниковых косах, намытых течением, попадаются обломки шпата. И мы пойдем на север, к истокам реки.
Нынешний день удивительно хорош, солнечный, тихий. Евгений Иванович и Вера упаковывали рацию. Я мыл посуду, дедушка Филипп и Пелагея сидели у нашего костра, пили чай. Левка точил на булыжнике свой «мачете-ятаган». По словам проводника, в верховье, куда предстоял нам путь, было много медведей.
— Однако, зря манатки собираем, — сказал Филипп, — дождь скоро будет, шибко большой дождь…
— Правда, правда, — подтвердила Пелагея, — старик очень знает!
Евгений Иванович велел отложить сборы. Он не сомневался в прогнозах старого эвенка, хотя погода уже неделю стояла прекрасная и ничто будто не предвещало ненастья.
Левка возмутился, он жаждал медвежьих шкур. Он не поленился разыскать во вьюках барометр. Прибор показывал «ясно».
Филипп осторожно взял полированный ящичек, осмотрел со всех сторон:
— Какую работу делает?
— Погоду предсказывает. Видишь?! «Ясно», «переменно», «дождь», сейчас стрелка на «ясно» стоит. Прибор говорит — хорошая погода будет!
— Однако, врет прибор! Совсем рядом дождь, шибко коленка болит. Ой-ой-ой, болит!
— Товарищ дедушка Елдогир! — сказал Левка насмешливо. — Суставы, поясницы и прочие больные органы погоду не предсказывают! Они пережиток прошлого, в чем ты убеждаешься, старик, глядя на этот барометр, сделанный на заводе точных измерительных приборов в городе Москве!
Левка верил прибору и презирал стариковскую костлявую коленку. Филипп невозмутимо выслушал панегирик измерительному инструменту и подбросил в костер сучья. Евгений Иванович сосредоточенно дымил цигаркой.
— Откуда ящик погоду в тайге знает? — спросил Филипп. — Прибор твой в городе жил…
— Правда, правда, — захихикала Пелагея. — Чиво ящик знает? Часы тикают — время делают! Радио песни поет, известия говорит! Хороший прибор, все люди так думают. Ящик твой молчит. Совсем дурак!..
Евгений Иванович развел руками. А Левку, как говорится, занесло. Он схватил новенькую, еще сверкающую ореховым лаком «тозовку».
— Ставлю на спор!
— Кладем карабин, — сказал дедушка Филипп, принимая пари. — Утром завтра дождь будет!..
Я разбил рукопожатие — и спор был признан де-юре.
Старики выпили еще кружек по пяти крепкого чая и, распаренные, огрузшие, едва забрались на своих учугов.
— Утром винтовку брать приедем, — пообещала толстая Пелагея, — шибко хорошее ружье, белку стрелять, соболя стрелять!..
Филипп приосанился, и чета Елдогиров, подгоняя пятками в бока своих линючих иноходцев, исчезла в кустах.
Чуть свет Левка поднял всех на ноги и, торжествуя, показал на ясное, как протертое стеклышко, небо. После завтрака Минич и Зинаида Антоновна отправились на становище Филиппа.
Зинаида Антоновна тоже была в «оппозиции» к кустарному, как она выразилась, прогнозированию погоды. Она верила только приборам.
Но карабин они не получили. Не успел Левка сунуть свой конопатый нос в чум, старуха Пелагея завопила на всю тайгу:
— Не дам карабин! Ой-ой, ружье! Старик совсем глупый! Старик в тайге жил! Чиво видел? Где был? Прибор в Москве жил! Прибор грамотный! Не дам карабин!
Но старик оказался прав. Не прошло и часа, как небо заплыло тучами и хлынул проливной дождь. Левка разозлился и хотел выбросить «грамотный прибор» в реку. Дождь буквально топил наши палатки, а он показывал «ясно».
Евгений Иванович спрятал сломанный барометр в мешок, а спорщику продекламировал:
Пастух и земледел в младенческие леты. Взглянув на небеса, на западную тень, Умеют уж предречь и ветр, и ясный день!Но ни Евгений Иванович, опытный таежник, ни дедушка Филипп, проживший всю жизнь в тайге, не смогли предвидеть беды. Ночью стремительный Ямбукан, взбухший от дождя, унес с куском берега и деревьями почти все наши продукты.
А лабаз с продовольствием — наша запасная база — еще в добрых двух сотнях километрах на островке посреди Тембенчи.
— Ничего, перебьемся охотой, — сказал начальник отряда. — Боеприпасов воз, собаки есть, а дичь вон, в тайге! Правда, ее не так густо, как хотелось бы, но на прокорм нам хватит!..
3
У проводников было восемь лаек: Урикан, Бобка, Дамка, Дружок, Лысый, Соболь, Бабушка и ее сын Умурукдо, что значит «одиночка», «родился один», так мне объяснил собачью кличку Филипп.
Умурукдо был доверчив, общителен и привязчив к людям. У него была слабость, непростительная для промысловой лайки, — пес до беспамятства обожал сахар. Стоило кому-то из ребят показать кусочек рафинада, он забывал все на свете.
— На конфетку папу родного променяет, — ехидничал в адрес моего любимца Евгений Иванович. — Не будет проку из собаки, несерьезный пес! Вот Дружок — это да!
Я же считал, что пристрастие к сладкому просто издержки молодости. Меня подкупали в забияке умные, прямо-таки говорящие глаза и жизнерадостность. А Дружка, великолепную черно-белую лайку, я не любил. Правда, сначала он мне тоже нравился. Но вскоре я разгадал его. Это был бездарный и ленивый пес. Ему только повезло с внешностью, под которой скрывался подхалим и эгоист.
Всякий раз, когда Дружок отнимал у старой Бабушки косточку или кусок пресной лепешки и, ворча, уходил в кусты, я возмущался и подкалывал Евгения Ивановича: «Полюбуйся на своего мародера! Он только и способен, что отнять у слабого!»
Каждый день на стоянках собаки дежурят с утра у наших палаток. Одни — желая что-то стянуть, другие — в расчете на подачку, третьи надеются на то и другое. Справедливости ради надо сказать, что эвенкийские лайки очень неприхотливы, выносливы и страстные охотники. Но летом у них «каникулы», и собаки предоставлены самим себе. Хозяева их кормят в это время редко, впроголодь. И псы добывают хлеб свой насущный в поте лица своего. На этой почве, при всей нашей симпатии к собачьему народцу, мы немало приняли от него огорчений.
Оставшись почти без харчей, мы вынуждены были добывать пропитание охотой, а собаки лопали нашу добычу прямо из-под ружейного ствола.
Здесь будет необходимо пояснить, что лайки проводников натаскивались только на драгоценного пушного зверя. И упаси бог, чтобы четвероногий помощник таежного стрелка позволил какую вольность. Будь он хоть месяц не евши, он только подхватит на лету свалившегося с дерена после выстрела соболя, притиснет его и положит на снег. Наши вылазки за куропатками и рябчиками они не принимали всерьез. Для них это являлось чем-то вроде веселого пикника, где можно сытно и вкусно поесть.
Стоило взять ружье, лохматая, пестрая компания моментально вскакивала, задирала хвосты бубликами и не спускала с нас глаз, радостно поскуливая. Отвязаться от собак не было никакой силы.
Однажды терпение у нас лопнуло, мы сняли ремни и задали собакам хорошую вздрючку. В визгливой панике они бежали под защиту хозяйских чумов и не показывались целый день.
Утром, окрыленные отсутствием нахлебников, мы забрались с Патрушевым в какой-то распадок, начиненный дичью, словно вольера в зоопарке.
Рябчик — птица простоватая и беспечная. Вспугнутая стайка с шумом взлетает и усаживается на ближайшее дерево. Остальное зависит только от меткости стрелка. И пот Патрушев не торопясь передергивает затвор малокалиберки, а я считаю: «Шесть!.. Семь!.. Восемь!..» Восемь рябчиков тяжело упало с лиственницы в куст, а подобрали ми всего-навсего горстку маховых перьев.
— Вот те раз! — изумился Саша и подозрительно осмотрел винтовку.
Саша был стрелком первой руки, промахи исключались.
— Опять собаки, наверное?..
Только мы вышли к Ямбукану, как вся орава высыпала за нами на берег и, облизываясь, уселась на благоразумном расстоянии.
— Откуда им было знать, что мы на охоте? — сказал в раздумье Патрушев. — Не радистка же им отстукала… Чертовщина какая-то!
Но все было просто: когда Патрушев обувался в палатке, а я уже во всей охотничьей амуниции подогревал ржаную затируху, из тальниковой крепи высунулся нос моего приятеля. Я кинул Умурукдо кусок сахара, и он быстренько убрался. Наверняка он и «проинформировал» своих о предстоящей охоте.
В том, что собаки умеют передавать информацию друг другу о каких-то важных для них событиях и явлениях, я уверен.
Однажды компания, как обыкновенно, сидела в ожидании кормежки возле бивака, откуда-то прибежала Бабушка, взъерошенная и злая. Собаки враз вскочили и ощетинились. Мы думали, что сейчас начнется свалка, и Лева приготовил ведро холодной воды, чтобы разрядить напряженную обстановку. Но собаки вели себя странно, они суетились, тявкали друг на друга, обнюхивали тщательно Бабушку, та угрожающе рычала и скребла задними лапами землю.
Потом собаки убежали. У костра остался один Дружок. Когда мы поужинали, он с чванливым достоинством сожрал остатки каши и завалился спать.
Стая вернулась часа через два. Это было комичное и печальное зрелище. Собаки были взъерошены, помяты, некоторые в крови, а Умурукдо согнулся коромыслом. Ребята встревожились и позвали проводников.
— Охо-хо! — вздохнул Филипп, набивая трубку махоркой. — Шибко большой медведь, хорошо мял собак!..
— Совсем маленький медведь, — возразил Левка. — Наверное, его собаки заели…
Дедушка Филипп засмеялся, но спорить с мальчишкой не стал.
4
…Вскоре геологам то ли для отрицания, то ли для подтверждения какой-то геологической догадки понадобилось отправиться к истокам Кирканы. С ними в маршрут ушли все. А мне поручили охранять вьюки с образцами пород, четверть мешка муки, пуд подмоченного рафинада и канистру, в которой на дне плескалось подсолнечное масло.
В напарники я выбрал себе Умурукдо, чтобы он не удрал, привязал его к дереву. Когда олений караван, нагруженный походным снаряжением, тронулся, пес заорал, как дошкольник, которого братья не взяли в цирк.
На закате дня, перед тем как отвязать его, я показал кус сахара. В глазах Умурукдо вспыхнул восторг. Он вкусно облизнулся и простил мне веревку. Потом я сварил суп с ржаными клецками — целые полведра, чтобы не утруждать себя дня два-три, — мы поужинали и улеглись возле затухающего костра. Бледная северная заря сменилась сумерками. Незаметно подкралась темнота.
Я курил, слушал, как пищат комары и потрескивают, остывая, угли. Умурукдо вытянулся рядом, положив острую морду на лапы, думал о чем-то своем, собачьем. Может быть, мечтал о сладком, может быть, вспоминал медведя, который помял ему бока.
В тайге затрещало, глухо ухнуло. Я встревожился и взглянул на Умурукдо. Он поставил уши топориком и ответил мне глазами: «Не опасно… все хорошо». И я успокоился.
Шумела на перекате река. Раза два мощно ударил жирующий таймень. Вскрикнула испуганно гагара. Пахло кисловатой лиственничной смолой и сыростью. Попискивала мышь. В общем, первый вечер у нас состоял из сплошной лирики. А беда уже подстерегала меня за ближними зарослями.
Ночью я проснулся от храпа Умурукдо. Он забрался ко мне в палатку и спал без задних ног. В тайге что-то шуршало, сопело, казалось, кто-то подкрадывается, разговаривает шепотком.
Я не стал вслушиваться в ночную болтовню. Я свято верил в собачье чутье. В изумительный аппарат — холодный и влажный нос Умурукдо. Я повернулся на другой бок и уснул, даже не вспомнив, что вот он — руку протяни — лежит, ладный карабин с полным магазином. Необыкновенно уверенно чувствуешь себя, когда рядом надежный друг — собака.
На рассвете тайгу затянуло туманом, но вскоре он быстро стал падать к земле, что было верным признаком устойчивого вёдра. Мы позавтракали вчерашними раскисшими клецками, я выпил еще кружку горячего чайку, заваренного брусничным листом, а Умурукдо получил свою долю сахара.
Когда солнце окончательно разогнало туман и заглянуло к нам на поляну, где чадил костер и над ним висела закопченная посудина с хлёбовом, заправленным ложкой подсолнечного масла, я достал из кустов удочку и мы отправились на рыбалку.
За бурливым перекатом у меня на примете была глубокая заводь, по которой, как лебеди, кружили глыбы белой пены. В таких местах любят держаться в засаде хищные ленки.
С трех забросов я вытащил пару рыбин. Первый ленок был невелик, и я вернул его обратно в поток. Второй оказался солидным.
Умурукдо бешено носился вокруг, пока я снимал рыбу с крючка, лаял и даже пытался мне помочь — укусил ленка за хвост.
Десяток следующих забросов не принес удачи. Конечно, нам бы с излишком хватило на ужин одного ленка, но мне захотелось навялить рыбки впрок, для ребят. Я прошел вниз по течению, облюбовал местечко и с первого раза выхватил такого здоровенного ленка, что крепкое удилище, жалобно потрескивая, согнулось дугой, пока я волок его из воды. И здесь-то стряслась беда. Я поскользнулся на камне и упал.
Боль была пронзительная, вроде мне с одного удара всадили в ногу раскаленный гвоздь. Даже затошнило. Я смочил ушиб водой, но жар в колене нарастал волнами. Кое-как я добрался до палатки и здесь раскис окончательно. Колено посинело и распухало на глазах.
— Плохи дела, Умурукдо! — сказал я присмиревшей собаке. — Ребята вернутся через неделю, найдут мой труп, а образцы камней обязательно украдут медведи…
Пес вильнул бубликом и лизнул меня в лицо. Я понял это как ободряющее рукопожатие.
Надо было принимать какие-то меры, а в медицине я разбирался не больше Умурукдо. Царапины, ушибы, кашель и чих врачевала в нашем отряде Зинаида Антоновна. Надо сказать, делала она это с любовью и умело и вполне квалифицированно.
На всякий случай я туго закрутил больное колено полотенцем, затем рубашкой, приготовленной в стирку, и перевязал ремнем.
Пока я укутывал ногу тряпьем, Умурукдо сидел рядом, склонив лобастую голову набок. Говорящие глаза его выражали тревогу. Пес что-то соображал своим молодым умишком.
— Ничего, переживем, — утешил я собаку, а еще больше себя. — Немного отлежусь, испечем рыбу на вертеле… Вкусная штука! А завтра наладим промысел, вялить будем…
Умурукдо чуть приметно махнул хвостом и отвернулся. Я догадался, что он мне не верит. Я подумал, что за многие тысячелетия, живя бок о бок с человеком, собака научилась любить и понимать своего повелителя глубже и тоньше, чем он ее.
В полдень, разморенный брезентовой духотой палатки и уставший от боли, я задремал. Наверное, я стонал во сне, потому что, когда разлепил веки, увидел перед лицом страдающие прекрасные глаза Умурукдо. Я обнял его за шею, он со вздохом положил на грудь мне свою морду, и я опять поплыл куда-то под ровный шум реки.
Наступил вечер, прохладные тени от деревьев накрыли полянку, Умурукдо исчез, наверное, убежал к реке напиться, решил я, или промышляет поблизости в тайге бурундуков. Где-то рядом на вершине лиственницы сойки гнусаво выкрикивали свое неприятное «кре-кре». Потом птицы осмелели, слетели к потухшему костру. Они с любопытством прыгали вокруг ведра, с опаской оглядывались на палатку и орали как заводные. Сначала это меня забавляло, но когда птицы начали глотать мои клецки, я осерчал.
— Ну, погодите! — пригрозил я нахалкам. — Сейчас явится собака и убавит вам прыти!
Пришла ночь, а Умурукдо не вернулся. Колено гудело и дергало, как нарыв. Из тайги доносились странные звуки. Кто-то печально стонал, потом принимался что-то грызть, сопя от удовольствия. Фантазия у меня разыгралась, и я стал населять лесную темноту, подобно своим предкам, какими-то опасными мрачными образами.
И до того себя запугал, что зарядил карабин и бабахнул в ночь, в свой страх. Тайга звонко и весело подхватила выстрел и повторила его многожды.
На рассвете выдуманные мною духи тайги умолкли и уступили место дневному голосу реки, шуму ветра, а в палатку просунулась любезная морда моего друга. Он тяжело дышал и был какой-то запаленный, усохший. С длинного розового языка стекала слюна, но он улыбался, показывая крепкие, белые клыки.
— Эх ты, фрукт! — укорил я его. — Товарищ твой окочуривается, птицы растаскивают последние харчи, а ты выкидываешь фигли-мигли и разгуливаешь черт знает где! Правду говорят, что ты…
И здесь мне показалось, что сквозь шум реки на перекате я слышу звон ботала. Я отмахнулся от наваждения. И только когда на поляну выехали верхом на оленях дедушка Филипп и румяная красивая Зинаида Антоновна, я поверил в Умурукдо.
Глава пятая
1
Таежное лето подходит к концу, а солнце печет, видно по ошибке приняв Север за курортный Крым. Нас донимают комары, слепни, мошка. У нас расчесаны до болячек руки и ноги, и мы ходим с распухшими физиономиями, словно неудачливые пасечные воры. Олени целыми днями коптятся в дыму возле костров-дымокуров. Только ночью, когда становится прохладно и кровососы утихомириваются, олени уходят на пастбища.
Я сижу на камне, разглядываю ощерившийся сапог и морокую, как продлить ему жизнь. Левка чистит песком кухонную посуду. Где-то далеко погромыхивает гроза.
Ямбукан словно взбесился. Вчера на шивере его можно было перебрести, не замочив колени, сегодня соваться туда — гиблое дело. Ночью в верховье прошел дождь. Мерзлота не приняла ни капли влаги, крутые долинки боковых притоков моментально сбросили воду в реку, и уровень Ямбукана подскочил за несколько часов метра на полтора.
В лагере с утра горячая суматоха. Кучей лежат спальные мешки, рюкзаки, посуда, крепкие брезентовые сумки с образцами, свернутые тючками палатки.
Пелагея, Дарья и Матвей вьючат оленей, ребята им помогают. Дедушка Филипп проверяет, ладно ли уложен груз на спины животных. Зинаида Антоновна энергично распоряжается. Евгений Иванович, похожий на клондайкского золотоискателя, как их рисуют, плечистый, бородатый, голубоглазый, опоясанный патронташем, с ножом на поясе, стоит, сунув руки в карманы, щурясь от махорочного дыма, смотрит на суету, мудро не вмешиваясь.
Сегодня наш отряд разделится. Зинаида Антоновна, Костя Угрюмое, Патрушев уйдут через водораздел на Тембенчи, где еще предстоит много работы. С ними Евгений Иванович отправляет несколько центнеров образцов, трех проводников и почти всех оленей.
С начальником отряда остается Лева Минич, я и радистка. Пока Зинаида Антоновна будет разведывать верховье Тембенчи, мы обшарим, как говорит Женя, истоки Ямбукан-речушечки.
Комков «жадничает». Разведка этого участка запланирована на будущий год, но Евгений Иванович живет по правилу: никогда не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня.
Хороший, конечно, принцип — плохо, что нет харчей. Остались крохи.
— Ничиво, не околеем, — говорит Матвей, — дикий олешка стрелять будем, совсем худо придется — своего заколем…
Матвей остается с нами и под его присмотром «транспорт» — пять рогачей.
Я немного завидую ребятам. Через неделю, если росомахи и медведи не разграбили лабаз, у них будет изобилие. А у нас на две недели десять кружек муки и пригоршня грязноватой соли.
Прощальные рукопожатия, улыбки — и караван исчезает в зарослях. А мы еще долго стоим у палаток, сиротливо приткнувшихся к скалам на берегу Ямбукана, слушаем звон ботал.
Забравшись в палатку, я нашел в изголовье спального мешка узелочек с махоркой и коробок соли. Это была доля ребят на дорогу.
Говорят, чтобы узнать человека, нужно съесть с ним пуд соли, а здесь спичечный коробок сказал мне о товарищах больше, чем пять пудов.
Каждый день по берегу реки и по боковым ключам мы проходим двадцать — тридцать километров. Я устаю так, что даже за ночь не успеваю отдохнуть. Утром едва вылезаю из спального мешка. Руки и ноги как чужие.
На завтрак и ужин, обеда у нас нет, жиденькая мучная болтушка, а рыбы вообще никакой.
— Худое место, — жалуется Матвей, — совсем пустое!.. Ягеля нет, олешкам плохо…
Наконец истоки Ямбукана — несколько ручейков, журчащих среди покрытых лишайниками валунов.
В пологой сырой долине останавливаемся на последнюю ночевку у этой реки. Яркие звезды высыпают в синем небе, и над самой головой сверкает бриллиантовая монограмма Большой Медведицы. Завтра через водораздел к Тембенчи.
2
Идем еле передвигая ноги. Унылые сумерки опускаются на тундру. Ни деревца, ни холмика. Первобытной тоской веет над плоской равниной. Под сапогами пружинит сухой ягель. Мягко прошелестела в сером воздухе серая сова. Не верится, что есть города, теплый асфальт, кинотеатры и симфонические концерты.
Мы третий день идем по компасу на восток к одному из притоков Тембенчи.
— Баста! — Левка бросает винтовку на мох и ложится лицом вниз.
Подходит Матвей, вместо связки из пяти оленей у него три. Понятно, еще два пали дорогой.
Ночью я проснулся от холода, надрал ягеля и разжег костер. Ягель горел, как кинолента, давая жаркое и короткое тепло.
Чуть забрезжил свет, мы стали собираться.
Левка долго обматывал заскорузлыми портянками стертые ноги и ругательски ругал геологию.
Неяркое солнце поднималось над зарослями смородины и старыми гарями. Мы спустились по скалам к ручейку — родоначальнику речушки Тылкамит. Он весело звенел среди камней.
Матвей с оленями идет где-то тайгой, мы по берегу реки. Самый прямой и относительно легкий путь — это по реке. Она выведет нас точно к ребятам, стоянка которых должна быть неподалеку от лабаза.
В одном месте глубокий заливчик преграждает нам дорогу. На берег не выбраться — отвесная скала. Приходится возвращаться. На обратном пути натыкаемся на медвежий след, пересекающий наш. Топтыга прошел, может быть, минуту назад. Радистка Вера, девушка очень симпатичная, но не лишенная сарказма, демонстративно измеряет огромный отпечаток и серьезно говорит:
— Андреич, никак, опять твой родственник!..
Ребята хохочут, а я молча глотаю ядовитую подначку. В родственники к медведю я попал из-за Рабиндраната Тагора.
В последние дни работы на Ямбукане какой-то косолапый откровенно выживал нас из своих угодий. Два раза, когда мы, опасаясь устроить пожар, не разжигали у палаток дымокуров, медведь повалил их, распотрошил вьюки с образцами и разбросал камни. Евгений Иванович и Лева стали грозить озорнику вооруженной расправой. Я, чтобы устыдить их, привел слова индийского поэта.
«Я часто думаю, — писал Тагор, — где пролегает скрытая граница понимания между человеком и животным… Через какой первоначальный рай, на утре древних дней пролегла тропинка, по которой их сердца ходили навещать друг друга? Их следы на тропинке еще не стерлись, хотя давно уже забыты родственные связи. Иногда в какой-то музыке без слов пронесется темное воспоминание, и животное глядит тогда человеку в лицо с нежной верой, и человек глядит в лицо животному с растроганной любовью.
Как будто сошлись два друга в масках и смутно узнают друг друга под личиной».
На следующий день пришлось работать на обнажении до темноты. Вернулись в лагерь поздно ночью. Комков и Минич занялись костром, Вера — упаковкой образцов, а мне что-то понадобилось в палатке. Я влез туда и угодил в какую-то густую лужу. С воплем и проклятьями я выбрался из-под брезента, перемазанный медвежьим пометом. Пока я отмывался в реке и полоскал свой спальный мешок, Евгений Иванович хохотал на всю тайгу и выкрикивал: «Не забыты родственные связи! И смотрит нежно медведь из кустов на Андреича и не может узнать его! Привет тебе, дорогой родственник медведей!» Левка отстукивал на ведре марш. Я, конечно, не серчал ни на товарищей, ни на медведя, но почему-то было досадно.
…Тайга расступилась, впереди виднеются две палатки, за ними большая вода — Тембенчи.
3
— Раз!.. Два!.. Взяли!
Липкое от смолы бревно, подхваченное четырьмя парами рук, плотно ложится на плечи, и мы, сопя от напряжения, сбиваясь с ноги, несем его к берегу, где на гальке у воды уже желтеет с десяток ошкуренных кругляков.
Костя Угрюмое раздувает костер и вешает на рогульку чайник. Мы укладываемся у огня. Ноют намятые плечи, и гудят ноги. Прохладно, ветрено, солнечно. Но солнце уже греет слабо — осень.
— Наваливайся, ребята, на кипяток! — говорит Саша Патрушев.
Пьем чай по-сибирски: со смаком, долго и помногу. Потом опять валим деревья и таскаем бревна на берег. К вечеру, усталые, пропахшие смолой, переправляемся на резиновой лодке в лагерь. Готовим ужин и ожидаем своих. Геологи и радистка возвращаются в полнейшей темноте, снимают вьюки с оленей, едят и засыпают мертвым сном.
Мы сидим у дотлевающего костра. Плещет река. Где-то, переговариваясь, устраиваются на ночлег гуси. Тускло поблескивает вода. И, словно светляки, плывут к берегу и никак не могут доплыть отражения звезд. Гуси все разговаривают, и вдруг тревога, крики, плеск крыльев. Может быть, подкрадывался волк, может, росомаха, мрачный и осторожный зверь.
У костра уютно. И не хочется выходить из круга тепла и света в темноту, как не хочется выходить из обжитой комнаты в ненастную ночь.
…Наконец шесть десятков бревен лежат на берегу. А еще через несколько дней три неуклюжих плота с длинными веслами-правилами на носу и корме стоят под берегом у палаток.
Глава шестая
1
На резиновой лодке перевозим продукты из лабаза, который я заложил на острове весной. Грузим на плоты мешки с мукой, консервы, масло, сахар. Большую часть съестного мы передадим проводникам при расчете. В октябре начинается промысел на пушного зверя, и им не надо будет терять дорогое время, чтобы идти в поселок за сотни километров, запасаться на зиму харчами.
Конечно, три наших плота, тяжелых и неуклюжих, — не комфортабельные лайнеры с бассейнами и танцзалами, но и не тот плотишко, на котором я плыл по Ямбукану. На них легко разместился весь запас продовольствия и центнеры образцов. Натянуты палатки и мокрые штаны и свитеры сохнут на ветру после стирки.
Второй день мы плывем по Тембенчи. А где-то, звериной тропой, Филипп, Пелагея, Дарья и Матвей — наши верные помощники — гонят оленей. Геологам осталось разведать одно большое и, как надеется Евгений Иванович, перспективное обнажение да совершить несколько маршрутов на боковые притоки. Медлительные плесы сменяются перекатами и узкими стремнинами. Бывает, с километр и больше мы несемся со скоростью автомобиля, а потом опять ползем, подобно осенним мухам по стеклу, мимо тронутой нежной желтизной тайги, беззаботно покуриваем и изображаем из себя туристов. Я чищу карабин.
— На флагмане тихая паника! — орет Левка. — Таймень!
Торопливо разматываю шнур. Закатное солнце окрасило реку в пурпур. Черная рыбина колесом выскакивает над красным зеркалом, и до нас долетает тяжелый всплеск.
— Пуда полтора!
— Все два!..
Снасть заброшена. Сердце замирает в сладкой тоске. Но таймень предпочел почему-то крючок конкурентов. Черная зависть гложет наши сердца, как червяк яблоко.
На первом плоту радостная возня. Таймень упирается. Патрушев тянет шнур-леску, Евгений Иванович пытается ему помочь. Вдруг раздается тоскливый вопль.
Левка сплевывает в воду. Это не от презрения к неудачникам, просто набежала слюна — до того хотелось полакомиться вкусной рыбкой.
В темноте пристаем к берегу. Затаскиваем плоты в тесный заливчик, разгружаемся, ставим палатки. На притоке Тембенчи, речке Каменистой, будем работать несколько дней.
Саша Патрушев и я занимаемся ремонтом и усовершенствованием плотов. Остальные как окаянные бросаются на скалы и потрошат их стальными клиньями, кувалдами, кайлами. Евгений Иванович, одержимый геологическими догадками, целыми днями, забывая о еде, лазит по обнажениям, рисует, фотографирует, лупит молотком по камням. Левка Минич не отстает от геолога ни на шаг. «Палеозой», «кембрий», «аллювий», «контакты», — все чаше срывается с его языка. Евгений Иванович довольно похохатывает и подмаргивает мне, когда Лева пристает к нему с немыслимыми геологическими гипотезами. Все ясно — на мутненькой славе джазовой звезды поставлен жирный крест.
— Теперь его арканом от геологии не оторвешь, — констатирует начальник отряда. — Потеряла эстрада трубача!..
Когда укладываемся, Левка долго ворочается в спальном мешке, что-то бормочет, потом окликает меня:
— Вот думаю, как бы ухитриться, чтобы и работать и на учебу время выкроить… В геологоразведочный хочу…
— Ты же клялся, что больше в тайгу ни ногой!
Лева не отвечает и начинает старательно сопеть, притворяется, будто уснул.
Посреди ночи нас разбудил Костя Угрюмое.
Кряхтя и поеживаясь, мы вылезли из палаток. Было холодно. Сонно плескалась на камнях река. На той стороне, над тайгой, косо вставал узкий столб света — словно тяжелая машина лезла в гору, упираясь фарами в ночное небо. Такое у меня было первое впечатление. Потом световой столб, подрожав, погас. Это начиналось полярное сияние, самое удивительное явление природы.
Ученые говорят, что оно возникает, как правило, на высоте ста и более километров от поверхности Земли. Верхние слои атмосферы бомбардируют из космоса заряженные частицы, и, взаимодействуя с магнитным полем Земли, они вызывают на небосклоне яркие, причудливо окрашенные полосы сияния.
Картину полярного сияния невозможно передать словами, настолько это грандиозно. Это нужно увидеть. Даже у постоянно живущих на Севере людей оно всегда вызывает изумленное восхищение, заставляет учащенно биться сердце.
Мы сидели, завернувшись в куртки, и смотрели в черное бездонное небо с бледными звездами. Костя хотел развести костер, но все запротестовали. И вот из черной бездны свесились пять сиренево-красных столбов света. Они дрожали, словно колеблемые ветром. Последовала яркая вспышка, и начался хоровод.
Я чувствовал, как мурашки пошли у меня по спине. Вдруг танец прекратился, красочные столбы света замерли и исчезли, словно кто-то повернул выключатель. Через минуту над тайгой повис красновато-зеленый занавес из треугольников. Снова движение, причудливая игра, от которой становится жутковато.
Три ночи подряд мы смотрим великолепные световые спектакли природы. Потом что-то в космосе иссякло, и ночные наши бдения прекратились.
2
Осыпается с лиственниц хвоя. Узкие листочки тальника плывут по воде, словно крохотные индейские каноэ. Печально на сердце. Не оттого что осень, а близка разлука с людьми, рядом с которыми прошел по тайге много верст, работал, голодал, радовался находкам, съел пуд и еще пять ложек соли. С этими надежными ребятами я готов пойти в самую трудную экспедицию.
С утра небо хмурится, грозится дождем, а может, снегом. Дым от костра стелется по берегу. Холодно. Руки зябнут, и карандаш плохо слушается и выводит каракули. Подошел Лева, прикурил от уголька.
— Пишешь?
— Угу…
— А ты знаешь, когда окно изобрели?
— Не мели чепуху!
— Тоже писатель! Иди, тебя Филипп зовет…
Чум Елдогира шагов за триста от лагеря. Для света нижний ярус покрышки снят, будто ребра белеют шесты. Дедушка Филипп, набросив на спину шкуру, точит нож. Пелагея, обложившись лоскутками сукна, клочками меха, как заправский закройщик, режет оленьи камусы.
— Парку тебе делаю!..
— Правда, правда! Маленько Пелагее надо, тебя мерить… шибко большой мужик. Поедешь в город, носить будешь, стариков вспоминать. Когда еще встретимся…
…Матвей с Дарьей рассчитались и откочевали куда-то в тайгу. Скоро сезон охоты на соболя. Пелагея увязывает последний патакуй. Я помогаю Филиппу вьючить оленей и далеко провожаю стариков. Молча обнимаемся.
Долго стою на тропе, долго слышу жестяное позвякивание ботала. Прощай, Филипп! Прощай, Пелагея! Всегда буду помнить и гордиться вашей дружбой.
3
…Отталкиваемся шестами от берега. Теперь можно сказать, что мы вольные казаки. Поисковые работы закончены. Плыви себе вниз по течению, пока река не вынесет плоты к поселку. Последние гусиные стаи, обогнав нас, ушли на юг. Ветер свистит в растяжках палатки, словно дробью, хлещет по плечам снежной крупой. Только миновали быстрину, сзади ударил таймень. Всплеск был глух и мощен. Так, от скуки, распускаю за плотом тайменевку.
Через пятнадцать минут огромная рыбина с яркими оранжевыми плавниками лежала, оглушенная, на бревнах, а я дрожащими руками выдирал у нее из пасти крюк, и не верилось, что этот полутораметровый красавец — моя добыча.
В полдень мы услышали какой-то грохот. Шум был ровный, нарастающий и опасный. Мы с трудом подвели плоты к берегу и отправились на разведку. Через километр Лева, Евгений Иванович и я вышли к порогу. Широкая Тембенчи сливала свои воды в узкую щель среди высоких, отвесных скал. Стремнина была усажена камнями. Перед ними вздымались грозные буруны, словно у форштевней эскадренных миноносцев, мчавшихся в торпедную атаку. Зрелище было запоминающееся.
Евгений Иванович предложил грузы перенести тайгой, а плоты пустить самосплавом.
— Проскочишь?..
Я вспомнил наказ дедушки Филиппа: «Будешь коли плыть, левой стороной держи…»
— Да! Филипп Якимыч говорил…
— Возьми Патрушева!
— Нет, я с Левой!..
Минич благодарно посмотрел на меня.
…Я встал к носовому веслу, Левка на корму. Плот волокло быстрее и быстрее. Я не видел, что по берегам, смотрел только вперед, на буруны, на мокрые черные хребтины камней. Они, как живые, летели навстречу. Мы прижимались веслами влево, вплотную к скале — на чистый фарватер. Каменный коридор проскочили как миг.
…Три плота медленно плывут по широкому плесу. Сзади грохочет порог, словно беспрерывный состав товарняка несется по стальному гулкому мосту.
Кочечумо. Плывем два дня. Утром третьего видим на берегах порубки. Мы радуемся, глядя на эти примитивные признаки близкой цивилизации, пристаем к каменистому мыску. Возле потухшего костра беззаботно спит на куче лапника человек. На кустах развешаны сети. Мы рассматриваем спящего, словно папуасы Миклуху-Маклая. Рыбак приоткрывает глаза, смотрит на нас, поворачивается на другой бок и опять засыпает. Рядом валяется начатая пачка «Беломора», мы берем по папиросине, кладем взамен изрядный кус подсоленного тайменя и отчаливаем. Лева стоит на кормовом весле — правиле, насвистывает.
Я листаю дневник, подсчитываю, сколько пришлось измерить тайги. Выходит, только в паре с Евгением Ивановичем прошел пешком по берегам речек, ключей, по гарям и тундре около двух тысяч километров, увидел дикую природу, почувствовал собственным горбом, как неохотно она раскрывает человеку свои богатства. И меня радует, что наш отряд выполнил задачу и даже сделал чуть больше. Радует, что, может быть, скоро, следом за нами в таежные дебри придут строители и добытчики и начнут рачительно хозяйствовать в богатых кладовых Эвенкии.
За поворотом на высоком берегу открывается поселок, из которого мы ушли в тайгу шесть месяцев назад. Порывами налетает ветер. Он пахнет снегом.
Примечания
1
Неук — здесь: молодой, необъезженный конь.
(обратно)




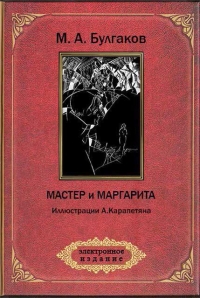

Комментарии к книге «Новобранцы», Юрий Андреевич Козлов
Всего 0 комментариев