Борис Федорович Шахов ЧЕРНАЯ ШАЛЬ С КРАСНЫМИ ЦВЕТАМИ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Начальник экспедиции старший майор госбезопасности Илья Яковлевич Гурий, не в силах успокоиться, возбуждённо шагал по кабинету. Да, удача, удача. Наконец-то удача. Этот день для всего северного края станет вечным знаком удачи… Есть месторождение, есть. Не просто нефть, не вообще нефть, но промышленное месторождение. Промышленная нефть. Такое, брат, не каждому в жизни выпадает — открыть…
Гурий сел за рабочий стол, подтянул к себе календарь и жирно обвел дату красным карандашом: 25 октября тысяча девятьсот тридцатого года. Справа, рядышком встали два восклицательных знака. Гурий даже головой покрутил в немом восторге. И тут же вспомнил рыжую бороду и слишком знакомые глаза…
Стоп, Гурий, где ты видел это лицо? Где? Что видел сомнений быть не могло, зрительная память никогда не подводила его. Но где? Вчера ему попалась навстречу группа людей, возвращающихся с лесоповала. И мелькнуло это лицо в обрамлении рыжей бороды. И знакомый взгляд…
Гурий знал себя: теперь, пока не вспомнит, где он видел этого человека, покоя ему не найти. Так где же? Где?
Тот, пожалуй, тоже узнал Гурия, — слишком быстро отвел взгляд в сторону. Старший майор госбезопасности, постукивая красным карандашом о стол, перелистывал страницы памяти, но нужной не находил. Надо найти! Это мог оказаться и забытый друг. Это мог быть и упущенным враг. Привычка никого не забывать выработалась у Гурия на чекистской работе после гражданской войны.
Десяток лет постоянного напряжения — это не шутка… Нет, не вспоминается. Черт бы побрал эту рыжую бороду — надо вспомнить!
— Климкин! — зычно позвал Гурий. Фанерные перегородки барака-конторы пропускали звуки беспрепятственно, начальник третьего отдела вырос на пороге тот-час.
— Товарищ Климкин, дай-ка мне списки последнего отряда. Тех, кто прибыл в конце сентября.
— Слушаюсь, — сказал Климкин и уступил проход спецам, которые уже входили в кабинет Гурия на объявленное совещание.
Усилием воли пришлось освободиться от прилипших мыслей о рыжебородом. Специалисты рассаживались: технический руководитель экспедиции Звягинцев, главный геолог Лунин, старший буровой мастер Криволапов. Климкин тоже был тут как тут, прежде чем сесть, он протянул Гурию списки. Гурий сделал над собой усилие, чтобы сразу не раскрыть их. Ладно, потом, после совещания. Остальные спецы — инженеры и мастера механической мастерской, строители дорог, горные инженеры — устраивались на длинных скамейках вдоль стен кабинета. Человеку со стороны могло показаться странным одно обстоятельство, сразу бросающееся в глаза: все спецы были одинаково одеты — куртки и штаны из чертовой кожи, одинаково унылого цвета и одного покроя. На ногах у всех одинаковые рабочие ботинки на толстой подошве… Замечательное единообразие вкуса, несколько, правда, принудительного свойства.
На проволоке, намотанной на вбитые в потолок гвозди, висели керосиновые «молнии» с самодельными абажурами, одна над столом, другая над центром кабинета. Их круглые фитили горели ярко, белое пламя внутри чистого пузатого стекла пульсировало, словно живое.
Илья Яковлевич Гурий встречал каждого, кто входил в кабинет, изучающим, внимательным взглядом. Это тоже была и привычка, и своеобразный ритуал. Люди торопливо усаживались, чтобы поскорее освободиться от пристальных, насквозь пронизывающих глаз начальника. Когда собрались все, Илья Яковлевич поднялся из-за стола, засунул большие пальцы под ремень, согнал складки гимнастерки назад.
— Поздравляю всех. Пятая скважина сегодня дала промышленную нефть. Дебит скважины, по расчетам, пять тонн в сутки.
Пять тонн. Иван Васильевич свою архиерейскую бороду пожалел. — Гурий посмотрел на Криволапова. — А мы с Луниным вымазались, как велит нефтяной обычай. Я телеграммой уже сообщил в наркомат. Много десятков лет тут рылись, рылись, и все впустую. А мы за один год нашли нефть, и она станет прочной основой быстрого развития этой северной земли. Поздравляю! — Гурий взмахнул в воздухе крепко сжатым кулаком: — Пусть это будет нашим подарком тринадцатой годовщине Великого Октября!
Кто-то хлопнул в ладоши, похлопали и остальные.
— Но это еще только первая ласточка, — продолжил Илья Яковлевич. — Нам таких надо много. Стране нужно топливо. Геологи должны расширить районы поиска. Буровики должны повысить скорость бурения. И увеличить число буровых бригад. Олег Петрович, — Гурий обратился к Лунину, — изложите дальнейший план поисковых работ.
Лунин встал, развернул несколько ватманских листов — геологические карты и схемы, по ходу доклада он то и дело обращался к этим листам.
Пока Лунин говорил, Гурий снова подавил в себе желание немедленно раскрыть списки новоприбывшего контингента и отыскать, кого же судьба подсунула ему в экспедицию…
…Значение этого месторождения еще и в том, что впервые в нашей стране промышленная нефть обнаружена в залежах, приуроченных к девонскому периоду геологической истории земли, — докладывал Лунин. — Для нас это чрезвычайно важно: мы теперь можем точно указать точки заложения новых буровых… Кроме Дзолью, где найдена нефть, необходимо расширять разведочное бурение по Ухте и в районах Ручьель, Лапшаель и в верховьях Няръяги. — Лунин тыкал в карту короткой указкой. — Разведкой надо выходить на Печору. Эти задачи мы сможем выполнить, если будет пополнение людьми и техникой…
Гурий обратился к Звягинцеву:
— Евгений Борисович, к завтрашнему дню подготовьте проект приказа об организации первого промысла по добыче нефти и о дальнейшем расширении поисковых работ. Четко определим: кому что и в какие сроки делать. Кого назначим управляющим первым нефтепромыслом?
Звягинцев обвел взглядом сидящих вдоль стены людей.
— Я думаю, Зиновия Юрьевича Пастернака. Инженер-нефтяник с большим опытом.
— Согласен. А вы что скажете, Зиновий Юрьевич? — спросил Гурий, в упор глядя на Пастернака сидевшего у самых дверей.
— Что я могу сказать? — поднялся тот. — Будет, конечно, труднее, чем в Баку…
— Труднее, Зиновий Юрьевич, — подтвердил Гурий. — Трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать. А здесь мы второе Баку организуем, я так думаю. Поздравляю, Зиновий Юрьевич, и желаю успеха.
Лунин продолжал:
— Зиновий Юрьевич сам отберет себе помощников и сразу начнет готовить буровиков. Нужны бурильщики — ключники и их помощники, верхолазы и другие рабочие. В каждой смене должно быть два-три ученика. Отбирать нужно из тех, кто помоложе, покрепче, пограмотнее. И кто на других работах показал себя с лучшей стороны. После учебы устраивать экзамен и выдавать свидетельство специалиста. Это важно для закрепления кадров…
— Климкин, пометь себе, — кивнул Гурий.
— А сегодня надо бурить и бурить. Оконтурить месторождение и точно определить запасы…
— Понятно, — поднялся Гурий. — С бурения никого не снимать, буровиков никуда не переводить. Это мой приказ. Все, закончили.
На других совещаниях начальник может сказать: все, товарищи, все свободны.
Это на других совещаниях, в иных местах. Здесь выражение «все свободны» может быть истолковано как издевательство или неумная двусмысленность. Спецы выходили из кабинета, тихо переговариваясь.
Гурий тоже вышел из-за стола, прикрутил фитили ламп, чтоб горели спокойнее, без пульсаций, и, взявшись обеими руками за портупею, зашагал взад-вперед по кабинету. Теперь мысли его полностью переключились на рыжебородого, который не отступал из памяти, не давал покоя. Если увиденное мельком лицо ничего не хочет подсказать памяти, должна же хоть фамилия что-то напомнить. Сегодня в экспедиции более пятисот человек. Через полгода, вероятно, будет тысячи две, не меньше. Открытая нефть ко многому обязывает, работы будут расширяться. Но эту рыжую бороду нужно определить сейчас. Сейчас же. Гурий открыл списки. Фамилия, имя и отчество, год рождения, социальное происхождение, статья. Все как всегда…
Илья Яковлевич углубился в список, останавливаясь на каждой фамилии: не подскажет ли что-нибудь? Имя? Так. Больше половины списка прошел, но память ни разу не дрогнула, не всполошилась. Споткнулся на сорок восьмом номере:
«Туланов Федор Михайлович. 1891 г. Кулак. Ст. 58».
— Фе-едя? — вслух, с удивлением протянул Гурий. — Да, Федя, он, безусловно, он.
Старший майор госбезопасности поднял голову и тут только заметил, что Климкин не ушел, а стоит у двери и ждет.
— Товарищ Климкин, — официальным тоном сказал Гурий, — Прикажи кому-нибудь, пусть ко мне приведут Туланова Федора Михайловича.
— Да поздно уже, Илья Яковлевич, — поколебавшись, неуверенно возразил Климкин.
Гурий поднял голову: брови сошлись, на переносице, глаза вспыхнули:
— Выполняйте, что приказано! — Голос старшего майора госбезопасности не предвещал ничего хорошего. Климкин вытянулся, щелкнул каблуками:
— Есть! — и вылетел из кабинета. Надо же, как не понял его начальник! Он ведь о нем, о Гурии, заботится, намекая на поздний час: пора начальнику и отдохнуть от трудов праведных. А тот не так понял, не так. Вышло, вроде о зеке Климкин волнуется: поздно, мол, беспокоить. Ну, этих-то бобиков мы поднимем в ночь-за-полночь, надо и не надо, не сомневайтесь, товарищ старший майор…
ГЛАВА ВТОРАЯ
— Туланов! Одевайсь! К начальнику!
В сонно-угасающее сознание Туланова откуда-то издалека проник зов дежурного. Проник и разбудил сразу. У входа в палатку снова выкрикнули:
— Туланов! Пошевеливайся! На выход!
— Михалыч! — снизу, с первого этажа, ладонью похлопали ему по доскам нар. — Михалыч, слышь, тебя кличут.
— Слышу, Кузьма, слышу, — отозвался Туланов и сел. Вытащил из-под подушки, набитой, как и матрац, опилками, куртку. Напялил на себя.
Спустился вниз, снял с гвоздя, вбитого в столб, свой бушлат и шапку-ушанку.
На полу из неструганых досок было прохладнее, воздух почище, и дышалось полегче. Оно понятно: когда после тяжелой работы в одну палатку понабьется сто двадцать человек, всякий людской запах, перемешиваясь, тянется вверх, и дух там, на верхних нарах, не приведи бог. Но к чему только человека жизнь не приучит, запахи не самое страшное, да. И наверху все ж таки лучше зимой, понизу таким морозцем потягивает, у-у…
У выхода из палатки его ждал начальник третьего отдела.
— Быстрей надо шевелиться, Туланов! Не у тещи на именинах, понимаешь! Тебя сам Гурий зовет. Понял? Откуда он тебя знает, а ну? — Климкин задавал вопросы уже на ходу.
«Значит, узнал-таки, — подумалось Туланову почти безразлично. — Ну до чего же узкие на земле стежки-дорожки…».
— Откуда он тебя знает? — настойчиво вопрошал Климкин, все-то ему надо знать, этому Климкину.
— Как же, гражданин начальник, — степенно отвечал Туланов. — Личность я известная…
— Ну-ну, — покосился Климкин. — Шевелись! Прибавили шагу. Сколько еще этих шагов до их встречи осталось? И мысли заключенного Федора Туланова, и мысли красного командира Ильи Гурия как бы скрестились по времени и пространству в единой точке. В третий раз скрестились за короткую жизнь.
Первая их встреча случилась давненько, в тот год, что приезжал на далекую Ухту вологодский губернатор. Год, дай бог памяти, одна тыща девятьсот седьмой.
…Широкоплечий молодой парень сидел на корме маленькой лодочки и берестяным черпачком не спеша черпал воду со дна, плескал ее за борт. Изредка откидывал рукой вылезающие из-под войлочной шапки русые волосы. Лицо у парня было самое простецкое, но не глупое. Из-под черных бровей, смахивающих на маленькие тетеревиные крылья, глаза внимательно наблюдали за снующими на берегу людьми. Люди были наверху, на крутизне, недалеко от знаменитой избы Сидорова. Того самого Сидорова, который одним из первых заинтересовался подземным богатством этого таежного края…
Изба была просторная, с красивыми белыми окнами, срублена из кондовой лиственницы.
Теперь вокруг стояли светло-серые шалаши с острым верхом. Лодочники с больших губернаторских лодок говорили — палатки. Экую пропасть дорогого материала убили на эти палатки… Отдельно, между пятиаршинных сосен, располагались еще две палатки, перед которыми на длинном шесте, воткнутом в землю, вился трехцветный — бело-сине-красный флаг. А несколько шагов в сторону, вытянувшись, стоял строгий солдат с винтовкой. Сказывали, в этой палатке сам губернатор живет. Вообще-то парень воду из лодки черпал так, больше для видимости. Интересно ему было на самого губернатора глянуть, хотя бы одним глазком. Какие такие бывают обличьем большие-то люди? Губернаторов парень еще не видывал, не приходилось. Купцов видел, исправника видел, капитана большого парохода видел не раз. А губернатора — нет. Уж как Федор — так звали парня — просился у отца хоть на денек на губернатора глянуть… Еле выпросился. Сказал отец: чтобы одна нога здесь, другая там. Это сказать легко, здесь да там. А обратная дорога-то против течения, здесь быстрая Ухта вниз вмиг пронесет, да с Уквавома до верховьев Ижмы на шестах подниматься — чомкостов двадцать пять, наверное, будет до Изъядора, если не более того. Вы, конечно, не знаете про чомкосты. Это старинная у коми охотников мера. Меряют чомкостами на реке или в тайге. Буквально значит: от шалаша до шалаша. Примерно сказать — от пяти до семи верст. Так что ежели даже по шесть-семь чомкостов в день подниматься, и то за три дня не управиться. А припоздниться Федор никак не может: батя рассерчает, тогда держись…И так еле отпросился. Этим годом батя решил расчистить новые сенокосные угодья, дело серьезное, кто спорит. Федор понимает: и старые покосы топора требуют, наросло куста, а станешь без дела по реке шляться — богачества в дом не прибудет, нет.
Но и то сказать, губернатор не всякий день приезжает, не всякий даже год. Как не посмотреть на губернатора! И про этих, ну, которые нефть ищут на Ухте, давно слухи ходят: мол, землю дырявят, так и этак колупают, из-под земли, мол, сама потечет… Опять же глянуть надо, до чего ж это человек умом дошел. Непонятно Федору-охотнику, как это можно землю дырявить. Они-то с отцом знают в верховьях Нибели и по ручью Чимъелю такие места, где из земли что-то вроде черного вонючего дегтя сочится.
И тухлым яйцом отдает. По разговорам это и есть та самая нефть, что на Ухте ищут. Упаси бог, ежели такой дряни много потечет: это ж всю округу сведет на нет… Еще говорят, могут здесь железную дорогу построить, а тогда не только зимой, и летом и весной люди сюда добраться смогут. И главное, хорошие заработки будут. Вот оно как. Всякое дело как палка о двух концах. С одной стороны, значит, тухлым яйцом разит, с другой — деньги сулят. Поди разбери, откуда подступиться. Это ж так может обернуться, что выгодно станет показать пришлым то место, где нефть из земли сочится. И, стало быть, им, отцу и Федору, как людям знающим, самые большие заработки причитаются, если по справедливости. Вот бы здорово! Ан спешить не станем, вперед батьки не суйся, а батька отпустить-то отпустил, но настрого заказал не болтать о своей земле. Пришлый народ он и есть пришлый, чужая земля ему не дорога, чужое горе не горько, надо еще посмотреть, чего они затеют делать, эти пришлые…
Теперь Федор сам видел, как нефть ищут. Сам. И чтоб он кому о своих заветных местах рассказал — да ни в жисть. Боже упаси! Ежели и спросит кто, станет отпираться да утаивать: знать не знаю и ведать не ведаю. Иначе и к ним придут, лес переполошат, реки наизнанку вывернут, да пожгут, да попортят… Федор, сюда, к губернаторской палатке добираясь, всякого уже насмотрелся. Везде, где пришлые землю дырявили, почему-то горелый лес: сколько глаз видит — одни обугленные деревья с сучьями торчат. Вот и здесь, вокруг избы Сидорова, наворочали. Зачем этак-то, господи? А еще вышка стоит, сплошь досками обшитая. А внутри той вышки — и шуму, и гаму, и скрипу, и стучит, и брякает… Рядом кузня — и там стучат без конца. Тут же длинный деревянный сарай с трубой, труба из окна торчит, и пар из нее пыхтит, не упыхтится никак… Да ведь здесь на сто верст кругом зверя-птицу распугали, столько шуму-гаму, в самом Питере, поди, слышно. А если таким-то обычаем они к нам придут, думает Федор, у нас тоже ни птицы, ни зверя не станет. Не-ет уж, он никому не расскажет о своих местах. Побереги, боже, нас от таких охотников за вонючей нефтью…
Батя правильно наказал — молчать, ничего про свою землю не сказывать. Видел Федор, как всполошились искатели нефти, когда про губернаторские лодки узнали. А когда палатку с флагом поставили, самый наибольший из искателей — бородатый, с чуть поседевшими усами, в жилетке черного сукна, из жилетки серебряная цепка свисает, в карманчике часы с крышкой, до того на солнце сверкают, глазам больно…
Этот наиглавный искатель и с ним еще несколько мужиков, волнуясь, вошли к губернатору, да что-то долго там остаются, видать, разговор у них интересный. Вот бы послушать! Да где там, Федор ни одеждой, ни рылом, как говорится, не вышел, зырянского парня и к двери не подпустят к губернаторской-то… Да это ладно, хоть бы на самого губернатора глянуть, чтоб не зря в такую-то даль тащиться. Спросят ведь свои, родные и деревенские: видел? каков из себя? Можно, конечно, и соврать; видел, мол, такой и такой. Но не умеет Федор врать ни своим, ни чужим — не обучен. Смолчать — да, смолчать может. А врать — нет, не обучен.
Ну, еще маленько посидит Федор, поглазеет вокруг, да и домой пора. Обратно. Федор лодочку приткнул к берегу чуть пониже больших губернаторских лодок — там их целый караван стоял.
Лодка у него, можно сказать, вовсе пустая, только кое-что из теплой одежды да в заднем мешочке лузана сухари, чаю прихвачено да несколько кусков сахару. Ну, соль, конечно, и ячневая крупа. Да еще ружье, как без ружья в тайге? Все это прикрыто шабуром…
Нам, конечно, и «шабур» неведом. А шабур — это такая простая рабочая одежда из грубого холста с круглым вырезом заместо ворота. Своими руками мастерили, домашней выделки, а когда придумана — бог весть, из веку пришла…
От избы Сидорова с высокого крутого берега до самой воды из толстых досок сколочена лестница с перилами. Увидел Федор — спускается по лестнице черноусый мужик в синей косоворотке, суконном пиджаке, вычищенных сапогах и при черном картузе. Эк все они вырядились губернатора-то встречать…
— Ты с губернатором? — спросил у него усатый.
— Не, — мотнул головой Федор. Он сразу решил, будто плохо понимает по-русски и почти вовсе не говорит: если зачнут про нефтяные места пытать — ну, не понимаю ничего, а сказать и вовсе не разумею…
— Тогда откуда ж ты? Может, хочешь к нам на работу наняться?
Федор опять мотнул головой:
— Не, я Изъва… Ижма… смотреть…
— А, так ты с Ижмы приехал? Хочешь посмотреть, как мы тут работаем? — не отставал мастеровой. — Ну, понятно, не один ты приезжаешь. Хочешь, покажу, как мы пар делаем для того, чтобы он помогал нам скважину в земле бурить…
Приветливый русский протянул руку в сторону сарая, откуда слышалось пыхтенье машины. Федор расхрабрился и кивнул головой: ему и в самом деле хотелось заглянуть внутрь, посмотреть, как это землю прокалывают в глубину…
Да боже сохрани в таком месте работать! Внутри вышки оказалось темно, под ногами скользко, дышать нечем, душит напрочь запах керосина и опять же тухлых яиц. Когда глаза обвыклись, рассмотрел Федор какие-то железные и деревянные колеса, какую-то непонятную качалку, из толстых брусьев сделанную, вниз-вверх скрипела она, а на конце толстая цепь громыхала и толстую же железную палку таскала вверх-вниз из-под земли. Вона как! А железных труб здесь сколько! И стоймя стоят, и на грязном полу валяются. А люди-то, люди — черные, насквозь грязью пропитанные: одни глаза светят да иногда зубы вспыхнут бело, оскалятся. Да за какие ж деньги такую муку человек принимает?
— Видишь, штанга на цепи подымается? — Человек, который привел сюда Федю, объяснял, стоя в сторонке, чтобы не мешать рабочим, — Она и достает под землей специальное долото. А когда штанга зайдет в высшую точку, тут долото с пригрузом в двадцать восемь пудов освобождается и обратно падает вниз, тяжестью своей разбивает породу. Затем штанга ее опять цепляет, снова подымает в высшую точку, и снова долото падает. Так и долбит. Сейчас долото уже на глубине сорока пяти саженей…
— Сорок пять! — изумился Федор. — В такую глубь продолбали…
— Вот так и долбим, пока до настоящей нефти не доберемся, — сказал человек. — Ну как, нравится?
Из рассказанного Федор, конечно, не все понял, шуму много, но последний вопрос осознал вполне и ответил искренне:
— Не-е…
Русский весело рассмеялся, позвал обратно к выходу:
— Не нравится? Да ты сам-то чем промышляешь? Небось охотник?
— Да, окотник, — признался Федор.
— Тогда понятно, в лесу и воздух свежий, и долото не грохочет. Что ж, бывай здоров, охотник. А надумаешь нефть добывать, приходи к нам, научим.
— До свидания. — Федор пожал протянутую ему ладонь. Рука у русского оказалась крепкой, видать, не такой уж он барин, как по одежке кажется.
Русский подошел к большим лодкам и заговорил с мужиками-лодочниками. Наверху появился еще один человек — небольшого роста солдатик. Начал спускаться по лестнице вниз. За спиной у него была винтовка, а в правой руке позванивало пустое ведро. Он остановился прямо против Федора и протянул ему ведро. Глаза у солдатика были веселые, нагловатые:
— Эй, ты, морда зырянская, черпани-ка водички для губернатора да подыми наверх…
Скажи Федору кто-нибудь минуту назад, что надо поднять на гору ведро воды — и он увидит губернатора… да он бы бочку на себе притащил, только бы посмотреть на большого человека своими глазами, но тут рука к ведру не потянулась: как это — «морда», что это за шутки такие обидные?..
— Ну, чего ж ты? Вала, вала, — добавил солдатик знакомое ему слово на коми языке, так скотине говорят во время поения.
Федора словно плетью хлестанули, вспыхнул он, вспотел даже.
— Человек я, не морда… Сам полезай в воду, небось в сапогах. А боишься ноги промочить, так… — И Федор поскреб дно лодки черпачком.
— Ну, ты, слыхал, чего приказано? — Солдат поставил ведро на землю, взял лежавший на песке шест с железным наконечником и больно ткнул Федора в бок. — Вала, вала, тебе сказано!
Было не так и больно, но обидно: да как это так — чтоб кто-то на него руку поднял? Это и полоснуло по сердцу. И Федор, не размышляя, схватил конец шеста, с силой рванул на себя, выхватил у солдатика и ткнул его ответно.
— Ну, ты, не очень!
То ли острым концом куда-то больно попало солдату, то ли не ожидал тот такого рывка, но шест выпустил и рухнул задом в песок. Федор встал и тут же оттолкнулся от берега, не надо ему такого гостеванья.
— Стой, каналья зырянская! А ну, подь сюда! Федор опустил шест и удивленно уставился на солдата. Тот выхватил из-за спины винтовку, прицелился…
«Да как же можно на человека ружье наставлять? Человек же не зверь, не медведь…»
— Ты чего это, служивый, в молодого парнишку вцепился? Оставь ты его в покое… Парень местный, жизни нашей не знает…
Оказывается, стычку между Федором и солдатом заметил тот мастеровой, новый знакомый Феди, и успел подойти от губернаторских лодок. Солдат, не отводя винтовки, зыркнул на непрошеного защитника и внезапно ощерился:
— А пошел-ка ты отсюдова, заступничек…
Но тот и не думал уходить. Взял да отвел рукой ствол винтовки в сторону:
— Да убери ты свой пугач, экий непонятливый. Он ведь ненароком и пульнуть может.
Голос мастерового был вполне миролюбивый, но солдат взвился:
— А ну подай отсюдова! Подай! Пошел! Прими руки!
Солдат рывком отскочил на шаг и вдруг передернул затвор.
Федор замер. Мастеровой сказал:
— Ты что, спятил? — И, резко выбросив руку, схватил винтовку за ствол, поперек, перехватил другой рукой у приклада и попытался вырвать оружие. Солдат свалил мастерового на землю. Однако винтовки тот не выпустил. Вот тогда-то Федор кинул шест и выскочил из лодки. В три прыжка он оказался над борющимися, со спины ухватил солдата одной рукой за ворот, другой за ремень, с силой дернул на себя и оторвал от мастерового. Это было как на вечеринках, когда меряются силой, поднимая «горшки». И по тем же правилам Федор, чуть присев, приподнял солдата над собой, сделал несколько шагов к воде и сбросил его в реку. Все это случилось в несколько мгновений, никто толком и сообразить не успел. Мастеровой встал с земли и с недоумением смотрел то на солдата в воде, то на винтовку, оставшуюся в своих руках. Солдат бултыхался, пытаясь стать на ноги. Мастеровой шагнул к Федору:
— Быстро в лодку! Бежим, парень, иначе — тюрьма. Тюрьма никак не входила в планы Федора, да он и сам уже понял: худо повернулось дело, очень худо. Драпать надо отсюда. В лодку они заскочили почти вместе. Федор тут же схватился за весло и начал отталкиваться от берега. Русский бросил винтовку в нос лодки и взял шест, чтобы помогать Федору.
Маленькая лодочка понеслась по воде, в момент совместных толчков-гребков аж вылетая днищем над поверхностью реки. Пока солдат выбирался на берег, беглецы успели отмахать саженей двадцать пять.
— Кара-ул! Напа-али! Бунт! — истошно закричал служивый.
Он бросился было к большим лодкам, но тамошние лодочники преследовать беглецов отказались, и солдат побежал вдоль берега, продолжая кричать:
— Каторжники… Вас расстреляют! Винтовку… винтовку отдайте!
Но каменистый берег скоро кончился, дальше шел густой ивняк, не очень-то разбежишься. До поворота реки оставалось еще саженей пятьдесят, когда на крик сбежались люди, среди них были и другие солдаты с винтовками. Они бегом спустились к своему товарищу. Тот размахивал руками и показывал вслед беглецам.
— Плохо, брат, наше дело, — задумчиво сказал мастеровой Федору. Он наклонился, взял винтовку и помахал ею над головой, так чтобы на берегу увидели его жест. Затем швырнул винтовку в воду.
— Заберите свою пушку. Может, успокоитесь.
Но на берегу успокаиваться не желали. Федор заметил, как солдаты стали на одно колено и начали выцеливать их. Грохнул выстрел… другой… третий. Холодок противно побежал по спине. Никогда еще такого не было, чтобы Федора брали на мушку. Одна пуля, слышно, сочно ударила в воду рядом с лодкой. Ну, еще поднапрячься, сильнее, еще маленько… Скорее бы за поворот! Снова за спиною грохнул выстрел, пуля просвистела так близко — Федя кожей ощутил шевельнувшийся воздух и невольно пригнул голову. Еще усилие, еще! Еще саженей пять… И вот он, долгожданный поворот реки. Теперь и изба Сидорова, и палатки, и губернаторские лодки, и стреляющие солдаты — все осталось там, за поворотом. Сзади еще бухали выстрелы, Федя подумал машинально: зачем заряды жгут? Теперь быстрее, быстрей — за новый поворот реки, чтобы не попасться им на плесе, если устроят погоню…
Здесь надо вернуться немного назад.
К тому моменту, когда на берегу захлопали выстрелы винтовок, в палатке губернатора шел весьма серьезный и доверительный разговор. Общество собралось небольшое, шое, но заинтересованное. Губернатор излагал смысл своей поездки по Зырянскому краю и принципы освоения подземных богатств, если таковые будут в упомянутом крае найдены.
Губернатор говорил следующее:
— Еще до определения меня в должность в Вологодскую губернию я много слышал об ухтинской нефти и том противодействии появлению ея на русском и иностранном рынках, которое устраивают лица, слишком заинтересованные в монополии бакинской нефтяной промышленности… Вдумайтесь, господа, какую громадную пользу России могли бы принести и приток на рынки дешевой северной нефти, и отлив целого миллиона голодающего малоземельного крестьянства для заселения пустынной губернии. Северная нефть позволила бы прекратить властвование над промышленностью Нобеля и Ротшильда. Кончилась бы легкая возможность для революционных комитетов давить на русскую промышленность устройством забастовок в Баку. И, вместо того чтобы тратить последние деньги на тот самый миллион голодающих, которые ждут переселения, государство, поселив их хотя бы на половине казенных земель Вологодской губернии (а это тринадцать миллионов десятин), получило бы миллион плательщиков прямых и косвенных налогов… Рассказов о подземных богатствах на Ухте предостаточно, господа. И желающих приобрести там землю — множество. Подано заявок на приобретение участков в казенную палату Архангельской губернии — восемьдесят с лишком, в казенную палату нашей губернии — около трехсот. Мы здесь и сами видели много отводных столбов. Но работает с усердием только инженер Гансберг, он организовал промысел и надеется в скором времени добиться результатов. Остальные выжидают. Надо сказать, господа, революционные бури сильно подрывают могущество нашего государства. И наш государственный корабль скоро сядет на мель. И, как всегда в кризисную минуту, раздаются поспешные голоса: надо, мол, расстаться с добытыми мировой нашей историей ценностями в области культуры, права, например правом собственности, расстаться с ценностями русского духа, русских верований. Говорят даже, надо и совсем бросить его, наш корабль, и пересесть на мелкие лодочки под флагами кавказских, польских и прочих инородческих автономий. Для того чтобы отстоять Россию, господа, для того чтобы при помощи представительного законостроительства двинуть ее вперед, нужен прилив новых ценностей.
И север даст эти ценности, если к нему приложат руки те, кому свято и дорого наше русское национальное знамя…
Вот тут-то и раздались первые выстрелы на берегу. Губернатор обеспокоился и попросил помощника посмотреть, в чем причина столь несвоевременного салюта. Помощник вернулся и доложил: совсем еще молодой, но сильно озлобленный зырянин совершил дерзкое нападение на солдата Государя и помог бежать с промысла одному из сосланных сюда бунтовщиков.
— Ну вот, господа, — задумчиво сказал губернатор. — И сюда, в забытый богом край, — докатилось…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Этот плес тянулся, пожалуй, с версту, и, хотя вода уже сильно упала, было все же еще глубоко и толкаться веслом неловко — толчка хорошего не получалось. Плес нужно бы перемахнуть поскорее: если за ними погоня, то с берега опытный стрелок достанет-таки их из винтовки. Федор не знал, есть ли по берегу прямая тропа к плесу. Если есть — то на плесе их могут перехватить…
Федя протянул весло мастеровому:
— Греби побыстрей, а шест давай мне. Я сам буду толкаться.
Сказал он наполовину по-русски, наполовину по-коми, мастеровой не сразу разобрался, что к чему. Пришлось Феде показать, как правильно загребать одним веслом, чтобы лодку не уводило в сторону. Русский понял, кивнул, протянул Феде шест.
— На. По-русски это шест.
А сам взял весло и тут же, приседая от усилия, начал широко грести. Поднял голову, улыбнулся:
— А зовут меня Ильей. Илья! — И он стукнул кулаком в грудь.
— Понял… — Федя привычным движением втыкал шест в воду, лодка полетела заметно быстрее. — А меня зовут Миш Педе… ну, Федя, сын Микаила, да?
— Федя, значит, Михайлович, aгa. Вот и познакомились. Давай, друг Федя, нажимай. Ежели поймают — несдобровать обоим.
— Нее, не поймают. Теперя бежим, — сказал Федя, уже уверенный в том, что они уйдут, только бы через плес перескочить впереди погони. Но лодку все же направил поближе к тому берегу, с которого преследования ожидал меньше. Начался небольшой перекат. Зеркальная гладь плеса в самой середине реки кончалась острым треугольником, и сразу за ним вода стала кипеть, как в котле над жарким костром. Острие треугольника указывало на фарватер. Когда лодка, нырнув носом в кипящую воду, выскочила на пенящиеся волны, Федя оглянулся.
— На берегу — никого! Э-эк! — Он сорвал с себя войлочную шляпу и сунул ее под сиденье лодки. Толкался с таким остервенением, что волосы на голове успели взмокнуть. И он время от времени взматывал головой, откидывая мокрые пряди назад. Ивовые кусты на берегу так и мелькали — славную скорость набрали они с мастеровым; тот греб и греб, без устали, словно всю жизнь только этим и занимался. Перерыв Илья сделал, только чтобы скинуть пиджак, потом сбросил картуз. Но вскоре весло ударилось о донные камни, и он тоже стал толкаться, как и Федя.
Федор еще вчера отметил: от устья Ухты перекат за перекатом, такая норовистая речка… И по Ижме перекатов хватает, но не сплошные же, как здесь. А сегодня, уходя от погони, он все простил этой речке и даже радовался, что она, как необъезженный жеребец, несет и несет их лодку вниз.
Но, размышлял про себя Федор, если их несет вихрем, то и погоню тоже. Значит, кто окажется сильнее, тот и победит. Значит, никакого себе послабления. По крайней мере, до Уквавома… А там видно будет…
Теперь Федор отталкивался не спеша, но со всею возможною силой, заставляя лодку вспенивать носом буруны. Вытащит шест из воды и далеко вперед ловко воткнет его снова в воду, направляя лодку, сравняется с шестом и с силой оттолкнется… Так и плыли. А тем временем Федор пытался оценить случившееся. Здесь они вырвались, ушли. А что дальше? Он, само собой, домой направится. Никто не знает его имени и откуда он, никто его искать не станет. А Илья куда? Ну, попали в переплет, надо же так… Из винтовок по ним лупили, охоту устроили. Спасибо, не убили. И за что? Солдату концом шеста слегка попало? Так ведь он сам, первый полез… Кости, что ли, ему перебили? Винтовкой начал человеку грозить. Совсем дурной. И опять же — «морда» — сказал. Разве так шутят?
Федя снова вскипел от негодования и с такой злостью толканулся, чуть шест не сломал. У Ильи рубаха на спине почернела от ворота до ремня. Он и сам чувствовал, как пот течет по ложбинке позвоночника. Да и неудивительно, солнце успело скатиться вниз, к горизонту, а они гребут и гребут, и толкаются без передыху. К тому же солнце то со спины, то с левого бока печет, крутится лодка по извивам реки. Как бы хорошо, как славно было спускаться по гребням перекатов, сидя на корме и любуясь веселыми берегами. Если бы не этот дурной солдатик… А теперь-то как? Этот вопрос Илья задавал себе не единожды, но ответа пока не нашел. В Уквавоме им ночевать нельзя. Догнать не догнали, а искать, наверное, будут. Туда в первую очередь и приплывут. Солнце уже спряталось за леса, лишь кое-где закатное золото освещало высокие берега. Вскоре впереди раздался лай собак. Илья перестал грести, прислушался. Задумчиво сказал, повернувшись к Феде:
— Это, я думаю, деревня Уквавом. Нам туда нельзя заходить, Федор Михайлович. Как полагаешь?
— Да, Уквавом… Надо верк Изъва катны, сразу правый. — Федя махнул рукой вправо. Вообще-то русских слов он знает много, три года учился в приходской школе, читает быстро и пишет красиво. А вот говорить с русским человеком, оказывается, совсем нелегко. И вроде бы знаешь слово, но как понадобится, ни за что не найдешь, будто проваливается оно куда-то, и вместо русского свое, привычное, коми лезет, вот и получается такая мешанина, что сам себя с трудом разбираешь…
Понимать-то он почти все понимает, а вот сказать связно, толково — не получается. Или потому, что говорить по-русски редко приходится? Или стесняется он незнакомого человека и потому язык заплетается? План в голове у него уже есть, и надо бы Илье рассказать. Здесь, в Уквавоме, не останавливаться, а сразу повернуть вверх по Ижме, чтобы даже жители Уквавома их не заметили: не было, не проплывали такие. Подняться до устья Айювы и свернуть туда, поискать место для отдыха. Неподалеку от устья должны быть шалаши или охотничьи избушки местных рыбаков-охотников. Летом они свободны. Там и передохнуть, и сообразить, куда двигаться дальше.
Вдалеке, на фоне вечернего заката, заблестело широкое серебро реки: Федя понял, что это уже Ижма, и направил лодку ближе к правому берегу. Быстрое течение Ухты высокими гребнями пробивалось до самой середины Ижмы, и уже там смирялась Ухта с новой участью и становилась Ижмой. Федя повернул с прежнего фарватера на тихую воду Ижмы, лодка сразу же скребанула днищем по песчаному дну и застряла. Федя выскочил, начал стаскивать лодку с мели. Вот она снова закачалась на мелкой волне; Федя, перебирая руками борт, подтолкнул ее вперед и осторожно забрался на свое место. Там, у воды, где стояли лодки деревенских жителей, никого не было. Скоро и лай собак в деревне затих, царственную тишину окрестности нарушали лишь ласковый плеск воды о нос и борта лодки да звяканье окованного железом шеста о речные камни. Федя заметил, как неловок Илья, когда надо держать лодку против течения. Как толкнется раз, так и развернет лодку от берега на середину реки. И Феде приходилось половину усилий тратить, чтобы выправить лодку. Так-то плыть, виляя влево-вправо, — вдвое дальше выйдет. А им еще охо-хо сколько подыматься. И он решил показать Илье, как правильно держать против течения.
— Иди сюда… вот… на мое место, — попросил он Илью, и они поменялись местами. Затем Федя пару раз толкнул нос лодки от берега к середине реки и сказал:
— Так — нет. Aгa?
Затем показал, как надо отталкиваться, чтобы лодка не виляла по воде.
— Вот так, aгa? Так. Перед. Понял?
— Понял, Федя, спасибо. Я научусь.
— Понял, кё, давай вместе. Ты и я, aгa? — расхрабрился и выпалил Федя, даже сам покраснел от такой тирады.
— Бур. — улыбнулся Илья. — Хорошо. Ты не думай, я ведь тоже по-зырянски кое-чего знаю…
Они снова поменялись местами. Илья посматривал на Федю и старательно, в такт с ним, отталкивался. Лодка заметно быстрее пошла против течения. Соображает этот Илья быстро, отметил про себя Федя. Сразу видать, рабочий человек, рукодельный…
Когда поравнялись с устьем реки Айюва, вечерняя заря почти затихла. А утренняя уже готовилась разгореться: совсем рядом с тускнеющей вечерней вдоль горизонта светлело и светлело, еще немного — светлая полоса раскалится и снова выпустит солнышко из-за леса…
Так уж устроено северное лето, не успеет стемнеть, как снова светлеет.
Первое соображение — спрятаться где-нибудь в устье Айювы и отдохнуть — изменилось. Отсюда совсем недалеко деревня Пожня, лучше бы и ее проскочить незаметно. Если придет погоня и станет расспрашивать местных — никто никого не видел, ничего не знает. И врать никому не надо: действительно не видали. И так выйдет: в Уквавоме не знают, и в Пожне их не видели — ищи-свищи ветра в поле. Куда подались бедолаги — бог ведает… Теперь надо с Ильей договориться, чтобы и он понял и одобрил, в одной лодке едем. Федя выбрал пологий каменистый берег и остановился. Сам сел на сиденье, приготовился говорить. Илья смотрел выжидательно.
— Ты устать, да? Это… шест… дальше толкать — можешь?
— Могу, конечно, могу.
— Это… кушать… сильно кочешь? — Федя похлопал себя по животу и для убедительности сделал «ам-ам».
Илья засмеялся и пожал плечами:
— Можно — могу поесть, нужно — могу и потерпеть.
— Бур, — сказал Федя. — Корошо. Спать не надо. Деревня Пожня тут… близка. Сейчас чай пей, сукари, да мало-мало сидим, деревня Пожня идем ночь, никто нет. Потом кароший берег, тепло, много спать, да?
— Все понял, Федя. Ты правильно говоришь. Если близко деревня, ее надо проехать, пока люди спят. А потом сами отдохнем. Бур?
— Бур, карашо, — засмеялся Федя, замечательный ему Илья попался, понятливый. Он вышел из лодки, взял топор, котелок, лузан. Котелок и лузан оставил на камнях, а с топором поднялся наверх, в лес. Вскоре вернулся с полной охапкой сухих дров, палкой для таганка и листом бересты. Приготовил костер, достал из кожаного поясного мешочка приспособление для добывания огня. Щелкнул огнивом по кремню — сноп искр полетел на трут, тот сразу задымил. Федя подул на трут, поднес к бересте и, продолжая раздувать несмелый огонек, зажег. Сунул ее в приготовленные дрова и снова с топором поднялся наверх, к деревьям. На этот раз вернулся с двумя сухими чурочками и положил их около костра вместо сидений. За это время Илья успел подвесить котелок с водой над огнем. Только теперь оба поняли, что мокры до нитки, — уработались веслами и шестом. Стало зябко.
Костер грел спереди, а спина стыла. Федя нацепил на себя шабур и подпоясался, а Илье подал старенький зипун, хорошо, что прихватил с собой на всякий случай.
— Одень, Илья, чтоб не холодно.
— Спасибо, Федор Михайлович.
В ожидании чая Федя задумчиво глядел на ярко пылающий костер. Красные живые язычки пламени жадно лизали сухие дрова, белый невесомый дымок тонким столбиком тянулся вверх, истаивая в бледно-синем небе. Федя, сколько себя помнил, осознавал костер, как верного товарища и доброго друга. На летней ли ласковой речке, под осенней ли елкой. Да хоть в снежной яме у нодьи… Спокойное потрескивание огня согревало не только тело, но и душу и сердце. Привычная милая картина… Только сегодня в обычном костровом обряде явилось ему что-то новое, незнакомое, такое, что казалось, закроешь глаза — и все исчезнет. Федя зажмурился… снова открыл глаза — напротив у костра все так же сидел его новый невольный товарищ, черноусый русский мастеровой, с которым так внезапно свела их судьба. Значит, и стрельба с берега, и бегство на пределе сил — все было наяву, не приснилось, не рассказано бабушкой на теплой печи…
Теперь самое большее — три дня, и он совсем дома. А у Ильи где дом? Не там же, где они землю дырявят. Приехал ведь он откуда-то.
Федя взял тоненький прутик, ногой разровнял песок перед собой и сказал:
— Илья…
Тот поднялся, подошел ближе. Федя прутиком прочертил линию:
— Так река Изьва… Верк — деревня Изъядор, — ткнул он в один конец линии. — Два сто верст вроде… Я тут жить, низ село Ижма, далеко же очень. Я свой дом. Твой дом где?
— Я, Федя, издалека. Слыхал про город Ярославль? На Волге. Вот оттуда. Я тебя понял. Если ты не против, если можно, я пока с тобой, в твой дом. Подожду немного и буду пробираться к себе в Россию, — сказал Илья.
— Понял, — кивнул Федя.
— Не возражаешь?
— Не возражаешь. Чай кипит, давай чай пить.
— Давай чай пить. Бур, — улыбнулся Илья.
Федя снял котелок с таганка на землю, из заднего кармана лузана вытащил сверток. Там оказалась початая пачка чаю. Он высыпал на ладонь заварки и бросил в котелок, снова подержал его над огнем. Из узелка же достал кусок сахару с добрый кулак, тупой стороной ножа поколол на мелкие кусочки. Снова залез в лузан — вытащил мешочек с сухарями и кружку.
— Пей чай. Сукарь ешь. Кружка бери. Я делаю другой кружка.
Развязал мешочек, перевязанный дратвой, взял ячменные сухарики, положил на платок. А сам снова подался в лес. Вскоре вернулся с небольшим куском бело-желтой бересты. Почистил шелушащуюся пленку с белой стороны, завернул, в месте стыка острием ножа проколол две дырки и сшил тонким прутиком.
— Вот моя кружка. — Федя радовался своему рукоделью, как ребенок. — Хорошо пить, губы не горячий.
Федя разлил чай, помочив сахар в кипятке, откусил, сухарик тоже сначала окунул в кружку. Илья улыбнулся и действовал точно так же. Поту из них выжало порядочно, и горячий чай пришелся как нельзя кстати. Словно душу омыло! По три сухарика досталось на брата. Илья выпил две кружки, а Федя трижды наполнял свой белый черпачок.
Илья встал:
— Спасибо, Федя. Давай тронем, пока в той деревне, как ты говоришь, спят.
— Мунам… Тронем, пока спят, — старательно повторил русские слова Федор, собрал оставшиеся харчишки, засунул в карман лузана, отнес в лодку. Остатками чая залил костер. Угли сердито заворчали, выбросив вверх клубок пара. Федя еще и из речки зачерпнул воды — в костер.
— Поехали.
Тихо несла свои воды Ижма. Река укрылась жиденьким туманом, невысоко стоящим над водой. Если бы кто с берега наблюдал за их лодкой, увидел бы удивительную картину: по белому покрывалу тумана вверх по течению плавно двигались две усеченные человеческие фигуры, словно жестко привязанные к концам одной палки. Они одновременно то выныривали по пояс из тумана, то снова погружались…
Тихо. Плеск воды, рассекаемой носом лодки, лишь подчеркивает тишину.
Когда на высоком берегу проявились избы, Федор направил лодку к противоположному берегу.
Залаяли собаки, эти все слышат, но летом они привязаны, по берегу следом не побегут.
На северо-востоке небо заалело. Не проплыли и половины плеса за деревней, как солнце снова показало свой летний раскаленный лоб. Замешкавшийся туманчик даже не успел оторваться от реки — растаял на глазах. По-настоящему так и не стемнело, только немного стерлась определенность линий. Но взошедшее солнце вновь вычертило отдельно каждый листочек, каждый стебелек и четкий след водяного жука на глади реки. Проснулась, застрекотала, защебетала природа. Совсем близко закуковала кукушка, в этом году Федя услышал ее впервые. Значит, правда лето наступило. Ожила и река, заплескалась рыба. Больно было глазам: впереди полыхали два солнца. В небе, в полусажени от верхушек леса, золотом переливалось круглое, небесное, а на поверхности реки от носа лодки до самого конца широкого плеса серебряной бисерной полосой растянулось второе солнце, речное, слепящее, искристое, живое.
На повороте из-под кустов ивняка, громко хлопая крыльями по воде, поднялась пара крякв и полетела невысоко над рекой вверх по течению. Федя пожалел, что ружье оказалось не под рукой, его радость и гордость, централка двадцать восьмого калибра, лежала на носу под одеждой. Ах, какой обед улетел! Утки сразу напомнили, что пора бы основательнее подкрепиться. Федя осторожно положил весло, перешел на нос и присел там на корточки. Взял из-под одежды ружье, зарядил одним патроном. Теперь чем дальше они станут уходить от жилых мест, тем чаще будет встречаться дичь.
После восхода солнца, под теплыми лучами Федю начала одолевать сонливость, пригрезилось даже, будто он дома и матушка ставит перед ним на стол большую миску с горячим мясным супом. Он очнулся и заметил, что Илью тоже покачивает.
Руки-ноги слушались плохо, тело обмякло, пора было останавливаться. Федя внимательно оглядывался в оба берега, выбирая место для отдыха. И совсем недалеко на сосне заметил черный силуэт глухаря.
— Илья, — шепотом позвал он напарника. Тот повернул голову. — Тиха, Илья, толкать не нада, тиха.
И показал на глухаря. Потом взял ружье в левую руку, а правой осторожно направил лодку впритык к берегу. Но, когда подплыл на расстояние выстрела, положил ружье обратно у ног, на дно лодки.
Оказалось — глухарка. Как это он сразу не сообразил, вон как она шею вытянула. Солнце обмануло: птица совсем черной привиделась.
— Почему не стреляешь, Федя? — спросил Илья.
— Это мать-глухарь, весна и лето нельзя, яйцо, маленький глухарь, понимаешь?
За новым поворотом Федя заметил ту же самую пару кряковых уток, плавали у самого берега. Федя изготовился и, когда они поднялись на крыло, выстрелил. Последняя, что покрупнее и ярче разукрашена, рухнула на воду, вторая улетела. Эхо показалось в утренней тиши громче выстрела, словно на той стороне лес раскололся…
Федор перевел лодку к другому берегу. Он увидел там, за ивняком, довольно широкий ручей. Подобрали утку. Немного поднявшись вверх по ручью, обнаружили на берегу набитое место — здесь явно причаливали лодки.
— Все, Илья, отдыхать. — Федя положил весло и с силой потянулся. Потом с ружьем вышел на берег. Если здесь, на расстоянии в хороший чомкост от Пожни, причаливают люди, значит, где-то близко либо шалаш, либо охотничья избушка. Так и есть, от воды косо вверх поднималась тропинка. А саженях в пятнадцати от обрыва между толстыми высокими соснами стояла она самая, избушка охотников. Издали казалось, что она прижалась к земле, спряталась за деревьями. Тропинка вывела на широкую открытую поляну, с трех сторон окруженную соснами, а границей четвертой стороны был высокий обрыв, под которым с веселым плеском бежал тот самый ручей, в который они зашли с реки. И на красивом открытом пригорке избушка уже не выглядела съежившейся у дерева птицей, а больше смахивала на приосанившегося петушка.
С первого взгляда Федор понял, что принадлежит избушка охотнику заботливому, старательному. Кругом было чисто прибрано. Никаких отбросов. Всякая вещь имела свое место. Под передним навесом на колышках висели капканы, силки, уже починенные верши, хоть сейчас их ставь; там же привязаны обитые камысами охотничьи лыжи и копье. Федя поднялся на кондовую чурку, которая тут служила табуретом, и взял опрокинутый на чердачные плахи медный котел: варить суп. Заглянул на чердак, и там все прибрано, по-хозяйски уложены полуоткрытые туеса, берестяные корзины, заячьи капканы.
Даже смотреть на этакую чистоту и порядок — уже удовольствие. Федя достал одно берестяное лукошко и положил на чурку. У стены избушки, опять же под навесом, поленница сухих дров — не одним днем живет охотник. Федя передвинул щеколду и открыл дверь избушки. Изнутри пахнуло знакомым запахом сажи, как всегда, когда топят по-черному. Свет, пробивающийся через крохотное окошко, освещал покрытые лосиной шкурой нары, печку-каменку в углу, а над топкой два березовых крюка, закрепленных проволоками к потолку. На таких крюках можно котел и пониже к огню опустить, и повыше поднять, чтоб варево не перекипело, но и не остыло. Около каменки остаток сухого полена на лучину. И под нарами сухие дрова. В стене напротив — светец, воткнутый в щель, в пальцах светца торчал конец лучины, а под ним пустое корытце — есть куда падать огаркам. И стол и скамьи рублены из плах и обтесаны острым топором. Не поленился хозяин.
Но хозяина давненько тут не было, чувствовалась застоялая затхлость.
— Каменку топим, — сказал Федя. — Утку варим, воздух меняем, да? Ты с котелок иди за водой, я печь топить. Ага?
— Понял, Федя. Пёрт — котелок, что ты достал с чердака. Я принесу воды. Так и будем учиться, я по-зырянски, ты по-русски. Бур? — улыбнулся Илья.
— Корошо, я русский, ты зырянский, — засмеялся Федя.
Илья вышел, а Федя, выбирая дрова помельче, заложил их в каменку, высек своим огнивом огонь, разжег бересту и сунул в печку, такие сухие дрова быстро запылают. Открыл дымоволок и тоже вышел на волю. Вместе с Ильей они быстро развели небольшой костерик, пока избушка протапливается и каменка дымит, суп сварится на костре. И Федя совсем успокоился, все теперь вокруг было свое, родное, привычное; стало хорошо и радостно, словно он вернулся в родные края после долгой отлучки, даже сонливость и усталость — все прошло. После нефтяной вышки и дурацкой стрельбы этот маленький лесной домик с жиденькой струйкой белого дымка, этот костеришко на лесной поляне были так милы и близки его сердцу, будто он уже дома.
И только теперь с необыкновенной силой, как внезапный резкий звук в лесу, пронеслась в душе его тоска — понимание, что один-единственный меткий выстрел с берега мог бы оборвать навсегда его простую, привычную жизнь и все, чем он так дорожит в этой жизни.
Федя ощипал утку, поставил варить, потом зашел в избушку. Сухие дрова в каменке сгорели быстро, синими и светло-зелеными лепестками пылали большие угли. От камней веяло жаром. Больше подкладывать дров не надо, спать при открытых дверях теперь в самый раз; и тепло, и чистый воздух из соснового бора промоет усталые легкие. Они сидели вместе с Ильей на кондовой скамье, рядышком, и молчали. Тихо потрескивал костерок. Успокаивающе побулькивал в котле суп, щекоча ноздри вкусным запахом. Федя попробовал утку кончиком ножа, бросил соли, затем спустился к лодке, принес зипун и шабур, постелить ли, накрыться — сгодятся. Принес из избы миску и большую ложку. И лишь повесив на таганок котелок с чаем, расшевелил Илью. Того окончательно сморило, он, кажется, не сразу и Федю узнал. Ели нехотя, от усталости, но потом еда разбудила их, оба весело хлебали суп, хрустя сухарями. Первым ложку положил Илья, довольный, вытирая усы.
— Отличный получился супешник, Федя. — Ну! Если б подольше на шестах подымались, он бы еще вкуснее был, — поскромничал Федя, достал из котла утку, разрезал и половину протянул Илье. — Ешь теперь с мясом, опять вкусно будет.
Чаю сделали едва ли по два глотка. Только головы прикоснулись к изголовьям — оба провалились в бездонную черную яму спасительного сна…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Теперь, спустя годы и годы, шел Федор Туланов следом за начальником третьего отдела гражданином Климкиным, мерил шаги и думал странную для живого человека думу: везет же иным людям, которые помирают во сне. Померли бы они тогда с Ильей от устатку или остановил бы сердце удачный солдатский выстрел — и не было бы в его, Туланова, жизни ни этого Климкина, ни статьи унизительной, ни одежды этой дрянной, ни мыслей о том, как же теперь жизнь дожить, подневольную ни за что…
Узнал его начальник, узнал. И какие же нынче речи услышит он, Федор Туланов, от прежнего Ильи-мастерового, с которым когда-то хлебали супешник из одного котелка и который нынче старший майор, большой государственный человек. Странно как устроена память… Было бы в его, Туланова, жизни все, как у людей должно быть, ну ей-богу, не помнил бы он старых разговоров, которые разговаривали они тогда, на реке, на коротких стоянках, пока добирались от избы Сидорова до дому. А сложилась жизнь так, что не видать впереди никакого просвета, все темно и неясно и память сама сует и сует старое, давно забытое: картины, лица, беседы, и все так четко перед глазами встает, будто вчера было. Нет, оказывается, ничто не забылось. Ничегошеньки из прожитого. Все с ним, с Федором, осталось. Что было, то было, никуда от него, былого, не денешься…
На коротких стоянках говорили они немного, а в лодке, усердно работая веслами да шестом, тоже особо не поговоришь. Но все-таки короткие их беседы за долгие сутки пути сложились в один большой, обстоятельный разговор по душам, из которого Федя и узнал судьбу своего попутчика.
В той, первой охотничьей избушке на их пути Федя проснулся раньше Ильи; слушал его ровное дыхание и думал: как же теперь быть? Так выходило, что вся ответственность за товарища лежала на нем, на Феде. А он-то и сам пока всего лишь сын своего отца, не дорос до полной самостоятельности. И перед отцом прежде всего придется ответ держать: как и что. Отец, конечно, подскажет, как дальше быть. Если, конечно, палкой не огреет, под горячую-то руку… Тут надо бы сообразить самому все предварительно, загодя, чтобы и дела не испортить, и отца не разгневать. Лучше всего, если в деревне пока никто об Илье не узнает. Вот это главное. Прежде с отцом посоветоваться, а потом уж решать, показывать Илью людям или спрятать куда. А куда спрятать? живого-то человека? Вот если… в такой же охотничьей избушке и спрятать, есть такая у них, Тулановых, семейная, родовая, на их лесных угодьях. Конечно, далековато получится, крюк придется сделать изрядный, прежде чем домой попадешь, от устья Черью до Ошъеля четыре чомкоста, да обратно столько же… Но как быть? Нельзя Илью сразу в деревню вести, отцу не сказавшись.
Расспросы пойдут, кто, да откуда, да почему с тобой… Поди объясни каждому. А там слухи… Глядишь, до начальства дойдет. Да, только так и сделать: отвести Илью в охотничью избушку и поговорить с отцом. Решено. Федя поднялся с нар, взял бродни и вышел из избушки. Снаружи все было залито солнцем, все наполнено вкусным запахом соснового бора! Федя зажмурился после потемок, потянулся всем телом и несколько раз с хрустом присел, разводя руки в стороны, разминая грудную клетку. Ох, хорошо! Неспроста он почувствовал, что хорошо отоспался, — эва, солнце-то уже к закату клонится! Хотел к речке спуститься босиком, но это уж ни к чему, дошел до кострища и обулся. Не хватало еще ногу наколоть, а потом хромать из-за пустяка. Не-ет, человеку в лесу да на реке нужны здоровые руки-ноги, слишком им достается работы, и рукам и ногам, и ничего нельзя в тайге делать вполсилы, не будет толка…
У воды поплескался вволю, тело просило прохлады. А тут Илья проснулся, спустился к реке и, улыбаясь, тоже начал пригоршнями поднимать на себя воду.
— Хорошо? — спросил Федя, прижимая ладонями мокрые волосы.
— Бур! — отвечал Илья, растирая грудь, подмышки, живот. — Бур!
После сна у людей полагается завтрак, а тут получилось такое, сам черт не разберет, за полдень давно перевалило, и выходила какая-то помесь обеда с ужином. Сначала жадно выпили чаю, передохнули и прикончили остатки супа. И снова чайку попили, теперь уже не спеша, с расстановочкой. Снова в путь собрались. Федя нагрел воды, помыл котел, круглую ложку, глиняные кружки для чая и все положил на свои места. Как лежало. Из поленницы взял охапку дров и занес в избушку, сложил у каменки. Потом порылся в куче старых щепок, нашел туесок, поправил его и накопал червей — пригодятся, путь дальний. Вынес из избушки свою одежду, передал Илье, а сам еще раз обошел вокруг, задвинул на дверях деревянную щеколду, чтоб двери не открылись, затем долгим взглядом осмотрел Илью с головы до ног, оценивая внешность напарника. Кожаные сапоги поблескивали, синяя сатиновая косоворотка и черный шерстяной пиджак, — н-да, праздничный человек едет с ним в лодке.
А еще красивый картуз. Увидят люди, первым делом спросят: на какую такую гулянку едешь?
С пятого на десятое, мешая русские и коми слова, Федя объяснил следующее:
— Дальше будет пять деревня. Стараемся попадать туда ночь. Но людей много, кто-то увидит, да. В такой одежде ты, Илья, — сразу понятно, что чужой человек, не наш. За сто верст видно, не наш. Одетый как на праздник.
Илья пожал плечами:
— Что поделать, смены нету.
— Давай так: рубашку и пиджак снять, а этот шабур надеть. Он свободный, ворот широкий, всякому впору. Штанины вытащи из голенищ, пока в лодке сидишь, не видно, что на ногах — сапоги или поршни. Ага?
— Маскировка… Давай попробуем. — Илья тут же сделал, как посоветовал ему Федор. Штанины напустил поверх сапог, напялил шабур и растопырил руки — гляди, Федя.
— Ну вот, усы еще остричь, никто тебя не узнает. Ежели чего, скажу, мол, из Акима Жонь Петер, Петр, значит, Евгеньевич… У нас таких, с черными усами и бородой, тоже много. А у тебя еще маленько и бороду можно подстричь…
Рубашку и пиджак Ильи аккуратно свернули в узел, спрятали в лодке.
На такой маленькой и ходкой лодчонке подниматься вверх по реке, да еще вдвоем, одно удовольствие. Лодка словно сама скользит против течения. Лишь на перекатах приходится поднатужиться. Руки уже привыкли и сами действуют как надо. А мысли кружат и кружат вокруг Ильи. Интересно, кто он такой. Вроде хороший человек, не злой, не вредный. Почему убежал? Если сам приехал эту самую нефть искать — как же тогда бросил все в одночасье? Все-таки работа, заработок, у него, поди, семья есть… Бежать ему приходится, выходит, из-за меня, думал Федя. Как это: русский на русского напал? Не стал бы солдат и впрямь стрелять, хотя и грозился винтовкой. Хотя… бес его знает, какие тут порядки у них. Те-то, другие, стреляли, хотя никому ни Федя, ни мастеровой никакого зла не сделали. И винтовку Илья из лодки выкинул, не украли ведь. Плыли без остановок довольно долго. На одном из плесов Федя заметил, как под кустами сильно играла рыба. Солнце уже собиралось нырнуть за леса, пора было и отдохнуть.
— Илья! Чай, отдых, кушать. — И Федя причалил к берегу. Илья вышел из лодки, подтянул ее повыше и начал разминать тело, крутя туловищем. — Я срублю удилище и сплаваю поудить, а ты пока разожги костер, ага? — Федя и говорил, мешая слова двух языков, и показывал руками, кто чего станет делать.
— Ага, Федя Михалыч, — согласился Илья. — Только нету у меня огня.
— На огонь. — Федя снял с ремня мешочек с огнивом. — Умеешь?
— Видел, как ты управляешься…
Федя оставил топор Илье, привязал лесу с поплавком из сосновой коры к удилищу и поплыл к ивняку, под которым плескалась рыба. Пробыл он там совсем немного: вытащил двух язей и одного подъязка.
Сварили уху из трех рыбин с ячневой приправой. Пока хлебали, Федя набрался решимости и спросил, отчего это Илья кинулся на солдата.
— А ненавижу я, Федя… терпеть не могу, когда кто-нибудь пытается унизить другого или за счет другого сделать себе лучше…
— Как же теперь… обратно домой?
— Домой мне, Федя, никак нельзя. Проведать друзей, да, нужно, заеду, пожалуй, взять адреса петербургских и московских товарищей.
— Как же это… домой — нельзя?
— Нельзя, Федя. Я ведь в ваши края не по своей воле приехал. Весной прошлого года меня на поселение сюда отправили, на шесть лет. А к нефтеразведчикам я зимой попал… Вообще-то приказано мне господами жандармами жить в Весляне, может, знаешь такое село в верховьях реки Вымь? Приказано жить-поживать и носу никуда не высовывать. Но тут попросил за меня инженер Гансберг, помощники ему требовались. Жандармы раскинули мозгами — эта дыра еще хуже той, никуда, мол, не убежит. Мыслишка у меня была, да решимости не хватало одному пускаться в такой дальний путь. А тут ты подвернулся…
Из всего сказанного Федя уловил только одно: человеку приказано шесть лет жить вне дома.
— За что?!
— Как за что? За выступления против царя, Федя. Вы что тут, совсем ничего не слышали, что в России делается?
— Против царя-a?.. Как это можно, Илья?
— Можно, Федя. Если всем миром, то и это можно. А я не один. Вся наша фабрика поднялась. И еще рабочие железнодорожного депо. И разные мастерские. Несколько тысяч человек сразу. После расстрела в Петербурге по всей России рабочие выступили против царя. Ты что, про Кровавое воскресенье не слышал?
— Нет, Илья, ничего не слышал.
— И про расстрел?.. Впрочем, что я спрашиваю, и так понятно.
— Расстрел, говоришь? Илья, как это — расстрел? Что, взаправду в людей стреляли?
— Стреляли, Федя. Рабочие-то вышли к царю с петицией, с хоругвями, с женами и детьми. Защиту искали от притеснений…
— И… убили кого?
— Много убили, Федя. Сотни и сотни убитых, тысячи раненых. Говорят, площадь перед царским дворцом была кровью залита. Но на этой крови, Федя, миллионы прозрели. Теперь царь не удержится, свергнут его, обязательно свергнут.
— Как это — свергнут? Скинут, что ли? У него же армия — ого!
— А в армии кто, Федя? Те же рабочие, те же крестьяне. И солдатам откроем глаза, не станут они в своих братьев стрелять.
— И кто же глаза им откроет?
— А мы и откроем. Есть у нас партия, Федя. Царь нас боится… Мы, Федя, хотим такой жизни, чтобы простых людей не обманывали, не унижали. Другой жизни хотим, честной. Для всех справедливой…
Федя смотрел на своего спутника широко открытыми глазами. С такой смелостью и так спокойно говорит человек о том, о чем и подумать-то страшно. Илья начал неторопливо хлебать уху.
Федя покачал головой:
— А мы охотимся, сено косим, рыбу ловим и ничего не знаем. Выходит, и нам надо глаза открывать. Ну, нам-то можно, мы люди простые. А вот солдатам, Илья, навряд. Солдат служит царю и будет слушать царя. Ты же попробовал… По-хорошему сказал ему — а он, видишь… Пришлось тебе винтовку у него отбирать. — Все правильно, Федя. Будем говорить по-хорошему. А кто не захочет глаза открыть — у того отберем винтовки. Чтоб не мешали. С помощью тех винтовок царя и прогоним…
— О-о, не говори так. Царь — он царь. Как без царя? Кто скажет, как народу жить? Кто править будет?
— Сами, Федя. Люди изберут достойных, грамотных, смышленых. Они соберутся и придумают новые законы. По тем законам и станем жить. Ты-то согласен — что люди у нас не глупее царя?
— Не знаю. Надо подумать.
— А подумай.
— Я подумаю, Илья.
— Подумай, подумай. И то прикинь, как это так — один человек стоит надо всеми. Над миллионами стоит. И его слово самое умное, что бы он ни сказал. И что ни прикажет, все должны делать. И при этом еще славу царю поют: боже, царя храни… И сколько веков, Федя, такой порядок живет? Всем кажется, будто никакого другого порядка и быть не может. А он может быть, другой. Сначала это понимает немного людей, совсем немного. А потом и весь народ поймет. Надо только людям…
— Глаза открыть?
— Во-во. Этим моя партия и занимается.
Беседовали таким вот образом Федя с Ильей по вечерам, пока отдыхали от шеста и весел. Илья рассказывал, а Федя внимательно слушал, изумляясь новым мыслям, которые появлялись в его голове. Если бы не эта случайная встреча, никогда, может, не пришли бы к нему эти мысли, от которых то горячая кровь приливала к щекам, то колючие мурашки страха по спине пробегали. Федора одолевали вопросы, он медленно формировал их на русском языке, чтобы Илья сразу понял его, спрашивал, потом долго молчал, переваривая ответы.
— Ты вот сказал, как царя скинете, изберете народом править самых что ни на есть разумных. Вместо, значит, царя-батюшки?
— Именно так, Федя.
— А где ж вы их искать станете?
— А всюду умные люди есть, Федя. Вот в вашей деревне кого люди считают самым опытным, справедливым?
— В нашей? В Изъядоре, что ли?
— В вашей, в вашей.
— Да моего батю, — почти не колеблясь, сказал Федя.
— Вот видишь, — заулыбался Илья. — В вашей деревне и искать долго не надо. Люди знают. Так и в других местах, Федя. Изберут, и станет твой батя с другими такими же достойными людьми придумывать новые законы, для всех справедливые.
— Нашего батяню, таежного охотника, в Питер позовут законы придумывать… — Федя от души расхохотался, таким смешным ему показалось все это.
Но, отсмеявшись, он посерьезнел. Смех выглядел каким-то неуважением к отцу. А отца Федя и уважал и побаивался. Он помолчал, потом сказал Илье:
— Вообще-то оно конечно… Если моего батю изберут, он ведь худого закона не выдумает…
— Вот видишь, и ты поверил, что такое возможно.
— Поверить-то поверил, а мудрено это все. А уж что возможно такое — это вилами по воде…
— Пока — да, Федя, пока — вилами. А поживем — увидим, кто будет окончательно прав.
— Ну и какой закон самый нужный, Илья? Какого не хватает?
— Надо, Федя, чтобы не было, как сейчас: один очень богатый, а другой очень бедный. Надо, чтобы никто не мог жить за счет другого. Согласен?
— Я не знаю… У нас все одинаковые. А кто усердно работает, кому фартит в лесу, тот и богаче. Ну, конечно, и в лесу побегать надо. А не побегаешь, так живо на пихтовую кору сядешь. Заместо хлеба. У нас ведь ого как поворачиваться надо, чтобы жить по-людски… Белка сама в лузан не заскочит.
— Вот и давай копнем поглубже. Вы добычу свою кому отдаете?
— Больше купцу из Кыръядина, Якову Андреичу, продаем. Он раньше всех, по первопутку, приезжает. Да и весной, пока дорога держит. Он пушнину скупает и товар разный привозит: ну, дробь, порох, чай-сахар и другое всякое. Еще чердынский купец Попов бывает…
— За одну беличью шкуру сколько купцы платят?
— Яков Андреич — тот по десять копеек за лучшую, а чердынский Попов — тот даже двенадцать дает.
— Ну вот, вам по гривеннику за шкурку, а сами увезут и продадут вдвое дороже. Сколько белок за сезон настреляете?
— Год на год не приходится. Когда шишек в лесу богато, то мы с батей раз аж девятьсот с лишком продали. Правда, и ходили-то за Урал.
— Ну вот и посчитай: купец только ваших белок продал на сто восемьдесят рублей, если не более, а вам заплатил девяносто. А вторые девяносто, вами же заработанные, — прикарманил. По парме день-деньской не бродил, а вашим горбом нажил. А сколько охотников продает ему свою добычу? И, наверное, не только беличьи шкурки.
— Не только, да. Мы ему всю добычу приносим. В тот удачный год нам еще три лисы попало, шесть куниц. Зайцев много… хороший год был.
— Вот купец и богатеет на вашем поту. Понял — как?
— Понял, Илья. Как не понять. Но ведь и у него свои хлопоты. Сохранить шкурки надо. Привезти в город в большой — надо. Продать там — опять надо. Это его дела купеческие, Илья. Вот если б я сам все устряпал, тогда бы и барыш мой…
— Дела, говоришь? Да уж, дела. Ты сравни, Федор, ваши труды в лесу, за гривенник шкурка, и его, купеческие, когда готовую шкурку на воз положил, в город привез и тот же гривенник барыша получил… Сравни, и поймешь, чей гривенник потом пахнет, а чей сам в карман катит…
Это — да, это Федя тоже знает. А что поделаешь, так жизнь устроена. Кто-то в лесу месяцами бьется, у костра спит, по шею в снегу барахтается. А кто-то в теплой лавке барыш имеет. Да. Ну придет он к Якову Андреичу и ляпнет: так и так, давай мне по двадцать копеек за шкурку. Мне — двугривенный, а себе пятачок, за купецкие хлопоты. Выставит его Андреич из лавки, на смех подымет. А главное, ни дроби тебе, ни сахару, ничего…
— Оно конечно… Можно Якову не отдать, подождать Попова из Чердыни, он на две копейки дороже дает. Но опять же, когда приедет? Может, к середине зимы. А охотник не может без дроби-пороха, никак. Тогда не две копейки, тогда все потеряешь. Да и одежду купить надо, и хлеб-соль, а как иначе? — Федя рассуждал вслух, словно советовался с Ильей.
— Я же сказал тебе: сделаем революцию, скинем эксплуатацию. Останутся только трудящиеся люди. И никому не дадим права жить за чужой счет. Все будут работать, и всем будут платить по справедливости.
— И купцов тоже выгоните?
— И купцов.
— И кому тогда мы свою добычу продавать станем? — У кого товар покупать?
— Охотники сделают кооператив. Сообща охотиться будут коллективно. И свою добычу продавать государству за полную стоимость. А потом деньги поровну разделите между собой, чтобы не было ни богатых, ни бедных, ни обиженных. Чтобы — все равны.
Федя крепко задумался. Потом сказал:
— Не, такой кооператив нам не годится, чтобы всем поровну. Если охотники торговать будут, то когда и зверя промышлять? Охота — она времени требует и силы. Год поторгуешь, а в следующем и торговать нечем станет. И гол как сокол. Опять же насчет ровности. Я, к примеру, со своим Бусько за день верст сорок обойду и два десятка белок возьму. А такие, скажем, как Зильган Петр, и двадцать верст не пройдет. Ему лень. Пяток белок возьмет — и хватит ему, он уж устал. Какого лешего я с ним делиться стану, чтобы у нас одинаково было? Он как сонный по тайге шатается… Нет, я с таким делиться не буду. Я искал, я поймал — моя добыча. И батя мой тоже не будет таких кормить. Пусть-ка сами побегают. Лодырь, он и есть лодырь… Иное дело, когда артельно промышляем. И далеко уходим, за Урал, скажем. Там одному плохо, там сообща все стараются. Тогда — да, тогда добычу поровну делим. Исстари повелось. Но там и забот больше, там инако нельзя. Однако артельно поохотились, добычу разделили, и опять каждый сам по себе. У каждого свои заботы, Илья. Люди ведь разные. Один и старательный, и шустрый, а фарт не идет, не хватает чего-то. Другой ленивый, и ему лишь бы кусок на столе, пускай без приварка. Всякие люди. Артельно ходить хорошо, Илья, однако в артель мужики не всякого возьмут, это уж точно. И не каждый год ходим, нет нужды каждый год артелью ходить.
— Я и не сказал, чтобы обязательно артелью и каждый год. Можно что-то еще придумать, хорошее, для всех людей. Для того и выберем умных новые законы сообразить.
— Если другое, хорошее для людей — тогда можно, конечно, — согласился Федя.
— Главное, Федор, чтобы жить без эксплуатации, что-бы на чужом горбу никто в рай не ехал. Ты это возьми в толк.
— Я возьму, — пообещал Федя.
Лишь на четвертую ночь приплыли они к охотничьей избушке семьи Тулановых. В пути получилось все удачно, обошлось без лишних глаз. Две лодки только и повстречались между деревнями. В одной сидела молодая женщина, повязанная платком по самые брови, а на носу лежал, опершись на локоть, мальчонка. Проплыли молча, без вопросов. А потом встретился дед Микулай Иван — по-русски: Иван Николаевич. Дед долго смотрел на них и громко спросил:
— Но-о, не признаю никак… Кто будете, добры молодцы?
— Здравствуй, дедушко Иван! Не признал? Я из Изъядора, Федор, сын Михаила Андреича. Прошлой зимой к вам заезжали.
— Старые глаза подводят, вижу, личность знакомая, a никак не признаю — кто. А второй-то?
Лодку деда Ивана течением уже далеконько снесло, дед смешно стоял, повернувшись боком и приложив ладонь к уху, стоял и ждал ответа. Но Федя схитрил, выждал приличного расстояния и ответил издалека:
— А брат мой двоюродный. К нам поднимается, погостить едет.
Дед закивал, закивал, будто и вправду признал Фединого братана:
— Но, но… так и есть, — и махнул рукой, словно благословляя.
Не раз они видели лодки, вытащенные носом на берег, а наверху — дым костров. Иногда кто-то и покажется на обрыве, молча посмотрит, как люди поднимаются на шестах вверх по течению, и снова уйдет к работе. Луга расчищают, самое время. Своими соображениями Федя поделился с Ильей, когда они окончательно приехали на место.
— Ну, прибыли наконец. — Они вышли из-за поворота лесной речушки, и Федя приткнул лодку к невысокому, травянистому берегу. — Все, Илья. Теперь выйдем да поговорим, как дальше быть.
Илья удивился, он, видимо, думал, что приплыли они хоть в маленькую, но деревушку. А тут сплошная парма, и человеческим жильем даже не пахнет. Только берег у воды, куда причалила лодка, немного утоптан. Федя вслед за Ильей тоже вышел на берег, взял из лодки вещи, ружье, топор…
— Здесь наша с батей охотничья избушка, Илья. Сейчас туда идем, печь топим, еду варим. Спешить теперь некуда. — И он направился к высоким разлапистым ёлкам. Хорошо заметная тропа вела их мимо вековых елей вверх по берегу и саженей через десять привела к маленькой избушке, съежившейся под двускатной крышей.
Шагах в пятнадцати в стороне стояла другая избушка, чуть поменьше, односкатная, но тоже из бревен, основательная. A еще чуть дальше — лабаз на высоких стойках. Федя почувствовал себя совсем дома.
Здесь все было свое, семейное, родовое. Он повесил ружье на деревянный колышек, специально вбитый под навесом. Шабур и зипун разложил там же, на завалинке, сам сел на шабур и хлопнул рукою по зипуну, приглашая садиться Илью.
— Давай, Илья, отдохнем. Я скажу тебе, чего надумал в пути… — повел разговор Федя, когда Илья уселся рядышком. — Так, значит. Если мы сразу с тобой в деревню заявимся, мы всех переполошим: человек ты новый, вопросы пойдут, кто да откуда, да какими судьбами. Что-то ведь надо и сказать людям, не с неба же ты упал. Так ведь?
— Не с неба, — подтвердил Илья.
— Вот я и подумал: оставлю тебя здесь пока. Охотники летом по тайге не ходят, никто тебя тут не увидит, не услышит. А завтра утром я быстренько домой смотаюсь. Надо все бате рассказать. Сам понимаешь, в таком деле без бати не обойтись, на кривой его не объедешь. Глядишь, что-нибудь присоветует. Он меня уже ждет, до сенокоса хотели мы новый луг расчистить. Тебе же надо дальше пробиваться, в Россию, так ведь?
— Так, Федя. Ты говоришь, что купцы сюда ездят, значит, дорога какая-то есть. Вы мне объясните, как идти, а я уж сам выберусь.
— Дорога-то есть. Но купцы только зимой ездят, если с грузом. А летом тяжко. С верховьев этой речки можно на Эжвинский Черь выйти. Я ходил туда, к бабушке, знаю путь, могу показать. А дальше надо у бати спросить. Согласен?
— Ишь ты какой! — весело рассмеялся Илья. — Сначала завел меня в свои дебри, а потом спрашивает: согласен ли? — Илья похлопал Федю по плечу. — Согласен, Федя, согласен, ты все правильно делаешь, спасибо тебе большое за помощь, за заботу.
— Я недолго, Илья. Отсюда напрямую до нашего дома неполных три чомкоста. Завтра рано утром уйду, к завтраку буду дома. Пока то, се, с отцом поговорить, время пройдет. Но тут все есть, Илья, хлеб есть, соль есть, сушеные пироги, на чердаке вяленое лосиное мясо — не пропадешь. По реке с ружьем пройдись, уточку подстрелишь. Хариуса наловишь, хорошую уху заваришь…
— Не пропаду, Федя. Только покажи, где что лежит, чем можно воспользоваться, а уж я соображу, не барин.
— Когда вернусь, мы баньку протопим, — пообещал Федя, показывая рукой на односкатную избушку, похожую на шалаш. — Ох жаркая у нас банька… Я тебя горячим веничком похлестаю, чтобы ты больше у солдатиков ружья не отбирал…
Илья засмеялся от души. Так приятно было осознавать, что позади остались трудности пути, опасность быть пойманным и наказанным, а то и застреленным — при попытке к бегству.
Внутри избушки было так же обжито и обустроено, как и в той, в которой они ночевали. Только оконце чуть поболе и застеклено настоящим стеклом. Федя чувствовал здесь себя полным хозяином, все делал уверенно и проворно. Да и то сказать, тут ему знакома была каждая щель в стене. Илья только разжег очаг в избушке, чтобы протопить и обновить воздух, а у Феди на костре уже булькала каша. Федя провел Илью сначала в лабаз, открыл дверь и показал на подвешенные на колышках наберушки-лукошки.
— Здесь сушеные пироги, здесь картошка. В той большой — сухари, а в той, в углу, грибы. Соль в избушке на полке. Ружье, смотри, там висит, вот тебе патроны, из них три с пулей. Но пулей сейчас стрелять некого. Вяленое мясо сначала замочи, — учил Федя. — Огниво в избушке около каменки, кусок напильника и кремень там же, и трута много.
— Хорошо, Федя, спасибо тебе. Здесь можно хоть год продержаться: и запасы, и охота с рыбалкой, и баня…
— Если захочешь, оставайся совсем. Охотиться будешь.
— Нет, Федя, не могу. Нам еще большие дела предстоят. Вот свалим царя, устроим новую жизнь по новым законам, тогда и приеду — охотиться. А теперь нет, не могу — главная схватка еще впереди.
— Схватка — это когда дерутся, — сказал Федя. — А когда дерутся, еще неизвестно, чей верх будет, всяко может повернуться, так ведь?
— Мы обязательно победим, Федя. Трудовой народ будет с нами. А народ не может не победить. Тут, видишь главное, чтобы все поняли, за что борются. Если ты поймёшь, твой отец поймет, верх обязательно наш будет.
— Ну-ну. Твои слова да богу в уши.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Утром Федя встал чуть свет, выпил чаю, подвязался ремнем поверх шабура, сунул под ремень топор, за пазуху три ячменных сухаря и — рванулся к дому. Тропа была проложена по красивым сосновым борам, она спускалась в лощины, пряталась в высокой траве и снова и снова выстреливала наверх, на беломошник, под высокие сосновые кроны. По сваленным деревьям пересекала три ручья. Все знакомое, родное, свое. Первый раз по этой тропе Федя прошел с отцом на охоту, когда исполнилось ему девять лет. И с тех пор бесчисленно проходил здесь и летом, и зимой, и осенью, и с отцом, и один, и вместе с Бусько, впрягшись в длинные, тяжело груженные нарты. Федины годы невелики, а пота на этой тропе пролито уже немало. И каждый пень знаком, затес, муравейник, а под ногами каждая выбоина, толстый корень поперек тропы… Сегодня, налегке, ноги сами летели, сами несли и несли домой. Только в одном месте чуть замешкался: поперек тропы свалило ветром старую сосну, Федя не стал оставлять ее на потом, разрубил и оттащил вершинку в сторону, чтобы не запинаться. Чистой должна быть тропа. По ней еще дед ходил да, поди, и прадед тоже. Родовая тропа, своя.
Перейдя через последний перед деревней ручей, Федя одним махом поднялся на бугор. Отсюда деревня была хорошо видна и слышна: мычали коровы, лаяли собаки. Лес расступился, ветер донес такие знакомые, приятно щекочущие запахи дыма и хлева — жизни. Показались за деревьями задние стены пристроек. Не успел от леса и десятка саженей пройти — навстречу, прижав уши, большими прыжками летит Бусько: учуял-таки… Бусько прыгнул, ткнулся холодным шершавым носом в Федину ладонь, инерция пронесла пса еще на несколько прыжков, за спиною Феди он повернулся, едва не кувыркнувшись через голову, и снова понесся, теперь уже впереди, весело и громко лая, возвращался, кружил возле Феди, стараясь лизнуть молодого хозяина в руку. Феде было так радостно его возвращение, хотелось нагнуться и приласкать Бусько, но он только раз погладил собаку:
— Но, но, Бусько, не шали. Свиделись, ну, свиделись…
В открытых дверях сеновала появился отец, в руках у него колодка грабель. Никогда-то у отца руки не бывают пустыми. Поднял ладонь, защищая глаза от солнца, узнал сына, улыбнулся скупо — чуть вздрогнули губы, снова исчез. Бусько маханул через изгородь, чуть коснувшись ногами верхней жердины, промчался по меже, по помосту и скрылся на сеновале: доложиться отцу, главному хозяину. Взлаял там, снова вылетел навстречу. Федя сразу поднялся на сеновал. Отец сидел на низенькой скамейке и прилаживал колодку грабель, незлобиво отмахиваясь от Бусько.
— Но, прибыл наконец. — Батя посмотрел на сына, молотком загнал деревянный зубец в отверстие колодки.
— Прибыл, — кивнул коротко Федя, вытащил из-под ремня топор, через голову разбалахонился и повесил шабур на ближний колышек, торчащий из стены.
— А чего это ты из лесу идешь? — спросил отец, никак не показывая своего удивления. — Отчего не с реки?
Федя, хотя и ждал этого вопроса, не сразу ответил отцу. Присел на край кадки, собираясь еще раз с мыслями и с духом.
— Я, батя, сегодня уже из Ошъеля, с нашей заимки.
— С Ошъеля-а? — протянул отец, уже не скрывая своего изумления. — Как тебя туда занесло?!
— А с устья по речке поднялся…
— Не возьму в толк… Да расскажи, на кой это ляд? Oт устья Черью до дома насколько ближе — кой же черт потянул тебя до Ошъеля? Я ж наказывал — не задерживаться!
— Ты, батя, только не серчай и не спеши гневаться. Так получилось, батя. Нечаянно. Не один я приехал. Со мной еще человек. Его-то я и привел в нашу избушку.
Отец остругал новый зубец и, услышав такое, отложил работу:
— Кто таков? Почему не домой, а туда?
— Русский он. Из тех, кто на Ухте землю сверлят, нефть ищут.
И Федя не спеша, стараясь ничего не упустить, рассказал всё, что с ним приключилось: и как солдат ткнул ему шестом в бок и приказал вместо себя таскать воду губернатору, и как он отказался, и как русский Илья заступился за него, и что из всего этого вышло. Сделалась заминка когда пришло время говорить, как стреляли им вдогон. Но Федя еще загодя решил, что расскажет отцу всё без утайки, — он преодолел себя и рассказал, как палили солдаты вслед лодке. Пусть знает.
Отец слушал, внешне вполне спокойный, но вдруг ка-ак хватит колодкой грабель об пол:
— А если б убили? Бесстыдная твоя рожа… Кто тебе велел в чужие дела вмешиваться? Черти тебя в бок толкали, а не солдат! Деревянная голова…
Отца понесло. Федя понимал, что резкие его слова — это от заботы о нем же, о Феде, старшем сыне, главном помощнике в семье, отец частенько именно так и проявлял свое беспокойство — словесным резким гневом. Федя все это понимал, но все-таки не утерпел возразить:
— Чего ж мне было: черпануть в солдатское ведро водички? Я ему слугой нанимался?
— Сказано тебе — не надо было лезть промеж ними!
— Да не лез я. Не лез, батя. Солдат на меня винтовку направил, а Илья начал его уговаривать, винтовку отвел. Но и пошло-поехало… Я вовсе в стороне стоял, смотрел только, никого не трогал.
— Не трогал он, — пробурчал отец, остывая. — Под носом уже трава растет, а в голове все еще не посеяно… Уйди с глаз, смотреть не могу.
Федя медленно прошел мимо отца, нарочно показывая, будто бояться ему вовсе нечего, но и ожидая пинка в заднее место. Но отец выдержал характер. Обошлось. Мать выглянула из-за печи, и лицо ее, только что озабоченное, засветилось радостью.
— Федюшко прибыл… А я уж все глаза проглядела… Далеко уехал, да к чужим людям, все-то сердце изболелось. Каких только снов не видела, думаю, может, несчастье какое свалилось. Но, слава богу, живой-здоровый вернулся. И отец ждет-пождет, выйди, покажись, он на сеновале грабли налаживает.
— А мы уже свиделись, — сказал Федя.
— Садись тогда, ты ведь, поди, голодный.
Мать торопливо спустилась в подпол, вынесла оттуда крынку молока. Открыла заслонку печи и ухватом вытащила черный чугун.
— Сейчас, сейчас, сынок, горяченьким тебя накормлю. Из сушеного мяса, да, поди, сварилось уже…
Федя, сидя на лавке у задней стены, разулся и с удовольствием пошевелил голыми пальцами. Босиком потопал на крыльцо умываться. На просмоленной дратве висел такой знакомый медный умывальник с курносым носиком. С крыльца увидел младших Тулановых — Агнию и Гордея, ребятки окучивали картошку, старательно тюкая землю тяпками. Агнии всего ничего, но до чего работящая сестренка растет, любую посильную работу делает, и всегда с душой, никогда из-под палки. Достанется же кому-то этакая невеста…
— Федя вернулся! — увидела Агния, первая бросила тяпку и засверкала босыми пятками между картофельных грядок. Подол простенького платьица из синего холста хлестал ее по тоненьким голым икрам. Гордей тоже оставил работу и заковылял к брату. Агния уже взбежала на крыльцо, обняла Федора со спины, прижалась лицом, балуясь, лбом пободала его широкую спину. Федя повернулся, схватил сестру под мышки, покачал, как куклу, на вытянутых руках. Отпустил Агнию, потрепал волосы Гордея, уже стоявшего рядом. Тот преданными глазами смотрел на брата. Заглянула мать.
— Иди, Федюшко, суп простынет. А вы ступайте, ступайте, кончите, купаться пущу.
— Мам, а может, они со мной покушают? — сказал Федя. Отчего-то очень захотелось вот сейчас, в минуту встречи, чтобы все свои оказались за одним столом.
— Нечего, нечего, они своего пропитания покуда не заслужили, — ворчнула мать ласково и прогнала младших с крыльца: дорабатывать.
На столе суп испускал божественный пар, а рядом стояла миска с картошкой и миска с простоквашей. Ячневый хлебец так и просил: откуси кусочек… Федя вспомнил своего товарища: Илья, поди грызет вяленое мясо, а тут такая вкуснятина на столе. Мать села напротив, смотрела, как ест старший сын.
— Отец говорит, пора, мол, муку с пихтовой корой смешивать, чтобы до нового урожая хватило. Другие, говорит, давно пихту едят. А я не хочу, Феденька. Рука не подымается. Дерево, оно и есть дерево. Как-нибудь до Спаса дотянем. А к тому времени, бог даст, и свой хлеб на подсеке поспеет. А до того уж как-нибудь, с божьей помощью… Мясо сушеное еще есть. Пеструха молоком не обижает. Да рыбы наловите. Вчера Гордей удочкой целую наберушку хариуса наудил, вона, в плошке на молоке нажарила, тебе оставили, ешь на здоровьичко. Да скоро и картошка поспеет. Что ж мы будем дерево грызть… — Мать подвинула миски поближе к Феде, продолжая рассказывать о своих заботах.
Федя разломил хлебец пополам и одну половину обратно положил в хлебницу, а с другой съел суп и жареного на молоке хариуса.
— Листья у картошки только что вылезли, а вы уж окучиваете? — спросил он у матери недоуменно.
— Сорняки поднялись, Федя, и надо прополоть, пока корень не укрепился. Да и землю бы разрыхлить. А станем ждать, одолеет сорняк, соки повысосет, и не будет картошки хорошей, как у Зильган Петра. У них на поле каждый год сорняки по пояс… Лень одолела, вот и приходится бедолагам с ранней весны на пихтовую кору переходить. Не дай бог и нам такое. Ешь, Федюшко, ешь хлеб, тебе и оставила. И на ужин всем хватит. Ты ведь сейчас и растешь и крепнешь, тебе хорошее кушать надо.
— Спасибо, мама, сыт я. Небось не за лосем либо рысью гонюсь, Пусть потом Агния с Гордеем пожуют ячменного.
— Но, коль наелся, то и славно. Если отдохнуть хочешь — приляг в пологе на той половине. Там прохладнее.
— Не, мам, пойду-ка я Агнии с Гордеем помогу. Вижу, хочется им на речку.
— А и пособи маленьким. Им с тобой веселее тяпать. Однако подымись-ка и к отцу, может, ему чего надо помочь.
Федя поднялся на сеновал. Отец уже новые грабли прилаживал, маленькие. Сказал спокойно, будто ничего и не произошло:
— Это для Агнии. Сей год пора и ей на луга. Со своим инструментом пойдет…
Значит, отошел сердцем, унялся. И рассказ Федора — принял. Раздумывает.
— Батя, — сказал Федор. — Я тебе еще не все рассказал. Про того человека, про Илью.
Отец поднял глаза:
— Ну, чего еще?
— Тот человек, Илья, он не просто русский. Он сосланный. Из Ярославля, что ли, города.
Взгляд отца снова наполнился гневом.
— Мало тебе, что под пули дурью свою башку подставлял, ты еще и с разбойником спутался?
— Он не разбойник, батя. Выслали его в деревню Весляна на реке Вымь за то, что против богатеев пошел. Рабочих защищал, и вообще — бедных. А из Весляны его отпустили дырки в земле сверлить, нефть искать. Он сам мне сказал: выслали за по-лити-ку. Молнии в глазах отца потускнели, погасли.
— В нашем лесу только политиков и не хватало. Спасибо тебе, сынок — привез. Вот. Теперь и политиками обзавелись.
Федя промолчал.
— И как же теперь? Так и будешь в охотничьей избушке держать своего сосланного?
— Ему надо выбираться в Россию. Чтоб незаметно. Досюда я его привел, раз уж так вышло. А как дальше — не знаю. Тебя хотел спросить.
— Во-во, у меня только и забот, что твоих политиков из лесу за ручку выводить…
Отец надолго замолчал. Скоблил куском стекла рукоятку грабелек, раздумывал. Федя терпеливо ждал, упершись руками в кадку.
— Летом, не знамши дорогу, куда выберется? — спросил отец. — Ежели сейчас его выводить, то провожать надо аж до самого Кыръядина… не менее того. Как думаешь?
— Я не знаю, батя, — отозвался Федор.
— Не знаю, — смешно выпячивая нижнюю губу, передразнил отец. — Думал бы головой, а не задним местом, может, знал бы.
Снова зашаркал стеклышком. И снова заговорил:
— До Иванова дня надо расчистить новый луг. Это, Федя, кровь из носу — а надо. Есть в устье Черью пойма, между Ижмой и протоком Черыо… Там хороший стог можно поставить, а то и два. Ловушки нужно пообновить новые наладить, никто за нас это не сделает, сам знаешь. Если все лето по Ижме кататься, зимой животы подведёт, ноги протянем. Два лета в году не бывает..
Это отец уже не сердился, не выговаривал, а просто размышлял вслух, для Феди, и заботами делился, и объяснял как им вдвоем так поступить, чтобы и семья не страдала, не сидела потом голодом, и чтоб человеку помочь, раз уж так вышло, что от их, от Тулановых, воли человек зависит.
Федя понимал: нельзя в их суровой парме-тайге жить бездумно. Всякий день в году несет свой груз забот, житейских и сезонных, сегодня не сделаешь- потом горючими слезами заплачешь, да. Есть заботы, которые можно наверстать. Есть и такие, которые минуты не ждут. Сенокос, к примеру. Не накоси вдосталь сена скотине — чем станешь кормить? А скотина голодная — и сам зубы на полку положишь…
— Батя, а если… это самое… Если прямо с устья Черью меня отпустить? Пока луг расчищаем, пусть Илья с нами живет, да и поможет, руки-то есть, рабочий он человек. А как расчистим, так мы с ним вверх и пойдём, пока вода позволит. Если до конца не сможем подняться, оставлю лодку у верхней избушки, а оттуда напрямую выйдем на Переволок. С Переволока до Кыръядина опять же на своей лодке спустимся. А оттуда уж он сам на Чердынь выйдет, не маленький. Туда-обратно дня за четыре обернусь. А если у бабушки не задержусь, то и за три успею. А? — Федя с надеждой смотрел на отца. Он все продумал заранее, но нельзя было сразу, пока отец не остыл, выходить со своим предложением. Сгоряча отец мог и отвергнуть, а потом самолюбие не позволило бы ему согласиться.
Очень Феде хотелось, чтобы отец кивнул: все вроде толково придумано, только одобрить. А уж он постарается, не задержит. Дел-то по дому до зимы ого сколько.
— Как же… Двести тридцать верст он в три дня проскочит… По Ижме да Ухте так неделю гулял. Я-то, дурак, отпустил, — ворчал отец и на сына, и на себя самого.
— Там кое-где можно срезать, прямиком через леса не столь много выйдет, — заметил Федя.
— Да уж придется так и сделать, — сказал отец после долгого раздумья. — Не оставлять же его здесь. И потом, слышал я стороной, есть и в наших краях такие — по-ли-тики. Говорят, неплохие люди. Может, и твой — хороший, бог ему судья. Теперь уж куда денешься, придется до конца помочь.
С сердца у Феди будто тяжелый камень свалился. Отец на ветер слов не бросал и даже перед родными своими, самыми близкими, слова своего не нарушал.
— Ты знаешь, батя, он хороший, Илья. Нисколько не задается и нисколько не важничает. Хоть с машинами работает.
— Ладно, хвали давай, хвали. Немало ты с ним зверя тропил, не одного медведя взял… Как же! У нас тут не больно-то позадаешься, если не знаешь даже, в какую сторону ноги направить, чтобы из лесу выйти… Тут, брат, все сговорчивые, особенно без проводников.
Федя осекся в своих похвалах, но все же добавил:
— Да видать человека-то.
— Снаружи — видать. А чтобы суть схватить, сердцевину, что у него на душе да на сердце — много каши надо выхлебать из одного котелка… Да и то еще просчитаешься. Ладно, матери я сам расскажу. Чтоб нам на троих приготовила. Да и на дорогу вам потребуется. Мать на кривой не объедешь.
Отец погладил рукоятку грабелек, поднялся со скамейки.
— Тебе придется на Ошъель завтра утром идти. Сегодня возьми топор да посмотри подсеку. Проверь загородку. Очень добрая рожь поднялась, не потоптал бы скот. Сам я по дому кое-чего поделаю. Да накомарник еще один нужен, зашевелились уже, черти проклятые. Еще пара таких теплых дней — деваться некуда будет, заедят.
…Обратно Федя вернулся уже к вечеру. До подсеки было не столь далеко, самое большое верст пять. По сосновому бору идти не жарко, и ногам приятно в легкой кожаной обутке с подстилкой из ржаной соломы. На подсеку пришел и невольно заулыбался: между редкими соснами густо щетинилась рожь выше колен, а верхушки стеблей уже в трубку заворачивались! Чудеса, да и только. После того, как отожгли этот кусок лесной земли, отец, еще прошлым летом, горстями разбросал зерна ржи прямо в золу. А Федя, приспособив комель елки с толстыми сучьями, таскал его за Серко вместо бороны между деревьями, царапал выжженную землю. Нынче черная земля зазеленела веселой зеленью — глаз радуется. Федя обошел загородку — жерди, привязанные к соснам с помощью молодых, расколотых пополам елочек. Ни одна не сломалась, не упала, никто подсеки не потревожил, Гордей и Агния ждали брата, усевшись на помосте — взъезде на сеновал. Похвалились:
— А мы еще до обеда все сделали, всю картоху обтяпали!
— Мы тебе баню протопили.
— А воду носили вдвоем, ведро повесили на коромысло, на серёдку и тащили за концы, нисколько не выплёскивало. Хочешь, покажем?
— Да знаю я, как это, — засмеялся Федя, довольный заботами о себе. Только все изошли на крыльцо, мать позвала ужинать: пока баня настаивается. Глаза у матери были красные, будто бы заплаканные. Федя догадался: отец рассказал ей про Илью. Переживает мать. Посредине стола была деревянная миска с кислой перловой похлебкой, приправленной сметаной. Кислый пирог с сывороткой. Два ячменных хлебца, разломленных пополам, и один целиком. Федя взял полхлебца, но мать протянула ему целый:
— Федюшко, это тебе. Ты с дальней дороги вернулся…
— Хватит и этого, — отказался он, — чай, не дрова рубил…
Ели без спешки, степенно, не стремясь опередить друг дружку. Черпнет батя ложкой в миске, после него и остальные тянутся, потом ждут, пока он снова черпанет, вперед него не лезут. Мать вздыхала горестно, сдерживая в себе тревожные вопросы к сыну, но не стерпела-таки:
— Как же так, сынок? А если б попали, когда стрелили? Да я бы с горюшка померла… Надо ж беречься среди чужих-то людей. Да бог с ними, приезжими, отнес бы ведро солдатику…
Отец сердито хлопнул ложкой о стол:
— Дай себя захомутать — как же! Долго ли вольного охотника взнуздать!.. Запрягут да станут погонять плетью, на своей-то земле. Чему учишь?
— Я что… от худых людей. — Мать концом платка осушила глаза, чуть помолчала. — Так мне завтра опять придется хлебца испечь?
— Да уж придется, — буркнул отец.
— И надолго вы туда?
— Кто знает, пойма ивняком заросла с той и другой стороны. И хлама, валежника нанесено рекой… Дней за пять, может, управимся. Да и этим, — отец кивнул на Федю, — придется в верховья Эжвы идти. Я возьму старенькие сети, старица там рыбная, чего-нито на пропитание зацепится… Но вовсе без домашней еды нам никак, мать.
— Да как же без домашней, — заторопилась та, — сами вдвоем идете, да еще третий там… — добавила она почти шепотом.
Миски на столе опустели. Гордей толкнул Федю в бок, чтобы пропустил. Федя встал. Ребята заскользили по лавке и выскочили на улицу. Мать уже прибирала. Но отец оставался на своем месте, и Федя снова присел: отец сидит, значит, разговор не окончен.
— Ты-то сегодня попаришься, а тот, кого в Ошъеле оставил?
Федя давно научился понимать отца с полуслова, а то и с полувзгляда. Учит тому жизнь крестьянская, а особенно — охота в тайге. Ответил:
— Я думал на Ошъеле ему баню протопить.
— И дров не жалей, в лесу живем. После этакой-то дороги да с непривычки человеку отмякнуть надобно. Баня вылечит. Тогда, Марья, приготовь человеку белья какого на смену. Я послезавтра рано поплыву, да и вы не задерживайте. Еды вам на дорогу возьму.
Отец повернулся лицом к иконам в красном углу, перекрестился. Федя последовал примеру отца, потом вышел на улицу. Облокотился на верхнюю жердь изгороди, засмотрелся на ту сторону реки. Он не помнил, когда впервые, вот так, остановился и стал смотреть вдаль, но теперь это случалось часто — замечательный вид открывался с высокого обрыва на безбрежную даль синеющей пармы! Казалось, нет тайге ни конца ни края. Если все время туда идти, на восток, идти и идти, — попадаешь на Печору-реку. А в ту сторону — упрешься в Урал-гору. Если держать строго на запад, на запад — попадешь на реку Вишеру, а Вишера, говорят, сама приток Эжвы. Если вниз по Ижме поплыть — то понесет она на север, и опять же на Печору выплывешь. А если надо тебе податься в верховья Эжвы, то правь на юг, не сбейся — только на юг. Выходит, в какую сторону ни подашься, обязательно выйдешь или на Печору, или на Эжву. Две главные реки. И выходит, их Изъядор словно как в центре расположился. В центре громадного, неохватного таежного края. Изъядор — двадцать одна изба в верховьях журчащей на частых перекатах Ижмы, у самой кромки чистого соснового бора…
Хорошее место выбрали прадеды! Красивые, веселые, богатые зверем-птицей и рыбой. Потому купцы через Изъядор и норовят проехать, не миновать прибыльное место. Чуть мороз реки льдом схватит, они уже тут как тут. Охотникам еще и расплачиваться нечем, а купец уж каких только товаров не навезет. И в долг не жалеет, бери, сколько хочешь. Но, конечно, не всякому много дадут, купец — он с разбором на слово верит. Скажем, отцу Феди тот же Яков Андреич да и Попов из Чердыни дают по желанию. Отец, правда, лишку не просит, если чего и возьмет в долг — только в обрез, по нужде. А вот Зильган Петр и взял бы поболе, но дудки, руки коротки. Однажды Федя сам слышал, как Яков Андреич сказал Петру: хочешь больше брать — ходи в лесу пошустрее. Вон как Тулановы ходят, отец с сыном… Так что не простая у купца доброта, а с прикидкой: этот с лихвой вернет, а с того еще и требовать придется да на другой год долг переносить. Ну а взял в долг — тогда и разговор с тобой уже не простой, а как с должником, никуда не денешься.
— Федя, баня готова, — позвала мать. — Покличь Гордея, да подите, парьтесь на здоровьичко…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
«Господи, — думал Туланов, шагая в контору к Гурию, — да было ли это когда в моей жизни, было ли, было ль?»
Думал Федя, что проснулся ни свет ни заря, а мать, оказывается, уже и хлеб испекла: на столе, на длинном чистом полотенце, расшитом по концам красными петухами, остывали четыре ржаных каравая. И разбудил-то Федю густой запах горячего ржаного хлеба, запах плавал в доме, переполнял его до самой крыши… Федя присел у краешка стола, нежно коснулся пальцами румяного каравая — мягкий, еще горячий, а в горле першит от вкусного запаха.
— Я тебе, сынок, уже завернула в платок, — сказала мать, она вошла с подойником в руке. — Один каравай да сахару кусок, мало, конечно… Может, репу сушеную возьмешь?
— Не надо, мама, там у нас все есть. Да из лесу достанем кой-чего, не впервой…
— Я твоему русскому чистое белье положила, для смены после бани. Отец ему накомарник сделал. Да свой, смотри, не забудь, уже запищали, проклятые.
Мать поставила перед Федей крынку с молоком, отломила кусок горячего хлеба.
— Поешь, сынок. Бабушке скажи, мол, все хорошо. Живы-здоровы, слава богу. Пусть сами приезжают в гости. До Покрова реки, может, и не станут, а к Михайлову дню будем сожидать…
— Скажу, мам. — Федя выпил молоко, тыльной стороной ладони вытер губы.
— Подстилки в твоей обутке я сменила.
— Мама… Голубую сатиновую рубаху не дашь мне? У бабушки надену, — несмело спросил Федя.
— Возьми, может, аккурат на Троицу попадешь. В сундуке она, чистая и выкатанная.
Федя быстренько вышел на другую половину, взял из сундука новую рубаху (только раз и надеванную, на Пасху), аккуратно свернул и положил в узелок. Подумав, снял с колышка за дверью заплечный мешок и узелок свой сунул туда: чего лишнего рукой мотать? Да и в верховья Эжвы Илью выводить, всяко котомка сгодится. Обулся.
Голенище в два сгиба опустил ниже колен и завязал тоненькой тесемкой из сыромятной кожи, пришитой к голенищу. Надел картуз. Взял накомарник, котомку. Поднялся к отцу.
— Срядился? — продолжая обстругивать топорище, поднял глаза отец, смерил Федю взглядом с головы до ног. — Топор не забудь, вон у дверей.
Федя надел шабур, затянулся ремнем и сзади под ремень плотно засунул топор. Как всегда. Надо было и новый пиджак у матери попросить, как ни говори — на люди попадает, в Кыръядине, глядишь, и на гулянье удастся выйти… Но, может, так и лучше. И клянчить не пришлось, и, по лесу шастая, за любой сук можно зацепиться и пиджак порвать. А шабур небось не порвешь. А и запачкаешь — пополощи в воде, высуши, он лучше прежнего станет. В новом-то пиджаке только и думки в голове будет, чтоб не измазать да не порвать…
— Я завтра утром тронусь по реке, — еще раз предупредил отец. — Ты смотри, не задерживайся. Дел по горло. Глянь там, остались ли сушеные пироги. Есть — дак возьми на пару раз кашу сварить.
— Не задержу, батя. Попадет тетерев или глухарь по пути — стрельни одного на суп. Только тетерку не трогай либо глухарку, — строго предупредил отец.
— Я что, маленький? — Федя даже обиделся за такие слова.
К охотничьей избушке, на Ошъель, Федя шел не торопясь, будто впереди была не тяжелая работа на росчисти, а гулянье неспешное. Радовался поющему лесу, рассеченному солнечным золотом. День выдался какой-то… слишком свободный, почти праздничный. Сегодня всего-то и дел — баню протопить да Илью похлестать горячим веником. Мягко кружили в голове неясные счастливые мысли, которые в конце концов сводились к тому, что до чего же хорошо жить на свете в такие залитые солнечным светом дни, среди милого сердцу чистого леса, у быстрых рек, журчащих ручьев с холоднющей водою, от которой так ломит зубы и немеет язык. И как хорошо, когда еще и дом славный, уютный, своими руками обихоженный. Когда семья — такая, как у них, Тулановых: отец и мать добрые, строгие, братишка и сестра — такие ласовые. Так бы век жил и жил и чтоб не помирать никогда…
Вот проводит он Илью и хоть денек да погуляет в Кыръядине. Людей посмотрит да себя покажет. А как же! Пора. Место больно хорошее, этот людный Кыръядин. Остаться бы там совсем жить — нет, Федя бы не согласился, родина все-таки здесь. А вот погулять очень интересно. Девчонки там такие красивые… как разоденутся в праздник, ну прямо в пух и прах, да возьмутся за руки, да пройдут по широкой улице со звонкими песнями — эх, красиво-то как! И весело, и сердце отчего-то щемит. Прошлый год был Федя с матерью в Кыръядине, сам все видел. Парни тамошние в прошлом году еще не признавали Федю… А нынче — все, шалишь, брат, ни ростом он им не уступит, ни силой — если там на палках тягаться — нипочем не уступит! Не поддастся! Федя даже протянул вперед левую руку, потом правую протянул, сжал кулак: попробуй кто разжать! И ноги пружинят, во, земля гнется! Весной кинулись за лосем, и отца обошел, и лося взял, и когда отец нагнал — он уже половину туши успел разделать. Так-то. Конечно, батя не молодой, гнались за лосем целый день, и наст был не крепкий. Батя пришел и сказал: ладно, сынок, я это закончу, а ты костерок разведи. Выносили того лося из лесу — ого, как жилы набухли… Зато до сих пор с мясом.
Родовая их тропа прямо в охотничью избушку ведет; идешь, идешь, вдруг вековые ели отступают разом, и — вот он, их лесной домик. Еще шаг — и справа открывается баня. А слева — лабаз. Замечательное место: и от речки близко, на самом берегу, и красота вокруг нетронутая, и при любой погоде тихо здесь, только высоко над головой вершины сосен да елок откликаются ветру, раскланиваются на все стороны и шумят в поднебесье… У них с батей в верховьях Черью есть и вторая избушка, но та поменьше и без баньки. А баня таежному охотнику, что ни говори — великое дело, с устатку, а намерзнешься да умаешься до полусмерти, зверя гоняючи, — то и спасенье. Всяко бывает. Возле избушки Ильи не видно. Федя заглянул внутрь, подошел к очагу. На крючьях котелки висят, один с чаем, другой с супом, похоже, глухаря добыл Илья, для утки большевата птица. Чай уже остыл, а суп теплый — значит, с утра сварил и подался с удочкой на реку. Федя уже ладони трубочкой сложил, чтобы позвать Илью, но раздумал: нечего лес будоражить без особой нужды. Пусть Илья пока рыбку поудит, а он, Федя, воды натаскает в баньку да каменку растопит.
В баньке Федя сначала все осмотрел и потрогал руками, в порядке ли. Большое деревянное корыто, долбленое, цело, нигде не потрескалось. И чугун у топки, и большой котел на камнях — все в исправности. И пол, и верхние нары — кругом чисто, ни соринки. Отец и сам такой порядок блюдет, и его заставляет, это у отца строго. Что не сделаешь, батя своей жесткой ладонью по макушке погладит наотмашь, словно стриж крылышками по воде чиркнет на лету. За отцом, как говорится, не заржавеет… Оно и не больно, однако позорно: отец никогда без нужды руки не распускает, безвинного нипочем не тронет. Федя с ведром спустился к речке. Лодки у берега не было. Значит, Илья на ней подался. Конечно, окрестностей он не знает, а по воде не заплутаешь. А тут такое смешное место, Илья, поди, не сразу и в толк возьмёт: речка делает поворот, излучина версты две. Если по берегу напрямик идти, пеши, то шагов триста всего. Попетляет Илья, прежде чем сюда вернется… Федя успел натаскать полные котел, и чугун, и корыто, когда из-за верхнего поворота реки вынырнула лодка. Илья увидел Федю, радостно выбросил обе руки вверх: — Э-э-э! Фе-эдя! — Ау- у! Илья-я! — поднял он руку с ведром. Сдружила их дорога, ничего не скажешь, сдружила.
Федя подтянул лодку на берег и привязал за ивовый куст, Илья бросил шест и еще с лодки подал руку:
— Здравствуй, Федя! Всего-то сутки прошли, а, поверишь, соскучился я по тебе.
Федя даже растерялся от этих слов. У них в деревне как-то не принято высказывать вслух такое. — Да вот… воду таскаю. — Он смущенно показал на ведра. Протопим баньку и попаримся от души.
— Банька — это замечательно. Комары меня уже всего обглодали. Я тут порыбачил маленько, но что-то не признает меня ваша рыба. — Илья показал прутик-кукан на котором болтались пяток хариусов да пара окуньков.
— На уху хватит, — утешил Федя. — А чтоб по-настоящему поймать, Илья, речку нашу надобно знать.
— Ну, это, брат, не сразу…
Пока Илья относил ружье в избушку, Федя почистил рыбу, прополоскал в реке, черпанул ведром воды.
Густой белый дым, мягко изгибаясь, валил из бани и подымался вверх. Чтобы подкинуть дров, пришлось лезть в баню на четвереньках. Выскочил он оттуда как ошпаренный, долго тер слезящиеся глаза — топилась банька по-черному, старинно. Но все равно, сам запах дыма, от топящейся ли избы, или бани, или костра — сам запах этот наполнял сердце радостью и высоким благоговением. И всегда так.
Пока Илья разливал суп по мискам, Федя развязал заплечный мешок. Вытащил накомарник.
— Вот возьми. Отец для тебя сделал. Чтобы коми комары тебя совсем не сожрали.
Илья тут же примерил изделие: накомарник закрыл голову, плечи, горло и грудь. Открытой осталась лишь узкая часть лица, от бровей до подбородка.
— Ну, спасибо, Федя! Теперь мне сам черт не страшен!
— Это отцу спасибо.
— Свидимся — скажу.
— А это мама чистое белье тебе прислала, на после бани.
Илья смущенно взял протянутый ему сверток, поколебался, положил на чурку, подошел к Феде и обнял его:
— Спасибо, дорогой мой. Очень хорошие, видать, люди отец твой и мама. Никогда не забуду их доброты.
Пока ели, Федя подробно рассказал Илье, как встретили его дома, что он говорил, и что ему говорили, что присоветовали, и как окончательно порешили. Илья все внимательно выслушал. Поблагодарил еще раз:
— Ну, спасибо тебе. И всей вашей семье. Ты, Федя, оказался настоящим товарищем, верным и надежным. Серьезный ты человек, хоть и молодой еще. Спасибо.
Федя рассказал, как они будут добираться до Кыръядина, от которого Илья уже сам пойдет дальше. Но это после того, как они с отцом расчистят луг. Бате надо помочь, дело это самое срочное, ни на день не отложить.
— Да ты, Федя, возьми меня с собой, я подсоблю вам. Я, чай, не барин какой, а рабочий человек. Давай завтра вместе и поедем.
Перед чаем Федя еще раз подложил дров в каменку бани, березовых подкинул и осиновых. Объяснил:
— От березы жар настоящий, крепкий, а осина, когда горит, сажу с каменки выносит, чисто будет, без запаха.
Илья его об этом не спрашивал, но ведь сторонний человек таежной жизни не знает, надо рассказывать, что к чему, вдруг да пригодится где на пути…
Из каменки в избушке Федя наскреб золы, приготовил щелок — мыть голову. Потом заглянул в баню: незадолго перед этим крупные угли еще пылали синим огнем, предвестником угара, а камни со стороны верхних полков накалились до алого цвета.
Теперь алого уже не заметно, попригас, камни посерели, угли подернулись пеплом. Федя плеснул на каменку полковша, она рявкнула в ответ, хлопнула паром, словно выстрелила в потолок. Он еще плеснул, чтобы каменка очистилась от пепла и сажи, размягчил горячей водой веник, подмел верхний полок и лишь тогда закрыл дымоволок. Выйдя, плотно затворил дверь.
— Пусть теперь постоит, дойдет, — объяснил Илье, вытирая рукавом рубахи обильный пот, льющий с лица. — Настоится настоящий жар, он самые старые кости размягчит, будут как хрящи, — повторил он слышанную когда-то от отца поговорку.
Илья улыбнулся и покачал головой. Федя собирался в баню неторопливо и солидно, как настоящий усталый мужик. Принес пару веников и горячей водой пропарил их в корыте. Достал откуда-то две стареньких беличьих шапки-ушанки и одну подал Илье:
— Надень, Илья, чтоб голове не горячо, а то уши ошпарит, — и расхохотался, как озорной мальчишка. Чистые подштанники и нижнюю рубаху для Ильи оставили на воле, на колышке. Разделись тут же, отмахиваясь от наседающего комарья, голые, но в ушанках, юркнули в дверь. Войдя, постояли, согнувшись пополам, пытаясь привыкнуть к немыслимой жаре. Как поосвоились — выпрямились. Илья с восторгом захлопал себя по груди, животу, ногам:
— О-о! Вот это жар! Всем жарам жар! Да тут ежели поддать на каменку, сам вспыхнешь голубым огнем…
— Не бойсь. Сначала отогреемся и попотеем. Спешить некуда. В бане спешить — грех, — солидно сказал Федя и приказал по-дружески: — Полезай на полок, лежи спокойно и дыши. Только тихо, ногами каменки не коснись.
Илья хотел было последовать совету, но положил руку на доски полки и тотчас отдернул:
— Да жжет! Я расплавлюсь тут, Федя!
Федя засмеялся, деревянным ковшом облил полок холодной водой. Илья вскарабкался и лег. Под голову положил полено. Федя плеснул на каменку горячей воды — и снова она будто из ружья выпалила. Федя растянулся рядом с товарищем. Обжигающий ноздри жар спустился от потолка к полку, вцепился в лицо, схватился за кожу.
Закапал пот, полился, полил, выжимая из тела ненужную соленую воду, очищая человека и сверху и изнутри. Илья кряхтел с непривычки, держась изо всех сил, чтобы не сигануть вниз, не выскочить на улицу… Опять освоились с жаром, приняли в себя, нагрелись-накалились. Федя предложил:
— Я поддам еще, Илья, попотеем, остудимся в речке, а потом веничком похлещемся, aгa?
— Aгa, Федя. Валяй, поддавай, только заживо не свари.
Каменка снова рявкнула в ответ на кипяток, и жаром сверху прижало людей к доскам полка. Илья аж застонал. Федя сжалился:
— Беги за мной!
Выскочил на волю, высоко подпрыгнул, заржал по-жеребячьи и вскачь помчался к речке. Илья привычно прикрылся ладонями, но засмеялся сам себе: от кого здесь и прикрываться, в глухой тайге? Разве медведица из-за сосны подсмотрит, что ты там отрастил… Бултыхнулись в воду, ныряли, кувыркались, дурачились, как маленькие. При первом нырке вода словно вскипела вкруг раскаленного тела, а потом начала мягко омывать кожу, освобождая ее от пота и усталости, ласково успокаивая и кровь, и душу, и сердце. Так бы и не вылезал из ласковой речки, никогда бы не вылезал. Но Федя уже звал обратно:
— Пора, хватит! Теперь веничком, веничком! Дождался Илью в бане, плотно закрыл за ним дверь.
— Теперь опять ложись. Один. Вот тебе рукавицы, шапку надень.
Каменка выдохнула на них спрессованный горячий воздух, наполнив им баню до отказа. Федя парился, стоя на полу. Когда спина и плечи слишком раскалятся, присядет на корточки, отдышится. Еще дважды поддавал ковшиком. Илья после купания пообвыкся, кряхтел, но парился молодцом. Похлестались всласть! Побежали еще раз искупнуться, перед этим Федя открыл дымоволок и настежь отворил дверь — чтоб баня хорошенько проветрилась. Окунулись, поплавали, остыли.
И сделали еще один заход, попариться. И до того нахлестались, что Илья бросил веник, вылез на улицу и сел на порог:
— Уф, больше не могу. Сил не осталось совсем…
— Ты отдохни и вот, вымой голову щелоком, — сказал Федя.
Он присел на низенькой скамеечке, опираясь спиной о полок. Илья помылся, они искупались еще раз и оделись. Комары кружили вокруг, не решаясь вцепиться в их пышущие внутренним жаром тела.
Пока банились, солнышко склонилось к закату. Попили горячего чайку, восполняя утраченную, выпаренную воду, а уж потом доели глухариный суп. Затем Илья простирнул свое белье в том же щелоке, прополоскал в речке и развесил на кустах сушиться. Федя наточил на бруске старый отцовский нож с толстой рукояткой и сильно истонченным от времени лезвием, сделал для него ножны из бересты. Это для Ильи. Нельзя мужику по лесу без ножа шастать, не порядок. Затем снял с колышка запасные кожаные бахилы, старые, но годные еще, шерстью наружу, высокие голенища — в самый раз по лесам бродить. Показал Илье:
— Вот, Илья, обутку тебе сыскал. Надень-ка, а свои смазные побереги. А то в городе не в чем щеголять будет.
Илья взял, прикинул: вроде великоваты. — Это только кажутся большими, потому что шерстью вверх. Подстилки сделаем потолще да портянки накрутишь — в самый раз станут. В таких по лесу да по камням куда сподручнее, вот увидишь.
— Да я с удовольствием, если вам не жалко.
— Для тебя-то?
Федя спустился к речке, ножом нарезал осоки и занес в баню, разложил на полке сушиться. Вечером легли рано, чтобы не проспать. Поднялись чуть свет, с первыми лучами солнца. Оба жадно выпили по кружке холодного чая. Федя вложил в бахилы Ильи подстилку, показал, как подвязывать веревочкой голенища, чтобы не мешали при ходьбе. Илья обулся, притопнул ногой, прошелся для пробы. Удивился:
— Надо же, до чего легко! Ногам хорошо…
— А то, — вздернул подбородок Федя.
Чтобы ничего забыть, он собрал все в кучу у кострища: ружье и патроны, топор, зипун, шабур, котелок для чая, остатки сушеных пирогов. Протянул Илье нож:
— Это тебе. Без ножа в лесу никак.
Плыть им предстояло по течению. А по течению, да когда за тобой никто не гонится, да не нужно ежеминутно оглядываться — ого, это не на шестах вверх по реке подниматься…
Федя сидел на корме и только изредка плескал веслом, придавая лодке нужное направление. Течение само прикатит, а раньше отца на росчисти все равно появляться незачем: отец наиглавный указчик, кому и что делать. Илья задумчиво сидел посередине лодки и озирался вокруг. Интересно, о чем он думает, когда молчит?
— Что, Илья, думаешь? — не удержался, спросил Федя.
— Я? А вот смотрю кругом и удивляюсь, до чего наша Россия велика и богата. Всякие земли есть… А большинство людей живут впроголодь. Вот, скажем, здесь — и лес, и вода, и рыба, и зверь-птица, и нефть. И, наверное, если поискать хорошенько, может много нефти оказаться. И на Ухте, и в других местах…
У Феди чуть не вырвалось: да что там искать, они с батей такие места знают — и искать не нужно. У Сухого болота пахучий газ сам наверх выходит, подожги — так не сразу и потушишь… Но вовремя спохватился. Сказал же батя: молчи. Значит, молчи и не трепись попусту. Бате виднее.
— И вижу, люди с добрым сердцем живут здесь. Без обмана, без хитрости, без лукавства. Работящие люди, только и отдыха — когда спят… Обманывают вас тут… бессовестно…
— Илья, — осторожно попросил Федя. — Ты, Илья, того… про царя… бате… худого не скажи.
— Почему? — удивился тот.
— А так… Царь, он царь и есть, не нашего ума птица. Про купцов можно сказать, про богатых вообще… Отец жадных не любит. А про царя… я тебя прошу…
— Ну, раз просишь, умолчу, Федя. Старших уважать надо. Да он и сам скоро узнает, что к чему. Придет время, всех хищников изведем, и все люди станут жить открыто, друг дружку не обманывая, ничего не боясь, принося пользу обществу…
— У нас в Изъядоре… не воруют.
— А добычу вашу лесную? Не за полцены ли берут? Я же говорил тебе. Да ты и сам знаешь. Опять же нефть. Если найдут здесь промышленную нефть, думаешь, вам чего достанется от того богачества? Держи карман шире! Все заберут, а на вашу долю оставят тяжкий труд от зари до зари. Вот такую несправедливую жизнь мы и опрокинем, Федя. И станем все богатства распределять трудящимся людям, по справедливости, никого не обманывая. Только сначала нужно победить. Борьба будет большая, Федя, тяжелая будет борьба. В пятом году мы попробовали, но не одолели, не хватило сил… Вот о чем я и думаю, Федюшка…
Долго плыли молча. Федя раздумывал, раздумывал, и никак не мог понять, как это станут делить все богатства… Нет, не укладывалось в голове. Может, конечно, чего-то Федя и не знает, не понимает, лесной он человек, городского ума нету. Но вот Илья хочет купцам под зад дать — как он говорит. Тогда кто же будет у охотников шкурки покупать? Кто нужный товар завезет? Дело-то не шуточное: и товару надо много — и разного, и, главное, хлопоты не маленькие…
Дичь им подвернулась. Утки много раз подымались перед лодкой, но Федя их не трогал. Пусть птенцов растят, время такое. А вот когда вспорхнул с земли большой черный глухарь и уселся совсем рядом, в ветвях сосны — он сразу потянулся за ружьем. Черный ком, с ветки на ветку, кувырнулся и бухнулся на землю. Пристали к берегу, Федя сходил за глухарем. Показал Илье красивую голову птицы с широкими красными бровями.
— Вот, батя просил одного взять. Тут мяса и супа нам на два дня хватит…
— Красивая птица, — оценил Илья. — Даже жалко такую.
— Не жалей, это уже старый глухарь. По весне теперь молодым мешать не будет, — улыбнулся Федя и оттолкнулся от берега.
Еще только приближаясь к устью Черью, Федя почуял запах дыма. Значит, отец уже здесь. Как только выплыли на Ижму, он направил лодку вверх по течению, несколько раз оттолкнулся шестом, и тут они увидели лодку старшего Туланова, она наполовину была вытащена на песчаную косу. Наверху, на обрыве, дымился костер. Федя пристал рядом с отцовской лодкой, и они с Ильей поднялись к костру. Отец уже орудовал топором, срубая заподлицо с землёй частый ольшаник на берегу. Минуты ведь не усидит без дела… Увидел сына с товарищем — подошел.
— Но-о, вы, значит, вдвоем прибыли, — заговорил отец, внимательно рассматривая Илью. — Ни в голосе, ни во взгляде не заметно было ни удивления, ни радости, ни настороженности, словно он ждал именно их обоих.
— Вот, тебя… Это и есть Илья, — представил Федя. — Он хочет нам помочь.
— Понял, — кивнул отец.
— Гурий, Илья Яковлевич. — Он шагнул к отцу и протянул руку.
— Но, да, конечно, говорил Федя. Здравствуй тогда. А я Туланов, Микаил Андреевич, если по-вашему. — Отец пожал руку Илье. — Ты молодой, я вижу. Приходится не по своей воле по чужим землям таскаться. Сколько ж годов тебе, Яковлевич?
— Осенью двадцать пять стукнет, — улыбнулся Илья и погладил совсем почерневшие от щетины подбородок и щеки. — А в ваших краях уже второй год обретаюсь…
— Но, ничего, — подбодрил отец. — Везде люди живут. Больше увидишь, больше знать будешь. Да. Раз прибыли, надо от дождя какую-нито защиту сообразить. Погода, конечно, хорошая, но тут у нас от солнца до дождя ой как близко. Второй год живешь, значит, сам знаешь.
— Знаю, — кивнул Илья.
— Есть хотите? — спросил отец.
Федя посмотрел на товарища. Тот качнул головой.
— Не очень пока, — ответил он за двоих. Отец посмотрел на солнце.
— Тогда перекусим маленько, чтоб потом до обеда поработать без перерыва. Сходи, Федя, в лодке большой туес, принеси-ка его. Мать нам кислого творога с сывороткой положила, похлебаем с хлебом. Ложки-миски там же, в носу. Тащи весь мешок.
Расселись, поджав под себя ноги, хлебали из большой деревянной миски. Отец каждому отрезал по хорошему ломтю. Старшинство сразу перешло к Михаилу Андреевичу.
— Я пойду вон в ту лощину бересту драть, — сказал он. — А вы жерди вырубите да приготовьте навес. Ширина чтоб три-четыре, в длину пять аршин. От дождя хватит укрыться. Топор не забыл?
— Два топора взяли.
— Ну-ну. Пригодятся. Есть тут чего рубить. — Отец бросил на плечо моток веревки, взял топор и подался к лесу.
Вдвоем они успели и колья в землю воткнуть, жерди положить и вицами привязать их. Отец пришел с. большой связкой бересты. Все трое накрывали жерди этой берестой и сверху придавливали крышу другими жердями. Получилось прочно, никакой дождь не прольет. Отец сразу определил им задание-урок: в голове речной излучины убрать большую кучу древесного хлама, нанесенного рекой, и вырубить кусты.
У кустов черемухи сучья срубить, а сами деревья перепилить и переколотить на дрова да сложить в поленницы — зачем добру пропадать? Потом вдоль старицы вырубить кусты под корень — полосу шириной в два аршина. Так же вдоль берега Ижмы — там ивняк от берега уже по пойме попер. Сучья, всякую дрянь, что на дрова не годится, стащить на песок у воды и сжечь подчистую. А золу, что наберется в кострище, собрать и распылить по пойме, траву подкормить. Вот и все дела. Илья мало что понял из комиязычного отцовского приказа, а Федя даже глаза вытаращил:
— Ба-атя, да когда же мы эстолько-то дела переделаем?
— Не бойсь, — коротко покашлял отец. — Глаза боятся, руки делают. Вот, берите пилу, топоры и с той кучи и начинайте, — показал отец на ближайший куст черемухи. — А я здесь задержусь, надо же что-то к обеду сообразить.
— У нас в лодке глухарь, батя. Может, разделать? — подсказал Федя.
— Справлюсь, сварю, — сказал отец.
Только черемуху по берегу пришлось рубить целых три дня. Все хозяйственные хлопоты отец взял на себя и, время от времени, отрывался от главного дела, чтобы сварить обед, вскипятить чаю. А Федя с Ильей махали топорами без передыху, после долгого дня с трудом распрямляли поясницу да рукавами рубах вытирали с лица окончательный пот, когда солнце, садясь, уже цеплялось за верхушки деревьев. Подкрепившись, отец с сыном садились точить топоры: устал ли, с ног ли валишься, но инструмент должен быть в исправности. А топоры за день не раз и в землю вонзались, и по близкому от поверхности камню шоркали — всяко. Говорят, уставши и на зубьях бороны выспишься. А уж в пологе, под берестяной крышей и подавно как в раю: отец, оказывается, взял с собой лосиную шкуру на подстилку и овчинное одеяло. Было всем и тепло и уютно. Федя засыпал тотчас, как голова падала па подушку, и уже до утра спал как убитый. А утром просыпался от птичьего гомона, гудения комарья за пологом, от легкого прикосновения утреннего ветра. Отец вставал раньше всех: каждое утро проверял сети на старице. Федя легонько прикасался к плечу Ильи, уже вовсе обородатевшего, сладко сопящего рядом, и они немедля выходили из полога.
Чуть поплескаются у воды и сразу за работу, чтобы перед завтраком успеть поразмяться с топориком. Намахали две поленницы, каждая сажени по три. Ижма несла сюда обвалившиеся с берегов деревья. Нижние настолько затвердели — топоры не брали. Стволы лежали слоями, настоящее кладбище леса.
На четвертый день рубили кустарники вдоль протока и старицы. Полосу шириной в два аршина, как велел отец. Вырубленные кусты стаскивали на песок, где трава уже не росла. Полоса оказалась вдвое шире: рубили-то стелющийся ивняк… Когда куча на песке вырастала порядочная — ее поджигали, и она то пылала с веселым треском, то выпускала бесшумные клубы густо-молочного дыма, когда веселый огонь заваливали сырыми ветвями ивы. Вечером солнце скрылось не за верхушками деревьев, а еще высоко в небе воровски нырнуло в черные тучи.
— Задождит ночью, — сказал отец, и они перенесли все вещи из лодок под берестяной навес.
Дождь и пошел ночью — громко затарабанил по гулкой крыше навеса. Утром отец коротко бросил сыну, когда тот сел спросонья:
— Спи. Дождь.
Федя нырнул под одеяло и тут же заснул. В тот день встали поздно, когда дождь наконец кончился и солнце снова заиграло на высоком чистом небе. Отец опять опередил всех. Доложил:
— Сегодня две щуки, щуренок да еще хороший окунь зацепились. Уху сварил.
Пока ели, он насмешливо рассматривал своих помощников. Федя подумал, что Илья, пожалуй, пришелся отцу по сердцу. Как хорошо, ведь старший Туланов очень придирчив и строг к людям, хоть к своим, родным, хоть и к чужим. Особенно когда одно общее дело приходится делать.
За завтраком отец сказал:
— Землю-матушку солнце украшает, а всякого человека работа красит. Так у нас, у коми людей, говорят. Но и дождик нужен был. Такой дождик для травы пользителен. Да и отдых нам тоже не помешал, совсем без отдыха человек не может. Вона сколько сделали за эти дни. С такого луга будет что скотине подать зимою…
Отец радовался, даже бороду гладил. Прямо не сказал, что, мол, молодцы Федя с Ильей. Но посматривал на Илью уважительно. Видимо, не ожидал от чужого человека такого старания.
— Я сначала прикидывал, нам тут с Федей не меньше недели потеть… А втроем мы быстро управились. Вот я и подумал: надо тебе, Федор, домой заглянуть.
— Зачем? — недоуменно спросил Федя.
— Соображай. У Ильи, поди, карманы дырявые… А дорога у него длинная…
Илья смущенно улыбнулся и развел руками: что верно, то верно, так получилось, что и чемодан пришлось там оставить…
— Ну вот, — продолжал отец. — Если по совести сказать, то и у нас денег нету. Но остались шкурки куницы. Ты, Федя, зайдешь домой и возьми те шкурки. В Кыръядине Якову Андреичу занесешь, да смотри, требуй свою цену. А деньги отдашь Илье, на дорогу. Грех на нашу голову, если мы человека в этакую даль без копейки отпустим. Не побираться же ему в пути…
Илья даже растерялся.
— Да не заботьтесь обо мне… Я и так перед вами, добрыми людьми, в долгу.
— Нет, Илья. Ты Федю в трудную минуту защитил, вступился за него, не побоялся. Добро сделал, добром и отплатим. Добро от добра рождается и добром множится. Да и трудов твоих на этой росчисти немало. За труды не заплатить двойной грех.
— Да что вы, да за еду и заботы ваши…
— Полно, — махнул рукою отец. — Путника накормишь десять лет будешь с хлебом-солью, так у нас говорят. — Затем повернулся к сыну: — Ты сейчас сразу и сплавай, тут на маленькой лодке недолго. А мы с Ильей сегодня вдоль Ижмы ивняк повырубим, и завтра можете отправляться с богом. Золу собрать да развеять — это я и сам управлюсь.
— Спасибо, Михаил Андреевич, век доброту вашу не забуду. Вы мне теперь как родные. — Илья взял топор и пошел к ивняку.
— Не за что, — сказал отец ему вслед. — Тебе, парень, самому спасибо за помощь.
Обратно Федя вернулся уже под вечер. Отец с Ильей еще работали.
— Мать простокваши прислала с творогом. В молоке там небольшой ком масла. А в лодке еще и толокно.
— Ну и добро. Я тут кашу ячменную сварил, так подмаслим, а остальное на дорогу вам.
Когда ужинали, отец не утерпел, спросил Илью:
— За что же тебя, добрый человек, в этакую глушь сослали? И надолго ли?
— Мы, Михаил Андреевич, выступили против богатеев… Стачка, демонстрация, ну, я в организаторах. А срок мой — шесть лет.
И рассказал все в подробностях, как живут и работают заводские люди в городах, какую нужду терпят и как поднялись за свои права. Говорил он не спеша, простыми словами, чтобы поняли его коми охотники, чтобы и до их сердца дошла чужая нужда. Старший Туланов слушал молча, а потом сказал:
— Выходит, и в большом городе рабочему человеку не сладко. Но… с богатым судиться — все одно что с печкой бодаться. Свой же лоб и расшибешь.
И зашел в полог. За ним последовали молодые. Илья не вытерпел, решил оставить последнее слово за собой:
— Придет время, Михаил Андреич, и мы им лбы порасшибаем. Это уж точно.
— Не знаю, не знаю, — глубоко вздохнул отец. — Жизнь — она…
Он не закончил фразы, только вздохнул еще раз. Уснули.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Илья наловчился управлять лодкой, как заправский рыбак-охотник. Первые версты длинного пути они одолели играючи. Ненадолго завернули к охотничьей избушке на Ошъеле. Илья снова втиснул ноги в мохнатые охотничьи сапоги, заменив старую подстилку свежесушеными пучками осоки. А свои аккуратно завернул и убрал в заплечный мешок. Там уже были и Федина праздничная рубаха, и полог от комаров, и хлеб, и чай-сахар, и завернутый в тряпку котелок. Федя намотал на щепку леску с крючком, засунул туда же. Осмотрелся еще раз, не забыть бы чего: топор в лодке, нож и огниво при себе, соли взяли… Федя закинул котомку на плечо:
— Поехали. Возьми, Илья, зипун до Кыръядина, прохладно по ночам.
— А ружье?
— Здесь оставим. По дороге рыбы наудим. На короеда, да и оводы ожили. Хариусу овода только подай — не упустит. А в верховьях Эжвы его хоть ведром черпай!
До самого верховья Черью подниматься не стали, сделали остановку в верхней охотничьей избушке Тулановых. Там же и пообедали. Намешали густую кашу из толокна, похлебали с простоквашей. Федя ел и думал, что придется еще порядочно идти по тайге, а это потруднее, чем в лодке сидеть на ровной воде. Как-то Илья по лесу ходит? Тоже ведь навык нужен… Вышли в путь, не задерживаясь. Впереди Федя с котомкой за спиной. Несколько раз он останавливался и мысленно хвалил Илью: ничего, идет, зипун свернул и перекинул через плечо, и не отстает. Федя зашагал шире, уже не оборачиваясь.
Но вскоре Илья окликнул его: — Федя! Сбавь маленько прыти, ты меня совсем загонишь…
Тот опомнился и маленько сбавил. В Переволок вышли еще до захода солнца, славно отшагали.
Это была на берегу Эжвинской Черью небольшая открытая поляна, где громоздились две избы-хоромины, рубленные из кондовых бревен. С большими хлевами для коров и овец, с навесами, с высокими въездами на сеновал. Перед избами, под самым обрывом, стояли две бани. Чуть в стороне два овина и гумно. За задними пристройками да еще вдоль речки отвоевали местные жители тайги небольшие участки под картошку, лук, под рожь и ячмень, А было тут местных жителей немного, и все — родственные друг дружке: два рыжебородых брата — Митрей Вась и Митрей Федот. По-русски — Василий Дмитриевич и Федот Дмитриевич. У Василия было пятеро детей. У Федота шестеро. Василий держал две лошади и две коровы. У Федота тоже было две лошади и опять же две коровы. На этакую ораву едоков — в самый раз. Только Федот был из молчунов молчун, а Василий — напротив, удивительно словоохотливый и к людям приветливый. Федя как-то весной с отцом, а с матерью уже дважды, летом, ходили к бабушке в Кыръядин и всегда останавливались у Василия Дмитриевича. И сам Василий, если приезжал на Ижму, никогда не обходил их дом стороной. Так что было это место, Переволок, для Феди очень знакомое.
Не заходя в дом и никому не сказавшись, он сразу пошел на речку и положил свою котомку рядом с лодкой, перевернутой на тонкие бревнышки — это была их, Тулановых, лодка.
Смастерил ее еще дед Феди по матери, чтобы волоком не таскаться с одной речки на другую. Теперь надо бы спустить ее на воду да на ней и добраться до Кыръядина. Лодку они осторожно перевернули, ухватились за нос и корму, стянули в воду. Федя ступил в лодку, прошелся по ней, и сразу во многих местах забили меж досками обшивки веселые фонтанчики.
— М-да-а, подрассохлась маленько, — почесал затылок и вышел на берег. Придется повозиться, никуда не денешься, старое корыто надо обсмолить, хотя бы там, где вода сочится. Не получится без остановки. — Давай, Илья, обратно вытащим. — Вытянули лодку обратно на берег, снова перевернули вверх днищем. — Ты костер разожги, а я зайду к Василь Дмитричу за кочергой да смолы попрошу. А если нету, придется и в лес сбродить…
Илья не все понял: зачем кочерга, как можно в лесу обзавестись смолой так, вдруг, но промолчал, наученный опытом здешней своей ссыльной жизни: чего сразу не разумеешь, вскоре и разъяснится, своими же глазами все и увидишь.
Федя не успел подняться наверх, от реки по обрыву, как появился Василий Дмитрич.
— Я думаю, кто это там у речки шебуршит… А это Федя прибыл. С кем же? — Василий Дмитрич протянул руку Феде, одновременно внимательно глядя на Илью. — Товарища твоего не признаю что-то…
Илья молчал, не решаясь представиться. Они ведь заранее не условились, как отвечать на вопросы. Федя опередил, сказал первое, что пришло в голову:
— Это Яков Илья… Из Нэмдина. Зимой на Печоре остался и сейчас вот выходит, — соврал Федя, но все же покраснел.
Василий поздоровался и с Ильей.
— А чего в дом не зашли?
— Да вот, — оправдался Федя, — я сразу захотел лодку поглядеть, выдюжит ли двоих… Смолить придется.
— Смола есть, с пол-лукошка, хватит. Пойдемете поужинаем, а потом смолу возьмешь. Аксинья как раз коров подоила. — Василий пошел к дому, уверенный, что парни потянутся следом. Спросил, не оборачиваясь:-Так ты, Федя, решил на Троицу у бабки погостить?
— А когда Троица?
— Да послезавтра, — удивился Василий. — Или не слыхал?
— Забыл… Дядя Василь, если Троица послезавтра… мы уж не станем мешкать… Осмолим лодку и тронем.
— Но, полно, Федя, из-за Троицы, едрена корень, не голодом же себя морить, да еще в такой дороге.
— Мы не голодны. Недавно в верхней избушке перекусили, да и с собой набрано…
— Ну-ну, от ужина грех отказываться. Да и поспеете вы на праздник. Речка еще не обмелела, сплаваете. Но коль время дорого, идем, кочергу дам и смолу. И весла, конечно.
Федя вернулся к речке, нагруженный, а у Ильи уже костер пылал. Федя выбрал камень побольше, положил в огонь нагреваться, туда же сунул кочергу, рукоять кочерги пристроил на другой камень, в стороне от огня. Потом начал аккуратно сыпать порошковую смолу по уступочке, в сшив лодочных досок.
— Илья, ты не сердишься, что я тут про тебя напридумал?
— Да нет, Федя, ты меня просто выручил. Все правильно.
— Чешется всем узнать, кто, да что, да как-откуда… Опять ведь, станут приставать, что и делать-то? Коми слова ты говоришь смешно, сразу узнают, не нэмдинский ты вовсе…
— Не знаю, как и быть, — пожал плечами Илья. — Выходит, мне надо помалкивать…
Федя вытащил из костра кочергу — гнутая головка стала красной и приложил раскаленный конец к смоле на досках. Мелкая крошечная смола зашипела и вспыхнула белым дымом, растеклась по щелям черным ручейком.
— Совсем не говорить тоже нехорошо, не глухонемой ведь, рассуждал Федя. — А вот ты вполне можешь быть заикой…
Илья смотрел непонимающе.
— Ну, ме…ме…му…ны…ня. Aгa? Раз спросят да второй спросят, быстро надоест твое ныканье. Понял? — Ну ты и хитрый лис, — рассмеялся Илья.
— А как же! Охотник ведь!
Наверху, на обрыве, с крынками в руках появились две девочки, Саня и Лиза, дочки Василия. Спустились к речке, подошли.
— Федя, матушка вам молока прислала, — протянула Саня свою крынку Феде, с которым уже была знакома, а Лиза с опаской подала молоко чужому человеку с бородой.
Две сестренки стояли рядом. Босоногая, в длинном шушуне из домотканого холста, Лиза была по плечо своей сестре. Федя даже удивился: как выросла с прошлой весны Саня! Волосы ее, похожие на очесанный лен, заплетены в две косы, два зовущих бугорка мягко приподнимали платье на груди, шерстяные узорчатые чулки плотно обтянули полные икры ног. Год не виделись, а поди ты, не узнать девку…
— С-с-па…си-ббо, — начал входить в новую роль Илья и кивнул благодарственно Лизе. Федя не выдержал и фыркнул, даже молоко расплескал. Лиза испуганно прижалась к старшей сестре.
— Не пугайтесь. Илья хороший человек, только говорить ему тяжко, заикается он, от рождения с ним такое.
Федя вытащил из мешка каравай, отрезал ломоть:
— На, Лиза, угощайся ижемским хлебом.
Лиза смущенно протянула руку за гостинцем, но Саня прикрикнула на нее:
— У путников брать! Спятила, бессовестная! Лиза отдернула руку и спряталась за спину сестры. Но хоронилась она недолго, тут же выглянула и похвасталась:
— А у меня такое красивое платье, как у Сани, тоже есть, вот. В Троицу надену. Сегодня мама не дала. Говорит, рано мне еще невеститься.
Федя расхохотался от души, Илья поддержал его не очень уверенно, то ли не все понял, то ли не решил еще, надо ли заикаться, когда смеешься.
— А сколько ж годков тебе, Лиза? — спросил Федя.
— Мне — девять. Братику Васе три, Петру шесть, Ванеку двенадцать. А тебе, Федя, шестнадцать, и ты уже красивый и очень завидный жених…
Федя растерялся от таких откровений. Лиза, конечно, повторяла мнение взрослых, простецкая душа.
— А нашей Сане пятнадцать, и она уже невеста. Тут уже Саня не выдержала, повернулась, чтобы шлепнуть болтушку, но та кинулась бежать. Молоко выпили прямо из крынок, закусывая хлебом. И наелись, и времени, почитай, не потратили. И приступили смолить — кочерга раскалилась добела.
Скоро на речке собрались почти все взрослые и дети. Василий Дмитрич взял кочергу и сам начал прижигать смолу к дереву, Федя только сыпал ее по уступу доски. Брат Василия — Федот — сидел рядом на перевернутой лодке и помогал скупыми замечаниями.
Ребятня поддерживала огонь в костре, подбрасывая щепки и сучья. Саня и Лиза прибежали за пустыми крынками. Пришла их мать, Аксинья Григорьевна, начала расспрашивать Федю: все ли здоровы дома, да как выросли Агния и Гордей, да какие виды на урожай в Изъядоре? Федот что-то спросил Илью, но тот так долго и мучительно пытался выговорить первое слово, что больше уже никто не тревожил его вопросами.
— Да неужто ночью поплывете и отдохнуть не хотите? — спросила Аксинья, она никак не могла понять, какая такая нужда гонит молодых мужиков в дорогу на ночь глядя.
— Да ведь и ночью светло, — отозвался Федя.
Феде и Илье не дали даже за лодку взяться, без них и перевернули, без них и спустили на воду — по воздуху пронесли, на руках.
— На обратном пути не обойди, покажись, — попросил Василий. — Надо бы поговорить, Федя. Когда назад?
— Дня через четыре, дядя Василь.
Илья оттолкнул лодку и, в такт с Федей, начал толкаться шестом. Ночью даже не стемнело, только краски потускнели. Один раз Федя отклонился от фарватера, которого он придерживался с непонятным Илье постоянством, безо всяких видимых примет, — и они тут же сели на мель. Второй раз задержала толстая елка, обвалившаяся поперек реки. Больше часа махали по очереди топором, чтобы отворить себе путь. Перед восходом солнца стала одолевать сонливость, сонный дядька к ним прицепился Илья снял накомарник и начал плескать воду себе в лицо. Федя сделал то же самое. Немного полегчало.
— Доплывём до подходящей открытой косы, где ветерком обдувает, — сказал Федя, — и отдохнем.
Солнце подымалось все выше, и то спереди слепило глаза, то пекло затылок. Песчаная коса обнаружилась вскоре. Пристали. Натянули полог. Федя рассчитал так, чтобы через час они оказались в тени. Надо бы спокойно поспать… Устали.
Первым проснулся Федя. Было тепло, но не жарко. За пологом, слышно, с тихим плеском струилась река, покачивая ивовые прутья, торчащие из воды; слабый ветерок шарил в верхушках деревьев, изредка спускался на песчаную косу, легонько трепал полог. Весь лес наполнен был птичьим гомоном. Федя чувствовал, что выспался еще не вполне, усталость не прошла, но глаза больше не закрыл, закинул руки под голову и так полежал, думая про завтрашний праздник.
Правда, что худа без добра не бывает: если бы не Илья, не случай с солдатом, не попасть бы ему в Кыръядин на Троицу.
К вечеру будут они у бабушки, в самом центре сельского праздника. Сердце замирает у Феди, как представит себе разодетую праздничную толпу. И себя среди всех, в нарядной рубахе. Вот, надо только еще к Якову Андреичу зайти. Да так зайти, чтоб и не промахнуться, не обидеть купца и самому не прогадать. Проснулся Илья. Встали, умылись, отмахиваясь от наседающих комаров. Съели рыбник, что дала им на дорогу мать. Плыли и радовались: ветерок разгулялся и сдул комарье, окаянное племя. Правда, на смену прилетели оводы. Но от них не надо хоть в накомарнике париться. На Эжву-реку выплыли к обеду. До Кыръядина оставалось около трех чомкостов.
— Илья, ты будешь приманкой, — сказал Федя. — Присядь и лови на себе оводов. Я один погребу. Скоро большой перекат, там и хариусов половим.
Федя подгребал веслом, направляя лодку, а Илья то и дело хлопал себя по коленям, по рукам, по груди, дурачился, кричал:
«Есть!» — и заталкивал жадных оводов в полотняный мешочек. Скоро впереди послышался гул переката. Федя пристал к берегу, вырубил себе удилище, привязал к веревке большой камень-якорь. Первый раз якорь бросили перед перекатом. Федя взмахнул удочкой. Едва овод на крючке коснулся воды, хариус схватил его. «Есть!» — теперь уже Федя крикнул азартно слово, которое недавно повторял Илья. В лодке забилась небольшая серебристая рыбка. Поймали еще несколько штук и подняли якорь:
— Здесь, видать, все такие. Пускай подрастут. Спустимся чуть ниже, там попробуем. Чуть ниже по течению началось невероятное: хариусы брали один за другим, рыба была отборная, длиной в семь-восемь вершков. Федя махал удочкой то влево, то вправо, с обоих бортов, вскоре и наживка кончилась. Но и рыбы поймали немало.
— Давай вон туда, за камни, пристанем, — сказал Федя, и они погнали лодку к берегу. — Я схожу за берестой, Илья, а ты уху сготовь.
— Сколько рыбин сварить?
— А сколько съедим, столько и свари, — ответил Федя, всматриваясь в приближающийся лес.
Направился он в левую сторону, там, показалось ему, место было более сырое. А на сыром бересту легче снимать. Наелись ухи до отвала: и проголодались, и вкусно было несказанно. Федя смастерил из бересты короб и положил туда остальную рыбу — десятка два отборных хариусов, каждый не меньше фунта. Рыбу присолил сверху и прикрыл травой. Хороший гостинец привезет он на праздник. Хоть жарить, хоть в рыбник, не ударит перед бабушкой в грязь лицом.
Приплыли они в Кыръядин еще до захода солнца. Подтянули лодку на берег, взяли свое нехитрое имущество. Бабушка заметила их с крыльца и, пока они приближались, долго всматривалась.
— Но, вроде бы Федюшка наш идет? — вслух сказала она сама себе и, осторожно ступая, спустилась навстречу. — Так и знала, так и знала, не зря кошка с утра умывается… Идите, идите, дитятки…
Федя подошел, поздоровался. Илья чуть поотстал и остановился у изгороди. Бабушка любовно гладила внука по руке:
— Слава богу, живой, здоровый, эва, как вымахал, и так на деда похож стал, на покойного… Федюшко, внучёк…
— Глаза у бабушки повлажнели. — Экую даль живёте, и не повидаться, когда захочешь… Как дома? Все ли живы здоровы?
— Здоровы, бабушка, здоровы все. Кланяются вам.
Из дома вышла тетя Настя, ласково позвала:
— С верховьев Ижмы гости прибыли… входите, входите, мама, приглашай гостей…
Илья молча наблюдал встречу родных и чувствовал какое-то особенное тепло вокруг себя, сердечное тепло людей, благорасположенных друг к другу, живущих простой и честной жизнью. Вслед за матерью на крыльцо высыпали двоюродные сестры и братья Феди, закружились вокруг, загомонили.
— Мама, пока мы на стол собираем, может, Федя с товарищем после дальней-то дороги в баню пойдут? Жару еще много осталось, — предложила тетя Настя.
— А и освежитесь, Федюшко, — поддержала ее бабушка.
— Вот хорошо, комарье нас порядком покусало…
— Тогда я мигом свежего белья скалкой покатаю. А может, сначала покушаете с дороги?
— Спасибо, мы еще не проголодались, бабушка.
— Гриша, отнеси в баню пару ведер холодной воды, — приказала тетя Настя сыну.
Федя представил родным Илью и протянул бабушке короб с хариусами:
— Вот, по реке спускались, дак напрыгало в лодку… Пока отпаривали в бане комариные укусы, Илья спросил Федю:
— Тут как будем, Федя, снова мне заикаться? Или другое что придумаем?
— Не надо, Илья. Скажу, что на Чердынь пробиваешься.
— А почему, зачем?
— Да мало ли. Надо человеку — вот и идет. Не скажешь сам, не станут допытывать. А дяде Дмитрию я немножко расскажу, чтобы по селу лишнего не болтали. Тут и староста, и урядник, и становой пристав…
Так и договорились. После ужина их уложили, как братьев, — на одну широкую деревянную кровать в маленькой летней комнатке.
С той минуты, как заключенный Туланов узнал, что начальником у них старший майор Гурий Илья Яковлевич, он несколько раз вспоминал эту летнюю прохладную комнатку в доме бабушки и широкую деревянную кровать, на которой они, по-братски, спали после длинного пути по тайге и рекам: он и Илья. Тогда еще просто — Илья. Без званий, без отчества. Разве брата зовет брат — по отчеству?
После бани спалось долго и вкусно. Спали бы еще, да бабушка разбудила:
— Вставайте, дитятки, обедать пора. День-то сегодня какой… Федюшко, Троица нынче, большой праздник, надень вот, я принесла, это от деда осталось. Он ведь тоже большой был да сильный…
Она поставила рядом с кроватью кожаные блестящие сапоги, повесила на стул кумачовую рубаху и пестрядинные, в полоску, штаны. Феде вдруг стало как-то зябко внутри и горло сдавило спазмой — с такою силой охватило его глубокое родственное чувство и к бабушке, и к умершему деду, который, молодым, выходил на люди вот в этой самой одежде.
Умылись. Приоделись. Илья поверх голубой рубашки опоясался ремнем, расчесал гребешком густые черные волосы, усы, а наметившуюся бороду погладил рукой и рассмеялся:
— Подумай, Федя, уже не колется. Еще полмесяца — и стану я бородатым дедом.
— Молод для деда, — улыбнулся Федя. — И глаза и лицо — все молодое…
А когда Федя переоделся в праздничное да подпоясался плетеным пояском с кисточками, Илья широко и радостно открыл глаза:
— Ух ты! Словно из сказки удалой молодец!
Федя и сам чувствовал, как ладно выглядит, но от слов Ильи покраснел, не привык, чтобы мужчина вот так, восторженно, хвалил.
— Пойдем обедать, Илья, ждут нас. Им навстречу вышел в черной сатиновой рубахе дядя Дмитрий, родной брат Фединой мамы.
— Но, здравствуйте. Вчера не застал вас, рано легли с устатку, уж сегодня поздороваемся, — и он пожал им обоим руки.
За столом все были одеты празднично, и взрослые и дети. Светло-зелёное, ярко красное, малиновое, голубое, ослепительно-желтое, с вышивкой, с оборками, нарочитыми складками, — все краски праздника светились в большой комнате, где вокруг громадного стола, на скамьях, венских стульях и широком деревянном диване сидела Федина родня.
Дядя Дмитрий из старинной медной ендовы с носиком налил полный стакан светло-коричневого солодового пива и подал с поклоном бабушке:
— Отведай, матушка, да скажи, годится ли младшим кушать.
Бабушка поднесла стакан к губам, бережно отпила чуток, склонив голову набок, почмокала, пробуя первый вкус, потом отпила полстакана.
— С богом, детушки, съедобно. Сама ставила, своего хулить не станешь… И улыбнулась смущенно, возвращая стакан сыну. Тот наполнил еще раз и подал тете Насте.
— Что ты скажешь, Настена? Настя только-только пригубила:
— То же скажу: мама варила, невкусно не бывает.
— Теперь мой черед, — серьезно сказал дядя Дмитрий и опустошил стакан, крякнул, вытер усы и бороду: — Славно, славно.
Затем он протянул стакан Илье:
— Пожалуй, Илья, не знаю вот по отчеству…
— Яковлевич, — подсказал Федя.
— Илья Яковлевич, отведай нашего пива, дальний гость.
Илья отведал и похвалил. Федя отказался:
— Не стану сейчас и пробовать, опьянею, боюсь. А мне надо к Якову Андреичу идти, отец две шкурки дал, куньих, продать нужно.
— Но, в праздничный-то день? А может, на завтра отложишь?
— Завтра обратно надо, домой. Дел много, отец ждет.
— Да и что ж что праздник, — рассудительно сказал дядя Дмитрий. — Купец своего барыша и в праздник не упустит. Яков допьяна не напивается, а и выпьет — ума не пропивает. Но ведь обманет, прохвост. Тем более летом. За бесценок возьмет.
— А я ему не поддамся, — пообещал Федя.
— Сходи, сходи, коль невтерпеж, наш Яков всем хорош, и много у Якова товару всякого, но боле всего хитрости да жадности, обманет, да еще и руку пожмет, благодетель наш, бог ему судья… — рассмеялся дядя Дмитрий.
Илья промолчал, хотя Федя ждал с его стороны каких-то слов. Обедали. Жирный мясной суп, кулебяки, пшенная каша с маслом, да еще шаньги с творогом, со сметаной, с крупой. Вроде сыт уже, сыт, дальше некуда, а тут еще кисель! Федя украдкой посматривал на Илью, тот отказался от второго стакана пива, но в остальном безотказно дошел до киселя и каждое блюдо похваливал или спрашивал, как такое готовят, и, видно было, вопросы его и похвалы приятны бабушке. Уф, кончили есть. Илья встал и поклонился бабушке отдельно и тете Насте отдельно:
— Спасибо вам, хозяюшки, все вкусно было очень. Но — не перекрестился. Даже на иконы не глянул. И Федя увидел, как поразило это бабушку: как это может быть, чтобы человек благодарил с поклонами, а перекреститься не догадался. Все ведь от бога, все от него, ему и благодарность главная, душевная. Она ничего не сказала, только губы сжала плотнее. Поэтому Федя, когда встал, сначала один раз перекрестился и поклонился — за себя, потом второй раз перекрестился и поклонился иконе — как бы за Илью. Чтобы бабушке не обидно было за бога…Вышли охладиться на вольный воздух. Дядя Дмитрий сказал:
— Мне бы и самому надо к Якову, ой как надо. Старое ружье спортилось, новое придется покупать. Но без денег вот как не хочется к купцу идти, на должника он пуще других жмет… Так и тяну со дня на день. А осенью деваться некуда, придется кланяться.
— А что с ружьем? — спросил Илья.
— Курок не взводится. Видать, пружина сломалась. Починить у нас некому. Если что по дереву — тут умельцев пруд пруди. А по железу — никого нету. Лесная сторона…
Дядя Дмитрий вздохнул.
— Вы принесите, я посмотрю, — сказал Илья. У дяди Дмитрия глаза зажглись надеждой:
— Может, когда имел дело? А правда, посмотри, мил человек. — Он быстро поднялся в сени и вынес оттуда длинноствольную пистонку. — Вот видишь, курок болтается. А пистонка что надо, хорошо попадал…
Илья взял ружье, потрогал курок, приложив ухо к замку.
— Надо замок разобрать и взглянуть. Есть ли у вас какие инструменты? — обратился он к Дмитрию. Тот развел руками:
— По дереву если- всё есть. А по железу… Пойду, поищу.
Вернулся дядя Дмитрий с берестяной коробкой.
— Вот всё, что есть.
Илья порылся в коробке, вытащил оттуда молоток, клещи, напильник, несколько крупных гвоздей. Затем попросил топор и чурку. Топор он с силой вогнал в чурку, получилось подобие наковальни. Илья сел на лавку и установил чурку промеж ног. Выбрал самый большой гвоздь. Сначала загнул шляпку, затем стал орудовать напильником.
— Вот, сделаем отвертку из гвоздя, потом будем смотреть что там стряслось.
— Но, конечно, — взволнованно сказал дядя Дмитрий. — Схожу за ендовой, коли такое дело…
— Не надо, спасибо, — отказался Илья. — От пива голова моя угорает, так уж устроена.
— Квасу, может? — Очень хотелось Дмитрию чем-нибудь угодить мастеру: а вдруг да сделает годной старую пистонку — это ж от какого расхода избавит! Да что от расхода, главное, от унижения избавит перед купцом, перед Яковом Андреичем, у которого ружье купить Дмитрий может только в долг.
— Кваску хорошо бы, день-то какой жаркий, — согласился Илья.
А Федя взял свой узелок, и с Гришей, двоюродным братом, пошли они к Якову Андреичу. Как-то примет…
Двухэтажный дом главного кыръядинского купца стоял недалеко от церкви, прямо у большака, главной улицы, делящей Кыръядин на две части: прибрежную, ряд домов по берегу, и второй ряд — возлецерковную. Напротив дома купца, через дорогу, стояла земская школа, возле которой, на широком лугу, и собирались местные жители на праздники, на гулянья. И прибрежные, и возлецерковные, и зареченские… Сегодня народу на лугу было уже порядочно, но так, проходом: придут, постоят, поглядят- принаряженные все, — да и дальше пойдут, поискать, где веселее. Время еще не сборное. Это попозже чуток все соберутся именно сюда, на общее место. А пока праздник еще по домам, по улицам, по переулкам, вразбродь.
Хотелось и Феде на луг завернуть, ой как хотелось, но в раскрытом окне второго этажа купеческого дома заметил он солидную фигуру самого Якова Андреича — и сначала свернул к нему, дело сделать.
В доме пили чай. На середине просторного стола громоздился и шумел двухведерный самовар, отливающий золотом. За столом сидело ой много — Федя постеснялся сосчитать — дюжины полторы, и взрослых и маленьких. А сам Яков Андреич в темно-синей жилетке поверх оранжевой рубахи расположился в конце стола у открытого окна да самолично разливал в рюмки русскую водку. «Живут же люди, — подумалось Феде, — перед каждым взрослым своя рюмка на столе…». Лицо у Якова Андреича уже порядком покраснело от выпитого и съеденного, но не уловил Федя в лице купца главного, на что вдруг начал надеяться: праздничной беспечности, добродушия, мягкости. Нет, чего не было, того не стоило и искать. И взглядом своим острым, и осанкой, и поворотом головы смахивал Яков Андреич на туго взведенный курок пристрелянного ружья. «У этого небось пружина не сломится», — неприязненно отметил Федя.
— Заходите, заходите, милости просим, — прогудел купец низким голосом, — заходите, гостями будете, молодые, длинноногие…
— А мы только из-за стола, благодарствуем, — ответил Федя, не зная, куда девать руки с узелком.
— Никак, с верховьев Ижмы пожаловали на праздник? Вроде бы Федор, а? Сын Михаила Андреевича? Изъядорский? А, молодой удалец, не ошибся я?
— Так бы… да, — совсем смутился Федя.
— То-то, вижу, лицо знакомое. Память у меня на хороших охотников есть, не подводит еще. Дело какое ко мне?
— Есть дело, Яков Андреевич, но я потом зайду, как чаю попьете. Если, конечно, можно. День-то праздничный…
— Можно, можно, для хороших людей время всегда найдется, тем более в такую даль приехали. Подожди маленько, Федор.
Федя и Гриша спустились вниз по высокой лестнице, вышли на улицу и присели на ступеньку ждать.
А на лугу наро-оду собралось! Девчата уже песни затянули, и гармонь заиграла — настоящий праздник начинался на лугу. У Феди пятки чесались, сбегать бы туда и забыть все дела, ну их к лешему. Но вдруг Яков Андреич выйдет — а его и нету. Да ведь не захочет купец больше с ним дела иметь, никогда. А дело им нести придется, может, всю жизнь… Нет, нельзя, никак нельзя. Минутное удовольствие променять на серьезное, жизненное, нет, боже упаси и подумать этак.
Дождались наконец, слышно — застонали ступеньки под тяжелым телом Якова Андреича, в весе мужик, что и говорить.
— Ждать да погонять нету хуже, — сказал купец, вроде бы извиняясь, — Ну-с, зайдем-ка в лавку.
Из кучи ключей, нанизанных на медное кольцо, Яков Андреич выбрал нужный и отпер огромный висячий замок, отодвинул железный засов и с замком в руке вошел в свою лавку.
«Этакий замчище, — подумал Федя, — заместо якоря бы его на лодку, никаким течением нипочем не снесло бы».
— Проходите, люди молодые, милости просим. Феде после солнечной улицы показалось в лавке темно, как в подполье. Пока не пообвыкли глаза.
— Ну, Федор свет Михайлович, покажи свое дело, — сказал купец и зашел за стойку, на хозяйское место.
Федя развязал узелок, затем из холщового мешочка вытащил шкурки куницы и подал купцу. Тот взял в руки, подошел к окошку и долго встряхивал шкурки, мял, дул, рассматривал. Затем вернулся к стойке.
— Вот за эту, — положил он одну шкурку перед Федей, — заплачу три целковых. А вторую оцениваю на два с полтиной, — положил рядом с первой и вторую.
Федя аж оторопел от услышанного. Не сразу и возразил:
— Яков Андреич… это как же… это же… два с полтиной самая низкая цена… Куница же… хорошая…
— Верно сказал, Федор Михайлович, верно. Но это когда сразу, нележалые. А эти шкурки сколько пролежали — мне неведомо. Может, уже и моль завелась. Могу себе убыток причинить, и немалый.
— Эти шкурки, Яков Андреевич, только февральские. Сами посмотрите, все чисто, наилучшее…
— Даже и февральские, Федор Михайлович. Значит, всю весну и лето уже в сундуке отлеживались. Да и у меня лето-осень пролежат, сам посуди, куда я их сбуду до открытия зимней дороги? Рискую, сильно рискую. А убытков не люблю, грешен, не люблю убытков. Но если моя цена тебе не по сердцу — то я ведь силком не отбираю. Боже упаси. Держите дома, кто ж вас неволит? Но только, сам знаешь, пока они лежат, лучше не станут и не подорожают. Наоборот. Так что… сам думай.
Федя знал: поздно осенью, крайний срок — зимой — приедет чердынский купец Попов и возьмет шкурки много дороже. Да хоть бы и сам Яков Андреич — и он возьмет за полную цену. Нипочем они не определят, какого года шкурки, этого или еще того. И купец это понимает, как не понимать, не дурак же он. Но понимает, подлец, что Феде деньги нужны сейчас, позарез, иначе не тянулся бы в такую даль со шкурками в узелке… Сами Тулановы, конечно, обошлись бы до осени без этих денег, да ведь Илья тронется отсюда, из Кыръядина, в дальнюю Россию — как ему без копейки в пути?
— Ладно, согласен. Что положишь… — уныло молвил Федя.
— Ладно, оно и есть ладно, тебе ладно да и мне ладно, никому не накладно, — промурлыкал купец, не спеша забрал шкурки с прилавка, отнес куда-то в темный угол. А оттуда вернулся с маленьким железным ящичком. Маленьким же ключом на особой цепочке открыл щелкнувший замок, откинул крышку. Отсчитал деньги.
— Ты, Федор Михайлович, не думай чего худого, — благодушно попросил купец. — Был бы кто другой — я б ему и этого не дал. Зачем мне доброй волею лезть в убыток? А вас с отцом я уважаю, потому и оцениваю так высоко, как можно летом оценивать. Пять целковых с полтиною — не малые денежки. Вот они, бери и держи крепко. И пусть в ваши ловушки зверь-птица сами идут, да числом поболе. Пересчитай.
Федя деньги пересчитал. Пять целковых отделил и упрятал. А пятьдесят копеек зажал в кулаке и начал осматривать полки с товаром. Чего тут только не было! И конфеты всякие-разные, и пряники, и калачи. Да хорошо бы сестренке Агнии красивый платок либо шелковую ленту купить, то-то радости было бы у девчонки!
— Чего пожелаешь, Михалыч? — ласково спросил Яков Андреич. — На-ко вот, сегодня ты, по случаю праздника, можешь штоф русской водочки себе позволить. — Купец поставил перед Федей высокую бутылку и подмигнул.
— Не, спасибо, по мне она что есть, что нету ее, — отодвинул Федя бутылку.
— Не уважаешь водочку? — засмеялся купец.
— За что ее и уважать-то? — удивился Федя, который русские слова принимал такими, какие они есть, без второго смысла.
— Вольному воля, хозяин — барин, — Яков Андреич поставил бутылку обратно на полку.
Федя купил пять фунтов сахару и две пачки чаю. Это мать наказывала. Затем уже своей волей взял три фунта пряников, связку калачей, конфет по фунту, подушечек и круглых. Получилось — набрал на тридцать семь копеек, да еще и осталось.
Чего бы еще взять — Федя сразу решиться не мог, лучше попозже, потом, зайти, а сначала подумать. Копейки-то они копейки, а каким потом достаются…
Вышли из «магазина» и присели около амбара на какие-то порожние ящики. Сначала сгрызли по калачу, потом по прянику съели, а после позволили себе по одной подушечке и одному кругляшку.
— Вкусно, Гришуха? — спросил Федя, все еще расстроенный, что не удалось взять с купца настоящую цену за шкурки. — Может, еще?
— Не, не будем больше, — отказался Гриша. — А то разойдемся — не остановимся, домой не довезешь ничего.
— Ладно, потерпим, — согласился и Федя. — Надо еще другим оставить — Васию, Анне, Петру, Агнии, Гордею, — перечислил он всех родных и двоюродных и завязал гостинцы в узелок.
Теперь можно бы сходить туда, где народ давно собрался. Людей посмотреть, себя показать. Они пошли поглядеть гулянье. Пробились сквозь плотное окружение к гармонисту. Парни и девчата лихо отплясывали кадриль, кружась и цепляя друг дружку согнутыми в локтях руками. Вокруг гармониста плотным кольцом стояли зрители. По бокам сидели две девушки, поочередно ласково утирали пот с его лица — руки-то у музыканта заняты — часами гармоньи мехи растягивать легко ли…
Братья понаблюдали танцы и протиснулись обратно из круга. На соседней улице мальчишки играли в шары. Там же, в самом конце, молодые мужики резались в городки-рюхи. И куда ни подходил Федя, всюду испытывал он страстное желание поучаствовать, самому поиграть. Да и там, на лугу, очень хотелось ему потанцевать кадриль, он и танцевать умел не хуже здешних, нет, ничуть не хуже…
Но в танцах нужно иметь партнершу, а девушки у него здесь нету, да и вряд ли когда будет… В шары играть или в рюхи — опять же напарники нужны, один не сунешься, тем более — чужой, дальний. Но в одном месте мужики тянулись на скалках, кто кого перетянет. Тут каждый сам по себе, никакой команды не требуется. А почему бы силушкой не померяться, если она имеется? Зевак было много, и взрослые мужики, и молодые парни, и принаряженные бабы и девки, даже детишки-мелюзга. Тут болели за своих, за знакомых, подначивали, подзадоривали, смеялись. Один крепкий мужик с густыми усами уже троих перетянул на себя, — поднимет их на ноги и опять вопросительно нос задирает на окружающих: кто следующий насмелится против него сесть?
Федя тут же, как освободилось место, и сел напротив, упершись ногами в его пятки. Еще когда со стороны смотрел, заметил он, как хитрит этот усач: тот чуть-чуть раньше соперника успевал выпрямить ноги в коленях и тем самым теснил противника, облегчал себе задачу. Федя и решил про себя: не даст он усачу дурить ногами. А там посмотрим, кто кого. Ухватились за скалку, приготовились рвануть соперника под команду «раз, два, три». За мгновение до команды «три» Федя сам выжал свои ноги — первый! — и легко поднял усатого.
— О-о, молодой еще, а силушки хоть отбавляй! — одобрительно зашумели в толпе.
А усатый разозлился, что применили его же излюбленный приемчик. Вдруг схватил скалку из рук Феди:
— Ты чего озоруешь? Бока чешутся? Всех дураками считаешь, себя только умником? Нельзя так тянуться!
— Как же — нельзя? — сыграл в простачка Федя. — Я же видел, как ты других перетягивал… Я думал-так и надо.
— Беремся одновременно, — снова уселся усатый. — И как крикнут — «три», тогда и ноги распрямляй и руками тяни.
— Ну, так бы сразу и сказал. — Федя снова уселся против усатого.
И взялся за скалку обеими руками. Долго умащивал ноги, будто и впрямь впервые взялся перетягивать. На этот раз напряглись одновременно, без хитростей, зрители уже кое-что поняли и заметили бы всякий подвох. Усатый старался изо всех сил, а Федя только сопротивлялся, удерживал его, не давая перетянуть себя. Ждал, когда усатый выдохнется. Тот аж покраснел от натуги, склонялся вправо, влево, пытаясь раскачать противника, но Федя держался. Потом, уловив момент, Федя глубоко вдохнул — и поднял, оторвал усатого от земли.
— А мы то думали, Егор задницей приклеился, никто не сможет его одолеть, ан нет, нашлось, кому отклеить, — сострил кто-то в толпе.
— Хочешь, давай еще раз, — предложил Федя усатому. — Да ты у меня уже пятый по счету, вот погоди, передохну, ты у меня как пробка вылетишь, — пообещал усач и отошел.
Федя еще четверых перетянул, и больше против него никто не сел. Он повертел головой, отряхнул штаны и пошел к Грише мимо девчат, которые, конечно, тоже тут были.
— Всех наших парней да и мужиков перетянул, — сказала круглолицая синеглазая девушка, которую Федя раньше не видел. — Экий молодец. Вот бы с ним кадриль станцевать…
Федя покраснел до кончиков ушей, это у него слабость такая была: как похвалит кто, ему невозможно стыдно становится и неловко, ну прямо хуже, если б отчитали за дело…
Он прошел мимо. Гриша доложил:
— Это Лизка была, Лизавета Афанасьевна.
— А я спрашивал тебя, кто она?
— Эй, дяденька, вечером приходи на гулянье! — послышалось сзади. — На скалках потягаемся…
И девичий хохоток в спину.
Дома оказалась только бабушка, она обрадовалась внукам.
— Долго как бродили… Яков Андреич небось ждать заставил?
— Да не очень. Больше так, сами гуляли.
— Вот и остальные наши разошлись, кто куда. Дядя Дмитрий и товарищ твой, Илья, пошли разузнать про дорогу. Здесь у нас один русский есть, поженился на нашей и живет. К нему направились, он хорошо дорогу знает. А уж какой мастер твой Илья, какой мастер — ружье-то ведь починил. И не надо новое покупать. Дмитрий не знает, как и отблагодарить его…
— Нам тоже помогал, как луг чистили. — Федя немного помолчал. Затем решился: — Бабушка, я тебя попросить хотел… Завтра утром Илья дальше пойдет, да если бы ему на дорогу чего сготовить, а? Денег у него нету, как он доберется, ума не приложу…
— Да как же, дитятко, как же иначе? Обязательно дадим с собой, всего дадим, чем богаты. Не беспокойся, мы гостя не обидим, тем более — такого уважительного… Идемте, ребятки, покормлю я вас.
Бабушка выставила на стол миску с горячим супом. В дом влетела Анна, сестренка двоюродная, и с ней девочка ее же возраста. Федю удивили ее длинные волнистые волосы. Анна затараторила:
— Бабушка, бабушка, наш Федя на скалке тянулся, он самый сильный, да, все говорят, я сама видела, он всех перетянул, вот!
— Там еще этот, Егор усатый больно задавался, — уточнил Гриша, — так Федя и его перетянул.
— А вот если бы наш Пантелей был, он бы всех перетянул, — вдруг подала голос длинноволосая. И еще горделиво тряхнула головой. До того уверенная в каком- то своем Пантелее. Федя улыбнулся и промолчал. А она заметила, сказала вызывающе: — Да-да, и тебя бы перетянул, не больно-то задавайся.
— А я вообще молчу.
— И правильно делаешь, — отрезала длинноволосая. Федя почему-то нисколько на нее не обиделся и все улыбался, смотрел. Бабушка объяснила:
— Это соседка наша, Ульяна. А Пантелей — старший брат ее.
— Да, красивая невеста вырастет, — сказал Федя, чувствуя почему-то свое старшинство в эту минуту. — И женихов у нее будет — без отбою… Если, конечно, со старшими спорить не перестанет…
— Еще чего — перестать, — шмыгнула носом Ульяна.
— Не будешь старшим перечить, я тебя на Ижму возьму. У меня точно такая же сестра есть — Агния, будете с нею в Ижме купаться.
Ульяна вдруг показала Феде язык и шустро выскочила из избы. Все от души посмеялись веселой выходке. И Федя посмеялся.
И откуда ему было знать в ту минуту, что станет Уля его женой, и судьбой, и болью многолетней?.. Разве угадаешь вот так, вдруг?
Как все запечатлелось в голове, многолетней давности, и люди, и картины, и встречи, и слова… Как всплыло в памяти, как явственно, доподлинно, подробно… Да отчего же так построилось в жизни? Как же сложилась такая судьба — что спали под одним пологом, а спустя годы — один стал безвинно заключенным, а другой — его, можно сказать, тюремщиком? Старшим майором.
Подумать-то странно, не то чтоб наяву встретить. И главное, что мучило Туланова в подневольной его судьбе: как же все красивые и правильные слова, что произнес в те далекие дни Илья, — как же стали они пустозвуком, если примениться хотя бы к его, Федора Михайловича, жизни? Как же так — его, работягу из работяг, охотника, рыболова, крестьянина, горбом своим добывающего хлеб насущный, — его, Туланова, запрягли в подневольное ярмо на своей же коми земле, и нету света в окошке, нету надежды выбраться… Ну ладно, с ним, может, ошибка вышла, по чужой злой воле. Но ведь он видит, не слепой — такие же трудяги вокруг в телогрейках, такие же бедолаги, у которых от работы и ладони-то деревянные…
Замедлился Туланов, остановился почти, обессиленный и бедой своей, и прошлым своим. Наткнулся на него сопровождающий, выругался, но в лицо Туланову заглянул. Поразился: «Эк тебя… Что, не зря Гурий зовет, старший майор? Много на тебе грехов, а? Ну-ну, шагай давай, коли зовут, шагай. Там рассудят…»
«Много ли грехов на мне? — думал Федор Туланов, занося руки за спину и продолжая шагать к конторе. — Много ли грехов-то? Много, поди, если не своею волей живу. Только истинные мои грехи не знает никто. Только мне они ведомы, истинные-то мои грехи, человеческие…»
Федя на гулянье не пошел: и стеснялся, и Илью ждал. Хотелось, конечно, пощеголять по улицам, потереться в толпе, но неловко одному, что и говорить. Один — один и есть. Хоть бы приятель был какой. Нету приятеля. Илья и дядя Дмитрий вернулись вечером, поздно. Дядя Дмитрий был навеселе, а Илья трезвый как стеклышко, но в приподнятом настроении.
У Дмитрия язык заплетался, он никак не мог нарадоваться, что Илья починил ему ружье, избавил от ненужной переплаты купцу.
— Ка-акой человек… умница, мастеровитый, даже по-нашенски говорит, — хвалил он Илью. — Ты, Федя, молодец…
Ну вот, договорился. Илья — умница и мастер, а Федя поэтому молодец. До чего же ты смешной, дядя Дмитрий, когда во хмелю.
— Оказывается, живет здесь очень интересный человек, — рассказал Илья. — Стихи сочиняет. Рассказы пишет. Мне показывал. В пятом году с Львом Толстым встречался, с Вересаевым беседовал. Считает себя передовым мыслителем. Мусора в голове, конечно, много, но — видно — человек славный. Подробно объяснил, как идти через Чердынь, и письмо мне дал на имя своего брата. Это, Федя, большая удача для меня, очень большая. Сам понимаешь, дорога в тыщи верст, запросто не проскочишь… Завтра утром и тронусь!
— Доброго пути тебе, Илья.
— И тебе, Федя, спасибо, добрая ты душа, — обнял его Илья по-братски, хлопнул по спине по-товарищески. — Через тебя, Федя, я другими глазами увидел коми людей и теперь принимаю их как родных, по душе, по сердцу. Никогда не забуду…
— Да чего там… обычное дело. — Федя смущенно вытащил деньги и протянул Илье. — Возьми-ка.
— Что это?
— Пять целковых. Тебе на дорогу. Отец велел.
— Не возьму, Федя. Вы и так много для меня сделали. Я в долгу.
— Какой же долг? Новый луг, такой большой, расчистили, за работу тебе не уплатили. Это грех. Если не возьмешь, отец меня сильно ругать будет. Как оправдаться? И потом, в Россию идешь, путь дальний — как без денег? Возьми, прошу тебя.
— Ладно, возьму. Спасибо, Федя. И отцу спасибо передай. Вот царя скинем, новую жизнь начнем, приеду я к вам. Посмотреть, как при новой жизни заживете. Старое с тобой вспомним, рыбу половим, охотиться меня научишь. Тогда и с долгами рассчитаюсь.
— Полно, Илья, какие долги? Не думай об этом. Приезжай когда. Покажу места, где у нас эта твоя нефть сама наружу прет, и газ тоже, вонючий такой…
Илья встрепенулся:
— Нефть? В ваших краях?
— Она самая. Даже в наших охотничьих угодьях попадают такие… испачканные места.
— Благословенная эта грязь, Федя.
— Ну, это как сказать, Илья. Для нас, охотников…
— Понятно. Ты мне вот что скажи, Федя. Ты своего отца сильно боишься?
— Я? Боюсь? Батю?
— Ну, может, поколачивает он тебя? Нет?
— Меня-а, — протянул Федя. И покачал головой. — Да что ты, Илья. Да ему вообще нельзя ни с кем драться. Ежели он кого кулаком треснет — тот богу душу сразу отдаст. Что ты, как можно. Батя у нас строгий, но не дерется. Никогда. Если что не так, может, конечно, по макушке погладить, а ладонь у него — что твой напильник… Не, батю я не боюсь.
— Ну, может, я не так выразился. Уважаешь сильно…
— А как же, конечно, уважаю. Отец же!
— Все правильно, Федя, все правильно.
Утром, с восходом, Федя провожал Илью до околицы. Прошли последнюю избу.
— Ну, давай, брат, прощаться, — сказал Илья. Обнялись.
— Будь здоров, Федя, крепни дальше. Никого не бойся, никому не поддавайся. Жизнь — она, знаешь… как перетягивание на скалках у вас. Всегда кто-то кого-то одолеть хочет… Удачной тебе охоты. До встречи… когда-нибудь.
— Счастливо тебе до места дойти, Илья, счастливо. Долго смотрел Федя на узкую спину Ильи, пригорбленную заплечным мешком, пока тот не скрылся за деревьями. Потом вернулся, попрощался с бабушкой, с родными, взял сверток с гостинцами и быстро вышел к реке. Пора, пора домой, торопил он себя, надо за работу браться, отец, поди, один надрывается… Надо же, как Илья спросил: не боюсь ли я отца. Это ж надо такое придумать. Ну, правда, Илья не очень твердо коми язык знает, мог и не то слово молвить…
После похода в Кыръядин никак Федино сердце не могло успокоиться, осталась обида на купца Якова Андреича, осталась. Целых полтора рубля ужал купчина, самым бессовестным образом. Ну что ты скажешь! Деньги то какие! И за что? Да ни за что! Со своими сверстниками-охотниками они в деревне все обговорили: приедет Яков Андреич очередной раз — хрена ему с два, а не пушнину. Все, что добудут, — сдадут чердынскому купцу, тот наезжает попозже, но и дает больше. А Якова свет Андреича пора проучить маленько, чтоб не ловчил на честных охотниках. Еще бы и старшие поддержали, отказали купчине в пушнине, — тут почесал бы он в затылке…
Но батя Федю не одобрил. Живо остудил. У бати были свои резоны:
— А каким лешим охотиться станешь? Палкой белку собьешь? Дроби-пороху у нас с тобой на самое первое время хватит, а дальше хоть криком кричи. И если наш купец задержится, тогда хоть все бросай и сам подавайся за тридевять земель припасу искать… Коли этак выйдет — заряд всемерно подорожает, Федя. Вот и прикидывай, где твой выигрыш… Пополыхало молодое сердце и потухло. Да и когда ему долго-то полыхать? Зверя-птицу промышлять надо, а не злость копить. Со злым-то сердцем какой ты охотник?.. Да никакой.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
— Ну, шевелись, шевелись, Туланов! А то Гурий и мне голову оторвет, и твоя пострадает: уж я-то на тебе отосплюсь, ежели чего…
Климкин терпеть не мог неясного в жизни. Хоть как-нибудь все должно быть объяснено. Правильно — неправильно, праведно — неправедно, это дело десятое. Но все должно быть окончательно понятно Климкину. Он от рождения был исполнителем.
Исполнителем в чистом виде. От природы. От душевной бесприютности. По своей единственной мозговой возможности. И злила Климкина всякая непонятность происходящего. И внезапный вызов этого Туланова — злил. Не мог понять Климкин, какого рожна понадобилось старшему майору госбезопасности от этого простого крестьянина, которого с группой таких же недавно переслали из Кемского лагеря. Откуда они могут знать друг дружку? Старший майор Гурий явно выискивал в списках новоприбывших именно этого мужика. Гурий — Туланов. Туланов — Гурий. Какая связь? Зачем такой интерес?.. Нет, непонятно.
— Товарищ старший майор госбезопасности, ваше приказание выполнено, Туланов ждет в коридоре, — Климкин стоял по стойке «смирно», руки прижаты к бедрам, грудь бочонком, вперед, — отчаянный служака, готовый на все.
— Пусть зайдет. А ты свободен, товарищ Климкин. Можешь отдыхать.
Начальник третьего отдела четко повернулся «кругом» и аккуратно затворил за собой дверь.
Туланов шагнул через порог и даже зажмурился — так показалось ему светло в кабинете Гурия. У них в палатках длиною метров в пятнадцать и высотою в пять метров горели под мягкой крышей две маленькие керосиновые лампы, которых хватало чуть-чуть осветить проход между двумя рядами пятиэтажных нар: только и было свету, чтоб найти свое место, не стукаясь лбом о столбы. И все равно приходилось выставлять вперед себя руки, абы не промахнуться…
А тут в небольшой комнатенке сверкали две этаких «молнии» с абажурами!
Туланов снял шапку, провел ладонью по волосам, отчасти от волнения, отчасти ослепленный двумя «молниями» сразу. Спохватился, доложил, как положено:
— Туланов… Федор Михайлович, прибыл… Покрутил в руках шапку, затем спрятал ее за спину, продолжая мять обеими руками.
Гурий вышел из-за стола. Туланов несколько раз видел его, но всегда на улице: в длинной шинели до пят и в кожаной фуражке со звездочкой. Сейчас шинель висела на вешалке, Туланов почти касался ее плечом. А сам Гурий был в ладной гимнастерке, в галифе, в кожаных сапогах. На левой стороне груди прикручены два ордена Боевого Красного Знамени. Такой командир. Даже и ростом вроде повыше стал. Виски седые. Да, времени минуло ой-ой сколько… А черные глаза свои щурит по-прежнему…
Гурий подошел почти вплотную, не спуская с Туланова глаз. Встал на расстоянии вытянутой руки. Медленно, отделяя каждое слово, сказал:
— Туланов, говоришь… Федор Михайлович… Федя? Aгa? Ты что, не узнал меня?
Туланов от прямого взгляда не спрятался, не отвел глаз. И сам смотрел на Гурия открыто, с поднятой головой. Ну и что, что перед ним начальник? Или, вернее, он — перед начальником. Ему, Туланову, виниться не в чем. Ни перед кем не виноват, ни перед людьми, ни перед богом. Ни перед начальником тем более. Только перед Ульяной да перед детьми своими виноватый, да и то — не своею виной… Молчание затянулось, непозволительно затянулось, хотя Гурий и видел: узнал его Туланов, узнал Федя, не мог не узнать. Но все же напомнил:
— Ну, в Пермской губернии ты был плох, меня даже не разглядел, это понятно… А нефтяная вышка Гансберга?.. Изба Сидорова, помнишь?.. Как отчаянный коми парень бросил царского солдата в воду, aгa? И как потом двое бежали на лодке по реке Ухте?
Как не помнить Федору Туланову всего, как не помнить… Чай, своя жизнь, не чужая, не купленная. И память не отшибло.
Федор Михайлович разволновался и, продолжая молчать, потрогал бороду, прикашлянул.
— Не удивительно этакой бородищей обрасти, сколько ж времени-то прошло? — вопросительно усмехнулся Гурий, взял твердой рукою Туланова за локоть и, подведя к столу, усадил на стул, — А ну-ка, сядь, сядь, Туланов, дай разглядеть тебя, каким ты стал…
Туланов молчал. Гурий немного отошел назад и еще раз внимательно осмотрел Федора. Перед ним сутулился, не опуская глаз, рыжебородый старик в стареньком бушлате.
«А ведь ему, пожалуй, нет и сорока», — подумал Гурий, и что-то похожее на жалость шевельнулось в нем, но привычно, усилием воли, он прогнал это безответственное, совершенно никчемное в его работе чувство.
Нет и сорока… Только глубоко сидящие глаза коми охотника по-прежнему были молоды и смотрели смело.
— Богатырский парень был Федя Туланов, а теперь, гляжу, кожа да кости остались? — сказал Гурий задумчиво, словно советуясь.
— На здешних разносолах тела не прибавишь, — не утерпел Туланов. Ответил все-таки.
— Да… Сильно изменился, сильно, — сказал Гурий и сел на свое место за столом. — Просто удивительно, как это я тебя узнал?
— Тут не хочешь — да изменишься, — опять ответил Туланов непримиримо. — Когда тебя этак… выкручивают…
С новой силой поднялась в душе Федора обида и злость на нынешнюю свою беспомощность, на беззащитность, на поднадзорность. За что?!
Гурий нахмурился:
— Давай договоримся, Туланов: ты на меня не шуми. Я пока что ничего про тебя толком не знаю. Вот и расскажи по порядку, как и что с тобою стряслось. Не чердынская ли история повлияла? Тебе хоть рассказали, что я приезжал? Что записку и справку для тебя оставил? Передали тебе те документы? Интересуюсь, потому что, помнится, еще раз о тебе запрашивали, о той истории…
— Нет, гражданин начальник, — коротко ответил Туланов, — Чердынская история ни при чем. А за справки спасибо. Если б не те бумажки — не выкрутился бы я тогда… второй бы раз расстреляли…
— Тогда почему ты здесь? — тихо спросил Гурий. — Расскажи, не скрывай ничего. Позабудь пока, что я тут начальник. Пусть будет по-прежнему: я политссыльный Яков Илья, а ты мой проводник вверх по Ижме… Миш Педе, так ведь мы тогда назывались?
— Да ведь не о чем мне и рассказывать.
— Как это не о чем? Вот здесь, в деле твоем, написано: Туланов Федор Михайлович. Кулак. Статья пятьдесят восемь. А ты говоришь — не о чем. Советская власть тебе свободу дала, Миш Педе, а ты, значит, использовал эту свободу, чтобы других эксплуатировать? Да еще агитировать против Советской власти? Если по делу смотреть — так получается…
— Если в бумагу смотреть — точно, так и получается, — согласился Федор. — Так ведь бумага, она и есть бумага, чего в нее запишут, то она и носит…
— Погоди, Туланов. Я тебя уже просил: давай поговорим, не поглядывая друг на друга исподлобья. Можешь?
Федор молчал, крутил в руках шапку, которую давеча положил на колено, спазма сжимала горло так, что и говорить-то не получалось, звуки застревали и царапали глотку… Только и хотелось — крикнуть безоглядно: за что? За что, мать вашу в перемать?! За что мужика, мозоль на мозоли, от земли оторвали, от леса, от дела вековечного, от Ульяны, от детей — за что?! Кто там моих детей кормить станет, кто? А мать-старуха, об ней-то кто позаботится!
Но смолчал Туланов, смолчал, только зубами скрипнул. Недели и месяцы, которые провел он в неволе, приучили его молчать, молчать даже тогда, когда злые слова разрывают тебя изнутри, когда в безоглядном отчаянии хочется высказать прямо в глаза — да кому угодно! — такое… А потом хоть к стенке. Да ведь если б и к той стенке прилюдно поставили… А то ведь втихую, в укромном месте.
Гурий встал.
— Не могу понять, Туланов. Ты, коми охотник, с твоими взглядами — ну никак не должен был стать кулаком да еще выступать против Советской власти. Хочу знать от тебя самого — какую ошибку ты допустил, где, когда, что же случилось в твоем сознании?
— Это я-то кулак? — с горечью отмахнулся Туланов. — Тоже, нашли кулака… как же… Трое детишек маленьких — да, это я имел. Жена попалась работящая — тоже имел. Горбились оба, денно и нощно — да, было. Всякий день к вечеру ни рук, ни ног под собой не чуешь — и такое бывало. Дом себе подняли. Двух лошадей держали сено-дрова возить да на извоз по надобности, для приработка, да. Корова с теленком — это уж обязательно, все свое на столе, как крестьянину без того? Правда, бычок еще был. Кому-то ведь и это надо, без быка не будет ни телят, ни молока. Хорош был бычок, из деревни в деревню водили. Опять же приработок. Но ведь и сена на зиму заготовить — намашешься… На мою долю те самые черьювомские луга достались, ну, которые вместе с отцом расчищали… может, помните?..
Гурий кивнул. Да, он помнил: и как растаскивали кучи древесного хлама, нанесенного рекой, и как рубили ивняк, упруго встающий из земли, и ежедневную свежую уху помнил Гурий, и как спали в одном пологе, под одним одеялом. И баню помнил. Все помнил Гурий. И теперь испытывал непривычную какую-то неловкость от того, что жизнь развела их с Тулановым по разные стороны. И все-то они, осужденные по «кулацкой» статье, не признают себя кулаками. А его, Гурия, и тогда, когда расчищали луг, и позже, когда вспоминал он об этих днях, всегда поражала та жадность к работе, та безоглядность, с какою крестьянин отдавался делу, если оно сулило хоть малый достаток. Тулановы часами работали, не разгибаясь, прямо-таки оголтело работали, словно это был их последний и решительный бой…
— А луг получился славный, — рассказывал Федор, почти увлеченно. Разошелся. — Сена там отменные… Мы с отцом его еще расширили, это уже попозже, и с кормами забот не знали, хватало от лета до лета. Конечно, доставка неблизкая, но уж не без того, труды-то свои. Опять же, охота, и тут удача бывала… А в прошлом годе, март месяц, да, собрали нас, мужиков, на сходку. Зильган Петыр Вась у нас есть, Василий Петрович, если по-русски сказать, он старался. Нашел себе работу, чтоб на земле не потеть. Надо, скажет, организовать колхоз. Такой, говорит, сверху приказ вышел. В нашей деревне двадцать один дом, всего двадцать пять хозяйств, и все, говорит должны записаться. Лошадей со всей сбруей, с инвентарем, и коров, и овец — все, у кого что есть, собрать вместе, в один хлев загнать, а самим, значит, работать только артелью. Ну, как так — вдруг? Почему? Я малограмотный, темный лесной мужик, мне недоступно. Мы с Ульяной вместе с утренней зарею встаем, весь день стараемся, а тот же Зильган лежит на боку и лень свою греет. У него в хлеву одна коровенка костями гремит, на пустом сеновале ветер свищет — а я по чьему-то разумению объединяться с ним должен? И на него, на лодыря, спину гнуть? Да ты там мне рассказывал: при новой жизни никакой эксплуатации не будет!..
Туланов разгорячился и, незаметно для себя, перешел на «ты» со старшим майором госбезопасности.
— Я конечно, темный мужик, не отрицаю. Да тут никакой такой образованности и не надо, чтобы понять: этот наш Василь Петрович опять же эксплуататор и есть, только новый. Какая разница, как назвать — купец, или кулак, или помещик, или председатель, — не в слове ж дело, а в том, что я снова землю потом поливать буду, а кто-то станет мной помыкать и хлеб мой делить. Да не хочу я так! Или мне тоже работать, как Василь Петрович — спустя рукава? А я не могу так работать. Не по мне это. У меня дети растут, их надо научить — чтоб хорошими людьми выросли, чтоб на чужой каравай не заглядывали, а завсегда свой имели…
Туланов поймал взгляд Гурия и осекся. Подумал: «Хотел ты слушать — вот… слушай. Нравится тебе, не нравится, а слушай. Будь что будет — выскажу все, а там… воля божья».
— Что думал, то и высказал я на сходке. А Василь Петровичу так прямо в глаза и резанул: ты, мол, сначала свою кривую шапку поправь, а потом уж других учи, как им жить и куда свою скотину сводить. Ну, он на меня накинулся, я, вроде того, кулак и потому сам не хочу в колхоз и других это… агитирую. Ну, я-то знаю: что у меня есть, то горбом моим нажито. И вся деревня знает. Чего мне какого-то ленивого босяка бояться? Показал я ему кулак — вот уж… от кулака у меня только свой кулак и есть — и ушел со сходки. Я свое сказал, делать мне там больше нечего. Ну, и другие ушли. Говорили, всего трое записались в колхоз. А самостоятельные мужики — ни в какую. А на второй день ушел я в лес, лося надо было свалить, на мясо. Пока я за лосем бегал, Василь Петрович милицию в деревню привел да новую учинил сходку. Ну и объявил меня кулаком, опасным для Советской власти. А остальных всех силком записал в колхоз: у него, видишь, наган в кармане объявился… Вернулся я вечером из леса, а наутро заарестовали меня и увезли. Сначала в Усть-Кулом, потом в Чов. Уж там мне сообщили, будто какая-то тройка гэпэу определила мне восемь лет. Я, конечно, заблажил: как, за какие грехи? Без всякой вины! Прикрикнули на меня, мол, заткнись, контра, если не хочешь, чтоб тебе еще больше дали… А куда уж больше? Ну, попал в Кемь, на пересылку. Услышал там, будто собирают отряд в мои же родные края, попросился. Все ближе к дому. И земля родная милее, хоть бы и в неволе…
Помолчали. Гурий провел рукою по острой своей бородке, Туланов никак не мог вспомнить, на какого вождя похож Гурий в этой бородке, видел как-то портрет, а фамилию позабыл.
— Значит, и до вас перегибы дошли, — сказал Гурий.
— Ты скажи, отчего это перегибы гнут именно трудового мужика? — насмешливо спросил Туланов, опять забывшись.
— Да ты слышал ли про статью Сталина? — спросил Гурий, не отвечая на вопрос.
— Слышал, как не слышать! Но если сказано, что перегнули палку, то и поправить пора, ежели чего не по справедливости вышло… А я-то тут при чем? А дети мои… чем виноватые?..
— Еще раз тебе говорю, — настойчиво продолжил Гурий. — При организации колхозов во многих местах была искажена партийная линия. Центральный Комитет даже специальное постановление принял. По твоему рассказу выходит, и у вас тут то же самое происходило. Больше у тебя ничего не было… в смысле — против Советской власти?
Туланов молча смотрел на Гурия.
— В октябре семнадцатого мы почти всей командой корабля штурмовали Зимний… — снова заговорил Федор. — Я тогда плавал на тральщике. Я за эту власть боролся, потому — поверил в нее. Чего ж мне подыматься против?
— Не обижайся, Туланов. Я тебе верю… Федор Михайлович. — После некоторой паузы Гурий назвал Туланова по имени-отчеству. Заметно было, что это стоило ему немалых усилий. Гурий встал. Походил по кабинету взад-вперед. Сказал:
— Царя мы скинули, буржуев победили, да… Теперь надо вот научиться по-новому работать и жить. Не просто это, не просто… Как от ошибок-то уберечься?
Гурий остановился против Туланова и долго глядел в упор, о чем-то про себя размышляя. На что-то решаясь. А Федор, глядя на Гурия, мысленно задал ему вопрос, который мучил его, мучил, не давая покоя. Туланов не мог, не решился бы вслух спросить о таком. Он и себя спрашивал молчаливо, но вопрос этот бередил душу, обжигал вероятным ответом. Зачем же соображать-то по-новому? И работать по-новому, и жить? Если во все времена честная работа и честная простая жизнь были праведны — отчего же при Советской-то власти надо иное выдумывать? Как еще по-новому можно жить человеку? Какой новой праведности искать?
Не решался Туланов спрашивать о таком даже и тех, кому доверял, не решился спросить и Гурия, старшего майора госбезопасности. Между ними теперь такая стена выросла… Жизнь вырастила. И что будет с ним, Тулановым, задай он этот вопрос Гурию — одному богу известно. Неволя и злая несправедливость уже приучили его молчать, не выпуская наружу свои сомнения.
— Ладно, — сказал наконец Гурий. — Я запрошу… о твоем деле. А пока бумаги будут ходить, я тебя на бурильщика направлю учиться. Пойдешь?
— Мое дело ныне такое… куда пошлют. Я никогда работы не чурался.
— Не в том дело, Туланов, не в том дело. Нам сейчас нужны люди, умеющие бурить. Много людей нужно, специалистов. Весной один поисковый отряд я пошлю в верхнюю Ижму. Скорее всего, и тебя с этим отрядом отправлю.
Гурий говорил задумчиво, заранее зная, как обрадуется Туланов возможности снова побывать в родных местах. Но что-то еще заботило Гурия в этой неожиданной встрече с Федором, что-то такое, чего он никак не мог вспомнить сейчас, но что постоянно присутствовало, когда он вспоминал тот свой побег с промысла, из ссылки. Что-то крутилось в мозгу из той, старой, истории, но никак не оформлялось словами.
— Помнишь, Федор Михайлович, тогда, при расставании, ты меня приглашал? Обещался еще научить охоте?..
Гурий спрашивал совсем не о том, спрашивал, чтобы нащупать то главное, что осталось в нем с тех далеких дней побега, и это главное как-то связано с его теперешним положением начальника лагеря. Вот черт, никак не уловить…
— Помнить-то, конечно, помню… — сказал Туланов. — Только вот ведь какая оказия: я нынче не хозяин в своем дому, а ты не мой гость, да, — грустно высказал Туланов, глядя на Гурия.
— Ну, не печалься. Не все еще потеряно, — смутно пообещал Гурий.
Туланов вышел из светлого кабинета начальника. На улице ему не показалось темно: выпал снег и подсветил ночь. Осторожно перешел Федор по мосту через говорливую Дзолью, журчащую по камням, на ту сторону, где стояли высокие палатки лагеря. Вскарабкался на свой «пятый этаж», снял бушлат, башмаки засунул под матрац да так и вытянулся поверх серого одеяла, не раздеваясь.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
— Отпустили? — спросил снизу Кузьма. — Это хорошо, если отпустили. А я уж, грешным делом, подумал, не в изолятор ли тебя упрятали…
— За какие грехи? — отозвался Туланов, думая о своем.
— Наше дело телячье, — усмехнулся Кузьма, — скажут: грешен — значит, грешен… Это чего же большому начальству приспичило тебя лицезреть?
С Кузьмой Федор вместе от пересылки в Кеми, неразлучно. Кузьма — сын кулака, заметно моложе Федора: как шняку тянули в одной лямке вверх по реке Ижме — бурлаки! — так там, в лямке, и отметил Кузьма свои двадцать пять годков. И что-то у них навроде дружбы наметилось, старались и тот и другой поближе держаться. Все вроде бы веселей, рядом живая душа, которая понимает тебя. И то легче. Но сегодня, после встречи с Гурием, не шли из Туланова слова, не мог он рассказывать Кузьме, что, вот, они с начальником лагеря, оказывается, старые знакомцы…
— Узнал, что я местный, вот и расспрашивал, — сказал Федор. — Обещал еще направить меня на бурение, учиться сначала.
— Да? — оживился Кузьма. — Тогда просись в нашу бригаду. Мастер у нас, Семиненко Юрий Иванович, хороший человек, пра слово, хороший. Собираются вроде в командировку послать всю бригаду, не знамо только — куда.
— Попрошусь, — безразлично пообещал Туланов.
— Просись, просись, — подбодрил Кузьма и больше уж не заговаривал, уснул.
А Туланова вновь закружили мысли. И опять поднялась большая обида, взяла за горло и принялась душить, играя: прижмет, прижмет — приотпустит, опять прижмет, придавит — приотдаст… Зачем он здесь — в палатке, смердящей портянками и потом, а не в родном дому, с Ульяной, с детьми?! Или же один — в теплой охотничьей избушке, ласково обустроенной собственными руками? Отчего его, охотника и крестьянина, лишили родного дома, семьи, и держат тут под стражей, как бродягу какого или шпану? У кого и что он украл? Кому сделал зло? Как это так вся его жизнь перевернулась вверх дном — и совершенно против его, Туланова, воли? Что ж этак подсекло под корень? Зильган Петыр Вась — Василь Петрович? Который вдруг заполучил в деревне власть и силу? И как это он ее заполучил? По какому такому праву? И что ж это за порядки такие, что теперь на деревенском сходе не можно сказать, чего ты думаешь об устройстве жизни? Зачем тогда и сход собирать, делать вид, будто с народом советуешься? И опять поплыли перед бессонными глазами Федора Туланова прожитые годы, пережитые радости, и счастье, и невзгоды, — всего, всего довелось хлебнуть досыта, пока не уперлась его жизненная дорога в Кемский пересыльный лагерь. А потом — сюда, в родную тайгу, но под чужой надзор…
В тысяча девятьсот шестнадцатом, за год до революции, Федору Туланову предоставили короткий отпуск домой. Уже после Покрова. Только перешли на зимнюю форму одежды. Раньше, если бы даже и отпустили, все равно не смог бы он тронуться в путь: как пробиться домой, в верховья Ижмы, без установившейся зимней дороги?.. А срок ему дали невелик — к Михайлову дню быть обратно на корабле. Домой…
Более трех лет к тому времени Федор Туланов служил на флоте. И воевал. Досталось ему проклятой войны, пришлось и вправду пройти огонь, и воду, и медные трубы… Жив остался, слава богу. Теперь вот пробирается на побывку. Уж как соскучился Федор по родным местам — и сказать нельзя! Три года не слышал ни единого коми слова. Да неужели скоро обнимет отца с матушкой, брата, сестричку?.. Даже не верилось. А уж как соскучал по лесу, по речкам, по охотничьим своим тропам… ой, не передать никакими словами!
Дорога была дальняя, верховья Ижмы от Петрограда — не ближний свет. И всего в той дороге досталось Федору. Одет он был во все флотское, добротное — и клеш тонкого сукна, и теплое зимнее белье, и утепленный бушлат, — все так. Но морозец не по-родственному пробивался сквозь зимнюю флотскую одежку, не раз выгонял Федора из саней и заставлял бежать — для сугреву… Не раз приходилось совмещать и обед с ужином. Да и ямщиков ждать попутных — не барин ведь, не офицер. А он улыбался счастливо: как бы там ни было, он все ближе и ближе придвигался к дому. Вскоре и родная речь зазвучала вокруг, люди ему добра желали — матросу из Кронштадта, едущему домой на побывку, и старались это добро сделать: кто заведет к себе домой горячего супа похлебать, кто овчинный тулуп для служивого в сани положит… Из Вичкодора до Кыръядина как раз и пришлось ехать, завернувшись в овчинный тулуп доброхотов; Федор остыть не успел, как волок проскочили. Сам ямщик сидел в первых санях и гнал без остановки рысью, рысью, а вторая лошадь, в санях которой был Федор, — бежала за первой сама, приучена, даже вожжами не пришлось ни разу встряхнуть. Так-то. В Кыръядине подвезли Федора прямо к дому бабушки, и уже оттуда, высадив его, поехал ямщик на почтовую станцию, повез свой главный груз. Первой Федора заметила двоюродная сестричка Анна. Федор ее не сразу узнал — стоит на крыльце девушка в стареньких валенках, рабочем зипуне, и из-под клетчатого платка широко распахнутыми глазами глядит на него, глядит. Потом хлопнула себя по бокам руками, скользнула в сени.
— Мама! Бабушка! Скорее же… вона тети Марьи Федя приехал, ей-богу — он! — во весь голос прокричала Анна и обратно на крыльцо выскочила, с грохотом спустилась по лесенке, с распростертыми руками побежала, побежала навстречу Федору.
Острое чувство родства теплой волной обдало душу.
Вот оно, счастье близкого, кровного, — счастье, которое не заменишь ничем. Родные, родные мои… Случись встреча с Анной где в стороне, Федор нипочем бы не узнал двоюродную сестру: когда он уходил на флот, была Анна небольшенькой такой девчушкой. А сейчас бежит ему навстречу красивая девушка, невеста да и только! Федор поставил чемодан и прижал Анну к груди. Здравствуй, здравствуй, Анюта. А на крыльцо, всполошенные зовом Анны, уже выскочили тетя Настя и бабушка. Настя, завидев Федю, вдруг заголосила, протянула руки навстречу, запричитала:
— Дорого-ой да и наш Фе-едюшка-а… Живо-ой… здоровый… Сла-ава богу, слава богу… из огня да из воды… А Гриша-то мой, Гри-иша… Не увидит больше дома родного, мати свою, горем убитую…
Тетя Настя, обняв Федора, горько рыдала, содрогаясь всем телом. Чуть успокоившись, взяла его за руку, повела в дом.
— Пойдем, Федюшка, пойдем. Гришеньку нашего убили, убили ведь на войне… Пойдем, бабушка ждет…
Бабушка стояла сгорбившаяся, маленькая, кончиком платка вытирала глаза. Федор подошел, она обхватила его сухонькими руками, прижалась головой к груди.
— Слава тебе, господи, слава тебе, — шептала бабушка, закрыв глаза, — От воды, от огня, от смерти уберег Федюшку, слава тебе, господи. Своими ногами пришел, своими руками обнял старую… — запрокинула голову, рассмотрела: — Вылитый дед стал.
Поглядеть на служивого, приехавшего с войны, шли и шли кыръядинцы. Главным образом пожилые, чьи сыновья еще не вернулись с фронта. Зайдут, чинно поздороваются с матросом, сидящим в красном углу. Посидят, послушают, обнадежатся: может, и наш, вот так, скоро вернется, живой-здоровый… А вечером собралась молодежь, на посиделки. Полная изба набилась. Девчата кто с пряслицем, кто с вязаньем либо шитьем. Зайдут, почтительно раскланяются с хозяевами, с гостем, завернут зипун или шубу в плотный кукель да и плюхнут в угол, в общую кучу, затем поправят вечерний наряд, сарафан или юбку с кофточкой, спустят с головы на плечи красивую цветастую шаль и устраиваются поудобнее, на весь вечер. Многие пришли со своими маленькими скамеечками. Только присядут — а в легко откинутых руках уже вспорхнули веретена. Не умеют сельские руки быть праздными!
Сегодня свой взгляд девчата устремили на Федю из Изъядора, такой уж редкий гость, да еще ладный, да сильный, да красивый в матросской одеже, хоть глаз вовсе не отводи… Ради дорогого гостя зажгли сегодня семилинейную лампу. Кое-кто из парней тоже старался сесть поближе к столу, к Федору, его рассказам, но и таких было много, которые предпочитали уголки потемнее — там втискивались между девчатами, чтоб пощипать втихую ту, кто сердцу милее…
Разговор, конечно, вертелся вокруг войны. Горько считали убитых земляков. Боже праведный, если с одной только деревни уже девятеро убито, сколько ж тогда по вольному свету людей извели?.. Да и зачем же людям убивать друг дружку, чего заради? Ефрем Трифонович с одной ногой вернулся, скачет на деревяшке. А какой был охотник, смелый да быстрый…
— Ну, на земле дерутся, это понятно. Хочешь верх взять — стой крепче на ногах. А как же на море? На кораблях? Сказывают, море так бушует… волны выше наших домов — там-то как устоять? — спросил молодой парень.
— Так ведь не на корабле же дерутся, — встрял другой, — а корабль на корабль. Один палит по другому, пока не утопит. Так ведь, Федя?
— Да, в этом роде… — Федор представил последний бой. Странно было и вспоминать здесь, среди своих, на посиделках, тот страшный сон, который видел он наяву…
Стреляли, не видя друг друга. Два крейсера, «Богатырь» и «Диана», посланы были отогнать немецкие корабли от наших берегов. Вышли и больше суток бороздили море. Но вскоре пал такой туман — на палубе соседняя пушка еле просматривалась. Говорили, немец шастает где-то близко. Комендоры не отходили от орудий, готовые по первому слову команды открыть огонь. А куда станешь стрелять — в таком молоке? Шли без огней, без сигналов. И на короткий свисток-предупреждение об изменении хода вдруг рявкнули немецкие пушки, — оказывается, их корабли таились неподалеку. Разрывы снарядов заполыхали спереди, с бортов, подымая тяжелые столбы воды. Снаряды выли над головой, — у-у-ишш-ии! — звук этот душу выворачивал наизнанку, руки сами подымались, чтобы защитить голову. Но прозвучала команда, и наши крейсера открыли ответный огонь. Слепая дуэль тяжелых орудий — кому выпадет удача попасть в противника… Кромешный непонятный ад. Один снаряд разорвался неподалеку от орудия, в расчете которого был Федор.
Наводчика уложило наповал. А Федора словно колотушкой долбануло в левое плечо, и он тут же сел на снарядный ящик. Но по боевому расписанию, если наводчик убит или тяжело ранен, то Федор должен был его заменить. И он встал и наводил по команде, и орудие стреляло, пока корабль не вышел из боя. Скоро на той, немецкой стороне загорелось что-то, зарево пожара пробилось через туман. Били по всполохам. Затем отошли. А у Федора голова закружилась, и он потерял сознание. Очнулся он в лазарете. Осколок немецкого снаряда ударил в левое плечо, хорошо еще, кость не задел. Вытащили осколок и за месяц с лишним подлечили в госпитале. Да на побывку вот отпустили. По возвращении еще и Георгиевский крест посулили… Обо всем этом рассказал Федор, как умел. — Как же теперь… болит плечо-то? — спросила девушка, сидевшая рядом с Анной, спросила и покраснела до кончиков ушей. Но взгляд не увела, смотрела на Федора с болью, с участием, ждала ответа.
Федор давно выделил ее среди остальных: красивая, статная, и, чувствуется, по-деревенски ухватистая — она постоянно шепталась с сестрой Анной, вдвоем же они весело прыскали…Подружка Анны озорно посматривала на Федора,….но когда их взгляды встречались, быстро прятала глаза за длинными ресницами. Фёдору казалось, где то, когда-то видел он это лицо. Видел, а вспомнить не может. В Петрограде, что ли, на картинке — такую красивую… Было и неловко глаза таращить на совсем еще молодую девчонку, но Федора неудержимо тянуло смотреть только в ее сторону. Хорошо хоть, что Анна сидела рядом с нею, так что взгляды вроде как-то оправдывались…
— Нет, ничего, уже почти не болит. Только след остался шов от операции.
И улыбнулся ей. Потом девушки затянули песни, сначала коми, свои, потом пели русские, с переиначенными словами, иногда и понять было невозможно, что именно пели, но пели от души, красиво, на разные голоса. Парни выходили на крыльцо — покурить. Возвращались, от них табачищем несло — девки руками отмахивались, как от нечистой силы… Расходились поздно. С Федей прощались особо, желали ему полностью выздороветь и уцелеть на войне. Благодарили бабушку и тетю Настю за хороший вечер, за приют. Анна накинула платок и вышла проводить подруг. И Федор вышел на крыльцо, подышать свежим воздухом.
На крыльце застал Анну с той самой подружкой, остальные уже разошлись.
— Федя, а ты меня не признал? — озорно спросила девушка.
— Нет, не признал, — честно сознался Федор. — Лицо знакомое, ну очень знакомое, а вспомнить никак не могу. Видно, выросла, повзрослела…
— А я тебя, Федя, еще с той Троицы помню, когда ты на скалке всех наших парней перетянул. Ты еще грозился увезти меня в верховья Ижмы, к своей сестре, за то, что перечила я тебе, — сказала девушка.
— У! — сразу вспомнил Федор. — Так это ты? Та самая, бранчливая… Ульяна, кажется, aгa?
— Она! И теперь еще — Ульяна! — весело рассмеялась девчушка и бегом спустилась с крыльца. Обернулась к Анне: — Аня, завтра мы на посиделки к Евгении Тимофеевне попросимся. Сложимся — пустит. Пойдем ведь?
— Пойдем, Уля, обязательно пойдем. Может, и Федя еще на денек останется? Погуляет с нами?
— Во-во, пусть останется, успеет еще домой. Может… мы ему невесту из Кыръядина подберем, такую, что не пожалеет, — снова весело рассмеялась Ульяна и махнула рукой.
И Федору — вдруг — очень, очень захотелось остаться. Уж как соскучал по дому, по родным, — а тут понял, что непременно останется здесь еще на день, чтобы следующим вечером, на посиделках, побыть рядом с этой насмешливой Ульяной…
Накануне днем обговорили, что домой отвезет Федора его двоюродный брат, четырнадцатилетний Петя. Хотели выехать рано утром назавтра. Так что сейчас бы самая пора спать, дабы в дороге не клевать носом. Федор поднялся на полати, неторопливо снял тельняшку, напряг и распрямил плечи, поиграл мускулами — тело соскучилось по домашней работе. Надо было предупредить бабушку и тетю Настю, да и Петю тоже:
— Тетя Насть, бабушка, слышьте… Если я еще на завтра останусь, а? Ничего? А послезавтра пораньше и выедем…
— А-а, понравились наши девчата! — сразу разгадала тетя Настя. — Так-то вот… красиво наши девушки поют, заслушаешься…
— Оставайся, дитятко, поживи, — откликнулась и бабушка. — Нам-то лишний день радости, оставайся, Федюшко.
Вздохнула старая.
— Гришатку-то мы теперь никогда не увидим…
Тетя Настя всхлипнула, но переборола себя и обратилась к Петру:
— Ты, Петя, тогда съезди завтра за дровами, сынок.
— Да мы вдвоем и съездим, — обрадовался Федор. — Быстрее управимся, — и толкнул братана в бок. На одних полатях спали.
— Ты бы отдохнул, Федя, — попросила бабушка. — Вон уж сколько тебе досталось… А Петя наш и сам справится, эвон какой вырос, полный мужик…
— Ничего, помогу. Работа по дому — она сама по себе отдых. Дрова в сани грузить — это не пудовые снаряды таскать да в ствол пушки запихивать… Живой остался, так теперь я воз дров хоть на себе приволоку!
— Ну сходи либо, дитятко, коли соскучал по крестьянской работе, — улыбнулась бабушка, по голосу слышно было — улыбнулась. — Только оденься теплее.
И Федор уснул со счастливой улыбкой. Конечно, до родного дома еще ехать и ехать, но и бабушкин дом — родной, все тут такое понятное, свое, близкое… До чего же хорошо здесь!
Назавтра Федора одевали бабушка и тетя Настя, выбирали из рабочей одежи, что получше, потеплее, что подойдёт. Зипун подошел дедов, а валенки и беличья шапка с длинными ушами достались дяди Дмитрия… Пётр ждал на улице, готовый ехать. Федор сначала, обошел вокруг запряженной лошади: потрогал ручку топора, воткнутого между прутьями мата, настланного в санях, деревянную лопату — снег разгребать, покачал дугу, попробовал гужи.
Пётр обиделся:
— Проверяешь? Думаешь, не… Но Федор разгадал обиду братана:
— Нет, нет, Петро. Я же вижу, какой ты крепкий, вижу — наверняка затянешь супонь, как полагается. Просто сам я давненько лошадь не запрягал… — говорил и тайком высматривал, не покажется ли из соседнего дома Ульяна. Нет, не показалась. — Знаешь, Петро, после пушек, снарядов, после железа всякого так мне хочется ко всему деревенскому прикоснуться… Давай, поехали. Ты садись в сани, а я по деревне пешком пройдусь. Только не гони сильно.
Но и по деревне Уля не встретилась. И с чего бы это так застряла в голове эта девушка…
За дровами до темноты они успели дважды съездить. Лопата для снега и не понадобилась — снег еще не глубокий, не намело. А погрузить дрова, да выгрузить, да сложить в поленницу позади пристройки для Феди была одна радость — как игра. Не чуял он никакой усталости, мог бы даже сам взяться и вместе с лошадью тянуть воз: хотела душа настоящей хозяйской усталости, хотела. Еще до ужина Анна сообщила брату, где вечером молодежь соберется на посиделки. Сказала: в складчину собрали шаньги, пироги, керосин для ламп, а Костя Савин зайца приволок, на жаркое. У Анны щеки пылали кумачом, радостью горели глаза. Так ей хотелось скорее попасть на вечеринку.
— Сходим, Федя, повеселимся. Ты рядом со мной садись, ладно? Ну, если, конечно, не потянет тебя куда в сторону… — Анна хитренько усмехнулась, пристально глядя в глаза брату.
— Если не потянет, обязательно рядом с тобой сяду, — улыбнулся тот, стараясь отшутиться и не показать, что же зародилось у него на сердце.
Когда пришли на посиделки, народу набилось уже — полная изба. Высоко на божнице дымилась коптилка. Девчата расселись вдоль стены, вспархивали в воздухе их веретена. Кое-где между ними сидели и парни, но большинство сгрудилось у задней стены, силами мерялись: кто на скалках, а кто и перетягиваясь согнутыми пальцами.
Ульяна была уже здесь и позвала их:
— Анна, сюда, мы с Костей для вас места держим. Как хотелось Федору примоститься рядом с Ульяной, но он заколебался, слишком уж мало места оставалось.
— Да тут… как же… я как медведь протиснусь, да вот вас потесню…
Ульяна посмотрела на него мельком, стыдливо прибрала глаза, пригласила тихо:
— Садись, Федя… ничего, не потеснишь… Я вот с вязаньем, рукавицы вяжу…
Федор устроился рядом с Ульяной, и от прикосновения к девушке сердце его так заколотилось в груди, наверное, на улице слышно стало. И в голову шибануло, словно после стакана доброй браги. Федор сидел и боялся шевельнуться, сам себе казался чем-то вроде мерзлого пня. Мерзлый-то мерзлый, а в пот бросило. Ульяна тихонько шевелила спицами, но телом тоже замерла, замерла, замерла…
Сказала наконец:
— Что, Федя, не хочешь с нашими парнями силой помериться, как тогда, в Троицу, помнишь? — И спохватилась испуганно:-Ой, да я забыла совсем, у тебя, поди, плечо до сих пор болит?
— Сейчас уж не так болит, ничего, терпимо, — тихо, только ей, Ульяне, ответил Федор. — Но пускай ребята между собой потягаются. Тогда, в Троицу, я еще мальчишкой был, лестно мне казалось больших перетянуть. А теперь уж и нехорошо вроде, aгa? Всех перетяну, скажут, вот, для того и остался лишний день, чтобы похвастаться, повыставляться…
— А ты не для того остался? — лукаво спросила, не удержалась Ульяна.
— А я не для того остался, — серьезно подтвердил Федор.
Помолчали. Ульяна снова взгляд свой за длинными ресницами спрятала, замечательные у нее ресницы, необыкновенные какие…
Скоро пришел парень с гармонью. Встретили его радостным криком, с двух сторон взяли под руки, усадили в красном углу на специальное место, которое для гармониста хранили свободным. Одна девчонка поднялась на приступочку и спросила у лежащей на печи хозяйки:
— Евгенья Тимофеевна, ужас как поплясать хочется, а? Можно, мы немножко попляшем?
— Да пляшите, дело-то молодое. Только не сильно топайте, печь старая, развалите, чего доброго…
Быстро разобрались на пары — танцевать кадриль. Анну пригласил парень, что сидел рядом с ней, с другой стороны от Федора. Это и был тот самый Костя, который зайца пожертвовал честной компании. Федор плясать кадриль не умел, да и совестился, взрослый мужик, на войне раненный, топтаться молодяжкам на смех…
Ульяну пригласил кто-то другой. Она встала, хотела вязанье свое оставить на лавке, заколебалась, затем быстро, не глядя на Федора, положила ему на колени:
— Подержи, Федя, пожалуйста… Пока кадриль… Федор сжал пальцами шерстяной клубок, смотрел на танцующих, чувствуя, как греет ему ладони вязанье Ули. Как хорошо, что отдала она ему на хранение свою работу, рукоделье свое. Она как бы и не сказала ничего такого, а вот отдала вязанье, будто предупредила: сейчас вернусь и снова рядом с тобою сяду, Федя… Неужели и она что-то такое чувствует, ну, что и он к ней?
Плясали от души, важно шаркая по полу валенками, покачиваясь красиво и плавно. Но без притопов.
Как просила хозяйка. Один парень все ж не вытерпел и лихо топнул. Вернее сказать, не он топнул, а сама нога его выстрелила сверху вниз, ударила в пол — ну требует же душа! Но парня тут же дружно одернули: против воли хозяйки, которая милостиво предоставила помещенье для вечеринки, — ни-ни, не топать.
После кадрили все танцоры выскочили на улицу проветриться и занесли с собой в избу свежий воздух. Даже в слабом свете коптилки видно было, как приятно возбуждены Анна и Уля.
— Почему ж ты, Федя, не пригласил Ульяну на кадриль? — спросила Анна.
— Да вот… слабоват я в кадрили, Аня, у нас в Изъядоре кадриль не пляшут.
Ульяна снова занялась вязанием, сказала:
— А мы научим, только пожелай, враз научим.
И тихонько засмеялась чему-то. Федор посмотрел в сторону, а Ульяна перегнулась к Анне и прошептала, Федор слышал каждое слово:
— Ань, когда плясали, Никита говорит: я к тебе сватов пришлю!
— Ну-у… вот смеху-то… Никита в женихи просится. А ты?
— Я говорю: давай, Никитушка, присылай, присылай, милый, у меня коромысло такое ладное — я твоих сватов коромыслом встречу…
Обе весело захохотали, а Федору стало не по себе: он и понимал, что этот их шепот предназначался, конечно, ему в первую очередь, ну, девичьи хитрости, пусть, мол, заревнует… Понимал, да, но все равно загрустил. А что, как и вправду — явится какой-нибудь Никита, не этот, так другой, и уведет Улю под венец?.. У Федора дыхание пресеклось от такой думки. А что, вполне может быть такое. Ему же еще на войну возвращаться. А когда она кончится? И повезет ли еще, если вот так саданет осколком? Чуть повыше — и снесет башку к черту.
— Я тоже пойду проветрюсь, — сказал Федор. — Здесь уж как в бане, впору париться.
На крыльце он вдохнул полной грудью свежего воздуха. Ну, пора, видно, уходить отсюда. Что он может пообещать Ульяне? Что живой с войны вернется? С руками-ногами? Да кто ж такое посулить может, в пекло идучи… Нечего и обманывать девушку…
Он спустился с крыльца.
— Эй, ты, ижемский! — По лесенке вслед за ним сбежали два парня. Первого Федор сразу узнал, он с Улей кадриль выплясывал. Он и окликал Федора. Второй был пошире в плечах и пока помалкивал.
— Слышь, парень, у тебя германцы чего, весь ум-разум вытряхнули? или осталось маленько? Память-то не отшибло? Помнишь ли, что дом твой не тут, а в Изъядоре? Здесь-то ты чего потерял, Федя-съешь-медведя?..
Манера молодого парня так говорить с незнакомым удивила Федора. Задираться — ну, это понятно, если парнишка имеет виды на Ульяну. Но лаяться-то зачем? на приезжего?
Федор остановился и подождал, пока парни подойдут поближе.
Они и подошли.
— Ты давай-ка, домой правься, пока жив-здоров, — продолжал тот же парень. Никита, что ли, вспомнил Федор. — Будешь тереться у чужого загона, можем и голову прищемить промеж жердями… а с носу брусничную водичку пустить, не поглядим на твои матросские клеши…
— Как будто и не праздник сегодня, а ты словно выпивши, — откликнулся Федор спокойно. — Некрасиво, Никита, нехорошо. А уж где мне тереться, я сам решу, тут мне указчики не нужны, будь уверен.
— Cepeгa, — парень-задира повернулся к напарнику. — Да этот ижемский не понимает эжвинского. Скажи? Придётся растолковать.
И, поворачиваясь, чванливый Никита широко замахнулся кулаком Федору прямо в лицо. Но тот был уже готов ко всему, отпрянул, перехватил руку парня за запястье и резко завернул ему за спину. Бедняга вскрикнул, согнулся после такого приема, Володя Борщевский учил: дать резко в бок, по печени, чтоб уткнулся носом в землю. Ну, это если в настоящей драке, с чужими. А тут Федор парня бить не стал, только с силой толканул его в снег, следя за вторым. Тот молча бросился на Федора. Но попался на подножку, Федор перехватил его за руку, дернул, а потом еще кулаком по горбу добавил — так что парень метра три вперед пролетел и тоже в снег рухнул.
Выходит, уроки Борщевского и дома сгодились, грустно подумалось Федору. Володя Борщевский давно твердил: одной силы мало, человек должен уметь защищаться, если нападут, и не только сдачи дать, но и отбить охоту нападать на тебя… Он и учил Федора, приговаривая: если, Федя, к твоей силе да еще уменья и ловкости — тебе сам черт не страшен. Кое-чему Борщевский успел его научить.
На корабле, когда матросы шли в увольнение, Федора охотно брали с собой. По городу ходили небольшими группами, дело молодое, всякое случалось, но матросы никого не боялись. Даже если двое их против десяти городских — не устрашатся, не побегут. Ремень с бляхой на кулак намотают, и поди, возьми их голыми руками. А что эти парни с верховьев Эжвы могут знать про настоящих матросов? И слыхом не слыхивали… Никита держался за правое плечо и постанывал. Его напарник успел подняться, старательно отряхнулся от прилипшего снега и подошел к товарищу:
— Ну, что?
— Видно, руку сломал, антихрист… Шевельнуть не могу, — сквозь зубы признался тот.
Федор усмехнулся:
— Ничего, пока не сломал, не боись. Бабушка потрет и выправит, до свадьбы обязательно заживет. Если, конечно, еще раз не нарвешься на умелого и не захочешь чью-нибудь голову прищемить… На крыльце появились Анна с Ульяной. При девчатах парень стонать перестал. А те сразу поняли, что тут происходит:
— Эй, бесстыжие! Не вдвоем ли на одного? Только посмейте!
— Да что вы, девочки, — сказал Федор совершенно серьезно. — Ребята просто интересуются, какие из себя германцы да как их кайзер одевает, ну и все такое…
Парни ушли.
— Я за прялкой сбегаю, — заспешила Анна.
— Вязанье мое прихвати, — попросила Ульяна.
Они стояли вдвоем, рядышком, и молчали. Уля склонила голову и носочком валенка колупала снег. А Федор смотрел и ждал, когда она поднимет голову да взглянет на него. Он понял уже, понял, что не будет теперь ему покоя, нет, не будет. Вот эта Ульяна и не даст ни днем, ни ночью. Ульяна — а не Саня из Переволока, которая так нравилась ему до службы на флоте.
Саня из Переволока… Встречались они редко, но Саня всегда была ему рада. И родители радовались, уже за родственника считали, только и оставалось подождать, когда невеста подрастет да и отпируют свадьбу. До службы со свадьбой не успели, но восемнадцатилетняя Саня провожала Федора уже на правах невесты. Они ни разу не поцеловались даже, не прижались друг к другу — так уж вышло. Федор Сане и подарок купил, когда ходили в Финляндию, — опять же Володя Борщевский надоумил.
Купил красивую черную шаль с широкими красными цветами и длинной бахромой… Думал, на побывке устроить помолвку и подарить Сане. А может, и свадьбу сыграть, если все хорошо получится. Если, конечно, родители против не будут. Отец-то сейчас как раз в лесу на охоте. Но и то сказать, ведь он, Федор, снова уедет на корабль, и как дальше сложится — бог весть…
Так он думал до вчерашнего дня. А как увидел Ульяну — так и отступила Саня куда-то далеко-далеко, отсюдова и не видать. Выходит, не в самом сердце она была, Саня-Санюшка, а где-то около… Что ж теперь делать? Да и Ульяна…
— Уля, сколько тебе лет? — вдруг громко спросил Федор, она даже вздрогнула от неожиданности.
— Мне? В Рождество уже семнадцать исполнится. «Вот, — подумал про себя Федор, — ей еще и семнадцати нету, а я тут думаю всякое… Мне обратно на войну ехать, а когда вернусь? Через год? через два? Да за это время Уля такою красавицей станет… отбою от женихов не будет».
— А что ты меня про годы спросил? — Головы Ульяна не подняла, понимала, конечно, о чем Федор думал.
— Так…
— Нет, не так ты спросил. Ты скажи, Федя.
— Скажу, Уля, Когда обратно поеду, с побывки, непременно скажу. Если, конечно, ты не забудешь и снова попросишь.
— Не забуду. Буду ждать и опять спрошу, — чуть слышно сказала Ульяна.
Назавтра утром Петр и Федор выехали раненько в легких пошевнях. Сена и овса взяли вдосталь, так что до верхнего Эжвинского волока пришлось им сидеть наверху, свесив ноги по бокам возка. На первой остановке покормили лошадь и ноги подняли в сани, а после отдыха в следующей деревне они поехали уже по-барски, упираясь спинами в задник саней. Федора не оставляли мысли об Ульяне. Только о ней и думалось. Мерзлая земля успела прикрыться снежным пуховичком толщиной в пять вершков. Лошадь рысила резво, санки словно сами гнались за лошадью. Лишь на подъезде к Переволоку мысли Федора приняли другое направление. Предстояла встреча с Саней, Александрой. Она считалась его невестой. Что-то надо было и ей сказать, чтобы и по правде, и чтоб не обидеть. Она-то ни в чем не повинна.
А как сказать — и правду, и не обидно? Как это можно не обидеть невесту?.. Аж нехорошо стало Федору от предстоящего объяснения. Он прикрыл глаза и крепко сжал веки. Нет, врать он не станет — скажет все как есть, пусть не ждет его больше. Сложится у него с Ульяной, или не сложится — бог весть, война идет… Сегодня, может, еще и живой, а завтра — прости-прощай… Так что хитрить не с руки. Так и скажет Сане: обнадеживать я не стану. Да и другое я понял, Саня, — мила ты мне, мила, а любви нету. И, значит, за себя поручиться я не могу. Вдруг да выпадет мне судьба навроде той же Ульяны? Понесет меня тогда… как лист осенний, и только горя тебе принесу, слез ненужных.
Ладно, открыл глаза Федор. Встретимся и поговорим по-хорошему, с глазу на глаз. Может, не столь она по мне убивается, девка в самой поре, может, и она ожиданием томится. Да и то сказать: сколько ж можно? Война не война, а существо себя сказывает, душа требует… Да. И Федор плотнее завернулся в овчинный тулуп.
— Я, Петя, подремлю маленько.
— А поспи, поспи, эва в какую рань вскочили, — совсем по-взрослому ответствовал Петя и стеганул вожжами по бокам лошади. Та фыркнула и прибавила ходу. В Переволок припозднились, но жители еще не спали, еле заметным светом брезжили окна обеих изб. Федор попросил остановить подле избы Василь Дмитрича.
— Пусть-ка Воронко поотдохнет, — сказал он, — верст восемьдесят отмахали и еще тридцать до дому скрипеть. Бери, Петя, малицу, тем временем и сами покемарим.
Зашли в дом.
— Доброго вам здоровья, люди добрые, — поздоровался Федор, бросил тулуп в задний угол, снял шапку с длинными ушами и шагнул вперед.
Василий Дмитрич сидел у стола и подшивал валенки. На звук открывшейся двери повернул он лохматую голову — волосы на голове и борода, давно не стриженные, срослись вместе, и торчал из волос только толстый нос Дмитрича, да еще глаза блестели из волосяной копны, леший да и только. Так, повернувшись, и ждал Дмитрич, пока гости не выйдут под свет лучины.
— Проходите, погрейтесь, — неуверенно отозвался хозяин на приветствие, не успев еще толком разглядеть, кто же приехал.
Затем поднялся с низенькой скамейки, отбросил валенки на лавку — разглядел-таки!
— Но-о… едрена корень! Да ведь Федор прибыл! Живой! И руки-ноги целы… все при всем…
Дмитрич подошел к Федору, обхлопал его по плечам, по бокам, словно проверял знакомца на целостность.
— Аксинья! да посмотри, кто едет!
— Да уж слышу, слышу, — тихо отозвалась с полатей Аксинья. — Слышу, а встать не могу… Ох, подойди, Федюшко, поближе…
Федор подошел. На подушке серело лицо тетки Аксиньи с черными глазницами. Она протянула руку и провела по голове Федора, погладила шершавой ладонью лицо его.
— Слава богу, как и раньше, красивый да сильный… Вот и у тебя усы тоже…
Федор рассмеялся:
— Да ведь двадцать пять мне, давно с усами.
— Так, так, да. Вот и Лизе нашей уже девятнадцать… Бежит времечко, ой, бежит. А мне в поясницу стрельнуло, две недели валяюсь, подняться не могу. Такое мученье. Старость ухватилась, нипочто не отпускает…
— Не ной, Аксинья! — весело приказал Дмитрич. — Раздевайся, Федя свет Михалыч, гостюй. А извозчик кто, не признаю что-то?
— Братан мой, Петр, дяди Дмитрия сын, — снимая бушлат, объяснил Федор.
— И ты раздевайся, Петр, да проходи вперед, — пригласил Василий и пошел к печке. Там зажег керосиновую лампу со стеклом и поднял на божницу:
— Во-от, осветим-ка наше жило… Такой гость приехал, грех в потемнях сидеть…
Открылась дверь, и вошла молодая женщина с подойником в руке. У Федора защемило сердце: никак, Саня. В черном платке, опущенном до бровей и туго завязанном на шее, в коротеньком старом зипуне поверх сарафана из домотканого холста — сразу и не признать, кто вошел. Она остановилась у порога, пытаясь разглядеть приезжих. И вдруг хлопнула свободной рукой об бок, вспыхнула улыбкой:
— Ба-атюшки! Кто приехал! Федя!
И только тогда узнал Федор Санину младшую сестру — Лизу.
— Ну-ка, Лизуха, бросай свои дела да собери гостям на стол, — распорядился Василь Дмитрич.
— Сейчас, батя, погодите чуток, только рабочее с себя скину, — заторопилась Лиза.
Выбежала в сени, зашла, слышно, в другую половину. Обратно явилась в рубахе со сборчатыми рукавами и вышитыми узорами на плечах, поверх сарафана красивый передник из китайки, даже успела перетянуть талию разноцветным витым пояском с кистями… Уже на бегу накинула на голову белый кашемировый платок с цветами и концы подвязала под подбородком. Глаза горят, щеки, лицо пылает, брови черные — расцвела девушка навстречу гостям, такой прекрасной стала, не узнать. Что-то с грохотом вытаскивала из печи, звякала в залавке и носила на стол — все делала быстро, ловко, легко и радостно.
— Пива у нас от Покрова… не осталось ли? — спросил Василь Дмитрич.
— Да вроде было, — ответила ему жена. — Выходит, аккурат для Феди и оставили…
— Поднимись-ка с ендовой, Лизушка, да отцеди нам чуток, — повелел Дмитрич.
Лиза мигом вернулась с полной ендовой. На столе утвердился уже и рыбник, и творог со сметаной, и — Федору не терпелось попробовать! — горячая пареная репа, и кислая перловая похлебка в широкой деревянной миске — до краев… На нее-то и набросился оголодавший Федор, пока на флоте служил, и вкус позабыл! Ах, а ты как вкусна, желтая пареная репа, проще которой нету ничего на свете… Не отказался Федор и от стакана солодового пива домашней выделки, забыл, когда и пил последний раз. Пиво живенько пробежало по жилам, согрело тело и добралось до головы. Петр поднес к губам стакан, принятый из рук хозяина, но пить не стал, вернул нетронутым. Тот силком потчевать не стал — не того обычая люди. Сам хозяин с чувством выпил и второй стакашек, а когда пиво овладело языком и телом — разговорился Василь Дмитрич. Но тема главного его разговора была неожиданной. Федор все ждал: вот-вот откроется дверь и войдет Саня, перед которой так долго готовился он оправдываться. И вдруг хозяин сказал, прямо, без обиняков:
— Ты, Федор Михайлович, не осуди нас и не обидься. Просим тебя от всей души. Да. Невеста твоя не дождалась тебя. Такое дело. Не смогли мы с матерью ее удержать, уберечь, сороку этакую. Уже год, как замуж выскочила, да не близкий свет — как уплыла, так и не виделись еще ни разу. Не знаем даже, как и живут молодые…
Отозвалась со своего ложа и мать Сани:
— Да живут-то, сказывают, неплохо, не горюют вроде… Да вот перед Федей-то стыдно… Гложет нас с отцом совесть. Ты уж прости нас, Федюшко… Прости, ради Христа…
Федор сначала онемел от такого поворота судьбы. Ежели начистоту сказать, то хотелось ему встать в полный рост за столом да и грянуть «ур-ра!» — камень с плеч свалился. Теперь никому в этом доме и про Ульяну сказывать нету никакой жизненной необходимости. Но, с другой стороны, весь разговор, и само застолье, и вид огорченного отца нареченной невесты — все располагало к неспешному ответу, где нужно было и людей не обидеть, и самому в грязь лицом не ударить, и рассудительно оправдать Саню — дай бог ей здоровьичка за праведное ее нетерпение…
— Вот оно как, — после некоторого молчания сказал Федор. — Да ведь и то сказать: Саня права. Как ни поверни — права она. И я эту ее правоту вполне даже признаю, Василь Дмитриевич. Ведь нынче как? Я — на войне. Вернусь ли, живой ли останусь, покалеченный — никому не известно. И когда вернусь — тоже неведомо, пока я служу — человек я подневольный, собою распорядиться не могу. Правильно Саня рассудила, она тут крутом права, да. И никакой на нее обиды у меня нету, Дмитрич. Тем более — на тебя или на тетку Аксинью. Это я вам от всего сердца говорю…
Василь Дмитрич внимательно выслушал Федора, каждое слово его принимая — по лицу видно было — близко, очень близко к сердцу. Заметно повеселел:
— Да ежели не обижаешься, Федор Михалыч, — сто раз тебе спасибо! Как коми люди говорят, вот.
— Спасибо тебе, Федюшка, — прозвучало и от тетки Аксиньи.
— Давай, Федя, по случаю такого замирения дернем еще по стакашку, — разохотился Дмитрич, но тут же был ласково одернут Аксиньей:
— Что-то ты, отец, зачастил, а?
— Зачастишь тут, — сердито откликнулся Дмитрич. — Зачастишь тут с вами, бабами! Вогнали в краску перед человеком… Ладно, человек-то шибко хороший оказался, с понятием. Давай, Федя, хлопнем пивка, да и забудем слегка…
Хлопнули. Дмитрич уставился на младшую свою дочку, на Лизу. Словно только что заметил ее за столом.
— А девчонки… они сами растут, Федя. Ну прям как грибы! Ты глянь — во, сидит Лизуха наша. Работящая ну как мать. И славная какая деваха выросла, я и не заметил, когда она так успела. В силу в бабью войти. А? Да и красотой, ты глянь, Саньку обошла. А? Обошла, ей-ей — обошла!
— Батя, и не стыдно тебе! — покраснела Лиза.
— Цыц! Нет тебе слова! Одна уже высказалась… Да я тебя сегодня же соберу — скажи Федор лишь слово. Вот как нам, родителям, ваше самовольство давается…
И повернулся к Федору, полный решимости:
— А, Федор Михалыч? Скажешь слово — Лизка твоя. И вот те крест — не пожалеешь! Девка — огонь! А что ухватистая, так я тебе в том хоть бы и расписку дам, ежели пожелаешь. Гарантию!
— Почто ж меня вместо Сани? — не сдавалась Лиза. — Очень Феде нужно. Он теперь матрос. У него, поди, городских барышень… не перечесть сколько. — Из-под бровей Лиза робко смотрела на Федора, и он, пожалуй, и во взгляде ее, и в голосе все-таки уловил слабенькую надежду: а вдруг Федя скажет слово?
— Цыц, тебе сказано! — снова прикрикнул на дочь Дмитрич. — Пошто ему городская? Коми человеку, крестьянину да охотнику, не только любовь нужна да ласка. Это-то всякая баба умеет, да. Надоть, чтобы еще умела жалеть, по-нашему, по-деревенски. И помогать, тоже по-нашему. А лучше коми бабы где ты такую найдешь, Федя? И не найдешь больше нигде, это я тебе говорю, и ты мне верь, потому как я много годов прожил, много чего видел и об этом думу думал…
— Да уж, ты много чего видел, — поддела его Аксинья со своего ложа. — Весь мир пеши обошел, чего только не насмотрелся…
Дмитрич хотел было осерчать, подвигал, подвигал бровями своими кустистыми, но серчать раздумал и подмигнул Федору:
— Не, Федя, ты видишь, как жить приходится? Ну я же прямо как в окружение попал, ежели по-военному рассудить! В бабье!
И он широко, вкусно расхохотался, такой весь довольный и домом своим, и гостями, и застольем, и собою — это уж обязательно, как иначе. Что-то нужно было сказать Дмитричу на его восторги.
И Федор сказал:
— Спасибо тебе, Дмитрич, за добрые слова. И Лизе спасибо — за доброе ее сердце, за заботу, за этот стол. Я еще человек не своей воли.
Через неделю мне обратно ехать, опять на корабль, на войну. Как все повернется — один господь знает. Никого я не хочу связывать да заставлять ждать неизвестно чего. Лизе счастья желаю. Кого ее сердце выберет — пусть того и полюбит. Еще раз спасибо вам всем…
Петя все это время что-то жевал, посматривал то на Федю, то на Лизу (на Лизу чаще), то на Дмитрича. И помалкивал.
Ну, конечно, был разговор и про Кронштадт, и про корабли, и про особенности морской войны. Все как полагается, ничего не упустили. Улеглись Федор с Петром на полатях. В сон провалились — как в яму. Но, видать, спал Федор недолго. Его словно за плечо дернули — проснулся он вдруг, сразу, рывком, и приподнялся на локоть с одной только тревожной мыслью: да как же так, дом его, родной, с отцом-матерью — вот уже рукою подать, а он все еще в дороге прохлаждается, когда сроку его побывки остается… всего ничего. Растолкал сладко посапывающего Петра, и спустились они вниз. Хозяева тотчас проснулись, Дмитрич зажег лучину, встала и Лиза. Быстро крестьянин засыпает, весь день в трудах, в заботах, минуты не посидишь просто так, бездельно. Но и просыпается он легко, безобидно: то к скотине встать надо, то собака неурочно залает, то к ребенку заболевшему — да мало ли какая нужда заставит и по пяти раз за ночь вскочить. А тут гости. Гостей Дмитрич и Лиза проводили до саней, накинув овчинные тулупы на плечи. Как не проводить хороших людей, — да хоть бы и ночь-полночь — положение хозяев обязывает, да и честь человеку оказать надо. Честь, она и посередь ночи — честь. Небо вызвездилось. Федор из множества сверкающих над головой точек выделил Полярную звезду и прикинул: давненько она уже на утро повернула…
Ехали молча. Федор опять было начал задремывать. Но тут Петр, молчавший вчера весь вечер, вдруг высказал:
— Федя, слышь-ко… А мне почудилось, будто ты не шибко опечалился, как услыхал, что Саня твоя замуж выскочила. А?
До Федора, спросонья, не сразу дошли Петровы слова, а когда дошли, он озорно толкнул братана плечом, так, что тот едва не вывалился из пошевней в снег. Петр весело рассмеялся, да так заразительно, что и Федор не удержался, захохотал вслед за братом, и странно, наверное, было бы видеть и слышать все это человеку со стороны, если бы такой человек вдруг объявился здесь. Но не было никого на много-много верст вокруг, никого не было, ни души. И долго еще здесь никого не будет, только лес, только сосны и ели, да березы с печально провисшими ветками, да сторожкий зверь, который если и услышит человеческий звук, то ни сам не поймет ни словечка, ни другому не передаст.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Пока приближались к Изъядору — темень начала разжижаться. Чем ближе к дому, тем сильнее колотилось сердце Федора. Он пытался представить себе встречу с отцом-матерью, с сестрою, с братом… представлял и не мог окончательно представить.
Как только проехали косой забор, обозначавший границу Изъядора, Федор не смог усидеть в санях, скинул тулуп и соскочил на дорогу. Все существо его требовало движения, действия, душа истосковалась — ждать. Он бежал следом за санями, будто так было быстрее… С полверсты бежал. А когда низкие раскидистые сосны расступились совсем и открыли притаившиеся за ними избы — он ухватился за задок саней, вскочил на концы полозьев да так и проехал через всю деревню…
Из труб уже поднимались вверх, в светлеющее небо, столбы дыма. На улице еще ни души, никого. Только под окнами Емельяна Алексеевича запрягала лошадь какая-то женщина, повязанная черным платком по самые глаза. Она долго смотрела на незнакомые пошевни, пока они не остановились у дома Тулановых. Федор не узнал ту женщину, да и не до того ему было. Он достал из-под передка саней свой городской чемодан, поставил на снег и сам вдруг присел на санный передок: дыхание перехватило в груди и горло зажало — не сглотнуть! Приехал ведь… Домой ведь приехал! В верховья Ижмы-реки, из Питера, из Кронштадта — какую дорогу отмахал, немереные версты…
В угловом окошке мерцал слабый огонек. Но ни лица в окне, никакого движения. Похоже, никто не услышал лошади подле дома. Матушка, конечно, возится со скотиной. А Агния? Гордей? Да, все никак не привыкнуть — Гордей ведь тоже на войне, родители ему сообщали, но никак он не может представить младшего своего братишку солдатом с винтовкой…
Федор встал, распрямил грудь, глубоко вдохнул воздуха с морозцем.
— Ты, Петро, распряги лошадь и привяжи к саням. Пока не давай ничего, пусть поостынет.
— Знаю, — буркнул Петр.
— Потом я сам загоню под навес.
Федор взял чемодан и медленно поднялся на крыльцо. Осторожно повернул кованое железное кольцо в дверях — чтобы внутренний засов не слишком громко звякнул. Сделал три, до боли в сердце знакомых шага… И рука сама ткнулась в дверную ручку… Сколько раз во сне, в матросском кубрике, делал он эти шаги и вот так же, безошибочно, утыкался рукою в родную дверь!
Матушка сидела на лавке и чистила картошку. Подняла голову, вглядываясь в вошедшего человека в незнакомой какой-то одеже. И постепенно глаза ее начали шириться радостью, в которую боялась, боялась она поверить, слишком уж было все неожиданно. Потом, вспоминая, Федор корил себя за такое внезапное свое появление, ведь с мамой могло и худо быть. Нельзя же так — вдруг. Нож загремел по полу, сырая картофелина глухо стукнулась, покатилась к печке. Мать сделала два шага навстречу сыну, но вдруг резко повернулась спиной к нему, а лицом к красному углу, в котором висели иконы. Бросилась па колени:
— Господи! Го-осподи… Слава тебе, господи! — торопливо заговорила она, истово крестясь и вкладывая в привычные слова благодарности богу всю свою душу.
И зашептала молитву. Федор даже головой замотал, чтобы только не заплакать. Зажатую в кулаке шапку бросил на лавку. Осторожно подошел к матери, опустился рядом с нею на колени и перекрестился. Тут только она повернулась лицом к сыну, шершавой ладонью своей огладила его лицо, волосы.
— Федюшко мой… сыночек родной… Живой, здоровый…
Лицо матери перекосилось. Она обняла Федора за шею, прижалась головою к его плечу и зарыдала, уже не сдерживаясь нисколько. Федор осторожно поднял ее с колен, усадил на лавку рядом с собой. Мать никак не могла успокоиться, рыдала, затихая лишь на секунды, чтобы погладить сына по груди, по плечу, по спине.
«Вот она, родная-то кровь, — думал Федор смятенно, — вот она, родная… чем ее заменишь, да и возможно ли говорить даже, будто можно чем-то заменить этакое?»
Федор тоже поглаживал мать по голове. Так и застала их Агния, когда зашла в дом с пустым ведром. Она словно запнулась на пороге, ойкнула, швырнула ведро и бросилась к брату, обняла его с другой стороны. Так и оказался Федор между двух самых дорогих ему женщин, роднее которых и не было никого. Мать потихоньку успокоилась и тогда только заметила Петра, присевшего на заднюю лавку.
— А, это Петя тебя привез? Ну, он и есть. Раздевайся, дитятко. Спасибо тебе. А вырос-то как…
Мать еще раз подошла к сыну и еще погладила всяко, словно глазам своим не доверяя и пытаясь руками, руками почувствовать — что да, живой ее Федя, живой, всамделишный…
И начали они с Агнией бегать: от стола к печке, из избы в сени, из сеней на сеновал-сарай, в холодную половину избы. Что-то заносили-выносили-ставили-резали-звякали. Что-то зашипело в печи. До Федора все звуки теперь доходили с каким-то запозданием и как-то сбоку, со стороны, до того он и сам был оглушен встречей с матерью, сестрой, домом родным.
Отец оказался в лесу, с отцом встреча еще предстояла. Очнувшись немного, Федор разделся и начал как бы заново знакомиться с давно знакомым домом. Слазил зачем-то на печку и посидел там чуть-чуть. Слазил на полати и полежал поперек постели. Вышел и заглянул на холодную половину, потом на сеновал, в сарай, на чердак даже. Все было такое знакомое, знакомое-знакомое. И все-таки все непонятным образом изменилось — не могло не измениться, потому что хлебнул Федор иной жизни, был ранен и изменился сам. Мать спросила только самое главное:
— Федя, ты мне сразу скажи: ты насовсем или как?
— Нет, мама, не насовсем. К Михайлову дню приказано быть обратно на корабле. Я только на побывку.
— Господи… Только-то и радости несколько деньков. От Гордея письмо получили… живой пока. Там, на божнице, почитай, Федя. Господи… хоть бы не убили Гордея. — Мать сразу всхлипнула.
— Не плачь, мама, — попытался успокоить ее Федор. — Оно хоть и война, да ведь не всех же убивают…
О том, что на войне убит мамин племянник Гриша, дяди Дмитрия сын, Федор решил не говорить. Когда-нибудь и без него узнает, а сейчас, пока Гордей на войне, не надо ей знать этого…
— К отцу я завтра схожу, — сказал Федор.
— Может, отдохнешь денек-другой?
— Да сколько уже валялся в санях, с чего уставать? И время поджимает.
Только-то и успели поговорить мать с сыном, а сестра с братом. Прямо с утра пошли в дом люди, прослышавшие о приезде Туланова. Молодые пошли, ровесники Федора, пожилые пошли и совсем старые — у кого кто из родственников был на войне, поспрашивать пошли, послушать и о своих расспросить: не видал ли? Мало ли, хоть мир и большой, а ведь и тесный…
Весь день не вылезал Федя из красного угла, нарассказывался о жизни в России, в столице, в других городах — чего от товарищей своих слыхал — о жизни в других странах, где самому удалось побывать или, опять же, узнать с чужих слов. И сам вволю наслушался всяких деревенских новостей: кто жив еще, а кто богу душу отдал, кто на ком женился и за кого замуж выскочил, кто удачливее на охоте, да чья собака запаршивела, хоть пристреливай горемычную…
И звали его, звали служивого, во все дома звали. И он обязался у всех побывать, хоть на минутку да зайти. А как иначе в деревне? В каждую избу придется заглянуть, уважить земляков и никого не обидеть. Два десятка домов, не так уж и много, выдюжит. Назавтра пришлось Федору перво-наперво заглянуть к крестной, она настойчиво приглашала зайти с самого утра, наварили, говорит, нажарили-напекли всякой всячины и ждем дорогого гостя, уж так ждем, никто без тебя, Федя, за стол не сядет… Нельзя крестную не уважить. Уважил. И к отцу сумел собраться только уж после обеда. Федор снял с гвоздя свое ружье, достал из ствола замасленный кусочек кудели, переломил стволы, посмотрел ствольное нутро на свет — стенки блестели, ни царапины, ни точечки ржавчины не было. Вытащил из патронташа несколько заряженных патронов, сунул в передний карман лузана: может, чего попадется дорогой. Все равно старые заряды придется по пустякам расстрелять, на серьезную охоту со старыми зарядами идти негоже.
Отцовская лыжня начиналась сразу за изгородью.
— Завтра обратно возвращайся с отцом, — наказывала матушка. — Так ему и скажи.
— Скажу, — пообещал Федор.
И прошелся, громко хлопая лыжами, проверил, все ли ладно. Затем уж, размахивая руками в лад широким шагам, легко заскользил по лыжне. Воздух-то, воздух какой! А зимний бор… сосны красно-ствольные… тишина торжественная… Да тут взрослому мужику впору заплакать от радости встречи с родимой сторонкой. И как славно катиться вольным шагом по отцовской лыжне! Совсем не то, что болтаться на железной коробке по соленой воде, на волнах высотою в хоромы… И снаряды над головой не воют, и — самое-то главное! — никто, никтошеньки тобой не командует! Тут ты сам себе и командир, и боцман, и царь.
Вона, на соснах, — в честь Фединого приезда — на каждой веточке белый кружевной воротничок. И вершины — специально для него закудрявлены… А как же! Хозяин вернулся! Отойдя от деревни версты на две, Федор вскинул вверх руку с ружьем и закричал во весь голос, закричал:
— Э-э-эээ! При-ивет всем! От меня — при-и-ве-ет!
Нащупал пальцем курок и шарахнул в небо — отдал салют родному лесу. Эх, как хорошо накатило! Ну до того хорошо… Возликовала душа. Раньше соскучилась, сжалась, загоревала по дому. А теперь вот расправилась и — ликует! Эх, жить бы да жить вечно, стоять на лыжах, смотреть на небо, на землю, на лес и — жить…
Припозднился-таки Федор с утренним гостеванием, припозднился, да ведь нельзя обидеть ни мать родную, ни маму крестную…
Начало темнеть еще до Катшыс-бугра. Страшного, конечно, ничего нет, какая уж тут печаль? До своей охотничьей избушки Федор и с закрытыми глазами дойдет, тут темнота ему не помеха. Он даже шагу прибавить не захотел — такая была радость снова увидеть, узнать родное свое, до боли знакомое… На небольшой поляне перед охотничьей избушкой было светлее. Из окошка еле-еле свет брезжил, и можно было еще угадать чуть в стороне баньку. Значит, вернулся батя из лесу, вернулся, — обрадовался Федор. Сердце опять зачастило. Лыжня сама привела его под навес. Он снял лыжи и прислонил к стенке. Ружье и лузан повесил на деревянный колышек — его и нашаривать не пришлось, рука сама угадала, где он, старый. Батя, конечно, понял, что человек к избушке идет: собаки залаяли, предупредили, ишь как рвутся. Он, слышно, прикрикнул на них, но навстречу не вышел. Гость неожиданный, нежданный — сам войдет, доложится. Вошел Федя в избушку, поклонившись низкой притолоке.
В переднем углу горела лучина. Батя сидел боком. Снимал шкурку с белки. Соболь, собака старая, рычать сразу перестала, осторожно подошла к Феде, обнюхала и завиляла, завиляла колечком хвоста и нос задрала, тихонечко заскулила. Вспомнила ведь! Вторая собака была незнакомая, молодая, Федю знать не знала, теперь стояла рядом с хозяином и грозно рычала.
Отец внимательно посмотрел на вошедшего, в лице не изменился, чуть помедлил и широкими жестами перекрестил Федора: «Да воскреснет бог… да расточатся врази его… яко тает дым…»
Молитва от нечистой силы, сообразил Федор. И подал голос:
— Да я это, батя, я. Глянь, ведь Соболь признал меня.
— Так-то оно, конечно… если бы не… Откуда ж ты свалиться мог… в избу вошел, а божий знак не подал…
Федор догадался. Левой рукой спокойно снял шапку, а правой дважды перекрестился, стоя лицом к маленькой, в пол-ладони, иконке Николы-угодника, висевшей в переднем углу. Отец все же смотрел недоверчиво.
— Сейчас из дому, батя. Вчера приехал, на побывку отпустили. Скоро и возвращаться, чтоб к Михайлову дню обратно на корабле. Мать просит тебя со мною вместе завтра домой.
— Шеть! — цыкнул отец на все еще рычащую лайку и прогнал ее под нары. — Разболокайся, сынок.
Медленно поднялся отец с низенькой скамеечки и начал креститься, кланяясь все той же почерневшей от сажи иконке: «Слава те, господи, слава те, господи…» Затем уж подошел к Федору, прижал его к груди и трижды приложился бородатым лицом к щекам сына.
— Ты уж извиняй, сынок. Входишь в дверь… а я только что думал о тебе. Ну и решил: приблазнилось, не иначе. Садись отдохни. У меня суп из глухарки сварен, погоди чуток, вот на костре разогрею, на воле…
Батя надел шапку и торопливо вышел. Федор в полутьме обвел взглядом избушку. Все как было, все так же, как и три года назад. Да неужели столько времени минуло?… На лавке лежали еще две белки, — Федор сел на отцово место, закончил его работу. Молодая собака вылезла из-под нар, обнюхала Федора и завиляла хвостом, извиняясь за давешнюю непримиримость.
Батя перелил суп из котелка в деревянную миску, положил перед Федором ложку. Видно было: пока он котелок на костерке разогревал, сомнения снова одолели его. Федор перед едой уже не забыл перекреститься.
— В дальней-то дороге небось не без крестика, а? — спросил батя. — Обличье, оно конешно, сильно схожее, да ведь нечистая сила, она… сила все ж…
— Как без него, — успокоил отца Федор, приоткрыл ворот рубахи и из-под тельняшки вытащил нательный крестик. — Это еще мама перед уходом на службу повесила мне. Только цепочку в Финляндии купил, тоненькую, серебряную. Да ведь и тебе подарок оттуда привез. Вот, — Федор отложил ложку, встал, из кармана зипуна вытащил небольшенький сверточек. Развернул его, протянул бате круглую черную коробочку.
— Это тебе.
Отец открыл коробочку, увидел компас.
— Матка? Ладно… Хотя у меня и старый показывает.
— Этот отличается, батя. Вот посмотри, — Федор открыл крышку компаса и заслонил его ладонью от света лучины.
— Но, там что-то даже горит, — удивился отец.
— Это светит конец стрелки, которая кажет север, — объяснил Федор. — А если конец стрелки навести между вот этими двумя горящими точками, да сам станешь лицом в том направлении, то горящая точка справа будет восток, а слева — запад. А это, стало быть, юг. В темноте очень способно…
— Знаю, — коротко поблагодарил отец и положил подарок на стол.
Но недолго выдержал характер, вскоре снова взял компас в руки. Федор ел и улыбался. Уж он-то своего батю знал.
— Выйду на волю, погляжу в темноте… — И вышел.
Зашел обратно, счастливо улыбаясь:
— Эк они в подходящее место этих светлячков загнали, хорошо указывают. Ты бы матери чего привез, сынок. Вовсе без бабьей радости живет…
— Как же, батя, обязательно привез. И маме, и бабушке, и тетке Насте, всем материалу на сарафан. Агнии и Анне дяди Дмитрия — бусы, красивые. А Гордею финский нож, такой нож справный… Да вот он, оказывается, сам там же, где кровь льют…
— Откуда ж у тебя, сынок, эстолько деньжищ? — удивился отец.
— А за три-то года… Копил помаленьку, не без того, батя. Потом такое еще… был в нашей команде один дошлый человек, хороший такой парняга, так вот он подсказал, чего финнам надобно по их, финской, жизни. Когда заходили мы в Финляндию, там по его подсказу кое-какие товары с выгодой обменяли, да. Одно, батя, жаль. Нету больше того хорошего парняги… В последнем бою… осколком… меня в плечо зацепило, а ему, бедолаге, прямо в голову угодило… насмерть.
Отец перекрестился. Опустил голову, посидел молча. Поднял лицо, тихо попросил Федора:
— Покажи.
Федя добрал из миски две ложки супа, доел. Не торопясь, снял с себя рубаху, тельняшку. Повернулся к отцу свежим шрамом. Батя тихонько обвел рубец на плече пальцами, спросил:
— Руку подымаешь — не болит?
— Теперь ничего, терпимо, батя. Врач обещал, все, мол, как прежде будет, не опасно.
— Слава богу, — прошептал отец. И поклонился Николе.
На мягкой лосиной шкуре да под теплым одеялом спать было и не холодно и не жарко — в самый раз. Ночью Федор проснулся, услышал в темноте шепот. Понял: батя молится. За него, Федора. Когда отец рассматривал шрам на плече, немецкий подарок, лицо его невольно исказилось болью за сына, Федор заметил. Теперь он не стал подавать голоса, слушал молитву отца, потрескивание мороза за стенкой — и все это в привычной благословенной тишине родной тайги… Снова уснул. Встали привычно рано. Позавтракали. А собирались уже как рассвело. В лабазе у бати набралось всего: десятка полтора заячьих тушек, два глухаря, три глухарки, рябчиков порядочно, мягкий мешок с заячьими и беличьими шкурками. Все это погрузили в нарты. Туда же положили и ружья. Федор надел лямку, батя охотничьим копьем помог стронуть нарты с места. Собаки большими прыжками обогнали Федора и побежали вперед по лыжне. Отец шел сзади, помогая то подтолкнуть на подъеме, то притормозить на спуске.
Назад, до Кыръядина, Федора везла-провожала Агния. Сама правила, брата к вожжам не допускала.
— Не-е, братишка, по этой дороге я — ямщик… А ты нынче полное право имеешь погосподиться. Да и Машка наша меня признает, послушная. — Агния засмеялась, стеганула слегка кобылу вожжами по крупу. — Но-о, милая, не подводи меня пред братухой…
Но Машка порысит-порысит да и опять поплетется шагом, такая неспешная кобыла. А Агния и не замечает, дает ей волю тащиться, и рассказывает, не умолкая, да Федора расспрашивает, о чем еще хочется ей узнать. Благо в дороге они одни, никто не мешает сестренке поболтать с братом. Федору же до того хотелось побыстрей в Кыръядин! Была бы его воля — он бы и без передышек, без ночевок добрался, только бы не стоять в пути. И уж он бы, конечно, не позволил ленивой кобыле шагом плестись…
Не выходила из головы у него Ульяна, не выходила. И вся обратная дорога была как бы подсвечена мыслями об этой девушке.
Ждет ли, спросит ли, о чем спрашивала перед отъездом? В Кыръядин прибыли вечером, и опять первой услыхала их Анна. Она вышла на крыльцо посмотреть, кто приехал, увидела Агнию, Федора, сбежала вниз по ступенькам. Долго они с Агнией радовались друг дружке. Потом она приветливо прижалась к брату, успев тихонько шепнуть:
— Ульяна тебя вчера целый день ждала, да и сегодня, поди, сто раз спрашивала, не приехал ли? Я чуток погодя сбегаю, скажу ей. Пусть вечером придет, посидит…
— Позови, — тем же шепотом сказал Федор.
— Вы чего там секреты разводите? — подошла к ним Агния.
— Есть у нас тут… Я на минутку к соседям и сразу обратно, — заспешила Анна и побежала предупредить Ульяну.
Ульяна пришла после ужина в одной кофточке и юбке, только накрылась с головой большою шалью: примораживало на улице.
— Добрый вечер… всем, — почтительно поклонилась она.
— Присаживайся, Уля, — ласково улыбнулась Анна. — Проходи.
Бабушка скоро поднялась на печку. Тетя Настя завершила вечерние хлопоты по дому и тоже присела с девчатами, приготовилась сучить шерстяную нитку. Девушки пряли, Анна похваливала Ульяну за мастерство, за тонкую нитку; шутили, смеялись. Федор хотел было пересесть из красного угла, но ему не позволили.
— Нет, Федя, ты уж посиди, посиди, а мы на тебя полюбуемся, как на солнышко в пасмурный день, уж ты в тень не прячься. Уедешь — когда-то снова свидимся…
Федор улыбался и смотрел на них, на женское общество: тетю Настю, Агнию, Анну и Ульяну. Красивое румяное лицо, мягкие русые завиточки волос возле ушей, толстая коса, перекинутая через покатое плечо на грудь, тонкие пальцы, заставляющие вихрем летать веретено и временами громко щелкающие по тонкой нити, — все волновало Федора в этой девушке. Чем дольше смотрел на нее, тем больше хотелось смотреть.
— Давайте, девушки, споем для Феди, — предложила Анна.
У меня была-а лента алая… — спокойным чистым голосом запела Ульяна, песню, вторыми голосами, тут же подхватили Анна и Агния:
Потеряла я ее, ох, потеряла, На поляне, той поляне земляничной…Со второго куплета подтянула девчатам и тетя Настя. Куплет за куплетом теряли они и теряли свои ленточки — красную, синюю, желтую и черную, пока не потеряли и милого друга. Спели до конца, посмотрели на Федора: — Вот хорошо как, теперь Федя нашей песни не забудет, для него спето.
Спели еще две песни и, одну веселую, впору было в пляс пуститься. А Федор сидел и думал, как же подарить свою шаль Ульяне — подарок для долгой памяти… И решил так: как соберется Уля домой, он выйдет чуть раньше на крыльцо и там ее обождет. Так и сделал. Как только Ульяна заикнулась, что вот загостилась, пора и честь знать, Федор накинул тулуп, сунув под бушлат заранее приготовленный сверток с шалью. Девчата вышли из избы втроем. Но Анна, увидев на крыльце Федора, тут же позвала Агнию обратно:
— Пойдем, Агнюша, домой. Федя Ульяну проводит. Матросу такое дело можно доверить…
Остались Федор и Ульяна вдвоем на крыльце.
— Уля… я тебе что-то сказать хочу, — начал было Федор, чувствуя неуверенность перед этой молоденькой девушкой. Подойти бы, обнять за талию, прижать к груди, поцеловать горячо… А вот не мог он так — была какая-то непонятная преграда тому внутри самого Федора, и преграду эту ничем, пожалуй, не объяснить…
— Скажи, Федя, — повернулась Ульяна, — что обещал, когда домой ехал, скажи.
Она спросила чуть слышно, видно было, не давало ей покоя то, недосказанное, — что так хотелось услышать.
— Уля… веришь ли… я, как встретил тебя, так ты из моей головы не выходишь. Только о тебе и думаю, ага, правду говорю. Ты мне вот как нужна… чувствую, понимаешь… не могу без тебя…
— Федя, и я тебя всю неделю ждала… каждый день. Только ты уехал, я на второй день уже жду… Дуреха, да?
Ульяна приподняла лицо и несмело взглянула на Федора. Он подошел поближе, осторожно обнял ее.
— Уля, о чем я прошу: подожди меня… Как вернусь совсем, пошлю сватов. Что скажешь, Уля?
— Подожду, Федор. Приезжай скорее. Ждать тебя буду.
— Война проклятая… сколько она еще… никто не знает. Но помни, Уля: я твой, я только о тебе… Жди, очень прошу.
— Ты только возвращайся, Федя, и позови. А я дождусь. Ты только никуда не сверни по дороге…
Они поцеловались по-юношески робко.
— Пойду я, Федя, пора мне. Матушка…
— Погоди, Уля.
Федор торопливо вытащил из-под бушлата сверток, развернул свой подарок — красивую шаль в пышных красных цветах — и накинул Ульяне на плечи.
— Вот… подарок тебе… Наденешь, сразу вспомни, кто тебя любит больше жизни…
— Что ты, Федя… зачем?.. Что я дома скажу…
— А что хочешь, то и скажи. Лучше всего правду: жених, мол, подарил. Не отказывайся, если не возьмешь, одно только и буду думать: не хочет Уля меня ждать…
Ульяна сама обхватила Федора руками, прижалась к нему.
— Да что ты, Федя, да береги тебя господь… Назад возвращайся… ждать буду… год… два… сколько придется. Я своему слову до гробовой доски не изменю, так и помни.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
После возвращения в Кронштадт Федора Туланова направили на тральщик, названия у тральщика не было (не крейсер, не дорос до собственного имени) и звали его по номеру — шестнадцатый. Крейсер «Богатырь», на котором Туланов получил ранение, из последнего, того самого боя вышел самостоятельно и до базы дошел своим ходом, но, видимо, пострадал изрядно и был поставлен в ремонт. Туланов быстро привык к новому кораблю и новым товарищам по службе, да и что привыкать, тральщик, конечно, не крейсер, ну так и что, ну маленько поменьше железа вокруг… В феврале командир корабля капитан третьего ранга Никонов созвал команду и объявил перед строем: в Петрограде свершилась революция и вся власть из рук царя перешла Временному комитету. С этого момента Россия стала свободной демократической республикой: у всех людей будут — одинаковые права. И у матросов, и у офицеров. У крестьян и больших чиновников. И все станут служить не царю-батюшке, а Временному комитету революции. Вольно, р-разойдись…
На другой день снова проиграли «общий сбор», но на этот раз матросы стали не «по линейке», а одной общей кучей, как толпа на улице. Сказали: это не построение, а митинг. Открыл митинг от большевистской ячейки матрос Тараканов, из машинного отделения. Выслушал Федор Туланов нового оратора. Сказать по совести, не очень-то понял он и командира — вчера, когда вместе со всеми кричал «ура» свободной демократической республике, и сегодня — Тараканова. Слушая последнего, вспомнил, что Илья, с которым они выходили в верховья Эжвы, тоже говорил о большевиках и себя называл большевиком. И про равенство говорил. Смотри-ка, великая сила оказалась у этих самых большевиков, если через столько лет все сошлось как по писаному…
Тараканов звал собрать революционный судовой комитет, чтоб, значит, офицеры не могли своевольничать. И даже командир.
Вот оно как жизнь перевернулась. Тараканов слова кричит, а командир рядышком стоит и помалкивает. Тут же начали выкрикивать фамилии в судовой комитет. А потом, пото-ом… пошли митинговать каждый день. Приедет кто, почнет руками махать, рассказывать о новой жизни. Тут тебе и меньшевики, и эсеры, и анархисты — и кто только не старался повернуть матросов на свою сторону. Только ради этого и сыпали словами да руками размахивали. Однажды сам Керенский приезжал. Вот этот гладко говорил — заслушаешься… Матросы аж рты пораскрывали, таких говорунов не видали еще. Одна только осечка была у ораторов: все призывали и дальше воевать, до полной победы над германским врагом.
И Керенский тоже. Лишь судовой комитет войну не поддерживал, большевики, стало быть, были против войны. Уж что-что, а война всем надоела. А Федору Туланову и сама служба обрыдла, ну до того опостылела — слов нету. По дому, по светлым сосновым борам, по веселым березкам, по чистой Ижме — уж так соскучал… А особенно по Ульяне, по Уле. Чуть прикроет глаза — вот она, Уля, зовет, зовет его взглядом из-под длинных ресниц, зовет…
С минуты их расставания прошло полгода. А казалось — целая вечность минула. Туланов пошел посоветоваться с Таракановым, он теперь был на тральщике председателем судового комитета. Тот прямо сказал:
— Не время с кораблей разбегаться, Туланов, не время. Невеста твоя подождет, ясное дело. А вот революция ждать не может. И на текущий момент, Туланов, революции без тебя не обойтись. Корабль наш — революционный, ты это знай. И наша роль — она еще впереди, поимей терпение, Туланов, сам увидишь. Если, конечно, тебе не наплевать на революцию. И Тараканов внимательно посмотрел Туланову прямо в глаза. Федору на революцию плевать вроде не с руки было. Ему вполне хотелось увидеть, как это оно бывает — революция; тем более что Илья еще когда рассказывал и про свержение царя, и про революцию в широком смысле слова. Федор мало что понял из тех слов Ильи Яковлевича, но представлял себе революцию как красивую радугу после дождя. Как широкое, во все небо, полярное сияние в зимнюю ночь. И радуга и сияние посылают на землю и радость, и тревогу, и… надежду на какую-то другую, счастливую жизнь… Конечно, хотелось и самому Федору, своими руками хотелось бы создать такую всенародную радугу, чтобы посмотреть, как оно потом обернется, и чтоб люди, через годы и годы, показывали на него, Федора Туланова, и говорили: вот он, кто радугу нам сотворил. Все бы хорошо, все бы правильно, если бы не Ульяна. Вот стала бы она его женой — ну, тогда еще можно было бы погодить маленько…
— Видишь, Туланов, — уговаривал его председатель судового комитета, — революция каждому трудящемуся даст свет в душе, это ее обязательное качество. А зырянин- охотник, он такой же трудящий мужик, как и прочий российский крестьянин. Вот сделаем с тобой революцию — и отпущу я тебя к твоей ненаглядной зыряночке. И тогда — женись, рожай детей, раз уж невмоготу стало. Лично я, скажу тебе честно, в такое время не стал бы жениться. До самой полной победы нашей революции во всемирном масштабе. Но тебя, Туланов, неволить не буду, всемирного переворота можешь не ожидать, ограничишься нашей революцией — и домой.
Постепенно митинги становились все реже, а после Иванова дня совсем затихли. Все оставалось по-старому, только в море не посылали и на корабле было как бы два командира: капитан третьего ранга и матросский судовой комитет. Новый порыв революционной бури закружился в конце августа. Генерал Корнилов задумал задушить революцию. Матросов вооружили винтовками, опоясали пулеметными лентами и послали пешим путем на перехват «Дикой дивизии», защищать Петроград. Рыли окопы, непривычное для матросов дело. Тут же и пехота была, неподалеку, тоже копала окопы. Обосновались. Слышали ружейную и орудийную пальбу и слева и справа, за близким горизонтом, но против них на этом участке никто не наступал, у них обошлось. Говорили потом, что «Дикая дивизия» на Петроград не прошла. Матросы вернулись на свои корабли. Через два месяца снова раздали винтовки, на корабле остались только кочегары, машинисты и часовые. Вооруженным отрядом командовал сам Тараканов. Вышли ночью и в Петроград пришли ни свет ни заря. Почти сутки стояли в Смольном. Распоряжались тут люди в штатском. Отряд Тараканова отправили на Московский вокзал, приказали захватить и держать в руках. Там оказались и юнкера. Тараканов разделил отряд на две части, и юнкеров быстренько повымели с вокзала. Товарищи Федора стреляли, кто куда, кто, может, и видел какую цель, а кто для общего шума. Туланов только затвором звякнул, на случаи если кто вдруг упрется дулом… Но стрелять ему не пришлось: никакой цели он не нашел, а для общего шуму палить не умел — охотник зазря заряды не жжет. Юнкера утекли. Отряд остался охранять вокзал. Только поздно вечером Тараканов построил их и, левой рукою придерживая кобуру маузера, правой — размашисто разрубил воздух перед собой:
— Товарищи! Братцы! Революция победила! Вся власть перешла в руки Советов! Правительство буржуев упряталось в Зимний дворец. Сейчас идем выполнять приказ военно-революционного комитета — брать Зимний!
Тараканов скомандовал «направо!» и сам побежал в голову отряда, сам повел.
К Зимнему подошли уже к полуночи. Кругом стояли солдаты и матросы, много, все с оружием. Тараканов сходил куда-то, получил распоряжение. И повел отряд по узенькому переулку. Они оказались перед Зимним, но не со стороны площади, а с другой. Здесь тоже было полно солдат и матросов. Тараканов начал пробиваться поближе к бескозыркам. Тут возник в воздухе протяжный крик «ур-ра!»- стоящие впереди побежали. Федор увидел Тараканова, повернутого к нему лицом. Тот махал маузером и что-то громко кричал. Потом тоже побежал. Тут и Федор, зараженный общим атакующим весельем, перехватил винтовку и кинулся бежать следом за всеми, догнал их, передних, и больше не отставал. Слышал только нескончаемое «ааа-а» и сам кричал. Прибежал к Зимнему в первых рядах. Из их отряда никто не остался на камнях, слава богу, обошлось, не пострадали ребята. Через два дня все вернулись на свой корабль. А еще через пару дней двенадцать человек с тральщика выстроились на палубе, и с ними Федор Туланов. Каждому дали бумагу за подписью командира корабля и председателя революционного судового комитета: что такой-то товарищ отслужил честно в рядах… и отпускается домой для продолжения мирной жизни.
К увольняющимся обратился сам Тараканов со специальной речью. Он призывал никогда не забывать ответственное время, в которое им приходится жить, не забывать боевого товарищества и революционного Кронштадта. А еще звал защищать Советскую власть от посягательств. Такое было его последнее слово. Потом он каждому пожал руку и обнял по-братски тоже каждого.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Как и год назад, добирался Федор Туланов до дому на перекладных, попутных. Что царя свергли, людям было уже известно. А вот что там еще, в Петрограде? Как жизнь поворачивается, куда она поворачивается? Чего ждать? Федор знал только одно: власть принадлежит Советам, стало быть, надо кругом выбирать свои Советы депутатов, чтобы не было никакого угнетения. А Советы депутатов — это сам народ, кого народ выберет, тот и править станет. Люди слушали, качали головами: видано ли дело, чтобы народом сам народ управлял?.. Первый раз слышим о такой власти, которая не от бога, а от самого народа. Да ведь кто-то должен и распорядиться… А ежели на коми земле не захотят таких порядков, как в Питере? Мы, может, свое чего удумаем? Федор нередко чувствовал, что не может ответить, слишком много вопросов у людей возникало. Будь на его месте Тараканов, тот, конечно, мигом бы разъяснил, чего с какою приправой едят. А Федор частенько сам замолкал и начинал думать, вместо того чтобы отвечать. Но главный вопрос у него был: ждет ли Ульяна? Обещалась ведь. Да жизнь… она хитрее всякого вопроса. Вдруг да кто-нибудь перешел ему дорогу… вроде того задиры Никиты. Девушку ведь тоже надо понять, орел-то он орел, да где тот орел летает и когда еще присядет на нужную ветку… А синица — вот она, сама в руки просится. И все-то времечко был Федор мыслями в Кыръядине, при Ульяне, а не дома, в Изъядоре, при отце-матери. Грех, конечно, кто спорит, но грех простительный, объяснимый. Сколько ни тянется длинная дорога, но если в одну только сторону править, приедешь рано или поздно. Доехал и Федор, куда его сердце влекло. Приехал к бабушке и снова переполошил всех, опять все забегали, затоптались, но было в той беготне отличие от предыдущей: все понимали, что вот теперь-то Федор насовсем приехал, не на побывку, а пожизненно, навсегда. И он — понимал. За столом выяснилось: в этом году Федор — уже четвёртый, кто с войны возвернулся. Еще весной, перед Пасхой трое кырьяндинских возвратились, недальние бабушкины соседи. Служили вместе, вместе их и отпустили. Один и пожениться успел…
Как только услышал эти слова Федор — замер, дрогнуло сердце, узнав про чужую свадьбу. Но тут же выяснилось, что сказано это было безо всякого намека, имя прозвучало другое. А про Ульяну Анна вскоре радостно ему нашептала: и что любит его Ульяна без памяти, и что даже на посиделки деревенские перестала ходить, как Федор прошлый раз уехал — «как это, говорит, я стану веселиться да плясать, когда Федя мой на войне?». А два месяца назад тот самый Никита сватов засылал, все чин чином, Ульяна сватов на смех подняла и прогнала из дому. Пантелеймон, Панте, брат ее, недоволен тем сватовством, они с Никитой в дружках ходят. Вот она какая, твоя Ульяна.
После этого Федор еще больше разволновался. Приходила ему и раньше мысль — посвататься к Ульяне прямо так, с ходу, не заезжая еще и домой, к родителям. Нехорошо, конечно, без родительского предварительного согласия, но что ж поделаешь, концы больно велики от одного дома до другого. А он уже взрослый мужик: и отслужил, и ранен был, и повоевал, и жизнь видывал… Можно, вполне можно с ним, Федором Тулановым, самостоятельный разговор вести. Почему нельзя — можно. Но до конца так ничего и не решил. Есть же и обычаи. Как себя ни оправдывай, а через обычай переступать тоже ведь грех. Но теперь, когда Анна нашептала ему горячих слов, он все же осмелился. Сейчас же пойдет и заявит родителям девушки: так и так. Ну, не сейчас — немедленно, а к вечеру, чтобы наверняка все дома были. Чтоб не в два приема заходить по такому делу… И еще: бабушку нужно упросить, чтоб с ним пошла. Она заместо его родителей будет и весу придаст его словам и его просьбе.
— Анна, сходи еще раз к Ульяне, скажи ей, пусть вечером готова будет. Федор, мол, с бабушкой свататься придут.
Анна ходила, наверное, целый час. Вот уж трепушки эти девки, надо им столько обсуждать событие, которого еще не было.
Вернулась:
— Ульяна согласная. Вечером ждать будет, никуда не отлучится.
С бабушкой Федор переговорил тут же, не ища повода.
— Бабуля, — осторожно и почтительно обратился Федор. — Ты послушай-ка меня, бабуля. Дело у меня вот какое. Батя мой и матушка далеко, а время не терпит… Спросить тебя хочу, совета, вместо них…
— Спрашивай, золотце, — засветилась радостью бабушка, иссеченное глубокими морщинами лицо ее смотрело ласково.
— Жениться я хочу, бабушка. Помощи твоей прошу и согласия.
— Да ведь что сказать, дитятко. И пора уже. Службу отбыл. Зверя-птицу промышлять умеешь. Молодой да сильный. Отчего ж тебе и пару не выбрать да и гнездо не свить? Всем на зависть жених, Федюшко… Успел ли невесту себе найти?
— Еще прошлый год выбрал, бабушка. Ульяну, дочку Ивана Васильевича, соседа твоего, — открылся Федор.
Бабушка помолчала. Она по-своему прикидывала это сообщение, и лицо ее быстро потускнело, что-то не нравилось ей в этом выборе, или, может, не ждала она встречной радости от соседа…
Проговорила, помедлив:
— Прямо скажу, Федя, выбрал ты очень хорошую… И ладная, и красивая, с характером и с умом девушка. И родители люди хорошие. А как сама-то Ульяна, знает ли?
— Знает, согласна. Год меня ждет. Любим мы друг друга, бабушка.
— Любите… это, Федя, всего дороже. Что же тогда мне сказать, совет вам да любовь, мои родные. Только одно тут, Федя, затруднение. Ульяна ведь молоденькая еще, и что-то её родители скажут?
— Вот и прошу тебя, бабушка, сходи ты сегодня со мной, помоги посвататься.
— Посвататься?
— Да, бабушка.
— Тогда мне переодеться надобно. Вот уже и темнеть начинает… Коли решил, так пойдем, внучек…
Рассказали и тете Насте, куда и зачем собираются. Она тоже разволновалась, стала помогать бабушке. Анну же, которая навострилась было вместе с ними идти, строго одёрнула:
— Дома сиди! Не на вечеринку идут, дело серьезное, нечего тебе там хихикать да базар устраивать. Своих сватов сначала дождись…
Анна надула губы, но послушно осталась дома. Оно ведь и впрямь не знаешь, где и как помешаешь доброму делу…
Вечером, когда Федор с бабушкой зашли в дом Ивана Васильевича, отца Ульяны, они застали обычные домашние хлопоты. Ульяна и мать ее Дарья у печи возились. Отец сидел на передней лавке и подшивал валенки. Бабушка, повернувшись к красному углу лицом, степенно перекрестилась:
— Мир дому сему, да пошлет господь всем доброго здравия. Да счастья вам, да достатка, — и поклонилась бабушка отдельно хозяину, отдельно хозяйке.
— Добрый вечер всем, — поклонился и Федор, взволнованный таким торжественным запевом.
— Заходите, будьте гостями, отдохните-погрейтесь. — Иван Васильевич встал с лавки, отнес свою работу в задний угол. Затем подошел к Федору. — Из дальних стран, после тяжкого дела возвращаешься домой, матрос. С приездом тебя да доброго тебе здоровья. Кажется, Михайлович будешь? Твоего, Петровна, ижемского зятя сын?
— Он это, он. Марьи моей, старшенький, слава богу, Федор. Из огня-воды вышел да живой-здравый домой правится…
Подошла и за руку поздоровалась с Федором сначала мать Ульяны, а после и Уля, побледневшая от волнения.
— Дарья, — позвал Иван Васильевич жену. — Подай-ка нам ради дальнего гостя кваса ли, пива — которое там забродить успело…
— Сейчас посмотрю, еще не пробовала, — отозвалась мать Ульяны и направилась к бочонку на помосте.
Бабушка села на лавку, развязала шаль и опустила ее на плечи. Федор пристроился рядышком.
— За-ради нас не хлопочите, — продолжала бабушка, — мы к вам не застольничать, не бражничать, мы к вам, добрым людям, по бо-ольшому делу пришли…
Мать Ульяны насторожилась. Ендову с пенистым пивом поставила на стол и осталась стоять около, сложив руки на животе, а лицо строгое, будто какого подвоха ждет.
— Какое такое большое дело, Петровна? К нам-то…
— Ой, большое, Дарьюшка. У вас есть дорогой товар. А у нас молодой купец-молодец. У вас красавица Ульяна. У нас — Федюшко, и собою ладен, и по всем статьям пригож… Любит он вашу дочку.
В это время в дом вошел молодой мужик. Усы цвета спелого ячменя, а лицом очень похож на Ульяну. Федор понял: это и есть Пантелеймон, брат Ульяны, недавно вернувшийся с войны. Пантелеймон, не останавливаясь, подошел к Федору.
— Здорово, матрос. Тоже отвоевался?
— Точно, Панте. Свое и я получил, — ответил, здороваясь за руку, Федор.
— Во-во, пусть теперь сами, кому охота, воюют. Не иначе, Федор Михайлов будешь, из Изъядора? — спросил Панте.
— Он, он, с верховьев Ижмы, матрос. Вот сестру твою пришли сватать, — опередила ответ Федора мать Ульяны ворчливым голосом.
Пантелеймон уже начал раздеваться, но, когда услышал о сватовстве, вдруг разом помрачнел:
— Ну, матрос, ежели ты со сватовством, то ошибся домом. Для тебя, парень, здесь невесты нету. Ищи в другом месте.
Сказав это, Панте вновь застегнулся и открыл дверь, чтобы выйти.
— Ты куда же, сынок? — спросила мать.
— Надо по делу, — резко бросил Пантелеймон и ушел. Выражение лица у матери было недовольное, почти брезгливое.
— Если вы по такому поводу, Петровна, то сразу скажу — в нашем доме только зря время потеряете. Такой товар у нас не продается. Ульяна нам пока не в тягость. Пока она для нас и радость и помощь.
Так сказала Дарья, сказала-отрезала и ушла к печке, считая разговор законченным. Бабушка помедлила, видно слегка ошарашенная таким резким отказом. Потом сказала мягко:
— Дарьюшка, золотце, да ведь все правда, что говоришь, все правда, кому ж такая помощница помешать может? Да ведь и то правда, что нельзя такой товар доводить до того, чтоб он лишним стал. Ой, нельзя. Добрый товар не передерживают, сама знаешь. Коли передержать, ему и цена иная будет. И пусть бог побережет вас от этого. А нонче, слава богу, светится ваша Ульянушка, как красно солнышко. Ей ли не самого пригожего выбрать…
Так продолжала бабушка свою сватовскую линию. — А ты не хлопочи об этом, Петровна, — уже с нескрываемым раздражением отозвалась Дарья. — Это уж наша забота, а в случае чего и убытки наши…
Во какая непримиримая! Хоть бы лицо подняла, пока говорила.
— Может наш Федор вам не но сердцу? Так вы его, поди, и не знаете… А я вам истинную правду скажу: человек он с большим и добрым сердцем, наш Федюшко. Не для похвальбы говорю, а как оно есть, взаправду. Да на любой работе и на охоте он ловок да удал. За ним Ульянушка как за каменной стеной будет.
— Боже нас упаси худое слово про вашего Федора сказать, — подняла-таки голову Дарья. — Ничего худого сказать не можем. Мы к Федору Михайловичу со всем уважением. Но Ульяну из дому никуда пока не отпустим. Всего-то семнадцать ей, пусть еще покрасуется, у отца-матери поживет.
— Восемнадцать скоро… через месяц, — подала вдруг голос Ульяна.
— А ты помолчи, — сердито цыкнула на нее Дарья. — Тебя еще не спрашивают… Подойник возьми да займись делом, корова до сих пор не доена. Торчишь тут… Ульяна выскочила из избы. А Дарья накинулась на мужа:
— А ты чего?! Воды в рот набрал? Или дочь надоела, избавиться норовишь?
— Дык… говорено уж, чего еще без нужды болтать. Ульяна наша не вековуха какая, чтобы за три реки отдавать. Не обессудьте, прошу, — сказал наконец свое слово Иван Васильевич.
Бабушка недовольно поджала губы, медленно подняла шаль с плеч на голову.
— Ну что ж… насильно, как говорится… Пойдем, дитятко, отсюда. Ежели нас не уважают… мы и сами можем…
Бабушка встала и, не глядя ни на кого больше, пошла к дверям.
Федор сказал ей вслед:
— Ты, бабушка, иди, а я два слова Ивану Васильевичу скажу, с глазу на глаз.
Бабушка обернулась к Федору. Голос ее стал твердым, даже удивительно, как может перемениться человек за одну минуту:
— Ежели есть что сказать — скажи, конечно. Да только не унижайся, Федюшко. Мы свататься пришли, это да, но мы не нищие какие… — Бабушка еще что-то хотела добавить, но сдержалась и вышла из избы.
Здесь для русского читателя надо сказать, что бабушка очень складно предупредила Федора, потому что по-коми тот, кто сватается, называется корасьысь. А нищий будет — просто корысь. Тут у бабушки получилась не случайная игра слов: корасьысь и корысь. Сватающийся, конечно, тоже просящий милости. Но не нищий!
В избе повисла на некоторое время настороженная тишина. И в этот момент вошла Ульяна. Федор даже обрадовался, что она вошла: пусть слышит, что он скажет ее отцу. И он сказал:
— Иван Васильевич и Дарья Трофимовна. Я целый год ждал этого часа. Как я закончу службу, как сюда приеду, как попрошу руки вашей Ульяны… Вот, и при ней скажу вам честно, от всей души. Люблю я Ульяну. Целый год сердце маялось. И, кроме Ульяны, никто мне больше не мил и не нужен. Да и ей я вроде небезразличен, знаю…
— Больно речист ты, уж до того гладко баешь… Оно конечно, взрослый мужик уже, неразумную девушку можешь обвести вокруг пальца, — перебила раздраженно Дарья Трофимовна.
— Никто меня не обманывал, — отозвалась Ульяна. — Я сама люблю Федора… вот. И ждала… только его и ждала. И кроме него, все равно ни за кого не пойду! — и заплакала.
— Молчи, говорят тебе, помолчи, — снова цыкнула Дарья на дочку. — Спрашивают тебя? Сегодня нету еще твоей воли, ты пока что сама не соображаешь, чего хочешь и кто тебе надобен. А ты, мил человек, — Дарья поклонилась Федору, — не досаждай нам больше, Христом-богом тебя прошу. Оставь ты нас и Ульяну не тревожь. Ты же годов на десять, поди, старше! Должен же понимать… не пара она тебе. И это наше последнее слово, Федор Михайлович. Ты вот без родительского благословения решил жить. А наша Ульяна не будет этак…
Федор встал.
— Иван Васильевич, а ты чего скажешь? Тот только руками развел:
— То же и скажу, Михайлович, ты уж не обижайся. Далеко отдавать нам неохота…
— Как же… говорите, будто любите родную дочь, а плакать заставляете… Одно обещаю: буду ее жалеть и беречь, всего себя положу, чтобы она горя-заботы не знала…
— Ну-ну, еще не твоя, чтобы жалеть. Не липни, Федор, ради Христа, уйди, слушать больше ничего не хочу, — уже откровенно сердилась Дарья.
— Да ведь что делать, если согласия не даете. Придётся уйти, Дарья Трофимовна. Не стану больше вам досаждать. Но скоро опять приеду. Если смущает вас родительское благословение — так и быть, отца с матерью привезу, повалимся вам в ноги все трое. Но тогда уж так просто не уеду. Если не уговорим и если сама Ульяна от своего слова не откажется, тут уж я вашу дочь увезу, заранее предупреждаю, чтобы все было честно, безобманно. Так что ждите, на масленице или чуток попозже…
Федор вышел. Ну вот, посватался. Ладно. Главное, сказал все, как думал, ничего на сердце не оставил. Недалеко от дома стояла двое. Похоже, его поджидали. Еще не хватало вторую войну тут воевать…
Подойдя ближе, Федор узнал обоих: брат Ульяны. Пантелеймон, и дружок его Никита, тот самый. Не замедляя и не ускоряясь, Федор спокойно шел мимо, готовый ко всему. Панте хлопнул его по плечу, не больно, но и недобро:
— Слушай, матрос. Я на тебя сердца не имею, но два раза повторять не люблю. Ты заруби себе на носу: к нашему дому дорогу забудь. И Улю из головы выкинь. Понял меня?
— Слушай, Панте, — сказал Федор. — Ты хоть и брат Ульяне, а ее судьбою распоряжаться не можешь. Это ты себе заруби на чем хочешь. Ее судьба и моя судьба — это наше с ней дело, понял? И приказывать мне, как жить, не советую. Если не знаешь, как с матросом разговаривать, — спроси вот у этого, — Федор ткнул в сторону Никиты. — Он в прошлом году попробовал.
— Ах, какой храбрый в чужой деревне… Убирайся отсюда, матрос, чтоб духу твоего здесь больше не было. И пару себе поищи там, на Ижме! — Панте зло шагнул к Федору, готовый если не ударить, то хоть крепко толкнуть. Приблизился и Никита. Федор резко остановился:
— Ну вы… оба-два. А ну осади назад. Осади, сказал! С тобой, Пантелеймон, я драться не могу и не хочу — ты брат Ульяны, и ни к чему между нами кровь лить. А ты, Никита, если еще сунешься, я тебе так грабли изломаю, что уже никакая бабушка не поправит.
Голос Федора прозвучал с такой сдержанной злобой и силой, что оба остановились. Федор повернулся к ним спиной и пошел, не оглядываясь, к бабушкиному дому. Нельзя Пантелеймона трогать, даже если он первый ударит. Тут разом можно все испортить и Ульяну с родными поссорить… Только добром, только добром — если любишь. Да и что тут силой доказать можно?
О своем сватовстве Федор рассказал родителям в первый же день своего приезда. Они не удивились и не осудили сына. В его-то годы такие дела мужик имеет право решать сам. Конечно, посоветоваться с отцом-матерю тоже хорошо, но это, как говорится, только долг вежливости. Годы вышли, пора себе пару подыскивать. Опять же, расстояния на коми земле велики, пока туда, пока обратно, пока советуешься, лишний год пройдет… Версты здесь немеряны. А время — оно бежит, бежит, окаянное. Только, как и бабушка, отец с матерью обиделись на такой решительный отказ, который получил Федор в своем сватовстве.
— Что ж теперь, коли не хотят с нами породниться? Чего уж непременно туда лезть? — заворчал отец, — Да начхать…
— Нет, батя. Не начхать. Мне не с родителями ее жить, мне Ульяна нужна. Свадьбу сыграем, тогда пускай себе что хотят, то и думают. У нас своя жизнь будет.
— Вона Лизка Василь Дмитрича подросла, любо-дорого посмотреть. Для нас лучшей невестки и не сыскать, — продолжал отец все так же ворчливо.
— Вам, батя, может быть, и не надо. А у меня в голове только Ульяна. И больше никто.
— Ну вот, незадача… И что же тогда делать, раз не выдают за тебя твою Ульяну? — Отец не спорил и не злился, не тот случай, он только как бы совета у сына спрашивал, чтобы одобрить или отвергнуть готовое решение. И помочь, если нужно, это само собой.
— Выдадут, — со спокойной уверенностью сказал Федор. — Куда они денутся? Только бы Ульяна не передумала. А на них я управу найду. Завтра же уйду в лес. Попрошу у лесовичка одолжить мне маленько своего богачества… Да потом, зимней дорогой, снова съездим. Втроем съездим, я, ты, отец, да и матушка. Втроем, — подчеркнул Федор. — Да с подарками побогаче. Железо и то мягчает, как его нагреешь.
— Мы-то не против, сынок, — включилась мать в разговор. — Да ведь и ты их пойми: жалеют они дочку, как не пожалеть? Такую даль замуж отдавать. Это ж все равно что из сердца вырвать.
— Ну-ну, — усмехнулся отец, — так уж и вырвать… Ладно я тоже не против. Подготовимся и съездим зимой. Правду говорят: не спеша и ольха согнется, а круто возьмешь — и черемуху сломишь.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Кто их считал — богатства коми тайги? Коми пармы… Без конца и края она, наша тайга… Несчетны ее богатства, безмерны…
Да вот, попробуй их взять! Ох, много силушки поистратишь, даже если умелый ты человек. А неумелому в парме и делать нечего. У нас говорят: трудолюбу бобер-соболь сам в избу идёт, по углу дома подымается. Это только говорится, что сам. А поди-ка возьми его, бобра-соболя, в тайге. Ну-ка, ухвати за хвост… Конечно, ленью жизнь не загустеет. Это — так. Но пока до бобра-соболя доберешься, сколько ж раз одежду от пота на костре сушить будешь! Весь — насквозь — от пота промокнешь, вплоть до подметок… Сколько раз бывало — до шалаша или охотничьей избушки доберешься уже ночь-заполночь и, уставший до смерти и голодный как зимний волк, упадешь за дверью, прислонишься к черной от сажи стене, и нету больше сил пальцем шевельнуть. Так и заснешь, не раздеваясь, весь мокрехонький, так и проснешься, сидючи, и не сразу сообразишь, мертвый ты или еще живой, и где это тебя угораздило уснуть, и не в могиле ли ты очнулся, уже закопанный со всех сторон…
Очухаешься, сообразишь себя в пространстве и прикажешь — встать, встать, поесть-подкрепиться, чаю попить, одежду посушить, а главное — зверя-птицу, которую ты сегодня у пармы одолжил, освежевать, натянуть-повесить на просушку, все определить по своим заведенным местам… И вставай, вставай, охотник, сначала себя покорми, потом чаю попей, потом добычей займись, мало ли что устал, если вовремя все не справить — пропадут труды, даром пропадут, так что ты сначала по-доброму все сделай, через не могу, через не хочу сделай, а потом уж, если время останется — доспишь. А завтра, чуть синева обозначится — снова в лес, искать для себя богатства, которое пока, с ногами-крыльями, по лесу бегает, по-над лесом летает, а ты найди в себе силы — догнать-перехитрить-добыть… Да еще надо, чтобы все было сделано с добрым сердцем. Это уж — обязательно. А почнешь в парме злиться, не станешь тайгу уважать… У-у-у, того и гляди — уведет она с твоей охотничьей тропы и спрячет свое богатство, да так далеко спрячет, и так глубоко зароет… ищи свищи потом, хоть денно, хоть нощно, только ты и видел свою добычу. Федор охотился с отцом всю зиму. Отец через каждые десять дней выходил домой, хоть ненадолго. Выносил добычу, а из дому брал хлеб и что-нибудь из домашней снеди. Сам Федор только однажды и вышел из лесу — на Рождество. Другого послабления себе не сделал. Всего-то два дня побыл дома, а почудилось ему, будто пробездельничал целую неделю. И все казалось еще, что терял он, терял нечто большое и дорогое для себя — терял с каждым зря, праздно прожитым часом. И на третий день Рождества собрался в лес. Один. Отец еще оставался дома, много дел у него накопилось: и одежду починить, и обувку, и всякой другой чисто мужской работенки. Собак Федор тоже не взял: при этаком глубоком снеге собаки стали только лишними ртами на охоте. Что могли — до сугробов, — они для него набегали. Теперь до твердого наста дает им Федор полную отставку. Лес не море… Если в море тот же крейсер пашет широким своим брюхом на глубину аж пяти саженей — а через две версты уже никакого следа за ним нету, то в лесу зимою мышь пробежит, а свою роспись оставит. Всякий зверь в тайге, пока живой, рано ли, поздно — пойдет искать себе пропитание. Заяц ли, горностай ли, куница — всякий.
А уж Федор по следу распутает, кто куда правится, кого где искать. Опять же петли-капканы. Они десятками насторожены, день и ночь зверя на прикорм манят. Только не ленись, натирай пихтовыми ветками, натирай это железо, чтобы отбить запах, да сумей найти место половчее, где поставить-спрятать. После Рождества Федор больше охотился с верхней избушки. Сходит с нартами и добычей в свою основную избу в Ошъеле на денек, проверяя по дороге капканы и петли, попарится в жаркой баньке и обратно. В этот день, теперь навсегда памятный, Федор вышел рано. Еще версту не дошел до избушки — стало совсем светло. И видит он: кто-то старую его лыжню будто прокопал поперек… Подошел ближе, и сердце забилось радостно: от ямы на лыжне уходит на север след крупного зверя. Рысь! Вот это пофартило… Легкий холодок обдал плечи, потому что понял Федор, рысь его на лыжне поджидала, укрылась в ветвях сосны и ждала, ждала, но в последний момент смелости не хватило напасть на двуногого… Ах ты, короткохвостая! Где ж ты шастала столько годов? Рысь, конечно, пришла со стороны, раньше здесь она себя не обнаруживала, Федор заметил бы или отец, такие следы только слепой не увидит. Ну, со стороны так со стороны, мы тебя не приглашали, но уж встретим, видит бог — встретим по-царски, это ты будь уверена, рысь. Ого, ничего себе… Да если такими прыжками несется она по глубокому снегу — больше сажени каждый прыжок — сильна… Ну и ну, ну и кисуля… Ну что ж, кисынька, след твой еще тепленький, теперь — давай кто кого. Федор торопливо повесил лямку от нарт на низкий сук, снял ружье из-за спины, заменил патрон на крупную картечь. И — рванулся по следу. Отметил про себя: в снегу кисуля после прыжка увязает по грудь, никак не меньше того. Значит, надо заставить ее подольше вот так прыгать, не давая времени отдохнуть. Когда-нибудь выдохнется, какая ни сильная, а выдохнется. Все выдыхаются. Саженей через сто рысь останавливалась, выжидала и прислушивалась. Потом снова начинала серию прыжков. И снова замирала, слушая лес. Давай, давай, скачи, разговаривал с рысью Федор.
Поглядим, кто кого перескачет. Он закинул ружье обратно за спину и, опираясь на охотничье копье, быстро пошел рядом с рысьим следом. Видно было, как после каждого прыжка рысь проваливалась глубоко передними лапами, но зверь был большой и сильный — Федору пришлось бежать на лыжах, чтобы расстояние между ними не увеличивалось в пользу рыси. Следующую остановку она сделала через полверсты, затем резко сменила направление. Aгa, чуешь, радовался Федор. А ты думала, я отстану, ты думала, не ради тебя я по парме бегу? Теперь я от тебя не отцеплюсь, не-ет, теперь я крепко прилип, кре-епенько… Ты в моем подарке Ульяновым старикам будешь ба-альшим козырем! И Федор прибавил ходу. Догоним, еще как дого-оним, киса, ты же не лось длинноногий, твои-то лапки покороче, это лось может запалить охотника в гонке, а ты, милая, нет, не сможешь…
Гнался Федор за рысью без роздыха, сам не отдыхал, не давал и зверю передышки. Утром морозец пощипывал щеки, а к полудню вся спина взмокла, пот ручейками просачивался за пояс, под опушку кальсон. Усы, брови, ресницы обледеневали на ходу. Федор, не останавливаясь, счищал с себя сосульки. Лыжи слегка проваливались, не скользили чисто поверх снега, а то бы… Но тогда и зверю легче было бы уходить. А теперь вона как укорачиваются ее прыжки, уже в полсажени стали, ну, скоро я тебя прижму, кисынька, погоди маленько… Вдруг Федор увидел: зверь уже не может от него оторваться, идет впереди всего на семьдесят, от силы — сто саженей. Но держит, держит разрыв, страх подгоняет кошку, и жмет она на все четыре лапы. Так что никакого преимущества у Федора, в сущности, нету. Длинная гонка получается, длинная. И если Федор до темноты ее не догонит, за ночь зверь отдохнет и совсем убежит, не станет ведь рысь ждать, пока рассветет. А Федору ждать придется, в потемнях по тайге много не набегаешь… Значит, надо наддать! И он, вдохнув поглубже, пошел быстрей, пытаясь отбросить, отбросить усталость, уже вязавшую его по ногам и рукам. Бежали еще около часу, и Федор увидел наконец: рысь падала в снег. Ему даже жалко стало вусмерть уставшего зверя, но и сам он готов был растянуться пластом и лежать, лежать без движения, замереть на снегу… Правда, упади он сейчас — снег протает под ним до самой земли, это ж все равно что горячий, прямо из огня камень бросить. От Федора шел крутой пар, будто уже не человек скользил по тайге на лыжах, а паровой котел…
Рысь свернула в сторону, Федор держал ее в поле зрения. Увидел, что свернула, и решил срезать дорогу. И правильно решил. Они выбежали на широкое открытое болото, и Федор заметил, как резко сократилось расстояние между ними. Саженей пятьдесят оставалось теперь, не больше. На белом снегу лежал серый комок. Умаялась, бедная, упарилась… Ну-ну, не только мне достается, и тебе перепадает. Рысь увидела Федора, тяжело поднялась и, вяло подпрыгивая, пошла, пошла к лесу на той стороне болота. До леса оставалось еще полверсты, немного совсем, но и не мало. Надо теперь выложить все, какие еще оставались, силы — и попробовать нагнать. Нагнать! Добраться на расстояние выстрела. Федор бросился вдогон. Если бы рысь сумела без остановки добежать до леса, кто знает, как бы там повернулось, потому что после такого рывка Федор непременно замедлился бы в лесу. Но рысь снова легла на болоте. Она растянулась на снегу, потом выгнула спину навстречу охотнику, зарычала грозно, готовая броситься, если враг подойдет совсем близко. Федор резко остановился. Сердце гнало и гнало кровь по жилам, и ему показалось, будто оно вырывается из груди, только ищет слабого места в теле, чтобы окончательно вылететь… Словно молотом били по голове, бухало в висках, в глазах было черно, и валила с ног страшная усталость, необоримая, как у самой рыси, что лежала, не в силах двинуться дальше, и скалила зубы навстречу охотнику. Он успел упереться копьем в лыжи и сам оперся на копье: ноги его не держали. Десяток саженей всего-то и отделяли его от зверя. Но зверь не мог идти дальше, а у охотника не было сил, чтобы достать из-за спины ружье.
Рысь скалилась, понимая, быть может, что человек уже не подойдет ближе — не может. А он пытался успокоить сердце, прояснить глаза, иначе ему и с двадцати шагов не сделать годного выстрела. Сердце замедлялось, замедлялось, и вот перестало стучать в ребра. Федор несколько раз глубоко вздохнул и — выпрямился. Воткнул копье рядом с собою в снег. Потянулся за ружьем. Рысь уловила новое движение человека и снова поднялась- бежать. Тяжело прыгнула раз, другой… Федор уже держал ружье в руках. Рысь снова легла на снег. Алая пасть с шипением раскрылась навстречу выстрелу…
Федор постоял еще немного, окончательно успокаиваясь.
Подошел. Взял за загривок и приподнял голову с короткими тупыми ушами. На концах ушей торчали волосяные кисточки длиною в два вершка. Весила рысь без малого пуда два, не меньше. Ничего, не зря заставила целый день бежать следом. Спасибо тебе, кисынька, что ты попалась, спасибо, что устала, дала подойти поближе… Федор с трудом выпрямился, встал. Попытался определиться, куда ж его занесла эта гонка. Признал место — до Сухого болота добежал, надо же… Это ж от верхней избушки где-то около пяти чомкостов будет. Вон там, к западу от болота, горючий газ с тухлым запахом из-под земли выходил. Там придется и на ночь устроиться… Мороз уже забирался под насквозь пропотелую одежду, становилось холодно. Торопливо, чтобы не успеть вовсе остыть и замерзнуть, освежевал он добычу. Снимал шкуру и — радовался: значит, есть у них с Ульяной счастье. Есть! Во имя Ульяны и гнался сегодня Федор за рысью. Такой зверь с густющей шерстью, с красивым бледно-желтоватым окрасом — редкая удача, очень редкая. С такими подарками не стыдно снова появиться перед строгими очами родителей. Две лисицы у него, три куницы, рысь… Да до Великого поста есть время, чего-ни-то добудет еще Федор, есть еще время, есть…
Он аккуратно свернул мягкую сырую шкуру, уложил в задний мешок лузана и пошел вдоль опушки леса. В конце болота, между редкими деревьями, нашел то самое место. На довольно широкой поляне снег пожелтел кругом, а в середине того круга — дырка-воронка. Федор подошел ближе. Если газ в этой воронке загорится, как раньше, то здесь же, рядышком, он разведет второй костерок, и промеж двух огней его никакой мороз не достанет. И можно высохнуть, не рискуя простыть, и отдохнуть, сколько надо, в надежной ласке тепла. Он сделал топором зарубку на березе и выдрал кусок бересты. Вернулся к той воронке, зажег бересту, подождал, не погаснет ли огонь от быстро тающего вокруг воронки снега. Нет, не погас. Горит! Он облегченно вздохнул: такое пламя и согреет сразу, и место вокруг осветит ярче всякой лампы, и площадку для ночлега можно будет попозже расчистить в этом свете, а сейчас согреться чуток и скорее для ночного костра нарубить сушняка, а для себя — лапника на подстилку. Неподалеку свалил два кондовых дерева, разрубил пополам, притащил к костру. И стемнело уже. Прикинул, как далеко от этой земной горелки устроить рукодельный костер, чтобы грело с обоих боков, но не жгло.
Кольями закрепил друг на дружке приготовленные для костра деревья. Лапник на очищенную от снега землю настелил в три слоя, а сверху уложил свои широкие охотничьи лыжи камысом вверх. Отменный получился диван! Пока не снял лузан, Федор еще раз пошарил в переднем кармане. Ничего не нашел. Откуда и найдешь, если сам не положил! Вышел-то он от одной избушки к другой, потому и сглупил, даже сухарика в карман не сунул. Тьфу ты, господи прости! Словно несмышленыш какой, а не взрослый мужик, ругал себя Федор. Сказано же из веку: идешь на день, бери хлеба на неделю… А тут и малого сухаря не оказалось с собой.
Но ничего, за-ради такой удачи… можно и потерпеть. Сутки потерпишь, полтора… второй раз без сухарика с места не тронешься… Так костил себя Федор, на чем свет стоит ругал, голодный донельзя и донельзя довольный неожиданным фартом, свалившимся на его голову. Хотя, конечно, неожиданным этот фарт был там, утром, когда он увидел рысью яму на своей лыжне. А потом — долгие часы гонки за зверем… это уже слепой удачей не назовешь. Нет, не назовешь. Это уже погоня до седьмого пота. Это уже работа. Вот если бы он каким-то манером подстрелил ее там, на лыжне, не гонясь до темноты… Но таких удач, почитай, не бывает. Над головой в небе свободного, без звезд, места не было, прямо друг на дружке горели, и все небо горело белым огнем. Федор поискал Полярную звезду. И определил себе на завтра, в каком направлении двинуться. Придется ведь новую лыжню торить, старая не годится. Слишком извилиста выйдет, длинна. Костер славно грел Федору спину. А спереди ласково гладило теплом лицо и грудь слегка шипящее газовое пламя. В лесу начал потрескивать морозец, он крутился где-то рядом, за костром рукодельным и за этим подземным сказочным пламенем. Костер, конечно, к полуночи придется поправить. А этот газовый, интересно, сколько будет гореть? Этот же не поправишь. И горит ведь без дров, безо всего… Давненько они с отцом здесь были, ой давно. Тоже — грелись. А потом еле потушили. Мокрым мхом пришлось гасить, из болота нарочно вынимали пучками. В четыре руки хлопали мох прямо на огонь, а он как бес лукавый — хоп! и сбоку вылазит. Ну, сейчас вокруг снегу полно, потушит Федор подземный огонь. Откуда ж ты такою силою прешь? Неужто газ болотный со дна болотного собирается?
Или, может, из дальних глубин земных? Скажем, по трещинам. Как керосин по фитилю. На Ухте, когда Федор в молодости ездил смотреть, нефть искали глубоко, дырки в земле крутили. А ведь и здесь что-то вроде черного дегтя выдавливает земля вместе с горючим газом. Может, и это — нефть? Рубашка на спине подсыхала, хорошо стало спине, горячо. Федор прилег на лузан, вытянул замлевшие ноги. Задремал промеж двух огней, в надежном тепле… Утром он не стал ждать появления синевы на небе. Направление он знал, пора было идти. Дорога предстояла нешуточная… На свою постель из лапника он сначала набросал снега, много снега. Плотно его утоптал, чтобы не рассыпался. Затем конец подстилки подтянул ближе к пламени. Зашел с другой стороны, подсунул руки под лапник, поднял всю постель и опрокинул ее вместе с утрамбованным снегом. Сам встал сверху и потоптался — для верности. Пламя, слышно, зашипело под лапником. Федор подождал еще, не выглянет ли откуда огонь. Нет, сразу сдался. Затих. Спасибо тебе, подземный огонь, всю-то ночь защищал от мороза. Спасибо тебе. Федор надел лузан, подошел к своему костерку, протянул ладони, погрел руки. И тебе спасибо, друг старый. Живи-гори до конца, не стану и тушить тебя. Снега вокруг, снега — беды не наделаешь. Надел лыжи, закинул ружье за спину и стал лицом к верхней избушке. Сегодня уже не надо никого догонять. Сегодня можно потягаться только с самим собою. Пусть свободно, без лишнего напряга, но идти придется довольно споро, с развальцем-то не получится. До темноты надо бы на свою охотничью лыжню выйти. Такая задача. С первого шага Федор взял нужный темп, вот такую именно скорость, не больше и не меньше. И затем уже целый день не сбавлял и не прибавлял. Шел и шел. Сегодня не соблазняли его никакие следы зверей: нету времени, и сил нету. Только в памяти оставлял: где что видел. А вот когда встретились следы куницы, — одной, второй да и третьей! — он чуток призадержался и сделал несколько зарубок, в одну — крестом — закрепил щепку: сюда надо прийти с ночевкой поохотиться. Может, и шалашик соорудить. Куницы того стоят.
На свою постоянную лыжню Федор вышел засветло, но пока добирался до избушки, небо снова усыпали звезды. Докатил на лыжах до самой двери.
— Пришли-приехали, — с глубоким вздохом объявил себе Федор, снял лыжи и приставил к стене.
Рядом на деревянный колышек повесил ружье. Вытащил из-за спины топор, воткнул в нижнее бревно. Все как всегда. Снял лузан и, с трудом нагнувшись, вошел в темноту избушки. Тяжело опустился на скамейку у входа. Ощупью нашарил спички. Уже после того как зажег лучину, долго сидел без движения, низко опустив плечи. Очистил усы, брови от сосулек. В избушке, не топленной уже трое суток, после леса казалось тепло.
Федор снял с крюка котелок с супом из зайчатины, заглянул в него при свете лучины. Вот славно, не промерз. Дотянулся до переднего угла, взял со стола ложку. Поставил котелок на колени и начал хлебать острохолодный суп. Не было сил разводить огонь в очаге и ждать, пока согреется. Ну, что человеку еще надо, коли есть у него в котелке такая вкусная похлебка из зайчатины! Вытащил заячью ногу и обглодал. Нет, не наелся, далеко еще было до настоящей сытости, но хватит, хватит пока. Какое-то топливо в себя он загрузил. Теперь надо открыть дымоволок и разжечь каменку. Открыл. Разжег. Дым колыхался под потолком, а Федор снова присел на скамейку. Бывает же такая усталость — как тиски. Дрова разгорелись. Федор повесил над каменкой котелок с остатками супа и котелок для чая. Прежде чем снова сесть за еду, достал рысью шкуру, осторожно расправил, растянул в дальнем от печки углу. Теперь он не жадничал, ел не спеша, согревая нутро, ел с сухарями, потом с куском сахару выпил чаю. Все, слава богу, хорошо обошлось. Федор вздохнул и перекрестился. Пусть бы и дальше так. Дай нам бог…
В избушке стало тепло. Федор разделся, потушил лучину, вытянулся на мягкой, теплой лосиной шкуре и уснул, как только голова коснулась подушки.
Родная парма-тайга тоже, видно, соскучала по Федору. Ему вот как нужна удача — и тайга давала ему охотничье счастье. Не жадничала. Словно слышала родная парма сердечную боль и тоску по Ульяне и помогала ему, помогала, выводила на его охотничью тропу свои богатства. Как иначе, без помощи пармы-тайги, усмирить будущих тестя и тещу?.. И Федор не жалел сил. Четыре месяца он то утопал по колена в снегу, то легко скользил по насту — и выслеживал, и догонял, и радовался.
Сколько же сотен верст лесных прошел он в ту зиму, выслеживая зверя, проверяя капканы и петли? Если бы вытянуть его лыжню в линию, ой, хватило бы до Кронштадта, не меньше того.
На масленицу пали сильные оттепели. Один день был такой — и небо и воздух клубились водяной пылью, но следом снова похолодало и установился крепкий-крепкий наст. Как только повеяло оттепелью, Федор вышел из лесу домой. Но похолодание не заставило себя ждать, приморозило, и на второй же день он снова ушел в лес. И обеих собак взял с собой. Неделя выдалась удачной, добыл он за это время двух лосей и одного оленя. Собаки по насту легко гнали зверя, а Федор, выждав, уже шел на их голос. Вскоре снова выпал мягкий снег, прикрыл собою наст, и снова пришлось отправить собак домой.
Как-то мать не выдержала, принесла ему в охотничью избушку домашней еды. Сидела за столом, с любовью и жалостью смотрела, как ест сын, как обтянулось его лицо сухой воспаленной кожей, какая глубокая усталая тень пролегла под глазами.
— Сам-то, сынок, когда хочешь из лесу выйти? — спросила мать. — Пора ведь. Если не раздумал на Ульяне жениться — надо и собираться. Убиваешься за-ради подарка, эвон, лица на тебе нету, и так ведь не с пустыми руками придешь…
— Не, мама, не раздумал. Как это можно раздумать на Ульяне жениться? Что ты!
— Вот и отдохни перед тем, как в Кыръядин ехать. Одни кости да кожа остались, приедешь, Ульяна тебя и не признает…
Федор улыбнулся, подошел к зеркалу на стене, провел по щекам, подбородку ладонью — н-да, глаза куда-то внутрь провалились… Вроде и постарел даже. И правда, заявишься этаким лесовиком к Ульяне — или не признает, или напугается. Да и родители, помнится, корили его, мол, гораздо он старше их дочери…
— Ладно, мама, уговорила. Вынесу лося и приду.
Вернувшись из леса, Федор отдыхал дома целую неделю. В баню ходил через день, брился, отъедался. Вспоминал, как гнался за рысью. Мать старалась кормить его повкуснее. И стал он заметно глаже, ничего, снова вошел в тело. Не столь уже выпирали кости.
В Кыръядин поехали на двух лошадях. Вторые санки взяли у соседа. Перед отъездом собрались на семейный совет и все вместе определили подарок.
Федор первой положил шкуру рыси, уже выделанную, — загляденье. Отец поболтал перед собою двумя шкурками лисицы — и положил свой вклад. Мать тоже слово сказала:
— Куницу добавьте, мужики. Хотя бы парочку. Если упираются родители… так ведь хорошая девушка во сто крат дороже любых шкурок. И Ульяне еще самой останется… вона сколько, слава богу, добыли, давно столько не было.
Все сложили и завернули в большой красивый платок. Решили взять с собой оленью тушу и задок лося. На свадьбу. Если сладится. Поехали. В Кыръядин прибыли уже после полуночи. Всех, конечно, всполошили. Затем до рассвета проговорили. Обо всем на свете — соскучились родные, давно не виделись. За разговором выяснилось и главное, Анна доложила: у Ивана Васильевича теперь все дома, а Ульяна сильно горюет и ждет Федора. Даже похудела. Мать все ругает её, и брат Пантелеймон злится. А отец вроде бы начинает Ульяну жалеть, потому — видит: не каприз у нее, а чувство.
Договорились, что завтра в обед и пойдут свататься. Втроем пойдут: мать, отец и сам Федор. Только после этого улеглись.
На следующий день запрягли одну из лошадей, в сани положили оленью тушу, прикрыли сеном. Анна, конечно, успела сбегать к подруге и шепнуть о приезде Федора с отцом и матерью. Ульяна от радости даже заплакала. Принарядились, как на большой праздник; если пригласят раздеться, чтоб не стыдно было. Федор вообще-то на службе подраздался в плечах, но после долгой беготни по лесу все же сильно похудел и выходная одежда молодости пришлась ему как раз впору: кумачовая рубаха, брюки и пиджак тонкого серого сукна. Из-под пиджака слегка высовывался вышитый подол рубахи и красивые, переливчатые кисти пояска. Был он в пимах с длинными голенищами и в шапке оленьего меха с длинными же ушами. Только сверху надел свой черный матросский бушлат. Чтобы кое-кто не забывал, что в недалеком прошлом он был матросом. Федор привязал лошадь к крыльцу. Вместе с отцом занесли они оленью тушу в сени, за ними степенно шла мать со свертком подарков.
Иван Васильевич с сыном Пантелеймоном сидели под полатями на табуретках и с двух концов шустро вязали сеть. Неподалеку устроилась Ульяна с прялкой.
Но когда вошли гости, она растерялась, унесла прялку, а сама юркнула к матери, которая, как обычно, возилась у печи. Федор заметил, как Ульяна, прижав обе руки к груди, умоляюще смотрела на мать. Потом, пока гости крестились, выбежала из избы.
— Доброго счастья, долгой хорошей жизни вам, живущим в этом теплом дому. Доброго вам всем здоровья, — поздоровался отец.
Он поклонился мужикам, плетущим сеть, затем повернулся и медленно поклонился хозяйке. Федор и мать поворачивались вслед за ним и кланялись своим чередом.
— Отдохните, погрейтесь. — Иван Васильевич поднялся с табурета и отложил работу. — Гости к нам пожаловали издалека…
Хозяин за руку поздоровался со всеми тремя и сел на лавку, поближе к столу.
— Садитесь, гости дорогие, отдохните… — отозвалась и Дарья от печки, но к гостям не подошла, а с пустым ведром вышла из избы. Пантелеймон тоже поднял голову, осмотрел вошедших, даже и головой кивнул, но продолжал ловко вязать свой конец сети.
— Да вроде и не замерзли сегодня, и ноги наши не перетрудились… Но присесть придется, — неулыбчиво и с достоинством произнес отец и первый сел на лавку у порога, с другого конца стола. Федор с матерью устроились рядом.
— Мы к вам, Иван Васильевич, по большому делу пришли, — взяла мать нить разговора в свои руки. — По большому, по серьезному делу. И как же это, Иван Васильевич? И дочь твоя, красивая да милая, и Дарья… Нас, что ли, испугались да сбежали? Без них ведь наш разговор — не разговор.
— А ну-ка, Панте, сходи. Куда их вдруг… бес потянул, — сердито повелел сыну Иван Васильевич.
— Сами придут. Не навек вышли, — не оторвался от работы Пантелеймон, и по голосу его можно было понять: злится.
— Сходи, — веско повторил Иван Васильевич. Пантелеймон тут же бросил вязание и заспешил к двери. Но навстречу ему уже шла Ульяна. Федор с радостью увидел на ее плечах черную шаль в пышных красных цветах, его подарок.
— Вот они сами, — буркнул Панте, снова садясь за работу.
За Ульяной вошла и мать, недобрыми глазами смерила дочь, незваных гостей.
— Там у нас в сенях… оленья туша… Ваша, что ли? — спросила Дарья.
— Мы принесли, — поднялся Федор, — вам, Дарья Трофимовна.
Затем взял у матери сверток с подарками и положил на стол.
— Вот, Дарья Трофимовна, я же говорил… что приеду свататься еще до Великого поста. Вот и приехали. И батя, и матушка — как и обещал. Снова бью вам челом и прошу выдать за меня Ульяну. А тот олень и эти вот шкурки — вам в подарок. От всего сердца. Не обессудьте, не откажите принять.
Федор развернул сверток. Он брал каждую шкурку, встряхивал ее на свету, на вытянутых руках и бережно укладывал прямо на стол.
— Сам для вас старался…
Дарья подарки даже взглядом не удостоила.
— Я же сказала тебе, Федор: если по такому делу — не ходи к нам, ни к чему это. Наша Ульяна…
Но Дарью резко перебил Иван Васильевич: — Стой, Дарья! Хватит. Нечего перед хорошими людьми выставляться. Не все же от нас, стариков, зависит. Пора и молодых спросить. — Он повернулся к Ульяне. — Что сама-то скажешь, дочка?
Ульяна сидела чуть живая. Вот она вздрогнула, вспыхнула кумачом, потом уткнулась в плечо отцу:
— Согласная я, батя, согласная.
— Ну вот, Дарья. Слышишь, что дочь говорит? — строго и печально обратился Иван Васильевич к жене.
Ульяна птицей вспорхнула от отца к матери, обняла ее, прижалась к материнской щеке:
— Маменька, родненькая… не серчай, маменька, отпусти меня. Я давно Федю люблю, давно, не могу без него, засохну…
Дарья захлюпала носом, сама обняла Ульяну:
— Ах ты, сердечушко мое ненаглядное… Этак далеко хочешь уехать да отца с матерью оставить, — запричитала она.
— Маменька, да не в Питер же… Изъядор — свой край, не дальний свет… — Ульяна объясняла матери, плакала и смеялась одновременно, понимая, что та уже сдалась.
Дарья перестала плакать, вновь посуровела лицом. Передником вытерла глаза Ульяны, затем осушила свои слезы. И — широко перекрестилась:
— Тогда… Благослови Христос.
Затем, держа дочь за руку, вывела ее от печки, поставила перед отцом. Иван Васильевич встал:
— Жалко дочку, гости дорогие, ой как жалко отрывать от себя. Сами видите, какую красавицу вырастили… Но не худые люди и сватают. За хорошего человека почему не отдать? Не на каторгу ведь… Коли любят друг дружку, пускай радуются, да счастья вам, дети, на всю жизнь…
Отец перекрестил Ульяну, стоявшую с опущенной головой. Затем взял ее за левую руку и вывел на середину избы:
— Ну-ка, Михалыч, подойди поближе…
Федор встал и подошел к ним. Протянул свою правую руку Ивану Васильевичу. И тот соединил ее с рукой Ульяны.
— Возьми, Федор. Отдаем тебе дорогую и любимую дочь. Жалей и береги. Как мы сами ростили… жалеючи…
Иван Васильевич перекрестил обоих и вдруг отвернулся к окну, почти прижался лицом к стеклу. Федор держал горячую руку Ульяны и чувствовал, как дрожала она всем телом. Да и у него сердце так колотилось в груди, будто жеребенок прыгал в тесном загоне… Наконец он догадался: надо усадить Ульяну на лавку, пока не свалилась, чего доброго, в обморок. Девушка благодарно приподняла длинные свои ресницы.
— Ты… разденься… Федя, — сказала чуть слышно.
И тут оборотился к гостям Иван Васильевич, преодолевший минутную слабость.
— Разденьтесь, гости дорогие, разденьтесь, милости просим. Дарья, — обратился к жене, — ну, хватит хлюпать, готовь стол.
— Сейчас, Иван, только переоденусь, — ответствовала Дарья как ни в чем не бывало, от ее непримиримости не осталось следа. — Ульяна, — позвала она дочь, — сходи в подпол за шаньгами…
Ульяна светящимся взором посмотрела в глаза Федору, осторожно освободила свои руки, пошла помочь матери. Дарья вынула из сундука сверток и выбежала в другую половину избы переодеться…
Обвенчались Федор с Ульяной в Кыръядинской церкви. Пировали два дня: первый день у тещи и тестя. Второй — у бабушки. На третий собрались домой. В передних санях Федор с Ульяной. Теща сказала: голубь с соколом. Отошла Дарья, помягчела, оттаяла.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Трудные, смутные, непонятные времена и порядки установились на коми земле. А для Федора та весна и лето, да и осень были самыми счастливыми в жизни. И сколько потом ни вспоминал — в лагере особенно — да, самые что ни на есть счастливые.
Была рядом с ним Ульяна, его хорошая, его ласковая, самая красивая, любимая жена. И все-то вместе, все-то вместе. Тянуло их друг к другу неизменно, хотя, казалось, все медовые месяцы давно миновали. Дрова ли заготавливать на зиму — вместе, луга ли расчищать или сети ставить — никакой работы не чуралась Ульяна и от Федора ни в чем не отставала. Даже в лес с ним просилась, когда он ходил проверять или ставить свои ловушки. В первый раз тот нерешительно посмотрел на отца. Как-то неловко стало и за себя и за молодую жену.
— Да бери, бери с собой, коли ей так хочется, — лукаво улыбался батя. Ему любо было, что дал им бог невестку быструю да толковую во всем. — Бери-и, не пожалеешь. А мы тут и сами обернемся, дело привычное.
Федор, конечно, старался уберечь Ульяну от тяжелых работ, больше брал на себя. Да ведь как убережешь, когда она первая за все хватается. Всякое дело так и горит у нее в руках — любо-дорого посмотреть.
— Да не бойся ты, Федюшко! Я же привычная, с детства праздная не сиживала, — ласкалась Ульяна к мужу, когда оставались они одни, и гладила, гладила его щеки, целовала в глаза, в губы. — Когда я с тобой — мне ничего не тяжело и так радостно, так хорошо… Я такая счастливая, даже самой страшно — во какая!
Федор и сам чувствовал к жене такую бесконечную нежность… взять бы ее в охапку да и носить, носить на руках… Да ведь люди кругом, свои и чужие. И руки — редко руки его бывали свободны для ласки, для нежности — то вилы в них, то лопата, то топор, ружье, тесак, широкий охотничий нож…
Нет крестьянской работе ни конца, ни края. Только станешь на ноги покрепче — тут она и берет всего, сколько тебя ни есть. И отпускает только — когда вокруг родные горевать начинают, а ты лежишь, спокойный такой, со сложенными на груди руками, в которых колышет легким пламенем свечечка. Так-то. Но надо как бы то ни было — надо поберечь Ульяну.
Как ни привычен человек к постоянной работе, а грех раньше времени вырабатываться… И зародилась у Федора мысль: строить свой дом. Он рассуждал так — как ни хорошо в родительском, а свой дом — это свой. И там ты полный хозяин и работе своей, и отдыху. И распорядку. Глядишь, и Агния замуж выйдет, сестра, ну она, пожалуй, в родном дому не задержится. Уйдет к мужу. Но ведь Гордей вернется рано или поздно. И ему по справедливости жить с отцом-матерью — он моложе — ему и наследовать родительский дом.
Можно было бы повременить со строительством. Отец — мать ласковы с Ульяной, нравится им невестка, довольны ею, нечего сказать. Но как дальше жизнь повернется — кто знает!.. А тут, пока силы есть, пока упрямство в характере на всякое дело держится — самая пора. Дело нешутейное; посоветовался с отцом.
— Что ж, надо тебе строиться, сын, надо, — сразу согласился тот. — Здесь, конечно, родное гнездо. Но поднявшись на крыло, всякие птенцы разлетаются. Слава богу, недалеко и лететь, рядом жить станем… А лес на дом можно прямо за ручьем срубить, за Бадъелью. Ха-ароший там лес стоит. И близко.
Отец говорил обо всем так, словно сам с собой обсуждал строительство нового дома, словно сам об этом думал. А может, и думал. Только первым на разговор не выходил, ждал, когда Федор созреет до такого решения.
— Вот только у кого теперь разрешения просить на порубку? — почесал бороду батя.
— Да уж кто-нибудь разрешит, власть-то теперь своя, — отмел сомнения отца Федор.
— Своя-то она своя… — начал отец, но мысли не закончил, оборвал. Дом — дело серьезное, тут не словами сорить, а дело делать…
В том году, восемнадцатом, тяжелейшем, на коми земле во многих волостях от ранних заморозков погибли хлеба. А в Изъядоре сенокосная пора выдалась на редкость погожей, и Тулановы на своих лугах за полторы недели справились с заготовкой сена. Косить на росу становились вчетвером, косили азартно, старались друг дружке в работе не уступать. И сгребать и стоговать сено на ближних лугах приходила помогать мама. До жатвы времени оставалось еще порядочно, рожь на подсеке была совсем зеленой. Ульяна несколько раз намекнула: пора бы ее родителей навестить, соскучилась, всякую ночь то мать во сне вижу, то отца, то брата. Съездим, Федя?
Федор отпросился у отца.
— А и съездите, проведайте. Ежели сваты с сенокосом не обернулись, хорошо бы помочь, то-то рады будут. Обратно к Ильину дню вернетесь — и ладно будет…
Побывали Федор с Ульяной в Кыръядине. Повидались. Косить помогли. Но главное… Много чего увидели и много чего услышали.
Как вернулись в Изъядор, мужики со всей деревни собрались у крыльца Тулановых: послушать да порасспрашивать Федора. Хоть и невелик Кыръядин, но для Изъядора и он — столица.
— Что прошлый год царя и буржуйское управление скинули, вы знаете, мужики. Ну а теперь того хуже. Нынче в России объявились две армии, белая — эта против Советов воюет, и командуют там золотопогонники, царские генералы. И Красная Армия есть — там рабочие, крестьяне, наш брат, матросы, солдаты, само собой, народ, одним словом. В Красной наверху большевики. И вот, говорят, ба-альшая драка завелась промежду двух армий, белой и красной. Все, говорят, в России перемешано и дыбом поставлено. Думаю, однако, и нас стороной не обойдет… Ну, увидим.
— А чего это у нас в деревне все не Советска власть, а старый староста? — бойко вопросил Васька Зильган, слушавший Федора с полым ртом. — Нам чего ж тут, свою революцию учинять?
Дмитрий Яковлевич, староста Изъядора, сидел он на последней ступеньке, кашлянул, провел рукою по широкой седеющей бороде.
— Да ведь я не своей охотой, мужики. Сами выбирали, всем миром.
— А ты, Федор, часом, не большевик? — спросил Зильган.
— Я — нет, пока не записан. Но власть Советов признаю полностью и сочувствую ей.
— Дак и мы не супротив, — сказал староста и снова погладил бороду. — Придет повеление, и выберем Совет, как не выбрать…
— В Кыръядине уже выбрали. Называют: Совет крестьянских и солдатских депутатов. И, бают, будто везде заведут выбирать, — пояснил Федор. — Скоро, думаю, и у нас объявятся. И станет Совет заместо твоего земского правления, — улыбнулся Федор Дмитрию Яковлевичу.
— Да мы не против, — повторил староста. — Я так понимаю, мужики, земская ли, Советская, а власть людям нужна. Чтоб настоящая была, с умом и силой.
— Слышь, Федя, я тоже хочу в большаки записаться, — опять встрял Васька Зильган. — Кто может записать?
— Запишут тебя, Вася, вдоль и поперек запишут, — посулили из толпы. — Ты, Вася, потерпи, беспременно запишут, потому без тебя большакам — полный зарез…
Мужики хохотнули сдержанно. Ваську-болтуна не любили.
— Еще баяли, будто есть декрет. Чтоб во всех деревнях были комбеды.
— А это чего такое? С чем едят? Это не наш койбедь? — скалил зубы Васька.
— Ты помолчал бы, Вася, — сердито одернул его Дмитрий Яковлевич. — Коли есть декрет — тут не до шуток.
— Комбед это не койбедь, — сказал Федор. — Это будет комитет деревенской бедноты. Защитник, значит, самых бедных.
— Как же это? — рассудительно произнес староста, — Ежели выберем Совет, так на кой тогда комбед?
— Я, Дмитрий Яковлевич, так рассуждаю: в Совет могут выбрать всякого, и того, кто побогаче, тоже, в Совете мужик с умом нужен, — ответил Федор. — Ну а комбед… это как бы постоянная бедняцкая опора, что ли. Поддержка, да. Вот, скажем, по Эжве, слышал я, все посевы морозом побило. И по Вишере тоже. Горюют люди, то терпели голод в надеже на урожай, а теперь как вытянуть?.. Коли этим летом ничего не соберут, как жить-то?
— Да, незадача… — вздохнули мужики.
— Что и говорить, голодом сидеть придется.
— Так вот, — продолжал Федор. — Я комбед так понимаю: он не даст людям с голодухи помереть. Раз такое дело — помочь обязаны, кто имеет возможность. Вдоль рек на открытых полях морозом побило. А у кого на подсеках да опушках леса — у тех чего-нито вырастет. Делиться придется…
— Бумагу надо составить, Россия поможет, — огладил бороду староста.
— Россия нынче сама в большой нужде. Война не шутка. Потому и велят комбеды выбрать. Своя власть не даст помереть с голоду. Что с новым урожаем прибудет, все надо взять на учет. Да миром определить, сколько кому оставить, чтоб безобидно, а лишнее собрать да выручить людей. Свой же народ, негоже своим-то помирать рядом с куском хлеба…
— Кусок-то он кусок, да чужой, — засомневался Митрофан. — А как я не дам излишку? Да и какой там излишек-то… слова одни.
— Как это не дашь? — удивился Федор, для него этот вопрос был яснее ясного. — Из беды как еще и выходить, ежели не сообща, всем миром.
— А вот не дам, да и весь сказ, — подначил Митрофан, но столь серьезно, не понять, шутит ли он. — Не дам. Силой, что ли, отберешь, Федор Михайлович?
Федор смутился. Никак не входило в его планы кого-то запугивать, угрожать кому-то. Тем более кто он — да никто, такой же мужик, как и все. Просто увлекся маленько, и обдуманные свои мысли высказал на нечаянной этой сходке. И получилось, будто он свое или чье-то решение высказал.
— Да бог с тобой, Митрофан, какая сила промеж своими… Досель ничего друг у друга силой не отбирали. Как можно? Да ведь я же так сказал, ну, как понимаю. Я же не себе. Людям. Скажем, у отца моего будет лишку хлеба, неужели голодным не поможем? Разве ж станет он отпираться от божьего дела?
Батя от неожиданного такого поворота кашлянул, строго глянул из-под бровей на сына, разошедшегося некстати.
— Гм, да… оно конешно, ежели что… Рожь на подсеке, слава богу, зреет… и ячмень, само собой… Прижмет людей, ну, поделимся, конечно, было б чем делиться. В копне еще не сено, в скирде еще не хлеб… Завезем в амбары, тогда и разговоры можно разговаривать, да.
— Это верно, особых лишков не будет сей год, — сказал староста. — Но ремешок придется и нам затянуть, да потуже. Хотя, по совести сказать, когда и жили мы с отпущенным-то ремешком?..
— Да уж… это как водится.
— Жисть — она мужика в одну сторону жмет, — согласно зашумели вокруг.
— Помочь — это конешно, отчего не помочь, но я так разумею: хлеб-соль дадим заимообразно, долг платежом красен. Придется записать, кто сколь даст да кому сколь дадено. Так оно крепше, — заключил Дмитрий Яковлевич. Не зря его мужики Изъядора выбрали старостой, ой не зря. — До конца лари пустошить не станем, это само собой. Опять же оплату попросим, может, и не деньгами, а вот, скажем, нужным товаром. Ну и бумагу, бумагу-то подождем, спешить не будем, сначала, значит, бумага, а потом, стало быть, ответ на нее — хлебушком или как…
На том пока и порешили. Федор с отцом попросили у Дмитрия Яковлевича, как у старшего на деревне, позволить порубку леса. Объяснили положение, так, мол, и так, задумано новый дом рубить.
— Валите. Можно с бора за Бадъелью, почему нельзя, валите. Только с Иван Николаевичем, ну, который в Няшабоже, акт составьте. Сколько бревен возьмете, мы в книге отметим. Теперь еще неизвестно, какая цена у новой власти на лес. Но как узнаем, тогда и расплатитесь. По порядку, мужики. Власть-то она и своя, дак ведь и своей казне деньги не помеха…
Так и договорились: расплатятся Тулановы, когда цену узнают, а пока, время дорого, станут лес валить да возить.
До самого начала жатвы ячменя работали не разгибаясь: отец, Федор с Ульяной да Агния. Валили лес и возили на место будущего дома. Федор с Ульяной валили, Агния возила бревна на волокуше, а отец разгружал и ошкуривал. Место для дома выбрали неподалеку от родительского, но поближе к лесу. Почти полмесяца отец с сыном стучали топорами — рубили сруб. А бабы тем временем, слышно, ритмично колотили высушенные в овине снопы — тэп-топ-тап… тэп-топ-тап. Федор и сам любил, играючи, хлопать билом цепа. В такие минуты сердце крестьянское до краев радостью наполняется — вот он, добытый тобою продукт… Но в этом году не многие на гумнах цепами хлопали да радовались. Неурожай…
Рубили вдвоем, а одну неделю помогал им Васька Зильган: охота ему, сказал, с Федором об разном поговорить, так что сколько может — поможет. И на самом деле рубил до самого верхнего ряда сруба. Можно было уже перекинуть матицы от стены к стене — Федор задумал дом в три больших комнаты, с сенями да сеновалом. Перекинуть матицы, завершить сруб последним рядом и сделать потолок. Завершили, сделали.
— Все. Это мы хорошо успели, на этот год хватит, — подвел отец. — Теперь до следующего года пусть сохнет, садится. Выберем время, попилим доски. А ныне другие работы на пятки наступают.
Знал бы Федор, что настали теперь такие времена… что жизнь закрутит его, завертит — и сруб нового, такого желанного дома надолго останется сохнуть… Сохнуть, уплотняться и темнеть.
Сразу как выкопали картошку, приехал из волости верхом на лошади заместитель председателя Совета из Кыръядина. Он и привез бумагу про выборы в Изъядоре новой власти, — тоже Совета крестьянских и солдатских депутатов, а также комбеда. И жизнь забурлила. Как же, новую власть велено выбрать!
На сходке в Изъядоре избрали в новый Совет пять человек. Попал в депутаты и Федор. И старого старосту — Дмитрия Яковлевича — тоже избрали: власть, она, конечно, новая, но знали мужики Дмитрия как рассудительного хозяина и справедливого заступника. Такого заботника и надо председателем. Так и порешили.
Затем Дмитрий Яковлевич, уже как новая власть, с представителем из волости объехали верхом на лошадях все деревни в округе и всюду, вот так же, избрали депутатов новой власти. По три депутата от Няшабожа, Горояга и Кероса, эти деревни были поболе прочих, от Шушуна — двое и из того самого Переволока, где жили семьи двух братьев, — старшего из них, Василь Дмитрича. Всего получилось восемнадцать депутатов, из них избрали исполком. Новым председателем дружно назвали Дмитрия Яковлевича, бывшего старосту. Тут же представитель из волости зачитал декрет Совета Народных Комиссаров и постановление из Усть-Сысольска об организации комбедов. Руководить местным комбедом определили Федора Туланова. Сказано было вслух такое: Федор — кронштадтский матрос, стало быть, классовое чутье у него обостренное. Человек он честный, не злой. Они все такие, Тулановы: зря других не обидят. Для такой ответственной должности — оченно нужные качества. Федор от неожиданности растерялся и начал было отказываться. Но его и слушать не стали.
— Послужи обчеству, Федор Михайлович.
— Тогда помощником мне прошу определить Васю Зильгана. Вася из бедняцкой семьи, политику Советов принимает близко к сердцу, и хоть язык у него бывает быстрее соображения, так это по молодости, это пройдет, а работать он будет с охотой.
Вася Зильган с радостью согласился. Кроме них в комбед назначили еще четырех человек, по одному из каждой деревни.
Комбед начал с того, что побывал в каждой избе и взял на учет приспевающий урожай. В деревне больших секретов нету, все деревенские знают приблизительно про богачество своего соседа…
Но Совету и комбеду надо было знать не с чужих слов, а со своих глаз определить, у кого чего можно взять, чтоб не разорительно, а кому сколько выдать — чтоб не протянули ноги до нового хлеба. Не об том разговор, чтобы вовсе своими хлебами обернуться, где уж там. Оно и в лучшие годы у большинства своего хлебушка на полгода хватало, не боле. А нынче… Кто вовсе без хлеба останется, что ж ему, при новой, народной-то власти — с голоду пухнуть? Для чего ж царя скидали? Правительство буржуев из Зимнего перли? Для того чтоб друг дружку в яму закапывать? Нет уж, давайте сразу определим: жить имеет право каждый. Это наипервое правило. А второе — подумать надо, как бы так сделать, чтобы хлеб у нас ежегодный получался, без осечек, и еще, конечно: чтоб никто не отлынивал от крестьянской потливой работы в надежде на даровой каравай…
Дело вроде простое и понятное, людей от голодухи поберечь, а как доходит до того, чтобы свой кусок другому отдать. — тут все и усложняется. Отдать-то я отдам, рассуждает каждый, а ну как самого прижмет? И кому тогда в ноженьки падать? Кто — выручит? Поэтому Федор решил начать собирать страховой хлебушек со своего дома. Твердо решил. Пускай все увидят, какой зачин сделали Тулановы, тогда и будет у него право от других требовать революционной сознательности.
— Батя, — сказал он во время ужина, при всей семье. — Надо бы, батя, начать нам с себя, чтоб не косились на нас, будто других обираем…
Отец долго не отзывался. И остальные — молчали, ожидая.
— Что же… считал-прикидывал и лишку хлеба у себя нашел? — пробурчал отец, не глядя на сына.
— Да что уж про лишку говорить, — усмехнулся Федор. — Сам знаю… Но по всей деревне только у пяти хозяев, Митрофана, Серафима, Ивана, Варука и у нас, не побило морозом. Что-то да уродилось. Я уж всяко думал… Ведь в одной деревне живем. Остальным-то как? У того же Васьки Зильгана ни зернышка. Так и станем глядеть, как люди вокруг пухнут? — Федор пристально смотрел на отца, не отводя глаз. Очень ему важно было сейчас, именно сейчас, не откладывая, получить батино согласие. Тогда, чуял он, и в дому сохранится прежнее уважение, мир да покой.
— Да я-то что… Мы с матерью пожили, годы уже не те, нам много не надо. Самим же вам, молодым… Я, Федя, так думаю: вот отделим на семена, а потом сами как хотите, так и решайте.
Втроем: Федор, Агния, Ульяна — считали, судили-рядили, прикидывали. Чесали затылки. Так и так выходило — не хватит на еду на год. Никак не хватит. А порешили все же едино: выделить комбеду два мешка ржи и три мешка ячменя. Чтоб перед людьми не стыдно — это важнее всего.
— Го-о-споди-и… эстолько-то увезти хотите! — испугалась мать. — Да чем же я вас кормить стану?
— Хлеб, мама, придется печь раз в неделю. И хватит нам, — успокоил ее Федор. — Сама знаешь, иным уже сегодня есть нечего.
— Да разве мы виноватые? Я-то ладно, а вам ведь по лесу ходить, зверя-птицу добывать, вы-то как станете? Без хлебушка родимого человек на ровном месте спотыкаться почнет, а вам охотиться…
— Не печалуйся, мама. Добудем в лесу мяса, достанем рыбы. Этот год продержимся, чего там. Здоровье бы не подвело, а уж ноги выручат…
— Не надо, Марья, не ной, — сурово сказал отец. — Раз такое дело… коли сами решили… Пусть. Посмотрим.
Васька Зильган отворил комбеду свою пустую житницу туда и свезли первые мешки хлеба на одноколке.
Отец, когда узнал, где станет храниться страховой фонд, только фыркнул, по удержался, ничего не сказал.
С выходом в лес Федор замешкался, надо было заодно уж и в других деревнях собрать хлеб и разделить особо нуждающимся, комбед так комбед. Потому отец пошел в лес один. Сказал, что пока Федора будет ждать, наладит силки да ловушки.
— Коли люди выбрали, тут уж… придется постараться для общества, да. Но особо не задерживайся, Федор. О зиме думать надо. Похоже, к Покрову уже и белка побелеет. К Покрову и приходи, с собаками. Я их пока не возьму, чего зря лес тревожить…
Вместе с Дмитрием Яковлевичем и Васькой Зильганом Федор обошел четыре деревни. Со слезами, спорами, но без драки — собрали комбедовский налог, раздали, у кого хлеба вовсе не приспели. Но большую часть собранного взяли на строгий учет и оставили на конец зимы и весну, самое трудное времечко. А ключи от житниц отдали в каждой деревне выбранному комбедовцу.
Смутно и непривычно было на сердце после этих четырех деревень, после всех споров и криков, но Федор чувствовал и хорошую человеческую правоту содеянного: непомрут люди, не станут с голоду пухнуть, какой-никакой, а приварок будет у всех.
А вот как сделать, чтобы больше не было такого распределения, чтобы убрать хлебные посевы с рискованных земель, подверженных заморозкам, — вот об этом нужно было бы собраться мужикам и сообща, артельно, покумекать. Подсека в лесу под ячмень да рожь — дело хлопотное, но надо, надо устроить так, чтобы все были с хлебом. На то, думал Федор, и новая власть. Чтоб о мужике заботиться и чтоб мужик теперь жил не всякий сам по себе, а всякий — по лучшему уму-разуму…
До Покрова оставалась еще неделя, как Федору удалось вырваться в лес.
Гнев ли, тревога, грусть-печаль настигали Федора в жизни, — всегда он спешил в лес. И сразу успокаивался. Конечно, если что серьезное царапнет тебя по душе — так, сразу, царапина не заживет, посаднит, покровоточит. Не без того. Но в лесу и заботы, и тревоги, и печали как-то утишаются, отдаляются — остаются там, за спиною, в многолюдье…
Лес подымал настроение, бодрил дух. Торжественный лад придавали душе светлые сосновые боры. Успокаивали пирамиды седых елей. Таинственно шуршали осиновые рощи, намекая светлой грустью на преходящее, земное. Федор всегда ходил по лесу неспешно, тихо, мурлыча про себя какую-нибудь песню, застрявшую в голове. Ну это, само собой, когда он не гнался за добычей.
Отец ждал Федора в охотничьей избушке в Ошъеле. Пока налаживал петли, успел набрать полную кадку крупной брусники.
Еще весной они с отцом условились, что охотиться начнут у Сухого болота. От намерения не отказались. Батя с Соболем остались в верхней избушке, а Федор переночевал и на второй же день с провизией и припасами для охоты ушел на Сухое болото. Взял с собой Бусько, молодую собаку с четырьмя глазами — так коми охотники называют собаку, у которой два белых пятна над бровями. Как и зимой, Федор устроил шалаш возле выхода из земли горючего газа. И десять дней охотился вокруг шалаша. В верхнюю избушку вернулся уже по снегу, почти по щиколотку, с добычей: в котомке у него было три глухаря, четыре глухарки, за сотню беличьих шкурок и одна куница. Идти Федору пришлось целый день и на подходе к избушке котомка стала заметно тянуть плечи…
Отец был доволен. На другой день всю добычу погрузили на нарты и перевезли на Ошъель, в лабаз. Натопили баню и попарились всласть, до размягчения костей. Но уже назавтра опять вернулись в верхнюю избушку. Три недели охотились там. В Михайлов день снова парились и отдыхали.
Дни отмечал зарубками отец. Когда его деревянный календарь показал седьмое декабря, собрались домой. Всю добычу нагрузили на длинные трехкопыльные нарты. В короткую лямку запрягли длинноногого Бусько, отец приучил его тянуть поклажу, а длинную Федор надел сам. Отец сзади уперся копьем и помог стронуться с места. Затем он обогнал Федора и вышел вперед, прокладывать лыжню. Так и шли: батя трамбовал лыжами снег, Федор, тоже на лыжах, шел следом, а уж за ним, упираясь всеми четырьмя лапами, тянул Бусько. Полозья скрипели, на нартах, шутка сказать, увязано было несколько пудов. Лишь Соболь резвился свободный, то улетит вперед по целине, то по лыжне потрусит, задирая нос и ловя им лесные запахи. Потом все ему надоело, Соболь медленно поплёлся за нартами по плотно убитому снегу. И лишь когда послышался собачий лай из деревни, он очнулся, рванул вперед, обогнал плетущихся хозяев — только его и видели.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Федор ушел в лес еще по черной земле, а вышли они с отцом уже на лыжах, всего-то времени прошло чуть более двух месяцев. А уж новостей поднакопилось! Дома разговоров, пересудов! В иные времена не было столько и за годы. Самая большая новость стояла на крыльце: мужик стоял, в островерхой шапке и серой шинели. Он долго всматривался в приближающийся из лесу обоз из одной нарты, потом, узнав, бегом спустился с крыльца.
Брат Гордей!
Он шел им навстречу размашистым мужичьим шагом, длинные полы шинели путались на ходу и хлестали по серым валенкам. Гордей подошел к отцу, который остановился и ждал, обнял батю левой рукой, прижался к его бородатому лицу, густо покрытому инеем. Федор не успел освободиться от нартовой лямки, Гордей обнял и его, похлопал рукой по спине — ничего, брат, ничего, живы еще — помог Федору опять надеть лямку и сам впрягся в нее, упираясь левым, здоровым, плечом. А правую руку так и не вытащил из кармана шинели. Из избы высыпали бабы, впереди всех бежала раздетая Ульяна, даже кожушок не накинула поверх сарафана, подскочила и тоже ухватилась за лямку — помогать. Уже у самого крыльца не удержалась и стыдливо прижалась к Федору, да так и замерла на несколько мгновений, не подымая глаз на мужа.
Федору с отцом велено было зайти в дом раздеваться, а остальные четверо — мать, Гордей, Агния и Ульяна — взялись разгружать нарты и носить добычу в холодную половину избы. Федор освободил Бусько от упряжи и вслед за отцом вошел в дом.
…Новости поведал в основном Гордей. А остальные иногда что-то уточняли, добавляли опущенные им детали. Всего-то два с половиной года обретался Гордей в чужих краях, а досталось ему и горького и соленого… И окопной грязью умылся, и собственной кровушкой. И кости ломало: правое предплечье разбило осколком снаряда — вот и отпустили его домой, долечиваться.
Федор смотрел на младшего брата и удивлялся: совершенный мужик вырос, не узнать прежнего Гордюху. Когда Федор сам уходил на флот, Гордею шел семнадцатый год, охотился он и работал наравне со взрослыми, это уж как положено — но был все-таки пацаном. А теперь вот погляди: вроде и не особо вырос, и вширь еще не так чтобы раздался, кость еще не мужицкая, — но оч-чень стал взрослый. И, кажись, умнющий парняга. Выходит, есть еще бог на свете! Уж какие смутные времена наступили — а собралась-таки семья Тулановых за одним столом. Через боль, через кровь, через немецкое железо, через свои, российские, сдвиги — а собрались. Да еще и невестка, работящая, да дочка на выданье — слава богу, все тут.
Мать, натаскав на стол угощения, не спеша многократно перекрестилась и села на постоянное свое место.
— Ешьте, дитятки. Сегодня щи пустые, дак уж сготовлено, надо съесть. Завтра наварим супу из глухарки, наши добытчики-кормильцы принесли, спасибо им, господи благослови…
— Что попалось, то и доставили, — просто сказал отец. — Федору еще раз придется сходить на Ошъель, там осталось маленько. И дичины, и заячьих туш…
Как ни проголодались Тулановы, но ели степенно, без спешки, не стараясь упредить другого и равняясь на отца. Так же неторопливо текла за столом и беседа под потрескивание лучины в светце.
— Приезжали тут из Кыръядина… Пока вы охотились, мы в Изъядоре сорганизовали большевистскую партъячейку, — сообщил Гордей. — Одиннадцать членов партии у нас теперь и четырнадцать записались в сочувствующие большевикам. Секретарем ячейки меня выбрали.
— Гляди-ко, — удивился Федор, — откуда ж в нашей деревне такая сила большевиков объявилась?
— Фронтовики бывшие в основном. Уже многие возвернулись, у нас Василь Климович, Костя, затем ты да я — уже четверо, из Няшабожа трое, в Горояге пятеро, двое из Кероса да пятеро из Шушуна. Трое партийцев было с фронта да восемь тут приняли. Из Изъядора нашего Васька Зильган вступил в партию. Я тебя, Федя, тоже в сочувствующие записал.
— Чего ж не сразу в партийцы?
— Чтобы в партийцы, нужно было твое присутствие, иначе нельзя. — Смотри, какие строгости, — улыбнулся Федор. — Ну, записал так записал. Мы тут немного хлеба собрали. Часть роздали, а остальное оставили в прок, на зиму-весну. В каждой деревне понемногу.
— Мы, Фёдор, по решению партячейки уже все раздали, — сказал Гордей, — Все, что вы собрали, распределили по справедливости.
— Эва, удивился Федор, — собирал-то комбед… Ему бы и раздавать, комбеду. А то непорядок, одни собирают, другие раздают. Да и весна впереди, самое трудное…
— Пока вы охотились, распоряжение вышло Совета Народных Комиссаров. Декрет. Комбеды упраздняются. Но мы раздали по вашим записям, Федя. Вася Зильган нам хорошо помог, у него в бумагах порядок.
— Ну, это-то ладно, — легко согласился Федор с упразднением своей неоплачиваемой должности. — А чего весной заведем делать? Ведь вот как припереть может…
— А весной… Да. Сказывают, в Ляпине, за Уралом, в больших амбарах много хлеба запасено. И оттуда хотят вывезти этот хлеб голодающим на Эжве. Да и мы попросим, придется. Тем более, что приказ вышел: нам и уквадорцам от Горояга до Митрофаново на Печоре пробить зимник. По тому зимнику и вывезем ляпинский хлеб. Завтра из Изъядора пойдут туда четыре подводы, наших. Да из других деревень наберется — всего двадцать должно. До Рождества надо бы зимник закончить.
Мать зашмыгала носом, вытерла передником глаза:
— И Агнию нашу туда посылают… Господи, да мыслимо ли, девчонку на этакое мужицкое дело… Мы же и хлебушек свой первые отвезли, сами без хлеба остались… Теперь сестру вашу… Будто нету больше человека в деревне…
— Мама, да полно, у нас же шестеро взрослых, — отвечал Гордей. — Из таких, семей партячейка и Совет и назначали подводы. Я бы сам поехал, да ведь с таким коромыслом я пока не работник. — Гордей качнул раненой рукою.
Федор положил ложку на стол, наелся:
— Агнию, конечно, не отправим туда… Трое мужиков в доме. Я и поеду.
— Ты… — мать всплеснула руками, — да ты ж только в дом зашел, в баню сходить еще не успел, да столько недель по лесу мотался…
— Сегодня попаримся, это обязательно, мама. Ну, а в Ошъель за добычей придется кому другому сходить…
Ульяна перебила мужа, ласково обняла Агнию:
— Да мы туда по утоптанной лыжне завтра с Агнюшей сходим. Сходим ведь, Агния?
Агния, потрясенная, молча кивнула. В самом деле, отец с Федором более двух месяцев в лесу бились, уж она-то знает, каково там мужикам достается… И опять Федору из дома идти…
— Да, уж это вот как ни к чему, — молвил отец. — Что, так уж всенепременно ехать требуется?
— Да, батя, обязательно, такой приказ, — кивнул Гордей.
— Тогда, конечно… Федору придется. Он теперь покрепче меня. Уж зимник пробивать — вовсе не бабье дело. А что добыли, то из лабаза не уйдет. Доставим, — заключил отец.
— Я бы и сам, батя, — снова оправдался Гордей, — но, видишь…
— О тебе пока разговору нету.
— Да ведь не все еще, — снова оборотился Гордей к брату. — Нужно свой красный отряд сколотить. Белые кругом зашевелились, с кулацкой помощью захватили Мылдин и в низовьях Печоры поубивали многих…
— О, господи, господи, что ж творится на белом свете, — запричитала мать. — Люди друг друга убивают… видано ли? И не стыдно ведь, и бога не боятся…
Она повернулась лицом к иконам и стала молиться.
— Господи, прости и побереги. Не дай худому случиться. Сколько уж и так досталось моим деткам тяжелого и боли всякой…
— Господь, конечно, побережет, если отряд сколотим, — подчеркнул Гордей значительно. — Потому я и хотел, чтоб мужики, особенно фронтовики бывшие, далеко не расходились. Оружия вот нету. Неделю назад красный отряд заходил на Ижму, белых отогнал. Просил я у них, но ни единой винтовки не дали. Вчера в Кыръядин отправил Василь Климовича, может, волостной военком хоть чего выделит. Одни охотничьи ружья… да с ними много ли навоюешь? — жаловался Гордей старшему брату. — Съезди, Федор, нынче ты. Поправлюсь маленько, следующий раз я поеду. Но в отряд я тебя тоже запишу. Ты — как?
— Пиши, конечно, не навек же туда еду. Но думаю, никакие белые сюда не дотянутся. Нужен им наш медвежий угол…
— Кто знает! — покачал головой Гордей. — Видел я, как они в России лютуют… Лучше бы приготовиться.
Hе зря тревожился Гордей. Отовсюду шли худые вести. Ляпино захватили белогвардейцы, красные отряды отступили, запасы хлеба оказались в белых руках. И все труды по прокладке зимника из Горояга на Митрофаново пропали даром. А Федор, вместе с другими, уродовались там три недели… Начинали бить зимник в тридцать шесть подвод, а до конца дошли всего десять… Кто простыл, ночуя без крыши, кто руку ногу поранил, кого лошадь подвела, а кто и просто из последних силушек выбился: всухомять не больно-то поработаешь…
Вот и надейся на чужой хлеб! Правду говорят, на чужой каравай — рот не разевай…
Теперь одна надежда: что красные обратно отобьют Ляпино вместе с хлебом. Да ведь брюхо такими надеждами не прокормишь.
Самые тревожные вести шли с верховьев Печоры: там появились отряды белого адмирала Колчака и захватили деревню Якшу. А через короткое время дошло и вовсе страшное: в Троицко-Печорске, совсем рядом, кулаки выступили против Советов, разогнали их и во всех деревнях захватили власть. Гордей собрал ячейку и сочувствующих:
— Мужики, вы сами знаете, как жмут белые с севера, по Печоре и Ижме, в нашу сторону жмут. Мешкать не приходится, земляки. Надо самим готовиться к обороне, еще до прихода помощи из Кыръядина. Кто скажет мнение?
— А что тут баять? Никуда ведь не побежим. Здесь дом наш, жены, детишки… Здесь и оборону держать, — солидно высказался многодетный Василь Климович.
— Пусть только сунут свой белый нос, покажем, где раки зимуют, — бормотнул Вася Зильган, без особой, правда, уверенности.
— Тогда принимаем резолюцию, — подвел Гордей. — Пиши, Вася: «Изъядорские коммунисты и сочувствующие большевикам призывают жителей волости — все на защиту Советской власти на коми земле! Кованые сапоги англо-американских интервентов и их наймитов — белогвардейцев и кулаков никогда не будут топтать наши поля! Только через наши трупы смогут белогвардейцы перешагнуть Изъядорскую волость! Каждый сознательный крестьянин должен взяться за оружие и стать солдатом революции!» Написал, Вася? Ну, мужики, кто за такую резолюцию — подыми руку…
Приняли резолюцию. Федор подумал еще, что Гордей вот как изменился, надо же. Давно ли тележного скрипу боялся… А теперь вот лозунгами говорить может.
— Ты, Василий, резолюцию перепиши на отдельные листы, мы ее во всех деревнях расклеим, нам массовая поддержка нужна, всего населения. Сопротивляться белым мы уже сегодня вполне можем, у нас в отряде тридцать пять человек, фронтовики да охотники. Трусливых нету. Да еще запишутся, как собрания проведем. Вот незадача только — оружия мало. Смех сказать, на весь отряд две винтовки, пятнадцать патронов и три шашки. Остальное — охотничьи ружья. Так откуда доставать станем?
Мужики помялись, ни у кого готового решения не было.
— Ты, Гордей, давай сам предлагай, ты ж командир…
— Может, на какой белый отряд напасть? — предположил вслух Васька Зильган. — Скрытно подобраться…
— Во-во, давай-давай, Вася, подберись. Белые тебя давно ждут не дождутся… Только не забудь, перед тем как подбираться начнешь — под носом утри. А то шмыгнешь невзначай — часовой и услышит… — зло отозвался кто-то из бывших фронтовиков.
— Не пререкаться, мужики, не до того. Тайно подобраться к белым по снегу… невозможно, Вася. Они, брат, тоже не лопухи. Я вот чего предлагаю. Надо за оружием послать в Усть-Сысольск Туланова Федора Михайловича.
Федор удивленно посмотрел на брата:
— Да что ты, Гордей? Кто это меня там ждет-сожидает? Да еще и с оружием?
— Погоди, Федор, сейчас расскажу. Тут дело такое: в конце марта в Усть-Сысольске соберется съезд Советов. Вот мы тебя туда и пошлем как делегата. Расскажешь там, как мы здесь живем-поживаем. И там же обратишься к Андрианову, есть такой матрос-большевик, прошлой осенью с нами беседовал, с солдатами, которые с фронта. Тут самое главное, что Андрианов — тоже матрос. Может, даже где рядом с тобою служил. Я бы и сам поехал, но вот знаю — матрос матроса завсегда уважит, в беде не оставит. Потому только ты и подходишь по всем статьям, Фёдор. Беднякам нашим хоть сколько-то хлебушка, а отряду — оружие. Винтовки, патроны, гранаты, хотя бы один пулемёт. И мы нашу волость не дадим в обиду. Так, мужики?
— Так-то оно так, но что из этого выйдет? — колебался Фёдор, очень ему не хотелось собираться в дорогу, устал он за зиму, зверски устал, пора бы дома пожить, отмякнуть.
— И ещё, как я разумею, надо бы попросить на том съезде, чтоб наши деревни от Кыръядина отделили да содеяли самостоятельной волостью, — подал голос Дмитрий Яковлевич, — А то мы как кобыла с жеребенком, который давно от сиськи оторвался…
— Правильно староста говорит, — поддержали мужики. — Не староста он, а председатель Совета, — поправили другие.
— Не староста, но старшой, — не сдавались первые, — Давно пора своей волостью жить. А то всякий раз за тридевять земель… киселя хлебать…
— Пошлем Федора Туланова с таким нашим заданием? — спросил Гордей напористо. — Если посылаем, давайте голосовать.
Избрали Федора делегатом. До выезда в Усть-Сысольск, столицу всего края, нужно было еще успеть сходить на лосей. Отец, как узнал про новое назначение Федора, только крякнул и головой покрутил.
— Н-ну… захомутали. Однако, ничего не попишешь, общество выбрало, нужно уважить народ. Терпи, сынок.
На охоту и перевозку мяса ушло пять дней. Зато уезжать было легче: в этакий тяжкий год все подмога. До нового урожая, ох, много еды надобно, без хлеба-то…
В дальнюю дорогу собирали Федора всей семьей. Бабы ему на полмесяца еды наготовили, хоть он и отнекивался, мол, станут же делегатов чем-то кормить.
— Коли будет чего, накормят. Так ведь отсюда не видно, что у них там в загашниках, в Усть-Сысольске… Дед как говаривал? Выходишь в дорогу на день — бери запасу на неделю. Идешь на неделю — запасайся на месяц, — рассуждала мать. — Дорога твоя, сынок, дальняя, туда да обратно, да там пожить, да задержат где… Мать пригорюнилась, и Федор потом, позже, часто вспоминал ее именно такой — пригорюнившейся, словно бы предчувствующей, какая дальняя дорога ему предстоит. Он и сам не знал, какой страшной окажется та дорога… Отец готовил Федору сапоги. Сам осмотрел каждую строчку шва, укрепил, подшил, где надобно. Двое суток держал сапоги в дегте — не промокнут.
— Наденешь с шерстяными носками и портянкой, — повелел батя. — Сегодня еще морозец, а в конце марта приотдаст, да потом и ручьи понесет. Не в валенках же ехать.
— Ты, главное, тельняшку надень и бушлат свой матросский, — подсказывал Гордей. — Андрианов увидит, сам к тебе подойдет, вот попомни мое слово — подойдет.
Федор улыбался. Гордей сердился:
— Чего лыбишься? Зачем мы тебя туда посылаем?
— Да знаю зачем. Что могу — все сделаю, а чего не могу…
— Нет, ты и через не могу — сделай, — настаивал Гордей.
Ульяна собиралась вместе с Федором. Еще вечером, накануне, узнав про Усть-Сысольск, она начала проситься:
— Федюшко, возьми по пути к родителям. Соскучала. Ты дай-ка руку… но… чуешь, как живот округлило?
— А чего вдруг? — тупо спросил Федор, взволнованный предстоящей дорогой. До него теперь простое, бытовое, доходило с трудом.
— Как — чего? — Ульяна прижалась к мужу, счастливо потерлась лицом о его шею, щеки. — Я же отяжелела, Федя…
— Как это?
— Дурачок… Беременная я, Федюшко. Ты у нас скоро папенькой станешь…
Федор смотрел в сияющие глаза жены:
— В самом деле так?!
— Не стану же я тебя обманывать, Федя…
Он бережно освободился от объятий Ули, встал с постели и, как был, раздетый и босиком, вышел на крыльцо остудить жаром вспыхнувшее лицо, грудь, сердце…
На крыльце он похватал полной грудью холодный, уже чуть отдающий весною чистый воздух и зашел обратно в дом, крепко обнял жену.
— Ой, сам простынешь и меня простудишь, — ласково шепнула она.
— Уля, милая, да, может, мне тогда отказаться, пускай в Усть-Сысольск другого пошлют?
— Дурачо-ок… — тихо засмеялась Ульяна. — Ведь не скоро еще. Съезди, раз посылают. А меня к родителям отвези попутно, с мамой надо обговорить. Как будешь возвращаться, меня и прихватишь, вместе вернемся, разом. До Кыръядина Федора и Ульяну повезла Агния. Ненадолго собирался Федор в Усть-Сысольск, справить дело да и назад. Ан не все так просто повернулось. Прав был дед, а перед ним — его дед, а перед тем дедом — прапрапрадед: уходишь в дорогу на неделю — бери хлеба на месяц…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
На съезде в столице коми края Усть-Сысольске собрался народ со всех уголков коми земли. Федор плохо слышал, о чем говорили, помнил он, что главная его задача — добыть оружие для изъядорского отряда. И потому все глаза просмотрел — выискивал Андрианова, матроса, братишку. Очень не хотелось Федору возвращаться с пустыми руками! Люди его послали, выбрали, он не отказался — стало быть, обнадежил людей. Одного матроса он разглядел, подошел к нему: не Андрианов ли? Нет, оказался Егор Гилев, тоже в Кронштадте служил, на миноносце. Гилев про Андрианова слышал, но видеть не приходилось, по обличью не знает. Судя по всему, должен Андрианов быть в уездном комитете партии. Пошел Федор туда. Нашел дверь председателя, на первом этаже. В комнате сидел человек, которого он видел на съезде, за столом президиума. Но как-то… ничего такого матросского в облике этого сухощавого председателя не было: узкоплечий, в простой крестьянской одежде, типично штатский. Но Федор как-то уже уверовал, что только Андрианов ему нужен, и коли он так долго ищет его — то вот он, матрос. Он обрадовался человеку и подошел к нему с протянутой для пожатия рукой:
— Ну, здорово, браток! Я тебя на съезде во как искал, но все думал, что будешь ты одет по-матросски, в форменке. Ты с какого корабля? Тоже, поди, служил на Балтике?
Человек за столом с удивлением глянул на Федора, пожал протянутую ему руку и улыбнулся в усы.
— Здорово, матрос. Садись. Служил я не на Балтике, а в Бессарабии. Слышал про армию Брусилова? Так вот — в ней.
Федор растерялся и замолчал, улыбка сползла с его лица.
— Прости, браток, обознался… Мне сказали, что председателем тут матрос Андрианов. Вот я и…
— Был Андрианов. Уехал на фронт, а председателем теперь я.
— Ух, едрена корень, — почесал в затылке Федор.
— Ты скажи, зачем пришел — просто так, по-флотски словцом перекинуться или, может, дело какое есть?
— Да вообще-то… по делу.
— Если по делу, какая тебе разница, кто тут сидит — Андрианов или Кочанов?
— Кочанов… Постой, откуда у нас Кочановы? Из Усть-Кулома, что ли?
— Оттуда. Ну, еще будешь расспрашивать или теперь скажешь, зачем пришел?
— Да видишь, какое дело… товарищ Кочанов. Я вот настроился на матроса, на Андрианова…
— А ты перенастройся на солдата, на Кочанова. Выкладывай.
И Федор выложил все в подробностях: и про неурожай, и про комбед, и про надвигающийся голод. Сказал прямо — без помощи со стороны ижемцы с голодом не совладают, нет. А тут еще белые, неровен час, подойдут, отряд создали, но отбиваться нечем. Так что, товарищ Кочанов, оба мои дела увязаны: без винтовки от белых не отбиться, а без хлеба и хороший стрелок — не вояка… В отряд записалось тридцать пять человек. Нам бы винтовок тридцать хотя бы, да патроны, да гранат маленько, да один пулеметик. Тогда мы своею силою отобьемся, ежели что.
— Да… Аппетит у вас хороший, Туланов. Не знаю… Конечно, если бы везде, как у вас, сколотили красные отряды самообороны, — тут бы белым каюк, быстренько бы смотались с коми земли. Отряд — это хорошо. Но запросы у вас… слишком…
— Слушай, Кочанов, у нас всего три шашки и две винтовки. На тридцать пять умелых парней…
— Да я-то понимаю, но пока мы бедны, Туланов, как церковные мыши. Арсеналы наши… только одно название, что арсеналы… Надо подумать, Туланов. Давай завтра на съезде встретимся, а я сегодня посоветуюсь со знающим людьми.
Назавтра в перерыве Кочанов и уездный военком сами подошли к Федору.
— Кто в вашем отряде командир? — сразу спросил военком.
— Туланов Гордей Михайлович, — ответил Федор. — Брат, что ли?
— Да, младший. Он служил в Красной Армии, сейчас дома, после ранения. Большевик.
— Правильно. Числится такой отряд в Кыръядинском военкомате, с января месяца числится. Дали им две винтовки с патронами, а больше у нас и нету. Слушай, Туланов. Мы так решили: по приказу командования шестой армии Ижмо-Печорский полк сейчас переходит с Ижмы на Эжву — как раз в вашем районе. Я напишу бумагу Самодеду, чтобы он дал распоряжение тому полку оставить для вашего отряда оружие. Какое смогут. В случае чего в волости преградой белым станет ваш отряд. Самодед мужик правильный, он это поймет и поможет. Как смотришь?
— Да как мне смотреть? — улыбнулся Федор. — Как показывают так и смотрю.
— Ну и ладно, договорились.
Через пару дней уездный военком снова подошел к Туланову:
— Ну, говорил я, что правильный мужик Самодед? Говорил… Отдано распоряжение, Туланов, оставить вашему отряду двадцать винтовок с патронами и гранат, сколько смогут. Пулеметов не обещают, самим, говорят, не хватает.
— Не густо, товарищ военком. Даже по винтовке на человека не выйдет.
— Да, Туланов, считать я тоже умею. Но, как говорится, чем богаты… Все же лучше, чем ничего. При случае хоть дадите понять, что не с голыми руками по избам сидеть.
— Понять дадим… в случае чего, — кивнул Туланов.
Поездкой Федор остался доволен. Он и с трибуны выступил — по наказу — просил куст их деревень отделить от Кыръядина в самостоятельную волость, очень неловко ездить решать самые простые дела за сто двадцать верст… Съезд такое предложение одобрил.
Вот только хлеба не удалось достать. Везде тяжело, одна надежда — на Россию, может, она подкормит. Съезд сильно затянулся. Упала оттепель, и Федор заволновался: успеть бы добраться домой зимним путем. Он уже собирался обратиться к председателю с просьбой отпустить его, пока зимние дороги не раскисли, как Кочанов сам его вызвал в уездный комитет партии.
— Ты чего хромаешь? — спросил он, когда Федор вошел в знакомую комнату.
— Да вот незадача, наколол на охоте ногу сучком, а теперь натер, рана вскрылась… Ходил тут к фельдшеру, он почистил, но говорит, покой нужен. А какой тут покой, до дому топать и топать. Так-то, особо, не болит…
— Не болит — это уже лучше, — задумчиво глядя на Федора, произнес председатель. — Тут вот какое дело, Туланов. Ты грамотный?
— Читать-писать-считать умею, закончил приходскую школу.
— Aгa, это совсем хорошо. Теперь слушай: мы в марте месяце в красные полки наши, северные, послали две роты коммунистов и сочувствующих. Двести шестьдесят человек. И теперь нам во как не хватает надежных людей. Понимаешь, Туланов? Чтоб сердцем и душой были за Советскую власть. И умели за дело взяться — и главное — довести до конца. Ты, Туланов, коммунист?
— Нет еще. Дома записали в сочувствующие.
— Ясно. Напишешь заявление, мы тебя примем. Зимний брал — уже этим заслужил право. А сейчас, Туланов, ты нужен партии. Слушай. Прошлой осенью у нас организовали округ по заготовке леса. Дело во какое нужное и для нас, и для всей коми земли. Лес поможет нам хоть первую бедность преодолеть. Ты поедешь туда помощником заведующего округом по заготовке. Как только в партию тебя примем — сразу и двинешься. Туда, понимаешь, попала одна контра — и контра эта только запутала и затормозила дела. Хотели его шлепнуть — да успел, сволочь, сбежать.
Федор аж покачнулся от неожиданности. Лицо Кочанова стало злым, пошло красными пятнами — такая досада всколыхнулась в председателе на эту контру, которая ускользнуть успела. Но Федор-то тут при чем?!
— Ка-ак?.. Остаться здесь, в городе, что ли? — не доходило никак до него.
— Да, да, в городе. Но работа будет во всем лесозаготовительном округе, по уезду пять районов, и придется везде организовывать рубку леса.
Федор молчал. Председатель внимательно смотрел на него и… не торопил.
— Кочанов, — попросту обратился Федор, — я ведь лес, кроме как на свой дом, никогда и не заготавливал, не рубил, не пилил. Я же охотник… крестьянин… рыбак. Какой из меня, к черту, начальник по заготовке?
— Ну, конечно, ты охотник… крестьянин… А я, по-твоему, кто? Профессор? Тайный советник? Генерал? И мой отец был охотником, и дед — крестьянином, и сам я позавчера в лаптях бегал… Власть у нас сейчас какая, Туланов?
— Народная.
— Ну вот, политический момент понимаешь правильно. Пиши, пиши заявление, завтра же в партию примем. И будешь подчиняться партийной дисциплине. Охотник… Я тебя на фронт послать не могу, ты уже воевал и ранен. Нога опять же… Но я тебя посылаю не ворон считать, я тебя шлю на лесной фронт. И там столь же ответственно, как и на военном. Ты хоть слышал, как в стране с топливом? Худо с топливом, Туланов! — выкрикнул Кочанов полным голосом. — Очень худо! В Петрограде, в Москве люди и шубах спят. Пароходы, паровозы — стоят, дров нет, Туланов! Охотник. Дрова нужны, понимаешь ты, голова! Без дров, Федя, околеем мы все со всей нашей властью! Вот оно во что тenepь упирается — в дрова, Федя. Какой ты ни есть крестьянин, а дрова заготавливать сможешь, это ты мне мозги не крути. Я тоже, брат, не вчера родился, хватку коми мужика знаю, усвоил. Мне и нужен настоящий мужик — с хваткой. И с пониманием, с политическим. Ты как раз — такой. И не увиливай! У нас тут за три месяца всего-то заготовили двадцать тыщ кубических саженей… Слезы! Да на пиление тыщ тридцать бревен. Смех! Ну кто ж тут эту работу организует, да с размахом? Кто? Из Питера, что ли, пришлют? Как же — жди! Да у них этих самых проблем — во! не расхлебать десять лет. Нам самим надо выкручиваться, Туланов, и ты поможешь народу. Понял? Если ты, конечно, сам не контра и не подмазываешься к Советам, чтобы урвать свой кусок.
— Больно ты напираешь, Кочанов, — тихо сказал Федор, совершенно сбитый с толку. — Я же в отряде записан… Что мужики скажут — так ведь и скажут: пошел в Усть-Сысольск, да и нарочно застрял… Жена, опять же…
— Это все сопли, Туланов. Партия направляет тебя на лесной фронт, это я тебе категорически говорю. Завтра получишь мандат по всей форме. Мужикам сообщи, так и так, не будет дров — не нужен и ваш отряд, сомнут нас белые, перебьют, как сосульки — палкой… А жену — вызывай. Напиши письмо, пусть едет в город. Нечего молодым врозь жить…
— Да тут еще незадача, председатель. Ребенка она ждет…
— Какая ж тут незадача, Туланов? Вот и славно, пусть в городе ждет. Ты что, думаешь, в городе не рожают? Ого-го, еще как рожают! Не твоя первая… Зови — родит она тебе усть-сысольского, городского, будешь мне еще благодарен. Здесь и акушеры образованные, в случае чего — помогут, не бабки-повитухи… А ты тем временем на квартире устроишься, деньжат мы тебе подкинем, не сомневайся.
Федор молчал, сильно озадаченный таким поворотом своей судьбы.
— Про зарплату тебе Вишняков сам объяснит, а насчет пайка зайди в упродком, я им позвоню. И не расстраивайся, охотник. Еще придет время, будешь меня благодарить, что здесь оставил. Ну, это когда совсем городским станешь… Давай — до завтра.
Председатель протянул Федору руку — прощаться. Пожатие у Кочанова было неожиданно жестким, не по его узкоплечей фигуре…
Пораскинув мозгами, Федор написал Ульяне письмо в тот же вечер и послал с делегатами из Кыръядина, передадут из рук в руки. Быстрее почты. Велел ей оставаться у родителей, пока все толком не образуется. Написал, что сильно скучает, но быстро увидеться нету пока никакой возможности: так на его сознательность наступил председатель, что никаких отказов не может быть. Придется, раз такое положение с дровами, послужить людям, добыть им тепло, без которого Москва и Питер станут просто многоэтажными кладбищами… Пока он подберет квартиру в городе, придется пожить врозь, а потом, как он с жильем определится, Ульяна к нему и переедет.
Написал Федор и домой, отцу-матери. Так и так, партия просит его, Туланова, послужить общему делу…
Федор, когда писал письма, еще не представлял себе, какая работа ему выпадет. С первых дней, всю весну, все лето и осень был он постоянно в пути, в разъездах, спал черт-те где, укрываясь черт-те чем. Про питание уж и говорить не приходится.
По речке Вишере он поднимался до самой верхней деревни, и ой как непросто было повернуть тамошних мужиков на большую рубку леса: своих забот хватало у всех. Возвратясь с Вишеры, несколько дней сидел в конторе, писал отчеты, подшивал свои «сооруженные» документы в папку — и отправлялся в новую поездку, в Локчимский край. А после него, вдоль Сысолы, сначала до Межадора, потом в Койгородок — на лодках, одноколках, пешком, сотни и сотни верст немеряной тайги. Продлял ранее заключенные договоры с артелями лесорубов, сколачивал новые, авансом выдавал им деньги на пропитание, уговаривал, умащивал, грозил — всяко. Конечно, и сам Федор понимал, и люди с его слов и со слов других партийцев понимали, что во как нужны дрова молодой республике, позарез — пиловочник, рудстойка, круглый лес. Коми мужику и не требуется долго объяснять нужду страны в дереве. Но во многих местах коми земли голодали, ели пихтовую кору, примешивали в тяжелый сырой хлеб разные травы, опухали, умирали от голодного бессилья. Сбить из таких людей артель для работы в лесу… у-у, сколько для этого надо и сил и слов. А лучше бы — надежный кусок хлеба. Но не было — надежного.
Сердце Федора глодала тревожная мысль: в этакое нелегкое время оставил он, пусть у родителей, — жену свою, любимую Ульяну. Он ведь клялся-божился, что не будет Уля знать за его широкой спиной ни забот, ни нужды… Он ведь ее поилец — кормилец, ее защитник. Чуть не силой вырвал он у судьбы такую роль для себя. А вот как сложилось в жизни… оказался вроде клятвопреступником. Ульяне теперь, пока ждет ребенка, поддержка нужна, ласка, а его мотает из края в край, и конца не видно этим мотаниям. Да и будет ли тот конец?
Спустя время, осознав, что с этой работы его так просто не отпустят, Федор написал Ульяне второе письмо, обещал по первой зимней дороге приехать, просил черкануть хоть пару слов: как живут, в чем нужда, как здоровье, и все такое. Но не вышло у Федора поездки к молодой жене. И следующий, девятнадцатый год, оказался для коми земли бедовым: опять сильные заморозки оставили многие волости без урожая. Федор Туланов вместе с заведующим лесозаготовительным округом ходил в упродком, умоляли они выделить для лесорубов и их семей хоть немного хлеба.
Отказали им наотрез:
— И не надейтесь, товарищи лесники. Не дадим ни единого пуда. Даже для красноармейских семей нехватка. Да и чего вы просите, Совет народного хозяйства выдал вам деньги, облек властью — ищите сами. Тут Чердынь неподалеку, другие волости Вятской губернии, — говорят, неплохой у них урожай. Езжайте да закупайте, пока другие не опередили. Инициатива нужна! Разворотливость! Валяйте, робяты…
Завокругом Вишняков долго молчал, когда они с Федором, его заместителем, сидели после в своей конторе. Обоим ясно было, что без хлеба лесные заготовки станут, да так станут — их потом и вагой не сдвинешь… Людей в лес они манили только одним: обещанием хлеба. Деньги были чаще всего простой бумагой с водяными знаками, деньгами можно было обклеивать стены, заместо обоев… Хлеб, только хлеб!
— Ну чего делать заведем, Туланов? — спросил Вишняков, когда они насиделись, накурились и намолчались донельзя.
— Ох, уж и не знаю, как теперь, — вздохнул Федор. — Закрыть придется нашу лесную лавочку, не иначе. Без хлеба ничего не сдвинуть.
— Закрыть, говоришь, лавочку… — Вишняков усмехнулся. — А на каком таком основании — закрыть?
— Как на каком? Хлеба нету, вот на каком. Люди в лесу кожа да кости, краше в гроб кладут… Руки топора не держат.
— Во-во, Федор Михайлович. Именно. Только ты поимей в виду, если мы дров не дадим да круглый лес не вывезем — в гроб положат сперва нас с тобой, как не обеспечивших руководство. И скажут тебе, у самой стенки, такие слова: вся страна голодает, вся страна последние жилы рвет, а ты, гражданин Туланов, саботируешь… И еще скажут: ты, Туланов, и ты, Вишняков, оченно умело маскировали свое подлинное лицо, с контрреволюционным выражением… За что и приговаривает вас революционный скорый суд к высшей мере пресечения… Устраивает тебя, Федор Михайлович, такая картинка? Нет. И меня, Туланов, никак не устраивает теплое место у той стенки. Давай кумекать, Федор. Что нам с тобой остается? Либо — бежать в берлогу к медведю, либо… самим хлеб доставать. Иначе — все. Край. Осознаешь?
— Осознаю, — кивнул Федор, который к тому времени действительно много чего понял и осознал.
— Ну, тогда собирайся, делать нечего. Тебе и придется ехать в Чердынь за хлебом. Пока не опередили нас более скорые на ногу… Кроме тебя — некому. Деньги с собой надо брать большие, а кому нынче доверить большие деньги? Только тебе, Федор. Собирайся. Я предварительно говорил тут… с товарищами, и вот чего они присоветовали, Федор Михалыч: доберешься до Усть-нема и возьмешь себе помощником Григория Ивановича Паршукова, помнишь его? Вот и хорошо, он там заведует лесным районом, должен ты его помнить. Паршуков знает туда дорогу и округу вокруг Чердыни знает. Будет тебе полезным. Ну и все-таки двое… повеселей, вдвоем-то, в чужих местах. Понял, Федор Михайлович? Давай, друг, бери деньги и двигай. И без хлеба не возвращайся. На том хлебе, Федя, наши с тобой головы держатся, это ты не забудь… Я на тебя в надежде, Федор, в большо-ой надежде…
Федор подумал только, что Ульяна, поди, уже родила, а он даже понятия не имеет — сына ли, дочь… Подумал еще: деваться действительно некуда. Сам же, когда сколачивал лесные артели, обещал мужикам поддержку хлебом. Он не просто так обещал, заманивая людей на тяжкую лесную работу. Обещал потому, что и ему — обещали: поддержат артели харчами. А теперь вот выходит, он, Федор Туланов, бывший балтийский матрос, верхнеижемский охотник, самое пустое ботало на всей коми земле. Вырастет сын (или дочка?), а ему (или все-таки — ей?) скажут люди: Туланов? Это что за Туланов? не с Верхней ли Ижмы? Который людей обманывал в девятнадцатом годе?..
Волна стыда окатывала его банным жаром, стоило только представить такое, пусть и в далеком, неясном пока будущем. Федор хорошо понимал, что со временем забудут люди, как дело было, почему было именно так, а не инако. Но крепко запомнят имя обманщика… А как тебя обманщиком сделали — кому до этого будет забота?
— Когда ехать? — только и спросил у Вишнякова. — Хоть завтра. Получишь в казначействе деньги — и в путь. Мандат я вам заготовил уже, вместе с Паршуковым, один на двоих.
Из скрипучего железного ящика Вишняков вытащил бумагу по всей форме: «Предъявитель сего пом. зав. Усть-Сысольским лесозаготовительным округом товарищ Туланов Федор Михайлович с товарищем Паршуковым Григорием Ивановичем направлены в Чердынский уезд и уполномочены закупить зерно для нужд трудовых лесозаготовительных артелей Усть-Сысольского уезда.
Заведующий округом Вишняков».
Такая бумага. В конце — вишняковская закорючка и большая печать. Федор подумал только: ну до чего нехорошее время — в дорогу правиться, дожди холодные, слякоть, грязь по колено… И сколько еще такой распуты, бог ведает. Чуть подморозит, ну, кажется, все, кончилась грязь, а через день опять оттеплит, и снова раскисло, пошло-поехало…
— Слушай, Вишняков, может, обождать чуток? Не сегодня завтра настоящий мороз ударит, и реки подкует, и дороги поправит, а?
— Подождать, Федор, конечно, надо бы. Но ты одно возьми в толк — застопорятся наши дрова, и кто-то ведь скажет — вот, мол, Вишняков с Тулановым, двое гнедых, сидят и ждут у моря погоды… А тем временем люди в городах мерзнут. Чего они ждут? Когда манна небесная на голову свалится? Да этих саботажников, мать-перемать…
— Понятно, — сказал Федор.
— А коли понятно, бери деньги и топай. Пока до Паршукова доберешься, пока вы с ним на прямую дорогу в Чердынь выходите, у-у, сколько пройдет… А вам еще хлеб скупить, подводы нанять, хоть небольшой, а все же обоз получится. Не жди, Федор.
— Ну, а сколько… это… денег брать?
— Выдаст тебе казначейство триста тысяч рублей. Распоряжение уже ими получено. Мы, видишь, прикинули предварительно, так оно примерно получается, меньше нельзя.
У Федора похолодело в груди. Он уже имел дело с деньгами, возил иногда, для расчетов с рабочими. Но такую сумму… он и представить себе не умел.
— Если хотим иметь хлеб для рабочих, а не горбушку для начальства, сумма нужна, Туланов, сумма. Не баловаться вас посылаем. Ты ведь не из трусливых, да и силушки не занимать, но все же зайди к военкому. Попроси револьвер. Если что, пусть он мне позвонит, для подтверждения. Думаю, даст и без этого. Сам объяснишь, зачем. С наганом, знаешь ли, веселее.
— Да уж, веселья будет… много, — покачал головой Федор.
— В дороге про деньги не болтайте, Паршукова предупреди. Ну, а как уложить да подальше — это уж сам сообразишь.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
В дорогу Федор вышел через два дня. Перед отправкой сам сшил из клеенки крепкий мешочек, запаковал туда деньги, плотно перевязал дратвой и положил в самый низ заплечного мешка, предварительно завернув их еще и в старую рубаху. Затем зашел к военкому, рассказал с глазу на глаз о своем задании, показал мандат. Военком тут же распорядился выдать ему наган с патронами. И пожелал ни пуха… Федор улыбнулся и послал военкома к черту.
Через Эжву Федора переправили еще на лодке, хотя над рекой уже крутила пурга. А через некоторое время он уже сам перешел ту же Эжву по тонкому льду, отдающему синевой. На всякий случай выломал в лесу длинную жердь: лед, говорили местные, стал накануне вечером…
Паршуков жил в Усть-Неме, там Федор задержался еще на два дня. Хотел было и звал Паршукова сразу выйти, но тот наотрез отказался:
— В такую дорогу, да так, сразу — нет и нет, Федор Михайлович, и не зови. Сколь мы там промотаемся, с таким большим делом, мы и сами не знаем. А надо и одежонку собрать, и обутку, да и по дому кой-чего закруглить, у меня других мужских рук нету. Был бы без кола без двора — конечно, в момент бы срядился… Да и тебе перед дорожкой не грех в баньке попариться.
Паршуков оказался обыкновенным мужиком: четверо детей, да скотина, да двор. Лет ему было под сорок — на первый взгляд. В силе еще мужик.
— Ну, твоя правда, — уступил Федор. — Чего надо, давай пособлю.
— Ты, Михалыч, не торопись. Дорога мне ведома, а дорога, скажу тебе, из худых худая. Такие на пути большие болотья… другого берега не видать. Ну и чего мы с тобою попремся, в грязи тонуть, рисковать зряшно? Снег же сей год выпал на талую землю, вот беда. Лучше день-два переждать, пусть хоть маленько прихватит под снегом. Вообще-то перед самой войною пробивали дорогу в обход болот. На реку Пильву ходили, в деревню Ксенофонтово. Но врать не стану, по той дороге не хаживал и на рыск не пойду. Сам видишь, четверо у меня, мал мала… Придется нам по старой тянуться, через Канаву да повдоль Екатерининского канала… По зимнику аккурат выйдем на деревню Кишканчева слобода. Это уже Чердынский уезд и будет. Оттуда нам тридцать верст до Покчи, а Покча — рукой подать от Чердыни. Там до войны все купчины жили, что хлебом торговали. Там и запасы хранили. Оттудова и начнем. Спервоначалу надо нам найти знаемых людей. Да так найти, чтоб нам с тобою голову не оторвали, с нашими-то деньжищами, да… По-хорошему бы если, то надо нам погодить недельки две, чтоб морозом взялась земля. Там только Зюричские болотья тянутся верст десять…
— Нету времени ждать, Паршуков. Если завтра никак не можешь, то послезавтра уж постарайся, Иваныч. Меня, вишь, предупредили: ежели не поспешаем, то утечет хлебушек куда на сторону. Тогда нашими деньжищами в самый раз будет печку топить… А башку нам с тобою отвинтят свои же, усть-сысольские, как пить дать — отвинтят.
— За этим дело не станет, — легко согласился Паршуков. Понимал, стало быть.
Попарились назавтра. А следующим утром и тронулись. До деревни Канава добрались благополучно. Только при переходе последнего перед Канавой болота, когда уже казалось — все позади, Паршуков провалился, не сильно, сам вылез, но валенки, понятное дело, намочил и в грязище умазался, это как водится. Федор радовался, что перед дорогой не дал себя уговорить и не сменил свои бахилы на валенки. В шерстяных носках и портянках поверх носков было ноге и тепло и сухо.
От болота до избы на волоке оказалось всего-то версты две, а валенки Паршукова покрылись толстым слоем промерзшего снега и льда, стали пудовыми. В избушку Григорий Иваныч еле затащил ноги. Пришлось сушиться и приводить обутку в порядок.
А вот после Канавы бог дороги отвернулся от них. Вышли из деревни раненько, только-только синева наметилась в небе, и прошли-то всего ничего, только до ближайшей избушки на этом переходе. Пришли совсем рано, устать не успели. Но Паршуков неожиданно предложил здесь и переночевать.
— Почему? Да потому, Федя, что впереди болотище бесконечное, никак не мене десятка верст, а то и поболе…
Федор задумался. Ерунда какая-то получалась, только из деревни вышли, до потемок еще бы идти да идти, а тут приходится ночевать… Паршуков уговаривал:
— По твердому зимнику, два-то мужика, мы бы с тобой горя не знали, шли бы и шли. Да теперь вот боязно, Михалыч. Как ни шагай широко, на болотине шибко не разбежишься, придется ночевать посреди болота. Сам видишь, тут и при дневном-то свете не знаешь, куда ступить, а ночью вовсе беду на себя накличем…
Видно было, избушку давно никто не обихаживал. Но под навесом нашлась заржавелая двуручная пила, чуть в стороне в широкую щель в бревне был воткнут топор. Остаток дня потратили на дрова, распилили толстое кондовое дерево, покололи и сложили под навесом. Жарко натопили печь, вскипятили чай и долго с шумом хлебали, заедая сухарями.
Вышли опять с рассветом. И опять Паршуков не хотел спешить, готов был в этой избушке еще денек провести. Федор, много позже, когда вспоминал их дорогу, всегда думал: а что, как Паршуков предчувствовал свою судьбу — и оттого тянул, не хотел идти, не спешила его душа на встречу с бедой…
И еще думал Федор, тоже позже: вот бы послушать тогда Паршукова, повременить — и сложилось бы все по- другому, хуже ли, лучше — бог весть. Но — по-другому… Да разве знаешь, выходя из дому, что ждет тебя в пути? Никогда не знаешь…
Только с версту отошли от избушки, тут оно и началось, то болото. Гиблое из гиблых… Глазами, палкой искали, щупали промерзшую сухую полоску, местами же пришлось прыгать с кочки на кочку. Болото еще хранило в себе накопленное летом тепло, такому болоту нужны крепкие морозы, чтоб схватило его как следует.
В нескольких местах и на глаз видно было: нет, не пройти. Приходилось мостить впереди себя сухими сосенками, которые в изобилии чахли вокруг, и переходить по ним. Да и трудно было угадать, где бугорок, а где низинка — все покрыто было нетолстым снежком, коварно прикрывавшим ловушки.
Федор шел за Паршуковым, ему, само собой, идти сподручнее, по готовым следам, но — все равно — надо было смотреть в оба и быть осторожным: бывает ведь на болоте — один пройдет вроде ничего, а второй ухнет по пояс, хорошо, если не глубже…
Федор так напряженно смотрел под ноги, что упустил, не увидел, как Паршуков грохнулся на бок. Расстояние между собой они держали порядочное, чтобы не давить на болотину двойной тяжестью. Федор поднял голову, услышав громкий вскрик. Глядит — Паршуков барахтается в снегу, воде, грязи, в болотном липком месиве. По всему видно, не выбраться Паршукову, в «окно» попал.
— Иваныч, иду! — крикнул Федор и почти бегом бросился на помощь. Паршуков хрипел, он уже заметно устал:
— Подмогни, Михалыч…
Всем своим телом ухнул Паршуков в грязь, перемешанную со снегом. Федор, медленно соображая, поднял длинные голенища своих сапог и по колено залез в грязь, осторожно нащупывая опору внизу. Из-под ноги поднялись пузыри, сапог увязал все глубже. За спиной Паршукова были котомка и ружье-берданка, ему никак не встать, ружье стволами зацепилось, похоже…
Федор сообразил:
— Держись покрепче за лямки, Иваныч! — а сам схватился за верхний узел-завязку котомки, сумел дотянуться. И осторожно подтащил Паршукова к себе. Затем вынул увязшую в грязи правую ногу, выбрал на более твердом месте опору получше, и, согнувшись, перехватил Иваныча за ружейный ремень, и снова потянул на себя, выдернул Паршукова повыше, почти рядом с собой. На Григория Ивановича жалко было смотреть. Смахивал он на мокрую курицу. Но главное было впереди. Когда Паршуков согнул ноги, чтобы встать на колени, он снова громко вскрикнул, замер, словно от удара, потом зло и крепко выругался:
— Тва-аю так… Кажись, Михалыч, я уже пришел!
Федор взял его под мышки, помог стать на ноги. Паршуков стоял на одной, левой, ноге, как-то странно поджимая правую. Легонечко оперся на пострадавшую ногу, попытался сделать шаг и, если бы Федор не подхватил его — он снова рухнул бы в грязь. Застонал.
— Стой, Михалыч, подержи меня… — Паршуков скривил лицо, — С коленом что-то, вывих, должно… Придется обратно, Михалыч, в избушку. Не перейти мне болото…
Федор, глядя на Паршукова, и сам понял — дальше ему ходу нет. И сразу будто отступила необходимость спешить, все заслонила одна только мысль — ну, пусть обратно, в избушку, где еще остались сухие дрова, пусть, лишь бы не пришлось тащиться с пустыми руками обратно в Усть-Нем, в деревню Паршукова. Только б он ногу не сломал, вот беда-то…
Паршуков, неловко согнувшись, ощупывал правое колено.
— Вроде не переломил, треска не было… Вывих, поди.
— В избе посмотрим, — отозвался Федор. — Ладно хоть недалеко ушли, — он попытался успокоить товарища.
Сделал Федор из подручного материала костыль Иванычу, выломал сосенку с развилкой. Паршуков, всяко оберегая правую ногу, доковылял до избы сам, Федор только поддерживал его в опасных местах.
Ну, перевозились в грязи оба, это уж куда денешься. Котомку и ружье Паршукова Федор, конечно, взял на себя. Всего-то ушли от избы версты на полторы, а обратно хромали целых полдня. Там, где утром приходилось мостить, Федор перетаскивал товарища на спине — в этих местах Григорий Иванович не мог даже и палкой упереться, тонула палка…
Избушка еще не остыла. Федор усадил Паршукова, осторожно стянул с него валенки, завернул штанину. Нога опухла до блеска кожи, стала как бревно. Вокруг колена разлилась нехорошая синева. Мм-мда-а… кажется, крепенько заякорились…
Паршуков грустно гладил непомерно раздутое колено.
— За какие такие грехи, Михалыч… Слава богу — вывих, не перелом. Давай-ка попробуй вправить.
Федор смотрел неуверенно:
— Иваныч, а я не того… не добавлю тебе? Как бы совсем чего не вывернуть…
— Пробуй, Михалыч, — попросил Паршуков, — я потерплю. Давай сначала протопи печку да нагрей воды в котелке. Там я корыто приметил, под навесом, вот в корыте распарим — и пробуй. Деваться нам некуда.
Деваться было некуда. Это правда. Если в Усть-Нем идти за подводой, то все равно, пока морозы не схватят болотья, не пригонишь подводу. Да и как Паршукова одного оставить… Влипли они, что и говорить.
Паршукова начало знобить — и от опухоли, и промок он сильно, барахтаясь в холодном болоте. Федор накинул на него свою шубу, а мокрую одежонку развесил сушиться. Возился Федор часа два: нагрел воды, нашел деревянное корыто, заполнил кипятком, наскреб снегу, чтобы развести… Паршуков положил ногу поверх воды, учил Федора:
— Возьми в котомке кусок мыла, полей на колено, потом мылом натри и пошупай, где чашечка коленная…
Федор разделся до рубахи, задрал штанину на своей ноге и сначала ощупал свою, соображая, как стоят кости. Потом взялся за Паршукова. Горячую воду ладонью, как ковшиком, подымал из корыта и поливал опухоль. Потом, намыленными руками, начал оглаживать, ощупывать, тихонько мять. Паршуков постанывал. Нога постепенно мягчела, Федор промял пальцами поглубже, нащупал сбоку какой-то бугорок, вроде бы лишний. И снова проверил на своем колене, как оно должно быть. Потом опять нащупал «лишний» бугорок на ноге Паршукова, левой рукою взялся снизу, под сгибом, в обхват, а правой с силой даванул на тот бугор, пытаясь сдвинуть его туда, где господь предусмотрел коленную чашку. Паршуков истошно заорал, рванулся — и замер, уронив на грудь голову. Опираясь на поставленные сзади руки, он сидел с закрытыми глазами несколько минут и молчал. Федор не знал, что и подумать. Но Паршуков открыл глаза, поднял голову и вдруг загнул трехэтажным матом:
— Так, так и растак! Хоть бы предупредил! Доломал ведь ногу, медведь ты чертов!
— Эва, Иваныч, обещал терпеть, так и терпи. Вроде нащупал я неладное… Давай еще поищу, куда он сдвинулся, тот бугор…
— У медведицы поди пощупай. Щупало хреново… коновал ижемский…
— Погоди лаяться, Иваныч, а то совсем оторву. Федор снова намылил руки и взялся за колено, но Паршуков дернулся:
— Хватит, не могу больше, сил нету терпеть…
— Ладно, — согласился Федор, — завтра посмотрим, отдохни, может, отпустит… Давай вот, ложись на сухое. А я приготовлю перекусить.
На следующий день Паршукову стало лучше. Опираться на правую ногу еще не мог, но опухоль стала спадать, вдвоем ощупывали окаянное колено и шутили — похоже, Федор вчера правильно даванул.
Встал Паршуков на обе ноги только на третий день, тяжело ковылял от стенки к стенке. О переходе через болото и разговору не могло быть. Федор пригорюнился, похоже было на то, что чердынского хлебушка им не видать…
— Я же говорил, давай дома обождем, пока болотья замерзнут, — сердился Паршуков, но тут сердись не сердись, виноватых не сыщешь. Не повезет, дак…
Берданка Паршукова пригодилась, Федор каждый день ходил в лес, подстрелить чего на суп. Рябчиков было много. Но охота, дело привычное с детства, не радовала. Невольная остановка в далекой от жилья забытой избушке, на чужих землях, тревожила Федора, а тут еще здоровенный кирпич казенных денег в котомке… Настроение немного поднялось, когда небо очистилось от туч, а морозец начал заметно потрескивать в лесу, пощипывать лицо. Паршуков по дому ковылял уже без палки, и на улицу выходил за дровами, значит, сможет потихоньку одолевать дорогу. Ночью Федор проснулся с мыслями об Ульяне, о ребенке, которого он не видел, о доме своем недостроенном…
Почувствовал: спать больше не сможет. Встал, оделся, вышел на волю. Небо горело-переливалось множеством звезд, мороз крепчал. Федор походил вокруг дома, посидел на пеньке. Чуть подрассвело, прошелся в направлении Чердыни, версты три отмахал. Толстой палкой пытался пробить ледяную корку на слабых местах в болоте, но палка отскакивала, болото держало надежно.
Вернулся веселый:
— Все, Григорий Иваныч, мороз намостил нам дорогу. Завтра в путь, хоть на паре вороных кати. Хлеба от нас ждут, а мы с тобою прохлаждаемся, словно баре какие…
— Слышь, Михалыч, — отозвался отчего-то грустный Паршуков, — может, ты один дальше пойдешь? А меня отпусти домой, Федор… Какой с меня теперь толк? Только обузой на тебе повисну. Видать, не скоро я еще забегаю с такой ногой. Да и на сердце у меня, ну будто гиря чугунная…
— Григорий Иваныч, да как я тебя с такой ногой, да еще и с гирей в придачу одного домой отпущу? А как прихватит в дороге? Кому докричишься, один-то? Ничего… Поковыляем помаленьку вдвоем, хватит несоленые супы клевать. А в Чердыни покажем ногу какому фершалу, а то и врачу. Обратно скоком пойдешь! Да и сам посуди, без помощника мне там вовсе зарез, не станешь ведь чужих просить: пособите, мол, котомку деньжищ растрясти…
Много позже часто вспоминал Федор и эту просьбу Паршукова, и как он про гирю поминал, это, ясное дело, предчувствие он такое имел, Григорий-то Иваныч…
Утречком и вышли. Теперь поменялись: Федор шел впереди, выбирая где поровнее, а Паршуков тянулся по его следам.
Миновали Дзюричские болота, а еще версты через четыре пришли в другую нежилую избушку на волоке. Отсюда, сказал Паршуков, оставалось до первой чердынской деревни пятнадцать верст. По-хорошему бы сегодня и пришли. Но ноге нужен был отдых, а то как бы хуже не стало. И они остались на ночь. На другое утро выбрались из избушки еще затемно. Вышли вскоре на санную дорогу, по которой возили сено, — клочья его висели на кустах обочины. По укатанному следу прошли еще около версты. Ноздри Федора защекотал запах дыма, забрехали собаки у домов. И увидели они верховых, рысью едущих прямо на них, навстречу. Верховых было трое, за плечами карабины, короткие, кавалерийские. Паршуков заволновался, Да и Федору стало не по себе. А куда побежишь от верховых? Успокоило маленько, что были всадники в буденновках островерхих и без погонов. Стало быть, красные. Лошади фыркали, грудью лезли на людей. И Федор и Паршуков стояли вместе на обочине. Самый передний, с сильно щербатым ртом и лицом в крупных оспинах, крикнул строго:
— Стой! Кто такие? Откудова взялись! — Затем, не ожидая ответа, приказал: — Свиридов, ружье… у того… отобрать!
Молодой безусый красноармеец подъехал к Паршукову и ухватился за ствол берданки. Григорий Иванович сам торопливо освобождался от ремня — не подумали бы чего дурного, военные люди, они нервные…
— Из Усть-Сысольска мы, — ответил Федор громко, — уполномоченные округа.
— Чего, чего-о?.. — сразу прищурился старший. Федор повторил. Щербатый-конопатый аж головой покрутил: ну и народ пошел… за дурного принимают:
— А ну документы!
Федор, уже нарочито не торопясь, вытащил из кармана свою бумагу с печатями. Подал сердитому командиру. «Чего ему на нас орать да злиться?»- не понимал он.
Тот долго читал поданную бумагу, перевернул, посмотрел, нет ли каких слов на другой стороне. Затем сунул в карман:
— Разберемся… что за птицы такие. Выходи на дорогу! Марш вперед! Уполномоченные…
Федор чуть не до слез расстроился: ну вот, еще не хватало, приведут в деревню как пленных каких… арестованных. Говори потом с мужиками про хлеб, рядись о подводах… Ох ты, хлеб-хлебушек…
Одна надежда: что не вовсе худые люди попались, разберутся, да и помогут до Покчи добраться. Деревня оказалась за поворотом дороги. Время было к полудню, печные трубы мирно попыхивали столбиками белого дыма. У Федора сердце сжалось — так захотелось домой, в надежное тепло, отдохнуть бы по-человечески, в баньку сходить… Он посмотрел на товарища, Паршуков вид имел озабоченный, грустный, усы и борода густо взялись инеем, глубоко запавшие глаза тревожно всматривались в конвоиров. Паршуков ступал тяжело, опирался на палку, тянул правую ногу. Привели их к большой избе. Оседланные кони привязаны были к высокому крыльцу.
Вокруг натоптано, набросано окурков, видать, не первый день на постое. Красноармейцы слезли с коней, привязали их рядом с прочими, щербатый поправил кобуру нагана и, левой рукою придерживая болтающуюся на боку шашку, подошел к спокойно стоящим уполномоченным, ни единому слову которых он не поверил:
— Марш в избу!
Пришлось Паршукову помогать подняться по крутым ступеням, не получалось самому у Иваныча.
— Шевелись давай! Живее! — крикнул сзади сопровождающий с карабином.
В доме было по-деревенски чисто и уютно. На столе в переднем углу шумел самовар. За столом сидели трое: два командира, судя по знакам, а в середине, спиною к дверям, по всей видимости, хозяйка, она разливала чай. Все трое глянули на вошедших.
Красноармеец приложил руку к шлему и бодро доложил:
— Товарищ командир, на зимнем волоке с Вычегды задержаны двое подозрительных.
— Кто такие? — спросил тот, что помоложе, ставя блюдце на стол.
— Брешут, будто из Усть-Сысольска. На двоих у них одна филькина грамота, — вот. — Щербатый протянул командиру бумагу, взятую у Федора. Тот прочитал мандат, затем долго всматривался сначала в Паршукова, потом в Федора.
— Уполномоченные, значит? Та-ак… Оружие есть? Щербатый доложил: изъяли одно пятизарядное ружье бердан, три заряженных патрона. Вон у того, с бородой.
— Мое ружье, — подтвердил Паршуков. — Дозвольте сесть, нога у меня… — сморщился он.
— Постоишь, — обрезал командир. Федор сказал в свою очередь:
— У меня наган имеется, — вынул из внутреннего кармана свой наган и, держа за ствол, положил перед командиром.
Тот сердито сверкнул взглядом на щербатого:
— Растяпы! Обыскать! Обоих. И заплечные мешки тоже.
Первым обыскали Паршукова и его котомку. Потом взялись за Федора. Щербатый зло обшарил карманы, обхлопал спину, бока, живот, ноги. Развязал мешок, вывалил все на пол. Когда дошел до клеенчатого мешка, развязал завязку из дратвы…
— Вот это да-а… — аж присвистнул щербатый и с ненавистью посмотрел на Федора. Потом отнес мешок с деньгами на стол.
— Хороши лесные уполномоченные, — заметно повеселел молодой командир. — Мешок денег, да при боевом оружии… — Он мотнул головой, словно принял какое-то решение. — А ну не морочьте мне голову! Кто направил? Почему сюда? С каким заданием? Где ваша белая гвардия попряталась? Сколько штыков?
Федор впервые за всю эту историю всерьез испугался: не иначе, принимают их за белых шпионов… Еще не хватало. Но понял и другое: надо взять себя в руки и говорить спокойно, не вилять и не задерживать с ответом — не так поймут. Кто ж их знает, может, и вправду белые близко…
— Как написано, так оно и есть, товарищ командир. В нашем коми крае второй год подряд неурожай и голод. А мы с Паршуковым дрова поставляем в Питер, в Москву. Много ли нарубит в лесу голодный мужик? Вот нас и послали. Я старший, должен купить хлеб лесорубам. А товарищ мой, Паршуков Григорий Иванович, он из Усть-нема, мне в помощь определен товарищем Вишняковым, который мандат подписал.
— Вы, други милые, вот чего… станете отпираться, поставим к стенке как белогвардейских лазутчиков и отправим к праотцам вместе с вашим мандатом. — Это вступил в разговор второй командир, который только что прочитал документ и отбросил его на стол. — Ваша грамотка — она на дураков рассчитана. Двадцать девятого октября выехали вы из Усть-Сысольска, а сегодня у нас что? Сегодня аккурат двадцать девятое ноября. Месяц прошел! За такое время человек на край света успеет, не только в Чердынский уезд.
— Это правильно, дней мы много на дорогу убили, — спокойно, как только умел, подтвердил Федор. — Григорий Иванович ногу на болоте вывихнул. Пришлось лечиться да ждать, пока боль отпустит, сидели мы в зимовье, том, что ближе к деревне Канава. Десять дней пережидали. Пока нога отошла, пока болота примерзли… по мокрому болоту Паршуков уже не мог идти, товарищ командир.
— Во заливает, белая сволочь! — вмешался щербатый. — Да по ихним мордам видать, какие они уполномоченные! Чикаться тут с ними… Шлепнем за сараем, да и все дела.
— Прекрати разговоры, Рябинин! — оборвал командир щербатого. — А ну, выйди и подожди в сенях.
Красноармеец забурчал что-то себе под нос и вышел.
— Плохо работаете, господа, и офицерики ваши в разведке — тьфу! придумщики… На чем решили нас провести? Вот этой бумажкой? Совнархоз… какой-то лесозаготовительный округ придумали… Вы сразу скажите: от печорских белобандитов посланы или от прохвоста Латкина? К кому направлены? Для чего деньги?
— Мы посланы Советской властью, как сказано в бумаге, — почти в отчаянии, чувствуя, что здесь не верят ни единому его слову, сказал Федор. — Мы ничего не придумываем, все как есть. Запросите Усть-Сысольск… Хоть уездный комитет партии, хоть военкома, хоть вот Вишнякова. Меня знают, я делегатом был на съезде Советов, на последнем, в Усть-Сысольске…
— Ах-ха! Вот и раскрылся! Думаете, на дураков нарвались? Вокруг пальца обвести? По Печоре, по Ижме и в верховьях Вычегды — кругом белые. И в Усть-Сысольске тоже…
У Федора аж в глазах помутилось: как — белые? Откуда они в Усть-Сысольске? Что он городит, этот молодой, в ремнях? И что он еще сказал? По Ижме — белые… Там же Ульяна! Надо было что-то отвечать, Федор попытался собраться:
— Пока мы шли, товарищ командир, время тоже не стояло, за месяц бог весть — кто куда пришел. Это нам не известно.
— Вот и славно, вот и хорошо. А теперь и скажи: куда идете, кому несете… Последний раз спрашиваю, какое имеете задание?
— Задание я сказал: идем за хлебом, чтобы перевезти на Вычегду для лесорубных артелей. Другого задания у нас нету. Не верите — ведите нас к своему командиру, пусть разбирают по всей форме.
— По форме, значит, хочешь, — с недоброй усмешкой сказал тот, что постарше. — Будет тебе и по форме… Я вот думаю, — обратился он к молодому, — посадить их в амбар на ночь, мозги прочистятся в холодке, может, и вспомнят, кто их послал и куда.
— Да нечего нам вспоминать! — крикнул Федор. — Хватит уже! Сами сидят тут, чай пьют… А мы месяц в дороге, ноги в крови… Совсем уж спятили, что ли, коми мужика за шпиона приняли! Тьфу.
Хозяйка давно уже ушла из-за стола и все время допроса тревожно смотрела то на тех, то на других, стояла она у печки.
Крик Федора, кажется, поколебал уверенность молодого.
— Отправим в штаб, нехай там из них выбьют сведения, — сказал он, вытащил из полевой сумки бумагу, карандаш и начал быстро писать.
«Ишь ты, грамотный какой», — подумал Федор, глядя, как бегает карандаш по бумаге.
Написанное молодой вложил в конверт, туда же сунул мандат Федора. И заклеил.
— Рябинин! — позвал он.
В сенях никто не отзывался. Второй командир подошел к двери, открыл и кликнул вторично. Вошел щербатый.
— Возьми Чигринова, доставишь задержанных в штаб полка. Вручишь вот этот пакет и деньги, — приказал молодой.
— Товарищ командир, стемнеет же скоро, — заныл щербатый. — А до Покчи почти тридцать верст… это ж нам всю ночь пилить!
— Боец Рябинин! Выполняйте приказание! — повысил командир голос. — А завтра к двенадцати быть в роте.
— Есть доставить задержанных, пакет и деньги в штаб полка. К двенадцати быть на месте. — Щербатый выпрямился, взял пакет, взял мешок с деньгами. Федор подумал, если все-таки какая-то дисциплина есть среди этих вояк, может, и обойдется… А то ведь, отобрав такие деньги… черт их знает, чего им взбредет в голову. Тоже ведь… соблазн.
— Забирай свои шмотки и выходи на улицу! — скомандовал щербатый. На улице он крикнул: «Чигринов, ко мне!»
К нему подскочил молоденький красноармеец, мальчишка совсем.
— Ты со мной. Доведем белых шпионов в Покчу, в штаб полка.
— Заладил, — не выдержал Федор, — шпионов они поймали…
— Заткнись! — замахнулся щербатый. — В штабе хайло раскроешь!
— И когда же мы их поведем? — поинтересовался молоденький.
— А прямо сейчас приказано.
— Да ведь скоро ночь, — заканючил Чигринов.
— Ночь-полночь, приказано — значит, веди. Иди возьми у Сандрина наган с кобурой, с наганом удобнее, и свяжи шпионам руки сзади, чтоб не вздумали рыпаться.
— Рябинин… да мы ж всю ночь будем топать… — опять заныл красноармеец.
— Выполняй приказание, мать твою туды-сюды! — Щербатый выругался зло и похабно и толкнул молоденького в нужную сторону, так что тот сразу набрал скорость. Скоро он вернулся обратно. На боку висела кобура, а в руке он держал тонкую веревку.
— Да куда мы денемся, — удивился Федор. — Вы хоть ему-то не вяжите, он с больной ногой не дойдет без палки, — сказал Федор щербатому, когда тот начал вязать Паршукову руки.
— Жить захочет — он у меня бегом побежит, он у меня лошадь обгонит, — со злым весельем отрезал Рябинин, и Фёдор понял по тому веселью: этого Рябинина ничем не взять, ожесточился, от такого добра не жди.
— Потерпи, Григорий Иванович, — обратился Федор к товарищу, — что тут поделать? Скоро кончатся наши беды… Придем в штаб, разберутся там, потерпи, — подбадривал Федор, но тревога уже заползала в сердце: что за спешка такая, на ночь глядя пускаться за тридцать верст…
— Молчать, белая сволочь! — рявкнул щербатый, злясь все более.
Федор решил больше ни в чем не перечить и молчать до самой Покчи. Судя по всему, ночь им предстояла адская, все силы придется собрать, чтобы со связанными руками отмахать этакий конец.
— На том свете кончатся наши мучения, — ответил Паршуков по-коми. И сразу получил пинок от щербатого:
— Кому сказал — заткнуться!
За спиной Федора, почти у самого уха, фыркала лошадь парнишки-конвоира, а на Паршукова почти беспрестанно орал щербатый, подгоняя когда словом, а когда и пинком. Могли бы подводу дать, подумалось Федору. Сани какие… Тоже мне, заботники… Тридцать верст отмахать пешком, да с такою ногой, как у Иваныча, да чтоб конвоиры вернулись к двенадцати завтра… Это ж бегом надо бежать… Как это он считал, версты и время… интересно. Мне не верит, что месяц сюда тянулись, а сам… Но эти мысли о несоответствии времени и расстояния снова заслонили думки об Ульяне. Как она-то, с ребенком… если там кругом белые?.. А может, соврал молодой командир, брал их с Паршуковым на пушку? И такое вполне может быть, — немного успокоился Федор. Насчет Усть-Сысольска он явно загнул… для проверки, наверное. А он, тютя деревенский, сразу поверил. Но, может, и хорошо, что поверил, клюнул, так сказать, на удочку. А то ведь война, она и есть война — шлепнут за сараем, ищи виноватых на том свете…
Паршуков хромал молча, но видно было, как тяжко давалось ему это испытание. Он уже и спотыкался, и падал на дороге, Федор помогал ему подниматься, подставляя ногу, чтобы Григорий Иванович хоть спиною мог опереться на что-то. Щербатый орал все злобнее. Затем он затих, на некоторое время оставил Паршукова одного и подъехал к молоденькому конвоиру. Они минут десять — двадцать ехали рядом, о чем-то говорили негромко. Потом догнали «шпионов». Парнишка поравнялся с Федором и скомандовал: «А ну, стой!»
Федор замер, остановленный не столько приказом, сколько новым выражением лица молоденького конвоира.
— Стой… Подыми руки, повыше…
Федор оглянулся. Паршуков тоже стоял, за второй лошадью. Щербатый молчал и смотрел. Конвоир Федора нагнулся, ножом стал резать веревку, которой были связаны руки. Ну, дотумкали наконец, подумал Федор, разминая затекшие запястья. С вольными-то руками побыстрее пойдем, — повеселел он. Но красноармеец сказал вдруг:
— А ну, пошел! Пошел-пошел, убирайся!
Федор растерялся. Если это еще одна проверка, то глупее ничего придумать нельзя. Куда он «уберется» без денег, выданных ему на хлеб для рабочих?..
— Ты чего, спятил? — спросил Федор. — Куда это я пойду? Никуда не пойду. Идем в штаб, разберемся, а уж потом…
— Какой тебе штаб, дурак! Пошел вон, пока живой! Беги, говорят, — беги! — Чувствовалось, молоденький конвоир сильно нервничает, даже заикаться начал от волнения.
На сердце у Федора стало совсем плохо, только сейчас понял он, в какую беду они попали. Он так и остался стоять на дороге, конвоир, натягивая поводья, попятил коня. Федор на секунду опустил голову, толком еще ничего не понимая, а когда снова поднял, на него, в пяти шагах, смотрел черный зрачок нагана. Лошадь под конвоиром стояла смирно, промахнуться с такого расстояния он не мог. Грохнул выстрел — Федору словно обухом топора шарахнули. Голову ударило, будто падающим деревом… Ноги подкосились сами, Федор рухнул лицом в мягкий снежок на дороге…
…Он возвращался в сознание трудно, словно всплывал с большой-большой глубины, куда занырнул, не рассчитав воздуха в легких. Сначала он услышал шум, и долго-долго не мог понять, где и почему так сильно шумит. Это было так, будто на одном большом столе кипело сразу сто самоваров… Прошло, наверное, часа два, пока Федор понял: шумит у него в голове. Прошло еще сколько-то времени. Шум начал постепенно стихать, самовары остывали. Прозвучала какая-то далекая писклявая команда… Федор не сразу понял, откуда она и кто кричит. Потом, через время, сообразил: это он сам, неизвестно откуда, стоит, смотрит на себя самого и кричит: открой, открой глаза!
Глаза открылись. Было темно, непонятно и холодно. Во рту почему-то сильный вкус железа. Разве я ел сегодня железо, подумал он беспомощно, потому что не помнил, ел или не ел. Грудь ему сперло, легкие долго были сжаты тяжестью тела, им хотелось вдохнуть воздуха, а тело давило и не давало легким расправиться. Надо было вдохнуть, надо… Федора вдруг стошнило, выворачивая внутренности; это извержение приподняло его — и легкие распрямились. Дышать стало легче, изо рта выдавился тугой резиновый ком, глаза с трудом различили — то ли черный, то ли густо-красный. За комком потянулось что-то липкое, длинное, от чего хотелось освободиться. Федор попытался было сплюнуть, как он делал когда-то… но… ничего не вышло, он выдавил только слабенький пузырек — как грудной ребенок… Сознание вернулось к нему еще одною ступенькой, и он решил, что сегодня больше плевать не будет, сил нету. На лице чувствовал он густую липкую паутину, но понимал: сейчас ее не стереть, потому что не поднять руки. Завтра сотру, решил он. А сегодня… что ж было сегодня?.. Сегодня в него стреляли… и, кажется, метко. Да, тот, молоденький, совсем мальчишка. Был еще второй… щербатый, вроде. Но он в него не стрелял. Федор повернулся, с трудом поднял голову и… услышал выстрел… Значит… он живой. Как же так, молоденький сидел высоко на лошади, так близко, он не мог не попасть, он попал… Но он живой, Федор чувствует, что живой. Значит… плохо попал, не убил до конца. Aгa. Где же они, на конях которые?.. Если я приподниму голову… они же опять — пальнут? Самовары шумели глухо и далеко, никаких других звуков Федор не слышал. Холодно… Если не встать, мороз прикончит его до утра… Надо встать и пойти… или ползком. Но они на лошадях, они догонят и опять пальнут… Пресвятая матушка-богородица… сохрани и помилуй! Век буду тебе молиться… За-ради безгрешного моего младенца… Ульяны ради, не дай погибнуть, сохрани, сохрани…
Он опять поднял голову, будь что будет. Сердце било как кувалдой по наковальне, и удары эти отдавались у него в голове, в скулах, в затылке… Голову держать он не мог, только осознал, что вокруг никого, и опять уронил. Лежал так еще сколько-то, набираясь сил. Снова тихонечко приподнялся, подсунул руку, подпер подбородок. Обозначилась дорога с отметками конского навоза. Какой-то черный бугорок на той стороне, то ли кочка, то ли пень, не засыпанный снегом. Федор подтянул одну ногу, потом другую, медленно, помогая себе руками, встал на колени. Голова отчаянно закружилась, он замер и подождал немного. Вот он встал на ноги, покачался из стороны в сторону и шагнул. Еще шагнул. Что-то тянуло его к тому бугорку, он и сам не знал — что. Он стоял и рассматривал, рассматривал и узнавал, узнавал, вспоминал. И вспомнил: перед ним, на животе, раскинув руки и уткнувшись по уши в мягкий снег, лежал Паршуков. Паршуков Григорий Иванович. Четверо детей, нога вывихнута, еще не зажила. Тот самый Паршуков, который знал дорогу на Чердынь, отчетливо доложил себе Федор и опустился на колени рядом с Иванычем. Матушка-богородица… подскажи, что делать… Ни язык, ни губы, ни даже мысли Федора не шевелились. Только сердце кричало, кричало молча, но он слышал каждое его слово, такое непереводимое и такое понятное.
Зачем?.. за что?.. Куда деваться? Здесь… смерть… такая глупая и простая, даже обидно.
В голове медленно прояснялось, мысли начинали стучать о спасении. Нельзя помирать, никак нельзя! Край чужой. Вперед, куда шли, ему не дойти. В лесу не схорониться, тут же замерзнешь. Обратно… Федор понял: дорога ему только назад, в деревню, из которой его повели на смерть. Нету выбора, нету. И он пошел, следя в свете звезд, чтоб не сбиться с дороги. Голову ломило, во рту горело ржавое железо, ноги заплетались, будто бы разучились ходить, не хотели нести хозяина. Федор понял: он должен сосредоточиться на дороге так, чтобы дойти, дойти до деревни. Он начал считать шаги. Потом, не останавливаясь, молился. Потом разговаривал с Ульяной, обещал ей приехать, обязательно приехать, как же, нам еще столько жить, Уля, нам еще свой дом строить, с комнатами, сеновалом, сенями…
Лес расступился, зачернели избы. Федор сделал невероятное усилие, чтобы не постучать в крайнюю. Нельзя! Если хватятся и почнут искать, первым делом станут здесь шарить. Надо пройти еще немного, еще… Но все его человеческое, неубитое существо молило, стояло перед ним на коленях: не ходи, не ходи дальше, постучи в дверь, отогрей душу — последнее, что у тебя осталось теперь. Ну, все, больше нету сил. Слава богу, нигде ни огонька. Федор подошел к низенькому крылечку, вровень с землёй, рухнул на четвереньки и до пронзительной боли закусил губу, чтобы не потерять ускользающее снова сознание; сначала постучать, постучать, сначала посту… Он дотянулся до железного кованого кольца и тихонько стукнул, дом деревянный, сельский человек сразу услышит. А ежели посильнее ударить, то и сосед проснется, а этого нельзя, никак нельзя…
Он слышал, как в сенях открылась внутренняя дверь, как прозвучал женский голос, но сам уже сказать ничего не мог, только еще раз, тихонько, похлопал ладонью в дверь, сползая на заиндевелые доски крыльца…
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Когда сознание ненадолго возвращалось к Федору, перед глазами его, в сиреневом красивом тумане возникало лицо, иногда молодое, иногда — то же самое — но уже старое. Он, мгновенным озарением, думал и понимал, что это Ульяна, его Уля, какой она была в детстве, девочкой, и какой станет потом, через десятки лет, не понимал только, зачем она показывается ему старой, ведь им еще жить и жить, и не может человек и точности знать, каким он будет через тридцать лет, и будет ли вообще. Рассмотреть внимательно это лицо он не успевал, то ли оно уходило снова в туман, то ли сознание покидало Федора, и он опять впадал в беспамятство, в призрачное качание. Тут надо было ждать и терпеть, когда туман растает в нарождающемся солнце, как это бывает утром, или когда сознание окончательно смилостивится и вернется к нему насовсем. Когда сознанию надоело шляться на стороне и оно возвратилось к Федору прочно, он понял, что лежит в теплой избе, в кровати. Под головой не котомка с деньгами, а мягкая подушка. Потолок над ним совсем простой, деревенский привычный, с узором длинных линий расколотого вдоль бревна… Бесшумно сновали тараканы по своим тараканьим делам. Через небольшое оконце проходил в избу с улицы. Где-то неподалеку то ли капало, то ли тикало, в не своей избе не все звуки сразу понятны.
Открылась дверь, и в комнату вошел белый поток мороза, а вместе с ним женщина, закутанная в шаль, обутая в валенки. Лицо было очень знакомое, но где Федор его видел, сразу вспомнить не мог. Женщина заметила, как он смотрит на нее и молчит. Она подошла к нему совсем близко и заглянула в глаза, и так глубоко заглянула, что стало ему хорошо и он то ли улыбнулся, то ли хотел улыбнуться. Но она все равно поняла, что он — живой и, наверное, теперь будет жить. Она засмеялась: «Мама, иди скорей! Он глаза открыл! Он — смотрит!»
Федор никак не мог понять, какое тут может быть удивление: ну, открыл глаза, он всегда их открывал, когда просыпался, ну, смотрит — а что же еще делать глазами, как не смотреть? Странная какая девушка, думал он, но не испытывал досады, а только легкое, как бы похмельное удивление — надо же, какая…
Девушка захлопнула дверь, размотала шаль и снова вернулась к Федору, встав напротив, смотрела на него и улыбалась. Подошла вторая женщина, много старше первой, лицо было такое же, простое и доброе, очень похожее, только все в морщинках. Федор и это лицо где-то видел, совсем недавно, память удержала веселые лапчатые морщинки возле глаз, но где видел… он не мог вспомнить. Старшая мягко положила шершавую ладонь на лоб Федору, затем повернулась лицом в угол, где висела икона, и низко поклонилась:
— Слава тебе, господи… Ожил, ожил раб твой Федор, слава тебе, господи, во веки веков…
Она еще поклонилась и еще что-то прошептала. Потом сказала молодой:
— Налей горячего супа Феде, только совсем жидкого, без приправы, бульончику нацеди.
Та бросилась к печке и с шумом отодвинула печную заслонку. Миска с бульоном поставлена была рядом с изголовьем, и Федор вдохнул вкусный запах супа. Старая села рядом, приподняла ему голову на подушках повыше и осторожно начала кормить бульоном, вкуснее которого в жизни своей он не ел. Внутри у него суп горячей волной разливался по всем жилам, наполняя их радостью жизни, только недавно потерянной и теперь обретаемой вновь. Волна жизни докатилась до самых кончиков пальцев; он всего-то сделал несколько глотков и так обессилел, что пришлось снова закрыть глаза и провалиться в сон. Так мало осталось у него сил, хватило только увидеть нутро избы, хозяев со знакомыми лицами да попробовать супу. А будто неделю прожил…
Он спал спокойно, не следя во сне за временем, как бывало это в страду. Он долго не просыпался, хотя иногда выходил из сна и впадал в полудрему — и тогда чувствовал: у него нигде ничего не болит, только тело какое-то битое, это, наверное, долгая дорога через болота, совместная их дорога с Паршуковым, сказывается. Но веки были неимоверно тяжелые, неподъемные, такие тяжелые, что Федор снова засыпал, не давая себе труда открыть глаза еще раз.
Сколько он спал, Федор не знал. Когда проснулся, в избе стояла плотная темень, только в углу перед печкой горела лучина и трещали дрова в печи — такой милый, такой до боли сердечной знакомый треск. У топившейся печки опять были только двое, те самые, видно, мать и дочь. Младшая выходила с ведром в одной руке и фонарем в другой. Федор догадался: скотину обихаживает. Она возвращалась, они негромко переговаривались с матерью по всяким простым домашним делам. Федор ловил звуки и по ним легко представлял, кто что делал. Вот поскребли дном чугуна по поду печи. Потом ухват стукнул. Слышно шуршание, это крупу отвеивали, да. Потом начали прихлопывать, мягкие такие шлепки… Это каравай выхлопывают… Точно, вот и запах хлеба пошел по избе, поплыл, закачался в голове и ноздрях… Ну да, конечно, ведь они с Паршуковым сюда и шли за хлебом, здесь же не голодают, эти деревни много южнее, сюда северный заморозок не достигает… Погромыхивала хлебная лопата. Потом цедили молоко. Потом начало помаленьку рассветать, и, повернув голову покруче, Федор увидел в переднем углу икону пресвятой Богородицы. Богородица-матушка смотрела прямо в глаза Федору, рабу божию Туланову, и он ответил ей благодарным взглядом и внутренним исповедальным голосом: «Всем сердцем и всей душой благодарствую… Слава тебе, господи, не дал мне помереть, с Ульяной не разлучил до срока… Погоди чуток, вот встану когда — свечи поставлю…»
Он закрыл глаза и недолго полежал так.
— Смотрю, глаза закрыты, а губы шевелятся, — услышал он над собой. И снова открыл глаза. Увидел молодую девушку. Это она произносила над ним слова:-Я думала, может, ты опять бредишь? А голова сегодня не горячая… Ты проснулся?
— Ага, — сказал Федор, ему было неловко лежать перед незнакомым человеком в чужой избе, где и он никого не знает, и его — никто.
— Мама, Федя опять проснулся, — радостно сообщила девушка. И мать подошла. Вытерла руки о передник, потрогала лоб Федора.
— Ну, слава богу, выжил… Налей супа в миску. Семь ложек налей. Один бульон. Остуди и напои.
Его опять напоили супом, и жизнь сразу преобразилась, в избе стало светлее. Федор почти все понимал, что было теперь вокруг, но еще не все мог вспомнить из того, что случилось раньше.
— Сегодня… какое число? День какой? — спросил он у девушки.
— Шестое сегодня, января. Завтра Рождество, — улыбнулась она.
— Как… Рождество… откуда?
— Так… шестое уже… Ты ведь пять недель бьешься со смертушкой, Федя. Или не помнишь?
— Не очень, — признался он, потому что радость выздоровления заслонила в нем всю прошлую печаль.
— Тебе рассказать? — спросила она, и он кивнул. — Мама, можно Феде рассказать про все? Или рано?
— Коли хочет знать… расскажи, — разрешила мать. — Он теперь на поправку пойдет, ожил мужик, слава тебе, господи, ожил…
И девушка поведала Федору все по порядку: и как он постучал ночью, и как она испугалась, разбудила мать, как они не сразу открыли, а когда открыли — на крыльце человек лежит, не шевелится, беспамятный, и как затащили его в избу, зажгли огонь да испугались: глаза закрыты, весь щетиной зарос, губы опухли и голова в крови; потом, глядим, на улице мороз трескучий, а человек в сапогах, думали, ноги обморозил, еле сапоги стянули, ноги растерли, нет. вроде ничего, обошлось; потом лицо обмыли, раздели, уложили, а ты все без сознания, бредишь, мечешься, затихнешь ненадолго, мать спросит, как тебя зовут-то, милый, и ты, глаз не открывая, ясным голосом так и ответишь — Федор я, потом еще Ульяну все звал, не знаю, кем она тебе приходится, ребеночка какого-то поминал, которого ты не видел, какую-то рысь хвалил, хорошо, говорил, что она тебе встретилась, что свою шубу тебе отдала, — ну прямо как колдун какой или знахарь…
— Мать моя летом травы собирает, лечебные, чудодейные, ты маме спасибо скажи, она трав заварила и рану твою обмывала этим настоем, пока доктор пришел…
— Какой доктор?
— Настоящий, в халате. Его большой командир прислал, он и сам приезжал, но ты в горячке лежал, не узнал его, а он тебя признал, мы, говорит, старые знакомцы…
— Нина, ты повременила бы, устал, поди, Федор, — отозвалась от печки мать.
«Нина», — повторил про себя Федор.
— Ладно, Федя, отдохни, я потом расскажу, — шепнула девушка.
— Нина, я не устал, ты говори, только тихонько, а то ушам больно…
— Тогда я шепотом, — кивнула Нина, не терпелось ей выложить Федору его историю. — Это мы потом узнали, что вас расстреливали, да не дорасстрелили, они на другой день по деревне шастали, все крайние дома обошли, один, говорят, живой остался. Мы испугались, подняли тебя на печку, поукрывали чем могли, я говорю маме: ты, мол, сама к нему подымись и постанывай, будто болит чего: и его прикроешь, и нас спасешь, вдруг не простят милосердия нашего?.. Ладно, и к нам пришли, трое, я еле живая, до того страшно. Из тех троих один большой командир был, из Покчи приехал, он твои бумаги читал. Ну это позже узнали, а тут вошли трое, мать на печи стонет; спрашивают, а я трясусь вся, они с ружьями, с наганами… А мы как тебя прятали, про остальное, дуры, забыли, одежда твоя под лавкой осталась, ну, один и увидел… Нашли тебя на печи, мать плачет, я плачу — а ну как и нас порасстреляют?.. Покчинский командир подошел, посмотрел на тебя и сказал: да это же Федя Туланов, мой старый знакомец. И приказал доктора позвать и все сделать, а тебя не трогать и лечить, выхаживать. Даже часового поставил… Доктор говорит: рана не страшная, но крови потерял много и горячка — если сам сильный и сердце сильное, может, и выкарабкается, а если слабый, то уж помрет, ничем не поможешь… Как очнется, дайте, говорит, чистого бульону, но сразу много-то не кормите, ну, это мама и сама знает, она тебя еще травным настоем поила, с ложки… Тот большой командир еще приезжал, возле тебя сидел, хотел поговорить, позовет, позовет тебя: Федя, мол, помнишь, как мы шестами толкались? Ты глаза откроешь, смотришь на него и молчишь, и глаза неживые, не узнаешь никого. Командир говорит: никакой он не шпион, просто Федя Туланов, коми охотник с очень добрым сердцем, так и сказал — про сердце. И еще много чего говорил, будто ты матрос, будто все это глупая случайность революции, или как там, не помню, и приказал тебе оставить красноармейский паек, денег немного и еще две бумаги велел передать, когда выздоровеешь.
Нина встала, из-за иконы достала два листочка, прижала к груди, заглянула Федору в глаза:
— Сейчас будешь читать или потом, как отдохнешь?
Федя протянул свою неподъемную руку: сейчас. Он долго разворачивал первый листок, руки не слушались, буквы прыгали, никак не желая собраться в понятные слова, в прямую строчку:
«Здравствуй, дорогой Федя! Чрезвычайно взволнован нашей неожиданной встречей да еще в такой трагической обстановке. Очень, очень жаль, но не могу задержаться и подождать, когда ты поправишься: надо бить и гнать белую сволочь Колчака. Тебе помогут стать на ноги — я дал необходимые распоряжения. И мы с тобой еще поохотимся в твоих лесах. Глубоко сожалею о случившемся, Федя. Усть-Сысольск снова в наших руках, твои слова там полностью подтвердили. За нарушение революционной дисциплины виновники наказаны по всей строгости революционного закона. На отдельном листе я написал тебе справку, ты ее предъявишь в свой лесозаготовительный округ, чтобы с тебя списали реквизированную сумму. Встретимся еще! Жму твою руку. Бывший политссыльный Илья Яковлевич Гурий, командир Бугурусланского Красного полка.
10 декабря 1919 года».
Такая была записка. Федор немного полежал с закрытыми глазами — устал сильно. Потом прочитал еще раз, медленно, взвешивая каждое слово. Вот кого богородица послала ему в главные спасители… Двенадцать лет прошло, как они с Ильей бежали по реке… Федор уронил руки поверх одеяла. Нина тихо встала и отошла к матери. Федор ничего не сказал ей, как прочитал листок. Наверное, такая важная бумага, ишь какой человек ее написал, весь в ремнях, при нагане, в папахе — строгий.
Когда сердце успокоилось и перестала кружиться голова, Федор развернул и второй листок. Там оказалась справка с круглой печатью.
«Справка. Дана доверенному лицу Усть-Сысольского лесозаготовительного округа Северо-Двинского Губернского Совета Народного Хозяйства товарищу Туланову Федору Михайловичу. 30 ноября 1919 года частями Красной Армии у него реквизированы деньги: советскими ассигнациями 300 (триста) тысяч рублей — для нужд Красной Армии. Справка дана для Усть-Сысольского лесозаготовительного округа и списания оной суммы на борьбу с Колчаком. Все силы на борьбу с Колчаком!
Командир Бугурусланского Красного полка И. Гурий».
Федор опять закрыл глаза. Господи… что же делать теперь… научи… Вместо денег, вместо хлеба у меня — бумажка… Как я этой бумажкой людей накормлю?.. Что же ты натворил, Илья… да лучше бы ты меня окончательно пристрелил… Господи, воля твоя… ни рукой, ни ногой шевельнуть… Догнать бы тот полк, объяснить Илье… Как жить-то теперь?..
Глубокое опустошение почувствовал Федор в себе, и ушла куда-то радость возвращения к жизни… Идти придётся, объяснять, оправдываться… и главное — с пустыми руками, вот самое-то обидное: с пустыми. Он долго лежал, не шевелясь и молча горюя. А тут еще самые простые человеческие надобности, которые положено всякому человеку справлять самому. Дорофеевну, мать Нины, Федор не стеснялся, она и ему в матери годилась, а уж Нина… как подумаешь… от стыда сгоришь… Окончательно очнувшись, Федор и об этом не мог не думать. Как то и мать и дочь пошли проведать соседей. А ему приспичило. Он сел на постели, и вся комната пошла кругом. Подождал, пока кровать и пол остановятся и станут на свои места. Затем, держась за спинку кровати, встал — и почувствовал безнадежную слабость. Перебросил руки на стенку и так, опираясь, добрался до дверей. Там под лавкой он приметил старые валенки, а на гвозде увидел свою шубу. Пришлось посидеть на лавке, набраться сил, чтобы открыть дверь и выйти в сени. Свежий холодный воздух тугой волной толкнул его в грудь, обжег отвыкшие легкие. Голова опять пошла кругом, и он постоял, привалившись к стене. Ноги были сначала ватные, мягко подгибались под ним, а теперь начали дрожать крупной дрожью — они еще не держали тела.
Но сдаваться Федор не собирался. Отхожее место, как всегда в деревне, и здесь, конечно, в сарае. Он доковылял до дыры, облегчился. И почувствовал себя победителем. Обратно добирался вдвое дольше, еле дошел и свалился на кровать вовсе без сил.
Дорофеевна, вернувшись, увидела на полу шубу и валенки. С тревогой спросила:
— Да ты не на волю ли выходил? Сынок… нельзя же тебе на улицу, милый, после такой-то болезни долгой, прохватит моментом… Боже тебя упаси…
Она напоила его настоем трав, укутала. Но боженька, видать, смотрел в иную сторону… К вечеру Федор валялся в таком жару — огнем горел. И снова погрузился он то ли в туман, то ли в сон, снова метался между этим и тем светом. Две недели Дорофеевна и Нина по очереди сидели около его кровати, поили настоями горькими и сладкими, солеными и кислыми… Дорофеевна и святой водой на него брызгала, да господи, он ей, пока болел, как сын родной стал…
Через две недели новой горячки вместо Федора Туланова лежала под одеялом груда мосластых костей, обтянутых бледно-серой кожей. Но пока что груда эта — дышала. И глазами хлопала. И с детской беспомощностью улыбнулась Нине однажды утром.
— Ожил…
И вправду — ожил. Взгляд у него был ясный, лоб сухой. Нина нагнулась, мягкими губами коснулась лба Федора:
— Теперь поправишься… потух жар, потух, Федя, — Нина осторожно погладила взлохмаченные волосы Федора. — Слушаться надо матушку, неслух ты этакий… И меня слушать…
За время болезни Федор ей стал родным братом. А может, и больше того. Так напереживалась… не приведи господь.
— Будешь слушаться?
— Бу-ду, — по слогам сказал он, не ощущая в себе силы даже языком ворочать.
— Ты не стесняйся… Я к тебе совсем привыкла… я тебя как ребенка малого жалею… и люблю, — призналась она и второй раз прижалась губами к его лбу, задержавшись чуть дольше, чем раньше.
Через неделю встал он впервые с кровати. Тепло укутав его, Дорофеевна помогла Федору сходить на улицу. Еще через день-два он и один начал топтаться в избе, тепло одевался и, если не крутила метель, выходил недолго посидеть на крыльце.
Солнце почти не грело, но подымалось уже высоко над кромкой леса. Федор сидел, смотрел на природу, ни о чем не думал — только сидел и смотрел. Надо было возвращаться, это понятно, но сил еще не было на обратную дорогу. Чуть позже он начал подробно вспоминать, как они с Паршуковым шли сюда, вспоминал каждую версту, и где что случилось, и как из болота выбирались, и как ногу Иванычу парили и вправляли, и все-все, что было потом, вплоть до последнего выстрела и того бугорка в снегу, который был Паршуковым…
Он вспомнил все в правильной последовательности и был даже рад, что вспомнил, потому что теперь предстояло еще одно испытание: обо всем рассказать там, в Усть-Сысольске, где люди ждут хлеба, а получат… расписку про Колчака.
Дрожь в ногах и руках постепенно исчезала, он ел теперь не только бульон. Домой, нужно как-то выбираться домой…
— Пойдешь, конечно, — успокаивала его Дорофеевна, — только ты раньше сил наберись. Далеко ли сейчас уйдешь? Ой, не испытывай судьбу, Федя, сынок, два раза ты вырвался, а третий не пытайся, господь терпелив, однако… Сам знаешь. Третий раз смертушка может не выпустить, поберегись.
Федор уже и по дому кое-какие работы работал: дровец наколоть, в избу занести, ножи, топор наточил, поправил покосившуюся дверь из сеней на сарай. Он давно оброс бородой, не до бритья было столько недель, а тут как-то остановился перед маленьким зеркалом… И не узнал себя: старик стариком. В бороде просверкивали седые волосы. Надо же как — головою да сердцем переживаешь, а белеет — волос…
Он вытащил из котомки бритву, помазок и, намылив лицо, долго выскребал с него лишнюю щетину, усы только оставил, поправив ножницами, чтоб не топорщились и не свисали. Из-под волоса, снятого бритвой, проступила круглая красная отметина на левой щеке, заросшая вмятина на месте мяса, вырванного пулей. На левой же стороне пуля выбила ему три коренных зуба, с тех пор как Федор очнулся, он никак не мог привыкнуть к пустоте во рту, язык сам тянулся туда, и все ощупывал, ощупывал то место в десне, куда угодила ему пуля. Да. Не повернись он тогда в сторону своего конвоира, пуля цокнула бы его аккурат в самый затылок. Как Паршукова. А теперь вот… всего и потерь: три зуба, зарубка на щеке да два месяца, что проторчал он у порога на тот свет. Да вот еще хлеб потерянный… Да Паршуков убитый…
Зашла Нина, увидела Федора, такого непривычно бритого, и — растерялась. Так и стояла у двери, стояла и смотрела, Затем медленно подошла к нему, ласково огладила волосы, провела ладонью по гладкой щеке, подбородку…
— Какой ты, оказывается…
Федор смотрел на свою спасительницу, полный нежной благодарности к ней, к ее матери, этому дому, который он теперь не забудет по гроб жизни, который теперь его второй родной дом, вторая родина — на чердынской земле.
Нина вдруг хлопнула руками себя по бокам да как засмеется — молодо, радостно; она крутнулась на месте и бухнулась на лавку, продолжая счастливо хохотать и не спуская с Федора глаз:
— Гос-по-ди-и… Да ты же какой молодой-то… Федя!
— Молодой… коль не с бородой, — улыбнулся он. — В декабре, пока без памяти валялся, стукнуло мне, Нина, двадцать восемь.
— Двадцать восемь! Да разве это годы, Федя! Я-то думала… за сорок тебе… Двадцать восемь, как хорошо! — Нина, вся сияющая, выпорхнула из избы.
Вошла новая тревога в сердце Федора. А ну как потянутся они с Ниной друг к дружке… Уже когда Федор выздоравливать начал, но еще не вставал, всяко бывало, обнимет его Нина за шею, прижмет голову к своей груди, чтобы поправить подушку — и замрет этак на какие-то мгновения, и столько в ее голосе ласки, нежности — дыхание у Федора перехватывало, воздуху не хватало…
И Дорофеевну, похоже, начинало что-то тревожить в такой повадке дочери. Когда Нины не было в избе, она заводила разговор на новую тему, которой раньше, по беспомощности нечаянного своего жильца, не касалась:
— Жену, говоришь, Ульяной величают?
— Ульяной, Дорофеевна, Ульяной.
— Славное имя какое… В бреду ты все звал Уля да Уля, да обещался приехать, а то прийти… Видно, любишь, Ульяну-то…
— Люблю, Дорофеевна, очень люблю.
— Вот и решила с тобою, Федя, словечком перекинуться. Нина к тебе сильно привыкла… ой, сильно. Вижу: сердечком начала к тебе прикипать, сынок. Хочу я тебя попросить, Христом-богом — не поступи ты с ней по-худому. Выздоровел — и слава тебе господи. Сам понимаешь, у тебя своя жизнь, она там сложилась, на родине. А Нине придется тут гнездо вить либо неподалеку. Глупое девичье сердечко, оно ведь ни с чем не посчитается, коли полюбит настоящей любовью…
Словно горячею водою плеснули в лицо Федору. Конечно, он и сам чувствовал нежное к себе отношение Нины, уж такое нежное, прямо любящее… Как смотрит на него, как помогает, как притрагивается, волосы ерошит. Но согрешить… после того добра, за которое ему теперь всю жизнь не расплатиться… Да чтоб у него после такого вообще все… поотсохло… Обереги боже от мыслей даже таких…
— Дорофеевна, милая, послушай, чего скажу, — подумав, обратился Федор. — Ты сама понимаешь — люди мы простые, живем с того, что своими руками содеем… Потому не знаю, сумею ли когда расплатиться с вами, спасителями моими; в долгу я неоплатном, это да… Так. Но как жив остался, как выходили меня, как из могилы вытащили… век не забуду и детям передам, да. А что до сомнений твоих, я тебе просто скажу: сделать тебе либо Нине чего худого… ну все равно как имя человеческое потерять. Ты пойми…
Дорофеевна тяжело вздохнула.
— Не осуждай меня, сынок. Материнское сердце… оно завсегда болит…
Надо, надо было уходить, хоть и не было прежней силы, чувствовал Федор — далеко до прежней, но только бы до родных краев дойти, а там уж как-нибудь… Боли в груди, в плечах постепенно стихали, лицо посвежело; пил он молоко — и начал набирать живительные соки, все более возвращаясь в прежний свой облик, в прежнее жизненное настроение. Жить становилось все труднее, хотя и заботились здесь о нем, и любили… видно было — любила его Нина. Но от этого делалось еще тяжелей.
Хорошо бы попутно кто поехал либо пошел кто по той, но их с Паршуковым, тропе. Ведь случись чего, с ногой ли, вообще, не выбраться Федору одному, не одолеть болотья в пути, не выползти… Но не было попутных людей. Только в марте, где-то ближе к середине, остановились в деревне шесть подвод, идущих на Чердынь. Федор прослышал — и поспешил к ним. Оказалось к тому ж — усть-немские! Двое мужиков, четверо женщин. Одна — Федор даже узнал — соседка Паршуковых. И та признала Федора, сильно удивилась:
— Господи… да вы, оказывается, живые тут… А Иринья Паршукова горюет-плачет: ушли да пропали, ни слуху ни духу.
— Я то живой… А вот Григорий Иванович… действительно… того…
И Федор рассказал про Паршукова.
— О, господи прости… царство ему небесное, — перекрестилась женщина, а за нею и остальные. — Горе-то какое… Иринья с четырьмя осталась… мужик-то какой был, справный да справедливый… Господи, помилуй нас грешных..
И они же сказали, как неделю назад последние белые посдавались в их краях да и с верховьев Эжвы теперь сбежали, и везде нынче Советская власть крепко стоит. Федор договорился с ними: как обратно поедут, чтоб его взяли.
Усть-немские вернулись через четыре дня. И показались те четыре дня Федору за четыре недели. У Нины от долгих слез опухли глаза. Дорофеевна испереживалась вся, на дочку глядючи. А Федор пытался хоть домашними простыми трудами обмануть время, которое тянулось медленно — до невыносимости. Подшил две пары старых валенок, вытащил с сеновала косы да грабли, отремонтировал весь этот покосный инвентарь. Еще по мелочи кое-что сделал. А к вечеру каждый день уходил по зимнику в сторону Эжвы, версты три-четыре от деревни… так тяжела стала разлука с родиной, с Ульяной, с отцом-матерью, с неведомым еще ребенком своим…
Солнышко днем подымалось уже высоко и заметно разогревало воздух. Но, как только пряталось оно за лесом, морозец сразу пересиливал ненадежное дневное тепло. И все равно, этот ранне-весенний вечерний морозец уже не похож был ни на зимние, ни на осенние холода — он не щипался и не потрескивал, не пробирался под одежду противной дрожью, а лишь делал воздух чище и прозрачнее, делал его звонче, веселей и в человека вселял бодрость духа и настроение жить и жить…
Федор смотрел в родную сторону и думал о возвращении. Он снова вдыхал своею грудью сладкий воздух жизни, он шагал своими ногами и размахивал своими руками. Он любовался ослепительным весенним снегом, бездонным небом, медленно меняющим цвет свой от светло-голубого до темно-синего…
Пришли подводы, и морды лошадей смотрели на дорогу домой, домой. Федор низко поклонился Дорофеевне, обнял ее, поцеловал доброе морщинистое лицо, руки. Она заплакала, да и он заплакал. Постояли, обнявшись, русская, не старая еще женщина, и коми мужик, молодой совсем. Нина провожала Федора от деревни еще около версты.
Но и с нею пришла пора проститься. Всему, всему приходит пора.
— Я бы тебя, Федя, хоть до самой твоей Ижмы проводила… Позови только — пойду за тобой… на всю жизнь пойду… — Нина остановилась и смотрела на него с глубокой грустью.
Федор тоже стал. Нина рывком обняла его, спрятала свое лицо на его груди, прижалась. Когда подняла голову, ее лицо, пылающее весенней утренней зарей, помутнело от слез, настоящих, горьких. Глаза просили Федора, умоляли: возьми…
Федор не удержался и поцеловал Нину в губы — долгим благодарным поцелуем.
— Останься, Федюшка, — выдохнула она то слово, что столько дней мучило ее, не давало покоя, обнадеживало неясным, призрачным счастьем. — Останься!
— Ждут меня… — только и смог сказать Федор. — Прости…
— Нисколечко ведь не полюбил ты меня, — горько сказала Нина.
— Полюбил, Нина… Люблю… Буду любить до самого смертного часу… Как самого близкого человека… Как сестру родную, любимую… Будет когда-нибудь трудно — дайте знать. Я непременно приеду. Если живой буду…
Федор снова прижал Нину к груди, но тут же и отпустил, и быстро пошел вслед за коротким обозом из четырех саней, с которым предстояло ему дойти до дома Григория Ивановича Паршукова и рассказать все Иринье, теперь вдове, и ребятишкам его, теперь сиротам. Нина стояла, не шелохнувшись. Федор так больше и не оглянулся.
А когда дошел он, и рассказал, и пережил все, что переживает в таком случае человек, обремененный своей виною, он пошагал дальше, где шел, где подвозили — двигался он к Усть-Сысольску, где уже не ждали его с хлебом и только иногда вспоминали: то ли сбежал с большими деньгами — и тогда впору проклинать проклятущего, то ли погиб где с Паршуковым, попал в военную безвестность, доброй ли, злою волей — и тогда пожалеть бы их обоих, царство им небесное, да и бог с ними, денежными бумажками, мужиков жалко, такие мужики сгинули…
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Вишняков глаза вытаращил, когда Федор заявился в контору, ни с того, ни с сего, безо всякого предупреждения.
— Тулано-ов… Ты-ы… Откуда?! — Вишняков не верил своим глазам, он откинулся на спинку стула и пялился на Федора, лицо его стало испуганным, руки бегали по столу, словно ища, что схватить.
— А почитай, с того света, товарищ Вишняков… Ты меня туда послал, ну вот, я тебе оттудова привет принес. В рай не пустили, в ад я сам не восхотел. Так что принимай, какой есть, — покривился Федор в улыбке.
Котомку он бросил в угол, под стул у дверей, шапку и шубу повесил на гвоздь. Подошел к столу и сел рядом, без приглашения.
— Ты еще и шутишь, — с недоверием смотрел на него Вишняков. — Гляди-ка… Ушел с такими деньжищами… да и пропал. — В голосе Вишнякова появились злые нотки. — Ни слуху ни духу… столько месяцев… Подумать только. А он — живой, да еще и шутить пришел. Ну ладно. Туланов. Хлеб — где?
— Хлеб… да… — Федор положил перед Вишняковым ту самую справку за подписью Гурия. — Вот, все тут…
Вишняков перевел взгляд с Федора на бумажку, которую тот положил перед ним. Прочитал, посмотрел на Федора, причем выражение его лица никак нельзя было назвать умным — но Федору было не до смеха. Снова опустил глаза на справку, снова прочитал.
— Да ты… что… Туланов… издеваться надо мною вернулся? Объясни толком: что ты мне подсунул? Заместо денег, заместо хлеба.
— Не получился хлеб, Вишняков, — начал рассказывать Федор.
И подробно поведал всю свою дорогу туда, с Паршуковым, и все, что произошло там, на чердынской земле. Словом, все-все-все. Даже метку на щеке показал. И дырку в десне от выбитых пулей зубов. Вишняков долго молчал. Сказал потом:
— Смелый ты человек, матрос… Ушел отсюда, взяв триста тысяч… Обратно вернулся пустой, с бумажечкой и длинной сказкой… волшебной… Красные его недорасстреляли. Ну надо же придумать такое, Туланов. Да красные простого человека защищают, для того они и красные, Туланов. Да если б они твой мандат увидели, что деньги назначены на прокорм рабочему классу — заготовителю дров, они бы тебе… все условия… А ты мне сказочки загибаешь… Ну кто тебе поверит, скажи? Ты ведь ой какой не дурак, Туланов. Не сказать, чтобы шибко грамотный, но — не дурак. Иначе бы тебя партия не определила ко мне заместителем… Ты бы хоть про остальных не думал, будто они такие придурки, что бумажки твои примут…
— Слушай, Вишняков, — медленно закипал Федор. — Справка — не сказка. И подпись там, и печать. И против Колчака не десять полков сражались, а наверняка один Бугурусланский, других таких… вряд ли есть. Пойди да запроси, коли не веришь. А мне пожрать дай хоть чего да кипятку, я со вчерашнего дня… не ел…
— Постой, Туланов. А сюда, ко мне, ты откуда пришел?
— Как — откуда? — удивился Федор. — Прямо с дороги пришел. Никуда и не заходил. А котомка третий день как пустая. Крошки нету. Мне ведь наши вояки из тех трехсот тыщ ни рубля не оставили… Все против Колчака пошло.
— Так ты ко мне… сразу с дороги? Оттуда?
— Ну откуда ж еще, Вишняков! Я что, не понимаю, какой груз на тебе лежит…
Вишняков подумал, помолчал. Сказал, не удержался: — Даже этот момент у вас предусмотрен, Туланов… Молодцы, ничего не скажешь. Добротно задумано… Федор сплюнул:
— Тогда поди к черту!
— Я те пошлю, я те пошлю… к такому черту пошлю с твоей сказкой — тебя там ни один ангел не сыщет!.. А ну — сдай наган, сказочник!
— Какой наган, Вишняков?.. Ну ты совсем спятил.
— Так. Ясно. Тут разбираться — не в моей власти. Видит бог, Туланов, я к тебе относился с полным доверием. Иначе как выдать такую сумму? Да что — сумма! Дело тебе доверили! Здоровье тебе доверили наших рабочих, детей ихних! А ты… Ну — погоди, Туланов. Я на себя много брать не стану, но ты перед людьми ответишь за свои шуточки… Ни один красный командир не может отобрать деньги у советской организации! Нету такого права ни у кого! Иначе это не государство будет, а… а… — Вишняков не был готов к таким сравнениям, поэтому застрял и замолчал.
Встал, лицо официальное, злое. Жди здесь.
Вышел, заперев Туланова на ключ. Вернулся через час, не один — с красноармейцем, вооруженным винтовкой.
— Ты, Туланов, арестован. Такое решение принято: мы точно установим, где и как погиб Паршуков, куда делись триста тыщ казенных денег. Где ты обретался столько месяцев. Тогда и будет с тобою разговор. Все! Шагай.
Глубокая тоска навалилась на Федора. Ждал он этого разговора, представлял его во всех подробностях, и вопросы Вишнякова, и свои ответы ему и кому там еще отвечать придется. Но все равно — несчастье казалось теперь даже больше того, что ему удалось пережить. Там, в слободе, не верили чужие люди, которые его не знали да и знать не желали. Хотели они увидеть в нем белого шпиона — и увидели. Они, скорей всего, и договорились с конвоем, чтобы шлепнули их с Паршуковым за околицей, без лишнего шуму: ведь хозяйка слышала, как их допрашивали, видела деньги. И надо было при ней отдать громкий приказ: мол, доставить в штаб…
А здесь, дома… Ведь свои же! Как можно не верить человеку, которого давно знают? Да что ж это деется на вольном свете? Когда ж теперь он увидит Ульяну, дитя свое — когда? Пока напишут, пока запросят, пока обратно ответ добежит… Да и добежит ли.
За две недели ожидания, в отдельной камере, в тюрьме, и сердце, и душа, и сознание Федора — все устало, бесконечно устало ждать и надеяться. Горе давило тяжестью непомерной, надежда почти угасла. Месяц минул после ареста. Освобождать его явился сам Вишняков. Он вошел в камеру и долго стоял перед Тулановым, стоял и смотрел молча, не в состоянии свыкнуться с мыслью, что его, Вишнякова, никто здесь не собирался обманывать.
— Ну ты и фрукт, Туланов… Смотри, какой ты фрукт… Можно сказать — овощ! — Он покрутил головой. — Да ты ведь и вправду — невиновен. Ну нисколечки невиновен, да еще и пострадал ни за что. Там — пострадал. Да тут… я добавил, вернее, — мы. Я, брат, не один принимал такое решение… Так что давай без обид. История-то невероятная, Туланов! Ты меня тоже пойми, Федор Михалыч!..
Федор молча ждал конца тирады.
— Командование Шестой армии сообщило — да, был такой факт в Бугурусланском полку, документально зафиксирован в ревтрибунале армии… Ну ты счастливый, Туланов… Это ж надо такому счастливому родиться: пулю, нацеленную в затылок, схлопотать, да и живому остаться! Да что — пулю… Триста тыщ казенных рублей потерять, заместо притащить в мешке бумажку с дурацкой печаткой — и к стенке не встать… Ну, Туланов, ты везун… Такой везун, прямо пробы некуда ставить… Тебя показывать надо — за большие деньги…
У Федора в груди, в горле завязался такой тугой узел, что ни дыхнуть, ни выдохнуть. Больно зажало сердце. Он закрыл глаза, затылком уперся в холодную стену и ждал, когда хоть маленько ослабнет в груди.
— Идем отсюдова, Туланов. Хорошенько попарься в баньке, отоспись да выходи завтра на работу. Дел — во! По горло!
Федор натопил баньку сам, жарко. Попарился, а заместо отдыха — постирал белье. Тут же и высушил. Еще попарился, отдохнул и снова попарился. Вышел из бани чистый и чуть живой. Выпил самовар чаю да уснул, не погасив света.
Утром на работу пришел с котомкой. Вишняков опять удивился:
— Ты чего? С котомкой? Никуда пока не пошлю тебя, в конторе посиди. Отдохнешь, оклемаешься, тогда уж…
— Я домой пойду, Вишняков. Здесь работать больше не стану. Все, хватит. Для чего человек уродился, тем пусть и занимается. Моя доля — деревня и лес. Охотничать да земельничать… И я с нею согласен, с такой долей…
— Мало ли, Туланов, с чем ты согласен… Я, может, тоже… Да… Такие решения столь резво не принимаются, Туланов. Да потом есть и партийная дисциплина…
— Все, Вишняков, я свое слово сказал. Теперь, после всего, меня никакая дисциплина не удержит. Да и с тобой, в любом случае, я работать не стал бы.
— Это еще почему? — обидевшись, спросил Вишняков.
— А потому, — отрезал Федор и надел шапку. — Вот еще чего… У Паршукова в Усть-Неме осталась жена и детишек четверо. Помоги им, богом тебя прошу. Ты все же какая-никакая, а власть. Ты его послал за делом, а он там пулю получил. От своих получил — да ведь вдове не легче от этого, Вишняков. Для Советской власти работал, за нее и погиб, безвинно. Помоги, слышишь?
Федор вышел из конторы, Вишняков его не останавливал. Он очень спешил домой. Только домой! Несмотря ни на что!
Что там еще Вишняков говорил… Мол, время такое… мол, все образуется… Мол, ты меня тоже пойми, как мне было… Хватит. Сколь уже дом брошен, жена, ребенок, которого еще не видел даже. Родители старые. Время, говорит. Да что это за время такое, когда простой мужик, как он, Федор Туланов, все-то должен виноватиться перед властью?.. Когда он берется за дело, которое власть должна делать — людей кормить, — а потом еще получает пулю — ни за что, а потом сидит в тюрьме, ждет расстрела — опять же ни за что. И хоть бы спасибо кто сказал за труды напрасные. И хоть бы посочувствовал кто. Не… никому и дела нету. Зарыли бы Федора в чердынской земле — бог с ним. Жив остался — господь тебе судья…
Хватит. Домой, скорее — домой. Не было еще прежней силы, Федор чуял — далеко до прежней, но до Кыръядина дотопал быстро, до Пасхи еще сутки оставались. Изо всех сил держался, чтобы не побежать к дому Ульяны, спокойно дошел. Взялся за дверную скобу, тихо постучал, никого бы не переполошить, может, и не ждут уже.
— Кто ж там припозднился? — послышался из-за двери голос тестя, Ивана Васильевича.
— Открой, тесть дорогой, я это, Федор Туланов. Голос у Федора дрожал, и тут он ничего уже не мог поделать. Дверь распахнулась резко и настежь, в середине проема стоял, в одном нижнем белье, Иван Васильевич, широко крестился:
— Благослови Христос… В самом деле, кажись, Федор… Выходит, Федя, для нас Христос нынче раньше воскрес…
— Да, Иван Васильевич, аккурат к Пасхе приспел, — тихо отозвался Федор и обнял тестя.
Снова открылась дверь в избу, в одной рубахе появилась Ульяна — вскрикнула, выбросила вверх обе руки, кинулась Федору на грудь. Руки ее обвились вокруг мужниной шеи, упругое теплое тело прильнуло к нему и вдруг — обмякло — Ульяна упала бы, если б Федор не прижал ее крепко к себе.
— Федюшко… — только и молвила она, глаза закрылись, лицо и губы стали белыми.
Федор занес ее в избу.
— В обмороке, кажись. — Тут же прибежала с ковшом холодной воды мать Ульяны, побрызгала ей в лицо.
Ульяна открыла глаза и смотрела на Федора, смотрела. — Ты… как сам господь… перед Пасхой… — сказала она. Потом медленно встала, подошла к зыбке, висящей на гибком шесте, взяла на руки запеленатого ребенка, — На, батюшко… Твой… Гришутка… — протянула ребенка мужу. — Сын! Сынок…
Федор осторожно прижал к себе теплый сверточек, стараясь рассмотреть белеющее в пеленках личико, но от волнения и сквозь невольные слезы не видел ничего.
Он опустился на лавку, только теперь почувствовав, каким тяжким свинцом осели в нем сотни и сотни верст дороги, сначала от дому, потом — домой.
— Мама… Федюшко, поди, голоднющий… Давай покормим родного моего… — Голос жены звучал как бы издалека, Федору все еще не верилось, что все позади и он — дома.
Проснулся Федор рано, сам не ожидал, что после такой дороги да после встречи с родными, с Ульяной, встанет с рассветом. Изба через большие окна залита была мягким светом утренней зари. Федор осторожно высвободил левую руку — на ней лежала голова Ульяны. Поднялся с постели. Постоял, полюбовался. Чем дольше живёт он с Ульяной, тем дороже она, тем ближе, милее.
Слышала ли Ульяна, как встал супруг, нет ли, но глаз не открыла, только губами, алыми, свежими, как у невевесты, пошевелила, видно, сказала что-то во сне.
Федор встал на колени. Не забыл он своей клятвы матушке-богородице… Он долго молился и кланялся на угол с иконами, благодарил за вызволение из чердынской беды, за ладную дорогу к дому, к Ульяне, за сына Гришутку, которому богородица не дала помереть во время отцовской отлучки… Федор шептал молитвы и благодарности, не очень связные, не шибко грамотные… как понимал — так и шептал, так и благодарил. Оно и жизнь ведь — не так чтоб слишком стройно да грамотно построена… Во всяком случае, та жизнь, которая выпадала на дюлю Туланова. Чего же от него, после приходской-то школы, требовать в молитве стройности? Да и вообще — молитва творится не по образованию, но по душе и сердцу, исполненному благодати…
Решено было: два-три денька Федор поотдохнет, придёт в себя на родной земле, и тронутся они с Ульяной и Гришуткой в путь — туда, в ижемские верховья, в Изъядор.
И все эти дни, отведенные на отдых и рассказы о пережитом в доме тестя, Федор начинал ранним-ранним утром, на коленях перед иконой, не выпуская взором строгий, но сочувствующий взгляд богородицы.
А потом они поехали домой, в Изъядор. И что там творилось, дома… не передать словами. А уж слез было пролито за праздничным столом… А какие вечера пережила семья Тулановых следом за возвращением старшего сына… когда, при свете лучины, слушали все тулановские про заготовку дров для Питера и Москвы, про голод, про дорогу на Чердынь, про Паршукова и его судьбу… про все, про все, вплоть до той бумажки за подписью и круглой печатью, которую он вернул в Усть-Сысольске заместо денег… и про тюрьму, конечно…
И даже в качающемся слабом свете лучины ясно виднелась метка на левой щеке Федора, виднелась со стороны. А он сам начинал чувствовать эту метку — как ожог, если вдруг накатывало волнение или злился на что-нибудь. Ну, это теперь было редко и со временем все реже и реже. Забывалось горестное, чем дольше жил дома или в родной тайге охотился — тем дальше и дальше отходило все, что произошло с ним, сам всматривался в свое прошлое, как в чужой рассказ, удивленно и недоверчиво: да неужели такое могло стрястись с человеком? Ну… не придумано ведь… Но тут начинала гореть метка на левой щеке: было, было, Федор, все это было.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Прошло, минуло время. А Федор все так же, по утрам, пока все спали, начинал свой день поклонами богородице, благодаря за благополучно прожитые годы, за чердынское вызволение, за вчерашний трудный, но все же хороший день. Он просил богородицу дать здоровье и поберечь Ульяну, Гришеньку, Георгия, Октябрину… Росла семья Федора Туланова. Пусть никто друг на друга сердца не держит… И чтобы скотина не заболела. И дом семейный, богородица, побереги от огня и воды…
Потом Федор одевался и приносил полное беремя дров к печи. Опускал на пол тихо, без лишнего стука, но Ульяна все равно слышала — то был сигнал ей подыматься.
Она открывала глаза, смотрела на согнутую спину мужа, который закладывал дрова в печь, улыбалась будущему дню, семейным заботам, детям, сопящим во сне, легко вставала, хватала с лавки свою вечную юбку из чертовой кожи и проворно пролезала сквозь нее, затягивала на крючки свою тонкую, как у молодицы, талию, и занимала свое утреннее рабочее место — у печки.
Было время сенокоса; Федор хотел сегодня с Гришей до обеда выкосить кусок луга у ручья.
— Георгия тоже возьмешь? — спросила Ульяна. — А то, пока маленький, пускай поспит досыта… К обеду все вместе придем.
— Не-не, мужичок пускай с нами идет. Пока мы косим, он поудит. На уху натаскает — и то дело. А после обеда в пологе отдохнут с Гришей, отоспится, свое возьмет.
— Гриша-то как? — улыбчиво беспокоилась Ульяна. — Получается ли чего?
— Ну-у… полный косарь… От меня не отстает, пыхтит, старается, — обнадежил жену Федор.
— Побереги, Феденька, малого сыночка, не перетрудился бы. Старания много, а силенок… Не надорвался бы…
— Неуж я не понимаю? — склонил голову Федор. — Я далеко вперед не забегаю, поглядываю, чтоб не отстал. Ему-то больно радостно. Тянется за мной, старательный. Коса у него, как игрушка, в самый раз. А как Гришуха за большую косу возьмется, эта — Георгию перейдет. Вишь, как хорошо двух сыновей иметь: инструмент не пропадает…
Ульяна счастливо засмеялась. С таким мужем можно и пятерых завести.
— Гришуху этой осенью возьму с собой в лес, пора привыкать.
— А школа как же?
— Школа ему хорошо дается, за три недели сильно не отстанет. А зверя-птицу промышлять тоже надо учиться, школа этому не научит. Меня отец с девяти лет в лес таскал. Видишь, какого охотника вырастил.
— Лишь бы лес его вовсе не переманил…
— Этого, Уля, не бойся. Школьной грамоты нам много не надобно. А лес нашего брата кормит. Вот и прикидывай, где больше учиться нужно…
— Я вам хлеба буханку завернула, миску, ложки, вот здесь, Федя. В туеске молоко с творогом, я еще сметаны положила, покушайте. А к обеду я постряпаю, и мы с Октябриной придем.
— Октябринку можно бы у бабушки оставить.
— Ничего, вместе придем. Девочка все примечает: и как у печки обряжаюсь, и с коровой, и стряпню… пусть уж со мной.
— Ну и хорошо, Уля. Тогда после обеда все будем сухое сено сгребать, да и застогуем. Сегодня да завтра — здесь закончим. И поплывем на дальние луга. Трава там нынче хорошая, славные сена поставим… Лишь бы с погодой успеть.
— Воронко и Машку куда, Федя? Может, пока с телятами отпущу на пастбище?
— Отпусти. А на дальние луга возьмем с собой. Копны таскать.
— Я с мамой поговорю, может, посидит с ребятишками. Тогда и я с тобой — туда. Одному тяжело.
— Какой же я один, — улыбнулся Федор. — Мы с Гришей. Два самостоятельных мужика.
— Да уж, мужичина растет… — улыбнулась Ульяна. — Только вот коса покороче, да руки-ноги потоньше…
— Вырастим, — обнадежил Федор. — Всех вырастим, Уля. Такие будут помощники — не нарадуешься.
— Дай-то бог, Федюшко.
— Мы там сделаем шалаш получше, Уля, да и побудем всей семьей, пока не закончим. Уж до того я люблю, когда все вместе.
— И я, Федя, — прислонилась Ульяна лбом к его плечу. Федор зашел в горницу — будить детей…
Жизнь шла, шла своим чередом. Жизнь ты, жизнь… Удачи и трудности, горе и радости в жизни рядышком ходят и, друг за дружкой, навещают людей. Кому больше одного достанется, кому — другого. Невероятно тяжелым был для деревни девятнадцатый год, да и первая половина двадцатого — не лучше. Кто пережил, тот пережил, но зарубка в памяти осталась у каждого. У Федора Туланова осталась еще и отметина на щеке…
Отметина начинала саднить, прямо-таки жгла, будто спичку приложили, как только память подымала те дни, чердынские. Но со временем становились эти ожоги все реже, научился Федор сдерживать свою память, не давать ей воли, когда она из щедрых закромов своих подсовывала лишние подробности. Да и хорошего после возвращения досталось Федору, ласки да любви Ульяны, детских добрых глаз… Было чем смягчить его сердце и душу… С Ульяной жили они в самом полном согласии, ну прямо на зависть многим, — так хорошо жили. Боже упаси, чтобы Федор сказал ей когда злое слово, даже под горячую руку не позволял себе, никогда. Да и Ульяна ему не перечила, полшага супротив не сделает, это уж так. Работящие, да умелые, да дружные, да любящие — они за десяток лет после тех печальных событий столько добра нажили… Дом-шестистенка с большими окнами, с хлевом, сараем, навесом. Не поленились — и отдельно построили амбар на два отделения да погреб вместительный. И, слава те господи, закрома и полки, и в амбаре и в погребе, не пустовали: и хлеб, и соль, и молоко-мясо. Конечное дело, с двумя лошадьми да двумя коровами, да еще и бычка держали, производителя, — ого-гой как приходилось крутиться! Да ведь как же иначе? Как — иначе-то! Достаток был, грех жаловаться, но весь их достаток пришел через свои же руки, через работу от зари до зари, через пот, пот и пот.
Сказать, будто у всех так было в деревне, — нет, этого не скажешь. Условия жизнь тебе создает, а уж остальное — ты сам. Жизнь может дать послабление, но один во как воспользуется, а другой мимо ушей пропустит и рук не приложит. Жизнь может прижать тебя в угол, да так — что и дышать нечем… Один будет рыпаться, барахтаться, искать выход, жилы рвать. А другой — лапки кверху и на дно пойдет. Или замрет надолго, станет выжидать, когда приотпустит. Или… или того хуже: спросит у жизни или у того, кто жизнью командует — чего, мол, надобно? Все, мол, сделаю, только дайте мне лично вольного дыхания…
Семья Федора Туланова — хороша ли жизнь, добра ли, сурова — всякую минуту пребывания своего на земле отдавала работе. Той простой крестьянской работе, которой полна жизнь коми человека в деревне, в тайге, на реке. Это у них от веку, это родовое было — понимание самой простой, а иногда такой сложной истины: что все на этой земле — от честного труда. Только от него. У простого работящего человека, привыкшего жить честно — все от рук его. От пота. Про ворьё не говорим, про ворьё и говорить не стоит, не о нем речь.
Да ведь и крестьянин крестьянину и охотник охотнику — рознь. Еще какая — рознь… Скажем, гнался когда-то Федор Туланов за рысью. А ну как на его месте очутился бы какой иной человек? Вот ты гонишь зверя, гонишь, час гонишь и полдня гонишь…
Устал ты, уж так смертельно устал… Ну позволь себе отдохнуть, ну перекуси, поспи часок — далеко не уйдет твоя рысь… И другой охотник дал бы себе послабление, отчего не дать! И не в этот вечер, а назавтра, утром, нагнал бы ту рысь, снял с нее шкуру… А может, и не нагнал бы. Ну, не нагнал бы, так и себя бы не умучил до смерти — когда весь ты мокрехонек среди зимы, в тайге, до того мокрехонек — аж с подошвы каплет…
А Федор настиг ее к вечеру, не дал уйти в ночь. За ночь сам высох у костров, отдохнул, сколько можно отдохнуть на еловых лапах посреди снегов, а к вечеру следующего дня уже вернулся на свою охотничью базу. Разница, если так, со стороны, посчитать, вроде и пустяковая, ну, днем раньше, днем позже. Велика ли потеря — день! Но в этой, как будто маленькой разнице — весь смысл деревенского неравенства людских характеров…
В этой разнице — и весь смысл всякого прочего, в том числе имущественного неравенства в деревне. Один — надо и не надо — жилы рвет, потом обливается с головы до ног, по пять раз на дню взмокнет весь да и высохнет, у него к вечеру усталость ажно в костный мозг залезает: ни руки, ни ноги не поднять, голова на стол падает…
А иной, в той же природе, на той же земле и при той же погоде — знай себе помахивает… Утром поспит подольше: велика разница — на час позже печку затопить, на полтора позже на покос выйти… Ну, весною приходится такому пихтовую кору в муку примешивать — так он и это потерпит, а лени своей не изменит, нет, ни в какую.
Оно бы и ничего, ну, разные люди и разные, большое дело — разность, в лесу и деревья разные. Однако люди не деревья. И вот чего интересно: именно лентяй в деревне — самый завистливый. Именно ему, который поспать норовит подольше — ему во как надо всех уравнять. По справедливости! И справедливость понимается как одинаковый кусок на столе, ведь ты человек и я человек, и права у нас — одинаковые…
В коми деревне говорят: работящему бобры-соболи сами по углу в дом лезут…
Так оно и есть. Если не принимать поговорку буквально: как бесплатный подарок природы. В простой трудовой жизни нету бесплатных подарков. Ой, нету. И еще одно, важное для деревенского жителя. Для Федора Туланова — тоже. Дети.
Федор никогда не думал специально о детях: вот надо их к труду приучить… чтоб собак по деревне не гоняли… чтоб помощники выросли…
Никакого такого специального настроения на воспитание своих троих у него не было, если по совести сказать. Да и зачем? Просто он — работал. Как и отец его, как дед — работал с утра до вечера, а ежели нужно — то и ночь прихватывал. Федор работал так, как работал отец. И если бы детей не было — он бы все равно так работал. Но дети были, и Федор работал — на их глазах. И вместе с ними, когда они подросли маленько. Сын Гришуха, только-только минуло ему шесть-семь, уже взялся за косу. Нарочно для него сделанную, маленькую, легкую, детскую, но — косу. Инструмент. Хоть в какой-то мере уравнивающий его, Гришуху, с большим отцом. И с большим ежедневным делом отца. С большим, общим, семейным делом. Вот и все воспитание. Будь самим собой, только и делов. И не отлучай детей своих от дела жизни своей.
Да, все, все будто бы хорошо у Тулановых. Только бы случай не помешал, только бы обошли их дом случайные беды. А они — не обошли. Нет. Умер вдруг отец Федора, Михаил Андреич. Какой был охотник, какой работник, в хорошем возрасте, в доброй еще силе, жить бы да жить. А вот… полтора дня минуло — и погасла жизнь его — свечечкой. Уход отца был самым тяжким событием тех лет. Живем ведь, не думаем о горе. А оно — рядышком, ждет-поджидает, куда бы клюнуть. Как змей подколодный. Вот и скажи после всего, далеко ли, глубоко ли душа в человеке, и крепко ли держится она, ежели из такого сильного тела могла этак, в одночасье, выпорхнуть…
Они вчетвером — отец, мать, Ульяна и Федор — поднимали в лесу новый кусок земли. Как принято было тут от веку: на двух десятинах валили горелые и сухие сосны, пилили на дрова. Пни нужно было убрать, обрубить корни, откопать, выкорчевать. Вот корчеванье и подвело… Отец засунул толстую вагу под самый толстый корень и, не дожидаясь Федора, попытался вывернуть пень. Да не все корни были обрублены, держался пень за привычное место, не давал себя сковырнуть. Ну, отец и нажал что было сил, да и сверх того, что было. Во крестьянстве, да еще таежном, северном, такое часто бывает — жмешь, давишь, силишься… а оно никак не поддается, не идет.
Ну, тогда и добавляешь еще маленько, то самое сверхусилие, которое либо дело сдвинет, либо в тебе самом жилу порвет.
Отец и порвал. Вскрикнул, бросил вагу, схватился за живот да и согнулся, сел на тот пень проклятый, который не поддался ему. Сидел скорчившись, обхватив живот громадными своими ладонями, расплющенными работой, работой. Боль не отступила, она усиливалась, отец так и не смог выпрямиться, так и замер, согнувшись. Федор помог ему было подняться, отец сделал шаг, его замутило, и он снова сел. Пришлось везти его домой на волокуше. Так он больше и не встал на ноги. Утром второго дня мать разбудила Федора раным-рано, от слез и бессонницы глаза ее стали кровяного цвета, лицо опухло.
— Всю ночь глаз не сомкнул, дышать даже трудно. Рвет его, Федя, ой, беда-то какая… не пьет и не ест…
— Федор, — повернул голову в его сторону отец, лежавший на родительской широкой кровати.
Ясные глаза его замутились, провалились куда-то в черные впадины, нос и скулы уже заострились…
Федор сел на стул рядом с изголовьем.
— Сегодня-то чего… не работаете? — Слова отцу давались с трудом. Ему не хватало дыхания даже на короткую фразу.
— Так ты заболел… Ульяну послали за фершалом. А он вчера в Керос уехал, к больному.
— Фершал уже не поможет, Федя… Что-то, не знаю, внутри… сорвалось. Все, сын, я отработался. Тебя прошу, не отступай от земли. Она… да лес, да речка… кормильцы наши. Доведи… ту… поляну…
Отец замолчал, дышал через силу.
— Не горюй, батя, — подбодрил Федя, хотя и видел: плохо дело, необычно плохо. — Не горюй, вот привезет Ульяна фершала… И землю до ума доведем, и внуков сам научишь — чего умеешь…
Отец ничего не сказал, только еле заметно приподнял руку, лежавшую поверх одеяла, и беспомощно опустил. Из глаз его выкатилась последняя слеза сожаления и бессилья.
К вечеру он потерял сознание. Лицо заметно почернело. Когда приехал фельдшер, отец так и не пришел в себя. Фельдшер пощупал пульс, приложил ухо к сердцу, коснулся пальцами раздутого живота. Лекарский свой саквояж так и не открыл.
— Михаилу Андреичу ничем я помочь не могу, простите меня, — грустно сказал он. — Видать, внутри… непосильный организму надрыв…
Солнце юркнуло за лес — и отец вздохнул последний раз. Для Федора и матери словно два солнца сразу угасли…
То, что согревает землю и все живое на земле, — оно завтра опять взойдет и все согреет. А отец… он совсем потух, теперь уж больше никогда не засветится, не согреет сердце и душу Тулановых. Да и не прикрикнет строго, как он умел, — строго, но без зла, строго — но за-ради добра семейного.
На другой день Федор занес над головой топор: хотел было изрубить в щепки тот пень, через который такое горе ступило в их семью… Но замер в злом своем замахе да и опустил вовсе топор. Разве пень виноват, что он так цепко держится за родную землю? Что ж остаток сосны виноватить?.. Федор посидел, подумал. Потом ровно подтесал одну сторону смолистого пня и острием ножа глубоко вырезал на белой затеске: «28 мая 1924 года. Здесь ушибся до смерти Туланов Михаил Андреич». Такой смолистый пень долго еще простоит. Не поддался отцовой силе — пусть уж живет, пускай память хранит…
Землю ту до ума довели, хоть и плакали над той поляной. Расчистили от пней, корней и сучьев, старательно удобрили и торфом и навозом: не стали надеяться на журавля…
Это у отца любимое было присловье: у ленивого пашню журавль удобряет. Посеяли, на половине — рожь, на другой — овес. Ржи в первый же год двадцать один мешок обмолотили, с той поляны. И все довели до амбара. С того года Федор и Ульяна крепко на ноги встали. Сами жили, да и другим могли пособить, ежели нужда. Ну, а все хорошо не бывает… Потому, случается, крестьянин боится похвастать прибытком или удачей — сглазу остерегается.
А тут этот сглаз сам по деревне ходил, по сторонам зыркал.
И — назыркал…
…После той, чердынской истории, возвращаясь из Усть-Сысольска, Федор привез Ульяну и Гришуху-младенца домой, в Изъядор, еще по санной дороге, хотя уже и порядком разбитой. Приезд домой стал радостью, это понятно, но и эта радость оказалась густо перемешанной с горем. Вернулся Федор, вернулся старшенький. Слава богу. А вот Гордей, бедняга, уже никогда не зайдет в свой дом. В ноябре прошлого года белые расстреляли Гордея. Так и вышло: мать, обнимая Федора, обнимая Ульяну, рыдала горько, оплакивая Гордея, — не увидят они его больше… Отец в стороне пошмыгивал носом, изредка осушая глаза тыльной стороной ладони. Пришли посмотреть на приехавших и соседи, взглянуть да спросить, что же творится на белом свете, коли свои своих стрелять начали. Что ж за дикие времена наступили, надолго ли?
Первым пришел Васька Зильган. Оказалось, он и сам недавно только вернулся. Белые взяли его в плен да три месяца продержали в тюрьме, в Пинеге. Васька и слушал, и рассказывал тоже — как они тут партизанили, пока Федора не было.
— Прошлой весной последний красный отряд, что на Эжву выходил, оставил нам два десятка винтовок, да четыре сотни патронов, да три гранаты. Сказали: такое вышло распоряжение из Усть-Сысольска, от начальства. Ну, мы сразу догадались: значит, Федор нашел там того матроса… Гордей еще говорил: я же точно знал, матрос матроса в беде не оставит, они же все — братишки. Мы просили хоть один пулемет, но не дали нам пулемета. Если бы с пулеметом — нипочем бы нас не взяли. Да мы сначала и без пулемета никого близко не подпускали, — хвастал Вася. — Кругом белые, в низовьях Ижмы, верховьях Печоры — всюду. Только у нас советская власть. Только было сунутся к нам, а мы, не спрашивая, кто да зачем — трах-бах! — да и пошли вы все к такой-то матери… Да ведь, Федор, надолго ли четыре сотни патронов? Раз пугнули каких-то верховых, другой раз — пеших, а к осени у кого обойма осталась, у кого и того меньше. Опять же соблазн, при казенной винтовке, то ворону собьешь… то еще чего, надо же испробовать… Начали нас поджимать. А красных нет и нет, куда они делись, никто знать не знает, нам не доложились. Пошли разведкой на Кыръядин, а там белые стоят. Куда деваться? Решили разойтись, от греха, по охотничьим заимкам. Ну, Федор, сам знаешь… от чужого спрятать можно, а от домашнего вора нету запора. Свой гад и выдал. Из Кероса, кулачина Алексей Трипан, помнишь? Мы же с тобой пожалели гада, когда хлеб делили. Ах, мол, дети у него… Отобрать бы весь хлеб, не церемониться, пускай бы лапти отбросил… Он, гадюга, сам по лесным избушкам белых водил, партизан ловили. Он и Гордея выдал, там, у избушки, его и расстреляли. Одиннадцать человек, гады, убили. Да нас, девятнадцать, в тюрьме гноили, в Пинеге архангельской. Если б ихние пулеметчики не восстали, не знаю, какому я богу теперь молился…
— А эти… кто белым помогал, где нынче? — спросил Федор.
— Заарестовали гадов. Всего числом четырнадцать. Трипан бежал было, но попался, вражина. Поставили его к стенке… Да не всех прижали. Я вот сосчитал, в нашей только деревне еще бы человек пятнадцать надо прижать, кто больно перед белыми лебезил…
— Господи, страху-то натерпелись, — вступила мать. — Тот Трипан бесстыжий прямо домой белых привел. Где, говорят, старший твой? Мы ему покажем, как хлеб у людей отбирать. Я говорю, побойтесь бога, нехристи вы экие, он же не себе отбирал — народ голодом сидел. Да и мы свой хлеб первые людям отдали. Заткнись, кричит, старая ведьма. Здесь, орет, красное гнездо, тут надо с корнем все повыдернуть. Господи, как и живы остались…
Мать заметно остарела в последний год, пока были в разлуке. Седые волосы лезли из-под платка, щеки впали, углы рта скорбно опустились, и похудела сильно, стала как подросток. После приезда Федора Вася Зильган сделался частым гостем в их доме. Как хороший сосед да вроде и товарищ по несчастью. Он весело шутил с Агнией и Ульяной, почтительно разговаривал с родителями. И всегда готов был помочь, если чего требовалось, его и просить не надо, сам видел и предлагал. Так, будто в его собственном хозяйстве все дела были давно решены и сделаны. Вообще — то Васька себя не шибко утруждал по хозяйству. Маленькие клочочки земли их семья перепахивала первая, земля была легкая, но и бесплодная. А новых росчистей Васька не делал и хозяйство не расширял. Только посмеивался: старикам хватало, да и мне довольно. Я, мол, человек не жадный. Сколь недостанет — в лесу доберу, в тайге и растет, и бегает, и летает… Такой вот неунывака. Каждый год, к лету, занимали Зильганы у людей муки, мешали ее с пихтовой корой и ничего, ели. Другие в деревне за несчастье почитали — кору жевать. А эти… Ну, это дело личное, хоть палку грызи, ежели ты такой всеядный. Но отец поварчивал, когда кто-нибудь шутил насчет частых гостеваний Васьки Зильгана: вот, мол, будущий зять, Агнии надежный жених.
Батя говаривал: подальше бы держаться от этаких женишков. Ты, мол, Агния, с таким мужем не пропадешь, скушно не будет — и дров нарубисся, и в кулак натрубисся.
Агния посмеивалась, себе на уме, да предполагала, вроде всерьез, а вроде и в шутку: Васька-то из ленивого племени, а на помощи соседям вон как старается. Может, ежели два рода смешать, как раз работящие дети пойдут… Отец сердился. И не понять было, куда Васька клонит.
А однажды — проявился Вася. В тот день Ульяна и Федор стоговали сено. Вася сам напросился помочь, пока погода стоит, застоговать в три-то пары рук… Федор с Ульяной и сами бы управились, дело знакомое, да ведь кто ж знает, может, и впрямь — будущей родне откажешь, обидишь. Пошли стоговать втроем. Еще до обеда поставили стог с пятью промежками: Ульяна и Васька на носилках таскали к стогу копны, а Федор метал. Работали весело, азартно. Завалили Федора копнами, потом Васька поднялся на стог — уплотнять, а Ульяна согребала с земли остатки рассыпанного сена. Так уж привыкли, все подобрать подчистую: свои труды. Рабочее веселье охватило всех троих, перекидывались шутливым словом, Васька наверху подхватывал очередной пласт сена и указывал, с шутками-прибаутками, куда хлопнуть следующий. Завершили. Пообедали не спеша, успели остыть и успокоиться. Только у Василия возбуждение не проходило, глаза неспокойно горели, и весь он был какой-то странно взвинченный. После обеда Федор пошел в лес: невдалеке заметил подходящую кокору и решил, коли время высвободилось, вытащить ту кокору и вчерне заготовить — для носа ли, для кормы — куда больше подойдет, для новой лодки, словом. А Ульяне с Васькой велел домой идти. Ульяна собирала остатки обеда, посуду, а Васька Зильган сидел, опершись руками о землю, сидел и смотрел на Ульяну. И глаза у него были неспокойные.
— А ведь не жалеет тебя Федор, Уля, ну вовсе не жалеет…
Ульяна с удивлением подняла голову, посмотрела на Ваську.
— Ну да, много ты понимаешь, Вася. Других бы так не жалели, как Федя меня…
— Если бы жалел, разве заставлял бы этак… работать?.. От зари до зари спину гнешь. Разве не вижу?.. Гляди, Уля, так-то ненадолго хватит, всю выжмет. Такая красавица… поберечься б тебе…
— Вася, да бог с тобой! Откуда этакий защитничек выискался? Какой комар тебя укусил?
— Я вот гляжу на тебя и думаю: мне бы такую королеву, я бы тебя в светлице держал, да…
— Да пихтовой корой кормил? Спасибочки, Вася. Уж лучше я досыти наработаюсь, пускай последняя рубаха на плечах сгорит, да чтобы уж на столе и самим не стыдно, и людям сытно… Полно, жалельщик. Бери вон Агнию да держи в светлице, а мы поглядим, со стороны, много ли добра прибудет от такого жаленья…
— А на что мне Агния? Думаешь, из-за Агнии к вам хожу? Еще чего… Ты мне нужна, Ульяна! Всю правду тебе, как на духу…
— Ты что, парень, вовсе из ума выпрыгнул? Чего-то ты нынче расшутился без меры.
— Не шучу я, Ульяна, нет, не шучу!
— А на кой мне, мужней жене, такая правда нужна? Заткнулся бы ты с такой правдой. Поди в лес, Вася, да и руби дерево по себе. Слушать противно…
Сказать-то Ульяна сказала, но и сама испугалась: лицо и глаза у Зильгана горели огнем, дурным огнем, и весь он был в ту минуту… какой-то свихнутый.
— Зачем тебе старый Федор Туланов, ну? Тебе двадцать один всего, а ему, старому филину, скоро тридцать. А мне тоже двадцать один. И сердце мое сохнет по тебе с первого дня, как приехала ты в нашу деревню, Уля… покою нету…
— Да ты вовсе сдурел? — Ульяна завязала крест-накрест узел с посудой. — Ты же обижаешь меня, Васька, как не поймешь дурьей своей башкой! Ты ведь левого мизинца Фединого не стоишь, Зильган. Да и моложе он тебя, в сто раз…
— А ты — попробуй… Тогда и определишь, кто моложе. — Зильган потянулся к ней прямо через кострище, чтобы удержать за ногу.
— Спятил! Я вот тебе сейчас… — Она отскочила к стогу, схватила вилы и выставила их навстречу приближавшемуся Ваське: — Заколю, дурак!
Зильган шел к ней, глаза белые, безумные. И тогда Ульяна, не из страха перед Васькой, а от ужаса того, что сейчас может произойти, закричала: — Фе-едя!
Услышав это имя, Зильган остановился в двух шагах от острия. Глаза его сузились, руки напряглись, готовые перехватить вилы…
— Дура… чего орешь-то? — прохрипел он осипшим вдруг голосом. — Придет ведь, старый хрыч, да и даст… обоим. А тебе еще и поболе достанется… как говорят, баба не захочет, мужик не вскочит… Брось вилы, не дури, говорю!
— А ты, оказывается, пакостник, Васька. Па-акостник… Тьфу! — Ульяна не опускала вилы, зорко следила за каждым его движением. — Еще полшага ступишь — пропорю тебе брюхо, вот те крест — пропорю…
— Одно слово — дура и есть…
— Заладил, умный. Убирайся отсюдова, пока кишки целы. Думаешь, испугалась тебя? Фе-едя!
Ульяна снова крикнула, потому что сила, которую она вкладывала в крик, останавливала ее, она уже еле сдерживала себя: руки сами тянулись — пырнуть.
Она увидела за плечом Васьки, как Федор выскочил из леса и пошел, пошел в ее сторону большими прыжками. В руке у него был топор. «Господи, не допусти…» И Федор словно услышал мольбу — за несколько саженей до Васьки отбросил топор в сторону…
…Федор, разыскивая кокору, зашел порядочно далеко, и голос-зов Ульяны услышал не столько ушами, сколько — сердцем. Он насторожился: не показалось ли, затаил дыхание, вслушиваясь. А сердце бухало в груди, стучало в висках, Федор выпрямился и побежал назад — послышалось, не послышалось, — скорее туда, к Ульяне! Низко наклонив голову, чтобы ветви не били по лицу и не выхлестали глаза, он летел между деревьями, несомый тревожной силой. Выскочив на опушку леса, увидел стоящего к нему спиной Зильгана и, напротив Васьки, — Ульяну с настороженными вилами. И злость и смех — все вместе — захлестнули Федора, пока он перемахивал расстояние до стога. Злость звала скорей добраться до Васькиной морды, а смех заставил отбросить в сторону топор, ну его, от греха подальше… Ваську он схватил за шиворот, поднял, крутанул — да и отбросил от стога.
Вопросов Федор не задавал. И так — понятно, отчего жена стоит с вилами в руках. Васька не успел подняться на ноги, Федор вмазал ему кулаком в подбородок, да так — чуть голову не оторвал. Зильган опрокинулся назад и шмякнулся замертво. И долго лежал не шевелясь. Когда поднял голову, глаза у него были как с крутого похмелья, он смотрел на Федора и, похоже, не видел.
Федор двинулся было к нему — добавить, чтоб у Васьки в глазах прояснело, но Ульяна схватила его за руку: Не надо, Федя, оставь ты его… Покалечишь… засудят. Уйдем от греха… Федор отошел за Ульяной к стогу. Взял вилы, грабли, потом сходил, подобрал топор, засунул за пояс. Ульяна согнутой рукой подцепила узел с посудой. Васька наконец встал на четвереньки, выплюнул кровавые слюни. Ладонью протер губы. Тяжело поднялся. Шатаясь, побрел к опушке, не оглядываясь.
Федор с Ульяной тоже пошли, не сказав ни слова. От опушки, где остановился Зильган, они услышали: — Ну-у… га-ад! Матрос проклятый… Я припо-омню… Ой — припо-омню… Тебе этот день… зубом бороны станет… поперек горла твоего…
— Васька! Слышь! — зычно крикнул Федор в ответ. — Ты вот чего, Васька! Чтоб тебя сегодня к вечеру в Изъядоре не было, слышь? Увижу — добра не жди! Заруби себе…
Зильган уехал из деревни в тот же день. Даже вечера ждать не стал, взял котомку и был таков. Своим, отцу-матери, слова не сказал: что, почему такая спешка — ни гугу.
Тулановы тоже никому ничего не сказали. Было и было. Уехал — это его дело. Федор и не злился, чисто по-мужицки понимал: ну, накатило на парня… Хотя, конечно, не случайно накатило, душонка у лентяя подленькая, из таких Зильганов хорошие денщики выходят…
Федор… как бы сказать — загрустил. Ульяна поняла это по своему, по-бабьи:
— Федя… ты на меня-то не дуйся, Федюшко… Не ложись спиной, повернись ко мне, Федя… Из-за дрянной, поганой души да чтоб между нами… Я, Федя, перед тобою чиста, чище не бывает. Тебя одного люблю, и сердцем и душою. Ты у меня… самый-самый… И до смертного моего часу будешь любимым… Как хорошо, что ты быстро прибежал, Федя. Я бы ведь запорола дурака вилами… Не знамо, как удержалась, бог свидетель. Промеж нами, Федя, никто никогда встать не сможет. Не думай о худом. Не расстраивайся, Федюшко…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Прошло время, Зильган вернулся ранней весной. Долгонько был в бегах, долгонько. От того сенокоса до этой ранней весны не семь ли годов минуло? Так и есть — семь. Ушел Васька, никому не сказавшись, вернулся — ничем не похвастал. Где обретался? Чем промышлял? Был когда-то слушок, мол, где-то в волости видели Ваську, то ли в гэпэу служит, то ли по партийной линии, но видели при форме, очень, мол, Васька Зильган официальный стал. Он и в деревню вернулся в шинели, брюках-галифе и гимнастерке. И портупея через плечо. Все чин чином. Но знаков, либо нагана — никаких. То ли нарочно этак вырядился, туману напустить, то ли разжаловали за что — неведомо. Васька молчал. Но на службу никуда не поступил. Да и куда в Изъядоре поступишь? Почтарь есть, налоговый сборщик — тоже есть, председатель и секретарь в сельсовете — опять же выбраны, при деле. А боле никаких кадров в деревне не предусмотрено. И начал Васька жить просто, помогать престарелым родителям по хозяйству. В земле ковыряться. Тем более сам хозяин, по хворости, три года как в валенках и летом топал. Мать Васьки, Эдя Никитишна, упорно держала корову, хоть и тяжеленько давалось ей сено. А как вернулся Васька, Эдя аж помолодела, заулыбалась, перестала на судьбу жаловаться. Грядки вокруг дома и борозды под картошку Васька сам вспахал, испросив лошадь у соседей. Сено в тот год Зильганы ставили уже втроем: Васька и родители, отец, видя сына-помощника, тоже встрепенулся и взялся за дело. Васька стал молчаливый, не старался, как раньше, во всякий разговор встрять да ввернуть свое словечко. Ни о чем он не рассказывал, но видно было — чегой-то стряслось в его жизни, какой-то произошел секрет биографии и повлиял на прежнюю Васькину говорливость. То ли стукнули его из-за угла пыльным мешком (а в мешке утюг оказался). То ли дела какие повисли на Васькиной совести, — словом, догадок люди строили много, но точно никто ничего не знал. И просветить общество мог только сам Васька. А он — помалкивал.
Но место себе в деревенской жизни Васька скоро нашел: стал закоперщиком у партийцев. Мужики ведь — как? Баба, да детишки, да скотина, хозяйство — шутка ли. Обчественные дела… они, того, не шибко кормят… Нашелся бы кто бумаги вести, да коммунистов на собрания кликать, да за линией следить, чтоб, значит, соблюдалась. Вот Васька и взялся. И все остальные партийцы вздохнули чисто по-мужицки — взялся, ну и слава богу. У Васьки не семеро по лавкам, ему и карты в руки. А тут…
Есть ведь у кого и семеро, да ведь не так себе на лавке сидят — ртом есть просят…
Васька же Зильган повел линию на колхоз. Уже как человек партийной власти — повел. С нахмуренной бровью и сжатым кулаком, упертым в красный стол. Первый раз хотел он собрать мужиков прямо среди лета красного, на сходку: делать колхоз. Ну, это он хватил, конечно. Кто-то еще с дальних покосов не вернулся, у кого-то и здесь, обок с деревней, сена не поставлены. Какие собрания? Никто не собрался на сход, а про себя многие поняли так: те годы, что Васька был где-то в бегах, видать, насовсем его раскрестьянили — виданное ли дело, в пору сенокоса сходку кликать! Хочешь колхоз предложить, ну, погоди маненько, ужо страду перестрадаем…
Да никто всерьез и не принял Васькиной заботы, как бы жизнь сколотить по-новому. Была уже коммуния, тут, недалеко, в Керосе. Наслышаны. Вскоре после войны образовали, пожили вместях… Свое в кучу сложили, да у купца наотбирали добра… За один-единый год все и проели-пропили, артелью проесть чего хошь можно: чужой каравай — ешь, не зевай…
Доброй работы в Керосе не случилось, поразвалили все, да и разошлись, каждый на свою прежнюю земельку. Потому в Изъядоре все предварительные разговоры про колхоз всерьез никто не принимал. И зря Васька такую сходку затеял, как был шалапут… Но, терпеливо дождавшись своего часа, Зильган собрал-таки народ. Мужики толклись на крыльце и жгли махру, потом сгрудились в сельсовете. Речь держал сам Василь Петрович Зильган, нынче — партийный секретарь. Строгим голосом рассказал про съезд большевиков, ихней партии, и решил сделать в каждой деревне колхоз. Как он речь свою закончил — так, тут же, положил перед собою лист бумаги и ручку. И сказал:
— А теперь будем записываться. Партия решила, так что дело ясное. Первым записываю своего отца — Шомысов… Петр… Никифорович… — Он сам себе диктовал по складам и писал.
Записал своего батяню. Поднял голову на сидящих пред ним односельчан. И те ему прямо в лицо засмеялись:
— Вася, ты хоть с батей-то посоветовался? А вдруг он — против?
— С батей у нас уговор есть, — не принимая шутку, отвечал Зильган. — Потому и записываю его первым, как сознательного.
Мужики захохотали того пуще:
— От, молодец какой!.. Петр… да Никифорович… а мы-то знать не знали, какой у нас сознательный Шомысов обретается…
— Правильно, Вася, не давай батяню в обиду, пиши номером первым! Самым сознательным!
— Отец твой и в молодости не чересчур спину-то гнул, даже и в своем хозяйстве. Нам его сознательность оченно известна!
Громким голосом всех перекрыл Иван Евстольевич, знаемый деревне как хороший охотник, и на земле трудяга, да и отец пятерых детей. Иван гаркнул:
— Слышь, Васька! Ты сразу за своим батей Туланова пиши! Федора! Ежели твоего сознательного с Федором заколхозить, вместях, аккурат твоему сознательному весной кусок хлеба перепадет, не потребуется пихту в лесу обдирать…
Зильган встал со своего места, уперся злым глазом в Ивана Евстольича:
— Ты чего же, Иван, смехуечечки строишь? Ты что думаешь, я хуже Федора Туланова работать стану?
— Как ты работать станешь, это мы поглядим, — не смутился Иван Евстольич, — а что хозяйства у вас разные, ой-ей какие разные — это мы точно знаем.
— Вот партия и решила — пускай у всех одинаково будет, — сослался Зильган. — Как объединимся — у всех поровну станет и коров, и лугов, и лошадей, и всего.
— Хва-ати-ил… — закричал Иван Евстольич. — Ишь ты, какой быстрый! Ты, прежде объединения, поди-ка заработай, сколько Тулановы заработали. Ты в свой колхоз внеси столько же — и лошадей, и коров, и лугов… — передразнил Иван Ваську. — Ишь каков! Старый, значит, пот — в сторону? не в счет? Ах, пакостники… надо же придумать. Он, вишь, не хуже работать станет. Если б, Васька, твои слова да обмолачивать-то — то муки было б навалом! Не-ет, Васюха! Ты сначала себя уравняй со мной, да с Федором, да с другими, кто горбится, себя не жалеючи, а потом уж приходи с коммунией — предлагать. А то…
— Тут не только общий скотный двор, — сказал Васька. — Тут государство, если запишемся в колхоз, деньги выделить сулится, для послабления крестьянству, налогом облегчит, кто в колхозе, трактор даст, землю пахать…
— Да на кой мне твой трактур! — взвился Иван Евстольич, — Чего у меня трактуром пахать? Все наши земли, у каждого, во — добрая баба задницей прикроет! Я свои за три дня перепашу и засею, безо всякого трактура. И другой так, кто с лошадью…
— То-то и оно, кто с лошадью, — вцепился Зильган. — А кто без лошади? К Туланову идти, кланяться? Потому что у него две?
— А хоть бы и к Туланову, — невозмутимо подтвердил Иван Евстольич. — Или ко мне приходи. А чегой-то ты взъелся на лошадников? Мы не цыганы, чужого не крали, нам лошадки ого-го как достались, Вася. Приходи, я тебе в ба-альших подробностях расскажу, каково они мужику даются, лошадки-те. А то небось думаешь — сами прибежали: взнуздай, мол, меня, Иван Евстольич, я твоя…
— Это точно, — негромко, после того, как собрание отсмеялось, сказал Федор. — Точно, Иван Евстольич. У кого лошадки нет, тот ленивее других, только и всего. Но я не про то хотел… Я вот про что сказать хочу. Мое имя тут трепать я никого не просил, да. Худа я никому не сделал, свое добро своим горбом наживал. Я так понимаю, коммуния дело не принудительное, добровольное дело. Иначе и хозяин в деревне — не хозяин. Уж это точно. Вот, к примеру, отцы наши и деды на дальние промыслы завсегда артелью ходили. Но то ведь на промысел. И опять же с — доброю волею, не хошь в артель — никто не принуждал: бегай по парме в одиночку. С промысла вернулись — и снова каждый сам по себе. А тут Василь Петрович Зильган зовет насовсем хозяйства объединить… Тут, братишки, что-то не так. В Керосе уже объединялись. Ничего путного не вышло, сами знаете. А люди там такие же, как у нас. Ну, ежли мы не по уши деревянные — пошто нам такую же шишку на том же месте набивать?.. Я — не. Воздержусь. Кому охота общим хозяйством толочься — да на здоровье, объединяйтесь, кто с кем хочет. Никого не осужу. А меня прошу уволить, мне в своем хозяйстве не надоело, хочу жить своим добром. Что сам выращу, что в лесу добуду — то и мое. Если взайм — всегда дам. Любому. Кому верю, конечно. Ежели на помочь деревенскую — со всею душой. А за так — нет моего согласия, и не осуждайте, мужики. Надеяться на дядю — не желаю. И обижать никого не хочу. Всяк своей волей жить должен. И больше лень мне разговаривать, извиняйте, пустое это.
И Федор пошел к выходу.
Оч-чень уверенно, видать, чувствовал себя Вася Зильган там, за красным столом! Ему бы смолчать, а он замахал указательным пальцем на Федора:
— Ты, Туланов, ведешь кулацкие разговоры! Ишь запел… Своей волей он жить хочет! Да если всякий начнет своей волею жить… что от государства останется? Как была твоя психология кулацкая, так и теперь сказывается.
— Не знаю, Вася, какая у меня… психология, насчет психологии у меня грамоты маловато, а насчет кулака ты в самую точку попал. Кулак у меня есть. Ты его давно не нюхал, могу поспособствовать. Заодно и мозоли тебе покажу… Ты их семь годов не видел, пока галифе натягивал…
— Ты и раньше таким был, Туланов! — Голос Зильгана поднялся на обвиняющий визг. — Любил, понимаешь, чтоб на тебя спину гнули. А когда нас тут белые расстреливали… ты с городскими барышнями прохлаждался! Клешами Усть-Сысольск подметал! И теперь против линии партейной стоишь…
— Ты, Васька, насобачился слова ловить — как блох… до того ловкой! Ты поди сохой поворочай, как теперь языком! Семь годов шлялся, последняя борозда диким лесом поросла на твоем поле, а нас приехал уму-разуму учить… Ты сначала сам крестьянствовать научись. А мы поглядим, какой из тебя артельщик… Языком у нас есть кому трепать: эвон, собаки, как чужого завидят… удержу нету…
Зильган набрал воздуху полную грудь и, уже не глядя на Федора, широким взглядом обвел собрание:
— Слышали, товарищи? Вы слышали! Туланов прямо против колхоза выступает! И мне, секретарю партийной ячейки, сулится кулак свой показать… Я требую, — оборотился он к секретарю сельсовета, — занести эти вражеские слова в протокол.
Иван Евстольевич поднялся вслед за Федором и, перед тем как пойти к двери, сказал:
— Ты, Василь Петрович, больно-то не шуми. Ты сначала свою глупость занеси в протокол и наши справедливые слова — тоже занеси. Тебе справный мужик верно ответил. И нечего тут народ пугать. Хайло-то прикрой. Простынешь, Вася.
— Вот оно что-о… А ты, оказывается, подкулачник! Понятно! В Изъядоре целая группа контриков развелась… Но ни-че-во… И не таких скручивали… Не долго вам брыкаться осталось, кулачье. Иван Евстольевич засмеялся, потом посерьезнел:
— Слышь, Васька… Ты прозвище свое не забывай, слышь. А то как был свистун, так и остался — свистун. Одно слово — Зильган. И дед — Зильган, и отец — Зильган. Пока другие потом обливаются, ваш брат на печи лежит да посвистывает… А теперь у тебя что ни справный хозяин — то и кулак. Ты хоть дурости своей постыдись: в деревне всякий знает, кто сколько спит, а кто спину гнет… С таким прозывом, Вася, не лез бы ты в деревенские начальники, — почти ласково попросил Иван Евстольевич и вышел вслед за Федором.
Ба-альшого терпения набрался Иван, столь ласково увещевая Зильгана. Оч-чень большого. Это мужики сразу поняли. И потянулось собрание следом за настоящими хозяевами.
— Во — дурак-то, — сказал Федор Ивану Евстольичу, когда тот нагнал его на деревенской улице. Тот помолчал, потом отозвался негромко: — Дурак-то он дурак… Но ты скажи мне, Федор Михалыч… кто ж этому дурню такую силу дал? Ведь неспроста он своим галифе тут трясет… Он, дурень этакий, силу за собой чует. Кто-то, значит, настропалил Ваську, не иначе. Ишь как он хвост поднял… будто с цепи сорвался. Неспроста это, Федор, помяни мое слово — неспроста. Коли свистун в голос вошел, сила за ним. Вот что худо, Михалыч.
— Ну, Евстольич… Для того ли мы в Питере в семнадцатом бузу поднимали, чтобы такие свистуны в силу пошли? Не думаю… Власть, как ни крути, народная. Война кончилась, пора свистунов побоку… Пора по уму жить, Иван Евстольич. Хватит своих к стенке прислонять!
— Хорошо бы — по уму, Федор. Видит бог, я не против, ежели по уму. Да вот загвоздка… Хочет парень, дак он девке чего только не насулит… Не вышло бы так, Фёдор Михалыч… Власть взяли? Взяли. А теперь своя воля. Теперь-то и скажет власть, чего она от мужика хочет. И я тебе точно говорю: коли свистуны мужику грозятся, от красного-то стола — худо это. Худо.
— Да вроде нету такой приметы, Иван Евстольич, — усмехнулся Федор. — Не помню такой…
— То-то и оно, что не было такой приметы в народе. А теперь вот народилась…
Этот негромкий разговор на улице Изъядора Федор Туланов вспоминал много раз, с грустью вспоминал, с удивлением: ты скажи, до чего простой мужик умен да прозорлив. Иван Евстольич, отец пятерых ребятишек, мужик из мужиков, задавленный работой, охотой, добычей простого хлеба насущного, и от той заботы ему, кажется, и головы поднять некогда, нету времени отдышаться и вокруг поглядеть… подумать некогда! А — будто в воду смотрел.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
После встречи со старшим майором госбезопасности Ильей Яковлевичем Гурием сон пропал — поток прошлого обдал Федора с необыкновенной силой, и под утро он уже с трудом сдерживался, чтобы не зарыдать в голос. Сжал веки, сжал зубы, замер на нарах — словно увидел над собою скалу, качнувшуюся и готовую рухнуть, и теперь нельзя было даже мигнуть — и от такого движения воздуха скала могла подвигнуться…
В этом сжатом состоянии он и забылся часа на полтора-два, не больше. А когда прокричали «подъем!» — он открыл глаза и почувствовал свое закаменевшее тело, слипшиеся кулаки, страшное напряжение всех мышц и мускулов. Ночь миновала, скала устояла. Но — покачивалась. В голове шумело: вновь завелись те сто самоваров на длинном столе… И ожогом горела на щеке метка. «Что ж это за пацан такой был, по первому шепоту из нагана в человека пальнул, без суда, без следствия?.. Это откуда ж душегубы такие взялись?»- думал Федор о том молоденьком своем конвоире, который столь удачно попал в него на чердынской дороге, попал, да не убил вконец. Это что же вырастет из такого парнишки, если выпадет ему самому судьба остаться живым в круговерти взаимного истребления?..
Федор махал топором в сосновом бору, свежий воздух разогнал сонливость первых минут работы, и теперь он думал о молоденьком конвоире, но метка на щеке горела, не утихала — и горела она о детях: как они там, да из них-то кто вырастет без близкого отца? Вот была боль сердца, с которой совладать Федор никак не мог. Потом мысли его переключились на начальника лагеря гражданина Гурия, давнего знакомца. И Федор пытался себе — представить, как теперь может повернуться его лагерная судьба, после встречи с Гурием, после разговора с ним.
И так сильно он озаботился вчерашней встречей, с таким напряжением мысли и чувства старался преодолеть заслонку своего будущего, которое нынче — вот ведь! — заключалось исключительно в старшем майоре госбезопасности… с такою силой он думал — что и в старшем майоре товарище Гурии, который находился в тот час далеко от Туланова, — возникли мысли о старом знакомце Феде, с которым бежали они по северным рекам, толкаясь шестами и упираясь веслами…
Илья Яковлевич никак не мог вспомнить: какой такой вопрос беспокоил его при виде Туланова. Какой вопрос он должен был бы задать Федору… очень важный вопрос, именно государственно важный, не просто так. Ну, выяснить, не стала ли судьба Туланова следствием местных перегибов в политике коллективизации — это само собой. Но это скоро не делается, тут запросы, бумаги, характеристики, проверка дела, приговора и так далее… А может, все того проще: цыц, нехай сидит и помалкивает? И будет откручивать Туланов свой срок на полную катушку. Но это ладно, это не сейчас… А вот вопрос, вопрос, в чем заключается главный вопрос к Федору Михайловичу?
И старший майор госбезопасности сосредоточился на прошлом, мысленно прокручивал тогдашнюю их дорогу по реке, ночевки, баньку, рыбалку, охоту… Надо найти вопрос, надо.
А Туланов махал топором. Бригада, в которой Федор работал, валила строительный лес в красивом бору на возвышенности, совсем недалеко от лагеря. Оттуда, из зоны, сюда, под своды сосен, долетали гулкие удары кузнечного молота и другие звонкие звуки. Лагерь был рядом, но и эти полторы-две версты вечером казались долгими: усталость давила к земле, цеплялась за ноги. Весь день на ногах, на ногах, начальство торопит бригадира, а он — орет на бригадников, у костра на корточки не присядешь…
Валят сосны пилами, двуручными, типа «мине-тебе», а после рубят сучья, срубают верхушки, пилят на бревна, тут же звучит криком: «Эй! Давай стаскивай!» Валят двое, а в штабель бревна таскают, собравшись по десять. Сила дармовая, на худой кормежке, такой силы не жалко: запалишься — да и хрен с тобой… Народ с пересылки все прибывает, конца не видать. Гурий про перегибы поминал, так что ж они все перегибаются, эти перегибы? Экая сила народу в тайге собрана, а все идут и идут, Стало быть, про перегибы объявили, а те, кто гнул, так и гнет свое? И сколько еще гнуть будут?
Жгут душу проклятые вопросы, и щеку левую жгут, терпежу нет, а поделиться с кем, обсудить… боже упаси, сохрани господь… Кто с языком совладать не умеет, тому уже и сроку добавили, это здесь недолго. Вызовут, опустишь ручки по швам, да и выслушаешь про прибавку, которую пожаловали тебе за контрреволюционную агитацию… Во как нынче, и посомневаться не моги.
— Вз-зяли! — Дюжина мужиков тащит здоровенный балан к штабелю. От штабеля балан поедет на лошадях на крытую пилораму, что срубили на берегу Ухты рядом с кузницей и ремонтными мастерскими. Маленько удавалось перекурнуть, пока сжигали сучки и вершинки. Тут руки сами тянулись к огню, а Федор еще и лицо поворачивал левой щекою — погреть метку, успокоить проклятую…
Головой Федор понимал торопливость начальства: как не спешить, когда вон сколько народу в палатках обретается. Всего-то один деревянный барак и есть, где начальство, контора, бумаги. А жить — так начальство пока в землянках живет. Изнутри тесом обшитых, но все одно — землянки. Три двухэтажных дома, из бруса, нужно подвести под крышу, жилье будет ладное, но до вселения далековато. Да зекам четыре длиннющих барака строят, из досок. Две стенки, с зазором, в зазор — опилки, сыпь да трамбуй. В деревнях век так не строили. Ну, это достижения последнего времени, умные головы придумали: еще не дом, но уже и не палатка. Должно быть теплее, чем под брезентом. С лесоповала пришли, уже стемнело. Все побежали в столовую, а Федора выкликнули из строя, и теперь он стоял в сторонке, ждал сопровождающего: начальник вызывал в контору.
Старший майор госбезопасности Илья Яковлевич Гурий вспомнил свой вопрос к тому Феде Туланову, с которым бежал по реке под выстрелами царских солдат. Вспомнил.
В коридоре конторы Туланов удивился; здесь было полно людей. Худо-бедно, а час прождет. Через час в котле столовском станет много жиже… ну да начальнику такие мелочи без интересу. Климкин и тут опекал Туланова, вышел из кабинета, встал перед Федором, руки заложил за спину, покачался с пятки на носок:
— Пришел, Туланов?
— Так точно, гражданин начальник, явился по вызову.
— Это хорошо, что ты явился…
Очень многозначительный этот Климкин, станет вот этак перед тобой, руки заложит назад, будто нарочно старается тебе сказать: не, друг ситный, рук об тебя марать я не буду… Упрется остренькими глазками тебе прямо в зрачки и качается с пятки на носок. А ты моргнуть не моги и упаси бог выпустить взгляд гражданина Климкина: выпустишь — значит, виноват. А виноватых — бьют, это любимое выражение начальника третьего отдела. Нынче он недолго качался и гипнотизировал. Сказал:
— Ну давай пошли, Туланов.
Скажет слова самые простые, да таким голосом, будто сейчас, за дверью, он и предъявит тебе самые главные доказательства твоей вины, неизвестно перед кем, неизвестно откуда взятые. Но — неопровержимые, окончательные, которые припрут тебя к стенке, той самой, последней…
— Погодь тут! — Климкин зашел к Гурию и сразу вышел обратно. — Проходи!
Снова оказался Федор во вчерашнем кабинете. Гурий был не один. Высокого роста, лицо гладкое, без бороды и усов (приезжий, поди, наши все обросшие) — молодой человек у стола что-то показывал по карте. Федор, озабоченный пропадающим ужином, громко доложил по форме: так и так, прибыл. По вашему приказанию.
— Олег Петрович, — обратился Гурий к молодому, — знакомься: Туланов Федор Михайлович, житель здешних мест, так сказать — абориген. Охотник с верховьев Ижмы, знает те места на сто, двести километров вокруг. Да не просто знает, а каждую речку, ручей, ложбинку, каждый бугор. Не буду хвалиться, но, кажется, каждое дерево и каждую кочку. Ты в городе улицы не знаешь так, как он деревья помнит и тропы в лесу. Садись, Туланов, ты нам нужен, — приказал Гурий и кивнул на стул за приставным столиком.
— Свой лес, как не знать, — сказал Федор на всякий случай.
— Интересно, интересно, — выжидательно смотрел на Федора молодой, безбородый.
— А это наш главный искатель нефти, Федор Михайлович, познакомься: Олег Петрович Лунин.
Молодой улыбнулся Туланову.
— А мы, Олег Петрович, с Федором Михайловичем старые знакомые, было дело — бежали вместе от вологодского губернатора, на лодке, по Ухте и Ижме.
— Интересно, интересно, — опять сказал Лунин, очень, видать, вежливый.
— Тогда были мы помоложе, Олег Петрович, у Федора Михайловича ни бороды, ни усов, был он просто Федя, а я политссыльный Гурий. Солдаты по нам из винтовок лупили, с берега, но, как видишь, мы живы остались…
— Прямо как в ковбойском романе, — улыбнулся вежливо Лунин, — с погоней, стрельбой… чрезвычайно интересно!
— Самое интересное, Олег Петрович, другое, — сказал Гурий, посматривая на Туланова. — Самое интересное, что тогда, лет двадцать назад, я работал у инженера Гансберга, бурили скважины на нефть… И вот недавно вспомнил я, что спаситель мой, тот самый Федя Туланов, когда мы бежали с ним по реке, говорил, будто они с отцом знают естественные выходы нефти и газа на поверхность земли… где-то в их охотничьих угодьях такие выходы есть, и даже, если мне не изменяет память, они поджигают эти газовые факелы и греются возле них. Так ли, Федор Михайлович? Не подводит ли меня память? — оборотился Гурий к Федору. — Я тут вспоминал, вспоминал… Никак вспомнить не мог, что же такое, важное, сообщил мне тогда Федя Туланов. А ведь вспомнил! Видишь, Федор Михайлович, как жизнь повернулась: и наш побег, и твой тогдашний рассказ про факелы из-под земли — и моя должность нынешняя — все сошлось… Верно ли я припомнил?
— Да, гражданин начальник, верно. Есть такие факелы.
— И ты можешь их показать, Федор Михайлович?
Туланов обдумывал предложение. Отец вообще-то молчать приказал… Чужим людям в тайге дай только зацепку — такой начнется гром и стук — всю живность на сотню верст распугают, разгонят, ни единого хвоста не добудешь… С другой стороны… отец помер. А он, Федор, старший сын, вот… в неволе. Гурий словно бы прочитал заветные мысли Федора. Сказал:
— Федор Михайлович, я понимаю, вполне понимаю твои сомнения. Но и ты пойми: стране нужна нефть, нужен и газ. И как можно скорее. А тебе, Федор Михайлович, нужна свобода. Твоя хорошая работа, несомненно, много значит в досрочном освобождении. Но дело это длинное, муторное, бумажное. Да и не слишком нас жалуют за досрочное… Мало ли отчего человек хорошо работает. Может — маскируется… А вот конкретное достижение… скажем, ты поможешь ускорить открытие нефти или газа, мы тебе поставим это в заслугу… понимаешь? И срок твой может сразу кончиться, Федор Михайлович. И для меня это будет… как бы сказать… легче. Я тебе помогу не просто потому, что обязан тебе своим спасением, но потому, что ты сам себе помог. А мое дело будет, так сказать, технически оформить твое освобождение. Что я и сделаю с громадным удовольствием, Федор Михайлович. И никто нам с тобой не предъявит счета: что, мол, по блату тебя освободили…
Федор смотрел на Гурия и молчал. Тот нахмурился:
— Что, Туланов, я неясно выразился? Ты понял меня?
— Понять-то я понял, гражданин старший майор… Я вот чего хочу знать: а ну как там ничего полезного не обнаружим? Да и добавят мне еще столько же… чтоб не обманывал…
— А ты недоверчивый стал, Федор Михайлович, — удивился Гурий.
— Станешь тут… доверчивым. За эстолько-то лет… образовали меня, славу богу.
Гурий улыбнулся.
— Я могу тебе твердое слово дать, вот, при Лунине: как бы дело ни повернулось, тебе в обиду оно не станет. Мы ведь, понимаешь, ищем почти вслепую. А ты обещаешь природные выходы на поверхность. Как бы там ни было, а именно в тех местах удача вероятнее всего, Федор Михайлович. Лунин мне это вполне объяснил.
— Тогда, конечно, покажу вам в верховьях Ижмы места… они вроде как нефтью запачканы… Но бог весть, может, и не нефтью. Нам-то ведь было ни к чему…
— А нам очень даже к чему! — загорелся геолог. Он подвел Федора к большой карте на стене. — А ну, Туланов, покажите, где хоть примерно те места?
Федор смотрел на карту. На бесконечное множество линий, тонких и толстых, кривых, на всякие кружочки, точки, черточки… Разобраться можно, конечно, и показать, хотя примерно — тоже можно. А ну как они сами туда и поедут, без него? И тогда прости-прощай встреча с селом, с домом, с родными… Нет уж, робяты… вы давайте сряжайте экспедицию по всей форме, а Федор Туланов у вас за проводника пойдет. И в родных местах побываю, своих проведаю — не станут же они препятствовать! А иначе… кто их знает, этих разведчиков…
— Мы по картам не ходили, — уклончиво сказал Федор. — Так бы, конечно, показать можно, но боюсь осрамиться… Я на месте покажу, пальцем.
— Ну вот, посмотрите, — начал настаивать геолог. — Верховья Ижмы… отсюда ваша Ижма берет начало, так? Это Черью, впадает в Ижму…
— Да, — сказал Федор, не глядя на карту, — у нас там две зимних избушки… охотничать способнее… А в устье — покос… Был, теперь не знаю, наш ли…
— Вот, вот, — похвалил геолог и дальше повел кончиком карандаша по карте. — А это река Лёккем, левый приток Ижмы, а это Буркем, правый приток. А это вот Нибель, она течет уже в другую сторону.
— Да знаю я… Она с севера поворачивает на восток и тянется в Печору.
— Отлично, — радовался геолог. — Действительно, разбираешься. Вот теперь покажи, приблизительно, конечно, где те места, запачканные, как ты говоришь, нефтью? или выход газа?
Федор опять всмотрелся в карту.
— Нет, извиняйте, на бумаге показать не берусь. Кто его знает, сунешь пальцем, да не туда. Обида может быть. А так, на словах, могу сказать: одно место от реки Ижмы совсем недалеко, ну, с версту, может. Но туда еще по Ижме подыматься от Изъядора… чомкоста три, наверное… Ну, по-вашему, верст двадцать… А эта, извилистая… Нибель, что ли?
— Да, это речка Нибель.
— По Нибели один раз мы с отцом тоже в такое место попали… Такая, помню, сильно кочковатая лощина… и промеж кочек пленка, черная, как деготь… и блестит. Потом еще между верховьем Ижмы и Черью, поглубже надо забраться… там горящий газ выходит, сам зимою дважды поджигал, охотился в тех краях…
— Если там, на месте — сразу найдешь? Покажешь?
— Если отпустят, почему не показать… покажу. Сейчас под снегом… может, сразу и не выйдем точно на то место, ну, поищем. Найдем обязательно, за это ручаюсь.
— Илья Яковлевич, слышите? — разволновался геолог. — Он же золотой для нас человек! Он же может на много лет сократить наши поиски, представляете? Какие средства можно сэкономить, сколько техники, сколько сил сберечь… Горящий газ может оказаться и болотным, это понятно. Но если есть места, запачканные нефтью… откуда-то она туда попала? Не с дождем же выпала!
— Резонно, — улыбнулся Гурий.
— Вот, Илья Яковлевич, я вас прошу: сразу переведите Михаила Федоровича…
— Федора Михайловича Туланова, — поправил его Гурий.
— Извините, Туланова Федора Михайловича в наш геологический отдел. Выучим его на коллектора. И прошу организовать поисковый отряд в верховья Ижмы. Немедленно. На будущий год мы и так собирались двинуться в том направлении. А теперь — чего ждать!
— Ну… немедля кидаться туда не будем, — успокоил Гурий взволнованного геолога. — Сделаем так, как наметили: сначала разведаем ближние районы вокруг. Нам нужно точно знать, где что есть, а где пусто. На Ручьеле в верховьях Няръяги, в районе Чути. Это же твои планы, твои соображения. Вот по ним и станем действовать, без лишней горячки. А в верховья Ижмы двинем весной. За зиму построим баржу и попробуем по большой воде поднять вас туда, сколько сможем. Баржу будем буксировать катером. А Федор Михайлович пока пусть бурить учится. Я ему уже обещал. Человек он по природе крепкий. Без бурильщиков тебе, Лунин, тоже не обойтись. Согласен, Федор Михайлович, учиться на бурильщика?
— Согласен, отчего же нет. Если можно, пошлите меня в бригаду Семиненко.
— Это можно, Олег Петрович, скажи Криволапову, пусть запишет Туланова в бригаду Семиненко. Но они послезавтра выезжают в командировку бурить на новом месте, совершенно не обустроенном, — предупредил Федора Гурий и вопросительно посмотрел на него.
— Ничего. Мне не привыкать обустраиваться.
— Ну, хорошо. А весной мы тебя пошлем в твои родные места, вот под руководством Олега Петровича. Договорились? — спросил Гурий.
— Годится, — кивнул головой Федор, забывшись, с кем говорит.
— Тогда все, иди отдыхай.
Туланов вышел из барака и улыбнулся про себя: хитер же ты, Илья свет Яковлевич… Как будто нужно тебе со мной договариваться… Приказал бы — да и все разговоры. Так и так, показать места. А не покажешь… Ну, это понятно, с каким дерьмом можно человека смешать за колючей-то проволокой. А он, ишь, тары-бары… будто я по своей охоте. Может, и вправду, не забыл Гурий, как бежали вместе, как спали под одним пологом… Может, и правда — помнит и добром на добро хочет… Покажу, конечно, почему не показать? А они, может, и срок скостят или вовсе отпустят. Да что ж это за судьба такая… годами правду искать… Тебя — обвиноватят, и ты же выход ищи, коли не хочешь вовсе сгинуть.
И зима и весна для Федора Туланова миновали в командировке, в бригаде Семиненко. Обустроились они в местечке Ручьель, недалеко от реки Ухты. От Дзолью, говорят, верст тридцать. Но пришлось им двое суток пробиваться сюда, добра было много, пять подвод: буровые инструменты, тяжелые, материалы всякие, пропитание, одежда. Не на неделю шли, а на сколько — бог его знает, на сколько… Снег уже выпал, полозья скользили как надо, но пришлось переправляться через ручей и одну неширокую, однако быструю речку, хочешь не хочешь, а задержишься. Через ручей даже временный мост перебросили, куда денешься, на руках подводы не перенесешь, вброд — глубина не позволяет. Затем почти до нового года строились: зима впереди, а жить нужно бы по-человечески, чтоб и самим обсохнуть, и чтоб волосы к подушке не примерзали. Сначала срубили маленький домик — для мастера, геолога и стрелка, как же, и стрелок здесь — начальство. Потом для себя взялись, но время было уже позднее, метели начались, и все же они построили из нетолстых бревен и жердей… шалаш не шалаш, но уж никак не дом. Так, что-то среднее. Сидеть и лежать на нарах могли все двенадцать человек. В середку поставили настоящую чугунку-печь, с плитой. На плите готовили пищу, заодно и жилье отапливали. У печки было жарко, словно у корабельной топки, а стены и углы изнутри обледеневали. Но все равно лучше, нежели в палатке: под ногами пол, над головою потолок, пусть из жердей. Все-таки появилось ощущение прочности — чего так недоставало в палатке. До нового года успели и буровую вышку поставить и начали бурить. Уже после начала бурения Туланов подал мысль: а давайте, мужики, между вахтами построим еще и баньку. Вши проклятые замучили… И после первой же баньки, когда верхнее и нижнее прожарили под потолком — ну, словно Пасха наступила, — такое блаженство разлилось… Раз в неделю приходила подвода: хлеб-крупа, из рабочей одежи хоть что-то да инструмент кой-какой, если что мастер заказывал. Федор работал буровым рабочим — буррабом — в одной смене с Кузьмой. Тот был ключником, над Федором старшим, и его, по работе, Федор слушался. Сначала он научился «медведя водить». Длинный шест вставляешь в специальное гнездо, закрепленное на канате, и крутишься… поворачиваешь канат и буровую штангу так, чтобы долото в своей дыре-скважине землю долбило не по одному месту, а попадало маленько с расстановкой. Целых полмесяца Федор «водил медведя» да присматривался, как иные дела делаются.
Затем Кузьма поставил «водить» другого, а Федор стал у Кузьмы вроде помощника. Научился крепить буровой инструмент и снимать его, умел теперь зачищать скважину от грязи. Даже когда бур подымали или спускали, Кузьма допускал Федора к тормозной установке — а это ответственной пост. Ну, правда, под своим наблюдением. Кузьма похваливал:
— Ну-у, Михалыч, ежели так пойдет, через полгода сам ключником станешь!..
Ключником… Эх, Кузьма, Кузьма! Встать бы сейчас на лыжи! Да помчаться по насту… Хоть бы и за лосями, по их следу… И чтоб деревья хлестали тебя то с одной стороны, до с другой, и чтоб шмякали с вершин тяжелые комья снега, чтобы ласковый шум леса, серебром поблескивающие на солнышке снежинки радовали и глаз и сердце… А ты говоришь — ключником… будто это предел мужицких мечтаний… Эх, Кузьма! В лес бы, на волю! С ружьишком, с поднятой головой, со свободной душою… А мы тут в темном промерзшем сарае колупаемся да слушаем пыхтенье паровой машины, да скрипит качающийся балансир, чтоб ему пусто было… Постылое дело, Кузьма, постылая жизнь. Сердце рвется бежать, бежать отсюда. Домой, в свои леса… Но Федор сердце свое словно наглухо замуровал в клетку: чтоб никто не услышал, как оно кричит от боли, как рвется отсюда, как тоскует молчаливым криком…
Мастер разделил сутки пополам, на две десятичасовые смены. В одной работали Федор и его товарищи — пять человек под началом Кузьмы. А во второй смене ключником был Садыков из Баку, опытный бурильщик и молчаливый — слова не вымолвит.
Менялись: одну неделю днем, другую — ночью. За десять часов как не устанешь. Иные валились с ног после смены. А Федору и раньше, в его вольной жизни, крестьянской ли, охотничьей, — доставалось так же. Что на лугах, что в лесу или в поле…
Но у него была иная беда, хуже усталости: на своей земле, а не вольная птица. В родной парме-тайге, а не уйдёшь в нее, не углубишься, не порадуешься… И особо тоскливо стало, как удлинились дни, солнце с каждым днём залезало все выше и выше, а зайдешь в лес чуть подальше от буровой — и хмелеешь от вкусного запаха сосновой смолы. Вскоре по утрам, когда переставала пыхтеть буровая машина и становилось тихо, словно в сказке, начинали вдруг пробиваться совсем неподалеку тетерева: куррр… куррр…
Вот тут сердце Федора и билось в ту клетку и давало перебои — как больное…
Однажды, еще до Благовещения, в смену Садыкова из скважины вместо нефти хлынула дурно пахнущая вода. Бурение приостановили, стали ждать Лунина. Он приехал через несколько дней. Был на буровой около трех часов, много говорил с мастером и геологом. Перед обратной дорогой сказал собравшимся около вышки людям:
— Здесь дальше бурить не будем. Вы поедете в новое место — на Няръягу. Все это — Лунин показал рукой на вышку, — надо разобрать и приготовить к перевозке. Чтобы до распутицы успеть перебраться. Готовьтесь.
По приезде Лунин доложил Гурию о результатах бурения на Ручьеле. Начальник слушал, нахмурившись.
— Значит, плохо выбрал место для закладки скважины, — резко заключил Гурий. — Как еще понимать? Целых полгода большая бригада толкла воду в ступе, воду и выдала…
— Илья Яковлевич, не воду они толкли. В нашем деле отрицательный результат — тоже результат, теперь все понятно и не нужно новую скважину закладывать и время терять в неведении…
— Мы нефть ищем, Лунин! Нефть, а не вонючую воду, — не принимал оправданий геолога Гурий. — Ты сначала нефть найди, а потом можешь позволить себе отрицательный результат. Ты мне хоть один положительный дай. Пора уже, Лунин, пора. И время нас торопит. И Москва не молчит… Давай бури там, где больше надежд на нефть. А то как бы мы с тобой не попали сами в бурильщики. Ты об этом не думал, Лунин? Вот… подумай.
Гурий шагал по кабинету. Все присутствующие молча следили за начальником, поворачивая головы следом. Лунин сказал еще:
— Я велел бригаде готовиться к переезду с буровым станком на Няръягу. По старым данным, да и по нашим изысканиям, нефть там должна быть. Только бы не промахнуться…
— Вот-вот, не промахнись, — посоветовал Гурий очень значительно. — Иван Васильевич, — сказал он старшему буровому мастеру. — Станок «Вирта», закупленный за границей, давай поставим на Няръяге. Две бригады остаются здесь, в Дзолью, бурить на нефть. А ручьельскую бригаду, как вскроются реки, направим в верховья Ижмы. Там вроде тоже есть надежда…
— Илья Яковлевич, — встал руководитель нефтепромысла Пастернак. — Еще в начале года мы намечали бурить на нефть тремя бригадами. А теперь это решение нарушаем. У нас на этот год уже и план есть по добыче… Его же выполнить нужно.
— Надо, Зиновий Юрьевич, надо выполнить. И ты его выполнишь, — строго ответил Гурий. — Криволапов на тех двух станках без аварий быстрее пробурит скважины и даст тебе. А ты оттуда извлекай нефть. Пора бы без аварий работать. А у нас пока половина времени уходит на ликвидацию… А расширять поиск нефти мы обязаны, тут никуда нам не деться.
Криволапов тоже подал голос:
— Я могу сегодня еще одну бригаду организовать, новую, люди обучены. Но станка нет.
— Хорошо, — кивнул Гурий. — Мы с Иваном Васильевичем съездим в наркомат за новыми станками. Будем сильно просить. Должны помочь. Во-первых, мы уже даем стране нефть, во-вторых, есть хорошая перспектива. Под нефть просить легче. Всё. Лунин, останься.
— Олег Петрович, — обратился он к Лунину, когда остальные вышли. — Ты осенью загорелся скорее поехать в верховья Ижмы. А сейчас, смотрю, поостыл? Может, тебе съездить туда? Ознакомиться с геологической обстановкой?
— Была такая мысль, когда вы со своим охотником меня познакомили… Да вот, работа сейчас не отпускает…
— Давай так: все работы здесь оставишь на своих помощников, а сам готовься в верховья Ижмы. Подбери с Климкиным надежных рабочих, подсчитай на три-четыре месяца запасы питания, деньги, чтобы в случае чего можно было обратиться за помощью к местному населению — за лодкой ли, лошадью, ну, мало ли. И как только вскроются речки — я тебя по большой воде на своем катере подыму. Чтоб времени зря не терять. Проводником и рабочим возьмешь того коми-охотника, Туланова. Он говорил, что знает три точки проявления газа и нефти. Вот в первую очередь посмотри, изучи и сам решай, где забурить первую скважину. После этого пошлем туда бригаду Семиненко. Подождешь их, поставишь на место — и возвращайся.
— Понятно. А если наш охотник ошибется? И там нет никаких проявлений нефти? Просто жирная черная грязь или что-нибудь в этом роде?
— Не думаю. Туланов и прежде говорил о нефти. Он ее и тогда видел. С грязью не перепутает… Все железное заготовь здесь в мастерских, и с запасом. Деревянное сделаете на месте. Я, честно скажу, большие надежды возлагаю на вашу поездку. Лунин покачал головой:
— Очень большие надежды, Илья Яковлевич, возлагать нельзя. Если что — тяжело потом разочаровываться. У нас же нет никакой инженерной информации о тех местах.
— Зато есть живой человек, который пачкал руки тамошней нефтью. И грелся у горящего факела. А это сейчас получше любой инженерной информации. Которую все равно взять неоткуда… И еще, Олег Петрович. Слушай внимательно, если хочешь, чтобы Туланов был у тебя хорошим помощником. Там, в деревне, у него мать, отец, жена и дети. Остановись и отпусти его на несколько часов к ним. И сделай так, чтобы никто ему не мешал. А сам зайди в сельсовет и узнай в подробностях о нем самом. Чем он занимался в последние годы. До посадки. Он говорит, будто сидит без вины. Узнай не спеша. Разберись. Хорошо, если бы сельсовет подтвердил сведения о нем справкой о хозяйстве: использовал ли наемную силу и так далее. Понял? Это важно.
— Понял, Илья Яковлевич. Мне и самому интересно, что за человек нас поведет. Дело-то серьезное.
— Вот именно. Готовься. Месяц у тебя еще есть. Но может статься, и меньше, ты это учти. В тайге всякое упущение в подготовке тебе очень дорого обойдется, Олег Петрович.
— Я понимаю.
— Действуй, Лунин.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Поисковый отряд Лунина, восемь человек, выехал из Дзолью в мае. Были в отряде: сам Лунин и его помощник Мамедов, тоже геолог, пятеро чернорабочих, в их числе и Туланов. Но главная задача Туланова — проводить отряд до мест естественного выхода нефти и газа на поверхность земли. Восьмым был молоденький стрелок, вооруженный коротеньким карабином. Конвой и охрана.
«Ну… живем… теперь и бояться некого: опять свой защитничек при нас состоит!»- с веселой иронией думал Федор, посматривая на стрелка. Но смех-то смехом, а сам вид молоденького парнишки-конвоира теперь вызывал в нем мысли и воспоминания нерадостные, не мог Федор забыть того мальчишечку, который всадил ему в лицо пулю из нагана. Метка на щеке потихоньку заныла и на этот раз… И чего занятым людям навязывают это пугало с карабином? Если доверяете серьезное дело делать, так на кой он, охранник? А ежели кто убежать захочет — он все равно не остановит… Потом уж, много позже, Федор понял — зачем. Затем, что если понадобится — будет с кого спросить. Будет кого под суд отдать. Теперь же он думал с досадой: медведи у нас на людей не кидаются… если сам медведю больно не сделаешь. А людей с ружьем пасти — последнее дело, и тем худо, кого пасут, и тому несладко, кто пасет…
Но, как бы там ни было, приподнятое настроение не покидало Федора с того момента, как узнал он о скорой поездке в родные места, вверх по Ижме. И тяжелое, стало полегче, и холод — не столь знобким, и жесткое — мягче. Все сойдет. Лишь бы с Ульяной повидаться, с детишками, ну хоть накоротке, словечком перекинуться. Узнать, как они там, без него, перемогаются. До Чимъеля будут подыматься, родной деревни не миновать. Да неужто встретиться не позволят? Хоть что-то человеческое должно же у них остаться. Он Христом-богом попросится. Хоть бы через глаз пропустить… Хоть бы чего узнать, сердце изболелось…
И еще надежда была: как найдут они нужные места, там должны оставить буровую бригаду. Вот самое главное — в ту бригаду угадать. Дело там заведется длинное, а он почти что дома будет. Конечно, не совсем чтобы дома, не в лесной даже, избушке своей. Но, как говорится, выбора нету. Считай, богородица-матушка опять ему поддержку в жизни оказала. Спасибо тебе, матушка, сто раз спасибо.
Весной дни удлиняются, а при ожидании стали они и вовсе непомерно долгими. И Федор тайком молился яркому солнышку: «Пореже прячься за хмурыми тучами, милое ты мое, да щедрее поливай северную мою земельку своими лучами жаркими…» Молился южному ветру, теплому и мягкому, ласковому материнскому ветру: «Почаще обдувай землю, ветер южный, помоги солнцу поскорее растопить снег, пусть веселей зажурчат весенние ручьи, вскроют окованные льдами реки…»
К северному ветру Федор обращался с горячим увещеваньем: «Ветер северный, быстрый да сильный ветер… Слышь ли меня? Послушай, северян: ты с севера, и я с севера, мы ж с тобой как два брата… Я тебя как старшего прошу: уймись, спрячься за Урал-гору до осени… Передохни, братишка… Устал, поди, мотаться над землей, всю осень и зимушку ты работал, хватит, а? Передохни чуток, пропусти меня скорее: Ульяну повидать и детей моих малых… Вот ведь как соскучал я, подневольный, по своим, по родным…»
В конце апреля северный ветер затих, уступил мягкому южаку. Щедро сеяло свои теплые лучи солнце. И талая вода Дзолью, не помещаясь подо льдом, вымахнула наружу — и пошла поверх льда. Начала синеть и набухать Ухта-река. Но в дни майских праздников задремавший было северный ветер снова встрепенулся, вылетел из-за Уральского камня, обрушил на коми землю холодный дождь, перемешанный со снегом, и, постепенно усиливаясь, вернул лютый холод и крепко сковал льдом и ручьи, и речки, и всю землю, уже поверившую в близкое тепло.
Федор зажал себя в кулак и терпеливо ждал. Знал: недолго осталось, теперь главное — дождаться… Северяк еще побушует, но до осени дорогу по воде ему уже не запереть, слабо!.. Лунин велел Федору, как хорошо знающему реку, быть на катере-буксировщике, посматривать вперед и не дать катеру свернуть с фарватера. Федор послушался, ведь бояться, в сущности, нечего: вода поднялась на полсажени выше обычного уровня, мелкосидящая баржа и катер всюду пройдут. Кусты вдоль берегов почти наполовину высоты окунулись в воду, течение покачивало их. Поднялся Федор на катер по дощатой сходне с поперечными плашками, и в груди что-то стянулось в тугой клубок, и мешал ему тот клубок дышать, — гулкий стук каблуков по железной палубе соединил всплывшие издалека воспоминания о службе на военном корабле и сегодняшние стремления сердца и души.
«Вот… наконец-то… в сторону дома…»
Катерок чем-то был похож на муравья, маленький, а силенка есть, тащит и тащит против течения баржу, которая много больше самого катера. Позади баржи на короткой веревке дергалась небольшая гребная лодка, весельная.
Время от времени косой дождь, зарядивший с утра, усиливался, но Федор поднял капюшон брезентового плаща и ни разу не ушел с палубы вниз. Здесь, на палубе, под дождем, было ощущение почти полного возврата к прежней жизни, свободной от стрелков и окриков. Иногда он показывал рулевому рукой, как точнее придерживаться фарватера, но это так, больше для проформы, здесь еще было достаточно безопасно. А больше — радовался знакомым местам, родному простору. Утки уже прилетели, но дальше, на север, пока не спешили, смущало их сильное похолодание: они плавали вдоль берегового ивняка, и в тихих заводях, и на самой быстрине, стая за стаей с шумом перелетали над рекой и вверх и вниз. Словно сильный ветер пронесется над тобой — и невдалеке, впереди, по ходу катера, стая плюхнется в воду, покачается на волнах, снова подпустит катер почти вплотную — опять вспенит сотнями крыльев поверхность воды и устремится вперед, а там, впереди, высоко над лесом, сделает круг и вдруг пролетит обратно, прямо над головой, с шумом внезапного вихря. Олег Петрович Лунин не выдержал и вышел на палубу с двухствольным ружьем. Дважды дуплетом шарахнул по пролетавшим уткам. Одна шлепнулась в воду ниже их каравана, и ее унесло течением, не станешь же поворачивать катер с баржей ради подбитой утки, дорого обойдется такая добыча… Федор покачал головой:
— И не жалко зарядов, Олег Петрович?
— Зарядов?.. Да бог с ними, вот свежий суп из утки сварить бы… Ты ведь, Туланов, охотник? Ну-ка, попробуй, — Лунин протянул ружье Федору. Отстегнул патронташ и тоже подал ему.
— Сколько уток взять? — пробуя ружье к плечу, спросил Туланов.
— А сколько сумеешь. Нам бы по утке на брата — и было бы славненько. Вон их сколько.
— Тогда скажите, чтобы кто-нибудь перешел в лодку с веслом и отпустил ее на более длинный конец. Если в сторону упадет, чтоб успеть достать…
Лунин с кормы катера распорядился, как попросил Туланов. Стрелял Федор несколько раз. Сначала, когда стая обгоняла их снизу. Три утки шлепнулись перед катером, двух взяли прямо с борта, а третью зацепил помощник Лунина, который и сел с веслом в гребную лодку в конце каравана. Последний раз Федор пальнул по сидящим уткам, подпустившим катер совсем близко: две сразу распластались на воде, вторым патроном Федор выстрелил, когда стая начала подниматься, и еще три штуки плюхнулись в воду.
— Ну, хватит. — Федор протянул Лунину ружье. — Хорошая вещь, бьет как надо.
— Вижу — охотник, — уважительно заключил Лунин. — Шесть раз выстрелил и… двенадцать уток. Мастер, ничего не скажешь… Я четыре раза стрелял, а попал только в одну. Да и ту упустили.
— Это с непривычки, Олег Петрович, — успокоил Федор: — Тут практика нужна. Постреляешь, так они если не в котомку, так под ноги станут падать, — подбодрил Туланов геолога.
Молоденький стрелок, стоявший со своим карабином на палубе, аж в лице изменился, когда Лунин передавал ружье Туланову. Солдатик и понимал, что это необычная поездка, и работа предстоит необычная — когда условия режима нельзя соблюдать, как просто в лагере. Но все-таки… заключенному давать в руки оружие… пускай даже охотничье… Не положено. Но кто их знает, этих начальников, на что они рассчитывают… У них свои резоны…
— Хорошо, Федор Михайлович. Приварок, судя по всему, нам обеспечен. Тогда ты будешь еще и инструктор по стрельбе.
— Это можно, — заулыбался Федор, от которого не укрылось беспокойство стрелка, когда ружье оказалось у него в руках.
Мимо деревни Горояг шли на закате солнца, жители еще не спали, и все высыпали поглазеть на диво небывалое: кто-то осмелился подниматься вверх по Ижме на железном катере с баржой. Да еще и не останавливаются! Еще и выше плывут…
Среди стоящих на берегу Федор пытался выделить хоть одно знакомое лицо, но было все же далековато для такого опознания. А хотелось, очень хотелось хоть кого-то узнать…
Потому, быть может, хотелось, чтобы утвердиться: не все же вовсе переменилось в теперешней жизни… осталось же что-то прежнее…
Отсюда до Изъядора еще около шестидесяти верст. Если и дальше пойдет столь же удачно и скорость не снизят, то Керос и Шушун они проплывут ночью, а завтра утром причалят в родном селе. Лунин сказал: в Изъядоре обязательно будет остановка. И Федор, чем ближе становился дом, тем сильнее волновался. Руки дрожали.
Сколько пришлось Туланову перемерить путей-дорог на чужбине, а такого волнения не испытывал ни разу. А когда проплыли мимо его покоса в устье Черью — сердце совсем разболелось. Да, был свой покос… Чей-то теперь? Отсюда Федор на шестах, если постараться, добирался домой часа за два. А на катере… час, поди, не более. Лунин обещал отпустить повидать своих. Только бы не передумал… Неужели он прижмет Ульяну к груди, родную, любушку свою… всего через час-полтора?.. Детей обнимет…
Сладким предутренним сном спал родной Изъядор. Никто ведь не предуведомил о прибытии отряда, никто и не ждет. Только из трубы избы Ивана Евстольевича тянулся сизый дымок. Этот как всегда — трудяга — раньше всех подымается… И Ульяна еще спит, двери крыльца закрыты. Издалека Федор заметил на углу своего дома какую-то доску, похоже — красную. Детишки играются, подумал он. И у матери тоже ни дымка еще из трубы… Рано приехали, и хорошо, что рано: он хоть посмотрит сперва на родные дома, сердцем и умом к возвращению привыкнет. Слова хоть какие-то найдет для встречи… А то ведь увидишь своих, да и онемеешь…
— Ты, Михайлович, иди, — отпустил его Лунин, как только нос катера ткнулся в береговой песок. — И очень-то не спеши. Мне так и так нужно подождать, пока сельсовет откроют, с председателем познакомиться, договориться о помощи, если понадобится, — словно бы успокаивал его Лунин. — Сегодня, надеюсь, в назначенное место прибудем? Сможем ли дальше на катере подняться?
— Вода еще прибывает, Олег Петрович, — ответил Федор, — думаю, так до конца и дойдем обычным порядком. Тут уж недалеко. Правда, еще повернуть надо будет и катер и баржу, но, думаю, развернемся, не застрянем… Выберем место пошире, корму к берегу прижмем, а нос сплавим…
— Ну, хорошо, Федор Михайлович. Я вижу, ты уже все продумал. Иди к своим, — доброжелательно сказал Лунин и спустился вниз, показывая, что вполне доверяет Туланову.
Стрелок, предупрежденный заранее, смотрел в другую сторону. Федор пошел напрямик, по обрыву — вверх, прямо против своего дома. Поднялся — и застыл на месте. Глаза его не обманули, на углу их избы висела красная доска, и было на ней написано белыми буквами: «Правление колхоза „Новый путь“».
Федор стоял и боялся сделать следующий шаг. Да неужели из родного дома выгнали Ульяну с детьми?.. Или… может… одну половину тот самый колхоз отобрал… а на другой… выходит… ну да, если так, как он думает, то на другой половине его семья должна быть… Зачем колхозу под контору этакий домище? Он почти бегом, не в силах сдержаться, поднялся на крыльцо. Двери были не заперты. В сенях — запах нежилого: грязно, неприбрано и… пусто. На дверях слева и справа висели большие замки. Метка на щеке запульсировала с такою силой, что хотелось прижать ее пальцем, успокоить. Кровь ударила в голову, Федор даже покачнулся. Уже спускаясь по ступенькам вниз, понял: ноги дрожат, не держат… «Неужели из дома выгнали? — горестно думал он. — Да неужели на такое пошли… как же можно… детишек своей крыши лишать… их-то вина — в чем?.. Господи, помоги!»
Осталось навестить мать в родительском доме. И еше надежда была — там и найдет своих; если их выселили, куда им еще деваться — только к матери. Стараясь не дать боли овладеть собою, Федор буквально выскочил на крыльцо родительского дома и, уже не в силах сдержаться, тряхнул дверь за скобу — и раз, и другой.
— Кто там? — Болезненный голос матери не узнать было нельзя.
Мать первой проснулась, удивился Федор. Неужели Ульяна не слышит его приближения? Неужели ей сердце ничего не подсказывает?..
— Это я, матушка, открой. Это Федор, — чуть заикаясь, сказал он, крепко держась за дверную скобу, чтобы не упасть: он был уже на пределе сил.
— Господи… — зашептала мать по ту сторону двери, отыскивая задвижку. — Господи…
Дверь распахнулась настежь: прижав высохшие морщинистые руки к груди, в дверном проеме, согнувшись, с растрепанными волосами, стояла мать. Бедненькая ты моя… маленькая… матушка ты моя… В широко открытых глазах ее и растерянность, и радость, и тревога…
— Это я, матушка, — второй раз сказал Федор и шагнул в сени.
Мать прижалась к нему. Сухонькие, детские плечики ее тряслись — она беззвучно плакала. Федор, бережно ее поддерживая, завел в дом… и не увидел там больше никого.
У задней стены стояла с детства знакомая ему деревянная кровать. По откинутому углу овчинного одеяла видно было, что спала тут мать — и больше… никого в избе. Никого!
— Мама… а где же… Ульяна… Дети? — выдавил из себя ошеломленный Федор.
— Ты раздевайся, Федюшко… Раздевайся, дитятко, да сядь, отдохни… потом я тебе все обскажу… потом… — захлопотала мать. — Откуда тебя господь до дому привел, слава богу, вот не ждала, не чаяла…
Федор зачем-то все мял шапку в руках, все не выпускал ее. Он тяжело присел на лавку. Смотрел, не отрываясь, на мать.
— Ма-ма-а… Ответь, ради Христа… Ульяна где? Дети? Голову кружило, метка на щеке горела нестерпимо.
— Потерпи, дитятко… Все обскажу… у самой сил нету… так… сразу… — Мать шептала ответ, натягивала на рубаху старенький сарафан, она уже не плакала, овладела собой. Потом подошла и помогла сыну раздеться. Повесила его фуфайку на гвоздик, села рядышком, жалеючи погладила по руке, прижалась головою к его плечу. Старшенький объявился…
— Все расскажу, Федюшко… Ты не торопи мать… От горя глаза мои высохли… сил нету… Сердце разрывается, а слезинки не выжмешь… выгорело все во мне… дочиста, Федя… Сквозь огонь и воду прошли, так ведь досталось… И за что! Да вот… и тебе теперь надо… через горе пройти… Терпи, сынок, крепись… худые у меня вести, Федюшко… Как тебя, сокола нашего, в клетку упрятали, вскорости и Ульяну заарестовали… Да и увезли. В тот же год, еще до Троицы… Гнездо ваше, с таким трудом свитое, порушили, все накопленное добро, и дом, и скотину — все описали и колхозу отдали. Детей-то я взяла, но их тоже… в ту осень у меня отобрали… Господи, воля твоя… Ты, говорят, старая, себя смоги прокормить… А мы их в детский приют… в Деревянск какой-то… Федя-я, милый… за что ж детей отрывать! Что это за нелюди такие вокруг — этак душу выламывать?!
Мать сухо всхлипнула.
— Они мне из того Деревянска два письма присылали. Пишут: сильно скучают, горюют, домой просятся… Соседка мне те письма читала. Вон, на божнице у меня лежат…
Федор почуял внутри себя ледяное дыхание смерти. Только она, окаянная, может вот так, сразу, обдать человека холодом, да таким страшным — все в тебе в тот же миг замрет, затаится, сожмется в комочек, перестанет дышать…
— Ульяна? — только и смог произнести он, голос его дрожал.
— Дитятко ты мое… — мать опустилась, без сил, на скамью. — Родненький мой… Не перенесла она горюшка… Скончалась, бедная, безвременно…
Словно кто-то со стороны, только того и поджидавший, шарахнул Федора в грудь острым колом. Кол пробил грудную клетку, уперся в самое сердце да и остановился, смяв сердце наполовину, не давая, ему расправиться… Ни дыхнуть, ни шевельнуться — кол тут же пропорет насквозь…
Федор запрокинул голову и прижался затылком к стене. Белые его кулаки, сжатые насмерть, недвижно лежали на столе. Глаза, не моргая, вперились в потолок, ничего не видя перед собой. Тяжело тикала метка на щеке, обжигая тело старой болью. А внутри все замерло, готовое то ли взорваться со страшной силой, то ли вовсе омертветь — навсегда. Федор промычал что-то нечленораздельное, мать поняла его стон, как новый вопрос.
— В Усть-Куломе… позапрошлый год… как увезли отсюдова, так и потухла, как свечка… Царствие небесное… светлая душа… Там, говорят, и схоронили, на местном кладбище. Еще не пришлось побывать, Федя… ты уж прости. У меня ведь копейки за душой нету… Тебя ждала. Теперь уж навестим…
Слабая мысль появилась откуда-то издалека: «Побывать на могиле… обязательно… на колени встать, прощения попросить».
И ответная мысль появилась, очень ясная, простая, противоречащая той, первой: «Ежели вырваться… когда вода спадет в реке… Да ведь они до могилы меня из лагеря не выпустят… сгноят тут или в тюрьме… И детей тогда не увижу во веки веков…»
Федор уронил голову на руки, не в силах видеть, как сдвинулись стены со своего места. Чтобы не упасть на пол, он поднял оба кулака сколько мог вверх — да и грохнул обоими по столешнице — чтобы новой болью привести себя в чувство…
Всю жизнь разбили… Пошто!..
Мать сказала откуда-то сбоку, сухим голосом.
— Надо бы покормить тебя, сынок. Да прости меня, старую, нечем угостить тебя. Знала бы, что приедешь, заняла б у соседей. И сварила бы, и напекла. Пусто у меня, Федюшко… ой как пусто.
Мать в деревянной миске принесла печеный картофель, солонку.
— Вот… только и еды, Федя.
Он не шевельнулся. Мать постояла перед ним, потом мягко обняла голову сына, прижала к груди:
— Сынок… ты поплачь… оно, может, и полегшает, Федя… Не держи в себе, не держи. Ведь детишки твои кровные… они живые, поди… Гришутка… Георгий… Октябрина — вылитая мать растет… Уж ради них, Федюшко… крепись как можешь… Погоди, я к соседям схожу, крынку молока попрошу… с отдачей… как-нито — верну…
Федор оставался недвижим и молчалив.
Мать вернулась с Иваном Евстольевичем, у обоих в руках по крынке молока. Иван снял шапку, присел на лавку напротив Федора, с другого конца стола. Тот молчал, и непонятно было, видит ли он Ивана. Иван покашлял осторожно, чтобы как-то привлечь внимание Федора.
— Кха-кха… Ты, Михалыч, тоже на этом катере прибыл? Или сам?
— На этом, — медленно поднял голову Федор.
— Значит, отпустили все-таки?.. Слава богу…
— Не, Иван… Только взад-вперед… семью повидать… Как же так, Иван Евстольич?.. Бабу-то зачем порешили?..
— Сказывают… вроде бы на Ваську Зильгана… напала… Врут, поди. Меня в ту пору не было дома. Брехали, будто Васька на вашем крыльце был весь в крови. Акт, говорили, составили. Ну и увезли Ульяну.
— Как же так, Иван? — тихо спросил Федор. — Бабу ни за что обвиноватили… и никто в деревне не заступился? Это что ж мы за такой народ стали… в душу себе плевать разрешаем?
— Народ… Федор… ни при чем. Жизнь такой стала… сам видишь.
— Нее… не скажи… Это мы такие… Лишь бы меня не трогали, а остальные пропади все пропадом… — вдруг заговорил Федор в полный голос. — Если бы ни за что тебя задели, я б не смолчал…
— Это, Федя, как сказать… не обижайся. Ты, брат, помнишь, сам сказывал: власть теперь народная… наша, стало быть. Сами, мол, хозяева. Вот… дохозяевались… Власть-то оказалась не наша вовсе, а зильгановская… у свистунов — власть… И управы на них — никакой… Как же так, Федор Михалыч? Откуда что взялось, а?
Неизвестно, что бы ответил Федор, но зашла молодая девушка, обратилась к Ивану:
— Иван Евстольевич, в сельсовете тебя русский поджидает, с катера. Говорит, дело есть, серьезное.
— Кто такой, не сказал?
— Говорит, председатель ему нужен.
— Это геолог наш, из экспедиции. Сюда приехали нефть искать, — хмуро разъяснил Федор.
— Ладно, тогда я схожу, — поднялся Иван. — Но ты, Федор, худого про нас не думай. И сердца не держи. Мы, брат, нынче под таким богом ходим… под каким век свой не хаживали…
Иван вышел. Мать сказала:
— Выпил бы молочка, сынок. Парное… давно, поди, не пил.
— Давно, мама, — ответил Федор, продолжая сидеть недвижно. Сознание снова заволокло туманом, мыслей не было никаких, только метка на щеке горела, будто горящую спичку приложили да и приказали — терпи, Туланов. Взгляд его остановился на столе, на деревянной миске с картохой. Он тупо сосчитал, сколько там картошин: одна… две… три… четыре. На блюдце, рядышком, три круглых, каких-то серовато-желтых лепехи. Ну да… мать теперь христа-ради живет, подаянием соседским. Серовато-желтые, значит, с пихтовой корою. Вот до чего дожили работящие да совестливые Тулановы: старуха-мать дерево грызет… при живых-то детях да внуках…
— Агния? — назвал Федор имя сестры, надеясь, что мать сама поймет его вопрос. Она и поняла:
— Как же, помогает, если б не она да добрые люди, я бы давно с этим-то светом простилась, Федя. Еще до масленицы приезжала, два ведра картошки привезла да десять фунтов ячменя… Как же. Ведь за сорок-то верст не больно вырвешься, Федя. Да и своих у нее уже пятеро, мал мала… Это-то ладно, я жизнь прожила, чего мне теперь… Ты пей, родимый, попей молочка.
Федор встал из-за стола.
— Погоди, мама, я сначала схожу на катер, а потом уж угощаться буду.
— А и сходи, коли надобно, — легко согласилась мать, не очень еще понимая сыновью судьбу.
На берегу около катера и баржи уже собрались изъядорцы, мужики, и бабы, и ребятня, понятное дело. Все они Федору были знакомы, люди его родной деревни.
Когда он уезжал из дома в дальние края, всегда горестно скучал по родине, по землякам скучал. Бывало, вернется домой, и с каждым, кому интересно, поговорит в подробностях, на все вопросы ответит, все вопросы задаст. И с пожилыми, и с детьми. С кем в шутку, а с кем очень даже всерьез. Так и вырабатывалось общее народное воззрение на события, свидетелями которых становились люди. Хорошо или плохо. И чего ждать в будущем ежели так пойдет. И чего ждать — если этак… У людей, которые в жизни не ловчат, своими руками добывают хлеб свой насущный, — у них один интерес. И точка зрения одна. И всегда было: как вернешься из дальних краев, сердце полнится радостью при виде деревенских: свои. И он — свой.
А сегодня Федор прошел мимо, низко опустив голову и ни с кем не поздоровавшись. Сразу поднялся по сходне на катер, спустился в трюм, где были устроены для рабочих пары. Лунин еще не вернулся. Надо было дождаться его. И Федор, забившись в свой угол, попытался забыться. Но где там! Горе охватило его всего и терзало немилосердно, душа криком кричала. Сколько времени так прошло, Федор не знал. Очнулся от чьих-то шагов по трапу, осторожных, мягких. Увидел спускающиеся по железной лесенке ноги в шерстяных чулках, в старенькой кожаной самодельной обутке. Кряхтя, одной рукою держась за стенку, а другой сжимая на весу узелок из платка, появилась мать.
— Сынок… А я ждала, ждала, тебя все нету… Мало ли, думаю… не разрешили или что… — Мать положила узелок на нары, начала развязывать концы платка. — И молочка ты не попил. Как же… Вот, принесла тебе… Пелагея сегодня хлеб пекла, я рассказала, так она тебе три ячневых хлебца прислала… горяченьких… На-ко, поешь, милый…
И тут только Федор заплакал, сначала тихо, потом зарыдал в полный голос — горе прорвалось, горе вытолкнуло из горла застрявший там мертвый узел, и Федора начало трясти, безжалостно трясти всем телом, его било, словно в лихорадке, и несвязные слова бились в нем, ища выхода:
— Мма-мма-а… Нну… што-о ж это… што-о-о… За што-о… мма-ма… да как жи-ить-то тепе-ерь?.. Да где ж мы теперь… мма-ма… живем-то… госпо-ди… живое тело рвут… на ча-асти. Родных… вра-агами сде-елали… Да нужно ли так жи-ить… мма-ма! Да можно ли…
Каково матери смотреть было, как необъятное горе трепало загнанного в угол мужчину… ее сына… как горькими слезами полоскало его уже седобровое лицо… Мать села рядом с ним, узенькой сморщенной ладошкой поглаживала его колени:
— Поплачь, родненький… поплачь, сынок… полегчает…
Федор приходил в себя тяжело, медленно, трудно. Затих. Перестал вздрагивать.
— Иди, мама, домой. Я начальника дождусь. Поговорю с ним и приду. Ты не бойся, я молча не уеду. Зайду обязательно. Жди.
Мать взяла крынку с молоком и подала Федору. Он отпил несколько глотков. Пожевал хлебца. Остальное отдал обратно:
— Заверни, мать. И домой унеси. Я больше не хочу. Кормят нас здесь, ты не думай. Мы дело делаем, нас и кормят. А это себе оставь.
Он проводил мать на берег, поддерживая за локоть. А сам тут же вернулся назад и спустился вниз. Лунин пришел примерно через полчаса. Федор продумал все и сразу обратился к нему:
— Олег Петрович, разрешите с просьбой к вам?
— Конечно, Туланов, пожалуйста, — ответил главный геолог. В голосе его слышались даже нотки участия. Что-то, поди, успел прознать. Не зря в сельсовете столько пробыл.
— Олег Петрович. Мать моя, оказывается, голодует здесь… Богом прошу: дайте что-нибудь… хоть бы и в долг. Из пайка моего, что ли… сухарей там, крупы… Она дерево ест… пихту. А я и половиной пайка обойдусь, вот истинный бог — обойдусь, Олег Петрович, не откажите! И я вас не подведу, за двоих буду…
— Туланов, идем вместе, я скажу завхозу… Да, ты еще уток возьми, которых подстрелил, отдай матери. Возьми-возьми.
Федор отнес матери две утки, ржаных сухарей, пшеничной крупы, вермишель… Всего понемногу.
Из деревни выехали около полудня.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Более двух месяцев ходил Лунин со своим отрядом по лесам и речкам верхней Ижмы. Первые три недели жили в устье Чимъеля, натянув палатки на берегу Ижмы. Федор показал место: из-под кочек просачивалась и тянулось, по болоту, собираясь в заводи, тонкая жирная пленка черной нефти. Лунин и Мамедов два дня крутились вокруг этого места и твердо сказали: да, это, конечно, не простая грязь, это продукт углеводорода…
— Спасибо, Туланов, — похвалил Федора Лунин. — сильно радоваться, конечно, рановато, но если найдем здесь месторождение, возьмем и назовем твоим именем: тулановское…
Странно было это слышать Федору в нынешнем его положении.
Несколько дней ходили вдоль берега реки. Особенно долго колупали своими остроконечными молотками возле высокой белой скалы, поднимающейся прямо из воды метров на пятнадцать. Затем в двух местах приказали вырыть глубокие длинные ямы. И всё записывали, записывали в свои тетради. Потом Лунин спросил, можно ли в те места, которые ешё хочет показать, Федор, — можно ли туда проехать на лошадях. С вьюками.
— Можно, — сказал Федор, подумав. Тогда Лунин дал Мамедову бумагу и деньги и еще с одним рабочим послал в Изъядор: нанять лошадей на два месяца. Сначала Лунин предложил было Туланову поехать с мастером. Тебе, мол, там все знакомы… Но тот, к немалому его удивлению, отказался.
Федору, конечно, хотелось еще раз побывать в родной деревне, повидать мать, но боялся он встретить там ненавистного Зильгана. Рано было встречаться с Васькой, рано… Погодим пока, потом, попозже встретимся — так он решил.
Туланов посоветовал Мамедову обратиться сразу к председателю сельсовета, чтоб тот выделил им из колхозных лошадей Серко. Если, конечно, жива еще эта лошадь. Серко приучен к лесу, сам Федор его приучил. С Серко они не пропадут, надежный конь.
Вернулись Мамедов с рабочим на следующий день. Один гнал лодку вдоль берега, а другой — верхом на Серко. Федор сразу узнал коня.
Стараясь сдержать рвавшееся из груди сердце, он подошел, погладил Серко по шее. Тот повернул голову, пошевелил ноздрями, потом вдруг всхрапнул, прижал уши и мордой ткнул Федора в грудь. «Признал…» Федор угостил Серко сухариком.
Так они теперь вдвоем и ходили. На Серко навешивали тяжелые тюки: палатки, запасы провизии, кое-какой геологический инструмент; лошадь исправно несла свою службу. Побывали на Сухом болоте. И в верховьях Нибели. Натоптались.
Обратно Лунин собрался уже в конце июля. До Изъядора его проводили на лодке. Но еще до выезда, на одной возвышенности, верстах в двух от устья Чимъеля они с Мамедовым топором забили столбик. Одну сторону его обтесали и чернильным карандашом вывели:
«Скважина № 1. Июль 1931 г.».
— Вот, — торжественно сказал Лунин, — здесь забурим самую первую. И пускай она будет счастливой.
Постояли на месте будущей скважины. Лунин наметил, что делать остающимся до приезда буровой бригады. Здесь, на месте скважины, снять лес вокруг на сто метров, чтоб поставить вышку и обустроиться. Весь подходящий лес собрать для строительства.
— Вас сюда послали, думаю, не на один год, — добавил Лунин. — Будем искать нефть, пока не найдем. Не ждите, времени не теряйте, начинайте строиться. Жилье человек на двадцать пять. Туланов, ты дома строил?
— Приходилось. Деревенские…
— А городские нам тут ни к чему. Вот, давай, будешь за десятника, и строитель, и конструктор, и прораб. А за старшего до приезда мастера остается Мамедов.
Начали обустраиваться. Буровая бригада, двадцать два человека, во главе с мастером Семиненко прибыла на двух больших плоскодонках в начале сентября. Вода к тому времени спала, как ей и полагается летом, и они от Дзолью подымались целый месяц. Федору не привыкать жить в лесных, походных условиях. Охотничья избушка, шалаш, а то и два зимних костра с ночевкой между ними — под открытым небом, в снегах… как тогда, когда подфартило ему взять рысь. Но тут не в удобствах дело, не в них. А в том, чего ради человек все это терпит. Лишает себя крыши, над головой, чистоты тела, нормальной еды, отдыха… Ради чего? Ради ближнего своего, которому от твоего долготерпения станет лучше, сытнее — да. Ради этого стоит терпеть. Ради себя только — ну, это спорно: иногда и ради себя можно, а иногда такою целью и пренебрежешь, невелика беда.
А тут, в «командировке» на буровой… Тут деваться некуда. Хочешь ты, не хочешь — тебя не спрашивает никто. Надо. И все. Все объяснения. И выбора нету. А коли выбора нет, то в таких случаях остается у человека одно спасение, одна самозащита: жить не думая, терпеть бесслезно, работать — и глушить себя этой самой работой так, словно и нету ничего на земле иного…
Это, пожалуй, закон всякой неволи. И, подумав, решил Федор Туланов, что и в самом деле нет у него иной жизни, кроме как жизнь в работе. Срок ему определили немалый, сколько-то этого сроку он отмотал, сколько-то осталось. Искать справедливости… нет, он давно понял, что там, за пределами зоны, за лагерной проволокой, никто не заинтересован в его досрочном освобождении. Никто там правды для него, Туланова, не ищет и не станет искать. Перегибы объявили… вовсе не для того, чтоб — разогнуть. Оно, конечно, может, и накажут кого, для видимости, для блезиру… Но кого посадили, тот отсидит. И ладно еще, если в лагере не добавят… Вот этого надо бояться. Добавки. Надо так жить и так работать, чтобы ни у кого и мысли не возникло: добавить.
Федор Туланов так и зажил теперь. С одной только мыслью в голове: освободиться после конца срока, освободиться вчистую, безоговорочно, с документами. Найти детей. Собрать их снова в семью. Взять к себе мать, чтобы не жила крохами с чужого стола… А там видно будет. Можно будет жить в своем доме, в своей деревне — станет жить. Не можно… ну что ж, поселится в лесной избушке, самой дальней. С лесным зверем станет из одной миски хлебать, но из детей людей вырастит. Таких же, как он сам, как Ульяна, как отец-мать. Честных, простых, надежных.
Итак, он начал рубить лес вокруг будущей буровой. К концу дня только и мог, что до топчана дотянуться да и забыться мертвым сном. И потом, когда бурили скважину, Федор не оставлял к вечеру в себе никаких сил: лишь перекусить — чтобы можно было назавтра подняться и спать, спать, провалиться в сон, как в единственное спасение. Чтобы не оставалось ни места, ни времени на терзающие душу мысли. Чтобы не думать о могиле Ульяны… последнем ее прибежище… к которому он не смог даже руки приложить, чтобы хоть там-то ей было покойно…
День за днем, месяц за месяцем жил Федор только работой. Но и ждал весточку от детей. Еще с Луниным он послал письмо в деревянский детдом. И теперь ждал ответа. Вместе с ответом должна была прийти и уверенность: что живет он единственно правильной, единственно праведной жизнью — ради детей живет.
Целый год миновал, как послал он письмо. И вот, наконец, пришел ответ. Федор дрожащими руками вскрыл конверт, ему адресованный. Ожидал увидеть нетвердые детские каракули, а тут строгий почерк человека, который точно знает, чего он хочет от окружающих:
«Гражданину Ф. М. Туланову. Сообщаем вам, что письмо ваше, адресованное братьям и сестре Тулановым, дирекция детского дома получила. Да, Григорий, Георгий и Октябрина Тулановы находятся в нашем детдоме. Попали они сюда только потому, что их родители стали кулаками и выступают против Советской власти. Советское государство само взяло на себя все заботы по их воспитанию. От вас долго не было никаких известий. Но мы, их воспитатели и учителя, просим вас и в дальнейшем — воздержаться от посылки писем в их адрес. Не надо будоражить сознание детей и тревожить их сердечные раны. Дети не виноваты в том, какие у них родители. Я запретила передавать ваше письмо детям. Пусть растут спокойно, без ненужных волнений — и вырастут преданные делу Революции и большевистской партии люди. Дети за отцов не отвечают.
Директор детдома Потолицына Е. А.»
Ну, кажется, после всего пережитого и сам Федор Туланов мог сказать: да нету ничего на свете выносливее и крепче человека. Любую боль и любую муку может вынести, чего судьба ни определит…
Но тут… получив письмо, крепенько закусил Федор губу зубами — чтобы не наделать делов. Охватило его такое неистовое желание бить, ломать, рвать… С громадным трудом усидел он на месте, не сорвался, не натворил этих самых делов…
И только преодолев — огромным усилием воли преодолев мгновенное ослепление гневом, Федор загрустил: это что же за бабы такие пошли?.. Это ж какой бессердечной надо быть, чтобы такие слова написать человеку, да еще в неволю… И кто ж ей такие права определил, если она этакое писать не стесняется? И чему, скажите, люди добрые, чему такой человек может детей научить, оставшихся без отца, без матери?..
Нет, сколько пережито, сколько крови отдано, сколько слез пролито и в себе сожжено, но не мог Федор Туланов осознать своим простым крестьянским умом: до какой же степени человеческого бессердечия может дойти женщина, да еще почитающая себя воспитателем и учителем…
Нe укладывалось у него в голове!
Старшему майору Гурию о своей поездке в верховья Ижмы Лунин рассказывал в настроении весьма приподнятом.
— Думаю, Илья Яковлевич, с изысканиями в верховья Ижмы мы вышли очень своевременно. Как приехали туда, даже самое первое, поверхностное знакомство с районом дало весьма обнадеживающие результаты, у меня, например, появилось твердое мнение, что нефть там есть и мы найдем ее.
— Даже так? — недоверчиво улыбнулся Гурий.
— Совершенно так. Найдем. А глубоко ли она прячется — покажет бурение. Я на Чимъеле определил точку, где начнем бурить первую скважину. Она-то и даст нам картину залегания пластов, подскажет, в каком направлении искать. Должен сказать, что и те две точки, которые показал ваш охотник, тоже прямо говорят о большом подземном резервуаре… Тьфу-тьфу, не сглазить бы… Одним словом, я очень доволен поездкой.
— Хорошо, когда есть на что надеяться. Ну, а как показал себя, как ты говоришь, мой охотник Туланов? Твой проводник?
— С самой лучшей стороны. В работе себя не жалеет. Родные места подействовали на него удивительно: может без отдыха, без еды, если нужно, сутками ходить по тайге. Берется и делает любую работу. Ну… просто идеальный помощник в любой экспедиции. Да, я заходил в сельсовет. Говорил с председателем, кажется, Иваном Евстольевичем. Если ему верить, а мужик он, похоже, бесхитростный, то нашему Федору Михайловичу… — как бы точнее выразиться?.. — сильно не повезло.
И Лунин пересказал Гурию свой рассказ с Уляшевым и о первом собрании, когда записывали в колхоз, и о втором, когда снова записывали, уже тех, кто не хотел записываться на первом. И о жене Туланова, о детях, о матери…
Показал справку, которую выдал ему Иван Евстольевич о хозяйстве Федора Туланова. Справка была на листке из школьной тетрадки. Гурий долго читал ее.
«Справка. Дана в том что крестьянин деревни Изъядор Туланов Федор Михайлович, рождения 1891 года, действительно тут проживал. До 1929 года апреля месяца. Семья Ф. М. Туланова была: жена Туланова Ульяна Ивановна, 1900 г., сын Григорий, 1919 г. сын Георгий, 1921 г., дочь Октябрина, 1923 г.
Другое козяйство крестьянина Туланова было: дом пятистенный — один (три комнаты, сени, сарай-сеновал), амбар — один, овин — один, гумно — один, лошадей — две, корова — одна и теленок — один, бык-производитель — один, водили на две деревни.
Также справка дана, что Туланов Федор Михайлович в 1917 году кронштадтским матросом делал революцию и штурмовал царский Зимний дворец, а в 1918 году в деревне Изъядор был председателем комбеда и состоял в красном партизанском отряде, для которого добыл в Усть-Сысольске оружие. Все время проживания в деревне он охотничал и крестьянствовал в своем козяйстве один с женой Ульяной, а помогали им малые дети, как положено. Эксплуатацией не занимался никакой, чужой труд не использовал. Жил хорошо, не дрался. Советскую власть никогда не ругал и против не выступал. В чем подписываемся и печатью заверяем.
Председатель Изъядорского сельсовета И. Уляшев. Секретарь М. Уляшева».
Гурий отпустил старшего геолога и некоторое время еще сидел и смотрел на справку. Потом, не откладывая, написал от своего имени письмо в Сыктывкар уполномоченному по внутренним делам: просил пересмотреть дело Туланова Ф. М. с целью исправления допущенного перегиба и освобождения Туланова из мест заключения. В том же письме Гурий сообщил дополнительные сведения об этом человеке: как в 1907 году Ф. Туланов помог бежать политссыльному большевику Гурию и провожал его по безлюдным местам коми тайги на протяжении сотен километров. А в текущем году, будучи осужденным по статье, указал для пользы Советской власти и ее поднимающейся экономики весьма важные места выхода природной нефти и газа, что ускорит промышленную разработку их месторождений. К своему письму Гурий приложил характеристику на Туланова, подписанную начальником третьего отдела, и справку Изъядорского сельсовета про тулановское «козяйство».
Когда установилась санная дорога, старший майор госбезопасности, подумав, отправил вместе с грузом для чимъельской командировки, специально в Изъядор для Тулановой Марии Анисимовны, мешок ржаной муки, три кило сахару, четыре пачки чаю.
Стоимость продуктов Гурий оплатил в кассу экспедиции из своей зарплаты. Федор Туланов об этом подарке матери в известность поставлен не был.
Перед Новым годом пришел ответ на обращение Гурия, но не из Сыктывкара, который стал столицей края, а из Москвы. Ответ был такой:
Старшему майору госбезопасности тов. Гурию И. Я.
Вы направлены для организации поисков и добычи нефти из недр земли. Категорически запрещаем вмешиваться в дела местных административных, советских и партийных органов с целью ревизовать их действия. Подобные незрелые поступки могут вызвать нежелательный политический резонанс со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Письмо было подписано заместителем наркома… Гурий долго смотрел на знакомую подпись. Товарищи из Сыктывкара вместо того, чтобы по существу рассмотреть его просьбу, нажаловались в Москву в наркомат. Несолидно.
А на что, собственно, он рассчитывал? На их встречный восторг? На немедленное стремление опровергнуть самих себя?
Так, понятно. Мы пойдем другим путем, как сказано в Писании…
Ответ на свой запрос старший майор Гурий положил в самый дальний угол сейфа.
Не мог он тогда еще знать, даже предположить не мог, что его попытка освободить невиновного, а позже все же — досрочное вызволение Туланова, ударника труда, из неволи будут расценены как защита «кулацких» и «контрреволюционных элементов» и через несколько лет это будет стоить ему собственной жизни.
А в Чимъельской командировке дела шли ни шатко ни валко. Мастер, конечно, старался и подгонял и хотел поскорее приблизиться к нефти. Экспедиция торопила мастера, а он — бригаду. Все так. Но северная земля не спешила отдавать свои скрытые богатства. Видать, не нравилось ей, чтоб ее без конца долбали, дырявили. А долбили и долбали целыми сутками напролет. Это — когда все ладилось. День и ночь на буровой скрипело, стучало-грохотало. Металл об металл. Дерево об дерево. Но если что-то ломалось, на буровой устанавливалась долгая тишина. Простой болт полетит — а ехать нужно аж на самую Дзолью: летом на лодке больше недели плыть да обратно подыматься — того дольше. В итоге какой-нибудь паршивый болт, которому не было замены, оборачивался полумесячным стоянием. В такие вынужденные остановки мастер Семиненко (по предварительному приказу экспедиционного начальства) умел занять людей, бездельничать не давал. Так и начали рубить сквозь тайгу широкую трассу на Сухое болото. Для зимника. Чтобы в снегах не мучиться, когда приспеет перебираться туда, на Сухое.
А однажды трехметровый шкив балансира — бес его попутал! — соскочил с вала да еще и от широкой ленты, на него накинутой, освободиться сумел. Шкив весом в десятки пудов сорвался и легко снес угол барака. Затем, подпрыгивая, пошел, пошел-покатился вниз, прямо в ручей, в Чимъель, это метров триста, никак не меньше. Да там и завалился. И вот, поди, поверь: на своем пути эта махина только за угол барака и задела, а больше, на всем протяженье — не тронула ни единого толстого дерева. И все это — в минуту единую! Зато обратно его водворяли целые сутки. Двадцать человек, словно муравьи, облепили проклятое колесо со всех сторон и катом катили его вверх по косогору, уцепившись за веревки, подпирая вагами, матерясь и выворачивая суставы…
Но постепенно в землю вгрызались все глубже и глубже. А стало быть, все ближе к нефти. Такая надежда была. Федор Туланов примирился с судьбой, успокоил себя неотвратимым решением — работать и ждать окончания определенного ему срока страдания. Он окаменел сердцем и весь отдался черной работе. Прикрываясь ей как щитом от всех бед подневольного времени.
Будет ли конец? Ведь пять лет уже минуло, как тянет он лямку, которую — нет, — не просил у судьбы…
Мог ли Федор подумать, что конец его страданиям как раз и был тут, в забое той скважины, которую бригада пробивала к нефти… И конец этот начался пугающим грохотом и сильнейшей вонью сероводорода.
Непонятные, тревожные звуки Туланов услышал часа через два после начала своей смены. Скважина, словно живое существо, стала вдруг недовольно пыхтеть, вздыхать, подергиваться… Сильно пахнуло неприятным запахом, Федор и без того терпеть не мог этого духа, а тут хоть святых выноси…
Туланов уже больше года работал ключником, такого чуда на его памяти еще не было. Он послал рабочего за мастером и геологом, а сам, с другим подсобником, спешно подцепил буровой канат, чтобы поднять инструмент. Но не успели они и половину длины бурового каната намотать на барабан, как прямо над ухом — дуплетом — бабахнули из орудий главного калибра…
Прямо па глазах из скважины вдруг вынесло длинный черный снаряд… и верхней половины вышки словно бы вообще не бывало: выскочивший из-под земли страшный зверь снес всю верхнюю часть вместе с закрепленным там кран-блоком и тартальным роликом.
В лицо Туланову, в грудь полоснуло жесткой грязью, тухлыми яйцами, удар был тяжелым — Федор отлетел в сторону сажени на две. Там же оказался и его подсобник. Не успели подняться с пола, скважина заревела вторично у Федора душа в пятки ушла. Он только и смог крикнуть:
— Пош-шел отсюда! все! скорей!
И сам своего голоса не услыхал — скважина ревела уже без перерыва. Но людям повторять не пришлось: всех словно вымело с буровой. Побежал за ними и Туланов. Уже в лесу, довольно далеко от вышки, они встретили Семиненко, Мамедова и всех остальных свободных от вахты.
— Живые?! — закричал мастер, и что-то вроде радости обозначилось на его растерянном лице.
Туланов остановился и обернулся назад. Из-под остатков буровой вышки, саженей, поди, на пятьдесят, не меньше, поднимался к небу голубой столб-фонтан… Это было необыкновенно красиво и жутко. А в основании фонтана, там, где должно было быть устье скважины, — там ревело и завывало, да с такою страшною яростью, будто силком загнали туда сотню медведей во время течки…
— Что же это? — только и спросил Федор.
— Кажись, в нефтяной пласт врезались! — стараясь перекричать рев буровой, ответил Семиненко. И длинно, замысловато выругался:-…мать так и этак… Не успели подготовиться! Как мы теперь такой фонтан задавим?..
— А где же нефть?! — недоумевал Туланов. — Нету же?
— А вот этот газ поверх пласта весь вылетит, за ним и нефть пойдет! — пообещал мастер.
— Нет, ребяты… вряд ли, — покачал головой геолог. — Такой газовый фонтан… впервые вижу… Похоже, братцы, мы врезались в газовое месторождение…
— А-а… — схватился за голову Семиненко. — Ле-еша-ак машина! Да ежели он загорится — все ж пропало! Тут до конца своих дней не потушишь…
— Зачем же загорится, если сами не подожжем? — удивился Туланов отчаянию мастера. — Радоваться надо…
— Обрадуешься… Да камешек покрепче вылетит из скважины, чиркнет по металлу… вот тебе и пожар! А его разве потушишь? Ты глянь, какой напор!
— Давление… сверх меры… — сказал геолог. — Надо бы смерить…
— Чем тут смерить?
— Да хоть «вертушкой» своей…
— Вертушкой… да с нею теперь близко к скважине не подойти, — сомневался Мамедов.
— А давай я попробую, — решился вдруг Туланов. — Была не была. В мою смену он, лешак, вырвался, мне его и мерить.
В завывающую буровую Федор заходил, словно в самом деле — к сотне медведей в гости… Мурашки поползли по спине… если бы не десятки глаз там, сзади, наблюдающих из леса, повернул бы вспять. Он попробовал смерить силу газового фонтана, но сразу стало страшно: кроме оглушительного рева внутри буровой там, по кругу, метался сильнейший ветер-вихрь, словно попал в западню и искал выход… Когда Федор подошел к газовому столбу, рвущемуся из-под земли, ему показалось, что вот этот столб сейчас затянет его и — выбросит вверх, на стометровую высоту… Он хотел было сунуть вертушку в ревущий столб, но она словно в кирпичную стену ткнулась, вырвалась из рук и улетела в небо. И снова Федор убежал с буровой.
Мастер установил вокруг буровой круглосуточное дежурство, попеременное, но в первую ночь никто в барак не вернулся: боялись пожара или еще неизвестно чего… Ежились в лесу промеж деревьев.
Ни на второй ни на третий день газовый фонтан не утих, и голос его не ослабел. Бригада начала к нему даже привыкать, хотя тревога, конечно, не покидала. Буровой мастер строго-настрого предупредил, чтоб в окружности на километр никто не смел зажигать никакого огня, ни одна искорка не должна выскочить ниоткуда… Работников котлопункта со всеми их котлами и плитами отправили на берег Ижмы. А вечером третьего дня Семиненко вызвал в свою конторку Туланова:
— Тебе, Федор, и только тебе могу поручить… Доставишь в Дзолью срочное донесение: что здесь стряслось. Вот пакет, тут все по-научному. Отдашь Лунину, либо Криволапову, либо самому Гурию. Понял?
— Как не понять.
— Бери в помощники кого хочешь, Федор. Бери пропитания на двое суток. И чеши — одна нога здесь, другая — там. Ждать нам больше нечего, слышь как ревет… Ешьте — пейте по очереди, спите по очереди, но чтоб как можно быстрее. Понял?
— Понял, конечно.
— Да ни черта ты, Туланов, не понял! — вдруг заорал мастер, давая волю нервам, натянутым вот уже который день. Большое мы богатство нашли, Туланов! Очень большое! Да только не в радость оно. Мы здесь как на пороховой бочке сидим. И я ничего не могу сделать без помощи из Дзолью. Срочная помощь нужна, самая срочная, понимаешь? Теперь от тебя зависит, как быстро они нам помогут.
— Я с собой Ветошкина возьму, он умеет на шестах по реке… Мы на завтра и откладывать не будем, сегодня пойдем. Июнь, слава богу, ни фонаря не надо, ни луны. Еды нам сделайте побыстрее, да и двинемся…
Семиненко и Мамедов проводили посланцев до лодки. Туланов гнал день и ночь. Отдыхать ложились по очереди в носу лодки на старенький бушлат да таким же бушлатом прикрывались сверху. Федор впервые подумал: интересно, сколько же верст от Чимъеля? Двести пятьдесят? Триста? Господи, да кто тут считал… Если без особой спешки, по-человечески, то туда и обратно плавают по полмесяца. А тут управились за ночь, день и еще одну ночь. Устали, конечно, здорово, особенно досталось им от устья Ухты, когда пришлось идти вверх на шестах.
Как пришли в Дзолью — глаза вытаращили, отсюда три года назад отплыли, теперь не узнать — как все переменилось. Сколько вышек торчало и на левом и на правом берегах. А домов-то сколько, домов!.. Целый город успели выстроить. Сразу выйти на берег сил не было, причалили и тут же, в лодке, не спеша поели. Здесь их никто не ждал, и, стало быть, стол им никто не накроет.
Договорились: Федор найдет начальство и передаст пакет, а Ветошкин, чтобы никому глаза не мозолить, тут и останется, будет караулить лодку, да здесь и отдохнет, на бушлатах. Лодка, как ни говори, принадлежала буровой бригаде, глупо было бы «подарить» ее какому-нибудь проныре…
Фуфайку и зимнюю шапку Туланов оставил в лодке, пошел искать начальство в одной куртке. Искать-таки пришлось, контора переехала. И оказалась в чудном, с тремя длинными крыльями, разузоренном здании, построенном между высокими соснами. Дом был весь деревянный, но умельцы приложили руки — и наличники, и свесы, и полотенца деревянные — картинка, а не дом. Экспедиция, судя по всему, помаленьку уходила от эпохи бараков. Федор прошелся по одному длинному коридору, думал, может, кого знакомого встретит. Нету. Затем по другому, такому же длинному. И там — никого. Он открыл дверь с табличкой «Геологическая служба». В небольшой комнате было четыре стола. Сидели какие-то незнакомые мужики, носы в бумагах.
— Лунина бы мне… Олега Петровича… — спросил Туланов.
Один поднял голову, внимательно смерил Федора взглядом. Кивнул на еще одну, внутреннюю дверь:
— Олег Петрович там, у себя.
Туланов ладонью пригладил лохмы на голове и приоткрыл указанную дверь. С того времени, когда они вместе бродили по лесу, ведя Серко на поводу, Лунин к ним в бригаду больше не приезжал. Но Туланов узнал его сразу. А вот Лунин долго смотрел на него, видно, пытаясь вспомнить, где видел. Бывает же такая скорая память…
— Кажется… из Чимъеля? Туланов… так?
— Туланов, — кивнул Федор. — Пакет я вам привез, Олег Петрович. Срочный.
Лунин сначала вышел из-за стола и за руку поздоровался с Тулановым. Заулыбался, видимо, вспомнил по-настоящему.
— Садись, Федор… Михайлович вроде? Рассказывай, какие новости у вас в Чимъеле. Что хорошего?
— Так чего рассказывать, Олег Петрович… Все хорошее — в пакете, вот. Там же и все плохое.
Лунин изменился в лице.
— Вот как… Посмотрим… — и вскрыл пакет. Прочитал он очень быстро и сразу заторопился:
— Идем, Туланов. Надо срочно доложить Гурию. — И тут же вышел из кабинета, уверенный, что Федор идет следом.
Проходя через первую комнату геологов, Лунин бросил помощнику:
— Мальцев! Найди Криволапова. Срочно. Хоть из-под земли. И скажи, чтоб бегом бежал к Гурию. Все бросай, Мальцев! Беги!
И сам почти бегом понесся по коридору, не оглядываясь, на Федора. Лишь перед тем как войти в кабинет начальника экспедиции, обернулся и коротко приказал:
— Жди здесь.
Из коридора теперь не сразу попадали в кабинет к старшему майору госбезопасности, как было в том, первом, бараке. Теперь сначала надо было пройти предбанник, где ожидали приема. Тут сидел помощник Гурия, молоденький такой, в гимнастерке. Вдоль стен цепочкой стояли стулья. Федор не стал ждать приглашения, сел. Через короткое время появился Криволапов, очень озабоченный, и, не глядя по сторонам, прошел в кабинет Гурия. Секретарь в гимнастерке слова ему не сказал, только проводил взглядом. А вскоре показался Лунин и кивнул Федору: зайди.
Гурий поздоровался с ним тепло, но коротко, пригласил сесть за длинный стол под зеленым сукном.
— А ну-ка, Федор Михайлович, расскажи своими словами, как там у вас складывается…
Туланов рассказал о случившемся, ему легко было рассказывать — сам всему был свидетелем. И как скважина сначала заскворчала, а потом грохнула да и снесла верхнюю половину вышки. И как взлетел в небо голубой фонтан, который вблизи был обыкновенный, серый. Почему вблизи?.. Да как сказать… а, ну да, Федор же сам вызвался померить давление у того столба. Сунулся туда с вертушкой. Как — какое? Да унесло ту вертушку, к чертовой, извините, матери… Он твердый был, этот серый и голубой столб газа. Как дерево — твердый.
— Как отплыли от Чимъеля, — уточнил Федор, — около часа еще слышно было, как гудит…
Гурий слушал рассказ Туланова, прохаживаясь по кабинету, большие пальцы рук он засунул под ремни, голову наклонил, слушал внимательно. Федор, рассказывая, следил за ним, поворачивая голову.
— Ну, главные спецы, что скажете? — Гурий остановился у стола и строго посмотрел на Криволапова и Лунина.
— Судя по докладной… и по рассказу Туланова… мы открыли месторождение газа. Это большой успех, Илья Яковлевич. Но открытый фонтан — это и громадная опасность. Да к тому же под большим давлением…
— Как закрывать станем? — спросил Гурий. Криволапов ответил неуверенно:
— В Баку мне приходилось задавливать открытые фонтаны. Но — нефтяные, и не слишком большого давления. А тут газовый да еще… твердый… Пока не знаю. Ясно только одно, надо задавить его как можно быстрей.
— Что нужно для этого?
— Насосы высокого давления. Остальное там на месте найдем.
Гурий подумал:
— Полдня тебе сроку, Иван Васильевич. Быстро готовь оборудование и людей. И сегодня после обеда отправляйтесь в Чимъель вместе с Тулановым.
— Люди в Чимъеле есть… А вот толковый механик по насосам мне понадобится. Прикажите, чтобы выписали пропуск, — попросил Криволапов.
— Сам отбери, кто тебе нужен. Скажи Климкину — пусть по твоему списку даст пропуска, а я подпишу. Пусть подберет бурлаков, лодки придется тянуть. Сколько километров до Чимъеля по воде?
— Двести шестьдесят пять намерили, — сказал Криволапов.
— Так… Можно лошадьми подыматься вверх по течению по десять километров в час? — спросил Гурий. — Думаю, можно. Если расставить лошадей по реке, чтобы была замена, можно и быстрее. Две лошади тянут, две идут выше и ждут. И так — сменяться все время. А? Посчитайте, сколько сменных лошадей, сколько людей понадобится. И возьмите столько, сколько нужно, чтобы не останавливаться ни на минуту. А перед людьми поставить задачу в приказном порядке: через сутки быть там.
— Илья Яковлевич… двести шестьдесят пять километров… за сутки… невозможно, — покачал головой Криволапов.
— На сменных лошадях? Еще как возможно! Отберите надежных людей. О стимулах подумайте. Дополнительный паек. Пропуск на вольный выход. Словом — давайте ваши предложения. Сами же головой качаете: большая опасность загорания… Так — спешите! Ладно: срок — тридцать шесть часов. И ни минуты больше. А сами завтра же полетим на гидроплане. Найдется там плес для приводнения? — обернулся к Туланову Гурий.
— Есть плес… прямо к устье Чимъеля начинается, с километр длиной. Если хватит, конечно…
— Триста метров ему хватит. Все. Готовьтесь. Ты, Иван Васильевич, распорядись, чтобы Туланова и его напарника накормили. И провизии с собой взять на двое суток. Не больше! — жестко приказал Гурий. — Если подымутся за сутки, то суточную норму отдать людям как призовой фонд. Все разошлись готовиться.
…На двух груженых лодках плыли до устья Ухты, а там уже поджидал их первый верховой. Лошадь была в хомуте, ездовой сидел в седле. Позади большой груженой лодки поставили ту, на которой Туланов приплыл из Чимъеля. К поперечине, укрепленной в середине первой лодки, привязали крепкую пеньковую веревку, а другой ее конец — к гужам хомута. Механика по насосам усадили в заднюю лодку, а Туланов с Ветошкиным, с шестами, забрались в первую, груженую. И начался «марш-бросок». Не столько, конечно, марш, сколько — бросок. Шли, не останавливаясь ни на минуту, только перепрягали лошадей. И кто поверит, что с устья Ухты до Чимъеля можно подняться за сутки! Да никто бы никогда, из самых даже опытных охотников и рыбаков местных — не поверили бы. А вот поди… Лошадино-лодочный отряд прибыл на место на второй вечер, сразу после захода солнца. Прикинули: получилось — за сутки и девять часов одолели этакую силу километров…
И вряд ли кто особо думал про «стимулы», это уж Федор позже сообразил. Не до стимулов было. Узнали: гидроплан прилетел днем и уже улетел обратно. Гурий был лично и тоже уже улетел. А Лунин и Криволапов ждали, дождались, сразу начали командовать разгрузкой насосов и отправкой всего оборудования к буровой.
И еще две недели Криволапов руководил буровиками, ликвидировал аварию. И ведь задавил фонтан! Успокоил и заковал в железо.
Металлическую заглушку Иван Васильевич затянул сам, выпрямился и вытер рукавом рубахи пот с высокого лба. Довольный, погладил пышную бороду. Затем обнял Лунина, тот стоял рядом.
— Поздравляю, Олег Петрович! Газовое месторождение в наших руках. Показывай, где бурить новую скважину…
Через час собрались все вместе, геологи и рабочие. Сказали нужные речи. Взяли правильные обязательства. Поздравили друг друга с победой. Лунин точку забуривания показал почти рядом с первой скважиной. Но сто пятьдесят метров южнее. Там опять установили столбик. И затесочку сделали. И чернильным карандашом написали про скважину номер два… Как простенько все поначалу, почти по-детски. И как долго, серьезно надо работать, чтобы закончить надежной заглушкой…
В тот же вечер Лунин с Криволаповым уплыли. До конца августа никто бригаду не тревожил. Они готовились забуриваться на новом месте. Но однажды над Чимъелем снова прошумел гидроплан, сделал круг и сел на плес. Семиненко побежал к реке встречать начальство. Оттуда возвратились уже впятером: сам Гурий, Криволапов, летчик и какой-то незнакомый молодой парень в шинели и с портфелем. Всех созвали в жилой барак, на собрание. Выступил там Гурий.
— Я хочу сказать всем: наша экспедиция за короткое время открыла два нефтяных месторождения. А здесь мы нащупали богатое газовое. Это ваша большая заслуга и ваша победа. Советское правительство высоко оценило вашу работу. Те, кто особо отличился в поисках и добыче подземных богатств северного края, отмечены наградами. Среди награжденных в вашей бригаде хочу назвать Туланова Федора Михайловича…
Федору стало зябко.
— Это Туланов указал нам газовое месторождение и, значит, ускорил его открытие. Заслуга очень, очень серьезная. Да и работал он не жалея сил, ну, сами знаете, не мне вам рассказывать про вашего же товарища.
Долгонько их тут никто «товарищами» не называл… А Гурий продолжал:
— За эти заслуги правительство пересмотрело и сократило Туланову Федору Михайловичу срок пребывания в заключении до пяти лет и четырех месяцев. И уже со второго августа этого года Туланов Федор Михайлович освобожден от дальнейшего несения наказания по статье, которая ему инкриминировалась…
У Федора помутилось сознание. Он прикрыл глаза и прислонился затылком к стене барака.
— Одновременно Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет наградил Туланова Федора Михайловича почетным знаком «Ударник-ухтинец» и ста пятьюдесятью рублями. А экспедиция выплачивает заработную плату за август, которая ему причитается как свободному человеку: это еще пятьдесят рублей. Федор Михайлович, подойди-ка сюда, — попросил Гурий. А у Федора ноги отказали, не мог встать…
Потом подошел. Медленно, неуверенно. Гурий передал Федору расписную грамоту, маленькую коробочку со значком, книжку-удостоверение и конверт. Подчеркнул:
— Вот здесь, Федор Михайлович, справка. По ней тебе в любой раймилиции выдадут новый паспорт. И крепко пожал руку. Такие же знаки и справки об освобождении выдали мастеру Семиненко и Кузьме. Но Туланов все это уже плохо слышал и видел. Хотелось немедленно побежать в лес… А ноги совсем отнялись. Только одна мысль стучала в голове: «Воля… Господи, свобода… Хоть сегодня можно уйти… Вот оно, и не надо больше ничего в жизни, только бы свободным стать…»
Гурий попросил Федора проводить его до речки, сразу после собрания он уезжал. Туланов подошел к нему на улице.
— Ну, Федор Михайлович, как себя чувствуешь? — Гурий прищурился и слегка улыбнулся.
— Да вот… не знаю пока, — признался Федор. — Боюсь, не снится ли мне…
— Слишком хорошие сны хочешь видеть, — похлопал его по плечу Гурий. — Что думаешь дальше делать?
— Еще не успел… Одно знаю: сразу пойду искать могилу жены. Найду, поклонюсь. Потом детей отыщу, прощения у них попрошу. Хоть и не по своей воле покинул их, а все-таки… виноват.
— Найди, Федор Михайлович, сделай как совесть велит. А потом возвращайся обратно. Ты сейчас бурильщик квалифицированный, дальше можешь и мастером стать. Хорошие работники нам нужны. Будем здесь города строить…
— Юрий Иванович, — повернулся Гурий к провожавшему его Семиненко. — Туланова одеть и обуть. Во все чистое. Нельзя уходить в люди в рабочей робе. Давайте высоко держать марку экспедиции…
— Сделаем, Илья Яковлевич, — пообещал бурмастер. Его и самого покачивало от радости. Гурий попрощался с ними на крутом берегу Ижмы. Крепко пожал руки. Сказал Федору:
— Где меня искать, знаешь. Потребуюсь — приходи. Будь здоров, Федя. Сделал для тебя все, что мог. Рад, что получилось.
И Гурий спустился к ожидавшему гидроплану. Самолет сильно завихрил гладкую поверхность воды, разогнался и плавно оторвался от реки. Исчез за кромкой леса. Яркое солнце снова поднялось в небо, согрело Федора. Назавтра он уйдет. Федор договорился с Кузьмой, чтобы тот передал матери письмо и деньги. И все другие написали письма и отдали Кузьме, чтобы он, наклеив марки, бросил их в «вольный» почтовый ящик. Мастер выдал Федору новую одежду. Дорогу Федор хорошо знал; отсюда выйти прямо на старый зимник и — пешком — на Кыръядин…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
В Усть-Куломе Туланову все дела нужно было решать сначала в милиции: выправить новый паспорт, узнать про Ульяну, расспросить про детей. Он сразу и пошел туда. За столом сидел щеголеватый молодец, перепоясанный портупеей поперек груди, наискось. Нельзя сказать, чтобы он чересчур дружелюбно встретил Туланова. Оценил взглядом, спросил:
— Чего надо?
Туланов вынул из внутреннего кармана справку, подал бумажку нахмуренному молодцу.
— Паспорт надо.
Федор никогда ни перед кем не заискивал, не вилял голосом. Смотрел твердо и прямо. А теперь… тем более, теперь он точно знает, чего хочет.
Молодец за столом долго читал справку, видимо, ища чего-то промеж строчек. Не нашел, глянул на Туланова.
— Кулак, что ли?
— Крестьянин. А больше охотник.
— Просто крестьян теперь нету. Есть колхозник, единоличник или кулак. Так ты — кто?
— Я нынче бурильщик с дипломом, вот я кто. Больше пяти лет не был в деревне. Нефть искал.
— Нашел?
— Да, нашел. И нефть нашел, и газ нашел.
— Ишь ты, какой прыткий…
— Точно так, прыткий и есть. За прыткость досрочно освобожден. Срок сократили на три года.
Портупейному молодцу явно не нравилось, как разговариваёт с ним Туланов. Без особого почтения разговаривает.
— А теперь куда?
— Пока сюда. Жена здесь скончалась… Хочу могилу найти. И дети здесь, неподалеку…
— А дальше? Дальше-то, тут останешься или подашься куда?
— А дальше пока не знаю. Начальник экспедиции, старший майор Гурий Илья Яковлевич, к себе на работу зовет. Нефть добывать, город строить. Подумаю. Может, к нему и пойду…
Снова с головы до ног осмотрел Туланова портупейный молодец. И, похоже, смягчился. Черт его знает, этого бушлатного работягу. Если начальник экспедиции действительно приглашает его к себе на работу… кто его ведает… что зa птица. Справка у него в порядке, паспорт можно и выдать. Он вытащил бланки, протянул Федору: — На, пиши заявление. Нужны три фотокарточки. Есть?
— Нету, — помотал головой Туланов.
— По этой улице через два дома работает фотограф. Скажи на паспорт, он сделает. Принесешь — сразу оформим.
Но Туланов не уходил.
— Хочу спросить, — обратился он снова. — В июне двадцать девятого здесь у вас в капэзэ скончалась Туланова Ульяна Ивановна. Жена моя… Кто сообщит о ней? Где похоронена?
— Зайди в пятый кабинет, к Рассыхаеву. Рассыхаев оказался пожилым дядькой с длинными жёлтыми усами. Он выслушал Федора, ничего не сказал, но вытащил из железного ящика большую книгу, долго листал ее. Нашел, что искал, и, не подымая глаз, зачитал: «Туланова. Ульяна Ивановна. Тыща девятисотый год. Кулачка. Поступила из села Изъядор. Восьмого июня одна тыща девятьсот двадцать девятого. Померла пятнадцатого июня двадцать девятого. Причина смерти…»- Он впервые поднял голову и посмотрел на Федора. — «Причина… острое двустороннее воспаление легких».
— Где похоронили? — сглатывая комок, спросил Федор.
— «Похоронили… кладбище Усть-Кулом».
Федор опустился на стул. Ноги опять отказали. Где-то в самой глубине души теплилась надежда… ну мало ли… может, обманывают… Может, не совсем умерла… А эта милицейская книга… все разрушила. В ней все написано.
Туланов сидел, понурившись, и молчал.
— Слышь, как тебя… Туланов, — позвал Рассыхаев. — Я тебе больше ничего сообщить не имею. Кроме этой записи у меня — ничего.
— А могилу… кто покажет? — тихо спросил Федор.
— Пять лет прошло… Сходи, поспрашивай… кто-нибудь знает. Погоди, — Рассыхаев наморщил лоб. — Там у нас долго работала сторожихой Матрена… как ее… Васильевна. Лодыгина. Может, она чего помнит. Все ж таки бабы туда нечасто попадают. Спроси дом Лодыгиных, тебе укажут. Она должна что-то знать…
Дом оказался во втором ряду от главной улицы. Матрене давно перевалило за шестьдесят, она сидела у окна и что-то шила.
— Доброго здравия всем здесь живущим, — почтительно произнес Федор, приблизившись к хозяйке.
— Отдохни-погрейся, прохожий человек, — долго всматривалась в него Матрена Васильевна. — Что-то и не признаю тебя никак.
— Изъядорский я… Туланов Федор Михайлович.
— Вона как… дальний путник, значит… Но, но, садись. Федор сел, не говоря больше ничего. А в памяти Матрены что-то зашевелилось…
— Это с верховьев Ижмы, что ли?.. Может, по делу ко мне?
— По делу, Матрена, по очень большому делу, Васильевна.
— Вишь как, и прозвание мое тебе известно… — покивала головою хозяйка.
— Пять лет тому назад, Матрена Васильевна, скончалась в здешнем капэзэ Ульяна Ивановна Туланова… Жена моя. Слышал я, работала ты тогда. Может, помнишь?
— Го-осподи-и… Так ты муж ей? — Старая женщина сразу шмыгнула носом. Вспомнила…
— Муж, — тихо ответил Федор.
— Как же… как же… милый… На моих глазах и сгорела, потухла, бедняжечка… Как не помнить, очень даже помню… Уж как она убивалась… такое до смертного часу из сердца не выкинешь… Ты разденься, милый, вон у двери повесь. Я тебе все как есть обскажу. — Матрена уже вытирала глаза концом платка. — Она ведь по дороге еще заболела, горячкой ее прохватило, ну и нервы, понятное дело. Привезли ее уже больную. Говорила, через три речки оставили вброд перейти… а вода-то ледяная, время-то какое было, время-то… Жаром ее и убило, бедную. Супротив такого жару порошки не помогут, да. Сердце у нее болело, за всех вас… детей вспоминала, тебя… Убивалась, что ребят пришлось бросить, бог не простит… сильно убивалась. А как не бросишь, когда тебя с винтовкой ведут?.. Ну, известное дело, сам, поди, знаешь. Всего-то ничего пожила. Я ей парного молочка носила, да ведь она кушать не стала. На единой воде жила. Душа, видать, от горюшка не принимала… Повторяла все: бог свидетель, бог свидетель. Никого, говорит, не убивала, не нападала, бог свидетель. От одной поганой души защиты нету. Какого-то Зильгуна поминала… Она как в себя придет, так и почнет рассказывать. Но все с разных концов, я уж потом сама связала все как есть. Так получилось: она дома скалкой катала бельишко детское и полотенца. Зильгун этот… — Зильган, — тихо поправил Федор.
— Во-во, Зильган, пришел и почал зубы скалить: ты, говорит, подстилка матросская… кулачка… допрыгалась, говорит. Кто, говорит, верх взял? Не хотела со мной по-хорошему… вот где теперь твой старый филин… Там, мол, пускай и гниет, в лагере. А ты, говорит, мне и самому не нужна… Изгилялся, паршивец. Может, говорит, только на ночку… Ну и обхватил ее за грудь. Ульяна вырвалась да и шарахни скалкой по поганому лбу. Зильган этот так и шмякнулся. Скалкой-то попадет хорошо, не сразу очухаешься… Ну, а как очнулся этот Зильган, выскочил он в сени и на крыльце заорал в голос: караул, мол, убивают… Люди, мол, добрые, кулачка меня убить схотела, за мужа посаженного… Вот ведь какое дерьмо умеет на свете жить. Так и обвиноватил невинную. Покойную теперь уж…
Матрена горестно качала головой, переживая чужую боль и людскую несправедливость. Федор опустил голову и думал только: как же он у той собаки не вырвал его поганые зубы?.. Ведь мог — и не вырвал. Не кусался бы, паскудник…
Матрена Васильевна поднялась, открыла старинный, железными полосами окованный сундук у стены.
И вдруг положила на стол перед Федором… черную с кистями шаль, вышитую пышными красными цветами… Ту самую шаль, которую он, давно уже, бог мой, как давно — подарил Ульяне.
— Вот, перед смертью мне дала… Сохранить просила. Это, говорит, после детей, самое для меня дорогое. Бери, говорит, Матрена, может, помянешь когда… А уж следующим днем впала в беспамятство и перед заходом солнца вздохнула последний разок.
Федор ласково провел ладонью по шали. Он помнил Ульяну с этой шалью, накинутой на плечи, с лицом, горящим счастьем и радостью… Когда же это было?.. Да, они второй раз пришли свататься в дом Ульяны…
— Эту шаль Ульяне, своей невесте, я подарил, еще когда в отпуск приезжал с флота, — горестно признался Федор.
Матрена Васильевна всхлипнула, долго смотрела на Федора.
— Охо-хонюшки… Молодые… где вам знать… Нельзя ведь дарить шаль. Да еще черную. Ой, нельзя. Она и принесла вам, дитятки, большое горе. Возьми-ка, Федор Михалыч, возьми ее. Да и оставишь на могиле жены. Повесь на крест и оставь. Может, снимет кто, позарится. Коли возьмут — и от горя, на вас наброшенного, освободят. Куда добро да счастье ушло, туда и горе за ним, туда и зло-несчастье пускай уйдут…
Федор молчал. Не нарушала тишины и старая женщина, добрым сердцем понимающая безысходность чужого горя. За один какой-то час стала Матрена для Федора близким, почти родным человеком.
— А могилу… Васильевна? Помнишь ли? — боязливо спросил Федор.
— Да как не помнить, сынок! Каждый праздник бываю. Уля твоя мне навроде родной дочери стала. Как же… навещаю…
Федор сразу начал одеваться.
— Может, покушаешь сначала? — спросила Матрена. Он только молча мотнул головой. На кладбище Матрена Васильевна привела его к невысокому могильному холмику с покосившимся маленьким крестом. Холмик покрывала желтая осенняя трава.
— Здесь… Тут раба божия Ульяна и упокоилась, — перекрестилась и поклонилась могилке Матрена.
Федор сжал шапку в левой руке и замер в последнем своем удивлении: да как же так… его Ульяна… здесь?
Потом подошел к кресту и поправил его. Перекрестился, встал на колени.
— Я, сынок, вас одних оставлю, — тихо сказала Матрена, — Я мужа проведаю… уж семь лет, как он здесь…
Она отошла. Сходила на могилку мужа, навестила могилы знакомых и через какое-то время вернулась. Федор так и стоял на коленях, прижавшись щекою к кресту. Матрена расчистила верх холмика от желтой травы, потом положила руку на голову Федору.
— На сегодня хватит, Михайлович. Повидались… вот. Завтра снова придем.
Федор не сказал ни слова, поднялся, перекрестился и медленно, не оборачиваясь, побрел следом за Матреной.
На другой день до обеда Федор мастерил новый крест. У Васильевны все нашлось, и пила, и рубанок — инструменты после хозяина остались в порядке. Только наточить пришлось.
— Бревно пойдем выберем под взъездом на сеновал, — деловито сказала Матрена. — Муж, покойный, в свое время заготовил, чтоб крыльцо заменить, да так и не поспел…
Под взъездом было сложено с десяток хороших, очищенных от коры бревен. Федор еще вчера, когда подходил, отметил: крыльцо у Васильевны давненько ждет мужской руки, заметно покосилось. И теперь, выбирая материал для креста Ульяне, подумал, что на обратном пути надо будет обязательно поправить крыльцо Матрене. Тем более материал готовый. Крест Федор делал не спеша, обтесал как надо, обстругал гладко, хороший получился крест. Странно только было думать, что этот хороший крест — для Ульяны. Когда то в память об отце острием ножа Федор вырезал буквы на смолистом пне. Теперь пришла очередь вырезать в память Ули. Он, глубоко захватывая дерево, вырезал даты жизни, фамилию, имя, отчество. На сарае Федор нашел бадейку с остатками смолы, разогрел на огне и густо обсмолил нижнюю часть креста, ту, которой суждено стоять в земле. Так — долговечнее.
Заменять крест опять ходили вдвоем. Федор взвалил его на плечо, взял в руку железную лопату, а Матрену попросил прихватить с собой черную шаль. Работали молча. Федор вытащил старый, уже основательно подгнивший крест. Рядом, в твердом грунте, вырыл другую яму. Поставил новый крест, сначала закрепил его камнями, потом уплотнил землей. Крест встал прочно. Федор накинул на него черную шаль… и только тогда — заплакал. «Дорогая ты моя… Улюшка, милая… Вот и обнял тебя… только деревянные плечи остались, прости ты меня, прости…»
Горе снова обуяло все его тело, Федора начало трясти, он потерял представление о времени, о месте, и только метка на левой щеке горела яростно, напоминая ему: сам-то он еще на этом свете, на этом, а Уля…
Два дня подряд ходил рано утром Федор на кладбище и всякий раз видел шаль еще издали — черно-красное покрывало напоминало ему о прожитой жизни…
Вот ведь какая примета, но никто не спешит освободить детей его от прежних горя-печали. И только на третье утро Федор не увидел шали. Думал сначала: может, упала, ветром сбросило. Подошел ближе — нет, нету. Ну, вот, сняли с них былые несчастья… Кто знает, может, сбудется примета. И грустно стало: в этих землях не бывало раньше такого, чтобы чужое взять. Хоть бы в лесу, хоть на кладбище… Поменялась жизнь, все по-другому теперь. Федор долго крестился и шептал молитвы. Какие знал. Последний раз обошел вокруг могилы, поправил руками холмик, погладил, попрощался с Ульяной. Теперь до следующего раза. Прощай, Уля.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
В тот день выдали Федору паспорт, и он спустился на пристань за билетом на пароход. Отчаливал пароход в три часа. Билет Федор купил до Деревянска, теперь его путь лежал туда, только туда. К детям. Матрена пожелала ему доброго пути, перекрестила, звала заходить, когда поедет обратно. Федор обещал и оставил ей деньги, чтобы купила голубой краски, покрасить крест.
Пароход начал давать гудки, когда Туланов спускался к пристани. Федор остался на палубе, в трюм идти не хотелось, в бушлате он и наверху не замерзнет. И потом еще новое чувство овладело им: ему хотелось простора, широкой дали, вольного неба над собой, хотелось видеть все это, почти забытое, и хотелось вздохнуть полной грудью. Может, это сама жизнь начинала возвращаться в его измученную душу… Да, наверное, так.
Какая-то молодая компания смеялась неподалеку. Пароход гуднул в третий раз, матросы вытащили на палубу трап и стали накручивать причальный канат на палубные кнехты. А потом длинными шестами дружно отталкивали нос парохода от берега, течение сильно прижало. Затем шлепнула по воде первая доска-плица пароходного колеса — и пошло, пошло, поехало… Отошли от берега, на середине реки развернулись носом вниз по течению. И — поплыли. Село начало быстро удаляться. Только каменная белая церковь долго еще высилась над серой массой деревянных домов. Федор снял шапку и перекрестился. Теперь, когда он побывал на могиле жены, можно сказать, та часть жизни — кончилась.
— Что, дед, мы давно новую жизнь строим, а ты все как в старое время несуществующему богу молишься? — окликнул его молодой веселый голос.
Федор посмотрел на озорника, совсем молодяжка, поди, не брился ни разу. Он глядел на Федора и, видно было, готов был поспорить с ним о боге.
— Не знаю, кто есть… Кого нету… — нехотя отозвался Туланов.
Ему не хотелось говорить. Ни с кем. Тем более спорить. Но явный вызов молодого парня изменил ход его мыслей, и незаметно для себя он начал отвечать пареньку. «Несуществующий…» Больно много ты знаешь… Потому что жизнь тебя еще не трепала… Если не Он, то кто бы тогда спас меня в девятнадцатом от верной гибели? Гурий? Как он мог туда попасть, если б богородица-матушка не услыхала мои мольбы да не послала его ко мне? Вот и в Дзолью опять же… На три года раньше вызволил…
«Как в старое время», передразнил Федор мысленно парнишку. — «А что ты знаешь про старое время да про нонешнее?.. Разве плохо мы прежде жили? Трудностей много было, это да, зато и жили по-людски. Лес и земля, зверь-птица, пашни и луга — все радовало, не ленись только». Как и отец, Федор лелеял землю, богатил ее торфом и навозом… Лес и воду жалел, ни одного дерева зазря не срубил… Зверя-птицу понапрасну не изводил, не портил глупым, ненужным выстрелом… Вместе с солнышком вставали они с Ульяной, а то и раньше, коли требовалось. И всему радовались. Дом построили — радовались. Детей нарожали — снова счастье, главная их радость в них, в детях. Всегда чувствовал себя Федор человеком с корнями. И уходили те корни глубоко в лес, в пашню, в воду. Он думал даже, будто счастье в их работящих руках будет вечным.
Как же так все повернулось? Взяли вдруг да вырвали его, Федора Туланова, из жизни, как молодую слабенькую елочку… И никто не надсадился… как отец тогда, когда корчевали вековые смолистые пни… А после? Мяли-крутили… будто собирались всего наизнанку вывернуть… «За какие такие грехи так безжалостно поступили? Пошто такую власть дали людям поганым вроде Зильгана? Али сами мы виноваты? Са-ми-и… А где же Ты, господи? Почему допускаешь? „Несуществующий…“ Господи, прости меня… Сознание помутилось от горя…» Федор оглянулся кругом — парни стояли на другой стороне палубы, — снял шапку и незаметно снова перекрестился, попросил у господа бога прощения за свои нечаянные, как ему казалось, греховные мысли…
Проплывали мимо Ульяновского монастыря. Сколько Федору раньше приходилось бывать здесь, а только теперь связал он название монастыря с именем покойной жены. У Федора в привычку стало входить — разговаривать с предметами, большими ли, маленькими… С природой, с явлениями ее. Вот и теперь обратился он к монастырю с просьбой: «Будь, Ульяновский, Уле моей, мученице, как памятник… Стой дольше, такой же белый, такой же крепкий. Стой и память храни».
Напротив Деревянска пароход длинно прогудел, предупреждая: здесь он хочет остановиться. «Вот, спасибо тебе, пароходище, привез-таки меня к детям. Тут они, тут, доехал я…»
Федор с палубы смотрел на цепочку домов около белой церкви. Места эти были ему знакомы — здесь проходил большак по берегу, там же, на горе, раньше стояли дома земства и почты. Дома, может, и сохранились, каменные они были, а вот чего теперь в тех домах? Но это все были мысли необязательные. Глаза Федора сами устремлялись к детям на берегу. Скорей всего, эти ребятишки и есть — детдомовские. Тянутся они к людям, встречают пароходы — другого такого зрелища в Деревянске отродясь не бывало. «Где-то среди них и мои», — подумал Федор, пытаясь разглядеть детские лица, но расстояние до берега было еще порядочное, всмотреться толком не удавалось.
— Где ж тут детской-то дом? — спросил Федор у какой-то женщины, ожидавшей у борта парохода, пока подадут сходню.
— А вона, у реки, внизу. В двухэтажном-то мальчишки живут, за ним домик директора, потом дом для девочек. А вон тот, совсем у воды, — то конюшня. А вон, вишь, поленницы длинные — тоже добро ихнее. Ты к кому правишься?
— Дети тут у меня. Трое, — сказал Федор.
— Но-о, батюшка… как же этак… — протянула женщина, явно жалеючи Федора. — А мать-то где?
— Померла мать, преставилась, — Федор перекрестился.
— Вона как… царство ей небесное, — перекрестилась и женщина. — Вот туда и иди, батюшко, там твои касатики, непременно там.
— Спасибо, — сказал Федор.
И уже на берегу пристально вгляделся в детские лица, забыв поначалу, что его самого, в густой бороде и усах, вряд ли признает даже старший, Гришутка. Да и он сам, к стыду своему, слабо помнил лица детей. Пять с лишним лет минуло, шутка ли сказать… Грише тогда еще и десяти не было, а теперь полных пятнадцать, совсем мужик. Нет, ни разу ни глаза не споткнулись, ни сердце не вздрогнуло. Ну ладно, потерпим. Федор подошел к дому директора, когда баба в калошах на босу ногу заканчивала тереть тряпкой ступеньки крыльца. Спросила, не очень-то выбирая слова:
— Ты к кому, такой бородатой?
— Директора бы мне.
— Никого и нету сейчас, все к пароходу побегли, — сказала баба, осушая последнюю ступеньку. — Это у нас теперь заместо ярманки — пароход-то…
— Я подожду тогда.
— А и подожди, коль нужда есть, — легко согласилась баба, прополоскала тряпку, отжала и расстелила перед крыльцом. Воду из ведра веером выбросила на траву, вытерла галоши о тряпку и, не глядя на Федора, зашла в дом. Федор остановил ее вопросом:
— Слышь, служивая, а директору фамилия как будет? Не Потолицына?
— Она самая, — бросила баба через плечо, не останавливаясь.
Значит, она, которая письмо ему написала. Директрису Федор узнал издали, по одеже да и по походке: деревенские так не ходят. Одета она была: темно-синяя юбка, воротник голубой кофточки отложен поверх черного жакета, и берет на голове, темно-синий, под цвет юбки. Строгая. А походка… как у кавалериста.
Только шашки на боку нету. Ну, эта и без шашки кому хошь башку срежет… Сразу видать.
— Кого ждете? — спросила директорша.
Федор смотрел на нее твердо и прямо, не опуская глаз:
— Здешнего директора ожидаю.
— Я буду директор. В чем вопрос?
— Здесь дети мои. Трое. Тулановы. К ним я и приехал.
— Ту-улановы-ы… — протянула директриса изменившимся голосом. И внимательно осмотрела Федора. — А ну, заходите в дом, там поговорим.
Она энергично поднялась на крыльцо. Туланов пошел следом, решая про себя быть твердым в своих просьбах. Директриса уже сидела за столом, лицом к посетителю. Очень официальная. На столе были бумаги, чернильница, полный стакан ручек и карандашей. А также керосиновая лампа и пресс-папье. Стулья вдоль стен, от стола далеко. Тут, видимо, полагалось стоять перед директрисой навытяжку. Федору это не подходило.
— Есть какие-нибудь документы, что ты — Туланов? — строго спросила хозяйка кабинета. Сесть не предлагала.
— Есть, конечно, как не быть, — спокойно сказал Федор, взял стул у стены, поставил перед столом. И сел. А уж потом начал доставать бумаги. Новенький свой паспорт он положил на стол перед директоршей и стал смотреть, как она листает упругие странички. Чего-то ищет.
— Это что же, паспорт тебе вчера только дали?
— Вчера.
— Гражданин Туланов, — помолчав, снова заговорила она, возвращая Федору паспорт. — Повидаться с детьми я вам, конечно, позволю. Но как директор сразу вас предупреждаю: чтоб никаких разговоров против Советской власти и большевистской партии! Никаких! Чтоб…
«Значит, ее письмо и приходило в Чимъель. И в самом деле женщина без души и сердца». С самого начала Федору не понравились ее косые взгляды и неприветливый тон разговора, да он стерпел. Ради детей стерпел. Но теперь, услыхав последние ее слова, не выдержал:
— А у тебя, голубушка, свои дети есть?
— Есть или нет — это тебя не касается, во всяком случае я их на государство не навешиваю: кормить, да поить, да воспитывать… — зло отрезала директорша.
— Я тоже не хотел, но меня никто не спрашивал… Я к тому говорю, что ежели ты сама мать, то должна же понять: зачем я своих детей плохому учить стану?.. Я ведь за Советскую власть кровь проливал, Зимний в Питере брал…
— Не знаю, что ты там брал, — перебила директриса, — а что сейчас ты из лагеря, куда тебя засадили как кулака, это точно известно. Ты слушай и молчи, — пресекла она Федора. — Ты сидел долго и не все знаешь. Наши дети за поступки своих отцов не отвечают. Это Сталин сказал. И это — великодушно. Еще слушай! Туланов Григорий у нас был отличником. Мы его в пионеры приняли. А когда он отказался, письменно, от отца-кулака, то и комсомольцем стал. Мы его направили учиться дальше — в техникум. Он и там отличник. И мы им гордимся: он наш воспитанник. Туланова Октябрина у нас учится тоже хорошо. Активная. Мы стараемся, чтобы дети росли счастливыми людьми, преданными делу партии. И ты, Туланов, своим приездом не пытайся поколебать их веру. Не сбивай с правильного пути. Как директор, я обязана предупредить тебя об этом…
Федору словно деревянный кол вбивали в голову. Он сидел, съежившись, уронив голову на грудь. Пропала всякая охота говорить и спорить с этой чванливой, злой женщиной. Еще до этой встречи, по письму, имя «Потолицына Е. А.» вызывало обиду и злость. А теперь он чувствовал, что начал ее ненавидеть. Надо бы, по-хорошему если, благодарить ее: одевает-обувает, поит-кормит, заботится и учит его детишек… А у него язык не поворачивается — благодарить. За то, что за человека его не принимает… О, боже, боже!.. Родной сын, Гриша отказался… от отца!.. От меня, значит… Госпо-оди-ии!.. Образумь несмышленого… Сынок, дорогой мой, да как же можно от родного отца-матери отрекаться?!
— А Георгий? — спросил Федор, не уловив в словах директорши третьего имени.
— Туланов Георгий в прошлом году сбежал от нас. Поймали его в городе. И там отдали в детдом, городской. У нас теперь только Туланова Октябрина, — жестко ответила директриса.
Как бы трудно ни приходилось Федору в жизни, он всегда боялся предстать перед людьми в минуту растерянности. Боялся показаться жалким, прибитым. Он собирал последние силы и держался достойно. Даже если не сразу все понимал. Из этой новой жизни, в которой дети отчего-то должны жить без отца-матери… Но на этот раз он потерял контроль над собой. Он не знал, как в ту минуту выглядел со стороны, но директриса вдруг сказала голосом куда более мягким, чем прежде:
— Подождите здесь, я Октябрину приведу.
Она ушла. А Федор думал только одну горькую думу: «Это получается, и детей против отца настроили? За врага почитают. В комсомол, мол, примем, но сначала ты бумажку подмахни: от родителя вот отрекаюсь…»
Федор только головой покрутил, не понимая, как могло такое случиться… Неужто про эту новую жизнь говорил парнишка на пароходе? Не может же такое быть… Не должно… Не должно, а вот он ждет свою дочь и успокоить себя не в силах: руки дрожат, во рту пересохло, и метка на щеке разгорелась. И навалилась вдруг многолетняя усталость, и тоска разлуки с детьми, и их вынужденное сиротство, и смерть Ульяны, и новый крест на ее могиле, что все еще ощущали его ладони, и слова директрисы — про Гришу, который отрекся…
В чуть приоткрытую дверь бочком протиснулась девочка в высоких ботинках, в ситцевом платьице в синий горошек, поверх платьица серый пиджачок, на шее красный галстук. Она встала у порога, глядя в пол, не поднимая лица. А когда, всего на миг, взмахнула ресницами и взглянула на Федора — его как ножом резануло: перед ним стояла Ульяна тех давних-давних годов… И лицо, и глаза, и волосы — все материнское, все Ульянино. Только Ульяна смотрела смело и озорно, а у этой взгляд боязливый, прячущийся.
Федор подошел к дочери, положил руку ей на голову, ласково провел по волосам.
— Доченька, узнала ли батю? Октябринка?
— Узнала, — едва слышно прошептала девочка.
— Помнишь… как ты боялась, когда я тебя усами щекотал? Тараканом меня называла усатым?
— Помню… — второй раз подняла глаза на отца Октябрина. — А бороды ведь не было?
— Выросла, доченька. Я в лесу работал, бриться некогда было, вот и вырос… веник… помело… Пойдем у окошка посидим.
Они сели на стулья. Федор вытащил из котомки гостинцы: конфеты и печенье в кульках:
— Ешь, дочка.
Октябрина посмотрела на кульки, но руки не протянула.
— А у нас каждый день чай пьют, тоже с конфетами, — заученно сообщила она.
— Ну и хорошо. А это тебе, бери, не бойся. Ешь, милая.
— Мы книжку читали про Павлика Морозова. Он тоже был пионер. А его отец помогал кулакам. Павлик рассказал кому следует, не побоялся. А ты… Ты сам кулак, да? И в колонии сидишь, да? Ты против Советской власти, да?
Федору словно оплеуху влепили. Он, часто моргая глазами, смотрел на дорогого, любимого, отколовшегося от них с Ульяной человечка, откровенно чуждающегося его, и не знал, что сказать. Наконец вспомнил про свою награду, дрожащими руками торопливо порылся в котомке, вынул оттуда узелок, развязал.
— На вот, читай, — раскрытым протянул дочке удостоверение с твердыми корочками. — Это отцу выдали… Не знают ничего, а болтают… Никогда твой отец не выступал против Советской власти… Врет, кто так говорит, ты не верь.
Октябрина, поколебавшись, взяла книжечку и начала читать:
— «Удостоверение… Награждается… Туланов Федор Михайлович… За ударный труд… по освоению… Крайнего Севера… Председатель ВЦИК Ка-ли-нин…»
Октябрина смелее посмотрела на отца.
— Это сам Калинин тебе?
— Конечно. А вот и знак.
Федор вытащил из коробки большой красивый значок, похожий на орден. Отдал дочери.
— Такой… Краси-ивый. «Ударник»… Это… что?.. Орден?..
— Да, доченька, так получается.
— Значит, ты ударник, орденоносец, а не кулак?
— Нет, конечно. Отец твой охотник, никогда кулаком не был.
— О-тец, — осторожно обратилась к нему Октябрина. — Можно, я покажу Екатерине Анатольевне?.. И детдомовским тоже?.. И с кем учусь в одном классе?.. Можно… б-ба-тя?
— Да отчего же нельзя — покажи, — сказал Федор, думая о своем.
Октябрина сразу рванулась, бегом выскочила из дома и уже на крыльце начала звать, будто на пожар: «Екатерина Анатольевна!»
В кабинете уже почти стемнело. Федор то сидел на стульях у стены, то ходил взад-вперед, не очень понимая, как ему теперь быть с детьми, где их искать и как собрать снова в семью. Так получалось, нужно собирать по одному.
Пришла дочь за руку с директоршей. От непримиримости гражданки Потолицыной не осталось и следа. И улыбка, и голос человеческий прорезался — все как у людей.
— Надолго ли к нам? — спросила Федора.
— Да вот… думал, у вас всех троих найду. А теперь… не знаю, с какого боку начать… Надо бы хоть пару дней пожить около дочки… Вы уж разрешите. Если какая мужская работа требуется, то я все умею, все сделаю.
— Можно, товарищ Туланов. Октябрина, своди отца в столовую, скажи Дорофеевне, пусть накормит, я позволила. На другой половине дома у нас спят завхоз и конюх, я велю туда еще одну кровать поставить. Там и поместитесь. А остальное — завтра решим.
Три дня с раннего утра дотемна колол у реки Федор Туланов детдомовские дрова. После уроков к нему вместе с Октябриной приходили и другие ребята, складывали дрова в поленницу. Так и отрабатывал Федор свой долг перед детдомом за приют, за хлеб-соль его детям. Куда ни кинь — всюду оказался должен!
Вечером они с дочкой ужинали вместе, вдвоем. По особому разрешению на этот счет. Потом читали Гришино письмо, которое он написал из техникума. Учится он нефть добывать. Ездил в Баку, практика там была. Ну и всякие другие новости. Федор пока не понимал, вспомнила ли его дочка по-настоящему. Но когда на четвертый день он стал собираться на пароход, чтобы поехать в город за Георгием, Октябрина вдруг прижалась к отцу и заплакала:
— Ба-атя… не оставляй меня тут… Во-озьми с собою… Федор растрогался и, как мог, попытался успокоить девочку:
— Немного теперь осталось, доченька, потерпи. Скоро возьму. Заберу Георгия, и поедем. Опять будем вместе жить. В своем дому, с бабушкой. Недолго осталось, потерпи чуток…
Но в городе ждало Федора новое испытание.
— Туланов Георгий? Как же, как же… Личность у нас известная. В прошлом году Туланова Георгия пришлось отправить в колонию для несовершеннолетних, — рассказывал Федору мужчина-директор, — Недолго он пробыл у нас. Два раза милиция ловила на воровстве. Наловчился подделывать кассовые чеки в магазинах. Такие дела. Потом дома начал приворовывать, здесь, у нас. Ну что нам оставалось, сами посудите?
В голосе директора слышались слабые нотки оправдания. А у Федора голова готова была упасть с плеч — от стыда. Его сын, родной сын, родная кровь — и стал вором! Вот до чего… Господи! Гос-по-ди-и… за что так сильно бьешь, господи?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
В Изъядор Федор Туланов вернулся уже после Октябрьских праздников. Раньше не позволила осенняя распутица, пришлось даже устроиться на лесопильный завод в ожидании зимней дороги. Почти месяц пилил доски. А по выходным дням ходил к Георгию. В субботу вечером отправлялся, приходил и ночевал там, в колонии. А в воскресенье весь день проводил с сыном. Разрешали. Вечером шел обратно в город, расстояние порядочное. Утром вовремя нужно попасть на работу, а это тоже конец не малый. Хотел Георгия взять с собою, под расписку или честное слово — как там полагается, — но, оказалось, никак не полагается. Появился отец — и хорошо. Но годик пусть, мол, отсидит. Там и школа есть, учат ребят, и плотничать-столярничать тоже учат, это отдельно. Все при деле. Ну, душу, конечно, никто на них шибко не тратит, чужие все-таки…
Георгий слово дал: воровать больше не станет. Но с тяжелым сердцем уезжал Федор от сына-подростка. Как бы не поломали парнишку казенные стены… При живом-то отце.
На обратном пути навестил Октябрину, обсудил с директрисой ее судьбу. Решили: он приедет за дочкой в зимние каникулы и заберет ее. Пока она поучится здесь, а он устроится на работу, определится в жизни. Октябрина плакала, чем вконец расстроила отцовское сердце, но в чем-то и успокоила: вспомнила все же родителя… Слава богу — вспомнила.
Когда до родной деревни оставалось совсем немного, Федор даже шаг убавил, сознательно себя притормозил. Чтобы не попасть в деревню до темноты. Ни с кем он не хотел видеться, ни с кем говорить. Только с матерью.
Вот как она, жизнь, повернулась для Федора: уже и люди не нужны стали…
Мать долго стояла, прижавшись к сыну. Не плакала, только вздрагивала сухоньким телом.
— Теперь-то, сынок? вовсе отпустили? или как? — спрашивала она, Федор отвечал, мать почему-то не слышала и снова спрашивала, теми же словами. На середине стола дымила коптилка, Федор осторожно убавил огонь. Даже в честь возвращения сына мать не могла возжечь лампу, не было керосину. Накрывая на стол, она говорила:
— Кузьма, товарищ твой русский, недавно опять заходил. Денег мне оставил, здоровья желал. Добрый человек, дай бог и ему здоровья. — Мать повернулась к иконам. — Господи, побереги ты всех хороших людей, побереги! — возопила она как последнюю просьбу. — Дай всем доброго здравия, многие лета и счастья в этой-то жизни. Позволь, господи, хорошим людям пожить по-людски, не все же Зильганам воля…
Услышав ненавистное имя, Федор сжал зубы. Потом тихо спросил:
— Где он теперь? — имени не произнес. Мать и так поняла.
— Охотничает вроде бы… С начальников, сказывают, его скинули, натворил чего-то. Говорили мне, будто с нашей избушки, на Ошъеле, охотничает. Вишь, как удобно стало: изведи хозяев да и пользуйся, что другие всю-то жизнь наживали… Сами век свой от шалаша охотились, избу, вишь, недосуг срубить. А теперь — как хорошо, из чужой избушки да на чужой тропе… Скажи ты мне, Федюшко, и што за времена такие настали, што власть этаких мироедов балует да милует?..
Федор не ответил. У него стучало в висках, гнев ударил в голову. Кто не охотник потомственный, кто не мучился в лесу, догоняя зверя, кто не сушился у костра среди снегов и метели — тому не понять гнев Федора Туланова, когда он услышал, кто пользуется его родовыми угодьями…
«Моими ловушками в моих угодьях… мои тропы топчет…»
Федор поел вместе с матерью. Наколол дров, растопил печку: в доме было сыровато. Весь родительский дом обошел с фонарем — и сени, и сеновал, и на чердак слазил. А мысли о Зильгане не оставляли.
«Этакая сволота все еще дышит…»
— Мама, что-то я ружья не найду? — спросил Федор.
Он отыскал и запыленные лыжи, подбитые камусом — лосиным мехом, и лыжную обутку, и лузан. А ружей нигде не увидел.
— Ты уж прости, Федюшко, отцово да Гордея ружья продала я, как стало совсем невмочь. Доходило ведь… крошки в доме нету.
— А мое?
— Не знаю, сынок. Как увезли Ульяну, кое-что из вещей я взяла — лыжи твои, обутку, зипун… а ружья и не видела.
Спал Федор плохо. Неуютно стало в родительском доме, где вырос и учился понимать жизнь. На полатях было тепло, а уснуть не мог. Чуть веки смежит — то Потолицына пальцем грозит, то черный снаряд вылетает из скважины, унося за собой половину вышки, то Кузьма, с которым работали в одну смену, что-то яростно начинает доказывать, Федор слышит, но не понимает ни слова, силится понять, а — никак. И — просыпается в поту. Потом в глаза назойливо лез крутящийся шкив, Федор и во сне знал: вот-вот он слетит с вала и снесет угол барака, и все ждал, ждал, а шкив крутился, крутился, и душа уставала ждать, и он снова просыпался.
Мать уже встала, гремела у печки в своих хозяйственных хлопотах. Федор не стал испытывать судьбу, тоже поднялся, начал помогать матери. В большой избе они остались теперь вдвоем… И это было страшно… Уже вчера Федор знал, что пойдет в охотничью избушку на Ошъеле, обязательно пойдет. Он даже знал, что скажет Зильгану, когда увидит того в своих угодьях…
Собираться он начал после завтрака. Мать заметила сборы, спросила:
— Куда ж ты, сынок? Отдохнул бы.
— Хочу в лес сходить, мама. Поздороваться надо с пармой. Сколько лет не был… вольным… Пойду.
— Сходи тогда, Федюшко.
Чувствовало ли сердце материнское, куда и зачем собрался сын? Нет, наверное. Если бы поняла она, остановила бы. Федор оделся. Засунул топор за пояс. Взял под руку свои лыжи. В лес вышел задами. Через полверсты попал на лыжню, которая явно вела в сторону Ошъеля, к его охотничьей избушке. Вот оно как, по нашей тропе ходит, по родовой, извечной. Это до какой же наглости дойти надо, чтобы жить так в деревне…
Около избушки никого не было. Конечно, кто же станет сидеть днем под крышей, если пошел на охоту! Федор снял лыжи и приставил их к задней стенке. Как всегда. Вытащил топор… но не воткнул его в бревно. Взял с собою. Вошел внутрь. В избушке было тепло, но Федору послышался какой-то дурной запах. Вот странно, человек дурной — и запах от него дурной… И с годами, похоже, запах этот приметно крепнет… Как же станет от Зильгана разить перед тем, как господь призовет его?..
На столе стояла лампа. Эко разбогател Зильган, в охотничьей избушке с керосиновой лампой живет. Федор маленько проветрил избушку, приоткрыл дверь. Потом дверь притворил и опустился на лавку. Топор положил под ноги. Так и сидел, долго, не шевелясь и ни о чем не думая.
Когда совсем стемнело, послышались хлопки лыж: идет Васька. Федор не шелохнулся. Слышал, что на улице делалось: вот, воткнул топор в угол избушки. Снял лыжи, поставил под навесом. Ружье повесил на гвоздь, слышно, приклад легонько ударился о стенку. Теперь — шуршит, стало быть, стаскивает лузан. Вот тоже повесил. Сейчас войдет. Дверь открылась, пропустила Зильгана. Он сделал шаг к столу и остановился, повернулся к дверям. Голос тревожный, будто и вправду кого ждал:
— Кто есть тут, что ли?
— Ты сначала огонь зажги, потом разглядишь, хозяин, своих гостей, — тихо, без выражения сказал Федор.
— Кто ж т-тут? — начал заикаться Зильган и затряс спичками.
— Свои, — пообещал Федор. — Зажигай, зажигай, чего стоишь?
Медленно возгорелась лампа, с трудом разгоняя застоявшуюся темень в избушке. Так же медленно глаза привыкали к слабому свету. Постепенно очерчивалось белое лицо человека на черном фоне полузаброшенного жилья.
— Н-но, узнал?! — строго спросил Федор. — Со страху в штаны не наложил?
Зильган присел на другой конец лавки и затравленно уставился на незваного гостя.
— Федор! От-ку-до-ва… ты… с-сюды?..
— Откуда?! Али запамятовал? Прямо оттуда и есть. Вот и свиделись… Не ждал, что когда-нибудь встретимся? Думал, сгину я там?..
Зильган, низко опустив голову, молчал.
— Нет, конечно. Думал, твоя власть над людьми вечна, можешь их жизнями распоряжаться… А вот тебе и ответ держать пришло время. На… — Федор с лавки взял заранее приготовленный кусок нетолстой веревки и через стол протянул Зильгану.
— Н-нет, не п-посмеешь… — заикаясь, пробормотал Васька.
— Я не посмею… Ты сам это сделаешь… Сколько зла ты мне причинил… да и другим тоже… грех тебе по земле ходить… Но-но, — Федор повысил голос.
Зильган протянул трясущиеся руки, взял кусок веревки, прижал к груди, потом вдруг бухнулся на колени.
— П-прости, Федор! Не виноватый я… сверху п-приказали… Кто в колхоз нейдет, того и…
— А Ульяну… убивать? А детей? Тоже сверху приказали? Но! Вона в потолке крюк — как раз для такой погани, как ты… Видишь?
Зильган поднялся с колен, взглянул на потолок и взвыл в голос:
— Прости, Федор… Христом-богом прошу… Не бери грех на душу… Не я за все виноватый… Не-эт! Бог свидетель…
— А, бога вспомнил, безбожник! Вот и отправляйся на суд к Нему… Он милосерден. Ежели пожалеет тебя, поганого…
Зильган опустил голову, вздрагивая от рыданий. И вдруг — кинулся к двери, одним большим прыжком. Выбил дверь наружу, выбросился на снег, не удержавшись на ногах или споткнувшись о порог. «Ружье и топор», — полыхнуло у Федора, и он ринулся следом. Зильган уже рвал ружье с гвоздя. Федор перехватил стволы, потянул на себя и с силой толканул Ваську в грудь. Тот отлетел в сторону, упал на землю. Ружье осталось в руках Федора. Указательный палец сам ложился на спусковой крючок. Вот так. Взвести курок… Потом — нажать… Один раз грохнет в лесу — и не станет этой доморощенной гадины. И полный расчет. За все, что людям напоганил. За прошлое и будущее. За все…
Зильган шептал, не подымаясь с земли:
— Не убивай, Федя… Жена у меня… дети… На всю жизнь тебе слугой стану…
Подниматься он боялся: ружье у Федора, лучше уж на земле лежать, может, помилует… Федор словно со стороны услыхал предостерегающий голос: «Остановись, опомнись… остановись. Это тебе самому — капкан. Подумай о детях, о детях… Они-то навек сиротами станут. А им еще расти и расти, людьми становиться…»
— Встань, поганая душа.
Зильган, испуганно озираясь, поднялся.
— Запомни, Васька, что я тебе скажу. Крепко запомни. Ты — не человек. И сколько ты жить ни будешь — человеком тебе никогда не стать. Это проклятье на тебе, Зильган, да пребудет вовеки. Я, Туланов, сказал. А теперь убирайся отсюдова. И чтоб я тебя больше не видел. Ты понял, Зильган? Один раз я уж тебе говорил, но ты через годы — вернулся. А теперь — все. Уходи. Неделю тебе на сборы. И чтоб ты вовсе пропал с моего пути. Больше слова тебе не скажу. Но клянусь: коли встречу — жизни решу.
— Сейчас, я сейчас, — засуетился Зильган. Он забежал в избушку, выскочил оттуда, завязывая котомку. Надел лузан. Сказал: — Федор, там три глухарки, ты возьми детишкам твоим, Михалыч…
— Уйди скорее Зильган. Ты еще и предлагать смеешь, стервятник… Убирайся!
— Щас… щас… — Зильган сбегал к лабазу и сам забрал птиц. Засунул топор за пояс, надел лыжи и быстро ушел по лыжне.
Федор присел на завалинку. Дверь избушки оставил открытой — пусть проветрится. Погладил приклад ружья, лежащего на коленях, ладонь узнала знакомую щербинку. Вот оно… в чьи руки попало его ружье. Ну, понятно, ворюга — он во всем ворюга. Ульяну спровадил да ружьишко взял, не пропадать же добру, коли хозяев нету.
Федору стало зябко, он вошел в избушку, погодить маленько: не хотелось догонять подлеца, слишком широко шагает Федор на лыжах — не дай бог, снова увидит. Еще с полчаса сидел он в избушке, пытаясь обдумать дальнейшее свое житье-бытье. Но толкового думанья не получилось. Он просто ждал, высиживая время. Когда понял это, встал, засунул топор за пояс, загасил лампу и вышел, плотно притворив за собой дверь. Наружную щеколду задвинул. Ружье прихватил с собой, слава богу, хоть таким манером нашлось.
До пригорка Катшыс оставалось недалеко, когда Федору показалось, словно бы впереди, между деревьями, мелькнула черная тень. По лесу он не ходил давно, но, когда пошел — шел настороженный, как и прежде хаживал, глазами проверяя, все ли вокруг чисто. Тень Федору не понравилось, он передвинул ружье поудобнее, взвел курок. Мало ли… на всякий случай. Попадешь на медведя-шатуна… всяко бывает в тайге. Федор прошел еще немного, когда из-за ближней сосны вымахнула та же черная тень… с вознесенным вверх топором.
Федор, не целясь, выстрелил. Истошный крик разорвал окрестную тишину: «А-а-аа…» Тень согнулась, выронила топор и ткнулась в снег. Сам выстрел, человеческий крик и падение нападающего повергли Федора в оцепенение. Он замер, словно не участник, а лишь свидетель того, что произошло. Не шатун, оказывается… Человек с топором. Федор сразу увидел топор, но понял, что это именно топор, только после выстрела. Человек упал, и топор упал — вон лежит. Господи… он человека убил? Убил ли… похоже — убил. Дрянь человек, паскуда — но человек ведь. И дети у него, сам говорил. Ах ты, Зильган, Зильган… опять ты меня в капкан заманил… Я тебя в петлю толкал, а ты ее на меня и накинул…
Что же делать теперь? Федор через силу тронул лыжи, сделал шаг, другой, встал на лыжню лицом к деревне. Смертельно уставший, он еле-еле переставлял ноги. Новое горе стопудовым камнем сдавило сердце. Все… снова жизнь его перекорежилась… Не видать ему боле детей своих… не свить снова гнезда… Убийца… Человека убил… У звериного капкана можно пружину разжать… Зверь в минуту смертельной опасности ногу себе перегрызет, вырвется из капкана… Будет ли жить, нет ли, а вырвется… А ему, Федору, как теперь быть? Нет, ему не уйти, не спастись… Пройдя от проклятого богом места примерно с полверсты, он вдруг остановился. А что, если жив Васька? Может, не попал в него?.. Он ведь не целился, так выстрелил, наугад, себя защищая… Метка на щеке задергалась, загорелась огнем. «Господи! Дай мне надежду… Сохрани, господи… Не дай ему помереть… Богородица- матушка! Ради детей… Ради детей моих пускай жив будет…»
Федор, развернувшись, бросился назад, к оставшемуся на снегу Зильгану. Еще издали он заметил: черного бугра на старом месте не было, и маленькая надежда вспыхнула с новой силой: «Живой, значит, живой…» Зильган, свесив на грудь непокрытую голову, сидел, опершись левым плечом о ствол толстой сосны, за которой он подкарауливал Федора. Федор подошел к нему, воткнул ружье прикладом в снег, дрожащими руками освободился от лыж. Зильган поднял левую руку, словно защищаясь от удара, и протянул хриплым голосом:
— Не-э уби-ива-а-ай… Федор…
«Живой! Живой!» — ликовало сердце. А Зильгану, сдерживая дыхание, Федор сказал:
— Да я тебя, гада, до самого Дзолью на себе потащу, но не дам подохнуть…
Федор расстегнулся, рванул ворот нижней рубахи, снял с шеи ситцевый платок. И опустился перед Васькой на колени перевязать ему рану, спасти поганую жизнь…
12.04.2010



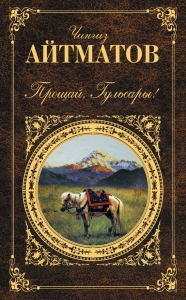
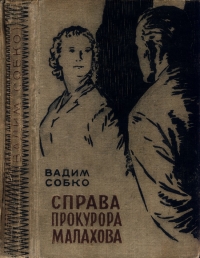
Комментарии к книге «Черная шаль с красными цветами», Борис Федотович Шахов
Всего 0 комментариев