Юрий Либединский Дела семейные
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Это было время полного расцвета весны, пора ее торжества, когда она, словно собрав все свои силы, вдруг вторгается в самые большие города, и даже на асфальтовых пустынях центральных площадей, особенно в ночные часы, вдруг становится слышен победный запах земли и хвои, первых цветов и новорожденных трав.
Что же говорить о поселке Большие Сосны, который беспорядочно разросся вокруг станции железной дороги, расположенной на северо-восток от Москвы? Тонкие и высокие рыжестволые сосны еще и сейчас поодиночке и кучками высятся то там, то тут, среди домов, в разных местах поселка. А вокруг конструкторского бюро, в котором работал Леня Сомов, их сохранилась целая роща. И когда, уходя в этот вечер после работы, Леня распахнул тяжелую входную дверь, лесной свежий воздух сразу проник за ворот его рубашки с короткими рукавами и под легкой одеждой прохладной волной омыл тело, наполнил грудь. Некоторое время постоял он на крыльце, с наслаждением дыша и оглядывая все вокруг. Тонкие стволы сосен вырисовывались на блеклом весеннем небе. Далекие и близкие электрические фонари покалывали глаза. Мало что было видно в зеленой темноте, окружавшей его, но как густо и сочно пахло вокруг! Откуда-то издалека доносилась музыка...
Леонид уже шел к выходу по асфальтированной аллее. У калитки он показал развернутый пропуск. Чтобы успеть на поезд в Москву, ему следовало торопиться. Но он сам не заметил, как пошел в ту сторону, откуда слышалась музыка, — там протянулся длинный ряд матовых фонарей поселкового парка культуры и отдыха. Это была самая незамысловатая танцевальная музыка, которую изливал огромный металлический рупор. Казалось бы, Леониду, который регулярно посещал концерты в консерватории и недурно играл на рояле, никак не могла нравиться эта музыка. Но было в ней то же, что в весеннем свежем воздухе и в фонарях между деревьями, которые отбрасывали на тропинку прозрачные тени ветвей.
И Леонид все убыстрял шаг. Похоже, словно незнакомый голос настойчиво звал не кого-нибудь, а именно его. Так неужели ослушаться этого голоса и пойти своим обычным путем на станцию и вернуться к себе домой, где все устоявшееся, вековечно родное и, пожалуй, надоевшее? А ему после целого дня утомительной работы, который вдруг завершился долгим разговором с самим начальником конструкторского бюро, сейчас хотелось чего-то нового, неожиданного и ни на что известное не похожего. В оглушающем музыкоподобном реве металлической трубы, доносившемся с танцевальной площадки, Леонид слышал это обещание неожиданного и таинственного. И вот деревья расступились.
На ярко освещенной площадке кружилось несколько пар. Девушки танцевали с девушками, на скамьях сидели пожилые люди, а по краю площадки стояла молодежь, парни, которым, видно, хотелось танцевать, но они стеснялись, — и то же чувство испытал Леонид.
Казалось, что громовой, чуть дребезжащий голос рупора предназначался не только для маленькой танцевальной площадки; эту музыку, наверное, можно было услышать в десяти, а то и в двадцати километpax, в заповедной глубине еще не вырубленных, уходивших на север лесов.
Леонид стоял с края площадки, разглядывая проплывавших мимо девушек. Почти все они были в легких и ярких платьях из вошедших в моду в начале пятидесятых годов «жатых» ситцев и штапельного полотна. Завитые волосы по-заграничному были зачесаны назад, но у некоторых еще не сошло с лица деревенское, сковывающее выражение застенчивости. И Леониду вспомнилось ироническое замечание сестры Лели: «Вылезли из пещер, сделали себе перманент и пошли танцевать фокстрот...»
Он следил за лицами девушек, которые все казались ему привлекательны. Потом он начал узнавать знакомых. Это были девушки из бригады зуборезных станков, с небольшого здешнего завода, который по старой памяти назывался РТЗ — Ремонтно-танковый, хотя танков он давно не ремонтировал. Кажется, совсем недавно, — нет, это было еще в начале года, — Лене приходилось часто бывать в этой бригаде. Вон и бригадир их, тоненькая, с черными кудрями, похожая на серьезного юношу, Таня Черкасова. А в паре с ней неужели Курбановская? Сейчас они мило, как лучшие подруги, улыбаются друг другу. А ведь между ними и возник тот конфликт, который Лене пришлось разбирать, как члену бюро райкома комсомола.
Леонид с удовольствием смотрел на девушек, — стоило все-таки выкраивать из своего основательно загруженного работой дня несколько часов и тащиться в здание бывшего монастыря, где располагается РТЗ!
Как разительно не походила сумрачная, с низкими потолками бывшая монастырская трапезная, в которой громоздились казавшиеся особенно огромными станки, на все то празднично яркое и свежее, что сейчас было вокруг. Да и Вика Курбановская, которую он привык видеть в синей прозодежде, с каким-то замасленным шерстяным платочком на шее, сейчас выглядела совсем по-иному, и он залюбовался тем, как легко и ладно движется ее небольшая фигурка. Но тут ему вспомнилось, что и раньше, приходя во время работы к ним в бригаду, он не раз невольно засматривался на ее легкие и спорые движения.
Проплывая мимо него в танце, Вика скользнула по нему взглядом, улыбнулась и шепнула что-то Черкасовой. Та круто повернулась к Леониду, ее белые зубы сверкнули в улыбке, она приветственно махнула рукой. Девушки, держась за руки, вышли из круга и подошли к Леониду.
— Что, мир и дружба? — спросил он, пожимая их горячие руки.
— А что нам делить? — ответила Черкасова. — Верно, Вичка?
Виктория ничего не ответила, но кивнула своей завитой рыжеватой головой, улыбнулась снизу вверх, — он был на голову выше ее, — и Леониду в этой улыбке почудилась благодарность. И казалось, еще о чем-то говорила ее едва заметная, но продолжительная улыбка.
Музыка все твердила свое... Леонид, словно поняв вдруг, о чем говорила улыбка Вики и чего у него требовала музыка, шагнул к Виктории, она положила ему руку на плечо, и музыка повела и закружила их... И сразу же стало видно, что она взрослей и как-то вся слаженней.
Леонид, хотя и был выше ее, выглядел рядом с Викой как большой мальчишка, круглоголовый и белесый. У него было белое и нежное лицо, и танцевал он, слегка приоткрыв рот. И все же они подходили друг к другу.
Ребята, до этого топтавшиеся по краям площадки, тоже начали приглашать девушек. Стало шумно и весело.
Леонид любил танцевать. Он давно уже постиг искусство бережно вести свою даму в танце, но тут — странное дело! — хотя вел он, Вика точно подсказывала ему наперед каждое движение, словно бы манила за собой и ускользала, и он боялся, что она вдруг совсем исчезнет. И это опасение подтвердилось. Взглянув на ручные часики, Виктория покачала головой и вдруг вывернулась из его рук. Махнув рукой на прощанье, она исчезла в зеленой темноте, окружавшей танцплощадку, Леонид побежал за ней, но сразу стал налетать на стволы деревьев, а она исчезла, исчезла. Раздосадованный, взволнованный пришел он на станцию, — ему и самому пора было домой, — и еле успел на один из последних поездов.
2
Чтобы попасть к себе в комнату, Леониду нужно было пройти мимо комнаты, где жили мать и сестра. Дверь туда была открыта, и Леня увидел лучшую подругу сестры Галю Матусенко, которая сидела на диване рядом с сестрой. Галя взглянула на Леонида, и округлое личико ее разом вспыхнуло.
— Ленечка? — из глубины комнаты тягуче проговорила сестра — казалось, ей лень шевелить губами. — Вот Галя тебя и дождалась, ведь вы, кажется, собирались сегодня играть в четыре руки? — Она говорила со странным соединением сочувствия и насмешки, и то и другое предназначалось подруге.
Блестящие карие глаза Гали мгновенно вскинулись на Леонида и тут же опустились.
— Сегодня, пожалуй, поздно, а мне еще нужно с папой поговорить, — запинаясь, ответил Леня. — Ты уж извини меня, Галочка! Давай отложим... Боюсь, что папа спать ляжет.
Галя промолчала или не успела ответить. Леонид быстро прошел по коридору и постучался в кабинет отца.
Владимир Александрович лежал на ковре, покрывавшем едва ли не весь пол комнаты. Леню не удивила эта странная поза: только на полу можно было расстелить огромные карты местности, на которых работал его отец, архитектор-градостроитель. Увидев сына, Владимир Александрович приветливо улыбнулся, с некоторым усилием поднял с пола свою массивную фигуру.
— Я помешал тебе, папа?
— Ничего срочного, Ленечка. Ну, а как ты? Что у тебя? — спрашивал он, любуясь тем неудержимым весельем, которое выражало лицо сына. «Сейчас расскажет мне о чем-то своем...» — подумал Владимир Александрович.
— У меня сегодня, папа, большая удача, — сказал Леонид. — Помнишь, я рассказывал тебе, что предложил новую конструкцию узла? Так вот, генерал наш вызвал меня к себе и одобрил. Понимаешь, папа, при современном головокружительном прогрессе средств вооружения те методы проектирования, которые нашел наш Петр Васильевич, совершенно необходимы. Разве можно в наше время проектировать по старинке, когда между созданием проекта пушки и выпуском ее проходило два-три года? Ведь при таких медленных темпах оружие устаревает еще до выхода в массовое производство и надо проектировать новое, более совершенное. Вот почему конструктору нужно с самого начала исходить из технологических задач. Петр Васильевич так и сформулировал в свое время: конструктор должен мыслить технологически. И вот он за это-то особенно и похвалил меня...
Он продолжал говорить и улыбался матери, которая в это время вошла в комнату. Нина Леонидовна была видная собой, красивая женщина с надменным, усталым лицом. Она недовольно повела своими черными красивыми бровями, не желая вникать в непонятный ей разговор. Леонид замолчал, подошел к ней и обнял, она поцеловала его в русые, сильно поредевшие волосы.
— Лысеешь, лысеешь, — неодобрительно и заботливо-нежно говорила она, гладя сына по голове
Леня развел руками и засмеялся:
— Все умственный труд, мамочка, папа ведь тоже рано облысел!
Мать села в кресло.
— Я не хочу вмешиваться в ваши с отцом умственные труды, — капризно сказала она. — Но я всю жизнь свою отдала, чтобы дома у нас был порядок, без которого работа отца была бы невозможна. Взамен же я требую только одного: минимального соблюдения правил приличия. Ты назначил Галочке прийти сегодня вечером, поиграть с ней в четыре руки. Девочка приходит в назначенное время, ждет тебя три часа, а ты мало того что опаздываешь, но не считаешь нужным извиниться...
— Мама, я извинился и все объяснил!
— Извинение само собой, еще бы ты не извинился! Но что тебе стоило сесть с ней за рояль и сыграть какую-нибудь маленькую пьеску? А то девушка убежала вся в слезах...
— Но, мамочка, я ведь устал, ты бы все-таки пожалела меня. Вот я только что рассказывал папе, у меня сегодня такой трудный, ответственный день... — говорил он, краснея, так как ему въявь представилась действительная причина его опоздания: то, как чудесно было танцевать с этой странной, непонятной и чем-то привлекательной Викой Курбановской.
— Но ведь ты сам условился с Галей! — настойчиво повторила мать.
Отец, с усилием собиравший с ковра бумаги и в порядке укладывавший их на письменном столе, с улыбкой взглядывал на сына. Видно было, что он сочувствует ему, но не считает нужным вмешиваться в разговор.
— Я ведь не знал, мама, заранее, как сегодня сложатся обстоятельства, — пробормотал Леонид.
— Я знаю одно, — твердила мать, — с девочкой из порядочной семьи нельзя так поступать.
— Ты говоришь так, как будто есть девушки из каких-то других семей, с которыми можно поступать непорядочно! — вдруг с раздражением, внезапным для него самого, крикнул Леонид. Ему въявь представилось милое Викино лицо, ее особенная, еле приметная и долгая улыбка. И замечание матери показалось ему оскорбительным по отношению к Вике. — И что ты о Галиной семье знаешь? — продолжал он с раздражением, обращаясь к матери.
— Володя, ты слышишь, что он говорит? — с негодованием спросила Нина Леонидовна, обращаясь к мужу. — Илья Афанасьевич и Анна Маркеловна — она, правда, простая женщина, но ведь Илья Афанасьевич Матусенко, он такой коммунист... У него такие заслуги перед государством...
— О его заслугах мы знаем только от него самого. А то, что он садовые скамейки к себе на дачу из Берлина привез, об этом по всему дачному поселку слава идет. И хотя у них там везде цветы, мне кажется, что у них там воняет из каждого угла! — упрямо продолжал Леонид.
— У них воняет? — с недоумением и негодованием переспросила Нина Леонидовна. — У них такая чистота и гигиена. И какие еще скамейки?
Леонид вдруг схватился за голову — жест, в котором Владимир Александрович узнал себя, — и вышел из комнаты.
— Володя, что с ним? Может, у него неприятности? — спросила Нина Леонидовна.
— Ну что ты, Ниночка, — ответил Владимир Александрович, обняв жену и целуя ее в щеку, в то милое место, где под глазом на коже, уже несколько поблекшей, темнела родинка. — Совсем наоборот, у него сегодня очень удачный день, а эта вспышка — это следствие переутомления...
— Если переутомление, значит, нужно отдыхать, — размеренным и скрипучим голосом сказала Нина Леонидовна, сердито мотнув головой. — От нервного истощения есть витамин «Д». Я посоветуюсь с сестрами и дедом. (Отец Нины Леонидовны и две сестры были врачи.) А то что же он на людей кидается? И что за тон в разговоре со мной? Еще какие-то садовые скамейки выдумал...
— Нужно будет расспросить его, когда он успокоится, — говорил Владимир Александрович. — Но дело тут, конечно, не в садовых скамейках, а в его отношении к Гале.
— Ну а чем плоха Галя Матусенко? Красавица, воспитанная, золотая медаль по окончании школы ей уже обеспечена. Да я бы хотела, чтобы у меня была такая дочка, не то что наша бесстыдница Лелька, за которую мне все время краснеть приходится.
Владимир Александрович промолчал. Он очень любил свою дочь, но должен был признать, что она не выдерживает никакого сравнения с Галей Матусенко. Бездельница, неряха, да и красотой, прямо сказать, ее бог обидел. Способности к рисованию она унаследовала от него, поступила в художественный техникум, но и там учиться не хочет. Вместе с такими же бездельниками и бездельницами основали «студию левого искусства», как будто бы может быть какое-либо направление в искусстве, которое освобождает своего последователя от изучения элементарных правил! Владимир Александрович думал о дочке, жалел ее, беспокоился и делал вид, что внимательно слушает жену, хотя ему давно уже казалось, что она много лет говорит одно и то же.
— Ты меня не слушаешь? — раздраженно спросила Нина Леонидовна.
— То есть как это не слушаю? — торопливо возразил он. — Ты только что сказала, что надо было добиться, чтобы Леня поступил не в энергетический, а в институт внешних сношений...
— А ты считаешь, что это не так?
— Нина, — сказал он устало. — Ведь который раз у нас этот разговор! Разве можно идти против призвания? У мальчика призвание к точным наукам, к технике, и ты посмотри, чего он достиг? Ведь им гордиться можно. Как он твердо и определенно, еще со средней школы, выбрал математику и держится ее! И он не ошибся, призвание привело его к первым успехам.
— Ну и пусть! — с досадой сказала Нина Леонидовна. — Это мужское дело — призвание, карьера. Но уж насчет того, чтобы ему невесту подходящую подобрать, это мое, женское дело. Лучшей девушки, чем Галя Матусенко, я представить себе не могу. — Она грустно вздохнула и сказала: — Как они были бы хороши вдвоем, он в сером дипломатическом мундире, а она, такая обворожительная, в белом платье, сама чистота... И Лилечка мне говорила, что даже в старое время дипломаты считались, что называется, сливками общества.
Владимир Александрович, закинув голову, весело рассмеялся своим слабым смехом. Лилечка — это была самая старшая сестра Нины Леонидовны, придурковатая старая дева.
— Нинка, ты меня уморишь! — говорил он смеясь. — Ну неужели ты за всю жизнь, кроме Лилечки, не нашла лучшего оракула?
3
Лето все разгоралось. Зелень погрубела, по небу медленно проплывали кучеряво-белые с затененными донышками облака, но дождь не шел. Заседать в такое время тяжело, хотя окна все раскрыты. Но что сделаешь: раз надо — так надо!
На заседание бюро райкома Леонид Сомов пришел вовремя и сидел смирно. Ему не хотелось вникать в те вопросы, которые обсуждались, разгоряченная мысль его продолжала работу, от которой он с досадой оторвался, отправившись в райком. Он привык работать на бумаге, вычисляя, вычерчивая, и под рукой его, на странице в блокноте, вычертилась спираль, потом другая, третья, — все затруднение было сейчас в этой спиральной пружине, точнее сказать, в том, какую формулу применить к ее установке. Он уже начал писать формулу, но почувствовал на себе недовольный взгляд темных глаз Сени Казачкова — секретаря райкома комсомола — и стал прислушиваться к тому, что говорил секретарь райкома партии Паримов, который сидел у открытого окна, чтобы иметь возможность курить и пускать дым в окошко. На повестке дня стоял вопрос о вовлечении в комсомол, — ради этого вопроса Паримов и пришел на заседание. Не проронив ни слова, выслушал он краткое сообщение о количестве вступивших за последний год в комсомол по всему району — и на производстве, и в шести средних школах, и в двух техникумах. Когда сообщение кончилось, никто слова не взял, все поглядывали на Паримова с интересом, — уж если он еще до заседания справлялся по телефону, каким пунктом в повестке дня стоит этот вопрос, значит, он какой-то сюрприз приготовил. Но приятное свежее лицо Паримова со шрамом на щеке, который не портил, а особенно подчеркивал его мужественность, было непроницаемо, пожалуй даже скучливо. Подождав, не возьмет ли кто-нибудь слова, Паримов вынул из кармана блокнот, раскрыл его и сказал довольно благодушно:
— Что ж, если судить по сообщению, дела у вас идут недурно. Растете за счет хорошей молодежи. — Он помолчал, хмыкнул и добавил: — Собираете урожай, который не вы сеяли...
— Почему это не мы? — спросил Сеня Казачков, сердито краснея. — Кто же еще кроме нас сеял?
— Изволь, скажу! Сеяла его советская власть и Коммунистическая партия. При социалистическом строе и при повсеместно ведущейся коммунистической пропаганде те двести восемьдесят три человека, которые фигурируют в твоем сообщении, все равно пришли бы в комсомол, вели бы вы работу по вовлечению их в комсомол или не вели... Вот это я и называю собирать урожай, который не вы сеяли. Погодите, не вскакивайте и не машите на меня руками, я не овод и в окно не улечу. Вот лучше послушайте меня до конца. Я тоже подготовился к вашему заседанию и принес кое-какие данные. Вот послушайте-ка... — И он стал размеренно читать, глядя в свой блокнот: — Арбузов Дмитрий Евгеньевич, двадцати трех лет, преподаватель русского языка в техникуме. Он в нашей газете статьи пишет, печатается в «Учительской газете». Почему же такой человек беспартийный и кто его прозевал? Асатуров Геворг Ашотович, работает в конструкторском бюро номер один, возраст двадцать лет, по службе дважды премирован крупными денежными суммами, имеет благодарность по приказам, а в рядах комсомола не состоит. Почему?
Паримов с интонацией некоторого торжества продолжал читать список, и все, кто присутствовал на собрании, уже догадывались, куда он клонит. Догадался и Леонид. Геворга Асатурова он знал, это был его приятель. Как же получилось, что он не в комсомоле? Леонид всегда считал Геворга комсомольцем, и активным комсомольцем. Он задумался об Асатурове и вздрогнул, когда Паримов так же монотонно, назидательно прочел в своем блокноте:
— Курбановская Виктория Петровна, двадцать три года, в два раза перевыполняет норму, учится в вечерней школе для взрослых и преуспевает. Беспартийная. Почему?
Паримов дочитал свой список до конца, всего в нем было тридцать пять человек. В заключение, похлопав блокнотом по своей широкой ладони, он сказал:
— Составлен этот список несовершенным, самым бюрократическим способом. Но я уверен, что, если бы взяться за это дело снизу, можно было бы найти еще столько же человек, которых вы, уважаемые товарищи, прозевали и которым место не только в комсомоле, но кое-кому, по возрасту, даже и в партии. Все это — цвет молодежи, и работать с ними должны были бы вы! Что вы делали, чтобы растить этих людей? Чтобы вовлекать их в активную политическую деятельность?
— Кое-что все-таки делали, Дмитрий Евгеньевич, — сердито возразил Казачков. — Вот хотя бы взять эту Курбановскую с РТЗ, которую вы упоминали. Когда у них в бригаде возник конфликт, мы послали члена нашего бюро Леонида Сомова, и он разобрался во всех этих делах и добился ликвидации конфликта.
Паримов мельком взглянул в сторону Леонида и сказал:
— Насчет полезной деятельности Леонида Сомова на РТЗ нам известно, потому что мы ваши протоколы все-таки читаем. Но нас в данный момент интересует другое. А именно: что товарищ Леонид Сомов сделал, чтобы вовлечь Курбановскую в активную общественную жизнь?
Леонид встал с места.
— Я над этим как-то не задумывался, — сказал он, краснея. — Вот хотя бы Юрка Асатуров, о котором тут шла речь. Встречаемся мы каждый день, можно сказать — приятели, а я только сейчас осознал, что он не в комсомоле. А насчет Вики Курбановской... — Он смущенно замолчал, боясь, что вдруг кто-нибудь с места скажет: «На танцплощадке мы тебя с ней видели, а вот насчет вовлечения в активную политическую жизнь...»
Но никто ничего не сказал.
Леонид взял обязательство вовлечь в комсомол Асатурова, Курбановскую и Шилову. Эту худенькую девочку с косичками Леонид тоже знал, она была староста математического кружка в молодежном клубе. Занятие этого кружка, который вел Леонид, должно быть завтра, после работы. Там он встретится с ней. Асатурова он тоже увидит завтра на работе. Но вот как быть с Викторией? Со времени той встречи на танцплощадке прошло несколько недель, а он за это время видел ее всего три или четыре раза, и ему казалось, что она как будто избегала его. Леонид приблизительно знал, где живет Вика, и решил сразу после заседания пойти к ней.
Семь часов вечера, дневная жара еще не спала, в Москву ехать все равно душно и противно. Леонид неторопливо шел туда, где в двух километрах от поселка вытянулся ряд старых, сохранившихся еще с дореволюционных времен, когда-то изящных, а сейчас побуревших и замызганных дач. Большие Сосны давно уже перестали быть дачным местом. Люди, которые жили сейчас в дачах и в новых домах, построенных в Больших Соснах, работали на новых предприятиях, на железной дороге, обзавелись огородами, коровами Леониду один раз удалось проводить Вику до ее дома, — да, иначе не скажешь, именно удалось. Он случайно встретил ее после работы, в руках она несла авоську, а на спине вещевой мешок, набитый продуктами. Мешок она ему так и не отдала, но авоську он все-таки выдрал у нее из рук. Шел мелкий дождь, из-под прозрачного капюшона выбивались рыжеватые колечки ее кудрей, она вся раскраснелась. Он не сводил с нее глаз, она даже казалась ему лучше, чем он представлял ее себе все то время, пока не видел ее. В другой раз он встретил ее возле кино, она с подругой вышла после сеанса, и, хотя у него был билет в кино, он присоединился к ним и проводил их до проходной завода. Вика была к нему ласкова, благодарила его за то, что он помирил ее с бригадой. «Ты дал мне путевку в жизнь», — говорила она будто бы со смехом, но во взгляде ее была серьезная благодарность.
Но каждый раз, когда он пытался сговориться о следующей встрече, всегда получалось, что ей некогда. И как же это кстати получится, что он не нахалом, а по поручению райкома пойдет к ней!
Он шел и думал о том, что совсем не знает ее. Вот оказывается, она на два года старше его; это занимало его, как все, что ее касалось.
«Может, она стыдится того, что старше меня?» — думал он, проходя по пыльной дорожке мимо дачных палисадников.
4
В конце прошлого года Леонид слушал на партийном активе доклад председателя Большесосненского городского совета об итогах социалистического соревнования за 1951 год. Тогда он не обратил внимания, что среди множества передовиков района была названа и фамилия Курбановской. Но потом в прениях выступила Таня Черкасова и сказала, что не следовало выставлять на Доске почета портрет Курбановской, так как она хотя и работает на заводе неплохо, но не хочет делиться своим производственным опытом с товарищами по бригаде. Таню Черкасову Леонид знал с прошлой весны, когда он только пришел в конструкторское бюро № 1 и Большесосненский райком комсомола назначил его в порядке комсомольской нагрузки присутствовать на экзаменах в вечерней школе рабочей молодежи. Черкасова хотя и волновалась, но сдала тогда экзамен на «отлично». И Леня симпатизировал этой черноволосой строгой девушке с длинным лицом и, слушая ее, неодобрительно думал о какой-то там Курбановской, которая ведет себя не по-товарищески, неэтично.
Но после выступления Черкасовой тут же взял слово председатель завкома РТЗ Малахов и сказал, что выступление Черкасовой носит характер травли беспартийной стахановки Курбановской. Малахов был высокий, с измученным лицом и глубоким шрамом на лбу человек, в военном мундире, довольно поношенном, и с несколькими орденскими ленточками на груди. Для Леонида такие люди, участники Отечественной войны, обладали безусловным авторитетом, и потому выступление Малахова сразу же сильно поколебало его симпатию к Черкасовой.
В перерыве он увидел в фойе Черкасову и Малахова, спор между ними продолжался, громкий спор, который собрал вокруг себя людей. Леонид подошел тоже. Черкасова, беспокойно оглядываясь, продолжала твердить, что Курбановская «для своего «я» готова на все» и что она «показушница».
— Вот уж это неправда, — вмешалась в разговор темноглазая, гладко причесанная женщина с приятным лицом. — Я Вику Курбановскую с войны знаю, она у меня в ремесленном была лучшая ученица. Ты, Черкасова, тогда еще рот разевала и ждала, что тебе туда родители положат, а Вика рекорды уже ставила.
— А что я младше ее, так я не виновата. А она — показушница! — упрямо повторила Таня.
— Я этих ваших новых слов не понимаю, — сердито сказала миловидная женщина, заступившаяся за Курбановскую. — Только мы все показатели по соцсоревнованию проверяли, и никакого очковтирательства со стороны Курбановской нет...
— А я и не говорю, что она очковтирательница! Она хорошо работает, но все это для показухи. И притом от товарищей по бригаде секретничает...
Выходя из Дворца культуры, Леня остановился возле ярко освещенной Доски почета и нашел там портрет Виктории Курбановской. «РТЗ. бесп. 183% плана» — было написано под фотографией большелобой девушки. Среди шестнадцати других одинакового формата портретов этот портрет ничем не выделялся.
А спустя несколько дней Паримов поставил на бюро райкома комсомола вопрос о конфликте в одной из токарных бригад РТЗ, которая в большинстве своем состояла из молодежи. Леонид имел тогда неосторожность сказать, что хотя Черкасова хорошая комсомолка и неплохо учится в вечерней школе, но выступление ее на партактиве было недостаточно аргументировано и носило личный характер. Так Леонид схлопотал себе еще одну нагрузку: ему тут же поручили отправиться на РТЗ, разобрать конфликт в бригаде Черкасовой и по возможности его уладить.
Возле большого своего станка Курбановская двигалась легко и быстро, — она работала двумя руками, и это ее безусловное преимущество Леонид обнаружил с первого взгляда. Но главная причина ее успешной работы Леониду стала понятна не сразу.
Первое общее собрание бригады, на котором по настоянию Леонида Курбановская сделала сообщение о своем опыте, не дало никаких результатов. Казалось, ее никак нельзя было обвинить в том, что она скрывает какие-либо секреты. Она говорила о том, как она изучила свой станок, и в ее немногих и сдержанных словах слышна была любовь к своей работе.
— Нужно так уметь подбирать заказы, чтобы тратить минимум времени на смену приспособлений при переходе от одного заказа к другому, а за станком надо ухаживать, не жалея на это времени, — говорила она.
Это все были бесспорные истины, но чего-то в словах Курбановской словно бы не хватало, хотя нельзя было обвинить ее в том, что она что-то скрывает. Леонид тогда еще сам не уяснил себе, как именно Курбановская добивается успеха, и попросил ее как-нибудь после работы задержаться и поговорить с ним. Она охотно согласилась.
— Что это значит «с толком подбирать заказы»? — спросил он, заглядывая в свой блокнот.
— Очень просто, — ответила она. — Сейчас наш завод не производит массовой продукции, а держится на случайных заказах, которые перехватывает то там, то тут. Бывает, что за неделю на одном станке проходит несколько заказов. Я добиваюсь для себя таких нарядов, которые сообразовались бы с возможностями станка и не требовали бы его полной переналадки. Соображаю: какие именно резцы нужно заготовить заблаговременно, когда их сменять, чтобы брали меньше времени. Я и сама могу нужный мне резец отработать. И раньше, чем приступить к работе, я сама все заранее соображу и работаю с таким расчетом, чтобы сберечь рабочее время. Вот и создается экономия за счет того, что я зря не останавливаю станок во время работы. У меня все приспособления заранее приготовлены и все резцы заранее заточены... — говорила она, раскрасневшись, поблескивая своими небольшими четкими глазами и вся выпрямившись.
— Так почему же вы всего этого не рассказали на собрании бригады? — спросил Леонид.
— То есть как это не рассказала? Я все это рассказала и в бригаде, и в цеху... Ну а если они не понимают? Ведь я за них думать не могу, им дают одни заказы, а мне другие. Они что им раньше сунут, то и ставят на станок, сами думать не хотят. Наладчик за нее думает, приносит ей все приспособления и устанавливает. А ему что? Ему на станке не работать, вот и получается, что эти приспособления надо еще обратно приспособлять... Тут Черкасова говорила, будто я выбираю себе, что полегче, а неправда это! Бывает, я беру себе самые трудные заказы. Вот за это меня директор и завком одобряют, а совсем не потому, что я напоказ работаю, — говорила она, хмурясь, со злостью и вдруг весело и звонко рассмеялась: — Директор говорит: наша Вика (это я!) дюже сноровисто работает... А я даже этих слов не понимаю, какая-то старина! Я только одно понимаю: станки у нас хорошие, из них можно много выжать. Техника!
— Ну положим, в сравнении с новейшими автоматами ваши станки уже устарели, — сказал Леонид.
— А чего мне новейшие! Мой станок молодец! — и Вика похлопала своей замасленной рукой по массивной серой бабке станка. Леонид еще тогда обратил внимание, что у нее длинные красивые пальцы. — Только требует ухода и понимания. А наш наладчик, разве он понимает станки?
— А, так, значит, выходит, ты сама себе наладчик? А всем остальным он налаживает? — оживленно сказал Леонид, сам не замечая, что перешел с ней на «ты».
— Да, пожалуй, что так... — как-то неохотно ответила Вика.
Вообще Леня с честью справился тогда с этим трудным делом. Он предложил, чтобы бригадир вместе с мастером распределяли бы заказы по станкам, чтобы наладчик помогал заблаговременно подбирать все инструменты и приспособления. Потом, когда обнаружилось, что наладчик с этим делом попросту не справляется, его убрали и назначили другого. Леонид даже уговорил Вику Курбановскую обучить своих подруг работать двумя руками. И в первую же неделю выработка начала повышаться.
С тех пор и до встречи на танцевальной площадке он не видел ее, а со времени этой встречи началось что-то другое, чего раньше не было и о чем не хотелось раздумывать. Да и о чем раздумывать? Он получил поручение бюро и должен его выполнить...
Леонид помнил, что участок вокруг дома, в котором жила Вика, огорожен проволокой...
Вот она, проволока, старая, проржавленная. И дачу он сразу узнал — наверху нежилой, похожий на голубятню мезонин с одним окошком, без стекол.
Между грядок ходила очень чистенькая, в белом платочке на голове старушка и поливала грядки.
— Здравствуйте! — громко сказал Леонид.
Когда старушка подняла на него морщинистое, со спекшимся румянцем лицо, он спросил:
— Скажите, как мне пройти к товарищ Курбановской?
Старуха, вдруг схватившись за щеки, устремила на него свои светлые, когда-то, наверное, голубые глаза, и он прочел в них такой ужас, что, едва вслушавшись в то, что выговаривали ее пожухлые губы, и уловив нечто вроде: «Они тут давно не живут!», он тут же повернулся и пошел прочь. Но, сделав несколько шагов, Леня оглянулся, — ведь не могло же быть, что он ошибся? Это был тот самый дом, до которого он провожал Вику. Конечно, тогда шел дождь, но не мог же он ошибиться среди бела дня! И проволока вместо забора, и грядки вместо цветников, и колодезь в глубине участка, и черное окно мезонина. В этом окне он сейчас увидел Вику, которая, перегнувшись, переговаривалась со старушкой. И, сразу обрадовавшись, он крикнул:
— Вика!
Позабыв обо всем, что произошло между ним и старушкой, он быстрыми шагами возвращался к дому, так как видел, что Вика тоже обрадовалась ему. Но она тут же нахмурилась, отрицательно покачала головой, погрозила ему пальцем и исчезла. Леонид не знал, что все это должно означать, и остановился. Может, она хотела, чтобы он ушел? Но он не мог уйти...
Да и не надо было уходить. Вика, в каком-то стареньком, вылинявшем платьице с короткими рукавами, легко бежала к нему, лицо у нее было встревоженное и недовольное. Она подошла к Леониду, от нее пахло стиральным мылом. Значит, там, в мезонине, она стирала. И, отвечая на хмурое выражение ее лица, как бы оправдываясь, он сказал:
— Я к вам, Вика, по делу... Право... — Он обрадовался, увидев вблизи ее хоть и хмурое, но привлекательное, раскрасневшееся (наверно, от стирки!) лицо. Схватив ее горячую и влажную руку, которую она ему протянула, он стал так тискать ее в своих руках, что Вика сердито отняла у него руку.
— Ну, какое еще дело? — неприветливо спросила она, оглядываясь кругом, и гибко опустилась на дощатый мостик, перекинутый через канаву. Он сел рядом.
— Какое еще дело? — снова требовательно спросила она.
Леня откашлялся.
— Я давно уже, Вика, собирался задать вам один вопрос. И вот сегодня пришел, чтобы это выяснить...
Она быстро, так, как это только ей было свойственно, взглянула на него своими зелеными, четко вырисованными глазами, и легкая улыбка появилась на ее губах.
— Это вопрос о комсомоле, — настойчиво продолжал Леонид, стараясь не обращать внимания на ее непонятную и всегда волнующую его улыбку. — Еще тогда, во время конфликта в вашей бригаде, мне хотелось вас спросить... Но тогда я сам объяснил себе, что вы не можете вступить в комсомол, пока у вас ненормальные отношения в бригаде. Сейчас же, когда все это ликвидировано, я никак не могу понять, почему вы вне комсомола? Если вам нужна рекомендация...
Вика перебила его:
— Значит, я веду себя по-комсомольски? Зачем же мне вступать в комсомол, когда я и без комсомола все требования комсомола исполняю?
— То есть как это зачем? — возмущенно спросил Леонид. — Ведь по убеждению ты коммунистка? А комсомол тебе поможет в твоем росте, да и ты принесешь пользу...
— А кто же научил меня помогать моим товарищам, как не ты... не вы... — поправилась она. — Хотя я и не в комсомоле.
Вика взглянула на Леонида и грустно, и с ласковой признательностью, и он вдруг все забыл, у него даже дыхание перехватило. Он не знал, что ему сказать, но она тут же зябко поежилась, вскочила и сказала резко:
— Вот что, оставим-ка этот разговор раз и навсегда! Ни в комсомол, ни в партию вступать я не буду. За доверие благодарю, но этого не будет, не будет, не будет!
Вика круто повернулась и пошла прочь.
«Что же, значит, она просто так и уйдет? Нет, этого нельзя допустить!» И он крикнул просительно и даже жалобно:
— Вика!.. Погоди, Вика...
Она остановилась, Леня мгновенно догнал ее. Он сбивчиво говорил совсем о другом: о том, что скучает по ней, когда долго не видит, что ему хочется встречаться с ней чаще.
— Ну, правда, Вика, почему бы нам не встречаться? — спросил он и словно захлебнулся от волнения.
Она стояла перед ним, зябко охватив себя за локти и не поднимая глаз на него.
— Я не знаю, когда мы сможем встречаться, — сказала она, вороша носком своей тапочки песок. — Сразу после работы я тороплюсь в вечернюю школу и до дому добираюсь такая усталая, что, как приду домой, валюсь и сплю, а когда просыпаюсь, нужно хозяйством заняться: пошить, постирать... Вот я сейчас оставила стирку.
— Ну и хорошо, — сказал он, — ты и шей, и стирай, а я буду с тобой разговаривать.
Вика быстро, с озорным весельем, снизу вверх оглядела его.
— Будешь проводить со мной индивидуальную работу? По вовлечению в комсомол? — спросила она.
По правде сказать, он забыл об этой своей задаче, но, несмотря на ее насмешливый тон, решительно ответил:
— Да, буду!
И тут вдруг выражение нежности осветило ее лицо, сделало ее совсем юной, и она быстро провела ладонью по его щеке. Это прикосновение словно ожгло его.
— Бра-атец... — сказала она протяжным шепотом. — Ну ладно, я скажу тебе всю правду, почему я не могу вступить ни в комсомол, ни в партию. Ты тридцать седьмой год помнишь?
— Тридцать седьмой? — переспросил Леня, держа ее за руку. Это получилось как-то само собой. — Сейчас вспомню... Тридцать седьмой... Война в Испании, Долорес Ибаррури, мы только об этом и говорили, когда у нас был пионерский поход по Москве-реке до Звенигорода. Испанские апельсины продавали на улицах в красивых бумажках. Потом разгром троцкистских гнезд, но я этого не помню, мы в вузе об этом учили...
Он увидел вдруг, как лицо ее омрачилось, и сказал, извиняясь:
— Мне было восемь лет тогда, я только во второй класс перешел...
— А я в четвертый, — медленно говорила она. — Видишь, какая я старуха? Я всегда была первой ученицей и перешла с наградой, и может, ты не поверишь, но я очень хорошо танцевала, отец хотел, чтобы я в балетный техникум перешла. Но все это кончилось. Не хочется вспоминать о том, что произошло, но надо, чтобы ты понял. До этого проклятого тридцать седьмого года я была счастлива и не представляла, что можно жить иначе. А осенью тридцать седьмого отца арестовали, мать тут же сошла с ума, и со мной начались такие несчастья, такие несчастья...
Вика медленно шла, глядя себе под ноги, Леонид ловил каждое ее слово.
— Наверное, если бы я осталась в Москве, мне, было бы лучше, — словно размышляя, говорила она. — Но что может понимать десятилетняя девочка? Я знала, что у папы есть брат в Минске, что у меня там двоюродные братья. У меня был их адрес. И как только все это случилось и маму увезли в сумасшедший дом, я села на поезд и поехала к ним... — Она вздохнула. — Если бы дядя не сказал сразу грубых слов об отце, может, все обошлось бы. Но он мало того что сказал, он потребовал, чтобы я отмежевалась от отца, он так и выразился! А я ответила то же, что и сейчас думаю: лучше моего отца не может быть коммуниста, и он ни в чем не виноват. Я ушла от них и вернулась в Москву. К началу занятий я опоздала, мне сделали выговор, я приняла его как каменная. Потом на пионерском сборе меня спросили об отце, и опять я сказала то же самое... Плохо мне было, Ленечка... С учением все разладилось, да и какое учение? Одни мысли об отце и матери. Ну, к маме хоть пускать стали. Трудно мне обо всем этом рассказывать... Дружба у меня переломилась, ведь все считали, что я дочь врага народа. Тут я из школы ушла, поступила в ремесленное, зарабатывать все-таки надо было, денег-то ведь неоткуда брать. Плохо мне было... Может быть, я сама виновата, но я гордая, мне было плохо, а не хотелось этого показывать. Так и жила до войны. Но ты помнишь, как Сталин по радио сказал: «К вам обращаюсь я, друзья мои!» Или ты еще маленький был... А все-таки помнишь! Я и до этого хорошо усвоила производство, ну а тут взялась вовсю. А когда фронт к Москве подошел, тут был к нам, ремесленникам, призыв — кто хочет оставаться работать в прифронтовых условиях? Я изъявила желание, и нас перевели в мастерские по ремонту танков. К тому времени мама поправилась немного, и я ее к себе жить взяла. В цеху я по производительности труда стала одна из первых... Ты тетю Шуру Кострову знаешь, ну помнишь, ты рассказывал, что она за меня заступилась, когда Таня Черкасова на меня нападала? Это тетя Шура Кострова была к нам, к молодежи, прикреплена, нас обучала и крепко меня агитировала, чтобы я в комсомол вступила... Что ж, у меня и самой сердце туда стремилось. Написала заявление. Встретили хорошо. Но тут же вопрос: а что скажешь о своем отце? А я ответила, что всем, чего я добилась, я обязана воспитанию отца и врагом народа его не могу считать. Ну и постановили воздержаться. Понял? Сильно у меня тогда болело, но отболело. Все. Ни к чему мне это, и так можно жить... — Она помолчала, остановилась, взявшись рукой за калитку, к которой они подошли. — Ну видишь, что получается? Ни в комсомол, ни в партию никогда я не вступлю, и тебе ходить ко мне совсем ни к чему. Мама моя хотя тихая, но совсем помешанная. Что она тебе такое сказала, что ты сразу повернулся и ушел?
— Она сказала, что вы здесь не живете. А я ведь помню, что тебя именно сюда провожал...
Вика опять помрачнела:
— Вот видишь, мало чего она еще начнет плести... Ни к чему тебе к нам ходить, право...
Но Леонид слышал в ее голосе что-то противоречащее словам. И хотя его жизнь сложилась совсем непохоже на ее жизнь, но это была одна общая советская жизнь, и он с волнением и сочувствием слушал эту непонятную и с каждой минутой делавшуюся все более привлекательной девушку. Все, что происходило до войны, было для Лени временем безмятежного детства. С первого дня войны их семья эвакуировалась в глубокий тыл, но душа его проснулась в те дни, когда тяжелый стыд отступления от границ Советского Союза и захват фашистами огромных территорий пробудили патриотические чувства в каждом советском человеке от мала до велика. О, эта карта Советского Союза, где приходилось каждый день переставлять красные флажки слева направо, с запада на восток! Леня и географию-то впервые изучил по этой карте! И время словно остановилось, когда остановился фронт, когда к Сталинграду устремлены были и дневные мысли и ночные сны. И вот беспримерное поражение фашистов, и красные флажки двинулись справа налево! Все для победы. И в то время, когда Вика под Москвой работала за станком, Леня сажал картошку в Приуралье, а потом в летний зной окучивал, а потом под студеным сибирским ветром рыл ее, зная, что пойдет она рабочим артиллерийского завода. Это было первое радостное удовлетворение: он этой картошкой помогал фронту. И хотя он об этом никогда и никому не сказал — даже отцу, которому он доверял во всем, — но, когда, вернувшись в Москву, еще в доме пионеров он стал посещать артиллерийский кружок, это все было продолжением тех мыслей, которые зародились у него на студеном сибирском ветру, когда он, разгоряченный, рыл картошку.
— С тех пор я выбрал себе артиллерийскую специальность, — говорил он, держа Викину руку в своей руке. — Конечно, у меня были способности к математике, это да. Но я сказал себе, веришь ли, так и сказал: никогда, никогда, никогда враг не вступит на нашу землю!
Вика кивнула головой. Она молча слушала. Была уже ночь, белесоватая подмосковная ночь.
5
Как всегда после приема снотворного, Владимиру Александровичу было трудно просыпаться. Мозги лежали тяжело и неподвижно, веки не размежались. Но действовала сила многолетней привычки подниматься с постели в полвосьмого утра, и, хотя тошнота щекотала горло, он уже сидел на постели, сидел и оглядывал знакомую обстановку кабинета. Взгляд его уцепился за папки, кучкой сложенные на письменном столе, разноцветные папки, зеленые, оранжевые, папки магазинные и папки самодельные, небрежно и любовно склеенные. В каждой папке — проект города или поселка, плод кропотливой работы аспирантов...
И Владимир Александрович, большой, внушительный даже в своей ночной пижаме, прошел к письменному столу, прошел непроизвольно: содержимое каждой папки было изучено и обдумано еще вчера вечером. Сегодня предстоит пройти от стенда к стенду, — макет нового или по-новому перестраиваемого города предстанет перед ним. Он взглянул на часы, — без четверти восемь. Нужно поторапливаться, скорей в ванную, потом завтракать, без четверти девять внизу будет ждать машина.
Из ванной он уже одетый прошел в кухню. Душ и бритье взбодрили его, но обычной утренней бодрости все-таки не было, — сказывался недосып. Когда был помоложе, он после такого ночного недосыпания позволял себе с утра тяпнуть стопочку. Изуверы врачи с ведома и согласия Нины Леонидовны наложили запрет на стопочку, с утра приходится довольствоваться гречневой кашей и стаканом крепкого чая. Нина Леонидовна хотела наложить запрет и на этот «наркотик», но тут врачи ее не поддержали.
Сегодня каша своей преснотой встает поперек горла, да к тому же она еще и пригорела. Владимир Александрович отодвинул тарелку и недовольно спросил:
— Скажите, Дуся, неужели вы у себя дома кашу не варили?
Дуся, новая домработница, не поворачивая к нему лица от газовой плиты, — разговор шел на кухне, которая у Сомовых была оборудована под столовую, — ответила хрипловатым басом:
— А то! Как же не варила? Кто же кроме меня? Отец в войну убитый, мать на работе, ребят четверо, я старшая, я и варю, и шью, и стираю! Было бы что варить... — добавила она, обернувшись. Прямые русые волосы, светленькие бровки, носик прямой, лицо чистое, с бледным румянцем, в улыбке и робость, и некоторое озорство.
— И они, конечно, едят, выхода у них нет? — не без ехидства спросил Владимир Александрович, просматривая газеты и отхлебывая молоко.
Светленькие бровки дернулись, нижняя губа обиженно вытянулась вперед.
— Чего же насмехаться? Я и Нине Леонидовне вчера говорила, что я обвыкла в своей кастрюльке варить. В наш горшок я на глаз знаю, чего и сколько положить, и сколь воды налить, и сколь держать. Да ничего, привыкну...
Владимир Александрович поглощал хлеб с сыром и следил за действиями Дуси. Она заваривала чай.
— Чайник кипятком ополосните, — подсказал он. — Вот так. Три ложки засыпьте...
— А Нина Леонидовна наказала две ложки заварки сыпать, — темно-синие глазки взглядывают с любопытством: «Что будет? Хозяйка одно велит, хозяин другое. Интересно...»
— Ничего, сыпьте три в мою голову!
Дуся заговорщически кивает головой и засыпает в чайник три ложки чаю.
— Теперь сразу кипятком заливайте, снимите крышку с большого чайника, чтобы томился. Эх, самовара нету, на конфорку бы поставили. У вас в деревне самовар есть?
— А то! У нас и самовар и швейная машинка. При фашистах еще в хлеву зарывали, не нашли они. А подушку с одеялами не уберегли, все, проклятый, заграбастал, все материно приданое. И корову свел! А каково детей без коровы растить... У нас сад хороший, яблоневый на приусадебном участке, он нас выручал. Яблоки — во! Продаем, молоко покупаем, так, глядишь, зиму и держимся. А теперь налог на них, на яблони, наложили, мать осерчала, испорчу, говорит, сад. Я еле упросила.
— А как можно испортить сад? — спросил Владимир Александрович.
— Простое дело, ведро кипятку под корень вылить, вот дерево и спекётся. Многие так делают. А я не дала. Лучше, говорю, в город пойду работать, что заработаю, вам пришлю, а губить деревья не дам! У меня крестная в дворниках в этом доме, вот я и нанялась к вам.
Она рассказывала, по-бабьи подперев подбородок. Ситцевое платье все штопано-перештопано, но чисто, даже придирчивая Нина Леонидовна отметила это положительное качество новой домашней работницы, хотя каждый день поносит ее за бестолковость и любопытство.
С чувством вины слушал Владимир Александрович рассказ об этом деревенском «не разбери-поймешь». Казалось бы, сейчас все должно быть хорошо в деревне. А получается, что плохо. И нельзя, как в молодости, во всем разбираться и во все вмешиваться, нельзя потому, что силы уже не те, а есть свое дело, за которое он отвечает, за которое с него спросят, и не когда-нибудь, не завтра, а сегодня, сейчас, как только он придет в Академию.
— В газетах что слышно? Про войну не пишут? — спросила Дуся.
Владимир Александрович рассказал.
— Главное, что американские буржуи привыкли чужими руками доллары загребать! — сказала Дуся. — А народ у них войны на своей шкуре не пробовал, простоты в нем много...
«Нет, не так уж она бестолкова, как думает Нина Леонидовна...»
— А зачем вы, Дуся, пошли в домработницы? Поступили бы лучше на производство... — сказал Владимир Александрович.
Дуся бросила на него быстрый и тревожный взгляд.
— Да вы не смотрите, если я чего не так делаю, я обвыкну. — В голосе ее слышна предательская дрожь, еще не дай бог заплачет.
— Ну конечно, обвыкнете! А что я кашу не съел, так это ничего, вы ее в мусоропровод выбросьте, никто не узнает.
Синенькие глаза смотрят с признательностью.
— Ну, я пошел, — вставая и вытирая рот салфеткой, сказал Владимир Александрович. «Какая она все-таки маленькая и молоденькая...» — Если Нина Леонидовна и Леля уйдут из дома, вы сами подходите к телефону, когда он позвонит.
— А как он звонит без звонка, да еще вертушка какая-то?..
Владимир Александрович показал Дусе, как обращаться с телефоном, и добавил:
— Вот на этом листе бумаги записывайте фамилии тех, кто позвонит. Вы грамотная?
Вот тут она и вправду обиделась, быстро заморгала глазами, ресницы пушистые, золотистые; стало особенно заметно, что она еще очень молоденькая, совсем девочка...
— Я семь классов кончила... — шепотом сказала она.
— Ну и прекрасно! — смутился Владимир Александрович и поскорее вышел из кухни. «И что за глупость! — корил он сам себя. — Кто же теперь у нас неграмотный! И такая девочка, прямая, толковая, с несомненным присутствием независимости и собственного достоинства, воспитанными советским строем, вынуждена уехать из деревни! Неладно все это...»
Но раздумывать было некогда. Владимир Александрович сбежал вниз, где у подъезда стояла машина, не обычный кованый и клепаный «газик», который к нему прикреплен, а огромный зернисто-черный «ЗИС», в котором положено ездить самому президенту Академии Фивейскому. Но сейчас Фивейский уехал на три месяца в Кисловодск, и, поскольку Сомов его замещает, «ЗИС» подается ему, и вместо веселого старичка-говоруна Ивана Сергеевича за баранкой сидит полный глупого самомнения, словно из чугуна отлитый Степан Михайлович, из которого и слова не выжмешь.
Машина двигалась по извечно знакомым улицам центра, взлетела на широкий мост, и вот оттуда уже виден красавец университет, ничего не скажешь — хорош! А вот среди перерытых, уродливых косогоров видно уже новое, только в этом году законченное здание их Академии. В сравнении с университетом Академия, прекрасно спроектированная, кажется несколько приземистой. Это все капризы Антона Георгиевича Фивейского, который не любит лифтов, в угоду ему лестница с первого этажа на второй построена до предела отлого, а он все равно поднимается кряхтя, задыхаясь и принимая сердечные снадобья. Вспоминая старика и усмехаясь, Владимир Александрович легко взбежал по этой лестнице, — приятно сознавать, что еще может, хотя, признаться, взбежав, почувствовал сердце.
Дверь в приемную президента открыта, чернобровая и седая Раиса Вячеславовна, заведующая приемной, выплыла ему навстречу, — видно, поджидала, потому и дверь открыла.
— Здравствуйте, Владимир Александрович... — говорит она с неизменным оттенком вежливой иронии. — Зная вашу нелюбовь к нашим покоям, я подстерегаю вас здесь. Вас поджидает какой-то генерал.
Владимир Александрович быстро взглянул на часы. Нет, он не опоздал!
— Ко мне? Так рано?
— Я когда пришла на службу, он уже сидел в машине и читал газеты. Когда я выразила свое удивление, он сказал, что с молодых лет знает ваши привычки, что лучше всего застать с утра, и потом еще какую-то глупую поговорку привел, про раннюю и позднюю пташку, кто-то из них носок прочищает...
— Так это, наверное, Алексей Алексеевич! Он мне дня три тому назад звонил, и я еще хотел к нему подъехать, а он сказал, что сам с утра к нам приедет, не сегодня-завтра. И эту же поговорку сказал... Где он?
— Людмила Петровна еще не пришла (это была секретарша Сомова), так я его провела в приемную президента! Пожалуйста!
Точно, это был Алексей Алексеевич Касьяненко. Потолстевший и ставший осанистым в генеральском мундире, — не то что раньше, когда он ходил в холстинковом, всегда немного помятом пиджаке, каким запомнил его Сомов смолоду, — Касьяненко поднялся навстречу Сомову. Владимир Александрович помнил, что раньше у Алексея Алексеевича были русые волосы, аккуратно разделенные надвое прямым пробором, сейчас на его круглой сияющей голове не было ни одного волоса. Но любопытствующее, живое выражение как утвердилось на его лице в молодости, так и осталось на всю жизнь и молодило это округлое лицо, с резко выделявшимися на нем мохнатыми, чуть приподнятыми бровями.
Они обнялись, поцеловались. Сомов и Касьяненко могли не встречаться годами, но помнили друг о друге и всегда знали друг о друге самое главное.
Касьяненко был старше Сомова всего лет на пять, но эта разница в возрасте и в партийном стаже — Касьяненко вступил в партию в 1917 году, а Сомов в начале 1920-го — придавала их отношениям отпечаток неравенства: Касьяненко всегда был старший, Сомов младший.
Когда Сомов еще учился в вузе и был одно время вторым партийным секретарем вузовской ячейки, Касьяненко работал в МК партии и как раз ведал вузовскими ячейками, — тут-то они и познакомились. Потом, после разгрома правых в московской организации, разгрома, в котором оба они отстаивали линию ЦК партии, Касьяненко остался на руководящей работе в МК и не раз «прорабатывал» и поправлял Сомова и его друзей за перегибы и перехлесты. Но когда Сомов вступил в полосу партийных неприятностей, Касьяненко делал все, что мог, чтобы оборонить его и сохранить в партии. В войну Касьяненко был мобилизован, он ведал оборонительными сооружениями вокруг Москвы. Когда началось освобождение наших городов, Сталин, лично знавший его, дал ему поручение, идя вслед за армией, восстанавливать разрушенные города. Касьяненко задержался на этой работе, и, так как некоторые архитекторы Академии градостроительства работали вместе с ним, Сомов знал о его деятельности.
— А сейчас создан новый комитет по коммунальному строительству, ему подчинены все организации, ведающие этим делом, в том числе и ваша Академия... — похаживая по обширной приемной и похохатывая, говорил Касьяненко. — Тут я и вспомнил о тебе и сюда...
— Очень кстати, — весело сказал Сомов. — Как раз сегодня у меня просмотр проектов, пройдемся из комнаты в комнату...
В начале будущего, 1953 года предполагалось устроить генеральную выставку в Москве с таким расчетом, чтобы каждая союзная республика выставила бы по одному наилучшему проекту города. До последнего времени архитекторы-градостроители работали под непосредственным руководством Фивейского. Уезжая в отпуск, Антон Георгиевич просил Сомова лично просмотреть все экспонаты и сделать свои замечания. И теперь, вместе с Касьяненко проходя из комнаты в комнату и выслушивая его по большей части резонные замечания, Сомов думал о том, что старик по своему обыкновению схитрил, дав ему это поручение перед самым своим отъездом. Замечания по проектам он выслушает, уже вернувшись и основательно отдохнув, а за это время Сомов будет иметь время сформулировать свои замечания не сгоряча, как это получилось бы сейчас, а в виде положительных предложений, в которых Антон Георгиевич разберется без затраты излишних усилий.
«Все византийские штучки...» — думал Сомов о Фивейском, сразу и о характере и о стиле его, когда они задержались перед проектом молодого архитектора Миляева, любимца старика Фивейского, работавшего в его мастерской под непосредственным руководством этого старого мастера.
Сейчас в обходе кроме Касьяненко, Сомова и двух его заместителей участвовала большая группа аспирантов, авторов проектов. К стенду, на котором выставлен был проект Бориса Миляева, подошла довольно большая толпа.
Борис Миляев вышел вперед и стал давать пояснения к проекту. Он был невысокого роста, но это скрадывалось необыкновенной ладностью его сложения. На нем был военный, хорошо пошитый офицерский мундир, на плечах выделялись следы погон, колодки свидетельствовали о многих наградах. На его красивом лице, которое Сомов привык видеть самоуверенным, сейчас заметно было волнение, красные пятна появлялись и исчезали на щеках, и Сомов, знавший, что Миляев несколько раз был ранен на фронте, с сочувствием подумал, что он болезнен и хрупок. Стараясь держать себя спокойно, он докладывал общие предпосылки проекта, быстро водя большой указкой над макетом.
На большой северной судоходной реке строилась гидроэлектростанция, на базе ее энергии предполагалось на большом пространстве лесов электрифицировать лесозаготовки, построить бумажно-целлюлозный комбинат, мебельную фабрику. Новый город должен был поглотить несколько старинных сел, где располагались колхозы с животноводческим уклоном.
Борис Миляев положил в основу проекта расположенный поблизости от гидроэлектростанции, на лесистой возвышенности, старинный, северо-русской архитектуры храм. Повторяя и варьируя его купола и белые стены, должен был подняться новый город, его профиль четко и красиво намечен на рельефном чертеже.
Сомову сразу вспомнился знаменитый проект «Северной лавры» Фивейского, проект хотя и неосуществленный, но прославивший старика еще до революции. Видно, что в проекте Миляева Фивейский осуществил свою давнюю мечту.
Миляев закончил свою речь совсем по-другому, чем ее начал, — голос его звучал громко, звонко. Замолчав, он не без щегольства обвел указкой вокруг своего макета, как бы говоря этим жестом — дело говорит само за себя.
И правда, макет был хорош. Среди необозримых хвойных лесов над широкой рекой на холме высился город со множеством шпилей, которые как бы имитировали церковные колокольни, как бы варьировали старый храм.
Касьяненко, обращаясь к автору проекта, задал несколько вопросов, — они относились к тому, как он представляет себе возрастание будущего города, спросил о характере почвы, не болотистая ли она.
— Нет, пески, — быстро ответил Миляев.
— Вы уверены?
— Как же, я оттуда родом... — И Миляев усмехнулся и с некоторой заносчивостью вскинул маленькую и красивую голову.
Получив ответ, Касьяненко в раздумье погладил подбородок, как бы пробуя, насколько хорошо он побрит. Впрочем, примерно так же реагировал он и на проект азербайджанского автора, и на эффектный проект «Города в пустыне», который представил коллектив проектировщиков Узбекистана.
Сомов, который хорошо знал Касьяненко, с самого начала заметил, что тот чем-то недоволен, но не хочет делать слишком скоропалительных выводов. И по всей вероятности, они прошли бы так же молча мимо проекта Миляева, как проходили мимо других проектов, но вдруг раздался чей-то взволнованный голос:
— Разрешите задать вопрос!
Александр Крылатский, на чей глуховатый голос обернулись все присутствующие, как и Борис Миляев, пришел из армии и тоже был несколько раз ранен. Но в отличие от Бориса, который в армию пришел из института и служил по специальности — военным инженером, Саша Крылатский вступил в армию в первые дни войны, на родине, в Белоруссии, партизанил в тылу у немцев, и, когда партизанская часть, в которой он служил, соединилась с Красной Армией, его, кандидата партии, послали в школу лейтенантов. Командир взвода, а потом роты, он дрался в 1943 году на Западном фронте, был ранен, получил звание старшего лейтенанта и как командир батальона участвовал в освобождении Белоруссии. На этот раз он был ранен настолько тяжело, что на фронт не вернулся, а поступил в Академию градостроительства.
Сомов давно знал его, и потому вопрос, который Крылатский задал Миляеву, не удивил его.
— Скажите, товарищ Миляев, — спрашивал Саша, самолюбиво краснея, точнее сказать, бурея всем своим старообразным и худощавым лицом, — считаете ли вы, что ваш проект может облегчить проблему создания новых социалистических городов для других авторов проектов?
— Дорогой Александр Пантелеймонович, — покровительственно-ласково ответил Миляев. — Уже в самой постановке вашего вопроса я чувствую подвох. Потому отвечу вам прямо, — в тех единственных, по своему характеру, условиях, в которых будет построен Северный город, я считаю, что никакой иной город, кроме предложенного мной, не может быть построен. — Он быстро взглянул на Сомова, явно ища одобрения, потом на Касьяненко, боязливо и вопросительно.
— А он не будет так построен, как вы хотите его построить, — волнуясь и сильнее обнаруживая белорусский акцент, сказал Крылатский. — И если мне будет разрешено, я скажу почему.
Сомов не успел еще ничего ответить, как Касьяненко быстро проговорил:
— Пожалуйста, пожалуйста...
И Крылатский заговорил. Это было нападение прямое, страстное и по форме, пожалуй, грубоватое. Он начал с того, что ответил на вопросы Касьяненко, заявив, что перспективный план строительства не соответствует прогрессивному росту населения. Потом стал критиковать резкое несоответствие проектируемых жилых зданий с тем, что имеется в индустрии жилищного строительства. Тут Миляев, сильно расстерявшийся, обрел дар речи:
— Так вот как! Вы хотите шаблонизации, стандарта! А там, где стандарт, кончается искусство!
— Черт с ним, с искусством! — ответил Крылатский. Его слова вызвали бурное возмущение молодежи, он сразу потерял все то сочувствие, с которым его слушали.
— Это позор, что наше крестьянство ютится в старых деревнях, которые привыкла воспевать наша декадентская поэзия!
Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые Как слезы первые любви!Это гадость и барство!
— Ты ничего не понял!
— Это ведь Блок!
— А хоть бы Пушкин! — старался перекричать Крылатский своих оппонентов. — Я заявляю, что не буду с этим мириться, и не я один! Сельскохозяйственное производство, колхозный строй, основанный на машинной технике, повелительно требует новых форм общежития! И не безжизненная архаика и стилизация под церковный стиль нужна нам сейчас. Нет, мы не пойдем по этому пути. Открыто заявляем, как сторонники индустриализации жилищного строительства, сторонники типовых стандартов: мы хотим всю нашу необъятную страну застроить социалистическими городами, чтобы колхозное крестьянство наше и рабочий класс пользовались бы всеми удобствами городской жизни: водопроводом, газом, теплоцентралями, кинематографами, театрами...
— Получается, будто бы я против всего этого! — сказал Миляев, бледный, с лихорадочными пятнами румянца на щеках. — Вернись к моему проекту, там все предусмотрено...
— Это предусмотрено только в одном городе, а нам таких городов нужно построить тысячи. Предполагается, что проект вашего города даст образец для всех нас, а он уводит в болото, потому что, кстати сказать, почва там болотистая, и не мешало бы подумать о мелиорации всей местности. Если хотите знать, географические условия, бесконечно разнообразные, скорей продиктуют чуткому проектировщику каждый раз новые особенности новых городов, а не остатки старины...
— Конечно, дай таким, как вы, простор, и вы всю нашу землю застроите космополитическими казармами и вконец загубите те своеобразные особенности национальной формы, которые сейчас пышно расцветают в каждой республике... — отчеканивая каждое слово, сказал Борис Миляев.
Крылатский развел руками и своими светло-желтыми глазами, как бы прося защиты, взглянул на Касьяненко и Сомова.
Касьяненко примирительно сказал:
— И та и другая сторона в горячности нагородили изрядное количество чуши, но, между прочим, кое-что сказано правильно. Как вы считаете, Владимир Александрович?
— Несомненно, — согласился Сомов. — Ведь мы здесь никаких решений принимать не будем. Надеюсь, что творческая дискуссия, не случайно разгоревшаяся возле этого стенда, принесет всем пользу. А сейчас мы проследуем дальше...
Пока о позиции Касьяненко можно было только догадываться, но она стала явной при рассмотрении проекта, представленного группой донбасских проектировщиков, — здесь кварталы раскинулись широко, они перемежались зелеными массивами, спортплощадками и стадионами. От места выработки угля жилые кварталы отделялись отрогами горного кряжа, поросшего дубовым лесом.
— А если обнаружится, что этот горный кряж тоже состоит из каменного угля? — спросил Касьяненко.
— Не обнаружится, — медлительно ответил один из авторов проекта. — Он весь сложен из известковых пород.
Касьяненко удовлетворенно кивнул головой.
— Проверь-ка, проведен ли подобного рода анализ почв при составлении проекта Северного города. Кажется мне, что Крылатский прав... — шепнул он Сомову.
Осмотр подошел к концу.
— Может быть, вы соберете авторов проектов и скажете им свою оценку их работы? — предложил Владимир Александрович Касьяненко, когда они вернулись в тихий кабинет президента Академии.
— Нет, нет... — быстро ответил Алексей Алексеевич. — Что значит оценка? Неминуемо придется говорить о художественной стороне проектов, которые подверглись столь страстному обсуждению, а тут мои оценки могут оказаться и весьма субъективными и недостаточно квалифицированными. Да и сумбур у меня в голове стоит изрядный... — Он помолчал, словно в нерешительности. — Знаешь что, — сказал он просительно, положив свою теплую руку на колено Владимира Александровича. — Поедем сейчас ко мне, право! Расставаться нам сейчас нельзя, мысль моя кружится вокруг того, что я у вас здесь увидел и услышал, вот и поедем ко мне обедать, там и продолжим разговор. А то мне врачи прописали вести регулярный образ жизни. А мою Катерину Васильевну ты знаешь, — если я только не приеду, она меня будет пилить час за часом, день за днем, пока не признаю свои ошибки и не отмежуюсь... Ну, как ты?
— Да вот мне через час принесут сюда обед, — ответил Сомов, взглянув на часы.
— Тем более, значит, и у тебя обеденный перерыв, вот и поедем, пообедаешь со мной!
Сомов согласился. Обещав Раисе Васильевне после обеда еще вернуться в Академию, Владимир Александрович сошел вниз и сел рядом с Касьяненко в его бронированный «виллис».
— Не могу с военных времен расстаться! Что за машина, везде пройдет, любую гору берет, из любого рва выбирается. Ну что бы мы делали с твоим «ЗИСом»?! Пришлось бы через центр ехать! А на «виллисе» мы рванем через весь этот разрытый Юго-Запад и сиганем через буераки и ямы на Калужское шоссе, где и находится моя хата... Ты у меня бывал?
Владимир Александрович не успел ответить, так его тряхнуло, потом мотнуло влево, бросило на Касьяненко, крепко держащегося за баранку. Его генеральская фуражка залихватски сползла набекрень. Владимир Александрович получил ощутительный удар в голову.
— Держись крепче! — предостерегающе крикнул Касьяненко.
Сомов взглянул в окно: «виллис» на второй скорости с воинственным рокотом, окутываясь дымком, неустрашимо пер вверх по какому-то сорокапятиградусному откосу.
— Что, зашибся? — участливо спрашивал Алексей Алексеевич. — Мне бы предупредить, что здесь нужно за боковины держаться. С непривычки, конечно...
— Ничего, ничего, я ведь тоже на «ЗИСе» разъезжаю, когда Фивейский в отпуску, а так у меня «газик»...
— Ты только погляди в окно, где мы едем! — с восторгом сказал Алексей Алексеевич. — Какой рельеф местности! Здесь с того берега реки перекинется путепровод, вот этот бугор срежется, и проложим продолжение главной магистрали. А тут, по склонам, поднимутся жилые кварталы. Будет где поработать вашим мальчикам!
— Вы что-то, кажется, не очень довольны их работой! — усмехнулся Владимир Александрович.
— Нет, нужно сказать, что все это юноши способные, свое дело знают, работают с огоньком. Некоторые проекты, как глаза закрою, так словно въявь вижу. А этого парня, Крылатского, я у вас заберу, хотя он и петуха пустил под конец. Но помнится, вы в молодую пору, с дружком вашим Анатолием Аравским, ратовали за то, чтобы архитектура и градостроительство определялись бы потребностями социалистического строительства. Где он, кстати Анатолий Аравский?
Владимир Александрович взглянул на Касьяненко: не мог он не знать, что Анатолий Аравский арестован. Но Алексей Алексеевич не отводил своих светло-голубых, словно вылинявших глаз.
— Вам же известно, что мы с Анатолием поссорились, и что с ним стало, я, по совести, не знаю...
— Значит, не знаете? — медленно произнес Касьяненко. — Ну что ж, не знаете, так не знаете. А взгляды ваши молодые, — не кажется ли вам, что вы их несколько порастеряли?
— Нет, не растерял.
— Тогда почему же вы разрешаете молодым вашим товарищам при проектировании новых социалистических городов исходить только лишь из эстетических требований? Этот Миляев, он еще доставит вам немало хлопот...
— Как и его оппонент.
— Я сказал, что оппонента заберу к себе.
— Ну и берите на здоровье!
— Не ко двору пришелся, а?
— Слушай, Алексей Алексеевич, мы с тобой не первый год работаем в одной области. Высотные здания построились на наших глазах, и то, что они радикально изменили облик нашей столицы, это ясно! Каждому ясно. И так же ясно каждому, кто работает в архитектуре и градостроительстве, что за Москвой начинается вся наша страна.
— Ну, как говорили мои украинские деды: дурень думкой богатеет!
— То есть хочешь сказать, поживем-увидим?..
— Именно так. И тут я тебе скажу, что вопрос всех вопросов состоит в том, о чем говорил этот самый Крылатский: нам нужно ставить вопрос о том, чтобы изменить жилищное положение не десятков и даже не сотен тысяч, а миллионов...
Они мчались по Калужскому шоссе, любуясь раскинувшимися вокруг них лилово-зелеными просторами. Потом круто свернули в сторону и подъехали к даче Касьяненко, построенной в гущине молодого лиственного леса. Дача показалась Сомову приземистой, он вспомнил, что до войны здесь стоял двухэтажный дом. Въехать во двор они не смогли, так как на их пути был вырыт большой котлован, и потому слезли у ворот.
— Видишь ли, дом этот экспериментальный, я сам его складывал из микропоровых плит, новый строительный материал. Достоинство этого дома в том, что он не имеет второго этажа. Сердце пошаливать стало, и второй этаж мне не под силу. А недостаток, — что в нем отсутствует центральное отопление, а с печным страшная возня и грязь... Вот я и придумал: все отопление перенести в подвал, внизу установить котел центрального отопления, туда же засыпать уголь или дрова.
— А что это такое? — с изумлением спросил Владимир Александрович, остановившись перед странным строением, — это был врытый в землю кургузый фургон, в крышу его, как-то накось, была вделана труба.
— Это? Разве ты не видел? Ну конечно, ты бывал в нашем большом доме, который во время войны сгорел. Так, значит, ты впервые видишь этого уродца? Тут, дорогой мой, не обойтись без исторического экскурса. В 1926 году, когда я работал в МК, нам впервые розданы были участки для дачного строительства. И поскольку у нас с Катей был пятилетний сын и уже в проекте был второй, я не счел возможным отказаться и получил вот этот участок. Хорошо, участок получил, леса много, река поблизости, но ведь что-то нужно на участке этом поставить. Думали мы, гадали, со всеми советовались, и тут вдруг меня выручил Данилкин. Ты Данилкина помнишь? Первый директор автобусного парка... Когда я рассказал ему о своей нужде, он вдруг сказал: «Эврика! Не унывай, Алешка, припаси сто пятьдесят карбованцев, приходи завтра ко мне на торги и купишь себе целую дачу!» Я, понятно, выразил изумление... «Очень просто! — сказал он. — Мы за границей купили партию автобусов, несколько лет пользовались ими в Москве. Но потом выяснилось, что превосходное качество моторов позволяет увеличить их грузоподъемность, и мы спроектировали свой кузов, гораздо более поместительный, и изготовили целую партию новых кузовов. А что же делать со старыми? Просто списать и бросить? Нельзя. Хозрасчет, режим экономии. Значит, нужно их реализовать, обратно перевести на деньги. Мы скалькулировали, определили их ценность и решили продать. Продавать будем через свободные торги — 124 рубля, кто больше! Вряд ли кто даст больше. Но ты на всякий случай прихвати 150 рублей, ведь торги есть торги...»
И я, запасшись стапятидесятью рублями, взятыми в аванс в счет зарплаты, пошел на торги и, представь себе, за сто тридцать рублей купил вот этот кузов. Друг Данилкин перевез его мне сюда за пятнадцать рублей, установили мы его сами, на следующий год поставили даже печку-«буржуйку» и жили в нем до тридцать четвертого года каждое лето, детей вырастили, да... В тридцать четвертом году основался дачный кооператив, и тут воздвигли мы довольно симпатичный дом, который ты помнишь. Но эту реликвию я сохранял — черт его знает почему, из сентиментальных чувств, — к тому же здесь сберегались зимой всяческие сельскохозяйственные орудия. А осенью тысяча девятьсот сорок второго года заехал я как-то сюда, Катя с внуком и младшим сыном была в эвакуации, старший в армии, затосковал я что-то. Заехал и ахнул: вместо благоустроенной дачи — одно пожарище, — оказывается, какой-то мимолетный фашист сбросил зажигалку, дача сгорела, а этот урод, можешь себе представить, стоит как стоял! Сначала я разозлился, хотел все бросить, а потом какое-то странное ожесточение напало на меня: так нет же, не уйду я с этого места! Уйти только из-за того, что какая-то гадина сбросила сюда свою вонючую зажигалку? И когда Катя вернулась из эвакуации... Вот, Катя, припоминаешь старого знакомого Володю Сомова? — обратился он к жене, которая в этот момент подошла к ним. — Помнишь, как ты не хотела снова селиться в этом вагоне?..
— Как же, помню... — Катя Касьяненко, сильно поседевшая, раздавшаяся, — Сомов помнил ее молоденькой, она тоже была секретарем вузовской «просвещенной» ячейки, — крепко тряхнула его руку. — Это действительно обидно, Володя, на старости лет, и все сначала, снова в старый кузов...
— А ничего, и начали... Три года жили опять в старом кузове. Потом нам в порядке испытания поставили это микропористое жилье. Ну, а этого инвалида я берегу и внукам закажу его беречь...
За столом, на местах, где сидели раньше сыновья Касьяненко — они оба были убиты в Великую Отечественную войну, — сидели теперь внуки, дети старшего сына. Было ли в истории с кузовом что-то очень советское, неистребимое, или очень уж похожи были внуки на сыновей, — и в этом тоже было утверждение нерушимости нашей жизни, — но непритязательный обед, вегетарианский и протертый, показался Сомову особенно вкусным.
К концу обеда разговор вернулся к утренним впечатлениям.
— Сам-то ты вполне доволен работой своих воспитанников? — спросил Касьяненко.
— Видишь ли, — с некоторым смущением ответил Сомов. — По разделению труда я ведаю административно-хозяйственной стороной деятельности Академии, в творческой задает тон старик.
— Понятно, понятно... Так я думаю: именно ты должен понять, почему работа ваших товарищей вызывает у меня недовольство. Конечно, этот белобрысенький Крылатский типичный загибщик, и все же он в своей критике прав! Ведь не случайно Миляев сбил весь свой проект в кучу, вокруг той старинной церкви. По всему видно, что, если мы последуем этому проекту, скученность в новом городе будет неимоверная. Скученность и антисанитария. Да что я говорю, этого не будет! Потому что проект этот в таком виде осуществлен не будет, ты, конечно, это сам прекрасно понимаешь. При переработке советую обратить внимание на почву, Крылатский не случайно сказал о болотистости, здесь необходимы будут мелиоративные работы, значит, пройдет целая система каналов, а это подсказывает планировку Амстердама, Венеции... Да нет, ты не записывай, это я так.
— Как же не записывать, ведь мне нужно будет завтра со всеми проектировщиками разговаривать.
— А если так, пойдем дальше. Ты на этого Миляева не особенно напирай, я взял его только для примера, чтобы показать, насколько ваши молодые товарищи отклонились от основных принципов социалистического проектирования. Научите их во главу угла ставить интересы и нужды народа! Жилищное положение наше после войны напряженное, если уж строить, так с размахом, с тем, чтобы удовлетворять нужды м и л л и о н о в. А этот товарищ Миляев проектирует строить свои хоромы из белого камня. А откуда же он его повезет, если в тех краях белого камня нет? Зато кругом неисчерпаемые лесные богатства, а он их игнорирует. Я, конечно, не специалист и не художник, но, насколько мне помнится, искусство строить из дерева — это наше национальное искусство. И потом как-то не удовлетворяет меня однотонность пейзажа, эти белые и серые краски. А Василий Блаженный? Впрочем, это я так, к слову...
— Нет, нет, очень интересно...
— Вот и получается, что проектировщики Северного города не знают, что делать с водой, а проектировщики «Города в пустыне» вопроса о водоснабжении так и не разрешили.
— Так ведь там же должен пройти канал!
— Ну, как же можно об этом забыть? Но канал пройдет через десять лет, а нефть, из-за которой и возникает этот город в пустыне, добывается уже сейчас. Значит, нужно сейчас думать о воде? Что же, ее на машинах подвозить? Или строить бассейны-водохранилища для сбора зимних осадков? Ненадежное это дело!
— Наверное, придется артезианские колодцы рыть, ничего не сделаешь...
— Так-то, мой друг Володя, эстетика без техники — формализм, а техника без эстетики — рационализм...
— Ну вот и хорошо. Два уклона нашли, значит, все правильно... — посмеиваясь, говорил Владимир Александрович уже в передней.
— А что ж, значит, и генеральная линия ясна! — в тон ему ответил Касьяненко, крепко пожимая руку и снизу вверх глядя на старого друга.
6
У Лени был свой ключ от входной двери. Но ровно в час ночи, перед тем как лечь спать, Нина Леонидовна запирала входную дверь на длинный железный крюк, который делал бесполезными все ключи, имевшиеся у каждого члена семьи. Леонид, просидев весь вечер с Викой, вернулся домой в половине второго и позвонил, мало надеясь, что ему откроют, потому что в семье все спали крепко. В прошлом году однажды осенью, когда он задержался на собрании, ему ничего другого не оставалось, как, позвонив несколько раз, отправиться на вокзал, с первым же поездом уехать в Большие Сосны и в шесть часов утра прийти на службу, — у него был пропуск, разрешающий приходить в любой час суток. Он и сейчас подумывал, что ему предстоит то же. Но дверь неожиданно открыл отец; он выглядел особенно уютно в своей полосатой пижаме. Увидеть его лицо, ласковое и доброжелательное, было сейчас особенно приятно Лене.
— Я разбудил тебя, папа? — виновато спросил он,
— Я не спал, — ответил отец шепотом. — А ты, верно, есть хочешь? Давай залезем в холодильник...
Рассказывая сыну о сегодняшнем, насыщенном событиями дне, Владимир Александрович вместе с Леней прошел на кухню. Там они достали из холодильника смерзшиеся и потому особенно вкусные котлеты и масло. Хлеб стоял на столе. Отец зажег газ и поставил чайник. Леня ел, а Владимир Александрович с удовольствием смотрел на него. Они последнее время виделись мельком, и сын на этот раз казался ему повзрослевшим, губы обозначались как-то отчетливо, по-юношески мужественно, сочетание унаследованной от матери округлости лица с русыми волнистыми, правда сильно поредевшими за последнее время волосами, придавало ему молодую прелесть. «Должен нравиться женщинам...» — подумал отец. Ему приятно было неожиданное ночное свидание с сыном, приятно было, что сын смотрит на него доверчиво и ласково. Съев несколько котлет, Леонид налил себе чаю и так потянулся, что старенькое соломенное кресло заскрипело под ним. Это кресло любили все члены семьи, кроме Нины Леонидовны, которая сослала его на кухню за старомодность.
— Что это за бумага? — спросил Леня, взяв в руки длинную полоску бумаги, на которой было за номерами, строчка под строчкой, что-то написано, Владимир Александрович засмеялся.
— А это новая домработница писала. Я просил ее записать, кто звонил по телефону, так она что-то записала, ничего понять нельзя.
— То есть как это нельзя? — Леня повертел бумагу и стал всматриваться в нее. — Папа, да здесь ведь по-латыни написано! Вот это «л» латинское, а вот «т». Алтухова — это верно фамилия ее, и «х» изображено как следует, через «аш», все как полагается.
— По-латыни? Гребнер, Мануйлов, Листвянников... — читал Владимир Александрович список людей, звонивших ему по телефону. — Верно, но зачем по-латыни? А, понятно, она решила меня проучить! Я спросил ее, грамотная ли она, а она — по-латыни: знай, мол, наших! Вот это да!
— Папа, тебя коснулся тридцать седьмой год? — спросил вдруг Леонид, прерывая благодушную речь Владимира Александровича, который на вопрос сына ответил недоуменным и, пожалуй, испуганным взглядом. Вопрос этот показался ему неожиданным, он никак не вытекал из предыдущего разговора.
— Да, коснулся, — подумав, ответил он.
— Но ведь тебя не арестовывали?
Владимир Александрович пожал плечами:
— За что было меня арестовывать?
— А всех, кого арестовывали, было за что? — настойчиво спрашивал Леонид.
— Мне трудно судить обо всех. Думаю, что все-таки было за что. Но в таком большом деле, конечно, возможны были и перегибы и ошибки... Ты бы с дядей Женей об этом поговорил. Он в органах работал, ему виднее...
— Дядя Женя? — недоуменно переспросил Леонид. — Да он какими-то доисторическими людьми занимается, лекции про них читает... Что он может мне сказать?
— Доисторическими людьми, как ты говоришь, он уже после войны занялся, а до тысяча девятьсот тридцать седьмого года был на большой должности в НКВД, потом тяжело заболел, ему язву желудка вырезали, ушел на пенсию... Поговори с ним, хотя он не очень любит обо всех этих делах разговаривать, даже со мной, а ведь ближе меня у него никого нет. Впрочем, ты, наверное, еще в вузе об этом учил — о Ежове, о том, как его действия в ОГПУ привели к тому, что перебито было много честных партийцев...
— Да, это мы учили, конечно, учили, — нетерпеливо сказал Леня. — Ну знаешь, как бывает в вузе: прослушали, сдали зачет, и все! А тут вдруг, понимаешь... Такой случай. Это у меня с товарищем одним... Он отказывается вступать в комсомол, говорит, что отца его несправедливо арестовали в тридцать седьмом, понимаешь? — краснея и волнуясь, говорил Леня. Ему не хотелось рассказывать отцу о том, что больше всего волновало его в этом деле, о том, что речь шла о Виктории, которую он любил. И когда отец вполне резонно заметил, что ни его товарищ, ни тем более сам Леонид не могут судить о деле, которого они не знают, Леонид рассердился. Возразить было нечего, а соглашаться с этим не хотелось, потому что Вике он верил безусловно. Весь этот вечер он держал ее руку в своей руке, а она шепотом рассказывала ему о своем отце, который был героем гражданской войны, потом учился в Военно-инженерной академии...
— Мне хочется спать, — сказал Леонид, не дослушав рассуждений отца, и ушел в свою маленькую комнатку, которую для него выкроили в результате внутренней перепланировки квартиры.
Владимир Александрович почти машинально прибрал на столе, выключил газ. Конечно, надо было бы заставить все это проделать сына, но ведь Лене предстоит встать ни свет ни заря, чтобы поспеть на поезд. Владимир Александрович любил сына не только как любят своих детей хорошие отцы, с разумной и последовательной заботой, он еще любил его так, как бабушки любят внуков. В молодости, когда Нина Леонидовна продолжала надеяться, что из ее артистической карьеры что-нибудь получится, а Владимир Александрович учился в вузе, супруги по справедливости поделили заботы о детях, — Нина Леонидовна взяла на себя младшую, в детстве болезненную Лелю, а Владимир Александрович старшего — пятилетнего Леню. Но Нине Леонидовне помогали ее мать и незамужние сестры, а Владимиру Александровичу никто не помогал. Он сам с удовольствием вставал рано, кормил Леню завтраком и отводил в детский садик, потом шел слушать лекции или в библиотеку, и с неменьшим удовольствием в пять часов отправлялся за Леней, беседуя с ним о разных разностях, приводил его домой, кормил, умывал и, отвечая на бесчисленные вопросы, укладывал спать. Он научил его самостоятельно раздеваться и одеваться, они по сигналу радио по утрам делали зарядку. Так и пошло. Леля так и осталась жить в комнате у Нины Леонидовны, а Лене недавно выделили отдельную маленькую комнатку. Но все, что волновало Леню, по-прежнему беспокоило также и Владимира Александровича. В этом вопросе Лени о тридцать седьмом годе Владимир Александрович слышал какое-то личное беспокойство, которое тут же передалось и ему.
Тридцать седьмой год! Ведь вопрос об Аравском, который задал ему Касьяненко, был тоже вопрос о тридцать седьмом годе. Владимир Александрович вернулся в кабинет, включил настольную лампу и хотел продолжить рассмотрение проекта Миляева, который он захватил с собой, но никак не мог сосредоточиться. Взял роман, но не находил интереса в том, что читал. Потушил огонь и хотел заснуть, но подушка мгновенно нагревалась под горячей головой, он поворачивал подушку, а она снова нагревалась.
«Все ли арестованные в тридцать седьмом году были арестованы по справедливости?» Этот вопрос сына снова и снова возвращался к нему. Он сам хотел бы получить ответ на него, нет, не о всех арестованных, хотя бы только об Аравском. Владимир Александрович встал, подошел к окну, открыл его, и приправленный бензином и потому по-особенному лихорадочный воздух летней ночи ворвался к нему в комнату.
Ему неотступно представлялось худощавое, с остренькой бородкой, аскетического склада лицо, он словно въявь слышал резковатый голос, с виртуозной легкостью укладывающий слова в стройные предложения, — способность, которой лишен был сам Владимир Александрович...
Владимир Сомов впервые услышал Анатолия Аравского на диспуте в Союзе архитекторов, где Анатолий, худенький и кудлатый, в сапогах и кожаной тужурке, громил реакционеров и прежде всего поборника церковной архитектуры — Антона Георгиевича Фивейского. Со страстью говорил Анатолий о перспективах первого пятилетнего плана и призывал архитекторов и инженеров-строителей к участию в героических делах первой пятилетки, развертывал перспективы социалистического градостроительства. В каждом его слове Владимир Сомов с изумлением и восторгом видел воплощение своих, много раз приходивших ему мыслей, — даже цитата из Фурье была та же, которую выписал он!
Сомов тут же написал записку Аравскому. После диспута они встретились, пробродили всю ночь по Москве, обошли кругом Страстной монастырь и разобрали его как архитектурный ансамбль. Утро встретили в Александровском саду. Они говорили о Кремле и о социалистических городах будущего, которые их поколение воздвигнет по всему простору обновленной социалистической России. Они не спорили, один говорил, другой продолжал, оказалось, что каждый поодиночке пришел к одним и тем же мыслям... Так началась дружба, которая продолжалась несколько лет. Они стали выступать вместе, молодежь, откликнувшуюся на их призыв, они объединили в Ассоциацию революционной архитектуры и социалистического градостроительства — АРАСГ.
...Все началось с этой, по-ассирийски звучащей, как выразился один из их противников, организации. Сомов и Аравский составили ее манифест, который кроме них подписали еще несколько таких же молодых или еще более молодых архитекторов и инженеров-градостроителей. В этом манифесте фурьеристские идеи соединялись с модным тогда конструктивизмом. Их уже стали прорабатывать за «техницизм» и «формализм», когда вдруг в незабываемый день позвонили из секретариата Сталина, — Сталин их обоих вызвал к себе. Он был прост и ласков. Посмеялся над некоторыми неудачными выражениями их манифеста, подверг критике отдельные неуклюже сформулированные пункты их программы, но похвалил за то, что они прямо и отчетливо выразили убеждение, что новые формы архитектуры родятся в практике строительства социализма и что в новых городах эти формы найдут конкретное свое воплощение.
С тех пор арасговцы участвовали во всех совещаниях, которые созывались по первому пятилетнему плану. Владимиру Сомову не раз приходилось в присутствии Сталина делать доклады, и эти доклады неизменно одобрялись и после некоторой доброжелательной критики с его стороны бывали опубликованы.
Все это время Сомов не переставал учиться. Он начинал как художник, и начинал не плохо. Но потом разочаровался, — не в живописи, нет, а в своих способностях. «При перспективе развития цветной фотографии нельзя просто копировать природу, в этом деле цветная фотография имеет все возможности побить художника, ограничивающегося копированием натуры. Художнику нужно ставить перед собой такие задачи, которые находятся вне возможностей цветной фотографии. А я таких задач ставить себе не могу, таланта не хватает!» — говорил Владимир Сомов. И он, еще за год до встречи с Анатолием Аравским, поступил в Архитектурный институт. Но эта встреча открыла перед Сомовым неслыханные возможности применения своей молодой энергии. Имена Сомова и Аравского стали известны всем, кто только занимался в Советской стране архитектурой и градостроительством. Но Аравский ограничивался по преимуществу публичными выступлениями, в которых он или разоблачал врагов «на архитектурном участке идеологического фронта», или произносил имевшие абстрактный характер декларации. А Владимир Сомов с охотой выезжал на новостройки. Утопая в грязи и пыли, с волнением проходил он по улицам возникающих при новостройках городов. Он обобщал положительный опыт градостроительства и отмечал ошибки и недостатки. Так родилась тема его диссертации. Первый из молодых архитекторов-градостроителей он получил ученую степень и на основе своей диссертации написал докладную записку в ЦК и Совнарком, в которой доказывал, что в деле строительства новых городов следует отказаться от торопливости, от «барачного» стиля, как он иронически именовал строения временного типа. Он настаивал на том, чтобы в основе проектов строительства новых городов предусматривались все коммунальные удобства, что сначала необходимо заложить подземное хозяйство будущего города — водопровод, канализацию, электросеть, телефон, а потом воздвигать жилые здания.
Эти предложения, сформулированные в диссертации, заслужили рекомендации самые лестные. В частности, Антон Георгиевич Фивейский, которому Сомов и Аравский немало крови испортили своей критикой, Антон Георгиевич, прославленный еще до революции своим так и не осуществленным проектом Северной лавры, дал блестящий отзыв на диссертацию своего постоянного оппонента и неутомимого критика. Антон Георгиевич пренебрег всеми личными обидами и при публичной защите диссертации поддержал Владимира Сомова. Более того, именно он первый и сказал, что без соблюдения положений, выдвинутых Владимиром Сомовым, «мы будем строить на песке, и наше градостроительство зайдет в тупик».
И Сомов, отправив свою докладную записку в ЦК и Совнарком, спокойно ждал победы, тем более что в 1932 году был ликвидирован РАПП и другие подобные ему организации в искусстве, и этим был нанесен удар по всяческого рода псевдореволюционным и левацким теориям.
Но в одно далеко не прекрасное утро, развернув одну из центральных газет, Владимир Сомов глазам своим не поверил: Анатолий Аравский выступал о резкой критикой основных положений диссертации Сомова и докладной записки его. Аравский утверждал, что «хотел этого Сомов или не хотел», но, если всерьез отнестись к его предложениям, это означало бы попытку затормозить реальное дело социалистического градостроительства. «Если бы мы всерьез взяли установки Сомова, — писал Аравский, — мы не построили бы ни Сталинградского тракторного, ни Днепрогэса, ни Магнитогорска...»
— Но как же так? Почему ты раньше всего не сказал о своем несогласии мне самому? — спросил по телефону Владимир.
— Так ты же все лето был в отъезде! А мои взгляды сложились за это время, — ответил Анатолий.
На партийном собрании, где разбиралось это дело, Владимир Сомов заявил, что ни в какой степени не опорочивает методов строительства городов первой пятилетки. Его диссертация является взглядом в будущее, в завтрашний день нашего градостроительства. Но Анатолий Аравский в своем выступлении напомнил ему о его насмешках над «барачным» стилем. Заботу Сомова об удобствах рабочего населения он назвал демагогией, граничащей с троцкизмом, а всю теорию Сомова оппортунистической.
И тщетно потом Владимир Сомов брал слово для справки, говорил, что его предложения есть обобщение передового опыта градостроительства, ссылался на опыт строительства Днепрогэса, где прежде всего был построен поселок для строителей. Но слово было сказано: оппортунизм Сомова подвергался порицанию в резолюциях, в передовых статьях, о нем говорилось, как о чем-то само собой разумеющемся.
Между тем после ликвидации АРАСГа создана была Академия градостроительства и при формировании руководящих органов ее обошлись без Сомова. Президентом Академии избран был Фивейский, к которому издавна благоволил Сталин, заместителем его — Анатолий Аравский. От некоторых тайных доброжелателей своих, в том числе и от Касьяненко, Сомов узнал, что все злоключения его обусловлены тем, что Сталин с самого начала отрицательно отнесся и к его диссертации, и к докладной записке, что Аравский, вызванный к Сталину, согласился с его критикой Сомова и с охотой выступил в печати против старого друга.
Сомов не верил, чтобы Сталин мог поступить так, даже если он и считал Сомова заблуждающимся. Ведь до сих пор он знал Сталина совсем другим. Так что же делать? Писать письма, оправдываться? Признаваться в ошибках, каких не совершал?
Шли месяцы, Сомов был в нерешительности. Но после убийства Сергея Мироновича Кирова Сомова обвинили в том, что он скрытый и неразоружившийся троцкист, хотя он всегда был верным сторонником Центрального Комитета партии. На низовом собрании партийной организации его исключили из партии. И тут, еще не зная, чем кончатся все его злоключения, Сомов по совету Касьяненко написал письмо Сталину. Он категорически отверг всяческую свою связь с троцкистами и троцкизмом, но признал, что его точка зрения в вопросах градостроительства, возможно, является объективно оппортунистической, и попросил разрешения уехать на периферию и принять участие в строительстве одного из социалистических городов. Он отослал это письмо, и ему ничего не оставалось, как ждать решения своей участи.
В июле 1938 года Владимира Сомова со строгим выговором «за грубые ошибки в деле социалистического градостроительства» восстановили в партии. Ему даже обещали удовлетворить его желание и послать работать на периферию. Счастливый тем, что его восстановили в партии, он ждал назначения, но тут вдруг ход событий круто переменился. Анатолия Аравского арестовали, а Владимир Сомов, к своему величайшему удивлению, был назначен на его место. Оказывается, на этом назначении настоял Фивейский.
Последние годы бывшие друзья не встречались, и Сомов не знал, за что арестовали Аравского. Разговорам о том, что он оказался шпионом нескольких держав, Владимир не верил. «Ну уж наверное что-нибудь выкинул!» — думал Сомов, тем более что старик Фивейский все время жаловался, что работать ему с Аравским было невыносимо.
Сам Владимир Александрович со времени его назначения в Академию дружно работал с Фивейским. В годы войны, когда Сомову пришлось, отбросив все свои предложения, проектировать города на Урале и в Сибирской тайге, где на первых порах не мог не торжествовать столь высмеянный им «барачный» стиль, с него был снят партийный выговор. К концу же войны из правительственных кругов пришла директива, в основу которой была положена, к величайшему удивлению и нравственному удовлетворению Сомова, названная раньше «оппортунистической» программа градостроительства. Отныне она объявлялась обязательной.
Уважение и любовь к Сталину, особенно за годы Великой Отечественной войны, пожалуй, даже увеличились. Для Сомова в Сталине воплощалась воля партии к осуществлению коммунизма, лучшие устремления советского народа к будущему. Но все, что случилось с Сомовым в тридцать седьмом году, привело к тому, что он старался жить и работать так, чтобы не попадаться на глаза Сталину. Ему это удавалось. Похоже, что о нем забыли. На поверхности политической жизни фигурировал Фивейский, он был избран депутатом в Верховный Совет РСФСР, в шестидесятилетний свой юбилей награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в семидесятилетний — орденом Ленина.
Конечно, Владимира Александровича несколько покоробило то, что, когда ему исполнилось пятьдесят лет, эта дата никак не была отмечена. Ведь в правительственных сферах знали, не могли не знать, что Академия градостроительства держится на неустанной работе Владимира Сомова. И все же удовлетворение от того, что он достиг своего и Сталин забыл о нем, пересилили в нем естественное чувство обиды. Более того, то, что он не лезет на глаза начальству и ведет свою большую ответственную работу, не ожидая за нее похвалы и благодарности, и что Сталин о верности его не знает и не узнает, поддерживало в нем чувство удовлетворения и самоуважения. Ведь каждый проект нового города, в каком бы отдаленном краю нашей родины он ни воздвигался, обязательно проходил через руки Сомова, подвергался разбору, и автор получал от него полезные указания.
«Нет, я живу и работаю достойно и правильно...» — говорил себе Сомов, словно оспаривая кого-то, кто хотел зачеркнуть его работу. А он весь был поглощен своей работой и старался ко всему, что не касалось этой работы, не прислушиваться. Но сегодняшний разговор с Касьяненко и в особенности то, что произошло в Академии, когда он после обеда вернулся туда, разбередило его. Секретарь парткома, отсутствовавший во время столкновения Крылатского с Миляевым, уже дожидался Владимира Александровича в кабинете и попросил рассказать, как было дело. Владимир Александрович со всей объективностью рассказал, а секретарь парткома, круглоголовый, в круглых больших очках, слушал его, возбужденно ходил по кабинету, глубоко вздыхал и один раз даже принял валидол.
Владимир Александрович понимал его волнение, — история была неприятная, а он должен был довести о ней до сведения МК и ЦК партии. Спросят-то ведь в первую очередь с секретаря парткома. Потом, когда Владимир Александрович кончил говорить, секретарь парткома, несколько успокоившись, стал рассуждать вслух, и Владимир Александрович не без некоторого удивления услышал примерно то же, о чем они говорили с Касьяненко: о двух уклонах — формалистско-эстетском (Миляев) и догматично-левацком (Крылатский). Он предложил Владимиру Александровичу сделать на заседании парткома доклад об этих двух уклонах и потребовать от обоих уклонистов признания ошибок. Владимир Александрович дал согласие. Но после этого к нему явились оба носителя уклонов. Сначала пришел Миляев с лихорадочно багровыми пятнами на лице, весь сразу словно похудевший. Он говорил, что ему срывают возможность творчески работать, что он напишет об этом Фивейскому и в ЦК, что Крылатский давно уже завидует ему. Владимир Александрович заранее знал, что в ЦК прежде всего посчитаются с мнением Фивейского. Миляев бил наверняка. Но при этом видно было, что он все же напуган той сокрушительной атакой, которой его подверг «демагог» Крылатский. Владимир Александрович постарался его успокоить.
— Вы признаете свой проект не подлежащим критике? — спросил он Миляева.
— Что вы, Владимир Александрович! Но критика критике рознь. Я ничего не имею против критики со стороны такого всеми уважаемого партийного руководителя, каким являетесь вы...
И Владимир Александрович обещал взять проект Миляева домой, чтобы ознакомиться с ним в спокойной обстановке. К Миляеву Сомов относился настороженно, но результатами разговора с ним был удовлетворен. К Крылатскому он испытывал симпатию, он чувствовал какое-то сродство с ним, ведь и они с Аравским были в молодости такие же. Но когда Крылатский, весь насупившись и побагровев, стал читать ему свое заявление в партком, где были в тоне обвинительного заключения изложены все мыслимые обвинения против руководства Академии, Владимир Александрович, изрядно уже уставший и раздраженный, даже не стал его дослушивать и прервал чтение сухой репликой, что он, мол, просит не подавать этого заявления, а оставить его ему, Сомову...
— Но я требую, чтобы меня передали в распоряжение Комитета, я не желаю зря есть советский хлеб!
— Я рассмотрю ваше заявление, — сухо сказал Сомов. Ему тут же вспомнилось, что Касьяненко несколько раз сказал, что с охотой возьмет Крылатского к себе в Комитет, но, конечно, говорить об этом Крылатскому он не стал.
«Ну и пусть уходит, — думал он, вертя горячую подушку под своей еще более горячей головой. — Может быть, это избавит мальчишку от проработки...» В его разгоряченной голове Крылатский сливался с Аравским, раздражение против старого друга и некрасивая кампания, которую тот провел против него, сейчас как-то забылись. Он вспоминал Анатолия таким, каким знал в молодости: бескорыстным, резко принципиальным человеком и настоящим коммунистом. Хотя и на разных фронтах, но ведь они оба участвовали в гражданской войне. Анатолий, делегат X съезда партии, был ранен на льду Кронштадта и получил орден Красного Знамени. И что-то было в нем сходное с участником Отечественной войны, принадлежавшем к другому поколению, — Крылатским.
Настало утро. Владимир Александрович слышал, как мимо его двери, стараясь не разбудить отца, ходил Леонид, как он умывался в ванной, что-то наспех ел на кухне. Вот хлопнула входная дверь. Да, сын — взрослый человек, начинает жизнь с новыми надеждами, с новыми иллюзиями. Сколько ему еще предстоит разочарований и огорчений и как хотелось бы своим опытом помочь ему и всем этим юношам!
7
Если бы можно было, Леня приходил бы к Вике каждый день и совсем не уходил от нее. Но Вика не любила, чтобы он засиживался у нее подолгу, и, когда он заходил к ней, она обычно уже ждала его, готовая к прогулке, в каком-нибудь нарядном платьице, красиво причесанная. Они шли на танцплощадку или в кино. Леня чувствовал, что Вика показывает его своим подругам, и ничего не имел против этого и против того, что они явно завидовали ей. Ему все это нравилось. Совместные прогулки и частые встречи все больше сближали Леню с подругами Вики. Иногда они, зайдя к Вике домой, заставали там Леню, конфузились.
— Да это свой, он к нам в бригаду приходил еще зимой, помнишь? — говорила Вика.
И Леня с интересом, который был у него вообще ко всем Викиным делам, слушал их разговоры и с гордостью замечал, как она толково расспрашивает и вникает в суть вопроса и как дельны ее советы.
«Я бы так не мог!» — думал он.
К счастью для Лени, началась дождливая погода, прогулки стали невозможны. Теперь, когда он приходил к Курбановским, его усаживали в старенькое проваленное кресло, на которое из-за вылезших пружин садиться можно было только боком, угощали жидким чаем с повидлом. Возможно, что, если бы он попросил чаю покрепче, Евдокия Яковлевна, мать Вики, и налила бы ему, но он не просил, а здесь не придавали никакого значения крепости чая, и он пил этот жидкий чай по нескольку чашек, хотя ни за что не стал бы его пить дома, мазал на хлеб темное сладко-паточное повидло, и этот продукт, который у них дома за столом даже и не появлялся, здесь казался ему очень вкусным. Ему здесь все нравилось. И то, что окошки маленькие, и мебель вся скрипучая, и даже то, что пахло каким-то бродильным запахом, так как дом был старенький и, наверное, весь прогнивший.
Евдокия Яковлевна почти неотлучно находилась в комнате. С самого начала она взяла с Леонидом такой тон, как будто бы они вдвоем знают что-то очень важное про Вику, настолько хорошо знают, что им нет нужды об этом разговаривать. Иногда, оставшись наедине с ним, она заговорщически рассказывала Лене новости, касающиеся дочери:
— Викторию сегодня в приказе отметили... За прошлый месяц премию выдали.
— Покутим! — говорил Леня и приносил бутылку сладкого вина или пирожных.
Усадив Леонида в кресло, Вика давала ему газету и говорила:
— Давай, читай... — и начинала что-нибудь шить или кроить на столе.
Леонид понимал: Вика просила его об этом, так как ее смущало, что он не спускает с нее глаз. Бывало, он и во время чтения отрывался от газеты и переводил на нее взгляд.
— Ну читай, читай, — шепотом говорила она и краснела.
Она ему нравилась. Но он еще смотрел на нее и потому, что хотел понять, чем это она так мила ему? Он помнил, что первое время, еще в мастерской, черты ее лица казались ему резковаты и кожа на лице была какая-то неровная. Сейчас все это не имело никакого значения. Что-то неизъяснимо прелестное и нужное ему было в выражении ее лица, в движении губ, в быстром взгляде, в том, как споро работали ее ловкие руки.
Один раз Вика распорола какое-то свое платье, — оказалось, оно состояло из множества маленьких кусочков. Все эти кусочки были проглажены утюгом, разложены на столе, потом из какого-то другого куска вырезаны были еще какие-то кусочки, одни вынуты, другие вставлены взамен, потом все это отстрочено на машинке, и получилось новое платье.
— Ну, что ты скажешь? — спросила она, поворачиваясь перед ним.
— У нас, конструкторов, это называется модернизация, — сказал он. И когда он объяснил ей, что значит это слово, она довольно кивнула головой.
— Это подходящее дело, — сказала Вика задумчиво. — А теперь идем гулять!
И он шел, но не очень охотно. Он больше любил сидеть здесь, читать газету, иногда вслух высказывать свои мысли. И мать и дочь — обе выслушивали его внимательно и с уважением. Родная мать и сестра никогда бы не стали его слушать. А какой интерес говорить это отцу, когда он все лучше его понимает?
Леониду все время хотелось обнять и поцеловать Вику, но, оставаясь с ней наедине, он робел, хотя до знакомства с ней совсем не был робок с девушками.
Один раз, увидев, как Леня входит в сад Курбановских, сосед их, служивший бухгалтером на том же заводе, где работала Вика, рукой поманил к себе Леонида. От него вкусно пахло водкой.
— Слышь, молодой человек, что я вам скажу! — произнес он. — Вот я гляжу, вы ходите, ходите, значит, что называется, крепко приморозило. Да вы не краснейте и не думайте, что я нахальничаю и лезу не спросясь в ваши дела... Но мне это понятно, сам молодой был, до времени тоже туда-сюда совался, а потом, как припекло-приморозило, женился, и вот, слава богу, уже у нас шестой в этом году в школу пошел... И чего вам, извините за выражение, вола за хвост вертеть, женитесь — и все! Я вам говорю: Виктория — это золотая девка! Она вот такая к нам в мастерские пришла, еще ящик ей подставляли во время работы, потому что до станка не доросла, а уже тогда определилась как передовик производства. Я вам говорю, молодой человек, с такой девкой вы не пропадете, хотя вы и инженер-конструктор...
— Да разве я против? — покраснев и беспокойно оглядываясь, ответил Леня. — Я совсем не против.
— Эх, дело ваше молодое! Ты думаешь, тут что мудреное, а дело простей, чем орех расколоть.
Леня еле освободился от наянливого старика. Но мысль о том, что старик прав и его, Лени, поведение со стороны может показаться некрасивым, теперь уже не оставляла юношу. Может, и Евдокия Яковлевна думает так, как этот старик Кузьмичев? Наверное, как давние соседи, они о нем говорят, иначе откуда знать Кузьмичеву, что Леня инженер-конструктор? И однажды, во время прогулки, он, набравшись смелости и смущенно посмеиваясь, рассказал Вике о разговоре с Кузьмичевым.
— И что за охота в чужие дела лезть?! — сказала она с неудовольствием. — Вот я ему скажу...
— Нет, я умоляю тебя, ведь он хороший человек, он все это правильно говорит, я с ним согласен!
Она вдруг повернулась к Леониду.
— Так ты, значит, решил на мне жениться? — Вика покраснела до корней волос, но продолжала прямо и смело глядеть ему в лицо. Он схватил ее за руку.
— Да, — сказал он хрипло. — Я хочу, чтобы мы всегда были вместе, всю жизнь... — Рука ее вяло и безжизненно лежала в руке Леонида, потом она осторожно отняла ее. — Что же ты молчишь? — прошептал он.
— Не ладно все это, — сказала она. — Ведь я же говорила тебе, что у меня с отцом...
— Какое это имеет отношение? — спросил он.
— Имеет, — твердо ответила она. — Иди, давай... — она отвернулась и тут же сама быстро ушла.
До следующей встречи Леонид думал и гадал, что все это должно означать, и пришел к ней взволнованный. Но Вика встретила его как всегда и только пораньше кончила все свои дела по дому...
— Пойдем погуляем... — сказала она.
К станции пошли они не по линии железной дороги, как всегда, а через лесок. И едва они оказались в лесной, по-летнему насыщенной запахами темноте, Вика обняла Леню за плечи. Он обернулся к ней и увидел совсем близко лицо ее с закрытыми глазами. И, забыв обо всем, припал к ее губам.
Так он вступил в мир, в котором ему все было внове. Он давно уже знал, что любит ее. Тут он услышал ее бессвязные и жаркие уверения, которые она твердила ему на ухо, и шепот ее сливался с какой-то далекой музыкой, — это была все та же труба, которая гудела над танцплощадкой при их недавней и такой уже далекой встрече... Но сюда звуки ее доносились приглушенно, и Лене казалось, что лучше музыки он не слышал. И, слушая эту музыку, он задремал, — ему казалось, не более как на секунду. Но когда он открыл глаза, сквозь узоры веток стало ясно проступать небо, и густая тишина стояла вокруг, и он понял, что ночь уже проходит... Он взглянул на Вику. Она полусидела, прислонив голову к дереву, глаза ее были открыты, она держала его руку в своей. Приподнявшись, он поцеловал эти ее думающие глаза, непонятное выражение которых всегда внушало ему робость, и, так как мысль о том, что ночь проходит и что скоро утро, привела с собой мысль о разлуке, он сказал ей:
— Мы с тобой никогда не расстанемся, верно? Мы поженимся, да?
Вика некоторое время с какой-то внимательной нежностью глядела на него.
— Зачем это тебе? — спросила она, взяв его руку своими сильными руками. — Ведь я тебя и так люблю, братец ты мой маленький...
— Но я всегда хочу быть с тобой.
Она покачала головой.
— Лучше, чем сейчас, нам не будет, — сказала она убежденно.
И он впервые подумал, что она не только старше его по годам, но и что он у нее в жизни не первый, как она у него. «Может, это плохо?» — с тревогой спросил он себя. Но ему даже думать не хотелось о том, что было у нее раньше. А она говорила:
— Когда ты прошлый раз сказал о женитьбе, я вдруг поняла, что я вроде мучаю тебя, принуждаю к женитьбе. А у меня даже мыслей таких не было, чтобы принуждать тебя. Ведь я про себя уже давно знаю, что люблю тебя. Вот я и решила, что это с нами будет без всякой женитьбы...
— Но я хочу всегда быть с тобой...
Она покачала головой и сказала со смешком:
— В загс, что ли, сходить нам?
— Да, в загс, обязательно в загс! — сказал он громко.
Еле заметная улыбка долго не сходила с ее губ.
— А это совсем не надо.
— Ну почему?
Она молча и неторопливо расчесывала волосы. Леонид снизу из предрассветных сумерек видел ее лицо, которое после того, что произошло и накрепко соединило их, стало еще более привлекательно-таинственным.
— Что ж, — сказала она со вздохом. — Я вижу, ты все-таки ничего не понимаешь. Нелегкий это будет сейчас для меня разговор... — снова повторила она. — Но без него, видно, не обойтись, не обойтись... — И она вдруг опустилась к нему, уткнулась ему под мышку и стала совсем маленькой и беззащитной. — Мне так хорошо, — невнятно проговорила она, словно сквозь сон. — Просто у меня сил нет говорить обо всем этом...
— Ну, и не надо, — испуганно сказал он, обнимая ее. — Ну, не надо, хорошенькая моя...
— Нет, надо, надо, — сказала она и сделала движение, чтобы подняться. Но он удержал ее. — Помнишь, ты рассказывал, что тебя должны для работы в конструкторском бюро обязательно засекретить?
— Ну, помню, — нетерпеливо ответил он. — При чем тут...
— Так что же ты, будешь так и писать в анкете и в автобиографии, что отец твоей жены арестован как враг народа по пункту такому-то, то есть за участие в контрреволюционном заговоре?
— Но ведь этого же всего не было! — сказал он с отчаянием.
— Да я лучше тебя знаю, что не было... — И вдруг слезы брызнули из ее глаз, и она закрыла лицо руками. — А писать-то ведь нужно!
Разговор этот прекращался и вновь возобновлялся. Уже раннее веселое солнце показалось среди ветвей и брызнуло сквозь ветки красновато-щекотными лучами. И какая-то смешная маленькая птица, нахохлившаяся, с коротким хвостом, стала время от времени прилетать к ним, подлетать близко и, усевшись на ветку, глядя своими черненькими блестящими глазками, — «чивит-чивит» — словно спрашивать у них о чем-то, и они, обнявшись, смеялись, глядя на нее.
Много всего было в эту ночь и в это утро: и слезы, и смех, и незабываемые слова нежности, и серьезный разговор, такой серьезный, какого ни он, ни она еще в жизни не вели.
Когда они уже встали с земли, Вика сказала ему:
— Леня, я понимаю жизнь гораздо лучше, чем ты. Нет, ты не обижайся, в этом нет обиды. Ты все равно мой муж теперь, и я так счастлива, как никогда не была. Но если мы сделаем так, как ты хочешь, и запишемся в загсе, поверь мне, из-за этого будет плохо и трудно. Приходи ко мне, бывай у нас сколько хочешь...
— Я тоже дома скажу и приведу тебя к нам! — сказал он.
Вика опять усмехнулась:
— Хочешь мамашу свою обрадовать тем, что сошелся с замасленной девкой с производства?
— А что мне до того, что они оба скажут! — упрямо ответил он.
— Нет, ты не смей так говорить, — строго сказала Вика. — Мне, конечно, нет дела до нее. Но ты даже не можешь понимать, что это значит — родные отец и мать, потому что они всегда при тебе. А я понимаю.
8
Студент архитектурного института Борис Миляев был во время Великой Отечественной войны в рядах действующей армии, получил тяжелые ранения и только в 1948 году вернулся в институт. Красивый и болезненный, заслуживший на фронте несколько орденов, простой и дружелюбный в обращении, он был встречен очень благожелательно, ему помогали в усвоении предметов, которые он позабыл за годы войны. Впрочем, учился он усердно и работал в мастерской Фивейского, который тоже благоволил к нему.
Все складывалось удачно в жизни и в работе Бориса Миляева до злополучного просмотра. Столкновение с Крылатским было само по себе большой неприятностью. Но после просмотра, по договоренности с Сомовым, Касьяненко прислал в Академию бригаду Гипрогора, состоящую из инженеров-строителей, и они подвергли уничтожающей критике все проекты, причем особенно досталось проекту Миляева.
Фивейский, на поддержку которого особенно рассчитывал Миляев, был в длительном отпуске — отдыхал и лечился. Борис мало рассчитывал на поддержку Сомова, заменявшего Фивейского, но против ожидания Сомов его поддержал.
Из-за припадка ревматизма Владимир Александрович не мог выйти на работу, а ему нужно было увидеться с Борисом Миляевым, чтобы поговорить о всех вопросах, которые встали перед ним последнее время. Он попросил молодого архитектора зайти к нему домой. Миляев с восторгом исполнил просьбу самого заместителя президента Академии градостроительства, такого почтенного и даже внушавшего ему некоторую робость.
При всей любви к русской старинной архитектуре, Миляев был вполне современный молодой человек и понимал, что Фивейский со всем своим огромным авторитетом был все же беспартийный, следовательно, направляющая линия Центрального Комитета партии осуществлялась через посредство Сомова, старого и испытанного члена партии. И то, что Сомов отнесся к нему более чем любезно, Миляев рассматривал как подарок судьбы. Предварительно узнав, что у Сомова жена красавица и молоденькая дочь, он по дороге зашел в цветочный магазин, по своему вкусу подобрал огромный букет цветов и вручил его Леле, открывшей ему дверь.
Миляев сразу узнал в этой бледной, высокого роста девушке дочь Владимира Сомова. Но то, что лицу отца придавало величественный и мужественный вид, портило дочь, — и крупный нос, и большой подбородок, и угловатость лица. «Девочка похожа на Гоголя...» — подумал Борис. Но, передавая ей букет, пошутил насчет того, что он составлял его в духе импрессиониста Руссо и, оказывается, попал прямо в точку.
— Вы знаете Руссо? — пролепетала девица с явным одобрением.
Борис прошел в кабинет к Сомову. Он знал, что Сомов всегда особенно участливо расспрашивает о здоровье, и выражение болезненной хрупкости, нервности само собой установилось на его лице. И это возымело действие.
— Что, болят старые раны? — участливо спросил Владимир Александрович. — У меня тоже, чуть намечается переход к осени, так ревматизм скрючивает... — говорил он, с некоторым затруднением поднимаясь навстречу Борису и морщась от боли в коленях.
— Это все ничего, — крепко пожимая руку и торопливо усаживая хозяина в кресло, ответил Миляев. — На фронте мы привыкли ко всякого рода телесным недугам. Но нравственные недуги...
— А что? Главный гонитель ваш Саша Крылатский от нас уходит.
— Но ведь бригада Гипрогора фактически повторяет его критику.
— Ну что вы! Это все деловые люди, и критика их лишена всякого привкуса демагогии.
— Это, конечно, так. Но критика их сводится к тому же. Попираются все требования эстетики, нужно будет поставить стандартного типа постройки и в ниточку вытянуть улицы. Но ведь Антон Георгиевич и вы, Владимир Александрович, все время твердили нам о том, что архитектура — искусство, что эстетические требования обязательны для планировки городов.
— Только не надо, Борис Андреевич, впадать в уныние, — говорил Сомов, продвигаясь к стеллажу, где кнопками был пришпилен миляевский проект города. — Я скажу вам о тех недостатках, которые прежде всего нам бросились в глаза еще при первом просмотре. Например, вы напрасно сбили весь город в кучу...
— То есть, выходит, вы согласны с Касьяненко?
— В известной степени согласен, — твердо сказал Сомов. — Ведь скученность средневековых городов и монастырей обусловлена исторической необходимостью всегда быть готовыми к обороне. А вы не бойтесь, смело растащите свой город, пробейте улицы кварталов по лесным просекам. А эту горку, которую по вашему проекту должны были застроить, оставьте неприкосновенной. И старинная церковь пусть стоит окруженная валами, как она здесь стояла несколько столетий, мы в ней музей откроем. Когда предполагается открыть музей?
— Во вторую очередь, — сказал Миляев.
— А вы проектируйте сразу и то, что в третью очередь. Знаете, как Петр Петербург проектировал? По его проектам двести лет улицы потом строились. А если уж следовать национальным традициям, возьмите за образец чудесную цветную гамму Василия Блаженного и вынесите ее за пределы церковной архитектуры. Размалюйте по этому образцу жилые кварталы города, чтобы наши дети и внуки при коммунизме добром вспомнили бы нас, радовались бы своему городу и весело жили в нем.
Когда после долгого разговора Сомов и Миляев вышли к обеду, Борис увидел, что букет его поставлен посредине стола и что среди мясисто-зеленой травы, обрамлявшей цветы, приколот миниатюрный пятнистый леопардик, — букет в таком виде как бы повторял мотив известной картины Руссо.
— У вас большое чутье стиля, Елена Владимировна, — похвалил Миляев. На бледных щеках девушки вспыхнул румянец, она даже похорошела. «Все-таки ухаживать за ней можно!» — подумал Борис.
Светло-карие, с озорной искрой глаза, что-то болезненно-нежное в цвете лица, по-юношески ломкий голос, хотя ему уже было за тридцать, умение непринужденно держаться в любом обществе — все это сразу располагало людей к Борису Миляеву, особенно когда он хотел понравиться. А ему здесь очень хотелось нравиться. Он не совсем понимал, почему Владимир Сомов, издавна известный строгостью и непримиримостью своих вкусов, так расположился к его проекту. Но Борис и не стремился это понимать, а старался по возможности полностью использовать это расположение.
По обилию магазинных закусок на столе и по безвкусному подбору их он легко догадался, что Нина Леонидовна плохая хозяйка, но все, что ни отведывал, хвалил напропалую и особенно сладкие вина, которые терпеть не мог. Нина Леонидовна все его преувеличенные похвалы принимала как должное. «Безвкусна, глупа и падка на лесть...» — подумал Миляев, и это ему понравилось. Леля щурилась, кокетничала с ним и, чтобы отстоять свою самостоятельность и не подпасть под его обаяние, пыталась подпустить ему шпильку.
— Все-таки это странно, Миляев, что вы, молодой архитектор, придерживаетесь этого стиля рюсс, ведь это же старомодно!
— Так стиль рюсс не с небес к нам упал, а из нашей же земли вырос, милая Елена Владимировна! — весело возразил Миляев. — Несомненно должно быть какое-то соответствие между нашим пейзажем и стилем древнейших каменных кремлей, церквей, монастырей...
— Послушать вас, так всякий прогресс остановится... Я, конечно, не получила специального архитектурного образования, но все время краем уха слышу разговоры папы с его коллегами и все-таки имею представление, что техника в вашей области проделывает решительные изменения. На место камня пришла сталь, даже железобетон, правда, папа? Дело идет к тому, что дома будут, как в детских конструкторах, собирать из заранее отштампованных частей, изготовленных на заводах. Папа, я не завралась?
— Нет, Лелька, вали давай! — смеясь, сказал Владимир Александрович.
— Но дело ведь не в процессе производства, который, и особенно в наши дни, все время совершенствуется, и не в том, что отдельные части дома будут штамповать на заводах, а в том, по какому рисунку будут штамповать... — сказал Миляев. Он говорил теперь серьезно и с волнением и больше обращался к отцу, чем к дочери.
— То есть будете из железобетона штамповать церковные купола? — И Леля звонко расхохоталась. — Папа, ну скажи, разве это не ересь, то, что он говорит? Ну скажи, ведь материал требует...
— Я лучше послушаю, что скажет Борис Андреевич, — ответил Сомов.
— Материал, Елена Владимировна, ничего не требует, — несколько учительно говорил Миляев. — Революция в строительном деле, конечно, не такого масштаба, как сейчас, но происходила. Достаточно напомнить о переходе от дерева к камню, который произошел в северо-русской архитектуре. Для того времени это была революция не менее значительная, чем та, которую сейчас переживаем мы. И вот представьте себе, что при этом переходе старинные мастера постарались сохранить архитектурные формы, найденные в период так называемый деревянный.
— Ну, это консерватизм, слепая инерция... — не совсем уверенно ответила Леля, и Владимир Александрович отметил эту неуверенность, — видно было, что факты из истории русской архитектуры, которыми свободно оперирует Миляев, ей неизвестны.
— Я думаю, что наших предшественников в архитектуре и градостроительстве слепыми назвать никак нельзя. Наоборот, они были весьма зрячие, и, хотя и не чуждались иностранного опыта, могу вам напомнить, что в строительстве наших храмов искони принимали участие византийцы, итальянцы, а в древности и армяне; их влияние чрезвычайно отразилось на архитектурных формах. Наоборот, иностранцы нередко подчинялись обаянию нашей природы... — громко говорил Миляев, и Леля, умолкнув, во все глаза глядела на его разгоревшееся лицо. А он говорил, словно забывшись: — Все, что для вас архаика и древность, для меня мое детство, ведь я на клиросе пел. И когда мне поручили проектировать этот лесной, бумажно-целлюлозно-животноводческий город, я как приехал на место да как увидел сохранившийся там поразительный храм... Ну, тут и пошло лепиться одно к одному... — Словно опомнившись, он вздрогнул, взглянул на Владимира Александровича и добавил: — Конечно, если бы не сегодняшний разговор с Владимиром Александровичем, я бы пал духом. Но Владимир Александрович сегодня подсказал мне, что не нужно слепо копировать старорусские архитектурные ансамбли, он вывел меня на широкий простор советской Руси, он подсказал мне площади и проспекты, мосты через каналы, напомнил мне о волшебной расцветке Василия Блаженного...
— Да ну, ну что вы, Борис Андреевич! — смущенно отмахивался Владимир Александрович. — Ей-богу, вы преувеличиваете... А насчет советов, так у меня должность такая, я за это жалование получаю.
— Нет, нет, не говорите, дорогой Владимир Александрович! Хотя скромность и приличествует большевику, но о вашей роли в градостроительстве мы все, молодые архитекторы, никогда не забудем.
— Ей-богу, Борис Андреевич, если вы не прекратите, я всерьез рассержусь! — прервал его Сомов, и глаза его сверкнули.
«Кажется, и вправду переборщил?» — подумал Миляев и положил ладонь на свой свежий, под темными усиками рот.
— За здоровье папы! — сказала Леля.
— Я только одно хочу сказать, — опять заговорил Миляев, чокаясь с ней. — Только одно: что Владимир Александрович первый указал мне на то, что использование национальных форм придаст строительству наших городов великолепное разнообразие.
Владимир Александрович покачал головой и сказал:
— Вот если бы вы, когда сдавали зачеты по ленинизму, усвоили бы по-настоящему учение Сталина о социалистическом содержании и национальной форме нашей культуры, тогда бы знали, за чье здоровье поднять этот бокал...
Миляев тут же с поднятым бокалом вскочил с места:
— Товарищ Сталин! Великий учитель! Гениальный полководец! Вы правы, Владимир Александрович, тысячу раз правы! Когда я был ранен и думал, что пришел каюк, последняя моя мысль устремилась к нему и я...
— За здоровье товарища Сталина! — перебил его Сомов и этим остановил поток излияний, которые, при всей их искренности, казались ему чрезмерными.
Леля предложила выпить за процветание истинного новаторства в архитектуре.
— Кого вы имеете в виду?
— Ну хотя бы Корбюзье...
— Что вы, Елена Владимировна! — живо возразил Миляев. — Ну согласитесь, что его когда-то новаторский стиль двадцатых годов сейчас стал старомоден...
— А вы предпочитаете наш советский ампир? Колонны как обязательный гарнир к каждому жилому дому, к гостинице, к театру и даже к гастрономическому магазину? — злорадно спрашивала Леля. Во рту у нее от вина было приторно-сладко, сердце билось с силой, ярко-золотистые глаза (как у кошки, — подумала она) этого привлекательного и все же внушающего опасение человека скользили по ее голым плечам и рукам, и ей было стыдно и приятно. «Не одевать же мне посредине лета платье с длинными рукавами?» — говорила она себе, чувствуя необходимость оправдаться и понимая, что вступает в какой-то странный и душный мир, куда, как в воронку, втекала ее словно бы разжижившаяся и теряющая обычную способность к насмешке душа.
— Он очень симпатичен, этот Миляев, — говорила Нина Леонидовна, после того как гость ушел, — И знаешь, он, кажется, произвел впечатление на нашу Лелечку. Скажи, у него действительно большое будущее?
— Я от него многого жду, — ответил Владимир Александрович. — Но в его отношении к Леле, мне кажется, есть что-то неприятное...
— А я тебе скажу, что в нашей Леле на этот раз раскрылось то «поди сюда», — многозначительно и даже таинственно сказала Нина Леонидовна, — что должно раскрыться в каждой девушке и определить ее брак. Помнишь, Вовик, нашу весну? — сказала она и опустилась к нему на колени всей своей основательной тяжестью.
— О-ох! — невольно застонал он, и она тут же вскочила.
— Бедненький мой, — сказала она. — Я совсем забыла о твоем ревматизме.
Леля не слышала этих разговоров отца и матери, и у нее не было никакой охоты думать о матримониальных планах. Но благодаря Борису ей в это лето стало вдруг весело и празднично жить. Она ходила вместе с ним в театр и на выставки, она непрерывно с ним спорила, почти ссорилась. Но это было для нее самое увлекательное в их отношениях. Она водила Бориса с собой к своим подругам, где можно было потанцевать, поболтать. Попав в общество столичной молодежи, Борис не стеснялся своей провинциальности, охотно давал себя учить самоуверенным, кичащимся своим культурным уровнем приятелям Лели, хотя нередко неожиданно ловил их на невежестве, — вдруг обнаруживалось, что им неизвестны элементарные сведения из русской истории, что они совершенные профаны в области физики и математики. Но делал он это настолько простодушно и безобидно, что ему все спускалось, и он давал понять, что не придает никакого значения своим познаниям, основательно усвоенным в средней школе и в вузе. Среди веселящихся бездельников, окружавших Лелю, его полюбили. Он и рассказать мог что-либо смешное, а то и жуткое, — ведь он прошел всю войну от Вологды, где его мобилизовали, до Берлина, где был ранен за три дня до заключения мира. Борис хорошо играл на гитаре, она оживала под его пальцами. Но всего охотнее он учился, — тем более что друзья Лели очень любили поучать. И он не стеснялся, что ему незнакомо имя какого-либо модного западноевропейского художника, и если не мог в Москве найти подлинника, то разыскивал копии...
Он легко подбирал на гитаре мотивы залетевших с запада песенок и танцев. Иногда, не очень часто, потому что Борис не хотел быть навязчивым, он провожал Лелю и заходил к Сомовым, оставался у них ужинать. Теперь для него, как это было в первый раз, не накрывали стол в комнате Нины Леонидовны, а как своего угощали на кухоньке.
Бывая у Сомовых, Борис впитывал каждое слово Владимира Александровича и потом вслух размышлял с Лелей.
— Ей-богу, я не знал, что у Гегеля есть такие золотые высказывания об архитектуре, а твой отец прямо наизусть их шпарит. Лелечка, твои все приятели, поверь мне, просто щенки в сравнении с твоим отцом, хотя он на первый взгляд и может показаться простаком...
Так как Леля испытывала потребность, вполне понятную всякому, кто переживал такие чувства, если не говорить о Борисе Миляеве в его отсутствие, то хотя бы упоминать его имя, она рассказывала отцу и матери о том, как Борис «уважает нашего папу». И хотя Владимир Александрович был честный, чистый человек, но он был все же не лишен обычных человеческих слабостей, и эти слова умной лести были тем маслом, которое смазывало движение дел Бориса Миляева. А Миляев, распознавая Владимира Александровича, все больше входил к нему в доверие. О Нине Леонидовне он не беспокоился, он чувствовал, что сразу же покорил ее. Он так же выразил желание познакомиться и с братом Лели, таинственным Леней, которого никогда не было дома.
— Что это за такой загадочный молодой человек? — спрашивал он Лелю.
— Он очень хороший, и я хотела бы, чтобы вы познакомились. Но только он вот так, — и она с обеих сторон глаз прикладывала ладони, — кроме своего конструкторского дела, ничего знать не хочет. В шорах, как лошадь...
«Сама ты, голубушка, отчасти похожа на лошадь», — думал Борис, и улыбка насмешливая и нежная играла на его губах.
9
Теперь Леня редко бывал дома, потому что ему у Курбановских было милее, чем дома. Евдокия Яковлевна с ним не дичилась и много рассказывала о муже. Сначала Леониду было неловко слушать эти странные выдумки, они явно имели целью объяснить, почему Петр Ильич Курбановский находится в столь длительной отлучке. В рассказах Евдокии Яковлевны фигурировала то Средняя Азия, то Антарктида, то командировка в Америку. И всегда целью этих командировок были какие-то грандиозные инженерные сооружения — то создание вместе с США огромной плотины на дне океана, плотины, которая перегородит морское течение и этим изменит климат на земле, то на подводной скале океана должен был быть построен искусственный остров, с которого будет запущен снаряд на Луну или на Марс. Леня, в свое время увлекавшийся научно-фантастической литературой, без труда обнаружил в этих бессвязных рассказах мешанину из Жюля Верна и Уэллса, Алексея Толстого и Обручева.
Впрочем, эти разговоры Евдокия Яковлевна заводила, только оставаясь наедине с Леней, когда он уже приходил к ним, а Виктория еще задерживалась на работе. Стоило Виктории вернуться с завода, как Евдокия Яковлевна из сферы научно-фантастических мыслей возвращалась к обыденной прозе, и все ее помыслы направлялись на то, чтобы их накормить. Их вместе она называла «голуби».
— Голуби, идите есть, голуби, чай скипел! — И это обращение очень трогало Леню, в нем было что-то совсем непохожее на тот несколько чопорный тон, который в их семье культивировала Нина Леонидовна.
Леня очень любил ужинать у Курбановских. То ли Евдокия Яковлевна особенно вкусно готовила, то ли приятно было есть, глядя на то, как Вика глядит себе в тарелку, казалось бы вся поглощенная едой, потом вдруг поднимет на него глаза и чуть улыбнется. Но он никогда с таким аппетитом не ел дома, где к ужину подавалась и ветчина, и сыр, и даже черная икра. Все это казалось ему невкусным. То ли дело помидорная закуска на прованском масле, которая скворчит на сковороде!
Да, помидоры уже поспели, после полудня еще бывало жарко, но ночи стали длинные и прохладные. Когда однажды после обеда вскипел чай и Леня по обыкновению развернул газету, обнаружилось, что нужно зажечь огонь.
— Вика, ты видишь? — спросил он.
— Да, да, вижу... — ответила она.
Теперь уже нельзя было ночевать в лесу, на том месте, где к ним прилетала их птичка. И даже в мезонине, окно которого Вика сама застеклила и где они проводили ночи, становилось холодно. Быстро прошло летнее время, когда на рассвете Леонид через крышу спускался вниз и неторопливо шел, бездумный и счастливый, к своему конструкторскому бюро. Он не торопился. Домой, в Москву, ехать уже было поздно. Если погода стояла хорошая, он досыпал в лесу, а если плохая, на скамье под вокзальным навесом. Дождавшись, когда откроют вокзальный буфет, он завтракал и едва ли не первый приходил на работу. Дома он говорил, что остается на ночные занятия, и ему было довольно безразлично, верят ли этой версии или нет, лишь бы не расспрашивали.
Дома ему сейчас все опостылело. Жизнь его проложила новое русло, проходившее там, где была Вика. Когда ему случалось ночевать дома, он, засыпая, произносил ее имя, словно для того, чтобы убедиться в существовании той невидимой, но кровной связи, которая сплелась между ними, и порою, вздрогнув, просыпался, не ощущая Вики рядом с собой.
Один раз на белесом рассвете он спрыгнул с крыши в садик и чуть не сшиб с ног старика Кузьмичева, который, белея подштанниками, нес воду из колодца.
— Нехорошо, молодой человек, — сказал Кузьмичев, качая головой. — Ты не кот, она не кошка, чего же это вы свои дела по-кошачьи устраиваете? — И он вдруг добавил строго: — И на что надеешься? — Он так это и сказал, не по-городскому, а по-деревенскому, и это «надеешьси» прозвучало особенно убедительно.
Леню долгое время преследовал этот разумный, упрекающий вопрос. Тем более убедительный, что он сам знал, что жить так, как они живут, нельзя. Приближалась зима, как они будут жить тогда?
Однажды вечером к ним зашла Таня Черкасова. Она совсем не удивилась, застав Леню, пожалуй, даже обрадовалась, так как во время разговора обращалась к нему за поддержкой. Дело в том, что в ближайшее время ей предстояло держать экзамены в вуз, она должна была наметить себе заместителя. Таня назвала Курбановскую и получила на это согласие. Сейчас дело было за Викой. Вика долгое время ничего не отвечала. По тому, как густо покраснела она, по оживившимся глазам ее Леня понял, что она обрадована, польщена и взволнована, и сам обрадовался за нее. Но вслух она сказала, что ей еще нужно подумать, что она может не справиться.
— Да чего там! — нетерпеливо воскликнула Таня. — У тебя ведь дома свой инженер, в случае чего поможет! Да что вы краснеете? Может, думаете свадьбу замотать? — сказала она, уже стоя в дверях, повернув к ним свое разрумянившееся, в черных кудряшках лицо.
— Ну вот, видишь, ведь о нас всё знают, — говорил Леонид.
— Ну и пускай! — отвечала Вика шепотом, кивая на мать.
— А зимой?
— Что-нибудь придумаем! — ответила она.
С тех пор как Вика стала бригадиром, члены бригады бывали у нее все чаще, и не только молодые девушки. Один раз под вечер, когда Леня, придя усталый домой, переоделся, закусил и прилег отдохнуть, в комнату бесшумно вошла большого роста женщина, голова которой закутана была платком. Увидев Леню, она остановилась. Леня хотел вскочить с постели, но Вика, заметив это его движение, досадливо-нежно сказала:
— Да лежи ты, пожалуйста, Леник... А ты входи, Алфеевна, — говорила она, краснея. — Устал после работы. Да ты говори, говори, он и слушать нас не будет.
Алфеевна вошла, скинула на плечи платок с туго причесанной, тронутой проседью большой головы. Это была уже пожилая женщина. Нельзя было не обратить внимания на ее большое лицо, изборожденное морщинами, но еще румяное, с черными бровями вразлет, на ее властно и нежно сложенный рот. Она попросту рассказывала Вике свою горестную историю, и Лене сквозь дрему казалось, что он не первый раз слышит обо всем этом. Муж ее, печник, пошел в народное ополчение, а сын в действующую армию, и оба не вернулись. На руках ее и дети, и внуки, пособия не хватает, хочется дочку учить в вузе, очень она способная, в вуз экзамены выдержала. Алфеевна после войны пошла на завод, но норму не вырабатывает. На заводе оставаться — плохо, с завода уйти — того хуже.
— Ты, Вика, посоветуй, что делать, а то голова кругом идет. Ведь ты бригадир...
Вика слушала не опуская глаз, которые казались темными. «Ну что она может посоветовать? — думал Леня сквозь дрему. — Ведь это же не от нее зависит...»
— Слушай, Анна Алфеевна, что я тебе скажу, — вдруг послышался голос Вики, звучавший особенно внушительно. — Я знаю, работы ты не боишься...
— Нет, Виктория Петровна, не боюсь, ты же сама знаешь.
— Ну так слушай. Знаешь, как часто приходят к нам наряды на изготовление валиков? Так вот, они все твои будут.
Наступила пауза. Анна Алфеевна вздохнула.
— Спасибо, конечно, — неуверенно сказала она. — Только если каждый раз переналаживать...
— А тебе не придется переналаживать. Ты знаешь, как я работаю?
— Так то ты! У тебя голова министерская.
— Ничего тут особенного не требуется. Я тебе помогу, и ты так же будешь работать.
Леня видел ее лицо, взволнованное и убежденное, слышал настойчиво-упрямые интонации ее голоса, уже не разбирая, о чем идет разговор, восхищаясь ею, и так в этом счастливом настроении уснул.
Шла подготовка к районной комсомольской конференции. На бюро был поставлен вопрос об итогах вовлечения в комсомол, и Паримов снова появился на заседании бюро. Леонид пришел на это заседание взволнованный и смущенный. Хотя порученные ему Асатуров и Шилова за это время уже вступили в комсомол, но что сказать о Курбановской? «Ничего не скажу!» — решил он, и так и сделал.
Но едва он закончил свое сообщение об Асатурове и Шиловой, Паримов сам сказал:
— О Курбановской можешь не сообщать.
В этих словах не было ни упрека, ни насмешки, чего так боялся Леня. Слова эти прозвучали по-будничному просто. И Леонид, не поднимая глаз, сел. Наверное, на некоторых лицах появились улыбки, потому что Паримов постучал пресс-папье по столу и сказал, обращаясь к председательствующему:
— Давай-ка дальше...
В этот вечер по уговору с Викой они не должны были встречаться, и Леня после заседания поехал прямо в Москву. Уставший после целого дня работы и заседания в райкоме, он, добравшись до дома, сразу растянулся на постели. Он устал, но сон не шел к нему. То, что произошло на заседании, подсказывало ему, что медлить с оформлением отношений с Викой нельзя, некрасиво.
Дверь открылась, к нему заглянула сестра:
— Можно к тебе?
— Можно, — неохотно ответил Леня.
Леля села возле него, закурила и выпустила дым из ноздрей, на что Леня смотрел без всякого удовольствия.
— Устал, трудяга? — спросила она.
— Устал, бездельница...
Леля согласно кивнула головой.
— Право, сама себе надоела, — жалобно протянула она.
— Какая трагедия! — усмехнулся Леонид.
— Ну ладно, Леня, чего нам препираться! Я зашла, чтобы предупредить тебя. Вчера здесь была мамаша и заметила вот этот портретик... — она кивнула подбородком на письменный стол, где в рамочке стояла маленькая фотография Вики. — Может, ты мне скажешь, что это за особа с царственным выражением лица?
— Это жена моя, — сказал Леонид вызывающе. И по тому, как омрачилось лицо сестры, он почувствовал, что не на шутку огорчил ее.
— Плохо, — сказала Леля, покачав головой. — А я, признаться, изо всех сил старалась внушить маме, что появление такого портретика на столе у мальчишки еще ничего не означает. Отец поддержал меня, а ты, оказывается... — Она говорила и, покачивая головой, рассматривала карточку Вики неодобрительно, недоброжелательно. И Леня, который сначала сам был смущен тем, что под напором внезапного раздражения против сестры неожиданно соскочило у него с языка, сейчас утверждался в том, что он правильно сделал, назвав Вику своей женой.
— Лицо недоброе и очень самоуверенное... — проговорила Леля.
— Какая ни есть. Впрочем, я не думаю ее вам навязывать.
— Да уж тут хочешь не хочешь, а такая сама навяжется! Это она велела тебе поставить карточку на стол? — Леля перевернула карточку, надеясь обнаружить нежную и слащавую надпись, но увидела там бледным карандашом небрежно сделанную надпись: В. Курб. — Курб! Вот так фамилия! А зовут, наверное, Василиса или Варвара?
Леня взял у Вики эту карточку тайком. Отметка «В. Курб.» была сделана фотографом, так как карточка предназначалась для удостоверения. Он считал ниже своего достоинства объяснять все это сестре и только сказал размеренно:
— Ее зовут Виктория Курбановская, если тебе это интересно.
— Как же не интересно? Виктория — имя тоже царственное. А мы тут уже тебе невесту присмотрели, которая влюблена в тебя, денно и нощно о тебе только и мечтает.
— Это Матусеночку? — усмехнулся Леня.
— Ее... Ты хотя бы дал себе труд рассмотреть ее профиль. Какой носик! Воплощение женственности, не то что у твоей царственной Виктории...
Леонид поднялся с постели и стал завязывать галстук.
— Тебе не удастся вывести меня из терпения. А заводить разговор о носах я на твоем месте не стал бы.
— Что говорить, — вздохнула Леля. — Насчет носа папа мне подгадил. — И она, прищурив один глаз, другой забавно скосила на свой длинный нос. — Только подумать, что этот несносный предмет будет всю жизнь неясно маячить передо мной, напоминая о том, какая я неудачница. Впрочем, видно, Гале Матусенко так и придется остаться при своем изящном носике, — добавила она не без некоторого злорадства.
Леонид хотел уже прекратить этот насмешливый и им обоим неприятный разговор, когда Леля вдруг подошла к нему и положила руку ему на плечо. Хотя Леонид был старше сестры на четыре года, они были почти одного роста.
— Ленечка, братик ты мой единственный, ну разве тут дело в Гале или в твоей Виктории? Просто при Гале мы были уверены, что сохраним тебя у нас дома, в семье, а куда уведет тебя твоя Виктория, разве мы можем знать? Ведь ты же нам нужен! Ну к кому, скажи, я смогу вот так, как сейчас, зайти, побраниться, посмеяться и рассказать о своем самом заветном и даже тайном, посоветоваться... — Ее маленькие глазки нежно мерцали, неспокойная улыбка бродила на полных губах.
— А что, у тебя случилось что-нибудь плохое? — спросил Леня обеспокоенно.
— Случилось? Нет, ничего не случилось... Только помнишь, ты на днях приехал вечером, а я в театр уходила...
— С Борисом Миляевым? Мне отец и мать потом рассказывали о нем такое, что мне даже завидно стало. Преуспевающий молодой человек! И кажется, претендент на руку и сердце?
— Не знаю, ничего не знаю! — игнорируя его шуточный тон, серьезно и даже, пожалуй, печально сказала Леля. — Но очень хочется иметь его при себе, понимаешь? Тут дело даже не в красоте, а знаешь, есть в нем этакое «поди сюда»... Вот я и иду. Кошачье что-то, ласковое, но чую я — безжалостное. Мне иногда кажется, что он про себя забавляется мной.
— То есть как это забавляется? — переспросил сердито Леня. — Пусть попробует, я ему морду набью.
— Вот у вас, у мальчишек, все просто, — чуть что, морду набью. А может, это мне нужно морду набить...
— За что?
— Да я в нем, Леня, такое иногда вижу, чего даже наш умный папа не видит, а куда уж маме! И я прекрасно знаю, что он бывает у нас и ластится ко мне потому, что очень зависит от папы, понимаешь? Эта история в старом духе, из какой-то пьесы Островского, просто пошлость, ей-богу! — Она закрыла лицо руками.
Леня схватил ее за руки и стал отдирать их от лица ее.
— Ну что ты, Лелечка! Ну, успокойся, ну право, я все сделаю...
— Что, морду ему набьешь? — засмеялась она.
И тут у них начался исполненный доброты и нежности друг к другу разговор. Они снова вернулись к вопросу о его женитьбе, и Леля постаралась уговорить брата, чтобы он пока не сообщал родителям о своем браке.
Когда Леонид на следующий день после работы пришел к Курбановским, ему здесь показалось особенно приютно и спокойно. На улице шел дождь, и они с Викой долго, не зажигая огня, обнявшись, просидели в кресле. Когда Евдокия Яковлевна вошла и щелкнула выключателем, Вика сразу вскочила и села к столу. Евдокия Яковлевна принесла чайник, раздала чай. Леня выпил чай и развернул газету. Вика пила как-то нехотя. Леня вдруг почувствовал, что она словно отвлечена чем-то, не следит за его чтением. Он вопросительно взглянул на нее.
— Читай, читай... — шепотом сказала Вика, потом вдруг подозвала мать, наклонила к себе ее голову и шепнула ей что-то на ухо. Та похоже что тихо ахнула, поцеловала дочь в лоб и бесшумно ушла. Вернувшись, она поставила перед Викой какую-то еду. Леня взглянул из-за газеты, — это были огурцы домашнего соления, которые они сегодня уже ели за ужином.
— После чая? — сказал он, смеясь. Вика, занятая огурцом, только кивнула головой и поглядела на него особенно ласково, словно извиняясь. И тут он все понял.
Не то он где-то читал, не то слышал, что у женщин при беременности бывают такого рода капризы. Улыбка еще не сошла с его губ, а на душе стало очень серьезно. И весь сегодняшний вечер показался значительным. Испытывая какую-то робкую нежность, он подошел к Вике, обнял ее, она прижалась к нему головой. Очень тихо было в комнате, только в углу, словно мышь, шуршала Евдокия Яковлевна да звонко стучали ходики... И так хорошо ему стало, что бесповоротное решение не уходить отсюда пришло само собой. Это решение разом покончило с неопределенностью, его тяготившей, оно освободило от забот о том, как им встречаться зимой и что будут говорить люди.
— Я не уйду от тебя сегодня, — сказал он. Она ничего не ответила, только сунула свою горячую руку ему под рубашку. — И завтра же мы пойдем в загс, — шепнул он.
Вика быстро отпрянула от него.
— Нет, нет и нет! — твердо сказала она. — Леня, я ведь никого и никогда не любила так. Тебя люблю первого, а то, что случилось у меня до тебя, это было мое любопытство и ошибка. Но ведь я словно живу и за себя и за тебя сразу. Я точно знаю, что, если мы распишемся, тебе будет плохо.
— Это не может быть, — ответил Леня. — Кто бы ни был твой отец, на тебя это не может распространяться...
— Ленечка, ты никого не слушай! — вдруг вмешалась в разговор Евдокия Яковлевна. Это было настолько неожиданно, что они оба вздрогнули. — Тебе не надо стыдиться Петра Курбановского. Петра Курбановского сам Ворошилов отмечал. Он еще вернется, мой Петя...
Вика с ужасом смотрела на мать, на ее словно спекшееся, как при большой температуре, лицо. И тут Леня подошел к маленькой старушке, наклонился к ней, взял ее сморщенные, пахнущие кухней руки в свои и поцеловал одну и другую.
— Все будет хорошо, Евдокия Яковлевна, — сказал он. — Свадьбу отпразднуем.
— Свадьбу обязательно нужно, — убежденно сказала старуха. — Чтобы все было как у людей... — Она заговорила что-то свое, засуетилась и ушла.
Когда они остались одни, Вика спросила:
— Ты слышал, как это она сказала, о свадьбе?
— Конечно, слышал, — ответил Леня с недоумением. — А что?
— Да ведь это она как здоровая сказала!
— Ну вот видишь, значит, все будет хорошо!
Вика с выражением сомнения покачала головой.
— А как будет у тебя дома? — спросила она, так как Леня уже рассказал ей о своем разговоре с сестрой.
— Ну, это как они там хотят.
— Нет, это нельзя так, против отца и матери. Знаешь, что нужно сделать? Мне очень хочется сегодня тебя оставить здесь, очень! Но нужно сделать совсем не так. Тебе нужно поехать домой, рассказать обо всем родителям, потом мы вместе приедем к ним. Мне это нелегко будет, но все должно быть по-человечески.
Однако добиться, чтобы Леня в эту ночь уехал домой, она не смогла. Утром они вместе вышли на работу.
Погода была серенькая, к дождю, Кузьмичев под навесом колол дрова. Следуя внезапному побуждению, Леонид крепко взял Вику под руку и подвел ее к старику. Кузьмичев, выпрямившись, взглянул на них вопросительно и вытер пот со лба.
— Можете нас поздравить, товарищ Кузьмичев! — торжественно сказал Леонид.
— И от всей души! — ответил Кузьмичев.
10
Леля ничего не рассказала Нине Леонидовне о разговоре с братом. Но Нина Леонидовна, поразмыслив и сопоставив появление на столе у Лени фотографии девушки с неприятно-вызывающим выражением лица с тем, что он время от времени стал ночевать вне дома, пришла к некоторым выводам и решила, что ее родительский долг повелевает ей предостеречь сына и оказать ему моральную поддержку. С сыном надо было поговорить, и это, конечно, удобнее всего было бы сделать отцу. Но Владимир Александрович категорически отказался, заявив, что Леонид уже взрослый человек и, пока он сам не начал разговора с родителями на эту тему, им не следует вторгаться в его жизнь. Когда же Нина Леонидовна заспорила, Владимир Александрович пустился в либеральные рассуждения, хорошо ей знакомые.
— Я доверяю здравому смыслу Лени.
— Но откуда у Лени может быть здравый смысл? Вспомни хотя бы историю с институтом внешних сношений.
— Как раз именно эта история и доказывает, что наш сын человек, способный выбрать себе дорогу в жизни.
— Пока я этого еще не вижу.
— Увидишь...
— Нет!
— Да!
— Нет!
— Да!
Разговор зашел в тупик.
Высоко подняв свою красивую голову и зная, что она хороша, Нина Леонидовна по старой памяти сыграла роль оскорбленной королевы и эффектно вышла из кабинета мужа. Потом она тихонько поплакала, так, чтобы слезы не повредили щекам и ресницам, и привела лицо в порядок. Что ж, ей придется самой поговорить с сыном. Если муж остался таким же легкомысленным человеком, каким был всегда, что с этим поделаешь?
И Нина Леонидовна стала готовиться к разговору с сыном. Она порылась в ящиках своего старинного, еще отцом подаренного ей секретера. С грустной улыбкой перебирала она брошюры о кормлении грудью и гигиене новорожденных, о том, как следует по-научному обставить детскую. Это все были хорошие брошюры, которыми ее снабжал отец. Брошюры лежали в полном порядке — о детских играх, о распорядке дня ребенка, о том, как правильно сидеть за столом, приготовляя уроки. Одна из брошюр была озаглавлена: «О чем рассказывал дядя доктор мальчику племяннику». Когда Лене исполнилось тринадцать лет, она подсунула ему эту книжку, но сама постеснялась говорить с ним на щекотливые темы и попросила мужа.
— Ну как, Володя, ты говорил с ним?
— Говорил, — ответил муж, посмеиваясь.
— Ну и что? — спросила она, игнорируя совершенно неуместный смех мужа.
— Э, да он все это знает...
— Но от кого?
— Ну от кого я знал? От мальчишек!
— Но это все извращено, похабно!
— Не обнаружил ни особенного похабства, ни особенного интереса. Леню гораздо больше интересует кружок авиамоделистов, в который ты ему почему-то запретила записаться.
— Но ведь они будут прыгать с парашютом...
— Авиамоделисты? — удивился Владимир Александрович. — Хотя, может быть, даже и будут. А вот мы в детстве без всякого парашюта прыгали в сугробы с крыши сарая.
«Да, так всю жизнь...» — думала Нина Леонидовна, роясь в своем секретерчике. — «Хороший, всеми уважаемый человек, но никакого представления о воспитании детей!»
Наконец она нашла то, что искала. Это была книга врача, написанная для того, чтобы предостеречь против заражения венерическими болезнями. Она называлась «За бархатным занавесом».
Когда Леня вернулся домой и, поцеловав матери руку, прошел к себе в комнату, Нина Леонидовна проследовала за ним. Она была во всеоружии.
Без особого любопытства, но с вежливой выдержкой выслушал Леня ее заранее обдуманное вступление к разговору. Это вступление носило мирный характер:
— Мы с отцом старимся, вы взрослеете, по тебе это особенно заметно. Но так как ты дорог нам по-прежнему, мы полны желания тебя оберечь, предостеречь, передать тебе свой жизненный опыт.
Тут Нина Леонидовна замолчала, взяла в руки карточку Виктории, молча взглянула на нее и снова поставила, но не очень бережно, и карточка опрокинулась. Леня подошел и поставил ее опять.
— Молодой человек в твоем возрасте редко сразу находит ту, с которой ему суждено быть счастливым всю жизнь. Так в молодости было у твоего папы. Сначала он неудачно выбрал. Впрочем, лучше, чтобы он сам тебе рассказал об этом... Во всяком случае, ему не пришлось особенно тяжко расплачиваться за свои неудачи. Конечно, эта интриганка была старше его, — ввернула Нина Леонидовна, знавшая от дочки, что Вика старше ее сына.
Тут Нина Леонидовна многозначительно замолчала, из-под опушенных ресниц посмотрела на Леонида и осталась довольна, — он весь вспыхнул и хотел что-то возразить.
— Дорогой мой мальчик! — сказала Нина Леонидовна, обняв сына и целуя его в любимое место, в нежный висок, где, так же как в детстве, видна была голубая жилка. — Я не хочу вмешиваться в интимную жизнь твоей души, я только призываю тебя к осторожности. Я полна веры в твой разум. Я верю, что ты не поддашься стихийному безумству пола. Вот прочти эту книгу умного, научно мыслящего, наблюдательного врача. Прочти, вдумайся, я рассчитываю, что книга эта раскроет тебе глаза на всю роковую опасность беспорядочных половых сношений.
— Что это, мама, вы такое говорите?! — растерянно и гневно спросил Леонид. — Каких сношений?!
— Последствия могут быть двоякие, — отчетливо выговорила Нина Леонидовна, играя роль передовой женщины-общественницы. В молодости ее был спектакль, где она играла такую роль. — И моральные, и физиологические... Твоя случайная партнерша, чтобы приковать тебя к себе, может произвести на свет ребенка, и ты на всю жизнь будешь обязан платить алименты. Умоляю, выслушай до конца! — сказала она, положив руку на плечо сына и видя, как все сильнее багровеет его лицо. — Возможна и более тяжелая расплата. О ней-то и пишет автор этой книги. Он не без остроумия замечает, что его пациенты заражались венерическими болезнями только от хороших знакомых...
И тут вдруг Леонид распахнул окно и с выражением брезгливости швырнул в окно эту книжку, драгоценную книжку, — ведь сейчас таких не издают и вряд ли будут издавать! Нина Леонидовна не успела даже выразить свое возмущение этим поступком, как Леонид, выпрямившись и словно став выше, с красным, как при кори, лицом и пламенеющими ушами, сказал:
— Я сегодня пришел домой, чтобы тебе и папе рассказать о том, что встретил девушку, лучше которой нет на свете, и что я женился на ней. Я собирался привести ее сюда и познакомить с вами. Но ты... — и он посмотрел на мать почти с таким же отвращением, с каким глядел на книгу, которую выбросил в окно. — Тебе незачем с ней знакомиться!
— Мне с ней? Да кто она такая?! И какая слепота, ведь она просто ловит тебя!
— Ну конечно, вы ничего другого придумать не в состоянии. В вашей мещанской душе...
Дверь открылась, в комнату быстро вошла Леля.
— Ленька, замолчи сейчас же! — сказала она. — Мне Дуся сказала, что вы здесь ссоритесь...
— Да как она смела, мерзкая девка, подслушивать?! — крикнула Нина Леонидовна.
— Если подслушала, то очень хорошо сделала, потому что я могу вовремя тебя остановить. Ты еще скажешь мне за это спасибо.
Леонид молча вытащил чемодан из-под кровати и стал быстро бросать туда все, что попадало под руку, — книги, белье, бритвенный прибор, подушку.
Нина Леонидовна сидела на постели вся бледная, закусив губу, с предельным недоумением и страхом вглядываясь в сына. Леля обняла ее голову и прижала к себе. Схватив со стола фотографию и сунув ее за пазуху, Леня стукнул дверью и исчез.
Нина Леонидовна со стоном рванулась за ним, дочь не пустила ее, крепче прижав к себе. Нина Леонидовна глухо зарыдала.
— Лелечка, за что?
Леля мелкими поцелуями покрывала ее лицо и сама плакала.
— Мамочка, за дело, — говорила она, всхлипывая. — За глупость, за пошлость, за мещанство...
11
Первое, что в этот вечер услышал Владимир Александрович, повернув ключ в двери и войдя в свою квартиру, был громкий стон Нины Леонидовны. Владимир Александрович вернулся домой хотя и усталый, но в хорошем, как всегда после удачного дня работы, настроении. Но когда он услышал стон жены, у него словно сердце упало, и он, не сняв пальто, пошел прямо к ней. Нина Леонидовна лежала бледная, с полотенцем на голове, в комнате пахло уксусом. Он сел возле нее и поцеловал ее руку.
— Что, мигрень, Ниночка?
— Мигрень... Дело не в физических мучениях, у меня душа болит!
Держа руку мужа, она рассказала ему о разговоре с сыном. Она ждала сочувствия, но вдруг увидела в глазах мужа удивление, неодобрение.
— Неужели ты ему так и сказала? И насчет венерической болезни?
— Да ведь он неопытен, его нужно было как-то предостеречь...
— Ну знаешь, если бы кто-нибудь в то время, когда мы поженились, предостерег бы меня в таком духе...
Нина Леонидовна быстро вскочила с постели и сорвала повязку с головы.
— То есть как ты можешь сравнивать?! — гневно сказала она. — Ленька спутался черт знает с кем, а ведь ты же знал нашу семью!
— Ну как тебе не стыдно говорить этот вздор и пошлость?
— Мне надоело это слово — пошлость! — крикнула Нина Леонидовна. — Я не понимаю этого слова и понимать не хочу! Что не сделаешь, все пошлость. И Лелька твердит все время: мещанство, пошлость... А тут еще эта мерзкая Дуська завелась, все подслушивает...
— Надо жить так, чтобы не бояться подслушивания. А если ты вздумаешь в таком же духе предостерегать Лелю...
— Ты что же, действительно стал считать меня дурой? Борис Андреевич все о себе рассказал, он бывает у нас. Да он мне вот как ясен! — и она, растопырив белые пальцы своей красивой руки, показала Владимиру Александровичу, как ей ясен Миляев.
— Вот в этом отношении я завидую тебе, потому что мне он не во всем так ясен. Но дело тут не в Борисе, а в Лене, — сказал он, снова беря в руки руку жены. — Давай, Ниночка, оставим пока Леню совсем в покое, пусть пройдет некоторое время, у него все как-то установится, и он обязательно придет домой.
Нина Леонидовна вдруг заплакала.
— Нет, ты не видел... Ведь он заблал... забрал... — оговорилась и поправилась она, — все свои вещи... У меня прямо тут что-то оборвалось, — жалобно всхлипывая, говорила она. Владимир Александрович гладил ее голову. Вот сейчас он понимал каждое ее слово, наверное, потому, что они сопровождались этими всхлипами, в которых ничего не было деланного.
— Ты увидишь, Ниночка, он вернется. Ты же знаешь, какие у нас с ним отношения, он обязательно захочет объясниться со мной...
— А я? Что же, он меня отбросил, да? А я не могу без него, у меня вот тут болит... — она показывала не на сердце, а куда-то ниже, и именно это особенно обеспокоило Владимира Александровича. Он уложил жену, нашел бром, сам вскипятил кофе и принес ей, закутал ей ноги, потому что Нина Леонидовна жаловалась, что они у нее мерзнут. Но как ни ласков и мягок был Владимир Александрович, Нина Леонидовна не могла согласиться с тем, что он предлагал, хотя и перестала с ним спорить. Ей хотелось бороться за сына, ненависть к разлучнице с ее надменным лицом не давала ей заснуть. Она слышала, как пришла дочка и с нежностью уловила доносящийся из-за стены мягкий голос Гали Матусенко.
Галя Матусенко продолжала бывать у Сомовых, хотя и не так часто, как раньше. Но ведь девочки дружили с первого класса, и без Лели Галя не знала, что думать о прочитанных книгах, спектаклях и выставках. Все же Леля — сестра Леонида, и не так-то уж легко девушке расстаться с предметом первой любви. Хотя Леонид исчез из родного дома и Галя была оскорблена в лучших своих чувствах, пристрастие к нему и к его родному дому, пожалуй, даже укрепилось в ее душе. Галю сейчас особенно влекло к Сомовым, тем более что у нее были некоторые обязанности по отношению к Леле, — Галя уже поступила на первый курс юридического, она шла по стезе отца, а Леля, отставшая от нее на несколько лет, еще училась в школе для взрослых и с трудом перешла в девятый класс. Галя помогала ей, то есть решала за нее задачи, правила грамматические ошибки в ее письменных работах.
Девочки шептались и пересмеивались. Потом Нина Леонидовна услышала звонкий, порою срывающийся голос Миляева. Она прислушивалась, но не могла уловить, о чем он рассказывает, — видно, о чем-то смешном: она слышала не только веселый смех Лели, но и мурлыкающее похохатывание Гали. Потом все затихло, молодежь ушла. Нина Леонидовна задремала, и вдруг у нее, как это бывает в дремоте, возникла мысль, что ей следовало бы съездить на дачу к Матусенко и рассказать о создавшемся положении. Рассказать, почему расстроился брак Леонида и Гали, о котором они так славно сговорились.
Нина Леонидовна встала, припудрилась, привела в порядок прическу и вышла в соседнюю комнату. Лели и Бориса не было, Галя сидела над Лелиными тетрадками.
— Бедная моя ласточка, — шепнула Нина Леонидовна, прижав Галю к своей груди, и у обеих глаза увлажнились. Она подробно расспросила, как живут отец и мать Гали, передала им поклон и вдруг почти неожиданно для себя объявила, что завтра приедет к ним.
«Правда, ведь это самые близкие мне люди... — думала она. — Илья Афанасьевич обладает той проницательностью и практической сметкой, которой так не хватает моему Володе».
12
Участок Матусенко всегда издавал какое-либо благоухание. Ароматы цветущих плодовых деревьев сменялись там запахом левкоев, маттиолы, резеды и других летних цветов. А сейчас, когда наступила осень, на участке крепко пахло овощами и фруктами.
Илью Афанасьевича Нина Леонидовна обнаружила в саду. Небольшого роста крепыш, с очень круглым лицом, в темных, предохраняющих от сильного света очках и в колпаке, свернутом из газеты, он разбирал груду лиловатых, словно подернутых туманом слив, каждую клал на весы и соответственно весу раскладывал по ящикам. Увидев Нину Леонидовну, он снял свой колпак, под которым обнаружилась загорелая, шелушащаяся лысина.
— Ниночка Леонидовна, роднулечка наша! — пропел он хрипловато-нежно и припал долгим поцелуем к ее руке. — Ой, как же мы соскучились по вас, наша ясочка, красавица наша... Вот сюда, сюда... Вот, в кресличко, а то я здесь занят, так сказать, научной классификацией. Вот, извольте взглянуть, есть предрассудок, что этот сорт слив под Москвой не произрастает, а вот, полюбуйтесь, я ведь не только развожу, я научно классифицирую. Впрочем, это вас не должно интересовать. Я лучше нашему дражайшему Владимиру Александровичу подберу корзиночку, чтобы он имел представление, каким полезным трудом на благо отечеству может заниматься персональный пенсионер.
Усадив Нину Леонидовну в удобное садовое кресло, он пододвинул ей ящичек со сливами, пахнущими призывно-нежно.
— Наверное, ваша Галенька рассказывала вам, какие события произошли у нас дома, — сказала Нина Леонидовна.
Илья Афанасьевич развел руками:
— Что станешь делать с детьми! Мы неусыпно печемся об их благе, а у них одно на уме: лишь бы вкушать наслаждения на пажитях жизни!
— Что вы, что вы такое говорите! — живо откликнулась Нина Леонидовна. — Какие уж там наслаждения! Про вашу Галочку этого как раз нельзя сказать, она — это воплощение дочернего долга и послушания. Право, я уже видела ее своей дочерью и лучшего счастья себе не желаю.
— С девочками все-таки легче, — поглаживая свою лысину и шелуша ее и морщась, сказал Илья Афанасьевич. — С мальчиками оно, конечно, труднее, их надо как жеребят объезжать с самых, можно сказать, младенческих лет, чтобы вожжи вот так натянуты были... — и он своими волосатыми руками показал, как должны быть натянуты вожжи. — Послушание для юноши должно стать, если говорить научным языком, своего рода рефлексом. Я вырастил троих мальчиков. Двоих, как вам известно, потерял на поле сражений Великой Отечественной войны, а один сейчас в Тихоокеанском флоте, служака! У-у, знаете какой служака!
Нина Леонидовна вспомнила, что жена Матусенко Анна Маркеловна жаловалась на то, что «служака» уже несколько лет ничего не пишет родителям и даже с праздником не поздравляет, но оставила это воспоминание при себе.
— Вам беда с вашим Ленечкой именно потому, что он совсем не объезжен, — продолжая шелушить свою лысину, говорил Матусенко.
— Беда не в нем, — вздохнула Нина Леонидовна. — Он всегда был мил и послушен. Но когда появилась на горизонте эта особа, он словно взбесился...
— Закон физиологии! — игриво хохотнул Матусенко. — Кобылка только на горизонте покажется, а жеребчик опрокидывает дрожки... — И, видя, что Нина Леонидовна покраснела и отвернулась, он сказал, наклоняясь к ней: — Вы извините, это мне в молодости эпизод такой припомнился. Я у графа Мордвинова на конном заводе по письменной части служил. А откуда она взялась, эта кобылка? То есть, извиняюсь, эта молодая особа?
— Ничего не знаем, ничего! Стоило мне только высказать Леониду вполне правдоподобное предположение, что эта особа заманивает его, как он раскричался и первый раз в жизни наговорил мне кучу отвратительных слов и вот исчез... — Нина Леонидовна тихонько плакала. Илья Афанасьевич поглаживал ее руку и сочувственно вздыхал. — Главное, совсем не нашего круга, простая работница, — всхлипывала Нина Леонидовна. — То есть я не хочу ничего плохого сказать о рабочих вообще, но согласитесь, ведь принять в семью совершенно чужого человека, да еще плохо воспитанного... Ведь это не то, что ваша Галочка, которую я люблю, как дочку. Илья Афанасьевич, я приехала к вам посоветоваться, вы такой разумный человек...
— Чтобы советовать, надо все-таки знать, — сказал Илья Афанасьевич. — Хотя бы фамилию знать этой особы...
— А это, пожалуйста, у меня все записано: станция Большие Сосны, улица Чайковского, восемь, Курбановская Виктория Петровна...
— Петровна? — живо переспросил Илья Афанасьевич и сдернул очки. Глаза у него были карие, быстрые, блестящие. — А он жив, отец-то ее?
— Не знаю, Леонид говорил Леле, что она с матерью живет, а об отце ни слова.
— Так, так... Петр Курбановский? Был такой. Дайте-ка я запишу, нужно будет проверить... — Он взял бумажку, на которой вел подсчет фруктов, перевернул ее, попросил повторить адрес. Илья Афанасьевич весь ожил, облизывал губы, посмеивался.
— Вы что-нибудь знаете об них? — с надеждой спросила Нина Леонидовна.
— Вот уж действительно, гора с горою не сходится, а человек с человеком... Припоминаю, была там девчонка, не мало нам хлопот доставила, сразу после ареста отца сбежала.
— После ареста! — всплеснув руками, воскликнула Нина Леонидовна. — Значит, он арестован?!
— Если это и есть тот самый Петр Курбановский, потому что имя совпадает и фамилия редкая, то это было в свое время очень громкое дело, и, когда я в органах служил, оно через мои руки шло. Курбановский, Нефедов, Угрюмов, Федько... Это было вражеское гнездо военных инженеров.
— Что вы говорите! — с восторгом воскликнула Нина Леонидовна. — Значит, отец ее враг народа?! Ну, этого мой Володя не потерпит. Вы же знаете, какой он правоверный!
— Пока это, конечно, предположительно. Так или не так, еще неизвестно. Вот надо выяснить, как его супругу зовут, не Евдокия ли Яковлевна? После того как мужа арестовали, она с ума сошла...
— Об этом я не знаю, — смутившись, сказала Нина Леонидовна. Что за странная мысль: она вдруг подумала, каково было бы ей, если бы ее мужа... Да нет, это вздор!
— Ну теперь, дорогая наша раскрасавица, Ниночка Леонидовна, только имейте терпение, потому что для того, чтобы собрать точные сведения, нужно время. Без точных сведений нельзя, сами должны понимать... — говорил Илья Афанасьевич.
И Нина Леонидовна, проведя еще несколько часов под гостеприимным кровом Матусенок, вернулась домой успокоенная. Встреча с Ильей Афанасьевичем сделала то, чего от нее не мог добиться родной муж, — она набралась терпения и решила подождать, что будет с ее сыном дальше, тем более что у нее перед глазами была еще дочка, которая так же явно нуждалась в ее заботе.
13
Со времени встречи с Борисом Миляевым имя его — Борис Андреевич, Борис, Боря — не сходило с уст Лели Сомовой. И для того чтобы понять, что она влюблена и в кого именно влюблена, достаточно было провести с ней полчаса.
Первые заметили это родители: Нина Леонидовна с искренним восторгом, так как ни минуты не сомневалась, что Борис ответит взаимностью на любовь Лели, Владимир Александрович — с некоторой тревогой и опасением за дочь, чтобы она не оказалась обиженной. Конечно, самому Борису не составляло особого труда почувствовать, как относится к нему дочь Владимира Александровича Сомова. А поняв это, он стал постепенно вовлекать ее в устройство своих дел.
— Хотите, Елена Владимировна, осмотреть мою будущую мастерскую? — предложил он Леле еще в самом начале их знакомства.
Она, так как ей всегда было нечего делать, с охотой согласилась, и они отправились в район Ленинских гор. Это был старый, одноэтажный, довольно поместительный дом, из тех, что в давние времена, когда здесь еще был загород, сдавались под дачи. Борис зашел в дом, взял ключи и по узенькой крутой лестнице провел Лелю на чердак, таинственно огромный, пропахший голубиным пометом.
— Здесь восемьдесят семь метров, здорово, а? Крышу долой, вместо нее стеклянные рамы, знаете, как в оранжерее? Кладка стен кирпичная, нужно будет их приподнять и, понятно, настелить деревянные полы. — Он похлопал рукой по квадратной кирпичной трубе. — Здесь, значит, сложим печурку, изразцы под русскую старину сами разрисуем, будем жить, поживать, добра наживать. — Он привлек Лелю к себе, — все замерло в ней. Но тут же отпустив ее, Борис вынул записную книжку и стал вышагивать по чердаку, вычерчивать план, размещать, что где поставить.
— Но ведь все это потребует довольно больших денег, — сказала Леля.
Борис остановился и потер лоб, — похоже, что эта мысль впервые пришла ему в голову.
— Ах да, денег... — и вдруг он весело засмеялся: — Не в деньгах счастье, Лелечка-елочка! Бывает так, что никаких денег не хватит, чтобы сделать то, чего можно добиться без всяких денег. Понимэ?
Леля отрицательно покачала головой.
— Увидите на деле. Ловкость рук и никакого мошенства!
Борис запер чердак, отнес ключ. Потом они медленно пошли по гривке Ленинских гор, время от времени поглядывая на циклопическую громаду университета.
День был яркий, солнечный, но в воздухе уже чувствовалась осенняя прозрачность и свежесть, и в этой прозрачности с особенной рельефностью вырисовывалось все огромное здание, которое как бы молчаливо участвовало в их разговоре. Это оно подсказало Леле вопрос, который она тут же задала своему собеседнику:
— Скажите, Боря, а зачем вам связываться с этим хлопотливым делом? Фивейский к вам благоволит, да и отец всегда вас поддержит. Почему бы вам не получить мастерскую в новом корпусе Академии? Насколько мне известно, она будет раза в два обширнее, чем ваш чердачок.
— Что значит в два раза обширнее?! — Миляев весь вскинулся и даже остановился. — А зато это чердачок мой, и я что хочу, то здесь делаю! А мне нужно, Елена Владимировна, всех удивить. Чтобы то, что здесь будет сделано, было для всех неожиданно. Для всех, даже для Антона Георгиевича и вашего папаши! Да и строительство нового корпуса закончится к весне, а я такой, мне сейчас подавай... К тому же я живу в общежитии Академии. Правда, у меня там вроде маленькой квартирки в две комнатки, но я хочу жить у себя, чтобы комендант не знал, кто ко мне ходит и когда уходит. Понимэ?
И он своими словно излучающими солнечный свет глазами так взглянул на нее, что она покраснела и кивнула головой.
Борис взял Лелю под руку, и они пошли дальше, к Калужской заставе, где два дома-близнеца с двух сторон площади как бы обозначали одну из входных дверей столицы.
— Конечно, Лелечка-елочка, строительство мастерской дело не легкое. Москва не сразу строилась, но, как видите, построилась. Когда я понял, что без мастерской мне не прожить, разыскал я в Москве одного видного человека, я служил у него еще в армии адъютантом... Рассказал ему свои наполеоновские замыслы и вот что от него услышал: «Если будет соответственная бумага от вашей Академии, мы тебе, как инвалиду Отечественной войны, поможем, не можем не помочь. Но самое трудное не в этом, а в том, как достать в Москве пустующее нежилое помещение, которое можно было бы оборудовать под мастерскую». Самое трудное, понимэ? А вот, как видишь, я уже достал! — пожимая Леле локоток и переходя на «ты», не то приятельское, не то нежное, своим срывающимся фальцетом сказал Борис.
— Как же ты достал? — спросила Леля, невольно любуясь озорной игрой его лица. — Ах да, вспомнила, у вас с папой был разговор о том, что нужна какая-то бумажка в коммунхоз... Об этом шла речь?
— Ну-у-у... — протянул он. — Не совсем об этом. Конечно, без хорошей бумажки такое дело с места не сдвинешь, а что значит хорошая бумажка? Хотя я очень почитаю Владимира Александровича, имею основания даже любить его... — многозначительно сказал он, наклоняясь к ее разгоревшемуся уху. — Но я постарался бы, чтобы бумажку подписал не он, а попросил бы ее подписать самого Антона Георгиевича Фивейского. Соображаешь почему? Ничего не соображаешь! Что такое Сомов? Сомова, конечно, знают в ЦК партии. Мы, архитекторы, и особенно молодые, знаем его и даже преклоняемся перед ним. Ну, а Фивейский, — Борис поднял палец, как бы прислушиваясь. — Его имя гудит по всей стране. Даже те, кто никакого представления об архитектуре не имеют, все время слышат о президенте Академии градостроительства Фивейском. И какой там ни сиди свирепый дядя в коммунхозе, он, как только увидит эту подпись, сразу поймет, что тут отписками не отделаешься. Но все-таки, даже такая, высокой кондиции, бумажка не сработает, если в ней не будет указано, о каком именно пустующем нежилом помещении идет речь. Значит, нужно было прежде всего сыскать вот такой чердачок... Как же его сыскать? Я что-то такое помнил, по рассказам своего деда, что детство свое провел он в Москве и даже учился в духовной московской семинарии и у кого-то в Москве на хлебах стоял. Тут уж я не пожалел расходов, купил бесплацкартный билет, потому что с деньгами у меня не богато, поехал к деду и привез от него письмо Никифору Лексеевичу Дядину. А эти Дядины некогда занимались изготовлением надгробных памятников, и последний из них, ныне здравствующий пенсионер, является председателем церковноприходского совета в одной из замоскворецких церквей. А с дедом они вместе бумажных змейков пускали и в бабки играли здесь, на Воробьевых горах. Конечно, когда я объявился в доме у Дядиных, меня там встретили как родного, тем более что у них был мальчик вроде меня, его убили на фронте, а я фронтовик да еще своего деда внук. Нанюхался я там лампадного масла, так как попал в среду, до изжоги наелся постных блюд, ну, а когда я ему спел имрос, он расчувствовался, расцеловал меня и обещал мне приискать подходящее помещение. Вот я уже вижу, что ты хочешь спросить: а деньги? Конечно, и без денег не обошлось. Дед покряхтел и прислал три тысячи. Но разве тут главное в деньгах?
И Леля убедилась, что главное не в деньгах. «Высококондиционная», как выражался Миляев, бумага, подписанная Фивейским, была доставлена в коммунхоз, другая за той же подписью, в одно военно-хозяйственное управление. Для оборудования мастерской прислали отделение строителей — двенадцать молодых солдат. За материалы Борис расплатился по фондовым ценам, а молодые солдаты строительной роты работали не за страх, а за совесть. Леля присутствовала при том, как Борис перед началом работы по-приятельски поговорил с ними, рассказал о себе: и о том, что он проектирует новый социалистический город и что он прошел всю Великую Отечественную войну и был тяжело ранен...
— Да что мы, товарищ майор, сами не понимаем? Разве нас на зряшнего человека работать заставят? — глядя на Бориса влюбленными глазами, сказал командир отделения.
Работа была закончена в десять дней. Потом Борис выставил водочки и закуску, щедро роздал папиросы, сам выпил с солдатами, играл на гитаре, и, какую бы ему песню ни заказывали, он, к восторгу солдат, тут же исполнял заказ. Волжанину сыграл «Мы на лодочке катались», грузину «Млавар-жамир», сибиряку «Ермака», украинцу «Реве тай стогне...»...
После этого Борис взялся за оборудование мастерской, и Леля в этом деле принимала самое деятельное участие. Оборудование заключалось в чертежных досках — их можно было купить, так же как стол и несколько стульев. Но главное место в мастерской должны были занимать огромные стеллажи, на которых предполагалось установить макет проектируемого города. Борис разыскал старичка столяра, и Леля с интересом слушала, как он обстоятельно и с удовольствием торговался с ним, — ни ее отец, ни мать так не умели. Стеллаж установили здесь же, в мастерской.
Борис исчезал на целые дни по делам, Леля оставалась одна. Она топила печку, потому что началась осень и нужно было не допустить сырости. Возиться с печкой Леля научилась еще в эвакуации. На обязанности Лени было тогда колоть дрова, а на Лелиной — топить печку. Но она, глядя, как Леня ловко и с размаху колет дрова, сама научилась этому нехитрому и веселому делу, в молодом теле ее проснулась доставшаяся ей от предков отца — лесорубов и сплавщиков — физическая сила. Она любила на дворе, где свежо пахло опавшим листом, помахать тяжелым колуном и глядеть, как после каждого взмаха поленья словно по волшебству разлетаются во все стороны. А потом проворно собрать дрова, притащить их к печке, нагрести свежих, сливочно-розовых стружек, которых во множестве было в мастерской, так как столяр работал тут же, и разжечь печку. И слушать, как гудит огонь, и в приятной полудремоте прислушиваться к рассуждениям столяра, который, хотя сам и был всегда под хмельком, очень одобрял Бориса за то, что тот не пьет. Бориса он называл «твой хозяин», ее — «молодка». Леля не спорила, она хотела, чтобы так было... К возвращению Бориса она приготовляла крепкий чай: он пил и хвалил ее умение заваривать...
В окнах голубело, синело, темнело, ей мечталось, что они уже муж и жена, что они не расстанутся сегодня. Но нет, каждый вечер он провожал ее к троллейбусу. «Ну ничего, — утешала себя Леля. — Разве мне и так плохо?»
Оборудование мастерской было закончено. Борис посетовал на расходы, но все же счел необходимым «обмыть» мастерскую. Был приглашен инженерный начальник с женой, а также полезные люди из коммунхоза. Предполагалось, что будут Сомовы, но пришла только Леля и, к ее удивлению, встретилась здесь с некоторыми приятелями, с которыми сама же познакомила Бориса. Здесь был пописывающий статьи об искусстве в газетах и журналах молоденький критик Гонорий Микст и его девушка, одна из наиболее стильных и модных подруг Лели. Здесь был художник-абстракционист, зарабатывавший себе на хлеб насущный в лучшем московском ателье готового платья.
На этой вечеринке Леля вдруг увидела знакомую ей с детства и почти забытую сумрачно-красивую синеглазую художницу Таисью Евгеньевну. Она была старше всех присутствующих женщин, но, как и в детстве, казалась Леле красивее всех. Борис и Таисья Евгеньевна между собой почти не разговаривали, и он, кроме как: «Тосенька, передай-ка вот ту бутылочку!» и еще что-нибудь в этом духе, ни с чем к ней не обращался. Но в том, как они мгновенно взглядывали друг на друга, было что-то, отчего у Лели теснило сердце. «Но она ведь старше его лет на пятнадцать или даже на двадцать, ведь она к ним приходила с дядей Толей Аравским, когда я в школу еще не ходила...» — успокаивала себя Леля.
Не без некоторого коварства напомнила она Таисье Евгеньевне об их давнем знакомстве, но нисколько не смутила этим ее. Художница внимательно взглянула на нее и, покачав головой, сказала:
— Лелечка Сомова! С бантиком и косичками! Только по детям видно, как мы стареем. Ну, как ваши папа и мама? — и словно тень пронеслась по ее оживленному лицу.
И Леля угадала, что эта еще привлекательная женщина вспомнила сейчас о лучших годах своей молодости и, наверное, об Анатолии Аравском, с его жгучими глазами и мефистофельской черной бородкой.
— Откуда ты ее знаешь? — спросила Леля на следующий день у Бориса.
— Таисью Евгеньевну? Да ведь я учился у нее по классу рисунка всего три года тому назад.
Борис, наведя после пиршества порядок в мастерской, — он даже не забыл продать множество пустых бутылок, — погрузился в работу. Когда бы ни приходила к нему Леля, она или заставала его за чертежной доской или за огромным, занявшим большую часть мастерской стеллажом, на котором из различных, игрушечного размера строений воздвигался и вновь разрушался, менял свои очертания и все совершенствовался макет нового города.
Когда появлялась Леля, Борис вскакивал, целовал ей руки, усаживал пить кофе, который сам очень вкусно готовил, и тут же подсовывал ей эскизики зданий нового города — жилых домов, водокачки, телефонной станции. И как-то само собой получилось, что Леля начинала вырезать, разрисовывать, клеить.
Когда она что-либо кончала, Борис восклицал с искренним восторгом:
— Ну как прекрасно, ну что за золотые руки! — И он бережно целовал эти измазанные в клее и краске руки и называл Лелю своей драгоценной помощницей. И у Лели становилось так тепло на душе, ей казалось, что они уже никогда не разлучатся. Она готова была навсегда остаться здесь, она бы все позволяла ему, но он первый опоминался.
— Я тебя провожу, — говорил он, глубоко вздыхая...
— Он очень порядочный молодой человек, — сказала Нина Леонидовна, когда Леля посвятила ее в их отношения. — Он уважает нашу семью, наверное, даже больше, чем наш родной сын. Он хочет сначала упрочить свое положение, а потом оформить ваши отношения...
«Если бы так!» — думала Леля.
И вот работа закончена. Словно по волшебству возник на стеллаже, ограниченный кромкой еловых лесов, целый край, пересеченный большой неторопливой, выложенной из стеклянных осколков рекой. Поперек ее течения воздвигалась белокаменная плотина, — что-то было в ней сродственное то ли с каменными фестончиками кремлевской стены, то ли с рельефом высотных зданий. От нее во все стороны уходили столбы электропередач, соединявшие электростанцию с красно-кирпичными зданиями заводов. Через каналы перекинуты были легкие мостики, кварталы жилых домов уходили в глубь лесного массива, и Леле вспомнился разговор у них за столом, когда отец ее сказал, что Миляеву надлежит краски Василия Блаженного разбросать по жилым кварталам будущего города. Та праздничная пестрота и яркость, о которой говорил Владимир Александрович, сейчас уже нашла выражение в макете города.
— Ну как? — спросил Борис, державший в руке яркую электрическую лампу с рефлектором и направлявший ее на город.
— Очень хорошо... — прошептала Леля.
— Нет, ты скажи, молодец я или нет?
— Молодец, молодец! — и она растрепала его волосы. Борис поймал ее руку и прижал к своей груди.
— Слышишь, как бьется? — спросил он. — Представь себе, Лелька, что это вправду уже создано и что мы с тобой при вечернем свете, с большой высоты подлетаем к этому городу на самолете. Представляешь? И небо, ну его здесь, конечно, нет, но мы видим его, оно такое, какое бывает вечером на восточном краю, когда отражение ярких красок заката чуть трепещет на смутных восточных облаках. И вот тут летят птицы, может быть дикие гуси... Они в конце лета всегда летают перед закатом, готовятся к осенним перелетам. Представляешь?
— Да, да... — прошептала Леля. Ей словно въявь представилось то, о чем говорил Борис.
— Могла бы ты это нарисовать?
— Кажется, да.
— Так нарисуй.
— А что же, и нарисую.
— Когда ты начнешь?
— Хоть сейчас. Хотя нет, я захвачу хорошие краски и бумагу... Так вот почему ты подарил мне такую хорошую бумагу! — засмеялась она. — Ты хитрый...
— Ей-богу, Лелька, без всякого умысла.
Весь день Леля была занята приведением в порядок своего заброшенного рисовального хозяйства, а когда заснула, ей снилось, что она не на самолете, а как в сказке, на гусях-лебедях, летит в волшебный город счастья. Вот он уже виден со своими башнями и висячими мостиками, сказочно многоцветными кварталами, разбросанными среди спокойной зелени лесов. Ей хотелось смеяться и петь от восторга, но что это? Как быстро ни летят гуси-лебеди, а город словно все уходит от нее, и грустно трубят гуси-лебеди...
Трубил утренний поезд, он и разбудил ее. Чувствуя себя бодро-взвинченной, готовой к работе, Леля тут же вскочила. Чемоданчик был уложен с вечера. Пересаживаясь с автобуса на троллейбус, потом пешком, по еще не залитой асфальтом булыжной мостовой, бежала она туда, где над строем одноэтажных домишек ярко выделялась выкрашенная в зеленый цвет надстроенная мастерская Миляева.
Борис открыл ей в одной пижаме.
— Заходи скорее, холодно!
Как всегда, он напоил ее кофе, обнял и расцеловал, оделся и тут же ушел.
— Я не буду тебе мешать, у меня важное дело.
Когда он вернулся, изрядное количество листов бумаги было испорчено, но на последнем уже намечался город и даже первые краски были положены. В чем, в чем, а в том, что краски послушны ее кисти, Леля была уверена. А перламутровая лиловато-синяя расцветка тающих в вечернем небе облаков особенно ей удалась. И черная стрелка летящих птиц под самыми облаками.
Борис смотрел долго и молчал.
«Это потому, что ему очень нравится...» — счастливо думала Леля.
Потом он из кучи карандашей молча выбрал один, остро отточенный и мягкий. И что это? По легким краскам, намеченным ею, через пестрые кварталы города он поперек провел жирную черную линию. Еще и еще...
— Вот, вот и вот... — приговаривал он.
— Что ты сделал? — спросила Леля ошеломленная.
— А то, матушка, что ты не знаешь элементарных законов перспективы! Ну где у тебя линия горизонта? — он вытянул перед своими глазами руку с карандашом, наметил горизонт. — Вот так, да? А у тебя где? Ну, суди сама, если линия горизонта проходит тут, разве стены этих домов могут быть видны?
— Но, Боря, это педантизм какой-то...
— Я не понимаю, при чем тут педантизм! — сердито сказал он. — Требование соблюдать законы перспективы, что ли? Я даже не понял сразу, почему, как я только взглянул на твое произведение искусства, у меня глаза заломило. Ведь у тебя и тени неправильно положены. Вот это да! Вот это студия левого искусства!
— Но если ты все так понимаешь, так зачем же сам не рисуешь? — сдерживая слезы, говорила Леля.
— То есть как это, почему я не рисую? Ведь я же не художник! Конечно, я все это знаю, потому что это полагается знать каждому архитектору. Но если бы я этого не знал, Таисья, — ты знаешь ее, — она выгнала бы меня из класса!
— Ну и целуйся со своей Таисьей! — крикнула Леля и вдруг с ужасом увидела, как озорная и нежная, но совсем не к ней относящаяся улыбка пробежала по его губам. — Ты просто свинья! — крикнула Леля. — Я знать тебя не хочу!
Не помня себя прибежала она домой и, не отвечая на встревоженные вопросы матери, упала на постель.
— Что ты, Леленька? — спрашивала Нина Леонидовна.
— Уйди, пожалуйста, и оставь меня, — сказала Леля сдавленным голосом.
Мать ушла, и Леля, оставшись одна, мысленно перебирая все события этих двух дней и придумывая самые обидные для Бориса слова, неожиданно уснула и спала долго, без всяких сновидений.
В дверь постучала мать. В комнате было уже темно.
— Лелечка, папа пришел. Не буду, говорит, один ужинать. Если сын сбежал, так хоть дочка при нас.
«Что ж, я и правда словно о них совсем забыла, — подумала Леля о родителях. — А ведь я им сейчас очень нужна. И Ленька тоже хорош, сколько дней глаз не кажет!»
Леля зажгла свет, встала, подошла к зеркалу. Привычное, опротивевшее лицо глянуло на нее из смутного старинного стекла. Она показала себе язык и стала причесываться.
«А чего это я, собственно, взбесилась? — раздумывала она. — Ведь он даже ничего не сказал, только улыбнулся, но очень противно, подло улыбнулся...» Ей вдруг представилось красивое лицо Таисьи Евгеньевны, ее синие неприветливые глаза. «Как ее называли у нас? Ах да, царевна-несмеяна... Неужели она любовница его? И как ей не стыдно, ведь он ей в сыновья годится! Мама правильно ее не любит. И все-таки она какая ни есть, а настоящая художница, не то что я, балующаяся красками барышня... Да, тут как ни крути, а он проучил меня. И хотя он грубиян и нахал, но мне так и нужно! Это пройдет, и мы помиримся...»
Леля вышла к родителям.
— Ну, Леленька! Я только что из мастерской Бориса Миляева, — весело сказал отец. — Он молодец, просто молодец! И знаешь, у меня уже давно эта мысль. А сейчас, на очередном президиуме Академии, я приведу ее в исполнение: предложу выдвинуть проект Б. А. Миляева на соискание Сталинской премии. И он получит, ей-богу, получит! И не только потому, что по-настоящему талантлив и вполне профессионален, но еще при этом и оперативен, как дьявол. Я у него в мастерской встретил твоего приятеля, ну как его зовут? Геннадий или Григорий?
— Гонорий, — ответила Леля. У нее так тянуло сердце, что хотелось положить на него руку.
— Так вот, этот Гонорий уже пишет статью о Северном городе, и еще знаешь кого я там встретил? — обернулся он к Нине Леонидовне. — Нашу Таисью. Ей для журнала заказано панно, изображающее этот наш будущий город...
«Так тебе, дура, и надо!» — отчетливо и насмешливо услышала Леля свой собственный голос, хотя губы ее не двинулись и не произнесли и одного слова. Но что-то надо было сказать, и она, откашлявшись, спросила:
— А эта Таисья правда хорошая художница?
— Правда, — ответил с каким-то серьезным удовлетворением отец. — В своем искусстве что захочет, то и сделает. Начинала она еще в АХХРе, потом отошла от жанровой живописи, перешла на пейзаж. Когда-то мы с ней дружили, ты, может, помнишь ее? Она работала над фресковой живописью, над росписью фасадов общественных зданий. Последнее время занялась педагогической деятельностью. Мастер!
— И при этом еще развратница, — пробормотала Нина Леонидовна, и эти по обыкновению глупые слова, сказанные матерью, были для Лели как глоток прохладной воды, который хоть на минуту утолил жжение, испытываемое ее душой.
14
Проснувшись после дневного сна, Владимир Александрович прислушался. В квартире было тихо, — та особенная тишина, по которой можно судить, что дома никого нет. Чувствуя себя выспавшимся и готовым к работе, Владимир Александрович с удовольствием погрузился в нее, и робкий звонок во входную дверь сначала даже не привлек его внимания. Второй раз позвонили более настойчиво. Владимир Александрович вспомнил, что Нина Леонидовна вчера прогнала домработницу Дусю, — следовательно, открыть некому. Он встал и пошел открывать. В дверях он увидел невысокого роста старушку в белоснежно-чистом платке. Она со странным соединением робости и решимости снизу вверх смотрела на него.
— Вам Нину Леонидовну? — спросил Владимир Александрович, так как он мысленно отнес эту маленькую старушку к числу тех, которые поставляют Нине Леонидовне какие-то необыкновенной свежести молочные продукты и яйца, из которых она собственноручно приготовляет, по одной ей известным рецептам, косметические препараты, предохраняющие кожу от увядания.
— А мне все равно, хоть и Нину Леонидовну, хоть и самого Владимира Александровича... Может, это вы и будете?
— Вы не ошиблись, пожалуйста, прошу... — Владимир Александрович сразу догадался, что посетительница эта имеет какое-то отношение к Лене. Он обрадовался и взволновался. Казалось бы, Леня бывал меньше дома, чем кто-либо другой из семьи, но после того, как он совсем ушел из дома, обнаружилось, что вместе с ним исчезло нечто жизнерадостное, возбуждающее веселье, какое-то бродильное вещество домашней жизни.
И так как Владимир Александрович уже знал от Нины Леонидовны все данные о семейных делах Курбановских — и о том, что отец Вики арестован как враг народа, что мать ее полупомешанная, а дочка якобы известна дурным поведением, — все это сообщил ей Илья Афанасьевич Матусенко, — то Владимиру Александровичу сразу пришло в голову предположение, что он видит сейчас перед собой эту полупомешанную мать. Но его совсем не интересовало состояние умственных способностей этой старушки, его взволновала мысль, что эта женщина, уже пожилая и очень аккуратно одетая, с каким-то странно-притушенным выражением лица, возможно, принесла новости о сыне. И потому он спросил попросту:
— Вы от нашего Лени?
— Что вы, что вы! Да они с дочкой даже и знать ничего не знают, что я сюда приехала, — с торопливым испугом ответила старушка. — Это я сама отважилась, потому что кому, как не нам, родителям, поговорить о счастье наших детей?
— Прошу тогда сюда, ко мне. Жены, к сожалению, нет дома.
Старушка вошла в ярко освещенный большой кабинет, огляделась, и видно было, что ей здесь понравилось.
— Сразу видно, что академик живет, — сказала она и подошла к чертежному столу, ярко освещенному низко подвешенной лампочкой. — Это разрез горы, да? — спросила она, разглядывая чертеж.
— Верно, разрез горы, — с удивлением ответил Владимир Александрович. — А как вы узнали?
— Так ведь я жена Петра Курбановского, а он военный инженер. Мы ведь так и познакомились, я в инженерной дистанции чертежницей служила и ему чертежи исполняла. Ой, что же это я? Может, у вас это что секретное? — она испуганно отпрянула от стола.
— Нет, нет, секрета тут никакого нет, — успокоительно ответил Владимир Александрович. — Гора эта находится на Кавказе, во время войны в ней обнаружили залежи железной руды, и тут же начались разработки. Находится это довольно высоко, под самыми ледниками, строили, конечно, наспех — рудники, обогатительную фабрику, общежития для рабочих. Получился целый город, а сейчас нужно все это привести в порядок, вот мне и прислали планировку этого будущего города.
Он остановился и прислушался, ему показалось, что кто-то вошел в квартиру, как будто бы шаги за дверью. «Наверное, Нина, но почему она не идет сюда? — думал он. — Может, позвать ее?»
Владимир Александрович не ошибся. Нина Леонидовна действительно пришла и тут же заглянула в кабинет мужа. Кому это он так оживленно и подробно рассказывает о своих делах? И вдруг услышала незнакомый ей старческий голос:
— Вот какую силу дает людям советская власть, — сказала старушка, которая с кротким благоговением глядела своими маленькими фиалковыми глазками в воодушевленное, раскрасневшееся лицо Владимира Александровича. — От таких людей, как вы, идет движение человечества. И Леня ваш такой же и Вика моя тоже. Я ведь все слышу, что они говорят, и все ко благу народа говорят, и чтобы механика служила человечеству. Только они очень огорчаются, и особенно дочка, что получился у нас семейный разлад, вроде как в спектаклях Островского в Малом театре. А почему бы? Полюбили они друг друга, честно и благородно живут между собой, ну право, голуби, глядишь на них, плакать хочется от радости. А молодежь к ним со всех сторон подступает: почему замотали свадьбу? А разве могут они как следует свадьбу сыграть, когда с вашей стороны нет на то согласия?
— То есть почему же нет? — спросил смущенно Владимир Александрович.
Нина Леонидовна, поняв, с кем ведет разговор ее муж, и услышав о свадьбе, которая, оказывается, еще не произошла, тут же решила, что есть все возможности до этой свадьбы не допустить. Она плотно прикрыла дверь в кабинет и тут же по телефону соединилась с дачей Ильи Афанасьевича Матусенко, рассказала ему о сложившейся ситуации и спросила совета, что делать.
— Дражайшая Нина Леонидовна, не волнуйтесь. Я непрестанно действую в этом направлении и вас без помощи не оставлю. Вишь ты, какая она сумасшедшая. Мы еще разберем, что она за сумасшедшая. А насчет свадьбы вы правы. Надо использовать ситуацию и все это дело подорвать в корне. Знаете что, дорогуша моя, будем действовать решительно. Если разрешите, я позвоню сейчас в скорую помощь. Ведь эта божья старушка на учете у районного психиатра, и сейчас я добьюсь, что за ней пришлют специальную карету и увезут в психлечебницу.
— Что вы, Илья Афанасьевич, я очень вам признательна за участие, но как же так, сразу в сумасшедший дом?
— Что значит сумасшедший дом? У нас таких домов нет. П с и х л е ч е б н и ц а. Там ее лечить будут! Разве это полагается, чтобы психи врывались в чужие квартиры? Разрешите только уточнить ваш адресок. Так, так, так...
Нина Леонидовна еще находилась в смятении чувств, и в душе ее еще шла борьба между желанием запичужить ненавистную старуху в сумасшедший дом и смутным чувством, что это как-то нехорошо. Но вдруг через короткое время раздался телефонный звонок. Оказывается, звонили от районного психиатра, чтобы проверить, действительно ли Евдокия Курбановская ворвалась в квартиру академика Сомова.
— Да, да, да... — придушенным голосом ответила Нина Леонидовна. — Моему мужу удалось успокоить ее, и он с ней сейчас разговаривает, но ворвалась, действительно ворвалась...
— Странно! Вообще-то буйства за ней не числятся. Да вы не волнуйтесь, держитесь с ней как с нормальной, а мы за ней приедем.
«Ну какой обязательный человек Илья Афанасьевич!» — думала Нина Леонидовна, в возбуждении расхаживая по коридору. «Гений хладнокровия и распорядительности! И ведь как быстро он все нашел и сообщил наш телефон. Недаром говорят о сумасшедших, что они хитрые...» —думала Нина Леонидовна, с неприязнью прислушиваясь к довольно звонкому и однообразному звуку голоса старушки, поджидая звонка, который обозначит приезд специальной кареты.
А Евдокия Яковлевна, почувствовав со стороны своего собеседника участливо-внимательное отношение, разговорилась вовсю. Нельзя сказать, что речь ее отличалась последовательностью. И когда она стала убеждать Владимира Александровича, что муж ее послан куда-то в океан строить какой-то искусственный остров, Владимир Александрович с сожалением вглядывался в ее разгоревшееся лицо и участливо кивал головой.
Нина Леонидовна, едва услышав шаги за входной дверью, отперла, не дожидаясь звонка. Поэтому, когда дверь в кабинет без стука открылась и она вошла в сопровождении двух рослых парней в белых санитарных халатах, это явилось неожиданностью для обоих собеседников. Они замолчали, и Нина Леонидовна, указывая на Евдокию Яковлевну, внушительно, как это она научилась делать еще в театре, играя выходные роли, сказала:
— Вот она!
У Евдокии Яковлевны сразу исчезло с лица доверчиво-добродушное и размягченное выражение, она стала испуганно оглядываться вокруг, видимо чувствуя, что попала в ловушку. С упреком взглянула она на Владимира Александровича и воскликнула:
— За что же это вы так со мной? Разве я к вам с чем плохим пришла?
И эти беспомощные слова и в особенности ужасное смятение на лице этой безобидной старушки вызвали во Владимире Александровиче такой приступ гнева и жалости, что сердце его стиснуло. У него бывало так уже не в первый раз. И, держась за сердце, он спросил жену:
— Что это все должно означать? Это твоих рук дело?
— Да! — звучным, хорошо поставленным голосом ответила Нина Леонидовна. — Для психически ненормальных и в особенности для таких, которые отличаются беспокойным нравом, существуют лечебницы...
И тут вдруг Евдокия Яковлевна упала на колени перед внушительной фигурой Нины Леонидовны в ее черном, отделанном белым кружевом платье и жалобно закричала:
— Ой, не нужно в лечебницу! Я никакого вреда не хотела никому, я только насчет деточек наших дорогих, чтоб им было счастье... Не хотите меня слушать, я сама уйду и больше не приду.
Справедливости ради нужно сказать, что Нина Леонидовна тут же растерялась и по привычке, как всегда в трудные мгновения жизни, обернулась к мужу, который, ласково уговаривая, поднимал старушку с пола. И тут, встретив беспомощный взгляд жены, Владимир Александрович окончательно вышел из себя:
— Ты, видно, сама с ума сошла, что придумала такую пакость!
— Это не я, это Илья Афанасьевич... — пролепетала она.
— Не эту бедную женщину, а вот таких, как вы с Ильей Афанасьевичем, нужно изолировать, — сказал он и, тут же обернувшись к санитарам, которые сами были явно смущены происходящим, спросил:
— Вы имеете какое-либо предписание?
— Имеем, товарищ Сомов. Как же можно без предписания? Извольте, вот оно...
Гладя по голове странную свою гостью, Владимир Александрович читал предписание, в котором значилось, что ввиду буйного поведения гражданки Е. Курбановской на квартире академика Сомова санитарам «надлежит отвезти означенную, числящуюся на учете у районного психиатра Е. Курбановскую и препроводить в психиатрическую лечебницу им. Кащенко».
Владимиру Александровичу был ясен жестокий смысл этой бумаги, но он с усилием вчитывался в нее, потому что ему хотелось прочесть в ней то, чего она не содержала. Ему хотелось понять, как же так получилось, что женщина, которую он с молодости полюбил и выбрал себе в жены, оказалась не то чтобы просто глупа, — о том, что она неумна, он уже давно знал, — но оказалась причастна к бездушной жестокости, содержащейся в этой бумаге.
15
Борис Миляев несколько раз звонил Леле по телефону, но она под разными предлогами уклонялась от встречи. Сегодня утром он позвонил и сказал, что, если она не встретится с ним сейчас же, он придет к ним и при родителях спросит ее, что она имеет против него. Была бы Лена опытнее в такого рода отношениях и умей она хладнокровно обдумать их, ей, возможно, следовало бы пойти на то, чтобы Борис пришел к ним домой и объяснился с ней при родителях. Но она почему-то испугалась и пошла к нему.
Дул сырой, холодный ветер, у Бориса был несчастный, замерзший вид.
— Может быть, поедем в мастерскую и поговорим в тепле?
«Мастерская! Возвращение в рай...» Но Леле вспомнилось все, что произошло в мастерской, когда там был отец.
— Этого не будет! — резко сказала она.
— Ну, заедем куда-нибудь в теплое место, а то это объяснение кончится для меня воспалением легких, — сказал Борис.
Леле стало жалко его: он был ранен в легкое, и воспаление могло быть для него опасно.
Они зашли в столовую. От завтрака Леля отказалась, он заказал себе яичницу с колбасой, ей стакан кофе.
— Кофе-то похуже, чем я варю? — спросил он с усмешкой. Леля молча кивнула головой.
Сейчас, когда Борис видел ее перед собой, он и сам не понимал, почему он, собственно, так настаивал на встрече. Конечно, ссориться с дочкой Сомова не следовало, но что она, собственно, такое, что так лезет в бутылку? Довольно дурна собой и знает это. Податлива, он мог сделать с ней все, что угодно, и не сделал, потому что... Ну, одним словом, держал себя в руках, не такое уж это удовольствие, чтобы потом расплачиваться законным браком! И, доев яичницу, Борис сказал:
— Итак, ты обиделась на меня? За что?
Леля взглянула на него и отвела глаза.
«А жаль, что отвела. Есть у нее во взгляде что-то такое, как это можно выразиться, умное и чистое... Все-таки она хороший парень!» — подумал Борис.
— Леля, — сказал он, — я сознаюсь, что грубо говорил с тобой.
— Нет, — еле слышно ответила она. — Я должна поблагодарить тебя за правду, хотя и грубую и жестокую...
— Ну вот, видишь! — обрадованно сказал он. — Ведь мы же друзья, а правда — это первое правило дружбы. Так давай — мир. Я уже сказал, что был груб с тобой, прости за это! — Он протянул ей руку. — Ну вот и все. Забудем прошлое, приходи ко мне в мастерскую, а то мне там скучно без тебя.
Леля отняла руку.
— Нет, — сказала она, вставая. — Больше я у тебя в мастерской бывать не буду.
Борис тоже поднялся.
— Значит, дело не только в том, что я был груб? Дело еще в том, что ты приревновала меня к женщине, которая по возрасту мне в матери годится и которая помогает мне, как родная сестра.
— Ну и пусть помогает, — сдерживаясь, чтобы не говорить громко, сказала Леля. — В ваших способностях находить себе помощников я не сомневаюсь, дражайший Борис Андреевич. Но быть одним из таких помощников я больше не намерена. — Она круто повернулась и пошла прочь.
Борис пошел за ней. Леля ускорила шаг, и он тоже ускорил шаг, он был так зол на нее, что ему хотелось ударить ее, и все же он не хотел с ней ссориться. Леля резко остановилась. Лицо ее пылало, глаза были полны слез, но она прямо глядела ему в глаза.
— Вы идете за мной только потому, что боитесь, чтобы я не навредила вам в ваших отношениях с отцом. Так можете этого не бояться! Я знать вас не хочу, но никогда не унижусь до того, чтобы мешать вам. Отец сказал, что на очередном заседании Академии представит ваш проект на соискание Сталинской премии. Ну, вы довольны? Вы добились того, чего хотели? Заранее поздравляю вас, но не желаю к вашему триумфу иметь хоть какое-нибудь отношение.
Она подбежала к подъезду своего дома и остановилась. Ей бросилась в глаза санитарная машина в виде фургона, без окон, и в этом было что-то особенно тревожное и зловещее. «Но мало ли что может происходить в одной из квартир шестиэтажного дома!» — сказала она себе.
Раньше чем войти в подъезд, Леля оглянулась. Борис еще стоял на углу, что-то было в общем выражении его фигуры такое, что принесло ей удовлетворение. «Правильно, девушка, правильно!» — говорила она сама себе, с усилием проглатывая горький ком, застывший в горле, и открывая своим ключом входную дверь.
Леля ожидала, что попадет в обычную тишину их квартиры, но до нее сразу же долетел из кабинета отца монотонно-звонкий голос матери. С кем это она говорит своим противно приторно-ласковым тоном:
— Уверяю вас, моя милая, вы напрасно боитесь этого лечебного учреждения, там только изучат ваше заболевание...
Но тут Леля услышала жалобный, надрывающий душу вой, — так воют собаки, когда их обижают. И вдруг отец — это было просто невероятно! — резко сказал то, чего никогда не говорил матери за всю их долгую совместную жизнь:
— Молчи, дура!
Леля заглянула в комнату. Мать с выражением оскорбленной невинности на лице стояла, гордо выпрямившись и скрестив руки на груди. Даже не глядя, какое впечатление произвели его слова на жену, Владимир Александрович говорил, обращаясь к санитарам:
— Вы видите, товарищи, что это недоразумение, основанное на обычной семейной склоке. Я думаю, вы это поняли...
Санитары согласно закивали головами, и на лицах их появилось выражение облегчения. Они, видно, хорошо понимали, до чего может довести семейная склока. Тем более что Владимир Александрович, к каждому слову которого они относились с уважением, так как ведь он был академик, объяснил им спокойно и внятно:
— Евдокия Яковлевна Курбановская приехала ко мне, чтобы урегулировать некоторые вопросы, связанные с тем, что мой сын женился на ее дочери. Вам это понятно?
— Очень даже понятно, — поспешно ответил один из санитаров, а другой добавил:
— А ваша супруга, значит, препятствует в этом...
— Нас, товарищ Сомов, это даже и не касается, — поспешно перебил первый санитар. — Вы, как глава семьи и ответственный съемщик, только напишите нам вот здесь, на предписании, что они... — и он кивнул на Евдокию Яковлевну, которая с закрытыми глазами притулилась на кресле, — никакого буйства не производили. Ну, а неправильный вызов придется уж вам оплатить, — сказал он, обращаясь к Нине Леонидовне. — Потому что если каждый по своей воле захочет кого другого в психлечебницу сажать и на это государственное горючее тратить, то это не порядок.
Леля взглянула в надменно-окаменевшее лицо матери и вдруг рассмеялась. Нина Леонидовна бросила на нее возмущенный взгляд (так смотрел король Лир на своих дочерей, когда они отступились от него) и гордо вышла из комнаты.
Владимир Александрович написал справку и уплатил деньги за неправильный вызов. Санитары удалились.
— Елена, вызови такси, — сказал Владимир Александрович, — и скажи маме, чтобы она собиралась, мы отвезем Евдокию Яковлевну домой.
— Я никуда не поеду, — раздельно сказала Нина Леонидовна из двери.
— Нет, ты поедешь! — крикнул Владимир Александрович и опять схватился за сердце.
— Боже мой... — жалобно простонала Нина Леонидовна из соседней комнаты.
— Я не сумасшедшая, я совсем не сумасшедшая... — монотонно твердила Евдокия Яковлевна.
— Да что вы об этом беспокоитесь? — сказала Леля, возвращаясь в комнату после того, как она уже вызвала такси. — Какая же вы сумасшедшая? Когда сходят с ума от любви к детям, это хорошее сумасшествие, а когда сходят с ума от мещанской злобы... Вот это действительно страшно. Папочка, машина вызвана. Папа, что с тобой? — вдруг закричала она, подбежав к отцу. — Как ты побледнел... — Она пододвинула кресло.
— У меня что-то тут закололо... — сказал Владимир Александрович и опустился в кресло.
Нина Леонидовна вдруг взвизгнула каким-то неожиданно молодым и даже ребячьим голосом, вбежала в комнату и кинулась к мужу.
— Это пройдет, пройдет, — тихо шепнул он ей. — Леля, ты отвези Евдокию Яковлевну и скажи Лене, чтобы он не сердился.
Владимир Александрович взглянул на дочь просительно и устало, и в ответ на этот взгляд Леля вдруг ощутила, как из самой глубины ее души поднялась ответная, доселе ей неизвестная горячая сила. Это была самозабвенная готовность помочь ему, и не только ему, а всем в своей семье, и уверенность в том, что она может помочь. Тяжесть ее отношений с Борисом вдруг исчезла, она почувствовала облегчение, почти радость, подбежала к отцу и поцеловала его несколько раз.
— Все уладится, папочка, — сказала она.
Нина Леонидовна, вернувшаяся в комнату, после того как она по телефону вызвала врача для Владимира Александровича, величественно повернулась к дочери:
— И скажи Леониду и этой... как ее там зовут, что я на них не сержусь и пусть они приедут навестить отца.
Эти слова опять вызвали у Лели припадок смеха.
«Совершенно неуместно...» — подумала Нина Леонидовна с обидой. Но она не успела ничего сказать, так как дочь уже вышла из комнаты.
Евдокия Яковлевна охотно покинула комнату, в которой находилась внушавшая ей непреодолимый ужас Нина Леонидовна. Но, оказавшись в темном коридоре, она неожиданно заупрямилась.
— Куда это вы хотите, чтобы я поехала? — с подозрительностью спросила она Лелю.
— То есть как куда? К вам домой...
— Обмануть меня хотите? Откуда вы можете знать, где я живу?
— Я и не знаю, где вы живете, вы мне сами покажете. Куда вы скажете, туда мы и поедем.
Это подействовало, и они благополучно вышли на улицу, где осенний ветер нес пыль, бумажки, желтые листья. Но такси, стоявшее у подъезда, вновь вызвало у старушки вспышку подозрительности.
— Не сяду я в эту машину, она от Кащенки.
«Только не спорить с ней, ни за что не спорить!» — твердила себе Леля и нарочито громко и весело спросила, обращаясь к водителю:
— Вы куда нас повезете?
Водитель, конечно, мог ее обругать за неуместный вопрос, но Леля правильно рассчитала, что он сочтет этот вопрос за шутку.
— Вы ж меня вызвали, куда прикажете, туда и повезу! — смеясь, ответил он.
— Ну заказывайте, куда вас везти! — обратилась Леля к Евдокии Яковлевне.
— На Красную площадь! — неожиданно ответила старуха.
— Слышали? На Красную площадь, — повторила Леля, усаживая старушку в такси. «Ну и ну», — подумала она.
И только когда они въехали на ярко освещенную Красную площадь, Леля спросила:
— А зачем мы сюда приехали?
Евдокия Яковлевна ничего не ответила и беззвучно двигала губами, оглядывая величественные стены Кремля. И Леля подумала: «А вот если она сейчас скажет: полезем на Кремлевскую стену? Ведь мне, пожалуй, придется лезть вместе с нею».
— Я хочу товарищу Сталину заявление подать, — наконец ответила Евдокия Яковлевна.
«Ну, это еще ничего», — с облегчением подумала Леля и вслух одобрила:
— Это вы очень правильно придумали. А заявление у вас написано?
— Нет, у меня и бумаги нет, я там в будке попрошу...
— Что ж, конечно, дадут, и чернила дадут, — немедленно согласилась Леля. — Только нужно еще, чтобы дочка ваша подписала.
— Дочка? — вдруг как-то горестно ахнула Евдокия Яковлевна. Они медленно объезжали площадь. Кремлевские башни, ярко освещенный циферблат, красное знамя, трепещущее под ветром, все это настраивало на торжественный лад и поддерживало Евдокию Яковлевну в намерении подать заявление сейчас же, но напоминание о дочке нельзя было оставить без внимания. — Ведь она совершеннолетняя гражданка, глава нашей семьи! — вдруг сказала Евдокия Яковлевна.
— Правильно! — тут же притворно бодрым и самой себе противным тоном поддакнула Леля. — А если так, то нужно сейчас же нам поехать к вашей дочке, в Большие Сосны. Давай-ка двинем прямо, не вылезая из этого такси!
— А это ж какие деньги нужны, чтобы на такси раскатываться! — недовольно сказала Евдокия Яковлевна. И, не обращая внимания на Лелю, которая уверяла, что деньги у нее есть, Евдокия Яковлевна засунула руку за пазуху и вынула железнодорожный билет. — У меня уже обратный билет взят, что ж, пропадать ему?
— Зачем же пропадать? — искренне обрадовавшись, с облегчением сказала Леля. — Значит, на вокзал поедем, — сказала она водителю, который с интересом прислушивался к странному разговору пассажиров. — Большие Сосны, это по какой дороге?
Этим искренне недоуменным вопросом Леля окончательно завоевала доверие старушки. Когда же Евдокия Яковлевна увидела знакомую круглую башню вокзала, она даже засмеялась от радости, убедившись, что с ней не хитрят и не имеют намерения отвезти ее в сумасшедший дом.
Дальнейший путь они проделали без сучка и задоринки. Ни слова не возражая на то, что Евдокия Яковлевна рассказывала о фантастических поездках своего мужа, и только время от времени задремывая, Леля доставила старушку до станции Большие Сосны. Дальше Евдокия Яковлевна повела Лелю сама.
16
Вернувшись после работы домой и не застав Евдокию Яковлевну дома, Леня и Вика посчитали, что старушка пошла за покупками, — им и в голову не пришло, в какую ответственную экспедицию она отправилась,
С того времени, как, поссорившись с матерью, Леня сгоряча рассказал Вике о своей ссоре, он дома больше не бывал, хотя Вика, после того как прошла обида на Нину Леонидовну, настаивала на том, чтобы Леня съездил помириться, и только после этого соглашалась отпраздновать свадьбу. Однако в загс сходили они по настоянию Лени на следующий же день, и Леня тут же прописался на постоянное жительство в комнате у Курбановских.
Шли дни, и ему теперь казалось, что с таким ощущением спокойного счастья он живет уже много лет. Все, что было раньше, в том числе и ссора с матерью, отодвинулось в далекое прошлое. Как хорошо вместе вставать и идти на работу, еще приятнее торопиться домой, зная, что его еще на пороге встретят внимательные и зеленоватые — цвета весны и жизни, как он сказал ей, — глаза. Он и раньше любил быть с Викой, но сейчас — как хорошо проводить вечер вместе, зная, что никуда не нужно уходить! Вместе выйти перед сном прогуляться, ни перед кем не таясь, пройти на танцплощадку и потанцевать с ней, а потом глядеть, как она танцует. Подходят товарищи: «А, Ленечка, ну каково живется на женатом положении?» — «Всем советую...» — «А свадьба когда? Свадьбу замотали?» — «В загсе расписались, а со свадьбой повременим». — «Ну что ж, все законно. А свадьбу не замотаете?» — «Нет, ни за что не замотаем!»
Они откладывали свадьбу, потому что Вика все время напоминала о том, что ему нужно съездить домой. А ему так хорошо жилось, что побудительной причины ехать мириться с матерью у него не было, и если он вспоминал о ней, то только с обидой. А отец? Что ж отец, отцу нужно написать письмо. Но Леонид не любил писать письма, да еще с объяснениями, и написание письма такого содержания представлялось ему настолько трудным, что он все отодвигал и эту задачу. Наконец и отец мог бы тоже побеспокоиться о сбежавшем сыне и написать ему письмо!
А жизнь шла. Леня уже уговаривал жену — да, жену! — взять отпуск за свой счет, чтобы как следует подготовиться к родам, но Виктория не соглашалась, — она задумала большое дело. Приняв бригаду, она стала изучать причины простоя станков, — ей хотелось перенести опыт рационального использования своего станка на станки подруг.
И сегодня, разогревая обед, а потом обедая вместе с Леней, она рассказывала ему о своих замыслах. Она вся раскраснелась, глаза блестели, — Леня не столько слушал ее, сколько любовался ею.
После обеда она пожаловалась на боль в пояснице.
— А ты погоди, мама придет и помоет посуду, — сказал Леня.
— Куда же она делась? Пойти спросить!..
От соседей Вика вернулась встревоженная.
— Коля Кузьмичев ее встретил, она шла на вокзал.
— На вокзал?
Леля и Евдокия Яковлевна появились в комнате Курбановских в тот момент, когда Вика и Леня собирались уже отправиться в милицию, чтобы начать розыски своей старушки.
Виктория кинулась к матери.
— Ну что это ты?! Ну куда ты пропала? Ну где ты ходила?! — голос был сердитый, но в том, как она вертела мать, словно маленького ребенка, и вглядывалась в ее лицо, и раскутывала ее, было столько любви и заботы, что Леля, стоявшая в дверях, залюбовалась ею. Леня топтался вокруг, тоже не сводя со старушки радостного взгляда. Леля была скрыта от них истертой бархатной занавеской и могла бы сейчас уйти незамеченной, — свое главное поручение она уже выполнила. Но ей так приятно было видеть брата, по которому она соскучилась, ее так поразила обстановка этой комнаты, где все было потертое, старенькое и старомодное, и так странно было видеть Леню в этой неподходящей для него обстановке, что она никак не могла двинуться с места. К тому же услужливая память подсказала ей, что у нее ведь есть еще поручение от отца и матери.
— Вы были у нас дома, Евдокия Яковлевна? — спрашивал Леня. — И Леля вас привезла? Так где же она?
— Я здесь, — ответила Леля, выходя вперед, и Вика, снимавшая с ног матери грязные, промокшие ботинки, подняла на нее свой спокойный серьезный взгляд, и они обе, сразу, протянули друг другу руки. Они еще ни слова не сказали друг другу, но в этом рукопожатии было дружелюбие, которое не могли бы выразить никакие слова. — Леня, выйди со мной на минутку, — попросила Леля.
Они вышли в холодные сени.
— Ленечка, — она обняла брата и прижала к себе его голову. — Как же не стыдно тебе! Как это ты мог уйти и больше не вернуться! Ведь всего бы этого не случилось. И Евдокия Яковлевна к нам не собралась бы и не было бы всех этих неприятностей.
— Неприятностей? А какие неприятности?
— Разве можно сразу все пересказать? У меня просто голова мутится. Наша мама вела себя отвратительно, она позвонила в сумасшедший дом, чтобы забрали Евдокию Яковлевну...
— Как же вы допустили?! — крикнул Леня.
— Да ведь меня дома не было, я пришла, когда внизу санитарная машина стояла.
— И ты еще спрашиваешь, почему я не бывал дома?! — сказал Леня. — Видишь, какая она. А что же папа?
— Наш папа всегда был герой, и в сражении на домашнем фронте тоже оказался героем, — растроганно и насмешливо сказала Леля. — Он и за Евдокию Яковлевну заступился, и маму сдержал, и с санитарами сговорился. Но, понимаешь, разволновался, и у него был сердечный припадок. Я уехала с Евдокией Яковлевной, когда мама уже вызывала врача.
— Папе плохо?! — схватив себя за голову, сказал Леня. — Скорее надо узнать, что с ним...
— Может, поедешь сейчас, со мной? — спросила Леля с притворной наивностью и внутренним коварством. Но, увидев, с каким выражением беспомощности оглянулся брат на неказистое свое жилище, она тут же сказала, положив руку ему на плечо: — Нет, конечно нет! Тебе сейчас нельзя ехать. Ты возвращайся к своей жене и успокой ее. — И Леля быстро добавила: — Она мне понравилась, твоя жена... А потом позвони к нам домой, у вас где-нибудь ведь есть поблизости автомат?
— Как же, на станции...
— Знаешь что? Сейчас лучше не звони, а то подойдет мать, кто ее знает, что она тебе скажет. Отец просил передать, чтобы ты на него не сердился, а мать, что она на тебя и на твою жену не сердится... — Леля громко и грубо расхохоталась. Потом, вытирая неожиданные слезы, сказала: — Ты лучше позвони часа через два, когда я уже буду дома.
Они поцеловались.
Евдокия Яковлевна с момента, когда она попала в знакомую обстановку и увидела дочь, забыла сразу о том, что с ней произошло, и погрузилась в свою привычную, тихо хлопотливую деятельность. И только когда Леня вернулся в комнату, она спросила, где Леля, и, узнав, что та уехала, стала сокрушаться, что ей не пришлось угостить Лелю бигусом с капустой, — кушанье, которое она считала своим коронным блюдом.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Осень отбушевала. Словно женщина в исступлении, сорвала она пестро раскрашенную листву, и, когда деревья обнажились и стали угловаты и голы, все в природе затихло, тучи ушли, небо заголубело.
Николай Васильевич Горнов, начальник конструкторского бюро, в обеденный перерыв выйдя по своему обыкновению на балкон, увидел, что конструкторы отдыхают в саду. Кто постарше, прогуливался по аллеям, — далеко видно из конца в конец большого сада, окружающего конструкторское бюро! А молодежь совсем поблизости от балкона играла в волейбол, мяч летал через сетку, слышны были удары, смех и шутки. И сразу на глаза Николаю Васильевичу попалась по-мальчишески тоненькая фигура Леонида Сомова, — он стоял совсем близко к сетке, рост помогал ему особенно ловко отбивать мячи, ворот расстегнут, видна худенькая юношеская шея...
Озабоченно хмурясь, следил Николай Васильевич за быстрыми движениями его длинных рук и засученных рукавов, — нет в них натренированной ловкости, а все равно глаз не отведешь: молодость, да молодость! Молодо-зелено! Знал бы, где упадет, хотя бы травки подстелил...
— Товарищ генерал, к вам товарищ Паримов, — послышался за спиной голос адъютанта.
— А, проводите его сюда. Здорово, Филипп Иванович!
В приходе Паримова не было ничего неожиданного. Николай Васильевич еще с утра созвонился с ним и условился, что Паримов зайдет к часу дня в конструкторское бюро.
— У нас есть сведения, что вы, товарищ генерал, во время обеденного перерыва не выпускаете людей за пределы вверенного вам учреждения? — весело спросил Паримов, пожимая руку Горнову.
— Слухи правильные, — ответил Николай Васильевич. — Работа наша трудная, ответственная. Обеденный перерыв рассчитан на полное восстановление сил и настоящий отдых. Столовая у нас первоклассная, — хотите угощу? На территории есть все, что нужно для настоящего, полноценного отдыха. Скажите, вон тот товарищ с расстегнутым воротом и засученными рукавами, беленький такой, он знаком вам?
— У сетки, высокий? Как же, знаю немного, активный комсомолец Леонид Сомов. Да ведь, если не ошибаюсь, вы его не так давно в партию рекомендовали? Не могу оказать, что близко знаю, а все-таки знаю.
— А известно вам, что этот симпатичный молодой человек недавно женился?
— Как же, прекрасно известно. Жену-то его я знаю получше, чем его самого. Виктория Курбановская весьма заметная фигура на РТЗ, который, кстати сказать, будем на днях переименовывать, потому что он давно не ремонтный и не танковый... А что такое?
Ведя этот разговор, генерал мягко обнял своего посетителя за талию, увлек его к себе в кабинет.
— А что вы скажете по поводу этого документа? — спросил Горнов, протягивая Паримову лист бумаги. Он внимательно следил за выражением лица Паримова, за тем, как добродушие и мягкость сменились суровой озабоченностью. Паримов кончил читать и недовольно покачал головой. — Вы что-нибудь знаете насчет этого самого Петра Курбановского? — спросил генерал.
Паримов пожал плечами:
— Во всяком случае, новости тут для меня никакой нет. Но вы сами понимаете, что делать ее ответственной за отца...
— Нет, конечно, нельзя. И получил бы я эту бумажку непосредственно в свои руки, я взял бы это дело под свою ответственность, вызвал бы этого самого жалобщика, — как его фамилия?
Паримов перевернул бумагу:
— Матусенко, Илья Афанасьевич, пенсионер...
— Так вот, вызвал бы я его к себе и сказал: «Спасибо вам, Илья Афанасьевич, за проявленную вами бдительность, мы с особенным вниманием будем отныне следить за всеми действиями этого самого Леонида Сомова, отважившегося жениться на дочери врага народа Петра Курбановского. Будем учитывать этот момент, определяя профиль его работы». Но, к сожалению, я на этот раз не имею возможности так поступить. Этот самый, как его?..
— Матусенко...
— Матусенко, Матусенко... Между прочим, откуда-то я эту фамилию знаю. Так этот самый товарищ Матусенко, он в высшей степени дошлый товарищ и послал эту бумагу не мне, а в вышестоящие инстанции, и пришла она мне официально, через наш отдел кадров. И представьте мое положение: я даже не имею права взять это дело под свою ответственность, а должен действовать на основе имеющегося секретного распоряжения.
— Понятно, — мрачно ответил Паримов. — Отчислите?
— А что я могу сделать? — закряхтел Николай Васильевич, ворочаясь так, что кресло под ним заскрипело. — Прекрасный молодой человек, очень способный конструктор, не только подающий надежды, но отчасти их уже оправдавший. Он мне попросту нужен, а приходится от него отказываться...
— А нельзя ли обратиться в высшие инстанции?
— Так я же вам говорю, что я вот этот пакет из высших инстанций и получил. Разве что к Сталину обратиться?
Они взглянули друг на друга и помолчали. Потом Паримов отрицательно покачал головой:
— Не советовал бы. Ни вы, ни я не знаем, что это за Петр Курбановский. Иосиф Виссарионович если сам его не знает, то может навести справки, и неизвестно, что ему сообщат. И он очень удивится, чтобы не сказать более, что почтенный и лично ему известный Николай Васильевич Горнов затевает все это дело. Не проявляет ли почтенный генерал ротозейства, вместо того чтобы поступить согласно имеющейся инструкции? И что, собственно, плохого в том, что молодой конструктор будет из военного ведомства переведен на гражданскую службу?
— Да, вы правы, — ответил генерал.
— А вы лучше поступайте, как предлагает вам имеющаяся у вас инструкция. Отчислите молодого человека, демобилизуйте, и пусть он придет к нам, а мы его без работы не оставим.
Снова наступило долгое молчание.
— Видно, придется сделать вам этот подарок, — сказал генерал.
— Подарки полагается делать со щедростью, товарищ генерал, а я ее у вас не вижу, — ответил Паримов.
2
Судьба Леонида и Вики была уже решена, а сами они об этом еще ничего не подозревали, — они как раз в это время поглощены были семейными делами.
На следующий день после того, как заболел Владимир Александрович, Леонид и Вика поехали в Москву навестить больного. За это время Нина Леонидовна, хотя она и была искренне потрясена болезнью мужа, уже овладела собой и выработала свою точку зрения на все происходящее. Она решила, что во всем виновата мерзкая старуха интриганка, подосланная молодой интриганкой, то есть Викой. Потому она усвоила со своей новоявленной снохой манеру разговора Марии Стюарт из одноименной пьесы Шиллера и заявила, что о встрече с Владимиром Александровичем не может быть и речи, — «она может убить нашего дорогого больного».
Вика оскорбилась и замкнулась, Леня еще больше рассердился на мать, и, если бы не Леля, которая сумела отвлечь мать и выманить ее из комнаты, скандал разгорелся бы с новой яростью.
Когда спустя несколько дней, с разрешения врачей, Владимиру Александровичу сообщили, что молодые хотели навестить его, но их не допустили, он был очень огорчен. Нина Леонидовна обещала ему, что, как только врачи позволят, молодые снова будут приглашены. Нина Леонидовна организовала лечение, установила дежурство сестер, режим, немного похожий на тюремный. Но слабость и сонливость были так велики, что Владимир Александрович не в состоянии был протестовать. Посетителей к нему допускали с разбором и не больше, чем на двадцать минут.
Увидев Леонида и Вику, он обрадовался.
— Я обещал вашей маме, что свадьба ваша состоится, — сказал он, удерживая руку Вики в своих руках. — Но вот видите, какой я...
— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, — говорила Вика. Ей сразу понравился этот большой и сейчас такой беспомощный человек. — Ведь я даже понятия не имела, что мама моя к вам собралась...
— Это почти не укладывается в моем сознании, — сказала Нина Леонидовна. Вика покраснела и взглянула на Леонида. — Ведь речь все-таки шла о том, о чем вы говорите, — о свадьбе, — продолжала Нина Леонидовна, не замечая смущения Вики.
— Свадьба — это все чистые пустяки, это можно отложить, лишь бы вы выздоровели... — сказала Вика, игнорируя замечание Нины Леонидовны и обращаясь к Владимиру Александровичу.
— Нет, но я обещал.
— Вот поправитесь, тогда и свадьбу сыграем, — решительно возразила Вика. — И пока вы больны, о свадьбе и говорить не будем.
Двадцать минут истекло, и Нина Леонидовна стала делать сыну отчаянные знаки, давая понять, что пора уходить.
— Вот ты опять разволновался, — оказала она, оставшись вдвоем с мужем и глядя ему в лицо.
«Как это получилось, что она глядит на меня и ничего не видит?» — подумал Владимир Александрович и ничего не ответил жене. Да и что мог он ответить? Прожита жизнь, ничего ни изменить, ни повернуть обратно нельзя. Единственно, что можно сделать, это пересмотреть жизнь, как пересматриваешь решение сложной математической задачи, чтобы найти ошибку, из-за которой задача решена неправильно. Многое из того, что произошло тридцать лет назад, только сейчас становилось ему ясным.
Владимир Александрович вспомнил, как впервые увидел ее в театре на репетиции. Он пришел в театр, чтобы договориться о заказе на создание декораций к спектаклю. Нина Леонидовна вошла в комнату, где он вел переговоры с директором. Она была в простом, античного покроя платье. Ей нужно было что-то сказать директору, но, увидев постороннего человека, она застыла с выражением неудовольствия на лице, и Сомов сразу не мог отвести от нее глаз; она это заметила, победительная улыбка тронула ее дышащие свежестью губы. Как он выяснил потом, он тоже понравился ей с первого взгляда. Их тут же познакомили. Нина Леонидовна переждала, пока он кончит разговор с директором, потом он вышел в коридор и дождался, пока она выйдет из кабинета.
Владимир Александрович тут же попросил ее позировать ему, и она согласилась. Подолгу глядя на нее, он не раз думал: «Природа, создавая ее, работала как великий художник». В рисунке ее темных, чуть приподнятых бровей, в нежно вырисованных, чуть бледных губах, в очертаниях тоненького, с маленькой горбинкой носика было такое выражение, что всякий, кто видел ее, бывал поражен, влюбленные исчислялись десятками и наделяли ее множеством достоинств, которыми, как впоследствии, женившись на ней, выяснил Владимир Александрович, она совсем не обладала. Впрочем, и сам Владимир Александрович в молодости был недурен, вдвоем они были пара хоть куда — оба высокие, статные. Нина Леонидовна изрядно помучила его и, когда поняла, что артистической карьеры ей не сделать, согласилась выйти за него замуж. Однако, попрекая Владимира Александровича тем, что ради него она загубила свою артистическую карьеру, Нина Леонидовна действительно полюбила его и стоически переносила трудности первых лет, когда он, разочаровавшись в своих художественных способностях, снова пошел учиться, окончил Архитектурный институт и постепенно стал одним из видных архитекторов-градостроителей страны, — специальность, которая принесла ему и почет, и место в жизни, и устойчивый заработок.
— Я разочарована, я выходила замуж за художника, а оказалась женой бюрократа, — твердила Нина Леонидовна, но в сущности была довольна всем тем, что ей давало положение мужа, — и общественным уважением, и квартирой. Квартиру она по своему вкусу уставила мебелью красного дерева и огромными зеркалами, все блестело и сверкало, но казалось, что всего слишком много наставлено и слишком много углов и граней. И Владимиру Александровичу все вспоминалась маленькая квартирка его отца, землемера, там было много мягких вещей, и вся она походила на обжитое гнездо, где выросло много птенцов и все хорошие, честные работники.
Никто из его сестер и братьев не достиг такого положения в обществе, какого достиг он. Но все они живут счастливо и спокойно, только он в конце жизни вдруг оказался словно в чужом доме, рядом с чужой женщиной, которая хотя и любит его и родила ему двух славных детей, но до бесчувственности жестока к людям и невыносимо глупа, как глупа! Он просил, чтобы приехал его любимый старший брат Евгений, но Нина Леонидовна категорически запротестовала, — братья всегда спорили, и это могло вредно отозваться на здоровье Владимира Александровича.
3
Когда начальник конструкторского бюро вызвал к себе Леонида Сомова, тот шел на эту встречу взволнованный, взбодренный: только хорошего ждал он от этой встречи!
С того памятного весеннего вечера, когда он встретился с Викой на танцплощадке и когда «все началось», он с генералом не разговаривал, хотя хорошо знал, что тот следит за его работой, знал по пометкам на докладных записках и чертежах, пометкам неизменно благожелательным, даже тогда, когда в предложения Леонида вносились поправки.
— Вас можно поздравить, Леонид Владимирович? — сказал генерал со свойственной ему учтивой манерой, вставая навстречу одному из самых молодых конструкторов, — Леня был в три раза моложе его. — Вы женились?
— Женился, Николай Васильевич! — широко улыбаясь, смущенно и радостно ответил Леонид.
— Ну что ж, дело хорошее. Садитесь, пожалуйста. Вы курите? Нет? Отлично. А я с вашего разрешения закурю. — Генерал вздохнул, помолчал, пошевелился всем телом, и Леня, глядя на его широкое, чисто выбритое лицо, понял, что ничего хорошего от этого разговора ждать ему не следует. Ему припомнились настойчивые предупреждения Вики.
— Что ж, женились так женились... Это очень хорошо. И тут же, как порядочный человек, поторопились юридически оформить ваш брак. Наверное, жена настояла?
— Наоборот, — быстро ответил Леня. — Это я настоял. Она не хотела.
— Не хотела? — переспросил генерал, пристально вглядываясь в молодое, взволнованное и уже встревоженное лицо. — Мне, конечно, неизвестны мотивы, которыми руководствовалась ваша супруга, но, право, лучше было бы, если бы вы ее послушались. И совсем хорошо было бы, если бы вы, — ну уж я не говорю — посоветовались, кто в таких вопросах может советовать! — но хотя бы известили меня об изменениях в вашем семейном положении.
— Но я же заполнил очень подробную анкету и ответил на все вопросы о жене и родителях ее.
— Еще бы вы этого не написали! Но в результате этой вашей, повторяю, похвальной откровенности, мы вас не только не можем утвердить для исполнения того задания, о котором вам известно, но вообще вынуждены отчислить вас из состава нашего конструкторского бюро...
— А как же моя работа?.. — прошептал Леонид, растерянно глядя в лицо этого старого и глубоко им уважаемого человека.
— Да разве это я, что ли, вас отчисляю? — сердито спросил генерал. — Вы мне, если хотите знать, об этом я говорю со всей ответственностью, нужны, даже необходимы! Но что я могу сделать, если у вас тут написано, что отец супруги вашей Петр Ильич Курбановский, арестованный в тысяча девятьсот тридцать седьмом году, осужден как враг народа. И тут уж простая предусмотрительность. Муж и жена, как говорит народная мудрость, — одна сатана, и в порыве супружеской откровенности вы расскажете ей нечто секретное, а она...
— Товарищ начальник, жена моя... — вскочив, начал Леонид.
— Я в восторге от вашего, ну как это говорится, рыцарства по отношению к супруге вашей! — сердито сказал генерал. — Но ваши благородные чувства друг к другу не имеют к вопросу, нами обсуждаемому, никакого отношения. И вообще-то говоря, я вызвал вас не для того, чтобы обсуждать этот вопрос, потому что он уже решен. Я вызвал вас для того, чтобы спросить, какие у вас имеются виды на будущее, исходя из того факта, что вопрос о вашем отчислении из конструкторского бюро уже решен?
Леонид развел руками.
— Я ничего не знаю, — сказал он беспомощно. Генерал своими темными глазами некоторое время молча смотрел на него.
— Вы, насколько мне известно, живете здесь, в Больших Соснах?
— Так точно.
— И поскольку вы обзавелись здесь семьей, вам уезжать отсюда нет никакого желания?
Леонид кивнул головой.
— Да и я, как большесосненский патриот, не хотел бы, чтобы столь способный, хотя и не обладающий в полной мере здравым смыслом, юноша покидал нашу округу. Имейте в виду, Леонид Владимирович, что при всей своей приверженности к конструкторскому бюро я убежден, что свет клином не сошелся на нашей работе и за дверьми нашего учреждения вы найдете, куда приложить силы. Взять хотя бы тот опыт проектирования, унификации и модернизации технологического процесса, который вы так отлично усвоили. Я убежден, что вы на предприятиях гражданского назначения найдете множество возможностей приложить эти навыки.
— Спасибо, товарищ генерал.
— Подумайте всерьез о том, что я вам сказал, и если потребуется наша помощь... — сказал генерал, вставая с места и показывая этим, что разговор закончен. Леонид поднялся тоже.
— Если вы хотите, товарищ генерал, помочь мне, — сказал он, — то я попросил бы направить меня на РТЗ, там работает моя жена.
— Непосредственно на РТЗ я направить вас не могу. Но советовал бы вам обратиться с этим делом к товарищу Паримову, в райком партии, вы знаете его?
— Да. Благодарю.
— Не на чем. — Генерал протянул Леониду руку. — Жалею, что наша совместная работа прекратилась, жалею от души. Ну, а удар, который вам нанесен жизнью, он еще принесет вам некоторую пользу, вы повзрослеете... а это вам необходимо! — говорил генерал, провожая до двери этого столь симпатичного ему, но явно лишенного благоразумия молодого человека.
Стоя в дверях, соединявших кабинет с приемной, он проводил сочувственным взглядом Леонида, самая спина которого выражала растерянность, дождался, когда Леонид вышел в коридор, потом сказал своему секретарю, женщине с сильной проседью в завитых волосах:
— Вызвать ко мне Николая Степановича.
Когда Николай Степанович Ухтомский, начальник отдела кадров, вошел в кабинет к генералу, он с удивлением увидел, что Николай Васильевич сидит за своим столом, откинувшись на спинку кресла и закрыв лицо ладонями. Впрочем, он тут же отнял ладони от лица, и оно показалось Николаю Степановичу краснее обычного. Они безмолвно поздоровались, Николай Степанович сел в кресло напротив. Прямой, тонкий, он не позволял себе касаться спиной мягкой спинки кресла.
— В отношении Леонида Сомова, Николай Степанович, к вам на днях поступит запрос от товарища Паримова. Будем отчислять его на одно из предприятий Большесосненского района. С этим вопросом, значит, покончено? Да?
— Покончено, Николай Васильевич, — поспешно ответил Ухтомский.
— Ну и все. Но уходить погодите. У меня к вам просьба. Узнайте мне, пожалуйста, что это за Илья Афанасьевич Матусенко. Знал я в молодости одного маленького негодяя под такой фамилией. Так неужто он?
— Все узнаю, — ответил Ухтомский.
4
Леониду не пришлось просить Паримова, чтобы его направили на РТЗ, — тот сам предложил ему это, предупредив, однако, что там его ждут трудности и трудности. Но Леонид был так контужен случившимся, что на него не произвели бы впечатления и более грозные предупреждения, и он, не говоря ни слова, взял направление на новую работу.
«На РТЗ приду завтра, — думал Леонид, неторопливо, словно бы даже нехотя, возвращаясь домой. — Вот сейчас Вика скажет: видишь, я тебе говорила...» Но, оказывается, он мало знал свою жену. Вика, когда он, еще стоя на пороге, сказал ей о новом своем назначении, ни слова ему не ответила, только вскочила, подошла к нему и прижала его голову к своей груди. И тут, как это ни обидно признать по отношению к такому выдержанному и самостоятельному молодому человеку, как Леонид Сомов, он вдруг расплакался, чего с ним не случалось уже много, много лет.
— Бедняжечка, это все из-за меня... — шептала Вика.
— Нет, я дурак, самоуверенный, не знающий жизни дурак, а ты — умница, умница... И все-таки я не жалею...
— Молчи, ты хороший, ты светленький мой...
Наутро, — а утро было с морозцем, но снежное, радужное, блестели молочно-белые льдинки и хрустели под ногами, — он вместе с Викой пошел на завод. И это была новая радость — ходить вместе с ней на работу! Теперь каждый день будет так.
К директору он пришел в тот ранний час, когда, по установившемуся обычаю, тот вел разговор с главным инженером. Леня готов был дождаться в приемной конца этого разговора. Но когда секретарь заводоуправления — Леня знал по комсомольской работе эту здоровую, недавно окончившую десятилетку девушку — пришла в кабинет и доложила о том, что он пришел, директор тут же попросил его войти.
— Что ж, товарищ Сомов, садитесь и послушайте наш разговор, так легче войти в курс наших дел, — сказал директор завода, с грохотом поднимаясь навстречу — у него обе ноги были протезированы. Пожимая руку Леониду, он пристально вглядывался в его глаза своими быстрыми и живыми зеленоватыми глазами.
Еще в то время, когда Сомову пришлось разбирать конфликт в бригаде Черкасовой, он познакомился с директором завода — Иннокентием Мешковым, или Кешечкой, как его называли в Больших Соснах. Да и как было не знать его! До войны кадровый военный, танкист, он был тяжело ранен в первых же танковых боях начала Великой Отечественной войны и пролежал в госпиталях чуть ли не год. Летом 1942 года, уже демобилизованный, на костылях, с безжизненно висящими протезами, которыми еще не научился владеть, прибыл он в Большие Сосны на работу, в только что оборудованные ремонтно-танковые мастерские. Он сам попросился туда, соглашаясь вести любую работу. Его тут же выбрали председателем завкома. В условиях, когда директора сменялись один за другим, он, Кешечка, за короткое время, оставаясь председателем завкома, стал фактически руководителем молодого предприятия. Танки всех систем он знал превосходно, отсутствие запасных частей его не смутило, — превосходные станки, эвакуированные с запада, дали ему возможность наладить производство наиболее дефицитных деталей. Через некоторое время положение его узаконилось — он стал директором завода. Это было время, когда из госпиталей, расположенных здесь же, в Больших Соснах, прибыл еще один инвалид — Малахов и был вместо Мешкова избран председателем завкома. Секретарем парткома завода с первых же дней была здесь та самая кареглазая тетя Шура, которая прибыла в мастерские с первой партией ремесленников. Два инвалида и солдатка, — какой другой порядок могли они установить на заводе, кроме военного?
Переход на ремонт тракторов был проделан с такой же военной четкостью. По окончании войны вернулся муж тети Шуры. Леонид хорошо знал его, — он по специальности поступил работать чертежником в конструкторское бюро. Тогда же Мешков выписал из далекого военного городка на Урале громогласную жену свою с тремя детьми, и вслед за ней, по ее суровому и нежному окрику «Кешечка!», его стал называть так весь заводской поселок.
Это было то трудное время, когда везде вступали в строй МТС и выгодная работа по ремонту тракторов вдруг прекратилась. Кешечка кинулся туда, сюда, — железнодорожники предложили ему наладить производство автодрезин. Он согласился. Заказ на автодрезины очень выручил завод. Кешечка не гнушался ничем. За это-то время и выработался на заводе особенный тип рабочего-универсала, сметливого, быстро соображающего, гибкого, — на них держалось производство. К числу таких лучших рабочих принадлежала Виктория Курбановская.
Кешечка был выбран в горсовет, он наладил снабжение поселка, замостил улицы. Теперь костыли были оставлены, Кешечка или мчался по поселку в инвалидной колясочке, которую ему собрали здесь же, на заводе, использовав мотор автодрезины, или ходил опираясь на палку, и только по одной ноге, которая была отрезана особенно коротко и потому позволяла себе выкидывать непроизвольно-нервные па, можно было догадаться о том, что с ногами у него что-то неладно. Кешечка сильно потяжелел, страдал одышкой, но в разговоре его по-прежнему присутствовала неизменная шутливость, а в блестящих глазах появлялась порой непривычная грусть.
С главным инженером Леонид познакомился впервые здесь, в кабинете директора. Это был белесый человек с серым лицом. Похоже, что он болел печенью. В выражении лица было что-то недоверчиво-присматривающееся, как будто бы он боялся, что его хотят обмануть, втянуть в какую-то грязную историю. Впрочем, то, что он говорил, казалось Лене Сомову довольно резонным. Его прислали из Министерства транспортного машиностроения. Он справедливо говорил, что завод погряз в исполнении мелких случайных заказов, предлагал воспользоваться наладившимися отношениями с железнодорожным ведомством и переоборудовать завод на производство автокаров для перевозки багажа. С этим директор соглашался. Но когда главный инженер предложил для этой цели на три месяца приостановить завод и переоборудовать его, приспособив для новой цели, Кешечка решительно не согласился, — он утверждал, что можно переоборудовать завод на ходу, что не нужно сосредоточиваться на производстве только лишь автокар и что нельзя пренебрегать другими заказами.
В том, о чем сейчас спорили директор и главный инженер, не было для Лени ничего нового. Он много раз слышал обо всех этих трудностях от жены, сейчас он начинал ухватывать их общую причину. Завод представлял из себя случайное соединение станков, спешно эвакуированных с запада в первые дни вторжения фашистов. Их удачно приспособили для ремонта танков, а потом и для ремонта тракторов. Но случайность и разнокалиберность оборудования сейчас сказывались все сильнее. Следовало определить производственный профиль завода и в соответствии с этим наладить технологию.
— Значит, закрыть завод? И надолго? — задиристо спрашивал Кешечка.
— Да, месяца на три... — отвечал главный инженер.
— Черт те что!
Главный инженер молча пожал плечами.
Двухчасовой разговор, свидетелем которого стал Леонид, ни к чему так и не привел — это был не первый разговор и не последний. В конце его решилась вдруг участь Лени.
— Ну вот, поняли, чем мы болеем? — неожиданно повернувшись к нему, спросил директор. — И вам, молодой человек, придется принять участие в нашем, как это говорится по-медицински, консилиуме. Конструкторское бюро номер один — это солидная фирма, и не только в наших Больших Соснах. У нас вакантная должность помощника главного инженера по технической части, вот мы и предлагаем вам занять эту должность. Мы уже с вами знакомы, нашему коллективу вы человек не чужой, даю вам на ознакомление одну неделю, а через неделю, — он полистал календарь, — выходит, в среду с утра... Вот я записываю: десять ноль-ноль, прошу ко мне!
Связанные с работой в конструкторском бюро, оставшиеся недодуманными мысли еще продолжали непроизвольное свое течение, и особенно по утрам. Просыпаясь, Леонид думал о конструкторском бюро, о своем месте возле окна, своих чертежных досках. Но нужно было остановить себя, и он останавливал, одерживая победу над инерцией вчерашнего дня. Он заставлял себя идти с Викой на завод, и надо сказать, присутствие жены сильно скрашивало ему его новое положение. Он ходил по цехам, — неустройство, неслаженность особенно бросались ему в глаза, и он вспоминал тишину и стройный порядок в конструкторском бюро. «Зачем я здесь? Что я здесь делаю?» — иногда спрашивал он себя в цеху, но тут же отгонял эту мысль, задавал вопросы, записывал ответы в блокнот, и к вечеру блокнот был полностью исписан, а с утра он начинал новый.
За эту неделю у Леонида только усугубилось то впечатление непродуманности всего производственного процесса на заводе, какой-то общей разнокалиберности технических приспособлений, которое сложилось у него, еще когда он первый раз пришел на завод разбирать конфликт в бригаде Черкасовой. Видно было, что заводу тесно в помещении бывшего монастыря, что станки громоздятся один на другой, что древние подслеповатые окна пропускают мало света, что несчастные случаи обусловлены тесной расстановкой станков. Исключение представлял лишь цех, где работала бригада Вики, но и ее бригада порой простаивала из-за общей неслаженности всего завода. Похоже было, что прав главный инженер, требуя остановить завод и наново переоборудовать его.
Но когда Леонид поделился этими своими соображениями с Викой, она резко стала возражать, покраснела, взволновалась.
— Конечно, это легче всего, денежки у нас не свои, а казенные, вот и трать их как в прорву!
— Погоди, Вика, разберемся, что это за деньги? Это накопления завода...
— Как же мне не знать, что это за накопления! Могу прямо сказать, что я их и заработала, а ты придешь и будешь тратить...
— Что за странный разговор, как будто я для себя.
— А вот именно так и надо, будто для себя, — раскрасневшись, говорила Вика. — Выбросить станки, как старый хлам! А я тебе скажу, что не выбрасывать их следует, а присмотреться к каждому, какие в нем скрыты возможности! — в голосе ее появились крикливые нотки...
Они первый раз поссорились по причине, по которой, казалось бы, поссориться нельзя было. Но вечером, когда стали ложиться спать и Леонид увидел, как ей трудно укладываться с ее большим животом, он пожалел ее и попросил прощенья, сам не зная, в чем виноват, и она тут же тоже попросила прощенья, объясняя все близостью родов.
Разговор возобновился, но уже в спокойном и ласковом тоне. Вика говорила шепотом, растолковывая ему что-то, но он, то ли потому, что разговор происходил в кровати, то ли потому, что устал, не мог понять ее, и они условились, что с утра пройдут прямо к ней в бригаду и она «на деле» покажет ему что-то...
5
С утра они так и сделали, прямо пошли в бригаду. Что-то здесь изменилось с тех пор, как Леонид в последний раз был здесь.
— Станки переставили, что ли? — спросил он у Виктории.
— И станки тоже, — ответила она и, помолчав, добавила: — Стены выбелили, светлее стало...
И все же, несмотря на утренний час, электрические лампочки, прилаженные так, чтобы освещать то самое ответственное место, где резец снимал стружку, освещали сосредоточенные женские лица, склонившиеся над станками. Леонид увидел, что несколько станков простаивают. Работницы подходили к бригадиру и намеренно громко, чтобы слышал Леонид, выражали свое недовольство. Так как они его знали, то обменивались с ним кивком, полуулыбкой.
— Ладно, подружка, ладно, еще займемся твоим делом, — отвечала Вика.
Она наклонилась над низеньким ящиком, который стоял возле ее станка, порылась в нем, нашла, что нужно ей, и с усилием, отдуваясь, поднялась. Вика протянула Леониду что-то завернутое в чистую тряпочку. Леонид взял в руки сверток и развернул его. В руках у него была сложно обработанная втулка. Его сразу же поразила тщательность отделки, он вертел ее в руках, пытаясь представить себе механизм, частью которого могла быть эта втулка, но множественность и разнообразие видов резьбы сбивало его с толку.
Он огляделся, — женщины ласково и, пожалуй, несколько насмешливо следили за ним. Здесь были и пожилые женщины, такие, как знакомая Леониду Анна Алфеевна, и совсем молодые девушки, младше Вики, но выражение у всех было одно и то же. Он взглянул на Вику, — это же выражение было и на ее лице, только в ее слабой улыбке было неизмеримо больше ласковости.
Чувствуя, что его конструкторское воображение в данном случае пасует перед этой затейливо обработанной втулкой, он сказал, обращаясь к женщинам, собравшимся вокруг него:
— Ничего не понимаю. Для какого механизма требуется втулка с такой сложной обработкой? — спросил он, оглядывая всю бригаду. Он видел, как волна тихого смеха прошла по всем лицам. Даже те работницы, которые продолжали работу, подняли свои лица от станков.
— Такого механизма нет, — раздельно ответила Вика, взяв в руку загадочную втулку и медленно поворачивая ее перед глазами Леонида. — Но она имеет для нас очень важное значение. По ней налажен мой станок. — Вика нагнулась и стала шарить у себя в ящике. Она страдальчески закусила губу, на лбу ее обозначилась синяя полоса. — Очень ящик неудобный, низенький, прошу для нас специальный шкапчик оборудовать... — сказала она, когда Леонид помог ей подняться. В руках ее была связка простых резцов, фрезов, сверл, перевязанных продолговатым лоскутком, он был от той же тряпочки, в которую была завернута эта как будто бы ни на что не нужная, затейливо обработанная втулка. — Вот видишь, — говорила она. — Чтобы приготовить такую втулку, нужно применить все эти приспособления. Потому мы между собой называем ее «мамаша». А это ее семья, семейка. Понял?
— Нет, не понял. То есть не понял, к чему все это...
— К чему? — переспросила Вика. — Как же ты, инженер-конструктор и не понимаешь? Так ведь я же толковала тебе... Если для изготовления такой сложной детали требуются все эти приспособления, мы их называем «сыночки», то это значит, что, имея их, я уже заранее готова для обработки любой втулки, какую бы ты ни принес мне для изготовления. Вот гляди, — она снова нагнулась и выбросила целую кучу по-разному обработанных втулок. — Ну вот, скажем, эти... Здесь требуется вот, вот и вот. — Она из перевязанной лоскутком связки выбрала два простых резца и один для нутряной обработки. — Установить их нужно здесь, здесь и здесь... — Ее быстрые руки поворачивали суппорт, почти вслепую находили отверстия, вставляли резцы и закрепляли их. — И вот все оборудовано. Сколько прошло? — она взглянула на часы. — Три с половиной минуты. Если деталь посложнее, может больше, но не больше пяти минут. Теперь посчитай экономию времени, — говорила она с разгоревшимся лицом. Леонид, слушая Вику, невольно любовался ею. — Приносит наладчик такую втулку, чепуха, кажется, а ведь весь технологический процесс протекает заново, заново обрабатывается резец, обдумывается переналадка. Ну, это минимум три часа. А тут на любую операцию не более пяти минут.
Смысл того, что было проделано сейчас Викой, постепенно стал открываться Леониду. Он вспомнил, как она требовала, чтобы ей давали на обработку детали одной группы, — кажется, речь тогда шла именно о втулках. Это требование и лежало в основе ее конфликта с бригадой. Теперь все женщины с сочувствием и интересом слушали разговор.
— И на всех станках у вас проведена такая работа? — спросил Леонид.
— Нет, не на всех... — ответила Вика, и огорчение послышалось в ее голосе. — Алфеевна, дай сюда свою куколку, — и замотанная платком голова Алфеевны, которая до этого виднелась из-за станка Вики, тут же исчезла. — Мы справились только с самыми что ни на есть простыми деталями. Ведь как мы шли? Можно сказать, на ощупь. Началось с того, что я уговорилась с мастером: давайте мне все втулки, — это еще когда ты наш конфликт разбирал... А потом уже начала соображать. То один фасон втулки дают, то другой, а в общем есть во всех сходство. После каждой резцы там, сверла, фрезы сберегаешь. А все равно, как новую втулку принесут, опять нужно переналаживать. Хотя каждый раз все меньше и меньше. Постепенно я решила: а что, если заранее быть готовой к любой втулке? И дошла я до мысли, что нужно сконструировать такую втулку-мать. А у меня как раз был на станке простой. Вот я за время простоя изготовила это чудовище... — и Вика с какой-то нежностью погладила свою затейливую втулку.
В это время вернулась Алфеевна и молча подала Вике странную фигурку, действительно похожую на женскую, с одного конца утончающуюся, а с другого расширяющуюся. Алфеевна сделала это молча, но лицо ее от волнения порозовело, глаза блестели. Тогда к Вике домой приходила старуха, а теперь Леонид видел перед собой привлекательную женщину.
— Вот гляди, какая красавица, — гордо сказала Вика, вертя фигурку перед глазами Леонида. — Это валик. Ты знаешь, что в любом механизме изделий, принадлежащих к этой семье, прямо не счесть. Вот я и наладила станок на изготовление всей этой семьи. Помнишь, еще при тебе разговор с Алфеевной был. Вот и изготовили эту деталь-куколку, видишь, какая она получилась важная да справная...
— Стиляга... — сказала одна из девушек.
Все засмеялись. Это общее оживление, эти исполненные дружбы обращенные друг к другу лица словно что-то раскрыли Леониду. И впервые за эти дни, когда он, переживая горечь отрыва от своих конструкторских задач, ходил как контуженый, душа его наполнилась радостью.
6
До родов еще оставалось около трех месяцев, а Вике с каждым днем все труднее становилось выходить на работу. Возвращаясь домой, она валилась в постель и просто была не в силах двинуться с места. Но Лене она нет-нет да и напоминала о болезни отца и мягко, но настойчиво посылала его навестить Владимира Александровича. Она словно бы угадывала, что ни по кому так не скучал в эти дни Владимир Александрович, как по сыну.
Сама Вика больше не делала попыток бывать в доме у Лёниных родителей. Правда, ей так нравился Владимир Александрович, что она, вопреки явной неприязни со стороны Нины Леонидовны, посещала бы эту всю уставленную сверкающими плоскостями и гранями квартиру, но сейчас у нее не было на это физических сил.
Поправлялся Владимир Александрович медленно. Похоже, что усталость всей жизни сразу овладела им, и он помногу спал, мало разговаривал, не очень вслушивался в рассуждения жены, и только приезд сына вызывал блеск в его глазах и румянец на его щеках.
Леонид входил в комнату разрумянившийся, в отглаженной, накрахмаленной рубашке, и Владимиру Александровичу приятно было, что сын здоров, ухожен, он угадывал те нежные трудовые руки, которые позаботились о том, чтобы Леня предстал перед отцом в таком отличном виде. Он с удовольствием вдыхал тот уличный, снежно-бодрящий дух, который приносил сын в сонно-больничную атмосферу, окружавшую Владимира Александровича. Вдыхая этот напоминавший о жизни и деятельности дух, глядя на оживленное и счастливое лицо сына, Владимир Александрович чувствовал, что и в его душе словно шевелится что-то живое и молодое.
Владимир Александрович, конечно, сразу же заметил, что сын чем-то взволнован, но расспрашивать не стал, а постарался быть к нему особенно внимателен, и Леня сам рассказал ему все. Леня не знал, откуда пришла беда, да и Владимир Александрович, хотя уже представлял себе излюбленную сферу деятельности Матусенко, не мог в этом деле угадать его руку. Он только радовался тому, что сын хорошо вынес первый удар судьбы, — он не поучал и не наставлял его.
Леня очень много рассказывал о жене. «Умный хвалится отцом, матерью, а глупый молодой женой», — вспоминал Владимир Александрович, и эта поговорка казалась ему особенно неверной, когда он слушал сына. Леонид просто не мог рассказывать о себе и о своей работе, не рассказывая одновременно о Виктории. Он с восторгом рассказывал отцу о том, как Виктория открыла группировку изделий по семьям, как они сейчас вместе подготовляют доклад на заседании партийной организации, — делать доклад будет Леонид, но основываться он будет на переоборудовании двух станков — станке, на котором работает Вика, и станке, на котором работает какая-то Анна Алфеевна.
Леонид рассказывал, и с выражением нежности и грусти смотрел на него отец, — он узнавал в сыне себя самого в молодости: то же стремление, хотя и воплощенное в иные мечты, двигало им тридцать лет тому назад. Но не было у него такой, как у Леонида, верной и умной подруги, не было всю жизнь...
Нина Леонидовна словно забыла о ссоре с сыном. Да и он не напоминал ей, был с ней почтителен и вежлив, как это принято было у них в семье, но внутренняя рознь нет-нет да и сказывалась. Однажды, когда он уже целый час провел с отцом, дверь открылась, и вошла вдруг Нина Леонидовна, голова ее была перевязана полотенцем.
— Ленечка, хоть бы зашел ко мне, у меня такая мигрень...
— Больше на воздухе нужно бывать, — сказал Владимир Александрович.
— Я была.
— По магазинам...
— Если не я, то кто же... Один диэтический магазин занял час...
Владимир Александрович мог бы, конечно, сказать, что зато комиссионный занял три часа, но вздохнул и ничего не ответил, — у него и в мыслях не было лишать Нину Леонидовну такого развлечения, как посещение комиссионных магазинов. Но тогда зачем говорить о мигрени?
— Ну как Виктория? — с холодностью спросила Нина Леонидовна; она знала, что Вика ожидает ребенка. — Дохаживает последние месяцы?
— Да, мамочка. Последние. Страшновато что-то...
— Ну, у нее все сойдет прекрасно. Вот я тебя рожала тяжело, у меня оказался узкий таз...
Они еще поговорили о том, как трудно она рожала Леонида и как легко Лелю и как они спорили с Владимиром Александровичем, как назвать девочку; Владимир Александрович хотел назвать Владленой, а она Еленой.
— Ты одержала верх и оказалась права, Владлены из нее не получилось! — сказал Владимир Александрович.
— Я всегда права, — спокойно ответила Нина Леонидовна и, сунув руку под воротник сына и добравшись до его шеи, спросила покровительственно-ласково:
— Ну, а как вы, тоже спорите?
— Нет, мы уже все наперед подработали. Родится сын, назовем Петром, а если дочь — Евдокией...
Наступило молчание, Леонид почувствовал, что рука матери медленно уползла с его шеи.
— Значит, она настояла на том, чтобы назвать ребенка в честь ее родителей, и ты сдался! Не ожидала, что ты окажешься подбашмачником!
— Сдался... — со вздохом ответил Леонид. — Ты ведь назвала нас по имени своих родителей.
— Ну, Петр, это еще куда ни шло, хотя называть мальчика именем человека, за которым бог его знает какие преступления числятся... Ну ладно, не сердись, слова об этом не скажу! Но Евдокия, Авдотья? Дуся? Как домработницу!
— Кстати, куда девалась наша Дуся? — спросил Леня. — Что-то я ее не вижу.
— Я ее выгнала, — величественно произнесла Нина Леонидовна.
— Выгнала, значит! А мы в честь нее и назовем дочку! — с вызовом сказал Леонид.
— Ниночка, накапай мне... — сказал Владимир Александрович.
— Сейчас, сейчас, Вовик, ну что ты все к сердцу принимаешь... — совсем по-другому, кротко и ласково говорила Нина Леонидовна, отсчитывая капли в рюмочку.
«Сама же довела», — думал Леонид, сердито следя за движением рук матери. — А что, если бы я сказал о том, что согласился и сын будет носить фамилию Вики? «Я хочу, чтобы был еще один Петр Курбановский». Ну и пусть будет Петр Курбановский, пусть будет зеленоглазый и тоненький...» — с нежностью думал он.
7
Доклад Леонида Сомова на открытом партийном собрании прошел хорошо. Правда, один товарищ, выступая в прениях, пошутил, что не успел-де молодой инженер прийти на завод, как сразу же закатил доклад о работе бригады, в которой бригадиром его жена. Но Александра Ивановна Репина, секретарь парткома, в своем выступлении дала отпор этой шутке. Она напомнила о знаменитых ученых Кюри и Складовской, которые первыми подошли к проблеме распада атома.
В фойе была устроена выставка, где демонстрировались успехи работницы из бригады Курбановской, токаря Анны Алфеевны Зубовой. На одном стенде было показано множество сложных приспособлений, которые применялись для обработки валиков до введения новой технологии, а на другой несколько простых и легких резцов, фрез и сверл и вывешена схема, которая предусматривала обработку множества видов и форм валиков.
Анна Алфеевна стояла тут же в самом лучшем своем темно-вишневом платье и давала пояснения. Волосы ее были крепко зачесаны и уложены в две тугие корзиночки над ушами, и видно было, что волос много, что они густые и тонкие. И хотя седина блестела в волосах, лицо Анны Алфеевны казалось молодым от румянца возбуждения, выступившем на широких щеках.
Леонид Сомов в своем докладе предсказывал методу новой технологии блестящую будущность, он говорил, что в скором времени нужно будет постараться, чтобы весь завод перешел на работу по новому методу, он говорил, что благодаря этому не придется страшиться перехода от заказа к заказу, — технические возможности станков, практически говоря, неисчерпаемы, и если основательно изучить эти возможности, то завод сможет во всеоружии встречать любой заказ.
Так говорил он, а Виктории Курбановской не было на его докладе. Как раз в этот вечер она чувствовала себя особенно худо. Она даже оделась и почти дошла до клуба, где проходило собрание, но вынуждена была вернуться. Это ей было тяжело и обидно. Она чувствовала себя словно бы за бортом жизни, ведь речь шла о ее работе, больше сказать, о деле ее жизни, — эту новую технологию сама она нашла ощупью.
Когда Леонид вернулся домой, Виктория лежала в постели. Держа в своих руках руку мужа, она молча слушала его и радовалась и печалилась. Потом, лежа рядом, они еще долго говорили друг с другом... Прижавшись к его плечу, Вика задремала и вдруг дернулась всем телом. Опершись на локоть, она поднялась.
— Ты что?
— Опять тот же сон, будто я в театре, и мне выступать — танцевать, и я почти что голая, и легко так, и я лечу, лечу, и музыка, свет... И вдруг ты в первом ряду, и мне так стыдно, но я все равно танцую, а ты аплодируешь, как чужой. А мне хочется крикнуть: «Леня, это же я, я!»
Вика столько раз рассказывала ему этот сон, что, когда Леонида спросили в профкоме, куда бы он хотел получить билеты, он сказал, что им давно хочется пойти на балет. Что ж, на балет так на балет. И Леня незадолго до Нового года получил два места в девятом ряду на балет Прокофьева «Ромео и Джульетта», но главное чудо было в том, что танцевала Уланова. Леня решил ничего не говорить жене до самого дня спектакля, — неизвестно, как она будет себя чувствовать...
Когда он в день спектакля вернулся домой, у Вики сидела Алфеевна. Она рассказывала, что Александра Ивановна Репина предложила ей принять бригаду подростков, только окончивших ремесленное училище.
— Ну и прими, — говорила Вика.
— Страшусь, я ведь еле грамотная.
— Нечего тут страшиться, — спокойно говорила Вика, — раз ты двинулась вперед, ничего тебе не остается, как двигаться...
— Вика, быстро собирайся, билеты на Уланову! — прервал их разговор Леонид.
— Что ты! — испуганно сказала Вика. — Ты же знаешь... Да и платья мне все не впору, — покраснев и закусив губу, сказала она, беспокойно себя оглядывая.
— Неужели из-за платья не пойдем? — беспомощно разведя руками, спросил Леонид.
— Почему же? Я не пойду, а ты, возьми хотя бы Раечку Гостевую... — слезы послышались в ее голосе. — И с ней пойди...
— Что ты глупости говоришь... — на этот раз даже рассердился Леонид. — Да я для тебя специально билеты брал. Больно она мне нужна, Раечка! Да и без Улановой я, признаться, проживу. Ну что ж, не вышло, так посидим дома, — сказал он, пригибаясь к жене, которая развалилась в старинном кресле, и обнимая ее за плечи.
Что-то блеснуло вдруг в черных глазах Анны Алфеевны.
— Погодите, ребятки, — сказала она. — Есть у меня одна вещь, которая вам пригодится.
— Да что может с тебя на меня пригодиться? Ты вон какая...
Вика говорила, но в ее глазах, во всем лице ее светилась надежда, — только сейчас понял Леонид, как ей хочется пойти на балет.
— Ты причесывайся, одевайся скорее, — сказала Алфеевна.
— Да что одевать-то?
— Любое платье, это будет сверх... — И она исчезла.
Вдруг уверовав в ее помощь, Вика скинула домашний халат, стала умываться. Праздничное платье было у нее наготове, но оно было сшито в обтяжку, и, когда она надела его, живот резко обозначился.
— Ничего не значит! — решительно сказал Леонид.
— Нет, нельзя, людям на смех... — упавшим голосом сказала Вика. — Надо сшить платье...
Но тут дверь открылась, в комнату вошла Анна Алфеевна.
— Вот, — сказала она с торжеством и развернула блестяще-глянцевую, темно-вишневую, с полумесяцами и звездами шаль, немного старомодную, но все же ее можно было накинуть поверх платья. Вика тут же ее накинула — платье пришлось в тон, — и сразу широкие складки шали скрыли выкатившийся живот, блестящий шелк особенно оттенял ее разрумянившееся лицо, горящие возбуждением глаза, рыжеватые кудри.
— Картинка... — протянула Алфеевна. — Мне на свадьбу покойный свекор подарил, — так ведь жизнь такая, что носить не приходилось, для Ленкиной свадьбы берегла, ну, а тебе не пожалела.
— Так ведь я ничего, не помну, не испорчу.
— Хоть мни, хоть порти, для тебя не жаль, ты меня из темного подвала в жизнь вывела... — И Алфеевна быстро ушла.
С вокзала пришлось взять такси, боялись опоздать. Но они не опоздали, пришли, когда только начал наполняться сильно, но неярко освещенный каким-то золотым светом зал Большого театра.
— Я здесь последний раз с папой была, еще на «Спящей красавице»... — тихо шептала Вика, сжимая палец Леонида.
Она сильно волновалась, глубоко вздыхала и хорошела на глазах, и Леня с гордостью замечал, что на нее поглядывают и мужчины и женщины. Они неторопливо шли на свои места, когда он невольно остановился и придержал Вику за локоток. С бокового прохода он увидел возникшую где-то неподалеку высоконькую с приподнятыми плечиками Галю Матусенко в строгом костюмчике. Ее яркие глаза, до этого безразличные, вдруг, когда она увидела Леонида, расширились и приобрели страдальческое выражение, — она тоже невольно задержалась и, словно продолжая разговор, обернулась к своему кавалеру. Леониду показалось, что он и кавалера ее встречал раньше, мельком, но так, что нельзя было его не запомнить. И ему вдруг вспомнилось лицо сестры, обращенное к этому красавчику, нежно-преданные глаза ее, — так ведь это же Борис Миляев! Они столкнулись в передней, сестра их познакомила, а теперь он с Матусенко...
Но они уже сошлись, и им ничего не оставалось, как обменяться рукопожатиями.
— Ленечка... — нараспев протянула Галя Матусенко, овладев собой, — сколько лет, сколько зим... Очень приятно... — пела она, пожимая руку Виктории. — Вы уж, пожалуйста, не ревнуйте, мы с вашим мужем друзья детства, вместе музицировали, помнишь, Леник? А это... — она обернула к своему кавалеру нежное, прекрасное, как садовый цветок, личико.
— Можете не представлять, мы с Леонидом Владимировичем познакомились под сенью сомовского дома, и познакомила нас Лелечка... — Что-то ехидное и вызывающее было в его голосе, в прищуре больших красивых глаз, в усиках, оттеняющих молодой влажноватый рот. Леонид вдруг почувствовал, что в сравнении с Миляевым он небрежно и плохо одет, купленный в магазине и недурно сидевший на его высокой и складной фигуре костюм словно был предназначен для того, чтобы оттенить все великолепие и изящество покроя новенького костюма, охватывающего небольшую фигурку Миляева. Похоже было, что и костюм, и отделанные замшей башмаки, и галстук, и воротник шелковой рубашки, и даже эта красавица девушка — все предназначено для того, чтобы подчеркнуть сияние успеха на молодом, привлекательно-самолюбивом лице Бориса. Леня сразу же вспомнил все, что он слышал дома о Борисе Миляеве, о выдвижении его на Сталинскую премию, он даже мельком читал уже где-то о миляевском проекте Северного города, о том, что это шедевр русской национальной архитектуры. И он подумал о себе, что в сравнении с Борисом сам он, в сущности, один из тысячи тысяч незаметных молодых людей. Раздался звонок. Борис что-то такое проговорил вроде «извиняюсь» и пропустил вперед свою даму. Галя сверкнула глазками и зубками Леониду и Виктории: отблеск оскорбленности — Леониду, отблеск насмешливой неприязни — Виктории.
— Ты был в нее влюблен? — спросила Виктория.
— Ну что это значит — влюблен, когда мальчику шестнадцать лет, а девочке пятнадцать, — говорил он, пожимая жену за локоток.
— Значит, все-таки да? — сказала Вика, быстро и зло взглядывая на Леонида.
— Она подруга сестры... А этот пижон, это Борис Миляев...
— Который ухаживал за Лелей? — спросила Вика, озабоченно-сочувственно по отношению к Леле, которую она видела всего три раза, но к которой расположилась уже потому, что она сестра ее Лени. — Ну и подруга! Нет, нужно быть дрянью...
— Оба хороши... — сказал Леня, обрадованный тем, что ему удалось избавиться от необходимости оправдываться в том, в чем оправдываться невозможно, — в том, что он с Галей Матусенко познакомился раньше, чем с Викой...
Но тут погас свет, заструилась уводящая куда-то в прошлое, в грешное и страшное время эпохи Возрождения, музыка Прокофьева, медленно поднялся занавес — и вот оно то, что предвещала музыка, — яркость одежд, бессмертие архитектуры, яркость солнца, и музыка, музыка, все объясняющая и вызывающая танец...
Неотвратимость столкновения двух схожих характеров, которые при других обстоятельствах могли бы стать верными друзьями, но в условиях глупой семейственной розни становятся смертельными врагами, нежно-задумчивый Ромео, роковым образом вплетающийся в конфликт, — и вот Уланова, ее пролет по сцене, ее словно ведущие за собой музыку движения, ее любовь, и ненависть, и нежность, — и Вика вздыхает от счастья и трется о плечо Леонида: это она — Джульетта, и разве поползновения его матери разлучить их не отражение кровавых обычаев, разлучивших и погубивших любовников?..
Вика думала обо всем этом, когда спустя несколько дней они с Леонидом сидели за столом у Сомовых и встречали приближающийся 1953 год.
Владимир Александрович к этому времени поправился. С 1 января врачи разрешили ему выйти на работу, сегодня кроме встречи Нового года праздновали его выздоровление. Зажгли, как это водилось у Сомовых, маленькую, поставленную на стол елочку, — в изготовлении украшений соревновались Владимир Александрович с Лелей, и признано было, что его стилизованные под восемнадцатый век игрушки не уступают экстравагантным изделиям середины XX века, вышедшим из ловких Лениных рук.
Идти встречать Новый год к Сомовым предложила Виктория.
— А Евдокия Яковлевна? Ей ведь скучно будет... — сказал Леня, отговаривая жену от поездки.
— Ничего, она в этот вечер всегда раньше ложится, загадывает — какой увидит сон, такой будет год. Спать ляжешь, мама? — спросила она, с трудом нагибаясь и примеряя специально к празднику перешитое зеленое шерстяное платье.
Евдокия Яковлевна молча кивнула головой.
Встреча Нового года прошла тихо. Старший брат Владимира Александровича, Евгений, спорщик, которому было строго заказано заводить волнующие разговоры о политике и искусстве, против обыкновения помалкивал, пощипывал рыжеватые с проседью усики. Вика тоже молчала и лишь односложно отвечала на обращенные к ней вопросы. Леня беспокойно поглядывал то на нее, то на родителей. Нина Леонидовна изображала Виолетту из «Дамы с камелиями», акт четвертый. Правда, она вдруг иногда вспоминала, что больна совсем не она, а Владимир Александрович, но ведь он, слава богу, выздоровел! Леля была молчалива, задумчива. Вика взглядывала на нее сочувственно, вспоминая встречу в театре. Она жалела, что не предупредила Леню, и он, не подумав, рассказал о встрече с Миляевым и с Галей Матусенко. Леля криво улыбнулась. «Бедная девочка наша...» — театральным шепотом произнесла Нина Леонидовна.
— Как же ему не сиять? Сталинская премия обеспечена, — усмехнулся Владимир Александрович.
— Это ты ему ее обеспечил, — откликнулась Нина Леонидовна.
— Он талантливый человек и неплохо поработал, если бы он был бездарен, я бы ничего не мог сделать... — возразил Сомов.
В двенадцать сдвинули бокалы и выпили за здоровье Владимира Александровича. Вика и Леня, посидев немного, объявили, что им далеко ехать, и двинулись в обратный путь. Их не задерживали, так как Владимиру Александровичу нужно было, как выражалась Нина Леонидовна, «бай-бай-бай...»
До дома Леня и Вика добрались в четвертом часу, но у Кузьмичевых еще не спали, весело хрипел патефон, молодежь плясала так, что старый дом весь сотрясался, и Лене и Вике вдруг стало весело, и они пошли к соседям. Их встретили аплодисментами, и они даже отважились не то чтобы танцевать, но торжественно пройтись под старинный полонез.
До Евдокии Яковлевны еле дозвонились, она открыла им дверь с заспанным, каким-то помолодевшим — даже морщины разгладились, — счастливым лицом.
— Ну, что ты во сне видела? — спросила Виктория, обнимая мать.
— Петеньку, папу твоего. Все хорошо будет, — ответила Евдокия Яковлевна.
С нового, таинственно-толстого календаря весело глядел на них краснощекий дед-мороз. На пестрой картинке обозначено было: 1 января 1953 года.
8
После Нового года Владимир Александрович вышел на работу. За это время в Академии произошли большие события: Фивейский открыл выставку будущих Социалистических городов. Открытие прошло торжественно и эффектно, отзывы прессы были единодушно восторженны.
В ранний утренний час выставку посетил Сталин. Неторопливо прошел он мимо стендов в сопровождении Фивейского, который нервно покашливал и время от времени вынимал из кармана пузырек с нитроглицерином и незаметно лизал пробку.
Больше всего времени провел Сталин перед проектом Северного города.
— Это образец национального искусства, — сказал он, и на другой день во всех центральных газетах появились статьи под такими заголовками.
Миляеву предсказывали блестящее будущее, то, что он в апреле получит Сталинскую премию, считалось предрешенным.
Все эти сведения, конечно, доходили до Сомова во время его болезни, но приглушенно. Когда за новогодним столом Леня рассказал о встрече с Миляевым в театре, Владимир Александрович уже знал о том, что Сталин посетил выставку в Академии, знал о торжестве Миляева, но со свойственной ему выдержкой промолчал. В первый же день, вернувшись на работу, Сомов узнал от Фивейского, что Сталин обещал принять в Кремле группу архитекторов-градостроителей.
После событий, происшедших в его жизни в середине тридцатых годов, Владимир Сомов жил, верный одному правилу: не попадаться на глаза Сталину. И потому он сказал, что по состоянию здоровья не сможет принять участия в этой встрече. Но Фивейский потребовал, чтобы Владимир Александрович во время совещания обязательно находился рядом с ним.
— Вдруг придется посоветоваться о чем-либо, — настойчиво-жалобно твердил он, — и Сомов не смог отказать старику.
Наконец настал день, которого с таким волнением ждала вся Академия. Когда участники совещания чинно расселись за длинным столом, покрытым темно-зеленым сукном, оказалось, что кресло Фивейского находится непосредственно напротив кресла, которое занимал Сталин. А так как Фивейский ни на шаг не отпускал от себя Владимира Александровича, то и Сомов оказался совсем неподалеку от Сталина.
Так после двадцати с лишним лет Сомов близко увидел Сталина. Как же он изменился и постарел! Лицо стало бледнее, и на нем резко обозначились черты неподвижности, — особенно бросилась в глаза Владимиру Александровичу седина в его жестких волосах.
Забыв обо всех своих обидах и опасениях, смотрел на Сталина Сомов. И, возможно почувствовав этот взгляд, Сталин повернулся — что-то живое блеснуло в его непроницаемо-черных глазах, улыбка мелькнула на лице.
— Сомов? — сказал Сталин. — Сколько лет, сколько зим...
Он протянул Владимиру Александровичу руку, и, пожимая эту холодную руку, Сомов от души, от самого своего простого и глубокого чувства, сказал:
— Да, товарищ Сталин, постарели мы с вами...
И тут же холодная тень отчуждения прошла по лицу Сталина, оно снова словно омертвело, рука, лежавшая в руке Владимира Александровича, стала неподвижной, чужой, и он отнял ее из руки Сомова. Вдруг Владимир Александрович услышал совсем поблизости захлебывающийся возглас:
— Да как вы смеете? Это вы стареете! А наш товарищ Сталин, он никогда не стареет, над ним не властна природа...
Эти слова громко, с дрожью в голосе, чуть заикаясь, произнес Миляев.
«Это он мне? — спросил себя Владимир Александрович. — Да, кажется, мне...»
Он совсем близко видел молодые, красивые, сейчас искаженные жестоким рвением глаза Бориса, слышал подвизгиванье в его голосе, и, хотя он говорил адресуясь к Сомову, все существо его было обращено только к Сталину.
И Владимир Александрович медленно проговорил, повернувшись к Миляеву и постигая умом каждое его душевное движение:
— Ну, успокойся, успокойся... «Я не предполагаю заслонить тебя от взгляда товарища Сталина, не собираюсь занять твое место...» — думал он про себя.
Сомов чувствовал, как все отвернулись от него, словно бы он совсем не существовал, и тем более явственно видел все, что происходило вокруг: как Фивейский представлял Миляева товарищу Сталину, как Сталин хвалил его проект, снова повторив, что это шедевр русской национальной архитектуры.
— Неловко это у вас получилось, Владимир Александрович, — с необычной ласковостью и мягкостью сказал Фивейский, обращаясь к Сомову, когда они сели в машину и возвращались в Академию.
Сомов ничего не ответил. Он и не стремился, чтобы у него что-либо получалось, он просто поддался живому и доброму чувству.
Дома Владимир Александрович ничего не рассказал о случившемся, а утром пошел в Академию и, как будто бы ничего не произошло, занялся делами, тем более что Антону Георгиевичу нездоровилось, и все текущие дела обрушились на Сомова.
День этот, может быть, прошел бы незаметно и ничем не напомнил о том, что произошло вчера, если бы Владимир Александрович, подняв трубку телефона, не услышал бы голоса Касьяненко:
— Володя?
— Да, это я, Алексей Алексеевич...
Наступила пауза, слышно было, как с той стороны телефона, далеко, на другом конце Москвы, и вместе с тем очень близко, возле самого уха, дышит Касьяненко. И Владимир Александрович понял, что позвонил он ему в связи со вчерашним, — ведь он был вчера на совещании, — Владимир Александрович вспомнил, что видел на другом конце стола его бледное, с грустными лохматыми бровями лицо.
— Алло! Ты слушаешь, Владимир Александрович?.. Сейчас я еду обедать и хочу тебя прихватить с собой, а то мы с Катей по тебе соскучились. Ладно?
— Ладно, — ответил Владимир Александрович. Единственный, кого ему хотелось бы сейчас повидать, был Алексей Алексеевич.
— Тогда через десять минут спускайся вниз, к подъезду.
Когда Сомов сошел вниз, «виллис» Касьяненко уже стоял у подъезда. Касьяненко бегло оглядел Владимира Александровича.
— Не заболел? — спросил он. Впрочем, в голосе его слышалось одобрение.
— С чего бы?
— Так ведь ты только с постели, я все время за твоей болезнью следил, разве тебе Нина Леонидовна не говорила?
— Нет...
— Ну понятно, не хотела волновать! Значит, здоров? Это во всяком случае превосходно!
— А вы думаете, что из-за «вчерашнего», как говорит Антон Георгиевич, должно было заболеть? Представьте себе — нет! Только грустно как-то...
— Да как же не грустно, — быстро заметил Алексей Алексеевич. — Ведь я слышал, как ты ему это сказал, — от души, любя, и вдруг в ответ такая холодность, ведь он спиной к тебе повернулся.
— Нет, не повернулся, просто перестал в мою сторону глядеть.
— А, глядеть перестал... На своего друга! Конечно, он уверен в количестве своих друзей, их у него миллионы, что там один Сомов! А все потому, что ты ему о смерти напомнил. А он, он убежден, что ему нельзя умереть, потому что он единственный и неповторимый, и если он погибнет, что будет с революцией, с Россией, он отождествляет себя с революцией... А ты как бы напомнил ему: «Какой ты ни есть, а ты такой же смертный человек, как все». — Касьяненко махнул рукой. — Ну ладно, — сказал он, — все это философия... Ты что делать-то собираешься дальше?
— То есть как это что? То, что и раньше. Работать, в Академии.
Касьяненко взглянул на него как-то сбоку, словно оценивая.
— Умный, старый человек, а рассуждаешь как ребенок. Работа твоя в Академии кончилась. Понял?
— Почему? — Сомов спрашивал, но уже сам со всей отчетливостью понимал, что Касьяненко прав, что работа его в Академии действительно кончилась.
— Тебя все равно выпихнут, а ты должен помочь им в этом деле, сам уйти, тогда все это произойдет в наименее обидной для тебя форме.
— Что ж, на пенсию мне уходить? Так еще не выслужился... — беспомощно и обиженно сказал Владимир Александрович.
— Зачем на пенсию? Переходи работать ко мне!
— К вам?
— Почему же такое изумление? — теперь уже обиделся Касьяненко. — Думаешь, тебе хуже, чем в вашей Академии, будет?
И он взял Владимира Александровича за локоть, зашептал ему в ухо, хотя шептать никакой необходимости не было:
— Ты будешь в нашем деле представлять, так сказать, эстетическое начало. Помнишь, ты ругал нас за бесформенность проектов? Изволь, каждый проект будет проходить твой контроль. Правда, на эстетику мы тебе денег давать не будем: укладывайся в общий план. Зато простор-то какой — от Белого моря до Черного, от Немана до Ангары. Дам тебе такую вот машину, и раскатывай! Права у тебя будут замминистра, в любой час без доклада, а?
9
Чем дольше шло время, тем сильнее чувствовал Леонид Сомов разницу между тем положением, которое он занимал раньше в конструкторском бюро, и тем, которое теперь занимал здесь, на заводе. Дело было не только в том, что зарабатывал он сейчас значительно меньше, хотя должность его на заводе была выше, чем в конструкторском бюро, — впрочем, и сужение бюджета давало себя чувствовать на каждом шагу, тем более что Вика пошла в декретный отпуск, премиальные и сверхурочные прекратились. Но не это было главное, — велики ли потребности молодой пары? Некоторую урезанность в бюджете они даже приняли с гордым вызовом. Не в бюджете было дело, а в общем самочувствии. Леонид не мог себе представить, чтобы при порядках, царивших в конструкторском бюро, он или вообще кто-либо другой достиг бы столь шумного успеха, какого достиг Леонид Сомов своим докладом на заводе. Но зато в конструкторском бюро самая что ни на есть скромная удача отмечалась на очередном ежемесячном собрании самим генералом, новое предложение немедленно находило себе применение в проекте и в самые кратчайшие сроки осуществлялось в металле.
Леонид ждал, что после того, как его доклад прошел на заводе с таким триумфом и была принята такая восторженная резолюция, положения его доклада начнут тут же осуществляться. И когда после Нового года директор вызвал его к себе, Леонид ожидал, что речь пойдет именно о применении новой технологии. Но директор, весьма ласково поздравив Леонида Сомова с Новым годом (присутствующий при этом главный инженер ограничился кивком головы), предложил ему разработать технологию для выпуска нового заказа — автокары. Леонид тут же получил в руки готовый чертеж и образец нового изделия. Директор, вручая ему документацию, весело говорил:
— Вот какой подарочек получили мы под Новый год! — И Леонид, знавший положение на заводе, разделял его чувство: заказ был большой и потому выгодный...
При переходе от производства автодрезины к новому заказу можно было бы применить некоторые принципы, усвоенные Леонидом в конструкторском бюро. Когда он сказал об этом, директор поощрил его радостным возгласом:
— Конечно, конечно, экономия-то эта золото дает...
Но когда Леонид тут же сказал, что при разработке технологического процесса думает применить некоторый опыт новой технологии, о которой он говорил в докладе, директор взлохматил волосы и сказал, что дело это, мол, сугубо практическое, а главный инженер добавил:
— Да, да, сугубо практическое, экспериментировать не следовало бы...
И это говорил он, главный инженер, который предлагал когда-то на три месяца остановить завод! Леонид ушам своим не верил, ему хотелось заспорить, но сказывались навыки дисциплины, накрепко усвоенной в конструкторском бюро, — ему начальники давали поручение, его, Леонида, дело было эти приказания исполнять.
Но все же он сделал то, чего попросту не мог бы сделать в конструкторском бюро, — он пошел к секретарю парткома, к товарищу Репиной, и изложил ей все свои сомнения: что, мол, все это значит, неужели его доклад был лишь пустым сотрясением воздуха?
— То есть как это сотрясением воздуха? — с возмущением переспросила Репина и осуждающе взглянула на него своими спокойными карими глазами. — Ведь принята резолюция, в райкоме ее одобрили. Особый разговор с товарищем Паримовым был, — он еще сказал, что будет за применением всей «семейной» технологии наблюдать... — Она неожиданно звонко засмеялась, но, видя, что Леонид покраснел, быстро добавила: — Да вы не думайте, что речь идет о вас и о Вике, нет, он имел в виду то, что вы в докладе употребили этот оборот, говоря о группировке изделий по семьям...
— Значит, товарищ Паримов нас поддержит? — спросил Леонид.
— Вся партийная организация будет вас поддерживать.
— Ну, а как же разговор, который произошел у меня с директором?
— Погоди-ка, вы, товарищ Сомов, тут чего-то недопонимаете. Вам что, директор запретил применять новую технологию?
— Нет, он не запрещал, но главный инженер откровенно предостерег против экспериментов...
— А это уж ваше дело. Смотря что называть экспериментом, — главное, чтобы производство от этого не страдало, а выигрывало, чтобы повышалась производительность труда, а стало быть, и заработная плата рабочих. Действуйте, разрабатывайте, а мы вас будем поддерживать на каждом шагу... — говорила Репина, встав с места и своей маленькой крепкой рукой пожимая руку Леонида. И вдруг совсем другим голосом спросила: — Ну что, жена не капризничает? — Леонид вспыхнул, и она сказала успокоительно: — Что станешь делать, в таком положении... А вы наоборот, должны во всем идти нам навстречу, ничего не попишешь... — она замолчала и, взглянув своими ясными глазами в глубь его глаз, добавила: — Природа!
Да, беременность у Вики проходила очень тяжело. Удивительно, как плохо действовал отпуск на Викторию Курбановскую! Казалось бы, она так мучилась последнее время, когда ей приходилось беременной выходить на работу и не только работать самой, но руководить бригадой, да еще в условиях, когда бригада с трудом переходила на новый метод. Но она привыкла большую часть дня проводить на людях и, сидя дома, тосковала.
Евдокия Яковлевна заботилась о ней, не давала лишнего шагу ступить. Вику это только раздражало, и она, бывало, покрикивала на свою безответную мать. А когда муж, молодой, здоровый, кажущийся ей сейчас особенно сильным и красивым, возвращался с работы и говорил ей ласковые слова, Вика заподазривала, что он это нарочно, — ведь он не мог не видеть, каким она стала уродом. И Вика выспрашивала, кого из женщин он видел сегодня на заводе. Леонид, не чувствуя подвоха, весело отвечал.
— А с Раей Гостевой ты шутил?
— Ну конечно шутил! Знаешь, ведь она вместо «л» «р» говорит. Кронцылкурь. «А что это — цылкурь?»
— Тебе, конечно, смешно...
— Да ты что, Вичка, — опоминался он, — неужто ревнуешь?
— Нет, нет, пожалуйста, веселись...
Только лежа рядом с ним в кровати, она успокаивалась. И засыпала, положив голову ему на плечо.
В эти дни Вика уже не могла сама бывать у родителей Лени, но неукоснительно следила за тем, чтобы он их навещал, и Леонид беспрекословно слушался ее.
Не сразу рассказал Владимир Александрович сыну о своей злополучной встрече со Сталиным. Сначала Леня, бывая дома, ничего не замечал. Но вот однажды он застал отца в халате. Владимир Александрович сидел в кресле, видно было, что он сегодня не ходил на службу.
— Ты болен? — спросил Леонид обеспокоенно.
— Так, пустяки...
На ковре среди вороха бумаг и фотографий возилась Леля, как всегда непричесанная и тоже в халате, хотя время уже было послеобеденное. Увидев брата, она сказала обрадованно:
— Ну вот и хорошо! Теперь ты с ним посиди! — и убежала из комнаты.
— Чем это вы заняты? — спросил Леонид, поднимая с ковра фотографию, изображавшую совершенно плоскую местность, ряды домишек, скорее угадываемые, чем реальные, нефтяные вышки.
— Да тут затеял я в порядке заполнения досуга одно дело, уж подлинно от безделья рукоделье, — с какими-то виноватыми интонациями говорил Владимир Александрович, — решил свести в один альбом все спроектированные мною города. Это нефтяной город, каким он был при его основании. А это мой план, по которому он строился... А вон там лежит фотография — это современный вид города, когда все мои наметки уже осуществились.
— Ничего похожего, здесь большие здания, множество деревьев.
— Так все и было задумано, и, откровенно сказать, задумано было скромнее, чем сейчас получилось. Знаешь, оказывается, сколько городов я спроектировал? Сто семьдесят два! Это ты меня разжег своим разговором, вот я и расхвастался. Что станешь делать, молодость рвется в будущее, старость оглядывается в прошлое!
— Из твоего прошлого вырастает наше будущее...
— Ты всегда меня понимал, — проговорил отец, положив руку на плечо сына. — А Лелечка хотя по доброте своей и помогает мне, но ее совсем это не интересует.
Что-то было в голосе отца, заставившее Леню тревожно оглядеть его. Что он — болен? Нет, это не болезнь!
— У тебя что, папа, неприятности какие-то? — тревожно спросил Леонид.
— Как сказать, неприятностями это назвать нельзя...
И он рассказал сыну о встрече со Сталиным и о последствиях этой встречи.
Заявление Владимира Сомова, в котором он выразил желание перейти на работу в Комитет, возглавляемый Касьяненко, было встречено с облегчением и удовольствием, — то, что должно было произойти, происходило легко, без усилий, в высшей степени благопристойно. Правда, встретившись с Фивейским, Владимир Александрович понял, что старик искренне огорчен и взволнован тем, что ему не придется больше работать вместе с Сомовым, и это проявление искренней привязанности со стороны старого человека, с которым в свое время они столько спорили, было очень приятно Владимиру Александровичу.
Но уже и сейчас Бориса Миляева утвердили вторым заместителем президента Академии, и было понятно, что, как только Сомов перейдет в Комитет по строительству, Миляев будет утвержден первым заместителем президента. Ну, а там... ведь Антон Георгиевич тоже не бессмертен!
Ко всему этому у Владимира Александровича выработалось отношение пассивно-философское. Переход в Комитет, под непосредственное руководство симпатичного ему Алексея Алексеевича, его устраивал, а пока этот переход оформлялся, он занялся делами такого рода, за одним из которых и застал его сын.
Леня был первый человек, с которым так откровенно говорил Владимир Александрович. Дочка хотя и знала обо всех этих делах, но понять их толком не могла и старалась просто, по-женски отвлечь отца лаской, теплом, вниманием. Нина Леонидовна сначала было очень встревожилась, — как же так, не угодил самому товарищу Сталину! Но когда узнала, что Владимир Александрович переходит в Комитет при Совете Министров, что он будет на должности, соответствующей должности заместителя министра, и что бюджет семьи не уменьшится, она успокоилась.
10
Болезнь прошла. Но она оставила по себе памятку — Владимир Александрович мог засыпать только в кресле и потом переходил в постель. Из дома он почти не выходил, февральские вьюги и метели мешали прогулкам. Да и куда было ходить? В Академии его отставку приняли, в Комитете еще не утвердили, вот он и сидел дома. Он плохо спал ночью и чувствовал сонливость днем. Сильно ссутулившийся, но все же большой и внушительный в своем новом пестром халате, который ему подарила под Новый год Нина Леонидовна, разгуливал он по кабинету, вожделенно поглядывая на большую софу, но лечь боялся — в постели его охватывало удушье. Из-за этого-то он и полюбил сидеть в кресле, задремывал и просыпался, снова задремывал и, додумывая то, что приходило в голову в полусне, незаметно снова переходил от мыслей к сонным видениям.
Так сидел он в кресле в ту беспокойную ночь начала марта. Два дня назад был опубликован бюллетень о болезни товарища Сталина. На улице было тепло, и в открытую форточку тянуло талым весенним снегом. Владимир Александрович дышал с наслаждением, с каким дышат только те, у кого болит сердце, и против обыкновения ни о чем не думал, хотя, казалось бы, именно сегодня было о чем подумать.
Дверь скрипнула, Владимир Александрович повернул голову — вошла жена.
— Ты не спишь? Что, опять удушье? — тихо спросила Нина Леонидовна. В белом пеньюаре она казалась особенно высокой, статной, и лицо ее в черной раме волос было совсем молодым; точнее говоря, он угадывал, узнавал эти с юности милые ему черты.
— Нет, удушья нет, — сказал Владимир Александрович, целуя ее руку. — Очень дышится легко... — добавил он виновато, ожидая, что Нина Леонидовна будет бранить его за раскрытую форточку и сетовать на непослушание. Но она против обыкновения не обратила на форточку никакого внимания.
— Мне страшно, — жалобно сказала она, удержав его руку в своей и опустившись на большую софу, где он обычно спал. — Неужели ему никак нельзя помочь? И как мы без него будем?
Владимир Александрович ничего не ответил, только пожал ее руку. По характеру вечернего бюллетеня он понимал, что если Сталин еще не умер, то положение его безнадежно. О политике Нина Леонидовна обыкновенно говорила только в тех случаях, когда те или иные действия правительства прямо касались ее интересов, — отмена лимитных магазинов, денежная реформа, изменения в оплате академических работ, трудности с пропиской домашних работниц, слухи о возможности новой войны. И это «как же мы без него будем?», произнесенное беспомощно-жалобно, кольнуло его сердце. Он не отнял у жены своей руки, подтащил левой рукой электрическую грелку, положил ее на сердце, и ему сразу стало легче. Его кресло стояло возле софы, и Нина Леонидовна не отпускала его руки из своей. Положив ее под щеку, она еще что-то говорила, успокаиваясь и засыпая. А он с той силой бодрствования, которое бывает только при ночном пробуждении, смотрел навстречу тому новому, что должно было наступить со смертью Сталина.
И вдруг с отчетливостью, какая бывает только в минуты большого душевного напряжения, словно в беспощадном и неживом свете юпитеров, увидел он солнечный и морозный, бесконечно далекий день января 1924 года.
Комната, в которой они тогда жили, только поженившись, была большая, светлая — одна стена ее представляла собой сплошное окно (почему он сейчас вспомнил об этом?). Было воскресенье, и они собрались идти на лыжах. Вдруг в дверь легонько постучали, и в комнату вошел Евгений, брат.
— Здравствуй, Женя! — звонким голосом сказала Нина, обернув к нему свое молодое, неправдоподобно красивое лицо. На одной ноге у нее была обута пьекса, другую пьексу Владимир держал в руках и чем-то тщательно смазывал. Взглянув в лицо брата, продолговатое, бледное и встревоженное, с его карими, немного медвежеватыми глазами, Владимир сразу понял: с недоброй вестью пришел он к ним сегодня.
— Вы ничего не знаете? — спросил Евгений, и в голосе его слышалась жалость к ним, к себе: ведь ему предстояло сообщить им, молодым и счастливым, эту страшную весть. — Вы ничего не знаете? — повторил он хриплым голосом и проговорил, опустив голову: — Ленин. Умер.
— Ленин! — воскликнула Нина, так воскликнула, что Владимир вдруг почувствовал горячие слезы у себя на глазах. Горе вдруг накрыло их, как бушующий вал студеной воды. А Евгений рассказывал, что ночью ему позвонил товарищ, который был на заседании съезда Советов, где Калинин сообщил эту скорбную весть. Но то, что говорил Евгений, звучало для них отрывисто и глухо, словно этот захлебнувший их вал страшной беды закрыл все, и они с трудом улавливали связь между отдельными словами, хотя Евгений говорил ясно и точно.
— Как все, как всякий человек умер... — твердила Нина сквозь слезы.
Владимир стоял как в столбняке, прямой, неподвижный, с полуоткрытым ртом, а над этажеркой с книгами лицо Ленина глядело в комнату так же одобряюще весело, как оно глядело вчера, когда он был жив...
Владимир Александрович открыл глаза и взглянул на письменный стол, где, укутанная цветным платком, тускло светила настольная лампа, и в приглушенном свете увидел это же лицо, лукавые морщинки, бегущие от глаз, взгляд, вечно веселый и все понимающий...
Сделав скупой, какой-то судорожный жест рукой, Владимир Александрович заворочался в кресле и вдруг сквозь дремоту услышал робкое дребезжание звонка, раздавшееся в сонной и темной тишине квартиры. Он прислушался, — дребезжание повторилось. Но, утомленные переживаниями тревожного минувшего дня, Нина Леонидовна и Леля крепко спали. Новая домработница-старушка была глуха, и дверь никто не открывал. Владимир Александрович тяжело поднялся. Жена во сне отпустила его руку, уже несколько затекшую, и он, шаркая теплыми войлочными туфлями, пошел в прихожую. В ночной тишине он впервые услышал это свое шарканье и с грустью сказал себе: «Стар ты стал, батенька, стар...»
Придерживая левой рукой грелку на сердце, он правой с трудом открывал сложные засовы, сооруженные по указанию Нины Леонидовны, и дивился, зачем они. Такие замки были бы уместны на дверях банков или государственных хранилищ. Наконец откинута последняя цепочка, дверь открылась, и Владимир Александрович увидел на пороге брата, Евгения. Он не удивился. Конечно, Женя должен был прийти в эту ночь, как же иначе? Высокий, большой, как все Сомовы, Евгений Александрович стоял на площадке в своем чугунном пальто с черным воротником и в шапке из такого же черного блестящего меха и глядел на брата вопросительно и виновато. Лицо его было мокро от липкого, пронзительного весеннего снега.
— Я все понимаю, ты болен, — тихо сказал он. — Но я не могу сейчас один, не могу. Жена спит, да она и не поймет... Я не позвонил, тебя волновать нельзя, меня Нина все равно бы к тебе не пустила. А я не могу один, — повторил он. — Такое совершается. Новое этой ночью родится, новый этап...
— Заходи, заходи, — обрадованно сказал Владимир Александрович. — Мне ведь одному тоже не легко. Только у меня в кабинете Нина спит, пойдем к Лене в комнату...
Хотя Леня давно жил в Больших Соснах, но Нина Леонидовна не разрешала Леле занимать комнату брата. «А вдруг захочет вернуться, — говорила она, — пусть знает, что ему всегда тут рады...» — упрямо твердила она в ответ на все просьбы Лели.
Железная кровать, застеленная клетчатым одеялом, немудреный письменный стол, книжная полка, на стене портрет Циолковского, ящики с инструментами, табуретка, — все просто, чисто, молодо.
— Ты садись, — указывая на табурет, сказал Владимир Александрович, — а я лягу, ты уж прости меня, тут розетка, я грелку включу.
— Тебе волноваться вредно... — снова виновато сказал Евгений Александрович.
— Вредно, вредно, вредно! — с раздражением перебил его брат. — Кто это знает, что вредно, а что нет. От жизни не спрячешься, это только Нина думает, что можно не волноваться по предписаниям врачей...
— Да-да, — охотно подтвердил Евгений Александрович, но видно было, что думает он уже о своем и что ему не терпится заговорить с братом об этом, самом главном.
И он заговорил:
— Понимаешь, сегодня в университете преподаватель, молодой такой, видит, что мы все расстроены, одна старушка плачет даже, вдруг сказал, и со злобой: «Ну что вы плачете? Над жизнью своей изуродованной плачете, что ли?»
Евгений Александрович помолчал и покачал головой. Нет, совсем не такие чувства пробудились в эти дни в его душе и заставили ночью прийти к больному брату и говорить, говорить...
Он тоже вспоминал дни смерти Ленина и похороны его, когда они с женой Леной, тогда студенты Свердловского университета, часами простаивали в скорбной очереди к гробу, простояли два раза, чтобы пройти, проститься, и простояли бы в третий раз, но Лена простудилась и заболела... Это мало сказать, ощущение горя, ощущение сиротства, незаменимости утраты, беспокойная мысль о том великом деле, которое дороже всего, о партии, о советской власти, о дальнейшем ходе мирового революционного процесса... И вот тут-то, в начале 1924 года, когда возобновились занятия в Свердловском университете, было вывешено объявление, что курс лекций по основам марксизма-ленинизма будет читать товарищ Сталин.
До этого Евгению Сомову ни разу не приходилось видеть Сталина. В начале революции был он в Поволжье, там же и вступил в Союз молодежи III Интернационала, а потом в партию. В лекторскую группу Свердловского университета он прибыл по путевке и весь погрузился в учебу, из стен университета почти не выходил. И кроме того, что Сталин — секретарь ЦК, он ничего не знал об этом невысокого роста человеке, который легкой неторопливой походкой вошел на трибуну, выпил глоток воды, заглянул в маленький листок бумаги, поднял голову, и всем стало видно бледное, оттененное черными усами лицо, неровная кожа на его лице... Голос был отчетлив, манера говорить поначалу показалась суховата, особенно после Луначарского, которого совсем недавно слышал Евгений на одном из диспутов.
Сталин не сказал ни одного слова утешения, не обещал легкой жизни, — он только изложил основы учения Ленина, но от того, как он это делал — спокойно, неторопливо, сдержанно, на душе становилось легче... Нет, это не была мысль о замене, о том, что этот чернявый человек в военном френче может заменить великого учителя, — когда Сомов слушал его, к нему приходили мысли о том, что нужно брать себя в руки, повысить свою серьезность, свою ответственность за дело революции, и жить, жить...
Ленинский призыв, поднявшийся из самых недр рабочего класса, подтвердил эту серьезную жизненную установку. Каждый день, прожитый без Ленина, успехи таких еще при нем затеянных дел, как финансовая реформа, выравнивающееся продовольственное положение в столицах и в рабочих центрах страны, налаживание восстанавливаемой промышленности — все подтверждало правильность новой жизненной установки.
Когда на XIII партийном съезде делегаты ознакомились с письмом Ленина, в котором он давал характеристику всем своим ученикам и сподвижникам и где были даны весьма нелестные определения недостатков Сталина, партийный работник Женя Сомов, так же как и большинство партийной молодежи, отнесся к этому письму с большим вниманием и уважением, но и с уверенностью, что Сталин сам сумеет сделать все выводы из указаний великого учителя. Кроме того, в составе ЦК были такие испытанные, лучшие люди партии — Дзержинский, Орджоникидзе, Куйбышев, Киров. Что ни человек, то легенда, большевики, воспитанные годами подпольной работы и гражданской войны...
По окончании Свердловского университета Евгений Сомов был оставлен в распоряжении МК партии, работал в самом аппарате МК. Потом, когда была проведена партийная мобилизация кадров для укрепления ОГПУ, Евгений стал работать в аппарате ОГПУ. Привыкший к публичным выступлениям, он сначала без охоты пошел на новую работу, но вскоре увлекся и полюбил ее.
Под руководством партии народ осуществлял социализм, и его, Сомова, задача была в том, чтобы парализовать действия врагов социализма, в том, чтобы не давать им вести контрреволюционную агитацию, хватать их за руки при попытке тормозить наше развитие. Сомов умел не только провести допрос и получить необходимые данные: блестящий пропагандист, он умел разбивать идейную аргументацию противника, встать с подследственным на почву умозрительного поединка, и почти всегда он этот поединок выигрывал. Евгений был уже крупным работником, его докладные записки знали и ценили в ЦК... Но он горел на работе, а тот, кто горит, тот сгорает. Голодная молодость, когда приходилось есть макуху и хлеб с овсом, недосып во время учебы в Свердловке, вечная торопливость во время перегруженного дня, целодневное голодание и замена еды крепким чаем и куреньем — все это привело к тому, что, когда он пошел к врачу, тот обнаружил у него язву желудка. Нужно было сделать операцию, Евгений сопротивлялся, ему давали отдых для лечения, он не лечился, только стал еще больше курить. Жена, верная подруга его, к тому времени крупный работник МК, постоянно сердилась, убеждала, — никакого внимания... Дело дошло до тяжелого припадка, он вышел из строя и после выздоровления вдруг круто, точно его подменили, изменил свое поведение. Прежде всего он подал рапорт и просил ввиду болезни освободить его от ответственного поста, который он занимал. Его просьба была уважена, ведь он из-за болезни уже не работал три месяца, а врачи говорили, что ему еще предстоит операция. Но болезнь препятствовала вести следовательскую работу, с которой он начинал, малейшее напряжение влекло за собой мучительный припадок, его перевели на техническую должность, — фактически это была синекура...
Потом подошло время делать операцию. Но при всем том, что дела его поправились, последствия операции были таковы, что они вообще исключали всякую службу. Врачи подсказали ему выход: инвалидность. Ему еще не было и тридцати пяти — и вдруг инвалидность! Евгений вздыхал, сокрушался, но что делать?! Начальники, ценившие его, предлагали подать рапорт, указать на ту высокую должность, которую он занимал в прошлом, чтобы обеспечить хорошую пенсию, даже жена, человек высокоидейный, считала, что это было бы правильно, — ведь у него все-таки семья. Но он категорически отказался. Никаких рапортов он не писал, взял из медицинской комиссии самое немудреное направление на втэк, был демобилизован, — не по собственному желанию, а по тяжелой болезни, получил пенсию в размере ста семидесяти рублей и ушел на покой...
Так сложились обстоятельства его жизни, если их рассматривать со стороны внешней. Но была в этом процессе внутренняя логика, о которой никто, ни жена, ни даже брат, самый близкий друг его, не знал... Только сегодня, в эту вьюжную мартовскую ночь, Евгений Александрович впервые заговорил об этом, и, начав говорить, он уже не мог остановиться...
11
Это произошло при смене руководства в НКВД. Новый нарком собрал начальников отделов и их заместителей и сказал речь. На совещание Евгений пришел по обыкновению невыспавшийся, с ощущением противной, ноющей боли в желудке, которую он глушил куреньем, пришел взвинченный и сам не сознающий своей взвинченности. Некоторые из товарищей заметили, что ему нездоровится. «Пустяки!» — хмурясь, отвечал он, и его оставили в покое. Он сел подальше, чтобы ему не мешали украдкой курить, и слушал, вглядываясь в казавшуюся совсем небольшой сутуловатую фигурку наркома в военной форме, находившуюся на противоположном конце зала. Речь шла о сложности классовой борьбы на новом этапе. Нарком говорил о том, что по мере приближения к окончательному торжеству коммунизма сопротивление эксплуататорских классов делается сильнее — мысль, которая казалась тогда Евгению неопровержимо верной. Нарком перешел к выводам, голос у него от природы был не очень громкий, но он старался говорить громче, звук получался резкий, с хрипотцой, в нем как бы слышалась надсада...
— Мы — меч пролетарской диктатуры, — говорил нарком. — Меч должен разить без пощады... И если у кого-либо есть иллюзии, что революцию можно делать в белых перчатках, то ему придется с этими иллюзиями расстаться! — В голосе наркома прозвучала угроза, этой угрозой нарком и закончил свое выступление, аплодисменты как бы скрепили ее. Евгений тоже аплодировал, как же иначе? Но когда он вернулся к себе в кабинет и стал составлять конспект для выступления перед работниками своего отдела, он вдруг ощутил некоторую неловкость в изложении главной мысли наркома.
«Конечно, революцию в белых перчатках вообще не делают, в этом наше радикальное отличие от меньшевиков, от всякого рода анархистов. Но в данном случае что имел в виду нарком?»
И Евгению вдруг словно въявь представился другой нарком, другой доклад...
Только один год имел он счастье проработать под руководством Дзержинского, но он слышал его несколько раз, — и не только о беспощадности к врагу, о соблюдении революционной законности, об умении заставить врага, даже самого закоренелого, разоружиться — вот о чем всегда шла речь. Ну, а кто не разоружается, того уничтожают! А тут... Евгений мысленно повторил слова наркома и содрогнулся: цель оправдывает средства...
Раздался телефонный звонок, заместитель его Всеволод Брыкин просил разрешения зайти. Евгений разрешил.
— Что с тобой? — спросил Брыкин. — На тебе лица нет...
И тут Евгений почувствовал то, что раньше не замечал: мучительно тяжелый ход его мыслей сопровождается острой физической болью, он даже рукой поглаживал больное место.
— Ну разве можно так запускать болезнь? — с упреком говорил Брыкин и, не слушая возражений Евгения, позвонил в санчасть.
— А доклад?
— Какой же доклад! — возмутился Всеволод, — Никакого доклада ты сейчас делать не можешь... Я сейчас позвоню Елене Дмитриевне.
— Погоди, перепугаешь...
Но Всеволод ничего не слушал.
Пришел врач, поставил термометр.
Температура у Евгения была 39, 5, его тут же увезли в больницу.
Доклад на собрании сотрудников сделал Всеволод, благо он как заместитель присутствовал на докладе наркома. Он же как заместитель Евгения принял на себя функции начальника отдела.
Если бы Евгения привезли домой, он, конечно, завел бы разговор с женой, — до этого у них не было друг от друга никаких секретов. Если бы его в больнице положили в общую палату, он разговорился бы с соседями. Если бы ему дали бумагу и чернила, он написал бы письмо Сталину. Но по положению и серьезности заболевания Евгения Сомова уложили в отдельную палату, а его требования бумаги и чернил рассматривались как бред, — он попал под власть педантичного медицинского начальства, которое хотело даже воспрепятствовать, чтобы ему давали газеты, но тут он пригрозил устроить голодовку, и газеты ему стали приносить.
Шел 1937 год... Евгений читал сообщения о троцкистских заговорах — в каждом областном городе, в каждой отрасли советского хозяйства. Ему часто попадались знакомые фамилии, и наряду с троцкистами и правыми он видел фамилии людей, не запятнанных никакими преступлениями. Об одном из них, крупном московском работнике, Евгений спросил у жены, когда она навестила его, — это был их друг, они вместе учились в Свердловском университете. «Оказался мерзавец», — как-то без выражения произнесла жена.
— А Константин Черемухов, ты помнишь?
— Тоже мерзавец! — так же спокойно ответила она.
Евгений пристально взглянул на нее.
— А если завтра возьмут меня, ты тоже скажешь, что я мерзавец? — спросил вдруг он.
— Что с тобой, Евгений? — испуганно воскликнула Лена. — Ах, это болезнь, болезнь... — и она заплакала, наклонив к нему голову на кровать, он гладил ее по темно-русым волосам...
— Не плачь, я пошутил...
— Что за ужасные шутки...
— Ты права, это болезнь! Впервые в жизни меня, что называется, на всем скаку, освободили от работы, и я остался в безвоздушном пространстве... Отсюда ослабление умственной деятельности, всякие докучные мысли...
Он говорил неправду. Никогда мысль его не работала с такой отчетливостью, как сейчас. Он думал наяву, думал во сне, и особенно отчетливо, просыпаясь ночью, думал не для докладной записки или статьи, а для самого себя. И конечно, сначала у него мысль обращалась к Сталину. Он мысленно излагал ему то, о чем он думал.
Но чем дальше шло время, тем отчетливее понимал Евгений, что все, что происходит в стране и, в частности, в НКВД, не может не происходить по прямому указанию Сталина. И мысль его снова возвращалась к этому человеку, с того первого часа, когда он увидел его. Евгений перебирал в памяти речь за речью, политический акт за политическим актом. И многое, почти забытое, вдруг вспомнилось ему, словно освещенное каким-то новым, зловещим светом.
Когда в газетах мелькнуло имя Константина Черемухова, как одного из пособников троцкистов и иностранных шпионов, Евгений вспомнил, как, встретившись с Константином в 1934 году, он был удивлен его озабоченным, невеселым лицом. И Константин тогда еще завел разговор о завещании Ленина, но Евгений был настроен настолько апологетически в отношении Сталина, что Константин прекратил дальнейший разговор на эту тему...
...В скором времени после операции, когда было установлено, что она прошла благополучно, хотя у Евгения была удалена значительная часть желудка, его перевезли домой. Постепенно он стал вставать, подходить к окнам, выходившим во двор и в переулки близ Зубовского бульвара. Здесь рядом с древними колокольнями построены были бурильные вышки метро. Действующие линии подземной дороги уже стали любимым транспортом москвичей, но бурили новые, облака белесой пыли поднимались из шахт, глухой гул и грохот доносился оттуда, и эти звуки труда действовали успокоительно. Евгений, пошатываясь, ходил по квартире, жена была на работе, дети в школе... Он рассматривал всегда поражавшие его своей аккуратностью конспекты жены, детские учебники и игрушки. Дети тоже были аккуратны, — видно, мать приучила их к этому, — куклы сидели на верхних полках, где им меблированы были комнаты, механические игрушки сына, грузовики, поезда располагались на нижних полках. Евгений даже заводил механические игрушки. Но ему было бы неприятно, если бы его застали за этим занятием, и он ко времени возвращения детей шел к себе в комнату и ложился, брался за какую-либо книжку, по большей части перечитывал классиков в старом издании приложений к «Ниве», — еще в первые годы жизни в Москве он закупал эти издания впрок, потому что читать было некогда. Сейчас пришло их время... Евгения кормили помалу и какой-то чепуховой едой: то стакан молока, то блюдечко манной каши, то вываренные комочки «жеваного», как он говорил, мяса, но он за время болезни как-то отвык есть.
Всеволод, который во время его пребывания в больнице раз в неделю, обычно под выходной день, появлялся в халате, из-под которого торчали длинные ноги, и ни о чем с ним не говорил, теперь появлялся чаще. Он изменился, стал озабоченней, сдержанней. На работе у него все было как будто бы хорошо, но сообщал он об этом как-то конфузливо. Евгений догадывался, что с ним происходит, и не удивился, когда Всеволод однажды, придя в неурочное время, с утра, вдруг разговорился.
— Мне нужно с тобой посоветоваться, Евгений Александрович, — сказал он. — Я понимаю, что ты болен, но о том, о чем я хочу поговорить с тобой, я ни с кем говорить не могу. Ведь я тебе обязан всем, ты воспитал меня, ты рекомендовал меня в партию.
— Давай, — сказал Евгений. —Только я закрою глаза, мне свет глаза режет. — Но он закрыл их потому, что ему стыдно было глядеть в глаза Всеволода, неестественно большие, с несвойственным ему жалобным выражением...
Нельзя сказать, чтобы то, о чем рассказывал Всеволод, совсем было ново для Евгения Александровича. С момента, как только нарком произнес эти слова: «белые перчатки придется снять!», он отчетливо представлял себе, о чем пойдет речь. Но Всеволода, что называется, прорвало: стоны и жалобы доносились до Евгения с Лубянки сквозь рассказ Всеволода.
— Ну и что же? Мы добиваемся признаний! Но грош цена этим признаниям, — говорил Всеволод. — Подследственные оговаривают и себя и других. И я решил, Евгений Александрович, написать письмо Сталину, он не знает, от него все это держат в секрете...
Евгений Александрович открыл глаза. Пятна на лице, потрескавшиеся губы, мутные глаза, — право же, он с трудом узнавал в этом больном человеке юношу, которого он принимал на работу, который принес всю свою обращенную к революции душу, смелого в самых опасных операциях, казалось бы неиссякаемо жизнерадостного... У Евгения Александровича у самого пересохли губы, началась боль в том месте, где была операция, и он под одеялом, чтобы не видел Всеволод, тихонько поглаживал себя по животу и, стараясь говорить спокойно, ответил на его вопрос:
— Письмо Сталину? Давай обсудим. Неужели ты думаешь, что все, что делается у нас, происходит без согласия на то Сталина?
— Уверен в этом! — закричал Всеволод. — У-у! — закричал он, как раненый, и крик этот больно отозвался в душе Евгения. Сдерживая стон, он сказал:
— Это наивно. Подумай сам обо всем. Тебе известно, откуда пришел наш теперешний нарком? Он прислан Сталиным. И тут не нужно дергаться, тут нужно обдумать.
— Но я шел в ОГПУ не для того, чтобы стать палачом, ты сам говорил: мы рыцари диктатуры пролетариата...
— Говорил, говорил... — непроизвольно тихо прошептал Евгений Александрович, и этот шепот вдруг заставил Всеволода поднять взгляд на старшего товарища.
— Тебе плохо? — спросил он с испугом. — Разве имел я право говорить с тобой на эти темы? — Он схватил его руки своими горячими руками и обнаружил, что одна рука Евгения лежит на том месте, где еще не совсем зажила рана. — Ах я скотина, пришел искать помощи у больного человека!
— Нет, ничего, только тебе придется поухаживать за мной. Накапай мне вон из того темного пузырька пять капель. Вот так... Ну, как твоя Люся?
Всеволод рассказал о жене, о здоровье маленького сына. Он говорил связно, спокойно, но видно было, что думает он все время о чем-то своем, и это сказалось в момент прощания, когда как будто бы без всякого волнения, словно констатируя объективное положение, он сказал:
— Куда ни кинь, всюду клин...
Эти слова, и особенно их интонация, на всю жизнь запомнились Евгению, — он после этого больше не видел Всеволода. Из-за внезапного внутреннего кровоизлияния его вновь вернули в больницу, снова ни о чем, что происходило в мире, не сообщали. И только по выходе из больницы он узнал, что Всеволод, отправив письмо в ЦК («Гнусное, антипартийное письмо!» — сказала Лена), покончил жизнь самоубийством. А некоторое время спустя был со своего поста снят Ежов, а потом были осуждены методы, которые он применял, и Сталин сказал о Ежове, что тот стремился перебить кадры...
Новый начальник отдела Николай Савкин, назначенный после смерти Всеволода, зашел как-то к Евгению и рассказал, что он сопровождал видного члена ЦК при его поездке в один южнорусский город, особенно прославившийся своими перегибами.
— Прежде всего поехали в наше учреждение, сняли с должности начальника, забрали у него ключи и едем прямо в тюрьму. И вот, представляешь себе, ходим по камерам, отворяем их и всех выпускаем. Так веришь ли — не выходят! Ни коммунисты, ни беспартийные... Иван Артемьевич уже сердиться начал: «Вы что ж, себя виновными считаете?» И тут один старичок учитель ответил: «Если бы виноваты были, мы бы поскорей постарались уйти отсюда. Но мы ни за что взяты и требуем, чтобы нас освободили по советскому закону...» — «Так что ж, вы меня, что ли, не знаете?» Ну когда его признали, стали выходить. Сильна советская власть! — сказал он с каким-то восторгом.
Был Николай Савкин куда незамысловатей красивого и большого Всеволода и куда менее образован. Он участвовал в гражданской войне, воевал в войсках Фрунзе. При демобилизации предложили ему перейти в войска ВЧК, он и перешел. Боролся с басмачами и в этой трудной войне обнаружил большую изобретательность, политический ум. Евгений Сомов, вызванный в Среднюю Азию для участия в этой операции, первый по достоинству оценил этого командира батальона, находчивость и мужество которого обеспечили удачу одной из крупнейших операций. Евгений предложил Николе переехать в Москву, тот согласился.
К Евгению он был душевно привязан, почитал его за ум и образованность и разговоров с ним на большие темы не заводил. В этом разговоре словно впервые сказалась его душа. Его восклицание: «Сильна советская власть!» — вошло в душевный арсенал Евгения Александровича, И когда в Москве сразу за один год строили в разных концах города несколько сот средних школ или когда он читал об успехах третьей пятилетки или слушал рассказы старого друга своего Острогорского, работавшего над разложением атома, об успехах советской науки, он шептал: «Сильна советская власть!..»
Жену Евгения обвинили в том, что она оклеветала невинных. На низшей инстанции ей вынесли строгий выговор, она обжаловала, строгий выговор был снят, по из МК, где она работала с 1928 года, ей пришлось уйти, ее перебросили в Наркомат просвещения. «Бедное просвещение!» — думал Евгений. Он и жалел жену и понимал, что не она виновата в этих уродствах и извращениях, но особенного сочувствия она у него не вызывала. У жены расшатались нервы, весной 1938 года ее послали в санаторий. В связи с тем, что Евгений демобилизовался, а Лена переменила место работы, они неожиданно остались без дачи. Но сын уехал в пионерлагерь, а дочка заявила, что ей давно уже надоело, что она «каждое лето, как дура» выезжает на дачу, что никуда она не поедет, останется в городе и будет ухаживать за больным отцом. Ухаживать было нетрудно, требовалось только соблюдать диету, кормить часто и понемножку, это было даже интересно.
Евгений решил на досуге разобрать свой архив, дочка помогала ему вытаскивать с полок запыленные папки, завернутые в старые газеты и перевязанные бечевками. Она сдувала с них пыль, сама развязывала, снимала газеты, и старые дела конца двадцатых годов выплывали наружу... Мелькнул вдруг рыженький переплет, и сердце Евгения Александровича екнуло, — это была продолговатая конторская книга, да как же он мог забыть о ней!
Уже кончая Свердловский университет, начал он эту работу на тему о государстве, о его возникновении как орудии порабощения народов и разрушения институтов родовой демократии, о буржуазной демократии как орудии подавления пролетариата, о пролетарской диктатуре как орудии подавления эксплуататорских классов и о роли диктатуры пролетариата при осуществлении социализма и переходе к бесклассовому коммунистическому обществу. Было уже собрано много материалов, набросаны тезисы, и это было, пожалуй, самое интересное. Все проникнуто идеями Маркса, Энгельса, Ленина. Он отложил эту работу, когда начал работать в ЧК, думал, что ненадолго, но работа в ЧК взяла его всего...
«И возникшие в условиях пролетарской диктатуры органы социалистической демократии, по мере того, как будет создаваться производственное основание социалистического общества, будут постепенно, мирным путем, перенимать от государства его функции, и рядовой человек, каждый в своей области, будет все в большей степени становиться ответственным за общественное дело. Кстати, это путь для изживания бюрократизма...»
— Люська, мне было тогда всего двадцать лет! Ей-богу, не глуп был мальчишка... — сказал он дочке.
— А что ты нашел?
— Садись, я тебе расскажу...
Она молча выслушала. Большого удивления это у нее не вызвало, и, вскочив, она неожиданно сказала:
— Мы это учили!
— Как то есть — учили?
— Так, мы по обществу это проходили.
— Что это значит общество?
— Ну это для краткости: естество — естествознание, общество — обществоведение...
— Ну это хорошо, что проходили, — сказал он, несколько расхоложенный и раздосадованный. — Положи-ка эту вот книгу ко мне на стол. Давай следующую...
Присев на ручку кресла, держа в руках пыльную тряпку, Люся покачивала своей большой босой ногой в каком-то раздумье.
— Па-ап, — сказала она протяжно, — что я тебя спрошу: ты Аркашку не узнал?
— Какого еще Аркашку?
— А позавчера к нам приходил, обедал у нас, ты еще зашел на кухню.
— А что за Аркашка? — спросил Евгений, смутно припоминая стриженого мальчика, худенького, казавшегося совсем маленьким рядом с крупной Люсей.
— А он тебя сразу узнал, это Горюнов Аркаша.
— Горюнов! — невольно повторил Евгений. Как же он забыл! Ведь мальчик был даже чем-то похож на Федю Горюнова, «горюнушку», с которым вместе учились они в Свердловке, потом Горюнов окончил Промакадемию, а потом... Это о нем жена Лена сказала «мерзавец!». И конечно, ведь у него семья, как же он раньше не спросил.
— Так что же с ним? — волнуясь, спросил Евгений.
— Анну Яковлевну тоже арестовали, а от Аркашки потребовали, чтобы он отрекся от отца и матери, ну, что они враги народа! А он говорит, не буду отрекаться, они меня учили коммунизму, а нет на свете ничего выше, чем коммунизм. Тут и нашлись у нас в классе дураки и стали говорить, что он тоже враг, а я за него заступилась. Его из комсомола исключили, а мне строгое предупреждение... И мама на меня накинулась, стала всяко обзывать.
— Как же это я ничего не знал! — горестно воскликнул Евгений.
— Ты же больной был, мы разве тебе это рассказывали? А я говорю: все равно с Аркашкой дружить буду, ты хоть тресни!
Большелобая, несколько мешковатая, но сильно сложенная девочка с прямыми русыми волосами и коротким привздернутым носом, Люся живо напомнила ему мать в молодости, только глаза у нее были не серые, как у Лены, а темно-карие, в сомовскую смуглую породу.
— А потом, когда все это отменили, эту ежовщину, я к маме пришла и напомнила ей, что она мне орала... И раньше я с Аркашкой потихоньку встречалась, а теперь, говорю, он будет к нам ходить.
— А где он живет, Аркашка-то?
— В общежитии. Его когда из комсомола исключили, он из школы сам ушел, определился на строительство метро. Он ударник! — с гордостью сказала Люся. — Теперь его опять в комсомол приняли...
Евгений слушал хрипловатый голос дочки с его знакомыми, родными интонациями и чувствовал, как что-то словно растопляется в его душе: в этой детской верности друг другу вновь воссоздавался строй товарищества, верности, самопожертвования, мир советской жизни, на время словно скрывшийся из глаз под мелководьем и мутью, нахлынувшей со стороны.
Евгений Александрович возобновил знакомство с Аркадием. Мальчик после занятий в вечерней школе приезжал иногда позаниматься с Люсей, которая училась на класс старше его. С ним порою приходили товарищи по школе, здесь были и дети московских рабочих, и такие же, как Аркадий, подростки, по тем или иным причинам вынужденные поступить на работу; был среди них мальчик, работавший в радиомастерской и мечтавший сконструировать телевизор; он был круглый сирота, жил у престарелой бабушки и содержал ее. Приходила девочка, ранее учившаяся в одном классе с Люсей; она училась плохо и после седьмого класса пошла в садоводческий техникум и сейчас была очень довольна, и даже отметки по общеобразовательным предметам у нее поправились. Приходили к Люсе и товарищи по школе; она была отличница, и все, у кого были переэкзаменовки, тянулись к ней, она помогала всем безотказно.
Сидя у себя в кабинете, приводя в порядок рукописи, — Евгений Александрович решил во что бы то ни стало довести свой труд о государстве до конца, — он слышал хлопанье дверей, иногда смех, иногда звуки отдаленного спора. Порой спорящие представали перед ним, и он рад был, что может еще разрешать эти споры, особенно когда они касались «общества».
Так как одному есть, и в особенности ужинать, было скучно, он стал съедать свою кашу и выпивать стакан молока на кухне, где Люся организовывала чаепитие для своих друзей. Если это был вечер, в открытое окно доносились возбужденные, лихорадочные звуки городской жизни... Люсины гости располагались кто на длинной скамейке, кто на табурете, а кто попросту на полу. И мило и грустно было Евгению Александровичу смотреть на эти полудетские, но уже словно бы изнутри освещенные пытливой мыслью и благородным чувством лица, на красные галстуки, юнгштурмовки и ковбойки...
Почти каждый вечер обсуждались очередные сообщения из Испании. Евгений Александрович пояснял ребятам сложную обстановку, в которой оказалась молодая республика, предательскую тактику англо-французской буржуазии, под лицемерным флагом невмешательства осуществлявшую помощь фашизму.
...Пылали лица, сжимались кулаки, и радостно было видеть Евгению Александровичу, что страшные удары прошлого года, оставившие сиротами некоторых из этих ребят, не затронули их самосознания. Казалось, скажи только он: в Испанию! — и вся молодежь Москвы, всей России, всего Союза, да и не только молодежь, двинулась бы на помощь испанским братьям. Но Евгений Александрович говорил о другом, он говорил о задачах осуществления социализма в единственной пока социалистической стране, он возвращал энтузиастов к будничным делам учебы, но оказывалось, что эти будничные дела полны высокого революционного смысла.
Он говорил, и это было то, что ему самому нужно было так же, как каждому из этих ребят...
— Что ж, заниматься так заниматься... — со вздохом говорил кто-либо.
Шла трудная экзаменационная пора, начало июня, а дни стояли погожие, жаркие... И все же 9 июня, в день рождения Пушкина, ночью Люся и друзья ее пошли к памятнику великого поэта. И Евгения Александровича удостоили великого доверия: его взяли с собой в этот поход по душистым, пахнущим травой бульварам. Множество молодежи собралось в этот час возле памятника, кто-то прочел послание к декабристам, кто-то отрывок из «Евгения Онегина», а потом совсем маленькая девочка стала читать сказку о царе Салтане:
В синем море волны плещут, В синем небе звезды блещут, Бочка по морю плывет, Тучка по небу идет...Все затихли. Эти волшебно простые слова, этот свежий детский голос и наивная уверенность в правде того, что произносилось, перенесли Евгения Александровича в волшебный мир сказки, он почувствовал слезы у себя на глазах. Он оглядывался и видел вокруг себя море молодежи, он видел растроганные лица взрослых, и даже милиционеры, хотя их явно заботило такое скопление народа, улыбались... «Сильна советская власть!» — подумал Евгений Александрович.
А потом пришла война. «К вам обращаюсь я, друзья мои...» Этот голос, этот звук воды, льющейся из графина в стакан... После этого нельзя было оставаться в Москве. Евгений ушел в народное ополчение. Он видел, как с именем Сталина умирали на полях сражений лучшие люди.
И вдруг, как грозный окрик из прошлого, строгое напоминание о бдительности, процесс врачей-убийц. Опять недоверие, и это после такой войны, когда, казалось бы, навечно утвердилась нерушимость нашего советского строя. Евгений Александрович не верил ни одному слову. Он только ждал, что же будет дальше...
И вот сейчас, когда где-то совсем близко уходил из жизни этот человек, уходил как все, в мучениях, задыхаясь от сердечного удушья, Евгений Александрович не находил себе места в эту лихорадочную мартовскую ночь и вот уже два часа без умолку, словно боясь, что ему могут помешать, говорил, говорил, говорил...
Владимир Александрович слушал брата, не проронив ни слова, и только крепче прижимал к сердцу грелку, чтобы унять ноющую боль, которая уже переползла в руку, в лопатку, в спину. Он несколько раз незаметно клал под язык прохладные и сладкие таблетки валидола, а боль все не проходила, она сопровождала лихорадочный рассказ брата и казалась закономерной, вытекающей из этого рассказа.
Евгений махнул рукой и замолчал. Владимир Александрович тоже замолчал, глядя на него своими небольшими четкими «сомовскими» глазами.
— Да, брат, жизнь прожить — не поле перейти... — тихо сказал Евгений и снова замолчал.
И вдруг в тишине сонной квартиры, так же как в безмолвии всей огромной страны, раздался многозначительный голос диктора. Этот голос в годы Великой Отечественной войны сообщал людям о бедствиях, тревогах и победах.
Сегодня этот голос сообщил о смерти Сталина.
...........................................................
И сразу время утратило свой медлительный ночной ход, во всех комнатах зажглись огни, послышался женский плач, — плакала не только Нина Леонидовна, плакала Леля, которую, по выражению Лени, «ничем нельзя было прошибить», плакала глухая старушка — домашняя работница.
— Ну, я пошел... — быстро сказал Евгений. — А то мне от твоей старухи достанется.
Владимир Александрович не задерживал брата. Они обнялись.
— Спасибо, что пришел... — медленно проговорил Владимир Александрович и, шаркая туфлями, направился в кабинет, где заливисто и одиноко звонил телефон.
Владимир Александрович снял трубку и услышал голос Касьяненко:
— Владимир?
— Я.
Наступило молчание, слышно было, как тяжело дышит Касьяненко.
— Ну как ты? — спросил он наконец.
— Ничего, все в порядке, Алексей Алексеевич.
— Я хотел тебе сказать... Как бы тебе сказать... Горе горем, он умер, а нам жить и продолжать наше дело.
— Я об этом же думаю.
— Ну и ладно. Скоро увидимся.
— С большой охотой.
Трубка звякнула. Владимир Александрович огляделся, — словно бы все посветлело вокруг. Сегодня предстоит трудный, тяжелый день. Он тронул рукой щеку и сел бриться.
Вошла дочь. «Как Леня?» — сразу подумал он о сыне. Небольшие глаза Лели словно запухли от слез, она внесла отцу стакан крепкого чая, и то, что среди всеобщего смятенья дочка вспомнила о нем, было приятно.
— Спасибо, дружочек, — Владимир Александрович взял ее руку и поцеловал. — Ты поедешь сегодня к нашим? — спросил он.
Леля кивнула головой. С того времени, как Виктория перестала выходить, а Леня старался побольше времени проводить с ней и потому реже бывал в родительском доме, Леля, так как у нее никаких занятий не было, довольно часто ездила к Курбановским; благодаря этому установилась естественная связь между двумя семействами.
— Что-нибудь передать нужно? — спросила Леля, бережно целуя отца в висок.
— Да нет, собственно, ничего особенного, — просто узнай, голубчик, что там у них... Да скажи Лене, дядя Женя ночью приезжал.
Леля удивленно взглянула на отца, но ничего не сказала.
12
Поначалу в доме Леонида и Виктории происходило то же, что и во всех домах, — Вика и Евдокия Яковлевна плакали, спрашивали, что же будет, а Леня утешал их, успокаивал и говорил, что есть партия, а партия вечно жива.
За завтраком Вика сказала:
— Ты бы сходил на завод, мне ведь нельзя, а ты сходи...
— А как ты одна?
— Я не одна, — и она кивнула на мать.
— Ну, я скоро приду, — сказал Леня и торопливо ушел.
А Вика, сложив руки над своим большим животом, ходила и ходила по комнате и думала о том, о чем в те часы думали все, — о том, как сложится судьба родины, нет, не только родины, а того главного, что началось в семнадцатом году и продолжалось и посейчас и что называлось навечно вошедшим в сознание словом — революция. Она с нетерпением ждала Леонида, и не только потому, что она хотела (всегда хотела), чтобы он был рядом с ней, но и еще потому, что ждала новостей, а по радио передавали бесконечную похоронную музыку.
В эти минуты Вика словно забыла о матери, только слышно было, что Евдокия Яковлевна где-то ворошится, шуршит, — обычное, исходящее от нее мышиное шуршание. И когда вдруг мать сказала спокойно и отчетливо:
— Ну вот, Викуша, я прибралась, а сейчас поеду... — Вика вздрогнула и оглянулась. В комнате было чисто прибрано, все расставлено по местам, скатерть застелена на столе, а сама Евдокия Яковлевна стояла перед зеркалом и неторопливо одевала поверх платка, намотанного вокруг шеи, старенькое, потрепанное пальто.
— Ты куда это собралась? — строго спросила Вика.
— А ты не бойся, я скоро вернусь, только взгляну на него, правда ли он помер, и вернусь.
— Да откуда ты знаешь, где его поставили?
— А где, кроме как в Колонном? — разумно сказала Евдокия Яковлевна.
— Ничего это не известно, — быстро запротестовала Вика. — И никуда я тебя не пущу, ведь разве я одна могу оставаться? А если у меня схватки начнутся, что тогда?
Евдокия Яковлевна села на стул и распустила платок, — ей, видно, было жарко.
— Слушай, что я тебе скажу, Виктория. Ведь если он вправду умер, значит, Петенька наш вернется. Ведь это он его умахал в ссылку.
— Ну ладно, мама, — Вика вспомнила, что с Евдокией Яковлевной, как с умалишенной, нельзя спорить. — Вот погоди, придет Леня, он все расскажет...
— А что он может знать, твой Леня, он ведь как теленок молосный, право молосный, — с нежностью сказала она. — Да и ты тоже, ну что вы, голуби, понимаете?.. А я, я, — добавила она, понижая голос, — глаза у меня слезами промытые, насквозь промытые, и если он вправду помер, так я сразу разгляжу...
— Я что-то не понимаю, что ты мне говоришь, — сказала Вика, со страхом глядя на мать. — Как это не взаправду, ведь уже народ оповестили...
— Э, чего там оповестили... Да что же это я села, — она быстро замотала платок вокруг шеи, лицо ее горело, она была точно в жару...
«Да она ведь сумасшедшая... — с ужасом подумала Вика, — а я одна с ней...»
— Мамочка, ты хоть меня пожалей, мне ведь рожать...
Но Евдокия Яковлевна уже бубнила что-то про стражу, которая заточила ее Петеньку, что надо прорваться к нему, она уже не узнавала дочери и боролась и дралась с ней, как с чужой.
Вика открыла форточку.
— Помогите! — крикнула она в синий простор. — Помогите!
И вдруг почувствовала, что то, чем она пугала мать, и вправду совершается, — эта резкая боль в пояснице, боль, которую она, ни разу не испытав, сразу узнала, — началось!
— Мама, — говорила она, хватая мать за руки, — вы поймите, роды, роды, началось... Помогите мне до родильного дома дойти...
Но Евдокия Яковлевна в своем исступлении почувствовала только одно — что ее никто не держит, и вся расстрепанная выбежала из комнаты.
Такой и встретила ее Леля, когда, сойдя с поезда, по узкой, протоптанной в снегу тропинке пробиралась через поле. Она издали признала Евдокию Яковлевну, несмотря на ее встрепанный вид, и, раскинув руки, остановилась.
— Евдокия Яковлевна, что случилось?
Но Евдокия Яковлевна, с раскрасневшимся лицом, с запекшимися губами, налетела на Лелю, сбила ее с ног, что-то пробормотала, вроде: «Только я знаю, только я...» — и пробежала мимо.
Ошеломленная Леля, поднявшись из сугроба, кинулась за старушкой обратно к станции. Потом вдруг остановилась, испуганная тем, что ни Вика, ни брат не гонятся за сумасшедшей. Ну Вика-то не может, а брат? Значит, брата нет дома, а Вика?!
И тут вдруг, отчасти догадавшись, отчасти инстинктивно, Леля бросила всякую заботу о сумасшедшей и кинулась бежать на помощь Вике, почти уверенная, что с ней происходит что-то неладное...
Застав Вику у порога комнаты, в положении самом беспомощном, Леля не удивилась. Вика пыталась и не могла подняться с пола...
— Лелечка, ангел... — прошептала Вика искусанными в кровь губами, — скорее к Кузьмичевым, пошли кого-нибудь вызвать карету скорой помощи. Да возвращайся быстрее, мне страшно одной, мама...
Но Леля, не дослушав ее, уже бежала вниз по ступенькам. Не стучась, она с такой силой рванула тяжелую дубовую дверь, что вырвала крючок, на который та была закрыта. У Кузьмичевых все ушли — старики, как и Леня, на завод, младшие в школу, дома была только сама старуха Кузьмичева, она варила обед.
— Вика рожает, скорее карету скорой помощи, врача...
— Ах ты господи, а у нас и послать некого...
— Сами бегите! — повелительно крикнула Леля. — Да скорее, а я к ней вернусь, она одна!
— А Евдокия Яковлевна?
— Сошла с ума, брата нету... Да скорее, скорее же все нужно делать!
И, увидев, что Кузьмичева схватила пальто, Леля побежала обратно к Вике.
В голове у нее словно горел костер, при спокойном пламени которого она видела все необыкновенно ясно. Встретив исступленный взгляд Викиных словно вылезающих из орбит глаз, Леля нагнулась, поцеловала ее, потом кинулась к умывальнику, тщательно вымыла руки, потом к комоду, достала чистое постельное белье.
— На пол стели, мне не подняться... — просительно прошептала Вика, и Леля мгновенно стащила на пол матрац с постели, застелила чистое белье, сдернула со стола клеенку, помогла Вике переползти на приготовленное ложе и, засучив рукава, стала помогать ей. То ли тут действовали воспоминания, — не раз дед ее, акушер-гинеколог, думая, что Леля спит, рассказывал своим дочерям (две сестры Нины Леонидовны были медички) о трудных случаях родов, — то ли помог вековой бабий опыт, унаследованный от предков, но Леля спокойно, в короткие передышки между схватками целуя Вику, давала ей пить, потом вдруг бережно и сильно нажала ей на живот, и, в решительный момент забыв о том, что это страшно, ухватила что-то живое и скользкое и вытащила это скользкое из тела Вики. И вдруг такая жалость, такая нежность к этому беспомощному, упругому и маленькому, но несомненно живому существу охватила ее и такой восторг перед тем, что произошло сейчас, что она заплакала.
— Пуповину перережь, пуповину... — простонала Вика.
Леля оглянулась, взгляд ее упал на большой нож, лежавший на кухонном столе. Еще мгновенье — и она пустила бы его в ход, перерезала бы пуповину и, может быть, этим погубила бы и мать и ребенка. Но тут, на счастье, послышались торопливые шаги, и в комнату вошла пожилая женщина в халате с решительным лицом, а позади стояли мужчины, тоже в белых халатах, в дверях виднелось испуганное лицо Кузьмичевой.
Дело родов было довершено опытной, спокойной рукой акушерки. Теперь ее грудной голос непрерывно рокотал в комнате. Она похвалила Лелю, взяла ребенка из ее рук и сообщила, что это девочка, да еще хорошенькая какая... Но она же ни одной лишней минуты не дала ребенку и роженице побыть дома. В то время как санитары перекладывали Вику на носилки, она сама закутала ребенка, который при этом впервые запищал.
Когда Вика была уложена и тоже укутана, акушерка разрешила Леле поцеловать ее, и, нагнувшись к ней, Леля услышала хриплое «спасибо».
И вот все кончилось. Разгромленная грязная комната с кровавыми простынями на полу выглядела странно опустевшей...
— Ну и боевая твоя сестренка, — говорила Кузьмичева Леониду, который весь бледный, с выражением ужаса и удивления стоял посреди комнаты. — Я в скорую помощь позвонила и скорей к вам, думаю, помогу, ведь сама-то сколько раз рожала. А сеструха твоя, гляжу, действует, да так ловко, да без опаски, будто у овцы принимает. Я стою, даже обратиться боюсь, думаю, вдруг помешаешь, не дай бог...
— Но зачем же ее увезли? — перебил Леонид. — Ведь уже все произошло...
— А нельзя оставить, не дай бог зараза какая пристанет, — объясняла Кузьмичева, — ведь гляди, как здесь захламлено, погляди только... Вот что, ребята, вы пойдите на двор, а я здесь приберу.
— А Евдокия Яковлевна где? — спросил Леонид, оглядываясь кругом.
Леля взглянула на брата. Его лицо, всегда спокойное и даже немного насмешливое, все дрожало, она взяла Леню за руку, рука тоже дрожала.
— Ну, успокойся, успокойся, выйдем на двор, я все тебе расскажу... — Она ощущала чудесное спокойствие и сознание какой-то огромной силы, которая вдруг в эти страшные минуты открылась в ней. Жизнь словно разделилась: до этого дня было одно, не достойное даже рассмотрения, — и другое то, что она сделала в эти минуты: этот восторг, вдруг вспыхнувший в ее душе, когда она вынула ребенка из страдающего тела матери. И нет уже ни Вики, ни маленькой новой девочки, появившейся на свет с Лелиной помощью, но восторг, этот восторг сохранился. И она берегла его, — ведь впервые в жизни она уважала себя за совершенное дело, важнее которого не было ничего в жизни...
13
На пленум Академии, происходивший в полукруглом, с белыми массивными колоннами зале, Владимир Александрович прибыл с некоторым опозданием, так как сначала решил, что ему там показываться незачем. Но потом пересилило захватившее его с утра, после разговора с Касьяненко, чувство ответственности. Все места были заняты, он шел по центральному проходу, все ближе к президиуму. Фивейский, который сидел на председательском месте, сделал ему знак, чтобы Сомов прошел в президиум, но Владимир Александрович, увидев в первом ряду свободное место, занял его. Секретарь парткома Академии заканчивал речь, посвященную роли Сталина в развитии советской архитектуры и градостроительства.
— В вопросах архитектуры и градостроительства мы лишь воплощали его гениальные предначертания и будем впредь эти предначертания выполнять...
«У него насморк, что ли?» — на мгновенье подумал Владимир Александрович, но потом понял, что этот взрослый человек с мясистым лицом, автор ценнейшего труда о значении высшей математики в архитектуре, плачет. Слезы медленно выступали из-под круглых, очень выпуклых очков в роговой оправе, стекали на полные щеки и на подбородок. Прикрыв лицо, словно от света, и время от времени громко сморкаясь, плакала Елизавета Марковская. Но откровеннее всех плакал Борис Миляев. Он сидел в президиуме, рядом с Фивейским, оперев локти на стол, и слезы быстро катились по его молодому лицу одна за другой, бежали по щекам, пропадали в рыжеватых усиках, и видно было, что ему все равно, смотрят ли на него или нет, — именно это необыкновенное для Миляева выражение безразличия поразило Владимира Александровича.
В зале тоже было слышно, как сморкаются, вздыхают. Пожалуй, не плакал только Фивейский, хотя выразительное морщинистое лицо его выражало серьезное и печальное волнение.
«Почему я не плачу? — спросил себя Владимир Александрович. — Может, в этом есть что-то предосудительное? Или я не испытываю горя от этой страшной потери?» И вдруг он словно въявь услышал голос Касьяненко по телефону. «Нет, не горе, здесь другое, это важнее, это строгое и суровое...» — Владимир Александрович словно прислушивался к себе — это было веление души, — не оно ли, когда Дутов в восемнадцатом году подходил к их городку и дворам его, к Совету, заставило его получить винтовку и встать в ряды красных, против белых, не это ли движение подвигало его к действиям серьезным и ответственным в самые решительные минуты жизни? Теперь как раз наступила такая минута.
Он слушал восхваления Сталина, которые звучали в речи секретаря парткома, и ему хотелось сказать: «Ну хватит, хватит уже. Как ни велика утрата, Сталин не унес с собой источников нашей силы. Партия существовала до Сталина, на памяти нашей, представителей старшего поколения, она перенесла такой страшный удар, как смерть Ленина... Это должен сказать ты, иначе какой же ты представитель партии...»
Секретарь парткома сказал об этом вяло, смазанно.
Доставить делегатов к Дому Союзов должны были на автобусе. Пока проверяли паспорта, — процедура проводилась очень тщательно, — на улице быстро темнело, несколько раз принимался идти снег. К Владимиру Александровичу, который давно не показывался в Академии, подходили товарищи, справлялись о здоровье. Сомов подошел к Марковской, — еще до болезни он консультировал ее проект постройки академического городка в одном из республиканских центров, — тогда они сильно поспорили, и ему хотелось сейчас узнать, не сердится ли она. Ее женственно милое, все блестящее от слез лицо обернулось к нему, она схватила его за руку:
— Ах, Владимир Александрович, как мне отрадно сейчас вас видеть!
К вечеру совсем подморозило, окна автобуса покрылись мохнатой изморозью, и, когда машину останавливали на контрольных пунктах, нельзя было понять, где происходят эти остановки. И потому особенно резок показался переход от желтовато-тусклого света автобуса к ослепительно яркому свету нескольких юпитеров, под который они попали, когда вышли на улицу. Юпитеры своим гудением, казалось, сотрясали не только воздух, но и все вокруг, и под их неестественно сильным и неживым светом видны были лица людей, стоявших в очереди у одного подъезда, недвижные фигуры часовых у другого, пустого, к которому направили их делегацию, предложив построиться по двое. Гудение юпитеров придавало какой-то планетарный отпечаток тому, что происходило, и Владимир Александрович вдруг вспомнил строчки любимого своего стихотворения:
С восхищеньем смотрят марсиане На великих жителей Земли...В этом обесцвеченном, бездушно-белом свете видны были бесчисленные вереницы лиц, как на старинных иконах, лиц, словно уравненных этим светом, который подчеркивал их количественную значительность, их напряженность, их спрессованность происходящим.
Кто-то вдруг цепко схватил Владимира Александровича за рукав, — он оглянулся и увидел прорезанное глубокими морщинами лицо Антона Георгиевича Фивейского, его пергаментно-желтые щеки, синие губы, которые что-то шептали. Владимир Александрович нагнулся к нему.
— Мне плохо стало, Владимир Александрович...
— Может быть, вам лучше не ходить... — сказал Сомов.
— Нет, что вы, это никак нельзя, нужно проститься со всем, что было, и с величием, и с кровью... — Он всхлипнул. — Когда вы рядом, чувствуешь себя как-то увереннее, вы такой большой, надежный...
Лицо старика дернулось. И хотя у Владимира Александровича у самого щемило и холодело сердце, он взял старика под руку, и они пошли вверх по лестнице.
В том, как лежал Сталин, не было покоя. Похоже, что он как стоял в своем френче, невысокий, собранный, так вдруг и окаменел и окаменевший упал.
«Да, окаменел, не умер, а застыл, отлился в ту форму, которая выработалась при жизни», — подумал Сомов, проходя мимо.
Когда они вышли из Колонного зала, вокруг уже было темно, раздавались слезные всхлипы, трясся от беззвучных рыданий Антон Георгиевич, — а перед глазами Владимира Александровича неотступно стояла освещенная неживым светом, лишенная обычного величавого покоя смерти фигура...
Первое, что он увидел, выйдя из автобуса возле подъезда Академии, было бледное, все устремленное к нему лицо жены: платок небрежно наброшен на ее черные, с сильной проседью волосы...
— Володя, — сказала она, бережно принимая его в свои объятия. — Как я боялась, как боялась! Как же это я отпустила тебя? И как ты, ничего, перенес?
А когда они уже сидели в машине, Нина Леонидовна сказала:
— Ты знаешь, что случилось? Виктория родила девочку, и так неожиданно! Эта сумасшедшая старуха в самый решительный момент куда-то сбежала. Виктория так разволновалась, что у нее начались преждевременные роды, и представь, наша Лелька приняла ребенка, ну разве это занятие для девушки?
— А как Евдокия Яковлевна? — спросил Владимир Александрович, пряча улыбку.
— Да ее нашли, конечно. Железнодорожная милиция задержала, опять же нашли ее и встретили Леонид и Леля.
14
Еще находясь в родильном доме, Виктория получила огромный букет цветов «от деда и бабки», а также продолговатый сиреневый конверт, в котором содержалось предложение, чтобы Вика вместе с драгоценной Дунечкой (так было написано по настоянию Владимира Александровича) прямо из родилки переехала бы на московскую квартиру Сомовых. Виктория тут же в ответной записке поблагодарила за любезное предложение, но категорически отвергла его, и Леонид, которому она сообщила о своем отказе, с ней согласился.
Нина Леонидовна была возмущена, огорчена, удивлена... С момента, когда на свете появилась внучка, — как бы ее там ни звали, пусть даже Дунечка, — Нина Леонидовна почувствовала, что сердце ее повернулось в сторону новорожденной, и она представляла себе, как ужасна трущоба, в которую повезут ее внучку, ее первую внучку, прямо из родильного дома, и как страшно то, что девочка окажется на руках полусумасшедшей бабки, которая своей совершенно неуместной выходкой — так именовала ее припадок Нина Леонидовна — едва не загубила и мать и ребенка, «эту нашу крохотулечку».
— Ставить интересы своего самолюбия выше интересов ребенка, хороша же твоя женушка, — с негодованием говорила Нина Леонидовна сыну, возмущаясь Викиным письмом.
— Надо было умнее вести себя с Викторией Петровной, — сказал Владимир Александрович, когда Леонид, наговорив матери кучу неприятностей, точнее говоря, дав ей понять, чтобы она не путалась в их отношения, уехал, а Нина Леонидовна пошла жаловаться на него мужу.
— Но ты видишь, какая она дрянь!
Может быть, Нина Леонидовна рассуждала разумнее, чем кто-либо, но, несмотря на это, новорожденная Евдокия вместе с матерью водворилась в поселке Большие Сосны. И, сидя на руках у полусумасшедшей бабки Дуси, впервые в жизни увидела широченные желто-лимонные и багряные весенние закаты, зубчатую кромку синих лесов, поля, сначала черно-бурые, а потом нежно-зеленые.
Дунечка родилась рыженькая, с прозрачными, как у матери, зелеными глазами, но лицо было округлое, и по этой округлости все признавали в ней дочку Леонида Владимировича Сомова.
— Вся в Сомовых! — возопила Нина Леонидовна, увидев впервые Дунечку.
Теперь она усвоила с Викой слащаво-нежный тон, привозила огромные коробки конфет Евдокии Яковлевне, — она готова была на все, чтобы уничтожить пропасть, образовавшуюся между ней и семейством ее сына, но ничего не могла поделать. Советы, которые она давала молодой неопытной матери, — как кормить Дунечку, как пеленать и купать ее, — Вика выслушивала молча, но игнорировала. Она за все сдержанно благодарила Нину Леонидовну:
— Ах, зачем вы, ну к чему это!..
И сын привозил обратно домой и коробки конфет и плоские коробки с дамским бельем, которые дарила Вике Нина Леонидовна.
Единственно, кто мог, без всяких подарков, как своя, в любое время появляться на старой дачке в Больших Соснах, была Леля. Она часами проводила время с Викой, которая медленно поправлялась после родов. Они вели бесконечные женские разговоры, и Вика в который раз рассказывала Леле печальную историю о том, как она жила до знакомства с Леонидом. Да и Леля рассказала ей все — и о Борисе Миляеве, и о своих чувствах к нему. С грустной и насмешливой по отношению к самой себе улыбкой сообщила она Вике, что Борис недавно женился на Гале Матусенко.
— Вот так подруга! — с возмущением воскликнула Вика. Леля покраснела и промолчала.
Она помогала Вике нянчить Дунечку, с наслаждением купала ее, ловко принимая в мохнатую простыню пухлое распаренное детское тельце. И, глядя, как она ловко вытирает, пеленает и укачивает девочку, Евдокия Яковлевна говорила:
— Своего бы завела... — и в голосе ее слышалась беззлобная ревность. Ей, как и Нине Леонидовне, хотелось всецело завладеть Дунечкой.
Но вот при резком похолодании, наступившем в конце мая, бабка Дуся не уследила за изменением погоды, и у Дунечки началась пневмония. Как забеспокоилась и в то же время как торжествовала Нина Леонидовна, когда Леня привез из Больших Сосен эту тревожную весть! Но ведь Нина Леонидовна выросла в высоко образованной медицинской семье. Правда, отец ее, знаменитый врач, уже умер, но две сестры ее были врачами, и одна из них, старшая, Елена Леонидовна Дашевская, — светило педиатрии.
Леля получила задание привести эту больную, в седых кудрях старуху на помощь Дунечке. Елена Леонидовна очень любила Леню, но всегда пренебрежительно относилась к Леле, к ее увлечению живописью. Поклонница русской реалистической школы, она со времен, когда училась на Бестужевских курсах, привыкла смотреть на всякие левые течения как на баловство, и Леля была очень удивлена, когда на этот раз тетка отнеслась к ней весьма ласково. Причину этого изменившегося отношения Леля поняла сразу, едва машина тронулась. Тетка спросила:
— Ну-ка расскажи, милочка, о твоих акушерских подвигах!
Леля рассказала, — она любила рассказывать об этом, она словно переживала тот неожиданный восторг, который испытала в те необыкновенные минуты.
— Так, так, — одобрительно проговорила тетка. — А бицепсы у тебя потом болели?
— Болели, — призналась Леля, — и еще вот тут, — и она показала на запястье. — Это от неумелости?
— Что ты, наоборот! — оживленно возразила тетка. — Значит, правильно работала. Ты молодец, прямо молодец. Ведь я тоже начинала акушеркой и скажу, что у тебя то, что называется талант... Да ты не смейся! — сердито сказала она, хотя Леля и не думала смеяться. — Ты думаешь, чтобы малевать твои модные картинки, на которых не разберешь, где глаз, где нога, талант нужен? Нет, матушка! А в нашем деле не только талант, самозабвенье нужно, находчивость, смелость, вдохновенье...
— Конечно, конечно... — тихо проговорила Леля.
Некоторое время они ехали молча.
— Тетя, — сказала Леля застенчиво. — А что, если я... если я на акушерские курсы подамся?
Тетка всем телом вдруг повернулась к племяннице и поцеловала ее, кажется, впервые поцеловала так крепко, от души.
— И очень хорошо сделаешь! Подавайся, голубушка, подавайся! Это святое дело! Пусть будет и в четвертом поколении нашей семьи акушерка, хотя и не Дашевская, а все же... Милочка моя, умница, я ведь старая, но тебя еще выучить успею!
Так, не переставая разговаривать, доехали они до Больших Сосен, и, даже когда машина засела в двадцати метрах от дома и Елене Леонидовне пришлось брести по ужасающей грязи, это не испортило ее настроения.
Елена Леонидовна одобрила действия участкового врача. Молоденькая девушка-врач, которую весь поселок называл Майка Лепилова, кроме того, что была детским врачом, славилась еще как капитан большесосненской баскетбольной команды. Елена Леонидовна, к удивлению и тихому негодованию Нины Леонидовны, стала величать эту белобрысую, без бровей и с яркими карими глазами девушку Майей Андреевной, а когда та ушла, сказала, что она и своего родного внука доверила бы этой девушке!
Впрочем, Елена Леонидовна могла говорить все, что угодно, но Нину Леонидовну теперь невозможно было выжить из Больших Сосен. Она поселилась там на все время болезни ребенка, а так как смешно было уговаривать родителей перевозить Дунечку на лето в центр города, то Нина Леонидовна сняла неподалеку дачу, утверждая, что это необходимо Владимиру Александровичу, который — все в семье это знали — терпеть не мог дачного житья. Но не могла же Нина Леонидовна доверить жизнь любимой внучки сумасшедшей старухе, несговорчивой невестке и подбашмачнику сыну!
Между тем, хотя Виктория и впрямь не жаловала свою свекровь, она вынуждена была прибегать к ее услугам. Как только врачи ей разрешили, она вышла на работу, — ведь на заводе довершалось большое дело, начатое по ее инициативе. Теперь она нередко кормила девочку в конурке мастера, куда ее приносила Евдокия Яковлевна. Потратив на это дело полчаса, Вика снова бежала к станку. Конечно, это возмущало Нину Леонидовну, которой все дела Виктории казались несущественными по сравнению с одним — с кормлением Дунечки, как она теперь с нежностью называла внучку. Но она боялась вмешиваться в жизнь сына и его жены. Только по вечерам изливала она свою досаду молчаливому и как всегда добродушному Владимиру Александровичу. Но в душе она радовалась, что эти дела заставляют Вику целые дни пропадать на заводе и потому дают возможность ей, Нине Леонидовне, если и не безраздельно, то, во всяком случае, весьма активно заниматься воспитанием обожаемой Дунечки.
А для Виктории теперь все было завязано в один крепкий, стянутый рукою жизни узел: и ее любовь к Леониду, и их совместная работа на заводе, где она была лучшей помощницей мужу, и их общая любовь к маленькой дочке.
Настало время длинных вечеров, когда трое стариков, словно у одного огонька, собирались возле рыженькой девочки, блаженно мурлыкающей что-то свое, между тем как звезды падали с неба и огромный город грохотал и взблескивал зарницами вдали, а невидимый самолет проносил высоко над землей свои зеленые и красные огоньки... Потом слышалась быстрая поступь, молодые голоса, — чаще Лёнин, чем Викин, которая говорила тихо, и на столике под рябиной становилось еще оживленнее, возникали разговоры о том, что напечатано в газетах. А поговорить было о чем...
15
Владимир Александрович был настолько поглощен работой, что, когда ощутил руку, положенную ему на плечо, вздрогнул и поднял глаза, — Алексей Алексеевич Касьяненко, посмеиваясь, стоял перед ним.
— Вы? — удивленно спросил Владимир Александрович, вставая с места. — Как это я не слышал, что вы вошли? Кто открыл вам?
— Дочка твоя, мы с ней столкнулись у подъезда, и она открыла дверь своим ключом. Чем это ты так поглощен?
— Так, от безделья рукоделье... Старая работа.
— Так, так... — Касьяненко перелистнул толстый лист альбома, — занятно получается. Но, — он энергично отодвинул альбом в сторону, — безделье кончается, Володя. Вот, пожалуйста...
Владимир Александрович взял выписку из протокола, там значилось, что тов. Сомов Владимир Александрович, член партии с 1919 года, переводится из Академии градостроительства на работу в Комитет по строительству при Совете Министров...
— Ну вот, доволен? — спросил Касьяненко. — Это занятие, незаменимое для пенсионеров, придется тебе отложить лет этак на двадцать... Что это у вас в доме как-то нежило стало?
Владимир Александрович пожал плечами.
— С того времени, как жена стала бабушкой, она перебазировалась к внучке...
— А ты разве себя дедушкой не почувствовал? По-моему, симпатичное состояние.
— Да как-то абстрактно, немного удивительно... Давно ли сын Леня в коляске лежал, а теперь внучка Дунечка...
— Дунечка? Хорошее имя. Что ж, не заметишь, как Дунечка твоя невестой станет, будут к вам ходить такие лохматые, усатые... Ах, Володя, быстро летит жизнь! Летит. Давно ли Сталина похоронили, а жизнь летит вперед, успевай поворачиваться. И какие дела начинаются, какие дела! Все, что за последние годы запустили, все придется наверстывать. И тот из коммунистов, кто это понимает, тому, что называется, и карты в руки. А кто не понимает, — он сделал энергичный жест, — того долой! Конечно, арестовывать никого не будут, прошли эти времена, наоборот, все нужно сделать так, чтобы ни одного человека не потерять!
— Ты уверен, что арестовывать не будут? — спросил Сомов.
— Уверен, Володя, уверен! Более того, все, кто был арестован, все будут выпущены. Это — первое дело.
— Речь, кажется, идет об уголовниках? Амнистия какая-то? — продолжал Сомов.
— Володя, нужно смотреть дальше! — сказал Алексей Алексеевич, и в голосе его появились учительные оттенки. — Ведь мы уже толковали с тобой, началась новая полоса в истории Советского государства. За последние годы мы заскорузли, окостенели, разминаться нужно. Для этого нужно старые ошибки исправлять. Ты не видишь, как они исправляются? Международные дела... Сельское хозяйство... Я к себе этого маньяка Крылатского забираю, пусть переведет деревню на городской лад, пусть... Но главное, что люди, которые несправедливо пострадали, это настоящие советские люди, они и в заключении как величайшего счастья домогались работы на пользу советской родине, они помогали нам строить новые города за Полярным кругом, разведывать сокровища недр. Мало того что надо вернуть всех несправедливо осужденных, нужно залечить душевные раны тех людей, родные которых уже не вернутся, нужно и в отношении погибших проявить справедливость, снять позорное пятно... И все это уже делается, подготовляется, по-ленински, революционно! Володя, во всех областях жизни сейчас пойдет движение, и у нас тоже. Эпоху, в которую мы живем, назовут эпохой социалистического градостроительства... Ах, ты скептически качаешь головой, ну, сейчас с тебя вся спесь соскочит...
Он сунул руку в карман и, сияя глазами и улыбаясь, достал из кармана сложенную бумагу и стал ее быстро разворачивать перед Сомовым. Владимир Александрович узнал карту, или, вернее сказать, план одного из окраинных районов Москвы.
— Вот смотри... Узнаешь? Здесь линия железной дороги, здесь заболоченная пойма Москвы-реки, непросыхающие болота, здесь вырубленное пространство, когда-то тут был густой, чудесный лесопарк, который начали рубить еще в гражданскую войну и доконали в первую пятилетку, — нужно было бараки строить. Только спохватились, тут война, и пришлось последние остатки свести. За это время здесь построено несколько заводов, около них возникли пребезобразнейшие поселки, вот тут уродливейшие нагромождения старых дач...
Владимир Александрович вдруг засмеялся, так он смеялся, когда бывал счастлив, — слабо, с придыханием.
— Что ты видишь в этом смешного? — с недоумением и даже с негодованием спросил Касьяненко.
Владимир Александрович, закашлявшись, со смехом показал на карту.
Алексей Алексеевич пригнулся и прочел:
— Станция «Большие Сосны». Ну и что же тут смешного? Да эти Большие Сосны и станут центром огромного района, который тебе придется планировать, возможно, что тебе придется там обосноваться...
Владимир Александрович рассмеялся еще пуще.
— Не понимаю, что тебя так смешит?
— Да там внучка моя живет, в Больших Соснах, Дунечка...
— Дунечка? — с недоумением повторил Алексей Алексеевич. — Так что же тут смешного? Ведь это все и будет для Дунечки!
— Так Нина Леонидовна там уже дачу сняла, — вытирая слезы, выступившие на глазах, и прокашливаясь, сказал Владимир Александрович. — И все уговаривает меня туда переехать.
— Что ж, придется переехать, вижу в том перст! — тоже смеясь, сказал Алексей Алексеевич.
Август 1959 г.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

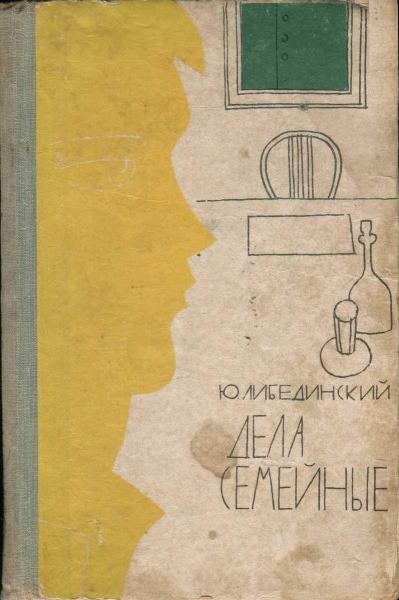


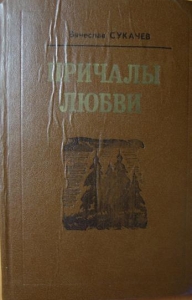
Комментарии к книге «Дела семейные», Юрий Николаевич Либединский
Всего 0 комментариев