Платонов тупик
ПОВЕСТИ
ПЛАТОНОВ ТУПИК
1
Крупнейшая узловая станция Ясиновка задыхалась от перенапряжения. День и ночь сплошным потоком на запад гнали порожняк, воинские эшелоны — солдат, технику. Обратно таким же сплошным потоком шли составы с заводским оборудованием, разным домашним скарбом, с беженцами в теплушках, а чаще — прямо на открытых платформах, поверх станков, ящиков, мешков. Замедляя ход на стрелках, бережно несли свой груз пахнущие хлороформом санитарные поезда. В открытые окна выглядывали перебинтованные солдаты с бледными испуганными лицами. Они смотрели на мир как-то удивленно и растерянно. Если поезд останавливался, его тут же окружали и стар, и млад, тянули раненым куски хлеба, помидоры, и те с обреченной покорностью принимали еду, стеснительно благодарили. И всем хотелось узнать от раненых, будто они только вчера с передовой, как там на фронте.
— Прет… — отвечали раненые коротко и неопределенно.
— Техникой прет — танками, самолетами, — добавлял кто-либо из более разговорчивых. — Минометами…
— А что же наши? А наши что?..
На этом разговор обрывался. Поезд мягко трогался, народ медленно разбредался до следующего эшелона. Многие дежурили на станции постоянно — высматривали своих.
На многочисленных путях станции скапливались бесхозные вагоны и целые составы с грузами для западных областей, которые уже были заняты противником. Вагоны загонялись в тупики и на запасные пути до особого распоряжения, «до выяснения». Но распоряжения о переадресовке где-то проворачивались очень медленно — и вагонов накапливалось все больше и больше, все пути уже были забиты до отказа.
Сначала задерживались грузы, адресованные в Ужгород, Львов, Кишинев, потом пришел черед других городов: война быстро и упорно ползла в глубь страны.
Все меньше отправлялось вагонов с мирным грузом в западном направлении, все больше шло воинских эшелонов с людьми, с техникой, с боеприпасами и опять — с людьми, с людьми… Уходили безвозвратно, будто в пропасть: скрывались за переездом и исчезали навсегда.
Поезда толпились у входных и выходных светофоров, начальники эшелонов брали штурмом диспетчеров, дежурных по станции, военных комендантов — требовали быстрейшей отправки. Все торопились, у всех было времени в обрез. Одним надо было поспеть вовремя на фронт, другим, наоборот, поскорее уйти подальше в тыл и там где-то на пустыре развернуть завод и давать продукцию для того же фронта.
В станционных кабинетах стояли крик, шум, ругань.
Шла война, шли ее первые месяцы — неожиданные, тяжелые…
Уже вторую неделю Платон не был дома, попросил — ему принесли подушку и одеяло, и он тут, у себя в кабинете, теперь дневал и ночевал. Даже мылся последний раз в деповской душевой. Грузный, обычно медлительный, вальяжный, Платон похудел, стал быстрым, вертким, в кресле почти не сидел — разговаривал стоя, сам бегал в диспетчерские, расшивал пробки, на ходу принимал посетителей, отдавал распоряжения. Себе не давал покоя и заместителей своих, помощников загонял вконец.
— Черт пузатый, — ворчали те, удивляясь: и откуда столько энергии у человека?
Платон будто пробудился, будто второе дыхание обрел: война, чрезвычайное положение удвоили его силы, обострили в нем чувство ответственности. Правда, он и раньше не мог работать без «огонька», и раньше отдавал делу всего себя, но теперь просто горел, сгорал без остатка.
В сутки ему приходилось решать сотни самых сложных задач, и он решал их быстро, четко и, главное, верно. Мозг его работал легко и ясно, и потому легко и ясно работалось с ним его подчиненным. Хотя по натуре он был человеком грубоватым, тем не менее ии разу не сорвался на крик, ни разу не дошел до предела.
А напряжение с каждым днем все нарастало, пружина войны сжималась все туже. Уже задерживались грузы, адресованные в Кривой Рог, Киев…
Дни и ночи смешались.
В кабинете толклись военные и гражданские — представители заводов, каких-то ведомств. Одни требовали, другие просили, третьи угрожали сообщить «куда следует».
Сквозь толпу к столу протиснулся начальник отдела кадров — седенький старичок в форменном залоснившемся на локтях кителе, положил перед Платоном клочок бумаги. Платон скосил глаза на записку:
«Ваша жена никак не может дозвониться до Вас. Срочно просила позвонить. Какое-то очень важное дело».
Прочитал, кивнул старичку и продолжал стоять, уперев, словно для прочности, обе руки в стол, сурово смотрел вниз, слушал очередного просителя и соображал, как ему помочь.
Он с полуслова понимал нужды каждого, и дальнейшее словоизлияние ничего не прибавляло: машзаводу нужны платформы, а НИИ стали — один крытый вагон. Молодой лейтенант из себя выходил, требовал скорее отправить его эшелон: спешит на фронт. Все правы, всем надо.
— Вы ответите за задержку! Вы понимаете? — горячился лейтенант.
— Понимаю. Отвечу, — говорил Платон спокойно. — Понимаю: литерный, военный, срочный. А может, мы сейчас пройдем в парк отправления и вы мне покажете хоть один невоенный или несрочный состав? Сейчас все военные и все срочные. — Обратился к представителю машзавода: — Десять платформ вас устроит?
— Пока да.
— В первом тупике состав из десяти платформ с песком. Песок экспортный. Выгрузить его надо не просто под откос, а на приличную площадку. Сделаете?
— Сделаем.
— Берите. — И тут же отдал распоряжение выгнать песок из тупика на заводскую ветку. — НИИ? У ремонтного депо стоит больной двухосный вагон. Посмотрите: сами подлечите — берите. Другого пока нет.
— А надо мной, я вижу, вы издеваетесь? — снова подступил к нему лейтенант. Новенькие ремни на нем скрипели, красненькие кубари в петлицах горели рубиновыми огоньками.
— Нет, — спокойно ответил Платон. — Все идет по графику.
— Как же «нет»? За это время уже отправлено несколько поездов. Из них один порожняк и один с железными чушками.
— Все верно. Но, к вашему сведению, чушки — это завтрашние снаряды, без которых вам на фронте делать будет нечего. А порожняк пошел, чтобы вывезти уникальные станки оборонного завода. Вывезти на восток и там в кратчайший срок развернуть производство. Так что сейчас все военное. И неизвестно еще, что важнее: то ли тот порожняк, то ли ваш эшелон с легковыми автомобилями.
Лейтенант взглянул на Платона, смутился: не думал, что тот знает, какой груз в глубоких пульманах его эшелона.
— Но не будем… Наверное, сейчас там нужны и легковые. Идите к своему эшелону, через две минуты отправитесь.
Лейтенант растерянно оглянулся, поправил пилотку и почти бегом выскочил из кабинета. К столу подступили другие.
2
Давно уже заметил Платон — у входа переминается с ноги на ногу его племянник, Васька Гурин, ждет, когда народ схлынет, подумал: «Долго ждать придется. Это же он, наверное, еще утренним поездом приехал… Зачем? Что-нибудь случилось? Так не мялся бы в дверях…» И вдруг вспомнил: «Он же, говорили, еще в первые дни войны в армию ушел… Добровольцем».
— Василь, — позвал Платон. — Ты зачем тут? Откуда?
— Да я… Потом… — застеснялся Васька и спрятался за спины посетителей.
— Ну потом так потом.
Платон быстро расшил утренний наплыв людей, подозвал Ваську:
— Что у тебя, говори, а то мне некогда: в депо надо сбегать, никак не выберусь.
Васька подошел к столу:
— На работу хочу поступить…
— Ах, вот оно что! Но ты же, говорили, в армию ушел? Сбежал, что ли?
Васька криво усмехнулся:
— «Сбежал»… Не получилось с армией. В Славянске нас всех, молодых ребят, кто не служил в армии, отделили от остальных и послали на оборонительные работы под Лозовую. Рыли противотанковые окопы. Много народу нагнали. А под конец налетели фашистские самолеты и смешали все с землей. На нашем участке. На других — не знаю, а у нас много побило, поранило. Кто уцелел — тех на другой день распустили по домам. И меня тоже. Капитан, который работами руководил, сказал: «Дуй домой, пока есть возможность. Дома в военкомате заяви о себе. Если там будет еще кому заявлять». Ну, вот я и подался. От Лозовой до Синельниково на товарняках, а тут — в один день доехал.
Слушая Ваську, Платон машинально взглянул на огромную карту железных дорог на стене: «Лозовая, вот она, совсем недалеко… Уже бомбил ее… Ясиновку пока не тронул…»
— Значит, ты уже понюхал войну? А я подумал: от армии хочешь увернуться, бронь получить. Так бронь дают только специалистам…
Васька вспыхнул, заговорил с гневом и досадой:
— Ни от чего я не хочу увернуться. В военкомате взяли на учет и сказали: «Жди повестку». Три дня уже жду. Вчера пошел — прогнали. «Не мешай, — говорят, — работать, дойдет очередь и до тебя». Когда дойдет — неизвестно. А бронь мне ваша и даром не нужна. Так и знал, что подумаете… Это мама послала: «Иди, — говорит, — делом каким займись, не так маяться будешь». А то пошел бы я к вам… — сказал он запальчиво и отвернулся.
— Обиделся?.. Ну, извини, пожалуйста. Тут, брат, разные приходят… Куда же тебя определить? — задумался Платон. Вызвал начальника отдела кадров, приказал сухо:
— Оформите. Техническим конторщиком в западный парк отправления. — Ваське пояснил: — Списчиком вагонов. Справишься?
Двинул плечами Васька: понятия, мол, не имею. Да и что это за работа такая? Спросил:
— Что списывать?
— Номера вагонов. Состав сформируют, вытащат в парк отправления, а ты должен быстро списать все номера вагонов и подобрать документы. — Платон увидел записку, которую ему еще в первый свой приход положил этот старичок кадровик, заторопился: — Ничего, справишься. Дело нехитрое. Иди оформляйся. — И когда старичок увел Ваську, позвонил домой. Трубку сняла дочь, третьеклассница. — Клара? Здравствуй, доча. Позови маму быстренько. Она мне звонила зачем-то?
Девочка узнала отца, упрекнула:
— А ты почему домой совсем перестал приходить?
— Некогда, дочка. Работы много. Так где там мать?
— А дома никого нет, все в военкомате: Федора нашего на фронт забирают, пошли провожать его.
— Давно ушли?
— Нет, недавно.
Платон повесил трубку, схватил фуражку, в приемной секретарше на ходу сказал:
— Если что — я в горвоенкомате, буду через час. — И не выдержал, добавил: — Сына в армию берут.
И побежал — через пути, через стрелки. На горку подавали состав — на ходу через тормозную площадку перелез на другую сторону и дальше — по улице, мимо опустевшего рынка, в центр.
Военкомат можно было узнать издали — теперь там каждый день столпотворение: призывники, провожающие.
Несмотря на многолюдье и толкотню, здесь стояла необыкновенная тишина — торжественная и печальная, как на похоронах. Ни гармошек, ни пьяных прощальных песен, лишь изредка вдруг взрывался женский голос — не выдерживало чье-то материнское сердце. Взрывался и тут же, словно устыдившись, умолкал, затухал на груди сына, мужа или отца.
Платон шел сквозь толпу, искал своих. У изгороди жались заплаканные женщины, сосредоточенно курили сдержанно-суровые мужики, шастали туда-сюда растерянные и возбужденные ребятишки. На другой стороне улицы на тротуаре и на проезжей части группами толклись новобранцы, ожидая распоряжений. К одной группе подошел военный с листком бумаги в руке, громко объявил:
— Команда номер один!.. Слушай перекличку. Кого назову, отвечайте «я» и становитесь в колонну по четыре. — Он показал рукой, где нужно строиться, и принялся выкрикивать фамилии.
Только первый ответил «я», остальные отзывались кто как привык: «здесь», «есть», «тут» и даже «ага». Но военный не обращал на это внимания, следил лишь, чтобы отозвавшийся стал в строй, и только после этого называл следующего.
Платон шел, кидая глазами по сторонам, искал Федора среди молодых групп, но нигде его не находил. Наконец почти у самых военкоматовских ворот увидел жену и младшего сынишку — Женьку. Возле них на земле лежал новенький черный, из чертовой кожи рюкзак. Жена смотрела не спуская глаз на двери военкомата и не заметила, как подошел Платон. Он легонько тронул ее за плечо, она вздрогнула, оглянулась:
— Ой, кто это?.. Думала, Федя… Пришел? — Она смотрела на Платона покрасневшими глазами, силилась сдержать слезы и не могла, губы дрожали, слезы катились по щекам. Хотела что-то сказать, но только рукой махнула и отвернулась, вытирая глаза.
Платон успокаивающе сжал ее плечо, удивился про себя: жена совсем сдала — похудела, щеки впали, под глазами синие ободья. Спросил:
— Где Федор?
Ответил Женька:
— Пошел туда, — и кивнул на здание военкомата.
Платон приобнял сына, прижал его голову к себе, подержал с минуту, будто сказал: «Так-то, сынок… Держись!..» — и отпустил.
— Сходил бы узнал, что там, — попросила жена Платона.
— Да что там? Известно… Мешать только. Придет — сам все расскажет… — Однако не спеша направился в здание и вскоре вышел оттуда с Федором.
Федор, плотный, коренастый, с густыми черными бровями, весь в Платона паренек, улыбнулся матери ободряюще:
— Все в порядке!
— Что «все в порядке»?
— Ну, отдал повестку и паспорт. Сказали: «Жди на улице. Вызовем. Твоя команда номер семь». Так что надо прислушиваться, чтобы не прозевать.
Мать взглянула на Платона, тот отвел глаза в сторону, сказал Федору:
— Не прозеваем… Они выкликают громко.
— Значит, берут все-таки? — упавшим голосом спросила мать.
— Во! — удивился Федор. — Ну а как же? Я же не инвалид, — и обернулся за поддержкой к отцу.
— Может, пошел бы похлопотал? — сказала она Платону.
Платон недовольно отвернулся, потом сказал ей тихо:
— Маруся, не надо… Не выдумывай…
— Он же мальчик еще, дитё.
Федор покрутил головой, крякнул досадливо:
— «Дитё»… Если бы не война, я уже давно был бы в армии. «Дитё». Всех берут, а я — дитё?
Мать смотрела на него, качала головой. Худенькая, заплаканная, у нее, казалось, уже не осталось и сил, чтобы сказать ему что-то, и она смотрела на сына молча, словно хотела насмотреться напоследок.
— Не слышали, какую команду увели? — спросил Федор.
— Первую только еще, — сказал отец. — Успокойся, без тебя не уйдут.
— Не, — возразил Женька. — То уже четвертая была, они не по порядку вызывают.
— Скорей бы уже… — Федор отошел к штакетнику, прислонился к нему спиной: — Хуже всего — долгое провожание.
— Ничего, потерпи, — сказал Платон. Обратился к жене: — Устала? Может, пошла бы домой? А я побуду тут до конца. Провожу.
Ничего не сказала жена в ответ, только рукой слабо отмахнулась, подошла к Федору:
— Ты ж пиши почаще, не ленись… Каждый день пиши. Тетрадку, карандаш взял?
— Взял. Да ты, ма, не убивайся так. Смотри, сколько берут. И стариков, и молодых. — Для него тридцатилетние уже были «старики». — Ведь не одного меня?
— У меня ты один, — сказала Мария.
— Не один! Вон Женька еще есть, Виталька.
— Да, а где Виталий? — вспомнил Платон о среднем сыне. — Почему он не пришел провожать?
— Придет. Я его послал по одному делу, — сказал Федор и улыбнулся смущенно. Сквозь плотный загар на его щеках проступил густой румянец. — Да вот и он! — Федор быстро пошел Виталию навстречу, но, будто не видя его, пропустил брата мимо себя, остановил шедшую за ним девушку. Разговаривая с Федором, девушка время от времени через его плечо посматривала на родителей, и Мария заметила, что она курносенькая, что лицо у нее в конопушках, а волосы расчесаны на пробор и заплетены в две косы.
Платон деликатно отвернулся и стал смотреть в другую сторону, заметил жене вполголоса:
— Маруся, не мешай им, пусть поговорят.
Высокий, длинноногий, не в отцову, а в материну родню, Виталий подошел к отцу, обнял его:
— И батя здесь! Бать, ты бы похлопотал за меня? Тебя же везде знают! Пусть и меня возьмут — вместе с Федором будем служить. А? Я ходил, просил — ни в какую!
— Еще чего выдумал! — ужаснулась Мария.
— Да ты, ма, вечно никуда не пускаешь. — И снова к отцу: — Пойди?
Платон взглянул сыну в глаза, спросил:
— Сколько тебе лет?
— При чем тут это? Ты смотри на рост. — Виталий отступил от отца на два шага. — Ну?
— Ростом ты вымахал, а лет-то тебе? Всего пятнадцать.
— Ну и что? Гайдар в шестнадцать лет полком командовал.
— Было время… Знаешь, я думаю, этой войны хватит и на тебя — только началась и катится она пока в эту сторону. А когда-то этот вал должен остановиться и начать откатываться в обратном направлении. Так что и до тебя еще дойдет очередь, навоюешься. А пока ты — резерв, людской резерв нашей армии.
— Да ты что?! — Виталий вскинул обе руки. — Вот подойдут главные силы и так долбанут, что и все, конец Гитлеру!
Платон оглянулся — слишком громко они стали разговаривать, сказал спокойно:
— Хорошо бы…
— Ты что, не веришь?
— Верю, верю… — Но когда Виталий снова начал что-то говорить об окончательном и быстром разгроме фашистов, резко оборвал сына: — Ладно, оставим этот разговор. Твое дело сейчас учиться.
— Ага, стишки учить, задачки решать. Этим самым я внесу свой огромный вклад в разгром врага, — копируя голос учительницы, произнес Виталий.
Платон невольно улыбнулся:
— А если всерьез, то это действительно так: каждый на своем посту делает свое дело.
— Какой там «всерьез»? Никто не хочет меня понять всерьез, и ты тоже, — Виталий досадливо махнул рукой, стал смотреть на присмиревшую толпу.
Из дверей военкомата вышел военный с листком бумаги в руке, громко объявил:
— Команда номер семь — ко мне! Седьмая команда!..
И вдруг все задвигались, засуетились, кто-то кого-то стал окликать, послышался плачущий голос женщины. Платон и Мария как по команде оглянулись на Федора, который уже спешил к ним, на ходу говоря что-то девушке. Девушка, робко переступая, медленно шла за ним. Федор подхватил вещмешок и ринулся к военному.
— Да погоди, куда же ты! — простерла к нему руки Мария. — Попрощайся хоть…
Федор смутился, вернулся к матери, оправдываясь:
— Я еще подойду к вам…
— А как нет? — И она обняла его, плача стала целовать в губы, в глаза. Федор крутил головой, пытался освободиться от ее объятий — ему было неловко: ведь все это наверняка видит и она, та, курносенькая.
— Мам, не надо… Ну хватит, мам…
Тут уж Платон вынужден был вмешаться.
— Успокойся, Мария… Успокойся… Дай же и мне проститься… — Она отстранилась, Платон протянул Федору руку: — Ну, сынок… Пусть тебе повезет. Главное, не унывай, что бы с тобой ни случилось — не унывай. И будь готов к самому трудному, самому тяжелому, тогда и самое-самое покажется тебе не таким уж страшным. — Платон расставил руки: — Ну, прощай! — обнял сына крепко, переждал, пока подступивший к горлу ком растаял, отпустил.
И тут же Федора за обе руки схватили братья. Виталий обнял брата за шею, а Женька прижался щекой к его руке.
На этом прощание закончилось, Федор попятился от своих, отступил на шаг, на другой, поднял руку — из-за отцова плеча ему прощально улыбались глаза любимой, помахал ей, она ответила ему, и он решительно повернулся и побежал к лейтенанту.
Здесь уже шла перекличка, новобранцы занимали свои места, Федор хотел еще раз оглянуться на своих, но не успел — назвали его фамилию, и он, откликнувшись, встал в строй.
Провожающие тесной толпой сгрудились возле военного, и тот вынужден был обращаться к ним с просьбами, чтобы не мешали. Но просьбы эти мало помогали, и то один, то другой подбегали к строю, совали что-то в руки новобранцам, давали какой-то последний наказ, невольно возникали переговоры, шум, толкотня. И тогда военный, быстро закончив перекличку, подал команду: «Равняйсь!» — и тут же: «Смирно!» Выдержал небольшую паузу, сказал: «Вольно». Лейтенант был суров и почему-то скован, старался не отвлекаться от своего дела, на вопросы родителей: «А куда их погонят? А скоро ли будет отправление и откуда? Их повезут эшелоном или они пешком пойдут?» — не отвечал, будто не слышал. А когда уже было не отвертеться, бросал коротко: «Не знаю». Прошел вдоль строя, спросил:
— Жалобы, просьбы есть? Нет… — Оглянулся на военкомат, кликнул: — Сизов!
К нему подбежал солдат, лейтенант отобрал у него свою шинель и вещмешок. Шинель кинул на левую руку, вещмешок забросил за плечо, предупредил всех:
— Во время движения из строя без разрешения не выходить. На-пра-во! Ша-гом арш! — И, кивнув солдату, чтобы тот остался в хвосте колонны, заторопился вперед.
Колонна нестройно, неумело тронулась с места, завыли, запричитали женские голоса. Толпа колыхнулась и тоже двинулась вслед за колонной.
Платон со своей семьей дошел до поворота улицы, остановился, помахал сыну. Жена понукала его идти дальше — все, мол, идут, но он не двинулся:
— Оставь, Мария. Ведь ты не знаешь, какая тяжесть для него эти проводы. Пусть… Все, теперь уже не вернешь и последними минутами на надышишься, только душу будешь рвать ему и себе.
— Эх, было бы как давным-давно когда-то, — сказал Виталий, — когда за старшего женатого брата на войну мог идти младший, я пошел бы сейчас…
— За какого женатого? Ты что болтаешь? — Мария посмотрела на Витальку и оглянулась, ища девушку, с которой прощался Федор. — А где же эта девочка? Даже не познакомились в суматохе. Неудобно как-то…
Платон тоже заозирался, поискал ее в толпе, уходящей вслед за колонной, увидел далеко впереди знакомую головку, хотел догнать или окликнуть ее, но почему-то не сделал ни того, ни другого. Жене сказал:
— Ничего, вернется Федор целым — познакомимся.
— Ма, я пойду вслед, провожу…
— Иди, — разрешил за нее Платон. — И ты беги, если хочешь, — оглянулся он на Женьку. — Я мать отведу домой.
Ребята тут же побежали догонять колонну.
3
Платон и Мария шли медленно, он держал ее под руку, хотел утешить, но слов не находил — неуклюж был в таких тонких делах и оттого сердился на себя. Вспомнил Васькин визит к нему, обрадовался — есть о чем говорить:
— Васька был сегодня у меня…
Мария молчала — то ли не расслышала, то ли не хотела отвлекаться от своих дум, и он добавил:
— Нюркин парень, сестры моей…
— Он же в армии? — отозвалась Мария и посмотрела на мужа.
— Был. На окопах был под Лозовой, их немец разбомбил, он прибежал домой. На работу просился…
— В Лозовой уже немцы?
— Да нет, бомбили… С самолетов, — пояснил Платон. И добавил уверенно: — Узел, наверное, хотел вывести из строя: Лозовая — большая узловая станция. — И подумал: «Ясиновка — не меньшая… Не надо было говорить ей об этом, только страху нагнал…» Но Мария спросила совсем о другом:
— Что же это будет? Говорят, Киев уже немец занял?
— Нет, враки! — нерешительно возразил он, хотя знал, что грузы на Киев уже давно задерживаются. — А если и случится такое, это еще ничего не значит: Киев на той стороне Днепра, а через Днепр его ни за что не пустят. Днепр — большая водная преграда…
— Говорили, что наши отступают только до старой границы, а там — укрепления. А вышло вон как…
— Значит, не успели закрепиться. А Днепр — это последний рубеж. Дальше нельзя, дальше ведь Донбасс! А это — уголь, металлургия, основная, можно сказать, военная промышленность здесь… — Платон говорил это не просто для утешения жены, он сам верил в такую стратегию, верил, что дальше Днепра война не пройдет. — Не надо только паники, — зачем-то добавил он. — Я же вижу, сколько войска нашего туда идет, сколько техники!
— А мужиков уже берут всех подряд…
— На всякий случай. Это правильно делают.
— Ты как Виталька, тот одно: скоро немца погонят обратно — и война кончится.
— Ну, сравнила! — обиделся Платон. — У Витальки мальчишеская бравада, а я тебе говорю о вещах, которые основаны на фактах.
— На каких фактах?
— На разных… А то, что Виталька так настроен, это хорошо, и разубеждать его не надо: паника — хуже всего. Не надо паниковать, — повторил он.
— Паникуй не паникуй, а беда пришла большая. Вон беженцев сколько — смотреть на людей больно: дети, старики… Голодные, одеты кто во что… А зима придет?
— Кто же говорит? Война…
— Не пришлось бы и нам?
— А вот этот разговор лишний. И мысли себе такой не допускай, а тем более такие разговоры. Не надо, — отрывисто сказал он и умолк.
Дома Платон уложил жену в постель, хотел было тут же уйти, но Мария остановила его.
— Прикрой дверь, — сказала она сухо. — А теперь скажи мне: ты совсем уже перебрался к этой своей сучке?
Платон поморщился, оглянулся на дверь.
— Боже мой, ну о чем ты?!
— Все о том же. Ты скажи прямо: да или нет, чтобы я знала и детям могла объяснить…
— Детей-то хоть не заражай своей фантазией.
— «Фантазией»… Будто они маленькие. Они сами все видят и все понимают.
— Что видят, что понимают? Видеть-то нечего, одно лишь твое воображение. Нет у меня никого и… не было… — И тут Платон почувствовал, как на последнем слове голос предательски дрогнул. Лгал он — было. Была у него зазноба — красивая стерва, как он сам ее величал про себя, и ласковая. Тошей звала, Тошкой. Сам-то он не любил эти «телячьи нежности», и назови его кто-либо другой так, он бы искренне обиделся: «Что я, собака, пудель какой-нибудь?» Но ей прощал, не возражал, — лишь бы при людях где-либо не ляпнула. Вот бы позор был: такой солидный, такой важный мужик, и вдруг — Тошка! Слава богу, на людях они с ней не встречались, и она, молодец, не требовала от него обнародования их связи, понимала его положение. И вообще Эмма была нетребовательной — только бы он любил ее. Хотя могла бы и покапризничать: красавица, культурная, чистюля, тело у нее нежное, бархатистое, белое с розовым оттенком. И настолько было ему с ней хорошо и естественно, что он даже не чувствовал угрызений совести… Один раз, правда, намекнула: переходил бы он к ней жить навсегда — ведь им так хорошо вместе, но он решительно отверг это предложение: «Нельзя мне. Жена, дети… Как я их брошу?» И про себя добавил: «А еще партийность и должность — как бы все это не полетело потом вверх тормашками»…
После этого долго не ходил к ней, боялся, как бы не засосало его окончательно.
Так что — было! И шила в мешке не утаишь, прознала об этих похождениях Мария, стала упрекать, а он как-то легко отнесся к этому — и не отрицал и не признавался в своем грехе. На упреки жены отшучивался: «Ну, а хоть бы и оскоромился! Что я, слиняю? Ну-ну, успокойся, то я так, шучу!..»
А ведь было далеко не в шутку, но в последнее время все это как бы даже прекратилось — стало не до любовных утех. Встретил ее как-то случайно — а может, и не случайно, может, она нарочно искала с ним встречи, — кинулась к нему:
— Тоша, ну где же ты пропал?
Он оторопел, оглянулся по сторонам, глянул на нее строго:
— Ты что, сдурела: а вдруг знакомые рядом?
— А мне все равно, я больше не могу, — страдальчески произнесла она.
— Перестань. Возьми себя в руки, — резко оборвал ее Платон.
— Не могу, соскучилась. — Она смотрела на него большими влажными глазами, играла умоляюще бровями, нежные губки ее призывно подергивались. Эмма достала из сумочки платочек, промокнула осторожненько глаза, поморгала длинными ресницами, улыбнулась: — Не буду. Ты ведь не любишь, когда я плачу… Когда придешь, Платоша?..
— Не знаю. Наверное… — хотел сказать «никогда», но сдержался, не посмел обидеть — такая она искренняя и беззащитная. — Вот так занят, — он провел ребром ладони по горлу. — Работы невпроворот. Прости, но… Война идет.
— Так и что? Вся жизнь теперь должна прекратиться? А, Платоша? — она заглядывала преданно в его глаза.
— Не знаю. Наверное, нет, но… Но я не могу… Я даже дома не бываю, — говорил он отрывисто.
— Ну, вот и зашел бы, отдохнул бы?
— Извини, Эмма, не могу, некогда. — И он торопливо стал отступать от нее. — Извини… Может, как-нибудь вырвусь… Но вряд ли… Не могу…
И они расстались. Давно расстались, больше месяца уже, наверное, прошло…
— Не было, — повторил он решительно и посмотрел в упор на жену. — Ничего не было. Да и не до этого мне сейчас.
— Разве что… А почему домой не приходишь?
— Некогда.
— Но ты же спишь где-то?
— На диване у себя в кабинете.
— Как беспризорник… Тут идти-то всего полчаса. Что ты выгадываешь?
Потупился Платон виновато:
— Да выгода-то, верно, не велика… Но поздно кончаю, глубокой ночью уже, устанешь, как собака, — шагу лишнего не сделать. Ладно. Ты права… Приду, сегодня обязательно приду. Только ты успокойся и о разных глупостях не думай: не до того мне сейчас. — Он открыл дверь, крикнул дочери: — Клара!
На зов прибежала пухленькая, розовощекая девчушка с ручкой в руке и с чернильным пятном на лбу.
— Клара… Уроки делаешь? Молодец. Но и за мамой присматривай, помогай ей, ты ведь уже большая. — Он оглянулся на жену. — Мать наша совсем расклеилась. Я буду звонить. Побегу.
— Поел бы, — сказала Мария.
— Нет, пойду. Некогда. Там перекушу. — И он быстро побежал по ступенькам вниз.
4
День выдался жаркий, на небе ни облачка, солнце, будто раскаленное в доменной печи, немилосердно пекло и угнетало все живое. Листья на деревьях обвяли и повисли, не давая под собой тени. Трава пожухла под толстым слоем белесой пыли. И только в сквере как ни в чем не бывало вызывающе бодро цвел львиный зев. Желтые и красные султаны его из мясистых лепестков были похожи на восковые, и, если бы не редкие пчелы, которые обшаривали глубокие чашечки, они и впрямь казались бы искусственными.
Платон бежал на работу короткой пешеходной тропкой, которую проделали местные жители, — через дворы, вдоль сквера, мимо частных сараюшек, через Горловское шоссе… Шоссе было запружено — по нему медленно тянулся обоз беженцев. Усталые лошади еле тянули телеги с разными пожитками, поверх которых сидели малолетние дети и старухи. Мужики, подростки и молодые женщины плелись вслед за подводами — грязные, измученные. Платон невольно остановился, засмотрелся задумчиво на этот печальный обоз, хотелось чем-то ободрить обездоленных людей, но не знал — чем и как.
Неожиданно среди беженцев прошло какое-то волнение: они загомонили, затревожились, запоглядывали на небо, стали нахлестывать лошадей.
— Немец, немец! — закричал кто-то из них.
Платон поднял голову вверх и там в далеком небе заметил летящую точку, величиной с комара. И только теперь до него донесся отдаленный, какой-то натужный, прерывистый гул моторов. Екнуло сердце: «Неужели?..»
Беженцы торопливо сгоняли повозки с дороги на обочину, люди сыпались с них как переспелый горох и падали в кювет друг на дружку, панически крича.
Не зная, что делать, Платон растерянно стоял у дороги, пока заросший мужик не толкнул его в кювет, закричав сердито:
— Чего маячишь, як… Ложись!
Платон повиновался приказу, но не лег, а только присел на корточки, не спуская глаз с самолета. Самолет пролетел еще немного и, кажется, над самой их головой стал разворачиваться. Развернулся и, оставив в небе белую дымовую петлю, не спеша улетел на запад.
Среди беженцев снова поднялась суматоха, они быстро выбирались из кювета, нахлестывали лошадей, на ходу взбирались на возы, торопили друг друга:
— Скоришь!.. Скоришь! Та куда ж ты?..
Платон дернул за рукав мужика, который его толкнул, остановил:
— Погоди…
— А-а… — сказал тот растерянно. — Може, я вам больно зробив, так звиняйте… — Речь у мужика была певучая, и Платон сразу догадался, что беженцы из Западной Украины.
— Ничего, — сказал Платон. — Откуда знаете, что это немецкий самолет? Может, это наш, а вы в панику?
— Ни… То немец, по звуку знаем. Немец. Звиняйте, треба тикать.
— Да погоди, — Платону хотелось расспросить мужика, как там, где идет война. — Успеешь тикать: самолет-то улетел.
— Цей улетив, други прилетят. Оно бачишь? — Он указал на медленно таявшую в небе белую петлю. — То знак разведчик оставыв для бомбовозов. То мы вже знаемо. Не раз так було. Надо тикать у полэ, от станции подали.
— А вы откуда?
— З-пид Ужгороду, — ответил мужик уже от брички.
«Ну, эти из дальних мест…» — облегченно подумал Платон, однако тревогой повеяло на него, будто вплотную коснулся опасности. Через дорогу перешел, идет, спешит, а сам нет-нет да и взглянет на небо: долго что-то не тает белый след от вражеского самолета… Вдруг и в самом деле это зловещий знак? Да только уж как-то все это непонятно: разве у них карт нет и разве там не обозначены города и станции? Дело другое — скопление войск… Но опять же, что за знак такой непрочный? Был бы ветер, его давно бы уже стерло и следов не осталось… Взглянул снова на небо — вроде тает петля. Хотя бы скорее исчезала, мало ли что…
В приемной на ходу спросил у секретарши:
— Никто не звонил?
— Звонили, — сказала и вслед за ним вошла в кабинет. — Из управления дороги. Сводку требовали.
— А-а, — небрежно отмахнулся он. — Ладно… Ларионову скажите.
— Я так и сделала.
— Молодец.
Секретарша вышла, Платон подошел к окну, распахнул обе створки, но с улицы хлынул нагретый, пахнущий паровозным дымом воздух, и он снова закрыл окно, глядя сквозь оклеенное крест-накрест газетными полосками стекло. Внизу по бесчисленным путям взад-вперед сновали маневровые паровозы, с горки веером разбегались вагоны, щелкая колесами на прижимных узлах. Горку только недавно механизировали, она была гордостью станции — и потому, что это редкая новинка, и потому, что она перестала калечить людей: сколько пальцев оставили башмачники, подкладывая вручную башмаки под бегущие вагоны! Имелись, правда, у них длинные крючки, но они были неудобны, пользовались ими редко и неохотно — как правило, после очередного ЧП или нагоняя о соблюдении техники безопасности.
Механизированная горка — можно сказать, детище Платона. Сколько энергии, сил и души вложил он в нее, пока наконец внедрили! Станция после этого сразу посолиднела, вышла в разряд передовых. И люди как-то преобразились, даже те, кто к сортировке и не имел прямого касательства. Вспомнил, какие гордые и переполненные чувством радости от необычности своей профессии вернулись с курсов в Днепропетровске первые операторы механизированной горки. Смотрели на них, как смотрели когда-то на первых летчиков. И среди них был младший Платонов брат — Петро. Способный парень, красавец! В прошлом году в армию призвали, служит на Дальнем Востоке.
Да-а… Жизнь налаживалась крепко и по всем линиям. Особенно бурно рос транспорт: появились новые мощные паровозы «ФД», «ИС», «СО», новые большегрузные вагоны, увеличились скорости, внедрена автоблокировка, почти на всей дороге исчезли семафоры, их заменили светофоры. Каждая внедренная новинка приносила радость, вселяла гордость. Неужели все это разрушится, рухнет?..
Ковырнув пальцем полоску бумаги на стекле, Платон проворчал:
— Поможет она, что ли? Придумали…
Еще утром хотел сбегать в паровозное депо — посмотреть, что там делается, но теперь почему-то раздумал. Приказал вызвать к нему начальников ремонтных служб — и паровозников, и вагонников.
Когда все собрались, Платон спросил, много ли скопилось «больного» подвижного состава, и тут же распорядился:
— Приложить все силы, ремонт ускорить. У вагонов обратить особое внимание на ходовую часть: чтобы в случае чего можно было их прицепить к любому составу и угнать со станции. Паровозы — все в ближайшие дни «поставить на ноги». Если какой не способен сам двигаться, должен быть способен идти в сцепке с другими…
Начальники сидели и напряженно слушали. Такое распоряжение, будто враг уже был на подступах к станции… Особенно забеспокоились, когда Платон сказал:
— Осмотрите внимательно крепления станков. Где можно оставить два болта — оставьте два, где можно один — оставьте один… С тем расчетом, чтобы в случае эвакуации можно было быстро все снять и погрузить на платформы или в вагоны.
Начальник вагонного депо, старый железнодорожник, скорее выдвиженец, чем специалист, не выдержал, спросил:
— Что, неужели такое указание сверху поступило? Это ж, значит?.. — И он обвел присутствующих испуганным взглядом.
— А вам, Егоров, обязательно нужно указание сверху, — спокойно сказал Платон. — Своих мозгов не хватает…
— Так это ж… Это ж может вызвать панику. А за панику знаете что сейчас бывает?
— Знаю. А вы делайте все это без паники, спокойно, по-деловому. Да, если хотите, было указание и сверху — в речи товарища Сталина: не оставлять противнику ни болта, ни гайки, ни зернышка… Слышали об этом?
— Так это ж, значит…
— Да, это значит! — перебил его Платон. — Я уже говорил об этом сыну, провожая в армию, и вам скажу. Это значит, что надо быть готовым к самому худшему, к самому трудному, тогда и плохое, и трудное покажется не таким уж плохим, не таким уж и трудным. Если хорошее неожиданно сваливается на голову — человек как-то переживает это легче, чем когда на него обрушивается что-то плохое. Так что будем надеяться на лучшее, а готовиться все-таки надо к чрезвычайному.
Закивали согласно начальники, и только один Егоров сокрушенно качал головой, чего-то не понимая.
— Что вам неясно, товарищ Егоров?
— Да вроде все… Ясно, что дело идет к тому…
— К тому, к тому… Прошу всех по местам и предупреждаю: никакой паники. Все.
Еще не все вышли из кабинета участники этого совещания, а Платон уже приказал созвать диспетчеров, старших конторщиков, составителей… Этим дал указание — расчистить станцию от невостребованных грузов: эшелоны с углем и рудой отправлять в адрес Магнитки или в Челябинск, кокс — на Магнитку, заводское оборудование, станки, разную аппаратуру — в Кемерово, Курган… Он стоял у карты и карандашом тыкал в населенные пункты:
— Продукты адресуйте на ближайшие узловые станции за Волгой. Там разберутся. Адресуйте все за Волгу. Возникнут какие затруднения — спрашивайте, вместе будем решать. И главное вот что: четко оставлять у себя все данные о грузах — какие и куда направлены. Например: вагон номер такой-то, груз — сахар, отправитель — такой-то, получатель — такой-то, отправлен на станцию Баскунчак. Я к примеру говорю. Чтобы легко можно было потом разыскать груз.
В этот момент впервые вдруг завыла сирена воздушной тревоги. Вместо того чтобы быстро распустить людей, Платон подошел к окну, распахнул его и стал всматриваться в небо. Снизу слышались людские голоса:
— Вон, вон!
— Ага!.. А за ним другой… Третий… Три!
И Платон тоже увидел три черных силуэта, и только теперь до него донесся тяжелый гул моторов. Вокруг самолетов стали вспыхивать какие-то черные клубки — это взрывались зенитные снаряды. Но все это было впервые, и потому никто не знал, что это за клубы такие и откуда они берутся, тем более ни выстрелов зениток, ни разрывов не было слышно — били откуда-то издалека. Людьми не страх овладел, а любопытство, они обступили окно и наблюдали за самолетами. А те, не долетев до станции, один за другим стали заваливаться на правое крыло и поворачивать обратно.
— Ага, испугались! — воскликнул кто-то радостно.
— Чего испугались?
— Зениток. Это же зенитки по ним бьют, — пояснил знающий человек. И в этот момент раз за разом где-то далеко-далеко глухо ухнуло. — По аэродрому метили…
Самолеты скрылись, на небе остались рваные островки черного дыма. Платон отошел от окна, остальные молча занимали свои места.
— Ты откуда все знаешь, Новиков? — взглянул Платон на высокого парня с густой шевелюрой — диспетчера с Западного парка.
— Я на Халхин-Голе был. Видел… — Парень показал левую руку в черной кожаной перчатке: — Вот «куклу» привез оттуда…
— Ах да… Я и забыл. Ну, так что, товарищи, задача ясна?
— Яснее некуда, — загомонили собравшиеся, явно имея в виду недавний налет.
— Работу начать сразу же — станция забита вагонами и целыми составами, это ясно. Сегодня в аэродром метил, а завтра, гляди, и наш черед настанет, мы все-таки крупный узел.
Вечером Платон сам провел планерку ночной смены, особо предупредил о свето- и звукомаскировке:
— Ни одного фонаря без заслонок, ни одного паровоза без козырьков на фарах. Машинисты, — никаких свистков, пользоваться только рожками.
— Неужели свисток паровоза будет слышен ему, если он налетит? — возразил один из машинистов.
— Не знаю, — сказал твердо Платон. — Наверное, кто-то, кому не следует, может услышать, если такой приказ вышел. А приказ надо выполнять, и прошу с этим не шутить — за нарушение маскировки сами знаете, что может быть.
Только поздно вечером, усталый, Платон вышел на волю и побрел домой. И только теперь вспомнил, что за целый день так и не смог поесть. Но, странное дело, он совсем не чувствовал голода, а была лишь усталость во всем теле, будто мешки тяжелые таскал, да голова как-то странно гудела…
5
Война подкатывалась с каждым днем все ближе и ближе. Люди как-то затаились, с тревогой прислушивались к отдаленным вздохам земли под взрывами бомб, работали и ждали… Ждали и надеялись, что, может, она все-таки забуксует где-то, не дойдя до их порога.
Все еще продолжали гулять приходившие откуда-то «сводки» — до десятка на дню: то будто наши остановили наконец-то немцев, то будто на каком-то участке уже перешли в наступление и гонят врага обратно. Очень не хотелось людям верить в то, что враг так легко сломал нашу оборону и так быстро катит по родной земле, кровавя ее и испепеляя… Не может этого быть! Мы очень были уверены, что этого никогда не случится — такие мы сильные и такие мы мирные!
Но война катилась на полной скорости, ее уже можно было не только слышать, но и видеть: не раз уже налетали бомбовозы и на город и на станцию. Правда, сбрасывали они бомбы с большой высоты и как-то бесцельно, будто для острастки. По станции пока ни одна из них не ударила, все взорвались в посадке, в поле, а целили, видать, в двухъярусный железнодорожный мост, что на западной окраине, мост большой и важный: перекрестный узел путей пяти направлений.
Подугасли радужные слухи, попритихли ораторы-оптимисты, все смелее выползали наружу обиженные, недовольные советской властью, трусы, приспособленцы, кликуши-богомольцы.
Обидно было и стыдно, будто это он, Платон, ответствен за неудачи, за поражение. Да и понятно: он — руководитель, он — коммунист, ему верили, надеялись. Как же такое случилось?! Он не находил ответа. И люди сами искали его, обращались к истории, искали сходные ситуации и, казалось, находили и утешались: Наполеон тоже вон как далеко зашел, даже Москву занял, а пришло время — покатился с позором обратно. Так и теперь будет, наши нарочно заманивают врага в глубь страны, растягивают его коммуникации и перемалывают вражью технику.
Платон мало верил в эту стратегию, он понимал, что прет сила, против которой мы пока бессильны. Но куда же дальше? Донбасс — всесоюзная кочегарка — уже начинает свертываться, демонтироваться…
«Перемалывают… — с горечью думал он. — Кто перемалывает, чем? Похоже, мы сильно недооценили врага, где-то просчитались… Надеялись на интернационал, на пролетариат капиталистических стран, а они что-то молчат, не выступают. Сильно, наверное, их поприжали…»
В небе, завывая мотором, кувыркался тупорылый «ястребок», — то взревет и устремится вертикально вверх, то перевернется на спину и плывет так долго-долго, подняв лапки кверху, а то заберется на высоту и оттуда вдруг штопором устремится почти до самой земли…
Красиво было видеть эти штуки в мирное время, они завораживали, вселяли в сердце гордость. Платон любил в День авиации бывать на аэродроме и смотреть воздушные парады. Дух захватывало от этих «бочек», «петель» и других фигур высшего пилотажа.
Да что там аэродром! Обыкновенная парашютная вышка в пристанционном лесопарке воспринималась как символ нашей авиационной мощи!
«Выше всех, дальше всех, быстрее всех!» А оказалось…
Взглянул Платон на «ястребка», подумал с укоризной: «И зачем эти выкрутасы? Людей только раздражает: сейчас кувыркается, а налетят фашисты — неизвестно куда денется».
Однако ворчал Платон лишь про себя, пораженческие разговоры он не любил и пресекал их решительно, зло, сердито, подчас даже грубо…
Не верилось, а день тот настал… Платона срочно пригласили в горком, и он знал зачем.
Улицы были сплошь усыпаны разной бумагой — какими-то документами, бланками, кипами газет, журналов, в воздухе носились черные горелые бумажные лоскуты, словно воронье перед ненастьем — всюду жгли архивы. В приемной горкомовская секретарша Тоня сидела у раскрытой плиты и уничтожала документы. Вокруг нее лежали кипы папок, она выдирала из них листы и пихала в закопченную пасть топки. Слежавшиеся документы горели плохо, она шуровала в плите кочергой, на пол сыпался пепел, падали ошметки горящей бумаги. Занималась этой работой она, видать, уже давно — руки ее были в саже, под носом черные «усы», сама она была усталой и сердитой оттого, что бумага не горела как порох, как она думала поначалу.
— Здравствуй, Тоня, — бросил ей Платон. — Истопником заделалась?
Раньше Тоня всегда встречала Платона улыбкой, отвечала на его шутки, но сейчас даже не взглянула, а продолжала шуровать кочергой и чертыхаться.
В кабинете первого секретаря уже шло совещание. Сам секретарь — бритоголовый крепыш — стоял за столом и что-то говорил присутствующим. Платон вошел и остановился у двери:
— Я опоздал? Но мне сообщили…
— Нет, не опоздал, — ответил быстро секретарь. — Все правильно, проходи, садись. — И продолжал: — Значит, обо всем договорились, обо всем условились. Будьте бдительны и осторожны. Желаю успеха, товарищи. Все.
Несколько человек покинули кабинет, остались только члены бюро и незнакомый военный, который сидел справа от секретаря за его же столом. Уперев в стол оба локтя и спрятав в кулаках свой подбородок, он о чем-то думал и, казалось, не принимал участия в заседании.
— Платон Павлович, — обратился секретарь к Платону. — Райком партии и все районные организации сегодня ночью эвакуируются. Вагоны…
— Вагоны стоят в первом тупике, как уславливались.
— Хорошо, знаю… Они уже загружаются. Вагоны в двенадцать ночи надо прицепить к какому-то составу…
— Есть паровоз. Специально для этих вагонов.
— Еще лучше! — обрадованно сказал секретарь. — Будем независимы. — Он окинул взглядом присутствующих, те согласно закивали. — А завтра к тринадцати ноль-ноль очистить станцию до последнего колеса… Успеете?
— Успеем, — сказал Платон. — Станция, по существу, чиста, обрабатываем только проходящие составы. Паровозное депо кончаем демонтировать. Думаю, успеем.
Поднял голову военный, сказал твердо:
— Надо успеть. В тринадцать ноль-ноль депо и мост будут взорваны.
Секретарь взглянул на Платона.
— Понял, — сказал Платон.
— Семья где?
— Со вчерашнего дня живет в теплушке, в том же тупике.
— Так, может, семью отправить с нашим составом? — спросил секретарь.
— Да нет уж… Я с собой возьму… Вместе все-таки спокойнее будет…
— Ну, смотри. Маршрут тебе известен. Там найдешь нас. Вопросы есть?
— Пока нет.
— А «потом» не будет.
— Будет! — сказал Платон, имея в виду, что до двенадцати ночи еще много времени.
— Будем надеяться, — сказал секретарь, и Платон понял, что секретарь говорил уже о новом месте дислокации. — Ты свободен.
На другой день к полудню станция опустела, уехали районные власти, станционные службы, замы. Остался Платон один. Приказал выгнать свою теплушку — маленький двухосный прибалтийский вагончик — из тупика и поставить на выходной путь, а сам побежал в паровозное депо. Там шла погрузка последних станков. Военные командиры поторапливали и рабочих, и своих красноармейцев, которые носили какие-то ящики, долбили ниши в фундаменте, подвешивали взрывчатку к перекрытию, тянули провода.
Наконец последний станок был погружен, закрыт борт, и Платон скомандовал рабочим:
— Все. По коням! Садитесь, поехали.
Рабочих было всего человек семь, трое побросали свои узелки на те же платформы, забрались сами. Другие, главным образом пожилые, стояли и мялись.
— Ну? Быстрее, быстрее! Где ваши вещи? — поторопил их Платон.
— Да куда уж нам?.. — проговорил один, потупясь. — От семей…
— А-а… — протянул Платон. — Остаетесь? Ну что же, вольному воля.
И тут подошел старик Егоров.
— Ты откуда здесь, Егоров? — удивился Платон.
— Попрощаться пришел.
— Ты разве не уехал?
— Да куда мне, Павлович, ехать: детишков много, неподъемный я. Да и на хозяйстве кому-то ж надо остаться?
— На каком хозяйстве?
— А тут, — он сделал рукой большой круг.
— Не боитесь? — спросил Платон у всех.
Ответил Егоров:
— Как не бояться? Боязно. А куда денешься? Всем не уехать все равно…
— Нда… — Платон не знал, как быть.
Подбежал военный:
— Кончайте митинговать! Освобождайте депо и пути… Живо! Или ждете, пока немец накроет?
— Ну что ж, — сказал Платон. — Прощайте… — Однако руки не подал.
Старик Егоров понял его, сказал:
— Не суди нас строго, Павлович. Прощай. Счастливой дороги тебе. Я думаю, мы еще встретимся и поработаем вместе.
— Я тоже так думаю. Прощайте, — сказал Платон и пошел к пыхтевшему паровозу, который был прицеплен к двум платформам. Встал на ступеньку, крикнул в паровозную будку: — Кузьмич, поехали…
Однако на голос показался молодой белобрысый паренек — помощник машиниста. Вытирая паклей руки, сказал:
— Кузьмича нету. Он побежал в нарядную за своим сундучком. Говорит, там забыл его.
— Фу-ты, черт! — выругался с досады Платон. — Давно ушел?
— Давно, минут двадцать уже… Должон бы вот-вот быть, да что-то нету…
— Какого ... стоите?! — закричал на Платона военный. — Немцы уже на Путиловке, танки по шоссе идут сюда. Через полчаса тут будут, а вы все еще чешетесь. Если через две минуты не уедете, я за вас не отвечаю.
«Сбежал…» — догадался Платон. Вслух спросил у парня:
— А может, он и не вернется?
— Да я тоже так думаю. Он все ворчал: «Куда я в белый свет поеду? Кто меня там ждет? А семью как брошу?»
— Ну и нечего ждать! Поехали!
Белобрысый быстро скрылся в будке, и паровоз тронулся.
— Потише!.. — крикнул Платон в будку. — На второй путь в парк Восточного отправления. Я буду за стрелочника.
— Нам же теплушку еще надо подцепить? — выглянул парень.
— Не будем маневрами заниматься. Подхватим ее и погоним впереди паровоза.
— Точно! — согласился парень.
Лишь одну стрелку пришлось перевести Платону, и он это сделал легко и быстро, как заправский стрелочник: еще на ходу соскочил с подножки, побежал, опередив паровоз, перекинул тяжелый баланс на внешнюю сторону, нажал на рычаг, для верности посмотрел, перевелась ли стрелка. Перевелась, «перо» плотно прижалось к внешнему рельсу, и, уже скорее для порядка, чем для дела, закрепил его замковой накладкой. Отошел, фуражкой посигналил: «Вперед!» Встал на переднюю подножку, на которой обычно и катаются стрелочники и сцепщики, поехали дальше. Для Платона любая железнодорожная профессия своя, он почти все их прошел — был и составителем, и машинистом, и диспетчером. Стрелочником, правда, не был, но знал и это дело.
Еще издали он видел, куда переведена стрелка, и подавал сигнал машинисту. К счастью, остальные стрелки были сориентированы на второй путь, — наверно, после того как выгнали сюда теплушку, так больше их никто и не трогал.
Наконец впереди завиднелся на пустых путях маленький красный вагончик. Возле него нетерпеливо толклись Виталий и Женька, Мария и Клара выглядывали из дверей. Узнав отца на ступеньке паровоза, ребята побежали ему навстречу.
— В вагон! В вагон! — прикрикнул на них Платон, а сам, спрыгнув с подножки, шел рядом с паровозом и подавал знаки механику: «Тише… тише…» И когда до вагона осталось с полметра, он встал между буферами, поднял двумя руками тяжелую петлю, крикнул: — Давай!
Буфера с тихим лязгом коснулись друг дружки, легко вдавились в свои гнезда, и в этот момент Платон накинул на крюк паровоза тяжелую петлю сцепления. Хотел было для надежности накинуть и паровозную петлю на вагонный крюк, но, поняв, что это ему не под силу, он ограничился лишь тем, что винтом стянул сцепление и полез под буфер наружу. Без привычки, да еще с таким пузом, ему было нелегко. Однако вылез, сказал машинисту:
— Ну, теперь вперед! Сифонь и пара не жалей! — И сам забрался в теплушку.
Паровоз — старая маневровая «овечка» — для начала пустил длинные и пышные «усы», запыхтел, зафукал в небо черным дымом и покатил. Впереди него бежала маленькая красная теплушка, а позади — две платформы с деповскими станками и тремя мужиками на них. И был чем-то похож издали этот странный состав на бронепоезд времен гражданской войны… Когда-то, еще совсем мальчишкой, Платон пробрался в бронированное горячее чудо, на котором командиром был его дядя, и умолял принять его в свой экипаж. Но дядя только прокатил Платона от Андреевки до Ясиновки и обратно, а когда уходили на фронт, ссадил его и отослал домой. Платону тогда было всего лет двенадцать, меньше, чем его Женьке теперь, а ростом он был и того мельче…
Платон стоял в дверях теплушки и смотрел на убегавшие назад окраинные постройки родной станции. «Прощай… Когда увидимся снова? И увидимся ли?..»
Не успели проехать выходной светофор, как сзади раздались громоподобные взрывы. «Все, нет теперь ни депо, ни красавца моста…»
— Бомбят? — в тревоге спросила Мария.
— Наверное, — сказал Платон и обернулся внутрь вагона.
— Ой, китель-то весь испачкал! — ужаснулась жена, увидев на его груди мазутные пятна.
— Не беда, — отмахнулся он и посмотрел на руки. — Женя, слей-ка мне. — Платон взял мыло и встал над ведром. — Да не лей так сильно. Воду берегите.
Вытирая руки, оглядел вагон.
— Широко не располагайтесь. Вот там освободите место: на платформе едут трое рабочих… — И он снова подошел к двери.
Вагон покачивало. Мимо бежали чахлые кусты посадки, овраги, буераки. За бугром показался поселок Землянки. Сады уже давно облетели, и сквозь оголенные деревья были видны беленькие хатки, вскопанные огороды с оставленной добирать вес по-весеннему зеленеющей свеклой, с капустными грядками и белеющими на них кочерыжками. Поселок будто вымер — ни души, ни животины. Нет, вон на грядке стоит коза, подняла голову и, жуя капустный лист, смотрит на бегущий поезд. А люди затаились, как перед ненастьем. Что ждет их?.. Платон знал почти всех жителей окрестных поселков — все они потомственные железнодорожники, всем им давала работу станция. А родной Платонов поселок там, на той, на западной стороне от Ясиновки, километрах в восьми. И там наверняка уже немцы…
И вдруг — будто током ударило — жаром схватились его щеки, уши: как же так? Там ведь его мать, братья, сестры, племянники, и он в суматохе не вспомнил о них, а они уже… Лишь маленьким утешеньем мелькнула мысль, что он дня за два до эвакуации попытался найти Ваську Гурина — племянника, хотел спросить у него о своих, передать им, чтобы они не беспокоились о нем — он едет на восток, и, если кто хочет уехать с ним, пусть поторопится… Но Васьки он не нашел. Когда Платон позвонил в Западный парк в техническую контору и спросил Василия Гурина, ему сказали, что таких у них нет, и быстро повесили трубку. Голоса Платона не узнали, а он не представился, перезванивать же и узнавать, где он, было некогда, и он пригласил старичка из отдела кадров. «Помните, недавно оформлялся к нам техническим конторщиком парнишка? Гурин Василий… Что с ним, где он?» — «Помню, как же, — сказал старичок. — Уволился с неделю назад: повестку получил — наверное, в армию взяли. — И добавил, уточняя: — Это племянник ваш? Он мне сказал…» — «Да, племянник. А почему же он не зашел ко мне?» — «Не знаю. Может, вас не было на месте?»
«Да, скорее всего, что не было…» — подумал Платон и, подняв голову, посмотрел вдаль, словно хотел заглянуть в родной поселок и узнать, что там делается.
А «овечка» попыхивала клубами дыма и легко несла свой груз по накатанным рельсам, убегала подальше от родных мест, от беды, которая гналась за ними по пятам.
6
Платон снял китель, поискал, куда бы его повесить, и, не найдя свободного крючка, бросил на нары. Огляделся, на что бы сесть, увидел табуретку, подвинул, сел, привалившись спиной к стенке вагона, обвел глазами семью. Мария сидела на домашнем стуле, сложив на коленях руки, качалась в такт поезду, Клара стояла у нее сзади, держалась обеими руками за спинку стула. Женька лежал на нарах, свесив голову, смотрел на бегущие мимо столбики на обочине, отсчитывал их по десятку, складывая километры. Виталий, облокотившись обеими руками на те же нары и положив на них подбородок, смотрел в темную глубь вагона и о чем-то думал.
Все казались спокойными и молчали лишь оттого, что не знали, как себя вести в необычной обстановке.
У Платона ныли спина и плечи. Он удивился: отчего бы это? Неужели от физической работы? Да и сколько он там поработал? Помог немного грузить станки, стрелку перевел да вагон прицепил. То-то без привычки… «Не расхвораться бы».
— Куда мы едем? — спросил Виталий, не оборачиваясь.
— На восток, — сказал Платон.
— А точнее нельзя узнать?
— Нельзя.
— Сам не знаешь?
— Знаю.
— А что же? Секрет? Военная тайна? — Виталий ухмыльнулся.
— Если хочешь — да, тайна.
— А если я случайно отстану от поезда… К примеру… Как я догоню вас?
— А вот этого ни в коем случае делать нельзя. Потому что догнать ты уже никак не сможешь, — сказал строго Платон. — Так что никакого баловства.
— Не дай бог! — ужаснулась Мария. — Не дай бог растеряться нам. — И добавила: — И от Феди давно не было письма. Как отрезало: то шли часто, а последнюю неделю…
— Да, может, и отрезало, — раздумчиво заметил Платон.
— Где он? Хоть бы каким намеком дал знать, а то «полевая почта», и все.
Ничего не сказал Платон, поднялся, подошел к двери, глянул в ту сторону, где за бугром скрылась родная станция, и вдруг увидел огромные черные клубы дыма над ней — и в той стороне, где вокзал, и в той, где было нефтехранилище, и в той, где стоял элеватор, и над машзаводом. И тут он заметил: в небе над станцией, словно стая воронья, беспорядочно толкутся черные самолеты — то ныряют вниз, то взмывают вверх, и доносятся оттуда глухие взрывы. «Станцию и поселок бомбят, — догадался он. — Вовремя мы выскочили. Что-то там теперь делается? Там же люди остались. Много людей…»
Только хотел было обернуться к своим, сказать им: посмотрите, мол, что там происходит, — как из-за посадки на низкой высоте вынырнул горбоносый одномоторный самолет с выпущенными шасси, похожими на лапы пернатого хищника. Пилот, наверное, не ожидал встретить в низине идущий на всех парах поезд — самолет как-то сразу, будто споткнулся, быстро завалился на левое крыло, показал Платону гладкое брюхо и белые кресты на крыльях и ушел вверх и в сторону.
Однако, сообразив, наверное, что этот поезд совершенно безопасен, самолет развернулся и стал догонять состав, спускаясь все ниже и ниже. Каким-то чувством Платон понял намерение летчика, крикнул своим:
— Ложитесь! — и сам первый плюхнулся на пол лицом в грязные доски. В тот же миг пулеметная дробь прошила вагон.
Полежав какое-то время, Платон приподнял голову, осторожно выглянул наружу — самолета не было видно.
— Живы? — спросил он. — Вставайте. — И стал помогать подняться жене.
Клара, бледная, отряхивалась и недоуменно поглядывала на родителей. Виталий смущенно натягивал кепку на голову, словно стыдился за свой поступок — труса сыграл, лежал плашмя на полу, а ничего не произошло.
— Вот гад… Он что, разве на видит, что едут мирные люди?
— «Мирные»… Вот и говорят, что они на самолетах гоняются за каждым человеком. А где Женька? — забеспокоился Платон. — Женя!.. Посмотри, что с Женькой? — приказал он Виталию.
— Тут я… — Женька выполз из темноты нар.
— Ты почему не отзываешься?
— А я не слышал… — И тут же сообщил: — Да, это был настоящий фашист!
— Конечно…
— Я видел: настоящий! У него на хвосте нарисован огромный фашистский знак!
Платон тоже заметил этот знак — свастику. И хотя он знал, что фашисты носят этот знак, тем не менее, увидев его, был ошеломлен не менее, чем пулеметной очередью. До сих пор он видел его только на карикатурах и потому свастика воспринималась как карикатурный атрибут, а тут — вот он, «живой», в действии! Мурашки пробежали по коже: фашисты в нашем доме…
— Па, паровоз чего-то тревогу подает, — сказал Виталий.
Платон прислушался. Точно, тревогу. Выглянул и увидел высунувшегося по пояс из окна паровозной будки вымазанного угольной пылью кочегара. Он что-то кричал, но за шумом Платон не мог понять что, однако догадался, что на паровозе какая-то беда. «Наверное, с машинистом что-то, иначе почему бы кочегар кричал?..» Платон прикинул: на ходу из вагона на паровоз не перебраться, рукой посигналил: «Остановись!» Понял кочегар, скрылся в будке, и в тот же миг зашипели тормоза, полетели из-под колес паровоза искры… «То-то неопытный», — подумал Платон и полез из вагона.
— Что там у вас?
— Кольку убило…
— Какого Кольку? — спросил машинально, хотя ему ясно было, что Колька это и есть тот паренек, помощник машиниста, который теперь был за механика. Платон поднялся на паровоз и увидел лежащего на полу без кровинки в лице Кольку. Рубаха на животе была пропитана кровью, расстегнутый пиджак тоже был весь окровавлен.
— Мама… Пить… — еле слышно прошептал паренек.
— Жив! — обрадовался Платон. — Давай быстренько перенесем его в вагон. Ну-ка… Только осторожно. — Платон спустился на нижнюю ступеньку и протянул руки. — Надо мужиков позвать на подмогу. Зови мужиков.
— Каких мужиков?
— А тех, с платформы…
— Да их давно нет там. На ходу поспрыгивали еще до самолета. Землянские, наверное, были, домой убежали.
— Виталий! — закричал Платон. — Виталий, скорее иди сюда!
Прибежал Виталий, и они втроем с трудом перенесли раненого в вагон.
— Маруся, перевяжи его. Найди чистую простыню… Я буду на паровозе. Пошли, — позвал он кочегара. В паровозе Платон осмотрелся, тронул реверс, пустил пар. Поехали. Оглянулся на кочегара: — Следи за левой стороной.
Состав набрал скорость, и Платон выглянул в окно, окинул пути до самого горизонта — нет ли какой помехи, — окликнул кочегара:
— Тебя как зовут? Что-то я тебя не знаю.
— Так разве всех узнаешь? Нас вон сколько.
— Стариков всех знаю. Давно работаешь? — И лишь теперь Платон заметил, что кочегар даже моложе Кольки — совсем мальчишка, наверное, с курсов.
— Недавно. А зовут меня Сашкой.
— А фамилия?
— Чепурок.
— Андреевский? С первого поселка? Там Чепурки живут.
— Точно, — обрадовался чему-то Сашка.
— У тебя брат составителем работал? Григорий…
— Точно!
— Где он?
— Не знаю. С первых дней войны в армию взяли — и не слышно…
— Нда… Как там наш Николай?.. Вряд ли выживет: в живот ранен, тяжело, и помочь нечем. Дотянуть бы до Енакиево…
— Он стоял вот тут… — стал рассказывать Сашка. — И вдруг тры-ты-ты… Я разу даже и не понял, что это такое. А потом слышу — самолет ревет…
— Нда… Дотянуть бы до Енакиево… — Посмотрел на приборы. — Ты мне помогай, а то я ведь машинист аховый.
Сашка тоже посмотрел на приборы, одобрил:
— Нормально! — Взял лопату, открыл топку и принялся бросать в нее уголь. Из трубы повалил черный дым.
7
Война гналась буквально по пятам. Услышал Сашка какой-то могучий гул — тяжелый, прерывистый, идет сверху, взглянул вверх и увидел: плывут медленно три больших двухмоторных самолета. За ними увидел еще тройку и еще. Идут строем, как на параде. А поверх них истребители, охрана, — тех и сосчитать трудно; летели они как-то беспорядочно — то вверх, то вниз бросаются, то обгоняют, то отстают, будто в прятки играли. А эти девять плыли спокойно, солидно, тяжело.
Увидел такую армаду Сашка и обомлел, отступил машинально в глубь паровозной будки. Дернул за рукав Платона.
— Платон Павлович, поглядите, — кивнул на свое окно.
Подошел Платон — вдоль дороги бросил взгляд, на теплушку, потом назад, на платформы, — вроде все в порядке. Хотел спросить, в чем дело, но не успел, сам увидел: самолеты! Их было всего девять, но казалось, что они заполонили все небо — Платон никогда еще не видел, чтобы они налетали такой массой. Долго смотрел, пока они не скрылись в осенней дымке.
— Плохи наши дела, Сашка. Припоздали…
— Вы думаете, они на Енакиево полетели?
— Хоть на Енакиево, хоть на Дебальцево — все равно в нашем направлении. Разбомбят пути — плохо дело будет.
— А может, они на переправу через Дон?
— Так тоже не мед. Но пока не будем падать духом: дорога впереди свободна, шуруй в топке, шуруй!
Сашка длинной кочергой разбил спекшийся уголь в топке, прочистил колосники и принялся бросать туда уголь.
— Хватит, хватит, а то задушишь огонь, — остановил его Платон. — Енакиево только бы проскочить!..
Почему Платону так не терпелось проскочить Енакиево, он и сам не знал. Наверное, надеялся, что там будет безопаснее, вроде как Енакиево уже станет у них заслоном с тыла.
Но Енакиево, как хотелось, они не проскочили. Чем ближе к станции, тем чаще им преграждал путь то желтый, то красный сигнал светофора. Наконец, добрались до входного светофора, но еще издали Платон увидел, что им путь закрыт. «Может, он уже и не действует — после бомбежки замкнуло? — подумал Платон. — Не пойти ли на красный?» — размышлял он, подкатывая все ближе и ближе свой поезд. Остановился почти у самого светофора, всмотрелся в даль — и увидел впереди на путях состав.
— Застряли, видать, надолго, — сказал огорченно Платон своему помощнику. — Пойду проведаю, как там наш Николай. — Он спустился на землю, прошел к теплушке. — Ну как вы тут?.. — И запнулся: Николай лежал на полу, лицо его было накрыто белой простыней. — Скончался?
— Умер, — сказала Мария и всхлипнула: — Такой молоденький… Как же теперь? У него же, наверное, родители есть…
— Наверное, есть, — буркнул Платон, спрыгнув назад, на насыпь. — Вот беда… Что же теперь делать?
— Надо до станции довезти и там…
— Что «там», — досадливо перебил Платон жену. — Что «там»?
— …заявить в милицию.
— Где ты ее найдешь, ту милицию? Там наверняка уже все эвакуировались. — Увидел в паровозном окне Сашку, махнул ему: — Иди сюда…
Подошел Сашка, вопросительно уставился на Платона и, не дождавшись ничего, предложил:
— Может, ему молока дать? У меня там еще полбутылки осталось… Мать харчи собирала на работу и молока налила.
— Кому молока дать? — не понял Платон.
— Да Николаю. Молоко больному полезно.
— Умер Николай.
— Помер? — удивился Сашка и заглянул в теплушку: — Помер… Ой… помер… — Он смотрел растерянно на Платона, ждал какого-то утешения.
— Да… Помер, — сказал тот твердо. — Похоронить надо.
— Где? Тут?
— Ну а где же?
Сашка оглянулся в ту сторону, где остался их дом, словно хотел отвезти тело к родным, долго смотрел вдаль, а потом поник головой и стоял так, пока Платон не вывел его из себя:
— Состав все еще стоит… Может, успеем? У тебя на паровозе штыковая лопата есть?
— Есть.
— Неси. И совковую прихвати.
— Грабарку?
— Да, грабарку. Давай, быстро только.
Сашка принес лопаты, они перепрыгнули через кювет и на краю вспаханного поля стали рыть могилу. К ним подошли Виталий и Женька, Виталий стал помогать, сменяя то отца, то Сашку. Платон тревожно поглядывал на светофор — теперь ему хотелось, чтобы он продержался на красном как можно дольше.
Работали быстро, спешили. Наконец Платон сказал:
— Хватит, пошли, — но прежде, чем взять тело, Платон обшарил карманы покойного, достал паспорт, комсомольский и военный билеты. Кошелек с деньгами, перочинный ножичек. Все это завернул в его же носовой платок, передал жене: — Положи пока куда-нибудь…
Мария попросила, чтобы помогли и ей спуститься на землю, но Платон заворчал недовольно: некогда, мол, возиться с тобой, не до церемоний сейчас. Но она настояла, и он ссадил ее на насыпь. Они подошли к могиле, на краю которой лежал Николай, — ветерок шевелил прядку волос на его лбу. Мария нагнулась; пригладила ему волосы:
— Прощай, сыночек… — и заплакала.
У Платона тоже запершило в горле, он кашлянул и заторопил ребят:
— Давайте опускать. — И, спрыгнув в могилу, поднял руки. — Осторожно… Осторожно… — Платон уложил тело на дно, руки скрестил ему на груди, накрыл лицо простыней. — Прощай, сынок… Вернемся — мы тебя тут не оставим. — Выпрямился, попросил ребят: — Руку дайте! — Вылез из могилы. — Все. — Снял фуражку. — Бросьте все по горсти земли… — И сам первый показал, как это делается.
Мария и ребята повиновались — стали нагибаться, брать землю и бросать ее в могилу. И норовили, чтобы земля не попала на Николая, словно боялись причинить ему боль. Женька тоже вылез из теплушки и делал все, что делали взрослые.
Когда стали засыпать могилу, Мария заплакала навзрыд, но Платон не успокаивал ее. Отобрал у Виталия лопату, принялся за работу.
Насыпали холмик, подровняли, как полагается, постояли, склонив головы, и медленно пошли к поезду.
А светофор все светился ярким красным глазом, и неизвестно было, когда он переключится…
Сашка оглянулся на могилу, вздохнул:
— И никто не узнает, где могилка моя…
— Узнает, — сказал Платон. — Вернемся, найдем родных и обо всем расскажем. Место приметное.
— А если не вернемся?
— Кто-то вернется… — раздумчиво сказал Платон. — А на всякий случай… На всякий случай надо что-то сделать, чтобы узнали. У тебя, говоришь, бутылка есть? Неси сюда. — И полез в вагон. Женьку попросил выдрать из тетради чистый лист бумаги и найти в ранце простой карандаш, а сам разложил на столике документы покойного, стал листать их. На чистом листе написал: «Здесь похоронен машинист Лукьянов Николай Петрович, убитый пулей фашистского стервятника. Его адрес…» Платон списал с паспорта адрес, подумал и добавил: «Нашедшего эту записку просим сообщить его родственникам». Написал, перечитал и протянул Сашке: — Посмотри, так?
Тот прочитал, кивнул согласно и вернул записку.
— Давай бутылку. Молоко-то выпей, мне бутылка нужна.
— А-а, — догадался Сашка и стал выливать молоко на землю. — Не могу… Меня почему-то тошнит, — признался он.
Платон посмотрел на него — молод парень, потрясен случившимся. Да и все в шоке, молчат, будто оцепенели, только жена тихо плачет. А Клара?.. Что-то ее совсем не слышно. Поискал глазами — увидел: стоит в уголке, вжалась в стену, руками горло себе сдавила.
— Клара, ты что?.. Иди сюда…
Она закрутила истерично головой, затряслась, и слезы хлынули вдруг в три ручья — будто прорвались.
— Маруся, успокой ее.
Мария оглянулась на Клару.
— Что с тобой, доченька? — привлекла к себе. — Ой, вся колотится! Бедная… Испугалась! Ну, успокойся, успокойся. — Она уложила ее голову себе на колени, стала гладить.
Платон взял у Сашки бутылку, вытряхнул из нее остатние капли молока на пол, пучком пакли насухо вытер бутылку изнутри, вдел туда скрученную в трубку записку и крепко забил пробку. Выпрыгнул из вагона, взял лопату и пошел к могиле. Копнул раз-другой свежую землю, вложил в яму бутылку и, засыпав ее, вернулся к вагону. Передавая Сашке лопату, сказал:
— На всякий случай… А документы я сохраню. — И он сложил все Николаево добро стопкой на расстеленный платочек, перевязал кончики крест-накрест узелками, передал Женьке: — Спрячь в ранец.
Вечерело. Пополз туман, стало зябко.
А светофор все светился ярким красным глазом…
— Сходить туда, что ли? — спросил Сашка. — Может, и ждать нечего?
Платон и сам не раз уже подумывал об этом же, но станция еще далеко, а стоящий впереди состав и живой огонек вселяли какую-то надежду.
— Далеко идти-то, — сказал Платон. — Подождем.
Наконец, когда уже совсем стемнело, светофор, к всеобщей радости, мигнул и переключился на желтый. Не дожидаясь зеленого, Платон осторожно двинул состав вперед. «Хоть поближе к живым людям…» — воспрянул он духом, вглядываясь в темную, без огней станцию.
Станция жила! Платонов состав пропустили сразу на восточный парк. Думал, так и проскочит с ходу, но выходной светофор был закрыт, и Платон, наказав Сашке никуда не отлучаться, побежал к дежурному. Там сказали, что к нему прицепят еще три вагона и отправят, держать не будут.
— Ну-ка, вот, — старший конторщик положил перед ним документы на три вагона.
— А что за груз?
— Станки, — сказал тот. — Что же еще?
— И куда их?
— Как куда? Туда! — махнул конторщик в сторону востока. — Все туда.
Платон посмотрел на конторщика — молодой, коренастый, какой-то бесшабашный, будто выпивши. Хотел Платон то ли спросить что-то, то ли замечание сделать, но конторщик опередил его:
— Ну что, начальник, остолбенел? Проверять груз будешь или поверишь? Давай, дядя, иди. Мы вот скоро расчистим тут — и за вами вдогонку. — Зазвенел телефон, конторщик снял трубку: — Прицепили? Хорошо! Документы у начальника поезда. Ушел уже.
Понял Платон, что речь идет о его составе, побежал обратно к поезду. Вагоны действительно уже были прицеплены, и Сашка нетерпеливо ждал его у паровоза.
— Сказали, сейчас отправление дадут.
— Да, я знаю, — сказал Платон, и тут же загорелся зеленый: — Вон, уже. Поехали.
Даже не верилось, что так быстро им удалось прорваться. Хотел спросить, почему их так долго держали на входе, и не успел. «Наверное, все-таки бомбили станцию… Пока восстановили…»
8
До Дебальцево добирались медленно, их часто и подолгу держали на разъездах и перегонах. Чем ближе к станции, тем чаще и длительнее были остановки. Сашка беспокоился: дотянут ли, воды в котле было на минимальном пределе. Платон посматривал на водомер, прикидывал: да, маловато, но помощника своего успокаивал:
— Дотянем! Не держали бы только…
И они дотянули. Наконец их впустили в станцию, приняли в парк прибытия товарных поездов на самый дальний путь. Платон подошел к двери, посмотрел вправо-влево, перед собой — и ничего не увидел, кроме моря вагонов. Казалось, залезь на крышу любого из них — и беги по крышам до самого горизонта, — так плотно были забиты все пути. Наверное, так же выглядела и его родная Ясиновка в последние дни. Представил Платон, что творится теперь в кабинетах станционного начальства, — и тошно стало. Однако делать нечего, надо идти выяснять.
— Я пойду, — сказал он Сашке и пошел.
То через тормозные площадки, то под вагонами пробирался он к диспетчерской службе. Грузный, непривычный к таким переходам, он весь вспотел — пот струился из-под фуражки по лицу, рубаха прилипла к спине, совсем задохся, пока перед ним открылось пространство, свободное от вагонов. Огляделся и направился прямо в диспетчерскую.
— Товарищ, товарищ, сюда нельзя! — решительно остановил его на пороге диспетчер.
— Одну минуту, — поднял руку еще более решительно Платон и быстро представился.
Диспетчер недоверчиво оглядел гостя — грязный, весь взмыленный, — на начальника не похож. Платон тоже взглянул на свою одежду, на руки, объяснил:
— Я ведь и за машиниста. Остались вдвоем с кочегаром, машиниста убило. Налетел фашист и прошил весь состав пулеметной очередью… Похоронили парня в поле… У меня там жена, дети — в теплушке и пять вагонов со станками. — Он показал документы.
Смягчился диспетчер, добрее стал — то ли подействовало, что перед ним хоть и чужое, но начальство, то ли пережитое Платоном разжалобило. Даже документы не стал смотреть.
— Я все понимаю, — сказал он. — Но вы видите, — он указал на широкое окно на улице — из него крыши вагонов были виднее, чем с паровоза, и простирались они до самого горизонта — сплошные крыши, крыши…
— Да, я вижу, — сказал Платон. — Такое же столпотворение было и у нас. Но…
— И не хозяин я тут — военные командуют. А к ним идти просто не советую — слушать не станут, нервничают.
— Как же быть? Главное, нам воды еще надо залить.
— Это сделаем. — Диспетчер минуту подумал, посмотрел на схему путей, повторил твердо: — Это сделаем. Подадим вас в парк отправления под колонку. А насчет отправления в ближайшее время… — Он развел руками. — Наберитесь терпения. При первой же возможности выпустим.
— Ну, спасибо… — голос у Платона дрогнул, расчувствовался: человеческим разговором растрогал его этот молодой симпатичный диспетчер. «На нашего Петра похож», — вспомнил он младшего брата своего. — Спасибо… Буду надеяться… До свидания.
— Наберитесь терпения, — повторил диспетчер вдогонку, и это как-то еще больше вселило надежду на быстрое отправление.
«А вообще кто я ему? — думал Платон. — Мог бы и погнать, не до меня ему в такой обстановке. Таких начальников, как я, тут уже скопилось, наверное, не один десяток… Хороший парень!» В таком приподнятом настроении он и возвратился к своему поезду.
И в самом деле, вскоре их состав выгнали в восточный парк отправления, где они заправились водой и стали ждать своей очереди на выход из станции. Платон был доволен, что все идет так четко, подбадривал свой экипаж, а заодно и себя:
— Скоро поедем!
А поезда шли один за другим, и все — воинские, и даже промежутка между ними, куда они могли бы втиснуть свой короткий состав, он не видел. Уже день клонился к вечеру, уже Мария дважды кормила всех, а их светофор все горел красным огнем.
— Может, там о нас забыли? — говорила Мария, кивая на светофор.
— Ну, как можно… «Забыли»! — обижался Платон досадливо: ему и самому уже надоело ждать и обидно было за своих коллег. «Забыли»! Уж он-то знает эту службу!
— Да мало ли… — не унималась жена. — В такой суете все может быть. Сходил бы, узнал.
Ворчал Платон что-то недовольно, но шел, шел уже к этому диспетчеру восточного отправления. А тот, не дав Платону и рта раскрыть, сказал ему торопливо:
— Да-да! Знаю о вас и помню. Но вы же видите, что творится?
Платон видел. Сконфуженно извинился и ушел ни с чем, чувствуя себя каким-то пришибленным, виноватым в чем-то. Он даже сник, начальственная бравость быстро слетела с него. Вспомнились последние суматошные дни на своей станции, многочисленные посетители, с которыми он не всегда был ласков, — чувство власти над ними, над просителями, независимо от его желания, почему-то всегда сказывалось. Нет, он не грубил, не орал, но как-то всегда был над ними. Думал ли, что пройдет всего несколько дней — и он окажется в таком же положении, как те, которые умоляли его дать вагоны или отправить поскорее состав? Вспомнился лейтенант, которому он прочитал мораль… «Ну и что? — огрызнулся сердито Платон. — Что я ему грубого сказал? Или не так что сделал?» — «Все так… — говорил ему кто-то ехидно. — А все-таки ты над ним немножечко издевался. Поставил парня в неловкое положение». — «И ничего я не издевался! Просто немножко осадил…». — «Вот-вот — «осадил». А зачем?»
— Фу-ты!.. — Платон тряхнул головой, отогнал неприятные мысли.
— Ну, что там? — еще издали спросила жена.
— Все то же, — сказал неопределенно. — Ждите.
— Сколько же можно?
Они ждали почти двое суток. Когда загорелся зеленый свет в их светофоре, они даже не сразу этому поверили. И только сообразительность и энергия Платона привели всех в чувство.
— Быстрее в теплушку! — закричал он на ребят, которые разминались возле вагона. — Сашка, поехали! — Он боялся, что светофор быстро переключится и они снова надолго застрянут на станции.
Мигом отцокав колесами на выходных стрелках, поезд-коротышка выскочил из станции и покатил дальше.
Платон, довольный, вытирал руки паклей и, как заправский машинист, высунувшись почти по грудь из окна, следил за правой стороной. Свежий встречный ветер обвевал голову, и от этой прохлады спадали напряжение, усталость, затухала досада от беспомощности, которая охватила его в какой-то момент, он успокаивался.
«Вырвались! Теперь — вперед!..» — словно песня звучали в нем бодрые слова.
9
Однако рано торжествовал победу Платон. Дорога была перегружена, а кроме того, самолеты врага беспрерывно повреждали ее, возникали заторы, пробки. И полсотни километров не проехали нормально, как начались сплошные остановки — то и дело приходилось сжимать тормозные колодки. Уже ни одного светофора они не проезжали с ходу, ни одного полустанка или разъезда без остановки. Все чаще и чаще их загоняли на запасной путь и подолгу держали, прежде чем снова выпустить на магистраль.
Однажды на какой-то маленькой станции — всего три пути и тупик — их приняли на третий путь. Дежурный по станции сказал, что впереди на перегоне немцы разбомбили дорогу и там работают военные ремонтники.
Рядом с Платоновым поездом в тупике стоял состав из обгорелых вагонов, от него еще несло гарью, и было жутко смотреть на эти обуглившиеся скелеты. «Сколько добра губится!» — невольно подумал Платон.
На перроне маленького кирпичного вокзальчика, построенного, наверное, еще в прошлом веке, суетился народ — с мешками, рюкзаками, чемоданами. Словно по команде, они вдруг бросились к Платонову поезду и стали карабкаться на платформы. Платон понял, что это беженцы, не препятствовал. Те, кто успел уже как-то закрепиться на платформе, кричали машинисту:
— Скоро поедем?
— Давай трогай! А то немцы накроют!
— Чего стоишь?
Платон показывал им на красный светофор и разводил беспомощно руками.
Один за другим станцию с ходу проскочили два состава, и Платон видел, что они прошли на красный свет. Он поискал дежурного, хотел спросить, что делается на линии, но его нигде не было видно. А светофоры все вдруг неожиданно погасли, и Платон понял, что они теперь не действуют. Стоя на параллельной линии, он взглянул влево-вправо, крикнул Сашке:
— Трогай потихоньку, я стрелку переведу, — и побежал вперед, к стрелке.
В этот момент где-то за вокзальчиком послышалась стрельба, взрывы снарядов. Один со свистом перелетел через станцию и разорвался в поле, другой ухнул прямо в привокзальном скверике. Платон торопился со стрелкой, а ее, как назло, заело, и он не мог совладать с ней. Наконец совладал, перевел, хотел уже бежать к паровозу, как услышал необычно близкий свист в воздухе, пригнулся машинально, и в тот же миг раздался оглушительный взрыв. Снаряд угодил в котел паровоза, послышалось шипение, пар и дым окутали паровоз. Платон кинулся к нему. Клара увидела его из теплушки, закричала испуганно:
— Папа! Папа! Куда ты!
— Сидите на месте! — приказал им на ходу Платон, а сам сквозь клубы пара пробился к будке паровоза, крикнул: — Саша! Сашка!.. Жив? Что там у тебя?
— Жив, — откликнулся Сашка. — Я-то жив… — И он полез из будки на землю, дав понять Платону, что там больше им делать нечего.
— Как же быть? — вырвалось у Платона. — Как быть?
Он оглянулся на вокзальчик — там где-то должен все-таки быть дежурный, но вместо дежурного увидел, как на перрон выскочили один за другим два мотоцикла с колясками. До Платона не сразу дошло, что это немцы, он какое-то время смотрел на них с любопытством, и только минуту или две спустя в его сознании стало проявляться, что это враги. И эти каски, и этот серо-зеленый цвет одежды, и эти автоматы — все было чужим. И особенно этот гвалт, крик, даже не гвалт, а какой-то рявкающий, злобный базар, который они учинили, — все было чужим, непонятным, ужасающим.
Немцы быстро соскочили с мотоциклов, двое бросились к вокзальчику, один из них полоснул автоматной очередью по стеклам, другой ногой открыл двери, и они скрылись внутри. Двое других бежали к составу, и Платон смотрел на них как-то оцепенело, не находя в себе силы ни убежать, ни спрятаться. А немец уже вот он — бежит к нему. Наставил автомат, орет прямо в лицо:
— Зольдат? Партизан? Коммунист? Юда? Пук-пук! — Выпалил все это разом и, не ожидая ответа, кинулся к теплушке. — Вег! Раус! Давай-давай! — согнал всех на землю, сам залез внутрь, стал потрошить вещи. Он что-то ругался, выбрасывал оклунки наружу, гремел посудой.
Мария, Клара и Женька сгрудились возле Платона, дрожали, ждали от него спасения, а он стоял и не знал, что делать.
— Рвать надо, — негромко, но твердо сказал Виталий. — Пап, рвать надо.
— Что рвать? — не понял Платон. Он думал, Виталий советует рвать документы. Но как это сейчас сделать?..
— Бежать, бежать, Платон Павлович, — пояснил ему Сашка и, дернув за рукав, кивнул под вагон.
— Куда бежать?..
— Ну, не ждать же, пока они нас тут прихлопнут? — сердился Виталий.
Платон взглянул на жену, на детей, кинул глазами под вагон, но Мария, поняв его намерение, схватила его за руку, зашептала испуганно:
— Нет, нет, не оставляйте нас! Платон, не оставляй нас!
— Ну, как хотите! — махнул рукой Виталий и нырнул под вагон. За ним метнулся и Сашка.
— Виталий! Куда же ты, Виталий?
Но сын не слышал ее — он и Сашка поднырнули под горелый состав, скатились с насыпи по ту сторону и скрылись в зарослях еще не убранной кукурузы.
Немец выпрыгнул из теплушки, что-то сердито кричал в лицо испуганным то Платону, то Марии, те, ничего не понимая, машинально крутили головами, повторяя зачем-то одно и то же:
— Не понимаем… Не понимаем…
— «Не понимай», — сердился немец. — Гольд? Гольд? Зольото?
— Нету, — понял Платон, о чем тот спрашивал. — Нету золота…
Немец схватил одну руку Марии, другую, осмотрел пальцы, запястья и, не обнаружив никакого украшения, заругался, дернул за узел платка на груди, увидел на шее серебряную цепочку, рванул с силой, Мария вскрикнула от боли.
— Молчать! — заорал немец, пряча цепочку в карман. — Пук-пук! — пригрозил он автоматом. Крикнул что-то своему напарнику, который тем временем уже обшарил паровоз и вагоны, тот ответил, и этот снова заорал на Платона и его семью, указывая на вокзальчик: — Ком! Ком! — Подталкивая их стволами автомата, погнал через пути на перрон. В вокзале загнал их в угол, приказал сесть. Тут появились еще немцы, что-то стали кричать друг другу, Платону запомнилось из этого крика только одно слово: «Цивиль, цивиль». Всякий раз, когда они оглядывались на Платона, они почему-то произносили это слово. Пошумев с минуту, немцы ринулись на улицу, взревели мотоциклы, и все стихло.
Осторожно поднялся Платон, подошел к окну, выглянул — на перроне было пусто. Вдали стоял его состав, паровоз еще не остыл — клубился паром. Откуда-то стали накапливаться беженцы. Заслышав стрельбу, они попрыгали с платформ и пересидели немцев по ту сторону насыпи. Ошарашенные суматохой, люди молчали, машинально приводили себя в порядок: отряхивались, женщины перевязывали платки, проверяли узлы.
Первой очнулась Мария. Она сказала:
— Может, сходить к вагону да взять вещи?
— Да, пожалуй… — проговорил Платон и пошел на выход.
Вслед за ним побежал и Женька.
— Ты сиди тут, — не пустил его Платон.
На путях никого не было, и Платон без помех добрался до теплушки. Он стал перебирать вещи, что-то откладывал — взять с собой, а что-то отбрасывал прочь, потом поднимал, снова клал в кучу нужных вещей, а оттуда что-то выбрасывал. Отобранное связал в одеяло, понес.
Мария осмотрела и укорила его: не принес ни одного из детских теплых пальтишек и ничего не захватил из харчей. Платон кивнул Женьке:
— Пойдем… Поможешь…
Постепенно они освоились с обстановкой, и Платон стал думать, что делать дальше. Он вышел на внешнюю сторону вокзала и, услышав шум машин, осторожно пробрался сквозь кусты привокзального скверика. По дороге сплошным потоком шли танки, их обгоняли огромные грузовики с брезентовыми будками, похожими на цыганские кибитки, мотоциклы. Прямо перед ним на обочине стоял танк с таким же крестом на броне, какой он видел на крыльях самолета, который обстрелял их поезд.
Смотрел Платон на это скопище военной техники и с ужасом думал: «Как же ее остановишь, эту лавину? Прут, ничего не боясь…»
Он вернулся к семье, огляделся:
— Ну, что будем делать?
— Люди вон думают домой возвращаться, — сказала Мария. — Говорят, самое страшное передние части, они лютуют.
— А потом что?
— Откуда я знаю…
Однако в тот день они никуда не двинулись, тут же в вокзальчике и переночевали. А наутро, делать нечего, Платон отделил от остальных документов партийный билет, сунул его под подкладку теплого пиджака-«москвички», поднял семью и повел ее обратно домой.
10
Чтобы не встречаться с немцами, шли проселочными дорогами, стороной обходили города, поселки. Ночевали в заброшенных сараях, коровниках, фермах — на соломе, на сене, на жестких кукурузных будыльях.
Проселки тоже были запружены — по ним сплошным потоком тянулись такие же бедолаги и неудачники, как и Платон со своей семьей. Одни возвращались домой, другие, наоборот, бежали из дома — из захваченных немцами городов, где с первых дней оккупации начался террор и голод. Многие двинулись из городов в села — кто к близкой или дальней родне, а кто просто куда глаза глядят. Голодный люд толпами бродил по неубранным колхозным полям — ломали кукурузные початки, копали картошку, дергали свеклу. Благо мороз пока не сковал землю и не укрыл ее снегом. «Что будет с этими людьми, да и с нами, когда начнется зима?» — думал Платон, шагая впереди своего беспомощного отряда: больная Мария совсем обессилела, Клара натерла ноги и еле-еле плелась, хромая и хныкая от боли. Женька тоже устал, но, молодец, бодрился, пытался помочь сестренке — переложил кое-что из ее узла в свой. Навьюченные до предела разными вещами, они постепенно освобождались от ненужного. Уже на первом же привале пришлось оставить тяжелый ранец с учебниками и кое-что из посуды, на втором выбросили подушки, ватное одеяло и остальную посуду, кроме железной кастрюли, в которой варили еду, и ложек. На ночлеге сделали строгую ревизию всех вещей и оставили только самое необходимое из одежды да продукты. Даже сверток с фотографиями оставили под соломой — вся теряет свою ценность, все становится ненужным. А в дороге даже иголка тянет и ноша почему-то с каждым шагом становится все тяжелее и тяжелее.
Шагал Платон впереди своей колонны и думал, думал о жене, о детях… О Витальке — где он теперь? Скакнул в чем был и исчез. Может, лежит где-то в кукурузе, прошитый автоматной очередью, а может, мыкается вот так же по проселкам… Думал о себе — как быть теперь, как оно сложится?.. А сложилось уже хуже некуда — не думал и не рассчитывал он, что судьба так подшутит над ним. Ведь все было рассчитано, расписано, условлено — кто куда и как…
Он поднимал голову, смотрел вдаль, и при виде сплошного людского потока ему становилось немного легче, обида и горечь от настигшей беды притуплялись — не он один… Не может такая масса людей быть неправой — они делали все, чтобы вырваться, уйти… По крайней мере, он делал все. «Вот отведу их домой, а там…» А что «там» — он понятия не имел, но надеялся, что из дома будет все виднее…
На этот раз на ночлег остановились засветло: все выбились из сил, а идти дальше — неизвестно, встретится ли вскоре какое-нибудь прибежище? Да и другие уже сворачивали к длинному коровнику на отдых. Увидев коровник, захныкала Клара, ее поддержала Мария.
— Платон, — окликнула она мужа. — Может, остановимся? Я совсем обессилела… Куда торопиться?
«Как «куда торопиться»?» — хотел воспротивиться Платон: он-то как раз торопился, ему хотелось поскорее закончить это шествие и… И хотя не знал он, что будет за этим «и», Платон торопился. Но, оглянувшись на жену и детей, не стал дальше изнурять их, молча повернул к коровнику.
Здесь уже достаточно набралось ночлежников, одни закусывали, другие мостили себе постель из соломы, третьи уже лежали… Где-то в дальнем углу стонала больная женщина.
Выбрав местечко подальше от входа, Платон сбросил на пол узел, Женька рядом привалил свой и тут же опрокинулся навзничь, задрав ноги на узлы — «чтобы кровь отливала». Такой премудрости он научился уже в этом походе. Платон спросил у соседей, где они брали солому, оказалось — рядом, по другую сторону коровника. Пошел, набрал охапку побольше, расстелил на всех, лег с краю. От еды отказался — не хотелось есть, давила какая-то тоска. Первый шок от случившегося прошел, и теперь мучили раздумья, на душе было муторно и неспокойно.
Гонимые ветром войны люди все прибывали, к ночи их набилось столько, что ступить было негде, но никто не ворчал на тесноту, уплотнялись, давали место другим.
Не успели угомониться, как в коровник нагрянул немецкий патруль. И хотя это было уже не впервые, у Платона захолонуло в груди: как-то они обойдутся с ним на этот раз?
Немцы светили фонариками, пинали ногами спящих, поднимали — проверяли документы. Дошла очередь до Платона. Наученный прошлыми проверками, он не ждал, когда его поднимут, встал заранее, держа наготове паспорт.
Патруль направил свет Платону прямо в лицо, спросил:
— Партизан?
— Нет, — Платон покрутил головой.
— Большевик? Коммунист? Юда?
И опять Платон поспешно покрутил головой:
— Нет… Я ком свой хауз, — лепетал он каким-то виноватым голосом. — Это — матка, а это — мой киндер. — Он уже запомнил необходимые чужие слова и теперь произносил их как заклинание, которое должно спасти от беды. Немец, рассматривая паспорт, что-то говорил, но Платон не понимал его и лепетал свое: — Домой мы идем, ком в свой хауз… Туда, — он махнул рукой в сторону дома. — Хауз, хауз… А это мой матка и мой киндер…
Повертев паспорт, немец вернул его Платону и направил луч на соседей. Другой немец толкнул Платона автоматом в бок, чтобы посторонился и не мешал, и Платон покорно отступил в сторону, дав им дорогу.
Когда немцы ушли, по ночлежке пошел гомон — обсуждали облегченно приход патрулей. Ближайшие соседи тихо переговаривались:
— Смотри, обошлось: никого не забрали.
— Странно — даже не ударили никого…
— И вещи не тронули… Прошлый раз все перепотрошили. Карманы выворачивали…
— Так они, говорят, не везде злобствуют и зверствуют. На каких нарвешься. Они ведь тоже разные люди…
— «Разные»… Все они как с цепи сорвались, будто мы им всю жизнь зло делали. Повидал я их дела… «Люди»…
— Так то, наверное, каратели? Говорят, есть у них такие — каратели.
— Ну и что? За что же детишек, женщин карать? Чем они провинились? А они всех — подчистую…
«Смелый мужик, — подумал Платон. — Только зря он так громко: недолго и на провокатора нарваться». Платон укорял про себя говорившего, а самого досада съедала: откуда у него у самого-то взялась эта трусость? Откуда это подобострастие, с каким он говорил с немцами?! Увидел бы его в этой роли кто-то из сослуживцев — ни за что не поверил бы. Разве думал Платон когда, что он вот так униженно будет разговаривать с фашистом? Да он и говорить с ним не собирался — глотку ему перегрызет, и все! Так он думал когда-то. И вдруг: «Нет… нет… хауз, киндер…» А голос-то… голос робкий, просящий, умоляющий… Откуда это?
«Ну а если бы я повел себя иначе? Если бы я вцепился в глотку этому патрулю, что бы я выиграл? Ну, пристрелили бы меня, убили бы всех моих, а может, расстреляли бы для острастки и многих из ночлежников… Нет, ничего бы я не выиграл этим и никакой пользы никому не принес бы, и вреда немцам этим никакого не причинил бы. Только озлобил бы их еще больше. Будем считать, что я пока отступаю из тактических соображений…» — успокоил себя Платон и стал задремывать.
Но он не уснул: в дальнем углу сильнее обычного застонала женщина и кто-то громко вдруг прокричал на весь коровник:
— Товарищи!.. — И осекся, поправился: — Гр… Гр… Граждане, есть ли тут кто-нибудь врач? Женщина рожает, помогите, кто понимает…
Откуда-то из середины молча поднялся человек и, зажигая перед собой спички, заторопился в дальний угол. Женщина уже не стонала, а криком кричала и вдруг затихла. А вскоре раздался писк ребенка.
11
Обычно ночлежники поднимались рано и трогались в дорогу еще затемно, чтобы проделать за день как можно больший путь. Но сегодня ночью пошел дождь — мелкий, холодный, с ветром, и никому не хотелось выходить из-под крыши в эту мокредь. Собирались медленно, долго смотрели через дверь наружу, не решались переступить порог. И все-таки переступали его и уходили, чмокая подошвами по раскисшей грязи.
Платон надеялся, что сегодня у них будет последний переход — по его расчетам, к вечеру они должны бы уже прибиться к дому. Но по такой погоде вряд ли доберутся. И он сидел, не торопился будить детей, слушал, как за спиной шумит дождь и шлепаются с крыши тяжелые частые капли воды. Мария тоже проснулась, не спеша приводила себя в порядок.
В коровнике постепенно редело, и она сказала:
— Может, пора поднимать ребят?
— Да пусть поспят… Куда торопиться?
— Как куда? — удивилась она. — То спешил, спешил, а теперь… Домой надо побыстрее.
— А дома что? Ждут там нас?
— Все-таки дом…
Сиди не сиди, а идти действительно надо. Дождь не переждешь — сейчас не лето. Он и так, спасибо ему, долго терпел, его пора давно пришла. Досидишься — белые мухи полетят… Кутаясь и ежась, вышли они из коровника и поплелись дальше.
Плащей у них не было, только у Платона — брезентовый, из тех железнодорожных, которые главные кондукторы напяливали на себя поверх тулупа, когда сопровождали поезда. Плащ был большой, намокая, становился плотным и жестким, как железо. Платон несколько раз порывался бросить его — неудобный и тяжелый, он изрядно накрутил ему руки и плечи. Но всякий раз снова поднимал и нес дальше: время было осеннее, не сегодня завтра может начаться непогода. И вот он пригодился. Они растянули этот плащ над головами — слева Платон держал его за полу, справа — Мария. Посредине, как под навесом, шли Женька и Клара. Идти было неудобно, тесно, они мешали друг другу, но зато не текло за воротник.
В то время по полям бродило много скота, отставшего от перегоняемых на восток гуртов, разбежавшегося из брошенных колхозных и совхозных ферм. Коровы, свиньи, лошади разгуливали где ни попадя, кормились подножным кормом и быстро дичали. Немцы охотились на них, как на зверей, местное население тайком от полицаев ухитрялись ловить эту живность себе на пропитание. Особенно много скота попадалось Платону в начале пути — целые стада, брошенные на произвол судьбы. Но ему тогда было не до скота, теперь же он не прочь был бы поймать какого ни на есть барашка или поросенка, заколоть его и изжарить на костре — так изголодались уже без горячего, без мясного. Однако чем дальше внутрь оккупированной территории, тем реже попадалась на глаза подобная «дичь», особенно у дороги, где все уже было подобрано и теми же немцами, и местным, и проходящим людом. Поэтому Платон даже глазам своим не поверил, когда увидел в поле стоящую у копны соломы понурую лошаденку. Освободившись от плаща, он прошел по стерне к копне и стал, вытянув вперед руку, подступать к лошади. Животное стояло, задумчиво склонив голову, и когда Платон подошел совсем близко, лошадь лишь мигнула глазом, но с места не двинулась. Дождь сыпал на нее, а вода стекала с ее шерсти длинными струями под брюхо. Боясь, что она удерет, Платон подносил к ее морде раскрытую ладонь и говорил ласково:
— Кось… Кось…
Лошадь доверчиво ткнулась мягкими губами в ладонь, пошевелила ими, надеясь выбрать что-то из ладони, однако, ничего не найдя в ней, подняла голову, но Платон уже ухватил ее за короткий мокрый веревочный повод, который был продолжением примитивной веревочной уздечки. Погладил по шее и, успокоив лошадь, хотя она и не думала бежать, поправил на ней уздечку и потянул за собой. Лошадь вздрогнула озябшей кожей, встряхнулась — брызги от нее полетели в разные стороны.
— Замерзла, бедняжка… Ну, пойдем… Пойдем, погреешься… — ласково говорил Платон. Лошадь покорно пошла за ним.
На Платона пахнуло далеким детством. Его отец, живя в поселке и работая на транспорте составителем, тем не менее никогда не расставался с хозяйством, у него во дворе всегда была пара лошадей, корова, поросенок, куры, и поэтому Платон никогда точно не мог сказать, из каких он слоев, из рабочих или крестьян. Что-то среднее между тем и другим — полурабочий, полукрестьянин. Лошади у них были вплоть до коллективизации, а корова — все время. На старом дворе остался брат Иван, — он и теперь держит корову, если, конечно, с ними ничего не случилось.
Платон, правда, не очень любил возиться с хозяйством, этим занимались все больше младшие братья — Гавриил да Иван, в основном Иван, а Платон, поступив на транспорт, транспорту целиком и отдался. И теперь вот пахнуло на него знакомым, далеким детством…
Он сгреб ребром ладони влагу с лошадиной спины, накинул на нее байковое одеяло, кивнул ребятам:
— Садитесь. Все-таки ехать — не идти. — Подхватил Женьку, поднял на лошадь. Тот вцепился руками за гриву, сгорбился, боязливо улыбнулся. Какая-то неудобная основа для сидения была под ним. — Ну, давай и ты… Иди сюда… — позвал Платон Клару.
Та заупрямилась:
— Я боюсь…
— Чего бояться! Лошадка смирная. — Он поднял Клару, посадил сзади Женьки, приказал: — Держись за Женю. Во! — И прикрикнул на лошадь: — Ну, пошла…
Лошадь покорно тронулась, и Клара тут же закричала:
— Ой, ой! Упаду!
— Да держись ты! Куда упадешь? Я же рядом, — рассердился на нее Платон.
Но та не унималась, знай кричала свое:
— Ой, ой… Падаю!
Пришлось ее ссадить, а на ее место положить узлы. Женька какое-то время ехал, весь напрягшись, потом и он не выдержал, стал просить отца остановить лошадь:
— Твердо сидеть… И я все время падаю набок, — объяснил он.
— Ну, слазь, — сердито сказал Платон. — Неженки городские.
После этого они связали узлы попарно и, навьючив ими лошадь, сами пошли налегке.
Наконец начались свои места. Платон да и Мария и дети стали узнавать то знакомый пригорок, то посадку, то переезд. А вот и Горловское шоссе. Они выждали момент, когда ни с той, ни с другой стороны не было машин, поспешно пересекли его и пошли вдоль посадки.
— Скоро уже! — подбадривал Платон своих спутников. — Скоро будем дома! — Нащупав в кармане ключ от квартиры, он сжал его в руке. «Как там? — невольно подумалось. Потрогал изрядно отросшую бороду: — Соседи не узнают, пожалуй… И хорошо, если не узнают. И хорошо, что подойдем к дому, когда уже стемнеет: чем меньше глаз, тем лучше». И он, довольный, что скоро кончится их изнурительный переход, прибавил шагу. — Вон уже видна парашютная вышка, а это же рядом с нашим домом!
Да, это было совсем рядом: когда в лесопарке бывало массовое гулянье то ли в День железнодорожника, то ли в другой праздник, народ валом валил туда и обратно мимо их домов. А какие это праздники бывали! Многолюдные, веселые. Там в ларьках на лужайках шла бойкая торговля: пиво, ситро, мороженое, конфеты, пряники, разные игрушки-безделушки, — забава и развлечение детям и взрослым. А смельчаки длинной очередью стояли к парашютной вышке, забирались на самый верх, там пристегивались ремнями и прыгали вниз с головокружительной высоты, летели оттуда под куполом белоснежного парашюта… дух захватывало!
Сейчас вышка маячила в предвечернем мареве черной и одинокой. Парашюта на ней не было, болтался на ветру лишь конец какой-то веревки.
Идя все время окраиной, они миновали поселок машзавода, прошли его задами, пересекли небольшой буерачек и стали взбираться на пригорок, на котором стояли их новые дома. Они были действительно новыми, только перед войной, лет за пять, построили здесь несколько четырехэтажных кирпичных жилых домов. Новые!.. Так и прижилось это название, и на конвертах писали: «Новые дома».
На последнем километре Женька оживился, опередил отца, побежал первым наверх. Обрадовался: все тут ему было знакомо, каждый кустик, каждый камешек. С этой горки зимой они катались и на санках, и на коньках. Зальют, бывало, ее водой — и лучше всякого катка!..
Взбежал Женька наверх и остановился, дальше не двинулся, стал почему-то ждать своих. Увидел Платон растерянного Женьку, забеспокоился, заторопился к нему. Взобрался — и тоже обомлел: перед ним стояли разрушенные и обгорелые стены некогда красивых новых домов. Надеясь все-таки на удачу, Платон пошел дальше, на тот конец Новых домов, где была их квартира. Но и там оказалось все то же — развалины, обугленные кирпичи, рухнувшие перекрытия.
Смеркалось, ветер выл в пустых развалинах, навевал тоску и грусть.
— Что же теперь делать будем? — нарушила молчание Мария.
Очнулся Платон от раздумий.
— Как что? Пойдем в деревню, — сказал он решительно, назвав родной поселок по старинке — деревней.
— А вдруг и там пусто?
— Узнаем… Пойдемте, не будем время терять.
— Сейчас? — удивилась Мария. — Ночь ведь уже, нас могут патрули забрать. А там идти через кучугуры, через песчаный карьер… Страшно. Да и устали уже…
— Но и ночевать-то негде, — кивнул Платон на развалины. — А что ночь — так это и лучше. Вот как раз кучугурами и пройдем безопасно. Какие там патрули могут быть? Тут час ходьбы всего.
— Это час, когда посуху да здоровые…
— Не будем торговаться, — раздраженно сказал Платон. — Я другого выхода не вижу. — И пошлепал по грязи вперед.
Черной тенью, с опаской вступили они в кучугуры — старые и теперь заброшенные выработки кварцевого камня. От прежних разработок здесь остались высокие гребни навороченной экскаваторами земли и глубокие штольни, в которых, по народной молве, прятались разбойники. Платон был уверен, что если они и были когда-то тут, эти разбойники, то теперь, конечно, давно разбежались, так как делать им стало нечего: грабить некого, а жить в старых штольнях сыро и опасно. Тем не менее холодок страха забирался под кожу, и он невольно ускорял шаг, вздрагивал, присматривался к каждой тени и досадовал, что в раскисшей глине так громко шлепают и чмокают ноги.
Песчаный карьер был не страшен, и идти по нему было легко — песок не налипал на обувь, и уже это как-то взбодрило их, они повеселели: осталось пройти узким проулком между огородами — и они выйдут прямо напротив дома, в котором родился Платон, в котором осталась его мать с братом Иваном… Женька и Клара надеялись увидеть добрую и ласковую бабушку, которая всегда так необычно и необидно журила их за шалости и так трогательно жалела, награждая какими-нибудь гостинцами. Мария мечтала лишь об одном: скорее прибиться к месту, где бы она могла присесть, а еще лучше прилечь, — так она измучилась.
Не выходя на улицу, Платон остановил своих в колючих зарослях, пояснил шепотом:
— Постойте тихо, а я выгляну — нет ли патрулей. — Он прошел бесшумно к улице, огляделся. Вон он, давний колодец с воротом, как раз напротив проулка. Платон подошел к нему, глянул в один конец улицы, в другой — нигде ни души, ни огонька. Поселок казался вымершим. Но то, что хаты были целы — и слева, и справа, и особенно напротив — родной дом! — вселило в сердце Платона надежду на добрый конец такого долгого и изнурительного путешествия.
Он вернулся к своим и повел их осторожно через улицу прямо во двор. Взошел тихо на крылечко, попробовал дверь — она была закрыта изнутри. Постучал робко, чтобы не создавать шума, прислушался. В хате послышалось какое-то оживление, и он стал ждать. Наконец скрипнула комнатная дверь, кто-то вышел в сени.
— Кто там?
Платон узнал Иванов голос, обрадовался, сказал быстро:
— Свои… Открывай, Иван, свои…
— Свои и коней крадут, — проговорил Иван, однако открыл дверь. — Кто это, никак не угадаю. — Иван поднял коптилку, которую держал в руке: — Чи это ты, Платон?! — удивился он. — Откуда?
— Оттуда… Пусти переночевать, из сил совсем выбились. — Он прошел внутрь сеней, за ним, еле передвигая ноги, втиснулись остальные.
Иван прикрыл дверь на улицу, растерянно смотрел на ночных гостей — мокрых, грязных, изнуренных, не знал, как быть. Наконец заговорил:
— Ну, раздевайтесь, бросайте тут одежу, обужу, проходите в хату…
— Кто там, Иван? — нетерпеливо спросила мать, выглядывая в сени.
— Сейчас, сейчас все узнаете, — коротко ответил ей Иван. — Не выстуживайте хату.
— Штось много народу, — проговорила мать и скрылась в комнате, сказала детям и Геньке: — Наверное, какиясь прохожие переночевать попросились. — И удивилась: — Откуда же они так поздно?
Иван подождал, пока все разделись, открыл дверь в комнату:
— Проходите, — и сам вошел с коптилкой первым.
Увидев Платона, мать долго смотрела на него, не веря своим глазам, наконец вскрикнула:
— Плато-он?! Да зачем же ты вернулся? Да тебя ж убьют! Убьют! Всех же партейцев…
— Мама, перестаньте! — крикнул на нее Иван. — Зачем это раньше времени… — чуть не сказал «отпевать», однако сдержался — мать ведь, не сразу нашел другое слово: — …раньше времени наговаривать? И не всех, и не везде… Дайте людям в себя прийти.
— Ну, простите дуру старую, — отмахнулась мать, обняла Платона. — Колючий какой да бородатый… Внученьки мои дорогие, многострадальные! Невестушка моя болезная, как же ты при своих хворях переносишь такое? — Она всех обнимала, целовала, всем находила какие-то слова.
Ивановы ребятишки — Гришка и Валя — смотрели на своих родичей, удивлялись, какие они измученные. Поднялась с кровати Иванова жена, Генька, давно страдающая чахоткой, поздоровалась, стала искать сухую одежду пришедшим, прикрикнула на своих детей:
— Гриша, Валя, чего остолбенели? Доставайте свою одежду, ты Жене, а ты Кларе. Живо, живо. Они ж совсем окоченели…
А мать на Геньку зашумела:
— А ты бы лежала, сами управимся!
Переодевшись в Иваново сухое белье, Платон вспомнил:
— Там с нами еще один напарник шел, помогал нам.
— Кто там ишо? — забеспокоился Иван. — Чего ж молчишь? Нехай в хату идеть, чего ж…
— Да в хату он не влезет, — усмехнулся Платон. — Конь там… Приблудного поймали… Выручил он нас.
— Конь? Во, с детства не любил хозяйством заниматься, а теперь коня поймал.
— Нужда заставит… Может, отпустить его?
— Зачем же отпускать? — удивился Иван. — Конь самим пригодится: ишо неизвестно, как она, жизня, повернется. Пусть будет.
Он оделся, вышел на улицу, завел лошадь в сарай к корове. Корова испуганно попятилась, но Иван успокоил ее:
— Ничо, ничо, не бойся, он, видать, смирный. — Бросил лошади сена: — Ну, отдыхай.
Придя в хату, сказал Платону:
— Хорошая лошадка… Зачем же отпускать? Пригодится!
«Любит животных, — усмехнулся про себя Платон. — С детства от лошадей сам не свой. Ну и хорошо, хоть какая-то ему плата за наше нашествие».
А Иван продолжал:
— Тут, кто поумнее да пошустрее, а попросту — кто понахальнее да посмелее, нахватали себе живности. По полям столько бродило ее!.. Позакрывали в сараях и помалкивают. Если немцы не отберут, хорошо перезимуют. А они отбирают. На улицах, что поближе к станции да к шоссе, шуруют вовсю. У кого корову, у кого поросенка заберут, не спрашивая, твоя то или пойманная. Проходящие части обирают сильно. — Помолчал, признался: — Я тоже поймал поросенка. Хватился, когда их уже всех переловили… Оказался совсем дохленький — худющий, потому, и бегал быстро. Подкормить бы его надо было, да побоялся держать — не свой все-таки, — зарезал. Ни мяса, ни сала, одни кожа да кости. Но ничо. Засолили все… Хоть на первое время будет мясцо.
Потом, когда сели за стол, он, разрезая хлеб, сказал:
— Хлеб свой… Элеватор горел… Люди кинулись зерно спасать… Запаслись некоторые. А я и тут поздновато хватился: пошел — уже чистенькой пшенички почти не было. Раза два сходил, и все. Потом горелой нагреб три мешка, привез на тачке. Теперь перебираем, толчем в ступе… — Он понюхал хлеб. — Пахнет горелым, но ничего, есть можно… А чистую приберегаю…
И вдруг вскинулась бабушка, вспомнила:
— А где же еще внучек? Виталичек где? Федю, слыхала, в солдаты взяли. А Виталия?
Платон взглянул на Марию, сказал угрюмо:
— Потеряли Виталия…
— Как потеряли?!
— Да так… В суматохе. Когда немцы нас обстреляли, а потом стали состав обыскивать, они с кочегаром убежали. Под вагоны — и в поле… Больше мы их не видели. Мы ночь еще на той станции сидели, но они не вернулись.
— Куда же они девались? Может, их поубивало?
— Не знаем…
12
Легли спать, но угомонились не скоро, где-то уже за полночь. Однако и после этого Платон и Иван долго не спали, перешептывались. Платону не терпелось узнать досконально об обстановке. Вскрик матери: «Зачем вернулся, тебя же убьют!» — встревожил его не на шутку. А Иван тоже беспокоился: не навлек бы Платонов приход беды на дом, на семью.
Платон лежал на соломенном матраце на полу, а Иван — рядом на кровати. Свесив голову, он рассказывал:
— Сначала сюда пришли итальянцы. Кавалерия. Проскакали по улицам, где-то стрельнули для страху и ускакали. На другой день появились опять же итальянцы, но уже на мотоциклах с петушиными перьями на касках. Эти пошарили в хатах. Ну не так, чтобы дужа, а наспех, поверху, увидит что блескучее — хватает. Курей постреляли. И уехали. До нас, правда, они не дошли, мы далеко от дороги и от центра — это, может, и спасло нас. А потом появились немцы. Те сразу давай порядок наводить. Комендатуру, полицию организовали, приказы наклеили: оружие сдать, иначе расстрел, то-се — за все расстрел… За листовки — расстрел. За одного немца десять заложников убьют.
— Ну и как они? — не выдержал Платон длинный Иванов рассказ. — Тронули кого-нибудь?
— А как же! Я ж тебе об чем толкую… «Тронули»… Первым схватили Егора Полянского. Ты его знаешь, он директором кирпичного завода был. Нашли его не дома, а у сестры, что живет на Симбику. Ее забрали за то, что скрывала брата у себя. Двоих ребятишек Полянского — вот таких, как Виталька и мой Гришка или твой Женька, тоже забрали. Жинку и девочку его не тронули. А тех всех порешили… То ли расстреляли, то ли повесили… Всех — и ребятишек, и сестру. За укрывательство. А на грудях у них будто висели таблички с надписью: «Партизан». Полянский, кажуть, был оставлен тут специально, чтоб немцам вредить, а его кто-то выдал. Ну, ты, наверное, лучше меня знаешь, оставлен он был или сам остался…
— Нет, не знаю. Откуда же?..
— Ну, то твое дело, конечно. — Иван не поверил ему: как же так, чтобы Платон не знал, кого они тут оставляли.
— А еще кого? — спросил Платон.
— Трех человек с первого поселка… В ту же ночь схватили. Обчим, тут ясно: их свой кто-то продал, потому что знали, где кто скрывается, и всех накрыли. Да конечно же свои выдали, им-то откуда было знать? Там же в полиции наши дураки служат.
— Как наши? — удивился Платон.
— Вон двое с Куцего Яра. Помнишь, такие бандюги были, с ножиками ходили, братья Шуренковы?.. Не помнишь? Забыл просто… Обое там, ходят с белыми повязками на рукавах и с винтовками… Всегда пьяные. К людям относятся хуже немцев. А начальником полиции Эберле. Он на Красной улице жил, хата у него под соломенной крышей, а двор как проулок — все нараспашку. Такой мужик был никчемушный, в клубе билеты проверял да пацанов гонял. Его взяли наши в армию, а он вернулся с немцами и в ихней форме, никого не признает, орет только по-немецкому и зверствует: всех же знает. Как тут скроешься?
— А еще какие репрессии были? — допытывался Платон.
— Были, как же… Согнали людей окопы рыть за путями… Не окопы, а противотанковый ров такой… Зачем он им нужен, до сих пор не пойму. Ну а ребятишки шли — и кто-то лопатой перерубил телефонный кабель. Приехали, выстроили и тут же каждого пятого расстреляли. Мальчишек!
— А сейчас как? — Платон досадовал, что Иван не говорит самого главного: как они с коммунистами поступают, как ему быть?
— Да сейчас немного потишало.
— С коммунистами… Что они делают с коммунистами?
— На учет взяли всех. Вывесили объявление: всем взяться на учет и ходить каждую неделю отмечаться. А кто будет укрываться, тому расстрел. И тому, кто будет их укрывать, тоже расстрел, — добавил Иван, особенно нажимая на последнее обстоятельство, хотя это и так разумелось: ведь сестра Полянского поплатилась именно за укрывательство.
— Нда… — проговорил Платон задумчиво.
Не ожидая дальнейших расспросов, будто самому себе, Иван сказал:
— Не знаю… Смотри сам, тебе виднее. Если думаешь уходить, так надо это делать, пока не рассвело. Потом поздно будет. Оно и так: если узнают, что был, то мне уже не жить. Но тут можно ишо как-то отбрехаться: мол, пришел и ушел, откуда и куда — не знаю. Хотя они много не спрашивают…
— А есть в поселке кто-то из коммунистов?
— Есть.
— Кто?
— Один — Арсюха Землянок. Он на той улице, где наша сестра Нюрка живет. Дежурным работал в нашей смене…
— Что-то не помню.
— Да знаешь ты его. Землянок — это по-уличному, а его фамилия… как же? Вспомнил, Шахов его фамилия.
— Так он здесь? А еще кто?
— Других я не знаю. Я думаю, поживи, оглядись. Зарегистрируйся, как они требуют. Живут же люди, и пока их не трогают. И нам спокойнее. А там видно будет.
— Как же жить? Чем жить? Жить — надо работать?
— Где ты будешь работать? — удивился Иван. — Сейчас надо как можно больше харчей запасти, чтобы зимой с голоду ноги не протянуть. Пока снег не лег, надо еще подкопить корму и себе, и скотине. Поблизости, правда, уже ничего не осталось, а подальше — там еще можно и кукурузы наломать, и картохи накопать, и свеклы. Теперь народу прибавилось, надо будет смотаться… Спи пока.
Но Платону не спалось. Как быть? Уйти? Бросить семью на Ивана? Мария совсем расхворалась — стонет, бредит во сне. Видать, жар у нее. Доконала дорога… А у Ивана своя семья и жена такая же, не помощник. И сам он дрожит от страха: если Платон не уедет, Иван может поплатиться жизнью. А идти… Куда идти? Фронт ушел далеко и уходит все дальше. И чувствует Платон, что не сможет он куда-то уйти, не хватит у него на это ни сил, ни смекалки… Остаться и положиться на судьбу? Смириться, затаиться, покориться?.. Нет, он отдохнет, осмотрится, посоветуется с людьми и потом уже примет решение. А они ведь есть, люди, с которыми можно поговорить, которые знают, наверное, и то, чего Иван знать не может…
Еще было темно, но Иван уже встал, так, кажется, и не уснув, зажег коптилку. Поднялась и мать, стала помогать ему собраться, — он уходил на очередной поиск съестного на полях. Страшила Ивана зима и голод.
— Ты бы хоть к Нюре зашел. Как они там? Может, с собой взял бы Васю или ее самую. Одна ведь баба — да с тремя…
— Некогда мне ходить, — огрызнулся Иван. — Ближний свет! Что они, дурее всех? Не видят, как люди делают? Да и встречал я Ваську как-то на элеваторе — ведра два пшеницы набрал…
— Ведра два… Надолго ее хватит?
— Сами сходите. Днем сходите и проведайте, — распорядился Иван. — Рази я могу на всех наносить? — Сказал и осекся: не подумал бы Платон, что он и его имеет в виду.
— Разве Васька дома? — подал голос Платон. — Его же вроде в армию призвали?
— Призывали, да чего-то не взяли. Работал до последнего дня в военкомате, а потом кинулись бежать, да уже некуда, — объяснил Иван, хотя точно и не знал, как оно было дело. Говорил со слов матери.
Платон поднялся, стал одеваться.
— Ты куда? — спросил Иван.
— С тобой. На раздобычу, семью-то надо чем-то кормить…
— О, какой ты быстрый! Не, братух, ты сегодня отдыхай и делай свои дела. А я один схожу, на разведку. Если что — завтра пойдем вместе. Может, и тачку прихватим, чтоб побольше привезти. Мешком рази наносишь?
13
Услышав такой совет от Ивана, Платон понял, что брат боится и за себя, и за Платона, и хочет, чтобы он как можно быстрее определился: если уходить — так сегодня же, пока никто не видел, если оставаться — тоже чтобы не тянул. У немцев суд короткий, они ни с чем не считаются, расстрелять человека для них ничего не стоит, проще, чем убить бродячую собаку. И тут Иван, конечно, по-своему прав. Как же быть?..
Вышел на двор, а когда вернулся, Ивана уже не было, а мать сидела у постели Марии и причитала:
— Ой, боже, совсем, бедная, расхворалась. Платон, гляди, какой у нее жар… И дохторов нету, позвать некого. Сейчас я тебе молочка вскипячу. Будем сами лечить. Простудилась, бедняжка…
Присел Платон на корточки, положил руку на лоб жене и тут же отдернул:
— Да-а-а… Как печка… — Спросил мягко: — Простудилась?
— Наверное, — с трудом выговорила она. — А ты что решил?
— Пока ничего.
— Я все слышала, весь ваш разговор. Не знаю, что тебе посоветовать. Вешать нас на Иванову шею?.. И за тебя боюсь: останешься, а вдруг тебе хуже будет? Тогда буду винить себя… А уходить? Куда идти? И скрыться некуда…
— То-то и оно… — вздохнул Платон.
Мать принесла в чашке горячее молоко:
— На, пей. Молочко всегда пользительно… Горчичники б поставить, да где их взять? Ничего нет, ни больницы, ни аптеки. Как жить будем? Тут все слухи пускали: вот как только немцы придут, так всего навезут, не жизнь будет, а сплошная благодать. У них техника! У них всего много! И мануфактура, и продукты — всего будет вволю. И вот тебе на, получай… Навезли, да не того, что людям надо. Техники, правда, много — танки да орудия. Машины здоровенные — под самую крышу… А к людям относятся хуже, чем к скотине, убить человека — будто муху прихлопнуть. Что ж это за порядки? Да и рази ж это люди? Ни жалости, ни совести. Последний провиант забирают. Накормили…
— А вы верили? — подала голос Генька из своей каморки.
— Я-то не верила. Дура я, что ли? Я-то помню немцев ишо с той войны… Такие ж оглоеды. А вот те-то что думали, какие эти слухи пускали и ждали немцев? Как они теперь людям в глаза глядят? Да-а… Если бы не натаскал Иван с колхозного поля, небось уже зубы на полку положили бы. — Марфа Романовна надела Марии на ноги шерстяные носки, укрыла одежиной потеплее, приказала: — Лежи. Пропотеть бы надо…
— А можно из перца сделать горчичники, — опять отозвалась Генька. — Я сейчас встану, сделаю. Я Ване как-то делала — помогло.
— Ну, встань, дочка, встань, помоги… Совсем расхворалась девка, — стояла над больной свекровь. Оглянулась на Геньку: — Да сама одевайся потеплее, не бегай так-то.
— Я из хаты никуда не пойду. Перец вон Гриша принесет. Гриш, сбегай в кладовку, там на гвозде он висит.
Гришка, белоголовый парнишка, с вихорком на левой стороне лба, послушно метнулся в чулан, принес огромную низку красного стручкового перца.
— Ой, да зачем все-то! — удивилась мать. — Ты как тот цыган, что за водой ходил. Одного хватит. — Она пошурухтела сухими стручками, выбрала самый большой — темно-красный, блестящий, будто лакированный. — А эти отнеси обратно и повесь как следует на гвоздь. — Генька оторвала от перчины хвостик, бросила его в угольный ящик у плиты, принялась пальцами разрывать стручок на мелкие кусочки. Потом сгребла все это в железную кружку и деревянным толкачом, которым вареный картофель мнут, стала растирать перец в пыль.
Платон смотрел на хлопотавших женщин, слушал их разговор, удивлялся жизни: живут люди рядом с противником, видят, как он злобствует, но сделать ничего не могут; одних убивают, а другие, пока живы, запасаются провизией и надеются, что смерть как-то пройдет стороной, минет их хату. Слушал и думал о себе: что делать? Этот вопрос мучил его все больше, и он не мог его решить. Что делать, куда идти? Идти к этому Шахову? Он с ним совсем не знаком… Пойти в Ясиновку? Но и там, с кем он мог бы посоветоваться, никого не было, все уехали. Уехали чуть раньше его и теперь, наверное, в безопасности. А ему не повезло, и неизвестно, чем это кончится. А делать что-то надо…
Прежде всего надо было спрятать партбилет, спрятать надежно, надолго и чтобы ни одна душа не знала, где он. Платон вышел в сени, окинул стены, потолок — нет, не приметил надежного местечка, где можно было бы устроить тайник. Заглянул в чулан — там разного барахла навалом: ящики, мешки с зерном, под потолком початки кукурузы, низки лука и перца, за дверью старая Иванова рабочая одежда развешана. Присел Платон на мешок, стал прикидывать. Хорошо бы в стену замуровать, да долгая это работа, пока будет стену ковырять, обязательно кто-то из домашних увидит и спросит, чем он занимается… В земь закопать и замазать? Как бы мыши не попортили билет…
Перегородка чулана была дощатой — из горбылей. Со стороны сенцев доски обмазаны глиной, как и все стены, а изнутри они оставались такими же, как и были снову, — даже не оструганы. На высоте дверей шла широкая поперечина, которая и держала всю эту перегородку. Платон прощупал рукой — плотно ли прилегают к ней доски, и нашел довольно глубокую щель. «Вот и хорошо, — обрадовался он. — И сухо, и высоко… И при случае могу проверить». Он завернул в газету партбилет и засунул поглубже в щель, чтобы не сразу его можно было и нащупать. Заглянул снизу — не видно. Отряхнул руки, вздохнул облегченно и тихонько, без скрипа, закрыл за собой чуланную дверь.
«Пойду, — решил он. — В Ясиновку пойду». Ему казалось, что там он скорее встретит кого-то из знакомых, кто даст ему дельный совет. Или по крайней мере объяснит ему обстановку, из чего можно будет сделать хоть какой-то вывод. Из Ивановых рассказов он толком ничего не понял — все это где-то, да с чьих-то слов, разговоров, а сам он пока еще ничего не видел — живет тут на краю, и война его непосредственно еще никак не коснулась. Кроме того, что магазины позакрывались. Так магазинами он и раньше не очень пользовался, покупал разве что хлеб, соль да спички, а все остальное — свое…
— Пойду, — сказал Платон. — В Ясиновку схожу — может, встречу кого из знакомых.
Мария подняла на него глаза, хотела возразить, но раздумала, решила, что это будет не к месту. Платон понял ее, недовольно поморщился: «У нее одно на уме… Даже в такое время…» Платон же об Эмме даже не вспомнил, в Ясиновку его тянуло совсем по другой причине — там он надеялся понять настоящую обстановку.
— Зайду к родным нашего машиниста, — Платон спрятал в боковой карман документы Николая.
— Хорошие вести принесешь людям… — сказала Мария.
— Как же быть? Плохих вестников не жалуют, я знаю. Но оповестить-то надо? А для меня — повод с людьми поговорить.
— Ты же там осторожнее будь, — приказала мать. — Они облавы делают. Все тихо-тихо, а потом, рассказывают, будто взбесятся: налетят, хватают кого ни попадя. То шукают кого или ловят, а то просто на работу какую-нибудь сгоняют. День, а то и неделю подержат — глядишь, отпустят… То дорогу починять, то что-нибудь грузить тяжелое.
Пошел Платон. Выглянул из калитки на улицу и шмыгнул через дорогу в проулок, по которому они вчера пришли. В конце огородов выдернул из плетня палку, зашагал, опираясь на нее, будто старик. Выйдя за кучугуры, свернул на железнодорожную насыпь — по шпалам идти легче, чем по грязи, да и — заметил — народ там ходит. Сначала подумал: ремонтники, путейцы что-то делают. А потом вспомнил: какие же сейчас путейцы? Разве что немцы восстанавливают пути? Остановился, присмотрелся… Нет, прохожие. Действительно, прохожие. Да много-то как! Идут в одну сторону, идут в другую, и все с какими-то рюкзаками, узлами. Идут женщины, старики, ведут с собой детишек. Все понурые, усталые… Влился в этот поток и Платон, поплелся не спеша, переступая со шпалы на шпалу. Некогда блестевшие от непрерывного движения рельсы сейчас покрылись красной ржавчиной. И вдруг заметил он: внутренний рельс переставлен, колея сужена. Следы от подкладок и старые дырки от костылей еще совсем свежие. «Вот те на! — удивился Платон. — Они уже колею перешили на свой лад! Надолго обосновываются…»
В центре Ясиновки тоже было заметно людское движение. Не такое, правда, как до войны, изреженное, замедленное, но все-таки жизнь какая-то шла. И Платон немного успокоился: на улице он не один. Но, увидев идущего навстречу немца, невольно замедлил шаг и стал лихорадочно соображать, что будет отвечать ему, если тот спросит, кто он и куда идет. Но пока он соображал, немец — высокий, в долгополой шинели с черным воротником, в начищенных сапогах, в фуражке с лихо вздернутой тульей и белой кокардой над лакированным козырьком — надменно прошел мимо, даже не взглянув на Платона.
Платон вытер выступившую на лбу испарину, зачем-то оглянулся, посмотрел на немца со спины, пошел дальше. Но не прошел и нескольких шагов, как увидел еще двух немцев — солдат. В касках, в сапогах с широченными голенищами, с винтовками за плечами, они медленно шли серединой улицы. Явно патруль. И опять Платон забеспокоился, почувствовал вату в коленях, однако сдержал себя, принял задумчивый вид, прошагал мимо. Удивлялся на прохожих: ходят как ни в чем не бывало, привыкли, что ли, к необычной обстановке? Платону это казалось странным, сам он, кажется, никогда к такому не привыкнет…
Улица, на которой жил Николай, была на другом конце Ясиновки, за мукомольным заводом. Свернув в переулок, Платон с облегчением прибавил шагу: «Уж тут-то, наверное, немцев не будет…» Но выйдя к заводу, он увидел, что тут-то их как ос в гнезде — и пеших, и на машинах. Мукомольный завод работал вовсю, одни машины въезжали во двор, другие с улицы примыкали задом к открытым дверям и нагружались мешками с мукой. Платон решил обойти завод стороной, вышел на подъездные пути, а потом — на другую улицу, именно на ту, куда он частенько в хорошие времена хаживал, чтобы отдохнуть, как он говорил себе, «душой и телом». «Маруся как в воду глядела, — упрекнул он себя. — Ноги сами сюда вынесли… Ну а почему не зайти, не расспросить? Уж она-то откровеннее других будет со мной!»
Привычно открыл калитку, быстро прошел на крылечко, постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. Он ожидал, что Эмма кинется сейчас ему на шею и долго будет душить его… Но Эмма, увидев Платона, поперхнулась на полуслове, веселые глаза ее постепенно стали гаснуть и наливаться смертельным ужасом. Было ясно, что она ждала не его.
— Платоша?! Ты?! Пришел?! — лепетала Эмма первые попавшие слова. Руки у нее дрожали, она медленно отступала от Платона, как от заразного.
По-прежнему яркая, чистенькая, только, заметил Платон, губы непомерно напомажены да прическа изменена — вместо простой шестимесячной завивки лоб ее украшали четыре толстых локона, будто четыре длинных трубки. И так же пахло здесь устоявшимися приторно-сладкими духами, которые когда-то дурманили его мозг…
— Тоша, тебе нельзя здесь оставаться ни минуты, это опасно и для тебя и для меня. — Она бросила взгляд в другую комнату и прикрыла туда дверь, но Платон успел заметить на спинке стула немецкий офицерский мундир. — Это… Офицер у меня квартирует… На постое. Он может каждую минуту вернуться… Я не могу рисковать, Платоша! Они за это очень сурово наказывают, расстреливают и подпольщиков, и тех, кто их укрывает… Ой, как ты рискуешь! Тебя же здесь все знают, а борода ничуть не маскирует… Ясиновка вся забита немцами. Больше никаких сведений я не знаю. Прошу тебя, уходи… Пощади меня, умоляю… Ради нашей любви…
Ничего не сказав, Платон повернулся и быстро вышел. «Чем черт не шутит, вдруг действительно вернется постоялец…» Он не стал искать больше улицы, где живет родня погибшего Николая, отложил это до другого раза, кратчайшим путем пересек Ясиновку и скрылся в буерачке. Он шел так быстро, будто убегал от погони. «Пойду в Андреевку, там все-таки потише. Зайду к сестре, с Васькой потолкую… Парень он шустрый, комсомолец, он поболе Ивана, пожалуй, знает… Там же и с Шаховым попробую встретиться…»
Вышел из буерачка, тропкой через солончаковый бугор направился прямо на огород сестры. Шел и вспоминал свое приключение в Ясиновке — будто в пекле побывал и благополучно выбрался. Ему казалось, что он совершил что-то неслыханно дерзкое. Постепенно успокаиваясь, он стал давать трезвую оценку некоторым событиям.
Эмма… А ведь он действительно любил ее. Однажды в какую-то минуту чуть было не поддался на ее уговоры и не перешел к ней совсем. Хватило ума как-то отбиться… Уж больно она настойчиво стала об этом говорить и где-то переборщила, опротивела… Он познакомился с ней в железнодорожной больнице. Она — врач. Так внимательно, так обходительно она с ним тогда обращалась, так ласково прикасалась к его телу, выстукивая и выслушивая, что Платон, когда она закрывала ему бюллетень, не удержался и сказал с искренним сожалением:
— Жаль, мне так понравилось у вас лечиться.
— Ну что ж… Мы можем продолжить. Я с удовольствием приму вас у себя дома.
Платона тогда даже в жар бросило: вот не ожидал! И в тот же вечер, прихватив с собой гостинцев, бутылку вина, явился к ней «на прием»…
«Сука…» — выругался Платон, ступая на обросший колючим «перчиком» огород сестры.
14
Мать с Танюшкой, рассыпав пшеницу прямо на клеенку, сидели с двух сторон стола, перебирали ее по зернышку, освобождая от горелых, черных, как мышиный помет, зерен, а Васька, оседлав перевернутую табуретку, хекая, толок в ступе кукурузу на муку и крупу. Алешка отдыхал. Как мужчина, он работал с Васькой на переменку — толок зерно.
Ступу одолжили у соседей Симаковых на очень короткое время, и поэтому надо было торопиться. «Самим нужна», — сказала Ваське бабка Марина, когда он выкатывал ступу из ихнего сарая. Ступу эту — необработанную заготовку для снаряда — Симаковы мужики притащили с Путиловского завода. Ступа была тяжелой, Ваське не поднять, поэтому он катил ее, пиная ногой, а Алешка нес, взвалив на плечо, толкач — железную сапожную лапу.
— Вот это немецкая техника! — издевался Васька над «мельницей». — Сама мелет и молотит, пирожки сама печет!
— А ты что ж, ждал, что немцы будут об тебе заботиться? — заметила мать.
— Я ничего не ждал! — сердито сказал Васька. — Это Симаковы ждали. Павка Симаков, двоюродный ихний, все восторгался: у него техника, у него бензин в таблетках! А оказалось — чепуха, никаких таблеток. «Вот восстановят дорогу, начнут ходить поезда, сразу всего навезут!» Навезли! Видел вчера на нашей станции — сплошные пушки, да танки, да ящики со снарядами. А паровозики у них! Смех один! Маленькие, меньше нашей «овечки», будто игрушечные. Нет, все равно говорит: «Они маленькие, да удаленькие: сильные и экономичные». Откуда там у него сила возьмется? Если наш «ФД» сильный, так оно каждому видно, что это машина! А то…
— Так ты вчера аж на станции был? — удивилась мать. — Ох, доходишься! Там же постоянные облавы. Арестуют — где тебя потом шукать? За каким вот делом ходил?
— Так у него ж там невеста новая объявилась, — сказала Танюшка ехидно.
— Невеста? Какая еще невеста? — удивилась мать. — А Мальцеву куда? То жить без нее не мог, а теперь…
— Так Мальцевой же нет, — ехидничала сестра.
— Значит, с глаз долой — из сердца вон? — покачала мать головой. — А я-то думаю: что это он зачастил на тот поселок?
— Да слушайте вы ее больше, — зарделся Васька. — Трепушка такая…
— Ага, «трепушка»! — не сдавалась сестра. — Сам же хвастался Ивану Костину: «Во, познакомился с дивчиной! Влюбился — по самые уши! Галя Малыгина, из десятого класса железнодорожной школы». Это когда они еще в военкомате работали. Ну? Скажешь, неправда?
— Неправда, — не очень уверенно сказал Васька и пригрозил: — Будешь трепаться — язык отрежу.
— Ой, боялась я тебя! А еще он сказал Ивану: «Скромненькая, даже целоваться не умеет». Ну, не говорил, скажешь?
Покраснел Васька до ушей, бросил толкач в ступу, вскочил.
— Ну-ну, — остановила его мать. — А ты слышала — будто не слышала, не все говори, — не одобрила она Танюшкину болтливость, и та недовольно надула губы, опустила свои длинные черные ресницы.
— Да ничего я такого не говорил, — зачем-то оправдывался Васька. — А ходил я к ребятам… Хоть новости какие узнать…
— За те новости расстреливают, — предупредила мать.
— Так что же теперь, сидеть сложа лапки?
— Лучше бы в поле сходил да лишний мешок кукурузы принес.
— Ну вот, опять вы…
— Да, опять! — Голос у матери построжал: — Ты и тогда артачился, когда на элеватор идти: «Не пойду грабить!» А че грабить? Горело ведь добро. И если бы не настояла да сама не пошла, что бы сейчас ели? А люди не дураки: нахватали мешками да тачками навозили, и не такой гари, как мы, а чистенькой. Теперь им зима будет в спину. А у нас? Прикинула: если до Нового года дотянем, хорошо. Пока есть в поле кой-что — надо подзапастись. Симаковы говорили: за дальним мостком еще и кукуруза стоит, и бурак, и картошка… Люди не сидят, и нам надо подумать об себе. Завтра дождь не дождь — все пойдем. Когда ляжет снег да мороз землю сковает — тогда уже поздно будет.
— Ладно, — говорит Васька, соглашаясь с матерью. Конечно, она права. Действительно, не принеси они тогда с элеватора пшеницы — сидели бы уже на одной кукурузе. Да и та кончается: сколько ее там было на огороде? — Алеш, готовься, еще десяток раз ударю, и твоя очередь: ух-раз, ух-два…
Неожиданно в сенях кто-то звякнул защепкой наружной двери и заскребся в комнату, ища в темноте ручку.
— Кто там? — встрепенулась мать. — Мимо окна никто не проходил. А двери что ж на засов не закрываете?..
Васька насторожился. Вспомнил — в кармане у него лежит листовка, подобрал в поле — наши самолеты разбрасывали. Принес с собой, думал выбросить ее где-то в людном месте или наклеить, да не успел… Если это немцы или полицейские, начнут искать… Спина похолодела. Хотел кинуться к пиджаку и сунуть листовку в плиту, но было уже поздно: дверь открылась и в хату вошел какой-то мужик — толстый, заросший и… улыбающийся.
— Можно войти?
Мать смотрела на вошедшего растерянно, не узнавая брата, а Васька сразу вскочил, бросился навстречу:
— Дядя Платон?! — Он обнял его, приник к небритой щеке. Платон даже носом шмыгнул — расчувствовался от такой встречи.
Дядя Платон! Для Васьки это был и кумир, и звезда, и пример. Всю жизнь ему хотелось походить на дядю Платона! Первые радости он нес ему. Это к нему он поехал, когда получил комсомольский билет! Платон был единственным в родне членом партии, единственный, кто занимал такой пост. И когда Васька оказался на оккупированной территории — один, без друзей, без наставников, — он метался, как зверь в клетке, искал выхода, искал настоящего дела, борьбы, но не знал, с чего начинать, и досадовал на себя. Единственной отдушиной было — сочинял он антифашистские стихи да собирал в поле листовки и разбрасывал в поселке. И вот наконец судьба послала ему дядю Платона — коммуниста, человека дела. Он наверняка пришел оттуда, от наших, пришел с определенным заданием, и Васька поможет ему выполнить его! И бороду отпустил как настоящий партизан!..
— Платон? — повторила мать удивленно вслед за Васькой. — Откуда он тут взялся? Они ж уехали… — Присмотрелась, воскликнула: — И правда, Платон… — Она подала ему робко руку, все еще не веря своим глазам.
— А я сразу вас узнал, по голосу, — не унимался Васька.
— Да и я угадал, — сказал Алешка. — Хоть бы и без голоса…
— Вообще, — продолжал Васька, — если не знаешь, ни за что не узнать.
Платон усмехнулся:
— Это верно. А ведь маскируются, чтобы знакомые не узнали.
— Я совсем зарапортовался, — засмущался Васька. — Я хотел сказать, что можно и не узнать, если бы вот так на улице встретились.
— Да погоди ты, — остановила его мать. — Раздевайся да рассказывай толком, откуда ты…
— Ну, мам, сами, что ли, не понимаете. — И Васька выразительно подмигнул ей: мол, не спрашивай то, чего он не имеет права говорить, и сам же сказал: — Оттуда…
— «Оттуда»? Ничего не понимаю.
— Да тут и понимать нечего, — сказал Платон устало. — Немцы опередили нас, паровоз снарядом разбили. Пришлось вернуться.
«Легенда! — подумал Васька. — Уж меня-то не проведешь! Легенда, сразу ясно».
— Вот вчера только добрались до двора, — продолжал Платон.
— В Ясиновку?
— Там все сгорело и разрушено. К матери… — И пояснил: — К брату Ивану.
— Всей семьей?
— Всей. Кроме Витальки… Убежал куда-то, и не знаем, где он…
«Понятно, легенда. Виталька уже большой — его оставили там, а эти еще маленькие, вот он их и взял для прикрытия», — расшифровал Васька на свой лад рассказ Платона.
— Ну а вы как живете?
— Да как? В страхе да в голоде, — сказала мать. — Вон хлеб добываем сами, — кивнула она на ступу. — А скоро и в ступу сыпать будет нечего…
— Вы лучше расскажите, как там? На фронтах? У вас же свежие новости? — не терпелось Ваське.
— Откуда же? Как выгнали нас немцы из вагона, так все эти дни мы и блукали по полям да по коровникам, а там радио нету. Слухи разные, одни других противоречивее.
— Так вы правда ничего не знаете? — удивился Васька. — И что в Москве на седьмое ноября парад был, и что на торжественном заседании выступал товарищ Сталин — не знаете?
Воспрянул Платон, смотрит на Ваську веселыми глазами:
— Какой парад? Давно слухи идут, что все правительство в Куйбышев переехало, а Москва вроде уже у немцев.
— Как бы не так! — Васька кинулся к своему пиджаку, достал листовку — большую, величиной с заводскую многотиражку. — Вот, читайте!
— Откуда это? — Платон взволнованно вертел в руках листовку. — Неужели наша?
— Конечно, наша! С самолетов разбрасывают.
Взглянул Платон на Ваську удивленно, принялся жадно читать. Читал и не верил: все вроде наше, советское, без подделки, а не верится. Глаза слезы застилают, он смахивает их, улыбается и читает, читает…
— Ну что ж… Это хорошо! За сколько времени впервые вижу свою газету. Будто воды живой напился, — сказал Платон, возвращая листовку Ваське.
— А вы смотрите, сколько наши за это время уничтожили фашистов, — обращался Васька уже ко всем. — Четыре с половиной миллиона убитых, раненых и взятых в плен!
— А наших сколько? — спросила мать.
— Всего один миллион семьсот сорок восемь тысяч, — прочитал Васька.
— Это мало? Миллион!.. Трудно даже и представить, сколько это будет…
— Ну а их-то вдвое больше!
— А все идут и идут. Едут и идут… Откуда их столько на нашу голову набралось? Вроде и сама-то Германия маленькая, а немцев сколько!
— Так разве тут одни немцы? Они ж всю Европу подняли и на нас направили. Тут, дядь, знаете, кого уже только не было! Сначала пришли итальянцы, потом были австрийцы — у нас два дня стояли, потом румыны, словаки. Ну, эти, видать, совсем не хотят за немцев воевать, говорят против них, будто наши. Да и австрийцы тоже не очень, один все говорил маме: «Матка, война плехо. Немецкий офицер — плехо…»
— Ты все знаешь? Лезешь ко всем с разговорами — нарвешься на какого… — не выдержала мать.
Платон протянул руку за листовкой — еще раз взглянуть.
— Надо же, совсем свежая! Три дня прошло — и вот уже сообщение! Раньше газеты медленнее приходили. — Он снова вернул листовку Ваське. — На, храни.
— Куда «храни»? Куда «храни»? — Мать вдруг вырвала из Васькиных рук листовку и сунула ее в горящую плиту. — И ты тоже, как маленький: «храни», — напустилась она на Платона. — Будто не знаешь, что за листовки расстреливают на месте? — Она погрозила Ваське: — Ой, чую, навлекешь ты беду на всех нас! Говорю, пожалей хоть их вот, — указала она на Алешку и Танюшку. — Фашисты, они ж никого не щадят. А ему все это будто игрушки: то стишки, то листовки… То вздумал к седьмому ноября чистоту на дворе наводить и звезду на погребе как обычно хотел из красного песка выложить. Ну, умный он? «Немцам назло». А немцам от этой твоей песочной звезды ни жарко, ни холодно. Увидели б, и все: «пук-пук». У них один разговор: «пук-пук». Это значит — стрелять. Еле отговорила не делать звезду. Большой уже, а ума — как у Алешки.
— То-то я вижу — во дворе чистенько, песочком присыпано, — сказал Платон. — Как на праздник!
— Так вот же!
А Васька слушал мать и, посматривая на Платона, заговорщицки улыбался: пусть, мол, ругает, а он, Васька, свое дело знает.
— Улыбаешься, — качнула та головой и обратилась к Платону: — Ведь не узнаешь, к чему и привяжутся. У нашей тетки Фени, у маминой сестры, невестка, жинка Тихона, оказывается, еврейка была. А мы и не знали. Худенькая, черненькая, и все. То ли еврейка, то ли гречка… Да и наших рази мало чернявых? Было у них две девочки, обе такие же худенькие, смуглявенькие, как и мать ихняя, хорошенькие бегали. Немцы откуда-то узнали, что она еврейка, пришли и забрали — ее и обеих девочек, и до сих пор нема никаких слухов. Куда-то отправили. Ну? А он думает, немцы с ним шуточки будут шутить.
— Да, конечно, с этим шутить нельзя, — поддержал Платон сестру. — Ты будь поосторожней. Мать правильно говорит.
Слова Платона Васька воспринял лишь как утешение для матери, он был уверен, что поступает правильно и что дядя в душе одобряет его и гордится им. Листовке-то вон как обрадовался!
15
Как только стемнело, Васька повел Платона к Шахову. Что за человек этот Шахов, чем живет, объяснить толком Васька не мог, потому что сам ничего не знал.
— Этого Арсюху не поймешь. Он то ли слишком всего испугался, что и разговаривать боится, то ли так сильно маскируется, что даже никому не доверяет, — говорил Васька Платону, однако вел его туда охотно: им обуревало чувство причастности к большому таинственному делу, будто он помогает Платону наладить связь.
Улица была совершенно безлюдна и темна, нигде ни звука, ни проблеска огонька, и тем звучнее казались их шаги в этой пустыне.
Шахов жил через три дома от Гуриных — вниз по улице, ближе к мосточку. Его подворье стояло на противоположной стороне, огород спускался вплоть до самого ручья.
Они вошли во двор, Васька постучал в окно. Через какое-то время уголок занавески приподнялся, и к стеклу прилипло чье-то лицо. Васька тоже приблизился насколько можно к окну, сказал:
— Это я, Василий Гурин, сосед ваш… Откройте, пожалуйста, дядя Арсений…
Занавеска опустилась, чьи-то руки снова приладили ее так плотно, что свет наружу совершенно не пробивался. Послышались шаги в приделанном к хате коридорчике.
— Ты, что ли, Василь? — спросил мужской голос из-за двери, прежде чем открыть запорную задвижку.
— Да я, дядя Арсений, я…
— Шо ж так поздно ходишь? Людей пугаешь… Дня тебе не было? — ворчал Арсений, открывая дверь. — Заходи.
— Еще не поздно, семи, наверное, еще нет, а хождение разрешено до девяти, — оправдывался Васька.
— Ладно, ладно. Проходи.
— Я не один…
— А-а-а… — Голос у Арсения вдруг сник, он с минуту смотрел в темноту, потом сказал: — Ну что ж, проходите. Сватов, что ли, ведешь? Так почему ко мне? У нее мать есть, и живут они напротив. Заблудился? — Арсений пытался шуткой сгладить неловкую паузу. Васька не ответил. Дело в том, что Арсюхина племянница Паша — Васькина ровесница, с которой они с самого детства были «жених и невеста». Когда повзрослели, Ваське стало неловко быть Пашиным «женихом», тем более что он полюбил девочку из другого класса, блондиночку Валю Мальцеву, и сердился, когда кто-то по-прежнему клеил ему в невесты Пашу. А Паша, красивая чернобровая дивчина, с двумя толстыми, черными как смоль косами до пояса, была к Ваське неравнодушна. Когда еще училась в школе, она часто прибегала к нему то за учебником, то сверить задачку, а теперь бегает к Ваське за новостями и жадно слушает советские сводки, обволакивая Ваську влюбленными глазами…
— Нет, не заблудились мы, — ответил за Ваську Платон. — Мы к тебе, Арсений… — Отчества Платон не знал и ждал, что Шахов ему подскажет, а тот, узнав Платона при свете лампадки, смотрел на него раскрыв рот. В глазах застыл смертельный страх, как у приговоренного к расстрелу.
Из спальни показалась Арсюхина жена, спросила:
— Кто там к нам пришел?
Арсюха встрепенулся, отмахнулся от нее резко:
— Сиди там! Не твое дело! — И закрыл перед ее носом дверь.
— Не узнал, что ли? Чего испугался? — заговорил Платон мягко. — Будто я казнить тебя пришел.
— Меня не за что казнить, — быстро заговорил Шахов. — Не за что! Я ничего такого не сделал: ниоткуда не сбежал, не дезертировал, никого не продавал.
— Ну и хорошо, — сказал Платон. — Я поговорить пришел… Сесть можно? — Он подвинул себе табуретку, сел. Арсюха тоже несмело опустился на табуретку. — Поговорить хочу… Расскажи…
— А мне нечего рассказывать, я ничего не знаю, — перебил Платона Шахов. — Когда пришли немцы, сразу арестовали Полянского и всех других. Говорят, они были оставлены для подпольной работы, но их кто-то выдал. Других никого не тронули, только на учет взяли. С тех пор пока тишина. Вот и все.
— Ты как живешь?
— Как? Так и живу.
— Уехать не пытался? — спросил Платон.
— Куда ехать? — хмыкнул Арсюха недовольно. — Ехать меня никто никуда не приглашал. И тут никто не оставлял. Как получилось, так и получилось: был и остался.
— Обязательно надо было приглашать?
— А как же? Всех собрать и сказать: так и так, обстановка складывается так-то. А то сами сели и укатили, а ты как хочешь.
— Многие самостоятельно…
— Хм! «Самостоятельно»! На чем же я самостоятельно уехал бы? На своих двоих? С семьей? Далеко ушел бы! Вам хорошо говорить: заранее вагончик был приготовлен, все чин чином, сели и уехали. А про рядовых подумали? А теперь ищете…
— Да ты-то и не очень рядовой был. Но ладно. Я не об этом хотел говорить, — сказал Платон примирительно.
— А о чем же? — насторожился Арсюха.
— Жить как думаешь дальше?
— Как придется. Надо как-то пережить это время, пересидеть, перехитрить немцев, затаиться и сохранить… кадры.
— Какие кадры? — не понял Платон.
— Как «какие»? Человеческие. Наши. Вы уехали для чего? Шоб сохранить руководящие кадры? Верно? Правильно, не спорю. Там легче будет сохранить. Тут бы немец мог пошпокать. А рядовые и есть рядовые, с них спрос маленький.
— А руководителей расстреливают?
— Смотря каких. Если никакого вреда не делать немцам, не трогают. — Помолчал, заговорил более уверенно: — Да и что шебуршиться? У него вон какая сила! Плетью обуха не перешибешь. Надо ждать, когда наши там соберутся с силами да вызволят нас. Тогда и мы пригодимся. А я так куда хочешь пойду — хоть в армию, хоть на самую тяжелую работу.
— Думаешь, вернутся наши?
— А как же! — уверенно сказал Арсюха. — По всем приметам — немец уже выдыхается.
Платон не стал спрашивать, по каким приметам это ему видно, важно было, что он хоть верит в нашу победу.
— Говоришь, надо пережить это время?
— Да… А что? Вы думаете, это легкое дело?
— Пережить-то можно по-разному. Можно, чтобы сохранить свою шкуру, пойти на службу к оккупантам…
— Смотря какая служба… Одно дело служить в полиции и другое — на путях, щебенку подбивать под шпалы.
— Разницы мало: щебенку-то подбивать — дорогу немцам мостить, по которой они военную технику гонят против наших…
— Так-то оно так… И все-таки, я считаю, то меньшее зло.
— А что, работают и там, и там?
— Да! Работают и служат. — Арсюха немного успокоился, даже на Ваську оглянулся: что же ты, мол, даже этого ему не объяснил? Васька стоял у входной двери, облокотившись о притолоку, слушал их разговор и в ответ на Арсюхин взгляд только переступил с ноги на ногу. И Арсюха продолжал: — Работают. Дело другое — как работают, но работают — голод ведь не тетка. Это мы тут вот пока держимся на подножном корме, поднатаскали, — он опять взглянул на Ваську, снова ища у того поддержки. — А у других, у городских, сразу голод начался. Хочешь не хочешь — пошли на биржу труда.
— Биржа труда? Это что такое?
— Ну, как у нас когда-то было в первые годы. Кто хочет работать, регистрируется на бирже труда, а там, если находится работа, ему присылают повестку.
— Вон как! А я думал, они просто сгоняют народ на работу, — удивился. Платон.
— Да, чаще всего они так и делают. Облавы устраивают…
Платон расспросил, какая процедура при регистрации коммунистов — о чем спрашивают, какие документы требуют.
— Партбилет, например. А если я его потерял?
— Я тоже свой потерял, — многозначительно сказал Арсюха.
Платон поднялся уходить, и Шахов совсем оттаял, даже заулыбался. Неожиданное появление Платона испугало его, он думал, что тот явился к нему с требованием выполнить какое-то задание, а это значило подвергнуть себя такому риску, на который он не способен. Но вот Платон встал, а никакого задания ему не поручил. Может, не доверил, а может, еще по какой причине… «И пусть, это его дело, главное — я пока свободен», — облегченно подумал Шахов. Пронесло…
— Вы уж, Платон Павлович, извините меня: может, я что-нибудь и не так сказал, но поймите, после того, что они сделали с Полянским и с другими, которые знали, что делать и то не сумели, мы… я… Один в поле не воин. Жертва лишняя будет, а пользы от этого никакой. Это как слону дробина.
— Да, пословиц в оправдание можно много найти, — сказал задумчиво Платон. — До свидания.
— Прощайте. А бороду вы зря отпустили: только при первом взгляде не узнать, а присмотришься…
Не успели они с Васькой спуститься с крылечка, как за ними поспешно закрылась дверь, тыркнула задвижка. По звуку Платон понял, что, вернись они сейчас, Шахов ни за что им не открыл бы.
— Ну, видите, какой он? — сказал Васька сердито.
Платон не ответил, шел впереди, опустив голову. Только в гуринском дворе обернулся, сказал тихо:
— Я уж заходить не буду. Поздно… До свидания… — Предупредил: — Да будь осторожен.
Васька забежал вперед, схватил его за руку, тихо попросил:
— Дядь, вы ж меня не забывайте. Если что — я готов, на все готов! А? Ладно?
Платон молча потрепал Ваську за плечо и, склонив голову, пошел не спеша огородной тропкой домой.
16
Сначала Ивану показалось, когда он только вышел из переулка, неся на плечах тяжелый мешок с кукурузными початками, будто вся улица запружена немцами — машинами и солдатами. Ревели, буксуя в дорожной грязи, тяжелые грузовики с брезентовым верхом высотой почти под самую крышу, разворачивались, давя мощными колесами хрупкие заборчики. Солдаты что-то постоянно орали сердито и громко — то ли подавали команды, то ли ругались. Иванова хата была заслонена фургоном, и он поторопился к себе. Бросил ношу на завалинку, кинулся в сени, а там чуланная дверь настежь, и в кладовке вовсю шуруют немцы. Солдаты ножами разрезали на мешках веревки, а фельдфебель набирал в руку зерно, смотрел, бросал обратно и что-то коротко приказывал солдатам. Один, другой мешок — с кукурузой, с подсолнечными семечками, с пшеницей, — все осмотрели. Семечки фельдфебель пнул ногой, мешок упал и рассыпался. Два мешка с хорошей пшеницей солдаты снова завязали и один за другим потащили из кладовки. Вернувшись, солдат указал на третий мешок — с горелой пшеницей, но фельдфебель рявкнул:
— Найн! Шайзе!
Иван кинулся к фельдфебелю, стал дергать его за полу плаща, то с одной стороны, то с другой:
— Пан, пан… Не надо!.. То кушать, кушать детям… Киндер… Вот сколько киндер и матка, — он показывал ему на пальцах, сколько у него едоков. Но фельдфебель — здоровый, краснорожий, будто кирпичом натертый, детина, не замечал Ивана, отмахивался от него, как от назойливой собачонки. И когда тот, видать, изрядно надоел ему, он резко обернулся и, тыча Ивана в грудь кинжалообразным штыком от немецкой винтовки, который он держал все время в руке и орудовал им как указкой, закричал:
— Мольшать!
Увидев приставленный к Ивановой груди кинжал, мать бросилась на руку немца, запричитала:
— Христом-богом молю, не убивай его! Не убивай! Помилуй! — И на Ивана: — Отступись ты от греха подальше, отступись…
Немец оттолкнул старуху и брезгливо посмотрел на рукав своего плаща, словно она оставила там какое-то пятно, махнул на Ивана штыком:
— Вег! Раус! — И указал пальцем в чулан: — Кушать кукурузка, мамалига. Ферштейен? Унд Сталин-шоколад — семьечки. Отчен вкусно! Ферштейен? — И, захохотав, пошел на крыльцо.
Там два солдата, уже обшарив сарай и чердак, стоя навытяжку, что-то докладывали ему. Солдаты были в касках, в сапогах с широкими раструбами голенищ и в серо-зеленых френчах, туго подпоясанных черными ремнями, отчего эти френчи внизу смахивали на старинные бабьи кофты с оборками. Одинакового невысокого роста, толстенькие, они были похожи на болванчиков, отштампованных одним станком. Выслушав их, фельдфебель отдал какое-то приказание, и они разбежались в разные стороны — один заспешил к машине, а другой снова нырнул в сарай.
Ломая и подминая под себя ворота и калитку, во двор медленно вползал задом огромный грузовик. Солдаты быстро откинули задний борт, вытянули из нутра деревянный полок, опустили его одним концом на землю, а другой крючками зацепили за машину — образовался пологий настил.
Иван не понимал, что они еще затевают, думал, может, будут выкатывать из грузовика какой-то груз — бочки с бензином или еще что… Но зачем? И вдруг увидел: ведет солдат-коротышка корову. Увидел Иван и обомлел, потом закричал, будто его резали по живому:
— Пан, не забирай корову! Пан, не забирай корову! То млеко для киндер… Киндер, киндер… Дети. Больные… Жена больная!.. Пан!.. Пан!..
Но корову уже, подталкивая под зад, солдаты грузили в машину, а в Ивана вцепилась сзади его мать и умоляла:
— Успокойся… Успокойся, Ваня, сыночек… Не трогай их, пусть берут…
Иван ударил кулаком по перилам, выругался:
— …твою мать! Что же это за люди?!
Услышав, как Иван выругался, фельдфебель обернулся и, уперев в него большие круглые стеклянные глаза навыкате, будто на них были толстые, двойного стекла очки, со смаком повторил матерщину и рявкнул:
— Мольшать! Ты кушать лошадка, великая германская армия кушать карьёвка. Ферштейен? Мольшать! — Он хотел что-то скомандовать своим, но снова обернулся к Ивану, достал из пазушного кармана портмоне, вытащил одну купюру в десять марок, пришлепнул ее на перила и, подняв палец, пояснил: — То есть германская деньга! — После этого залез в кабину, и грузовик медленно пополз со двора. На улице фельдфебель, не вылезая из машины, прокричал что-то остальным, и один за другим грузовики уехали, оставив улицу изувеченной, изрытой глубокими колеями, будто ее перепахали какие-то немыслимой величины животные. А было их тут всего три грузовика и человек пятнадцать солдат.
Иван висел на перилах крыльца и рыдал, как ребенок. Мать взяла его и легко повела в хату — он был вялый, легкий и покорный, как резиновая кукла с выпущенным воздухом. Уронив голову на стол, он вздрагивал от рыданий, бил кулаком по столу и ругался:
— Ограбили!.. Чем я буду кормить восемь ртов? Чем? Паразиты! Еще и издеваются!
— Ну, успокойся. Успокойся, сыночек… Слава богу, этим обошлось: все-таки кой-что оставили. Перебьемся как-нибудь. Не мы одни… Они всю улицу обчистили. Как люди, так и мы… Моли бога, что этим кончилось, могло быть и хуже. Вон сколько случаев было, рассказывают: заберут что надо, а остальное подпалят. И хату, и все. А то еще и поубивают.
— Да лучче б он убил меня! — стонал Иван.
— Ну, ишо что выдумал! «Лучче». А мы бы тогда что делали без тебя? Ты об нас, об детях подумай, прежде чем такие слова говорить. Не гневи бога. Хорошо, что этим кончилось.
Но Иван не успокаивался:
— И чтоб мне, дураку, спрятать ту пшеницу или замусорить ее горелой? И корову можно было в кучугуры угнать…
— Мужик задним умом крепок, — сказала мать. — Нечего казниться теперь: разве знаешь, куда и зачем они нахлынут? Они ж не предупреждают. Знал бы куда падать — соломки подостлал бы. Это известно.
Когда возвратился домой Платон, Иван все еще лежал головой на столе, всхлипывал и ругался. Платон взглянул на мать, спросил глазами, что с ним.
— Гости приезжали, — сказала она. — Немцы. Хлеб забрали… Корову тоже увели, ироды.
— Никого не тронули?
— Слава богу, никого.
Платон снял плащ, прошел к жене. У той был сильный жар, и она металась, не зная, куда себя девать.
— Ты… — поймала она его холодную руку, потянула к голове. — Наверное, я не выживу… Не оставляй нас, Платон…
— Да вот же я, пришел.
— Не оставляй…
— Ладно, ладно. — Он подошел к Ивану, положил ему руку на спину. — Успокойся. Ну что ж теперь делать? Война. Их сила, их власть.
— И откуда ты взялся со своей конякой? — сквозь слезы начал Иван: — Не было б ее, может, корову и не взяли бы. А то разделили: «Ты кушать лошадка, а германская армия кушать карьёвка», — передразнил он немца.
— Иван, — подала голос Генька. — Ну что ты говоришь? Ты все-таки думай… Платон Павлович, не обращайте на него внимания.
— А что я такого сказал? — поднял голову Иван.
— Ничего, ничего, — похлопал его Платон. — Успокойся.
— И правда, хватит убиваться так-то. И попрекать нечего и некого, — напустилась на Ивана мать. — Не было б коня, так, думаешь, корову б оставили? Оно и видно… Ну взяли и взяли, пущай подавятся ею. И хлеб… Не куплен же? Как пришел, так и ушел…
— А есть что будете?
— Что есть, то и будем. Кукурузка — тоже хлеб. Пока есть в поле, надо не полениться да еще натаскать. — Она неожиданно улыбнулась, кивнула на ребят, которые рассматривали невиданные ими доселе деньги: — Не даром взяли — заплатили! Аж десять марок! А что с ними делать?
— В нужник сходить, — зло бросил Иван.
Наконец он успокоился, зажег другую коптилку, пошел в чулан наводить порядок. Немного погодя к нему вышел помогать Платон.
— Видал, что натворили, гады? Семечки рассыпали, горелую пшеницу — тоже. Теперь перебирай вот по бубочке. — Окинул взглядом припасы: — Ну, насколько этого хватит? Месяца на два — на три? До крапивы не дотянуть…
— Ты в поле был… Там есть еще что-нибудь?
— Есть, только далеко… А народу по полям бродит! Из города все там. Быстро подберут. День-два — и все чисто будет.
— Я тебе помогу.
Иван взглянул на брата, спросил:
— Куда-то ходил сегодня?
— Ходил.
— Ну и что решил?
— Да ничего. Она, жизнь, сама решает за тебя…
Ничего не понял Иван из этого ответа, хотя хотелось узнать определенно, что решил Платон: не было бы беды еще и с этой стороны. А тут дела пострашнее. Но допытываться не стал, оставил на утро.
Всю ночь Платон вздыхал, раскидывал и так и эдак, а утром все-таки пошел и зарегистрировался. Его предупредили, что он не имеет права никуда отлучаться из дома и каждую неделю обязан являться на отметку…
Думал Платон — после этого облегчение наступит, а оно наоборот: такая тоска накатила, будто взял да и залез сам в вонючую трясину по самую шею, из которой вряд ли теперь удастся и выбраться. И он сразу потускнел, постарел, сник…
А Васька, узнав, что Платон встал на учет, недолго думая нашел ему оправдание и даже погордился в душе за своего дядю: «Значит, так надо: не торопясь, постепенно… Он должен легализоваться…» Это мудреное слово Васька знал из тех книжек про шпионов, которые читал еще в школе, и теперь удачно объяснил им Платоново поведение.
17
Еще до наступления заморозков поля в округе опустели начисто — все было собрано голодным людом до зернышка. Под снег ушли только дальние свекольные плантации: кормовая свекла тяжелая и для еды не очень пригодная, а подбиралось в первую очередь то, что нужнее: кукуруза, картофель, морковь. Но когда мороз сковал землю, а потом и снегом укрыл, дошла очередь и до этой свеклы. Голод научил людей использовать и ее: свеклу терли, промывали в чистой воде, отжимали, мешали с кукурузной или иной мукой, пекли лепешки, а воду, в которой мыли тертую свеклу, выпаривали на сковороде, пока на ней не оставалась бурая густая жижа — сладкая с небольшой горчинкой патока.
Иван с Платоном почти каждый день ходили на промысел — рыскали по полям, собирали, что могли. Часто прихватывали и Ваську. Собрались с тачкой на Путиловский завод за ступой — дали знать и ему, прислали Гришку: если хочет, пусть, мол, пораньше приходит. Как же не хотеть? Без своей ступы просто беда. Поехал Васька с дядьями, нашли на заводском дворе в куче металлических отбросов две заготовки для снарядов, привезли. Теперь Ваське благодать — есть своя ступа! Правда, толкач плохой, легкий. Сделал его Васька сам, приспособил сломанный держак от лопаты — обрезал на нужную длину, а самый торец подковал — прибил металлическую пластинку. Толкут они теперь кукурузу все напеременку, добывают себе пищу.
За свеклой идут Иван с Платоном — тоже берут Ваську с собой. Вчера пришла сама бабушка — проведать, а заодно и оповестить:
— Мужики наши собираются завтра кудась за бураком. Вроде сахарный бурак Иван где-то надыбал аж под Скотоватой. Дак ты, внучек, не поленись, пойди с ними. Сколько принесешь, столько и принесешь, патоки напарите — чайку попьете. А он, этот бурак, и вправду сахарный. На вид маленький, белый, хвосты длинные, вроде морковки, даже и не похож на наш, на борщевой, сладкий. Вчера Иван принес, натерли — совсем другое дело, с кормовым не сравнишь. Сходи, внучек, не поленись.
— Пойду! — охотно согласился Васька: с дядьями, а особенно с Платоном, он куда хочешь пойдет. Да и промысел этот Васька уже не считал грабежом — голод заставил думать по-иному.
— И я пойду, — подал голос Алешка.
— Замерзнешь, — сказала бабушка.
— Не, я уж ходил.
— Ну, как знаете…
— Мне бы самой пойти, — раздумчиво проговорила мать. — Да больно далеко. Если б это за кукурузой — пошла, а за свеклой… Сладкое я не люблю.
— Любишь не любишь, а без сладкого тоже нельзя. Как и без соли, — возразила бабушка.
— Соли принесли, сходили в Артемовск, хватит надолго.
— Берегите. Потому как с солью не так просто стало, — посоветовала бабушка. — За соль можно будет и хлебушка выменять, и одежонку. Соль береги!
Мать пригласила бабушку к столу — чаю попить.
— Не, не буду. Я сыта.
— Попробуй нашего, — уговаривала мать.
— Да такой же? Ветками вишневыми завариваете?
— Когда вишневыми, когда смородинными — тоже вкусно пахнут.
— О, смородинного ишо не пробовала. Налей, — и она подвинулась вместе с табуреткой ближе к столу.
Утром, скрутив мешки трубочкой и сунув их под мышки, вскинув лопату на плечо, Васька с Алешкой подались в поле. Выйдя за мосток и поднявшись на бугор, ребята увидели вдали две согбенные фигуры. По походке узнали своих дядьев, заспешили им наперерез. Иван увидел Алешку, пошутил:
— Сладкое, видать, любишь? За кормовым бураком не ходил, а за сахарным пошел!
Алешка смущенно улыбнулся, пристроился в хвост колонны. Впереди Иван, за ним Платон, потом Васька и последним — Алешка. Так и пошагали гуськом по снежной равнине, угнув головы от встречного ветра. Время от времени Платон оглядывался на ребят, спрашивал:
— Не замерзли? Не устали?
Иван тоже оглядывался, поторапливал:
— Пошли, пошли! На ходу не замерзнешь… Да и мороз сегодня мягкий. Ветер, правда… Пошли быстрее, а то придем к шапочному разбору. Народу видите сколько?
Народу и правда в поле было много — парами, одиночками, группами по три — пять человек, шли в одну сторону, в другую, шли наперерез. Горожане двинулись в дальние деревни, понесли на обмен свое барахло: одежду, обувь, драгоценности, у кого они были и у кого еще уцелели. Хотя и одежда, и обувь, и драгоценности — все обесценилось и основным мерилом стоимости теперь стал кусок хлеба, стакан зерна…
На перекрестке наторенных полевых дорог они наткнулись на сидящего старика, — он сидел на узле каких-то вещей, склонив голову почти до колен. Руки в рабочих парусиновых рукавицах были сложены крест-накрест на груди. Он сидел спиной к ветру, и, видать, сидел уже долго, так как с наветренной стороны весь был побелен снегом, а внизу у ног образовался сугробик.
— Бедняга, — замедлив шаг, сказал Платон. — Присел отдохнуть и уснул… Он же так может замерзнуть. Его надо разбудить.
— Не трогай, — с досадой сказал Иван, обойдя сидящего стороной.
— Замерзнет ведь, — Платон задержался у старика, тронул его рукой за шапку. — Папаша… Эй, отец! — Он потряс его за плечо, и старик вдруг стал валиться на бок. Платон хотел поддержать его, но не успел, старик безжизненным комом рухнул на дорогу, издав каменный стук.
— Говорил, не трогай, — с еще большей досадой напустился Иван на Платона. — Ну, что стоите? Пошли куда идем.
Платон взглянул на Ивана, указал на старика:
— А как же?
— Ну что «как же»? Что «как же»? Их вон, пройди по полю, встретишь сколько мертвецов… Пошли!
С трудом Платон сдвинулся с места, поплелся медленно за Иваном, оглядываясь на старика. Васька и Алеша стояли поодаль, увидев, что дядья ушли вперед, молча обошли страшное место и побежали догонять мужиков.
А люди, усталые, отощавшие, обездоленные, шли в одну сторону, шли в другую, спокойно обходили замерзшее, скорчившееся тело, — такие картины для них уже стали привычными…
Еще издали Иван увидел: несколько людских фигур ковыряются на «его» поле, оглянулся на своих спутников, упрекнул:
— Вон, люди, наверно, все уже собрали, а вы… А мы…
И они принялись за работу. Рядки заснеженных бугорков отчетливо обозначали место, где были спрятаны сладкие корни. Морозы стояли не сильные, и земля еще не успела промерзнуть на большую глубину, достаточно было раз-другой ударить лопатой, надавить ногой, а потом нажать на черенок — и черная от земли свекла выворачивалась на поверхность. Васька долбил землю, а Алешка кухонным ножом счищал со свеклы комья земли и обрубывал тонкие хвосты. Свекла была лишь сверху подмерзшей, а ниже, к хвосту, еще хранила осеннюю свежесть и легко поддавалась ножу. Работали они быстро, споро, у Васьки даже спина взмокла, и он передал лопату братишке:
— Возьми, погрейся.
Алешка нагрелся быстро, но наковырял свеклы мало, да и ту покромсал лопатой. Видя Алешкино мучение, Васька отобрал у него лопату, принялся сам за работу. Тем более надо было торопиться — у дядьев мешки уже комковато пузатились, и они уже то и дело примерялись: может, хватит, нести-то не близко.
И вдруг увидел Васька — зацепился за бурьянину розовый листок бумажки, трепыхается на ветру, полощется, силится улететь куда-то. Еще не видя, что это за листок, Васька уже догадался: листовка! С трудом подавляя волнение, он подкрался к ней и схватил обеими руками, будто ловил дорогого голубя. Развернул — и в глаза бросился крупный заголовок: «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». А под ним: «От Советского Информбюро». Не помня себя, Васька подбежал к Платону, тронул его взволнованно за плечо:
— Дядь, смотрите: немцев разгромили под Москвой!
Платон выпрямился, увидел листовку, недоуменно посмотрел на Ваську.
— Вот тут нашел! — сказал Васька и принялся вслух читать. К ним подошли Иван и Алешка, слушали внимательно. А Васька читал, все распаляясь, голос у него дрожал от слез, от радости, он проглатывал очередной комок и сыпал, сыпал цифрами: по предварительным данным, в ходе битвы за Москву с 16 ноября по 10 декабря убито более 85 тысяч немецких солдат и офицеров, захвачено и уничтожено 1434 танка, 5416 бронемашин, 575 полевых орудий, 339 минометов и 870 пулеметов. Освобождены города Волоколамск, Руза, Солнечногорск, Клин…
Рухнул миф о непобедимости фашистской армии!
Васька улыбался, а слезы текли по его щекам, он вытирал их, силился что-то сказать и не мог и только потрясал листовкой. Платон тоже растрогался, взял листовку, стал перечитывать. Иван и Алешка тянули глаза в бумагу, все еще не веря такой потрясающей новости.
— Вот это да! — проговорил Васька и посмотрел в небо, словно ждал оттуда еще каких-то вестей.
— Хорошо, — сказал Иван. — Только бы правдой все это было…
— Ну а как же? — удивился Васька. — Это же наша листовка.
— Наша-то наша… Может, для подъема духу… Но похоже на правду: все подробно рассказывают. — И задумался: — Под Москвой? Это далеко. Пока до нас дойдут…
— Так и тут уже наши наступают, говорят, Ростов освободили.
— Слыхал. Это хорошо. Только, кажуть, немец свирепствует при отступлении — всех убивает, все взрывает, жгеть все подряд. Мертвую землю оставляет после себя. Ото страшное будет, пережить бы.
Платон возвратил Ваське листовку.
— Хорошую новость откопал!
Васька обернулся к братишке, радостно хлопнул того по плечу.
— Алеш, хватит нам бураков, эти донести бы! Давай сейчас оббежим все поле, соберем листовки и разбросаем их в поселке? Новость-то какая!
Алешка загорелся идеей, тут же врубил лопату в мерзлый грунт, спросил:
— Я пойду в эту сторону, а ты — в ту. Да?
— Давай!
— Погодите, — остановил их Иван. — Дай-ка сюда листовку. Ты знаешь, что за нее бывает, если обнаружат?
— Знаю, — сказал Васька. — Расстрел.
— Ну то-то же. Дак не валяй дурака. — И он пустил листовку по ветру. — Кому надо — так скажешь, на словах.
— Да вы что? — удивился Васька. — Такая новость!
— «Новость». А если найдут у тебя листовку — всех нас порешат на месте. Вот тогда будет новость, — невозмутимо говорил Иван. — Четверо детей останутся, две бабы больные-лежачие да бабка. Что их ждет? И мать ваша… Каково ей будет, если вас обоих вот тут шлепнут и хоронить не дадут?
— Да ну… Да ну, как же это? — недоумевал Васька. — Что мы, первый раз, что ли? Мы же осторожно.
— Если тебе так хочется собрать листовки, завтра приди один и собирай сколько влезет. Алешу не бери с собой, не подвергай мальчишку опасности. Ты, я вижу, дужа смелый, пока…
— Дядя Платон, да скажите хоть вы что-нибудь? — чуть не плача Васька подступил к Платону. — Чего вы молчите? Он же неправ…
Платон кашлянул в кулак, сказал раздумчиво:
— Да нет, наверное, прав. Не стоит рисковать, раз так строго за эти листовки. Действительно, лучше на словах передадим, кому надо, эти новости…
— Не поверят же! — убеждал Васька Платона. — А это…
— А что, обязательно надо какое-то доказательство предъявлять? Кто хочет в это верить — тот поверит.
Крякнул досадливо Васька, махнул рукой, пошел сел на свой мешок, склонил голову.
— Не сиди, простудишься, — подошел к нему Иван. — Ну-ка, сколько накопали? Прибавить или тяжело будет?
Васька приподнял мешок, попробовал на вес, буркнул:
— Хватит.
— Хватит, — согласился Иван.
Взвалив мешки на плечи, они медленно поплелись в обратный путь.
18
Сначала они шли кучно, потом разбрелись, растянулись вширь и вглубь. Иван намеревался обойти стороной замерзшего старика, а Платон наоборот, — его тянуло почему-то посмотреть на бедолагу, не покидало чувство какой-то вины перед ним. Иван догадался о намерении брата, крикнул ему:
— Платон, ну ты, ей-богу, тоже как маленький… Ну зачем он тебе сдался?
Платон сделал вид, будто не услышал Ивана, продолжал идти. Около старика свалил мешок на землю, остановился передохнуть. Старик все так же лежал, скорчившись на боку, только шапка его валялась в сторонке — то ли ветер сдул, то ли сбил кто нечаянно ногой. Узел его был распотрошен, какие-то тряпки валялись рядом, припорошенные снегом. Ветер шевелил седенькую прядку волос над синим ухом старика.
Нечего делать, Иван в отдалении тоже остановился передохнуть, ждал нетерпеливо Платона. «И что ему в том старике?..»
Платон подошел к нему без мешка, взял лопату:
— Похоронить надо…
— Да ты знаешь, сколько их валяется по полю?! Рази всех перехоронишь?
— Тех я не видел, — сказал угрюмо Платон. — Давайте, мы быстро — в две лопаты…
Недовольно качая головой, Иван поплелся вслед за Платоном, отобрал у Васьки лопату, принялся чуть в сторонке от дороги долбить землю. Выкопали небольшую яму, — по колено, не глубже, — перенесли в нее старика, голову накрыли шапкой и насыпали холмик.
— Ну вот, — облегченно сказал Платон. — А то что же… Человек все-таки, не собака…
— Да, конечно, — угрюмо согласился Иван, очищая лопату. — Пойдемте побыстрее, а то нас тут и ночь прихватит, — кивнул он на солнце.
Чтобы сократить путь, Иван повел их напрямую по снежной целине и вскоре пожалел об этом: снежок хоть и неглубокий, но идти по нему через поле было тяжело — ноги то и дело скользили на замерзших кочках, обрушивались в борозды, и приходилось ступать осторожно, чтобы не подвернуть ногу. Поняв свою ошибку, Иван повернул к шляху, объяснив своим спутникам:
— Хоть крюк дадим, зато по дороге идти будет легше.
С трудом выбрались на шлях, остановились на бугорке отдохнуть.
— Вон уже наша Андреевка завиднелась! — обрадованно сказал Иван, вытирая пот со лба.
Посбрасывали с плеч мешки, оседлали их — сидят довольные, что выбрались на дорогу. Передохнув немного, Иван первым поднялся и вдруг снова присел, ища, куда бы спрятать голову:
— Туды их мать!.. — выругался он. — Пленных гонють!
— Ну и что? — удивился Платон, поднимаясь с мешка и заглядывая вдаль на дорогу, где длинной черной рекой медленно двигалась колонна людей. Впереди нее верхом на коне ехал немец в каске, по бокам — тоже верховые. Конца колонны видно не было. — Посмотрим, может, кого из знакомых увидим…
— Да ты что?! — в ужасе дернул его к земле Иван. — Смотреть!.. Убегать надо скорее, убегать… — И, подхватив мешок, пригнувшись, кинулся прочь от дороги вниз, под горку, туда, где старое глинище. — Скорее, скорее! — торопил он не оглядываясь.
Остальные, поддавшись панике, заспешили вслед за ним. Прямо с мешком Иван упал в яму, за ним попрыгали остальные. Тяжело дыша, глядели ошалело друг на друга. Наконец Платон отдышался, спросил:
— Ты чего испугался?
— «Чего», «чего»… Ты знаешь, какие они злые, когда пленных наших гонят? Либо конем затопчет, либо плетью ударит, а то и пристрелит. А если заговоришь с пленными или бросишь им кусок хлеба либо початок кукурузы — тут же учиняют расправу. Вон Ефим Авдонин как-то увидел пленных и остановился, глазеет, а с ним поравнялся конвоир, прикладом в спину — и в строй к пленным. И погнали. Им что: раз русский — значит, пленный.
Васька хотел выглянуть, но Иван пригнул его к земле:
— Не выглядай. Потерпишь.
Со стороны дороги послышалась ругань немецких солдат, а вслед за этим раздались два выстрела.
— О… — кивнул Иван Платону. — А ты смотреть хотел… Злые, как черти.
С час, наверное, сидели они в яме, пока увидели, как ехавший в голове колонны немец, спустившись под бугорок, ступил на мост, а спустя какое-то время показалась и колонна пленных, которая медленно текла вдоль шляха.
— Вон, уже на мосточке, — сказал Васька.
— Пусть. Нехай уйдут подальше.
Наконец голова колонны втянулась в поселок и скрылась за поворотом улицы, а через мост проехал замыкающий конвоир.
— Все, — поднялся первым Платон. — Теперь можно идти…
— Подожди, — сдержал его Иван. — Может, там вслед идет другая колонна. — И он осторожно вытянул голову из ямы, потом вылез совсем наверх, осмотрелся. — Вроде нету. — И когда все выбрались из укрытия, указал на дорогу: — Вон, видите?
На дороге что-то чернело, издали не понять что — то ли одежина какая, то ли еще что. Иван пояснил:
— Пристрелили, гады, пленного. Наверное, ослабел парень, идти не мог — пристрелили…
Бросив мешок, Васька кинулся на дорогу. Платон и Алешка устремились за ним. Еле сдерживая досаду, Иван закричал:
— Куда вас черт понес?! Вы что, дети, что ли? Вы же знаете, как они из-за пленных зверствуют: спрятал ли живого, похоронил ли мертвого — одинаково расстрел. А вдруг там отстал какой конвоир на коне или на мотоцикле? Ну, с вами только ходить!.. Намучишься… Как дети неразумные.
Васька и Платон, а за ними и Алеша остановились в нерешительности.
— Пошли домой. Хватит на сегодня, — приказал Иван жестко. — Солнце вон уже скоро за бугор скроется.
Один за другим вернулись к своим мешкам, молча взвалили на плечи, поплелись вслед за Иваном.
Солнце, наливаясь багровой краской и увеличиваясь в размерах, медленно плыло к закату, предвещая на завтра мороз и ветер.
За мостком, у первых хат, распрощавшись с дядьями, Васька и Алешка свернули в проулок и пошли домой. Внесли мешки в сарай, Васька по-хозяйски высыпал свеклу в угол. Потом стал подбирать раскатившиеся корни и бросать их наверх — мерзлые, они стукали друг о дружку как булыжники. На шум из хаты вышла мать:
— А, добытчики вернулись. Долго вы, я уже беспокоиться начала. Далеко ходили?
— За дальний мосток, — сказал Васька.
— О, далеко… Ну идите в хату.
— Сейчас, подберу вот. Иди, Алеша, я сам тут управлюсь.
Но Алешка не уходил, мялся, ждал, когда уйдет мать. И не успела та закрыть за собой дверь, он подошел вплотную к Ваське, достал из кармана листовку:
— Гля!..
— Листовка?!
— Ага! Вы старика хоронили, а я увидел ее и спрятал в карман.
— Вот молодец! — И, вспомнив дядьев, сказал с досадой: — Да ну их… Всего боятся. Завтра вот и правда пойду один, соберу до единой!
— И я с тобой!
— Не надо, Алеш. Одному безопасней.
— Почему?
— Ну так. Надо бы и пленного похоронить… — И вдруг его осенило: — Знаешь, давай завтра утром пораньше встанем и пойдем вроде снова за свеклой, а сами пленного похороним?
— Ага! — согласился Алешка, довольный, что брат берет его себе в помощники.
Ночью Васька долго не спал, думал: «Ну, дядя Иван — ладно. А почему дядя Платон тоже стал почти таким же, все осторожничает? А может, так надо, может, он боится, что попадется на листовках и пострадает какое-то крупное дело, к которому он готовится?!» С этой успокоительной догадкой он и уснул.
Утром, как и договорились, они с Алешкой снова отправились в поход. Перейдя мосточек и взойдя на бугор, они увидели в стороне от дороги, у самых телеграфных столбов, двух человек, которые, согнувшись, что-то торопливо делали. А когда подошли поближе, узнали Ивана и Платона: они уже похоронили пленного и нагребали на могильный холмик остатние комья земли.
— Опоздали! — сказал ребятам Иван гордо.
Васька смотрел на дядьев удивленно, и раскаяние за вчерашнюю обиду на них постепенно растопляло ему душу, он улыбался. Платон приобнял его за плечи:
— Ну а теперь пошли за бураками…
19
Зима выдалась суровой — морозной и снежной, суровость ее усугублял голод: припасы, заготовленные с осени, быстро таяли, и Васькина мать с каждым днем все меньше и меньше выделяла кукурузы на дневное пропитание, делила буквально по зернышку, по картофельке. С десяток крупных початков отобрала и подвесила под потолок — от мышей и от детей — на семена. И ведер пять картофеля закопала в чулане в яму — тоже на семена. Дети не раз покушались на эти запасы, но мать не уступала ни под каким видом:
— Нельзя! Умирать будем, а семена не трогайте. Весна придет, что в землю бросать? Надо думать наперед. Войне конца не видать, ждать помощи неоткуда, а есть что-то надо…
Да, конец войны еще и не маячил, фронт уходил все дальше — слухи шли, будто немцы уже вышли к Волге и заняли весь Северный Кавказ. По всему было видно, что так оно и есть: наши самолеты появлялись редко, а немецкие воинские эшелоны один за другим катили на восток и проходили Андреевку с ходу.
Все чаще и чаще мать говорила, что придется идти куда-то в дальние деревни «менять».
— Не дотянем до весны, — сокрушалась она. — Да и весна придет — что она нам даст? До крапивы дожить надо…
И ходила по соседям, узнавала, кто ходил менять, куда. Подробно расспрашивала дорогу, где за что и что можно выменять. Чего надо опасаться.
— Вот как только мороз спадет, чуточку помягчеет, пойдем и мы.
Но морозы держались, а продукты таяли, и она стала собираться. Разделила остатки провизии поровну на две части, принялась наказывать Танюшке:
— Это вам с Алешей, а это нам с Васей на дорогу. Старайтесь растянуть на дольше: мы раньше чем через неделю не вернемся. Да и то если все будет благополучно. А то можем и с пустыми руками прийти: там, говорят, полицаи, бывает, отнимают у людей барахло. Так что особо не надейтесь. — Подумала и оставила ребятам свою долю, пояснила: — Нам с Васей этого хватит в одну сторону, а там… а там поменяем. Перебьемся. Бывает, что могут и покормить, если попадем в глухую деревню, где не побывали ни немцы, ни меняльщики.
И мать стала собираться в дорогу: достала из сундука отрез на платье, — давно лежал, когда-то на талоны давали. Вытащила откуда-то из далекой глубины свои сережки, девичьи еще.
— Это мне мой батя покупал. Из Ростова привез. Венчалась в них, — рассказывала она детям, и глаза ее светились радостью при воспоминании о своей юности.
Извлекла пахнущий нафталином коричневый шерстяной отцов костюм. Лежал после смерти отца, все ждал, когда Васька вырастет да станет носить его.
— Придется отнести его. — Она посмотрела на Ваську. — А тебе, будем живы, другой справим.
— А я разве возражаю? — двинул плечами Васька.
— Да хоть бы и возражал, а нести-то больше нечего…
В путь они тронулись еще затемно. Уложили вещи в мешок, а тот мешок — в другой мешок, привязали к санкам и пошагали. Пошли искать ту, не разоренную войной глубинку, где сохранилось еще что-то съестное и где люди готовы обменять его на необходимые им вещи. Подальше от городов, вдали от железных и шоссейных дорог, говорят, такие счастливые села еще сохранились.
Они шли налегке, быстро, почти пустые санки легко бежали вслед за ними. Вскоре они влились в большой людской поток таких же искателей, как и они. Мать смотрела вперед, оглядывалась назад, вздыхала:
— Где же набраться, чтобы накормить такую массу людей? Наверное, напрасно идем… Но пойдем, сколько сил хватит, будем идти. Откуда-то ж люди привозят хлебушек…
В поле было ветрено, северный ветер дул им в спину, мел поземку, и снежные вихри то и дело обгоняли их. Как вехи на полевых тропах, все чаще им встречались бугорки, занесенные снегом, — трупы погибших от истощения и холода. Мать сначала шарахалась от них, но потом попривыкла и только шептала, проходя мимо очередного такого бугорка:
— Не дай бог и нам вот так околеть. Что тогда с детьми будет?.. Спаси нас, господи…
Ночевали они в заброшенных сараях, коровниках. Один раз даже в церкви. В этой церкви сначала немцы устроили конюшню, а потом, когда войска ушли, церковь стала укрытием для несчастных скитальцев, которых война повыгнала из родных мест и гнала неизвестно куда…
На третий день мать стала беспокоиться: шествие на дороге не редело. Она ждала, что вот настанет время, когда люди разбредутся в разные стороны и они без помех войдут в деревню и станут ходить из хаты в хату, спрашивать — не найдется ли у хозяев какого-либо зерна для обмена… По пути она пыталась уже стучаться, но с ней и разговаривать не хотели, отмахивались: «Нэма ничого. Шо и було — усэ роздали».
— Надо, наверное, сворачивать с дороги в сторону, — сказала она Ваське. — Тут дела не будет. Сколько народу до нас прошло да сколько идет.
— А если забредем куда-нибудь? Или заблудимся? — засомневался Васька, хотя понимал, что мать была права.
— Куда забредем? Речки и болота замерзли, не утонешь. А заблудиться — так мы ж не в безлюдной пустыне, тут народ густо живет. То большие деревни, а в стороне от дорог — хутора есть. И там, рассказывали мне, скорее можно разжиться хлебушком.
Васька не стал упорствовать, тут же потянул санки прочь с дороги. Свернули на снежную целину и пошли в глухую степь.
Здесь идти было тяжело, снег под ногами проваливался, и продвигались вперед они теперь гораздо медленнее. Время от времени мать оглядывалась назад, смотрела — далеко ли ушли, хотелось поскорее скрыться с глаз людских, чтобы, не дай бог, не увязался кто вслед за ними, и сокрушалась, что идущие по дороге все еще видны. Но вот наконец люди стали растворяться в серой дымке, человеческие фигуры уже не различались, и длинная цепочка от горизонта до горизонта издали стала похожа на черную изреженную посадку деревьев вдоль большака… А когда дорога наконец совсем скрылась за горизонтом и они остались одни посреди белого безмолвия, в душу невольно закрался холодок тревоги. Васька, правда, не подавал вида, он лишь прибавил шагу, чтобы засветло прибиться к какому-нибудь жилью, а мать своего беспокойства не скрывала, вслух успокаивала и себя, и Ваську:
— Ничего, куда-нибудь да выйдем — мы ж не в безлюдной пустыне.
И они шли… Шли тяжело, долго, упорно. Хотелось остановиться, присесть, передохнуть, но посреди степи не решались это сделать. И как нарочно, куда ни глянь — ни скирды соломы, ни стожка сена. И мать уже не тревога, а настоящий страх одолевал, она оглядывалась назад, прикидывала: «Не вернуться ли?»
Короткий зимний день быстро угасал, серые сумерки наплывали со всех сторон, будто хотели поглотить двух беспомощных путников. Ветер незаметно переменился, начало кружить, снег сыпал прямо в глаза, таял на лице. Шейный платок и перчатка, которой Васька то и дело вытирал лицо, стали неприятно мокрыми.
— Не спеши, сыночек, — просила мать, еле переставляя ноги от усталости. — Не спеши. Будем идти потихоньку, а то выбьемся из сил да еще попадаем… Не торопись. Должно быть, уже скоро…
Васька останавливался, поворачивался спиной к ветру, оглядывался на мать. Запорошенная снегом и закутанная по самые глаза платком, она разлепляла ресницы, смотрела на Ваську грустными глазами:
— Уморился?
— Нет, — отвечал он как можно бодрее и улыбался. — Я, помню, когда-то в школу шел и заблудился. Испугался. Но я тогда один был… А пурга-а-а — с ног валила! Это-то что… Вы бросьте веревку, я сам буду санки тащить, — пожалел Васька мать.
Она усмехнулась:
— Да я рази помогаю? Я только держусь, чтобы от тебя не отстать. — Поправила платок. — Ну? Пойдем. В дороге не стоится…
Васька не роптал, ему и в самом деле не было ни страшно, ни тоскливо, присутствие матери вселяло в сердце бодрость и надежду, он почему-то был уверен, что при ней не может случиться никакой беды. И не потому, что она сумеет отвести любую невзгоду или найти из нее какой-то выход, а просто-напросто по привычке: с детства мать всегда была защитницей, она всегда была права, она все знала, все умела, все предвидела…
Наступила ночь, темень окутала путников — в двух шагах ничего не было видно, а они все брели и брели.
— И нехай темно — нам-то все равно: что днем шли, куда глаза глядят, что теперь, — подавала голос мать.
Сначала они изредка переговаривались — отпугивали жуткую тишину темной ночи, а потом замолчали: усталость совсем одолела, сон все чаще и чаще отключал сознание, смежал глаза, и тут же появлялись какие-то сновидения. Оступаясь, они натыкались друг на друга, пробуждались, и мать говорила:
— Прислушивайся, сынок, не пройти бы мимо деревни. Может, хоть собака голос подаст. Хотя теперь и собак не стало — кормить нечем.
Мать совсем обессилела, и Васька, подхватив ее под руку, стал поддерживать. Но идти так по снежному насту было неудобно, и, пройдя несколько шагов, они остановились.
— Тебе тяжело, сынок. Давай я буду только держаться за тебя, чтобы не упасть…
Васька подставил ей локоть, она вцепилась в него, и они снова двинулись вперед. Но не прошло и пяти минут, как Васька почувствовал, что мать становится все тяжелее и тяжелее, и вот она уже совсем повисла на его руке. «Уснула, — догадался он и, не желая будить, изо всех сил старался подольше продлить ее сон. — Пусть, может, хоть немного перебьет усталость…» Но долго так идти не смог: левой рукой он тянул санки, которые тоже стали непомерной тяжестью (вот уж верно говорят: в дороге и иголка тянет), правой — держал мать, уставшие ноги заплетались и его самого тоже клонило в сон — и Васька остановился. Мать тут же очнулась, подобралась, и они пошагали дальше.
Где-то к полуночи снег прекратился, мрак стал редеть, и все чаще и чаще сквозь рваные тучи проглядывала луна. Белая и круглая, она словно плыла куда-то стремительно и быстро, ныряя в облаках. На самом деле то ветер развенчивал и гнал на север остатки снежной бури. Небо светлело, и мороз становился ощутимее. Недолгая радость от того, что наконец-то прекратилась пурга, сменилась еще большей тревогой. Мокрые ботинки быстро превратились в твердый несгибаемый панцирь, и ноги, не успевая согреваться от медленной ходьбы, все больше и больше ощущали холод отсыревших носков и портянок. Перчатки тоже одеревенели и совсем не гнулись и не грели, пришлось из них высвободить пальцы и сжать их в кулаки. Ледяной ветер забирался под одежду, холодил спину, сковывал движения. Васькины штаны, материна юбка, полы пальто — все стало жестким и несгибаемым, как железо. Рыцарские доспехи, пожалуй, были более податливы.
«Наверное, пришла и наша очередь, — мелькнула страшная мысль в голове Анны. — Не выбраться… Ну что ж, значит, судьба», — смиренно подумала она, но тут вспомнились дети — Танюшка, Алешка. Как же они?.. О Ваське не думала, он был здесь, рядом, с ним вроде все ясно, а вот как же те, которые ждут их и надеются? И она вдруг резко обернулась назад, отодрала платок от лица, освободила рот и закричала куда-то в пространство:
— Господи! Не дай нам умереть! Спаси нас, господи! Пожалей детей, они совсем безвинны!
Васька испугался, усталость будто рукой сняло, кинулся к ней:
— Мама, мама, успокойся… Не надо так, мама!.. Вон впереди уже что-то виднеется… Мама! — кричал он ей в лицо и тормошил изо всех сил.
Она как бы очнулась, взглянула на сына обезумевшими глазами, вроде вспомнила что-то, сказала тихо:
— Да… Да, сынок… Прости меня… — И поправила платок. — Пойдем…
Но идти они уже не могли, усталость и холод совсем сковали их силы и волю, и они передвигались еле-еле. И не миновать бы им участи многих, погибших на этих голодных и холодных дорогах, продлись их путь хотя бы с километр. Но вот, на их счастье, впереди замаячила какая-то роща. Васька первый заметил ее, но от усталости не поверил своим глазам. «Мерещится…» — подумал он, но где-то в подсознании что-то все-таки сработало, и он взбодрился, открыл глаза пошире и увидел не мираж, а настоящую какую-то рощу. Они еще не знали, что это такое, — может, лес, а может, придорожная посадка, которые конечно же не сулят им спасения, — но, завидев хоть какую-то перемену в окружающем пейзаже, обрадовались, силы их удвоились, они поднапряглись и заспешили к деревьям. На их счастье, это оказались сады, за которыми угадывались темные хаты. Радость была столь велика, что, не помня себя, утопая по пояс в снегу, они почти на четвереньках поползли вперед. Васька первым добрался до хаты, стал колотить в дверь окоченелым кулаком в замерзшей перчатке. За дверью все было тихо, и он нетерпеливо подергал за ручку, потом снова постучал. Наконец из-за двери послышался старческий голос:
— Кто там?
— Дядечка, пустите обогреться… Мы совсем заблудились, — Васька пытался как можно быстрее рассказать свою беду и разжалобить хозяина.
Дверь все еще не открывалась, и тут завопила упавшая на завалинку мать:
— Люди добрые, спасите! Не дайте околеть у вашего порога! Спасите, люди добрые!
Васька хотел остановить мать — неудобно так голосить, — но тут дверь открылась и на пороге показался старик в накинутой на плечи теплой фуфайке:
— Хто тут серед ночи? — Увидел паренька и лежащую у порога женщину, отступил в глубину сенцев: — Заходьте…
Васька ринулся в хату, а мать не могла подняться, ее поднял старик, ввел в комнату. Зажег светильник, взглянул на гостей:
— Ой-ой!.. И правда вас спасать треба. Эй, стара, вставай скориш, у людэй бида. — Поставив светильник на стол, сам выбежал в сени, погремел там чем-то, возвратился с тазиком, доверху наполненным комковатым снегом. — Давай, стара, давай, — торопил он жену. — Роздягай жинку, а я хлопцем займусь. Ой, як же вас… Бери, хлопец, сниг да три, три руки, щеки три, а то ж вони зовсим побилилы, — а сам расшнуровывал Ваське ботинки, снял их с трудом, отбросил в сторону, сдернул носки, принялся тереть пальцы ног снегом. Оглянулся на старуху — та не может совладать с обувкой матери, кинулся к ней, приказав Ваське: — Три, три, хлопец, доки не почуеш тепло. Эй, Устя! — закричал он куда-то в спаленку.
— Та тута я, — отозвалась молодая женщина, запахивая халат.
— А тута, так не стой… Оно матери помогай — растирайте жинке ноги, а то ж каликою останется. — А сам снова принялся за Ваську.
Долго оттирали хозяева ночных гостей, пока наконец не зарумянились щеки, не потеплели ноги и руки. Укутали их в сухую одежду, уложили спать на соломе, постеленной на полу.
20
Утром первой проснулась мать. Не сразу поняла, где она, осмотрелась: чистенькая комнатка, на окнах сочная герань, на стенах в рамках увеличенные фотографии и каждая обряжена вышитым рушником. Вошла хозяйка, и Анна заторопилась вставать, виновато заговорила:
— Вы уж не ругайте нас… Я и не знаю: или то сон был, или правда такое пережили…
— Та за что ж ругать? — мягко возразила хозяйка. — Вставайте снидать.
Анна растолкала Ваську:
— Пора, сынок, вставай… Нам еще предстоит дорога…
Васька вскочил быстро, сообразил — не дома. С трудом встал на ноги, — они были будто чужие, его даже качнуло, он схватился за стенку, смущенно улыбаясь и поглядывая на хозяев. Но те были заняты своим делом и не видели Васькину беспомощность: старик убирал их постель — собирал и выносил из хаты солому, женщина возилась у плиты, а молодой Усти вообще не было в комнате.
Хозяйка подала на стол большую сковороду жаренной на сале картошки, соленых огурцов, старик нарезал хлеба, пригласил:
— Сидайте.
— А вы? — Анна не решалась садиться за стол первой, ждала, когда это сделает кто-то из хозяев.
— Мы вже илы, — сказала хозяйка. — Сидайте.
Анна подошла к столу и, скрестив руки на груди, воскликнула:
— Боже, еда-то какая! Я уже и не думала, что увижу такое, а не то чтобы есть. И запах сала давно забыла.
— Ну вот и спробуйте. У нас покы ще не усэ повытяглы оти наглоеды, — сказал старик.
— И до вас добрались? — удивилась Анна.
— А то хиба не доберутся?..
Есть старались медленно, сдержанно, чтобы не показаться хозяевам какими-то прожорами. Анна вилкой подсовывала Ваське кусочки сала, а тот осуждающе поднимал на мать глаза и отодвигал сало обратно.
Ели, переговаривались, рассматривали убранство дома, хозяев — все-таки забрели далеко, многое тут было по-иному: чело печи обрамлено синими и красными полосами, на грубе нарисованы целующиеся голубки.
Пристроившись к окошку, за которым краснело зимнее солнце, старик старательно «обувал» валенок в склеенную из автомобильной камеры галошу. Старик был большеголовым крепышом. Густо посеребренные волосы, стриженные некогда «под машинку», сейчас отрастали у него густым ежиком. Давно не бритые борода и щеки тоже щетинились жестким волосом. Однако он не казался угрюмым отшельником. Когда старик разговаривал, он взглядывал на собеседника голубыми с лукавинкой глазами, ироническая складка у рта превращалась в улыбку, и в ответ ему непременно тоже хотелось улыбнуться — такой он был милый и забавный, как игрушечный старичок-боровичок.
Хозяйка никакая вовсе не старуха, она была не старше Васькиной матери и лишь казалась пожилой. Старил ее платок, повязанный на монашеский манер: черный, он закрывал весь лоб и щеки и придавал ей угрюмый вид богомолки. Она разговаривала мало, но слушала внимательно, участливо и в ответ сочувствующе кивала головой.
Поев, Анна вытерла рукой рот и перекрестилась, сделав это скорее для приличия и в угоду хозяевам, так как она принимала эту женщину все-таки за богомолку.
— Спасибо большое… Не знаем, как и благодарить вас. Вчера еще думали — живы не будем, а вы нас спасли, отогрели да еще и накормили.
Васька тоже сказал «спасибо» и отодвинулся от стола. Анна взглянула на него:
— Ну что, сынок? Будем собираться? — И, помявшись, обратилась к старику: — Вы, дедушка, не посоветуете, куда нам лучше податься, чтобы мы могли обменять свое барахлишко?..
— Да хто ж его знаеть? — старик отложил в сторону валенок, посмотрел на Анну.
— Может, в вашем селе найдется кто?
— Може, и знайдеться… Хто ж его знаеть? Тут вже поперебувало народу.
— И у вас? — удивилась Анна. — Так далеко?
— Далеко с одной стороны, от вас, а с другой, от Запорижья, — близько.
— Это мы так далеко забрались! — Она оглянулась на Ваську, потом опять повернулась к старику: — Ну, спасибо вам за приют, за хлеб-соль, пойдем…
— А шо у вас е? — старик кивнул на узел. — Можэ, такэ, шо и нам треба?
— Ой, так посмотрите! — обрадовалась Анна и кинулась к своему оклунку. Развязала быстро, выложила товар на край стола: — Вот! Это — костюм мужской. От моего мужика остался. А это вот отрез на платье… — Она расстегнула кофту на груди, отвернулась и достала из-за пазухи узелок. — И вот! — Анна бережно положила на клеенку золотые сережки с красными камешками. Сережки сверкнули веселыми звездочками. — Еще мои девичьи!..
Старик взглянул на них и тут же, к удивлению Анны, отмахнулся — не оценил. Он долго щупал костюм, наконец сказал:
— Добрый матерьял. Шерсть. Но у нас никому его носыть…
А хозяйка рассматривала отрез, и по ее глазам видно было, что он ей нравится. Она крикнула негромко:
— Устя!.. Устыно!..
В комнату из-за занавески на двери выскочила Устя — молодая розовощекая дивчина. Брови шнурочком, на лбу колечки волос, голову оттягивает тяжелая коса. Она кинула на всех быстрый взгляд черных глаз, поздоровалась — и к матери. Увидела отрез, заулыбалась:
— Ой, яке гарненьке! — Обернулась к гостье, спросила просто: — Продаетэ?
— Меняем… На зерно… — сказала Анна несмело.
Васька смотрел на Устю и удивлялся: почему она вчера показалась ему солидной теткой? И вспоминал себя, какой он был беспомощный и жалкий. Вспомнил — и покраснел от смущения. А Устя не обращала на него внимания, она выразительно посматривала то на свою мать, то на деда.
— Пшеницы нема, — сказал дед. — Кукурузы могу дать…
— Ну что ж… — быстро согласилась Анна. — На нет и суда нет.
— А сколько? — спросил старик.
— Это уж вы сами смотрите и сами цените… Вам виднее…
Старик подумал-подумал, сказал:
— Два ведра могу насыпать…
— И за то спасибо. Хотелось бы больше… Ну, раз нельзя…
— А костюм… — старик вытянул нижнюю губу, задумался. Посмотрел на хозяйку, спросил: — А костюм, може, Степану показать?
— Покаж, — сказала та спокойно.
— Я зараз, — бросил старик коротко Анне и стал быстро одеваться. Сунул под полу костюм, убежал.
Вдогонку, осмелев, Анна крикнула ему:
— Может, там пшеничка есть?
Пока дед куда-то бегал, Устя развернула отрез, набросила себе на левое плечо, на грудь, обернулась к зеркалу, покрутилась перед ним и заулыбалась своему изображению — нравилась ей материя. Потом сложила бережно и положила на стол: мол, пока за нее не заплачено, она чужая… И вдруг увидела сережки! Боже, как загорелись ее глаза, как они расширились, как засияли они черным антрацитовым блеском от радостного предчувствия! Взяла бережно, двумя пальчиками, положила сережки на ладонь и стала ловить в красные капельки солнышко. Камешки то вспыхивали яркими звездочками, то гасли и тут же вспыхивали вновь.
— А у мэнэ и дырочки е! — сказала она весело, потрогав себя за мочку уха. — Можно?
— Можно, можно! — разрешила Анна.
Подбежала Устя к зеркалу, вдела одну сережку, вдела другую, повертела головой, обернулась — и трудно было сказать, что ярче сверкает: то ли сережки, то ли ее глаза. И удивляется Васька, глядя на Устю: такие маленькие, такие крохотные висюлечки, а как преобразили девушку!
Прибежал дед без костюма, спросил:
— Три ведерки пшеницы дае… Як?
Анна даже вздрогнула от такой удачи, но радость свою сдержала и спокойно развела руками:
— Ну что ж… Если бы четыре — было бы лучше… Но… Ну… пусть будет, как вы там решили.
— Айда, хлопец, со мною, — кивнул старик Ваське. — Бери мешок.
Оделся Васька, схватил мешок, побежал.
— Поторгуйся, Вася, может, прибавят, — наказала ему мать.
Поморщился Васька — не умеет он торговаться, да и при Усте как-то неловко слушать такой наказ, но буркнул в ответ:
— Ладно.
Вернулись они быстро, зерно оставили в сенях.
— Ну как? Выторговал? — спросила мать у Васьки.
— Я, я выторговал! — сказал гордо старик. — Ведерко кукурузы. Га? — И засмеялся, довольный.
— Вот спасибочко! — весело поблагодарила его Анна.
— Дидусь, дидусь, — звала деда Устя. — Глянь на менэ.
Глянул дед на внучку, заулыбался, даже голову склонил набок:
— Яка красатулечка! — Но тут же посерьезнел, сказал: — Ни, нэ будэ дила: то дуже дорога штука.
— Дидусь… Ну дидусь…
— То ж ведерок пять да пшеницею запросють? — взглянул он на Анну.
— Да, хотелось бы пшенички. Вещь, верно, дорогая…
— Бачишь? — кивнул он внучке.
— Ну дидусь… — не унималась та.
— Отдадим пшеницю, потим будешь исты мамалыгу.
— Буду, буду, — затараторила Устя. — Я люблю мамалыгу… Не поскупысь, дидусенька…
— Любыть она! — двинул плечами старик. Взглянул на Анну: — Нема у мэнэ пьять ведер… Не можу даты. А?
— Смотрите сами, дедушка… Делайте так, чтобы и нам не было обидно, и вы чтобы не остались внакладе. Думаю, не обидите. У нас ведь это и все, больше не с чем ехать, нечего менять. А до лета далеко.
— Ну добре… — Старик почесал колючую бороду, погрозил Усте кулаком: — Ну хитрюга-дивчина! — И вышел.
Старика не было долго. Минут через двадцать в сенях послышалась какая-то возня, а потом опять все надолго замерло. Наверное, хлеб у него был спрятан далеко. Наконец он пришел — запыхавшийся, как после тяжелой и спешной работы. Да так оно, наверное, и было.
— Ну так, — сказал он Анне. — Насыпав чотыри ведерки пшеници, три ведерки кукурузы и ведерко насиння… Ну, семя пидсолнуха. Хватэ?
— Ой, что вы! — вырвалось у Анны. — И не довезем! Спасибо большое. Семечки только во что взять? У нас ведь всего два мешка.
— Я вам советую пшеницю заховать… Запрятать, а то могуть отнять чи полицаи, чи немци. А так — в смеси не дуже набросятся. Да зверху побилыне кукурузы и семьячек насыпать. А дома просиетэ.
— Ой, нам только довезти, а там по бубочке переберем. Спасибо вам большое за привет, за совет да за помощь. — Анна поклонилась старику и хозяйке, а потом и Усте: — И тебе, доченька, спасибо — выручила. Ну, будем собираться, а то дорога дальняя, а там, дома, двое голодных ждут нас… Одевайся, Вася, поедем, сынок…
Когда уже зерно было рассыпано по мешкам, пшеница замаскирована и мешки завязаны и привязаны к санкам, в сени вышла хозяйка — она держала в руках буханку хлеба, небольшую низку лука и в чистенькой тряпочке кусок сала.
— Возьмите, вам в дорогу, — сказала она.
Увидев такое богатство, Анна не выдержала, всплеснула руками и заплакала:
— Ой, люди добрые! Что вы делаете? — Она упала на колени, склонив голову до самой земли, причитая: — Спасибо вам, дорогие!.. Спасибо!.. Век бога буду молить!..
Накинув теплый платок на плечи, вышла в сени и Устя. Васька и старик кинулись к Анне, стали поднимать ее.
— Не надо… То не надо так, — приговаривал старик. — То лишне… Не надо…
— Век буду за вас бога молить, — продолжала Анна, вытирая слезы. — Спасибо вам большое.
— Чим смогли, тим помоглы, — сказал старик. — Може, ще сватами будем, — он подмигнул Усте.
Та зарделась, кинула взгляд на Ваську и скрылась за дверью:
— Та ну вас, диду!
— Дай-то бог, — сказала Анна, улыбаясь сквозь слезы. — Пережить бы войну… Ну, прощайте.
— Час добрый!
Обратно ехали быстро и с опаской — торопились домой и боялись потерять драгоценный груз. Села объезжали задворками, чтобы не попадаться на глаза ни полицаям, ни немцам, на ночлег останавливались заранее, чтобы в укромном уголочке замаскировать санки, спали сидя, обняв с двух сторон тугие мешки, в путь трогались затемно, чтобы меньше недобрых глаз видело их и чтобы побольше пройти за короткий зимний день…
Добрались домой благополучно.
21
Жизнь в доме пошла веселее: была работа и была еда. Работали все. С утра насыпали на клеенку ворошок зерна, садились вокруг стола и начинали перебирать по зернышку: кукурузу вправо, семечки влево, пшеничку посредине. По три кучечки перед каждым. За Васькой в основном закрепилась мужская работа: толочь зерно в ступе. Он толок, просевал через сито. Пшеницу всю измельчал в муку, а из кукурузы делал два сорта продукции: что проскочило сквозь сито — шло в муку, а что осталось — в крупу. В муку мешали свекольные отжимки и пекли лепешки, из крупы варили суп или кашу. Но каша была роскошью — слишком много уходило на нее крупы, поэтому из экономии ограничивались только супом.
В первый день Анна побаловала детей — разрешила им накалить немного семечек, отчего в комнате вкусно запахло свежим подсолнечным маслом. Алешка попросил разрешения поджарить немного кукурузы — тоже разрешила: пусть вспомнят хорошие времена. Алешка насыпал прямо на плиту крупных, как конский зуб, золотистых зерен и принялся беспрестанно помешивать, чтобы они не подгорели. Накалившись, зерна начали одно за другим взрываться, разворачиваясь в белые, как вата, хлопья.
— Во какая шапка! — Алешка показал всем первое развернувшееся зернышко и, бросив его в рот, захрумкал смачно. — Вкуснотища-а-а!..
Вскоре зерна стали взрываться одно за другим и даже по нескольку штук сразу, и в комнате поднялась такая стрельба, что они всей семьей еле успевали собирать разлетевшиеся в разные стороны хлопья. Разлетаясь, зерна попадали то в стекло, то кому-либо в лоб, и от этого всем стало весело, ребята смеялись после каждого меткого выстрела, а глядя на детей, развеселилась и Анна.
Когда стрельба прекратилась, Алешка сгреб с горячей плиты остатки кукурузы — и все принялись с аппетитом жевать теплые и мягкие, вкусно пахнущие кукурузные зерна.
Но это было только в первый день, потом мать не разрешала этого делать — слишком расточительно. Даже на семечки наложила строгий запрет:
— Выберем все, попросим Симаковых выбить из него маслица. Так — погрызете, поплюете, и все, никакой пользы. А то будет и масло и макуха. Макуху в хлеб можно подмешивать — очень вкусный хлеб с макухой!
Симаковы мужики к тому времени уже сработали ручную мельницу — зерно молоть и доводили до совершенства маслодавильный «аппарат», приспособив для пресса винт от ручного вагонного тормоза. Потом они мололи зерно и давили масло себе и людям и брали за это отмер: пол-литровую кружку с ведра.
Ваське не терпелось увидеться с Платоном — узнать последние новости, а главное, напомнить о себе: может, он окажется нужным для каких-то серьезных дел. Ему казалось, что с тех пор, как они встречались, прошла целая вечность: так далеко они ходили за зерном, столько всего повидали, пережили, хлеба добыли!..
На другой же день он собрался «к бабушке» — так всегда говорили, когда шли на то подворье, неважно зачем и к кому, — там жила бабушка, и «к бабушке» было коротким и ясным для всех адресом.
— Щеки закрывай, — сказала мать. — Теперь береги их: как чуть — будут мерзнуть. Вазелином помажь.
Щеки у Васьки после обморожения почернели, и тонкая, как у молодой картошки, кожица отслаивалась, обнажая красную молодую кожу.
В доме у бабушки была та же картина, которую можно видеть теперь почти у каждого: толкли в ступе зерно и выпаривали из свекольной жижи патоку.
Бабушка возилась у плиты, обе снохи ее — Генька и Мария — лежали больные. Мария, правда, стала поправляться, но все еще жаловалась на боли в груди и «промежду лопаток» при дыхании. Ребята сидели за столом, будто за уроками, перебирали горелую пшеницу, а Иван с Платоном на переменку толкли зерно в ступе, готовили на всю семью крупу и муку.
Увидев Ваську, бабушка воскликнула радостно:
— Внучек пришел! Вернулись? Привезли хоть что-нибудь?
— Привезли, — сказал Васька. — Кукурузы и немного пшеницы.
— О, хорошо! — обрадовалась бабушка. — А щеки? Обморозил? Дорогонько достался хлебушек?
— Да, чуть не замерзли в степи, — погордился Васька: теперь-то беда осталась позади.
— Ой, ой!.. — заойкала бабушка.
— Путешествие было почище, чем у Мишки Додонова.
— Это у какого еще Мишки? — спросила бабушка.
Ребята засмеялись: они-то знали Мишку. Васька объяснил бабушке:
— Книжка есть такая. Мишка в голодовку ездил за хлебом в Ташкент. Но ему легче было: ни немцев, ни холода такого.
Платон, обняв ногами ступу, усердно работал пестом — была его очередь толочь. Он смущенно поглядывал на Ваську — чувствовал, что парень тянется к нему всем сердцем, ждет от него чего-то особенного и что пришел он сюда именно к нему. Васька подмигнул Платону, кивнул на ступу: мол, думал ли ты, дядя Платон, всерьез заниматься таким делом? Платон отложил в сторону толкач, полез в ступу рукой, чтобы взрыхлить содержимое, отодрать ногтями со дна сбитое в плотную лепешку расплющенное зерно.
— Вот так-то, Васек, — качнул головой Платон, — нужда, говорят, научит калачи есть…
— У вас толкач хороший — тяжелый! — Васька присел на корточки возле Платона, взял толкач в руки: — Ого! — стал рассматривать. — Из чего это, дядь Вань?
— А шут его знает из чего, — отозвался Иван, просеивавший свою порцию толченого зерна. — Наверно, ось какая-то. Нашел в железяках за сараем.
— Хорош! — похвалил Васька. — Дайте я попробую? — попросил он у Платона.
— Бери, — охотно согласился Платон и, пересев на другую скамеечку, спросил: — Ну что там нового слышал?
— Ничего. Мы же в глуши были, аж в Запорожской области где-то, от железной дороги подальше…
— Про партизан ничего не слышал?
— Не. Да там же и немцев почти нет, сплошь почти одни полицаи. На ночлежках, правда, раза два немцы проверяли документы, это уже ближе к нам, говорят, партизан искали. Где леса большие, там, рассказывают, партизаны вовсю действуют. В Белоруссии. Это ж далеко?
— Далеко, — качнул головой Платон.
Понизив голос до шепота, Васька спросил:
— А у вас что нового?
— Тоже пока ничего. Затишье, видать, на фронтах. Может, весной начнутся какие-то действия.
— Весной?
— Наверно. Немцы вон гонят технику составами — накапливают силы.
— Вот бы тут партизанам поработать! — таинственно прошептал Васька. — Составы эти под откос бы пустить! А?
— Хорошо бы, — согласился Платон. — Только непростое это дело. Особенно в наших условиях…
— Ну вы, шептуны, — подошел Иван. — Шептунов — на мороз! Знаете такую присказку?
— Где больше двух, там говорят вслух, — подала голос Клара.
— О, слыхали? — Иван одобрительно тряхнул головой и указал Платону на ступу: — Давай выгребай, моя очередь.
Васька освободил место за ступой, еще раз похвалил толкач:
— Хорош, ничего не скажешь. Дядя Иван, если попадется такой же, приберегите для меня? А то деревянным плохо толочь, долго.
— Ладно… Если попадется… Сейчас же все под снегом, рази найдешь? Весной пошукаю: у нас за сараем много разного железного хлама валяется.
Покрутился еще немного Васька вокруг Платона, засобирался домой.
— Пойду я, бабушка, — приобнял он бабку Марфу за плечи.
— О! — обернулась та. — Сейчас же обедать будем…
Усмехнулся Васька: забыла, наверное, бабушка, что прошли те времена, когда гостей обедом угощали, сказал:
— Нет, бабушка… Дома пообедаю.
— Оставайся, пообедаешь с нами, — подал голос Иван. — У нас сегодня свежатина!
— Свежатина? Да откуда?!
— Зарезали своего бычка безрогого, — сказал Иван, хитро улыбаясь.
— Какого еще бычка? — недоумевал Васька. Он знал, что корову у них забрали, что у них есть конь, но о бычке никогда и речи не было. Уж бабушка бы сказала! «А может, и был у Ивана бычок где-то припрятан еще с тех пор, когда бесхозный скот бродил по полям? С него сбудется! Дядя Иван такой!»
— Вот оставайся, попробуешь и узнаешь, какого бычка, — сказал Иван и опять таинственно улыбнулся.
— То-то я слышу: мясным духом несет. И не поверил. Думаю, показалось с голодухи, — засмеялся Васька. — Привык, что у вас всегда вкусно пахло.
— Было такое дело, — грустно сказал Иван.
Остался Васька обедать — кто же откажется от свежатины? Да еще так приглашают! Нет, это не будет выглядеть нахальством с его стороны.
Сели за стол. На первое бабушка подала суп кукурузный на мясном бульоне. Вкусный! Сверху настоящие жирные блестки плавают. Вот повезло — он и не помнит, когда ел такое блюдо. На второе была тушеная картошка с мясом — это уж совсем роскошь!
— У вас еще картошка есть? — удивился Васька.
— От семян оторвал немножко, — сказал Иван. — Ради свежатины. — Спросил: — Ну, как мясо?
— Что «как»? — взглянул он на Ивана. — Мясо как мясо. Говядинка парная. Лучше не придумаешь.
Все сидели и как-то таинственно улыбались, особенно ребята.
— Чего вы смеетесь? — недоумевал Васька.
— Ремня просят, — сказал Иван серьезно. — Не обращай внимания, то у них свои какиясь секреты.
— Вот это пообедал! — воскликнул Васька, вставая из-за стола. — Наелся, как дурень на именинах. Дома скажу — не поверят. Нет, я не буду говорить, чтобы не расстраивать… Спасибо! Побегу домой.
— Погоди, — остановил его Иван. — Провожу, — он накинул шапку, телогрейку, вышел из хаты вместе с Васькой. В сенях взял его за рукав, потянул в чулан. — Иди сюда.
Вошел Васька в чулан и вдруг вздрогнул: прямо на него «смотрела» ободранная большая конская голова, оскалив огромные желтые зубы. Догадался Васька, какого безрогого «бычка» зарезал Иван, и невольно прислушался к своему желудку — что там творится. Но там, к его удивлению, ничего не творилось, и он спросил:
— Коня зарезали?
— Зарезал… А что делать? Кормить нечем, а больных надо чем-то питать… А что конь? Он такой же, как корова: ничего плохого не ест. Самое чистое животное. Татары вон конину лучше уважают, чем говядину. А свинину совсем не едят. И ничего. Да и другие народности… Это у нас почему-то гребовали кониной. А прижучит — сусликов ели, помнишь, в тридцать третьем годе?
— Помню, — сказал Васька, не сводя глаз с конской головы.
— Зарезал и посолил, пусть лежит до весны. Пока стоят морозы — с ним ничо не сделается. Больных только будем понемножку подкармливать. Остальные пока кукурузкой перебьются. А весной харч потребуется. Знаешь, раньше, когда своя земля была, люди всегда хорошие харчи на весну приберегали, потому что весной предстояло много работать: пахать, сеять, сажать. И все это надо делать быстро, в срок. Вот и нам весной, если живы будем, предстоит такая же работа: пахать, сажать, сеять. Много надо посадить, чтоб потом не пришлось зубы на полку класть. Матери скажи, нехай семена припасает.
— Она и так держит: картошки закопала в яме, кукурузу на семена схоронила.
— Вот-вот. Молодец. — Иван отвернул угол старой парусины, извлек из-под нее кусок красного мяса с тремя ребрами, положил сверху. Потом из другого места достал комок желтого жира, приладил на ребра. Закрыв брезент, прошел в угол — там на стене, как ковер, висела конская шкура. Острым ножом Иван отполосовал большой кусок шкуры и, шерстью наружу, завернул в нее мясо и жир. Замотав все это в старую мешковину, подал Ваське. — На, неси домой. Шкура — тоже мясо. По кусочку будете отрезать, шерсть обсмолите, а кожу — варить. Понял?
— Понял, — растроганно сказал Васька. — Спасибо, дядя Иван… Большое вам спасибо…
— Ладно, ладно, неси, — похлопал он Ваську по плечу. Уже на крылечке сказал: — Вообще я советую и вам схоронить это все до весны. Посолите покруче и спрячьте подальше, чтоб ни сами, ни кошка какая не достала… Хотя глядите, как вам лучше и удобнее… Матери привет передавай. — С крыши ему на рукав упала капелька воды и разбилась на мелкие искорки. — О, гляди, уже капель падает! — обрадовался Иван. — Весна скоро… Пожалуй, дотянем до крапивы…
Дома Ваську встретили восторженно, особенно мать:
— Ну Иван! Ну Иван! Придумает же!
А Танюшка и Алешка, узнав, что это конина, сконфузились. Танюшку даже передернуло:
— Фу-г! Я не буду есть конятину.
— Ну и дура! — сказал Васька просто. — Я ел — и ничего. Такая же, как и говядина. — И он, вспомнив, как оправдывал конину Иван, тоже начал внушать сестре: — Лошадь — самое чистое животное! Что она ест? Зерно, травку. А любимая твоя свинья всякую падаль сожрет, все время в грязи валяется.
— Зато там сало и мясо вкусные, — возразила Танюшка.
— Ты попробуй это, а потом говори! Ну, как хочешь, — отмахнулся Васька. — Можешь не есть, нам больше достанется. Правда, Алеш?
— Ага, — согласился Алешка не очень уверенно.
— Мясо как мясо, — заключила мать спор детей. — Оно, я слыхала, только варится долго.
— Это если старое, — сказал Васька.
— Попробуем — и все узнаем, — решила мать и заладилась отрезать кусочек, чтобы сварить суп с кониной.
У Васьки было легко и радостно на душе. И не столько от сытной еды, сколько от общения с Платоном. Ничего не говорит. Наверное, не очень еще доверяет. А может, нельзя говорить? Намекнул только — подождать надо до весны. Ну что ж, весна — вот она, уже стучится!..
А Платон после ухода Васьки загрустил. Он понемногу стал привыкать к своему такому положению, а этот парень своей наивностью напоминал ему о чем-то таком, что опять всколыхнуло, взбаламутило его смятенную душу. «Эх, Васька, Васька… Лучше бы ты в армию ушел… — Вспомнил своих ребят — Федора, Виталия. — Где они? Что с ними? Живы ли?..»
Разволновался окончательно, растеребил сердце, заскучал. Какая-то досада грызла: стояли перед ним доверчивые Васькины глаза, ждали от него ответа.
22
Весна началась — как всегда — игрой солнышка, бурной капелью, таянием снега днем и заморозками по ночам, журчанием ручейков, половодьем, появлением первых проплешин на бугорках и ранней нежной зеленью. Но людям весна эта казалась необычной — они так долго ждали ее, столько надежд возлагали на нее… Только бы дожить до весны! Будто вместе с вешним половодьем унесет она разом и холод, и голод, и оккупацию.
Оживились люди. Не успел солончаковый бугор оголиться от снега, пошли с ведрами на охоту — сусликов добывать; не успела земля нагреться, не успели еще выползти первые листочки травы, пошли люди на промысел крапивы…
Гурины всей семьей собирали крапиву в колючих зарослях «перчика» в конце огорода. А крапива была еще такая молодая, еще и первая пара листков не развернулась, еще и цвет у нее был буроватый, она даже еще и не жглась, — из земли выдирали долгожданную спасительницу. Набрали, обдала ее Анна кипятком, помыла, измельчила — и в суп. А сама приговаривала:
— Ах, крапивка ты наша родная! Сколько я помню голодных годов — всегда надеялись на крапивку. И в двадцать первом, и в тридцать третьем, всегда говорили: «Дожить бы до крапивы». А как получшает время, так забывают спасительницу, вырубают, если вырастет где-то поблизости. А нет бы песню про нее сложить… Вот ты, Вася, стишки сочиняешь, небось про крапиву не напишешь? А она стоит того…
Варево получилось вкусным — кисленькое, пахнет свежей зеленью.
— Вот вам и зеленый борщ! Не хуже, чем со щавелем, — говорила радостно мать, хлебая ложку за ложкой крапивный суп…
Не успела земля просохнуть, принялись люди за огороды — сажали, засеивали, чем могли. Но больше старались кукурузой да картошкой засадить — это главные заменители хлеба. В междурядьях толкали зернышки свеклы, фасоли. Не давали гулять ни одному сантиметру земли — до самого порога вскопали и засеяли. В палисадниках вместо цветов теперь росли кукуруза и картошка.
Но как плотно ни засевали огороды, понимали: не даст огород столько, чтобы хватило и на зиму. И кукуруза, и картошка — сколько ее будет съедено еще в завязи! И поэтому поглядывали с вожделением на клин колхозной земли, который примыкал почти к самым огородам крайней улицы и тянулся в одну сторону вниз до самой кринички, а в другую — до школы, что стоит на выгоне. Смотрели, ждали, что собираются делать с этой землей немцы. Те вроде ничего не собирались, а время уходило, и стали тогда более смелые один по одному столбить себе участки. А когда осмелели и несмелые, весь клин уже был расчерчен и размечен — колышками, бороздками, комьями земли. Назревал скандал.
Но к тому времени уже была кое-какая местная власть: десятские, сотские и где-то там — староста. Десятские и сотские были разные — плохие и хорошие. «Плохие» — это те, которые служили немцам не за страх, а за совесть, и те, что, пользуясь своим положением, старались нажиться за счет населения. «Хорошие» же не обижали людей, старались помочь им хоть как-то, облегчить жизнь, не вступая, конечно, в конфликт с немцами.
На крайней улице, которая тянулась от фонтана и до самого мосточка, полукольцом огибая злополучный клин земли, сотским был Степан Криворуков — мужик толковый, разумный и степенный. Он был «хорошим» сотским. Если узнавал, что к кому-то должны прийти «трусить хлеб», то есть с обыском, чтобы конфисковать «награбленное» на горящем элеваторе зерно, или готовилась какая-то облава, незаметно давал знать, предупреждал население. Таким образом Васька да и другие до сих пор спасались от разных мобилизаций — прятались или уходили на время из дома, а близкие говорили, что они ушли за хлебом, менять. Мобилизация затухала, все успокаивалось, и Васька выходил из «подполья».
Узнав о назревавшем конфликте из-за земельного клина, Криворуков занялся дележом сам. Созвал на сход всю улицу и объявил, что самочинный захват земли делать нельзя. Надо разделить ее на всех по справедливости. Он прикинул, и по его подсчетам получается по две сотки на едока.
— А чтобы не было обидно, кому какой участок достанется — тяните жребий. Отмерять начнем от школы. — Криворуков кинул на плечо заготовленную заранее двухметровку — буквой «А» сбитые три рейки, — пошагал в сторону школы на самый угол земельного клина. Высокий, здоровенный мужик, он людям в глаза не смотрел, шел потупив взор в землю — стеснялся своей должности. Знал: хоть он и «хороший», но в глазах людей все равно немецкий прислужник и «господин сотник».
— Господин сотник! Мой первый номер, вот, — догнала его истощенная женщина и показала скрученную в трубку бумажку.
— Хорошо, — буркнул он. — Вот и начнем с вас.
Криворуков размерил участки с одной стороны, потом — с другой, чтобы не было споров из-за меж, воткнул свою двухметровку одной «ногой» в землю, сказал:
— Оставляю вам. На случай какого спора… — И пошел домой.
Тянули жребий и Васькина мать, и Иван, и Платон…
Пахать землю было нечем, некогда и незачем: в прошлом году здесь росла капуста, так что земля была мягкой и чистой, поэтому ее лишь взрыхлили тяпками и засадили кукурузой.
У Анны на весь участок кукурузных семян не хватило, и они вскопали грядку под овощи — посеяли огурцы, помидоры, морковку, добавили свеклы, фасоли. А по кукурузе — в междурядья (откуда только и взялись у нее!) — Анна разбросала по редким лункам семена арбузов и дыни.
— А нехай, — сказала она небрежно, вроде оправдываясь перед детьми за свое легкомыслие. — Может, и уродит… А уродит — не помешает.
Только отсеяли Гурины на новом участке, как наступила пора первой прополки на огороде. Так и пошло день за днем. Не разгибая спины, всей семьей работали они то в огороде, то в поле. И не только у Гуриных, у всех были одни заботы — вырастить урожай, накормить себя и обеспечить семью едой на будущую зиму, потому что ждать помощи пока было неоткуда…
23
Не успела весенняя страда остыть, как распространился слух, будто всех неработающих мужчин будут брать на учет и насильно угонять куда-то на работы — кого в лагеря, кого в Германию на самые тяжелые и вредные производства. Слухи эти косвенно подтверждались появившимися многочисленными плакатами. На одном из них был изображен окарикатуренный еврей — такой хитрый, горбоносый, в кепке-шестиклинке, с нестрижеными кудрявыми волосами, которые кудлатой пеной выбивались из-под кепки на загривке. Под ним надпись: «Враги Великой Германии — жиды, большевики и саботажники. Все обязаны трудиться на благо Великой Германии!» На другом — на первом плане нарисован крестьянин с лопатой, а в глубине — немецкие солдаты идут в атаку. И надпись: «Вашая работа — гета ваша падяка!» Люди читали этот плакат, предназначенный, очевидно, для Белоруссии, и лишь догадывались о его содержании. Хотя обычно немцы в своих плакатах и объявлениях до такой степени искажали и русский и украинский языки, что это было уже не в диковинку.
Висел на заборах и третий плакат, этот отличался от своих крикливых и грозных собратьев спокойным тоном и плохо скрытым лицемерием. На фоне красивого берлинского пейзажа стояла улыбающаяся русская девушка и указывала рукой на этот пейзаж. Внизу текст — как бы ее слова: «Юноши и девушки! Вербуйтесь на работу в Германию! Этим вы не только поможете Великой Германии в борьбе с большевиками и евреями, но и приобщитесь к самой высокой цивилизации в мире!»
Стало известно и о тех строгих мерах, которые будут применяться к «саботажникам», — тут уже короткой пересидкой где-то не спасешься. Германия грозила прежде всего молодым ребятам.
Заметался Васька: как быть? Побежал к Платону за советом, а заодно и предупредить — может, они ничего не знают. Оказалось, знают и уже кое-что придумали. Платон сказал Ваське:
— Хорошо, что пришел. Я уже хотел к тебе кого-то из ребят посылать. Завтра утром приходи на третье отделение совхоза «Комсомолец». Пойдем наниматься на работу. Там управляющим мой знакомый, я с ним договорился — обещал принять. И справки даст. Ну, придется, конечно, и поработать…
— Для вида? — Васька смотрел на Платона восторженными глазами, будто тот сотворил какое-то чудо.
— Посмотрим. Подводить управляющего тоже нельзя, придется поработать. Какая там сейчас работа? Полоть что-нибудь или поливать.
— Да понятно! Поработаем! А Ивану Костину можно сказать? А то он тоже не знает, куда деваться.
— Это кто такой?
— Они над речкой живут… Товарищ мой, вместе учились.
— Приглашай, — разрешил Платон. Подумал что-то, спросил: — Как там Шахов? Скажи и ему. Если хочет, пусть приходит.
Прямо от Платона Васька забежал к Костину, но его сестра сказала, что Иван ушел менять. Васька догадался, что он куда-то скрылся, скорее всего убежал к тетке на хутор. А менять? Нечего у них было менять. Костины жили бедно: у них еще перед войной умерла мать, детей осталось пятеро. Отец растерялся как-то, опустился, запил, и заботы о семье легли в основном на старшую сестру да на Ивана…
— Если появится, скажи ему, чтобы шел на третье отделение в «Комсомолец». На работу. Там справку дадут, что он работает. Я завтра с утра пойду туда.
— Ладно, — пообещала сестра. — Только он сказал, что не скоро объявится…
Шахов против ожидания обрадовался Васькиному сообщению и охотно согласился идти работать в совхоз.
Рано утром Васька с узелком харчишек — кусок кукурузной лепешки да бутылка смородинного чая несладкого — зашел за Арсюхой, и они пошагали через белое глинище, через солончаковый бугор в совхоз. Пришли рано — еще никого не было ни в конторе, ни около. Уселись на бревне, стали ждать. Вскоре пришла одна работница, открыла контору, оглянулась на мужчин, спросила:
— Вы к кому?
— Да… Мы на работу наниматься… — сказал Васька.
— А-а… Ну, подождите.
Вслед за ней пришли еще две женщины, а потом подъехал на легкой линейке с колесами в резиновых шинах мужчина в сером плаще и в белой парусиновой фуражке. Он легко соскочил с линейки, замотал вожжи за коновязь и уверенно направился в контору, на мужиков даже не взглянул.
— Управляющий, наверное, — сказал Шахов.
— Наверно… Но мы подождем наших. — Васька взглянул на дорогу. — Да вот и они! — обрадовался он, увидев на дороге своих дядьев — Платона и Ивана. Он узнал бы их, пожалуй, и за сто верст — оба низенькие, плотные, походка неторопливая, покачивающаяся. Подошли, поздоровались.
Платон кивнул на контору:
— Начальство там?
— Вроде. Вон какой-то приехал, — указал на линейку Шахов.
— Подождите здесь, я пока один схожу, — сказал Платон и пошел в контору. Вышел он оттуда минут через десять, кивнул своей команде: — Ну, пошли работать…
— А оформлять когда будут? Опосля? — спросил Иван.
— И паспорт не нужен? — удивился Васька.
— Наверное, от ворот поворот, — мрачно подвел итог Шахов.
— Да нет, не поворот, — ухмыльнулся Платон. — Все уже оформлено: оставил список. В конце дня зайдем — справки нам выдадут. А сейчас — работать.
— Куда?
— На огород. Капусту сажать.
— У них ишо капуста не высажена? — удивился Иван.
— Поздний сорт.
Не спеша, вразвалочку, гуськом, поплелись они на огород, подшучивая над собой.
— Самая мужчинская работа — рассаду высаживать! — усмехнулся Иван. — Я ее и дома никогда не сажал — все делали бабы. Поливать, правда, поливал.
— Ты-то что! — отозвался Платон, шедший впереди. — А я уже и забыл, какая она на вид, капустная рассада. Да не боги горшки обжигают…
На огороде несколько женщин уже ковырялись в земле. На краю поля стояли деревянные лотки с рассадой. Возле них скучал овощевод — щупленький старичок в выгоревшей на солнце красноармейской гимнастерке, подпоясанной тонким кавказским ремешком. На голову была натянута старая серая кепка с переломленной картонкой внутри козырька, отчего козырек этот нависал ему на глаза островерхим шалашиком. Старичок записал себе в блокнот фамилии новых рабочих, указал на рассаду:
— Приступайте. — Но, сообразив что-то, сказал сам себе: — Да, я и забыл… — Нагнулся, взял из кучечки заготовленных один заостренный колышек и прошел на грядку. Тут он воткнул его в землю, покачал и вытащил, а в образовавшуюся норку опустил корешок рассады, придавив обеими руками вокруг него землю. — Вот и вся премудрость. Глубоко не заделывайте, но и мелко тоже не надо. Вот так, по эти поры, — он показал на росточке, на какую глубину надо заглублять корешки в землю. — И сразу полейте. Кружку воды под каждый росток. Вот и все, — он взглянул на Платона, признав его за старшего, ждал вопросов. Не дождался, сам добавил: — Расстояние между ростками старайтесь выдерживать одинаковое, на длину этого колышка. Вечером приду проверю и наряд закрою.
Старик ушел, мужики все еще стояли над рассадой, не зная, с какой стороны к ней подступить.
— А что ж он о технике безопасности ничего не сказал? — пошутил Иван. — Какие сигналы подавать в случае аварии?
— Ну что? — Платон смотрел то на лотки с рассадой, то на мужиков. — Ящик тащить с собой или как?.. — Он оглянулся на женщин, которые вначале с любопытством посматривали на них, о чем-то пересмеивались, а потом успокоились — лишь изредка какая украдкой посмотрит из любопытства на мужиков и снова примется за работу.
— Эй, красавицы! — крикнул Иван. — Вы хоть бы научили, как с этой рассадой обращаться?
Ответа долго не было, наконец одна ответила:
— Сами справитесь…
— Это даже очень невежливо с вашей стороны, — сказал Иван. — Шо за бабы пошли? Даже шутить разучились.
— А ты бы все шутил! — Платон покачал укоризненно головой. — Как жеребчик. И с каких бы это харчей?
Васька не сдержался, фыркнул в кулак, проговорил сквозь душивший его смех, намекая на конину:
— А с жеребятины, с чего ж!
Платон усмехнулся, а Иван, напустив на себя шутейную строгость, погрозил Ваське пальцем:
— Но-но! Молод еще такие шутки над дядей шутить! Ишь ты!
Шахов не понимал, чему они смеются, но за компанию улыбался.
— Ладно, — остановил их Платон. — Смех смехом, а дело надо делать. Вон они как, — указал он на женщин. — Берут сначала по пучочку и кладут вдоль бороздок…
Вооружившись колышками и пучками рассады, они заняли по рядку и не спеша приступили к работе. Работа, конечно, не хитрая, но быть все время в согбенном состоянии, кланяться каждому росточку без привычки было тяжело, особенно Платону, и он то и дело выпрямлялся, ворчал на Ивана:
— Куда ты торопишься? Не спеши… Сколько успеем, — он оглядывался вокруг себя, искал на что бы сесть. — Скамеечку бы сюда…
— Ага! — засмеялся Иван. — И Женьку или Клару, чтобы подносили ее за тобой! А если бы тебе вернуть тот живот, что был, когда ты сидел начальником?
— Такой уж большой живот был? — обиделся Платон.
— То нет? Как бочка! Сейчас что, и половины не осталось.
— Ты наговоришь…
— Пущай люди скажут, — Иван поглядел на свой рядок — нежные росточки поникли головками. Пошел, взял ведро, стал поливать их.
Женщины, оторвавшиеся далеко от мужиков, так и работали обособленной колонией. Работали быстро, сноровисто, а когда солнце достигло зенита, они, догнав до конца начатые рядки, собрали свои вещички и пошли с поля.
— Эй, красавицы! Чи на обед уже? Дак вроде рано! — закричал Иван им вдогонку. — И не приглашаете?
— Совсем! — ответила ему самая бойкая. — А это оставляем вам: больше посадите — больше заработаете. — И она засмеялась.
— Вот как! Они уже пошабашили. — Иван оглянулся на Платона.
— Да то их дело, — сказал Платон. — Они местные, знают, что делают. Мы к ним не касаемся…
— А почему? К той, к шустренькой, можно было и прикоснуться. — Иван свел разговор к шутке и тут же спросил: — А ты хоть насчет оплаты договорился?
Этот вопрос был задан тоже в шутку, потому что все знали, как платят оккупанты. Да и не за заработком они пришли сюда. Платон ухмыльнулся, сказал:
— Осенью капустой получишь!
— Если так — это было бы здорово! — всерьез обрадовался Иван. — Капустки на зиму насолить!.. Тогда давайте сажать и на свою долю!
— А можно и перекур сделать, — предложил Платон, поглядывая на солнце. — Обедать, пожалуй, пора.
— Перекур с дремотой, — уточнил Шахов и первым пошел к лоткам, где лежали их оклунки.
— Можно и с дремотой, — согласился Платон.
Уселись на перевернутые пустые лотки, развязали узелки, принялись за еду. Еда у всех была приблизительно одна и та же: кусок лепешки да бутылка с «чаем». Только у Шахова компот: у него в саду много яблонь, и с прошлого года еще тянулась сушка. Но лепешки разнились — у кого покрепче, а у кого рассыпчатая. Покрепче — значит, в ней пшеничной муки больше. У Васьки оказалась самая непрочная лепешка, крошилась, будто из крупного морского песка испечена.
После обеда работали ленивее — приустали, спины ломило, но, к счастью, рассады оставалось немного, и они, прикончив ее, принялись мыть руки.
— А может, сходить, чтобы еще подвезли? — спросил Иван. — Солнце-то еще вон где…
— Сиди, — буркнул Платон. — Тебе больше всех надо? Это их забота.
— Да и то верно, — быстро согласился Иван.
Ваське нравилось, что Платон все время сдерживает Ивана, задает вялый темп работы — лишь бы день до вечера. Действительно, для чего и для кого выкладываться? Для захватчиков? Улучив момент, прошептал Платону:
— Я придумал, как можно тут вредить им. Отрывать корешки и втыкать в землю один стебелек.
— Ты так делал? — испуганно спросил Платон.
— Нет, это я только сейчас придумал.
— Не надо. Это же сразу, завтра же обнаружится, чья это работа. И загремим все, а я — в первую очередь. Не делай глупости.
Сидят мужики на перевернутых лотках, разомлели под весенним солнышком. Вокруг тишина, свежей травой пахнет, и будто нет в мире ни войны, ни фашистов… И вдруг из далекой глубины неба донесся басовитый звук, похожий на гул шмеля. Васька, услышав его, зашарил глазами по небу, увидел сначала короткую белую полоску, а потом, в голове ее, маленькую черненькую точку — самолет.
— Наш! — восторженно закричал он, вскочил и стал тыкать пальцем в небо.
Остальные тоже повставали на ноги, задрали головы вверх, прикрывая ладонями глаза от солнца.
— Наш!
— Держатся ребятки!
— Наверно, разведчик!
— Скорей бы уж они там наступали…
— Смело как пошел! И не боится!
Вскоре пришел овощевод:
— Кончили? А чего же ждете? Домой бы шли.
— Указаний не было.
— Идите. А завтра — прямо сюда.
Мужики торопливо разобрали свои опустевшие сумки и направились к конторе. Платон опять оставил товарищей ждать, а сам пошел вовнутрь, но тут же вышел обратно:
— Заходите… Все.
В комнату, куда их ввел Платон, справа за столом сидел управляющий все в том же плаще, но без фуражки. Напротив восседал, будто аршин проглотил, немецкий офицер, тоже без фуражки. Белесые волосы его были гладко зачесаны на косой пробор. Рядом с ним сидела крашеная яркая блондинка — переводчица.
Увидев немца, мужики столпились у порога и дальше не двинулись. Офицер кивнул переводчице:
— Битте.
Девица подвинула к себе стопку белых листков-четвертушек, стала брать их по одному и читать написанные на них фамилии:
— Глазунов Платон.
Потупя глаза, Платон подошел, взял листок и встал на свое место.
— Глазунов Иван.
Иван почему-то растерялся, засуетился, словно его застали врасплох. Наконец он совладал с собой, сунул сумку под мышку, подошел к столу.
— Гурин Василий.
Поджав губы и насупив брови, Васька не спеша подошел к столу. Сурово глядя на переводчицу, он взял небрежно свою бумажку, будто получать ему их было не впервой, и неторопливо отошел, читая на ходу выданный ему документ.
Шахов, услышав свою фамилию, заулыбался почему-то заискивающе-испуганно и, пока дошел до стола, раза три споткнулся, и после каждого раза лицо его все больше и больше расплывалось в виноватой улыбке.
— Все, — сказала переводчица немцу и что-то добавила по-немецки.
— Айн момент, — немец поднял руку и, вскинув голову, проговорил торжественно, обращаясь к мужикам: — Работать надо карашо! Работать надо много! Работать надо бистро! — Он взглянул на переводчицу, та кивнула, и немец, словно школьник, получивший высокую оценку, заулыбался, довольный собой. — Как Стаканов! Как ударник! — и захохотал.
«Издевается, гад!» — закипая, Васька искоса посмотрел на Платона. Тот повел глазами в сторону, улыбнулся Ваське, давая понять ему, что надо потерпеть.
— Всьё! Аллес! — сказал офицер и махнул рукой, будто выметал всех из комнаты.
На улице мужики стали рассматривать полученные, бумажки. Это были печатные бланки. Сверху крупно стояло одно слово: «Ausweis». На свободных строчках были вписаны от руки латинскими буквами фамилии и имена. Васька прочел на своем бланке: «Gurin Wassili». «Через два «s» почему-то», — удивился он. Остальные окружили его, стали спрашивать о содержании справок.
— Тут-то понятно — фамилия, а вот это — длинно что-то? — тыкал Иван в бумажку черным от земли ногтем.
— Тут написано, что предъявитель сего работает в совхозе «Комсомолец» в должности рабочего, — перевел Васька немецкий текст. — И печать!
— Печать-то видна: с фашистским орлом…
По дороге домой их обогнала пароконная бричка. На облучке сидел кучер, а сзади, на мягком сиденье, офицер и крашеная блондинка — переводчица. Проезжая мимо мужиков, офицер не обратил на них никакого внимания, будто их и не было, — смотрел сосредоточенно вдаль. А переводчица как раз в этот момент принялась оглядывать свой левый рукав и усиленно что-то стряхивала с него.
«У, шлюха!..» — мысленно послал ей вдогонку Васька свой «привет».
24
Вовремя Васька запасся аусвайсом. Шуровали немцы в поселке как в собственном доме — выискивали «саботажников» и забирали в лагеря для работы на аэродроме или на Путиловском заводе. На заводе работа была тяжелая — сортировали железо и грузили на платформы для отправки в Германию на переплавку. Домой не отпускали, держали на положении военнопленных.
Особенно охотились за молодежью. Из первого поселка восемнадцать девушек угнали в Германию. Этих обманули: вызвали повестками на биржу труда якобы для работы на один день — помыть полы и окна в бывшей школе-десятилетке, где, по слухам, должен будет разместиться госпиталь. Обещали: кто придет, тому будет выдана справка и паек. А когда девчата собрались, их окружили автоматчики, загнали всех в кузов под брезент огромного грузовика и увезли в город. Там на городской ветке стоял эшелон из товарных вагонов, в которых уже было набито пленниц из других мест. В эти же вагоны погрузили и поселковых.
Родители кинулись вдогонку, просили хоть попрощаться, но их и близко к поезду не подпустили. Крику было! В вагонах девчата ревут на разные голоса, волосы рвут на себе, а тут их матери голосят. Жутко было. Но их горе никого не тронуло. Отправили поезд, будто там были не живые люди, а какой-то мертвый груз.
Узнав о таких делах, Васька перестал даже на ночь приходить домой — ночевал в совхозной конюшне на сене. Мать отвечала: «Он на работе, дежурит…» Аусвайс аусвайсом, а лучше с глаз подальше: они могут на документ не посмотреть. Бумажку порвут, а его в спину прикладом и — «Давай! Давай!». На каких напорешься…
Закончив не спеша сажать капусту, мужики принялись за прополку, хлеб пололи. Озимые почему-то оказались сильно засоренными, будто назло немцам полезли осот, сурепка, даже не видно было пшеницы — сплошные желтые цветочки. Пололи хлеб руками — рвали сорняки и выносили на дорогу. Осот надо было вырывать с корнем, поддевая руку под нижние листья у самой земли. А он колючий, как ежик, не всегда и подберешься к его стеблю, чтобы не наколоть руку. Но мужики приспособились быстро. Ногой валили куст набок и ножом подрезали стебель пониже. Так расправлялись с большими кустами, а маленькие совсем не трогали, тем более что с дороги они не видны, а в глубину приходивший замерять прополотое бригадир никогда не заходил.
Васька с сурепкой тоже обращался деликатно — срывал верхние цветочки, чтобы не маячили да с дороги не были видны. Оглянулся на Платона — не заругал бы тот за такую работу, но, к удивлению своему и радости, увидел, что и другие, в том числе и сам Платон, рвали одни цветочки. «А чего в самом деле стараться? — сказал себе Васька. — Будто эта пшеница нашим достанется! А немцы пусть пожнут сурепку».
После такой прополки дня через три все поле снова пожелтело от новых побегов. Но этого уже никто не видел: немец в поле не ездил, а бригадир считал свое дело сделанным и тоже туда не заглядывал.
Потом началась уборка сена. Убирали какую-то сеяную траву — то ли эспарцет, то ли суданку. Васька не разбирался в этом деле. Из всех сеяных трав он знал только люцерну да клевер, да и то не очень различал их и часто путал: у них, казалось ему, одинаковые круглые сочные листочки и пушистые красные, будто пуховички, цветы. Дикий клевер рос на пустырях, и он рвал его в большом количестве, когда держал кроликов; клевер этот, как и листья белой акации, кролики очень любили. Но то, что они убирали сейчас, не было ни клевером, ни люцерной — стебли ровные и высокие, похожие на пырей. Косили траву двумя конными сенокосилками и косами вручную. А когда сено подсохло, Ваську посадили на конные грабли. Простые такие, похожие на двуколку, только железные, и вместо мягкого сиденья было приварено на высокой стойке железное седло. Снизу под седлом прикреплено множество проволочных дугообразных зубьев. Когда Васька нажимал ногой на педаль, зубья эти поднимались вверх.
Сел Васька на грабли, дернул вожжами: «Но!» — лошадка послушно повиновалась. Оглянулся — подбирают зубья сено. Когда набралось порядочно, нажал на педаль, зубья — вверх, а сено осталось на земле круглым красивым валком. Работенка была ничего, интересная даже, и лошадка смирная, послушная. Васька любил животных, давал ей отдохнуть, поглаживал по мягкой шее рукой, говорил ей ласковые слова.
Сгребли сено сначала в валки, потом в копны, а потом начали свозить его в одно место. Но не скирдовали, а так, валили как ни попадя в большую кучу. На другой день поняли, в чем дело: сюда пригнали большой, похожий на комбайн, красный пресс и движок. Пресс был новенький — видать, прямо с завода — от него еще краской вовсю несло, как от скипидарной бочки. Вместе с прессом объявились и два немца: один в засаленном военном френче и в сбитой на затылок пилотке — механик, а другой с винтовкой за плечом и в каске. Этот — для охраны. Солдат лениво прохаживался вокруг агрегата, из любопытства заглядывал в пресс, наверное, тоже впервые видел такую машину, а потом отошел подальше, расставил широкие ноги в сапогах-раструбах и стал наблюдать за всей панорамой издали.
Платонова бригада к тому времени увеличилась еще на одного человека — к ним присоединился возвратившийся с хутора Иван Костин, Васькин дружок. На хуторе тоже стало небезопасно, и он, узнав от сестры о Васькином приходе и о совхозе, прибежал сюда. Иван — красивый крепкий парень. Густые, сросшиеся на переносице брови, длинные ресницы и черные как вороново крыло волосы неизменно привлекали к нему взоры девчонок. Он был самым сильным парнем в школе и самым застенчивым, особенно робел и терялся перед девчатами и, пожалуй, был единственным из старшеклассников, у кого не было подружки…
Кроме платоновской бригады, на сено пригнали откуда-то человек пять пожилых мужиков, по всем признакам это были местные совхозные рабочие.
Было здесь и начальство — офицер с переводчицей и управляющий. Через переводчицу механик рассказал рабочим, как работает пресс, потом расставил их по участкам и объяснил, что и как они должны делать: шестеро у транспортера — набрасывать на ленту сено, двое — оттаскивать тюки и складывать их в сторонке и двое — на вязке. Последнее было поручено Костину и Ваське. Им вручили по два длинных, с заостренными концами, стержня, похожих на большие шампуры или на шпаги, только на лезвиях у них были на всю длину канавки диаметром с карандаш, и поставили по обе стороны длинного квадратного хобота. В этот хобот пресс будет набивать сено, а Иван и Васька должны вязать его проволокой в тюки. Тюки можно было делать разной длины, но немец отмерил на нижней перекладине размер и приказал строго соблюдать его.
Механик ушел заводить движок. Васька и Иван стояли друг против друга со шпагами в руках, на земле возле каждого лежали мотки мягкой проволоки и на полке — кусачки. Иван со скучающим видом крутил в руках шпагу, а потом встал в стойку, стал угрожать Ваське, который тут же изготовился к отражению атаки. Но «дуэль» не состоялась — застрелял движок, заработал, и тут же заходил ходуном весь агрегат, задвигался с грохотом взад-вперед на холостом ходу тяжелый поршень пресса. Потом пошли первые навильни сена, и поршень легко, с мягким хрустом вдавил их в хобот. Васька и Иван воткнули шпаги (один внизу, другой вверху), продели в желобки концы проволоки, и каждый потянул чужой конец к себе. А пресс все толкал и толкал сено, и с каждой порцией оно, уже спрессованное, двигалось толчками по хоботу длинной квадратной колбасой. Когда передний конец колбасы дошел до отметины, ребята воткнули другую пару шпаг, как бы отрезали тюк от остальной массы, и продели сквозь них концы проволоки в обратную сторону. Каждый схватил свой конец, откусил проволоку от мотка на нужную длину и, закрутив несколькими оборотами, приступили к следующему тюку.
Связанный тюк продолжал двигаться по хоботу до самого края и там по наклонной железной плите тяжело сползал на землю. Освобождаясь от пресса, сено расширялось и натягивало проволоку так туго, что она врезалась в него, как в мякоть. Поддеть под нее даже железный прут, не то что палец, было невозможно. Тюки получались плотные, тяжелые, два мужика крюками оттаскивали их в сторонку и складывали в штабель.
Через час или полтора механик, приглушив движок, отключил ременный привод, остановил пресс, чтобы проверить некоторые узлы машины. Пользуясь передышкой, рабочие собрались возле готовых тюков, стали их рассматривать, пинать ногами, пробовать на вес, и восхищались технической смекалкой немца.
— Вот бы нам такой пресс! — говорили совхозные мужики. — Быстро, удобно! А главное, хранить и перевозить сено в тюках легче и способнее…
После перерыва начальство уехало, и за главного остался механик. Солдат ни во что не вмешивался, он только слонялся лениво вокруг или занимал свой пост в отдалении, как ворона на самом высоком месте, и, раскорячив ноги, стоял истуканом.
После обеда работа пошла медленнее, люди устали, руки уже не держали вилы. Воткнув тройчатки в сено, они не могли поднять полные навильни, с трудом выдергивали их, подцепив небольшой кусочек сена, бросали на транспортер. Пресс работал почти вхолостую. Немец-механик подходил к мужчинам и, указывая на агрегат, объяснял:
— Машина гыр-гыр-пльёхо. Надо много-много бросайть.
Иван Глазунов обернулся к нему и улыбаясь сказал:
— Машина гыр-гыр, ты гыр-гыр, а у меня в животе гыр-гыр. — Он показал на свой живот: — Видишь, как подвело?
Механик смотрел на Ивана, слушал его внимательно, а выслушав, сказал:
— Не понимай.
Тогда Иван принялся втолковывать ему по-другому. Указав на пресс, сказал:
— Машина кушать много-много, а я кушать мало. — И снова положил руку себе на живот. — Тут вот мало-мало.
— Кушать мало? — переспросил немец и развел руками: я, мол, тут ни при чем.
К Ивану подошел солдат и, уставившись на него выпученными, как у жабы, глазами, сказал:
— Эй! Работай надо! Давай! Давай!
— Иди ты к черту, — неожиданно рассердился Иван. — Один гыр-гыр, теперь другой пришел гыр-гыр. Ты попробуй сам «давай-давай!», — указал он на транспортер. — Ты кушал сало? Шпек эссен? А я кукурузу…
Немец смотрел на Ивана, слушал, а глаза его все больше и больше вылезали из орбит, будто это уже были не глаза, а толстые линзы без оправы.
— Иван! — крикнул Платон. — Отстань! Не дури!
К солдату подошел механик, стал что-то ему говорить, а Иван тем временем принялся навильни за навильнями бросать сено на транспортер — сообразил, что дело может кончиться плохо. Механик продолжал что-то говорить солдату, указывая то на транспортер, то на пресс, то на рабочих. И вдруг неожиданно заглушил движок. Все недоуменно посмотрели в его сторону, а он поднял руки и, скрестив их, объяснил:
— Аллес. Машина… спать… Аллес. Алле нах хаус. Домой. Морген… Савтра ахт ур… — показал восемь пальцев. — Фосем час.
Все быстро похватали свои вещи и пошли по домам. Иван ворчал:
— Даже машина спать захотела. А он хотел, чтобы мы не евши с ней тягались.
— А ты тоже… — упрекнул его Платон. — Связался… Шутить вздумал с фашистами.
— Да как-то само собой получилось, — оправдывался Иван.
На другой день на прессовке сена народу было уже вдвое больше — откуда-то еще пригнали рабочих: немцы спешили побыстрее убрать сено. То ли боялись, что его попортит непогода, то ли оно было им срочно необходимо для армии. Дизельный движок тарахтел, будто мотоцикл на большой скорости, маховые колеса его крутились так бешено, что спицы сливались в сплошной круг, а сердечник пресса ходил взад-вперед, словно маятник. Иногда мужики нарочно наваливали одновременно на приемник побольше сена, надеясь, что пресс поперхнется и остановится, но он был таким прожорливым, что лишь на мгновение притихал, вдавливая массу в хобот, и снова грохотал, требуя корма.
Ваську все больше разбирала досада оттого, что ему приходится всерьез работать на фашистскую армию. Пока возился с капустой да с прополкой, пока делали все это шаляй-валяй, ему не казалось, что они делают что-то серьезное, — просто укрываются от мобилизации. А теперь? Укрывались, укрывались — и влипли. И Платон, и другие работают вовсю, потому что деваться некуда: с одной стороны машина гонит, не остановишь, а с другой — немец с винтовкой. И ничего нельзя сделать… «Ничего? — с упреком спросил себя Васька. — А может, все-таки можно?» И просиял от догадки: «Можно!»
Во время обеденного перерыва он вроде случайно не оставил кусачки на полке, а так и пошел с ними, играя: в одной руке кусачки, на другой — кольцо из проволоки, которое он небрежно крутил. Мужики повалились на сено, немцы, оба, сидели на ящиках в тени пресса и хлебали из котелков фасолевый суп со свининой. Вкусный запах его разливался по току и болью отдавался в голодных желудках рабочих.
— Пойду на солнышко позагораю, — сказал Васька устало и поплелся за кучу сена на солнечную сторону. Платон подозрительно посмотрел на него, однако ничего не сказал. Но через минуту-другую встал и так же не спеша пошел за сено, вроде по нужде.
Васька полулежал на сене, стриг проволоку на сантиметровые кусочки и небрежно бросал их через голову в сено. «Нате, жрите, гады!..» — злорадной ухмылкой сопровождал он каждый бросок. Услышав шаги, вздрогнул, спрятал под себя проволоку и сделал вид, что он кусачками стрижет себе ногти. Но увидев Платона, успокоился, заулыбался.
— Ты что здесь делаешь? — спросил Платон.
— А во! — Васька вытащил из-под себя проволоку, откусил кусочек и бросил в сено. — Пусть едят сенцо фашистские лошадки!
Платон побледнел, вырвал из Васькиных рук проволоку и забросил ее как можно дальше:
— Да ты что?! Совсем с ума спятил? Ты думаешь, что ты делаешь? Два десятка человек под смерть подводишь!
Смотрел Васька на Платона, и лицо его все больше и больше конфузливо морщилось, а в глазах появились разочарование, упрек и досада…
— Да пойми ты, голова садовая, — продолжал Платон. — Ну убьешь ты этим одну-две лошади — велика потеря для немцев? А откуда сено — известно. Сейчас не увидел тебя этот олух, потом придут и всех расстреляют. Так стоит это одно другого?
— Да ну вас! — обидчиво и сердито бросил Васька. — Вам все не так!.. А что так? Где то, настоящее, чтобы стоило рисковать? Что надо делать? Молчите… Ну и кормите тогда немецких лошадок, пусть они будут порезвее, чтобы наших подальше гнали. Так, да? — Васька кипел от злости, его мучила досада от беспомощности, он готов был заплакать. Взглянул сердито на Платона, покачал укоризненно головой и пошел от него прочь.
Но тот только отмахнулся, как от докучливой мухи.
Когда после перерыва принялись снова за работу, Васька все еще не мог успокоиться. Руки у него дрожали от гнева, и он не сдержался, заплакал. На одном тюке закрутил проволоку непрочно, тюк сполз на землю и тут же, разорвав проволочный узел, расслоился на отдельные куски. Другой тоже развалился, и его, выдернув проволоку, частями отбросили опять к транспортеру. К Ваське подскочил солдат, закричал:
— Эй! Шлехт арбайт! Плёхо! Карьёшо надо! Давай, давай!
Васька не оборачивался, будто не слышал, но в груди у него кипело, и он готов был сейчас изуродовать нахальную морду немца кусачками. Только огромными усилиями воли он сдерживал себя.
Увидев что-то неладное на Васькиной стороне, Платон заспешил туда, стал объяснять солдату:
— Он больной. Кранк. Голова кранк. Мало кушать. Эссен мало, — Платон показывал рукой на свой рот, потом толкнул Ваську в плечо: — Присядь вон на тюк, успокойся. Давай я за тебя повяжу, — отвел Ваську в сторону, отобрал у него кусачки, принялся за проволоку.
Немец долго и тупо смотрел на Ваську, будто на диковинное животное. Васька не выдержал, дернул головой:
— Ну, чего уставился?
Но немец не смутился, посмотрев еще какое-то время, медленно отошел.
На следующий день Васька на работу не пошел.
— Не буду я сено тюковать для фашистской армии, — сказал он матери. — Аусвайс есть — и ладно… Лучше вам помогу огород полоть — больше пользы будет.
— А вдруг придут? — забеспокоилась мать. — Ой, не было бы беды…
25
Прошла неделя, другая, Ваську никто не тревожил. Мобилизационная горячка поутихла, и он успокоился. На Платона обиделся крепко: Васька так ждал от него какого-то задания, а на самом деле даже одобрения не дождался, когда он попытался хоть как-то навредить немцам. Надо было не то что нарубленной проволоки набросать в сено, а весь этот чертов прессовый агрегат вывести из строя! Но как? Накидать в приемник болтов или камней? Не поможет — пресс вомнет, вдавит все это в сено, только, может, грохот будет посильнее, и все. Сыпануть песка в подшипники двигателя?.. Обо всем этом Васька думал, но от выполнения отказался. Это сразу обнаружилось бы, и вот тут Платон был бы прав: виноватого искать не стали бы, а всех на месте и прикончили. Да это и сделать было нелегко — немцы не дремали, особенно тот, с винтовкой. Поэтому Васька и выбрал что безопасней и менее заметно. Так нет же, и это Платону не понравилось, отругал даже… Испугался, что ли?
К Платону решил Васька больше не ходить. «Надо искать других людей, — решил он. — Где-то ж они есть, те, которые борются с оккупантами? Ну, в нашем районе с самого начала какой-то предатель выдал все подполье, а в других оно где-то наверняка сохранилось. Вон под Красноармейском, говорят, воинский эшелон под откос партизаны пустили. Значит, можно это делать? А то — спрятались в совхозе, чтобы и подозрения никакого на них не падало…»
А пока Васька изливал свою душу в стихах, клеймил в них фашистов, полицаев, разного рода изменников и предателей, холуев, немецких подпевал и шлюх. Забегали к нему иногда Иван Костин и Паша Шахова, слушали Васькины стихи, восхищались, и глаза у всех горели так, будто они уже одним этим так потрясли Германию, что ей и ввек не оправиться.
В это время на оккупированной территории в большом ходу были советские песни с новыми словами — и «Катюша», и «Синий платочек», и многие другие. Музыка та же, а слова иные, современные:
В далекий край товарищ улетает Бомбить родные села-города…Васька тоже пристрастился переиначивать старые песни на новый лад. Написал на мотив «Спят курганы темные», прошла хорошо. Паша, как обычно, переписала слова, подружкам своим раздала — и пошла гулять песня.
Были в ходу в это время и песни, которые притащили с собой оккупанты — «Лили-Марлен», «Аккампанелла», «Розе-Мунд» и другие. Но особенно эти три. Первая — лирическая, немцы ее горланили на каждом шагу, а вторая — быстрый веселый фокстрот, и был он, кажется, даже и не немецкий, а итальянский, потому что под эту музыку всегда пелись шутейные слова:
Аккампанелла — белла Под столом сидела, Макароны ела…Ну а макароны, как известно, любимая еда итальянцев, их и звали поэтому «макаронниками».
Васька сидел в горнице и мучился над пародией на «Лили-Марлен», ему очень хотелось сбить спесь с немцев и скомпрометировать эту столь популярную песенку:
Около казармы, У больших ворот, Там, где мы прощались, — Прошел уж целый год…Оставляя без изменений первые две строчки, Васька переиначивал последние:
Стоит ревет… А фриц ее уж tot.Последняя строка понравилась: мол, фриц ее уж мертвый, напрасно ждешь его, Лили-Марлен, а вот третья — не получалась. Грыз карандаш, искал мучительно слова — и вдруг слышит Платонов голос:
— Здравствуй, сестра…
— О, Платон! Здравствуй. Что это ты надумал к нам в гости прийти? — встретила его радостно Анна.
— А что, нельзя?
— Почему ж нельзя? Просто уж отвыкли от гостей и не ждешь никого, поэтому и удивительно.
— Хозяин дома? — спросил Платон с мягкой иронией в голосе.
— Какой хозяин? — не поняла она, но быстро догадалась: — А-а… Вася? Сидит вон там, сочиняет что-то… Я думаю, что он досочиняется до беды. Узнают — за это ведь по головке не погладят? Хоть бы ты его урезонил.
Как ни зол был Васька на Платона, но, услышав его голос, обрадовался и, когда тот вошел в комнату и спросил, улыбаясь одновременно и виновато и укоризненно: «Можно?» — он кинулся ему навстречу:
— Конечно, можно!
— Сочиняешь? — кивнул Платон на бумагу на столе.
— Угу, — промычал Васька неуверенно. Он стеснялся своего увлечения стихами, боялся услышать насмешливое: «Подумаешь, Пушкин объявился!» Перевернул небрежно страничку обратной стороны — мол, не стоит это дело и разговоров.
— Секрет? — спросил Платон. — Почитал бы?
— Какой секрет от вас? — И он с готовностью взял лист в руки, стал объяснять: — Хочу пародию написать на немецкую песню «Лили-Марлен». Да вот не получается. «Около казармы, у больших ворот стоит ревет… а фриц ее уж tot». Мертвый, значит, убили его на советском фронте. И вот не получается пока…
— Что не получается? — не понял Платон.
— А вот эта строчка: «Стоит ревет…» А дальше? Стоит ревет… девчонка? Немецкая девчонка Лили-Марлен?
— Ну, и напиши так.
— Не подходит. Девчонка — это все-таки хорошее слово, оно русской девушке как раз, а тут: Лили-Марлен, немка, проводила своего Фрица на фронт убивать людей и ждет его с победой. Ну? Какая же она девчонка? Не подходит.
— Да… Выходит, трудное это дело, стишки сочинять?
— Трудно, — признался Васька. — Но иногда легко получается.
— Да? Ну что ж… А на работу почему не ходишь? — спросил Платон и взглянул на Ваську по-отечески участливо. Тот опустил глаза, ничего не сказал. — Обиделся? А зря. Я был прав.
— Нет, неправы, — резко вскинулся Васька. — Сено ведь для Гитлера, для его армии, а мы помогаем им заготавливать его.
— Ну, сено — это еще не снаряды, не пушки, не танки, и рисковать тут не имеет смысла. Как ты этого не поймешь? — внушал ему спокойно Платон.
— Заставили б снаряды делать — наверное, и снаряды делали? — ехидно бросил Васька.
— Заставят — никуда не денешься. И заставляют. В Германию угоняют… Что они там делают в Германии, по-твоему?
— Можно делать по-разному. И там, где представляется возможность хоть маленький вред нанести немцам, — надо наносить. Я так понимаю. А вам все не так, все не то, все не вовремя да не к месту. А я ждал от вас, надеялся… — Васька распалился, повысил голос.
Платон поднял руку, оглянулся на дверь:
— Тише, тише. — И спросил строго: — Ты почему на меня кричишь? Разве я тебе обещал что-нибудь, обнадеживал?
— Обещали! Обещали! Всю жизнь обещали! А вы… Вы обманули меня! — от кипевшей обиды Васька готов был заплакать.
Дверь приоткрылась, мать просунула голову:
— Ой, что вы? Никак ругаетесь?
— Да нет, — махнул на нее рукой Платон. — Разговариваем. Не мешайся… — И сидел поникнув головой, словно Васька его под дых ударил. Наконец глухо сказал: — Может, я сам себя еще больше обманул… Ну, что теперь сделаешь, если в такой обстановке я оказался беспомощным?
— Вы? — удивился Васька. — Вы же такой… такой руководитель, такой организатор!
— Был руководитель… Знаешь, есть молодец среди овец, а я из тех, наверное, кто молодец, когда вокруг молодцы… Начинать с нуля, одному — тут я никакой не организатор. — И резко, с надрывом, будто оправдываясь, сказал: — Ну, не способен я на такие дела, понимаешь? Не умею! Тут надо не только хотеть, но и уметь, чтобы толк был, а так, лишь бы куснуть немца комариным укусом и из-за этого погибнуть и людей погубить — кому это нужно?
— Наговариваете на себя… Вы еще скажите: жена больная, дети малые… — съехидничал Васька.
— А ты как думаешь? Семья не лапоть, с ноги не сбросишь. Я должен думать и о них: сохранять их жизнь, кормить. Ты молодой, этого тебе не понять. Ты можешь собой распоряжаться свободнее.
— «Свободнее». А сами за руки хватаете. Я от вас ждал…
— Опять он от меня чего-то ждал! — вскинулся Платон. — Я виноват, что ты чего-то ждал? Чего ты, собственно, ждал от меня?
— Я ждал, что вы организуете партизанское подполье, начнем немцев громить!
— Не могу я этого делать, не имею права.
— Почему? — удивился Васька. — Немцам подписку дали?
— Да пойми ты, — втолковывал Платон Ваське свои доводы, еле сдерживая гнев. — Ведь наверняка есть люди, которым поручено вести эту работу, и они ведут ее. А вести ее надо умно, толково, согласованно. И, может, сейчас как раз затишье перед бурей, может, что-то готовится, и, может, если мы понадобимся, призовут и нас. А мы своими вот такими примитивными вылазками можем только помешать какому-то большому организованному делу. Ты это понимаешь?
Васька посмотрел в упор на Платона:
— Вы это точно знаете?
— Нет, только предполагаю, догадываюсь.
— А если нет? — спросил Васька. — Если у нас нет подпольщиков? Их же всех уничтожили еще в первые дни оккупации? Выдал какой-то предатель. Ну? Если никого не осталось — тогда как? Должен же кто-то взяться за это дело?
— Не знаю, — сказал Платон угрюмо. — Мне ничего о подполье не известно. А брать на себя такое дело… Мне никто не поручал, и такая инициатива может всем выйти боком. — Он помолчал и, задумавшись, добавил: — А потом… Спасти себя, спасти людей от бессмысленной гибели в условиях оккупации — это тоже чего-то стоит. Ты думаешь, там не знают, какая у нас здесь жизнь? Выжить в этих условиях — тоже подвиг, это тоже надо суметь. Напрасные жертвы никому не нужны, более того — они вредны нам.
— Во-о! — протянул разочарованно Васька. — Да вы и заговорили, как Арсюха Шахов. Скажите уж лучше — струсили?
— Может, и это, — сердито сказал Платон. — Что я, не человек?
— Не каждый же человек трус.
— Думай, как хочешь. — Платон поднялся, распахнул дверь, остановился на пороге: — Завтра на работу приходи. Начали пшеницу молотить. Немцев нет.
— Не приду, — отрезал Васька. — Я лучше на станцию пойду работать, там хоть в буксы песку насыплю — и то польза будет.
— Думаешь, это так просто? Возле каждого вагона часовой стоит.
— Все не просто. Везде надо рисковать. А как же иначе?
Мать услышала последние слова разговора, ужаснулась, накинулась на Ваську:
— Ты что это выдумал? Уже дядю Платона не слушаешь? Вот это да! Не смей! Я ото и стишки твои спалю в плите — накличешь ты ими беду.
— Так приходи завтра на ток, это там, где мы пололи, — продолжал Платон, будто и не было у него спора с Васькой. — А то приедут и отберут аусвайс. Я сказал, что ты болеешь. Там работа неспешная, без немцев. Управляющий обещал осенью за работу овощами расплатиться, а может, если ему удастся, и зерна подбросить. А это будет неплохо! — Платон последнее говорил уже больше для матери, чем для Васьки. — Вы же пшеницу на огороде не сеяли?
— Откуда? — махнула мать рукой. — Пойди, сыночек, если так. Надо о зиме думать, пока не поздно.
— Охраны никакой, можно в кармане домой унести горсть-другую. — Платон, смущенно улыбнувшись, отвернул полу пиджака, показал сестре припухленький, специально пришитый к внутренней стороне карман, наполненный зерном.
— Это опасно, — сказала Анна.
— Пока нет… Приходи, — кивнул Платон Ваське на прощанье и ушел.
26
Однажды осенью, когда днем и ночью сыпал нудный дождь, и дороги развезло до последней крайности, и на улице так похолодало, что вот-вот дождь должен был смениться снегом, поздним вечером в окно к Гуриным кто-то негромко постучал. Мать, как обычно, тревожно взглянула на Ваську, тот в ответ пожал плечами. Вышел в сени, спросил через дверь:
— Кто там?
— Это я, — послышался басистый голос, — Михаил Белозеров… Открой, поговорить надо.
Васька открыл, впустил гостя в комнату. Тот, боясь наследить, остановился у порога, не решаясь идти дальше.
— Раздевайся, — подтолкнул его Васька.
— Кто это? Никак не угадаю, — спросила мать, стараясь скрыть свой испуг.
— Это Миша Белозеров, — сказал ей Васька как можно беззаботнее. — В одной школе учились. Раздевайся, Миш…
Пока Белозеров стягивал с себя намокший плащ, Васька лихорадочно гадал, зачем он пожаловал. Белозеров действительно учился в одной школе с Васькой, но помнил он его только по последнему году учебы: Васька был в десятом, а тот — в девятом классе. В школе они не были ни друзьями, ни даже хорошими знакомыми. Белозеров — низенький, коренастый мальчишка, крепенький, как бычок, в школе был угрюмым и неразговорчивым. Смотрел на всех обычно тяжело, исподлобья, словно на обидчиков. Этим презрительным и сердитым взглядом он, собственно, и запомнился Ваське. С тех пор пути их нигде и никак не пересекались. Васька даже и забыл о его существовании. И вот он пришел. Зачем?
За внешним спокойствием Васька с трудом скрывал закравшуюся в сердце тревогу: догадался, что визит этот конечно же неспроста. Но с чем он пришел? И чем он вообще сейчас занимается? Может, у немцев служит? Да вроде нет, не слышал…
— Проходи, — Васька провел Белозерова в горницу, усадил за стол. Белозеров был таким же угрюмым, а может, даже и больше того: возмужалость придавала его лицу не просто угрюмость, а строгую суровость. Щеки припухлые, взгляд тяжелый, как и прежде угрожающе торчала непокорная прядь волос слева от макушки.
— Ну, как живешь? — спросил Васька, чтобы как-то начать разговор.
— Я пришел к тебе с поручением, — сурово сказал Белозеров и глянул прямо ему в глаза.
Васька с трудом выдержал этот взгляд, спросил удивленно:
— С поручением? Ко мне? С каким поручением? От кого?
— Надо выполнить одно задание, — сказал Белозеров.
— Задание? Какое? А разве я смогу?
— Сможешь, — сказал тот твердо.
Гурин неопределенно двинул плечами. Он понимал, что дело затевается какое-то серьезное, но какое? И почему на него пал выбор?
— Надо сходить в Новоазовское. На разведку.
— На разведку? — удивился Гурин такому строгому слову и усмехнулся неуверенно. — На разведку… А где это Новоазовское? И что там надо разведать? — засыпал он Белозерова вопросами. Но тот не торопился отвечать, будто и не слышал Гурина, хотя смотрел на него внимательно.
— Не знаешь, где Новоазовское? — наконец спросил он.
— Не знаю, — смутился Гурин. — Где Азов слышал, а вот где…
— Новоазовское — поселок… В нашей области, на берегу Азовского моря, почти у самой границы с Ростовской, — объяснил Белозеров.
— Даже не слышал, — смущенно улыбнулся Гурин. — Мариуполь знаю, был там когда-то в пионерском лагере. — И, боясь, что его незнание Белозеров расценит, как желание увильнуть от поручения, решительно заявил: — Да ладно: язык до Киева доведет. По карте посмотрю.
— Надо идти через город на Старобешево, потом на Тельмановку…
— Старобешево знаю! — обрадовался Гурин. — Перед войной был там. Это же где Паша Ангелина!
— Ну!
— Найду! Что там разведать?
— Надо наладить связь. У нас связь оборвалась…
«Связь… оборвалась…» — слушал Гурин эти слова и ушам своим не верил. Неужели пришла наконец его очередь включиться в борьбу с оккупантами? Только бы это был не розыгрыш!
— Мы выручали из плена командиров Красной Армии и переправляли их через Новоазовское на ту сторону.
— Мы тоже одного выручили, — поторопился сообщить Васька, чтобы Белозеров не думал, что он сидел все это время сложа руки. — Подкрепился и ушел. Сказал, что будет пробираться к своим.
Белозеров выслушал, одобрительно кивнул.
— Ну а мы сами помогали. У нас это дело было хорошо налажено. Особенно зимой. А с лета связь оборвалась. Вернее, мы не пользовались ею. А сейчас надо летчика переправить.
— Мне его отвести туда?
— Нет. Он раненый, пока выздоравливает. Надо просто разузнать обстановку.
— Хорошо, — сказал Гурин твердо. — Я пойду.
— Мне или кому-то из наших идти опасно: нас там уже засекли. Последний раз я еле смылся оттуда, — сказал Белозеров и продолжал: — Пойдешь туда под видом меняльщика: возьмешь соли килограмма два и пойдешь менять за нее тюльку.
— Соли-то…
— Я дам тебе соли. Пароль и адрес запомни, никаких записок не бери с собой. — Он попросил листок бумаги, написал на нем то и другое, подвинул Гурину: — Читай и запоминай. Запомнил? — И он тут же сгреб листок, скомкал его в кулаке. — Это крайняя улица, у самого моря. Третий домик от конца. У хозяина шрам на правой щеке под глазом, и он хромоногий, ходит с палкой. В поселок постарайся прийти в конце дня… Да оно так и будет, если из дому выйдешь рано утром… В хату зашел, мол, в поисках ночлега. А пришел сюда за тюлькой. Ну а дальше… Дальше все будет зависеть от обстоятельств и твоей смекалки…
Гурина распирало от радости и гордости, что и ему наконец-то доверено серьезное дело, но и страх невольно закрадывался в душу: «А вдруг сорвется?!» Но нет, об этом не надо, нельзя думать!..
— Хорошо, — сказал он. — Пойду… Попробую: выйдет ли из меня разведчик?
— Выйдет, — твердо отрезал Белозеров. — Только будь поувереннее.
— Спасибо, — усмехнулся чему-то Васька. — За доверие.
— А чего? Ты же не такой, как твой дружок Жека Сорокин. Мы все знаем.
Когда Белозеров ушел, мать кинулась к Ваське:
— Чего он приходил?
— Да так… Поговорить.
— «Так» ночью и в такую погоду не ходят. Не дури мне голову.
— Да какая ночь? — Васька кивнул на ходики: — Еще и восьми нет. — Мать ждала ответа, и он сказал ей: — За тюлькой приглашал идти на Азовское море. Там на соль рыбаки ее меняют.
— А где у нас столько соли? И зачем нам тюлька?
— Как зачем? Есть. А остальное можно на базаре на одежу променять. Соли обещал дать, у него много ее.
— Опять что-то затеваешь? — сказала мать. — Ой, гляди, сынок, не рискуй зря.
— Ладно, — пообещал Васька, чтобы успокоить ее.
27
День всего потратил Гурин на сборы — и рано утром, перекинув через плечо рюкзачок с едой и сшитым из клеенки мешочком с солью, отправился в путь.
До Новоазовского добрался почти без приключений. Нашел и улицу, и нужный дом, и того мужика со шрамом на правой щеке. Суровый на вид, хозяин дома оказался мягким и приветливым. Увидев Ваську, он, наверное, сразу догадался, от кого и зачем пришел этот парень, но пока тот не произнес пароль, он и намеком не выдал себя. Хозяин пригласил хлопца в хату, крикнул весело жене, будто бог послал им долгожданного гостя:
— Эй, жинка, принимай ночевальщика!
Жена его что-то заворчала недовольно, но, увидев Ваську — измученного, мокрого, который, стесняясь своей грязной обуви, смущенно мялся у порога, — смягчилась, сказала ласково:
— Проходьте, проходьте…
— Да нет… Я тут… — Васька глазами указал на свои ноги.
— Ничого. Зараз усюды грязюка…
— Нет, — упорствовал тот, не решаясь сделать и шага по чистому полу. — Я сейчас… — И оп принялся распутывать веревки на своей обувке. Сняв галоши, он увидел, что в них полно дорожной жижи, а ботинки были такими грязными, будто на них и не было никаких галош.
— Степка, дай человеку шось на ноги, — крикнула она мужу, который все еще возился в сенях, закрывая наружную дверь на крючки и засов.
— Зараз, — отозвался Степан.
Но она не стала его ждать, сама метнулась в другую комнату, принесла и бросила перед Васькой большие войлочные тапки:
— Берите… Маты все одно вже сплять. Теплые. От ревматизму, — и она еле заметно улыбнулась. Густые черные брови, черные глаза в больших ресницах и заметный пушок усов на верхней губе выдавали в ней гречанку. Начиная со Старобешева Васька немало встречал таких смуглянок — в этих краях много сел и поселков с греческим населением.
Вошел Степан, увидел Ваську в новой обувке, одобрил:
— Правильно! А эти надо помыть и под печку поставить — к утру высохнут. — И он подхватил гуринскую обувь, понес в сени.
— Да ладно, я сам… — запротестовал было Васька, но хозяин кивнул успокоительно: я, мол, знаю, что делаю, — и скрылся за дверью.
— Проходьте, сидайте, — пригласила хозяйка, указав на табуретку у стола.
Гурин прошел, сел, мялся, не зная, что делать, что говорить. Терзала одна мысль: «Как и когда удобнее сказать хозяину пароль?» При первой встрече он как-то растерялся, пропустил момент, не сказал пароль — ведь его надо произнести так, чтобы несведущий и не понял, что это пароль. Да и хозяин… Вроде бы тот, как описывал Белозеров, а вроде бы и не тот. Шрам на лице есть, у него палка должна быть, а этот мотается без палки и, кажется, даже не хромает. Хотя в ходьбе его Васька, собственно, и не видел — от порога два шага да к порогу столько же.
— Отдыхайте, а я вечерю приготовлю, — сказала хозяйка и ушла.
Вошел хозяин, спросил:
— Ну, шо приуныл? Устал? Откуда будешь?
Гурин сказал.
— Это ж, кажется, аж за городом? Много отмахал! И куда, если не секрет?
— Да сюда, в Новоазовское… — И Васька запнулся: хотел сказать пароль и опять почему-то не сказал, а хозяина окликнула жена, и он неторопливо и как-то задумчиво отошел от Гурина.
Вскоре его позвали ужинать. На столе дымилась паром отварная картошка и в глубокой тарелке горкой искрилась серебристая рыбка — тюлька. Васька сглотнул слюну, не выдержал и потянулся сразу к тюльке. Оторвав головку и высосав из нее мозг, он тут же бросил в рот всю рыбку, словно конфету. Свежая, малосольная тюлька еще пахла морем, а Ваське казалось, что она издает аромат свежего огурца.
— Вкусная! — похвалил он рыбу и снова потянулся к тарелке. — Никогда такой вкусной не ел.
— Ну и кушайте на здоровье, — хозяйка подвинула тарелку поближе к гостю.
— Вот я и пришел за ней, хотел разжиться… На соль обменять.
Хозяин промолчал, а жена его сказала:
— Может, и найдете у кого…
— Вряд ли, — отозвался хозяин. — Море давно уже штормит, лову нема.
Затевая этот разговор, Васька думал, что он таким образом делает шаг к паролю, на самом же деле только ставил в недоумение хозяина. Заметив, что тот как-то потерял к нему интерес, Васька забеспокоился: уже готовятся ко сну, а он все еще не улучил момента, чтобы произнести пароль — то жена мешала, то сам не решался.
Выручил его все-таки хозяин. После ужина он спросил:
— Ну шо? Покурим — да и на боковую? Не куришь?
Васька не курил, но тут сообразил, что упускать момент нельзя, сказал:
— Так, балуюсь иногда.
— А я дымокур! Другой раз даже ночью встаю курить. — Обернулся к жене: — Мы покурим в сенях, а ты постели человеку.
— Уже готово, — сказала та. — Можно ложиться.
— Хорошо.
Они набросили на головы шапки, вышли в сени. Хозяин достал кисет с самосадом, вытащил оттуда свернутую газетку, оторвал прямоугольный лоскуток, протянул Гурину.
— Да нет, я не буду, — отказался Васька. — Самосад, он очень крепкий. — И тут же без передышки спросил: — У вас нет случайно продажной рыбы? — Это был пароль.
Хозяин молчал, крутил сосредоточенно цигарку, смочил языком газетный краешек, стал ровнять ее. Васька забеспокоился: почему молчит, не слышал? Или не тот? Если не тот, все равно должен же что-то ответить?
— Какой рыбы? Камбалы?
Это был отзыв, и Васька облегченно вздохнул. И уже по инерции продолжал:
— Да нет, хотя бы тюлечки…
— «Тюлечки», — проворчал хозяин. — Чего ж так долго тянул? Я уж начал подозревать недоброе… Поначалу вроде догадался, что за меняльщик — по сумке: она уже тут побывала не раз, а потом…
— Язык почему-то не поворачивался сразу говорить пароль. Боялся… — признался Васька.
Хозяин затянулся несколько раз подряд, даже искры посыпались, выбросил цигарку в ведро, сказал:
— Пошли в хату. Тут холодно.
В комнате он провел его в горницу, где была разложена постель для гостя, присел за стол, спросил:
— Шо там случилось?
— Переправить надо на ту сторону летчика.
— Э-э! Нема дилов! Чуешь, как шумит? — указал он на окно, за которым стоял сплошной гул.
— Это море так гудит? — удивился Васька и стал прислушиваться. — А я думал — ветер…
— И ветер… Да не в том дело. Шо ж они, обстановки не знают? — спросил хозяин, подняв на Ваську глаза. — Фронт-то вон куда ушел… Это прошлую зиму было хорошо, когда они топтались еще тут на Миусе, под Ростовом, под Таганрогом. По льду через залив — рукой подать. А теперь? — Он раскинул на столе руки, стал смотреть, будто перед ним лежала карта. — Тут все занято, — обвел он левой рукой круг на столе. — Тут тоже, — заглянул он под правую руку. — Вся Ростовская область, Кубань… Через залив на Ейск? Ейск тоже, наверное, занят… Да и не добраться до него: залив наш хоть мелкий, а опасный, в такую погоду в него лучше не соваться. Так шо… — он развел руки в стороны, — некуда… Нехай ищут другую дорогу. Если что-то откроется, я дам знать. Так и передай. Ну, лягай, а то завтра рано подниму.
Лежал Васька, слушал гул моря, перематывал пережитое за день. Огорчился, что шел напрасно. Думал, как помочь летчику. И только к утру забылся чутким сном.
Утром, еще в темноте, хозяин его поднял:
— Пора… — Когда Васька оделся, в сенях подал ему ту же сумку из клеенки. Вместо соли в ней было с ведро тюльки. — Неси домой. Дал бы больше, да сейчас нема…
— Зачем? — засмущался тот. — Не надо…
— Надо, для маскировки.
— Ну, спасибо. — Васька пожал руку хозяину, отправился в обратный путь…
Выслушав Гурина, Белозеров заметно огорчился, и Васька почувствовал себя скверно. Словно он не справился с заданием. Хотел было так же, как новоазовец, нарисовать на столе обстановку, но Белозеров перебил его:
— Да я понимаю… Ну, ладно…
— Если что надо еще… — начал Васька.
— Пока не надо. Я потом тебе скажу, если что…
Прошла неделя, другая, Белозеров не объявлялся, а потом и вовсе куда-то исчез, и не у кого Ваське было узнать, как он переправил летчика. И переправил ли?
Лишь много лет спустя, после войны уже, встретились они с Белозеровым, и тот рассказал ему, что он переправил летчика к нашим, вместе с ним перешел фронт и остался там. Воевал под Сталинградом, дошел до Вены. И летчик тот воевал, был несколько раз ранен, после войны жил в Калининграде. Правда, пожил недолго, умер от ран.
28
Вторая военная зима принесла людям большую радость: немцы потерпели поражение под Сталинградом. Эта весть даже у отчаявшихся возбудила веру и надежду на скорое освобождение. Люди ожили, повеселели, подняли головы.
А немцы от такого разгрома растерялись. Они объявили траур, ходили понурыми и грустными, и даже у порабощенных и униженных ими людей искали сочувствия.
Как раз в это время поселок заполонила какая-то немецкая воинская часть — то ли из тех, которые откатились аж из-под Сталинграда, то ли из тех, что спешили туда на помощь. Хотя спешки особой у них Васька не заметил — наверное, уже не к чему было спешить, и они три дня отогревались в теплых хатах.
Гуринскую хату облюбовал себе офицер с денщиком. Офицер, видать, был старый вояка: у него на френче было несколько орденских колодок, две нашивки за ранения — желтая и красная. И на шее болтался черный крест. Сам он был длинным, сухопарым, лицо будто пергаментом обтянуто — бледное, с резкими свирепыми морщинами у рта. Строгий, угрюмый, он сидел один в горнице, что-то читал или писал. К нему часто бегали какие-то порученцы, приносили пакеты, громко стуча каблуками, вручали и убегали. Денщик — маленький, кругленький, как колобок, вместе с хозяевами дома околачивался больше возле плиты, готовил офицеру диетическую пищу — тот, оказывается, страдал желудком.
Однажды дверь из горницы открылась и на пороге появился офицер. Денщик замер по стойке «смирно», и все остальные машинально вскочили и уставились на офицера. А тот не спеша поднял газету, окаймленную черной рамкой, и с печальным видом сообщил:
— Капут… Сталинград капут… — И умолк, ждал ответного участливого отзыва. Остальные тоже молчали, потупив головы. Офицер переводил взгляд с одного на другого, пытался понять, что кроется за этим молчанием — сочувствие или радость.
Первой спохватилась мать и, чтобы не дать озлобиться немцу, сказала:
— Да, да… Капут… — Придав голосу горестные нотки, добавила: — И ты на фронт? И тоже капут? До матки надо идти, домой. — Для большей убедительности она даже склонила голову набок — приняла грустную позу.
Немец смотрел на нее в упор и молчал. Васька незаметно дернул мать сзади за рукав:
— Мама…
Немец перевел взгляд на Ваську, и тот быстро опустил глаза к полу, чтобы офицер не заметил в них радостного блеска.
— Ja! — обронил немец сухо и ушел к себе.
Мать обернулась к Ваське:
— Я рази что не так сказала?
— Да все так! — засмеялся Васька. — Только… — оглянулся на денщика — тот был занят варевом, и Васька продолжил тихо: — Только такого вы не сагитируете.
Рано утром, когда еще было совсем темно, немцы неожиданно уехали.
Однако растерянность у оккупантов чувствовалась только в первые дни траура, вскоре они снова воспрянули и стали вести себя даже жестче, чем до этого. Сурово карали за малейшую провинность: за листовки, за укрытие пленного, раненого, за диверсию, саботаж — за все расстреливали на месте.
В это время уже стали привычными налеты наших самолетов. Не проходило ни дня, ни ночи, чтобы хоть один из них не появился и не порадовал людей своим звуком. Они бомбили эшелоны на станциях, склады с горючим и боеприпасами, Путиловский аэродром. В небе часто вспыхивали воздушные бои, и сколько радости и ликования приносило людям это зрелище, когда, оставляя за собой черный шлейф дыма, клювом вниз падал фашистский самолет!
Однажды прилетел наш самолет-одиночка, нагрянул смело, дерзко, на небольшой высоте вынырнул из-за бугра и накрыл аэродром — задымило, заклубилось пламя над резервуарами с горючим! А самолет, вместо того чтобы тут же уйти, развернулся и пошел на второй заход — наверное, не все бомбы сбросил. Немцы к этому времени уже очухались и принялись палить по нему из всех орудий. И вдруг задымил наш самолет, накренился на левый бок, по всему было видно, что не выровняться ему, не набрать высоты, не набрать скорости — тянет его к земле. Люди смотрят, переживают, руки заламывают: может, свершится чудо да выпрямится смельчак наш, защитник!.. Но чуда не свершилось — от самолета отделилась черная точка и тут же раскрылся белый парашют. И опять переживают люди: уж больно медленно летит, подстрелят его немцы… А парашют плывет по воздуху, ветром относит его дальше от станции. Наконец, скрылся за садами, приземлился в поле, недалеко от поселка. Летчик, быстро отцепив парашют, забежал в крайнюю хату — к Алехе Гридину. Те от радости себя не помнят: наш летчик в доме! Забыли и о немцах — обнимают его, заходились кормить. А он раздевается торопливо и просит:
— Дайте во что-нибудь переодеться… А это сожгите. И парашют сожгите.
Переоделся за минуту, документы в карман, пистолет за пояс и побежал.
А Алеха ничего не сжег — то ли не успел, то ли пожалел такое добро уничтожать: за время оккупации так обносились, что и на двор не в чем выйти.
Вскоре нагрянули немцы с собаками, обнаружили и одежду, и парашют, вывели всю семью во двор и расстреляли. Даже детей не пощадили. И хату сожгли.
И все равно не запугали немцы своими скорыми расправами — люди помогали и пленным, и летчикам. Гурины приютили однажды на одну ночь даже дезертира — солдата из словацкой «рыхлой» дивизии.
Жизнь после Сталинградской победы пошла веселее, надежда на освобождение крепла — только бы скорее оно приходило!
29
А у Платона горе: умирала его жена, Мария. Она так и не оправилась после возвращения. И раньше была болезненна, худа, а тут совсем высохла — кожа да кости. Носик заострился, глаза запали. Хочет слово сказать — и не может, сил не хватает.
Сидел Платон у ее постели, старался отвлечь от грустных мыслей, но, не зная, как это сделать, бубнил глухо и нескладно:
— Ну что ж ты?.. Покидать нас вздумала? А скоро наши придут. Жизнь начнется сызнова. Подождала б… Федор, Виталька вернутся…
— И рада б… — Глаза ее наполнялись влагой, слезы скатывались по щекам, она слизывала их с губ языком.
— Ну вот, — сокрушался Платон. — Не надо, не плачь… А то и я заплачу.
— Детей береги, — прошептала она, напрягая последние силы. — Ивану скажи спасибо, что приютил нас.
— Успокойся, — мягко сказал Платон. — Ты и сама еще скажешь. Вот выздоровеешь…
Мария повела глазами из стороны в сторону: «Нет, не выздоровлю…»
— Ну-ну…
Ночью она умерла.
Могилу копать пошли Иван Глазунов, Иван Сбежнев — Грунин муж — и Васька. День был солнечный и морозный. На бугре, где находилось кладбище, дул ветер, гнал поземку и пробирал до костей. Копать могилу было тяжело — земля промерзла глубоко. Долбили попеременно и кирками, и ломом, и лопатами, пока добрались до незамерзшего грунта — тут дело пошло быстрее. Меняли друг друга часто: стоять на ветру холодно, и каждый стремился погреться за работой…
Пришла Васькина очередь отдыхать. Сбежнев подал ему руку, легко выдернул из ямы, а сам спрыгнул на его место.
Отсюда, с бугра, весь поселок как на ладони. Раскинувшийся по низине, он был виден на всю свою длину. Правда, слева, где домишки взбирались на холм и уходили вдаль к станции, конца его не увидеть, он лишь обозначался водонапорной башней да крышей новой трехэтажной школы-десятилетки. Чуть правее от станции вдали громоздился кирпичный завод с высоченной красной трубой — «Французова труба» звали по старинке этот завод. А низом, петляя вслед за речкой, тянулась самая длинная Васькина родная улица. От нее в разных местах вкривь и вкось ответвлялись переулки, улочки, проулки и все они стремились вверх, туда, к станции, к центру.
Васька стал искать свою хату, нашел, вернее не саму хату увидел, а скорее вычислил ее по крышам. А вот — почти по прямой от кладбища — видно бабушкино подворье, даже людей можно различить — ходят по двору. Наверное, соседи, родственники пришли проститься с тетей Марусей.
А дальше, за этой крайней улицей, земля снова постепенно вздымалась. Вон ровный квадрат начальной школы на выгоне, выстроенной еще земством, за ней — буерачек, а дальше неровные гребни — кучугуры. Все бело, заснеженно. И вдруг увидел Васька: из-за кучугур почти на всю ширину горизонта высыпало какое-то стадо. Огромное, беспорядочное, высыпало и стало быстро скатываться вниз к поселку.
— Посмотрите, что это?! — удивленно крикнул Васька мужикам. — Овец куда-то гонят, что ли?
Оба Ивана задрали головы и, не вылезая из ямы, стали смотреть вдаль.
— «Овец»… Это баранов гонят, — язвительно проговорил Иван Глазунов. — Бегут итальяшки с фронта, — пояснил он. — Вчера целый день перли, думал, все прошли. Нет, еще вон какое стадо. Прижучили, видать, их наши крепко.
— Вот это да! — запрыгал Васька от радости.
— Во! Как козел, — с улыбкой сказал Иван. — Не мерзни, беги передай нашим, что могила готова, можно везти. Мы тут вот ишо трошки подчистим… Давай дуй.
Побежал Васька напрямки — через чужие дворы, через огороды, благо везде снег, везде целина.
В доме у бабушки царила траурная тишина. Вокруг гроба стояли в молчании две или три соседки, Васькина мать, ее сестра тетка Груня; тут же, закутанная в теплую шаль, сидела и больная Генька. Платон примостился на маленькой скамеечке у самого порога, сидел, горестно склонив голову чуть ли не до самых колен.
Когда Васька открыл дверь, все разом вдруг обернулись к нему и смотрели так, словно он нарушил что-то святое и таинственное. Он даже растерялся. Присев на корточки, хотел сказать Платону, что могила готова, но тот, не дав ему и рта раскрыть, кивнул головой и встал. Вслед за ним засуетились и остальные. Из другой комнаты вышла бабушка, увидела Ваську, поняла все, сказала просто:
— Ну что ж, будем прощаться… — Она деловито вытерла фартуком губы, подошла к покойнице. — Прощай, доченька. Пусть тебе земля будет пухом… Не поминай нас там лихом, если когда и огорчала тебя. Спи спокойно. — И она поцеловала ее в губы, потом в бумажный венчик на лбу, стала вытирать глаза.
Все зашмыгали носами, задвигались, подходили по очереди, прощались, говорили какие-то слова.
— Дети, дети… Женя, Клара, — оглянулась бабушка. — Идите, милые, попрощайтесь с мамкой… Пропустите их, бабы.
Женщины расступились, бабушка подставила скамеечку, и Клара робко встала на нее, оглянулась.
— Не бойся, детка, — мягко сказала бабушка. — Поцелуй ее и скажи: «Прощай, дорогая мама».
Клара повиновалась — поцеловала, а когда стала говорить прощальные слова, голосок ее задрожал, она заплакала, закричала:
— Мама! Я не хочу, чтоб ты умирала! Мама!
Бабушка сняла ее, увела в сторонку, принялась успокаивать, поглаживая ее по головке.
Женька, сдвинув брови, деловито встал на скамеечку, сделал все, чему учила бабушка Клару, но не выдержал до конца, зашмыгал носом, закрыл лицо руками, убежал в угол.
Последним прощался Платон. Подошел, смотрел на жену с минуту, потом упал лицом на грудь покойницы и надолго затих. К нему подбежала Груня, стала тормошить легонько за плечо:
— Платон… Ты же мужик…
Распрямился Платон, вытер ладонью искаженное горем лицо, посмотрел на Груню:
— Как же я теперь буду без нее?
— Ну а что ж ты теперь сделаешь?
Закрутив головой, отошел в сторонку, стал смотреть в пустое окно. Постоял, высморкался, кивнул Ваське:
— Давай, неси крышку…
Васька принес из сенцев крышку, накрыли гроб, и они принялись в два молотка заколачивать гвозди. И тут захныкали, зашмыгали носами женщины, загомонили и вдруг громче всех заголосила Васькина мать:
— Ой да на кого ж ты покидаешь своих детушек-сиротушек?!!
Васька оглянулся на мать, сказал сердито:
— Мам, перестаньте! Что за привычка — как что, так голосить? Как старуха какая, — говорил он тихо, отрывисто, с досадой.
— Отстань, — небрежно отмахнулась мать. — Так надо.
— Не надо, — коротко отрезал Платон, и мать, сконфузившись, отошла в сторону. — Детей напугаешь… — добавил он мягче.
Похоронная процессия была жиденькой. Гроб на санках везли Васька с Платоном, а вслед за ними шли Анна и Груня. Когда гроб опустили в могилу и каждый бросил на гулкие доски по горсти земли, женщины, забоявшись холода, не стали ждать конца погребения, ушли домой.
Четыре мужика в четыре лопаты торопливо засыпали могилу. Подобрали до последней крошки земли, выровняли холмик аккуратненько, охлопав его лопатами, постояли над ним с минуту, склонив головы, и, сложив инструмент на санки, пошли домой. Впереди шагали оба Ивана, за ними угрюмо плелся Платон, замыкал шествие Васька, который тащил за собой санки.
Поминки тоже были жиденькие — присутствовали только свои. Для поминок Иван разрешил матери взять побольше и муки, и кукурузной крупы. Кроме того, Марфа Романовна разбила последнюю тыкву, которую хранила «на всякий случай», изловчилась и испекла слоеный пирог с тыквой. Правда, кукурузная мука делала тесто не очень пышным, но сладкая водянистая тыква смягчала его и приятно подслащивала. Пирог всем понравился, ели да похваливали старушку мать.
Уже день клонился к ночи, уже оранжевое большое солнце нависло над багровым горизонтом и пора бы уже гостям начать расходиться, но как-то было неудобно в столь горестный час оставлять хозяев одних. Вот и не спешили уходить ни Гурины, ни Сбежневы, сидели, томились, потому что все уже было переговорено, переслушано.
Неожиданно в сенях раздался шум, а потом и робкий стук в дверь.
— Кто-то дюже культурный, видать, — хрипло сказал Иван. Откашлялся, крикнул: — Входи, не закрыто!
Дверь открылась, и на пороге появился весь заиненный итальянец. И брови, и шарф, которым он был замотан до самого рта, — все обросло снегом. С усов свисали сосульки, как с соломенной застрехи. Увидев такое множество людей, итальянец оторопел, остановился у порога. Зябко вздрагивая, он поводил черными глазами, не решаясь заговорить. Признав по каким-то признакам за хозяина Ивана, солдат обратился к нему, стал объяснять:
— Манчжяре… Матка… Италиа… — Он показал в сторону запада. — Фронт капут… Матка… Италиа…
— До матки идешь, в Италию, значит? — ехидно переспросил его Иван. — И тебе хочется манжарить?
Итальянец закивал торопливо и стал показывать рукой на рот, давая понять, что он голоден:
— Манчжяре…
— А какого черта ты сюда приходил? — сердито сказал Иван. — Кто тебя звал? Сидел бы в своей Италии возле матки. У вас тепло ведь. Тепло в Италии?
Итальянец силился понять Ивановы слова, но не понял и снова повторил:
— Манчжяре…
— Нечего манчжарить. Видишь вон, сколько ртов, — указал он на детей. — Они тоже хочут манчжарить. Проваливай! Пусть тебя Гитлер с Мусолиной кормят.
— Ваня… — укоризненно подала голос мать. — Не надо… В такой-то день… Пусть помянет Марусю. — Она подала итальянцу кусок мамалыги. — На, помяни вот их матку, — указала она на детей. — Умерла их матка…
Расчувствовался итальянец, закивал головой.
— Матка… Матка… — тыкал он себя в грудь и показывал вдаль. — Италиа…
— Заладил! — злорадно усмехнулся Иван.
— Да ладно, Иван, — сказал спокойно Платон. — Что ты на него накинулся? Виноват он, что ли?
— А кто же виноват? — усмехнулся Иван язвительно. — Я? Теперь и виноватого не найдешь…
— Он маленький человек…
— Маленький, когда ему по ж… надавали. А ты бы посмотрел, какими они петухами были, когда пришли!
— Ну, с немцами их нельзя сравнивать, — вмешалась мать.
— А я и не сравниваю. — Он посмотрел на итальянца. — Шо ему тот кусочек?.. Делать добро — так делайте, накормите как следует, — смягчился Иван. — Налейте ему горячего.
— И то правда, — обрадовалась Марфа Романовна. — Может, и наши где-то вот так по чужбине бродют, пусть откликнется добро добром.
— Вы думаете, ихние наших накормят? — не унимался Иван. — Как бы не так. Оно и видно. Они ж к нашим в Германии относятся хуже, чем к собакам. А к пленным?
— То в Германии, — мать поставила на стол алюминиевую миску с супом. — Иди, садись, — указала она итальянцу.
— Да хоть сопли вытри, — брезгливо поморщился Иван, указав ему на усы. — Вояка…
Солдат понял, вытер шарфом усы, а потом и все лицо, сел к столу.
— Ну, мы пойдем, — поднялась Груня. — Уже поздно. Кормите своего гостя.
— Да и нам пора, — засобиралась и Анна. — Пойдем, Вася?
Три дня шли итальянцы — без оружия, голодные, замерзшие. Попрошайничали, воровали или выменивали у населения еду за гимнастерки, перчатки, за снятые с погибших солдатские ботинки. И как пароль радостно произносили они три слова: «Домой, матка, Италия!»
Но до Италии они не дошли, где-то у Днепра немцы их остановили.
* * *
После итальянцев надежда на скорое освобождение еще больше усилилась. Ждали прихода наших со дня на день. Уже слышно было дыхание фронта, земля вздрагивала от дальних разрывов, а у людей сердца трепетали от этих звуков, как от ранней весенней грозы, предвещавшей тепло и влагу. Грохот сначала доносился с востока, потом с севера — и наконец загрохотало с запада! Всем стало ясно, что наши берут немцев в кольцо. Слухи пошли, что советские танки уже прорвались в Красноармейское. А это ведь совсем рядом, шестьдесят километров, не более. Скоро, скоро придет желанная свобода!
С неделю дни и ночи фронт грохотал, то приближаясь, то удаляясь, а потом стал затихать, затихать и в какое-то время заглох окончательно.
Ах, какая досада охватила людей, как жалели все, что столь близкое освобождение отдалилось теперь неизвестно на какой срок…
Отцвела, отшумела половодьем цветущих садов весна, догорало знойное лето. Уже пожелтели поля, и все больше черных проплешин становилось на огородах, уже пожухла трава на выгоне и хрустела под ногами, как мелкое стекло, а фронта все еще не было слышно.
И вдруг заговорил! Да заговорил так сильно, так настойчиво и так уверенно, что всем стало ясно: наши идут! И было в то время у всех на устах одно слово: «Миус». Миус, Миус!.. Раньше и понятия не имели о таком слове, редко кто и слышал о такой реке, а теперь все только и говорили о Миусе: «На Миусе прорвали!..» «Миус форсировали!..» На Миусе то, на Миусе это!..
Когда загремел, приближаясь, фронт, немцы тут же похватали всех коммунистов и угнали в лагерь. Платона, Шахова и других взяли сразу же, в одну ночь. Потом принялись за других мужчин.
Васька Гурин успел скрыться — убежал в поле, в кукурузные заросли. Он бежал навстречу нашим, чтобы поскорее перейти линию фронта.
30
Выбраться живым из западни, в которую попал, Платон уже не думал. Единственная надежда была на какое-то чудо, а чудо это одно: быстрое наступление наших войск и какой-то их обходной маневр, чтобы немцы не успели ни угнать заключенных дальше, ни уничтожить…
Лагерь, в котором содержался Платон, находился где-то под Мариуполем, и был он, по существу, каторгой: пленных с раннего утра и до позднего вечера заставляли работать в каменном карьере, они добывали бутовый камень и щебенку, которые в больших количествах потребляла немецкая армия, строя долговременные оборонительные сооружения.
Когда по ночам стало доноситься дыхание фронта с Миуса, заключенные приободрились, а немцы ужесточили режим и заставляли работать вдвое больше. Не щадили ни больных, ни обессиленных — хлестали плетками, травили собаками, совсем безнадежных пристреливали.
Усталый до последней крайности, Платон плелся в колонне заключенных, еле передвигая ноги. Серая каменная пыль пропитала его с ног до головы. Некогда черные брови и волосы теперь были серые, слипшиеся, будто вылепленные из глины. Дождь превратил пиджак и брюки в твердый тяжелый и несгибаемый панцирь. А тут еще в ботинок попал камешек и тер ногу, но остановиться и выбросить его Платон не решался — боялся получить удар плеткой со свинцовым наконечником. Платон терпел, тащил ногу, стараясь ступать на нее как можно осторожнее, пытался загнать камешек под пальцы, где он не так бы мешал. Натереть ногу опасно: немцы наказывают за это строго, как за умышленное членовредительство.
С трудом добрался Платон до барака, вытряхнул из ботинка злополучный камешек, хотел повалиться на нары — так нестерпимо ныла спина и гудели ноги, но тут раздался сигнал на ужин — били металлическим шкворнем в подвешенный рельс. Взял свою консервную банку с продетой в пробитые дырки веревкой, вроде дужки в ведре, заспешил вместе с другими в очередь к котлу. Очередь подвигалась быстро: у котла стоял немец и почти каждого тыкал в спину палкой — торопил скорее проходить. Платону плеснули в банку какой-то жидкой бурды, и он, не останавливаясь, отошел в сторонку, не дожидаясь палочного тычка. Тут же на ходу выпил через край свой ужин, вытер рот шершавой ладонью, пошел в барак.
После отбоя, несмотря на усталость, люди не засыпали, то там, то тут слышались приглушенные разговоры — обсуждали откуда-то просочившийся слух о фронте и об эвакуации лагеря.
— Если бы гнать нас дальше, уже погнали бы. А так, похоже, будут держать до последнего, а потом всех прикончат, и все, — доносился до Платона чей-то шепот слева.
Другой ему возражал:
— Говорят, есть приказ об эвакуации.
— Неизвестно, что лучше: если до последнего дня будут держать, есть надежда, что наши освободят, а если погонят дальше — там где-то спокойненько они нас и прикончат.
Платон слушал перешептывания и про себя решал: «Конечно, лучше, чтобы задержались тут до последнего, тогда могут и не успеть уничтожить всех…» И как эхо повторилось в уме: «Всех!..» Это несколько сот человек! «И ты думаешь, что ты будешь последним и до тебя очередь может не дойти? — спросил он себя. — А вдруг ты окажешься в числе первых?..» Подступило чувство тошноты, во рту пересохло, будто он увидел нацеленный на себя ствол автомата. Не хотелось умирать. Притом так нелепо: была ведь возможность и уйти к своим, и скрыться… Надеялся примерным поведением откупить у немцев свою жизнь… Глупо… Просчитался…
Далеко за полночь забылся усталым сном. Спал не спал — вдруг: подъем! Шумный, бестолковый какой-то подъем. Взбудоражили лагерь раньше обычного — рассвет только-только продирался в подслеповатые окна у потолка. Немцы бегали, орали, выгоняли всех, больных — тоже, одеться как следует не давали. Во дворе уже толпилась охрана во главе с комендантом, собаки перелаивались, рвались с поводков на узников, которых торопливо выстраивали в колонну по четыре и, не считая, без переклички, выводили за ворота.
Платонов барак был в дальнем ряду, и поэтому его колонна покидала лагерь одной из последних.
На востоке заря полыхала багровым пламенем — то ли от пожаров, то ли от восходящего солнца, — и доносился оттуда постоянный гул, словно там великаны толкли землю огромными толкачами. Задрал голову Платон, засмотрелся на это зарево. «Наверное, наши прорвали фронт», — радостно подумал он, и захотелось ему поделиться с кем-то своей догадкой, будто другие не слышат и не видят происходящего, но тут немец ударил его палкой по плечу, закричал:
— Вперьёд! Бистро!
Оказывается, колонна уже тронулась, а он замешкался, и Платон, увертываясь от очередного удара, заспешил вперед.
Не успела выйти за ворота последняя колонна, как один за другим заполыхали бараки жарким пламенем. Все поняли: возврата в лагерь не будет. А когда вышли на дорогу, ведущую к карьеру, кто-то обреченно сказал:
— Все, братцы… Хана нам: в карьер на расстрел ведут.
— Не может быть, — усомнился другой. — На расстрел весь лагерь не подняли бы, водили бы группами.
— А может, уже некогда группами водить?
— Не, не может быть, — не верилось другому. — Удирают, по всему видно.
— Если наши прижучат, думаешь, будут они с нами валандаться? Прихлопнут всех…
— И что же нам делать? — спросил Платон. — Ждать, как кроликам, своей участи?
— Поздно такой вопрос задаешь, — сердито отозвался первый. — Можно было бы неожиданно напасть на охрану, только это надо делать сразу, по сигналу. А кто такой сигнал подаст?
Платон молчал, про себя думал: «А делать что-то надо. Надо рисковать, дальше тянуть некуда…»
Дорога шла верхом над карьерным обрывом, ближайший к Платону конвойный остановился спиной к пропасти, смотрел на пленных — не отстал ли кто.
«Была не была!» — сказал себе Платон и, сбычив голову, ринулся на конвойного — ударил его головой в грудь, тот, раскинув руки, полетел с обрыва, Платон прыгнул вслед за ним. Упал на немца, быстро поднялся, зацепился ногой за ремень автомата, нагнулся, схватил его на ходу и, петляя, побежал между кучами щебня и камня. Вдогонку раздались выстрелы, пули засвистели у самой головы. От кучи к куче, от ямы к яме, на пределе сил своих бежал Платон, не оглядывался, чтобы не терять время. Наконец стрельба стала спадать, автоматная совсем прекратилась, и только из винтовки кто-то раз за разом прицельно палил по нему, и он всякий раз пригибал голову, словно пропускал мимо очередную пулю.
Услышав совсем близко лай собаки, Платон обреченно подумал: «Догоняют… Все…» — и упал, обессиленный, за каменную глыбу. Сердце молотом бухалось в груди, а в мозгу билась одна мысль: «Все… Конец…»
На всякий случай оглянулся — и увидел овчарку, которая волокла за собой длинный ременный поводок. Овчарка была одна, без охранника. Наверное, вырвалась случайно, а может, ее нарочно отпустили — пусть догонит и загрызет беглеца.
Впопыхах, забыв об оружии, кинулся Платон поднять камень поувесистей и половчее и только теперь, увидев, вспомнил об автомате, быстро направил его на собаку. А та — вот она уже, раскрыв в яростной злобе волчью пасть, изготовилась к прыжку. Платон нажал на спуск, собака взвыла, закрутилась на месте, вздымая серую пыль. Машинально вскинул Платон глаза наверх, на дорогу, там была какая-то суматоха, но за ним никто не гнался — наверное, было не до него. Тем не менее он подхватился и побежал дальше. Несколько выстрелов снова раздалось ему вдогонку, пули просвистели с завывом мимо.
В дальнем конце карьера, не останавливаясь, ловя широко раскрытым ртом воздух, Платон по-собачьи, на четвереньках, полез по каменистому склону наверх. Выбрался и, согнувшись в три погибели, кинулся в балку, заросшую колючим «перчиком» и кустами терновника, — в самом низу ее вилось, наподобие тропинки, пересохшее ложе ручья, — побежал по нему куда выведет, только бы подальше от лагеря, вперед, ближе к востоку.
Вскоре силы стали совсем покидать его, он уже не бежал, а еле волочил ноги, будто на них висели пудовые гири. Наконец не выдержал, упал плашмя, задышал тяжело, словно кузнечный мех — не хватало воздуха. Щекой, потом лбом прижался к холодной земле — вроде легче стало. Отдышался немного и снова подался вперед.
Неожиданно сквозь жуткую тишину до него донесся шум лязгающего металла и рокот мотора. «Немцы!..» — мелькнуло в голове, и Платон вильнул с тропинки в кусты, затаился. Машинный грохот нарастал, Платон машинально вдавил голову в землю, перестал дышать, боясь, что его услышат с дороги. Машина прогрохотала мимо, и Платон пополз наверх — посмотреть, что там делается. Выглянул из-под куста осторожно, увидел уходящий в сторону лагеря танк, окутанный клубами непроницаемой пыли. Чей танк — не понять. Оглянулся вправо — и увидел другой танк, который катил по полю, оставляя за собой такой же шлейф пыли. Хотел юркнуть Платон в кусты, но что-то остановило его — вроде не похож танк на немецкий: легкий, быстрый. И люди, облепившие его, не немцы… Наши! В гимнастерках, в пилотках! Наши! Бросил Платон автомат, вскочил, поднял руки вверх, закричал:
— Наши-и-и!
И в ту же минуту как вкопанный остановился танк перед ним и в черном шлеме военный, что стоял по грудь в открытом люке, прокричал:
— Эй, старик! Где тут лагерь военнопленных?
— А вон! — Платон показал в сторону горящего лагеря. — Его немцы подожгли, а всех пленных и заключенных угнали. Я убежал…
Но последних слов Платона уже никто не слышал, танк рванулся вперед, за ним вдогонку помчался третий, четвертый…
Платон смотрел на бегущие по полю, окутанные пылью танки и широко улыбался. И вдруг почувствовал, как стала кружиться голова, в глазах померкло, к горлу подступила тошнота, на лбу выступил пот, и Платон, медленно опустившись на сизую степную полынь, потерял сознание…
31
Домой Платон несся, ног не чуя, — только пыль из-под рваных ботинок. От Волновахи до Путиловки красноармейцы подвезли его на грузовике, а дальше — опять пешком. Пришел — дома радости нет конца! Мать плачет счастливыми слезами, обнимает Платона:
— Жив, жив! Сыночек ты мой многострадальный!.. Ну, теперь все наши страхи остались позади, снова наладится твоя жизнь. Да были бы ребятки живы — Федя, Витальчик, Петя — мой сыночек младшенький… Может, теперь объявятся?
Рада старушка: уцелели сыновья. Иван с другими мужиками в кучугурах отсиделся, уже работает в Ясиновке, железную дорогу налаживает. Бог дал, и Платон выжил — уж больно много слез она выплакала с тех пор, как его забрали…
Платон слушает ее, а сам себя к завтрашнему дню готовит — утром пойдет в Ясиновку. Первым делом достал партбилет, снял с него газетную обертку, бросил ее в железный угольный ящик у плиты, а билет отер ладонью, положил на комод. Потом принялся за бороду — скоблит щеки Ивановой бритвой, потрескивает застарелая щетина под тупым лезвием, будто электрические проводки замыкаются.. Платон и на оселке точил бритву, и на ремешке правил, однако мало помогало — тупая бритва, как старый топор, но с горем пополам побрился все-таки. Сам воды себе нагрел, вымылся основательно и за одежду взялся — китель вычистил, фуражку. Они, правда, изрядно потерлись, особенно форменная фуражка потеряла свой бравый вид — сплюснулась. Но Платон растеребил ее, изнутри подложил газету, скрученную жгутом, взбодрил тулью. Примерил перед зеркалом, остался доволен: «Ничего, сойдет…»
— Ты как раньше, бывало, к церкви собирались на велик день! — с любовью глядя на сына, сказала Марфа Романовна.
— А у меня и есть Великий День! — весело отозвался Платон. — Разве не Великий?
— И то правда твоя, сынок, — Великий!
Утром рано они с Иваном подались в Ясиновку, Иван на работу, а Платон… Платон все еще не знал, куда ему идти: то ли явиться как ни в чем не бывало на свое рабочее место, в свой кабинет, если он уцелел, то ли в горком.
Иван взахлеб рассказывал ему о делах на станции — колею перешивают, завалы в депо расчищают.
— Не сегодня завтра должны поезда пойти. Я не дождусь, когда снова увижу наш паровоз, наши вагоны! Веришь, так соскучился, будто по жинке. — Иван засмущался своего признания.
— Я тоже, — сказал Платон взволнованно. — Даже не верится, что все это было и прошло. Будто сон кошмарный.
— И у меня такое же на душе творится. Уже вот который день работаю, а все не верится, не надышусь своим родным.
На подходе к развалинам бывшего нового вокзала они неожиданно услышали паровозный гудок и, пораженные, остановились.
— Наш! — выкрикнул Иван с ребячьей радостью. — Наш, «ФД»! Рази ж сравнить его с немецкой свистулькой? Сразу видна силища! А смелые стали: раньше гудки запрещали, а теперь, вишь, сигналит!
— А чего бояться? — сказал с небрежной гордостью Платон. — Теперь нам бояться нечего!
— Ну, ты куда? — нетерпеливо спросил его Иван.
— Наверное, в горком надо зайти, — раздумчиво ответил Платон.
— А я побегу! — Брат указал в ту сторону, откуда донесся паровозный гудок, и побежал.
Горком Платон нашел не сразу, прежнее здание его было разрушено, и теперь он временно разместился в бывшей конторе «Заготскот». Народу здесь толклось много, двери почти не закрывались — люди бегали из одной в другую, секретарш пока не было — или они занимались совсем иной работой. Чаще всего они выполняли роль курьеров, так как связь еще не была налажена. Только в приемной у секретарши Тони на столе стоял военный полевой телефон, и она энергично накручивала ручку, снимала трубку, кричала в нее: «Аллё!.. Аллё!.. Это обком?»
Платон подошел было к ней, хотел поздороваться, спросить, можно ли к секретарю, но она была так занята, что с первого взгляда не узнала его, а вторым уже не удостоила, только махнула рукой: идите, мол, разве не видите — все идут.
Он вошел в кабинет секретаря и приостановился у двери, пережидая других посетителей и наблюдая за хозяином. «Узнает ли? — думал Платон, еле сдерживая волнение. — Сам почти не изменился, такой же бритенький, энергичный. Только лицо какое-то усталое, да морщинки под глазами и у рта появились, строгости лицу прибавили…»
— Антон Петрович, здравствуй! — сказал Платон, подойдя к столу. Он улыбался, как ребенок, встретивший мать после долгой разлуки. Секретарь посмотрел на него, улыбнулся невольно в ответ на Платонову улыбку, но видно было — не узнавал. Платон сорвал с себя фуражку. — Не узнаешь? Глазунов…
— О-о!.. Платон Павлович! — секретарь выбежал из-за стола, схватил Платона за руки, потряс их. — Здорово, дружище! Что же с тобой сделалось? Ты смотри, весь седой, постарел… Ты где пропадал?
— И не спрашивай, — махнул рукой Платон. — Пережил всякого.
— Да ты садись, расскажи хоть вкратце.
Платон сел, оглянулся на дверь:
— У тебя дел-то куча… Но я коротко.
— Да. Что случилось? — нетерпеливо спросил секретарь. — В каких краях пребывал?
— В здешних. Не удалось нам пробиться, немцы перехватили наш поезд… Пришлось вертаться пешком — с детьми, с больной жинкой. — Платон рассказал бегло, как убило машиниста, как он сам вел паровоз, как жил в оккупации, и заключил: — С полгода в лагере с военнопленными был… Тут уж совсем не думал, что живым вернусь. Наши уже близко, а нас… Слух прошел — всех будут расстреливать, так как угонять дальше было уже поздно. Но погнали. И тут я решился бежать. Вчера только пришел домой. Вот такая моя история…
Секретарь слушал его внимательно, но постепенно радость от встречи таяла на его лице, и на нем все больше и больше проступали строгость и озабоченность. Он нервно покусывал губы, потом встал, прошелся задумчиво вдоль стола по скрипучим доскам, на кого-то вошедшего было в кабинет нетерпеливо махнул: «Подождите!» Взглянул на Платона, протянул неопределенно:
— Да-а, история… А как же они тебя не… тронули? — спросил он удивленно.
— Ну, наверное… — Платон почему-то стушевался, — наверное, потому что я не был ни в чем замешан…
— Разве они казнили только виноватых?
— По-разному было. Со мной вот так как-то обошлись, уцелел я… — Заметив смятение на лице секретаря, Платон добавил с гордостью: — Главное, из всех перипетий я вышел незапятнанным.
— Это хорошо, — сказал секретарь задумчиво. — Ты вот что, — встрепенулся он, обрадованный какой-то своей мысли. — Иди отдыхай пока, а завтра приходи к четырем часам… Как раз бюро будет. А я посоветуюсь, как быть.
Взглянул на секретаря Платон — не ожидал он такого конца их разговора, сердце в тревоге торкнулось и заныло в предчувствии беды. Подавляя тревогу, спросил:
— О чем советоваться?
— Ну, как быть с тобой… Ведь ты почти два года был оторван… Иди отдохни, а завтра приходи.
32
Эти сутки показались Платону длиннее двух лет оккупации. Не спал, ворочался, вздыхал, прокручивал в мозгу всю свою жизнь день за днем и не находил в ней, где бы он поступил подло. Пытался успокоить себя: «Я ни в чем не виноват, ничем не запятнан». Но успокоения не приходило…
На бюро Платона попросили подробно рассказать о жизни в оккупации. Он, чувствуя серьезность своего положения, взял себя в руки и стал спокойно и подробно излагать все от первого до последнего дня. После его рассказа наступила пауза, все сидели молча, уперев глаза в листки бумаги, на которых чертили разные фигурки.
— У кого будут вопросы? — спросил секретарь.
— У меня, — поднял решительно руку человек в военной форме, но без погон. Лысый от лба до затылка — у него волосы росли лишь узким венчиком вокруг головы от виска и до виска, — он посмотрел пристально на Платона: — Скажите все-таки нам, почему вас немцы не убили?
В ответ Платон криво усмехнулся — настолько показался ему нелепым вопрос, обвел присутствующих взглядом, ища поддержки, и, двинув плечами, сказал:
— Откуда я знаю? Это у них надо спросить.
— Спросим, — уверенно и с какой-то ноткой угрозы проговорил лысый. — Придет время — спросим.
— Я вам честно говорю, что я ничем не запятнан.
— Видимых пятен — да, пока не видно. Не хотите ли вы сказать, что немцы вас не тронули только потому, что вы были для них абсолютно безвредны? — не унимался лысый.
— Возможно… — сказал Платон неуверенно.
— Хорошая характеристика для коммуниста! — ядовито заметил тот и покрутил головой.
— А почему вы все-таки вели себя так пассивно во время оккупации? — спросил секретарь.
— Но, Антон Петрович, как я мог активничать, что-то делать, подвергать риску себя и людей, когда у меня на руках оказались больная жена, дети? Я должен был думать о них, заботиться, сохранять их жизнь, кормить…
— Семья. Разве у вас у одного семья? У других будто семей нет?
— А потом, Антон Петрович… Как я мог что-то делать? Меня ведь никто на такие дела не уполномочивал. Я случайно попал на оккупированную территорию, и начни я что-то творить самостийно, я мог бы навредить настоящим партизанам… — Платон почувствовал, что этот довод ни в коей мере не может служить оправданием, и обреченно умолк, вспомнил, как нечто подобное ему уже приходилось говорить своему племяннику Ваське Гурину, и даже тот не согласился с ним.
— Какие такие полномочия? — недоуменно сказал секретарь. — По-моему, дело ясное, товарищи? Предложения?
— Исключить за пассивность, — сказал лысый.
— Других предложений нет? Кто за? Кто против? Нет. Единогласно. Вы исключены из партии за пассивное поведение во время оккупации. Передайте ваш билет. Всё. С устройством на работу — на общих основаниях. Товарищ Ларионов… — обратился секретарь к сидевшему у стены Ларионову, бывшему первому заместителю Платона. Тот в ответ согласно кивнул. — Всё, — сказал секретарь Платону. До Платона не сразу дошло, что это «всё», повторенное секретарем дважды, относится к нему, а когда дошло, почувствовал, как оно, словно хлыстом, стегануло его по сердцу. Он не сразу нашел в себе силы подняться. Встал медленно. Словно пьяный, пошел на выход. Никого не видя, никого не слыша, сгорбившись, вышел на улицу, устало опустился на ступеньку и заплакал. Слезы катились градом, он не успевал их вытирать, спина вздрагивала от рыданий.
«Выбросили… Как же жить-то теперь?.. Как жить?.. Жить… А зачем мне теперь жить? С таким позором… Как буду в глаза людям смотреть? Детям?.. Исключили… Теперь уж лучше не жить… Голову на рельсы — и пусть как хотят… Не виноват же я ни в чем!..»
Он поднялся и поплелся, не видя ни солнца, ни дороги, ни встречных людей. Шел сам не зная куда. Очнулся, когда его кто-то взял за воротник и, крепко встряхнув, столкнул с рельсов.
— Черт старый, тебе что, жить надоело? — кричал ему в лицо молодой, испачканный угольной пылью парень. — А если глухой как тетерев, так нечего по путям ходить. — И уже кому-то другому, вверх, махнул: — Давай!
Мимо Платона, шипя паром и вдавливая в насыпь шпалы, медленно прошел паровоз — тяжелый, сильный и прочный.
33
Два дня бесновался Платон, места себе не находил, на домашних бросался — бесили их попытки утешить его, успокоить.
— Да отстаньте вы от меня, ради бога! — кричал он в истерике. Он не мог понять, за что его исключили, не мог осознать своей вины. И считал, что с ним поступили несправедливо. «Выбросили, как старый балласт из-под шпал на обочину… Ненужный стал… Будто я не мог бы работать, как и раньше? Да я еще злее теперь делал бы свое дело! Не нужен… Только потому, что спас свою жизнь. А они, что они делали там? Какая между нами разница — что они там отсиделись, что я здесь? Так они же в безопасности были, а я каждый день рисковал, у меня все эти два года жизнь на волоске висела! И голодал, и били в лагере… И все это не в зачет? Нет, тут что-то не так…»
— Сыночек… Да ты подожди… Ну, не кричи, ну послушай меня, старую дуру, — подступалась к нему мать. — Ну не убивайся ты так. Может, все еще и образуется, разберутся там, где надо, увидят, что к чему, да и помилуют…
— За что меня миловать? Я преступник, что ли?! Я ведь себя ни вот настолечко не запятнал. А то, что ни одного фашиста не убил… Ну, не подвернулся такой случай! Виноват я?! — раздраженно кричал Платон.
— Я и говорю… Разберутся, ты подожди… Время все лечит, все на свои места ставит. И ты еще встанешь на свое место. Разберутся и покличут.
Мало-помалу утихомирился Платон, было в материнских словах что-то мудрое: потерпеть надо, пока разберутся… Должны разобраться. Кидаться такими, как он, тоже не больно разумно.
Успокоившись немного, Платон пошел к Ларионову насчет работы.
— Платон Павлович! — Ларионов радостно вскочил навстречу гостю, но тут же осекся и протянутую было руку для приветствия повернул к стулу. — Садитесь, пожалуйста. — И сам раньше Платона сел на свой стул, принялся перекладывать с места на место какие-то бумаги. Потом поднял глаза на Платона, сказал сухо: — Слушаю вас.
Увидев своего бывшего начальника, Ларионов поначалу растерялся — не знал, как вести себя, два чувства боролись в нем: привычка подчиняться Платону и торжество победы над ним, и он никак не мог решить, какому из этих чувств отдать предпочтение. Так эти два чувства и боролись в нем, пока он разговаривал с Платоном, и ни одно из них до конца так и не победило, хотя торжество все-таки вылезало наружу.
У Ларионова был вид старого интеллигента: холеное продолговатое лицо, тонкий длинный нос, и на носу очки в золотой оправе. Платону нравился в заместителе вот этот его внешний лоск — сам он простоват, среднего роста, толст, грубоват, сразу видно — из мужиков, но культурных людей уважал и где-то в душе немножко даже завидовал им. А Ларионов, по всем данным, был из хорошей породы, как легавая собака. И хотя в работе он бывал не всегда расторопен, Платон снисходительно прощал ему отдельные промахи, делая скидку на интеллигентность. «Тут вам помешала ваша деликатность», — говорил он ему мягко, стараясь не обидеть, не задеть тонких чувств Ларионова. К тому же Ларионов был старательным и исполнительным человеком, иногда его старательность походила на угодливость, но и тут Платон объяснял это чрезмерной воспитанностью…
— Да ты чего так-то? Испугался, что ли? Я ведь не прокаженный, — удивился Платон. — Мог бы и поздороваться…
— А я поздоровался с вами. Разве вы не слышали? — холодно возразил Ларионов.
— Слышал, — устало протянул Платон. — Выходит, куда конь с копытом, туда и рак с клешней?
— Я не рак, Платон Павлович! — обиделся Ларионов. — И… и давайте без этого… Без оскорблений.
— Извини, — глухо произнес Платон. Ларионов смолчал, и он продолжил: — Ты-то чего на меня волком смотришь? Ты ведь знаешь меня лучше других. А я каким был, таким и остался.
— Не знаю, — сказал Ларионов. — За это время много воды утекло.
— Ах вот как! — разочарованно протянул Платон.
— Ну а как же, Платон Павлович? Ведь вы почему-то не отправили семью со всеми да и сами почему-то до последнего тянули…
— И это тоже мне в вину? — удивился Платон. — Ну, теперь, выходит, ставь всякое лыко в строку — все сойдет? А ведь я действительно мог приказать тебе остаться до последнего эшелона, а сам уехать… — раздумчиво сказал Платон.
— Но почему-то не приказали? — с ехидцей спросил Ларионов.
— Опять намекаешь на предумышленность? А тебе не приходило в голову, что, может быть, жалея тебя и твою семью, может быть, любя или уважая твою молодость, твой ум, я не приказал тебе? Что я всегда был дураком. — брал на себя самое трудное, там, где можно было свалить на других, валил на себя. Всегда больше всего боялся, что мне кто-то бросит в лицо: «А сам?..»
Ларионов смутился, снял очки, принялся их протирать, сказал примирительно:
— Ну, что теперь об этом говорить?.. Война все перепутала, перемешала, вывернула наизнанку…
— Именно — наизнанку, — отрешенно согласился Платон, но тут же вдруг поднял голову, заговорил запальчиво: — Но при чем тут война? Война войной, а люди всегда должны оставаться людьми: добрыми, доверчивыми, понятливыми, участливыми. А если мы своим близким, своим единомышленникам перестанем верить — туго нам придется.
— Ничего, выстоим, — коротко сказал Ларионов каким-то не своим голосом, но тут же спохватился и мягко добавил: — Время сейчас суровое, иначе нельзя.
— Можно, — твердо отрезал Платон. — И нужно. Нужно верить людям, а так… Только одной волей, только одной силой, только властью немногого добьешься.
— Это вы уже в большую политику полезли, Платон Павлович, — со скукой в голосе проговорил Ларионов, давая понять, что их беседа слишком затянулась.
— А большое вырастает из малого…
— Давайте о деле, Платон Павлович. Вы ведь пришли по поводу работы? Мне Антон Петрович поручил это, и я подумал…
Он замялся, и Платон подбодрил его:
— Ну-ну? Говори.
— Не пошли бы вы составителем поездов в западный парк?
— Э-э нет! — запротестовал Платон. — Как я людям буду в глаза смотреть? Мне куда-нибудь где поменьше с людьми встречаться.
— Так люди везде.
— Куда-нибудь… где побезлюдней.
— Безлюдно только на разъезде. Но…
— А что «но»? Вот и давай.
— Дежурным на разъезд? — удивился Ларионов.
— А что? Пересижу там, пока с моим делом разберутся.
— Ну, смотрите, вольному — воля. Если что надо будет, заходите…
В ответ Платон кивнул и вышел, натянув пониже на глаза фуражку.
На другой же день он с детьми перебрался жить и работать на дальний разъезд номер семь, который в народе назывался Глухим полустанком.
34
Указ о демобилизации туринского возраста вышел только в начале сорок седьмого года.
Радость великая охватила парня, пожалуй не меньшая, чем в тот день, когда победные салюты расцветили небо над Берлином. «Домой! Домой!» — пела душа. И враз ушли куда-то тоска и грусть, и отступила прочь неизлечимая болезнь — ностальгия.
Домой! Скорее домой! Там, оттуда он, как от печки, начнет свою новую жизнь — там она прервалась, там он и свяжет ее оборванные концы.
Домой! Дома тепло, дома весело, дома сытно! Дома все хорошо — там ребята, девчата! В клубе — танцы! «Моя любовь не струйка дыма…» — напевал Гурин давнюю любимую мелодию, собирая и упаковывая в чемоданы книги, пачки чистой бумаги, газетные вырезки — собирался и дома заниматься комсомольской работой.
Командование в награду выдало ему радиоприемник и документ на него выписали — «за отличную службу». Гурин взял приемник охотно: музыки дома не хватало, а приемник, да к тому же с проигрывателем, — об этом можно только мечтать. Приедет домой, соберет друзей, поставит на диск «Брызги шампанского», «Цыгана», «Букет роз», «Аргентинское танго» (пластинками Гурин запасся) — весело отпразднуют встречу.
Настроение охватило какое-то приподнятое, будто хмельное, все вдруг стало выглядеть в другом, радужном свете. И Берлин уже не казался таким сырым и мрачным, как всегда, где-то в глубине души даже закрадывалась грусть от расставания — все-таки два года жизни отдал этому городу.
Ходят последние дни демобилизованные — им и сам черт не брат: обмундирование новенькое, награды надраены, — наконец-то и они победителями вернутся домой. Когда перед самой отправкой им стали выдавать подарки: отрезы разной материи, килограмм по пять сахара, крупы, муки, печеного хлеба буханок по десять — пятнадцать — воспротивились: «Куда нам это? Зачем? Не надо!» Гурин — ярый противник всякого «барахла», первым стал отказываться от подарка. Но замполит подполковник Кирьянов мягко посоветовал комсоргу Гурину:
— Бери, пригодится. Не на себе понесешь. — И всем остальным уже командирским тоном приказал: — Все взять с собой и погрузить в вагоны!
Повиновались, взяли продукты не очень охотно, рассовали по нарам и с веселыми песнями тронулись в путь.
В Польше от солдат встречных эшелонов узнали, что дома голод: послевоенная разруха, неурожай прошлого года затруднили жизнь. Поняли, для чего им давали такие подарки — командование знало, что ждет солдата дома.
Задумался Гурин, поглядывал с укоризной на свои чемоданы с книгами: был бы умнее — догадался б запастись чем-то более существенным, а то тратил деньги на книги да на пластинки… Вот обрадует мать пластинками! Ей, наверное, только «Брызг шампанского» и не хватает!..
А тут поляки вдоль поезда ходят, спрашивают, что пан везет, какие трофеи продает, сало предлагают. А у «пана» и продать нечего, одни книги да бумаги. Вспомнил о приемнике, предложил:
— Возьмешь, пан, радио?
— Сколько хочешь?
— Да сколько дашь.
Взял поляк приемник, а Гурину целый поросячий бок забросил в вагон. Высыпал Гурин из одного чемодана газетные вырезки, вместо них уложил свинину, повез домой. И хлебом не стал разбрасываться, экономил.
Возвратился он туманным февральским утром, оттепель была: под ногами хлюпало, хаты и деревья черные, мокрые. Сошел с поезда — встречающих никого. Да и откуда им взяться, он ведь точно не знал, когда их эшелон прибудет к месту, поэтому и не сообщил ничего домой. Решил: чего зря беспокоить, когда приеду, тогда и приеду.
В первом же дворе попросил у хозяев санки — довезти чемоданы. Дали охотно. Кто откажет солдату, защитнику? Впрягся Гурин в санки, потащил свою поклажу домой.
Увидела его мать — сразу в слезы, кинулась обнимать, целовать. А он смотрит на нее — не узнает: неприятная припухлость лица ее поразила Гурина.
— Что это с вами, мама?
— Да ничего… От голода опухла немножко, — сказала она просто.
— От голода?! — ужаснулся он. — Так вон, берите, там у меня в мешке одиннадцать буханок хлеба, крупа, сахар, а тут вот сало.
— Ой, боже мой! — воскликнула мать. — Да за такое богатство людей убивают! Хорони скорее все в чулан, пока никто не видел. А тут что у тебя?
— Да книги! — махнул Гурин.
— Раскрой, раскрой…
— Зачем? — удивился он.
— Раскрой, и пусть будет все на виду, открыто. Сейчас набегут бабы на тебя смотреть, а больше будут любопытствовать, что привез… Нехай видють…
— Ничего не понимаю, — развел руками Гурин.
— Тут как из Германии кто приезжает, так бандиты ночью приходють: может, ценности какие привез, барахла… А мы все и покажем: вот, глядите, что привез, — ничего. И молодец, что не позарился ни на что, наживем сами, было б здоровье. Нехай глядят. Увидят и разнесут по всему поселку, а нам спокойнее будет, — торопливо объясняла мать, пряча сало и хлеб в чулан.
И правда, вскоре стали приходить соседи. Здоровались, плакали по своим — у Толбатовой сын Саша без вести пропал еще в первые дни войны, у Ульяны Карпо пришел больной, а Никита — раненый… Набилось — почти полна хата людей, а мать, счастливая, суетилась между ними да все на чемоданы их внимание как бы случайно обращала:
— Приехал, дал бог! Вырос, возмужал, а все такое же дите, как и был: с книжками и доси возится. Поглядите — из такой дали такую тяжесть тащил…
— Кому что, — говорили соседки, поглядывая на Гурина: может, он шибко умный, а может, контуженый — из Германии книги, дурак, тащил!
Гурин смущался под их пытливыми взглядами, стыдился спектакля, который устроила у его чемоданов мать, просил ее:
— Да ладно, мам… Да закройте вы их…
— Да что ж тут такого? — утешали женщины Ваську, будто больного: — Книжки не позор… — А в глазах их Гурин читал полное разочарование и жалость к матери.
Утром мать сварила суп и зажарила в него кусочек сала. Потом зачем-то пошла к соседке, а обратно в комнату влетела вся в испуге, будто при пожаре:
— Ой, Вася! Убьют нас! Бандиты убьют! Из нашего двора салом пахнет! Ой, боже, да как же его приглушить? Вот глупая баба, взяла засмажку с салом сделала! Ой, ой!..
— Успокойтесь, никто наш двор нюхать не будет, а запах скоро выветрится. Съедим суп — и запаху конец, — как мог успокаивал он ее.
В субботу Гурин надраил мелом пуговицы, нацепил на китель орден, который он ласково называл «Звездочкой», медали, подбодрил тулью фуражки, еще в погонах пошел в клуб на танцы. Шел, волновался — кого он там встретит, как будут ребята и девчата на него смотреть: Гурин Васька вернулся! Грудь в наградах, два ранения и, хотя на погонах лычки старшего сержанта, форма офицерская — человек был на офицерской должности!
Еще издали увидел Гурин, что окна в клубе не горят и вокруг — ни одного огонька. Глухо и пустынно в заснеженном скверике. Одинокое здание клуба в вечернем сумраке выглядело сиротливо и отпугивающе.
Гурин подошел поближе и остановился у входа. Сорванная с верхней петли дверь опасно перекосилась, преграждая дорогу вовнутрь. Разбитые окна зияли черными провалами, дальний угол был разворочен снарядом. По всему видно — время танцев еще не наступило…
Железными когтями вцепилась тоска в сердце, Гурин постоял с минуту перед зданием как перед покойником и медленно поплелся домой.
35
Воскресенье показалось ему самым длинным днем — тоска, скука. Алешка учился в Киеве в училище прикладного искусства, Танюшка работала в Ясиновке на станции и училась на курсах повышения квалификации.
Немногочисленные друзья его, кто уцелел после войны, тоже не сидели дома: одни учились, другие работали — кто в городе, кто на шахте, на руднике… А он?..
Помог случай. В райкоме, куда он пришел, чтобы встать на учет, встретился Гурин с редактором районной газеты Петренко. Тот узнал Гурина, спросил, где работает, и, поняв, что парень пока неприкаянный, предложил бодро:
— Пойдем в редакцию! Нам нужен человек — инструктор-литработник!
— Да какой я инструктор? — застеснялся Гурин.
— Название должности такое. Будешь писать заметки, зарисовки. Ты же писал, я помню, даже фельетон про клубного сторожа написал! А? «Наш корр.»! Помнится, ты мечтал стать журналистом. Или раздумал?
— Да нет, хотел бы… Но…
— Вот и пойдем, никаких «но». — Петренко был худой, в чем душа только держалась, корчился от многочисленных ран и болей — и в животе, и в легких, но бодрости и энергии излучал столько, что ее в избытке хватило бы на троих здоровых мужиков. — Пойдем ко второму секретарю, доложимся. — И он потащил Гурина за собой. — Петр Николаевич, кадру себе поймал!
Секретарь улыбнулся, встал навстречу, поздоровался, усадил их, стал расспрашивать у Гурина, где воевал, кем служил. Васька рассказал. Услышав, что он был и комсоргом батальона, и комсоргом районной военной комендатуры в Берлине, секретарь взглянул на редактора:
— Ну, Петренко! По-моему, он больше пользы принесет, если станет работать в райкоме комсомола? У нас ведь там кадры сам знаешь какие…
— Петр Николаевич, — развел руками Петренко. — Парень всю жизнь мечтал о журналистике. Я ведь его знаю еще с довоенной поры, он писал заметки. Такая перспектива перед ним открывается, а вы…
— «Перспектива»… — сказал немножко с иронией секретарь.
— А что! — обиделся Петренко. — Районка — это трамплин…
— Да я разве что говорю, — заулыбался секретарь и обратился к Гурину: — Сам-то как, к чему больше душа лежит?
— К газете, — признался Гурин, взглянув доверчиво на редактора.
— Ну, Петренко!.. — погрозил редактору секретарь, а потом сказал решительно: — Ладно, забирай. Желаю успеха.
Редакция вместе с типографией теснилась в приземистом, покривившемся от времени домике. Собственно, редакционных в нем было всего две комнатенки: в одной сидели редактор и ответственный секретарь, в другой — корректор.
Привел Петренко Гурина в редакцию и еще с порога объявил весело:
— Принимайте нового сотрудника!
Гурин смущенно улыбался, как-то еще не верилось, что все это делается всерьез. Он ведь даже в качестве автора переступал порог редакции с трепетным волнением, входил сюда как входят в священный храм, а тут вдруг — сотрудник редакции, да еще в таком звании: инструктор-литработник!
Навстречу ему поднялся секретарь — грузный пожилой дядька, взглянул на Гурина и развел радостно руки в стороны, будто давнего друга встретил:
— О! Так это же наш старый автор! Заметки нам из своей школы поставлял, помните?
Гурин же узнал Когана с трудом — постарел, поседел, только большие брови были по-прежнему черным-черны, будто накрашены, да глаза так же, как и прежде, светились доброй улыбкой.
— Здравствуйте, Наум Михайлович, — сказал Гурин обрадованно: он помнил, как Коган правил его заметки, делал из десяти страниц одну, и Васька удивлялся тогда его умению быстро схватить и выжать из длинного текста главное.
Корректором в редакции работала незнакомая Гурину полная миловидная женщина, но и она встретила новичка приветливо. И стало на душе у Гурина светло и благостно, и мир сразу преобразился, и солнце будто веселее заиграло, и люди вокруг подобрели, и сам он будто крылья обрел. Прибежал домой радостный, матери продуктовые карточки отдал, сообщил торжественно:
— Отныне я сотрудник редакции! — и еще торжественнее добавил: — Инструктор-литработник!
— Ну вот! А ты горевал: чем займусь? А оно все тут, под боком, тебя ждало. — И заключила умиротворенно: — Мир не без добрых людей.
Первое задание Гурину Петренко обсуждал с Коганом:
— Куда бы нам его послать, Наум Михайлович?
— Да куда угодно, — нетерпеливо встрял Гурин в их разговор. — Куда надо для газеты…
— Ты погоди, — остановил его Петренко. — По-моему, ему надо к чапаевцам съездить? Там председатель — мужик хороший, душевный.
— Да, — согласился с ним секретарь. — Тот покормит.
— Покормит обязательно. И, по-моему, оттуда у нас давно не было материала?
— Давно, — подтвердил Коган.
Было очень голодно, и такая забота со стороны редактора тронула Гурина до слез: Петренко подбирал ему хозяйство, где могут покормить. А Гурина волновало первое редакционное задание: сумеет ли он его выполнить? Наум Михайлович, правда, натаскал его перед дорогой, объяснил, как внимательно надо относиться к цифрам, к фамилиям, чтобы не напутать, как вообще разговаривать с людьми.
— Не стесняйся переспросить, — наставлял он Гурина по-отечески. — Бывают фамилии трудные, на слух не полагайся, запиши по буквам, а то еще лучше попроси, пусть человек сам тебе в блокнот запишет свою фамилию. И еще такая вещь… Рассказывают тебе про какие-то дела, а ты понятия о них не имеешь, что это такое. Например, культивация. Когда ее делают, по каким культурам. Да и сам культиватор — какой он? Будь дотошным, расспроси подробно. Ничего тут зазорного нет, умный человек никогда за это не осудит, а терпеливо растолкует. Наоборот, верхогляда он с удовольствием, из озорства, может и подвести. Не надо стесняться, не делай вид, что ты все с ходу понял. Тот же культиватор — постарайся увидеть его. Так ты не только избежишь ошибок, но и сам будешь обогащаться знаниями. Это очень важно!
В редакцию Гурин привез блокнот, весь исписанный цифрами, фамилиями, фактами. Из них он сделал несколько информации, а потом, осмелев, написал и очерк — о колхознице, доярке, матери трех сыновей — все они погибли на фронте. Мужа расстреляли немцы, и теперь она воспитывала двух внуков и работала в колхозе лучше всех. Гурин попытался написать о ней тепло, участливо, удивленно. Писал не сдерживая себя, не скупился на краски — старался, чтобы и читатели прониклись к ней теми же чувствами, какие испытывал он сам.
Прочитал очерк Петренко, воскликнул пылко:
— Наум Михайлович! Да ведь, по-моему, это здорово!
Очерк напечатали под рубрикой «Люди нашего района», отвели для него целые две колонки, набрали его полужирным петитом, и, главное, подписали полным именем: «Василий Гурин».
— Сделаем эту рубрику постоянной! — торжествовал редактор.
Замелькала гуринская фамилия почти в каждом номере — под репортажами, очерками, фельетонами. Он становился известным в районе, письма в редакцию писали на его имя, сообщали факты хорошие и безобразные, просили приехать, «отразить», разобраться или помочь.
Гурин был доволен: жизнь начиналась хорошо!
36
С Платоном Гурин не встречался. То ли трудное полуголодное время тому причиной, то ли редакционная круговерть не позволяла выбраться, то ли он окончательно остыл и не испытывал к Платону того влечения, которое было у него прежде. Наверное, все-таки последнее.
Еще будучи в армии, Гурин удивился тому, как он спокойно отнесся к судьбе Платона, когда мать, зная былую Васькину привязанность к дяде, написала ему подробное письмо обо всем, обо всех — и в том числе о Платоне:
«У Платона нашего штой-то не заладилось с первого разу, почему-то обидели его, и он работает теперь дежурным аж на Глухом полустанке и живет там со своими детьми. А сюда и глаз не кажет, будто мы все виноватые… Или сердится на што? Так вроде не за што…
А ребяты его — обое вернулись с войны, уцелели. Федор, правда, без ноги, но ничего, веселый такой, работает бухгалтером, а Виталий, видать, больной. Был раненый, и контузило его сильно. Устроился на кирпичный завод, но што-то у него не ладится. Рассказывают — пьет он дужа сильно. А как напьется — себя не помнит, буянит. Контузия отражается: ему пить никак нельзя, голова не выдерживает.
Это же все понаделала война — скольких поубивала, а скольких покалечила. На прошлой неделе Акима, сына моей тетки Прасковьи, схоронили. Пришел, орденов много, а в грудях осколок сидел. Месяца два не прошло — умер. Это ж опять война стреляеть… Как далеко она целится, уже и замирились давно, а она все убивает людей. И сколько ишо убьет…
Я рада, сыночек, что ты остался живой, да руки-ноги целы, и раны твои зажили. А может, ты от меня што-нибудь скрываешь? Не надо ничего от матери скрывать, пиши всю правду, как есть. А то, што ты пишешь, как жить будешь без профессии, — так это ж не беда. У тебя руки-ноги целы, голова в порядке, приедешь — все устроится. Захочешь учиться — поедешь учиться, была б охота…
А Платона жалко: должность хорошая была, в больших начальниках ходил… Это ж, я думаю, и его тоже война подбила — не пулей, так по-другому изловчилась…»
«Эх, мама, мама, — подумал тогда Гурин. — Наивная мама… Всех пожалела и меня успокоила. О Платоне печется: «глаз не кажет». Да ведь он и раньше не очень-то общительным был. И сейчас — работает себе, до других дела нет. А насчет моей учебы — когда это будет и будет ли?..»
И дома уже, когда Гурин стал работать в редакции, она не раз намекала:
— Платона кто проведал бы… Как он там? Давно никаких известий от него не было…
Гурин обещал выбраться, съездить, но какие-то дела все время мешали ему это сделать.
Как-то вечером к Гуриным пришел Виталий. Он был выпивши, и мать впустила племянника в дом не очень приветливо.
— Тетка Нюрка меня не любит, — пожаловался Виталий Гурину. — Я знаю. Но я к тебе пришел.
— А за что тебя любить? — отозвалась мать. — Ты же жисть свою пропиваешь.
— А почему я пью? — Виталий, высокий, худой, с резкими чертами лица, в помятой кепке с большим козырьком, плаксиво сморщился, постучал себя в грудь: — Почему, вы спросили? Но я к тебе пришел, — повторил он и сел, потом вдруг вскочил и торжественно объявил: — Я — борец за правду! Я всю жизнь буду бороться за правду! — И снова сел. — Я пришел к тебе вот зачем. Наш директор жулик, и ты должен о нем написать фельетон.
— Нужны факты, — спокойно сказал Гурин.
— Фактов полно. Я, как борец за правду, все вижу! Он подлец! Он выговор мне влепил. А за что? За то, что я борец за правду, вот за что! Ты что, мне не веришь?
— Верю. Но нужны факты.
— А это тебе не факты? Ни за что выговор влепил! Ты, говорит, пьяница. Клевета!
Гурин понял, что у Виталия бушует личная обида, и пытался его успокоить.
Под конец Виталий притих, но в глазах было разочарование: не нашел поддержки даже у двоюродного брата. Поднялся, качнул отрешенно головой:
— Никто меня не понимает…
— Я понимаю, — сказал Гурин. — Я как-нибудь приду к вам на завод.
Провожая Виталия до дверей, спросил о Платоне:
— Как там отец живет?
— А черт его знает! — неожиданно зло ответил Виталий. — Он же где-то аж на Глухом полустанке. Работает, живет.
Удивился Гурин такому ответу, оглянулся на мать.
— Вот так-то о родном отце! — неодобрительно заметила она.
— А что мне отец? — приостановился Виталии. — У него свои заботы, у меня свои… Я сам уже отец! — И пошел.
— Борец! — бросила мать язвительно племяннику вслед.
— Он больной, мама, — сказал Василий. — Это все контузия…
— Да я понимаю… Но пьяниц не люблю.
Почему-то больно резануло такое отношение Виталия к отцу, да и он, Гурин, не лучше оказался: ведь сам почти не вспоминал о Платоне. «Надо бы проведать…» — снова подумал Гурин, но за все лето так и не выкроил времени.
А тут нагрянули такие дела, что и вовсе стало не до Платона — сокровенная мечта об учебе неожиданно обрела реальность.
Как-то выпустили очередной номер, и Петренко по своему обычаю, вертя перед глазами свежий оттиск и любуясь удачной версткой и содержанием, вдруг отложил газету на край стола, а Гурину указал на стул поближе к себе.
— Хороший очерк написал, — кивнул на газету. — Прозвучит! Но…
Гурин насторожился, и Петренко, доверительно понизив голос, продолжал:
— Но, по-моему, тебе надо идти учиться. Первый шаг ты сделал хорошо, но надо учиться. Останешься без образования, быстро выдохнешься и засохнешь на корню. А если еще женишься, не дай бог… — И он, не договорив, махнул безнадежно рукой.
Гурин заерзал на стуле, засмущался.
— О, женишься! — сказал Петренко уверенно. — Я же вижу, как тебя обхаживают девчата. А ты парень влюбчивый, добросердечный, отшатнуться вовремя постесняешься, а тем более — оттолкнуть, и попадешь в силки, как перепел. Тогда все, тогда с учебой пиши пропало. Вы как думаете, Наум Михайлович? По-моему, я прав?
— Прав, прав, — подал голос Коган. — Учиться, во что бы то ни стало учиться!
— Но меня не примут, — подал голос Гурин.
— Почему? — удивился Петренко.
— Я экзамены не сдам…
— Чепуха! Во-первых, для фронтовиков льготы, во-вторых, подштудируешь учебники, и, в-третьих, дадим тебе хорошую рекомендацию. Ну? Отсылай документы, и немедленно!
Послушался Гурин неугомонного Петренко, послал документы, потом поехал сдавать экзамены — и, к удивлению своему, сдал! Да еще не хуже, а лучше многих и многих!
И он уехал учиться.
Дома стал бывать редко, только на каникулы приезжал, да и то не всякий раз — на билет денег не хватало. И вообще на жизнь: стипендия студенческая известно какая. Поэтому на время каникул он поступал на работу — то рабочим на фабрику, то воспитателем в пионерский лагерь. О Платоне вспоминал редко, а виделся с ним и того реже. Раза два как-то встретил его в поселке случайно, разговора не получилось: Платон только плакал да ругался и, стыдясь своих слез, уходил прочь.
Из материных писем и рассказов узнавал какие-то отрывочные эпизоды его жизни: Женя ушел в армию, Клара вышла замуж, Платон остался один. В поселке последнее время совсем не показывался. Будто рассердился на всех: на детей, на родню и, похоже, даже на весь мир… «А за што?» — недоуменно спрашивала мать.
В один из своих приездов — это было, кажется, на какой-то круглый юбилей матери — Гурин решил собрать всю родню: дядьев, теток, двоюродных. Попросил Федора — у того уже был «Москвич», дали как инвалиду войны, — чтобы тот съездил на разъезд к отцу, привез его. Съездил, привез, после рассказывал Гурину:
— Еле уломал. Ни в какую не хотел ехать. Мне, говорит, стыдно…
Из машины Платон вылезал медленно: совсем постарел, осунулся, слинял. Поздоровался с Гуриным за руку, а потом не выдержал, бросился ему на шею и расплакался, как ребенок. Василий уговаривал его как мог, а тот только шмыгал носом и не мог никак успокоиться.
— Обидно, — твердил он одно слово, — обидно… Ну за что? Разве я… Обидно…
Тетка Груня, сестра Платонова, решительная такая, закричала на Платона, как на ребенка:
— Чего нюни распустил? Хуже бабы стал! Обидели его! Сам виноват, надо хлопотать. А ты обиделся, схоронился на разъезде и ждешь, что тебе все принесут на блюдечке. Дужа гордый ты, вот и получил. Война ишо шла, разруха, до тебя тут было? Других забот полон рот, а ты ждал, думал, что ты такая важная птица!
Платон смотрел на сестру заплаканными глазами, пытался что-то сказать, но та сыпала словами, и он только качал головой в такт ее словам. Потом обернулся к Гурину:
— Ну, видел? И тут я виноват…
— Тетя Груня, не надо так, — попросил Василий ее. — Вы очень обидно говорите.
— Так правда же! — не унималась та. И снова Платону: — Перестань плакать, не порть праздник!
— Я могу и совсем уйти, — сказал Платон.
— Ну во! Видали? — хлопнула Груня руками себя по бедрам и ушла к Анне на кухню.
Платон постепенно успокоился, за столом участвовал в общих разговорах и даже пытался шутить.
Это была последняя встреча Гурина с Платоном, после которой они расстались на долгие годы. После этого Гурина самого жизнь вдруг взяла в оборот и стала испытывать не прочность: работа в одном месте, в другом. Взлеты, падения, снова взлет… Женитьба — одна, другая… Переезды из города в город… Словом, жизнь как жизнь — засосала, затянула, завертела. На родину ездил все реже — друзей там не осталось, дядья и тетки постарели, двоюродные братья тоже, да и сам он уже давно не тот — побелел, как лунь, отяжелел. Связь держалась пока что лишь с самыми близкими — матерью, братом, сестрой. С другими, даже с Платоном, все оборвалось. Поначалу он, правда, посылал ему к праздникам поздравительные открытки, а потом и это прекратил: устал. А может, обиделся: Платон ни разу ему не ответил.
Как живет теперь Платон и жив ли — Гурин не знал. Слышал, что разъезд тот давно уже ликвидировали — проложили параллельную линию, что Платона отправили на пенсию, но он все равно с полустанка не ушел, живет там один, бирюком.
Живет… Может, и живет, а может, уже и нет…
37
С годами Гурин понял, что у человеческой жизни на все свое время, своя пора, которую ни перегнать, ни подтолкнуть, ни обойти никому не дано. Сначала — розовая пора открытий и познаний, потом счастливая пора любви, пора творения и действий, а потом наступает пора усталости, пора раздумий, оглядок назад и тоски по прошлому…
По крайней мере по себе Гурин чувствовал, что он прошел через большинство этих циклов и приблизился к последним. Все чаще и чаще он удивлялся, как быстро прошли годы. А они действительно сначала шли, потом летели, а теперь уже стали мелькать, как километровые столбы из окна скорого поезда. Все чаще ныло сердце по ушедшему, все чаще одолевала тоска по юности, все неодолимей тянуло в родные края, туда, где когда-то все начиналось, тянуло к истокам, к детству, будто он сможет оттуда начать все сызнова…
А так хотелось бы начать! Теперь бы он распорядился своей судьбой совершенно иначе, по крайней мере многое отбросил бы и гораздо бережнее относился бы ко времени. Можно и надо было жить энергичнее, время спрессовать до плотности «черной дыры» — вот тогда он оставил бы след после себя. А так — вроде и упрекнуть себя не в чем, но и гордиться особо нечем — заурядная обыкновенность. И взрыва, конечно, уже не будет, как бы он себя ни подстегивал, — время ушло. А жаль…
И он перебирал год за годом, искал, где, когда упустил он это время. И не находил. Мысль невольно перескакивала на других. Для сравнения чаще всего вспоминал Платона, кумира своего детства, пытался разобраться в его судьбе: где она сломалась, где его корабль дал течь — ведь такой махиной был этот Платон, крепкий, убежденный, уверенный. И вдруг…
Тянет Гурина на родину, хочется походить по теплой земле босиком, встретиться с детством, грызет надежда, что именно там найдет он ответ на свои раздумья. Да и мать давно не видел…
Собрался, поехал.
Мать удивилась его неожиданному приезду, а еще больше удивилась белой голове его, усталому лицу, потускневшим глазам.
— Что с тобой, сыночек? — спросила она озабоченно.
— Годы, мама, годы, — сказал он как можно проще.
— Годы, верно, — согласилась она. — Меня вот тоже годы пригинают к земле… — И пошутила: — Но ты же моложе меня, не поддавайся.
— Стараюсь…
Вечером разговорились с матерью о родственниках — кто где, как живет, что нового. Почти обо всех у нее было что сказать, знала какие-то подробности, но всякий раз оговаривалась, что слышала это от людей. И пояснила:
— Ко мне уже давно никто не ходит, сама я — тоже почти никуда со двора не отлучаюсь, боюсь: ноги слабые да и голова никуда. Тут вот пошла как-то в магазин, обратно шла, голова закружилась — да и упала. Очнулась — лежу на дороге. Как, почему — не помню. Теперь соседей прошу купить хлеба, а больше Таню эксплуатирую. Она на неделю принесет мне продуктов — ото тем и живу. В субботу жду, выглядаю… Харчей принесет, ну заодно и новости какие расскажет. Да и то… Я совсем глухая стала: что расслышу, а что и не пойму, переспросишь раз-другой, а она сердится. Так я стараюсь не переспрашивать. Что поймаю, то и мое. А может, что и не так. Людей избегаю — стыдно мне такой старой на люди показываться…
— Чего ж тут стыдиться? Старость, разве это позор?
— Старость-то не позор, да и радости мало в ней. Тут вот как-то приехал Миколай Сбежнев на мотоцикле. «Теть, на свадьбу приходите, Иру замуж выдаем». Это уже другую, которая из близнецов… То старшая, так ту давно выдали, уже дите бегает, а это — младшие пошли в ход. Не, кажу ему, я уже для таких делов не годюсь. А и правда: ну, что я там буду делать? Слепая, глухая, кто рядом — недовижу, что говорят — недослышу. Ну? И сиди, как пугало. Самой противно. Не, не буду портить людям настроение.
— А дядя Платон как? — нетерпеливо спросил Гурин.
— Ой, Платон!.. То ж тоже боль моя… Как он там — ни слуху ни духу. Года три уже не видались. То приходил изредка, а теперь совсем пропал, нету. Может, уже и помер… Так кто-нибудь позвестил бы. Я кого увижу — говорю: сходили б, проведали, узнали, как он там… Сама б сходила — не дойду. Никому до него нет дела — у всех свои заботы. Кларка обдетилась по самую голову и работает еще. Виталий — ты знаешь какой… Женя уехал куда-то в Сибирь, Федор без ноги и работает. Таню свою просила сходить — тоже некогда… А он же совсем один там, на своем блочке… — Мать помолчала, взглянула на сына: — А ты надолго? Может, выбрал бы денек да смотался, проведал бы дядю? Ты же дружил с ним…
— Дружил, — сказал Гурин. — Да он сам какой-то странный, я даже хотел обидеться на него.
— За что?
— Да как же… Я каждый праздник посылаю ему открытки, письма. А он хотя бы один раз ответил! Будто неграмотный. Да и неграмотные просят других написать… Бросил, не стал посылать ему.
— Не надо так! — мать осуждающе взглянула на сына. — У него, может, и карандаша нет, чем написать. Он же как на выселках, на этом своем блочке.
— Но там же бывают люди? Там же, кажется, и переезд через дорогу.
— Да его уже давно закрыли: поездов стало — один за другим! Вот многие переезды и позакрывали — пореже сделали. А ты не обижайся на Платона. Бывало, как придет, так и похвастается: «Одна, говорит, радость: Василь твой не забывает. Присылает открытки. Как получу — так плачу. Свои, родные не пришлют, а этот — чужой, племянник, а не забывает». Так что ты не обижайся на него, пиши… А если бы проведал — совсем бы доброе дело сделал.
— А каким транспортом можно до него добраться? — спросил Гурин.
— Да в том-то и беда, что ничего туда не ходит. Поезда там не останавливаются, автобусы не ходят. Автобусом можно доехать до Ясиновской развилки, а там пешком.
— Далеко?
— Далеко… Если б машиной… Может, уговоришь кого? Машин теперь у людей много. У Микиты Карпова аж целых три!
— Как это?
— Ну, у самого да у сыновей. Все на машинах!
— Он ведь сюда не приезжает теперь: Карпо у него живет.
— Бывают! Огород тут, сад… Пользуются.
— Продавать хату не собираются?
— Нет, угомонились. То ли сами образумились, то ли тебя послушались. Ото как ты написал Миките, чтобы они ни в коем случае не продавали хату, пока Карпо жив, угомонились.
— А вы откуда знаете, что я ему писал?
— Микита показывал письмо. Я аж плакала над ним. Все правда: продай они хату — это же Карпо останется как бездомный. Случись что — куда ему деваться? А то все-таки есть своя хата, есть куда спрятаться.
Ах, старики, старики… Судьба ваша… Тут мать одна, там крестный мается — больной, оставил хату и живет по очереди то у Никиты, то у Петра, а там, где-то на полустанке, в одиночестве доживает свой век Платон…
38
В субботу утром прикатил к отцовскому двору на голубом «жигуленке» Никита. Приткнул машину к самым воротам, но заходить не стал, направился к соседней калитке. Сам открыл ее и, толкая впереди себя стеснительного внучонка, улыбаясь, крикнул на собаку:
— Да ты что, уже своих не узнаешь?
— Редко, наверное, бываешь? — вышел ему навстречу Гурин. Поздоровались. Василий нагнулся к мальчишке, протянул ему руку: — Здорово! Сразу видно — внук. Ты вот такой же был, — сказал он Никите.
— А ты помнишь?
— Как же! Я же старше тебя на целых два года! Посмеялись.
— На дачу приехал? — кивнул Гурин на Карпову хату.
— А?.. — не понял Никита, но тут же сообразил, отшутился грустно: — Да, была хата, теперь дача… — И объяснил: — Не, не на дачу, за тобой приехали. Дед Карпо погнал нас. Как услыхал, что ты дома, пристал: «Или меня вези туда, или Василя сюда доставь».
— Ну и привез бы?
— Да и привез бы… Только он плохо себя чувствует, не стал трогать. Заодно побываешь у меня, посмотришь, как живу.
— Хорошо живешь?
Никита кивнул:
— Шахтеры все хорошо живут. Собирайся, там Надя ждет нас к обеду.
Гурин быстро собрался — захватил гостинцы ребятишкам, вышел во двор. Крикнул матери, которая возилась в кухне:
— Мама, я уехал…
— Куда? — забеспокоилась Павловна. Увидела Никиту, догадалась: — Ты забираешь? Не дадут и дома побыть…
— Крестный прислал, — сказал Никита.
— Хоть пообедали б на дорожку?
— Там обед уже ждет нас.
— Ну вот. А для чего я готовлю?.. — Помолчала обиженно, потом сказала мягко: — Ну ладно, съезди проведай крестного. Привет передай, скажи: хата цела и во дворе все цело, нехай не беспокоится. — Вспомнила что-то, остановила их: — Подождите… — Метнулась в кухню и вскоре вынесла полиэтиленовый мешочек, наполненный румяными пирожками: — Возьмите, передайте ему пирожочков. Он любит такие — с печеночкой и с картошкой. А сметана у вас есть?
— Есть, — сказал Никита.
— А то дам! Они со сметаной хороши.
— Есть, есть… Не надо.
— Ну, с богом. К вечеру ж привези его обратно, — наказала она Никите, будто тот увозил не взрослого мужчину, а мальчишку-несмышленыша.
По дороге Никита рассказывал о своем житье-бытье, об отце.
— Ты же его давно уже не видел? — спросил вдруг Никита.
— Да, давненько…
— Изменился он… Старый стал. Больной. Обидчивый… Чуть что — плакать и: «Вези меня к Петру». Отвезу. А через какое-то время подает SOS: «Возьми меня к себе». Еду, забираю. А Петро, ты же знаешь, на это дело слабак, — Никита щелкнул себя по кадыку. — И жинка у него такая же. Сами напьются и деда соблазняют, деньги у него выманят, пропьют. Отож и с хатой заходились. «Давай, дед, продадим хату, нашо она тебе?» А он и согласился. Я стал было протестовать — на меня накинулись, будто это я хочу себе на будущее какую-то выгоду выгадать. А какая там выгода? — Помолчав, продолжил: — Если бы не ты, так уже б не было б той хаты и дед бы наш кукарекал… Прочитал я ему твое письмо, он прослезился. «Вот кто меня уважаеть! — ткнул пальцем в письмо. — А вы — родные, а хуже чужих…» Петро обиделся: «Ну и иди к нему жить… Возьмет он тебя?» — «Возьметь! — сказал отец. — Если вы совсем выгоните — возьметь! А сейчас, Микита, забирай мои манатки, я к тебе поеду жить. А то тут и совсем без штанов останешься». И правда: была у него книжка, рублей двести накопил себе на похороны — все выпотрошили.
— Что же они, такие уж нелюди? Отца родного?..
— Водка, разве она кому разума прибавляла?
— Нда… Вот судьба стариков, — сказал Гурин раздумчиво.
— Да, беда с ними… — заключил Никита.
— Я думаю, беда без них, — возразил Гурин. Никита молчал, и Гурин пояснил свою мысль: — Не станет стариков, мы сразу займем их место, сами станем стариками… А так — они пока заслоняют край.
— Это да! — согласился Никита.
— У меня на совести еще один старик, которого я давно не видел, — сказал Гурин. — Хочется проведать…
— Кто это?
— Дядя Платон.
— А! Этот отшельник? — заулыбался Никита. — Во человек! Как отрезал себя от всех. Был бы у нас лес, он, наверное, жил бы в лесу, а были б горы, ушел в пещеры. Ни с кем не знается! Обиделся на весь мир.
— Надо проведать его… Мы с ним дружили когда-то. Помоги мне добраться до него.
— Трудно: к нему дороги нет. У этого полустанка раньше переезд был, а потом, когда вторую нитку путей протянули, разъезд ликвидировали, а заодно и переезд закрыли: движение большое стало. Глухой полустанок совсем заглох. Правда, станция разрастается, и один тупик уже выгнали аж до самого разъезда. — Никита усмехнулся: — Знаешь, как зовут этот тупик? Платонов. Сначала в шутку прозвали, а сейчас уже и привыкли. Как-то был в Ясиновке, слышу — диспетчер по радио кричит: «Порожняк с восьмого пути отогнать в Платонов тупик!» Во!
— Интересно, — машинально сказал Гурин, думая о своем. — Так как же быть?
— С чем? А-а!.. Попробуем! — решительно сказал Никита. — Может, там есть какая-нибудь дорога вдоль линии или через поле. Когда надо?
— Когда сможешь.
39
Узнав, что Василий поедет к Платону, мать с раннего утра начала большую стряпню, будто ждала гостей со всех волостей: варила, жарила, парила, пекла — готовила гостинцы брату.
— Что это? — удивился Гурин, заглянув на кухню. — Свадьба, что ли, будет?
— Ну как же? — обернулась к нему мать. — К Платону поедешь… Не с пустыми ж руками? Покормите его домашним, небось соскучился.
— Так разве столько можно съесть?
— Впрок… Впрок ему будет. У него ж погребок, наверное, есть. Что останется, вынесет, а когда захочет — достанет, разогреет.
Гурин покачал головой.
— Ниче, ниче, — успокоила его мать. — Не на себе понесешь — на машине. Укутаем хорошенько — довезете горяченьким. И борщ, и курицу, и вареников сварила.
— И борщ?
— Ну а как же? Без борща как жить? Особенно мужику…
Когда приехал Никита, у матери все уже было готово. Что завязала в узелок, что укутала в одеяло, что в сумку упрятала — всему нашлось место. Уложили часть в багажник, а часть — в машину, Гурину под ноги, чтобы он держал посудину и не расплескал.
— Во, целый ресторан на колесах! — сказал Никита, захлопывая багажник. — Если где застрянем — не пропадем: харчей на месяц хватит.
— А ты поаккуратней в дороге, не гони, — наказала она Никите. У сына спросила: — В магазин будешь заходить?
— Надо… В гости ведь едем.
— Ну, возьми… Для порядка. — Оглянулась на машину: — Сама б поехала с вами, до боюсь — голова слабая стала. До Куликова переулка доеду, и все — голова закружится, затошнит… Выбрасывай на траву, жди, пока оклемаюсь. Привет передавайте. Да расспроси хорошенько, как живет, что надо, какая помочь. Все распытай, расскажешь потом, — напутствовала она сына.
Наконец Гурин с Никитой уселись в машину и покатили со двора. Ехали по улице — по булыжнику — будто пешком шли: помнили наказ Павловны не расплескать еду. Особенно борщ берегли — «генерала» среди всех угощений. Выехав на асфальт, прибавили скорость.
Гурин смотрел по сторонам, радовался хорошим переменам — широкому ухоженному шоссе, культурно обработанным полям, выросшим лесозащитным полосам. Радовался, потому что в пору его детства все тут было не то и не так: дорога была узка и разбита, поля обрабатывались кое-как, посадок и в помине не было — одна степь вокруг, серая хрустящая под ногами степь. А сейчас совсем по-другому все смотрелось, словно климат изменился. Преобразился край…
Стояла ранняя осень, березки, шиповник и боярышник уже расцвечивались осенними красками, но во всем остальном все еще чувствовалась жизнь — крепкая, сочная, неувядающая. Густой зеленью радовала глаз белая акация, пирамидальные тополя, выстроившиеся вдоль автострады, обширные плантации поздней капусты. По капустному полю медленно двигалась на высоких ажурных колесах огромная дождевальная установка, разбрызгивая туманную воду, а вслед за поливалкой двигалась большая искусственная радуга. Тучные кочаны блестели малахитовой зеленью, с поля доносился приятно освежающий ветерок, будто ехали они вдоль морского берега.
Не доезжая совхозного поселка, Никита развернулся и поехал в обратную сторону. Проехав километра два, стал искать съезд с дороги. Нашел еле приметную колею, по ней спустился аккуратно с высокой дорожной насыпи, въехал в посадку. Тут была довольно широкая прогалина между деревьями, и они, без помех преодолев заросли, оказались на другой ее стороне. Вплотную к деревьям, почти под самые их корни, подступало обширное вспаханное поле.
— Ну вот и все, — сказал Никита, остановив машину. — Видишь, как теперь научились пахать — под самую бровку. То, бывало, вдоль посадки можно было проехать, дорогу оставляли, а теперь до сантиметра пашут.
— Это неплохо… Но нам-то как быть? — спросил Гурин.
— Придумаем, — сказал Никита. — Вот тут напрямки был проезд к тому полустанку. Видишь, во-он будка высокая — это диспетчерская сохранилась! Видишь? — И тут же торопливо скомандовал: — Ладно. Садись, поедем!
— Через поле? — удивился Гурин.
— Нет. Попробуем объехать.
И они снова вырулили на автостраду, проехали почти до самого города, перемахнули через переезд — там вдоль железнодорожной насыпи бежала вполне накатанная проселочная дорога.
Еще издали Гурин увидел — возле красного кирпичного домика кто-то копается в огороде. Он догадался, что это и был сам Платон.
Платон выбирал картошку и не обращал внимания на машину. Даже когда они подъехали совсем близко и остановились, — он и тогда не прекратил своей работы: Платон никого не ждал и ждать отвык, а так — мало ли кто проезжает мимо. Бывает, что остановятся проезжие у колодца, попьют воды и катят дальше…
Гурин подошел к низкой ограде, с минуту смотрел на Платона. Грузный, тот не спеша нагибался над выкопанной лункой, подбирал клубни с земли, потом растопыренными пальцами, как граблями, ерошил землю, поднимал вывернувшуюся картофелину, бросал в ведро и переходил к другой лунке. Лица его Гурин не видел, из-под старой черной кепки выбивались совершенно белые волосы.
— Помощники не нужны, хозяин? — прокричал Гурин.
Платон не сразу обернулся на голос. Выпрямился, долго смотрел на Гурина, бросил в ведро картофелину, она упала мимо, он нагнулся, чтобы поднять ее, и, не разгибаясь, снова принялся за свою работу.
Постояв немного и не зная, что делать, Гурин оглянулся на Никиту. Тот махнул ему: не обращай, мол, внимания, иди к нему. Гурин переступил через ограду, подошел к Платону.
— Неужели не узнали, дядя Платон?
— Почему не узнал? Узнал, — сказал он, продолжая свое дело.
— Ну а что же…
— Что?
— Поздороваться надо! Как-никак родственники. — И он протянул руку: — Здравствуйте.
— Драстуй, — проговорил Платон, не глядя на племянника. Увидев протянутую руку, посмотрел на свои ладони, сказал уже мягче: — Руки у меня грязные…
— Ничего! Земля — это не грязь! — весело возразил Гурин.
— Верно, — согласился Платон. — По-мудрому говоришь.
— Это не моя мудрость — народная.
Вытерев ладонь правой руки о штаны, Платон протянул ее Гурину и тут же, словно считая эту процедуру никчемной, отнял руку и снова теранул ею о штаны. На этот раз уже машинально, но Гурин заметил это, улыбнулся. Заметил и Платон свое странное поведение, но на улыбку Гурина не ответил, а даже почему-то посуровел, будто не хотел он никаких сближающих контактов.
— Едете куда? — кивнул он на машину.
— К вам.
— Зачем?
— Проведать.
Платон долго молчал, — наверное, решал, как ему быть: принимать гостя, звать в дом или вот так и закончить эту встречу, не сходя с огородной грядки? Ждал ответа и Гурин. Ждал и одновременно рассматривал его, некогда бравого, энергичного, веселого и остроумного человека, на которого в детстве он так хотел быть похожим. И вот перед ним совсем другой человек — с потухшими глазами, чужой, постаревший. Лицо дряблое, лицо скорее старушечье, чем стариковское, хотя и заросло щетиной. Мятая кепчонка натянута на глаза, старый потертый железнодорожный китель с одной металлической пуговицей, с дырами на локтях. На ногах драные растоптанные ботинки без шнурков. «Ну и что тут такого? — упрекнул себя Гурин. — Человек работает в огороде — выходной костюм надевать должен, что ли?»
— Ну что ж, — наконец проговорил раздумчиво Платон. — Раз приехал, заходи в хату. — И он направился было к дому.
— А картошку? — спросил Гурин.
— Ничего, пусть… Дожжу вроде не будет.
— Неудобно оставлять. Хоть накопанную собрать! — не унимался Гурин. — Тут же немного. Гуртом быстро справимся, а? Никита, иди сюда, поможем.
Подошел Никита, поздоровался:
— Здравствуйте, Платон Павлович.
В ответ Платон мельком взглянул на Никиту, кивнул:
— Драстуй.
«И говорит как-то — «драстуй», «дожжу» — будто древний старик», — удивился Гурин, поддергивая брюки на коленях и готовясь приняться за работу.
— Испачкаетесь, — обронил Платон.
— Мы аккуратно.
Втроем они быстро собрали накопанную картошку, изредка переговариваясь по поводу земли, урожая. Никита хвалил картошку — крупная, в кусте ее было немного, всего три-четыре клубня, но зато какие!
— Это что за сорт такой, дядя Платон?
— А кто ее знает, — отозвался тот. — Купил как-то на базаре, посадил, вот такой уродилась.
— Удобряли?
— Нет, — ответил Платон и добавил: — Это дождь помог. Вовремя набежал, хорошо полил. А так бы… Из колодца разве наполиваешься?..
— А на вкус как она? — не унимался Никита.
— Хорошая. Сейчас сварим, попробуете…
«Вроде отмяк немного старик», — заметил про себя Гурин, и на душе стало веселее, напряженность, вызванная холодным приемом, спала.
Закончив работу, все трое не спеша потянулись с огорода. Никита вскинул себе на спину мешок с картошкой, пошел первым, за ним с ведром в руке — Гурин. Замыкал шествие Платон, он нес лопату, схватив ее поперек черенка.
Возле крыльца прямо на земле против солнышка тонким слоем лежала картошка — сушилась.
— Высыпать? — спросил Никита.
— Сыпь, — разрешил Платон. — Ну, отдохните, я сейчас… Мойте пока руки, — кивнул он на рукомойник и ушел в дом. Обратно вышел с алюминиевой кастрюлей, спросил: — Картошку почистить или в мундирах?
— Да можно никак, — сказал Гурин.
— Попробуете картошку, какая она. С огурчиком, селедочкой?.. Проголодались небось?
— У нас все есть.
— Что у вас есть? — не понял Платон.
— Все — и выпить, и закусить.
— Ну, то дело ваше, — снова посерьезнел Платон. — А мое — это мое… — И он принялся бросать в кастрюлю чистые клубни. Набросал, потряс, прибавил еще парочку и ушел снова в дом.
— Не мешай ему, — сказал Никита. — Пусть сам, как знает. А то видишь, какой он чувствительный: чуть что — аж вздрагивает. Наши харчи нести?
— Давай…
И они пошли вдвоем к машине. За два раза перенесли все во двор, сложили на деревянный столик у куста боярышника, стали ждать Платона. А он все не выходил. Гурин и Никита посматривали на дверь, переглядывались, не знали, как быть.
— Может, сходить? — не терпелось Гурину.
— Не надо, — крутил головой Никита. — Подожди, придет… Знаю я этих стариков — с норовом.
Наконец, голый по пояс, вышел на крыльцо Платон. Белые живот и грудь его висели пустыми мешками как у престарелой бабы. Когда-то эти мешки были туго наполнены мышцами, теперь все куда-то ушло…
Гурин заметил, что Платон побрился, подмигнул Никите: мол, все идет на лад.
— Заждались? — спросил Платон. — Сейчас… Картошка уже кипит. — И он стал враскорячку под рукомойником, фыркая, принялся умываться.
— Где сядем? — спросил Гурин. — Здесь или в комнате?
— В хате, — решительно сказал Платон. — Зачем на виду у всех? Не люблю… — И снова скрылся в доме.
— Пошли и мы, — скомандовал Гурин. Они собрали свою еду, понесли. На пороге Гурин крикнул в глубину дома: — Дядя Платон, куда идти, показывай дорогу!
Тот вышел навстречу, удивился:
— Да вы что, и вправду со своими харчами?
— Это сестричка ваша гостинца передала.
— Так много?.. Несите сюда, — он открыл дверь в комнату. Там на середине стоял стол, уже уставленный кое-какой закуской — огурцами, хлебом нарезанным. Платон стал сдвигать свои тарелки поплотнее. Гурин принялся распаковывать и расставлять на столе привезенное, а Никита метнулся за остальными судками. Комната наполнилась вкусными домашними запахами. Платон молча смотрел на всю эту снедь, губы его слегка подрагивали — он силился сдержать улыбку и не мог.
— Борщ еще горячий! — объявил Никита.
— И борща передала? — удивился Платон, глаза его заблестели, и он принялся вытирать их полотенцем, которое держал в руках. Гурин и Никита сделали вид, будто ничего не заметили, продолжали хозяйничать у стола.
Наконец уселись, Гурин сам разлил водку, пригласил:
— Ну, дядя, за ваше здоровье.
— Спасибо, — голос у Платона дрогнул. — Спасибо… что… приехали… — Выпил и долго смотрел на стол, не зная, с чего начать. Признался: — Давно такой еды не видел. Даже запах стал забывать.
— Это привет от мамы, — снова напомнил Гурин.
— Спасибо сестре. Она у нас старшая… как мать всем… — Спросил, обращаясь к Никите: — А ты чей будешь?
— Гурин.
— Не Карпов ли сын? Похож. Как он там?
— Плохо. Хворает. Ноги отказывают. У меня живет.
— А мать? Ульяна? Маленькая такая бабенка была, веселая, как синичка, — Платон даже улыбнулся, вспомнив Ульяну.
— Умерла…
— Умерла? — и он вытянул удивленно нижнюю губу. — А такая живая была. В компании — первая выдумщица. Помню ее хорошо. Умерла…
— Уже года три, как схоронили, — уточнил Никита. — Хата стоит пустая, заколочена. — И вдруг весело предложил: — Переезжайте и живите. Будете рядом с сестрой. С людьми…
Платон нахмурился, будто напомнили ему о чем-то неприятном, ничего не сказал. Потянулся за бутылкой, сам стал разливать. Наткнулся на нетронутую Никитину стопку, задержал над ней бутылку.
— За рулем я, мне нельзя, — объяснил Никита.
Платон согласно кивнул, поставил бутылку, обратился к Гурину:
— Ну, давай… — И вздохнул почему-то. Выпил, спросил: — Как там мать? Не болеет?
— Болеет. Да и стара уже…
Слушая, Платон кивал и глубоко задумывался о чем-то своем. Гурин старался разговорить его, но разговор этот все время скользил как-то по поверхности, дальше стандартных вопросов-ответов не шел, чувствовалось, что Платон и не хотел его углублять. Как только разговор касался его самого, он либо замыкался, либо уходил от него, а чаще просто обрывал — резко, без всяких деликатностей. «Может быть, Никиты стесняется?» — гадал про себя Гурин, не веря все еще в перемену характера своего дяди, которого знал раньше и веселым, и разговорчивым.
Насытившись и устав сидеть за столом, Никита поднялся, сказав:
— Пойду к машине… Посмотрю…
Гурин обрадовался, что Никита догадался оставить их вдвоем, кивнул одобрительно брату. Однако Платон тоже засуетился — отодвинул стул, встал, не глядя на племянника, проговорил:
— Да… Пошли на воздух…
Гурин нехотя повиновался. В коридоре увидел деревянную лестницу, ведущую куда-то вверх, спросил:
— Там второй этаж?
— Диспетчерская, — сказал Платон и добавил: — Была… Теперь там ничего нет. — И, впервые улыбнувшись, сказал: — Балкон мой.
— Можно посмотреть?
— А чего ж…
Гурин быстро взбежал наверх, вслед за ним медленно поднимался Платон — каждая ступенька тяжело поскрипывала под ним. Гурин огляделся: три стены — сплошные окна, четвертая — глухая. Подошел, уперся руками в подоконник, посмотрел влево-вправо — далеко видно, хорошо. И показалось ему с высоты, будто все вокруг стало необычным. Даже Никита с машиной выглядели какими-то невзаправдашними, игрушечными. Оглянулся на Платона:
— Люблю смотреть на мир с высоты! Как-то все видится по-другому: дальше, больше, шире! Невольно поверишь теории, будто обезьяна превратилась в человека, когда встала на задние лапы: она вдруг стала выше и увидела дальше…
— Суслик тоже все время становится на задние лапы, а человеком не становится, — сказал Платон и присел на табуретку у стола, который был придвинут вплотную к центральному открытому окну.
— Ну, это же не надо понимать буквально, будто все случилось в одно мгновение. — Гурин подошел к столу, сел напротив Платона. — Прошли миллионы лет!
— Да и суслик, наверно, не вчера догадался становиться на задние лапки…
Усмехнулся Гурин, не стал развивать этот разговор — его интересовало другое. И он спросил прямо:
— Дядя Платон, почему вы живете так? В чем дело? На людей обиделись? Почему?
— Хочется тебе все-таки мне в душу влезть? А зря, там ничего не осталось…
— Неправда.
Платон посмотрел на Гурина долгим взглядом, качнул головой:
— Правда.
— Не верю. Напустили на себя…
— Ну если ты все знаешь, чего ж спрашиваешь? — обиделся Платон.
Гурину не хотелось, чтобы он опять замкнулся, поторопился выправиться:
— Ничего я не знаю… Если бы знал… — И уже совсем другим голосом спросил: — А что, если и в самом деле: давайте купим Карпову хату? Переедете в поселок, к людям? А?
Покрутил головой Платон:
— Нет… Мне никто не нужен. Так же, как и я никому… Для людей меня уже давно нет, и нечего будоражить привычное: как есть — так и пусть остается.
— Но почему? — чуть ли не закричал Гурин. — Почему?
— Ты что, в самом деле ничего не понимаешь? Ну а ты, как бы ты на моем месте поступил?
— Не знаю, — растерялся Гурин. — Наверное, уехал бы куда подальше… Уехал и там начал бы жизнь заново…
— Вот и я… Уехать подальше не смог… А вернее — не сообразил сразу, все правды ждал, а потом уже было поздно.
— Но я уехал бы в том случае, если бы проштрафился. А на вашем месте…
— А что мое место? Чем я лучше тех, которые убежали и живут где-то на чужбине, без родины?
— То преступники, — сказал Гурин. — Они убежали от наказания, от возмездия.
— Не все и там преступники. Есть и такие, как я, — из трусости остались у немцев, из трусости убежали с ними.
— Но вы-то!.. Зачем же себя равнять с ними? Остались вы не из трусости и с ними не убежали, а, наоборот, хватило мужества от них убежать.
— Невелико мужество убегать от смерти. От опасности и заяц бежит. Хотя тогда я именно так и думал: подвиг, мол, совершаю, к своим стремлюсь.
— Ну и правильно делали.
— Делал-то правильно, да только это не подвиг… Подвижничать надо было раньше и иначе.
— Наверное, не каждый способен на подвиг.
Платон вскинул на Гурина глаза:
— Ты что?.. Это я так рассуждал тогда, а ты, помнится, был другого мнения. Или теперь думаешь иначе?
Гурин стушевался, но быстро оправился, сказал:
— Нет, я иначе не думаю… Но действительно, по-моему, на подвиг не каждый способен… Я на фронте испытывал страх.
— Не каждый, — согласился Платон и пояснил: — Трус не способен на подвиг. Он способен на предательство. Но я ведь не был трусом? А поступал как трус: сам ничего не делал и другим не давал. Тебе, например…
— Вас разве в трусости обвинили?
— Нет… Это было сказано гораздо мягче. Дело-то в конце концов не в подвиге. Бывает такая обстановка, когда каждый должен… Понимаешь: должен! Каждый! Пусть с риском для жизни, но должен что-то делать. Такой обстановкой была война. А сидеть, ждать освобождения и гордиться тем, что я, мол, ничего не сделал против своих — это, брат, не чудо. И конечно же мое ничегонеделанье во время оккупации равносильно преступлению. И мое поведение не далеко ушло от тех, кто скурвился откровенно. Разница лишь в деталях. Вот поэтому я сам себя осудил и наказал. И приговор свой сам привожу в исполнение.
— За давностью лет можно и амнистировать.
— Амнистии не будет. За все надо расплачиваться… Вот я и расплачиваюсь. И никого я не виню… — Помолчал с минуту и продолжил: — Обидно, конечно… Тогда боялся — дети малые, пропадут… Да и смерти, наверное, испугался… А что получил? Дети выросли, смерти все равно не миновать… Да и разве то жизнь была у меня после того, как все опасности прошли — и война, и все другое? Я ведь уже давно мертвый и всеми забытый. И теми же детьми, и… всеми. А если бы я повел себя тогда иначе — помнили бы. Пусть погиб бы, так с честью же! Память о себе добрую оставил бы, поминали бы добром. Меня бы не было, а я все равно жил бы. В памяти жил бы, в рассказах. — Платон разгорячился, говорил сердито, словно был недоволен, что его вынудили на такое откровение. И будто услышав свой голос, вдруг оборвал себя, отвел глаза в сторону. Махнул рукой: — Пустой разговор, сплошные «бы». Если бы да кабы… — Помолчал и заговорил снова, но уже совсем спокойно, будто про себя: — Говорят: судьба, мол, от судьбы не уйти. Нет, брат, человек сам творец и своей судьбы, и своего счастья. Он сам хозяин своей жизни, как распорядится ею, куда нацелит, так и будет. — Платон взглянул на Гурина — согласен ли тот.
Гурин сказал:
— Не век же казнить себя. Жить-то надо.
— Зачем? Моя жизнь прошла…
— Кто это знает, прошла ли она? Та прошла, другая может начаться.
— Другая? — ухмыльнулся Платон.
— А что, бывает… — не очень уверенно сказал Гурин. — Второе дыхание… На втором дыхании люди тоже многого достигают.
Платон отмахнулся:
— Я не спортсмен.
— Но выходить-то из тупика надо когда-то? Люди, совершившие преступление, осужденные, уже давно отбыли наказание. А вы? Да, время было строгое, суровое… Но ведь прошли годы! Одни отбыли, других простили, третьих реабилитировали. Но вы-то ни к тем, ни к другим не относитесь, почему же вы не попытались восстановиться?
— Не знаю, — покрутил головой Платон. — Не знаю. Мысли такие были, но я их всякий раз отгонял: стыдно. Стыдно идти и самому о себе говорить… Не могу. Осудить себя могу, оправдать — не умею. Да и в чем мне оправдываться? Вот говорю, гребу на себя всякое, хочу почувствовать вину свою, а нет, не чувствую. И их укорные слова не принимаются. Ну в чем я виноват? Что не действовал так, как кто-то это себе представлял, сидя в глубоком тылу? А посмотрел бы я на него в той обстановке — как бы он свою теорию храбрости на деле претворил? Мы тоже были смелыми, когда немец еще за бугром где-то громыхал, а как встал с автоматом перед грудью… — Платон качнул обреченно головой. — Не понять нас тому, кто сам не испытал того, о чем судит. — Подумал, распрямился, готовясь высказать что-то еще. — Я понимаю, другой, наверное, на моем месте повел бы себя иначе. Так опять же, нельзя людей стричь под одну гребенку. Люди-то разные. Сопоставь человека с обстановкой, взвесь все… Да что говорить, кому это нужно — разбираться. Беда наша в том, что цена человеку у нас — копейка. Чуть что — тут же расправа: исключить, наказать, выгнать, лишить, сослать. Хорошо, хоть не шлепнули.
— Ну, вы уж хватили! За что?
— А ни за что. «Хватили». А то ты не знаешь, как с пленными поступали, да и со всеми, кто в оккупации был, — никому веры не было.
— Это-то я знаю. А все-таки почему бы вам не похлопотать, не напомнить о себе в горкоме или обкоме?
— Не буду, — резко сказал Платон. Подумал, пояснил: — Поздно, много времени утекло.
— Правду найти никогда не поздно. Сейчас вон какие дела пересматривают. А если я зайду в горком и напомню о вас?
— Не надо! — резко сказал он и пояснил: — Обидели они меня крепко своим недоверием. И обиднее то, что обидели-то свои же товарищи, кто знал меня. Свои же! — Платон надолго задумался и вдруг доверительно признался: — Я тебе скажу: если бы тогда мне поверили, не отвергли… я ведь еще столько пользы мог бы принести…
— Я в этом уверен, — сказал Гурин.
Вскинул на племянника Платон потеплевшие глаза, щеки, губы задергались — вот-вот заплачет, но нет, сдержал себя, заговорил спокойно:
— Со мной выяснили. А ты?.. Ты-то почему маешься?
— Я? — удивился Гурин. — Откуда вы взяли?
— Вижу. Потускнел. Раньше, бывало, у тебя ко всем дело было, всех мог объединить, помирить — и молодых, и старых. Сейчас нет этого. Устал? Укатали сивку крутые горки?
— Трудно сказать… — повел Гурин плечом. — Тоже ведь уже жизнь, считайте, прошла. С ярмарки иду, на ней столько сволочных людей! А я все верил в доброе начало, в человеческую порядочность…
— Тебя что, на этой ярмарке обокрали?
— Почти… В чем-то обокрали, в чем-то сам себя обворовал… Теперь меня все время грызет чувство какой-то неудовлетворенности, — признался Гурин.
— Это хорошее чувство, — сказал Платон.
— Я знаю теперь, что я мог бы сделать гораздо больше, — сказал Гурин. — На мелочах растранжирил свой талант и время. Если бы начать все сначала!..
— Сначала!.. — покачал Платон головой. — Если бы!.. Нет, брат, жизнь не стишок, вторично не перепишешь, тут сразу пиши набело. Вот эту истину надо людям постигать не под старость, а смолоду, с детства.
— Да мы ее с детства и знаем — наизусть учили: жизнь дается только один раз… Учили, а понять с детства это трудно.
— Потому и расплачиваемся на старости лет за все грехи и ошибки. — Платон неожиданно поднялся и направился к лестнице. Взялся за перила правой рукой, стал осторожно спускаться. На середине лестницы остановился, оглянулся на племянника, улыбаясь сказал: — А что ж второе дыхание? Включай, ты еще молодой.
— Так и делаю, — ответил Гурин.
Платон согнал с лица улыбку, пристально посмотрел на Василия, сказал раздумчиво:
— Ну-ну…
Во дворе стоял Никита, нетерпеливо крутил на пальце ключи, скучал: весь вид его говорил, что уже пора уезжать.
Все трое, не сговариваясь, молча направились к машине. Никита сразу сел за руль, но дверцу закрывать не спешил. Гурин обернулся к Платону, подал руку:
— До свиданья.
— Прощай, — сказал Платон. — Спасибо, что навестил.
— А из тупика надо выходить.
— Попробуем, — согласился Платон. Нижнее веко под левым глазом нервно задергалось, и он быстро обернулся к Никите, но ничего не сказал, а только кивнул: прощай, мол…
— До свидания, дядя Платон, — сказал Никита и завел мотор. Прежде чем тронуть машину, спросил через открытое окно: — Если я привезу ведер пять, обменяете мне своей картошки на семена?
— Привози, — сказал Платон.
Когда отъехали, Гурин оглянулся и через заднее стекло увидел согбенную старческую фигуру Платона. Он одиноко стоял и смотрел задумавшись вдаль, в сторону большой станции, где утробными голосами перекликались поезда и откуда маневровый тепловоз гнал два разбитых вагона в Платонов тупик…
КАРПОВЫ ЭПОПЕИ
Карпова жизнь — сплошные истории. Малые и большие. Были настолько малые, что они тут же забывались. Проходные, так сказать, истории. Но были и такие, что входили в Карпово бытие прочно и помнились долго. Если выражаться языком научным и подходить к этому вопросу философски, то можно одни Карповы истории назвать случайными, эпизодическими, другие же, наоборот, — закономерными, этапными.
И разумеется, для исследования Карповой жизни логичнее было бы взять только истории, относящиеся к последней категории. Но мы этого делать не будем по той простой причине, что задача эта непомерно трудная: кто может с точностью определить, какая история главная и какая второстепенная? Это даже сам Карпо не в силах сделать. Сейчас, с оглядкой назад, он, может, и скажет: «Вот это было да! А вот это — так себе…» Однако если бы подобный вопрос задать ему в тот момент, когда история эта творилась, ответ его был бы иным — все получало бы высшую оценку: «Это — да!» Так время, удаляя от нас некоторые события, делает их ничтожно малыми, и сквозь годы видятся они нам как сквозь перевернутый бинокль.
Единственно какую сортировку Карповых историй можно сделать — так это разбить их на три группы. Такое разделение не будет искусственным, истории сами так или иначе разбиваются на три части и составляют своеобразную треногу, на которой и держится Карпова жизнь.
А еще эти группы можно сравнить с линиями. Тремя параллельными линиями они так и шли через всю Карпову жизнь. Вернее, жизнь Карпова катилась по ним как по трехрельсовому пути.
И опять же, трудно сказать, какая нога из этой треноги нужнее, какой из этих трех рельсов главный, — все они одинаково необходимы и каждый из них составил в Карповой жизни целую эпопею.
ЭПОПЕЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
«СПАЛЬНЫЙ АПАРТАМЕНТ»
Карпо Гурин — наш сосед и родственник: он доводится мне дядей. И еще — он мой крестный. Крестил меня Карпо несколько раз: сначала по-церковному, этого я не помню. Остальные разы — по-своему, — когда заставал в своем горохе или на своей яблоне. Эти крещения запомнились.
Карпов огород межуется с нашим, а его дом выходит к нам во двор глухой стеной. Теперь она, правда, уже не глухая и зовется так по привычке. Несколько лет назад, захваченный новой модой, Карпо затеял перестройку внутри дома — делал отдельную спальню. Мудрил, мудрил и выгородил-таки в своей довольно тесной хате темную комнатенку. Тетка Ульяна — жена его, не оценила усилий мужа, назвала спальню гадюшником. Карпо на жену не обиделся, но свое детище попытался защитить.
— Ну а шо тебе надо? Спальня и есть спальня, чтобы спать в ней. Спят же в темноте или как? Так даже и лучче: днем можно прилечь — окно не надо закрывать. И мухи не будут кусать. — Под конец своей речи Карпо не удержался, подсмеялся над бабой: — Или, может, ты дужа культурная стала? В постелю будешь с газеткой ложиться, как Нюрка Черкашина? Так мы тебе подвесим над головой абажурчик с выкрутасами, вроде рогов у барана, и будет он тебе давать освещение. — Оглядел комнатенку еще раз, заключил: — Побелишь, и все. Потом тебя оттуда и колом не выгонишь: настоящий спальный апартамент. Шо ишо надо?
— Куда там!.. — не унималась Ульяна.
— А ты не той… не думай только об себе, — сказал Карпо, посерьезнев. — Думаешь, для чего я это городил? — Он нагнулся к жене, зашептал: — Дети уже большие, спать с ними в одной комнате… — Карпо замялся, подыскивая подходящее слово, но, так и не найдя его, спросил: — Как ты об этом, думала?
— Во! Обиделси! — удивилась Ульяна. — Пошутковать нельзя! Да кто ж не знает, для чего спальня? Если б не знала да не думала, так разрешила б я тебе ото грязь в хате разводить?
На другой день Ульяна намесила серой глины с кизяком, замазала щели, а когда подсохло, выбелила стены и потолок мелом, подсиненным куксином, вымыла пол и осталась довольна: «А и правда — апартамент: хорошо будет. Зазря напала на мужика». И ждет Карпа не дождется, спальню показать хочется: пусть порадуется.
А он пришел с работы — и опять понес инструмент в «гадюшник». И побелку не заметил, принялся прорубать окно. Пыталась Ульяна отговорить его — не надо рубить, и так, мол, хорошо, — ни в какую.
Прорубил дыру, высунул голову в наш двор, выдохнул облегченно. Дня три стена зияла после этого черным провалом. Потом Карпо вставил раму, застеклил. С наружной стороны ставню навесил. Сказал Ульяне:
— Вот и все. Теперь глядись сколько влезет.
Мать моя поначалу чувствовала себя неловко от чужого окна, которое стало днем и ночью смотреть в наш двор. Ей казалось, что за его темными стеклами постоянно скрываются чьи-то глаза. Тогда она посадила напротив него абрикосовое деревце, думала: «Вырастет — заслонит». Деревце росло долго, так, кажется, и не выросло, а мать за это время привыкла к окну и уже не обращала на него внимания.
А может, и не привыкла, может, ее просто отвлекли другие Карповы дела, которых у него было великое множество…
Работает Карпо «на путях», он бригадир ремонтной бригады. Под его началом девчат десятка полтора. В стеганках, в штанах ватных девчата выглядели толстозадыми коротышками. Это зимой. А летом — ничего: в блузках веселых, в косынках цветастых, они — будто стайка пестрых птичек на железнодорожное полотно опустилась — хлопочут: старые шпалы вытаскивают, новые ставят, костылями крепят, щебенку подбивают.
Карпо зимой и летом — одним цветом: в серой просторной спецовке. Зимой под нее он поддевает ватную фуфайку и ватные брюки, летом же обходится без них. Спецовка его сшита из грубой палаточной материи — брезента, и сидит она на нем колом, как белье на морозе. На ходу Карповы штанины не шуршат, а скрежещут, будто железные.
Во время работы Карпо обычно стоит в сторонке и наблюдает. Наблюдает не столько за работой девчат, сколько за дорогой — не появился бы поезд внезапно. Если у девчат не ладится, помогает, начальника из себя не строит.
На поясе у Карпа в кожаном чехле два флажка — желтый и красный. Это с одного боку. А с другого — петарды. Три. Белые, металлические. Петарды — наша постоянная мальчишеская зависть, руки, глаза наши так и тянулись к ним. Но Карпо даже потрогать не дает: опасно.
Карпо строг. На работе тоже строг. Даже не то чтобы строг, а серьезен. Шутки об него разбиваются, как пустые бутылки о скалу. И если какая из девчат слишком уж разойдется, скажет:
— Ты ото, Настя, как зубы скалить, так лучче бы… — Говорит он медленно, слова выдавливает с трудом, будто загустевшую пасту из тубы.
— Ну что «лучче бы»? Что «лучче бы», дядя Карпо? — не унимается озорница. — Чи я плохо щебенку подбила?
Но Карпо уже выговорился, да и не хочется ему попусту языком трепать. Смотрит вдаль, откуда должен появиться поезд.
Из-за поворота, извиваясь змеей, показывается товарняк, гудит утробным басом тепловоз — требует дорогу.
— Эй, девчат, сойди!.. — кричит Карпо, а сам подходит к воткнутому между рельсами железному шесту с красным кругом на конце.
Девчата медленно разгибаются и будто нехотя сходят на самую бровку насыпи. Карпо следит за ними, и когда уже ни одной не остается на рельсах, выдергивает двумя руками ограждение и тоже сходит на бровку. Кладет ограждение на кучу щебня, вынимает из чехла желтый флажок, пропускает поезд.
После московского экспресса, если нет аварийной работы, Карпо обычно не спешит поднимать ограждение. Достает из кармашка часы на цепочке, открывает крышку и долго смотрит на неподвижные стрелки. Часы у Карпа старые, никель на них давно обшелушился, сполз, как кожица с молодой картошки, и лишь кое-где поблескивал мелкими островками на бронзовом корпусе. Часами Карпо дорожит: давняя премия начальника дороги. Но главное — не память, главное — вещь нужная, время точное показывает. А красота для Карпа никогда не имела значения.
Захлопнул крышку.
— Ну че там, дядя Карпо? Че показывают золотые? Сколько нашего? Или, может, экспресс сегодня раньше побежал?
— Ладно, — говорит Карпо. Взваливает на плечо железный шест с круглым стоп-сигналом на конце, идет к деревянному ящику для инструмента. — Шабашить будем. Пока то да се… Собирайте струмент, ничего не забывайте.
Девчата сносят ключи, лопаты, кирки. Карпо запирает ящик на замок, спускается в кювет. Там у него еще с обеда припасены доски от разбитых снегозащитных решеток. Доски аккуратно сложены и туго скручены проволокой.
— Хозяйственный вы мужик, дядя Карпо! Даже завидки берут.
— Все одно сгниють без пользы, — оправдывается он. — Валялись… Загородку поросенку надо сделать, всю изгрыз, проклятый.
— И не надоело вам ото возиться со свиньями?
— Хм… «Надоело». Можа, и надоело. А что делать? У меня семья вон какая: детей трое, да свояченица Марья — девка уже на выданье, за дочь живет, да самих двое. Ну? Всех одевать, обувать, кормить надо. А работников? Один я, считай. Марья — скольки она там получает… «Надоело»? Можа, и надоело.
Доски Карпо берет под мышку. На плечо не поднимает, чтобы не так заметно, и сразу скрывается в посадке. Идет полем и приходит домой, как всегда, с огорода. Бросил доски возле сарая, они стукнули.
По этому стуку узнал о приходе хозяина старый, лохматый и злющий кобель Буян. Загремел цепью, потрусил навстречу, заскулил приветливо. По этому стуку узнала о приходе мужа и Ульяна. Маленькая, быстрая, вытирая руки о передник, она выбежала из кухни, спросила:
— Будем обедать чи как?..
Чаще всего после работы Карпо мастерил что-нибудь по хозяйству: дорожил светлым временем. Обедать можно и вечером, при свете, ложку мимо рта не пронесешь. Строгать же, пилить, гвозди бить — это сподручней делать днем.
Отпихнул ногой кобеля:
— Пошел, идол!..
Но Буян изучил повадки хозяина, не обижается на него и не уходит, ждет.
Карпо достал из холщовой сумки для харчей кусок хлеба, бросил Буяну.
— На, от зайца. — Сумку с пустой бутылкой из-под компота отдал жене. И только потом ответил ей: — Опосля… Надо ж тому идолу починить дверку, — кивнул он на сарай, где, услышав шум, поскуливал поросенок. — Э, звягучий какой, чтоб ему…
— А нехай, — махнула рукой Ульяна. — Это кабы б до войны такой попался.
— До войны — да, намучились ба… — Карпо направился в сарай. На пороге остановился, вспомнил что-то, — «До войны»! — проговорил он с упреком — мол, память у тебя, баба, куриная. — До войны! А опосля? Когда ты противогазом поросенка задушила?
Захихикала дробно в фартук Ульяна, закрутила головой — вспомнила, смешно ей:
— То после уже, правда твоя… После войны, да. А как до войны ото со шкурами чертовались? Тоже ж было?..
— Ну, было, — Карпо нехотя согласился с женой. — Было… да сплыло… — и скрылся в сарае, застучал топором.
Мастерить, строить Карпо любит, у него просто руки чешутся, и тоска съедает, если нечего перестраивать. Мастерит он, правда, грубо, топорно, но зато прочно, на века.
«Спальный апартамент», который он выгородил, — это всего лишь маленький эпизодик в деятельной жизни Карпа. У него бывали дела куда солидней, грандиозней и важней. Вот, например, история со шпалами.
ШПАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Дом у Карпа такой же, как и у многих в поселке: два окна смотрят на улицу, три — во двор, крыша под белой черепицей, стены саманные. В общем, дом как дом, не хуже других. А может, даже и получше некоторых: у него, например, ставни с запорами. Карпо сам сделал их — этакие длинные железины поперек окна на болтах. Один болт ввинчен наглухо, другой — свободно болтается, каждый вечер вдевается в отверстие внутрь дома и изнутри закрепляется шплинтом. Прочно, надежно, никакие воры не страшны.
Когда мы были еще малыми детьми, мать, уходя на работу, закрывая ставни, всякий раз сокрушалась: «Был бы отец — сделал бы такие же, и горюшка б мало: закройся и спи до утра спокойно». Но воры, наверное, знали, что ни за железными запорами у Карпа, ни тем более за расхлыстанными ставнями у нас красть было нечего, и потому ни разу не побеспокоили.
Тем не менее Карпо постепенно превращал свой дом в крепость. Выписал на работе по дешевке несколько старых шпал и сделал из них ворота — высокие, глухие, прочные. Калитку тоже соорудил высокую, глухую, с железным засовом.
Пока строил ворота, разохотился и с получки выписал еще шпал, привезли их на двух машинах с прицепами. Увидела Ульяна, обрадовалась сначала — добра-то сколько! А когда узнала, что Карпо почти всю получку ухлопал на них, ругаться стала. Карпо и сам понял, что немножко переборщил со шпалами, но не сдавался, огрызался:
— Да? А ты пойди купи их просто так! Не купишь. А если и найдешь где — так с тебя сдерут за них ой-ой! А тут, можно сказать, задарма столько материалу. Потому как для своих рабочих скидка существует.
— «Задарма»! — возмущалась Ульяна, тыча ему в лицо остатки от зарплаты. — Задарма, а где же деньги? Столько шпал навалил! Что делать-то с ними?
— Найдем что.
— Неужли хату перестраивать задумал?
— А что, можно и хату. Стены из шпал теплые…
— И не выдумывай! — решительно запротестовала Ульяна. — С тебя станется: развалишь хату, а потом знаешь сколько всего надо будет, да сколько возни?
— Знаю… Ладно. Пригодятся на что-нибудь.
После этого они с Ульяной дня три таскали шпалы с улицы во двор, укладывали в штабель на долгое хранение. Нижние шпалы уложили на камнях, чтобы от земли не прели. Поверху Карпо проволокой окрутил — не унес бы кто на дрова.
— Кому они нужны — укутываешь. Соорудил памятник дураку, — не успокаивалась Ульяна.
— Ладно, будя ругаться. Ишо спасибо скажешь, вот подожди трошки.
Утихомирилась Ульяна, доволен Карпо: лежат шпалы — богатство. Строй — не хочу.
Однако недолго богатству этому пришлось вылеживаться. Надумал Карпо построить летнюю кухню. Настоящую, как у людей. А то ведь летом в хате плиту топить — угоришь от жары. Одно дело — суп или борщ подогреть можно и во дворе на таганке, а ей, Ульяне, приходится готовить еще и поросенку. И порается, бедная, в жаре. Отсюда и мухи в хате — двери-то целыми днями настежь расхлобыстаны…
Складно в мыслях у Карпа получается насчет летней кухни, вот так бы и высказать все Ульяне, только не сможет он ей все разобъяснить, не даст она ему говорить, сразу перебьет и понесет.
Но тут Карпо ошибся, мысль о летней кухне была встречена Ульяной с пониманием и даже с восторгом. Небольшие разногласия возникли лишь из-за места, где ее ставить. Но эти разногласия были быстро улажены, и строительство началось.
Недели две Карпо пилил, рубил, строгал шпалы, одни клал плашмя, другие ставил стоймя, скрепляя скобами, пока стала вырисовываться коробка строения. Ульяна усердно помогала мужу. Когда что-либо не ладилось — подавала советы. Карпо, как правило, их отвергал, и тут начиналась перепалка, которая кончалась тем, что Ульяна в сердцах посылала Карпа к черту и уходила, а Карпо отпускал ей вдогонку что-нибудь матерное и прекращал работу до следующего дня. На другой день как ни в чем не бывало они снова принимались за дело.
Постепенно строение обретало свои формы — стены, а в них проемы для окна и двери. Появилась и покатая крыша. Обил Карпо стены и снаружи и изнутри дранкой, и принялись женщины — Ульяна и свояченица Марья штукатурить. Пока те мазали кухню снаружи простой глиной с кизяком, Карпо соорудил плиту, вывел через потолок трубу. Закончил — затопил. Дым поклубился-поклубился внутри плиты, попытался идти внутрь кухни, но потом все-таки раздумал, нашел ход в трубе и повалил туда, куда ему и следовало. Карпо обрадовался: плита — сложная штука, но, оказывается, и печное дело ему по плечу.
Гордится мужем Ульяна, показывает соседкам кухню, демонстрирует духовку — печет пироги хорошо.
Правда, после побелки кухня получилась пятнистой, как леопард. Это сквозь глину проступала шпальная пропитка, но хозяева не огорчились: не свадьбу играть в кухне, не гостей заводить — сойдет. Главное — есть теперь летняя кухня. Как у людей.
Соорудил Карпо кухню, а шпалы еще остались. Не пропадать же добру, куда-то определить надо. А куда? Подумал, подумал — нашел! Погреб давно просит ремонта. И как это Карпо раньше о погребе не подумал! Кухня могла бы и подождать, а погреб — дело необходимое, осень скоро, заготовка овощей начнется.
Повытаскал Карпо из погреба бочки, банки, деревянные кружки, камни-голыши, которые служат гнетом в бочках с соленьями, и раскидал землю с крыши. Зияет квадратная яма, смотрит в небо сырым своим нутром.
С погребом дело простое, это не кухня. Тут Карпо справится мигом: настелет на потолок шпалы сплошняком, завалит землей — и готово. Быстро и прочно. С творилом придется только повозиться.
Расчистил края стен, подтащил первую шпалу. Кликнул на помощь Ульяну — настилать шпалы одному несподручно. Пришла Ульяна, глянула на погреб, на шпалу и воскликнула:
— Да она ж короткая!
— Кто?
— Да шпала…
Карпо даже остолбенел — не ожидал такого. Прикинул — точно, на целый метр короче. Задумался. А Ульяна не успокаивается, костит мужа:
— Черт безголовый! Ишо б постоял погреб, так разворочал его, как боров. А теперь что? Сказано: семь раз отмерь, а один раз отрежь. А ты?
— Ладно, придумаю что-нибудь. Вот кирпич есть, можно стенку вот так выложить. Поменя малость будет твой погреб, и всего делов…
— Ага! И так не повернуться, не поставить ничего, а то совсем собачью конуру сделаешь, — запротестовала Ульяна. — Ты об чем думал, когда начал погреб раскидывать? Шоб шпалы определить или шоб польза какаясь была? Люди, у кого погреб как надо, у зиму всего наготовят — и горя не знают. А тут даже капусты и той до весны не хватает. Ребяты вон уже какие, им исть тольки давай.
Ничего не возражает Карпо, глядит молча в разрытую яму. А что возразишь? Права Ульяна: дети растут, для роста питание нужно. Погребок мал, верно. Вон у Симакова погреб — то да! не погреб, а целое овощехранилище! Там у него не то что капуста, огурцы, помидоры да картошка, — каждую зиму огромная кадушка с солеными кавунами стоит, а еще другая, чуть поменьше, с мочеными яблоками. А Карпо ведь своих детей никогда зимой не побаловал ни кавунами, ни яблоками, все чего-то жмется: не главная, мол, то еда, баловство, гостинец. Главное — картошка, да капуста, да огурец… А был бы погреб — конечно, чего ж не наготовить всего. Жалко, что ли? Осенью ни яблоки, ни кавуны ничего не стоят, так — навоз, а зимой заместо конфетки пойдет.
А капусты этой у Симакова, не квашеной, а такой, свежей, почти до новины хватает. Выдергивает из грядки кочаны поплотнее с корнем и подвешивает на крюках в погребе, она и висит всю зиму, ничего ей не делается. Чистая, свежая, возьмет баба кочан, а он будто только с огорода.
Премудрый старик, все сделано как следует. Даже лазить в погреб удобно: вход в него сводчатый, кирпичный. Откроешь дверь и иди по ступенькам вниз. А тут — люк, лестница. Неудобно, тесно. Зимой люк снегом заносит, лестница инеем покрывается, мокреет, скользкая становится. Ульяна не один раз срывалась с этой лестницы, посуду разбивала. Хорошо, хоть себя не покалечила…
Да, сделать бы такой погреб, как у соседа! Только сумеет ли, хватит ли силенок?
Размечтался Карпо, сидит на шпалах, цигарку за цигаркой смолит, прикидывает, как погреб лучше сделать…
Думай, не думай, а чего-то главного не хватает, работа остановилась. Досадно.
Пришел Неботов — сосед через дорогу, увидел развороченную яму, пошутил:
— Чи убежище задумал делать? Так войны ж вроде пока не обещают.
Как ни был раздосадован Карпо, а шутку принял.
— Когда пообещают, то уже будет поздно, — сказал он. — У меня комбат в саперном был, войну с ним кончали, дак тот все учил: «Винтовки не стреляют — должны стрелять лопаты и топоры». Укреплять, значит, оборону надо. Так и я, — кивнул Карпо на яму. — Блиндаж вот думаю соорудить.
— Ну да, ну да, — согласился Неботов и заглянул в яму. — Погреб, конечно, нужен, без него зимой хоть караул кричи. А сделать его — это, конечно, не блиндаж сварганить. Там что, там тяп-ляп — и укрытие готово, а тут надо, так бы сказать, поосновательнее, чтобы он годков несколько простоял.
— Да нет, не скажи, — закрутил Карпо головой. — Блиндажи мы делали на совесть. А как же? Это ж укрытие для людей от снарядов и бомб. Погреб для чего? Овощ схоронить от холода, и все. А там люди. С запасом прочности делали, никакой снаряд не брал. Вот, помню, блиндаж сделал со своим отделением. В Германии уже дело было. Приказ — в наступление, а комбат говорит: «Не хочется и вылезать из такого дворца. Будешь ты, Карпо, отвечать за срыв операции: зачем такой построил — лучше хаты? Жалко, на чужой земле останется твое строение». А блиндаж и взаправду вышел на удивление: крепкий, сухой, теплый. Оборудовали его как следовает. Жить можно. Вот бы под погреб такой приспособить. — Карпо улыбнулся, глаза его затеплились, заблестели — нахлынули воспоминания. — А мосты какие делали? Уля!.. — позвал он жену. — Ульяна, подай письмо, што мне прислали… За потретом лежит.
Принесла Ульяна письмо, протянула Карпу.
— Хвастать будешь? — спросила она с ехидцей.
— К разговору пришлось, — сказал Карпо серьезно. Развернул листок, обратился к Неботову: — Слухай… Это пишет мне дружок, вместях воевали. В Молдавии живет. Мы там долго стояли, удар на Яссы готовили. Мосты строили для техники. Он, этот дружок, познакомился с одной бабенкой, слюбились, после войны к ней поехал, живут, пишет, хорошо…
— А ты? — спросила Ульяна.
— Шо я? — не понял Карпо.
— Про себя расскажи, шо ж ты все про друга да про друга… А ты будто святой да невинный, только мосты строил?
— Не галди, Ульяна, — отмахнулся Карпо. — Опять ты за свое… Кабы б так — так приехал бы я к тебе? Тоже туда подался б.
Ульяна перестала улыбаться, насупила брови, спросила медленно, нараспев:
— Куда б ты подался?.. — И вдруг переменила тон, сказала резко: — Попробовал бы! — Она погрозила Карпу кулаком и ушла.
— Ну, видал? — развел Карпо руками. — И я ж виноват остался.
Покрутил Неботов головой, усмехаясь, махнул рукой:
— Да ну, это ж бабы!.. Не обращай… Читай, шо там пишет дружок твой.
— А? — Карпо и забыл уже, о чем речь шла, взглянул на письмо, вспомнил: — А! За мост пишет. Слухай. — И стал читать: — «Дорогой мой фронтовой друг и товарищ Карпо! Пишет тебе Иван Копылов. Жив, здоров, чего и тебе желаю…» — Карпо помычал, пропуская какие-то места в письме, нашел нужное, сказал: — Вот. «Помнишь, мы наводили мост в наших Казанештах? Его потом все называли «Карпов мост». Так вот, нема уже того моста. В этом году разобрали и построили новый. А зовут все одно по-старому: «Карпов мост». Во какую память об себе оставил. А никто из молодых и не знает уже, почему такое название. Жинка моя да другие, кто постарше, те помнят. Приезжай к нам, всем селом встретим. Вина попьем, войну, друзей вспомним, песни попоем, поплачем…» — Голос дрогнул у Карпа, он шмурыгнул носом, сложил письмо, не стал дочитывать. — Ну вот, видал, как строили в войну? Скольки годов простоял мост! Так что мы не той, не баловались…
— Это конечно, какое там баловство, — согласился сосед. — Война шуткувать не любит. — Помолчал. — А я к тебе, Романович, с просьбой.
— Шо такое?
— Уступи мне одну шпалу… В сарае стенка задняя стала выпирать. Подпереть — еще постоит. А нечем…
— Ха, просьба! — обрадовался чему-то Карпо. — Выбирай любую, какая на тебя глядит. Дак две ж надо, шо ж ты с одной сделаешь?
— У меня обаполок есть, к стенке приставлю, а шпалой подопру.
— А, ну то дело другое. — И Карпо сам стал выбирать шпалу. Выбрал, откатил. — Пойдет?
— Да! — обрадовался сосед. — Вот ее и продай мне. Скольки она?..
— Шо — скольки?
— Скольки положишь?
— Да ты шо? — обиделся Карпо.
— Ты ж деньги платил за них…
— Какие там деньги, — поморщился Карпо. — Шпал вон какая куча, а денег — вот такусенькая, — засмеялся, взялся за конец шпалы. — Бери, понесем.
Подхватили шпалу, понесли через улицу в Неботов двор. Вышла Ульяна на порог, смотрит им вслед, качает сокрушенно головой. А когда Карпо прибежал за топором, сказала с ехидцей:
— Ну вот, уже одну шпалу определил. Не успел во двор притащить, тут же со двора понес.
Остановился Карпо, развел руки в стороны, поднял удивленно брови:
— Да чи тебе жалко?.. Што ты их, солить будешь, чи шо? Глянь, какая куча!
— Дак ты ж что-то думал, когда покупал?..
— Ах, — досадливо крякнул Карпо и пошел к соседу.
Вернулся он после обеда, подошел к яме, постоял, почесал затылок: чужую работу сделал, своя никак не продвигается. Приуныл. А делать что-то надо, без погреба нельзя.
Вечером на другой день шел Карпо с работы и внизу, под железнодорожной насыпью, споткнулся о рельс. Вернулся, долго смотрел на него: пропадает добро, а ведь можно ж куда-то приспособить. И вдруг осенило: так вот же то, что нужно для погреба. «Матица! Положить ее по центру и сделать погреб на длину двух шпал. Один конец шпалы будет лежать на стене, а другой — на рельсе. Выдержит рельс, лучшей балки и не придумать. И ступеньки в погреб сделать, как у Симакова. А над ступеньками крышу не обязательно делать сводчатой, кирпичной, можно из шпал соорудить, вроде сарайчика, теплее даже будет, чем из кирпича. Шпал много, на все хватит, еще и останутся…»
Стоит над рельсом, размечтался. Паровозный свисток «разбудил» его, очнулся Карпо, побежал домой.
Прибежал, подхватил тачку, мобилизовал с собой домашних — жену, Марью, старшего сынишку Никиту прихватил, подались за посадку к насыпи. Взвалили с трудом рельс на тачку, везут. Ульяна попыталась охаить Карпову находку — мол, «горбатая рельса, куда она…», но он резко пресек и не допустил обсуждения. «Зато крепкая. А горбатая — разогнуть можно, это не человек, которого только могила выпрямит».
Везут, хекают. Карпо в оглоблях. На неровностях дороги мотает мужика из стороны в сторону, еле удерживает равновесие. Попадет колесо в выбоину — так всех и отбросит от тачки. Длинный, тяжелый груз, того и гляди заденет концом кого. А не дай бог свалится да попадет кому на ногу — инвалид навеки. Но довезли благополучно, скантовали на землю — упала, бомкнула глухо тяжелая железина. Вздохнул Карпо облегченно, закрыл ворота: от чужих глаз подальше.
Теперь задача — выпрямить рельс. Поддел один конец под кухню, на другой, который торчал вверх, встал ногами, стал прыгать на нем. Потрескивает кухня, пружинит рельс, но не разгибается.
— Что удумал, черт такой? — кричит на Карпа Ульяна, — кухню развалишь. Для того ее делали, порались столько?
— Чем ругаться, иди лучче помогни.
Пришла, залезла на рельс к Карпу. Хоть и весу у нее пуда три, не больше, а все же помощь. Принялись вдвоем прыгать под Карпову команду. Прыгали, прыгали, пока не выворотился угол кухни. Полетел рельс в одну сторону, а Карпо с Ульяной — в другую. Хорошо — легко отделались, не ушибло рельсом. Ульяна только коленку сбила. Пошла в дом, захромала, ругает Карпа. А тот починяет кухню, а сам думает, куда бы еще приспособить рельс, чтобы выпрямить его. Думал, думал — придумал.
Прикантовал камень — возле шпал в заготовленное гнездо уложил его, чтобы не качался. Потом рельс подтащил, один конец занес на штабель, другой приподнял и бросил горбом на камень. Подпрыгнул рельс, бомкнул на всю округу, будто самый большой колокол на старой церкви ожил.
Постоял с минуту Карпо у затаившегося рельса и снова один конец занес на штабель, а второй приподнял и ударил о камень.
— Перестань! — крикнула Ульяна. — Придумал.
Карпо не обращал на нее внимания, заносил один конец рельса на шпалы, а другой приподнимал и бросал горбом на камень. Про себя считал — сколько раз ударил. На двадцатом ухекался, сел на камень отдохнуть, стал смотреть на рельс. И показалось ему, что кривизна стала меньше, обрадовался.
На другой день поднимали конец рельса они уже вдвоем с Ульяной, бомкали, пока не стемнело. И так — недели полторы. Соседи сначала недоумевали: что за звон несется по вечерам из Карпова двора? А потом узнали, привыкли и уже не обращали внимания. Если на окраине появлялся новичок и спрашивал, что это такое, отвечали просто: «Карпо с Ульяной рельсу расплямляють».
Однажды наступил вечер, а звон не раздался. И было всем как-то непривычно от наступившей тишины, узнавали друг у друга, в чем дело. «Неужели разогнули?» Приходили смотреть. И дивились силе человеческой и терпению: рельс уже не горбатился, — прямой, он лежал поперек ямы, где ему предстояло служить матицей до скончания века.
Построил Карпо погреб, открыл дверь, повел Ульяну вниз по ступенькам на осмотр. Осторожно ведет ее, поддерживает под руку, будто молодую в храм божий вводит. Ульяна улыбается, довольна погребом.
— Тут гостей можно заводить, есть где развернуться, — остановилась на середине, развела руки в стороны.
— В кадушки земля теперь сыпаться не будет, — сказал Карпо, взглянув на потолок. — Шпалы — само собой, а потом я ишо их сверху толью накрыл. — Подошел к Ульяне: — Ну, че ж не ругаисси?
— А че ругаться, если хорошо, — возразила добродушно Ульяна.
Карпо повернулся к стене:
— Вот тут будут стоять кадушки, насолим всего — и кавунов, и яблок. Все штоб было! В углу яма — для картошки. Тут вот будет лежать бурак, морковка и… Што там ишо такое?.. Полки сделаю — банки разные будешь ставить. А? Хватит места? Тут можно столько наготовить всего — ишо трех детей прокормим. — Карпо разошелся, привлек Ульяну к себе, заглянул ей в глаза. — А?..
— Ну, ишо што удумал! Трех! — она зарумянилась, скосила глаза на дверь — не смотрят ли на них дети, продолжала: — Одного ишо куда ни шло…
— Ладно, нехай пока одного, — согласился Карпо, нагнулся и поцеловал Ульяну в губы, поцеловал крепко, смачно, как давно уже не целовал. Ульяна от неожиданности чуть не задохнулась.
— Во, совсем ополоумел… — проговорила она, поправляя платок. — У погребе…
— А шо погреб? Ну шо погреб, хуже твоей хаты, скажешь? — Карпо взбежал по ступенькам, закрыл дверь. В погребе стало темно. Ульяна покорно молчала, стояла, ждала Карпа. — Иде ты?.. — спросил он негромко.
— Тут… — ответила она шепотом и шагнула ему навстречу.
Построил Карпо погреб, а шпалы опять остались. Немного, правда, но лежит штабелек. Не пропадать же добру, в дело определить надо. А куда? Свояченица Марья надоумила. Пришла как-то домой, у подружки какой-то гостила, рассказывает, что видела. Больше всего пол поразил ее. Дощатый, краской выкрашен, чисто так. И «мазать» его не надо, тряпкой помоют — и он блестит, как новый.
У Карпа в доме пол земляной, то есть глинобитный. По субботам бабы смазывают его серой глиной с коровяком.
Слушает рассказ Марьи, а сам думает: «А что, если пол настелить? Шпалы остались, распилить их на доски и настелить?..»
Пришла такая мысль и уже не покинула Карпову голову. Залезла и давай сверлить до того, что даже уснуть не мог: придумывал, как шпалы будет пилить, как пол будет настилать. «Сначала выдолбить надо «земь», потом песку насыпать, матицы уложить… Все это можно самому сделать, ничего хитрого нет. Шпалы вот только распилить бы. Поперечной пилой? Не с кем, другого мужика в доме нет, бабы не помощники. Хорошо бы циркульной… А как? Мотор нужен, где его возьмешь…»
Думал, думал… Думал день, другой… Придумал наконец.
У соседа за сараем свалка. Среди разного хлама остатки от лобогрейки. Когда-то Симаков, как и Карпо, «зигзаг» сделал: в разруху и голод в крестьянство подался. Клин земли заимел, завел даже кой-какой инвентарь, но потом все забросил, ушел опять на производство. С тех пор лобогрейка и ржавеет.
Полез Карпо на эту свалку, увидел широкое колесо от лобогрейки, то самое, которое с зубьями, которое косогон в движение приводит. В землю вросло колесо от времени, поржавело. Вывернул его Карпо наружу, прикинул — подойдет. Попросил у соседа:
— Верну потом, цело будет.
— Да бери, на кой оно мне?
Прикатил Карпо колесо, привалил к стене, смотрит на него, мозгует. Ульяна подошла:
— А это зачем такого чертогона приволок?
— Маховик будет. Шпалы пилить…
— Ишо что-то придумал! Ой боже, да остепенись ты!
— Пол настелем, тебе ж легше будет. Слыхала, Марья рассказывала? Рази плохо?
В выходной Карпо съездил в город, привез круглый зубчатый диск величиной с таз. Пояснил: циркульная пила. Потом увидела Ульяна: откуда-то объявился в сарае моток широкой прорезиненной ленты. Опять пояснил: приводной ремень.
— Придумываешь черт-те што, — отмахнулась Ульяна. Однако мешать не стала — бесполезно.
Соорудил Карпо посреди двора верстак: вкопал четыре стойки, на них две шпалы положил. Не вплотную, щель между ними оставил.
На одном конце верстака ось поперек шпал укрепил, на нее колесо подвесил. К колесу ручку прикрутил, кривоколенную. Вороток. На середине верстака, между шпалами, циркульную пилу приспособил и с ней на одну ось шкив насадил. Шкив из толстого чурбака сделал. Заклинил наглухо. На шкив и на колесо ремень нацепил, соединил в одну систему, крутанул. Тяжелый маховик поворачивался туго, с трудом раскручивался, зато пила завращалась быстро, зубья слились в сплошной круг.
Доволен Карпо — вроде получилось. Притащил шпалу, положил возле верстака. Мелом шнур набелил, позвал Ульяну. Передал ей один конец шнура, другой в своей руке держит, приложил к шпале, натянул туго.
— Крепче держи, — и, насколько рука хватала, взялся двумя пальцами за шнур, оттянул его и бросил. Тугой струной ударил шнур по шпале — отпечаталась ровная белая полоса.
Разметив шпалу, поднял на верстак.
— А теперь? — нетерпеливо и недоверчиво спросила Ульяна.
— А теперь я буду крутить, а ты подталкивай шпалу потихоньку, — и пошел к маховику, взялся за ручку. — Не сразу толкай, сначала разгон возьму.
Поплевал в ладони, потер, начал раскручивать маховик. Раскрутил, кивнул — давай, мол, толкай. Толкнула Ульяна шпалу, да, видать, не рассчитала силы — резко получилось. Пила с гырком вонзилась зубьями в древесину и застряла, шкив остановился, ремень с шипеньем соскочил на землю. Освободившись от нагрузки, маховик облегченно рванулся, увлекая за собой повисшего на ручке Карпа. Еле удержал Карпо раскрутившееся колесо. Выпусти он из рук вороток и не отскочи в сторону — быть бы ему инвалидом. Оторопел Карпо, испугался, но вида не показал. Ульяна тоже напугалась, увидев, как тряхнуло ее муженька. А больше испугалась своей оплошности, чувствует: по ее вине случилась авария. Ждет упреков. Притихли у стены дети. То галдели радостно, а тут затаились, знают: когда у отца не ладится — под руку лучше не попадай, влетит.
— Ну что ж ты?.. — проговорил Карпо, поднимая ремень. — Я ж сказал: потихоньку.
— Дак и то… А оно… — оправдывалась Ульяна, дергая шпалу на себя. Но зубья крепко вцепились, не вырвать. Помог Карпо, выдернул шпалу, нацелил меткой на пилу.
— Вот так. Только потихоньку.
Раскрутил снова Карпо маховик, кивнул — давай. Стала Ульяна подталкивать шпалу, не поддается почему-то. Поднатужилась, и опять неудачно, рывок получился: пила заела, ремень слетел. Карпо не выдержал, ругаться начал:
— Сатана безрукая!.. Мать твою… Говорю тебе — потихоньку подвигай.
Стоит Ульяна, качает укоризненно головой.
— Наверное, — говорит, — из твоего рая не выйдет… ничего.
Не мог такого вынести Карпо, схватил с земли полено, запустил в Ульяну. Та вовремя пригнулась, полено пролетело мимо, шмякнулось о стенку новой кухни, выбило штукатурку до шпал.
— Ну и чертуйся тут сам, — и пнула сердито ногой в верстак. — Подавись ты своей пилорамой, сам двигай и крути сам, — и пошла прочь, шурша юбкой и ругаясь.
Карпо молча натягивал ремень. Натянул, поправил шпалу, оглянулся:
— Иди, Микита, попробуй ты. Ничего тут хитрого нема.
Робко подошел Никита. Волосы с левой стороны, как всегда, дыбом — то ли подушкой он их в другую сторону расти приучает, то ли от природы так, глаза припухшие, брови насуплены. Суровый мальчишка. Коренастый, низенький, он неторопливо подошел к верстаку, уперся руками и грудью в шпалу, ждал команды. И когда отец крикнул «давай!», напрягся, мешки под глазами вздулись, щеки покраснели от натуги — двинул шпалу вперед. Пила гыркнула и умолкла, а ремень, извиваясь, полетел на землю. Пока отец, силясь, останавливал маховик, Никита лихорадочно соображал, что делать: то ли бежать, то ли ждать расправы. На всякий случай присел за верстак, следил за отцом.
— Потихоньку надо, — проговорил Карпо, сдерживая гнев.
— Оно не двигается потихоньку, — сказал Никита.
Карпо взял шпалу, двинул взад-вперед несколько раз. Да, идет с трудом, заедает: поверхности не гладкие, шершавые.
— Смазать надо, — подал совет Никита.
— Че смазать? «Смазать»! Все смазано, — заворчал Карпо: мол, учить будешь…
— Под шпалой… Чтобы склизко было…
Задумался Карпо над таким советом, перевернул шпалу, прикинул. Нет, тут не смазка нужна. Пошел в сарай, принес два коротких шкворня, подложил под шпалу, катнул туда-сюда — легко подается.
— А ну теперь попробуй, — кивнул он сыну. — На катках должно быть легше.
Снова раскрутил Карпо маховик, кивнул Никите. Никита стал подталкивать шпалу — подвинулась вперед легко. Дзинькнула пила раз, другой и вдруг запела. Запела ровно и натужно, посыпались опилки. Обрадовался Карпо, крутит да покрикивает:
— Потихоньку, потихоньку, сынок!
Вот уже диск наполовину утоп в шпалу, и звон пилы стал глуше. Опилки фейерверком летят, усеивают землю, пахнут сосной. Карпо совсем уже выдохся, но крутит, не хочет останавливать машину: так здорово пошло дело!
Остановил все же, вытер пот со лба, подошел к Никите.
— Идет?
— Идет, — кивнул Никита.
Поправил Карпо шпалу, оттянул шкворни назад, проинструктировал помощника:
— Следи, чтоб пила шла прямо по метке, и смотри, чтоб шкворень в пилу не попал: зубья поломает. Ну, отдохнул? Попробуем ишо.
Дотемна Карпо с сыном грызли шпалу, успели пропилить с полметра и довольны были до крайности. Шутка ли — пила вся скрылась в прорези и только сверху зубья торчали! Чтобы пилу не зажимало и легче было крутить, Карпо клин в прорезь вбил — на ходу постигал премудрость распиловки бревен.
За ужином Ульяна смотрела на мужиков, как они умаялись, пожалела:
— Ухойдакались-то как! Пропади он пропадом и пол тот-то!
— Ну да! — возразил Карпо.
— «Ну да»! Купил ба досок, и то дешевше стало б.
— Богачка какая — «купил ба»! А где ты их купишь? Можа, ты знаешь, где их продають?
— Гдесь продають, люди покупають. Вон сколько строются: и кирпич, и шлакоблоки, и лес — все доста-ють.
— То-то и оно: достають. А как догонють — ишо дадуть, — втолковывал Карпо жене. — На химкомбинате ворують да продають. Все до поры до времени, а то как прижучуть, что больше и не захочешь, запоешь тогда «соловки». Не хочу так доставать, понятно тебе? Был ба такой магазин, где пришел и что надо по хозяйству, то и купил: чи кирпич, чи доски, чи шифер. Нема ж такого магазина. А был бы, так я, можа, и купил ба… И все одно не дешевше б обошлось. Ты посчитай, сколько шпала стоит, сколько из ей досок выйдет. Ну? За пилу заплатил, да за ремень на поллитру дал. Вот и весь расход.
— А труда сколько — то ты не считаешь, — не унималась Ульяна.
— «Труда»! Кто ж свой труд считает? Он всегда бесплатный…
Долго и трудно перемалывал Карпо шпалы, но ни разу не пожалел о своей затее. Довел дело до конца — досок напилил, за полы в доме принялся.
Уже давно зима наступила, а он все ползал на коленках, все не мог кончить работу. То половицы подгонял да сбивал, то сверху строгал, то шпаклевал да красил. Коленки сначала до мослов стер, а потом они задубели и кожа на них стала тверже, чем на пятках.
Еле-еле к Новому году закончил.
Сохнут полы, Ульяна не налюбуется ими, не нахвалится мужем своим перед соседками. Это же такая благодать — полы! Ни пыли, ни грязи. Мокрой тряпочкой смахнула — и опять чистота. Золото, а не мужик.
На праздники созвала родню, соседей — полы «обмывать». Наготовила всего, как раз поросенка зарезали — было из чего.
Обувь гости оставляют в сенях, в комнаты идут в чулках да в носках. Боятся поскользнуться, боятся испачкать. Ходят по полу осторожно, бережно, как по стеклу. Хвалят мастера.
— Да проходите, не разувайтесь, гости дорогие! Это ж полы, не земь — че им сделается, — возбужденно шумела на гостей Ульяна. — Проходите, проходите.
А когда подвыпила, нарочно надела туфли на твердых каблуках, стала дробь выбивать. Сама себе припевает и колотит что есть мочи каблуками в крепкие доски:
Мой муж постыл На печи застыл, Шубой оделся, Никак не согрелся! И-и-и!.. Их-их-их!..Взвизгнула на последней ноте, склонила голову и пошла, и пошла дубасить каблуками: тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та-та-та…
— Какого лешего не танцуете? — набросилась на гостей. — А ну выходи! Все выходите — будем проверять, чи крепко сделано.
Вытащила несколько человек на круг, снова запела:
Мой муж постыл На печи застыл. А я его жинка — Уся на пружинках!Карпо сидел среди мужиков, разомлевший от самогона, довольный собой, гостями, своей работой. Глядел на Ульяну, снисходительно улыбался.
— Романович, доконають пол, ей-бо, доконають, — задорил его сосед Неботов.
— Ниче они ему не сделають, — кивал Карпо на танцующих. — Доски во какой толщины! Хватит и детям и внукам. Пущай гопають.
А Ульяна взвизгивала и припевала:
Пошли плясать, Аж пол трещить! Наше дело молодое, Нам бог простить! И-и-и!.. Их-их-их!..ШЛАКОБЕТОННАЯ ИСТОРИЯ
До весны Карпо жил сравнительно спокойно, никаких больших дел не затевал, мастерил кое-что мелкое по хозяйству: закуток поросенку поправил, дверь по краям войлочной полоской обил, чтобы не дуло, уголь в сарае из одного угла в другой переложил. Отдыхал Карпо, упорался с полом, надолго, наверное, он ему охоту отбил к строительным делам. «И хорошо, — думала Ульяна. — А то и себя, и всех позамучил».
Но недолго наслаждалась Ульяна спокойной жизнью. С наступлением тепла Карпо снова «взбесился».
Да и как ему было не «взбеситься»? Идет по поселку, видит — строятся люди, обновляются. Тот совсем развалил свою саманку и теперь кладет шлакоблочные стены, и строит уже не хату, а настоящий дом: три, а то и четыре окна по фасаду, да столько же со двора, да еще сколько-то с других сторон, и комнат, говорят, будет не две, а целых шесть. С таким «строителем» Карпу, конечно, не тягаться. Но все же обидно… Тот навозил белого силикатного кирпича — облицовывать будет стены. Кирпич явно краденный с химкомбината, такой не продают. Карпу это тоже не подходит. А люди не боятся, покупают у прощелыг-шоферов. За рынком целая улица домов выросла из такого кирпича, и ничего… Кто-то вон черепицы запас — крышу своей хибары будет обновлять, а может, поднатужится, да и всю хату перестроит. А вот кто-то прямо на улице гору шлака навалил — шлаковать, верно, будет дом или блоки станет формовать.
Не выдержал Карпо, зашел, расспросил, что и как собирается хозяин делать. Оказывается, шлаковать. Саманные стены облицует смесью бетона со шлаком. Делается это просто: вокруг дома по самому низу из досок сооружается обруч, или «хомут» своеобразный. В пространство между досками и стеной набивается шлакобетонный раствор. Когда раствор застынет, обруч из досок приподнимается над ним и снова набивается смесью. Так идет постепенное наращивание внешней стены до самой крыши. Потом неровности заглаживаются бетоном — и все, стоит хата как новая. Главное, такие стены никакой глиняной мазки не требуют, бабам облегчение.
Такой вариант обновления дома заинтересовал Карпа, но он не спешил, обдумывал, прикидывал — как да что. Ремонт хаты — дело нешуточное: растабаришься, а потом силенок не хватит и будешь кукарекать.
Может, Карпо так и не решился бы обновлять свою хату, но сломил его окончательно сосед Симаков, который задумал построить на месте старого новый дом. Да еще какой дом! По проекту. Показывал Карпу чертежи на вощеной бумаге и на отдельном листе нарисованный готовый дом. В натуре, какой он будет, даже с палисадником. Ну что ж — дом что надо. Самый модный теперь, таких уже много настроено в поселке. Во-первых, крыша делается не шалашиком, не двух-, а четырехскатная: фронтон тоже покатый, черепицей крытый, и только под самым коньком маленький дощатый фронтончик со слуховым окошком. Окна в доме большие, просторные. Комнат, конечно, шесть, да, кроме того, — теплый тамбур. Не сенцы, а тамбур. Кухня от комнат отделена. И отопляется дом хитро. На кухне в плиту вмазан невидимый котел с водой. Готовит баба, к примеру, обед, а котел сам по себе нагревается, и горячая вода растекается по трубам, греет установленные под каждым окном гармошки батарей.
Но Симакову легко: у него три сына, и все работают — два какими-то начальниками на заводе, они и мастера хорошие — по слесарному и токарному делу. Из железа какую хочешь гармошку сделают. Третий — на «химику» снабженцем. Этот, может, самый главный в таком деле — добывать материал будет. Да и сам старик по плотницкому делу мастак. Нет, Карпу с ними не тягаться.
Но сосет под ложечкой обида. Рядом с таким доминой Карпова хата совсем худо будет выглядеть. Она и сейчас-то не больно казиста. Из зимы вышла обшарпанная, будто ее черти драли. Штукатурка серыми блинами отваливается. Конечно, Ульяна сдерет отставшую штукатурку, облепит новой, побелит, и к майским дням хата будет как игрушка.
Да только к осени дожди ее опять так облупят, что и не узнать будет. И Ульяне снова придется гнуть спину, надрываться, чтобы в зиму хату пустить обмазанной и побеленной.
Старая хата, и говорить нечего, саман крошится уже, вываливается в углах. Давно ремонту требует, да Карпо с силами все никак не соберется: хату перестроить — много надо. Да и терпелось как-то: как у людей, так и у него, потому и не волновался очень.
А тут как стих какой на людей напал — почти все перестраиваются. На шлак мода пошла. Десятилетиями лежал он горами возле заводов, возле депо, где паровозы топки чистят, не знали, куда девать. А теперь тащат его и организации, и частники, машинами и тачками. Поговаривают, что «индивидуалам» скоро и давать не будут, закроют такую лавочку — только для строительных организаций. Вот дела!
Раздумывает Карпо, прикидывает.
Подогнал его случай. Завернул как-то на Карпову улицу один левак-самосвал со шлаком. Увидев Карпа, остановился:
— Шлак нужен, хозяин?
Вздрогнуло сердце у Карпа, забилось пойманным воробьем в груди: вот оно, само под ворота подъехало, не упустить бы. Но выдерживает, будто безразлично интересуется:
— А скольки ж?..
— Трояк. На поллитру.
— То дужа ты загнул, друг, — говорит Карпо.
— Ну, бутылка найдется?
— Можа, и найдется, — нехотя соглашается Карпо. — Заворачивай…
Шофер, обрадованный, быстро развернул самосвал, ссыпал шлак под самые ворота. Карпо принес из чулана зеленую бутылку с самогоном, сунул украдкой в кабину.
— Может, еще требуется, хозяин? — кивнул шофер на шлак.
— Да, пожалуй, ишо надо…
— Сколько? Один, два?
— Пожалуй, два.
— Завтра привезем. Готовь пятерку. — И укатил.
Еще пыль не осела, вышла Ульяна, увидела шлак, принялась ругать Карпа:
— Боже мой! С г... не расстанется! Куда тебе этот мусор? Опять что-то затевает!
— Не кричи, не кричи, — остановил ее Карпо. — А тебе ото не надоело постоянно мазать хату? Не надоело? Обшлакуем один раз — и на всю жизнь. Все равно ей надо ремонт давать, цегла уже ни к черту стала.
— Это ж на все лето грязь развезешь! — взялась за голову Ульяна.
— Ну а ты как думала? Тяп-ляп — и в дамки? Люди вон годами строятся… Да и делов тут совсем не на все лето. Шлаку завтра ишо привезет, если не обманет. Цементу достану — за месяц можно облицевать.
Шофер не обманул Карпа: сам приехал да еще товарища с собой приволок — два самосвала шлаку свалили.
Запасся шлаком, теперь — хочешь не хочешь — действуй дальше, ищи цемент. И Карпо ищет, спрашивает, где можно разжиться. А сам время даром не теряет — постепенно подготовительные работы ведет. Откуда-то железный ящик приволок — шлаковую смесь в нем будет делать. Из досок вокруг дома «хомут» соорудил. Подготовил все, можно бы и шлаковать — за цементом остановка: не достать его — время горячее, потребность в нем большая. В одном месте надыбал — дорого, не стал брать.
Выручил опять лихой самосвальщик. Не тот, что со шлаком, другой. Мчится по улице, из кузова серые лепешки на дорогу шмякают — раствор везет. Остановился возле Карпового шлака (знает, что хозяину нужно), крикнул:
— Эй, дядя! Че шлак без дела лежит? Бери раствор, меси. Смотри, готовенький, как сметана.
Оробел Карпо. Шлак купить — одно дело, он даровой, за привоз заплатил — тут ничего преступного нет. А бетонный раствор — кто его знает, как оно дело обернется.
— Ну, чего раздумываешь, дядя? Бери, если нужно, не тяни. Номерной бетон. Таким облицуешь хату — атомной пушкой не пробьешь.
— «Бери»! А може, вслед за тобой в красной фуражке на мотоцикле примчится? Тогда што?
— Да ты что, дядя! Что ж, я его украл, думаешь? На стройку привез, а там рабочий день кончился, не принимают. Вези, говорят, обратно. Сваливать нельзя, до утра застынет — отбойным молотком не вковырнешь. Обратно везти — на бетонном заводе он тоже не нужен, да там уже и смена кончилась. Одна дорога — в провалье. Понял? Вот и поехал по улицам — может, кому требуется. Жалко добро — раствор хороший. Да ты что, не веришь? Ты пойди в провалье, посмотри, сколько там бетона. Первый раз, что ли, такая история…
Успокоился Карпо, дал себя уговорить, поверил парню. Парень-то моложавенький, глазки голубенькие, говорит застенчиво, будто Карпо его обидел. Видно, что не врет. Если так, можно и взять раствор.
— Скольки?
— Ну, сколько! На поллитру… — сказал несмело парень.
— Одна цена у всех и за все.
— Я, что ли, устанавливал?..
Подрулил шофер самосвал, опрокинул кузов над железным ящиком — залил его весь. Расплылся бетон вокруг серым озером.
— Используйте сегодня, не оставляйте — к утру застынет, — предупредил шофер.
— Если ишо такой случай будет, так ты того, в провалье не вози! — крикнул ему Карпо.
— Ладно.
Лиха беда начало, а потом пойдет. Откуда что берется. Искал цемент — не нашел, а он вот сам во двор приехал. Готовенький. На ловца и зверь бежит.
Вооружилась лопатами вся семья. Марью в этот вечер не пустили на улицу — тоже месила шлак с бетоном, носила ведром смесь Карпу. Никита помогал — в ведра лопатой накладывал. До поздней ночи возились — очень много оказалось раствору. Ульяна ругать начала мужа:
— Изгаляешься над людьми, уже ни рук, ни ног не чую, спинушка разваливается.
— Ишо трошки, — уговаривал ее Карпо. — Нельзя ж оставлять, «замерзнет» — и пропадет добро. Завтра отдохнете.
Хорошо еще, что ночь выдалась лунная, светлая, а то совсем бы плохо пришлось. Носят женщины ведрами раствор, а Карпо высыпает его за доски и трамбует, трамбует чурбаком. Часам к двум ночи только кончили они работу, залили шлаковой смесью первый круг, сровняли с краями досок. Распрямился Карпо — затрещала спина. Сказал облегченно:
— Ну, вот и все! Пущай сохнет. Идите, отдыхайте.
— А там еще раствор остался, — сказала Ульяна.
— Ладно, определю куда-нибудь. Идите, шабаш.
Давно ушли все, улеглись и свет погасили, а Карпо все еще работал, подбирал остатки уже порядком загустевшего раствора, носил во двор — мостил бетонную дорожку от порога к калитке. Не пропадать же добру, да и грязь не будет на ногах в хату тащиться.
Уже небо на востоке посерело и звезды на небе погасли, когда Карпо дотащился до кушетки и упал на нее, не раздеваясь. Спал не спал, прокинулся: на работу пора. Вышел, ступил на бетонную дорожку — не проваливается, хотя и чувствуется: сырая еще. Обошел вокруг хаты, осмотрел ночную работу, остался доволен.
Ульяна завтрак уже приготовила. Ставя перед ним тарелку, пожаловалась:
— Еле поднялась, все косточки болят.
— Ниче, отдохнешь. Зато дело какое сделали. Вроде ничего получается, а?
— Ничего, я уже смотрела.
Слой за слоем постепенно поднималась шлакобетонная облицовка. Только к середине лета подобрался Карпо под кровлю. Подобрался, думал, конец скоро. Но тут, к ужасу своему, обнаружил, что поторопился, не рассчитал. Надо было облицовку тоньше делать, а он пожадничал, потолще запустил — крепче, мол, будет. И вышло, что стены теперь получились шире крыши. Вода будет стекать в стену. Да и некрасиво. Отошел на противоположную сторону улицы, смотрит на свою хату: не то — будто на толстомордого мужика детскую пилотку надели.
Подошла Ульяна, тоже взглянула на хату со стороны и принялась ругать Карпа: и «черт безрукий», и «окаянный», и «не умеешь — не берись», и «сколько тебе говорила: семь раз отмерь, а потом режь». Чего только не услышал Карпо от нее, но в ответ ни слова не говорит: виноват. Чешет затылок, соображает.
— Ну, теперь что? — не отстает Ульяна. — Крышу пересыпать? И пальцем не притронусь, сам делай, раз до этого глаза твои были в заднице.
— Ладно, не ругайся. Что-нибудь придумаем.
— Придумаешь! — и пошла, недовольная, в дом.
А Карпо взял да и придумал.
Он снял с крыши с каждой стороны по четыре ряда черепицы, сорвал латы и как бы удлинил каждую крокву — прибил бруски с напуском над стеной. Снова положил латы и покрыл черепицей. Крыша, правда, получилась как бы вогнутой, хата словно крылышки чуть приподняла, но зато сток теперь нормальный, стены в непогоду замокать не будут.
— Уля, иди погляди, — позвал он жену, уверенный, что она одобрит его смекалку и работу.
Вышла Ульяна, встала на противоположной стороне улицы, долго смотрела молча, качала головой.
— Ну что? — не выдержал Карпо.
— Забыла, как называется… У Микиты в книжке китайская хата нарисована…
— Фанза? Был в Китае в войну, видел, ну и что?
— Какая там хванза. Богода?..
— Пагода, — подсказал Карпо.
— Во-во. Так вот это ты сделал.
— Придумала, — обиделся Карпо. — И совсем непохожа. А потом, красота нам нужна, чи шо? Было б крепко да тепло.
Однако критика жены задела Карпа, и вскоре он снова снял черепицу с крыши с той стороны, что выходит во двор. Удлинил еще метра на два навес — большой такой козырек получился. Снизу столбами его подпер. Пространство между столбами до половины кирпичом заложил, а верхнюю часть застеклил. Получилась веранда.
Веранду эту Карпо стеклил, уже когда белые мухи полетели. А красил только на следующее лето.
Так Карпо неожиданно в поселке обогнал многих и многих. Редко у кого веранду встретишь, а у Карпа есть. Теперь летом семье Карповой благодать: обедают и ужинают они на веранде — светло и прохладно, прямо как на даче.
На этом шлакобетонная история закончилась. Но она не последняя из строительных историй, у Карпа их было много. Можно было бы рассказать еще, как Карпо выкопал у себя в саду колодец и внутренность его облицевал цементными кольцами, которые частью сделал сам, а частью привез из оставшихся на работе. Делали под железнодорожной насыпью водоспуск — трубу из бетонно-асбестовых колец. Когда сделали, кольца остались. Какие с щербатинками, какие с трещинами. Брак, одним словом. Карпо их прибрал и определил в дело.
Можно было бы подробно рассказать о колодце, но это только удлинило бы нашу повесть. Да к тому же колодезная история у Карпа закончилась неудачей. У нас в поселке с водой плохо, во всех колодцах она жесткая, невкусная, для варева и стирки не годится. Носят воду бабы издалека — из школы, что стоит на выгоне. Там колодец глубокий, бросишь, бывало, камешек, и пройдет много времени, пока услышишь всплеск. Вот и задумал Карпо выкопать у себя такой же. Копал, копал, воду достал, но она оказалась, как и везде, плохой…
Так что эту историю можно и опустить. Тем более что нас ждет еще другая сторона Карповой жизни.
Дело в том, что Карпо всегда держал в своем хозяйстве какую-нибудь живность: кур, корову, поросенка. Коз держал. С козами он связался, когда с коровой стало невмоготу: корм добывать стало трудно. Карпо ликвидировал корову и завел козу. Эта скотина неприхотливая, корму ей надо мало, а молока хоть немного, но дает, есть чем забелить борщ, есть чем помаслить кашу.
Кстати, в козьем деле Карпо был новатором. Потом уже и другие переняли его опыт. И переняли так, что коз на нашей улице в короткое время развелось немыслимое количество и некогда зеленая окраинная улица наша быстро превратилась в пустыню. Вся растительность в палисадниках — желтая акация, жасмин, сирень и прочее, — все было съедено начисто. Листья на деревьях остались — рукой не достать: ниже козы все ощипали, обглодали. Зато имена им давали ласковые, девичьи. Вечером, бывало, только и слышишь: «Майя, Майя!..», «Клара, Клара!..», «Феня, Феня!..» Даже Анжелика одна была — длинноногая, стройная, гордая и кокетливая. Масти она была неопределенной, вдоль белой мордашки проходила темная полоса, расходящаяся к рогам. Ресницы длинные, черные. Красавица, словом. Помнится, хозяин из-за красоты и держал ее, потому что другого проку от нее никакого, молока — как от козла.
Но козы у нас царствовали недолго, их почему-то быстро вывели. Может быть, виной тому были их прожорливость и всеядность — не знаю. А только козья эпоха вспыхнула яркой кометой на нашем небосклоне, пролетела и погасла. Лишь хвост от нее, как и положено от кометы, долго еще таял — это были козы Карпа. Он дольше всех держался за своих. Но все же в конце концов и он не выдержал напора жизни, свел их на нет.
Теперь об этих животных напоминает лишь оставшееся с тех времен прозвище нашей улицы — Козлиная.
В чем Карпо был стоек и непреклонен и в чем он не отступил ни на один шаг за всю свою жизнь — так это в свиноводстве. Свиней Карпо держал всегда, при любых обстоятельствах. Без поросенка ему что без жены: и холодно и голодно.
ЭПОПЕЯ СВИНАЯ
ПОДПОЛЬНЫЙ ПОРОСЕНОК № 1
До войны дело было…
Рвется с цепи Буян, захлебывается собственной злостью — не может достать до врага. А враг, видать, лютый, ненавистный, порвись сейчас цепь — остались бы от него одни клочья: Буян расшматовал бы его, вот как эту палку, хряп, хряп, только щепки летят во все стороны. Нёбо занозилось, боль нестерпимая, отплевывается в хрипе Буян и еще больше свирепеет.
Вышла на шум Ульяна, увидела — маячит за забором голова чья-то, мужская, незнакомая. Говорит что-то, за собакой не разобрать что. Прикрикнула на Буяна — замолчал.
— Загородились, как в крепости, — ворчал гость. — Хозяин дома?
— Дома, — сказала Ульяна, силясь узнать, кто бы это мог быть и зачем.
— Войти можно?
— Можно. Отчего ж нельзя, — отодвинула засов, откинула крючок, впустила во двор незнакомца. Увидела — с портфелем, начальство, значит, какое-то. И тут же испугалась: зачем? Повела в дом.
Карпо прихворнул немного, лежал. А тут поднялся, стоял, терпеливо ждал, пока пришедший отстегивал блестящий замок потертого портфеля и вытаскивал толстую прошнурованную книгу.
— Поросят держим?
Карпо не сразу ответил, будто не понял вопроса, лихорадочно соображал, что бы это значило и что на это отвечать. Ничего не придумал, сказал невнятно:
— Как все… А шо?
— Сейчас есть?
— Да… есть…
— Много?
— Хм… «Много»! Один.
Гость раскрыл книгу, поставил перед собой чернильницу-невыливайку, макнул в нее несколько раз школьную ручку с пером «рондо», навострил его на пустую строчку. И только теперь счел нужным представиться:
— Я из поссовета. Уполномоченный по переписи домашних животных. А точнее — свиней. Попрошу: фамилия, имя, отчество?
— Мое? — спросил Карпо. Он еще не мог взять в толк, что это за перепись такая, и потому не спешил с ответами.
— Конечно, ваша. Поросенка, что ли?
— Мое — Карпо Гурин. По отчеству Романович… — Карпо заглядывал через плечо писаря в книгу — прочитать хотел, кто там записан перед ним, — тогда он, может, хоть что-нибудь бы сообразил насчет этой писанины. Но книга была открыта на новой странице…
— Гурин… Карп… Романович… — бормотал уполномоченный, записывая. — Так, Карп Романович.
— Не Карп, а Карпо. Карп — то рыба есть такая, а я Карпо, — поправил он писаря.
— Правильно Карп, — уверенно и безразлично проговорил уполномоченный.
— Пиши, как знаешь, — Карпо отвернулся. — Хоть горшком зови, абы в печь не сажали. А только у меня и в пачпорте написано: «Карпо».
— Ладно. Это неважно. Так, значит, один?
— Один. Сказал же. — Карпо окончательно обиделся на этого представителя поссовета, не понравился он ему: строит из себя начальство, с портфелем ходит, а толком ничего не объяснит, что к чему. И водочкой попахивает — кто-то, наверное, уже угостил. «Можа, и мне предложить ему? На всякий случай. Все добрее будет, — соображал Карпо. — Только как к нему подступиться с этим делом? Не сплоховать бы, сурьезный дужа…»
Выручила Ульяна. Словно подслушала мысли мужа, она подошла и запросто сказала:
— Мы ишо не обедали. Дак, можа, пообедаем, а потом уже и балакать будете? Наверное, цельный день ходите, проголодались?..
— А и то!.. Давайте? — обрадовался Карпо.
Не поднимая головы, уполномоченный проговорил:
— Спасибо, не голоден.
— Вольному воля, — сказала Ульяна. Карпо скосил на нее глаза, успокоил: «Ладно, мол, пусть…»
— Значит, один? — переспросил писарь.
— Один, сказал же. Врать буду, что ли, — Карпо окончательно обиделся на уполномоченного и решил держать себя независимо: «Видали мы таких, бояться мне нечего, что я — украл того поросенка?» Осмелел, спросил: — А для чего все это?
Уполномоченный не ответил, спрашивал свое:
— Возраст?
— Возраст?.. С одна тысяча восемьсот девяносто шестого… Значит, это будет…
— Что «с одна тыща восемьсот девяносто шестого»? — поднял голову писарь.
— Что «что»? — Карпо сердился. — Ульян, достань мой пачпорт, он, кажись, в угольнике лежит. Пущай посмотрит.
— Я спрашиваю: возраст поросенка?
— Так бы и говорил, а то… — ворчал Карпо, а сам соображал, что сказать. И смекнул — не говорить правду, на всякий случай занизить возраст поросенка: с малого и спрос малый. И скостил три месяца: — Да скольки ему? — оглянулся на жену. — С месяц ему, наверное, не боле… А можа, и меньше. На базаре покупал, при рождении не присутствовал. Как сказали мне, так и я считаю. Пиши — месяц.
— Только без вранья.
— А че мне брехать! Как мне сбрехали, так и я брешу. А если ты такой неверующий и дужа большой специалист, то пойди сам и погляди, можа, узнаешь. Вон он, в сарае. А можа, он тебе и сам скажет, когда у него день рождения.
— Ладно, не грубите.
— А я и не грублю. Спросил — ответил.
— Пол?
— Че пол? У поросенка, что ли? Деревянный, конечно. Это только дурак цементный делает. Чистить, конечно, его лучше, а для здоровья он хуже. Поросенок живо простудится на таком полу.
Писарь поморщился, пояснил:
— Свинка или кабанчик?
— А-а-а… Кабанчик. Для чего все это? — опять спросил Карпо, кивнув на писанину.
— Все объясню, — уполномоченный поставил в последней клеточке птичку, двинул книгу на край стола: — Распишитесь.
Карпо дерябнул пером, чернила мелкими брызгами разлетелись вокруг подписи. Писарь выхватил у Карпа ручку, посмотрел на свет перо, покрутил головой и принялся править раздвоенный кончик его об угол стола. Поправил, успокоился.
— А теперь слушайте внимательно, — сказал он, пряча книгу в портфель. — Вышло постановление, запрещающее палить свиней. Шкуру надо сдирать и сдавать государству. За определенную плату, конечно. Слышали о таком постановлении?
— Да штось слыхал краем уха, да думал — брешуть, языки чешуть.
— Нет, не врут. Правда.
— Дак а что ж оно?..
— Что? Государству нужна кожа — на сапоги, на разные изделия, — пояснил писарь.
— Да что ж там моя шкура помогнеть?
— Поможет! Только на вашей улице больше сотни свиней. Ну?
— А че ж кобеля не записываешь?
— Какого кобеля?
— Ну, вон который гавкаеть…
— При чем тут кобель? — поднял строгие глаза уполномоченный.
— Ну как же? Тоже шкура. И шерсть. Доху можно исшить.
— Вы, знаете, бросьте такие шуточки! — прикрикнул уполномоченный. — Я вас всерьез предупредил, имейте в виду.
— Во! А я и не шуткую.
Карпо почесал за ухом, задумался.
— Дак, а что ж оно?.. Какое ж оно сало будет, если поросенка не смолить? Вкусу никакого… Испокон веку смолили…
— Сало есть сало. Такое и будет, только без шкурки.
— Не скажите, — вмешалась в разговор Ульяна. — Несмоленый поросенок — то уже не сало.
— Просто привычка, — стоял на своем писарь. — В Китае вон удавов едят…
— А можа, где-то и людей едять, так что? Мы ж не китайцы, — сказал Карпо.
— Ладно. Мое дело предупредить. Роспись ваша есть, — хлопнул он по портфелю. Уже в дверях поинтересовался: — Кстати, когда резать собираетесь?
— Когда! Когда вырастет. — Карпу вопрос не понравился, он думал, что писарь это уже от себя интересуется, а вовсе не для дела.
— А все-таки?
— Ну, к рожжеству… — И тут же добавил: — А можа, и к пасхе. Как покажет. Это дело такое, тут загадывать заранее нельзя. Чи на свежатину хочешь прийти? Дак приходи…
Зарезал Карпо поросенка все-таки к рождеству.
Помню, беспокойство, суматоха, подготовка к чему-то важному и тайному в Карповом доме передались и в наш. Несколько раз прибегала Ульяна, шепталась о чем-то с матерью и уходила, прихватив с собой какую-нибудь посудину. Под конец дня прибежал Никита, попросил у матери кухонный нож, унес. «Папка наточит», — сказал он, уходя, и горделиво зыркнул на меня своими припухшими глазами. Я понял — Никита в каком-то сговоре со взрослыми, и это его распирает: ему хочется и тайну сохранить и похвастаться. Через полчаса он снова примчался. Как и в первый раз, не замечая меня, обратился к матери:
— Теть, топорик дайте. Ваш, маленький.
— Так он же скидается с ручки.
— Папка клин забьет.
— Вась, найди топор, — сказала мне мать.
Я принес из чулана топор, отдал Никите и выскочил вслед за ним в сенцы.
— Че там у вас? Чего ты ножики, топоры собираешь?
— Ниче… Просто папка точит… и говорит: давай и им… вам… поточим… — Никита отвел глаза в сторону и убежал.
Спросил у матери, в чем дело, она тоже стала заикаться и, как и Никита, бормотать невнятное:
— Да… Как-то давно уже, в разговоре, попросила дядю Карпа, крестного твоего, поточить ножик… Ну, вот он и вспомнил… — И отвернулась — мол, не стоит и говорить об этом.
— А топор?
— А что топор? И топор… Был бы отец — так кто б лез в глаза к чужим людям? У отца руки были золотые, все умел делать. И по жестяному делу был мастер: чи дно в ведерко вставить, чи ушко к нему приклепать, чи прохудившуюся кастрюлю запаять — все умел. Вот часы сам починил, — кивнула она на ходики с вращающимися кошачьими глазами.
Отец — любимая материна тема, она может говорить о нем без конца, при этом будет и смеяться, и плакать — смотря что вспомнит. Но сейчас она завела речь о нем для отвода глаз, зубы заговаривает, это я понял сразу. Потянул пальто с гвоздя, стал одеваться.
— Куда?
— Ножик принесу. Теперь крестный уже, наверное, поточил его.
— На кой он тебе сдался, тот ножик? Не ходи! Сами принесут! — Мать рассердилась на меня, не пускала. Но я не послушался, побежал.
У Карпа из летней кухни, которая зимой превращалась им в слесарно-плотницкую мастерскую, доносился скрежет. Я открыл дверь и увидел крестного, тетку Ульяну и Никиту. Тетка крутила железный вороток каменного точила, а крестный прижимал к нему лезвие топора. Никита сидел поодаль на корточках. Видать, точило крутили они с матерью попеременно. Сейчас он отдыхал — красный и запыхавшийся.
Когда я открыл дверь, они все трое вздрогнули и прекратили работу. Увидев меня, Карпо сердито пнул ногой тяжелый короб точила с водой, выругался.
— А чтоб тебя… это точило… Ты что, Василь?
— Да так. Поглядеть… — сказал я и присел на корточки.
Ульяна подхватила какую-то одежонку, валявшуюся на полу, бросила на кучу железных прутьев и остро отточенных ножей разного калибра, которые я увидел, как только вошел. Особенно поразил меня один — длинный, узкий, с острым концом и обоюдоострый. Одежонка не накрыла его весь, из-под нее виднелся конец коричневой ручки ножа с мягкими выемками для пальцев. Мои глаза словно приросли к этой ручке. Я протянул руку и вытащил нож.
— Ого какой! А что им резать?
Увидев в моих руках нож, Карпо вскочил, выхватил его, отпихнул меня к двери.
— Обрежешься… Рази можно так? Микита, ну что вы сидите тут как старики, пошли б покатались куда, чи шо. Все ребята на ставке́, а вы…
Никита встал, прошел мимо меня, буркнул:
— Пойдем.
Однако на улице он сказал, что ему неохота идти на ставок, и вернулся домой. Я хотел было идти вслед за ним, но постеснялся: так явно выпроводили, да к тому же и Карпо почему-то рассердился… Не надо мне было нож трогать… Но каков нож! От одного вида мурашки по спине забегали. А когда взялся за ручку — даже сердце захолонуло.
Нет, у Карпа явно что-то затевалось.
Вечером мать засобиралась к Ульяне.
— А вы закройтесь и спите, не ждите меня, я не скоро приду.
«Закройтесь» — это касалось главным образом меня, потому что младшие давно уже спали.
— А что ты там будешь делать?
— Да ничего, — сказала мать, — посидим с теткой Ульяной, побалакаем.
— И я с тобой.
— Во! — удивилась она. — С каких это пор ты за материну юбку стал держаться? Интересно тебе бабьи разговоры слухать?
— Я боюсь один ночью в хате… Те спят вон уже без задних ног…
— Никогда не боялся, а тут забоялся? Не выдумывай. Кого бояться? Волков у нас нема, а воры к нам не полезут — красть нечего.
Но я настаивал, и тогда мать, рассердившись, сказала:
— Ну что ты там не видел? Поросенка будут резать, просили помочь кишки разобрать. А ты? Мешать только будешь.
— Обманываешь, — не поверил я. — Почему ж они ночью будут резать? В прошлом году днем резали, на огороде палили.
— То в прошлом. А теперь запретили смолить свиней — шкуру сдирать надо и государству сдавать. Кожа нужна. А Карпо не хочет сдирать — сало будет невкусное без шкурки. Потому и скрытничают. Ну? До всего допытался. Успокоился? Ложись. Да помалкивай случаем чего. Кто будет спрашивать — ничего, мол, не знаю. Не видел, не слышал. Ложись.
«Шкурка», «сало…» Что-то мать темнит, не верится. Как режут свиней, знаю, в прошлом году Карпо такого кабана завалил — как гора лежал на огороде, никакой шкуры не сдирал. А хоть и сдирать шкуру — все равно ведь любопытное зрелище! Как можно упустить такое и не посмотреть!
Но я напрасно стремился, на этот раз никакого зрелища я не увидел.
Когда мы пришли, Карпо даже не обратил на нас внимания — так он был чем-то взволнован. Он постоянно покрикивал то на Ульяну, то на свояченицу Марью, то на Никиту. Все ему казалось, что они что-то не так делают: не туда положили, не то приготовили.
— Антрациту поболя в плитку надо накласть, чтобы жару было как следовает, — ворчал он.
— Куда уж жарче, — кивала Ульяна на плиту, раскаленную добела. Однако подходила, открывала огненную пасть плиты и бросала в нее сверкающие куски антрацита.
На низенькой скамеечке сидел и молча курил Ульянин брат — кум Авдей. Его, как и мою мать, тоже пригласили помочь управиться с поросенком.
Чтобы не попасться Карпу под руку, я примостился на корточках у стенки и ждал начала.
Наконец Карпо вышел последний раз во двор, выглянул за ворота, посмотрел в одну, в другую сторону, возвратился в дом.
— Ну что, начнем с богом?..
— Да можно, — согласился Авдей и принялся гасить цигарку.
Карпо вытащил из-под кровати целое беремя железных прутьев, стал их по одному впихивать в огненное пекло плиты. К двум прутьям были приварены квадратные железные бруски величиной с папиросный коробок. Я сначала подумал, что это лопаточки, а потом рассмотрел и очень удивился таким штукам. Для чего они, я не знал. Запихав все это в плиту, Карпо сунул один нож за голенище, другой — длинный и острый, похожий на перо, — понес в руках.
— Пошли, — кивнул он Авдею.
Как по команде, мы с Никитой бросились вслед за ними. Но Карпо нас не пустил:
— Куда? Оставайтесь в хате, там и так тесно. Вырвется кабан из-под ножика — насмерть покалечить может.
Мы скисли. Никита посмотрел на меня недружелюбно: он был уверен, что не пустили из-за меня.
Вскоре раздался короткий поросячий визг. И будто это был сигнал — в комнате все пришло в движение. Первой засуетилась Ульяна, за ней остальные — мать, Марья. Загремела посуда, заплескалась вода.
Пришел Авдей, вытащил из плиты два прута, понес в сарай. Незаметно по одному просочились туда и мы с Никитой.
В сарае под потолком висел железнодорожный фонарь и тускло освещал двух мужиков и убитого ими кабана. Карпо и Авдей елозили раскаленными прутьями по коже кабана, щетина искрилась, трещала и едко дымила.
— Паяльной лампой скорей бы дело было, — заметил Авдей.
— Можа, и скорее, только сало ты есть не стал бы: керосином отбивает, — уверенно возразил Карпо и отдал ему свой прут: — На, неси, давай другие.
Авдей ушел, а Карпо выхватил из-за голенища нож и принялся им скрести опаленные места, приговаривая:
— Так, тут хорошо!.. А тут вот еще сыровато, — хлопал он ладонью по туше. — Утюжком пригладить надо. Микита, сбегай, скажи дяде Авдею — пущай утюжок прихватит.
— Какой утюжок?
— Ну какой? Он знает. А ты, Василь, за ворота выглянь.
Мы побежали. На улице было тихо, морозно. Одинокий месяц плыл в вышине, снег искрился и скрипел под ногами. Не успел я выглянуть за калитку, как вслед за мной вышел сам крестный. Постоял за воротами, озираясь, вернулся во двор.
— Иди в хату, не маячь тут, — сказал он мне.
Но я в хату не пошел, а завернул снова в сарай. Авдей принес прут и «утюжок». «Утюжком» оказалась та самая железина, которая похожа на лопаточку. Карпо гладил кабаний бок «утюжком», дым и пар с шипением вырывались из-под него, ели глаза.
Долго мы с Никитой не могли выдержать такой чад и вернулись в комнату. Я, наверное, здорово угорел, потому что вскоре меня стало клонить в сон. Как потрошили кабана, как разделывали сало, как начиняли колбасы — ничего этого я не видел.
Разбудили меня только утром. Будил сам крестный:
— Эй, помощник, вставай свежатину есть.
Я продрал глаза. Все уже сидели за столом и мирно беседовали. Ульяна разливала в стаканы водку. Никаких следов от ночной работы не осталось: все помыто, прибрано. Только вкусный запах свежей свинины щекотал ноздри.
В полдень, как знал, к Карпу заявился уполномоченный.
— Зарезали? — спросил он.
— Да ну где там!.. — отмахнулся Карпо и состроил на лице скорбную гримасу. — Попался какой-то невковырный: не растет — хоть ты убей. Думаем до пасхи подержать. — И повел представителя власти в сарай. Там в закутке похрюкивал полугодовалый поросенок. Откуда он взялся — я понятия не имел. Как в сказке — превращение какое-то. Уполномоченный удивленно посмотрел на Карпа:
— Не больной?
— Да нет вроде, а вот не растет. Попадется ж такой…
Недоумевая, писарь вышел из сарая, предупредил на всякий случай:
— Шкуру ж не забудьте снять.
— Помню, как же!.. — заверил его Карпо, провожая за ворота.
Но и с этого поросенка шкуру Карпо не снял. Перед самой пасхой он притащил с совхозной фермы дохлого кабанчика — купил у сторожа за гроши, будто на корм собаке, и показал ветеринару. Тот осмотрел труп и выдал справку. Карпо закопал дохлого кабана, а своего живого зарезал и осмолил.
И вообще, сколько я знаю, Карпо ни одной шкуры государству так и не сдал, всякий раз находил способ обойти неудобный для него закон.
ПОДПОЛЬНЫЙ ПОРОСЕНОК № 2
Второй раз Карпо вступил в конфликт с государством на почве поросячьих дел уже лет через пятнадцать после войны. Это в то время, когда в поселках городского типа запретили рабочим держать домашний скот. Под строгий запрет подпадал и Карпов поросенок — он был приговорен к смертной казни, как не имеющий права проживать в городской местности. Лишился он этого права, потому что отрицательно влиял на Карпа — культивировал в нем психологию частника.
А Карпо свою жизнь без поросенка не мыслил. Хотя и получал он зарплату и дети уже выросли, работали, но появились внуки — целая артель. И не представляли себе Карпо с Ульяной, чем бы они кормили всю эту ораву, если бы не своя свинина — сало да мясо.
И вдруг такое постановление.
Долго кряхтел Карпо, чесал затылок — думал, как быть. Без поросенка ему никак нельзя. И тогда за садом соорудил он свинюшник, прикрыл его разным хламом — ветками, бревнами, и ночью скрытно перенес туда поросенка. А в старом закутке в сарае сложил топливо.
Когда пришел уполномоченный из поселкового Совета, Карпо показал ему пустой сарай.
— Нема. Давно не держу. Ишо того не съели. Думал купить, но раз такое дело — остепенился.
— Но вы понимаете, чем вызвано такое мероприятие? — осведомился уполномоченный.
— Ну как же! — сказал Карпо. — Для облегчения. То чертуешься с этой скотиной — ни дня, ни ночи не видишь. А так пришел с работы и отдыхай культурно: чи газетку почитай, чи в клуб иди…
— Да, да, — подтвердила Ульяна. — Это ж стыдно сказать, перед внуками стыдно: ни одного кина после войны не видела.
— Не только поэтому, — сказал уполномоченный. — Хлеба много травят скоту.
— Да, можа, ваша и правда, — согласился неуверенно Карпо.
— Брехня, — решительно сказал Ульяна.
— Да, конечно, брехня, — поддержал жену Карпо.
— Как «брехня»? А чем же вы кормили свиней?
— Пойлом, картошкой, кукурузой с огорода. Ну, не без того — подправишь когда и хлебом.
— Ну вот видите? А говорите! — обрадовался уполномоченный.
— Кто б его кормил хлебом, если бы был комбикорм, — отмахнулся Карпо. — Ладно, нехай будет по-вашему.
От Карпа уполномоченный направился к соседу через дорогу — многодетному мужику Неботову. Тот всегда держал корову и поросенка. Но и оттуда уполномоченный вышел ни с чем. Провожая его, Неботов говорил:
— Нема, ниче нема. Все ликвидировал.
Проводил, подошел к Карпу, подал дрожащую руку — волновался Неботов.
— Пронесло, — сказал он, — а надолго ли? Ну, до зимы прокантуюсь как-то: сейчас угнал Семка корову в лес, а зимой?
— До зимы, можа, ишо десять раз перемелется. Это тут что-нибудь не так, ошибка какаясь вышла. Как же жить без поросенка? Да ишо с семьей?
— Хоть бы твои слова, так бы сказать, сбылись. А ты как с поросенком?
— Да как? Ликвидировал, — сказал Карпо и ушел.
Ульяне после этого забот прибавилось — тайком таскает еду поросенку, кормит его чаще обычного, чтобы голос не подавал.
Прошла неделя, и успокоилась Ульяна, ослабила бдительность. Как-то заболталась с бабами, не накормила вовремя прожору. А тут, как на грех, увидела — идет по улице тот самый уполномоченный. «Никак перепроверку делает?..» Метнулась во двор, прислушалась: подпольщик повизгивает, есть просит. Сунула руку в варево — горячо, нельзя давать, все нутро обожжет себе поросенок. Успокоить надо. Как? Металась, металась, увидела — на гвозде в сарае с военных времен маска резиновая от противогаза висит, схватила, помчалась в подпольный свинюшник. Поросенка меж ног защемила, натянула ему на голову пыльную очкастую резину. Отпустила — мечется поросенок, хрипит, но тихо, почти не слышно. Вышла и идет но огороду как ни в чем не бывало. Довольна своей находчивостью. Будто по делу нагнется к грядке, а сама прислушивается — не визжит ли. Нет, молчит. Выглянула за ворота — прошел мимо уполномоченный, в конец улицы к кому-то подался.
«Ну и слава богу, — думает Ульяна, — пронесло». И не торопится к поросенку: молчит и молчит. Принялась еду его студить: переливает из чугуна в ведерко, мнет рукой вареную картошку. Приготовила не спеша, понесла. Открыла дверцу, посмеялась над поросенком:
— Ну что, осохимовец? Лежишь?
«Осохимовец» не шевельнулся. Ульяна в испуге сдернула с него маску, подняла на руки еще теплое тельце, принялась тетешкать его как ребенка. Разняла пасть, в рот ему стала дуть — ничего не помогает. Принесла в хату, из бутылки молока в глотку налила — пыталась оживить. И когда убедилась, что поросенка не воскресить, заплакала, запричитала, как над покойником.
Пришел вечером Карпо с работы, узнал о беде, рассердился на жену. Обругал скверными словами, а потом хлобыстнул ее резиновой маской. Молчит Ульяна — чувствует свою вину, глаза только закрыла, чтобы не выхлестал. А Карпо не успокаивается, ярится, схватил поросенка за задние ноги, замахнулся, но не ударил, сдержался. Взял лопату, пошел в концы огородов закапывать.
В воскресенье Карпо поехал в город на базар и купил там другого поросенка. Дотемна в посадке сидел с ним, кормил, за ухом чесал, а когда стемнело, незаметно огородами пробрался к потайному свинюшнику и пустил туда притомившегося за день кабанчика.
— Иди, гуляй, да сало потолще нагуливай. Можа, ты будешь удачливей… — И, перекрестив его, закрыл тайник.
Карпу без поросенка никак нельзя.
ЛЕГАЛЬНЫЙ КАБАН
Карпо оказался прав: вскоре все переменилось, и он перевел подпольного поросенка на полноправное жительство в сарай. Перевел открыто, гордо, даже будто с вызовом кому-то: вот, мол, говорил вам — и вышло по-моему… И вырос этот поросенок на удивление удачливым. Право, не знаю, что тут сыграло большую роль — то ли легальное положение и наступившее вольготное поросячье житье, то ли сытые харчи, то ли особый хозяйский догляд, а только вымахал этот кабан небывалых размеров.
К тому времени я уже не жил в поселке и бывал там лишь в редкие свои наезды. Один из них и пришелся как раз на последние дни жизни этого кабана. Поэтому знаю о нем не из чьих-то рассказов, не понаслышке, а сам все видел.
Карпов дом в тот день походил на муравейник. Приехал Никита с женой и детьми. Он жил и работал на руднике. Жена его, простая, спокойная, безо всяких претензий женщина, вела себя у свекрови как дома: знала, «за что хвататься», то есть знала, что делать, называла Ульяну мамой, а Карпа папой, и, видать, старикам она очень нравилась.
Пришла свояченица Марья с сыном. Она давно уже замужем и живет отдельной семьей. Муж у нее поездной мастер, хотел по такому случаю отпроситься со службы, но, наверное, не удалось; ушел утром на работу и не вернулся. Так Марья толком и не знает — придет ли. Может, только вечером, к свежатине, поспеет.
По такому случаю были дома и младшие Карповы дети — Глаша и Петро.
Одним словом, народу собралось много, но разговор идет редкий, необязательный. «Семь лет не виделись, а встретились — говорить не о чем». Однако не только в этом дело, все ждут, ждут того главного, ради чего пришли. А оно не начинается.
Карпо выбрит, в клетчатой синей рубахе сидит за столом торжествен и с виду спокоен. На самом деле он волнуется, поглядывает в окно, на часы: ждет ветеринара. Без ветеринарного осмотра резать поросенка нельзя.
Что Карпо нервничает — заметно всем: в разговоре он почти не участвует, если обращаются к нему, отвечает коротко, резко, с досадой.
От нечего делать я рассматриваю своих двоюродных, давно не видел. Сначала, при первом взгляде, они показались мне сильно изменившимися, даже неузнаваемыми. Но потом все постепенно проявилось, как на фотографической бумаге, все встало на свои места. Оказывается, все такие же, как и были в детстве. Припухшие глаза и щеткой торчащие волосы с левой стороны головы у Никиты, так же худощав и застенчиво-молчалив Петро. Петро — холостяк, недавно вернулся из армии. Неизвестно в кого — Петро сызмальства как не из Карповой семьи — белокур, синеглаз. Застенчивость его с возрастом не только не прошла, а, кажется, еще больше обострилась. Он и сейчас чувствует себя почему-то неловко, будто случайно попал на это собрание. Когда Ульяна мимоходом бросает: «Вот оженим Петра…» — он краснеет и молча отмахивается.
Такой же, какой была в детстве, осталась и Глаша, хотя она уже побывала замужем, развелась и теперь с дочкой живет опять у родителей. Верткая, маленькая, даже очень маленькая, или, как говорят у нас, «дробненькая», Глаша по-прежнему деятельна и жизнерадостна. И разговаривает Глаша так же, как в детстве: концы слов глотает, будто не хватает духу выговорить слово до конца.
Здорово изменилась лишь свояченица Марья. И то внешне: раздалась вширь и ввысь, дородная стала женщина. Но голос, манера говорить — все осталось прежним…
— Пришел, кажись, — говорит Карпо, услышав лай собаки.
С появлением ветеринара в доме все приходит в движение.
Быстро облачились в рабочую одежду и ушли в сарай Карпо и Никита. Только мы с Петром не знаем, что делать. На всякий случай одеваемся и тоже идем в сарай, присоединяемся к ребятишкам, которые толпятся в углу.
Уже сутки не кормленный — очищает «унутренности», — кабан думает, что ему принесли еду, встает, радостно похрюкивая. Задирает морду, осматривает пришедших, ждет нетерпеливо. И, ничего не получив, сердито ковыряет пустое корыто рылом, с грохотом отбрасывает его к противоположной стенке.
— Вася, Вася… — говорит ему ласково Карпо и чешет за ухом. Белая, холеная спина кабана горой возвышается над досками закутка. — Ну? — Карпо кивает ветеринару и показывает на дверцу. Но ветеринар не хочет лезть в закуток, боится испачкаться, отговаривается:
— Мне надо температуру измерить, выгоняйте сюда.
Карпу это не нравится.
— А там нельзя, чи шо?
Но делать нечего, приходится выгонять животину из закутка. Осмотрелся Карпо и сердито шуганул из сарая ребятишек. Хотел и нас с Петром прогнать, но сдержался. Открыв дверцу, стал выманивать кабана:
— Вася, Вася, иди сюда… Иди, дурачок…
Но Вася, видать, не дурачок, он словно почувствовал, в чем дело, улегся на солому и только отхрюкивался на зов хозяина.
Я хотел помочь, поднял палку, подал крестному.
— Ты шо! Он и так уже нервничаеть. — Карпо сердито забросил палку в угол и продолжал вызывать кабана разными ласковыми словами.
— Кто нервничает? — спросил я шепотом у Никиты.
— Да кабан. Разнервничается, кровью сало нальется — будет невкусное, — пояснил он.
Но, по-моему, кабан был абсолютно спокоен и не обращал внимания на людей. Тогда Карпо пошел на хитрость. Взял помойное ведро и погремел им. Кабан встрепенулся, захрюкал, вылез из закутка. Карпо и Никита придержали его, давая возможность ветеринару вставить термометр. Но ветеринар оплошал — термометр ткнулся в живое тело, кабан взвизгнул, крутнул мордой, и Карпо с Никитой, будто мячики, отлетели в разные стороны. Ветеринар поднял термометр, стал рассматривать его — не разбился ли. Увидев в руках ветеринара этот злополучный инструмент, Карпо выругался.
— Э, черт безрукий! Градусник встромить не может. А еще специалист. Че тут мерить, че тут мерить? Не видно, что ли, — здоровый кабан.
— Да ладно, па, не надо, — успокаивал его Никита.
Ветеринар виновато молчал, косясь на кабана сердито и укоризненно, словно на предателя. А тот, забившись в угол, поглядывал на мужиков, ожидая очередного нападения.
Нападение вскоре началось, и опять с ласки.
— Вася, Вася… — подходил к нему Карпо. Кабан недоверчиво похрюкивал, моргал редкими белесыми ресницами. — Вот уже вся кожа покраснела, — сокрушался Карпо и продолжал: — Вася, Вася…
Приблизясь к кабану, Карпо стал чесать ему за ушами и под шеей. Подошел Никита и тоже принялся почесывать, заслонив собой от глаз поросенка остальной мир.
— Ну?.. — кивнул Карпо ветеринару.
Тот на цыпочках бесшумно подобрался к кабану со стороны хвоста, изловчился и воткнул термометр. Животное даже не почувствовало и молча ожидало, что люди собираются с ним делать. А люди больше ничего не делали, они только чесали его да говорили приятные слова.
Карпо пристально следил, чтобы кабан не повернулся задом к стенке и не раздавил градусник.
Через положенное время ветеринар вытащил термометр, вытер ваткой, посмотрел на свет:
— Нормальная, — заключил он и достал из полевой сумки бланк справки. Черкнул в ней фамилию хозяина, отдал Карпу. — До свидания.
— До свидания, — буркнул Карпо и передал справку появившейся в дверях Ульяне. — Холера, а не ветинар. — Обратился к Никите: — Что делать будем?
— Я думаю, можно. Он уже успокоился, — сказал Никита.
— Не справиться нам удвох. Можа, соседа Неботова покликать?
Нас с Петром в расчет не принимали, — больше того, Карпо предупредил, чтобы мы не подходили близко: опасно. Особенно надо остерегаться задних ног кабана: может так ударить — не возрадуешься.
Неботов не заставил себя упрашивать. Тут же бросил все свои дела, схватил телогрейку, прибежал. Худенький, шустрый, он мигом определил обстановку, распорядился:
— Вожжи нужны… Или, на крайний случай, хотя бы веревку. Мы б его, так сказать, обротали за грудь и вывели б. А так не справиться. Вырвется: его ж ухватить не за что.
Веревка нашлась, и Неботов дважды обмотал ею кабана — один раз по груди, другой раз по шее, концы связал в узел. Кабан не сопротивлялся, словно покорился своей участи.
— Ну вот. А теперь можно спокойно выводить его во двор. — Неботов и Никита взялись за веревку с одной стороны, Карпо — с другой.
— Пойдем, Вася, пойдем. — Карпо легонько хлопнул кабана по широкому заду.
Кабан пошел, но в дверях, словно испугавшись снега и холода, вдруг рванулся назад. Однако мужики удержали его, а он завизжал пронзительно.
— Ну, ну, дурачок, — приговаривал Карпо, — пойдем, пойдем.
Нехотя, с трудом кабан переступил порожек, вышел во двор.
«Куда?» — спросил глазами Неботов.
— За сарай, там затишней, — шепнул Карпо, словно боялся, что кабан все поймет.
За сараем стояла приготовленная копешка свежей соломы и воткнутые в нее вилы-тройчатки. Кабан увидел солому, направился к ней. Но метра за два до нее его остановили и стали опять говорить ему разные ласковые слова, почесывать за ушами, под шеей. Кабан блаженно похрюкивал, сонно смежал белесые ресницы — был доволен. И вдруг в мгновение ока оказался опрокинутым на правый бок, взвыл испуганно, засучил неуклюже и беспомощно задними ногами.
— Не дави, не дави коленкой — кровоподтек будет на сале! — закричал Карпо на Никиту и, выхватив из голенища нож, всадил его кабану под левую ногу.
Лицо у Карпа исказилось яростью, словно обезумевшие глаза забегали, ничего не видя, большой рот перекосился. Одной рукой он держал кабана за ногу, а другой сжимал рукоять ножа. Держал крепко, судорожно, словно боялся, что нож вырвется.
— Все, — проговорил Неботов печально, как на похоронах, и распрямился.
Ни на кого не глядя, Карпо отпустил рукоятку ножа, протянул руку. Ульяна вложила в нее ввернутый в тряпочку деревянный колышек. Карпо вытащил нож, бросил на снег, кровь из раны ударила фонтанчиком. Карпо быстро заткнул отверстие колышком, как бочку чопом, вытер окровавленную руку о шерсть кабана.
Все стояли и молчали, избегали встречаться друг с другом глазами, словно чувствовали себя виноватыми в содеянном. Карпо все еще держал кабана за ногу и смотрел на него, скорбно склонив голову.
— Скольки я их перерезал на своем веку, а все одно не могу… всякий раз как будто впервой… — проговорил он. — Будто на немца в атаку идешь.
— А приходилось? — спросил Неботов.
— Че?
— В атаку ходить? Убивать?
— В штыковую — не, не было случая. А так — да. «Вперед!» — выскакиваешь из окопа и бежишь, на ходу стреляешь. А немец по тебе поливает из пулеметов. Самое страшное перед атакой, пока из окопа выскочишь, а потом сердце сожмется, и ничего. — Помолчал. — И убивал, наверное, а как же… Не так, конечно, — он кивнул на кабана. — Не в упор, а со всеми вместе. Все бегут, стреляют, немцы падают — кто разберет, чья пуля кого убила, может, и твоя. А в упор — не, не приходилось. — Прикинул что-то в уме, сказал: — А пришлось бы — так стрельнул бы, куда ты денешься? Не ты его, так он тебя, там дело такое.
— А когда ранило?..
— Ото ж и ранило… Один раз пулей, а другой раз осколком мины. Тоже не видал, кто по мне стрельнул. Но это было ишо до того, как сапером стал… Ну что, перевернем? — спросил Карпо угрюмо.
— Не надо, — сказал Неботов. — Все одно потом кантовать придется с боку на бок.
Карпо отпустил ногу — она только слегка качнулась и так и осталась торчать, — подошел к соломе, взял беремя и стал обкладывать кабана. Никита, Неботов принялись помогать ему. Потом Карпо присел с подветренной стороны и поджег. Желтый дымок заклубился, заплутался в золотистой соломе, выбился наверх и исчез, а вслед за ним заиграло веселое пламя. Солома вспыхнула, все отпрянули от огня, и только теперь сбежала с лиц хмурь и неловкость. Засуетились, заулыбались, заговорили. Поближе к костру придвинулись дети, стали бросать в него пучки соломы и радовались безмерно, когда пламя, лизнув их приношение, тут же с хрустом уничтожало.
— Помощники! — говорит ласково Неботов.
— Помощники… за столом, — добавляет беззлобно Карпо и отгоняет их прочь: — А ну, идолята, не мешайтесь…
Прогорела солома, смахнул Карпо вилами с обуглившейся туши пепел, и заскребли ножами с одной стороны Неботов, с другой — Никита. А Карпо похлопывал то там, то тут ладонью по туше, приговаривал:
— Вот здесь сыровато, — и подносил на вилах пучок соломы, раздувал пламя, поджаривал сырое место. И потом это место уже сам скреб, проверял, говорил, довольный: — Хорош! — и посматривал на Неботова, на Никиту, следил, как у них идет дело. И вдруг бросился к Никите: — Пережгешь, пережгешь! Смотри, вздувается. — Он отбросил горящую солому, схватил комок снега, приложил к вспухшему месту холодный компресс, растер ладонью. Шишка осела, Карпо успокоился, похлопал широким лезвием ножа, предупредил: — Хватит…
Поджаривают тушу соломой, скребут ножами. Работа идет быстро, споро, с разговорами, прибаутками.
Ребятишки ждут самого интересного и, не дождавшись, напоминают деду.
— Ах вы, идолята, — говорит Карпо и принимается скрести обуглившийся хвост. Очистив, он отхватил его по самую тушу, делит на всех. Пахнет дымком еще теплый хвост, хрустит хрящик на молодых ребячьих зубах.
— Вкусно? — спрашивает Неботов.
— Ага!
— А чего ж не вкусно? Шашлык! — Карпо оперся на вилы, закурил. — Вот, кажуть, хорошо смолить не соломой, а стружками, в каких яблоки в магазин привозють. Вроде дужа сало вкусное бываеть.
— А что, это вполне, так бы сказать, может быть, — соглашается Неботов. — Первое, стружка сама по себе хорошая — она березовая или сосновая. Ну и, второе, то, что она духом яблочным напитана.
— Так ото ж на базаре и нюхають гражданки. Подойдут и спрашивают: «А чем, дядечка, смолил поросенка? Чи соломой, чи стружкой, чи, можа, паяльной лампой?» Во как, разбираются!
Поговорили — и снова за дело. То тут, то там раздувают огонек, поджаривают сырые места, скребут ножами, похлопывают по твердой опаленной коже.
— Под мышками не достать, — говорит Неботов, — надо бы шкворень накалить. Есть?
— Есть, — отзывается Карпо. — Остались еще с той поры. Микита, пойди воткни в плиту два прута.
Вышла посмотреть Глаша, увидела — дочь ее грызет хвост, бросилась к ней, вырвала, забросила в снег, вытирает замызганный рот ребенку.
— Вот беда! Какие культурные стали! — возмущается Ульяна. — Небось сама никогда не ела? И никакая лихоманка не взяла! А тут — куда тебе!
А мальчишки уже съели и снова пристают к деду, просят еще.
— Да где ж вам набраться! — смеется Карпо. — Хвост-то у кабана один. Вот беда, — и принялся скрести кабаньи уши. Очистил, отхватил кончики ножом — одно, другое. — Нате, идолята, ешьте.
Грызут ребятишки, смеются.
Закончили смолить, осмотрели тушу кругом, отхлопали по ней ладонями, ощупали, остались довольны: хорошо сделано.
— Ульяна, воду, — командует Карпо.
Появляется ведро с горячей водой, пар из него валит клубами. Поливают кабана кипятком, а Карпо скоблит, скоблит ножом, счищает грязь, копоть, и когда рассеивается пар, туша блестит золотистой копчено-коричневой корочкой.
Пока Карпо скоблит тушу, Неботов взял лопату, снегом засыпает черноту вокруг туши, наводит чистоту.
Упарился Карпо, пот с лица стекает, будто его самого ошпарили. Распрямился.
— Хватит, что ли? Дужа чистый будет, ишо сороки унесут.
— Хватит, а то всю шкуру сдерешь, — соглашается Неботов и уже несет охапку чистой соломы, накрывает тушу. Ульяна принесла попону и старую солдатскую шинель — все это кладут на кабана, заботливо подбивая края, будто боятся простудить.
— Садись, идолята, — разрешил Карпо, и ребятишки наперегонки полезли на тушу. Самых маленьких посадили взрослые. — Во, вот так, чтобы сало завязывалось. В этот момент как раз у него сало растет, — говорит Карпо и улыбается хитро — шутит, но сам тоже присаживается на тушу. И Неботов садится, И Никита. Приглашают и нас с Петром. Мы подошли, облокотились.
— Зачем? — спрашиваю у Неботова.
— Примета такая… А может, чтобы сало пропарилось да шкурка отмякла.
Карпо суеверен, отвлекает от этого разговора. Ему хочется поговорить о другом — до сих пор никто не похвалил, как он ловко заколол кабана.
— Наверно, прямо в сердце попал: и не колыхнулся.
— А не попал бы, дак он нас поносил бы! Шутка — такая гора, — Неботов хлопает по туше. — Вот как Мишка Вакуленков резал! Пырнул, да не попал, а поросенок вырвался и тикать. Они за ним. Кровь течет, поросенок кричит, как паровоз, и бежит. Догнали аж у ставка. И то не догнали, а он уже сам упал от потери крови. На салазках приволокли домой.
— Да, не умеешь — не берись, — говорит Карпо. — А вон Замирякин как резал? Небольшой кабанчик, заболел. Ветинар посоветовал прирезать. Ну, прирезать так прирезать. Заходились они вдвоем с тещей резать. Повалили. А ножик взял длинный. Как пырнеть — да того поросенка насквозь проткнул и теще — в ногу. А та как закричит, да по морде зятя — хлобысь. Теща орет, поросенок недорезанный кричить, а он ничего не поиметь, в чем дело…
Ребятишки хохочут громче всех, начинают возню, и Карпо прекращает разговоры.
— Ладно, будя.
Снова раздевают тушу и перекантовывают ее на спину на чистые доски. Карпо вооружается ножом, становится над тушей лицом к голове.
— Ну, господи благослови. — И полоснул раз, другой — сделал крестообразный надрез на груди. Потом запустил кончик ножа у шеи и провел борозду по левой стороне до самого хвоста. Возвратился и такую же борозду провел с правой стороны. И снова к шее: чик-чик ножом — белое сало сверкнуло. А Карпо режет дальше — чик-чик, чик-чик. Добрался до мяса и начал снимать сальную полосу с брюшины. Вот ему уже не удержать ее, передал под себя Неботову, а сам быстро — надрез за надрезом, надрез за надрезом, а полоса все длиннее и длиннее. Снял, передал Никите, и тот понес ее — длинную, белую, дымящуюся паром, на вытянутых руках, как полотенце с хлебом-солью.
— Пущай несуть кастрюлю под кровь! — крикнул Карпо.
— Да тут я, чего кричишь? Ослеп, что ли? — говорит Ульяна и подставляет кастрюлю.
Карпо вырезает грудную клетку и вычерпывает из нее куски крови — сначала руками, потом берет кружку и загребает кружкой, выплескивает в кастрюлю.
Кастрюля быстро наполняется, и Ульяна под ее тяжестью приседает. Наконец железная кружка начинает глухо стукаться о кости, зачерпывая последние капли крови. Скреготнул кружкой по ребрам раз-другой, и, утопив ее в кастрюле, Карпо сказал:
— Все, неси. Будет тебе на колбасы. — А сам подвинул ведро с теплой водой и стал тряпкой вымывать грудную полость.
— Мясо продавать думаешь? — спросил Неботов.
— Да, можа, придется. Куда ж его столько, все ведь не съешь. А солонина — то уже не мясо.
— Тогда надо кровь вымыть, правильно, — одобрил Неботов.
— Корыто!.. Где корыто?! — закричал Карпо. — Ульяна, и што ты?.. Где корыто? Давай сюда, кишки будем вынимать.
Осторожно, чтобы не порвать, вываливают внутренности. Карпо с Неботовым, как опытные хирурги, знают, где осторожно потянуть и порвать пленку, где полоснуть ножом. И все идет у них хорошо, слаженно, все отделяется в положенном месте, без усилий, будто и не было живого организма, а была какая-то искусственно сложенная конструкция из мяса и костей.
Плюхнулось в воду серовато-стальное сплетение внутренностей, повис через край корыта конец кишки, заколыхалось все это студенисто — понесли женщины корыто в дом.
А Карпо уже вострит нож и присматривается к ножкам — как половчее их отхватить.
— Надо бы раньше их отрезать, чтоб не мешались… Ну да ладно. — И он делает круговой надрез на ножке, и, кажется, делает его совсем не там, где надо было, не над суставом. А когда сгибает ее, оказывается, что именно тут и есть — вот он, сустав, оголился — бело-розовый, округлый. Хвать, хвать ножом, и отделилась ножка, полетела в ребячью кучу: — Ловите, идолята! — За первой летит вторая, третья, четвертая. — Несите бабке, нехай холодец варит!
Побежали дети, а Карпо уже заходился возле головы — сначала ножом, а потом кончиком топора тюкнул, и упала огромная корноухая свиная голова на руки Неботову и Никите.
— Неси ее, Микита, в летней кухне подвесь, пущай пока замерзает. Холодец будет!
Попер Никита, сгибаясь от тяжелой ноши, Петро кинулся помочь брату. Догнал, а взяться не за что — голова круглая, без ушей. Прицепился кое-как, скорее для подстраховки, чем для помощи, подставил руки снизу, пошли два брата, наступая друг другу на ноги.
Пока управились с головой, а тут уже новая операция началась: полосу за полосой снимает Карпо с Неботовым сало, носить не успеваем. Носим его мы вдвоем с Петром на вытянутых руках. Белое, белее снега, рыхлое теплое сало колышется, как живое, вот-вот соскользнет с рук на землю. Носим его в дом Никите, а тот делит сало на квадраты, посыпает обильно крупной солью, складывает в ящик. Тут же в сторонке свояченица Марья разбирает кишки: распутывает, чистит, промывает, вытягивая их единой веревкой и складывая в чистую посудину.
Ульяна с кастрюлей хлопочет возле Карпа, умоляет:
— Отрежь вот этот кусочек, — и нетерпеливо дергает еще теплое мясо.
— Погоди, — отмахивается Карпо.
— Во, погоди! Чего годить? Мне ж надо сготовить, люди есть хочут. А если ждать, когда ж я управлюсь! Ну, режь, живо.
Отхватил Карпо кусок мяса, бросил в кастрюлю, но Ульяна не уходит, бродит вокруг, выискивает что-то.
— Вот ишо тут отрежь, — просит мужа.
— Не мешай, — отмахивается опять Карпо. — Сколько тебе его надо!
— А народу сколько? Надо ж и с картошкой стушить, и сжарить. Кто как любит. — И вдруг вскипает, кричит сердито: — Да ну отрежь же, кому сказала! Выкобенивается!..
— Вот пристала, — кряхтит Карпо и отрезает. — Ну, все? Или еще?
Заглянула Ульяна в кастрюлю, встряхнула.
— Мало. Вот ишо от шеи отрежь. — Она вцепилась пятерней в болтавшийся кусок и не выпустила его, пока Карпо не отрезал.
— Пристала как банный лист. Сама и режь сколько надо.
— У тебя ножик вострый…
Скулит, канючит запертый в конуре кобель, скребет лапами припертую тяжелым камнем затворку: слышит запах свежего мяса. Карпо не выдерживает, отрезает кусок, несет собаке. Возвратился, проговорил, оправдываясь:
— Пущай и он попробует свежатинки.
— Ему полагается, — одобрил Неботов. — Сторож.
— Да то сторож такой… — махнул Карпо на конуру. И сделал это скорее из предрассудка — не сглазить бы. — Вот у меня до войны был кобель — так это да. Ото Буян так Буян! — Карпо всем своим собакам давал одно имя — Буян. — Ростом был с теленка, а злющий — как зверь лютый. Таких я больше и не видел. А принес я его маленьким кутеночком, вот такусеньким, в рукаве. Сам выбрал: в роте у него нёбо было черное, как сажа, — рассказывал Карпо, сделав короткий перекур. — А окромя того, я его под железные ночвы сажал и колотил палкой — чтобы злым рос. Ну и вырос!
— Помню я того кобеля. Я парубковал тогда, ходил на вашу улицу, женихался. Идешь, бывало, мимо и думаешь: «Господи, пронеси…» Не дай бог сорвется с цепи.
— Что ты! — Карпо доволен, что люди помнят его собаку, оживляется. — Злой — не приведи бог! Никого не признавал — ни своих, ни чужих. Даже на меня все время смотрел исподлоба. Погладить по шерстке и не думай: сразу схватит за руку. Во, гляди. — Карпо оголил до локтя одну руку, потом другую. Руки были усеяны белыми зажившими ранками, похожими на оспины. — Это все следы его клыков. Отвяжется, бывало, цепь перетрет или ошейник порвет, станешь привязывать, — не дается и близко не подпускает, хоть ты што. А привязать надо. Вот и подступаешь к нему разными хитрыми путями. А рази его перехитришь? Все равно укусит.
— А куда он делся? — поинтересовался Неботов.
Карпо горько усмехнулся:
— От водки помер. — И пояснил: — Ульяна сгубила. Ото ж была в бутыли наливка из вышнику. Наливку выпили, а в вышник самогону наливали — закрашивали. Самогон тоже выпили. Ну а бутыль так и стоит. А когда новый вышник поспел, бутыль понадобилась. Ульяна и выбросила усе из бутыли вон туда, — указал за конуру. — А тот дурак, Буян, возьми да и съешь этот вышник. Понравился он ему, чи шо. И опьянел. Прихожу с работы, а он ну как пьяный ото, ходит, качается, падает. Упадет, поднимется — «гав!», и опять упадет. А детвора и Ульяна — как маленькая — стоят и смеются, животы надрывають: Буян пьяный! Ну и я, как дурак, тоже смеюсь. А потом гляжу: упал Буян и не поднимается, хырчить. Дужа плохо ему, видать, сделалось. Вырвать бы. А как? Не человек, пальцы в рот не заложит. Вижу такое дело и думаю: «Э-э-э, да тут не до смеху, надо собаку спасать!» Воды ему в рот налил, таскаю за цепь — ниче не помогает. Хырчить, и все. Так и сдох. — Карпо помолчал, склонив голову, добавил: — Жалко. Но Ульяне досталось, ох досталось!
— Да, — протянул Неботов задумчиво. — Интересно. Это ж смотри: никакая животная не выдерживает той гадости, что человек потребляеть. Чи там водка, чи табак. Вот же пишуть, что лошадь от одной папиросы сдохнет. А человек пачку выкурит, и хоть бы што. А этой водки — есть по пол-литру зараз выпивають.
— Что ты! — возразил Карпо. — Вон Иван Гладкий, печник, литру, не отрываясь, выдует, рукавом закусит и только тогда начинает плитку класть. А ты — «пол-литру»!
— Иван Гладкий — да, тот — да, тот такой, — закивал Неботов, еще больше поражаясь человеческим возможностям.
Поговорили — и снова за работу: режут, кромсают, рубят — быстро, четко, умело.
Через час-полтора все закончено. Только рыжее пятно стынет на снегу да клочки кудреватого серого пепла от сгоревшей соломы гоняет ветер по двору. Но и эти следы Неботов старательно уничтожает: ходит с лопатой, засыпает чистым снегом, притаптывает ногами.
Вышла Ульяна — раскрасневшаяся от плиты, возбужденная от работы, приглашает:
— Ну, мужики, умывайтесь да ходите обедать. Упорались, бедные.
Неботов воткнул в сугроб лопату, осмотрел руки.
— Да че там… Дома умоюсь.
— Ну вот ишо!
— Умоюсь и приду, — пояснил он.
— Катерину не забудь позвать.
Умываться я тоже побежал домой. Ульяна прокричала вслед:
— Павловну кличь на свежатину!
— Ладно.
Мать сидела дома одна, грустная, чем-то обиженная.
— Был кабан — и нет кабана, — весело объявил я.
Она будто не услышала, молчала. Потом все же спросила:
— Сало хорошее?
— О-о! Вот такое, — я растопырил пальцы, показал, какое толстое сало, — на свежатину приглашали.
— Иди, чего ж. Заробил.
— Тебя тоже приглашали.
— А че я там не видала? Когда нужна была — приглашали, а теперь забыли, не нужна стала.
— Так не забыли ж…
— Кишки кто разматывал? Марья?
— Она.
— Ну та умеет, — смягчилась мать. — Она еще девчонкой, бывало, всегда со мной возилась, помогала. Та умеет.
Наверное, догадавшись о настроении матери, Ульяна прибежала сама.
— Ну, ходи, кума, свежатины отведаешь.
— С какими глазами я пойду? — напустилась на нее мать. — Как работать — так нема, а за стол — явилась? Или мои руки уже ни к чему не способные?
— Да тю на тебя! Да чи там нема кому работать? Полная хата народу, а нам теперь только гулять. Ходи, ходи, а то ж ждуть, проголодались.
— Ладно, приду.
Застолье у Карпа шумит. Мясо жареное, мясо тушеное, мясо вареное, с картошкой, без картошки, жирное, постное. Кровь, поджаренная на сале. Тарелки с огурцами, с помидорами. А Ульяна все хлопочет, все что-то подносит, раздвигает на столе посуду, ставит, ставит. Карпо ходит вокруг стола, наливает в граненые стопки самогона из графина. Себе — в последнюю очередь, столько же, сколько и всем, — по самые краешки.
— Ну, будя, угомонитесь, а то есть хочется.
— Чокаться не будем, — дужа полные налил.
— Ладно, так выпьем. Будьте здоровы!
Выпили по одной — притихли, принялись за еду. Хрустят огурцы, опустошаются чашки с мясом. Выпили по другой — заговорили, зашумели.
— Кузьмич, — обращается ко мне Неботов, — вот ты скажи, кому оно вред от того, что вот Карп Романович кабана заколол, и у него теперь есть мясо и сало, и он, так бы сказать, сыт, пьян и нос в табаке? И от того, что он лишнее завтра повезеть на базар и продаст там по той цене, какую установят ему, — кому хуже? Я так думаю, ото оно не вредительство, случаем, было, когда запретили худобу держать? А?
— Не… — медленно, врастяжку возражает Карпо. — Все дело в политике. Была такая, а теперь такая. Жизня ж не стоит на месте… Че тут балакать! — И он наполняет стопки.
А крестная затягивает песню:
В огоро-де верба ря-а-асна, Там стояла де-вка кра-а-асна-а-а…Первым засобирался домой Неботов: «Пойду справляться, худобу на ночь кормить: у меня ж корова, поросенок…»
Подхватилась Ульяна, сунула ему под мышку сверток со свежатиной — неси гостинец.
— Да не надо, — упрямится Неботов.
— Ну вот ишо! — Ульяна захмелела, теперь с ней не спорь. Кричит громко: — Бери, коли дают, а бить будут — беги! Спасибо за помочь. Пособил, спасибо.
Потом начали собираться уходить и другие: Никита с семьей, свояченица Марья — им всем на автобус надо поспеть. Женщины одевают детей, а Ульяна уже насовала им в сеточки сала, мяса, по кусочку печенки: «Пирожочков испекете».
У меня под мышкой тоже сверток, пока не знаю с чем: сало ли, мясо ли.
Из дома выходим все со свертками, пустые руки только у самих хозяев. Мать и Глаша остались дома: работы еще много — будут доводить до ума кишки: колбасы начинять, из желудка «колобок» сделают — зельц по-городскому.
По пути к автобусу всю дорогу поют песни, а голос Ульяны звонче всех.
А встречные дивятся: что это у Карпа за торжества такие, по какому случаю гулянка?
— Кабана зарезал!
— А-а! Ну, то понятно…
В огоро-де верба ря-а-асна, Там стояла де-вка кра-а-асна-а-а…Петро, Никита и я замыкаем шествие, не поем, стесняемся и только курим. Прощаясь, Никита говорит:
— Приезжай послезавтра на свежатину.
— Как?
— Резать кабана буду.
— И ты держишь?
— Ну а как же! У меня ж пять человек семья. Без поросенка нельзя.
ЭПОПЕЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ
КАРПОВ «ЗИГЗАГ»
В молодости своей однажды колебнулся Карпо, зигзаг сделал — в крестьянство подался. Не сам колебнулся, Авдей, шурин, склонил. А может, и не Авдей, может, сама жизнь толкнула, на Авдея только вину свалить проще. Время тяжелое, голодное было — двадцать первый год проползал трудно, долго. Из последних сил боролись с голодом, крыши соломенные в ступах истолкли и съели. Промышляли кто чем мог. Многие на землю кинулись: делили участки помещика Филатова, тыкали в землю любое зернышко.
Карпо тогда в депо работал — вагоны ремонтировал. Работы много, паек мал. Застолбил и себе участок на Поповой даче. Раздобыл семян фасоли, кукурузы, пшенички — сажает, сеет. Стали ночи для него коротки: рано утром до работы бежит поковыряться на участке, из депо — опять не домой, в поле торопится. И все один, все один: Ульяна — не помощница, тяжелой ходила Никитой, Марья — мала. С ног валится Карпо, но не отступает, вгрызается в землю.
Как-то пригнали в депо больной вагон, на горке при сортировке разбили. То ли случайно, то ли нарочно. Бывали и такие случаи. Пронюхают — съедобное в вагоне, толкнут его посильнее, и все, раскололся. Пока туда-сюда, а тут уже карманы набили, сумки припрятали. Голод, поэтому на что только не шли. Может, и с этим вагоном такая ж история случилась: в нем ведь зерно везли.
Как там дело было, Карпо не знал и не интересовался. Разбили, перегрузили, а пустой вагон — в депо. Тут-то Карпо первый и обнаружил, что он из-под зерна. Вооружился веничком, все уголочки, все щелочки вымел, до зернышка собрал. Доволен, что посчастливилось: шутка ли — целую сумку наскреб, с полведра будет. Несет домой, торопится — накормит семью хлебом. Но по дороге раздумал, в поле завернул. Прихватил еще участок, рассыпал по нему зерно. Хотя и поздновато было, на том клину вон уже ростки щетинкой поднялись… Но ничего, лето длинное, вырастет, чуть позднее поспеет — не беда. Зато уж потом с хлебом будет Карпо, от людей не отстанет.
А люди как муравьи на той земле. Даже солончаковый бугор за поселком, где одни только колючки и росли, и тот всковыряли, бахчу посеяли.
Бугор не делили, всей улицей так и нагрянули на него. Время уходит, делиться некогда. Да и земля не та, чтобы драться из-за нее. Ее даже и не пахали, лопатами лунки поглубже да пошире делали и прятали семена. Не очень и надеялись на что-то, но ковырялись. Уродит — хорошо, не уродит — тоже не большая беда. Семь лет мак не родил, и голоду не было. Бахча — роскошь, баловство, ею сыт не будешь. Но есть семена — надо посеять.
Не отстал от людей и тут Карпо. С лопатой до последнего дня ходил на бугор. Долбил жесткую каменистую землю, рыхлил гнездышки для семечек, бросал туда арбузные или дынные зернышки — и был доволен.
Работа для Карпа никакая не в тягость, от работы Карпо не устает — был бы толк от нее.
Ходит Карпо с тяпкой на свой участок, полет, обхаживает каждый росточек. Радуется сердце, любуется глаз — растет, все растет. Та пшеничка, что позднее посеял, тоже взошла. Зеленеет, кустится.
К концу лета помощница появилась: Ульяна родила. Теперь они все вчетвером в поле. Карпо с Ульяной работают, а Марья с Никитой в тенечке сидит. Нянька из Марьи еще не очень, но все-таки: сторож, в случае чего — сигнал подает. Когда Карпо на работе, Ульяна сама на участке ковыряется.
Не обманула в тот год земля людей — все на ней уродилось небывало. Даже бахча на солончаковом бугре выдалась такой, что люди и теперь, спустя почти полсотни лет, помнят те арбузы. Будто великан какой полосатых валунов на бугор накатал. И сами ели кавуны, и впрок солили, и скотину кормили.
У Карпа тоже все хорошо уродилось, кроме той пшенички, что в вагоне наскреб. Кустилась, кустилась она, лохматилась, кудрявилась, да так и не вышла в стебель. Знающие люди потом объяснили Карпу: озимой, наверное, была. Жалел Карпо — пропало добра столько, лучше бы в муку стер да семью хлебом накормил. Пожадничал он тогда, и зря.
Но ничего, мало ли когда осталось что-то не съедено, не выпито, так что ж толку теперь горевать? Тем более — остальное уродилось хорошо. Наелись наконец досыта, ожили все.
Выручила землица, не пропали Карповы бессонные ночи, не ушел в песок труд его. Стоят в чулане мешки с зерном, ящик с фасолью, чердак забит кукурузными початками. В погребе картошка, солка разная. Во дворе два стожка — кукурузные бодылья и солома. Зачем бодылья свез, и сам не знает. Просто с перепугу перед голодом.
На следующую весну Карпо решил не надрываться с землей, хотел засеять небольшой кусочек — так, на всякий случай. Жизнь вроде налаживаться стала.
Вот тут-то и явился Авдей — шурин. Пришел как змей-искуситель, стал уговаривать прочнее цепляться за землю. Выгодное это дело. Кто не дремал да поболе засеял — теперь только в потолок поплевывает.
— Ты мне отдай Ульянину швейную машинку, я ее обменяю на коня, — предложил Авдей.
— Машинка-то ее приданое, — сказал Карпо, — пущай сама… А потом — на кой нам конь?
— Глупый ты, Карпо. Ты смотри, как люди делают. Вон хоть твой сосед Григорий Иванович. Земли сколько нахватал? И лошадку купил уже. А он мужик умный, не то что мы с тобой.
Авдей моложе Карпа, но шустрее его. Низенький, лицо простачка, глаза плутоватые, он шел по жизни как-то несерьезно, искал, где полегче да повыгоднее. Потому Карпо не очень доверял шурину.
— Григорий Иванович — старик. Ему в самый раз в навозе копаться, — сказал Карпо. — А я и в депе свой хлеб зароблю.
— На кой тебе то депо! — воскликнул Авдей. — Вставай, беги на работу по гудку, гни там целый день спину. А тут сам себе хозяин, никто тебе не указ.
Видать, здорово Авдея схватила за душу щедрость земли, учуял легкую жизнь на ней. Слушает его Карпо — и где-то в душе начинает склоняться в его сторону. Вспоминаются весенние дни в поле, вечерняя летняя прохлада, запах скошенной травы, запах поспевающего хлеба. Конечно, все это ни с чем не сравнимо, в депо такого нет. Припомнился ему зайчонок. Маленький, большеголовый, с кулак ростом. Карпо его шапкой накрыл, поймал. Домой принес. Лето держал, кормил. Думал: «Вырастет — зарежу, все мясо будет». А осенью уже наелись всего, зайца жалко стало, отпустил на волю.
И еще вспоминается. Это когда уже хлеб пололи с Ульяной. Вспугнули перепелку с выводком. Брызнули в разные стороны желтые комочки — перепелята. Пропали, исчезли, сквозь землю провалились. А потом чуть не наступил Карпо на одного. Затаился бедняжка под листочком — ни жив ни мертв. Взял его Карпо, опустил в кепку, понес Марье показать.
Как радовалась Марья пушистому живому комочку, как бережно держала в пригоршеньке своей, как вымостила в пустом глиняном горшке травяное гнездышко для птенца и как плакала вечером, когда не обнаружила перепеленка в горшке, — вспомнилось все это Карпу, и на душе у него стало теплее, легче, сердце сделалось уступчивее.
Кончилось все тем, что Авдей унес Ульянину машинку.
Ульяна не очень возражала мужикам. Вытерла с машинки пыль, завязала ее в узел из старой скатерти, — бери.
— Не горюй, сестра, — ободрил ее Авдей. — Разбогатеем — ишо не такую купим. Ножную, ногой крутить будешь, а руки свободные.
Ульяна только рукой махнула, не очень она надеялась на своего брата.
Но тот, видать, на этот раз знал, что делал. Не обманул и не промахнулся. Недели на две скрылся с машинкой куда-то из поселка и вернулся с лошадью. Привел Карпу во двор, завел в маленький, не приспособленный для этого сарай, привязал.
— Ну вот, — сказал Авдей, — будет нам на двоих. А живет пущай у тебя.
Растопырился Карпо, раскорячился: одной ногой в депо стоит, другой — на Поповой даче. Не знает, на какую ногу опереться, не решит, какую ногу снять, к какой приставить. Там привык, сроднился, жизни без депо не мыслил. А оказывается, можно и иначе хлеб свой добывать — прямо самому, на земле. И кроме всего, на земле как-то вольготней, свой труд виднее…
Раздирается Карпо на две половины: все больше в землю врастает и за депо держится, не отцепится никак.
Но земля все же оказалась сильнее, бросил Карпо депо, сделался целиком крестьянином. В хлеву поросенок, телка-первогодка завелась, купил кой-какой инвентарь: плужок, борону с чудным названием «зигзаг».
Года три или четыре хозяйничал Карпо, привыкать уже стал, как вдруг жизнь подбросила ему новую задачу: объединяться в ТОЗ начали. Пришли и к Карпу представители, объясняют, спрашивают.
— ТОЗ организуется. Ты как? Будешь единоличником или со всеми вместе?
Трудно Карпу решить такую задачу: он и единоличником-то стал совсем недавно, только-только научился землю кое-как понимать… Чешет затылок.
— Кабы б знать, как оно лучче будет…
— Гуртом и батьку легче бить.
— Батьку-то да, легче… — Поинтересовался: — А люди как, записываются?
— Кто как. Ахромей Солопихин записался.
— Ахромей? — удивился Карпо. — И его принимають у гурт? А вы видали, какая у него земля? Его клин за буерачком издаля можно узнать: весь бурьяном зарос. Утром идет туда как человек — на работу, а сам весь день проспит в холодочку. А дети голодають. Лодырь несусветный. Земля тольки пропадает, жалко. Рази можно так к земле относиться? За такое по морде бить надо. — Карпо разгорячился, но вдруг подумал, что горячится по делу, которое его не касается, умолк, задумался. Однако заговорил опять об Ахромее. — Его нельзя примать. А землю отобрать надо, чтобы зазря не мучилась.
— Ладно — с Ахромеем. Ты-то как?
— Как же «ладно»? — удивился Карпо. — Мне ж с ним, можно сказать, в одной семье жить придется: одну работу робить, из одного котла хлебать. А он такой: на работе его не найдешь, а у котла за ним не захватишь. Это уж я знаю. Тут вон когда спрягаешься на сев чи на уборку — и то выбираешь, с каким соседом сподручней: чтоб его не перешло к тебе и ты чтоб горб не гнул на него. Под стать себе и напарника шукаешь.
— Ну и тут напарников найдешь — народу много. Тракторов, машин разных накупим. Каждому найдется работа по способности, по уменью.
— Ха! «По уменью»! А шо, к примеру, умеет делать Ахромей? Он, гляди, ишо в командиры выйдет. Слыхал, будто бегает по другим улицам, тоже агитирует? То дужа поганый агитатор по такому делу: такой сагитирует не вперед, а взад.
— Дался тебе этот Ахромей! Ты-то сам как?
— С кондачка такое дело не решишь. Посоветоваться надо…
— С кем советоваться будешь? Советчики разные бывают, смотря, куда дух направлен.
— Как с кем? А хочь бы вон с жинкой, — кивнул на Ульяну. — У нас с ею дух одинаковый, на всю жизнь спряглись. Покумекать надо.
«Кумекал» Карпо не с одной Ульяной. К соседу Симакову Григорию Ивановичу пошел. Тот справным хозяином стал, крепенько зажил. Уже пару лошадей завел, инвентарь кой-какой приобрел, даже лобогрейку купил. Старик ушлый, не промахнется. Как он, что думает?
— Коней продал, — объявил ему старик, — на завод возвертаюсь. Там погода или непогодь, а мое отдай. Зарплата, паек. А тут круглый год дрожи, поглядай на небо — моли то дождика, то солнышка, — рассудительно и спокойно говорил Григорий Иванович.
Откровенно сказать, Карпо от него не ожидал такого поворота и даже растерялся немного.
— А земля как же?
— Отказался. Пущай берут в ТОЗ.
— Жалко. Привык уже к ей.
— Жалко… — согласился старик. — А шо делать? Она была не наша, и пущай на ней робить тот, кто понимаеть в этом деле.
— А вы шо ж, не понимаете?
— Не в том дело. Кто понимаеть, куда дело клонится? Для меня той ТОЗ — темный лес пока — куда оно, как будет. А на заводе мне все ясно.
— Это-то да! — обрадовался чему-то Карпо. — Как в депе, к примеру: я там все, кажись, на сто лет наперед знаю! Другой раз вспомню за депо, заноет вот тут, будто по дому соскучился — за депом.
Вечером пришел Авдей с вопросом: «Шо делать будем?»
— Да я, наверно, опять в депо подамся, — сказал Карпо. — А ты как хочешь. Забирай коняку и хозяйнуй. Когда-нибудь отдашь мою долю. А не хочешь — отведи его да продай.
Домой от Карпа Авдей поехал на бричке. Хлестнул остервенело гнедого, затарахтел по улице. Он был недоволен зятем: сам для себя решил, а ты как хочешь. «Ну, гляди у меня, получишь свою долю, как же!»
Оттарахтела бричка, и будто легче Карпу сделалось, будто груз какой сняли с него, будто выздоровел человек. Стоит у ворот, наслаждается свободой, легкостью душевной. И вдруг услышал что-то родное. Прислушался и угадал: издалека, со станции, доносится деповский гудок — очередную смену сзывает. Удивился Карпо: раньше, кажется, сюда и не слышно было. Другой поставили, что ли, сильнее. Гудит так тревожно и долго, вынимает Карпово сердце.
На другой день подался в депо. Но его не взяли — места не было. Поступил временно в путейные ремонтники. Временно, временно, да так до самой пенсии и оттрубил на путях. Сначала простым рабочим, потом в бригадиры выбился.
ВИНОГРАДНЫЙ ХМЫЗ
Летит время, мчится, быстротечное. Год за годом, год за годом… Сначала удивляешься седине в висках ровесника, потом с тоскливой грустью узнаешь, что твоя соученица стала бабушкой. Присмотришься — ан и сам уже сед и лыс, и дочь твоя уже стесняется звать тебя папой, а называет снисходительно-шутливо — «старик» или «предок» и в один прекрасный день приводит в дом парнишку и говорит:
— Это мой знакомый — Гена. Мы учимся на одном курсе, любим друг друга и хотим пожениться.
О время, время! И что за штука такая, это время? Оно радует, оно и печалит; оно молодит, оно же и старит; оно дает силы, оно же и обессиливает; оно врачует, и оно же убивает. Время — это бог, всесильный, всемогущий, всеобъемлющий. Все и вся подвластно времени.
И только, кажется, один Карпо ему не подвластен. Правда, я его давно не видел, о последних делах его знаю лишь из писем матери. Знаю, конечно, далеко не все, запомнилось то, что удивило. Но и этого достаточно, чтобы сказать: «Карпо живет! Карпо борется! Карпо не сдается!»
Судите сами. Вот документ:
«Карпо и Ульяна — твои крестные — живуть по-прежнему, барахтаются, ниче им не делается, хоть ты об них и спрашиваешь, — писала мать. — Карпо теперь на пензии и сидит цельное лето в винограде. Мода у нас пошла на сады да на виноград. Вот и Карпо пологорода засадил им разным: какой на кышмыш сушить, какой на вино давить, а какой в готовом виде есть или продавать. Поэтому они подружились с Чуйкиными, а ко мне совсем не ходят и забыли, что я есть на свете. А че им со мной, старой, делать? Чуйкин тоже виноград разводит, и у него есть разные книжки по этому делу. И чертуется Карпо с виноградом цельное лето: то зеленой водой на него брызгает, то загораживает от курей, то ветки подвешивает, то осенью в землю их закапывает и навозом закрывает… Он, виноград тот-то, дужа боится холоду, а особливо морозу.
А че ему не возиться? Время есть, и силов еще много. Был бы жив отец, так и у нас бы было получче. А то и вы все разбеглись кто куда. У Карпа в саду свой колодезь, мотор тарахтит и воду качает. Карпо только держит за длинную кишку и направляеть воду, куда следовает, а на наш огород никогда не направит, воды не хватает. А я цельное лето таскаю на коромысле, аж плечи горять. А лето жаркое, дожжу нема и в помине, помидорчики пожухли и огурцы тоже. Будуть, нет ли — не знаю, а за картошку дак и писать нечего, нужен дож, на коромысле воды на все не наносишься. Наверно, на зиму картошку придется куплять, своей не будет, а она сейчас на базаре молодая по 2 р. за кг и мелкая. А у Карпа уже цветет и стоит зеленая, как будто у него на огороде другой климант… А зима мне теперь не страшная — топливо есть, цельную машину угля купила. Привез шофер, перекинул возле двора самосвал — гору целую. Таскать бы мне не перетаскать тот уголь в сарай. Спасибо Карпу — помогнул. Уголь перенес, дверь в сарае починил, а потом разохотился и столбик в загородке заменил. Тот совсем уже сгнил, так он свой принес, вкопал. Теперь хорошо, и меня переживет тот-то столбик. Ульяна, может, и обиделась за это. Пришла и вроде как в шутку: «Отпусти мово мужика хоть пообедать». А я ей: «Да кто ж работника отпускает без обеда? Приходи и ты, он много делов наделал и на тебя обед заработал». Пришла, да еще бутыль свойского вина принесла. Дак мы ото посидели. Ничего, все хорошо, жалиться не приходится…»
Вот это меня и удивило: Карпо и виноград. Карпо, который, наверное, никогда и не видел, как растет это нежное, капризное южное растение, вдруг постиг его премудрую тонкость, покорил и развел целую плантацию. Да еще в нашем степном крае!
Конечно, нельзя сказать, что Карпо никогда не занимался огородом или садом. Огород для Карпа, как и поросенок, — что воздух: с огорода он кормится сам и вскармливает скотину. Огород дает ему картошку — второй хлеб. Сад же для Карпа никогда не был чем-то серьезным, сад он считал непозволительной роскошью. То, что называлось на его огороде садом, было оставлено для забавы детям, чтобы меньше лазили по чужим. Насколько я теперь понимаю, ни вишни, ни сливы, что росли на его участке, никем не сажались, они появились сами собой: либо от косточек, либо перешли корнями через межу из соседского сада. Появившийся молодняк Карпо не выполол, оставил, и деревья у него росли беспорядочно, и были они самого разного возраста. Только вдоль межи кусты крыжовника и смородины были высажены Карпом. Но это было сделано им скорее для размежевания с соседом, как изгородь, никакого другого практического значения этим кустам Карпо не придавал.
Росли в его саду и благородные деревья: одна яблоня и две груши. Какого сорта эта яблоня — никто не знал, потому что плоды с нее мы объедали еще в завязи. Груши же сначала долго росли дичками, а однажды Карпо взял и привил к ним по нескольку черенков. Перевязал больные веточки белыми тряпками, и стояли эти груши все лето забинтованные, как раненые бойцы. И мы, ребятишки, относились к ним уважительно и бережно: ни разу не развязали ни одну тряпку и не заглянули, что делается под ней.
К нашему удивлению, привои прижились и быстро пошли в рост. Года через два Карпо обрезал все ветки с этих груш и оставил только привитые. Так на высоких, уже немолодых и корявых стволах дичков появились стройные молодые побеги культурной груши. Сорт, правда, оказался неудачный: плоды они давали твердые и невкусные, как древесина. Наверное, это были очень поздние зимние сорта, и дождаться им своего срока, чтобы созреть, как и яблокам, никогда не удавалось.
Так что сад для Карпа хотя и не был окончательно противопоказан, но занимался он им между делом, и предположить, что Карпо вдруг станет виноградарем и виноделом, было очень трудно.
Когда я последний раз ехал в родной поселок, мне не терпелось встретиться с крестным.
Приехал и первым делом на окно взглянул, что из Карповой спальни в наш двор выходит. Надеялся кого-нибудь увидеть. Но окно было наглухо закрыто ставней.
Немного погодя, осторожно, чтобы не обидеть мать, я отпросился у нее:
— Ма, схожу к крестному на минутку, проведаю.
— До Карпа? — уточнила она, и я увидел в ее глазах массу противоречивых и сложных чувств: удивление, обида, грусть, надежда, радость и наконец одобрение, — все это промелькнуло в ее глазах в какую-то долю секунды. Я догадался: наверное, как-нибудь ненароком обидел ее Карпо. Но расспрашивать, в чем дело, не стал — верно, какая-то безделица: старики, они ведь обидчивы.
— Сходи, как же, — проговорила она. — А то скажуть — приехал и не идет. Обида будет. Только Карпа, кажись, дома нема, слыхала — потарахтел на своем мотоцикле. Наверно, в школу за водой поехал. А можа, то он обратно приехал. Уже на всех улицах колонки стоят, вода с водокачки — хорошая! А тут приходится до сих пор на коромысле аж из школы носить. Ближний свет! Пока донесешь — плечи горять. С колодезя — ну никуда не годится вода — ни постирать, ни голову помыть. Борщ — так тем более не сваришь — есть не будешь. Ульяне хорошо: Карпо две канистры привезет — и полоскайся, делай, что хочешь.
Когда я уже был на крыльце, выглянула в дверь, предупредила:
— Улицей иди, а то через огород не пройдешь: тут Карпо все позагородил. Проволокой, хмызом — до самого сада. Отгородился.
Ну, вот она и нашлась — причина обиды! Эх, мама, мама… Полвека живешь по соседству с Карпом, а все не привыкнешь к нему. Да ведь уверен — городил он этот забор просто потому, что ему зачем-то это понадобилось, а вовсе не для того, чтобы причинить тебе обиду… Хмыз, наверное, некуда было девать.
Боясь нарваться на собаку, я постучал в калитку, но в ответ никто не отозвался. Тогда я открыл калитку, вошел во двор и постучал в дверь на веранду — никакого ответа. Так я по очереди стучал во все двери и потом открывал их: в сени, на кухню… Прошел через переднюю, заглянул в горницу и только там увидел крестную. Ульяна перебирала какие-то шмутки — то ли гладить собиралась, то ли просто ревизовала свое добро, и так увлеклась этим занятием, что ничего не слышала.
— Здравствуйте, крестная!
Встрепенулась, заулыбалась, расставила руки для объятия, вытерла фартуком рот, встала на цыпочки, поцеловала. Задирает голову, рассматривает. Наверное, и глаза и уши слабеть стали.
Маленькая, седая старушонка, Ульяна по-прежнему бодра и жизнерадостна. Голос только немного сел — хрипит, как после праздника, где она обычно надрывала его в общем хоре застольных песенников. Но теперь охрип он не от песен, видать, это было уже старческое.
Кинулась в спальню, растормошила Карпа.
— Да вставай же, во! Уже храпить! Тольки лег — уже храпить, совсем остарел.
Заворчал Карпо, недовольный, поднялся, вышел на свет, протирая глаза. Взъерошенный, заросший седой щетиной, он посмотрел на меня и медленно проговорил:
— А, Василь приехал. Ну, здрастуй. — Подошел, подал руку, а потом так же не спеша прильнул к моему рту жирными, пахнущими свежим борщом губами. Поцеловал и вытер ладонью губы. — А мы только пообедали, да, думаю, дай трошки прилягу. Прилег и уснул. Слышу: бабка будит, — рассказывал он так, будто это событие было многолетней давности.
Я заметил в доме какое-то запустение и догадался — старики живут одни.
— Да, одни, — весело подтвердила Ульяна. — Микита — тот же давно живет отдельно. На руднику. Там и построился. А Глаша… Ото ж неудачно у нее с тем идиотом получилось, так она с девочкой жила у нас, а теперь опять вышла замуж. Хороший мужик попался. На «химдыме» работает. — И засмеялась: — И я зову «химдым»! То ж прозвали так новый химкомбинат. Там же такое настроили — город целый! Трамваи, магазины, театры. Автобус же теперь аж до нас докатывается. Во! Пешком не ходим, не-е! Пять копеек — и куда хочешь: хоть на базар, хоть в гости, хоть в больницу. Благодать! А думали мы, что на нашу окраину автобус придеть? Ну вот, так ото им там и квартиру дали, на «химику». Внучка, старшая, уже в школу ходит. Хорошо у них — центральное отопление, с углем, как мы, не чертуются: готовят на газу.
— А Петро? — напомнил Карпо. — Что Петро?
— Ну тоже ж оженился…
— А то я не знаю, — отмахнулась Ульяна сердито. — Дойдет очередь и до Петра. — И опять ко мне: — Оженился и Петро. К ней жить пошел.
Видать, Петро чем-то старикам испортил настроение. А чем — спрашивать неудобно, захотят, думаю, сами расскажут. А они не хотели говорить, молчали. Карпо философски подытожил:
— Да то нехай. Ихнее дело. Как хотять, так и пущай живуть. Силком рази удержишь.
— А я што, налыгачем ее привязывала? Не ндравится — и проваливай, скатертью дорожка! Кума с воза, кобыле лекше, — распалилась Ульяна. — Тоже мне, была заботушка держать!..
Мало-помалу угомонилась, разговор пошел спокойнее. Под конец Карпо сказал:
— Завтра всех повидаешь, поприходють. Воскресенье…
— Поприходють, разевай рот шире, — возразила Ульяна. — Петькина гадюка уже объявила: «Возьмёжно, будем заняты», — передразнила она невестку, смешно собрав губы в трубочку.
— Поприходють, никуда не денутца, — сказал Карпо уверенно.
— Строили, строили, колготились, — жаловалась Ульяна. — Все думали, детям будет, а они, как и вы, выросли и разлетелись. Никому это не нужно, свое нажили.
— Ниче, не горюй, кому-нибудь сгодится. Жизнь — ее не угадаешь, когда и с какого боку она клюнет. Можа, из внуков кто вернется, — успокоил ее Карпо. — Хата пустовать не будет, не беспокойся.
Помолчали.
— На пенсии, значит?
— На пенсии! — сказал Карпо весело, будто его повысили в должности. — Ну, не без того, приробляю. — И предложил: — Пойдем на двор, покурим.
Вышли, сели на крылечко. Я смотрю на Карпа — постарел: суше стал, посерел, и уже какой-то по-старчески свалявшийся. Нет, оказывается, время работает и над Карпом…
С привязанными на багажнике двумя канистрами стоит, привалившись к стенке, мотоцикл.
— Вот голова садовая: привез и бросил нагреваться на солнце, — обругал себя Карпо и пояснил: — То ж со школы вода, перед обедом привез, — встал, снял канистры, отнес в веранду. — Нехай пока там, потом в погреб спущу. — Мотоцикл поставил в тень.
Мотоцикл этот у Карпа с давних-предавних времен, и выглядит он как автомобиль прошлого века в сравнении с нынешними машинами: руль тонкий, высокий, растопыренный, колеса тоже узкие и высокие, с длинными и тонкими, как у велосипеда, спицами. Когда Карпо едет на нем, сидит он прямо, будто аршин проглотил.
Откуда у Карпа взялся мотоцикл — не знаю, думаю, что он его сам собрал из деталей машин самого разного назначения. Как незаконно появилась на свет эта машина, так и живет всю жизнь никем не признанной: мотоцикл нигде не зарегистрирован и бегает, как беспаспортный бродяга, без номера. Да Карпо не очень и стремился его узаконить: сам он ездит на нем, не имея прав на вождение.
— До сих пор без номера?
— Нема, — улыбается Карпо. — И без правов.
— Не штрафуют?
— Не. А я не ездю туда, где штрафують. Я знаю, где они стоять, и объезжаю. — И стал рассказывать: — Один раз еду с огорода. У меня участочек был за посадкой. Два мешка картошки везу. Еду. Туда-сюда глянул — вроде не видать красной фуражки. Думаю, проскочу. Только я на саше, а он тут как тут. И показываеть так, становись, мол, на обочину. Стал. Ну что, дед, опять ездишь на своем драндулете? Так, кажу, а что делать? Картошку с огорода надо перевезть? А сам лезу в карман, там у меня рубиль на всякий случай приготовлен. Больше не буду, кажу, я и так тольки по огородам и езжу. Сказал так, а сам ему рубиль сую. А он: «Что это такое?» Обиделся. Так и не взял. — Карпо затоптал окурок, заключил: — Побалакали с ним, отпустил.
— Слышал, виноградник развели?..
Карпо как-то неопределенно отмахнулся, поднялся тяжело, потирая поясницу.
— Пойдем в сад, там прохладнее. — Когда зашли за сарай, он указал на несколько кустов у самой межи с нашим огородом. — Вон остатки от виноградника. Оставил по кусту самого луччего, а остальной вырубил, из хмыза загородку сделал. А эти пущай, детям.
На шпалерах висели тяжелые гроздья винограда, и по этим нескольким кустам я легко представил себе, какой была плантация.
— Зачем же вы уничтожили?
— Нема корысти от него, — сказал спокойно Карпо. — На юге он раньше поспевает, всякие-разные привозють, цену сбивають. А для вина — мы непривычные к нему, самогон лучче. Да и мороки с виноградом много, а я уже остарел. Оставил ото кусточки унукам, пущай балуются. А тут вон насадил яблоньки и груши. С ними меньше хлопот. Вырастут — фрукта будет. Хватит и себе, и унукам, а можа, и на продажу.
Только теперь я заметил маленькие пушистые саженцы, натыканные по всему огороду в шахматном порядке. Карпо подошел к одному деревцу, потрепал его ласково за листья, как мальчишку за вихры, проговорил:
— Хорошо принялись. Скоро сад будет.
Из-за сарая выбежал и вдруг остановился, словно споткнулся, белоголовый парнишка. Поколебавшись с минуту, он медленно, обходя стороной и косясь на меня, приблизился к Карпу, стал по-кутячьи тереться о его штаны.
— А-а, Миколка прибежал! — обрадовался Карпо. — Сам дорогу нашел, чи, можа, с кем приехал?
Мальчишка ничего не ответил, поглядывая сурово на меня. По вздыбленным волосам над левым ухом, по припухлым подглазьям я сразу узнал Никитину породу — его сынишка.
— Да ты шо, оглох? — удивлялся Карпо. — Испугался? Да то ж наш, — кивнул Карпо на меня. — Дядя Вася, бабушки Анюты сын. Чи не узнал? Ну?
На мальчишку Карповы слова не подействовали, и взгляд его не подобрел. Он приподнялся на цыпочки и зашептал что-то на ухо нагнувшемуся деду.
— Во! — удивился тот. — Откуда ж я знал? Он же говорил, с понедельника, а теперь… — Карпо обернулся ко мне: — Микита ремонт затеял — полы перестилает, паркету достал. Договорились на послезавтра начать все, а ему уже сегодня дали отгул. — Карпо положил руку мальчишке на плечо. — Не, скажи отцу, не могу приехать: у меня свои планы. Завтра с утра приеду, а сегодня уже пообещал людям. — Карпо выпрямился, объяснил мне: — В школе директорше обещал колодец починить. Ты ж знаешь, какой там колодец? Глубокий! Воды почти и не видно, вот такусенькой копеечкой блестит. А ребятишкам интересно, игру затевают — камни в него бросают. Бросят и смотрят, когда долетит. Покажется рябь на воде — значит, долетел, и тут же начинают считать, за сколько звук дойдет от воды вверх. Оно-то интересно, да тольки плохая игра. Колодец засоряют, а главное — далеко ли до беды? Завозятся, подтолкнут друг дружку, сковырнется какой туда — вот тогда и считай. Давно я хотел крышку сделать, да все руки не доходили. А сегодня встретил директоршу и говорю ей: так и так, мол. Обрадовалась. «Очень хорошо, говорит, сделайте — спасибо скажем. Надоело отгонять детей от колодца». — Карпо нагнулся к внуку: — Так што занятый я сегодня. Пущай отец все приготовит, а завтря с утра и начнем.
Карпо повел нас с огорода. Возле сарайчика задержался. Разговаривая со мной, он стал отбирать доски — почище и поровнее, стопкой складывал в сторонке. Отложил, связал проволокой, понес к мотоциклу.
Возле крыльца Ульяна уже хлопотала — навязывала узелок с гостинцами «унукам». Карпо вывел мотоцикл, приторочил доски на багажник, крикнул жене:
— Ульян, подай ящик со струментом.
— Во, да чи у Микиты своего нема? — удивилась Ульяна.
— А я до Микиты завтря поеду. Успеем. Директорше пообещал крышку на колодец сделать.
— Ото давно пора! — обрадованно откликнулась Ульяна, вынося тяжелый ящик с инструментом. — Там и сруб надо починить, увесь расшатался.
— И сруб — тоже, — согласился Карпо, укрепляя поверх досок ящик.
— Полслободы ходит в школу за водой, а починить некому, — пожаловалась Ульяна.
— Да че там некому. Просто людям некогда, — возразил Карпо и обратился ко мне: — Ты вечером никуда не убегаешь? Ну вот и ладно. Побалакаем ишо. Миколка, передай отцу, шоб вечерять до нас приходил. Скажи, дядя Вася приехал.
Николка, размахивая узелком, деловито направился к калитке.
— Погоди, — остановил его Карпо. — Иди сюда, до остановки подброшу.
Обрадовался мальчишка, вернулся. Карпо посадил его на бензобак к рулю, сам перекинул ногу, оседлал свою машину.
— Задержат без номера, — сказал я.
Карпо снисходительно улыбнулся:
— Не задержуть! Ты лучче подмогни нам, подтолкни. — Карпо схватился за руль и, упершись ногами в землю, сдвинул мотоцикл с места, пошагал враскорячку над ним. Я уперся руками в седло, толкнул. Мотоцикл стрельнул раза три голубым облаком, застрекотал резко и помчался по улице, оставляя за собой пыльное облако.
— Вот неугомонный, — усмехнулась добродушно Ульяна. — Хлебом не корми, на край света побежит, только дай что-нибудь сделать. Ото Неботов — такой же заполошный, — кивнула она на дом через дорогу. — Все что-то делает, делает, и там успевает, и там. Детей, наверно, душ десять наплодили — всех в люди выводят. Ночью сторожует, днем бежит в лесхоз — лес сажает. Я дак и не знаю: спит он когда-нибудь? Вот мужики наши русскаи… Двужильные они, што ли? Ну такие ж работящие, такие работящие!.. И за што ни возьмутся — сами докумекают и сделают. — Вспомнив что-то, засмеялась Ульяна, закрутила головой. — Я тут как-то своему сказала: «И што б тебе, Карпо, на инженера выучиться? Ей-бо, ты был бы космонавтом». Пошуткувала. А он рассердился: «А на земле кто работать будет? Шо я, руками мало пользы делаю? Или, может, я иждивенцем у государства на шее сижу?» Обиделся. Вот чудак-то…
РОДНОЕ ГНЕЗДО
Гурин написал письмо брату и теперь сидел — «отходил» от него: устал почему-то, себя расстроил, взвинтил, взволновал. Взволнует ли это письмо так же и брата? Поймет ли Алексей, откликнется ли на его призыв?
Письмо получилось длинным и не везде ровным и убедительным. Местами Гурин петлял, как затравленный заяц, заметал следы, оправдывался. А в чем, собственно, почему? Он действительно обеспокоен положением матери, действительно хочет ей помочь… Да, но почему не сам берет на себя эту заботу, почему взваливает ее на брата, почему требует от него почти невозможного — сломать устоявшийся налаженный быт и переехать поближе к матери, а сам свою жизнь не хочет сдвинуть с места ни на йоту?
«Но ведь я беру на себя материальные расходы!» — возразил он предыдущим своим мыслям.
«Ах, деньги! Опять хочешь деньгами откупиться — и, как всегда, будешь выглядеть благодетелем. А ведь далеко не все можно купить за деньги и деньгами оправдать, в жизни много таких вещей, которые дороже денег». — «Да, это так…» — согласился Гурин: в какой-то степени он это уже почувствовал в последний свой приезд к матери. Раньше она говорила:
— Спасибо, сынок, за помощь: благодаря тебе я сыта, обута, одета и в тепле.
А теперь об этом и не вспомнила, а сказала:
— Плохо мне одной… Поговорить не с кем. У Тани своих забот полон рот: Иван, поросенок, внучка. У Оли жизнь — хуже не придумаешь: мужик ее пьет, дерется. Потому Светлана больше у Тани живет, да и сама Оля тоже у нее от мужа-буяна спасается.
Таня — дочь Павловны, Оля — внучка, а Светлана — правнучка. Вот какая ветвь разрослась. Когда родилась Светлана, шутили: сделала Павловну прабабушкой. А теперь и Алексеевы дочки обдетились, так что Павловна уже трижды прабабушка. «Летят годочки, — как-то грустно сказала Павловна. — Да не они старят нас, а детки: только вчера были маленькие, а тут, глядишь, уже сами отцы, а то и деды…»
— Разве ей, Тане, до меня? — продолжала жаловаться мать. — Раз в неделю забежит, хлеба принесет, спросит, что надо, и тут же обратно убегает. — Помолчала, вспоминая, о чем еще сказать сыну. — Зимы стали для меня тяжелыми: колодец далеко, воды принести — уже с трудом. Уголь в сарае, идти скользко, падаю. Прошу Таню наносить мне в хату топлива побольше, воды запастись. А когда ее нет, соседей прошу. Спасибо, Неботовы не забывают, наведываются. Кричат в окно: «Не замерзла, бабка?» — «Нет!» — отвечаю. Пошутим, а промеж шуток да и скажу, в чем нужда у меня. А больше всего, сынок, боюсь я, как откажут руки-ноги и буду колодой лежать — кому я нужна такая? Вот чего боюсь…
— Ну, не надо так мрачно думать. Будем надеяться… Но что же делать? Может, нанять кого вам в помощники?
Усмехнулась мать, покачала головой, удивляясь наивности сына:
— Да кого ж ты наймешь? В больнице сиделок не хватает, а ты мне хочешь сиделку найти.
— Как же быть?
— Был бы кто из вас поближе, мне бы спокойнее было.
— Но, мама… Ведь у нас там работа, квартиры. Почему вы не хотите переехать жить к нам?
— Да и вы тоже не очень хочете…
— Мама!.. Как вам…
— «Работа», — продолжала она, оставив без внимания его обиженный возглас. — Будто тут нет работы? Живут же и здесь люди. И квартиры имеют, и работают…
— Да, но…
— Да ты не огорчайся. Спросил, я ответила. Просил правду сказать, я сказала. Ничего, не забивай свою голову еще и мной, как-нибудь доживу. А вы делайте, как знаете: вам виднее.
В словах матери слышались жалоба, упреки и огорчения, он понимал ее, хотел бы помочь ей, но чувствовал свое бессилие и оттого нервничал. И чтобы прикрыть хоть как-то свое бессилие, он позволил себе обидеться на материны слова. «Почему не хочет понять нашу жизнь? Мою — в частности? Ведь раньше все понимала, даже поощряла… Разве трудно понять, что работа в областной газете — это одно, а в столичной — совсем другое: там я написал очерк — он звучит на всю страну. Там у меня положение, меня знают, со мной считаются. Книга публицистики выдвинута на премию. А здесь? Я ведь здесь уже всем чужой, незнакомый; обрывать там налаженное, обжитое, укоренившееся и начинать заново на периферии? Нет, это невозможно. Да у меня и сил не хватит на такие кульбиты. Не говоря уже о жене… Ах, мама, мама…»
А делать что-то надо. Надо помочь матери, и вообще надо спасать свое родное гнездо — оно совсем рушится: в сарае крыша просела, протекает, уголь намокает, а потом зимой смерзается, и матери приходится его долбить ломом. Легко ли? И дом весь перекосился, как после судорожных схваток. Черепица во многих местах потрескалась, уголки отвалились, требует замены, крыльцо держится на честном слове — подпорные столбики давно подгнили, и некоторые не то что не подпирают крышу, а сами держатся на весу за счет верхней части, которая и покривилась, и продырявилась. На всем налет запущенности и бесхозности. Дому нужен капитальный ремонт. А кто его сделает? Гурин готов ссудить на это нужную сумму денег, но ведь матери уже не под силу ни мастеров искать, ни тем более доставать материал — лес, кровлю.
А делать что-то надо. Нельзя допустить, чтобы родное гнездо рухнуло и прекратило свое существование. Карпова усадьба — опустевшая и заброшенная, с заколоченным домом — нагнетает щемящую тоску своей кончиной. Лишь летом изредка наезжают сюда чужие люди откуда-то из нового поселка, что вырос за химкомбинатом, посадят картошку, прополют, потом уберут, и все. Глухо и жутко от этой пустоты, где еще совсем недавно кипела такая жизнь! Где Карпо с Ульяной растили детей, радовались своему налаженному хозяйству, принимали гостей, и вдруг ничего не осталось, все рухнуло. Лишь остатки этого гнезда доживают свой век: дом облупился, ставни перекосились, вот-вот их ветер посрывает, сад сохнет, двор зарос бурьяном…
«Неужели же такая участь постигнет и наше подворье? Неужели и этот уголок, где мы родились, росли, бегали, играли, мечтали, зарастет забвеньем, превратится в пустошь? Или — того хуже — станут здесь хозяйничать посторонние люди и станет это место для нас чужим?» — думал он, поглядывая на соседний дом, в котором затухла жизнь родного дяди. На все это сердце Гурина отзывалось такой болью, такой тоской, что у него голова кружилась и в пот бросало, как при обмороке. «Нет, надо сохранить, надо сохранить!»
Раньше он об этом почему-то не думал, ему казалось, что этот дом, двор, родное гнездо вечны, что они будут всегда, куда он в любую пору может приехать, и ему всегда будут рады. Здесь он, как нигде, сможет отдохнуть душой и телом, подышать родным воздухом, вспомнить детство, погрустить, повеселиться, вкусить знакомых с детства огородных и садовых яств, походить босиком по двору, по огороду — там земля мягкая и теплая от солнышка, и пахнет укропом, малиной, полынью — всем, что только растет здесь, и все это знакомое, близкое, родное, приятно возбуждающее. А еще он думал, что со временем этот дом станет и как бы базой, хранилищем их семейных традиций, реликвий, его архива — за годы у него накопилось так много книг, черновых рукописей, что для них уже места в квартире не хватает, а выбрасывать жалко, и он мечтал оборудовать здесь, в родном доме, угол в чулане, сделать стеллажи, на которых и будут бережно храниться его труды. Авось когда-то кто-то заинтересуется ими и, сдув с них пыль, с волнением раскроет папки и окунется в мир его мыслей и забот…
Так кто же теперь будет хранителем этих традиций, его архива? Все стареет и рушится с космической быстротой. Главное — мать, на нее была вся надежда, ему казалось, что она тоже будет вечно. Оказывается, нет, время никого не щадит. Но почему так быстро, почему так безжалостно все катится к закату? Неужели нет никакой возможности все это остановить?
Нет, надо что-то делать…
И решил он обратиться к брату. Рассудил: тому терять нечего. Областной город поменять на областной, тем более переехать в «свой» — это даже заманчиво. Работать судьей — тоже без разницы где. Жена его уже на пенсии, дочек повыдавал замуж, развезли их в дальние края зятья — военные. Что может его удерживать в Крыму? Привычка? Сам Крым? Конечно, Крым — не Донбасс: тут чад, копоть, уголь, а там — сады, виноградники, море. Курорт! Да разве он видит тот курорт, живя в нем? Курорт хорош, когда приезжаешь туда на короткое время. А воздух Донбасса! Это же наш воздух, родной, привычный с детства. «И дым отечества нам сладок и приятен». И впрямь — сладок и приятен, это Гурин на себе не раз испытывал, приезжая домой.
И в письме к брату напустил лирики, для убедительности нафаршировал письмо еще и разными поговорками и пословицами: дома и солома едома; дома и стены помогают; где родился, там и пригодился. Это ведь все народная мудрость, она не Гуриным придумана и не для красного словца молвится.
Написал убедительно, все обосновал, объяснил, особенно на чувства нажимал, разжалобить пытался — знал, брат такой же чувствительный, как и он сам.
Написал, а на душе почему-то муторно, гадко, будто вершит он какое-то нечестное дело. Почему бы это? Да потому, наверное, что все его доводы Алексей может переадресовать ему самому — и будет прав. Прав, разумеется, по-своему, со своей низкой колокольни, со своего узкого взгляда на жизнь, — он должен понять, в конце концов, что у него, Василия, совсем другая жизнь, другие планы, другие задачи: он известный журналист и должен стать еще более известным — премия поднимет его на еще большую высоту. Нет, они почему-то этого не могут понять! Ни мать, ни брат, ни тем более сестра, которая и в школе-то не утруждала себя чтением, а газет и вовсе в руки никогда не брала. Не могут понять, что он уже достаточно пожертвовал ради матери — не бросил работу, не пошел на творчество, а мог бы… И был бы наверняка не менее известным писателем. Был бы! Перо у него бойкое, взгляд острый, мышление образное — все данные. Но он закопал свой талант, ради того чтобы не лишиться ежемесячной зарплаты и, значит, регулярной помощи матери.
Это-то они, а прежде всего брат, должны понять? У него ведь высшее образование.
Чем больше Гурин рассуждал, тем больше расстраивался, горячился, будто спорил с ними со всеми в упор, отбивался от их упреков и ждал все более веских и обидных слов, которых они пока не говорят ему — то ли щадят его, то ли не знают этих слов. А они есть, эти слова, и Гурин их знал. Одно из них «неудачник». Конечно, он неудачник. Мог бы достичь большего, но растранжирился на мелочи, довольствовался маленькими вспышками успеха — так при чем же тут все они? И второе слово — «тщеславие». Да, именно тщеславие всю жизнь руководило его помыслами и делами. И сейчас тщеславие не позволяет ему самому сделать тот благородный зигзаг в своей жизни, который он уготовил брату.
— Нет, нет!.. — закричал Гурин и бросил на стол ручку, так что из нее брызнули чернила и окропили мелкими точками верхний лист письма. — Все это не так, все неправда! Если они так думают обо мне, значит, они ненавидят меня и лишь делают вид, что любят, уважают, а все это из-за моих подачек. А я? Выходит, я действительно лишь откупался деньгами, вместо того чтобы самому принять участие в чьей-то судьбе, помочь делом? Ведь я действительно никого из них надолго не пригостил, не приютил у себя, ни о ком не похлопотал, даже когда просили, — всегда ссылался на занятость, всегда проявлял нетерпение: мол, мешают работать. А наработал-то, если здраво рассудить, с гулькин нос! Другие вон как преуспели, а я лишь на склоне лет выбиваю себе премию. И теперь ищу виновных… А виноват сам, сам. Упивался внешней стороной своего дела, а работал мало, безобразно мало, наскоком, спонтанно. То увлекся машиной — «хобби»! И где она теперь? Стоит, ржавеет. А сколько отдано сил, времени и здоровья друзьям-приятелям? Все разыгрывал из себя рубаху-парня, щедрого и хлебосольного хозяина — кормил, поил их и упивался умением делать это легко и весело. И где они теперь? Каждый занят своим делом, своим гнездом, а до меня никому нет дела, особенно тем, кто преуспел и оказался на верхней ступеньке нашего общежития. Один остался! Вот и зачастил лопастями, поднял пары, заактивничал. Да поздно, братец: уже пришли другие — молодые, настырные, пробивные, бесцеремонные и безжалостные. У них совсем другая мораль…
Распалил себя Гурин, расстроил, на душе стало так тоскливо, так неприкаянно и пусто, будто он прикоснулся не к Карпову заброшенному и никому не нужному подворью, а к своему такому же разбитому корыту.
— Неужели Карпова участь — это и моя участь? А может, даже и хуже: Карпо хоть какое-то время еще поживет в памяти своих детей, а я…
Почувствовав что-то неладное с мужем, жена поднялась, прошла к нему:
— Что с тобой, Вася? Ты чем-то расстроен?
Он взглянул на больную жену — бледная, с ввалившимися глазницами, обрюзгшая, она тяжело дышала, словно поднималась на высокую гору.
«Вот еще один постоянный укор мне, — подумал он раздраженно. — Не могу найти врача, который вылечил бы ее от депрессии, а ей кажется — не хочу».
— Что случилось? — она взяла его за руку, пытаясь приласкаться.
Он нервно отдернул руку: «Всегда не вовремя… «Что случилось», будто мои заботы когда-нибудь трогали ее. Особенно мать. Ведь они и виделись-то всего несколько раз за всю жизнь, а все равно ненавидит ее какой-то постоянной животной ненавистью».
— Не смотри на меня, пожалуйста, такими глазами, — попросила она. — Мне сегодня немного лучше…
— Ну и хорошо. Я рад. Значит, последнее лекарство помогло. А мне вот плохо… почему-то…
— Почему? Опять самоедством занимаешься?
— Да, самоедством. Ты все знаешь, ты сразу все определишь и сразу диагноз поставишь: «самоедство»! — обиделся он.
— Вася, не кричи на меня. На меня нельзя кричать, я больная, ты же знаешь. — Она опустилась на стул у письменного стола.
— Да не кричу я, — сказал он мягче, но с досадой. — А если и кричу, то не на тебя, а на себя.
— Не надо и на себя. Ну почему ты стал таким раздражительным? Из-за меня?
— При чем тут ты?
— Из-за премии? Что-нибудь узнал? Ну и пусть. Не дадут — пусть подавятся ею, жили без нее…
Удивительная болезнь у жены — ей стало все безразлично, ей ничего не надо!
Она взглянула на стол и, насколько позволяла ее немощь, воскликнула:
— Боже мой, что ты наделал! — Она взяла ручку, и та развалилась на две неравные половинки, истекая густыми синими чернилами.
— Моя ручка! — ужаснулся он. — Моя любимая ручка! — Гурин схватил обе половинки, приставил друг к дружке, а губы его шептали: — Моя любимая ручка…
Любимая ручка! Перьевая, паркеровская, купленная лет двадцать назад в Австрии, сколько лет она служила ему безотказно! Как он дорожил ею, как берег, не давал никому даже росчерк сделать: она писала мягко, легко, послушно, она в любую минуту была готова к работе, в ней никогда не высыхали чернила, и она никогда не пачкала рук. Но, главное, писалось ею легко и быстро, ее перо само бежало по бумаге, торопилось и успевало за мыслью. И вдруг — нет ее больше… Это недобрый знак…
— Ну не расстраивайся так, — чуть не плача попросила жена. — Не надо, это на меня действует. Купишь себе другую.
— Другую?! Никогда! Где ты ее купишь?
— Ну починишь. Понеси в мастерскую, попроси, склеят.
— «Починишь»… Пропала ручка… — А в голове билось: «Это — примета… Это дурная примета: ручка сломалась… Что бы это значило? Наверняка не к добру… — И тут же упрекнул себя, хотел отогнать эту гнетущую мысль: — Во что я превращаюсь? Самоед, да еще и суеверный… Моя любимая ручка…» Он взял ее бережно, как больного птенца, положил на ладонь и понес в ванную, принялся тщательно мыть под теплым краном. Моет, приставляет изломом половинки друг к дружке, ругает себя за горячность, а в голове, как заноза, сверлит одна и та же мысль: «Это — примета… Это не к добру: ручка сломалась…»
Вышел из ванной, а жена все еще сидит за столом, видать, ждет его.
— Я прочитала письмо.
— Зачем?! Кто тебе разрешил?
— А что, нельзя? Там никаких твоих секретов нет. Очень хорошо написал, зря расстраиваешься. Все убедительно, все правда и так рассудительно, спокойно… И обо мне — хорошо, спасибо.
«Главное, о тебе хорошо, больше ты ничего не увидела и не поняла».
— Думаешь, можно послать?
— Конечно, посылай. Только эту, запачканную страничку перепиши.
— Неужели же такой заляпанной и пошлю!
— С тобой невозможно разговаривать, тебе тоже надо лечиться. Прими, пожалуйста, успокоительную таблетку.
— Отстань…
Она ушла. Он достал зеленую коробочку с надписью «Малахитовая шкатулка» — набор из двух ручек: шариковой и перьевой, чей-то давний подарок. Развинтил перьевую, заправил, принялся перебеливать страницу. Но в новой ручке чернила почему-то не сбегали с пера, и ее то и дело приходилось встряхивать, а «золотое» перо царапало своим острием бумагу и превращалось в кисточку. Это была не работа, а мученье, Гурин бросил ручку обратно в коробку, на которой красовался пятиконечный Знак качества, взял из подстаканника шариковый карандаш и переписал страницу.
Переписал и отложил в сторону, в конверт не стал запечатывать, оставил до утра: «На свежую голову прочту еще раз».
Утром, перечитывая письмо, он машинально стал править его. Сначала слегка, а потом так исчеркал, что не осталось ни одной чистой страницы, впору было снова перебеливать написанное. Однако он не стал этого делать, встал, прошел к жене. Она отрешенно сидела в кресле и даже не подняла головы.
— Тебе плохо? — спросил он, присаживаясь по другую сторону журнального столика.
Она не ответила.
— Ты меня слышишь?
— Да…
— А почему не отвечаешь?
— Не хочется…
— Тебе плохо?
— Да, мне хуже.
— Но вчера ведь тебе было лучше?
— Ты меня расстроил. Кричал на меня. И это письмо…
— Опять я виноват. Не надо было тебе читать его. Я и сам расстроился из-за него.
— Вечно находишь себе заботу.
— Речь идет о матери.
— Ты, как всегда, преувеличиваешь. Никакой беды там нет.
— Не будем об этом говорить: это может кончиться, как всегда, ссорой, а тебе нельзя волноваться. — Он помолчал, потом сказал: — Ты знаешь, я решил его не посылать.
— Ну и правильно.
— Нет, не в том смысле. Я хочу поехать и поговорить с Алексеем. В письме ведь всего не расскажешь.
— А как же я одна останусь?
— Так я не сейчас. Подождем, когда тебе станет лучше, а за это время ты свыкнешься с мыслью, чтобы не было неожиданным. Попрошу кого-либо из соседей присмотреть за тобой. Я ведь ненадолго, туда да обратно, на сутки-двое отлучусь.
— О боже мой… Ты не можешь, чтобы меня не волновать. Хватит, я устала. Делай, как хочешь, мне все равно. Принеси таблетки…
Он принес таблетки и воду, протянул ей, но она никак не отреагировала на него, сидела неподвижно в обычной своей позе: опущенная голова, безвольно отвисшая нижняя губа, плетьми повисшие руки по обе стороны кресла и полузакрытые глаза.
Присев перед ней на корточки, он тихо сказал:
— Прими, пожалуйста, лекарство.
Она устало повела в его сторону глазами, смотрела какое-то время на него непонимающе, но, увидев таблетки, встрепенулась, взяла их, положила на язык, пригубила стакан и тут же протянула его обратно. Он видел, что вся эта несложная процедура далась ей большим трудом, у нее не осталось сил даже вытереть губы, на которых поблескивали капельки воды. Гурин взял, со столика салфетку, сунул ей в руку.
— Что это?.. — Она приподняла веки. — А-а… — прикоснулась лениво салфеткой ко рту, да и то только с одной стороны, выронила ее на колени. Ему показалось, что она даже таблетки не проглотила, так и держала их во рту, но не стал говорить, чтобы не раздражать больную.
«Что за странная и страшная болезнь, — в который раз подумал он, глядя на жену. — А вдруг она неизлечима? Вдруг так и останется? Хотя бы не прогрессировала…»
— Может, приляжешь?
Она покрутила головой:
— Не хочу…
Гурин поднялся, постоял над ней какое-то время и, виновато склонив голову, пошел на кухню готовить завтрак. Хотел вернуться и спросить, что ей приготовить, но раздумал: он заранее знал ее ответ: «Ничего…»
Взглянул на часы — время бежит, через час он должен быть уже в редакции. Поставил на газ чайник, нарезал колбасы, сыру, позвал жену.
— Я не хочу… — сказала жена. — Я потом… Ешь сам.
— Пойдем, пойдем, — он взял ее под руку, помог подняться. — Пойдем. Я знаю твое «потом».
— Ну что ты меня принуждаешь?.. — капризно, чуть не плача застонала она. — Мне совсем ничего не хочется… Оставь меня в покое.
— Но есть-то нужно?
— Разве только кофе…
— Хорошо, — он усадил ее за стол, налил кофе, подвинул тарелку с колбасой и сыром.
— Не-е, — поморщилась она.
— Кусочек сыра съешь.
Она отхлебнула кофе, потом отломила уголок сыра, пожевала лениво, снова пригубила чашку, подняла на Василия страдающие глаза, умоляюще попросила:
— Я устала… Пойду отдохну… Я потом допью…
— Ну ладно, иди. Помочь?
— Не надо. Я сама…
Когда жене стало немного лучше, он купил билеты на самолет (туда и обратно) и улетел на выходные дни в Симферополь к брату. Тот встретил его в аэропорту, встретил радостно, обнялись, Алексей даже растрогался — глаза повлажнели. Чтобы скрыть свою слабость, нагнулся, подхватил «дипломат» гостя и быстро направился к выходу. Василий заспешил за ним, удивляясь энергии брата. «Моторный, — вспомнил он слова матери о нем. — Как живчик. До сих пор моторный, не догонишь. Хотя располнел безобразно, надо будет сказать — пусть последит за собой, не распускается». А голова Алексея меж тем уже маячила далеко впереди, толпа спешащих людей все обгоняла, обтекала Василия, и он оказался в самом хвосте потока. Встрепенулся, заспешил вместе со всеми.
На крыльце Алексей встал в сторонке, подождал брата.
— Ты куда так спешишь? У тебя дела? — спросил у него Василий.
— Да нет, никаких особых дел… Привычка, — улыбнулся тот. — Давай обсудим нашу программу. У тебя какие планы? Куда и надолго ли прилетел?
— К тебе и ненадолго. Завтра же обратно.
— Что так? — насторожился Алексей.
— Ничего особенного… Посоветоваться надо по одному делу.
— Не мог позвонить? Или написать?
— На тебя посмотреть. Давно ведь не видались.
— У меня есть предложение — поехать на дачу, — сказал Алексей. — Там надо кое-что поделать по хозяйству. А ты, кстати, и дачу посмотришь, и отдохнешь, и поговорим. Но это если у тебя других дел нет. А если есть, все отменяется.
— Отменять не будем. Поедем.
— Ну и хорошо! — обрадовался Алексей. — Какие могут быть дела: сегодня ведь суббота. Пошли. Там на стоянке нас ждет машина — попросил знакомого, соседа по даче, прихватить и нас, — рассказывал Алексей на ходу. — Соня там с сумками.
— И Соня здесь?
— Да. Чтобы домой не заезжать, время не терять. Часа полтора сэкономим.
Завидев Гуриных, из серенького «жигуленка» вылезла Софья и не спеша пошла им навстречу. Тонкая, худая смуглянка с острыми плечами, в обвисшем, как на вешалке, просторном жакете, в длинной расклешенной юбке, в платочке, повязанном шалашиком, она походила на далеких своих предков — гречанок. А может быть, это была лишь фантазия Гурина: ведь греков он знал лишь по литературе и кинофильмам, да и то больше из древних времен.
— Здравствуй, Вася, — Соня протянула ему сухонькую ладонь.
— Привет, Пенелопа! — весело отозвался он и поцеловал ее в щеку.
— Ну вот, опять дразнишься! Что это еще за Пенелопа? Не мог по-другому назвать, поприличней что-нибудь придумал бы, — притворно обиделась она.
— Разве ты ее не знаешь? — удивился Василий. — Это хорошая женщина. Символ верности! Тысячи лет прошли, а ее помнят. Она была женой легендарного царя, ждала мужа с войны двадцать лет!
— Царя можно ждать и больше, — нашлась она.
Гурин засмеялся:
— А я как-то об этом не подумал.
— Ты меня все с той Грецией сравниваешь, а моя Греция где-то под Мариуполем. А там и имен таких нет. Ты лучше скажи, почему ты свою Пенелопу не привез?
Гурин развел руками:
— Ты же знаешь почему…
— И что, не улучшается?
— Иногда бывают просветы…
— Вот бедная.
— Эй, побыстрее! — поторопил их Алексей. — Мы же время экономим. Потом поговорите, по дороге, — он открыл обе дверцы машины, указал Василию на переднее сиденье, жене — на заднее, сам втиснулся рядом с ней, сказал: — Поехали.
Василий поздоровался с водителем, назвал себя:
— Гурин…
Водитель улыбнулся.
— Это и так видно: похожи! — Он легко и мягко включил передачу и так же плавно и незаметно тронул машину, вывел на трассу и, спокойно набирая скорость, повел ее по ровному шоссе. Гурин знал толк в вождении, любил вот таких водителей — спокойных, обстоятельных, несуетливых.
В природе на большой территории — от Москвы до Крыма устойчиво держалось теплое бабье лето — особо любимая Гуриным пора. Тихое увяданье буйной зелени; воздух, настоянный на терпком запахе яблок, дынь и полыни; первые подпалины листочков на стройных березках и кудрявых тополях — все это навевало приятную грусть. И думалось Гурину в такую пору хорошо, и дышалось легко. Вот и сейчас, глядя на пробегавшие мимо бесконечной вереницей перелески, поля, буерачки, сады, селения, он невольно погрузился в какие-то свои глубокие раздумья — хаотичные, неопределенные — обо всем сразу. Окликни его и спроси, о чем думает, — так и не ответит сразу: будто стая пугливых воробьев, вмиг разлетятся эти думы, словно и не было. А думается о многом: о тех же просторах и селениях, вспоминается виденное в других местах, в других краях и странах, невольно сравнивается, сопоставляется. Думается о себе, о матери, о предстоящем разговоре с братом…
Узкая ленточка дороги оторвалась от широкой магистрали и побежала вверх через пустынную белую степь с пожухлым чебрецом и редкими кустами перекати-поля. «Дачи»… Какие же здесь дачи?..» — невольно подумалось Гурину, но нарушать тишины он не стал, продолжал смотреть вперед.
Вскоре машина свернула с асфальтовой ленты и зашуршала шипами по белому мелкому гравию, оставляя за собой шлейф белой пыли. Дорога петляла крутыми поворотами, взбиралась с холма на холм, с горки на горку, обогнула по самому краю заброшенный карьер, и вот за небольшим перевалом показались низкорослые кусты, похожие на живую изгородь. Кусты были изрядно побелены дорожной пылью, и, глядя на них, Гурин почти физически ощутил, какую жажду испытывают они, живя на этом солнцепеке.
А машина уверенно бежала, петляя меж холмов, и вдруг совсем неожиданно уперлась в решетчатые воротца, за которыми густо зеленели небольшие фруктовые деревца. В глубине садика голубел маленький, будто игрушечный, домик об одно окошко с небольшой верандочкой и крылечком. От калитки к нему вела тенистая тропка, вдоль которой виноградные лозы, взбираясь по металлическим дугам, образовали плотный сводчатый тоннель.
Выйдя из машины, Гурин глядел на этот оазис, не веря в его реальность.
— Чудо! — удивился он. — И все это настоящее, не декорация? — Он сорвал спелую виноградину, отер с нее белую пыль, бросил в рот: — Ей-богу, настоящее! И даже — вкусно!
Алексей поглядывал на жену, кивал ей, довольный произведенным впечатлением: «Оценил! Не зря мы тут столько сил и времени убухали».
— Сонь, ты давай завтрак налаживай, а я ему покажу свое хозяйство. — Обернулся к брату: — Пойдем. — И он повел его за домик, где у самой межи с соседским участком в тени яблоневых веток на невысоких столбиках стояли деревянные кроличьи клетки. Завидев людей, кролики всполошились и, толкаясь, заспешили к наружным решеткам, ожидая подачки.
— Голодные, — сказал Василий и тут же нагнулся, сорвал свекольный листок, сунул его в клетку. Кролики набросились на листок, принялись быстро грызть его, отнимая друг у друга.
— Нет, не голодные, — возразил Алексей. — Привычка: раз подошел, значит, давай чего-нибудь. — И не выдержал, выдернул из грядки морковку, отер рукой с нее налипшую землю, с хрустом разломил ее и бросил в одну, в другую клетку, сказал беззлобно:
— Прожоры…
Белые, чистые, длинноухие доверчивые зверьки вызвали у Василия прилив нежности, ему хотелось погладить их по мягкой шерстке. Но прутья наружной решетки были насажены так густо, что он смог просунуть сквозь них лишь палец, который тут же принялись обнюхивать влажными носиками два любопытных крольчонка.
— А это их папа, — Алексей указал на крайнюю клетку. Там, развалясь в вольготной позе, лежал большой самец. Тяжело дыша, он спокойно смотрел на пришедших.
— Какой красавец! — восхитился Василий. — Ему жарко, шуба на нем теплая. — Обернулся к брату: — Ну, молодец ты! Чем в детстве не доиграли, теперь наверстываешь. Помнишь, как мы пытались держать кроликов, сколько было всего: и убегали они, и воровали их у нас, а мама бранилась?.. Может, и голубей разведешь?
— А вон, посмотри, — указал Алексей на полку, прибитую вдоль фронтона под самым коньком. Василий взглянул, улыбнулся:
— «Дикарей» завел?
— Каких «дикарей»?! — притворно обиделся Алексей. — Это же почтовые!
— Почтовые?
— Так видно же! Посмотри, какие крупные, и клювы мощные. И вообще совсем другой вид у этого голубя.
— Пожалуй, ты прав, — согласился Василий. — Но я ведь их никогда раньше вблизи не видел. А у нас были николаевские да «дикари», их сизарями еще называли.
— Умный голубь! — восхищенно сказал Алексей, кивнув на фронтон.
— С городом голубиной почтой связь держишь?
— Да нет, — улыбнулся Алексей. — Просто так… Некогда ими вплотную заниматься.
Гурин ходил по огороду, срывал запоздалые ягоды малины, крыжовника, черной смородины, удивлялся хозяйственности Алексея. «Молодец, на участке порядок, а главное — все родит! Обжился он здесь совсем, о доме даже не вспоминает. А я хочу его сорвать с насиженного места… Может, не трогать, не говорить ему о моей затее? Пусть все идет как шло до сих пор…»
Соня позвала братьев завтракать. В тесной верандочке было по-домашнему уютно. На столе крупные яркие помидоры, малосольные огурцы, легким паром дымилась отварная картошка.
— Все свое! — указал Алексей гордо на стол. — Все выращено вот на этом огороде.
— И колбаса?
— Колбаса — нет. И вот это — государственное, — он взял бутылку с коньяком, стал отвинчивать пробку. — Главное, все это без химии, не то что в магазине.
— Вот не думал, что в тебе проснется такая крестьянская жилка.
— Ты знаешь, сам удивляюсь! — признался Алексей. — Оказывается, я люблю это дело. Не дождусь дня, когда смогу вырваться сюда. И удовольствие, и отдых, и зарядка…
— …и польза.
— И польза.
— А что ты думаешь, — поддержала разговор Соня. — Польза большая: это же все надо купить? А тут свое. Картошки на всю зиму хватает. Чего это дурака валяли — запрещали все?
— Соня сразу в политику! — Алексей хотел обратить слова жены в шутку, но она продолжала свое.
— А то разве не политика — в магазине полки пустые? — не унималась Соня. — А ты все боишься, что я ляпну что-то не то про политику. Он же свой, — кивнула она на Василия. — Что он донесет про наш разговор?
— Дело не в этом, — сказал досадливо Алексеи. — К твоему сведению, сейчас уже не доносят. Время не то. Просто надоело про политику. Слишком много развелось «орателей» — все стали умные да разумные, развязали языки, а толку… Надоело.
— А то тебе не надоело, когда кричали «ура!» и убеждали, что мы живем лучше всех, а оказалось хуже всех. А жизнь-то у человека одна? Он верил, жил, работал, а потом оказывается, что вся жизнь его была в ошибке, во что верил, что делал — все оказалось не то и не так. И это ж не один человек, а целые поколения. То тебе не надоело?
— Надоело. И не только мне. Всем. Для этого, наверное, и затеяна вся эта перестройка. А потом — нехорошо: мои слова ты оборачиваешь против меня же. Ведь мы только вчера об этом с тобой говорили, а теперь ты зачем-то снова повторяешь.
— Так чего ж ты виляешь туда-сюда? Или и в самом деле испугался брата?
— Не говори глупостей, — обиделся Алексей. — Действительно надоело: чем больше говорильни, тем меньше веры. Семьдесят лет убеждали, что строим социализм, а на деле построили неизвестно что: с продовольствием посадили народ на голодный паек, сельское хозяйство посадили на такую мель, что нужны годы, чтобы поднять его, промышленность по всем статьям отстала на десятилетия. Арабские эмираты, которых грабят империалисты, построили такие города, какие нам и не снились, пустыню превратили в цветущий сад, провели современные автострады, а мы со своей нефтью цветущий край в пустыню превратили, города заброшены, дорог нет. Да что там!.. По всей стране ни одной приличной уборной, ни одной столовой, ни одного буфета. Везде грязь, запущенность, отсталость. Стыдно. Стыдно и обидно. А крику опять много. Вот я и боюсь этого крика, боюсь, что снова из этих восторженных криков ничего путного не выйдет, кроме очередной ошибки. Об этом я и говорил. И больше говорить не хочу, хватит, надоело. Давайте про что-нибудь другое поговорим.
— Сейчас трудно говорить о другом, — сказал Василий. — Все пришло в движение, все хотят знать правду и сами высказаться по этому поводу. Поистине бурное время.
— Пока буря эта только на словах, — заметил Алексей, — результата не видно. Я понимаю, что страна сидит в такой трясине, из которой ее не вытащишь в год-два… Но славословов, особенно из вашего брата журналиста, я бы укоротил: цены растут, продуктов питания и товаров не прибавилось, а вы уже трезвоните в победные колокола. Ладно, давай закусывай, — Алексей указал ножом на помидоры. — Ты ведь любишь их.
Василий потянулся к помидору вилкой, но Алексей остановил его:
— Бери рукой — это соленые.
— Соленые?! — удивился Василий. Взял помидор, проколол его тугую кожицу и высосал из него все содержимое. — Чудо! А на вид как свежие. Неужели сама солила?
— Сама! — погордилась Соня. — Научилась. Даже интересно заниматься этим. Друг у дружки опыт перенимаем, рецептами обмениваемся.
— Вкусно! — похвалил Василий искренне и потянулся за другим помидором, а про себя подумал определенно: «Нет, не буду говорить им о своих делах. Рушить налаженное, вносить сумятицу в семью. У них, видать, и без того не все гладко: разговаривают друг с другом раздраженно…»
— Ну а ты с чем приехал? Что-то случилось? — нетерпеливо спросил Алексей.
— Ничего не случилось, — сказал Василий как можно беспечней. — Так просто. Подумал: дай, слетаю…
— Ну да! Так я тебе и поверил!
— Дай человеку поесть, — упрекнула Соня мужа, словно предчувствовала, что предстоящий разговор больше всего заденет ее.
— Говори, — настаивал Алексей. — Ешь и говори.
— О маме хотел поговорить… О нашей матери, — начал Василий неуверенно, будто плохо выученный урок.
— А что с ней? Заболела? — насторожилась Соня.
— Да нет… Здорова пока. Одинока она, и хата рушится…
— А-а… Мы ж ей предлагали переехать к нам, не захотела… А так… Мы ей тоже помогаем — по пятнадцать рублей посылаем, посылки… иногда…
— Да погоди ты, — сердито оборвал жену Алексей. — Про хату я думал… Но даже если мы дадим ей денег на ремонт, она ж все равно не сможет отремонтироваться?.. И просить некого: Карпа нет, дяди Федьки Неботова — тоже… Дядья?.. Те хоть и роднее всех ей, а как-то ведут себя отчужденно. «Повыучила сыновей, дак ото и живи как знаешь».
— Кто это так говорит? — обидчиво спросил Василий.
— Да все…
— Неужели так говорят?
— А ты думаешь, стесняются! Ну а ты что предлагаешь?
Василий поерзал на стуле, улыбнулся виновато:
— Я письмо вам написал… А потом решил сам привезти его, — достал из кармана, протянул Алексею.
Ухмыляясь чему-то, тот взял конверт:
— Заклеено! Не читал в дороге? Гляди, чужие письма читать нельзя.
— Читай, — нетерпеливо сказал Василий.
Соня, сжав тонкие губы, настороженно затихла. Когда Алексей прочитал первую страницу и положил ее себе на колени, она не выдержала, спросила:
— А мне можно?
— Конечно! — с готовностью обернулся к ней Василий и кинулся было к листку, но Алексей опередил его — молча передал листок через плечо жене.
Воцарилось молчание. Василий не знал, чем заняться, взглядывал на брата, хотел угадать по его лицу, какое впечатление производит письмо, но тот спокойно читал страницу за страницей, лишь изредка вздыхая. «Зря, наверное, отдал я им это письмо», — досадовал Василий.
Прочитав последнюю страницу, Алексей передал ее жене и, не меняя позы, сидел молча. Ждали, когда письмо прочитает и Соня. А та прочитала и тут же сказала:
— Умеешь писать! Складно и трогательно…
— Главное — все правда… — сказал Алексей.
— Да то так… — засмущался Василий. — Мечты, раздумья вслух… Я понимаю, что это нереально: у вас тут все уже так обжито…
— На родину, конечно, тянет… — проговорил Алексей.
— У Сони тоже родина в Донбассе… — оживился Василий.
— Там уже почти никого не осталось, — быстро ответила Соня. — Один дядя еще живет в Старобешево. Старенький уже. — И тут же добавила: — А у наших девочек у всех тут родина…
— Но они ведь уже разлетелись… — напомнил Василий.
— Любят сюда приезжать. Все-таки Крым: море, фрукты. Они ни за что не согласятся, — уверенно сказала Соня, как о решенном. Алексей взглянул на нее сурово:
— Так всю жизнь девочки и будут нам диктовать свои условия?
Письмо взволновало Алексея, он понимал брата, понимал тяжелое положение матери, понимал, что отказать будет трудно, но еще труднее будет решиться на переезд, и потому он сердился на жену, у которой уже готовы и ответ, и все доводы в защиту такого ответа. Сердился в душе и на брата — на правах старшего и еще на каких-то правах он всегда подавлял Алексея, подчинял своей воле. А тот почему-то не смел ему противоречить. А почему? Почему он должен чувствовать себя виноватым в том, что Василий не стал знаменитым писателем? А может, ему и не дано взобраться на такую высоту? Может, это и есть его удел, его потолок — быть более или менее видным журналистом? Да и разве этого мало? Ведь он, Алексей, никого не винит, что не стал художником? Вообще никаким? А мог бы. Сам виноват? Виноват, сам. И никого не винит. А у Василия всегда другие виноваты… Конечно, он прямо никого не винит, ссылается на обстоятельства. Но ведь эти обстоятельства известны: мать, Алексей, сестра Таня… Будто все они сидели у него на шее…
— Не спорьте, — сказал Василий примирительно. — Давайте подумаем, как быть. Есть же, наверное, какой-то и другой выход? Может, Таню попросим…
— Ты же знаешь, что это бессмысленно, — поморщился Алексей.
— Почему бессмысленно? — двинула плечами Соня. — Что, разве ей мать не родная? Или она инвалид какой?
— «Инвалид»! — подхватил Алексей. — Такой же, как и ты: баба. Что она сможет сделать? Ты много сделала бы одна даже вот с этим курятником?
— Как вы умеете свое оберегать, когда надо, — сказала Соня неприязненно и отвернулась.
— Пошло! — закрутил головой Алексей. — «Мое», «твое», «наше», «ваше»! Теперь разговора не будет…
— Не нравится! Задела правду. Вам только тот разговор нравится, какой вам по душе, — распалялась Соня и своим возбуждением заводила уже и Василия. До сих пор он лишь досадовал на себя, что затеял этот заранее обреченный на неудачу разговор, но слово «вам» касалось и его, оно резануло его больно, он хотел ответить резко, но сдержался и как можно миролюбивее повторил:
— Не спорьте…
— Даже Таню оберегаете… Как же — ваша сестра! Хотя она и к вам совсем как чужая. Только, когда надо, лезет: «Помогите». Олю сначала бабушке подбросила, та вырастила ее, потом нам — доучивайте. Мы приняли ее как свою, с нашими девочками училась. Ну? Все это не в счет? А она ведет себя так, будто все ей обязаны.
— Да при чем тут это? — сказал Василий. — Французы говорят: «Сделал доброе дело — не напоминай». — Он улыбнулся, пытаясь погасить разгоравшийся спор.
— И с мамочкой со своей носитесь, как с писаной торбой: «Она подвижница!» «Она — героиня!» «Она — необыкновенная!» «Вырастила одна троих детей!» Будто одна она такая. После войны тысячи остались вдовами и растили детей.
— Соня! — Василий расширил удивленно глаза, все еще не веря своим ушам — действительно ли он слышит такие слова в адрес своей матери?! — Соня, как тебе не стыдно? Ты сама столько перенесла, твоя мать двадцать лет лежала разбитая параличом, и он, — указал Василий на Алексея, — ни разу не пожаловался, хотя ему тоже доставалось — терпеть двадцать лет больную тещу!
— Ну да, как ваша — так «мама», «мамочка», а чужая — «теща»! А свекровь — ты знаешь, что это такое? Думаешь, у вашей мамочки ангельский характер? Если она с родной дочерью не может ужиться…
— Да как ты смеешь? — не сдержался Василий, но тут же осекся, сказал более спокойно: — Не ожидал от тебя таких слов. Сама мать троих детей, учительница… воспитатель, а… а на самом деле обыкновенная… базарная баба. Извини за резкость.
Да, наверное, у матери не ангельский характер, тем более далек он от совершенства у сестры. Особенно у сестры, она почему-то не ладила с матерью, просто не терпела ее, но братья думали, что об этом знают только они одни да мать, и тщательно скрывали от людей, делали вид, что в их отношениях все тихо и гладко, всеобщая любовь и взаимопонимание. И то, что эта их семейная тайна оказалась ни для кого не тайной, почему-то больше всего взбесило его. Он вскочил, бросил в тарелку измочаленную бумажную салфетку и стоял в тесноте, не зная, что делать.
— Ну и хорошо, пусть — баба. С бабы меньший спрос, — с вызовом сказала Соня. — А чего ж ты к бабе приехал, такой высококультурный и знаменитый?
— Я приехал к брату!
— А что брат? Он что, одинокий? Он уже около тридцати лет женат. У него три дочки взрослых, жена есть, хоть и баба. Об этом ты подумал, с этим надо считаться? Или мы все не в счет? Раз ты надумал — все должно броситься в жертву твоей затее? Так, что ли?
— Перестань, — сказал как-то неуверенно молчавший во время всей этой перепалки Алексей.
— А ты ото молчишь — и молчи. Ты готов уже поднять лапки кверху. А я тоже голос имею, это касается и меня… Может, меня даже в большей степени: я и за девочек говорю. — Помолчала, проговорила, будто для себя: — Никогда с добром не приедет, всегда ссору принесет в дом…
— Как тебе не стыдно? — взорвался уже окончательно Василий. — Так-таки и «никогда»? Так-таки «всегда»? Так-таки вы ничего доброго от меня никогда не видели?
— Прости, — сказала она сердито. — Вырвалось вгорячах.
И то, что Соня стала отступать, почему-то не успокоило Василия, а еще больше возбудило. Он сделал вид, что не услышал ее извинений, ему вдруг почему-то захотелось, чтобы разговор оборвался именно на этом апогее, а не пошел на спад, чтобы он остался обиженным и оскорбленным. Какая-то капризная, избалованная струна взяла верх в нем, он схватил свой «дипломат» и ринулся к двери:
— Раз «никогда»!.. Раз от меня только зло!.. Извините, мне здесь делать нечего!
— Остановись! — каким-то остервенело-истеричным голосом закричал Алексей. Но Василий не остановился. Когда он был уже у калитки, на веранде загремело железными кастрюлями, битой посудой, словно домик тряхнуло землетрясение. Но и это не остановило его, он выскочил за ворота и заспешил по пыльной дороге в сторону города. Вскоре его догнал попутчик, подхватил и за трешку довез до самого аэропорта.
Журналистское удостоверение помогло ему обменять билет на ближайший рейс, и в конце дня, еще не остыв от спора в Крыму, он был уже дома в Москве.
Жена удивилась:
— Не улетел? Рейсы отменили?
— Да, отменили… — проворчал он. Хотел излить на нее все, что накопилось за время полета в адрес Сони, но вовремя вспомнил, что жена больна, попросил твердо: — Сейчас не лезь с расспросами. Потом расскажу… Поеду в гараж. На дачу съездим?
На дачу Гурин поехал один, жена не захотела.
Выбравшись на Ленинградское шоссе, он при первой же возможности пересек сплошную линию, занял крайнюю левую, восьмидесятикилометровую, полосу и погнал машину, насколько позволял поток.
Обычно за рулем он умел отключаться от всего, что занимало его, и сосредоточивался только на дороге, на движении, на обстановке вокруг. Но сегодня он уже который раз ловил себя на том, что ведет машину рассеянно, механически, однако всякий раз эта мысль быстро уплывала, подавлялась все еще бушевавшим в нем гневом на сноху. И не только на нее, а вообще уже на всех своих родственников и близких. Он мысленно перебирал каждого из них и в каждом находил все больше и больше дурного, особенно что касается их отношения к нему.
Свернув с магистрали на аэропортовское шоссе, он нажал до предела на педаль газа, и машина послушно понеслась по широкому асфальту. Стрелка спидометра качнулась вправо и быстро поползла вниз, но он не обращал на нее внимания: скорость, казалось, уносила его от всех людей, от всех забот, от всех невзгод.
Дорога знакомая, много лет обкатанная им, на ней ему были известны все выбоины, повороты, извивы, в любое время дня и ночи он ориентировался на ней как в своей квартире. И машина всегда вела себя послушно, будто сама знала, где притормозить, где рвануться вперед, где мягко наклониться в вираже… А тут вдруг на небольшом закруглении Василий неожиданно почувствовал, что машина не слушается, она не вписалась в поворот, выскочила на встречную полосу и устремилась на дорожное ограждение. Опередив на какое-то мгновение беду, он огромным усилием довернул руль, колеса завизжали и снова вынесли машину на свою полосу. На лбу у Гурина выступил холодный пот, руки дрожали. Он сбросил газ, съехал на обочину, остановился. «Дур-р-рак! — выругал себя. — Хорошо, не было встречных машин».
С ним поравнялся «жигуленок», которого он обошел еще в начале шоссе, водитель притормозил, посигналил Гурину и покрутил пальцем у виска.
— Ладно, езжай… Умник нашелся… — сердито огрызнулся Гурин. Включил передачу, поехал дальше, теперь уже внимательно наблюдая и за дорогой, и за спидометром.
Въехав в ворота участка, он не торопился вылезать из машины. Склонив голову на руль, ругал себя за горячность в Крыму, за беспечность на дороге, досадовал на сложные отношения с родственниками. «Ну почему они меня не любят, почему они такие?.. Неужели не видят моей заботы о них, моего постоянного внимания к ним, моей доброты… Ведь я постоянно думаю о них, притом хорошо… Хоть маленькие, но всегда стараюсь всем уделить знаки внимания. Открытка редкая попадется — отошлю кому-то из детей, пусть порадуется. А от них не всегда даже ответного письма дождешься. Что это? Безразличие, отчуждение, бескультурье, отсутствие надобности во мне? Или все так замордованы своими делами, что до меня им и дела нет?»
— «Святое семейство!» — с горькой иронией проговорил он, вспомнив слова материной соседки Неботовой Катерины. Это она всегда, когда Гурины собирались все вместе, смотрела на них восхищенно и приговаривала: «Ей-бо, святое семейство! Ну где нынче еще найдешь, чтобы так к матери относились? Да и промежду себя? Такие заботливые, внимательные, друг дружке помогают. Нет, я всем так и говорю: «Святое семейство, и все тут!» — Эх, тетя Катя, тетя Катя, знала бы ты, какое это семейство… Как трудно держать на плаву всю эту благополучную видимость…
И Гурин понял, что его больше всего бесит то, что ему все труднее и труднее удерживать в тайне от людского глаза это мнимое благополучие. Как хотелось, чтобы их семья, их отношения между собой действительно были бы и чуткими, и заботливыми, и бескорыстными. А почему бы им и не быть таковыми? Росли все они в бедности, в постоянной нужде, с детства в труде, ничем не развращены, не испорчены, все добились благополучия своими руками. Алексей живет хорошо. Таня — похуже… Но не хуже других: свой дом, в доме мебель хорошая, ковры, телевизор цветной. Сама работает на пекарне, мучную пыль по дешевке берет, поросенка, а то и двух каждый год выращивает. Даже Оля, племянница, и та живет самостоятельно, в городской кооперативной квартире…
«Что надо людям? Почему они такие чужие ко мне? Не враждебны, а прохладны? Никогда никто из них не погордится своим братом, дядей? Будто у каждого из них в Москве есть такой известный журналист. Должна же быть у них хоть какая-то гордость? Нету и этого…»
Всех честил Гурин, всех перебрал, всем выдал по заслугам, обо всех сказал, что хотел, и только мать оставалась в стороне, стояла особняком — ее он не мог ни в чем упрекнуть: она действительно страдалица. Ведь она не просто осталась вдовой, а вдовой да еще с тремя малолетними детьми, а самой ей не было тогда еще и тридцати. И всю свою жизнь, молодость свою отдала детям: ни замуж не вышла, ни детей не запустила — всех выходила, выучила. Как же не ценить это, как же иначе назвать ее жизнь, если не подвигом? Хотя и у нее есть странности: она не выписывает газету, в которой работает Василий! Равнодушна к ней, говорит:
— Ее трудно читать — дужа мелкими буквами печатают. А твое? Так ты ж всегда свои статейки присылаешь мне, я их прочитываю и складываю. А потом кинусь — и не найду: то ли кто подхватил на завертку, то ли сама выбросила. Другой раз подальше прячу, а все одно куда-то теряются.
Добро бы она совсем не выписывала газет, а то ведь выписывает. Даже — «Сельскую жизнь»! Зачем она ей, что она в ней находит для себя? Неужели ее интересует агротехника, зоотехника, мелиорация, механизация? И шрифт ведь не крупнее, чем у гуринской газеты.
— Там на последней странице интересные заметки печатают: как медведь на поезде прокатился, как спасли женщину, как борщ варить…
— А то вы не знаете, как его варить?
— Знаю. Но там по-другому. Сварила по-ихнему — невкусно.
— Ну вот…
— А другой раз что-то и новое бывает. Для детей там рассказики маленькие пишут. Как шить, вышивать, вязать — все там есть.
— Но вы же не вышиваете, не вяжете?
— А все равно интересно. Вырежу такую заметку — и в папочку. Оле или Светлане покажу: «Учитесь, глядите, какая красивая кофта получается». Как-то приохотились вязать, связала Оля себе шарф, да на том все и кончилось: некогда. Штоб вязать большую вещь — надо много время. А я уже для такой работы не гожусь, глаза не видят, куда спицей тыкать.
Вот и пойми ее! Казалось бы, другая вцепилась бы в ту газету, где ее сын работает, а она — нет. Только и повидала она ее один год, когда он сам выписал ей. Думал: приохотится к ней, привыкнет, заинтересуется — нет, не привыкла. А газета-то популярная!
«Мать есть мать, — философски размышлял он о матери. — У нее не может быть никаких пороков и изъянов. Уже одно то, что она мать, — ей все прощается. А тем более у такой матери, как наша мама, — с нее действительно надо иконы писать. А мы старость ее не можем по-человечески обеспечить…»
Мысли о матери постепенно подавили в нем кипевший гнев, нервное напряжение спало, и наступило ощущение какой-то остаточной душевной горечи, бессилия, никчемности, бессмысленности своего существования. Хотелось плакать, хотелось покончить с собой, умереть…
И когда он представил последнее, представил всех собравшихся у его гроба, плачущих, рассказывающих шепотом друг другу, какой он был хороший — душевный, добрый, справедливый, как жаль, что его не стало, — представил все это и простонал от досады:
— Лицемеры! Ведь это все показное! Лживое! Ритуальное! Единственно, кому я причиню этим настоящее горе — так это матери. Нет, не надо ее убивать таким горем, хотя бы ради нее я должен жить… Не будет меня — ее все забудут, а она уже совсем старенькая… Мама, живи долго: пока ты жива — и мне кажется, что до моего конца еще далеко. Без тебя я стану крайним у той последней черты, за которой уже ничего нет…
Вытер глаза и, совершенно успокоившийся, словно обновленный, облегченный, как после изнурительной болезни, вылез из машины.
Солнце давно уже закатилось за лес, и лишь малиновая заря догорала еще над верхушками деревьев.
Прошел месяц, другой, а от брата никакой весточки. Обиделся… А может, там идут такие баталии, что не до него? Порывался Гурин позвонить, но всякий раз останавливал себя: вдруг трубку возьмет она, а не брат? Что он ей скажет? В конце концов обидела она его, а не он ее. Хотя бы на правах хозяйки дома она не должна была так обходиться с ним. И тот почему-то молчал… Почему?
Перед Октябрьскими праздниками обменялись открытками — обычными шаблонными словами привета, пожеланиями здоровья и прочее. И опять Гурин не понял, что там происходит. Может быть, это лишь ответ на его открытку? А может, они и думать обо всем давно забыли, а он тут дурью мается до сих пор?
Осень в тот год была слякотная, долгая, вплоть до Нового года ни морозов, ни снега, а только дождь да ветер. Дни стояли пасмурные, и на душе у Гурина под стать погоде — пасмурно. Казалось, во всем мире что-то нарушилось, сдвинулось, все живое намокло, озябло, нахохлилось, забилось куда-то под стрехи, как вон те голуби, что дремлют на карнизе соседнего дома. Но нет, жизнь шла своим чередом. Несмотря ни на что, за неделю до Нового года во все концы полетели веселые поздравительные телеграммы и открытки с розовощекими Дедами Морозами, с красногрудыми снегирями, зелеными елочками и радужными шариками. С каждым днем все больше и больше доставал их Гурин из своего почтового ящика, но не было среди них одной — от брата. И хотя Алексей и раньше не отличался аккуратностью — присылал их обычно неделю спустя после праздников, тем не менее Гурину казалось, что сейчас открытки нет неспроста: значит, там прочно засела обида. И это больше всего беспокоило его. То, что он не встретил там взаимного отклика на свое предложение, его как-то мало и беспокоило. Он, откровенно говоря, не очень-то и рассчитывал, что его письмо вызовет восторг, потому и повез его сам, чтобы в устной беседе дополнить, объяснить, убедить. Но разговора не получилось. Ну что ж, пусть будет так. Но вот разрыв между ними, отчуждение, холодок в их отношениях его беспокоил не на шутку. Тем не менее сделать самому первый шаг к примирению он не хотел, выдерживал позу обиженного и ждал извинений. Но их не было.
И вдруг, когда уже стали снимать с елок украшения, складывать их в коробки и прятать подальше и надолго, а сами елочки, те самые «пушистые и душистые», из-за которых еще какие-нибудь три недели назад был такой ажиотаж, за которые готовы были отдать и отдавали любые деньги, теперь выбрасывались за ненадобностью на помойки, — Гурин достал из ящика необычно пухлый конверт с дополнительной маркой. Взглянул на обратный адрес и вздрогнул: пакет был от брата! Тут же дрожащими от волнения руками вскрыл его — там было большое, на четыре страницы, письмо и открытка «С Новым годом, с новым счастьем!». В лифте пробежал открытку — обычная, в комнате бросил ее жене, а сам прошел к себе в кабинет и принялся читать письмо. Раз прочитал, другой — не верится! Оказывается, за это время Алексей дважды был в Донецке, дал объявление об обмене, и вот уже нашлись и желающие. В Донецке квартира попалась хорошая — в центре, в новом доме, на пятом этаже, со всеми удобствами, с телефоном. «Не сорвалось бы!» К письму приложено две схемы — одна с обозначением центра города и места, где расположен дом, другая рассказывала о квартире.
«Боже мой! Ну Алешка, ну пройдоха! Ну молодец! Он там вовсю старается, дело делает, а я действительно дурью маюсь, характер выдерживаю…» Пошел к жене, подал ей письмо, сказал весело, гордо:
— Читай!
— Ну вот, — сказала жена. — А ты боялся и меня беспокоил.
— Нет, ну какой молодец! — И тут же набрал по автомату Симферополь. На счастье, Алексей был дома.
— Ты, Алеш? Слушай… Я только что получил твое письмо… — Василий волновался, не знал, что говорить, сказал: — Но почему же ты молчал?
— Некогда было: тут работа, а тут обменщики объявились.
— А как же Соня? Соня как? Как она?
— А что Соня?
— Она же была против?
— Да ты что? Не была она против, она с радостью согласилась. Ведь Донецк такой город! Мы же его видели прошлым летом — зеленый, весь в розах, а в магазинах снабжение — у вас в Москве такого нет.
— Но ведь она же тогда…
— Да ну!.. Шлея под хвост попала. Что ты их, не знаешь? Все нормально. Хочешь — сам спроси у нее?
— Боюсь, вдруг спугну.
— Не бойся. Вот она, кстати…
И Василий услышал в трубке Сонин голос:
— Вася, здравствуй. У нас все в порядке, все хорошо. Квартира очень хорошая попалась, если только они не раздумают. Но вроде наша им тоже понравилась. Если все так пойдет — тьфу, тьфу, — к весне переедем в Донецк.
— А как же девочки?
— Ну что ж детки… Они взрослые… Один раз в году в отпуск и сами по путевкам приедут, куда захотят. Они тоже поняли, дали нам свое согласие. Старшая, Люда, правда, противится. Но ничего.
— Ну, спасибо тебе. От души спасибо. Дай, пожалуйста, трубку Алеше. Алеш, я все еще не верю, что это правда…
— Не сорвалось бы: очень квартира понравилась.
— А с дачей как же?
— О, да тут, как узнали, что собираюсь уезжать, отбоя от клиентов нет, столько желающих купить!
— Ну, желаю вам! Если что надо, какая помощь, «подъемные» — звони, пиши, говори.
— Пока ничего не нужно.
— Обнимаю.
— Ага…
Гурин положил трубку, обернулся к жене:
— Ты слышала? Ну молодцы! Какие же они все-таки люди хорошие — и Алексей, и Софья… Оказывается, она тогда неизвестно почему заартачилась, а я тоже, дурак, вспыхнул…
— Да, ты всегда так, не разберешься, а потом мечешься и меня держишь в напряженном состоянии.
— Прости, пожалуйста, действительно мне надо быть сдержаннее, не годится так нервы распускать. Но каковы?! Нет, Алешка лучше меня — он отзывчивее, рисковее. И Соня — тоже молодец. Ты бы никогда не согласилась переехать поближе к свекрови.
— Перестань, — отмахнулась жена. — Тебе мизинчик покажи, помани, — и ты тут же растопишься, как масло. Уже и Соня для тебя лучше всех. Даже жену готов унизить.
— Ну что ты, что ты! Никогда! Успокойся, ради бога.
Отлегло на душе у Василия: все идет как и задумано. Звонит брату почти каждую неделю, справляется, как идут дела. А у того хлопот полон рот. Говорит:
— Если бы знал, какая это волокита, сколько надо бумаг собрать, сколько надо порогов обить, — никогда бы не взялся за это дело. И это мне, который со многими из начальства знаком! А каково простому грешному? Ужас! Удивляюсь, зачем такая бюрократия?!
— Известное дело. Ты уж потерпи, пройди все это до конца.
— Да теперь уже отступать не буду: больше половины пути пройдено.
— Держись!
Хорошо со стороны подбадривать, легко сказать «держись», а каково тому, кто идет по этим камням голыми ступнями? «Ничего, ничего, я ему помогу», — успокаивает Гурин свою совесть. И начал понемногу подкапливать «заначку» — с каждого гонорара теперь утаивал от жены какую-то сумму, за одну статью, о которой она не знала, «приголубил» гонорар целиком, за другую — сказал, что пришлось передать его в Фонд мира. Конечно, можно было помочь брату и вполне легально, тем более что это фактически не брату он помогает, а матери, но лучше сделать это втайне: он знал уже по опыту, что такие, даже незначительные, его подачки кому-то из своей родни всегда вызывали у нее раздражение. Если не сразу, то какое-то время спустя она все равно находила возможность упрекнуть его, притом больно, обидно, раздраженно. Нет, как это ни неприятно заниматься такими вещами, но лучше, чтобы она ничего не знала. Особенно в ее теперешнем состоянии, когда ей вредно каждое, даже малейшее, волнение.
Чтобы облегчить брату внедриться в жизнь на новом месте, Гурин догадался взять командировку в Донецкую область и написал большой очерк об одном районе — о том, как там хорошо внедряются передовые идеи перестройки. В области сначала насторожились приезду корреспондента из столицы, ждали разгромной статьи, тем более что и перестройка шла пока с трудом, и в газетах в то время печатались еще только разоблачительные статьи. Но Гурин приехал за положительным опытом, нашел его и описал. Это была одна из первых публикаций такого рода, она обратила на себя внимание, ее ставили в пример, на нее ссылались: есть сдвиги в перестройке, есть новые побеги! Его фамилию запомнили и в центре, и в областных учреждениях. Поэтому когда Алексей в конце мая переехал в Донецк, ему легко было решать разные мелкие и крупные свои дела. Особенно с работой. Само собой играли свою роль характеристики с прежней службы, но помогала и фамилия.
— Ты знаешь, — говорил он брату, — куда ни приду, только назовусь, тут же спрашивают: «Это вы статью о нас писали?» Нет, отвечаю, брат. И сразу глаза теплеют, разговор идет заинтересованней, доверительней, доброжелательней. Спасибо тебе, вовремя подсуетился.
— Ну почему «подсуетился»? — слегка обиженным голосом возражал Гурин. — Просто так совпало.
— Хорошо совпало! Спасибо, — радостно отвечал Алексей.
Уже в первое лето Алексей взялся обихаживать материну усадьбу. Заказал в быткомбинате, и ему сделали штакетник, которым обнесли весь палисадник, и ворота с калиткой.
Весело докладывал Алексей брату:
— Ворота железные двухстворчатые, широкие: если приедешь на машине, заедешь во двор, закроешь — с улицы не видно. Все покрасили.
— В какой цвет? — взволнованно спрашивал Василий, все еще не веря, что их двор, который всегда был открыт всем ветрам, их палисадник, вдоль которого всегда стояли покосившиеся столбики то из старой акации, то из вишни, то из железной трубы, с вечно обвисшей между ними ржавой проволокой, вдруг обрели «человеческий» вид. — В какой цвет покрасили?
— А-а… В зеленый. Как у всех. Хотел в голубой — краски не достал.
— Зеленый — хорошо! — соглашался Василий.
Похоже, Алексею нравилось заниматься строительными делами. В течение лета он выкопал во дворе колодец, и теперь самая тяжелая, а в последнее время уже и непосильная работа для матери — носить воду из далеких колодцев — была облегчена: вода была у самого порога.
— Насос бы купить, да нету их у нас. А то совсем бы хорошо было: включила — и вода сама потекла в ведро. Посмотри там, в Москве.
Василий зашел в хозмаг, купил насос, послал — и доволен, что и он принял конкретное участие в обновлении родного гнезда — его насос будет качать воду.
Распирает Василия гордость за все содеянное — ведь что ни говори, а это он, все он затеял! И хочется ему поехать туда, посмотреть на ворота, на колодец, поплескаться в теплой бочке с водой возле «своего» колодца, освежиться под тем душем, который уже соорудил там Алексей. Хочется ему повидаться с сестрой, которая конечно же рада переменам и довольна, что на мамином дворе появился хозяин, который наводит там порядок, от которого теперь и ей пришло облегчение; хочется ему увидеть племянницу Олю, которая жила во время учебы у дяди Алеши, которого она любит и который теперь живет среди них. Но особенно хочется Гурину обнять мать, взглянуть в ее глаза — как, должно быть, она рада, счастлива, что и ее двор, ее хата ожили, что в них затеплилась новая жизнь. Она так мечтала, чтобы сыновья были рядом с ней, теперь это сбылось: один вернулся. Пусть не совсем на родное подворье, но при теперешних автобусах, электричках, машинах такое расстояние от города стало совсем коротким. Даже трамвай думают прокладывать — тогда и вовсе все будет рядом.
Рвется Василий на родину, распирает душу желание увидеть родных, соседей — вот кто оценит его любовь к матери, к родному гнезду, его мудрость.
Выбрал время, собрался, поехал. Поехал без предупреждения — то ли не успел: до самого последнего момента не был уверен, что вырвется, то ли нарочно — чтобы внезапно свалиться, неожиданно, застать все, как оно там есть, без подготовки к его приезду.
На вокзале в Донецке взял такси и через полчаса был уже у родного дома. С трудом узнал его: новые ворота, штакетник. По сравнению с Карповой материна усадьба выглядела куда основательней, та совсем пришла уже в упадок. Постоял, полюбовался. Открыл калитку, вошел. Мощные молодые широколистные деревья каштана и грецкого ореха, посаженные когда-то матерью на месте срубленной старой акации, вымахали вровень с крышей, уже плодоносили — их орехами был усыпан весь двор. «Вот это жизнь! По грецким орехам ходят, не собирают!» Нагнулся, поднял один, зажал теплый плод в кулаке. Увидел в конце двора колодезный сруб с ведром на полке, рядом с колодцем — металлическая бочка с водой; у задней стенки Карповой хаты — штабель шифера и аккуратно сложенные деревянные брусья — четырехгранные, гладко отесанные, укрытые сверху толем и обвязанные проволокой. «Уже и балки на потолок заготовил!» — догадался Василий. Оглянулся назад — двор с улицы не просматривается, и от этого на душе стало как-то уютно и покойно.
Он поставил на завалинку свой «дипломат», заглянул в летнюю кухню, в комнату — нигде никого. Вышел снова во двор, прошел садом на огород — там мать что-то срывала на грядках. Он направился к ней. Она увидела его еще издали, ждала, потом спросила:
— Один, што ли?
— Один, — кивнул Василий.
— А што ж Соня не приехала?
— Не знаю, — развел он руки и обнял мать. — Здравствуйте, мама!
— Ой, боже мой! Да это ж Вася! А я жду Алешу — они обещались приехать картошку копать. Ну, откуда ты взялся? И не оповестил никого…
— Да так получилось… Неожиданно…
— Не слышу я уже, сынок, ничего. Или надо мне в ухо сильно кричать, или писать. Алеша со мной письменно балакает: пишет, а я читаю и отвечаю. Ты ж надолго?
— Нет, на два дня, — он показал ей два пальца.
— На выходные? На субботу и воскресенье? И все?
— Да.
Василий смотрел на мать, удивлялся, какая она стала сухонькая, совсем маленькая, платье висит на ней, будто совсем пустое.
— Почему вы такая худая? Болеете?
— Не слышу.
Он показал ей жестами, какая она маленькая и худенькая.
— А-а… Усыхаю. Годы уже мои большие.
Он взял ее под руку, повел к дому. Они подошли к колодцу, потом — к бревнам, Василий указал на все это и поднял большой палец:
— Здорово! Двор преобразился!
— Это все Алеша строиться задумал. А мне боязно: как разломает хату, а новую не сделает. Останусь тогда я ни с чем. А так дожила б и в старой. Федор Неботов вот так же задумал перестраиваться, наготовил всего, а потом, когда развалил все, испугался чего-то, задумался, задумался, а на третий день его сняли с перекладины в сарае — повесился на налыгаче. Вот я и боюсь ломать старую хату…
— Не надо об этом думать, — поморщился Василий, вспомнив ту страшную историю с Неботовым. — Хату надо перестроить, дальше ждать нельзя — завалится скоро. Может придавить.
— Это ж ты его толкаешь… Может, зря?
Лязгнула железная защепка на калитке, и во двор с тяжелыми сумками вошли Алексей и Соня. Увидев брата, Алексей воскликнул:
— О, смотри! — Подошел поближе. — Это что за ревизия такая? Из обэхаэсэс? Заявляю: все материалы куплены законно, могу предъявить документы.
— Это хорошо, — сказал Василий и обнял брата, потом поздоровался с Соней, поцеловал ее в щеку.
— Вовремя приехал, — сказала та весело. — Как раз помощники нужны — картошку убирать. Сестра ваша обещала, да надежды на нее мало: чего-то она куксится.
— Ладно, Сонь, не все сразу, — оборвал ее Алексей. — Неси продукты в холодильник, и давайте с мамой завтрак побыстрее налаживайте. — Обернулся к матери, указал на сумки, потом на свой рот. Та поняла:
— Есть хочешь? Сейчас приготовим. — И повела сноху в дом.
— Молодец! — восхищенно сказал Василий, окидывая глазами двор. — За одно лето так много успел сделать! Это же денег стоит?
— Еще каких! Думал, вырученных за дачу мне хватит с лихвой, а оно тает, как вешний снег. Наверное, зря я начал с ворот да палисадника. Как тот мужик, что продал корову, купил ворота и стал запираться.
— Ничего, — подбодрил его Василий. — Я помогу тебе. Это же и мой долг.
— Это хорошо, — сказал Алексей просто. — А то я уже приуныл было.
— Не унывай, помогу.
— Спасибо.
— Только женам не говори.
Алексей грустно кивнул.
— Ты уже все видел?
— Да нет, я только приехал.
— Пойдем, — Алексей повел брата за погреб к Карповой меже. Там в ряд, словно вагончики, стояли те же клетки, которые в прошлом году Василий видел у него в Крыму.
— И кроликов привез?
— И голубей, — Алексей указал на крышу.
— Ой ты! Я вижу, ты не жалеешь, что переехал? А то меня почему-то совесть мучает: сорвал с насиженного места…
Алексей промолчал, а может быть, ему помешала ответить мать, которая позвала их завтракать.
Завтракали вчетвером. Разговор шел непринужденный, Алексей рассказал смешной случай, связанный с материной глухотой.
— Про меня рассказывает? — догадалась она. — Вот беда мне с моими ушами: он спрашивает, я отвечаю, а оно невпопад, а он сердится. А потом узнаю, о чем он спрашивал, и самой смешно. Вот беда.
— Сердиться-то зачем? — удивился Василий.
— Да кто там сердится, просто махнешь рукой, а ей кажется — рассердился, — объяснил Алексей.
— Собирались картошку копать? — спросил Василий. — Я с вами. Дайте мне только одежду подходящую и лопату…
— …побольше, — договорил за него Алексей: — Все есть, обеспечим.
— Таня обещала прийти, — опять напомнила Соня. — Да то только обещает, а потом причину найдет.
— Ничего, у нас замена появилась, — кивнул Алексей на брата.
— Как бы ее известить все-таки? — спросил Василий. — А то ведь я завтра уже уеду. Хотелось бы повидаться.
— Если не придет, пошлем кого-нибудь из неботовских ребят.
Вооружившись лопатами и ведрами, пошли втроем на огород, мать осталась пока посуду помыть. На соседских огородах уже вовсю кипела работа — и стар и мал возились в земле: одни копали, другие выбирали клубни, бросали в ведра, ссыпали в мешки или в кучи. Все рады были хорошему деньку, спешили посуху убрать урожай.
Первым Гуриных увидел Коля Симаков — горбатенький, многодетный мужик. Он уже на пенсии, а для всех так и остался Коля. Прокричал весело:
— Поздно, поздно выходите! — Присмотрелся, узнал Василия: — О, Кузьмич приехал помогать! — Воткнул лопату в землю, пошел через Карпов огород здороваться. Подошел, пожал руку, стал расспрашивать, как живет, почему один приехал, надолго ли.
Слева сосед Маркел Рудской тоже воткнул лопату, поплелся не спеша к мужикам, закуривая на ходу. Алексей засмеялся:
— Ну, мы, брат, с тобой сегодня, я вижу, рванем! Будешь тут интервью раздавать.
— Видал, какой плантатор, — сказал Василий Коле, — поговорить с людьми не дает! Семейный подрядчик.
— Во-во, подрядчик! — поддержал шутку Коля и добавил: — А вообще я удивляюсь: любит он в земле ковыряться. Весной смотрю — каждый выходной тут: копает, сажает, удобряет. Откуда это у него?
— От дяди Карпа, — сказал Алексей. — Тот обожал это дело. А наш отец — не знаю, по-моему, он был больше рабочий, говорят, слесарить любил.
Поговорили, пошутили, разошлись по своим участкам мужики, принялись за работу. Не выдержала, пришла на огород и мать. Алексей и Василий копают, женщины подбирают белые, продолговатые клубни размером с куриное яичко. Василий знает — это их давний любимый сорт — американка: родит прилично и на вкус хороша. Мать и Соня собирают картошку в ведра, потом ссыпают в мешки. Мешки Алексей время от времени уносит к погребу и там рассыпает по двору тонким слоем, чтобы она окончательно просыхала на солнце.
Солнце давно перевалило за полдень, а Таня так и не появилась, пришлось посылать за нею посыльного. И когда уже почти вся картошка была и перебрана, и подобрана, крупная снесена в погреб, а мелкая и резаная ссыпана в старое цинковое корыто — Таниному поросенку, появилась и сама Таня со всем семейством. Располневшая, она вышагивала твердо, по-мужски. Виновато улыбаясь, она направилась к Василию. Опустила перед ним сумку, вытерла ладонью губы, поцеловала брата:
— С приездом. — Остальным кивнула небрежно, проговорила, ни к кому не обращаясь: — Здравствуйте…
— Говорят, обещала прийти, а тебя все нет и нет, — сказал Василий. — Беспокоиться начали. Дела?
— Та, — отмахнулась она нехотя. — Тут теперь и без нас хозяевов хватаеть, нехай потрудятся. — И засмеялась, обратила сказанное в шутку. — С утра начали свою копать, да и пока не кончили. Спасибо — приехали Оля со Светой, подмогли.
— А мы вон твоему поросенку сколько наготовили, — указал Алексей на корыто с картошкой.
— То хорошо! На свежатину позову.
— Если не забудешь.
— Не забуду, не бойся. А забуду — напомнишь. — Она подняла сумку и понесла ее в дом.
Вслед за ней к Василию подошли Оля и Светлана, поздоровались за руку. Оля высокая, черноглазая, Светлана — подросток-восьмиклассница с подсиненными веками и нарумяненными щеками. Василий задержал ее мягкую ручонку, заглянул в глаза:
— А это зачем?
— Да так… Делать нечего…
— Зря. Ты ведь сама по себе красивая, а это только портит. Косметику оставь пожилым.
— Да… — крутнулась та на пятке. — Мама тоже меня ругает…
— И правильно делает. Не надо.
Засмущалась Светлана, побежала к рукомойнику, принялась снимать с себя грим.
Иван, Танин муж, не по погоде в темном пиджаке, при галстуке и в серой осенней кепке. Галстук этот когда-то подарил ему Василий, и Иван всегда надевал его только по большим праздникам да по случаю приезда Гурина, завязывая неумело толстенным узлом.
Он терпеливо ждал своей очереди поздороваться и делал это неторопливо, степенно. Потряс Василию руку, сказал:
— Приехали отдохнуть, а они робить заставили?
— Заставили! — сказал Василий весело. — Но ничего, это тоже полезно.
— Заместо физкультуры, — успокоил его Иван и направился к Алексею. Достал из внутреннего кармана бутылку: — Куда ее?
— А ты не знаешь куда? На стол!
— Да я тоже так думал.
— А спрашиваешь. Сейчас мы умоемся, будем обедать. Вася, пойдем под душ.
Душ этот Алексей сделал сам, своими руками: вкопал четыре столба, обтянул непрозрачной пленкой, сверху укрепил железную бочку из-под бензина, наливает в нее воду, которая к концу дня нагревается солнцем, и моется.
Сам первым полез под душ, проверить, работает ли вентиль. Закряхтел под струями воды:
— Ух!.. Ух!..
— Холодная вода?
— Нет, теплая! Хорошо! Давай.
Помылись, потерли друг другу спины, растерлись полотенцами — раскраснелась у Василия кожа.
— Не пережарился ли ты на солнце? — забеспокоился Алексей.
— Нет, все в норме. Ну, пойдем?
— Подожди. Поговорим, пока одни. Ты понимаешь… — Он кивнул на стройматериалы у Карповой, хаты: — Стройка эта, чувствую, мне обойдется в копеечку… Да и сил придется положить немало. Надо бы как-то узаконить это дело…
— Что узаконить? О чем ты?
— Меня узаконить…
— Ты думаешь, что я буду на свою долю претендовать? Это все твое! Мамино и твое, — сказал Василий уверенно и развел широко руки, словно хотел обнять всю усадьбу.
— Ты, может, и не будешь претендовать…
— И Таня, думаю, тоже не будет. Зачем ей? У нее есть свой дом, сад, огород.
— Да кто знает. У нее есть и муж, и дочь, и внучка. Она ведь не одна.
— Поговори с ней, объясни, выясни, чтобы не думалось.
— Это лучше бы сделать тебе. Как старшему. Чтобы не было ни у кого никаких претензий и обид. Оформить это дело надо. Потому что сейчас инвентаризационная стоимость хаты одна, а после перестройки она возрастет, увеличится минимум втрое: я ведь перестроить хату хочу основательно.
— Понимаю: вложенное тобой тебе же придется делить на нас троих? Но ты не беспокойся…
— И пошлину потом надо будет бо́льшую платить.
— Какую пошлину?
— Ну, если придется оформлять дарственную… Или наследство принимать — тоже. Надо все обговорить.
Не думал об этих формальностях Василий, закусил губу.
— Ладно, поговорю. Только, думаю, тут и так все ясно.
На обед пригласили и соседку Катерину Неботову.
— То ж моя подружка, — говорила мать, посылая за ней Светлану. — Я без нее не могу, она меня всегда выручает. Если что надо — к ней бегу.
Обедали весело — шутили, смеялись. Мать поглядывала на детей, видела, что они все веселы, и, хотя не слышала разговора, тоже улыбалась и время от времени жаловалась подружке:
— Вот беда: ничо не слышу, над чем они смеются. Может, надо мной?
— Нет, над собой, подшкыливают друг друга, — говорила ей Катерина и сама смеялась молодо, растроганно. — Вот шутники все, вот шутники! И не обижаются. То-то любовь да дружба промеж вами. Я всегда говорю: святое семейство. Любо-дорого глядеть на вас.
Алексей смущенно потупил глаза от этих слов, а Василий сказал всерьез:
— Если кто и святой в этой семье, так это наша мама.
— Мама — да, — закивала согласно Неботова. — Мама ваша святая, што верно, то верно.
Улучив момент, когда сестра вышла из комнаты, Василий тут же поспешил за ней. В передней приобнял ее за плечи, повел в сад.
— Пойдем, сестричка, поговорим.
— Пойдем, — согласилась та охотно.
Не зная, с чего начать, Гурин похлопал ладонью по колодезному срубу:
— У нас во дворе колодец! Вот никогда не думал о таком. Молодец Алешка.
— Да тут мы все копались, особенно Неботовы ребята.
— Сами копали?
— Нет, мастеров нанимали.
— Но как здорово! Это же из-за колодца все такое зеленое — поливается.
— Поливается. Вода только плохая — ни на стирку, ни на борщ не годится — как и у Карпа, одна, видать, жила.
— Жалко. Таня, ты видишь, он стройматериал готовит — хату хочет перестроить, а то эта совсем уже обветшала. Вот-вот завалится. Это я его просил об этом. Ты как, возражать не будешь?
— А че мне возражать? Нехай строит, мне-то што?
— Ну как же…
— Они и так тут уже все оккупировали. Гречка его всем распоряжается — и на огороде, и в погребе, и в хате.
Гурин почувствовал в голосе и в словах сестры какую-то обиду, хотел приструнить, особенно за слова «оккупировали», «гречка», но, чтобы не отвлекаться от главного разговора, сдержался и как можно добродушнее сказал:
— Это же хорошо: мама ведь совсем уже старенькая, кому-то надо при ней быть. Пусть!
— Да нехай, а я што.
— Понимаешь, в чем тут дело… Перестроить хату — много надо. Я ему, конечно, помогу — дело не в этом. Хата-то не его, а он будет выкладываться. Если мы попросим маму, чтобы она отписала хату на его имя, ты не будешь возражать? У тебя ведь есть дом, сад, огород. Иван есть, — улыбнулся он. — У меня тоже есть квартира, а это пусть остается за ним: он младший, пусть ковыряется, пока есть силы и охота, и маму доглядает. И наше родное гнездо сохранит.
— Да нехай. Че мне возражать? Он и так тут уже хозяйнует. А у меня, правда твоя, есть своя хата. Шо мне, много надо?
— Ну вот и молодец! Я знал, что ты добрая, поймешь и не будешь возражать, — он привлек ее к себе, растрогался, поцеловал. Она тоже растрогалась, засморкалась, стала вытирать глаза широким рукавом платья.
— Спасибо тебе, сестричка. Хороший вы все-таки народ. Живите дружно — это главное.
Доволен Гурин: доброе дело делает — всех мирит, всем толковые советы дает, всех ублажает.
Провожая гостей поздно вечером на автобус, всем жмет руки, обнимает, целует. Алексею шепнул:
— Зря волновался. Я разговаривал с Таней — абсолютно никаких возражений. Вечером с мамой поговорю. — И уже громко, чтобы все слышали: — До завтра! Алеш, позвони Никите Карпову — может, заскочит. До свидания! Пока!
Вечером Гурин помог матери «справиться» — на погребе замок защелкнул, сарай топливный закрыл, калитку закрутил проволокой. Заодно и ставни закрыл.
— Ставни я не закрываю, — сказала мать.
— Пусть.
Южная ночь темная. Установившаяся вокруг тишина вселяла в душу тревогу — будто вымерло все. Кричи — ни до кого не докричишься. Жутко. Запер сеничную дверь на засов, комнатную — на крючок, задернул на окнах занавески.
— Думаешь, с улицы кто будет подглядывать? — спросила мать. — Там никого нет. Как с последнего автобуса пройдут, так до утра ни души. То раньше улица шумела, молодежь клубилась. А теперь… Куда што подевалось.
Они сидели за столом посреди комнаты, над ними низко нависал желтый абажур, отороченный длинной бахромой. Гурин задавал матери вопросы — писал их на тетрадных листках, а она отвечала. Писал он крупно, почти печатными буквами, чтобы ей легче было читать. Сначала разговор шел о здоровье, о питании, об угле на зиму, а потом речь зашла и о хате — ветхая она уже, починить надо.
— Да надо… — согласилась коротко мать.
«Алеша материал готовит на ремонт».
— Готовит.
«Вы рады?»
— Да пусть возится, раз есть охота.
«Дело не в охоте, хата скоро завалится».
— На мой век хватило б.
«А вдруг придавит?»
— Туда и дорога.
«Зачем же так? Алексей обновит хату, и наше родное гнездо еще поживет. Не хочется, чтобы все разрушилось, как у Карпа».
— Да то правда, не хочется. Пусть делает.
«Но с этим делом хлопот много и денег это стоит».
— А то как же! Пустяшное ли дело — хату построить! А только боюсь: как развалит старую, а новую не сделает — где я тогда буду жить?
«Сделает! Я помогу».
— То хорошо, помочь надо.
«Но чтобы его затраты не пропали, надо хату переписать на него».
Мать долго читала эту фразу, читала, перечитывала, потом еще дольше молчала, раздумывая, наконец переспросила:
— Переписать на Алешу?
— Да, — кивнул он.
Опять задумалась надолго.
— А как же я?
«Как и были. Здесь жить будете, в новой хате».
— А если с Алешей что случится?
«Ничего не случится! Случиться может, конечно, всякое и с каждым. Но вы без крыши в любом случае не останетесь: я не допущу».
— Спасибо. Да только… — Она долго опять думала, потом сказала: — Ну, если так надо — переписывайте. Только я и в этой хате дожила б. — Поднялась и пошла в свою спаленку. — Ложись, поздно уже. Да и уморились — вон сколько наработали: всю картошку убрали. Теперь и душа на месте. А бураки нехай ишо подрастут — им на огороде просторно. Ложись. Утро вечера мудренее.
Гурин лег, но уснуть не мог: на душе было гадко, будто сотворил он какую-то подлость. Материно недоверие и обидело его, и заставило по-иному взглянуть на всю эту возню с хатой. Но в конце концов он успокоил себя, нашел объяснение: мать старенькая, она, естественно, боится всего нового, ей не хочется никаких перемен. Но все-таки она согласилась, и это главное…
На другой день первыми приехали Алексей с Соней, накрыли стол, ждут Таню. Не опоздала и она, пришла, как и вчера, со всем семейством. Только входили они во двор почему-то робко, оглядываясь, словно чужие. Лишь Таня шла уверенно, даже как-то решительно, напористо. Дверь в комнату рванула так, что она ударилась в стенку. Соня кинулась ей навстречу:
— Ну вот, наконец-то пришли. Только вас ждем, все уже на столе, проходите.
— Иди ты к черту, зараза такая! — вдруг набросилась на нее Татьяна с бранью. — Ты откуда тут такая? Ты кто такая есть? Откуда ты взялась? Ты чего распоряжаешься в чужой хате? Тут твоего ничего нет, а ты распоряжаешься как дома. Хату захотела?
— Да ты что, Таня? — Соня отступила от нее в испуге.
— А то самое! Ишь: приехала, огородом завладела, а теперь и хату хочешь заграбастать? Тебе мало городской квартиры?
На шум выбежали из горницы братья:
— В чем дело?
— Что случилось?
— А-а! Вы?.. — Рот у Татьяны от злобы перекосился, ноздри расплющенного курносого носа расширились до такой степени, что видны были донышки, а лицо ее стало походить на чудище из буддийского храма, маску которого Гурин привез из Монголии. — Братья-разбойнички! Бедную сестру хотели ограбить? Напоили и давай охмурять-уговаривать? У нищего сумку готовы отнять. А еще ученаи! Повыучились, как людей обирать.
— Таня, о чем ты? — пытался остановить ее Василий. — Что случилось?
Соня наконец пришла в себя, накинулась на Василия:
— А то и случилось!.. Другого тут и ждать нельзя было. Втравил! — Обернулась к мужу: — Разве я тебя не предупреждала? Ведь я говорила тебе, говорила! Чуяло мое сердце. Вот она, хорошая твоя сестричка! Она мать родную готова продать за копейку. Ноги моей больше здесь не будет! — Соня схватила жакетку, побежала вон из комнаты.
— Ну и катись! — крикнула ей вдогонку Татьяна. — Скатертью дорожка от этого порожка! Думаешь, плакать кто-то будет? Приехала! Хозяйка — на готовенькое! Двадцать лет где-то шлялись, а мы тут пупок надрывали. И мать на моей шее была, а они явились не запылились и — шасть: огород наш, хата наша! Вот тебе! — Она скрутила из своих заскорузлых пальцев увесистую фигу, протянула ее в форточку: — Вот тебе! И всей вашей породе.
— Таня, опомнись! — Василий схватил сестру за руку. — Как тебе не стыдно? Какой пупок ты надрывала? Чем? На чьей шее мама была? Ведь ты ей ни одной копейкой ни разу не помогла. Мы помогали деньгами, мы покупали ей одежду, обувь, топливо на зиму. А ты за ее же деньги иногда приносила ей хлеб, продукты из магазина и теперь возводишь это в великий подвиг, в великую жертву! Алексей привез и установил ей газовую плиту, договорился насчет баллонов… А ты: «пупок надрывала», «мать на шее сидела»! Как не стыдно? Ведь мама не только нас воспитала, она твою дочь Олю вырастила, пока ты мужей меняла. А Алексей доучивал ее в техникуме, а теперь ты счеты сводишь, да еще так крикливо, по-бабьи, по-базарному… Некрасиво.
Татьяна вырвала руку из его руки, продолжала кричать:
— Ага! Правда глаза колет?
— Да какая правда?
— А такая: повыучились и поразлетелись в дальние края, а мать бросили.
— Мы не бросили, ни одного месяца не было, чтобы я забыл ей прислать деньги, а кроме того…
— «Кроме того»! — передразнила она Василия. — Явились охмурять бедных людей. Не думайте и не надейтесь! И на ученых найдем ученых, и на ваших знакомых, которые помогают вам дела делать, найдем знакомых, и на ваши законы найдем праведные законы!
— Да о чем ты говоришь?
— А о том: пока не сплотите мне третью часть, не дам строиться! Ишь, дурочку нашли! У меня у самой тыща дырок: вон Ольга мается с мужиком-алкоголиком, Светку надо в люди выводить: уже невеста. Сами с Иваном кой-как концы с концами сводим. А они: отдай хату! Не будет мого позволения, вот вам мой сказ! Пойдем, Иван. А то они и так тебя за дурачка считают, а теперь уже и меня.
— А я шо? Я хоть и не ученый, а не дурней других, — сказал Иван, натягивая кепку на голову.
— Вот и молодец, что надоумил меня. Не то что родные братики.
— Ну а шо ж?.. Ты богачка, чи шо? Тыщами разбрасываться! У нас, правда, есть на книжке, но на «Москвич» еще маловато.
— Заткнись, дурак! — окрысилась на мужа Татьяна. — Какая еще книжка, с чего ты взял? Приснилось? Пошел домой, расселся тут, уши развесил, а свиньи не кормлены. И вы, — крутнула она головой на дочку, показала ей на дверь: — Нечего тут нам делать. Пошли! — И сама первая заторопилась, впопыхах стул опрокинула, но поднимать не стала, в сенцах схватила свою сумку и подалась на улицу. Там оглянулась, поторопила своих: — Ну, чего вы чухаетесь?..
— Таня, вернись! — выбежал вслед за ней Василий.
— Ноги моей тут больше не будет!!
«И этой ноги не будет…» — невольно подумал Василий и, опустив голову, вернулся во двор, чтобы не выносить ссору на улицу.
Когда все стихло, из хаты вышел Алексей, взглянул на брата, качнул головой:
— Вот так-то… А ты говорил…
— Нда…
К ним подошла мать, испуганно поглядывая на сыновей, спросила:
— Ну, чего они? Что случилось? Это все из-за хаты?
— Да нет, мама, — прокричал ей в самое ухо Алексей. — Из-за дурости.
— Из-за хаты, — не поверила она и посмотрела на Василия: — Может, зря вы все это затеяли? Я дожила б и в старой хате. И промеж вас был бы мир. А то вон какая свара поднялась… Она и слова доброго не стоит, эта хата… Продай ты этот лес, шифер…
— Продать легче всего, — сказал Алексей. — Купить, достать его попробуй. У нас же все это проблема. — Поднял глаза на Василия: — Да, зря мы, наверное, связались с этой хатой. Лучше я куплю вот такую же завалюху и буду потихоньку доводить ее до ума. И маму возьму к себе. И никто меня ни в чем не упрекнет.
— Да… Но ведь это же наше родное гнездо.
— «Гнездо». Наверное, искусственно его не сохранить. Видишь, какие птенцы выпорхнули из него, — кивнул он в сторону ворот. — Если бы все это знать заранее, купили бы Карпову хату. Как бы хорошо было — двор-то почти наш, один.
— Да, прозевали, — обернулся Василий к заброшенной и облупившейся как после сильного градобоя соседской хате. — А кстати, за сколько они ее продали?
— За три тысячи.
— Так наша и того дешевле?
— Конечно.
— И из-за этого весь этот сыр-бор загорелся! Надо отдать ей ее долю, и пусть успокоится.
— Да кто же думал, что все это выльется в такую бурю? Ведь вчера, говоришь, согласилась? Если бы она сказала сразу, кто бы возражал?
— Сами виноваты… И ты — тоже хорош: юрист, а не подсказал. Надо было именно с этого начинать разговор. Это для нас пятьсот рублей вроде невелики деньги, а для нее они — наверное, целое состояние. И переговоры эти с нею надо было вести тебе. Тебе, а не мне.
— Ну вот, теперь я же и виноват!
— Именно — ты. Она, конечно, показала себя во всей красе. Но можно было и не допускать ее до такого накала: сразу предложил бы ей третью часть, и все, и жди ответа. Откажется — молодец, благородно, не откажется — тоже не дура. Но было бы все спокойно, по-людски. А теперь?..
— Задним умом все мы умны… Ты разговаривал с нею — почему не предложил?
— В голову не пришло! Боялся обидеть… Да и у нее даже намека никакого об этом не было.
Василий негодовал, ходил взад-вперед, нервно мял руки.
— Откуда у нее все это? Никогда не поверил бы, что в ней столько злобы, яда. Неужели из-за денег можно вот так сразу отречься от всех и от всего?
— Это ее подогрели.
— Да какая разница? — поморщился Василий. — Значит, было что подогревать, значит, сидело в ней все это до поры до времени — до «подогрева».
Василию было стыдно и неприятно от всей этой истории и особенно от упреков в его адрес. Он никогда не думал, что кто-то из родни, особенно из близких, упрекнет его так больно и так несправедливо: уж он ли не старался делать всем добро? Стыдно было и оттого, что ему пришлось меркантильничать — считаться, вспоминать свои услуги, мелочиться… А может, все его добродетели и впрямь мелочь — деньги, посылки?.. Может, матери действительно тепло человеческой близости было и нужнее, и дороже, чем все эти его подачки? Может, Татьяна права, упрекая братьев в отчужденности?
Василий всегда был уверен, что он не просто исполняет свой сыновний долг, не оставляя мать ни на один месяц без «стипендии», как он называл свои переводы, но и творит тем самым великое благо. Гордился он и тем, что не оставлял без внимания никого и из многочисленных родственников — не забывал посылать им праздничные открытки, поздравлял с днем рождения. Хотя это он делал тоже больше ради матери: мол, от его внимания будут и к ней добрее…
И теперь он был уверен, что его идея с «родным гнездом» не только придется всем по душе, но все будут в восторге от этой его гениальной затеи.
И вдруг — первая осечка… Какое уж тут гнездо, если из него при первом же прикосновении полетели такие перья? И разве захочется заглянуть в него — в такое неприютное, холодное и даже отчужденное?
«О чем это я? — вдруг ужаснулся Василий своим мыслям. — Какое же оно холодное? В нем мама живет, согревает его, и мы все вокруг нее. Хотя — нет, сегодня уже не все… Уже… А если не станет мамы?.. К кому я приеду, чьи руки холодные старческие согрею в своих ладонях? Да и собираться будем лишь по большим событиям — свадьба, похороны… И похороны уже чьи-то наши… Вокруг вон уже выросло новое поколение, это оно, наверное, и бунтует, это им не нравится затеянная мною перестройка: они уже о своих гнездышках мечтают. А Таня лишь их рупор. Но неужели они до такой степени стали «материалистами», что готовы родственные чувства растоптать и отбросить прочь? Оля, Светлана? Нет, не может быть, они на такое не способны…»
Обернулся к брату:
— Говоришь: подогрели Татьяну? Но кто? Соседи? Да и зачем?
— Да кто хочешь. Доброжелателей хватает. И соседи, и свои.
Василий ждал, что Алексей назовет имена, будто от этого ему станет легче. Но тот никого не назвал, а только крякнул:
— Зря все-таки я влез в это дело…
— Успокойся — не зря: все образуется.
— Нет, не образуется: черная кошка дорогу перебежала, теперь ее не догнать и не повернуть в обратную сторону. И маме только хлопот прибавили.
— Да, маму жалко… Но откуда у людей такая жадность? Злоба? Сколько она тут клеветы напустила… — Покрутил головой, усмехнулся: — А чешет-то как! Прямо, как Даниил Заточник: «Найдем праведный закон на ваш закон». «Сумку у нищего хотите отнять!»
— Язык подвешен! Только смешного тут мало.
— Да это уж само собой… Но меня удивила ее речь, напористость. Я бы не смог так. Не пьяна ли?
— Не без того.
Медленно открылась калитка, и в нее робко вошла Катерина Неботова. Увидев Гуриных, радушно улыбнулась им, сказала:
— А я гляжу, што это все бегут со двора друг за дружкой? Может, заболел кто да за врачом побегли? Дай, думаю, проведаю.
— Да нет, тетя Катя, — сказал Василий. — Пока все нормально.
— На автобус побежали, — сказал Алексей. — У всех дела: одним завтра на работу, у других поросята не кормлены…
— А Соня?
— Да тоже… дела…
— Ну, слава богу. А то я уж заволновалась. Ты ж когда уезжаешь? — спросила она у Василия.
— Да вот часа через два. Никита Карпов обещал после работы заехать на своем «жигуленке» и отвезти на вокзал.
Она закачала горестно головой, указывая на Карпову хату:
— Продали… Как Карп Сазонович умер, тут же продали… И все, опустел двор. Остались теперь вот тут мы вдвоем с Павловной. Да скоро и наш черед… Хорошо — вы вот такие, а Карповы из-за этой хаты так переругались, так перегрызлись — срамно смотреть.
Гурин взглянул на Алексея, грустно усмехнулся. Вскоре приехал Никита, и Василий заторопился прощаться. Обнял мать:
— До свиданья, мама.
— Прощай, сынок… Это называется — погостил? Мелькнул как молния, и нету… Это ж ты, наверное, теперь уже не приедешь?
— Почему?
— Не приедешь… Чую… Разорилось гнездо…
— Приеду!
Мать покачала головой — нет…
Когда машина отъехала, увозя их на вокзал, Василий оглянулся в заднее стекло. Две тощенькие старушки стояли у ворот в скорбных позах и грустно смотрели вслед убегавшей машине.
А поздно ночью, когда все уже угомонилось и затихло, ярким и жарким костром вдруг вспыхнула хата Павловны. Накалившаяся черепица остервенело стреляла беспорядочной винтовочной пальбой, разбрасывая вокруг раскаленные добела осколки, не позволяя никому приблизиться к хате.
Спасти ничего не удалось. Даже Павловну…
Боже мой, ей-то за что такая мучительная смерть?!
«Господи, прости ей вольные и невольные грехи ее и дай ей место в раю…»
СИРОТА Роман
ПРОЛОГ
На детей Чижиковым не везло: первенец — девочка — не прожила и недели, второй — мальчишка — умер через месяц после рождения. Родители были в растерянности: и детей хочется, и от людей стыдно, вроде они порченые какие — дети рождаются хилыми. Шурка Чижикова втайне от мужа кинулась к бабкам-знахаркам. Может, она обратилась бы и к врачам, да их не было таких в поселке, кругом еще разруха: ни больницы как следует, ни школы — разгром полный. Шутка сказать — в два конца война проутюжила поселок, а когда обратно катилась, фронт задержался здесь больше чем на месяц.
В город ехать — далеко, да и боязно: куда она там пойдет, к кому обратится? Кто ее примет просто так? А бабки тут, рядом, промышляют, пользуясь случаем. Лечили они Шурку разными снадобьями, шептали над ней заклинания, в дом приходили, когда Ивана не было, — кропили целебной водой стены, потолок, плевали во все углы, притопывали ногами, говорили строго: «Сгинь, сгинь, сгинь!..» — изгоняли нечистую силу.
Иван втайне от жены и от всех других грешил на себя: «Это я, наверное, виноват: слабосильным оказался в этом деле. Наверно, фронт повлиял — ранения, контузия. Так опять же?.. — недоумевал он и оправдывал себя: — Ранен-то я был не куда-нибудь там… Первый раз пулей в плечо, потом осколком в бедро — тоже далеко от… от всего. Третий раз в руку долбануло, из-за нее и в нестроевые списали. Но это что ж?.. Это совсем не должно влиять. У людей вон, которые без рук кто, без ног, а ребятишки у них как патроны получаются. Неужели контузия? В голове иногда и до сих пор пошумливает. Так в голове ж!.. Ничего не понимаю. Все вроде не хуже, чем у людей, а дети квелые, нежизнеспособные. У Шурки разве что? Так тоже не может быть — крепкая, здоровая баба, поздоровше меня будет, никаких таких болезней не было ни у нее, ни у меня…»
Когда Шурка понесла третий раз, Иван не знал, как и уберечь ее. Носился с нею, как с дорогой тонкостенной стеклянной посудиной, — не знал, где поставить, куда положить, чем накрыть, только бы уберечь. На сквозняке не стой, тяжелое не трогай, резко не нагибайся, этого не ешь, этого не пей. Как ни трудно было с продуктами, раздобывал что повкуснее да посытнее — и все ей, Шурке, а на самом деле тому, кого она носит, будущему человеку, чтобы он не охолодал там и не оголодал и явился на свет крепким и здоровым.
Все шло хорошо, но на седьмом месяце Шурка не убереглась — поскользнулась, наступив на гнилой огурец, и упала.
Иван как раз огурцы мыл, готовил к засолке — в зиму заготовки делал. Вот ему-то и попался гнилой, он отбросил его в сторонку, а она тут как тут — «нашла» его. Кинулся к Шурке, поднял, заскрипел зубами:
— Ах ты, чтоб тебя!.. — от дальнейших слов сдержался, отнес ее на кровать. — Больно? Я виноват!.. Я, обалдуй такой, растабарился с этими огурцами, чтоб они сгорели. И зачем ты подошла? — досадовал он.
— Так жалко тебя стало… Мужик, а все сам делаешь, всю и бабью работу… Тут, думаю, могла б и я справиться — помыть огурцы? Помочь хотела…
— «Помочь», «помочь»… Говорил тебе: сиди, лежи. Помогла… Больно?
— Больно… — призналась она.
К вечеру Шурке стало хуже — начались такие боли, что она уже не находила себе места. Поблизости жил ветеринар, Иван побежал к нему: поможет не поможет, хоть присоветует что-то — все-таки врач. Пришел тот, посмотрел и потребовал, чтобы Иван воды нагрел — начинаются преждевременные роды.
Родилось что-то неопределенное — просто комочек красного живого тельца — такого нежного, что его в руки взять было боязно, и самая мягкая пеленка для него была грубой, ранимой. Увидел Иван новорожденного, застонал от досады — черт-те что народилось… Какой это человек? Он и на человеческий образ не похож, так, непонятное что-то, голышонок какой-то… Одно слово — недоносок.
— Да, не жилец он, конечно… — проговорил ветеринар, вытирая руки.
— Можно спасти, — сказала старуха соседка. — Ежели в теплых отрубях додержать его до срока.
— В отрубях? — удивился Иван. — Да где ж их взять?
— Раньше были, — сокрушенно покачала головой старуха. — И теперь где-нибудь есть: хлеб-то мелють…
Утром чуть свет Иван нарядился в чистую военную гимнастерку, ордена и медали нацепил для большего авторитета и подался в город на мелькомбинат. К самому директору пробился, объясняет ему, а тот не поймет, что к чему.
— Подожди, подожди, — остановил он Ивана. — Давай по порядку. Тебе нужны отруби?
— Да.
— А при чем тут «человека спасти»?
— Сынок у меня родился преждевременный, недоносок. Вот такусенький. Семимесячный. Чтобы он выжил, его надо в теплых отрубях держать.
— Кто это сказал тебе такое?
— Соседка… Старуха… Она все знает.
— Чепуха!
— Но попробовать-то можно? Человека ж спасаем, мужика. Может, из него ценный гражданин будет.
— Ну, это кто знает, что из него будет, — махнул рукой директор. — А отруби — это тот же хлеб, а хлеб — главнейший продукт питания. Он сейчас на вес золота, — сказал и палец подержал перед Ивановым носом. А сам толстый директор, откормленный, наверное, каждый день блины с маслом ест.
— О человеке ж речь идет, — умолял Иван.
— Ну, пристал! Пиши заявление — полкилограмма в порядке исключения…
— Так это ж… Сколько он просидит в полкиле? И на неделю не хватит… Его ж надо менять, это тесто… А из дитя может человек получиться. Выжил бы только, а там я сделаю из него что надо. Нам же люди нужны или как?
— Вот что, выпишу я тебе пока килограмм, а потом, если поможет, что-нибудь придумаем, — сжалился директор.
С тех пор и дозревал маленький живой комочек по имени Юра в теплой опаре из отрубей. И дозрел! Хлебное тепло, хлебный дух сделали свое дело: окреп младенец, наступило время, когда его перестали держать в отрубином месиве. Мальчонка начал расти на радость родителям.
Да только не пришлось Ивану долго радоваться своему наследнику, не успел сделать из него человека, как думал, — сам умер…
Правда, не сразу осиротил Иван своего любимца, лет пять, наверное, он тетешкал его, учил на мир смотреть. Был до предела горд, если Юрка проявлял превосходство перед сверстниками, прощал ему дерзости со взрослыми. Объяснял:
— Это — детское, несмышленыш еще. Подрастет — разберется, кто есть кто! — и тут же восхищенно добавлял: — Но молодец — здорово врезал!
Иван хотел сделать из своего чада человека волевого, гордого, ученого, чтобы стоял он в жизни выше многих и многих, чтобы не ишачил от зари до зари, как Иван, а служил бы в Большой Конторе. «Мы помучились, пущай хоть дети поживут».
Так хотел Иван, но не успел.
А может, уже кое-что и успел заронить в него? Говорят, дети восприимчивы.
Однако — посмотрим.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Самым сильным впечатлением его детства была смерть отца. Но не сама смерть, не утрата родного человека поразили тогда пятилетнего Юрку, а то всеобщее внимание к их дому, торжественность обстановки, необычность события, все похоронное действо наполняли его сердце не печалью, а гордостью. Он путался в ногах многочисленной толпы, суров и важен. Заметив его, люди почтительно расступались, давая ему дорогу, будто коронованному принцу. Он всюду встречал печальные сочувствующие взгляды, его постоянно сопровождал горестный шепот: «Бедный мальчик… Остался сироткой…» Но смысл этого шепота не доходил до его сознания, ему импонировало лишь трогательно-сочувствующее отношение к нему, которого он еще никогда не испытывал. И чтобы побольше насладиться этим ощущением, Юрка не стоял на месте, сновал взад-вперед. В комнате он протискивался к самому покойнику, поглядывал на застывших в скорбном молчании мать и бабушку, которым было не до него, быстро начинал скучать и тут же выходил на улицу.
Во дворе женщины в черных платочках, похожие на монашек, стояли группами с вытянутыми печальными лицами. Сердобольные старушки поглаживали Юрку по голове, приговаривали жалостливые слова, а он, упрямясь для вида, не очень настойчиво высвобождал голову из-под их ласковых рук, пробирался между ними, будто спешил куда-то по делу.
За сараем, сгрудившись, молча, сосредоточенно курили мужики. Вздыхали, крякали досадливо. Иногда кто-то ронял фразу:
— Эх, Иван, Иван…
Юрка подходил к мужикам, стоял понуро, пока кто-нибудь из них не обращал на него внимания:
— Остался Юрка за хозяина…
— Мал-то больно хозяин…
— Мал не мал, а мужик теперь в доме он.
— Это да…
— Беда заставит быстро взрослеть…
Выслушав мужиков, Юрка кружил на обратном пути среди женщин и, насладившись вдоволь старушечьими ласками, снова шел в дом к матери и бабушке.
Мать плакала то молча, то вдруг в ней словно взрывалась накопленная печаль, и она рыдала громко, вслух причитала какие-то горькие слова — голосила. И тогда Юрка, морщась, дергал ее за юбку, просил замолчать: он стыдился такого громкого проявления чувств. Мать опускала руку на его плечо, прижимала к себе.
Любопытные ребятишки — Юркины сверстники со всей улицы — толпились тут же, одни с родителями, другие сами по себе, шныряли туда-сюда, взрослые шикали на них недовольно, гнали прочь. И только один Юрка пользовался неприкосновенностью.
Увидев ребят, заглядывающих в окна, он, не отходя от гроба, погрозил им кулаком. А потом не выдержал, выскочил на улицу с видом сурового хозяина, стал прогонять ребят прочь. Это он мстил им за все обиды, которые, случалось, наносили ребятишки друг другу и ему тоже.
— Уходите, чего вам тут надо?.. А то сейчас!..
— Задава-а-ака… — обиженно пропела Лизка Пузырева. — Задается, что у него отец умер. Ладно, ребят, пошли. Но и ты к нам не приходи.
— И не приду! — гордо заявил Юрка, он был уверен, что такое событие, какое происходит сейчас у них, вряд ли повторится у кого-либо еще, потому что на его памяти это было впервые.
2
Юрку тянуло к бабушке — та умела жалеть его. Почти через весь поселок он шел один, не боясь ни мальчишек, ни собак. С теми и с другими он умел ладить. Не то чтобы ладить, а вести себя так, что они его не трогали. Он усвоил, что от тех и других не надо убегать или обороняться, а тем более не стоит задираться с ними. Мальчишки, как и собаки, убегающего почему-то пытаются догнать, а догнав, одни бьют, а другие кусают. Покорно стоящего никто не трогает. К тому же стоит сказать ребятишкам, что у него недавно умер отец и что он идет к бабушке, как вся агрессивность их вмиг исчезала и они тут же из противников превращались в друзей и защитников.
Ходил Юрка всегда не спеша, приняв смурной вид, будто горем убитый.
Однажды поравнялся он с домом Сизого Андрюхи и увидел: сидит на лавочке Андрюха и, видать, в крепком подпитии — сам с собой разговаривает. Струхнул Юрка, хотел перейти на другую сторону улицы, чтобы обойти Андрюху, но было уже поздно: Андрюха заметил его и поманил к себе. Юрка покорно подошел.
— Ты чей же будешь такой, герой? — спросил весело Сизый, довольный, что встретил собеседника по себе.
— Чижиков…
— Это каких же Чижиков? Их у нас много.
— Вдовы Шурки Чижиковой…
Сизый силился вспомнить эту Шурку и не мог, потряс головой. Юрка помог ему:
— У меня отец недавно умер… Иван Чижик… — назвал Юрка уличное прозвище. Обычно он сердился, если кто-то называл их Чижиками, а тут сам назвался.
— А-а! Ты Ивана Чижика сынок? Так я же твоего отца знал! Мы же вместе в школу ходили. Хороший был парень! Умер?.. Ай какая жалость… — У Андрюхи плаксиво сморщилось лицо, он завсхлипывал, привлек к себе Юрку, и тот ощутил, как ему на голову закапали Андрюхины слезы. — Хороший мужик был… Умер… Вот она, наша жизня… И ты, значит, остался без батьки?.. Бедный, бедный… А идешь куда? К бабушке? Ну иди, сынок, иди… — Всхлипывая, Сизый отпустил Юрку, и тот побрел дальше. До последней крайности растроганный жалостью к себе, Юрка готов был и сам заплакать, но крепился: бабушкин дом был уже совсем близко.
Увидев внука, бабушка запричитала жалостливо:
— Внучек пришел! Ах, сиротинушка ты моя горемычная… Как же ты сам-то дошел?.. Не боялся? Боль ты моя неутешная…
Вокруг бабушки вилось еще с полдюжины других внуков — Юркиных двоюродных братьев и сестер, но теперь все ее внимание было обращено только на гостя. Она говорила разные жалостливые слова, пока не разжалобливала себя до слез.
Седенькая, добрая, она тем не менее держала внуков в строгости, приучала к порядку, раньше времени, до обеда, не разрешала таскать куски. Сегодня она пекла пирожки, ребятня крутилась возле нее, выпрашивая, но она гнала их прочь, прикрикивала:
— Нельзя! Вот сядем обедать — тогда и ешьте сколько влезет. А так, што же это? Аппетит собьете, будет ни то ни се… Потерпите. — Она накрыла пахучие пирожки чистым льняным полотенцем. — Пошли, пошли вон, погуляйте пока.
А как увидела Юрку, тут же сняла полотенце, выбрала лучший пирожок и сунула ему в руки:
— Съешь, внучек, съешь, милый, ешь, горемычный. Проголодался небось? — Она оглянулась на остальных, погрозила пальцем: — А вы, озорники, не обижайте Юру: он сирота…
Столпившись в кучу, те смотрели на «горемычного» сердито, недружелюбно.
— А мы и не обижаем его, — проворчал в ответ старший из внуков — озорник Гераська.
— Нужен он нам… — добавлял младший — Митька.
Последнее замечание было обидным — это понимал Юрка и начинал быстро-быстро моргать своими длинными, как у святого, ресницами, пытался выжать слезы. Бабушка спешила ему на помощь:
— Не плачь, не плачь, внучек… — И оборачивалась к остальным: — У, озорники! А ну марш на улицу!
Один за другим обходя Юрку стороной, как дорогую вещицу, которую не дают даже потрогать, ребятишки молча выходили из комнаты и только на улице давали себе волю — бегали, прыгали, громко разговаривали.
3
Через полгода после смерти отца мать «нашла в капусте» маленькую девочку по имени Ксюша. И хотя капусту к тому времени уже давно убрали, а на грядках торчали одни кочерыжки да догнивали оставшиеся на них широкие листья, Юрка тем не менее поверил. «Наверное, в этих листьях и нашли девочку, — думал Юрка. — Как только ее коровы не затоптали — они вон табуном ходят по пустым огородам. Хорошо, мама вовремя наткнулась на нее, а то могла бы и замерзнуть — ночами уже заморозки выпадают…»
— Она красная оттого, что на холоде лежала? — спрашивал Юрка у матери.
— Да. Ночью ж морозец был, — охотно рассказывала мать. — Я как услышала — плачет девочка, в чем была — побежала побыстрей, даже не оделась. И простудилась. Теперь вот лежу хвораю… Но зато Ксюшу спасла. Сестричку тебе нашла, в школу вместе ходить будете. Ты будешь за нее заступаться, чтобы ребята не обижали. Будешь заступаться за Ксюшу?
— Буду… — обещал Юрка и морщился, глядя на безбровое некрасивое личико новорожденной. Мать заметила его настроение, утешила:
— Ничего, она вырастет — красивой будет.
— Будет красивой?
— Будет. Как ты.
Юрка, довольный, улыбался, отходил к зеркалу и долго любовался своей мордашкой.
4
В первый класс Юрку отвела Натаха Пузырева. Юркина мать попросила ее:
— Наташ, поведешь свою Лизку записывать, захвати и мого, а то ж я работаю. Отпрашиваться — сама знаешь как…
Натаха — боевая бабенка, охотно согласилась помочь соседке:
— Об чем разговор? Конечно, отведу. Мне не тяжело.
И отвела. В правой руке держала свою Лизку, в левой — соседского Юрку. Так до самой школы и не выпустила их, будто боялась, что они убегут. Учительнице пояснила:
— Это вот моя, Лизавета Пузырева. А это — Шурки Чижиковой сынок — Юра. У нее мужик умер, сама она, бедная, работает, дак попросила меня привесть. Он сирота, без отца… — Натаха оглянулась на Юрку и плаксиво сморщила лицо.
— Ну что ж… — сказала учительница. — Будем надеяться, что он учиться будет хорошо, чтобы маму не огорчать. Хорошо будешь учиться?
Юрка кивнул.
— Будет! — заверила Натаха учительницу. — Он мальчик сурьезный и башковитый. И Шурка, мать его, дужа грамотная: коллектором в районной газете работает — ошибки вылавливаеть.
— Корректором, — поправила ее учительница и уважительно посмотрела на Юрку.
— Ну да, я ж и говорю, — кивнула Натаха.
Учительница посадила Юрку за первую парту — как будущего отличника. А рядом с ним Лизку — под его покровительство. Об этом прямо никто не говорил, но это по всему чувствовалось. И Натаха обрадовалась:
— Вот и хорошо: по-соседски живут — и тут вместе. Будет моей Лизке помогать задачки решать.
Пока учительница и Натаха возились с Юркой, все остальные ребятишки притихли и пристально следили за процедурой водворения на почетное место маленького «принца». Юрка мельком скосил глаза на класс, увидел пристальные взоры, направленные на него, остался доволен всеобщим вниманием к себе.
На перемене дети окружили в коридоре Юрку и, стоя на почтительном расстоянии, смотрели на него как на диковинку, молча. Одни грустно, другие с ехидной усмешкой, третьи с любопытством. У этих детей уже были отцы. А матерей-одиночек здесь почти не знали, потому что поселок этот был невелик и нравы в нем сохранились еще те, давние и «странные», когда людям были свойственны и стыд, и совесть. Как в деревне. Поэтому, если и появлялась назревающая мать-одиночка, она заранее под благовидным предлогом уезжала в город, где можно было затеряться среди чужих людей и не стыдясь сносить свой позор.
— Ты сирота? — спросила у Юрки девочка с красным бантиком на макушке.
— Да, — сказал Юрка серьезно и с ноткой печали в голосе.
— Круглый-круглый? — допытывалась девочка.
Юрка замялся с ответом: ему хотелось сказать «да», но это было неправдой, его сразу уличили бы во лжи, и Юрка на какой-то момент пожалел, что он не «круглый». Не очень внятно сказал:
— Нет…
Пока он размышлял и мямлил с ответом, за его спиной кто-то из мальчишек хихикнул:
— Круглыми бывают только дураки.
Ребята засмеялись.
— А вот и нет! — возмутилась девочка. — Круглыми бывают не только дураки, но и сироты! И отличники.
— А глобус?..
— А мяч?..
— А пузырь?..
Ребят будто прорвало, каждый пытался вспомнить что-то круглое, да притом посмешнее:
— Колобок?..
— Колобашка?..
Выручила Юрку учительница:
— Издеваться над сиротой?! Боже, какие вы жестокие!
5
Подошло время выбирать старосту класса. У учительницы заранее был разработан подробный сценарий этого мероприятия, в успехе которого она была уверена.
Объяснив ребятам, что такое староста и какими качествами он должен обладать, она, многозначительно глядя в сторону Юрки, спросила у всех:
— Так кого мы изберем старостой?
Тут же поднялся лес рук, а некоторые нетерпеливые стали даже вскакивать с мест и выкрикивать:
— Меня!
— Меня!
— Я хочу быть старостой!
— Я!..
С трудом угомонив класс, учительница пояснила, что себя предлагать неудобно — это бестактно, что воспитанные, культурные люди так не поступают, даже если в душе они очень хотят занять какую-то должность и чувствуют к ней свое призвание. Надо ждать, когда тебя выдвинут другие. Надо быть терпеливыми и скромными.
Юрка смотрел на учительницу и пожирал ее глазами: ему очень хотелось быть избранным.
— Так кого же мы выберем старостой? — снова обратилась учительница к классу.
На этот раз все молчали и поглядывали друг на друга, ждали, что сосед назовет имя соседа.
И тогда учительница помогла ребятам воспользоваться демократией:
— Лиза Пузырева, кого бы ты предложила?
Белобрысая, безбровая Лизка встала, поморгала бесцветными ресницами и несмело сказала:
— Чижикова…
— Правильно, Лиза! Я тоже поддерживаю эту кандидатуру. Вы, дети, не против?
— Нет! — выкрикнуло несколько голосов.
— А теперь поднимите руки, кто «за». Ну-ка, дружно, дружно!
Руки подняли все.
— Вот и хорошо. — Учительница облегченно улыбнулась и торжественно объявила результат голосования: — Юра Чижиков единогласно избран старостой класса. Поздравляем тебя, Юра!
Юрке хотелось плакать от радости, но он крепился и лишь двигал бровями да дергал носом, словно кролик. Щеки и уши его пылали огнем.
Дома, узнав, что ее сын избран старостой, мать всплеснула радостно руками и долго смотрела на сына:
— Юрочка, сыночек мой!.. Тебя выбрали старостой!.. Умненький мой!.. — Она опустилась перед ним на колени, поправила на нем воротничок рубашки и, глядя глаза в глаза, продолжала: — Теперь только учись. Учись, учись и учись! Перед тобой открывается большая дорога. Ты будешь первым, везде первым, ты станешь известным. Тебя будут все время выбирать и выбирать, и потом, когда вырастешь, тебя выберут на самую высокую должность, и ты будешь жить в городе в просторной квартире, и тебя будут возить на машине. Только учись, учись и учись. Не ленись. Вам что задали? Крючочки? Вот садись и пиши. Напиши их сначала на бумажке, натренируйся как следует и покажи мне, а потом уже перепишешь в тетрадочку. Садись, моя умница, учись, моя надежда, моя радость!.. — Она встала, громко и властно позвала: — Ксения, где ты? Не шуми и не мешай Юре — он уроки будет учить! Ну-ка марш на улицу, растрепа! — Она шлепнула девочку по заднице.
6
Весь год Лизка ходила за Юркой как привязанная. И в школу, и со школы, и даже на переменках вилась вокруг него преданной собачонкой. Если и отставала на какое-то время, то только для того, чтобы раздобыть и принести Юрке какую-нибудь новость. Подойдет, станет сзади и шепчет таинственно:
— А Ленька Горшков назвал тебя Чижиком-Пыжиком… — Скажет и тут же старается подсластить пилюлю: — А он сам Горшок. Правда?
Юрка вскипал от этих доносов, но Лизку почему-то не гнал, а кивал поощрительно и искал глазами Леньку. Леньки поблизости не было, и донос застревал в Юркином сердце острой занозой: «Ладно, я ему это припомню!..»
— А Васька Юдин говорит: «Сирота-задавака. Сирота-любимчик». И еще сказал: «Сирота-подлиза».
Юрка вспыхивал гневом — это уже было посерьезней, чем просто «Чижик-Пыжик». Такие вещи безнаказанно оставлять нельзя. Он подходил к Юдину и спрашивал в упор:
— Говорил? Признавайся: говорил?
Васька Юдин от такого напора отступал, оправдывался:
— Верь больше этой ябеде… Она наплетет тебе сорок бочек арестантов и два ящика гвоздей.
— Говорил, говорил! — выскакивала наперед Лизка.
— Смотри!.. — предупреждал Юрка грозно и отходил с видом победителя. До драки дело доводить опасался: как-никак он староста, да и на силенки свои Юрка не очень рассчитывал — слабоват. Юрка старался «без драки попасть в большие забияки». Но это ему удавалось не всегда.
Как-то после уроков, когда уже вышли за школьный сад, Лизка дернула Юрку за рукав и кивнула на ребят. Ленька Горшков что-то говорил им, и те хихикали, поглядывая на Юрку с Лизкой.
— Он говорит им, будто мы с тобой жених и невеста, — пояснила Лизка, и было видно, что для нее самой слаще меда такая молва: глаза ее замаслились, как у взрослой, и она даже прильнула к Юрке по-родственному. А тот вдруг вспыхнул, оттолкнул ее, подскочил к Леньке:
— Ты чего сплетни распускаешь?
— Во! Сплетни! Видали такого! — Ленька засмеялся издевательски и обернулся к ребятам за поддержкой: — Будто не видно!
— Что тебе видно? Что тебе видно? — наступал Юрка на Леньку.
— При чем тут я? — развел руками Ленька. — Все видно: Лиза и подлиза!
— Я подлиза? Я подлиза? — выходил из себя Юрка и от обиды, и от того, что Ленька не отступал. — Да я тебя сейчас!.. — Юрка замахнулся, чтобы ударить обидчика, но Ленька опередил — толкнул его в грудь. Юрка стоял как раз на замерзшей лужице, поскользнулся, не удержался и шмякнулся на задницу, громко клацнув зубами. Все смеялись, окружив Юрку, который сидел на дороге в неуклюжей позе, словно подбитая ворона. Злоба душила его: была бы сила — всех переколотил бы, никого не пощадил. Почувствовав во рту солоноватость, он сплюнул себе на ладонь и, увидев кровь, заревел во весь голос. Быстро поднялся и побежал домой, оглашая улицу воплем и размазывая по лицу красную слюну.
— Вот теперь тебе по-па-а-дё-от, Горшок-Пирожок!.. — пропела Лизка и заспешила вслед за Юркой.
Увидев сына, мать всплеснула в ужасе руками, запричитала:
— Да кто же это тебя обидел, сыночек мой?! Какой же это паразит посмел поднять на тебя руку, радость ты моя?
— Лё-о-онька… Гор-шков…
— Да за что же он тебя, этот змееныш проклятый?
— Дразнится все время… — И Юрка полез было под рукомойник, но мать остановила его:
— Стой! Не смывай! — Она схватила его за руку и поволокла по улице к дому Горшковых. Забарабанила в калитку, закричала благим матом: — Закрылись, разбойники, душегубы, кровопивцы такие! Открывайте, или я сейчас!..
На шум вышла Ленькина мать, ошарашенная гвалтом, смотрела на соседку, ничего не понимая. А та не унималась:
— Это что же такое делается? До крови человека избить! Вы думаете, на вас управы нету? Бедного сироту так изувечить! Если у него отца нет, если за него некому заступиться, так, значит, бить его?
Ленькина мать оглянулась на боязливо выглядывавшего из двери Леньку, спросила:
— Ты, идол?
— Сам он, — отозвался тот. — Сам полез с кулаками, а я только чуть толкнул, а он и упал. Поскользнулся и упал — и язык прикусил. А я виноват, да?
— Он еще и не виноват! Ну звереныш, погоди! Я в милицию пойду! Это что же, выходит, я его так разрисовала? — Шурка ткнула пальцем в Юркино лицо. А Юрка не переставая хныкал, вдохновляя материно возмущение. — Завистники! Завидуете, что он умнее всех вас. У-у, паразиты! Это вам так даром не пройдет: ты же не кого-нибудь избил, а старосту класса! Ничего, там разберутся! Пойдем, сынок, — и она потащила Юрку дальше, мимо своего дома, в школу, к учительнице.
На другой день урок в школе начался с того, что учительница вызвала к доске Горшкова и принялась его отчитывать, а заодно и всех остальных, кто поддерживал «этот бесстыдный, нетерпимый для советского школьника поступок». Под конец сказала:
— Забирай, Горшков, свои книжки и уходи домой! И без матери или без отца в школу не приходи! Нам такие не нужны!
Смуглолицый, суровый мальчишка Ленька Горшков, с трудом сдерживая слезы, побрел медленно из класса.
Юрка мог считать себя вполне отмщенным: он знал, что кроме сегодняшней выволочки вчера Леньке была здоровая взбучка дома от матери и от отца. Однако героем себя он не чувствовал: не той ценой, не теми средствами досталась ему эта победа. Падение на задницу и его воронья поза на замерзшей луже при воспоминании заставляли краснеть. А главное, Юрка почувствовал после этого вокруг себя пустоту. Он остался совершенно один, будто отверженный: девочки дичились его, а ребята откровенно презирали. Единственное преданное существо — Лизку — он отпихнул сам. Надоела. Из-за нее все началось. Да и стыдно стало: в самом деле, ходит рядом как пришитая.
— Ну чего ты ко мне привязалась? Девочек тебе мало, что ли? Из-за тебя смеются все.
— Ну и пусть…
— Отстань от меня и не приставай, — отрезал Юрка.
Лизка обиделась, отстала, но не совсем. Ходила следом набычась и в то же время ловя его взгляд, — а вдруг да смягчится? Однако Юрка был непреклонен, хотя одиночество и тяготило его. Но и Лизка ему была ни к чему — обуза.
7
В третьем классе перед Октябрьскими праздниками учительница решила отметить лучших учеников. То ли сама, то ли по наущению свыше, она приготовила для них подарки — своего рода премию за «отличные успехи и прилежное поведение». Слово «прилежное» ребята не принимали, было в нем что-то для них неприятное: прилежание — прилаживание — подлаживание — прислуживание… И стояло оно где-то в одном ряду с такими понятиями, как «подхалим», «угодник», «подлиза», к которым дети относятся с гораздо большим нетерпением, чем взрослые. Взрослые таких людей презирают, но терпят и даже завидуют наиболее удачливым и часто заискивают перед ними. А дети ненавидят их откровенно и изводят всеми способами.
Юрка не хотел слыть подлизой. Он готов был совершить любой поступок, только бы не выглядеть в глазах ребят подхалимом. Каждая похвала учительницы уже не только не радовала, а бесила его, потому что никто из одноклассников всерьез эти похвалы не принимал. Сироту похвалили? Что ж такого! Тут всем все ясно: подлиза, любимчик.
Поэтому, когда учительница объявила о своем намерении наградить лучших и выложила на стол цветные карандаши, альбомы для рисования и яркие книжки, он стал лихорадочно соображать, как ему быть. О том, что он будет награжден, Юрка знал наверняка.
— Юра Чижиков, подойди ко мне, — сказала учительница ласково и бодро, заранее уверенная в успехе задуманного.
Юрка вышел к столу. Мысль лихорадочно билась. «Или сейчас, или никогда!» — решал он свою участь.
— За отличные успехи, прилежное поведение и большую общественную работу Юра Чижиков награждается… — Учительница передохнула и самым торжественным голосом объявила: — …книгой «Наш край родной». — И она протянула ему красный фолиант. Но Юрка не двинулся. Убрав руки за спину, он смотрел куда-то в сторону. — Юра!.. Чижиков!.. Что с тобой? — учительница пыталась вернуть его к действительности. — Это тебе премия, награда!.. Возьми…
— Не возьму… — промямлил Юрка.
— Но почему?!
— Возьми, а потом будут все глаза колоть… И вы тоже: «Тебя же наградили! А ты так себя ведешь?!» — И он пошел на свое место.
— Чижиков! Да ты с ума сошел! Как можно?.. — учительница не выдержала, грохнула книгой об стол — цветные карандаши разлетелись в разные стороны. — Это черт знает что такое! Недоумок какой-то! Дрянь мальчишка! Дрянь, дрянь, дрянь!.. — На глазах у нее показались слезы, она достала платок, отошла к окну и, глядя на улицу, долго вытирала нос и промокала глаза.
Дома Юрке была большая выволочка. Мать отлупила его по первому разряду — бельевой веревкой исполосовала спину так, как в давние времена не полосовали и беглых рекрутов. Била и приговаривала:
— Я тебя научу, как уважать старших! Я из тебя выбью вольный дух! Ишь ты!.. — Устав от битья, она опустилась, обессиленная, на стул, запричитала обреченно: — Испортил себе жизнь, дурак… Сам испортил! Так хорошо начал, и вот тебе на… Теперь попробуй вернуть доверие — разве вернешь?.. Тебя же могут не принять в пионеры, что делать будешь, как жить будешь?
8
Не знал Юрка, как он будет жить, но в глазах ребят он стал героем! Второгодник из пятого «Б», сам Грига Сундук, подошел к нему, долго рассматривал его, хмыкал удивленно, потом, похлопав по плечу, сказал:
— Молоток, Чижик! Как ты додумался до такого? Мне бы ни за что не пришло такое в голову! Ты, оказывается, смелый парень!
А вокруг завистливые взгляды, шепот, возгласы:
— Слыхали, что отмочил Сирота?
— Вот это Чижик! Вот это дает!
— Пойдем с нами сегодня в глинище, — пригласил Юрку Грига.
Заслужить такое — непросто. В глинище Грига брал только отборных. Многие хотели бы войти в компанию Григи, да не каждому оказывалось такое доверие.
Глинище — это старый карьер, где испокон веков все поселковые брали на разные хозяйственные нужды серую глину. Копали и возили ее бричками, тачками, носили мешками, ведрами. В этом глинище за многие годы образовались огромные отвалы и глубокие норы — штольни, с которыми были связаны страшные легенды. С наступлением темноты глинище обходили за много верст. Днем же оно служило отчаянным мальчишкам убежищем, где они занимались разными запретными делами — опробовали самопалы, играли в карты, в перья, в «разбивалочку». Тут же у них были и свои тайники — в укромных местах прятали папиросы, спички, карты, оружие…
Понимал Юрка — на опасную тропку ступает, но соблазн был велик, и он после уроков заспешил вслед за Григовой оравой. Оглянулся, а Лизка стоит, смотрит ему вслед и сокрушенно качает головой. Дал ей сердитую отмашку рукой: «Иди домой!..» — а у самого настроение упало: донесет Лизка матери, опять будет выволочка. «Ну и пусть! — с вызовом решил Юрка. — Подумаешь, беда великая — отволтузит лишний раз. А кого из ребят родители не тиранят? Таких и нет, наверное, на всем белом свете».
— Ну, братва? В стукана сбацаем? — Грига подбросил и ловко поймал медный пятак выпуска 1924 года — отличная бита в такой игре.
Все потупясь молчали.
— Эх вы, камса мариупольская! Обнищали, как старцы. Даю в долг. Кто смелый? — Он достал из кармана полную руку мелочи. — Ну? Бери, Сирота.
Юрка отступил на шаг от Григи, покрутил головой:
— Не… Я не умею…
— Че «не умею»? Научишься!
Юрка растерянно крутил головой.
— «Не умею»! — передразнил его Грига.. — Че ж ты умеешь? А с Лизкой хоть умеешь?
— Она не играет…
Грига заржал громко, раскатисто, подмигивая дружкам.
— «Не играет»! А ты поиграй с ней, попробуй!
— С девчонкой? — удивился Юрка.
— Ну а с кем же? В игру под названием «тютелька в тютельку».
— Я не знаю такой игры.
Грига хохотал, дружки его тоже старались изо всех сил — поддерживали своего атамана.
— Да ты что, Чижик, в самом деле? — Он повертел пальцем возле виска. — Ты, может, до сих пор не знаешь, откуда и дети берутся?
— Знаю, — уверенно сказал Юрка. — Их в капусте находят.
Грига сначала поднял руки над головой, потом скрестил их на животе, который ходил ходуном от смеха, закричал:
— Ой, не могу! Ой, не могу! Ну Сирота!.. — Успокоившись наконец, он назидательно сказал Юрке: — Чепуха все это, сказка для маленьких. Дети получаются после того, как мужик с бабой… — и он выразительно хлопнул ладонью о ладонь. — После этого она ходит во какая — брюхатая. — Он надул живот, покачал им. — А потом рожает. Понял?
— А вот и неправда! — Юрка подумал о матери, обиделся за нее, запротестовал решительно: — Неправда! Наш отец умер, а мама только через полгода Ксюшку нашла в капусте. Ну?
— Да разве оно сразу бывает? — втолковывал ему Грига. — Девять месяцев проходит! Во тупой Чижик! Все живое так рожается. Ты шо, ни разу не видел, как собаки, кролики, голуби?.. Вот так и батька твой, когда еще был живой… Да ты почитай «зоологию» для шестого, там обо всем написано!
— Врешь ты все, врешь! — Юрка заплакал и побежал домой. Он сердился на Григу, а еще больше на мать: он так верил ей, а она вон чем занималась, да еще и обманывала его!
Мать встретила его бурным наскоком:
— Ты где это до сих пор шлялся? С бандитом с этим, с уркаганом связался? С Григой?.. Убью!
— А нигде я не шлялся! — вдруг закричал в ответ Юрка. — Сама!.. Сама!.. А потом обманываешь!..
— Ты что это на мать голос повышаешь? А?!
— А то!.. Скажешь, не правда?
— Что «не правда»? Что «не правда»?
— А то!.. Опять будешь говорить, что в капусте нас нашла? Да? Нашла? А сама — родила!
— Боже мой! Ну, родила! А тебе-то не все равно?
— Противная!.. Противная!.. — Его вдруг охватила истерика, он начал бить ранцем по табуретке, ранец расстегнулся, книжки и тетради сыпались на пол, а он все колотил им, колотил и кричал: — Противная!.. Противная!.. Не буду жить! Не буду!..
Мать долго смотрела на него, потом спокойно взяла бельевую веревку, которую только что вместе с бельем принесла со двора, стала скручивать ее в тугой жгут:
— А ну прекрати сейчас же этот спектакль. Вижу, много знать стал, видать, переучился. Так я немножко отучу тебя в обратную сторону! — И она огрела его по спине веревкой. Юрка кинулся было на мать, но, встретив ее решительный взгляд, оторопел. А она резко, как на собаку, крикнула: — Прекрати сейчас же! Дур-рак! — И уже совсем спокойно добавила: — Если узнал, услыхал что-то новое, незнакомое, так ты старайся понять что к чему, а потом уже…
«Значит, Грига был прав…» — подумал Юрка и, опустив голову, ушел в другую комнату, всхлипывая: ему было почему-то горько и тоскливо: мать — и вдруг такое?.. А он так верил ей…
Долго после этого не мог он смотреть в глаза ни матери, ни сестре. «Академия» в глинище, Григин «университет», который Юрка посетил только один раз, произвели в нем переворот гораздо больший, чем все три года учебы в школе.
9
В четвертом классе мать подарила Юрке два цветных карандаша — зеленый и красный. Редактор где-то раздобыл, расщедрился — выделил корректору, а она их тут же в сумочку — и домой, Юрочке:
— На вот тебе, рисовать будешь!
Ксюша увидела такую роскошь, ударилась в рев:
— А мне? Я тоже хочу рисовать!
— Мала еще, — сказала мать. — Вот пойдешь в школу — тогда и тебе куплю. А может, еще и лучше: целую коробку, а в ней шесть штук! И все разные! Синий, красный, желтый — какие хочешь!
Слушая материну красивую речь, Ксюша перестала реветь, улыбнулась, но, увидев карандаши, снова заныла:
— Я сейчас хочу рисовать вот этими.
— Порисуешь, порисуешь и этими, Юра даст тебе порисовать.
— Ага! — воспротивился Юрка. — Это мои! Я никому не дам! Она их испортит.
— Будете спорить, никогда ничего не куплю, — пригрозила мать.
Подкараулив, когда Юрка выпустил карандаши из рук, Ксюша схватила их и кинулась бежать. Юрка тут же догнал ее, стал отнимать. Однако маленькая, но цепкая, как кошка, девчонка не поддавалась ему. Она прижала карандаши к животу, сама свернулась в комочек, отбивалась от Юрки ногами и все время норовила поймать зубами его руку и укусить.
Юрка повалил сестренку на пол, и они завозились в одном клубке, как щенята. Оба вошли в такой азарт, что уже не могли остановиться, если бы даже и захотели. Наконец Ксюша обессилела и выпустила из рук карандаши. Но Юрка не заметил этого, продолжал душить сестренку, пока та, увидев обезумевшие глаза брата, не закричала испуганно:
— Ма-ма-а!..
На крик прибежала мать, схватила за воротник Юрку, отшвырнула, как нашкодившего котенка, в угол:
— Ты что же это, мерзавец, делаешь?!
— А она мои карандаши взяла! — раскрасневшийся, запыхавшийся Юрка смотрел на мать бегающими бессмысленными глазами.
— Я тебе вот дам карандаши!.. Я тебе дам карандаши, паршивец! — И, сорвав с гвоздя полотенце, принялась хлестать его по голове, по плечам, приговаривая: — Не смей, не смей трогать девочку! И пальцем не смей к ней прикасаться! Ишь ты, стервец какой объявился! Руки отрублю топором — так и знай, если еще хоть раз тронешь ее!
10
В субботу, как обычно, была большая стирка, после чего мать купала детей и напоследок мылась сама. Юрка, как старший, подвергался этой процедуре первым. Мать усаживала его в корыто с чистой водой, намыливала мылом волосы и, взбив на них обильную пену, долго и основательно скребла Юркину голову своими крепкими пальцами. Все обшарит, ни одного местечка не оставит. Особенно тщательно вымоет за ушами, в ушах, шею и даже в нос залезет. Это Юрке было неприятно, он отворачивал голову в сторону, ворчал:
— Да ну, мам… Да ну…
— Ничего, ничего! Сам небось не каждый день и умываешься!
— Ну да!.. — возражал ей Юрка.
Последнее время мать уже не сажала Юрку в корыто — он сам садился в него. Раздевался догола и, немного стесняясь, лез в воду, пробуя ее сначала ногой.
— Не бойсь, не горячая, — торопила его мать, подтаскивая к себе скамеечку. — Садись, садись, а то у меня еще делов много: Ксюшку помыть, самой искупаться, бельишко ваше достирать. — И она, решительно схватив Юрку за загривок, нагнула пониже, начала плескать на его голову теплую воду. — Ноги, ноги пошире раздвинь — мне до воды не достать. Большой какой вырос, уже в корыте не помещаешься! — И вдруг рука ее задела за что-то упругое. Она сначала не поняла, что это такое, нагнулась и увидела напружиненный, кривенький, как фасолевый стручок, Юркин отросточек. Не зная, как быть, она больно ударила Юрку мокрой рукой по затылку, закричала: — Ты об чем думаешь, паршивец? Ты об чем думаешь? — И она, бросив с силой мыло в корыто, так что брызги полетели во все стороны, вскочила со скамеечки. — Сам!.. Сам мойся!.. — И убежала, вытирая на ходу руки о фартук.
Юрка сидел скукожившись, не совсем понимая, в чем его вина, и все-таки догадываясь, о чем идет речь, сгорал от стыда.
После он долго не мог поднять на мать глаза, а она больше уже никогда не купала его…
11
В пионеры Юрку приняли, мать беспокоилась зря: история с премией к тому дню под забылась, а принимали их сразу всем классом. Выстроили всех у доски в два ряда, старшая пионервожатая прочитала слова торжественной клятвы, ребята хором повторили их, потом та же вожатая повязала каждому галстук, и на этом торжественная церемония приема закончилась. Хотя и проходила она несколько суховато, тем не менее Юрку, как и других ребят, она взволновала. Юрка косил глаза на свою грудь — на галстук — и был счастлив.
Но минутой позже, когда выбирали председателя совета отряда, радость его омрачилась: председателем избрали не его, как он думал и хотел, а отличницу — Ингу Фонареву — длинноногую жирафу. «Городская» — дразнили ее ребята, потому что она вместе с родителями приехала в поселок из города совсем недавно — отец ее работал инспектором в районо. И разговаривала Инга по-городскому культурно: «чево», «ково»? Соперница, конечно, серьезная, Юрке с ней тягаться трудно. Тем более что рыльце у него было все-таки в пушку: история с премиальной книгой подзабылась, видать, не совсем. Юрка обиделся, нагнул голову, насупился, чувствовал себя обделенным, несправедливо обойденным.
Дома мать подлила масла в огонь:
— Не был бы дураком тогда, назначили б тебя председателем. Хорошо хоть в пионеры приняли.
— Да… У нее отец в районо работает…
— Мало ли что! «Отец»! А ты должен вести себя так, чтобы никакой отец тебе не был помехой.
12
Юрка очень хотел, чтобы так и было, как говорила мать. И вскоре судьба ему улыбнулась.
Ах, эта судьба: никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь и что явится причиной твоего подъема или падения!.. Так и у Юрки. Его вдруг избрали редактором стенной газеты. И как ни странно, основную роль в этом сыграли его цветные карандаши.
Не успела вожатая спросить, кого выдвинуть в редакторы, как Лизка Пузырева выкрикнула:
— Чижикова! Чижикова! Он хорошо рисует, и у него есть цветные карандаши!
Юрка действительно рисовал хорошо, оценки по рисованию у него были всегда отличные. Последнюю его картинку «Зима» — хатка-мазанка под соломенной крышей, стожок сена возле нее, следы на первом снегу и дымок из трубы — учитель особенно хвалил. Идиллическая картинка. Правда, Юрка ее не сам придумал, он подсмотрел в книжке и срисовал. Но все равно — какой-то вкус проявил.
Но Лизка, Лизка какова! Добрая душа, знать, у нее: несмотря ни на что, она выдвинула Юрку! Молодец!
Доволен Юрка. Однако больше Юрки была довольна мать:
— Ну вот, наконец-то успокоил мою душу: и в пионеры приняли, да еще и редактором выбрали. Смотри же теперь старайся. Будешь стараться — и председателем станешь. Станешь! Только будь умницей. — И она многозначительно потрясла перед его носом указательным пальцем.
И Юрка старался. Первый номер «Отличника» разрисовал так, что все ахнули. Заголовок написал красным и оттенил зеленым, буквы получились объемными, будто их вырезали из деревянных брусков. Заметки сам сочинил на разные темы — все с призывом учиться на «отлично». В конце нарисовал плоскокрыший скворечник, только без круглого отверстия — летка. Вместо него он сделал длинную прорезь в крыше, а на самом ящике вывел броско: «Для заметок».
Вожатая и учительница были в восторге от газеты, и Юрка сразу взлетел на седьмое небо от счастья. На сверстников стал смотреть свысока: в его руках пресса — грозное оружие!
13
Однажды случилось матери дежурить в ночную смену, и она, чтобы не оставлять детей одних, попросила соседскую девушку Людку Селезневу переночевать с ними. Людка — красивая, черноглазая, давно созревшая к замужеству девка, да вот беда — жениха пока почему-то не находилось.
Людка пришла к Чижиковым не одна, с подружками. Они сначала играли в карты, но игра им быстро надоела, и они начали о чем-то шушукаться, сдвинув головы в одну кучу. Их шушуканье все чаще и чаще прерывалось общим хохотом. Они зажимали ладонями рты и прыскали от душившего их смеха, поглядывая на спящую Ксюшу.
Юрка сидел за учебником, но напряженно прислушивался к девчатам. Те сначала обсуждали ребят, а потом перешли на анекдоты. Юрка удивился, думал, анекдотами увлекаются только пацаны вроде Григи, а тут!..
Часам к десяти Людкины подружки ушли, и Юрка быстро забрался в постель. Людка выключила свет, повозилась, раздеваясь в темноте, проговорила, будто сама себе:
— Ой, прохладно чтой-то… Лягу я к тебе, Юрок, теплее будет. А?
Юрка не успел что-либо сообразить, как она уже нырнула под одеяло, и он отодвинулся подальше к стенке, давая ей место. Людка прижалась к его спине всем телом, зашептала ему в затылок:
— Какой ты тепленький!..
И Юрке стало вдруг так хорошо, что даже в горле непривычно заточило. Он затаился, боясь нарушить это непонятное состояние, но вскоре ему захотелось вытянуться во весь рост, он зашевелился и непроизвольно повернулся к ней лицом. Людка крепко обняла его, опрокинула на себя и принялась жарко целовать, мять, тискать. В какой-то момент она ловко сдернула с него трусишки, обвила его ногами и все целовала, целовала и шептала: «Хороший мой… Славный мой мальчишечка… Сладенький мой… Не торопись, миленький… Не торопись…»
Он так и заснул у нее на груди. А когда проснулся, ее уже не было, и он долго не мог понять, было ли то наяву или все это ему приснилось.
А когда увидел ее вечером, глазенки его загорелись, он весь так и затрепетал, но она незаметно для других приложила палец к губам и строгими глазами приказала: «Молчи!» И он понял, что это только их тайна, а потом ждал не мог дождаться, когда снова случится ночное дежурство у матери.
Но так и не дождался: Людка вскоре завербовалась и уехала на стройку в Сибирь. Юрка тосковал, со временем пытался задавить свою тоску, подбираясь по ночам к другим ночевальщицам, но те почему-то били его по рукам, прогоняли, грозили рассказать обо всем матери.
14
В пятом классе Юрка поменял школу — стал ходить в новую десятилетку на станцию. Старая, начальная, вместе с учительницей осталась на выгоне как пройденный этап. А тут вместо одной учительницы сразу стало несколько — на каждый предмет особый учитель. И в классе появилось много новых учеников — влились из других школ.
Все новое, и все по-новому. Начались и новые выборы, и новые назначения. Председателем избрали не его и даже не Ингу, а станционного Гену Самохвалова. И Юрка поначалу струхнул: «Эти станционные забьют!.. Если с Ингой не посчитались, то со мной и подавно…» Но когда речь зашла о редакторе, станционные отнеслись к этому как-то безразлично: то ли они не придавали этой «должности» значения, то ли у них не было подходящей кандидатуры — и редактором остался Юрка. Остался, но нос особо не задирал, старался ладить со станционными, искал с ними дружбы: они ему нравились. Они были шустрее, «образованнее», раскованнее и потому интереснее, чем Юркины «земляки». Даже Грига померк перед ними, теперь Юркиным кумиром стал Гена Самохвалов — высокий, бровастый, с надменно томными глазами паренек.
В начале второго полугодия в школе появилась новая молоденькая учительница, которая смутила Юркин покой. Вернее, не столько она сама, сколько ее колени — круглые, упругие, гладкие. Пришла, села за стол, а коленки ее — вот они, перед самыми Юркиными глазами. Его даже в жар бросило, он хотел отвести глаза в сторону — и не смог. Кровь вдруг заиграла, ему стало неудобно сидеть, он завозился на скамье, ища удобное положение и не находя его. Вспомнилась почему-то Людка Селезнева, и во рту сразу пересохло. Урок прошел как во сне, о чем говорила учительница, не запомнил ни одного слова, а перед глазами все стояли ее коленки.
Ночью спал плохо, ворочался. На другой день не мог дождаться ее урока. И когда она пришла и села за стол, у Юрки голова закружилась.
Заметив неладное, учительница вызвала его к доске и попросила рассказать урок, но голова его была как в тумане. Тогда она сказала ему:
— Возьми свою тетрадь и пересядь на заднюю парту: так будет лучше.
Под недоуменными взорами всего класса Юрка поплелся на «Камчатку». На перемене ребята допытывались у него:
— Почему она тебя пересадила?
— За что?
Юрка двигал плечами, отвечал:
— А кто ее знает?.. Взъелась чего-то…
А сам тайком преследовал учительницу и был вне себя от счастья, когда видел ее.
Неизвестно, чем бы кончилась эта Юркина любовь, если бы не Гена Самохвалов.
Случилось так, что Самохвалов пригласил Юрку к себе домой:
— Зайдем ко мне? Я тебе кое-что покажу.
Юрку уговаривать не надо — рад до смерти, что Генка так выделил его. Пришли. Жил Генка в большом двухэтажном каменном доме на верхнем этаже. На лестнице пахло кошками, но Юрка этого не заметил, он поднимался по выщербленным бетонным ступеням с таким трепетом, будто во дворец входил.
Генка сам открыл дверь, объяснив:
— Предки на курорт укатили. Проходи!
Вошел Юрка — и первым делом к окну: высоко ли? Высоко! Позавидовал: «Живут же люди!»
— Хочешь, я тебе кое-что покажу? Только поклянись, что никому ни звука!
— Ладно…
— Нет, ты клянись!
— Клянусь! — сказал Юрка.
Генка взял стул, встал на него, снял со шкафа картонную коробку и извлек из-под самого низа сверток, скрученный в трубочку и перевязанный шнурком Развязал, осторожно развернул листы на столе, придавив уголки тяжелыми предметами, чтобы они не скручивались, и отступил в сторонку.
Увидев картинки, Юрка ахнул, кровь хлынула в лицо, слова вымолвить не может: голые девки! Да такие красивые, да в разных позах!
— Ну что? — спросил Генка. — Получше твоей ботанички, по которой ты слюни пускаешь?
Юрка еще больше покраснел, взглянул на Генку — откуда он знает?
— Вижу! Не маленький!
Немного придя в себя, Юрка наконец спросил:
— Где ты их взял?
— Отцовы игрушки. Прячет! А я подсмотрел. Правда, мировые бабенки?
Юрка кивнул и невольно потянулся пальцем к картинке, чтобы потрогать — ведь сидит девка как живая и смотрит так ласково, призывно. Проглотил Юрка слюнку, переступил с ноги на ногу, вытер пот со лба.
— Слушай, — сказал Генка. — Хочешь, я тебя научу, как обходиться без этих баб?
Не понял Юрка, о чем говорит Генка, но кивнул машинально, и тот быстро расстегнул на себе штаны, пояснив:
— Вот так… Смотри на нее и… А хочешь — закрой глаза и представляй кого-нибудь… Можешь даже свою ботаничку…
Вскоре оба осоловели, обмякли, друг другу в глаза смотреть стыдились. У Юрки на душе было противно…
Однако уже на другой день он снова потянулся к этому занятию. Генкина наука пришлась Юрке по душе: он так увлекся этим, что стал таять, будто свеча. За несколько месяцев Юрка извел себя до последней крайности: исхудал, глаза ввалились в глубокие орбиты, взгляд стал пустым, безразличным.
Мать не на шутку всполошилась, повела его к врачу:
— Может, у него чахотка?
К счастью, врачом оказался мужчина, притом умный. Он осмотрел, выслушал Юрку и, ничего не найдя, попросил мать выйти из кабинета:
— Оставьте нас вдвоем. — И когда она вышла, приказал Юрке: — Спусти штаны. Быстро! Так. А теперь покажи мне ладонь правой руки.
Юрка вспыхнул, уши, лицо запылали огнем, руки задрожали — он не мог совладать с пуговицами.
— Слушай меня внимательно, — сказал доктор строго. — Если не бросишь это занятие, очень быстро все кончится для тебя плохо. Умереть не умрешь, но идиотом станешь. Расти не будешь. Мозг отупеет, руки станут трястись… Они у тебя уже сейчас вон какие непослушные. И учиться стал хуже. Хуже ведь, верно? Ну вот. Будешь как Сеня-дурачок. Знаешь такого? Ходит вечно слюнявый, улыбается всем, ноги кривые, руки трясутся и ничего не соображает. Ты — первый кандидат ему в напарники. Хочешь быть похожим на него?
Юрка покрутил головой.
— Нет. Тогда дай слово, что прекратишь это занятие.
Юрка кивнул.
— Одевайся.
— Ну, что у него, доктор? — допытывалась мать у врача. Тот долго молчал, записывал что-то в историю болезни. Потом сказал:
— Пока ничего страшного. Вовремя привели его, хорошо сделали, усильте питание, и пусть побольше с ребятами играет на воздухе.
— С питанием я и так его не ограничиваю, — оправдывалась мать. — И гуляет же…
— Вот и хорошо. Через месяц приведите его ко мне снова. Обязательно!
Вид Сени-дурачка подействовал на Юрку отрезвляюще.
В итоге Юрка снова оказался в выигрыше: он опять стал в центре внимания. Лучшие кусочки — ему, он больной, он то, он сё. Юрочку не трогают, Юрочку оберегают, не обременяют. «Как чувствуешь себя, Юрочка? Как настроение? Как аппетит?» Юрочка запускал под лоб глаза, делал блаженное лицо, отвечал неопределенным пожатием плеч. И тут же слышалось в ответ:
— Ах, ах… Бедный мальчик!.. Бедный мальчик!..
15
В шестом классе вожатая сказала Юрке:
— В стенной газете должна отражаться жизнь отряда. Надо привлекать и других ребят к участию в газете. Помещать их творчество.
— Какое творчество? — не понял Юрка.
— Ну как «какое»? Пусть пишут заметки, рисуют. Сочинения разные — стихи, рассказы…
— Стихи? — удивился Юрка и, быстро перебрав в уме всех ребят класса, сказал: — У нас таких нету. — И усмехнулся: — Как Пушкин, что ли?..
— А ты узнай — может, и есть. Многие сочиняют, но показать стесняются.
«Многие?» — еще больше удивился Юрка и задумался: а вдруг и правда кто-то сочиняет? А что, если бы он сам сочинил стишок? Вот бы все ахнули! Попробовать? Но про что? Про зиму? Про лето? Про осень? И мозг его заработал — не остановить. Пришел домой — тут же сел за стол, принялся грызть кончик карандаша — так делают поэты, видел в кино.
У Пушкина про осень, у Некрасова — про осень… И на дворе — осень…
Осень. С полей все убрали. Овощи домой отвезли. Картошку в погреб склали. И дождливые дни поползли. Сады обголились, Уж больше ничто не растет. Дожди все чаще полились. Скоро зима придет.Написал, прочитал — и голова закружилась, как после катания на карусели. Стихи! Сам сочинил!
— Мама! — закричал он и побежал к ней: — Прочитай вот!
Мать прочитала и, возвращая листок, сказала:
— Ну и что ж тут такого? Складный стишок. И все понятно. Выучить задали? Учи, учи. Он небольшой и нетрудный.
— Гм! — заулыбался Юрка. — Это же я сам сочинил!
— Сам? Да не может быть! Как же это тебя угораздило? Ой-ой! — Она поцеловала его в макушку, снова взяла листок, прочитала вслух и потом долго смотрела молча на Юркины каракули. — Да как складно-то! Мой сыночек! Прости меня, пожалуйста, за все. — Она скривила лицо в плаксивую гримасу. — Я ведь простая.. А ты вон уже какой… А я тебя… Прости… — И опять стала читать стишок, и качать головой, и вытирать слезы. — Покажи учительше. Обязательно покажи, пусть проверит.
На другой день Юрка показал стишок учительнице русского языка и литературы.
— Марья Ванна, я сочинил стишок. Проверьте, пожалуйста, — Юрка смотрел на учительницу чуть снисходительно.
Учительница складывала в стопку тетради, журнал, собираясь уходить из класса. Машинально взяла у Юрки листок.
— Что у тебя?
— Стишок, я сам сочинил. Проверьте.
— Сам сочинил? — Учительница впилась глазами в написанное. — Неужели сам? — Она пристально посмотрела на Юрку. — Оставь мне свой стишок. На следующем уроке поговорим. Ладно?
Юрка кивнул. Хотя учительница пока ничего не сказала, но его все равно распирала гордость: он видел, что сразил ее. Может, не так, как мать, но сразил. Следующего ее урока он ждал с нетерпением и волнением.
Учительница вошла как обычно, но Юрке казалось, что все стало иным, чем всегда, будто изменились и голос ее, и настроение, и обращение. А все потому, что сверху на тетрадях лежал знакомый листок — он узнал его сразу.
Отметив отсутствующих, она закрыла журнал, взяла листок и стала громко, с выражением читать Юркины стихи. Прочитала, спросила:
— Кто назовет автора этого стихотворения?
Все поглядывали друг на друга, перешептывались: Некрасов? Пушкин?
Инга Фонарева робко сказала:
— Некрасов…
Юрка, нагнув голову, ковырял ногтем парту, краснел.
— Нет, не угадали, — сказала учительница. — Это стихотворение написал ваш товарищ — Юра Чижиков.
Класс на минуту вдруг онемел, а потом дружно выдохнул и загомонил на разные голоса. Все смотрели на Юрку как на заморскую диковинку.
— Юра, — обратилась к нему учительница. — Встань. Не надо стыдиться: стихотворение мне понравилось. В нем все правильно. Я бы только посоветовала тебе поправить два слова. «Обголились» и «склали». Так, конечно, говорят, но это не литературно. Надо написать «оголились», «сложили». Согласен?
Юрка кивнул. А у всех глаза на лоб полезли от удивления: учительница разговаривает с Чижиком уважительно! Даже спрашивает у неге — согласен ли он! Вот это да! Вот это Сирота!
И пошла у Юрки после этого страдная пора — застрочил стихи, будто прорвало. О чем ни прочитает у кого, тут же сочиняет свой вариант. Перепевает всех и вся. Упивается славой.
И некому было остановить его, некому было сказать ему: «Брось! Занятие это так же пагубно, как и то, от чего уберег тебя доктор: графомания — болезнь опасная!»
16
Любят у нас на Руси блаженных и «письменных». Издавна, если в деревне объявлялся грамотей, умевший читать и писать, его не просто уважали, его берегли, опекали, на него чуть ли не молились. А как еще совсем недавно относились в селе к учителям? Как их привечали, как заботились о них, с каким благоговением относились к ним! К сожалению, это возвышенно-трепетное отношение к учителю в последнее время стало утрачиваться. Но любовь к «письменным» людям осталась, она перенеслась сейчас на писателей. Стоит сказать, что ты писатель, тут же у людей глаза теплеют, тут же человек распахивает перед тобой свое сердце, душу, делится радостью, горем, начинает проявлять заботу. Вроде и писателей уже развелось как мух на помойке в летнюю пору, и дурных среди них немало, а вот любовь к ним не проходит. Мало того что читают, книги раскупают, но и слушают — на литературные вечера, на выступления писателей места с боем берутся. Что на поэта, что на прозаика — без разницы! Слушают упоенно! Хлебом не корми, дай на живого писателя поглядеть, вопрос ему задать.
Писательская слава!
Скольких она сманила и скольких погубила, как роковая женщина!
Слава!
Человека, вкусившего хоть маковую росинку от этого пирога, можно считать пропавшим для нормальной жизни.
Слава!
Человек талантливый, но слабый духом обречен на вечное страдание и метание. К такому признание приходит только после смерти. Тогда облегченно вздыхает семья, облегченно вздыхает общество, но все делают вид, что сильно сокрушаются от этой потери. В поколениях его имя то вспыхивает, то меркнет в забвении.
Слава!
Человек бездарный, но отравленный славой также обречен на вечное мучение: он мнит себя непризнанным, видит вокруг себя только врагов и завистников. Он невыносим в обществе и в семье. Но его терпят и там, и там. Кончает он обычно плохо.
Слава!
Человек бездарный, но волевой, «умеющий жить» — несчастье для общества, а особенно для той отрасли, в которой он подвизается. Но для семьи такой феномен — находка. В последний путь его провожают за казенный счет — пышно и торжественно, а на другой день либо забывают, либо развенчивают его дутую прижизненную славу.
Слава!
Человек талантливый и сильный — радость и гордость всеобщая. Но какая редкость такой человек!.. Как редко встречается умная красавица, так же редок и умный талант.
Что можно сказать о нашем герое? Пожалуй, пока ничего. Одно лишь могу сейчас утверждать определенно: он уже отравился сладким ядом славы, он уже неизлечимо болен. И лечить его бесполезно: Юрка — натура в высшей мере тщеславная.
17
Зауважали Юрку, закружились вокруг него, захороводились, как, бывало, парни и девчата вокруг единственного на деревне гармониста. Ребята теперь при стычках не били его, старались с ним не задираться: острое, рифмованное слово, видать, было пострашнее крепких кулаков.
Только и слышно: «Юра! Юрочка! Юрай! Юрунчик!»
А Юрунчик? Юрунчик больше других почувствовал, как он вознесся в глазах и товарищей, и учителей. Все стали к нему как-то снисходительнее, теплее, уважительнее. Особенно девочки. Ох уж эти женщины! Пусть еще совсем маленькие, но они уже со всеми наклонностями взрослых — они быстрее других «усекли» Юркину необычность, и он тут же стал их кумиром. Они заметили его и теперь видели в нем только хорошее. Что ни скажет Юрка — все принималось и все казалось им умным и остроумным. Они прощали ему любые выходки, даже такие, которые другому ни в коем случае не простились бы. Они ловили его взгляд, каждой хотелось ему понравиться. Даже Инга! Эта умная, гордая и неприступная девочка! Даже она растаяла перед Юркой. Не говоря уже о Лизке, которая исходила слюной, как собака Павлова при виде свежего куска мяса.
Не понимаю, для чего им это нужно? Неужели ими движет тайная надежда, что где-то когда-то вдруг будет издан томик Юркиных стихов (а чем черт не шутит!) и там на какой-то страничке обнаружится «Послание к Н. ***», или «Л. П.», или «Посвящается И. Ф.». И первая строка: «Таинственная, гордая…» А в конце книжки, в примечаниях дотошный исследователь Юркиного творчества напишет: »Н. ***» — одноклассница Ю. Чижикова». Или: «Л. П.» — Лиза Пузырева, лучший друг поэта, сохранившая преданность ему на всю жизнь». Или: «И. Ф.» — Инга Фонарева, первая юношеская любовь поэта. Училась вместе с ним в средней школе».
Нет, не думаю, чтобы они мечтали вот так прямолинейно и заглядывали так далеко в будущее. Просто любят людей необыкновенных, людей талантливых, людей одаренных и просто способных, а точнее — людей с вывихом, с любым вывихом. Юрка же представлялся им человеком талантливым.
И он в меру сил своих старался оправдать эту свою заявку. На потребу ребячьих вкусов он сочинял скабрезные стишки в духе Баркова. К тому времени Чижиков уже не только прочитал «Луку Мудищева», но переписал его для себя и выучил наизусть, удивляя своей «эрудицией» как сверстников, так и ребят постарше. Девочек он услаждал любовной лирикой, заимствуя у Есенина чувства, настроение и образную систему: «Твой поцелуй был сладок…» (хотя никакого поцелуя еще и не было), «Целовать тебя я не устану…», «Назначь свиданье мне, прошу!..», «Отравлена душа моя тобой…»
Учителям и матери предназначалась его гражданская поэзия, которую Юрка обильно печатал в редактируемой им стенной газете. 7 Ноября, Советскую Конституцию, Новый год, Советскую Армию, Парижскую коммуну, 8 Марта, 1 Мая и многие другие Дни и праздники он обязательно славил своими одами. Не забывал он отдать дань и временам года, воспеть день дождливый и день погожий. Осень, зима, весна, лето, дождь, снег, ветер — до всего было дело неугомонной душе юного поэта.
И все были довольны!
18
Юркина уверенность в своем великом предназначении подкреплялась и разными другими обстоятельствами. Тут уж все делается по закону: на ловца и зверь бежит. Или: кто что хочет, тот то и слышит.
Однажды во время зимних каникул группу лучших ребят отрядили в областной город — во Дворец пионеров на тамошнюю елку. Разумеется, отобрали не просто самых лучших, но и самых талантливых — там нужно будет не только смотреть разные диковинки, но и себя показать. Поэтому ехали самые умелые, умеющие петь, играть, танцевать, рукодельничать. Юрка вез стихи собственного сочинения.
В вагоне пригородного поезда ребята вели себя шумно — смеялись, шутили. Юрка был в ударе — сочинял экспромтом.
— Юрай, придумай рифму на слово «рак»?
Юрка снисходительно улыбался, принимал шутку, отвечал в рифму:
— Она известна всем и так.
— А на слово «зеркало»?
Лихорадочно заработал Юрка мозгами, но рифмы не нашел и тогда пустился в обширное теоретизирование:
— Не на все слова есть прямые рифмы. Но можно придумать что-то похожее… Например… Ну например… — И, не вспомнив никакого примера, вдруг нашелся: — Или изменить ударение, это в стихах допускается. Например, вместо «зе́ркало», сказать «зерка́ло» — и тогда пожалуйста: зерка́ло — лекало — блукало — долбало — алкало… — И сам удивился, как ловко, а главное — как умно выпутался из такой сложной ловушки. Даже лоб вспотел. Ай да Юрка, не дурак все-таки!
— Алкало! Алкало! Это от слова «алкаш»? — удивленно произнес один из ребят, и все почему-то посмотрели на сидевшего на краешке скамейки помятого мужичонку, который слушал их и участливо улыбался. И всем стало вдруг неловко, и все вдруг притихли, но вскоре снова заговорили, зашумели. Кто-то вспомнил о билетах, а тот, у кого были билеты, сделал вид, что их у него нет, и пошло!
— Ребята, а если ревизор нагрянет? — всерьез забеспокоились девочки.
— А я отвечу ревизору: «У меня билет на сто лет и без проверки», — храбрился Юрка.
Мужичонка покачал головой на эти Юркины слова и сказал:
— Нет, парень, сто лет ты не проживешь.
— А сколько? — заинтересовался Юрка.
— Тридцать всего. Тебя ждет слава! Но короткая.
— Тридцать лет! Ого! — засмеялся Юрка, а про себя прикинул: «Пушкин прожил тридцать восемь, а Лермонтов и до тридцати не дотянул. — И вполне удовлетворился: — Хватит!»
А ребята атаковали мужичонку, лезли к нему наперебой:
— Дядя, а я сколько проживу?
— А я?..
— А я?..
— Мне погадайте…
И вновь объявившийся гадальщик охотно отмеривал всем — кому больше, кому меньше. Никого не обижал. Инге отвалил восемьдесят восемь лет, чем рассмешил всех до слез:
— Вот старушечка будет! Девяносто лет почти!
Юрка был впечатлительный, мнительный, расположенный к предрассудкам. Гадание запомнил, особенно запало ему в душу, что его ждет слава. Какая? Неважно. «Буду знаменитым!» — пело у него в душе. На годы он не обратил особого внимания, для него и впрямь это было еще очень далеко.
Вечером, рассказывая матери о гадальщике в поезде, особенно напирал на свое славное будущее. Но мать, выслушав Юрку, не выразила радости, сказала удрученно:
— Боже мой!.. Ясновидец какой-то тебе встретился. Значит, и тебе так мало отмерено: ведь отец-то твой умер тридцати лет.
— Ерунда! Главное он сказал — меня ждет слава! — воскликнул Юрка. — Я буду великим поэтом!
— Будешь, Юрочка! Обязательно будешь! — воздела мать руки к небесам. — Только учись, только учись, будь умницей!
19
Но учился Юрка так себе, особой усидчивостью не отличался, над уроками не очень корпел, схватывал верхушки знаний — и тем довольствовался. Более или менее старался быть всегда «на плаву» по литературе и языку, понимал: тут он должен держать марку — как-никак будущий литератор!
В его лености виноваты были в большей мере учителя. Они будто сговорились, что будущее Чижикова уже определено, и ему никогда не понадобятся ни физика, ни тригонометрия, выводили ему «международную» оценку — тройку, а кое-кто даже и четверку, и были довольны собой и своим учеником. Они целиком и полностью отдали его на откуп литераторше Марье-Ванне — это, мол, ее кадр, так пусть она его и тащит. И Марья-Ванна тащила. Да не просто тащила, она несла его как свое знамя!
Лишь один учитель не поддерживал общего мнения своих коллег о Юрке — это химик Олег Петрович Судаков, по кличке конечно же Судак. Сначала он возражал им, а потом бросил это бесполезное занятие и только посмеивался про себя, слушая их прогнозы насчет Чижикова. Прочитав очередной Юркин опус в стенгазете, он вздыхал и крутил головой, пока не скрывался за дверью учительской.
— Вы к нему несправедливы, — обороняла своего питомца Марья-Ванна. — Вы судите его по своей химии. Но химия ведь еще не лакмусовая бумажка для определений такого рода? И притом — химия действительно трудный предмет.
— Для лодырей и умственно недоразвитых, — коротко отвечал Олег Петрович.
Химия Юрке действительно не давалась. Иногда он становился прямо в тупик: неужели он и впрямь недоумок какой? Несколько раз всерьез принимался за нее, но ничего не получалось. Эти формулы, формулы, дальше H2O и CO4 ничего не запоминалось. Уже после двух-трех страниц учебника в его голове образовывался сплошной сумбур.
— Не понимаю, — говорил учитель. — Как можно не любить химию? Такой интересный предмет! Даже если отбросить его интересность — он просто самый необходимый: это наука настоящего, а еще больше — будущего. Вы посмотрите, уже сейчас мы шага не можем сделать без химии! Одежда — химия: материал, пуговицы, резинки, мех. А дома, в быту? Вы загляните в кладовку, где мать держит разные моющие средства. Сколько там коробок, бутылок, банок! Все это надо знать хотя бы для того, чтобы уметь правильно ими пользоваться. А в будущем? В будущем химия нас будет кормить. Нет, Чижиков, не едиными стихами мир живет. Да, кстати, насколько я знаю, писатели никогда не отрицали ни науки, ни труда в других областях общественной жизни. Все они имели специальности: Лермонтов и Толстой — были военными, Чехов, Булгаков, Даль — врачи, кто-то инженер-строитель, кто-то учитель.
— А Пушкин? — подбросил Юрка ему ехидный вопрос.
— А что Пушкин? Пушкин окончил лицей, а там не на поэтов учили. Пушкин, дорогой мой, был человеком энциклопедических знаний! Это был великий ученый!
— Ученый?
— Да, ученый! И не только в области литературы. Он был историк, он был психолог, он был державного ума человек! Прочитай «Бориса Годунова» — какой государственный ум проявил здесь этот юноша, которого мы обычно представляем только задирой-эпиграммистом, волокитой, кумиром женщин и друзей. Быть настоящим литератором — надо много знать. Надо впитать в себя не только созданное человечеством в области культуры, в области науки, но и самому обогатить человечество хоть чем-то. Невежды в одной области никогда не достигали высот в другой. А графомания, не подкрепленная талантом и знаниями, — это болезнь, а не профессия. Тяжелая болезнь. Известно, что просто больной человек — обуза для общества, больной графоманией — вдвойне обуза, потому что он еще и вреден.
Ага, все-таки нашелся человек, который сказал эти слова, предупредил Юрку. Но это случилось, к сожалению, слишком поздно, когда Юрка, повторяю, был уже безнадежно отравлен сладким ядом своего необычного предназначения. И хотя учитель и смягчил свою длинную тираду улыбкой и дружески похлопал Юрку по плечу и сказал мягко: «Вот так-то, друг мой… Чижик… Пыжик…» — Юрка тем не менее обиделся, проворчал:
— Прошу без оскорбления личности.
— Какое же это оскорбление? Шутка, братец, шутка! Вы же зовете меня Судаком? Зовете. Назови: Судак-чудак…
Но Юрка извинительного тона учителя не понял и не принял, затаил на него обиду. Слово «графоман» больно стегануло: Юрка хорошо знал его значение.
20
Из всех письменных контрольных работ Юрке нравилась одна — на вольную тему. Тут не надо никаких знаний — ни теорем, ни законов, достаточно иметь подвешенный язык да кое-какой навык в демагогии — и успех обеспечен.
Сочинение на тему «Кем я буду», объявленное Марьей-Ванной заранее, Юрке особенно было по душе: он спокойно написал его дома. Из опыта он уже знал, что лучший экспромт — это экспромт, придуманный заранее. Поэтому, когда пробил час, чтобы письменно ответить на этот волнующий вопрос, когда все корпели над сочинением — и над слогом, и над содержанием, Юрка лишь переписывал с черновика свою поэму. Во вступлении к теме он пустился в общие рассуждения о профессиях — как их много и какие они все хорошие и важные: врач и космонавт, ученый и простой рабочий, хлебороб и машинист… И потом, переходя к собственной персоне, Чижиков начал петлять, как затравленный заяц: мол, не знает он пока, кем будет, не выбрал, кем быть наверняка, но кем бы он ни был, он хотел бы быть прежде всего Человеком. В подтексте же читалось, что он мечтает лишь об одном: прославиться на поэтическом поприще.
Это была первая часть его работы. Вторая начиналась со звездочек и была остро негодующей, как у Лермонтова: «А вы, надменные потомки…» Мечты его могут осуществиться, но мешают его великим замыслам разные людишки — завистники и выжившие из ума старцы, которые хотят смять или подмять свободный дух юного гения. Но он не таков, он не трус и не подхалим, он никогда не будет нем как рыба — будь то судак или налим.
Ого, видали, в кого метнул Чижиков стрелы? Бедный Олег Петрович Судаков!.. Но и это еще не все. Сочинение заканчивалось стишком:
Я — Чижик, Ты — Судак, Я — Пыжик, Ты — д---к.Во как обиделся Юрка на учителя, во как отомстил ему!
Сдал работу и ждет. Ждет день, другой, храбрится, а сам с каждым днем все больше дрожит, сердце замирает: чем все это кончится? Не переборщил ли?
А кончилось тем, что его вызвал директор к себе в кабинет. Директор — человек строгий: черные брови всегда насуплены, глаза сердитые, улыбаться никогда не улыбался, меры принимал скорые и крутые. Как только Юрка вошел в кабинет, директор встал из-за стола и, потрясая Юркиной тетрадью, прокричал:
— Это что же такое? И как это прикажешь понимать? — Выждав небольшую паузу, сам ответил: — Это хулиганство! Как ты мог? На учителя!.. Учителя!.. — Он стал листать тетрадь, словно хотел еще раз удостовериться — действительно ли там все так написано, как он прочитал.
В этот момент в кабинет вошел Олег Петрович.
— Разрешите вмешаться, Руслан Иванович?
Директор поднял на него сердитые глаза:
— Я вас не приглашал.
— Но разрешите вмешаться на правах заинтересованной личности?
— Будете защищать?
— Нет. Там нечего защищать и не от чего защищаться. Я не знаю, почему Мария Ивановна вдруг запаниковала: пустое ведь все это. Ну что такого?
— Он обозвал учителя! Как «что такого»?
Олег Петрович поморщился:
— Чепуха! Эта считалочка существует, наверное, лет двести, ее выкрикивают дети в игре, подставляя нужные слова. Только и всего. Я с ходу приведу вам с десяток таких стишков — и авторских, и фольклорных. Ничего тут оригинального нет.
— О какой оригинальности вы говорите? Он обозвал учителя, оскорбил!
— Не обозвал. Сделал лишь намек. Отпустите его с миром, не делайте из него еще и великомученика.
Директор посмотрел на Олега Петровича, на Юрку, сунул ему тетрадь.
— Если бы это не было написано в стихах, я выгнал бы тебя из школы. Возьми и порви. Иди!
Юрка вышел, Олег Петрович покрутил головой досадливо:
— А вот это зря вы сказали…
— Что же?
— Насчет стихов. Его и так развратили, а это ему еще больше вскружит голову.
— А вдруг?.. Попадешь еще в историю…
— Ничего вдруг не бывает. И тут ничего не будет. Несчастный он человек. Когда осознает — будет поздно.
В коридоре под дверью стояла Марья-Ванна и с нетерпением ждала конца экзекуции. Увидев Юрку, она кинулась к нему:
— Ну что?
— А ничего!
— Ты пойми, Юрочка, я ведь не могла такое скрыть… Я обязана была… Но зачем же ты так? Остановился бы на первой части — как хорошо все было бы!..
— Да вы не волнуйтесь, Марья Ивановна: все о’кей!
В класс Юрка вошел героем, победителем: держа высоко над головой тетрадь, он прошествовал на свое место.
Лишний раз убедился Юрка, какая великая сила — поэзия! Прямо магическая. Такой строгий директор за такое деяние отпустил с миром и даже мать не вызвал! Вот это да!..
21
Марья Ивановна рассказывала о декабристах, главным образом о писателях-декабристах — о Рылееве, Бестужеве, Одоевском и конечно же о Пушкине. Потому что отрабатывалась тема «Пушкин и декабристы». Но начала она с Радищева, с его книги «Путешествие из Петербурга в Москву».
Какие люди были! Цвет тогдашней России. Образованные. Смелые, бесстрашные, самоотверженные. Какие стихи они писали против царя, против царского правительства! Пушкин прямо называл царя деспотом, а царских сатрапов изничтожал острыми эпиграммами. В борьбе против самодержавия, в борьбе против крепостничества закалялась и мужала гражданская поэзия в России.
Рассказывает Марья Ивановна вдохновенно, с доскональным знанием материала, изредка поглядывает на Чижикова, будто одному ему предназначен этот рассказ. А Юрка слушает и представляет себя на месте Пушкина, и кажется ему, что и он поступил бы точно так, и он ответил бы царю: «Я был бы с ними…» И сказал бы, если бы заранее знал наверняка, что дело кончится легким порицанием, а через сто — двести лет об этом будут рассказывать ученикам и восхищаться его мужеством.
Борьба, борьба… Послушать Марью-Ванну, так все писатели всех времен только и делали, что боролись против власть имущих. А как же быть ему, когда уже все, что надо, свергли, всех, кого надо, победили?..
— Чижиков, тебе персональное задание: подготовь самостоятельно доклад на тему «Пушкин как борец против самодержавия и крепостничества».
Потащил Юрка домой первый том академического издания А. С. Пушкина, начал листать. Однако дальше известных по учебнику стихов не пошел. Тем более наткнулся вдруг на эпиграмму, которая лучше всего соответствовала его пристрастиям:
Орлов с Истоминой в постеле В убогой наготе лежал…«Ай да Пушкин!» — вскочил Юрка от восторга и пошел по эпиграммам, и нашел еще подходящую:
От всенощной вечор идя домой, Антипьевна с Марфушкою бранилась; Антипьевна отменно горячилась…Потом еще, еще! А «Вишня»-то, оказывается, вон какое стихотворение, а они во втором классе всего восемь строк учили! «Ай да Пушкин!»
На другой день Юрка просвещал своих друзей пушкинскими эпиграммами определенного толка.
На благодатную почву пали семена — снова застрочил Юрка пошлятину. Хотя что он мог выдать оригинального, нового? Что он знал в этом деле? Почти что ничего…
Но не забывал он и о борце. На общешкольной дискуссии «Мое место в сегодняшнем мире» Юрка выступил коротко, с претензией на оригинальность, предварительно порассуждав с самим собой примерно так: «Пушкин боролся против царя, и многие другие — тоже. А я против кого? Революция давно свершилась, война окончилась победой, и окружающая атмосфера все еще наполнена ее духом. Против кого протестовать? Против власти? И неудобно, и незачем, и боязно. Против учителей? Против Судака? А ведь без борьбы знаменитым не станешь!»
— Я очень сожалею, что революция свершилась и война давно окончилась: мне нечего делать! Нашему поколению негде приложить свои силы и энергию!
Аплодисменты. Когда рукоплескания чуть стихли, ведущий дискуссию учитель бросил реплику:
— Трудовой фронт не менее важен. Кстати, цивилизация создавалась только трудом, а войны лишь затормаживали се.
— Личность может проявиться только в экстремальных условиях! — отпарировал Юрка и под аплодисменты сошел с трибуны.
22
В восьмом классе Юрка вместе с другими ребятами вступил в комсомол.
Старшая вожатая, она же и комсорг, Верка Новожилова повела вновь принятых в райком на утверждение. Это была сухопарая девица не очень строгих нравов. Когда процедура утверждения была закончена и ребята получили пахнущие декстрином и типографской краской новенькие комсомольские билеты, она весело всех поздравила в коридоре и сказала:
— Ну, вы все идите, а Чижиков останься. С тобой хотел секретарь побеседовать о чем-то. Подожди. — И она скрылась в одном из кабинетов. Минут через десять вышла, огляделась и, улыбаясь Юрке, спросила: — Все ушли? Пойдем ко мне, отпразднуем, я тут рядом живу. — И она, не дав Юрке опомниться, потащила его к себе.
Юрка смекнул, чем дело пахнет, хотел было как-то отвертеться, но не решился: какой же он парень, если девок боится! Пока рассуждал, как ему быть, они оказались уже у нее в доме.
— Раздевайся, Юрок! Надо же отметить такое событие! Верно?
На столе появились вино, закуска, зазвучал магнитофон, и Верка как-то преобразилась: глаза заблестели, румянец на щеках заиграл, даже красивой стала.
— Садись, Юра, располагайся поудобнее. Будь как дома! Что ты застеснялся? Мужчина ведь! — Она налила ему вина, взглянула на него: — А может, тебе покрепче чего? Коньячку? У меня есть… Давай коньячку! — Верка отставила рюмку с вином себе, а ему налила из пузатой бутылочки.
Юрка выпил, быстро запил водой, отдышался с трудом и только потом принялся закусывать. Верка смотрела на него, смеялась над его мальчишеской неопытностью. А Юрке уже было хорошо, легко, и он уже не смущался необычной обстановки, в которую попал.
Потом они стали танцевать медленный танец. Верка смотрела прямо в Юркины глаза и вдруг остановилась:
— Юрка, какой ты красивый! Ресницы длинные, глаза умные. И лоб красивый, большой! — Она откинула челочку с его лба, погладила теплой рукой. — Ты обязательно будешь знаменитым! Вот попомнишь мое слово!
Такие слова для Юрки были покрепче коньяка, но в ответ он ничего не сказал, а только снисходительно улыбнулся, будто это его мало и интересовало.
— Будешь, Юра!
— Неважно… Я хочу сказать, что мне с тобой хорошо…
— Правда? — И Верка поцеловала его в губы.
Целоваться Юрка умел. До сих пор он именно страстными поцелуями и изводил девчонок. Вцепится, исцелует страстно, наставит кровоподтеков, доведет девчонку до исступления — на том дело и кончается. И на этот раз Юрка тут же ответил ей страстным поцелуем.
— Ого! — сказала Верка, переводя дыхание, и потащила Юрку на диван.
Когда они перестали возиться, Верка сказала:
— Какой ты слабенький, нетерпеливый… Еще совсем ребенок… — Она говорила ласково, но в голосе чувствовалось разочарование. — Обслюнявил всю. Слюнявчик мой маленький… Тебе еще расти надо.
Юрка сгорал от стыда, не знал, как лучше выйти из этой игры. Прикинулся опьяневшим, встал, качаясь, схватился за стул, но не удержался, упал на пол, захрипел, будто ему дурно. Верка побрызгала на него водой, усадила на диван, отерла лицо полотенцем:
— Да ты что?.. В самом деле опьянел?
— Мне плохо… — пожаловался Юрка. — Коньяк крепкий… — А про себя думал: «Опозорился… Опозорился…»
Дома смотрел на себя в зеркало с презрением: ростом не вышел — ребята все обогнали его, кое-кто на целую голову; фигура щупленькая, мальчишеская — другие его сверстники выглядят гораздо мужественнее. Носик маленький, остренький, челочка на лбу… Одни глаза да ресницы — вот и вся краса. Главное — физически слаб, недоносок… В прошлом году еще это не было заметно, а в этом — вдруг все ребята вытянулись, ушли вперед, а он отстал. «Неужели доктор был прав — все это сказалось на росте?..»
Закомплексовал Чижиков…
23
А время тем не менее брало свое.
В девятом классе, весной, Юрка влюбился. Влюбился по-настоящему в девочку из параллельного класса. «По-настоящему» потому, что до сих пор ни одна из них не задевала его так, как эта. Все они с удивительным однообразием очень быстро падали в его объятия, если не в первый, то во второй вечер уже целовались напропалую, разрешали любую вольность его рукам, и Юрка, не успев влюбиться, разочаровывался, охладевал, искал новый объект для любви, а прежний ходил еще какое-то время за ним по пятам с набрякшими от слез глазами.
Сейчас же все было не так. Эту девочку, Ларису, он знал и раньше, но почему-то не обращал на нее внимания. А тут вдруг, словно проявилась она на фотографической пластинке, — предстала перед ним стройная, длинноногая, большеглазая брюнетка, стриженная под мальчика. Откуда все взялось?! Юрка даже остолбенел. Принялся штурмовать — полетели пробные записки, но они остались без ответа. Улучив момент, он пристроился к ней после уроков и проводил до самого дома. Во время этих проводов она не выказала неприязни к нему, но на его ухаживание смотрела как-то иронично и даже взять себя под руку не позволила. У дома Лариса, ни на минуту не задерживаясь, убежала к себе, не дав согласия на следующую встречу. Это озадачило Юрку.
Вскоре на танцах он снова подкараулил ее, не отпускал от себя весь вечер и опять пошел провожать. Но результат был тот же. Главное, он видел, что она не кокетничает, не ломается, а просто держит себя умно и строго.
Ее строгость задорила Юрку, горячила его сердце, появился азарт. В ход были пущены стихи — «Лариса — стройнее кипариса», хотя Юрка в своей жизни еще не видел кипариса и логичнее было бы сравнить ее с березкой или с пирамидальным тополем, но чего не сделаешь ради рифмы? Кстати, эпитеты Юрка, как правило, черпал не из мира, им увиденного и прочувствованного, а из услышанного или прочитанного. Но в том круге, в котором Юрка пока что вращался, все сходило за первоклассный товар. Лишь Лариса к его стихам оставалась равнодушной.
Юрка начал «страдать», сгорать от любви и все делал, чтобы она видела, знала, как он влюблен и как мучается от неразделенной любви. Отчасти это было действительно так: Юрка полюбил Ларису, но чтобы убедить ее в этом, стал прибегать к чисто театральным приемам.
Чтобы показать, как он исхудал и осунулся, Юрка решил навести у себя под глазами синие разводья. Однако, не найдя подобной косметики в доме — мать кроме губной помады и пудры ничего не применяла, Ксения по малолетству тем более такими делами не занималась, — Юрка нашел выход: поджег кусочек резины, закоптил стекло и этой сажей стал наводить тени под глазами. Навел — и сам удивился, как здорово получилось. Большие глаза казались теперь в глубоких впадинах, и выражение лица от этого сделалось скорбным, измученным, печальным. Первой поразилась мать:
— Юра, что с тобой? На тебе лица нет. Ты заболел? Что у тебя болит?
Юрка неопределенно двинул плечами и стал собираться в школу.
— Надо врачу показаться, — не отставала она, а Юрка был доволен.
Таким и заявился в школу. Естественно, что он и настроение свое натянул на меланхолический лад.
В классе все, конечно, заметили Юркино страдание. Ребята утешали, говорили, чтобы он бросил о ней и думать — не стоит, мол, она таких переживаний. Девочки вздыхали и завидовали Лариске. И конечно же тут же донесли ей о Юркином состоянии. На перемене она и сама убедилась — прошел он мимо грустный и печальный, с ввалившимися прекрасными глазами.
Больше двух уроков Юрка не выдержал — целый день играть роль страдальца и сидеть как в маске ему было не под силу, и поэтому уже во время второй перемены он смотался домой, сославшись на головную боль.
— Ночи не сплю, — пожаловался он ребятам и ушел, чем вызвал еще большее сочувствие к себе и негодование к предмету его любви.
Неизвестно, что больше подействовало на Ларису, но она сама стала проявлять к нему интерес. Наверное, поверила в искренность Юркиных чувств. Говорят, капля долбит камень не силой, но частотой своего падения. Камень! А что уж говорить о хрупком девичьем сердце? Пробудилось, поверило и забилось в трепетном волнении первой любви.
Но недолго пришлось девочке носить это радостное чувство. Юрка очень быстро пресытился Ларисой, стал придираться к ней по мелочам, третировал ее, ревновал. В конце концов однажды на танцах приревновал к своему же другу Геннадию (а может, сам и подстроил все — с него станется), выговорил ей свое возмущение в резких тонах и ушел разъяренный, обиженный, непонятый.
Какое-то время делал вид, что страдает, но наступившие каникулы помогли ему окончательно остыть, а точнее — отделаться от чувства некоторого стыда за свой поступок.
А для Ларисы это была большая трагедия, которая не прошла бесследно. За лето она с трудом оправилась от потрясения, как от тяжелой болезни, и кончала десятилетку уже в другой школе.
24
Летом Юрка предпринял попытку расширить круг своих читателей — отобрал наиболее правильные стихи и послал их в «Пионерскую правду». Ответ пришел быстро. Юрка с трепетом вытащил из ящика белый фирменный конверт и с еще бо́льшим трепетом достал из него ответное письмо — краткое и вежливое:
«Дорогой Юра!
Мы прочитали твои стихи. Но опубликовать их не смогли: они очень слабо написаны. Советуем тебе побольше читать классиков и современных писателей.
С приветом…»Прочитал Юрка письмо — и глазам своим не поверил. Прочитал еще раз — в горле пересохло: ни слова одобрения! Он нервно скомкал письмо, потом изорвал его на мелкие кусочки и бросил в плиту — чтобы никто и никогда не узнал о его существовании.
Однако делать что-то надо — надо пробивать брешь и выходить за рамки стенной газеты. И он переписал эти же и другие свои стихи и разослал в разные газеты — в «Комсомолку», «Известия», в областные газеты — партийную и комсомольскую, в журнал «Пионер» — и стал ждать. Через какое-то время начали приходить ответы — одни короче, другие длиннее, одни советовали опять же больше читать поэтов, другие указывали на несоблюдение Юркой размера, а в одном даже указывалось на грамматические ошибки.
И тот давний вопрос «Кем быть?» встал вдруг перед Юркой во весь рост. Он не на шутку струхнул, представил, как разлетится в пух и прах его дутая слава, если об этом узнают в школе, и ужаснулся: король-то голый!
С Юркой случилась истерика, он начал колотить себя кулаками по голове, плакать. Упал лицом в подушку, грыз ее зубами, мочил слезами, сотрясался от рыданий. Увидев такое, мать испугалась, стала допытываться, в чем дело, потом увидела письма, прочитала, принялась успокаивать его:
— Юрочка, сыночек!.. Ну разве можно так расстраиваться из-за этого? Ну и что? Правильно пишут. А ты что же, ожидал, что тебя, неизвестного и незнакомого, так сразу возьмут и напечатают? Разве с кем-нибудь такое было? Возьми поправь, сделай, что они хотят, и снова пошли. Не отступайся.
Юрка прислушался, успокоился. Действительно, мать права: сразу никого не печатали. Он вспомнил «Мартина Идена» и окончательно успокоился. А мать тем временем и сама решила помочь ему:
— Дай-ка мне твои стихи — я покажу их нашему редактору Ивану Савельевичу. Он ко мне хорошо относится. Попрошу проверить их на предмет печати.
Иван Савельевич, уже пожилой человек, когда-то тоже мечтавший о писательской карьере — «грешил стишками», пытался писать рассказы, принимался даже за роман, но повседневная текучка постоянно отрывала его от творчества, и он так и остался журналистом районного масштаба. Позволял себе иногда разразиться очерком о каком-либо передовике и потом неделю жил радостью от этой своей работы: «А неплохо получилось! Сочно! Мог бы!.. Мог бы!..» И этим «мог бы!..» его тщеславие вполне удовлетворялось, и после он долго накапливал в себе силы для следующего очерка.
Увидев перед собой гору стихов, Иван Савельевич выпрямился в кресле, посмотрел на Чижикову:
— Это все сын твой нахомутал? Когда же он успевает уроки учить?
— Он у меня способный мальчик, можно сказать талантливый, — похвалилась Чижикова. — Вы уж найдите время — посмотрите, может, выберете, какое можно напечатать. А может, и поучили бы его, вы ведь понимающий в этом деле, получше учителей, — подольстила она редактору.
Иван Савельевич крякнул и сказал:
— Ну ладно… Оставь.
Перечитав весь ворох, Иван Савельевич вызвал к себе Чижикову. Кивнув на стихи, он поморщился и сказал:
— Знаешь, мать… Ведь это все очень плохо.
— Как плохо? Неправильно, что ли? Я сама читала…
— Правильно-то правильно… Но понимаешь, в этом деле мало сказать правильно, надо еще и хорошо сказать, оригинально, по-своему. А у него все банально, все трафаретно. Сплошная декларация. Все не свое.
— Нет, свое, свое, это уж я ручаюсь: сам писал.
— Сам-то сам, да мысли-то выражены…
— Правильные мысли. А раз правильные — значит, хорошо. Или как?
— Понимаешь, мать… Кроме правильности, тут должно быть и… Ну, как бы тебе объяснить?.. — Иван Савельевич, как всякий неудавшийся литератор, любил анализировать написанное другими и давать советы, которые, к его чести, были совсем недурными. — В этом деле ставится несколько оценок. Первая — за то, о чем написано стихотворение, то есть — за тему. Вторая за то, как написано. Так вот, у твоего гения страдает именно это как. Как получилось как. — Иван Савельевич улыбнулся, довольный таким остроумным каламбуром, а Чижикова огорчилась, но не отступала:
— И ни одного, ни одного нельзя напечатать?
— Что ты, голубушка!
— А может, все-таки найдете? Помогите мальчику… Вы же можете. Поищите получше…
Что не сделаешь, если женщина просит?! А Иван Савельевич все-таки был мужчиной и потому сдался:
— Ладно, попробую.
Попробовал и сделал. Взял Юркино стихотворение, покорпел над ним вечерок, переписал на свой лад, сократил его изрядно и напечатал ко Дню Военно-Морского Флота. И подписал: «Юрий Чижиков, ученик 9 класса». Напечатал — и самому понравилось, зауважал себя: сделал доброе дело. Потом разохотился и ко Дню авиации снова проделал такую же операцию над другим Юркиным опусом.
Мать довольна, не знала, как и отблагодарить редактора. А о Юрке и говорить нечего: тот скупал в киоске газеты и не мог налюбоваться не столько стихами, сколько своим именем под ними: «Юрий Чижиков». Да еще жирным крупным шрифтом!
Видеть свою фамилию напечатанной — что может быть сравнимо с этим чувством! Есть в этом что-то магическое. Кто не переживал этого волнующего момента, тот и не поймет, как бы красочно это ни расписывать. А кто имел счастье пережить такое — тот поймет нас и без слов.
25
В десятом Юрку пригласили в военкомат — там он прошел комиссию, и его взяли на учет. Военные врачи, правда, были не очень довольны его далеко не атлетическим телосложением. Один, пощупав его мягкие, как вата, мускулы, удивленно спросил:
— Что же ты такой вялый? Спортом, наверное, совсем не занимаешься?
— Некогда… — обронил Юрка.
— Некогда? Чем же ты занят?
Юрка хотел сказать: «Стихи пишу», но смолчал — рядом были ребята-одноклассники, которые могли посчитать его бахвалом, и он только двинул голыми плечами.
Сидевший рядом военный подбодрил Юрку:
— Ничего! Армия его закалит!
Однако Юрку такая перспектива почему-то не обрадовала. Еще больше она не обрадовала его мать. Обеспокоенная, она встретила его вопросом, едва ступил он на порог дома:
— Ну что? Как?
— Взяли на учет…
— А что сказали?
— Сказали: жди.
— Чего?
— Повестки, естественно…
— И ты так спокойно об этом говоришь?
— А что я мог сделать?
— Сказал бы, что ты для военной службы не предназначен. Что ты готовишь себя для работы совсем по другой линии.
С этой тирады она и начала свой разговор на другой день в военкомате с самим военкомом.
— На каком же поприще он собирается прославить наше отечество? — спросил военком не без ехидства: он уже имел опыт разговора с такими мамашами и не очень сердился на них. Это раньше он возмущался подобными ходатаями: в его время понятия не имели отбиваться от армии, ждали этого момента, шли служить с охотой и служили с достоинством. А теперь? Удивительно, как уродуются нравы.
— А вы не смейтесь, — обиделась Чижикова.
— А я и не смеюсь, — сказал военком. — Тут не до смеха.
— Он одаренный мальчик.
— Одаренные армии очень нужны.
— Но он одарен совсем в другой области. — И Чижикова выложила из продуктовой сумки Юркины рукописи. А сверху положила вырезанные и наклеенные на плотные картонки стихи из районной газеты. — Вот! Смотрите! Он пишет стихи!
— Это хорошо! — сказал военком, разглядывая картонки. — Но армия не помеха для творчества, как и творчество не вредит армии. У нас в армии есть все условия для развития талантов: и спортивных, и артистических…
— Да! Но это — литература, поэзия! Для развития этого таланта нужны особые условия.
— Какие же?
— Ну, эти…
— «Эти» у нас тоже есть. Для развития литературного таланта человеку нужно прежде всего знать жизнь. А жизнь можно познать, только окунувшись в нее. Сидя дома у мамки под крылышком — никакой жизни не постигнешь. В армии он научится самостоятельности, станет настоящим мужчиной. Окрепнет физически и морально.
— Ему надо учиться, — стояла на своем Чижикова.
— В армии тоже можно учиться.
— Он должен поступить в институт.
— После армии это ему сделать будет гораздо легче, чем теперь. Поверьте мне.
— Но ведь его могут послать в Германию?
— Почему обязательно в Германию?
— Но могут?
— В перспективе — не исключено.
— Но ведь там постоянно какие-то провокации. Там ведь могут и убить?!
— Убить могут и дома — мало ли хулиганья.
— Значит, не хотите помочь? — подвела итог Чижикова.
— Служба в армии — обязанность, а не право. А законы равны для всех, и их надо исполнять.
— Значит, правду говорят, — закивала она безнадежно головой, собирая со стола рукописи, — чтобы освободиться от армии — это дорого стоит?..
— Нет, не правду говорят, а лгут! — резко сказал военком.
— А если у меня нет таких средствов?
— А если вы будете говорить об этом, я привлеку вас к суду за клевету! И вас осудят, как клеветницу, как сплетницу! Ясно вам? Идите и больше не приходите ко мне с этими разговорами. И готовьте парня в армию.
— Извините, пожалуйста… — испугалась Чижикова. — Но разрешите попросить вас об одном: если уж надо ему за границу ехать служить, пошлите его в Европу куда-нибудь, где поспокойнее.
— Таких Европ, к сожалению, нет. К тому же это от меня не зависит, — сказал сухо военком. И, когда она закрыла дверь, сердито бросил ей вдогонку: — «В Европу»! В ж… тебя, а не в Европу.
26
В армию Юрку все-таки забрали. Постригли, поставили в строй — и шагом марш! Но шли недолго, всего до площадки, где стояли автобусы и грузовик с брезентовым верхом. В грузовик погрузили чемоданы, а в автобусы — новобранцев. Мать стояла возле Юркиного окна, вытирала глаза и приговаривала:
— Береги себя, сыночек!.. Береги, родимый…
Ксения была рядом, у нее тоже глаза на мокром месте: жалко брата.
Юрка, прильнув стриженой головой к стеклу, смотрел на них печальными глазами. Когда автобус тронулся, помахал лениво рукой…
Везли двое суток. Сначала автобусами, потом — поездом, потом — на больших военных грузовиках. В казарме их переодели, и Юрка окончательно сравнялся со всеми. Однако такая обезличка его не устраивала, и он, выбрав момент, подошел к замполиту, поведал ему, что он сочиняет стихи и что он в школе был редактором стенной газеты.
— Это хорошо! — обрадовался замполит. — В армии тоже есть и газеты, и боевые листки. — И назначил Юрку редактором взводного боевого листка.
Так Чижиков выделился из общей массы солдат и под предлогом выпуска листка частенько отлынивал от тяжелых работ, а иногда и от занятий. Солдаты называли его прохиндеем, командиры — сачком.
Первым не выдержал старшина роты. Когда Юркин взвод назначался в наряд, Юрка сказал, что он должен выпускать боевой листок, и на построение не явился. Старшина послал за ним и, когда тот вышел из казармы, строго приказал:
— Чижиков, в строй!
— А я… Мне поручили боевой листок…
— В строй! Выполняйте последнее приказание!
— Я буду жаловаться замполиту…
— Разговорчики! В строй! Хватит сачковать!
Юрка подчинился, но после инструктажа тут же пошел к командиру роты и доложил, что старшина назначил его в наряд и обозвал сачком.
— Он так и назвал вас?
— Ну, не прямо, а… Сказал: «Хватит сачковать!»
— Вообще-то зря он это сказал, хотя по сути и правильно.
— И вы?.. Я… я…
— Как стоите? — крикнул комроты. — Смир-рно! Два наряда вне очереди за незнание устава. Кру-угом! Шагом марш!
Строгая дисциплина в армии, трудно изворачиваться Юрке. Понял он: тут высокомерием и строптивостью не возьмешь, быстро «рога обломают».
27
Однажды, уже на втором году службы, подняли Юркину часть, посадили в вагоны и повезли в неизвестном направлении. Куда? Военная тайна. Но всякая тайна для солдата еще накануне уже никакая не тайна: их везли в Германию, а точнее — в ГДР.
Узнав об этом, Юрка заскучал, занервничал, заметался, принялся строчить письмо матери, полное тревоги, недомолвок и намеков, — она оказалась права, сердце-вещун ей правильно предсказывало, где ему придется служить.
Замполит заметил Юркину тревогу, подошел, мягко спросил:
— Письма пишешь? Кому, если не секрет?
— Матери…
— Матери — это хорошо. И что же ты ей пишешь, если не секрет?
Юрка замялся, начал оправлять на себе гимнастерку.
— Понятно, — сказал замполит. — Ты вот что: погоди пока писать. Когда успокоишься и когда для тебя все будет ясно, тогда и напишешь. А то в нервном состоянии напишешь что-нибудь такое, что заставит ее волноваться… А расстояние большое, письма идут долго, пока туда да пока обратно. Ты понял меня?
Юрка кивнул.
— А кстати, почему ты так разволновался? — спросил замполит.
— Я?.. — Юрка криво усмехнулся. — Нет, я ничего…
— Не надо! Плохое настроение солдату ни к чему. А потом, ты же сам говоришь, что личность формируется, выковывается в борьбе? Так что — вперед, борьбе навстречу! А?
— Это не та борьба…
— Как не та? Самая что ни на есть — та. А настоящие писатели никогда не стояли в стороне от великих событий. Вспомни: Петёфи ушел на баррикады, английский лорд Байрон уехал в Грецию, чтобы участвовать в освободительной борьбе, Толстой, Лермонтов воевали, один в Севастополе, другой — на Кавказе. А в Великую Отечественную войну? Вспомни Гайдара и всех других. Редкий писатель не принял участия в войне непосредственно. А сколько стало писателями из тех, кто участвовал в войне, будучи еще никем? Из таких вот, как ты, — вчерашних школьников? Стали, да еще какими писателями стали! Мировую известность завоевали! Да что я тебе рассказываю, ты ведь это лучше меня знаешь. А? Так что, друг мой, держи марку! Выше голову! Нас ждут великие дела!
Сидит Юрка у окна, смотрит на бегущие деревья и перемалывает в голове разговор с замполитом.
«Так-то оно так… — думает он. — Да только бы пронеслось стороной самое страшное. Где тут я, в этой массе, в этой коловерти? Песчинка, не более… Кто меня тут увидит, отметит, защитит?.. Все это огромная машина — и техника, и люди… Упади я сейчас под ее колеса — переедет и даже не вздрогнет, и ничего, ни на капельку нигде и ничего не изменится…»
28
Вот и Германия. Чистенькая, тихая, спокойная и даже приветливая. И ничего страшного, зря мать пугала.
Успокоился Юрка, даже доволен, что попал сюда, — будет что рассказать, будет чем похвастаться: за границей был!
Но однажды мир был нарушен. Их часть ночью подняли по боевой тревоге. Солдат посадили на машины и, сделав бросок километров на двадцать, высадили и скрытыми тропами тихо повели дальше.
Осенняя ночь темная — в двух шагах ничего не видно. Жухлая трава под ногами предательски громко хрустит, а командиры сердятся, предупреждают:
— Тихо… Не шуметь… Под ноги смотрите.
А что там увидишь, под ногами: черно, будто деготь разлит.
Впереди потрескивали автоматные очереди — то гуще, то реже, то вдруг включался в общий хор пулемет, — этот бил глухо и деловито, то вдруг вспыхивала сплошная стрельба и тут же прекращалась. Но проходила минута-две, и все повторялось снова.
Юрка струхнул: ладони взмокли, вдоль спины загулял холодок, ноги стали заплетаться. В животе неожиданно заурчало, закололо, острая боль подперла — идти невозможно.
Далеко впереди взвилась ракета, затем другая, Юрка тут же упал на землю, затаился. Затаились и другие. Когда ракета погасла, комвзвода скомандовал приглушенно:
— Вперед!..
— Товарищ лейтенант, у меня живот заболел… — пожаловался ему Юрка.
— Отставить! — рассердился тот. — Не время…
— А я виноватый…
— Отставить! Трус ты, Чижиков, вот что я тебе скажу. Трус. Трусов судит трибунал, а на фронте, в боевой обстановке, их расстреливают. Так что выбирай, — отрезал он и заспешил вперед.
Юрка с трудом поспевал за товарищами: отстать от них и остаться в ночном поле одному опасно. С трудом доплелся, хотя и последним, до укрытия. А тут и стрельба стала стихать, редкие отголоски ее были слышны где-то впереди. К утру все стихло.
Немецкие офицеры рассказали, что большая группа пыталась прорваться на территорию ГДР с диверсионными целями, было тяжело, поэтому они и запросили подмогу у русских.
Утром подобрали человек пять убитых диверсантов, один, правда, был еще жив, только тяжело ранен, и его сразу отправили в госпиталь: очень важно не дать ему умереть и заставить говорить. Снесли в кучу брошенное оружие — автоматы, гранаты.
Погибли и два немецких солдата — молодых, белокурых.
Смертью пахнуло на Юрку, близкой, реальной.
Сидит в укрытии, лихорадочно соображает, что делать, как выбраться отсюда живым и невредимым: он должен жить, чтобы творить, иначе зачем ему даден талант стихотворца?
Не выдержал, достал блокнот и принялся строчить письмо в редакцию дивизионной газеты:
«Возьмите меня в газету, я — поэт, я печатался в районной газете, я больше принесу пользы в редакции, чем здесь, в окопе. Это я чувствую, знаю наверняка. Не пожалеете, возьмите, я — поэт…»
Однако уже во второй половине дня они возвращались в свою казарму, и Юрка снова обрел нормальную форму.
Взводный спросил у него:
— Ну как твой живот, Чижиков?
— Да вроде прошел… — И, уловив нотку иронии в голосе командира, встал в позу обиженного: — Вы вот не верите, трусом обозвали…
— Почему же не верю? Верю. Бывает такое у… у нервозных людей.
— Почему?
— Кто же знает! Организм так устроен у этой породы людей. Но с этим можно и нужно бороться.
— Как?
— Труса надо из себя выгонять. Любым способом вытравлять: самовнушением, тренировкой… От опасных заданий не увиливать. Мало ли как… Запомни: смелого пуля боится — это не просто красивые слова. Оно так и есть, трусы чаще погибают, чем смелые, отчаянные, ловкие, тренированные ребята. Это показал опыт Великой Отечественной войны.
Но под этими словами Юрка лишь нагибал голову да морщился досадливо. Он не чаял дождаться, когда кончится срок службы, и педантично вычеркивал в своем календарике прошедшие дни и скрупулезно считал оставшиеся.
29
Пролетели, прошли, проползли, протащились — как для кого — два года, и Юрка возвратился домой, облегченно вздохнув. Но еще более облегченно вздохнули его командиры: наконец-то избавились от неисправимого сачка.
Ехал домой Юрка радостный, будто снова возвращался в свой десятый класс — к ребятам и девчатам, будет кичиться перед ними: был в Германии, участвовал в бою.
В первый же вечер, не расспросив, как живут тут мать и сестра, надраил пуговицы на мундире и подался в клуб на танцы. Но, к своему удивлению, никого из своих прежних друзей и знакомых он не встретил. Его сверстники разъехались кто куда, а кто остался на месте — на танцы уже не ходили: другие заботы их обременяли.
Пришел домой унылый, разочарованный, понял: та жизнь кончилась, надо начинать другую, неведомую…
Только на другой день увидел, рассмотрел своих близких. Ксения повзрослела, расцвела, совсем невестой стала. Удивился:
— Ксюх! Да ты смотри как выросла! Замуж скоро, а?
— Было бы за кого, — отозвалась болезненным голосом мать и пошла от плиты к столу, еле переставляя ноги.
— Ма, а с тобой что? Почему ты так ходишь?
— Я же тебе писала, сынок: болезнь моя стала прогрессировать. Все суставы болят. Ходить не могу, вот в этих местах больно, — она с трудом нагнулась, показала, где у нее болит. — И колени, и шея — все болит. И руки, вот посмотри. — Она протянула ему обе руки — искривленные пальцы с большими наростами на суставах. — Держать уже ничего не могу: чашка валится из рук, всю посуду перебила. Сумка с продуктами мне не под силу стала — не держат руки. Все теперь на бедную Ксюшу. Хорошо, хоть карандаш пока держу, а иначе беда: если и работать не смогу — тогда совсем…
— Ну?.. А что же врачи?..
— А что врачи? Лечат. Прописывают мази, втираю. Иногда помогает — легче становится, а чаще — нет, особенно осенью, в сырую погоду. Говорят, есть какое-то лекарство — уколы делают, но тут его не достать. Вот так-то, сынок… Плохой из меня помощник вышел, слабая опора… Вот и Ксюше пришлось школу бросить, пошла в ПТУ, чтобы поскорее к самостоятельности прибиться.
Юрка молчал, ждал, что мать скажет о нем, какую участь ему уготовила. Неужели рухнули все его планы и ему придется идти куда-то в ученики то ли токаря, то ли слесаря? Но мать о нем ничего не говорила, тянула почему-то.
— Гераська тоже армию отслужил, вернулся.
— Какой Гераська?
— Твой двоюродный. Забыл, что ли?
— А?..
— О, парень какой выдурился! Высокий, красивый! Поступил уже, учится в металлургическом. Ты бы сходил, проведал бы бабушку, ребят. Бабушка тоже сдала сильно, постарела… О тебе все спрашивала: «Как там наш сиротка? Дождусь ли поглядеть на него?» Сходил бы?..
Поморщился Юрка — не хотелось ему идти к двоюродным, какой-то неприятный осадок к ним остался у него еще с тех пор, когда бабушка угощала его пирожками, а они смотрели на него отчужденно и дразнили сиротой. «Сиротка…»
— А я?.. — не выдержал Юрка. — А мне как быть?
— Как быть? Ты — особая статья! Ты иди своей дорогой, как наметил. Ты на нас не смотри и не обращай внимания, проживем как-нибудь. И тебе поможем. Вот Ксюша скоро станет зарабатывать… Иди, сынок, иди своей дорогой!
Вздохнул облегченно Юрка. Собрал все, что нужно, послал в Москву и стал ждать ответа.
30
Даже временно Юрка ни на какую работу не пошел, он «отдыхал» от армии и готовился к экзаменам. На самом же деле слонялся по городу, не зная, куда себя деть. Однажды забрел в универмаг и увидел там за прилавком пышненькую симпатичную блондиночку. Милая, стеснительная, она так старалась быть вежливой и внимательной со всеми покупателями, что вызывала у людей улыбку. Юрка подошел к прилавку и остолбенел:
— Лиза? Ты?!
Девушка взглянула на Юрку, воскликнула:
— Ой, Юра!.. Это вы?.. — и заулыбалась мило, заморгала ресничками.
Юрка удивился: откуда-то и реснички появились, да еще черненькие, и бровки — была ведь совсем безбровой. А прическа! Ну все на загляденье! А сама-то, сама — какая пампушечка! Губки пухленькие, подрагивают призывно.
— Что ты здесь делаешь? Работаешь?
— Практику проходим. Заканчиваю торгово-экономический техникум.
— Ну, Лиза!.. — Юрка смотрел на нее во все глаза. — Как ты изменилась! Какая красивая стала!
— Да ну, вы скажете…
— А чего это ты меня на «вы»?
— Так… — засмущалась Лиза. — Вы… Ты тоже изменился…
Юрке хотелось поскорее узнать о ней все, и он спросил:
— Живешь у матери?
— В городе, в общежитии. Но сейчас у мамы.
— Так пойдем домой?
— Не могу. Рано еще.
— Я подожду. Или у тебя есть провожатый?
— Что вы… откуда?..
Юрка дождался конца рабочего дня и весь вечер провел с Лизой. И была она такая милая, такая ласковая, такая умненькая, что он даже не посмел поцеловать ее, а дома всю ночь и весь день томился в ожидании следующего свидания. Только на третий вечер Юрка привлек ее к себе и поцеловал.
— Ну зачем вы?.. — спросила Лиза тихо.
— Люблю тебя! — выпалил Юрка.
Узнав о Юркином похождении, мать спросила у него строго:
— Это правда?
— Правда…
— Дур-рак! Не мог где-нибудь подальше себе забаву найти. И что же теперь, не думаешь ли ты жениться на ней?
— А что?
— Как «что»? Как «что»? — ужаснулась мать. — А твои планы? Твоя учеба? Все побоку? Из-за Лизки?! Боже мой!.. — зарыдала она.
И тут, будто бес подсказал ей, заявилась сама Натаха Пузырева — Лизкина мать. Веселая, разбитная, еще с порога бодро прокричала:
— Привет, подружка! — Поняв по настроению хозяев, что попала не вовремя, не смутилась. — Объяснялись, что ли?
Нагнув голову, Юрка тут же вышел из комнаты.
— Ты чего расстраиваешься? Все будет о’кей, как теперь они говорят. Лизка девка здоровая, умная. Ну? А потом: свою судьбу, я тебе скажу, ни обойдешь, ни объедешь. Кому что на роду написано, тому и бывать.
— Значит, Юрина судьба твоя Лизавета?
— А что? Да чем же она — не пара ему? Слава богу, есть на что посмотреть! И деловая. Вон уже самостоятельно скоро будет работать. В универмаге! Ты бы посмотрела, как к ней разные люди с какой ласковостью обращаются: «Девушка, девушка, скажите, пожалуйста, когда будет такой-то товар?» О! Да она там любого может себе подцепить. С положением! А твой? Ну что в нем? Он же еще никто и ничего.
— Так вот и цепляли бы там, зачем же вы мальчика заарканили?
— «Заарканили»! Ой, держите меня! Ты вот умная, грамотная, а дура: ведь сердцу не прикажешь. Любовь у них! Разве не видишь? А раз любовь, то все, никакими силами ее не сломать. Да и зачем ломать? — примирительно сказала Натаха. — И нам чего ссориться? Как-никак без пяти минут родственники. А может, и уже…
Юркина мать взглянула на нее удивленно.
— Ну чего, чего ты мечешь на меня такие молнии, Шурка? Рази это я все придумала? Давай, давай не будем ссориться. Все обойдется, свыкнется, слюбится, притрется — и дай бог им счастья! Наше дело помочь им выйти в люди. Юрке главным образом. Он учиться собирается? Пусть! Поможем! Только на кого он учиться собирается?
— На писателя, — сказала Шурка нехотя.
— Это что такое? Где он будет работать? В какой конторе?
— Нигде…
— Как так? А зарплату ему кто будет платить?
— Редакция.
— Наша, что ли?
Шурка не ответила, и тогда Натаха подвела итог:
— Ладно, дело ваше, вам виднее: вы народ грамотный. Был бы человек хороший, не пил, не гулял, а то прокормим! А? Я еще сама дебелая… Ты, правда, занедужила… Но ничего, не горюй! Пусть учится. Еще заживем! Вот Лизка пойдет на самостоятельную работу — любой дефицит будет наш! Нам еще завидовать станут, в ножки придут кланяться.
На том и завершился сговор, как называли раньше предварительное сватовство.
Наконец пришел Юрке вызов на экзамены. На вокзале Лиза измочила всю Юркину грудь слезами, а он утешал ее:
— Да не плачь ты… Может, еще и не сдам, так я тут же и вернусь…
— Нет, сдавай, Юра… Сдавай… Ни пуха ни пера тебе…
— К черту, к черту.
И Юрка уехал.
И — сдал.
И — не вернулся.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Москва Юрку оглушила, ошарашила. Сначала теснотой, давкой, куда-то спешащей неиссякаемой толпой. Не дадут ни осмотреться, ни оглянуться, ни надпись прочитать. «Куда они все несутся?» — недоумевал Юрка. Потом она ошеломила его своим величием и старинной красотой. Это когда он побывал на Красной площади. «И есть люди, которые постоянно живут возле такой красоты!» — поражался Юрка. Ему казалось, что сюда можно приезжать только на экскурсию или на учебу.
На территорию института ступал осторожно, будто на горячие угли, с опаской. Ведь сколько имен славных ходило по этому тротуару, по этим ступенькам! И он, Юрка Чижиков, идет по их следам! Боже мой, что-то ждет его впереди?..
У входа в институт увидел шумную стайку девчонок и ребят, они фотографировались на крылечке. Толкали друг дружку, смеялись, визжали, норовили встать так, чтобы в кадр над его головой полностью попала вывеска, на которой было вызолочено:
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
«Веселые… — позавидовал им Юрка. — Наверное, уже поступили…»
Чижиков скромно обошел их и поднялся по ступенькам на второй этаж. Нашел канцелярию, там ему дали экзаменационный листок, расписание экзаменов, направление в общежитие и отпустили.
От нечего делать побрел по коридорам, изучал таблички на дверях.
На одной площадке на широком подоконнике сидели две девицы с оголенными до предела ногами, манерно держали сигаретки и дымили, как паровики. Перед ними стоял парень с выпуклыми по-рачьи глазами. Расставив ноги и раскинув во всю ширь руки, словно собирался «сбацать» чечетку, он громко говорил:
— Ну, какой сейчас может быть фольклор? Какой?! Все это выдумка, сплошное фальсификаторство!
— Верно, Саша! Радио, газеты, телевидение — весь этот так называемый прогресс — убили в народе все самобытное, все нивелировали, — сказала одна из девиц и пустила из накрашенного ротика толстенный клуб дыма в потолок.
— Конечно! — воскликнул парень.
— Ты гений, Алка, — произнесла другая, стряхивая пепел парню на штаны.
— При чем тут «гений»? — небрежно повела плечом Алка. — Это же каждому ясно. Фольклор живет пока еще только среди зеков. Там — самобытность, там — язык, там — жизнь, там — образность. «Мурка» — вот вещь, по-моему, пока еще не превзойденная и недооцененная!
— Точно! — снова воскликнул парень. — Потому что там еще не получило, к счастью, широкое распространение все это так называемое достижение цивилизации!
— Ты — гений, Сашок! — сказала другая девица.
В этот момент открылась дверь из зала и оттуда вышел высокий блондин с осоловелыми глазами. Длинный узкий полосатый галстук свисал от шеи до самой ширинки и делал блондина еще более высоким. На правый глаз ему спадала длинная прядь волос, которую он откидывал назад рывком головы, словно паралитик. За ним толпой лезли через узкие двери поклонницы. Одна наиболее удачливая выскользнула первой, загородила блондину дорогу, что-то быстро заговорила, стараясь не столько быть услышанной, сколько обратить на себя внимание. Блондин слушал ее, а сам глядел куда-то поверх ее головы.
— Нет… Не думаю… — сказал он многозначительно и попытался пройти.
«Боже мой! Неужели это он? — У Юрки сперло дыхание от увиденного. — Неужели?! И я буду здесь учиться?..»
За спиной пучеглазый парень продекламировал экспромт:
На лбу у него непокорная прядь, Рядом с ним пренастырная б…Юрка растерянно оглянулся. Парень встретил Юркин взгляд ничуть не смутившись, сказал в упор:
— Ми-шу-ра!
Общежитие Юркино было далеко, почти на окраине города. Ехал он туда с несколькими пересадками — и на метро, и на троллейбусе. Нашел, вручил коменданту свой ордер на жительство, та сказала ему сухо:
— На третьем этаже, влево.
И Юрка пошел. У своей комнаты остановился: стучать или так входить? Все-таки постучал.
— Входи! — громко ответили ему.
Юрка вошел. В комнате было человек пять народу, большинство из них далеко не студенческого возраста, все в подпитии и говорили все одновременно. На Юрку никто не обратил внимания, и он остановился в нерешительности.
— Ну, ты чего? — оглянулся на него здоровый рыжий мужик. — Че стучишь в дверь — шум создаешь? Культурный шибко? — И он раскатисто засмеялся. — Проходи! Гостем будешь. А если с поллитрой — хозяином.
— Меня прислали сюда… Сказали…
Из далекого угла поднялся молодой парень, махнул рукой:
— Проходи. Вон твоя койка. А хочешь, бери вот эту. Обе пока свободны.
— Новенький, что ли? — не отставал от Юрки рыжий. — Поступать приехал?
— Да.
— Вот, ребя, еще один талант, который тоже думает двинуть вперед нашу литературу! Ведь думаешь, а, парень? Тебя как зовут?
— Юрий…
— Опять Юрий! — рыжий выругался. — Сколько же вас будет? Может, хоть фамилия оригинальная? Или тоже Долгорукий? У нас больно много развелось в институте Долгоруких — во-от с та-акими ручищами и с локтями, как паровозные коромысла.
— Нет… Я Чижиков…
— Чижиков? Это хорошо! Чижиков у нас в литературе еще не было. Дуй, Чижиков! Выпьешь с нами? Садись, с первых шагов не заносись. Садись, знакомься: это все свои ребята. Одни только начинают, а другие уже кончают. Ха-ха!
2
Ночью Юрка долго не спал, перематывал впечатления дня. Народ-то все какой — на язык острый, говорят — не стесняются, знают много… Это же сколько надо из себя вытравить, чтобы сравняться с ними?.. И не только сравняться, а встать над ними?.. Но это потом, а сейчас сдать бы экзамены…
Первый экзамен — письменный. И этот первый сразу поверг Юрку в уныние: вышел из аудитории, справился и обнаружил, что две ошибки сделал наверняка: наречие «по-прежнему» написал через черточку, а оно в тот год писалось без нее, слитно, и слово «Сашенька» запузырил через «и». Это он сам обнаружил, а сколько их там наделано, о которых он пока и не подозревает?
Сидит в библиотеке, приуныл. Вдруг чувствует на плече чью-то дружескую руку. Поднял голову — преподаватель. Как его зовут — не знает, но видел его и в кабинете, когда документы сдавал, и на кафедре художественного мастерства видел. Нос красный, глаза слезятся, губы толстые, нижняя тяжело отвисла. Но лицо доброе. Улыбается.
— Что приуныл, Чижиков? Ты — Чижиков?
— Да…
— Почему голову повесил?
— Две ошибки сделал в письменной…
— Только две?
— Это пока я знаю — две, а там, может, и больше.
— Не унывай. Я сам, когда поступал в литинститут, пятнадцать ошибок сделал. И ничего. Приняли. Окончил. В аспирантуру приняли. И ничего. Преподаю. А недавно роман написал. И ничего. Вот сейчас пробиваю рецензию на него. И ничего. Примут, не волнуйся. Тут главное творчество. Стишки у тебя, правда, слабенькие, я смотрел, но примут: у тебя биография хорошая, и ты правильно сделал, что написал о себе подробно: сирота, мол… Отец погиб на фронте… От ранений…
— Нет, отец не на фронте… Умер от болезни.
— Это неважно. Важно, что его нет в живых. Сам армию прошел, в Германии был. Да не просто был, а воевал. Воевал ведь?
— Да… Приходилось…
— Ну вот: пороху понюхал, значит, жизнь знаешь, не то что эти юнцы, — он кивнул на окно, за которым слышались голоса студентов. — Так что не унывай. Пойдем в шашлычную, перекусим это дело. Тут возле Никитских есть хорошая шашлычная.
Не смел Юрка отказать преподавателю, да тем более такому отзывчивому. Пришли в шашлычную, сели.
— Ну что, возьмем коньячку? — спросил преподаватель.
— У меня денег… мало, — предупредил его Юрка. — Я ведь сирота, у меня отца нет…
— Ничего! Я тоже сирота. Недавно меня жена прогнала, сказала: «Пошел вон, дурак, мешок, набитый трухлявой соломой!» Грубиянка, понимаешь. Ушел. И ничего. Ты не женат?
— Нет.
— И правильно делаешь. И не женись. Они творческому человеку только помеха. А если уж жениться, то выбирать надо такого папашу, который и в союзе голова, и над издательствами власть имеет. А кто же у тебя дома?
— Сестренка, мама…
— Мама — это хорошо. Когда есть мама — это очень хорошо. А у меня нету мамы. И ничего…
Юрка не пил, он лишь пригубливал. И не потому, что боялся напиться, он экономил коньяк, чтобы больше досталось преподавателю: смекнул, что расплачиваться придется все-таки ему, а денег у него действительно в обрез.
Кончилось тем, что, расплатившись за ужин, Юрка отвел пьяного преподавателя на его квартиру — грязную, запущенную, пропахшую блевотиной комнатенку.
А в институт Юрку действительно приняли! Прав был преподаватель, знал, что говорил.
3
Учиться в институте Юрке нравилось. Профессора хорошие — умные, знающие. А главное, вели они себя совсем не как учителя, а как равные, как товарищи. Не было случая, чтобы кто-то из них как-то возвысился над студентом, наоборот, они студента возвышали над собой. И это действовало — хотелось и впрямь подняться до такого уровня.
Студенты на курсе тоже подобрались интересные: талантливые, начитанные. Юрка постоянно чувствовал пробелы в своем образовании — хватал верхушки в школе, а тут вон какие, будто и не школу кончали, а какие-то академии — много знали. Юрка всячески скрывал свою отсталость: где почувствует себя профаном, промолчит, а где знает — выступит уверенно, напористо. Тайком лихорадочно наверстывал упущенное. Жадно ловил все услышанное, чего не читал — не признавался, но тут же брал и прочитывал, но, как правило, не до конца, через пятое на десятое, запоминал какие-то детали, чтобы при случае блеснуть знанием.
Полетели домой письма — матери, Лизе, письма восторженные, с подробностями, в них Юрка старался рассказать все о себе, а главное — пытался блеснуть приобретенными знаниями. Писал не просто письма, а настоящие художественные послания — писательские, рассчитанные на долгую жизнь и для многих. Такие письма помещаются в последних томах собраний сочинений. Юрка был уверен, что он уже приобщился к сонму бессмертных и теперь каждое его слово, особенно написанное, должно быть на вес золота. По письмам в будущем станут судить, каким он был в обыденной жизни. Ведь письма, будут думать потомки, не предназначались для публикации и потому в них поэт был предельно откровенен. Но Юрка хитер: он лишь делал вид, что предельно откровенен, на самом же деле в каждом письме старательно рисовал свой портрет в идеальнейших тонах: любящий, и заботливый, и предупредительный, и умный, и начитанный, и великодушный, и мыслящий. Словом, письма его — это предел лицемерия. Однако дома они производили впечатление — ими восхищались, потому что лицемерия этого не могли рассмотреть ни влюбленная Лиза, ни обожающая свое чадо мать.
К концу первого семестра Юрка достаточно пообтерся, провинциальная стеснительность с него сползла, как старая шкура со змеи, он стал увереннее, и теперь голова его была постоянно запрокинута вверх и склонена чуть на бочок, а глаза его приобрели еле заметный прищур и туманность. Но это не для всех, не для окружающих, а так, пока больше только для себя: искал и примерял свою маску. Как же без маски? Все в масках, а он что, хуже других? Смотрел в зеркало и находил, что именно такая ему больше всего подходит. Нравилась она и девчонке с его курса — Лоре Левиной. Боевая девка эта Лорка: смелая, прямая, талантливая, знающая. И красивая. Даже очень красивая. И при этом не заносчивая. И к Юрке неравнодушна, симпатизирует ему, это было видно по всему. Юрка невольно сравнивал ее с Лизой и думал про себя: «Зря, наверное, я спутался с Лизкой, поторопился. Ну о чем с ней говорить? О какой высокой материи — поэзии ли, философии ли? Разве она знает такие имена, как Надсон, Шопенгауэр, Лессинг? Наверное, и не слышала?» Юрка сам о них узнал только здесь, в столице. А для Лорки, похоже, все это не ново. Разговаривать с нею одно удовольствие.
— Ты знаешь, Юрок, — говорила она. — Я тебе завидую: тебе легче — ты мужчина. Я очень сожалею, что я женщина. Это так мешает! Если я и добьюсь известности, все будут думать, что я добилась ее только благодаря своему женскому обаянию. Это меня очень обижает! Пусть бы была я женщиной, но уродливой, и то было бы легче.
— Но, но! — категорически отвергал Юрка. — Я с этим не согласен. Не гневи бога: красива и умна — две такие награды получить от природы!
— Чиж, ты тоже этим не обижен. Но кроме того, ты еще и мужчина. Значит, у тебя три награды! А у меня только две.
Ах что за прелесть эта Лорка!
4
После первого семестра, хоть и каникулы там были с гулькин нос — короткие. Юрка все-таки поехал домой. Поехал с радостью, подъемом, не терпелось скорее показать себя в новом качестве. Вез свою новую маску, вез кучу знаний, а еще больше впечатлений и сплетен об известных людях из мира литературы и искусства. Земляки его разве что по радио слышали да, может, по телевизору видели этих звезд, а он успел некоторых повидать живьем, а с некоторыми даже встречался чуть ли не нос к носу. Многие писатели ведут семинары в институте, приходят на встречи со студентами, участвуют в диспутах. Можно сказать, кое-кого он собственными руками пощупал.
Приехал, рассказывает, сам собой упивается — нравится самому, как он это делает: о ком-то с восторгом, о ком-то с пренебрежением. Притом пренебрежение свое собственное, не чье-нибудь. Кто волокита, кто выпивоха, кто скрытый диссидент — все привез Юрка в свой городишко.
Смотрят на него, слушают с интересом. Всякие новости интересны, а тут что ни на есть самые подноготные, о каких ни в газетах не прочитаешь, ни по радио не услышишь.
— Юрочка! — восклицает мать. — Как ты изменился! У тебя даже внешность стала другой и говор не такой, как был!
— Ну что ты, мама! Тебе так кажется…
Лиза тоже в восторге от Юрки, рада, что приехал, и рада, что он стал какой-то такой необычный. Не знает, как и угодить ему. Слушает его, все слушает, всем восторгается, хотя замечает Юрка, что не все до нее доходит, не на все реагирует она так, как надо, не все схватывает. Чувствуется провинциальная ограниченность. Нет, не сравнить ее с Лорой. И потому уже на другой день заскучал с ней Юрка, начал забрасывать пробные камешки:
— Ты знаешь, Лиза, мне кажется, у нас с тобой ничего не получится…
— Почему, Юра? — встревожилась Лиза.
— Трудно тебе будет со мной. Ты понимаешь, профессия такая — писательская… Чтобы писать, надо людей изучать, встречаться с ними. И не просто встречаться, сближаться…
— Ну и пожалуйста, встречайся, сколько тебе надо. Разве я мешаю?
— Но, понимаешь… В том числе и с… женщинами…
— Ну, раз надо… А другие как же, разве все неженатые?
— Трудно тебе будет, понимаешь… Ты подумай.
— Я думала. Я много думала, пока тебя не было. Я очень тебя люблю, Юра, и жить без тебя не могу. Делай все, как тебе нужно, я мешать не буду, наоборот, буду помогать. Во всем, во всем!
Ох уж эта женская покорность! Уж лучше бы она обиделась, возмутилась как-то… Никакой гордости, никакого самолюбия.
Домой пришел, а тут новость: мать протянула ему телеграмму. «Дорогой Юрок приезжай скорее жду соскучилась Лора». Вспыхнул Юрка, уши, щеки запылали, будто кипятком ошпарили. «Глупая!.. Зачем она это сделала?..»
— Что это? — спросила мать.
— Да это так… Шутка…
— Не нравятся мне такие шутки, — сказала мать строго. — А Лизку куда? Заморочил голову девке, нам всем: мы тут роднимся, она бегает сюда уже как своя, а ты, значит, ту-ту, уехал — и как с гуся вода?
— Ну а что я, виноват? Разве я ее просил? Взяла и прислала. Пошутила. На одном курсе учимся…
— А как Лизка посмотрит на эту шутку?
— Тебя не поймешь: то ты дураком обозвала, а теперь заступаешься за нее? — удивился Юрка.
— Так дело-то вон куда зашло!
— Никуда оно не зашло, — с досадой отмахнулся Юрка. В нем вскипало какое-то негодование, возмущение — и Лизой, и Лорой, и матерью… И вообще он был раздражен всей этой обстановкой, неурядицей.
Накопившаяся гроза вскоре разрядилась, и весь заряд ее угодил конечно же в ничего не подозревавшую бедную Лизу.
Натахи дома не было, и Лиза сама хлопотала вокруг стола, весело щебетала, пыталась развеселить почему-то смурного Юрку:
— Сейчас мы тебя угостим оладушками! Сама пекла… Я ведь умею! Вот они какие — пышненькие да румяненькие! Сейчас сметанки к ним достану. — Она метнулась к холодильнику и вытащила оттуда пол-литровую банку, накрытую листком бумаги и обвязанную веревочкой. Лиза сняла бумагу и положила ее на уголок стола, чтобы снова ею же закрыть сметану.
Юрка взглянул на бумагу и вдруг побледнел: это было его письмо, которое он недавно прислал Лизе. Не веря еще своим глазам, он взял письмо, разгладил его ребром ладони, взглянул на Лизу.
Ах боже ж ты мой! Что же это делают с нами наши близкие? Нет чтобы собирать о нас каждую крупицу, как золотинку, и эту золотинку к золотинке складывать и беречь, беречь каждую вещь, каждую вещицу для истории, для потомства — нет, не делают этого. А ведь будут же потом искать, спорить, доказывать, выдвигать гипотезы, делать догадки и предположения, а попросту — выдумывать разные небылицы, вместо того чтобы сохранить эти простые реликвии. Нет, не делают этого почему-то. Более того, как нарочно, ничто не бережется, все уничтожается, с будущими реликвиями обращаются как с мусором. Ведь вот же на глазах какое кощунство, какое варварство сотворилось с Юркиным письмом! Какое невежество! Какое бескультурье! Вместо того чтобы это письмо завернуть в целлофан и положить в несгораемый ящик да записать бы о нем в дневнике, которые непременно должны завести все близкие и знакомые, чтобы записывать в эти дневники о нас все ценное (разумеется, только ценное, т. е. хорошее, положительно характеризующее нас, а не всякую там чушь, вроде той, как я струсил где-то или глупость сморозил, нет, только ценное), так она, эта необтесанная деревенская дура, накрыла им сметану! После чего письмо конечно же пойдет на помойку. Боже мой — на помойку?! А не употребляют ли наши письма для еще более худших нужд? Может, они висят на гвоздике в туалетной комнате и ждут своей очереди?! Ужас, ужас и еще раз ужас! Темнота, серость и невежество! И эти люди называются близкими?!
— Что?.. Что-нибудь случилось?.. — спросила растерянно Лиза.
— Письмо… Мое письмо… — сказал Юрка драматическим шепотом.
— Да, твое, — Лиза продолжала смущенно улыбаться, не понимая, в чем дело, почему Юрка вдруг так изменился.
— Мое письмо! — закричал он истерично. — Я в него душу вложил, а ты им банку со сметаной накрыла! Мое письмо!..
— Это не я, это мама… — сказала Лиза. — Не было, наверно, под рукой газеты, вот она и схватила… Ну и что тут такого? Я ведь его прочитала…
— Как «что тут такого»?! — свирепел Юрка. — Мое письмо! При чем тут мама? Я тебе писал. Хотя и мать тоже должна бы соображать… Но ты-то, ты-то! Мое письмо! Я в него душу вложил! — Он потряс письмом перед носом Лизы: — Ты что, в самом деле такая… дура? Верни все мои письма! Сейчас же!
— Вон они, лежат сверху, — кивнула она на открытую полку в буфете. Юрка сгреб письма, прикинул — все ли, но считать не стал, сунул в карман и ринулся в дверь.
— Юра, куда же ты?.. Подожди…
Но Юрка не услышал ее. И не видел он, как она потом плакала. А плакала она весь вечер и много-много дней, а может быть, даже и месяцев подряд…
На другой же день Юрка уехал. Уехал быстро, торопливо, воровски, с видом обиженного и непонятого. Уехал с мыслью никогда больше сюда не возвращаться.
Поначалу Юрке досаждали письмами: мать упрекала его в горячности, просила сменить гнев на милость и к ней, и к Лизе. Потом о Лизе перестала писать, умоляла пожалеть ее, больную, мать, для которой только и света в окошке, что дорогой ее сердцу сыночек Юрочка. Юрка отвечал ей сдержанно — не обвинял ее ни в чем, но и «слюни не распускал» — не винился и прощения не просил, виновны, мол, в этом только сложившиеся обстоятельства, он же поступить иначе не мог.
Присылала и Лиза слезные письма, просила простить ее, если она в чем-то и виновата. Ее Юрка удостоил лишь одним письмом — длинным и витиеватым. Обстоятельно объяснил ей, что дело, в конце концов, не в том, что она накрыла сметану его письмом, хотя факт этот и говорит о многом, и прежде всего о ее отношении к нему. По всему видно, что Лиза заблуждается в своих чувствах, ей только кажется, что она его любит, на самом же деле это просто увлечение; пройдет время — и она в этом сама убедится. Что же касается его чувств, то они, разумеется, были искренними, настоящими, но он понял, что их лучше погасить, так как она, Лиза, не способна ни понять, ни оценить его.
Вот так! А Лизка-то была беременна. Глупая девка все скрывала, надеялась на что-то — авось обойдется. И когда Натаха обнаружила такое дело, она схватила дочь за руку и потащила к Чижиковым.
— На, полюбуйся! — сказала она Юркиной матери. — Теперь что будем делать?
Та сначала растерялась, а потом сказала:
— Ну что ж… Будем растить. Может, он еще и одумается. Я постараюсь образумить его.
И она стала «образумливать» сына — просила, упрекала, совестила, снова просила, но он был непреклонен. Юрка нагло отвечал, что знать ничего не знает и знать не хочет. Мало ли с кем она могла нагулять свою беременность, а теперь валит все на него, на невинного Чижикова. Это надо еще доказать. Насколько он понимает в этом деле, он неспособен… То есть от него не могла Лизка забеременеть. Писал — отнекивался, увертывался, оправдывался, извивался, как червь на горячем асфальте, и всякий раз делал приписку: «Это письмо не храни, сразу же порви, а лучше — сожги». Это, кажется, его больше всего и беспокоило. А мать удивлялась: «Как это неспособен?» И снова и снова писала, пыталась пробиться к его сердцу, но так и не достучалась: поздно. Наверное, надо было закладывать в него другие зерна, когда Юрка еще дозревал в теплых отрубях, сидя в них по самые уши.
Ко всеобщему облегчению, Лиза родила мертвого недоразвитого младенца. Натаха, мать Лизина, несостоявшаяся Юркина теща, сказала по его адресу:
— Какое семя — такое и племя. От заморуха заморух и родился.
А Лиза плакала.
— Лизка! Дура! — прикрикнула Натаха на дочь. — Перестань плакать! Господи, это же счастье, что он отвалился от тебя, этот стихоплетчик несчастный. Плюнуть и растереть! Забудь его, как дурной сон. Ты еще найдешь себе настоящего мужика! — На ее языке «мужик» — значило «муж».
После этого переписка между Юркой и матерью стала затихать и постепенно вошла в свое нормальное русло, воду в котором лишь изредка взбаламучивала мать. По наивной материнской простоте своей она нет-нет да и сообщит Юрке что-то о Лизе: то Лиза болела, то Лиза уехала в город работать, то вот как-то недавно она встретила ее и разговаривала с ней. Юрка всякий раз бесился от этих сообщений, рвал письма на мелкие кусочки и спускал их в унитаз. Наконец он не выдержал и решительно попросил мать, чтобы она о Лизе ему больше никогда и ничего не писала. Он учится и знать больше ничего не желает. «А письмо это порви, пожалуйста, или сожги».
5
То, что Юрка учился, было правдой, тут он душой не кривил. Учился Чижиков на лекциях, на семинарах, учился он и по-за стенами института, в общежитии: в институте — теория, а здесь — жизнь, практика.
Нравились ему вечерние посиделки, разговоры и споры на самые разные темы. Особенно тянуло его в комнаты, где жили старшекурсники. Тут обитали люди, уже успевшие кое-что сделать: у некоторых имелись книги, о некоторых уже спорила критика. Голову держали они высоко, к младшим собратьям относились покровительственно. Разговаривали громко, смело, раскованно, без оглядки.
Разные люди, конечно, были и здесь, — одни поумнее и поскромнее, другие поограниченнее и пошумнее; одни — знающие свой предмет, другие — нахватавшиеся верхушек; одни работали основательно, не заботясь о славе, другие делали все, лишь бы прогреметь. Но за каждым из них незримо стоял транспарант с афоризмом: «Из института выгнать меня могут, из Союза писателей исключить — тоже могут, но из литературы — никогда!»
Здесь спорили о литературе и литераторах, о войне и мире, но чаще всего о больших государственных проблемах — критиковали, утверждали либо отвергали. Народ все горячий, азартный, обидчивый, легкоранимый и противоречивый.
Бывало, заспорят о деревне, а о ней, о матушке, надо сказать, больше всего и спорили: тут все знатоки, все специалисты. Один знает хорошо, как ей помочь, а другой еще глубже видит ее беды, а она, деревня, все чего-то упирается.
Так вот, заспорят, бывало, о деревне, и один, который уже побывал там, говорит:
— Вот у них… Ведь там нет деревень в нашем понятии. Городки! Ну, поселки, что ли: улицы заасфальтированы, тротуары, магазины. Дома кирпичные двух-полутораэтажные. Водопровод. В общем, все, что надо. Город! Маленький город. А у нас? Бездорожье, осенью без резиновых сапог не выходи. Избы эти… Ну кого заставишь жить сейчас в таких условиях? — Рассказывающий — плотненький белобрысенький «деревенщик» с тоненьким голоском — безнадежно махал рукой. Его мысли тут же подхватывал другой, бородатый, окающий — тоже «деревенщик». Скорее из уважения к первому оратору, чем к проблеме, он громко утверждал:
— Так наши же дураки! Мужика настоящего разорили, а на земле кто остался? Лодырь, неумека. И потом: от деревни — давай да давай, а деревне — шиш. — И он показал всем большую фигу.
Другой раз зашла речь о строительстве на селе. Расшумелись, в каком доме лучше жить крестьянину. Один говорит, в городском, многоэтажном, со всеми удобствами, другой утверждал — в коттеджах, третий стоял за старую избу с русской печью. Это был тот самый бородатый окальщик:
— Они же, дураки, не понимают, ополчились против печи — места, мол, много занимает! А того не понимают, что мужик печью не только обогревался, в ней еду готовили. Щи, сваренные в печи, такие, каких на газе никогда не сваришь! В печи варево долго хранилось в горячем виде — подогревать не надо. Печь — это и лекарь: придет мужик с работы, намерзся — сразу на печь. К утру никакой хвори!.. Как рукой сняло! А сейчас все зорют, все зорют…
Однажды он же, подвыпивший, кричал особенно громко:
— На кой мужику асфальт и газ? Он тыщу лет жил в курной избе, в навозе, он привык к этому, ему это ндравится! И пущай так и живет!
Кто-то шутки ради спросил у него:
— Сам-то жить в деревню уедешь или в городе останешься, в квартире с теплым сортиром?
— Ты меня на слове не лови! Сравнил! Че мне там делать? Я уже выломался оттель…
— Ха-ха! Ха-ха! — смеялись все.
Слушал Юрка все эти споры — интересно, хотя твердо поддержать кого-то он и не мог: он ведь ни городской, ни деревенский. Хотя скорее все-таки городской, деревню знал только по редким набегам с ребятами на совхозные помидоры, когда ходили купаться в дальний пруд. Видел поля, людей — жили вроде как и все, не очень отличались от поселковых. А оказывается, вон там сколько всего! И как далеко все это от Юркиного сердца, от Юркиного сознания…
Однако смотрел в глаза ораторов пристально и преданно, делал вид полного участия, понимания и сочувствия. Но в полемику не вступал и говорил редко, знал: слово — серебро, а молчание — золото. Да, откровенно говоря, не мог он рассчитывать даже на «серебро», так как приверженцем чего-либо определенного он не был. Послушает одного — соглашается с ним, послушает другого — соглашается с другим, хотя у этого совершенно противоположная точка зрения, чем у первого. Понимал, что так долго продолжаться не может — на отмалчивании да на поддакивании тому и другому долго не продержишься, настанет момент, когда ему надо будет выбирать что-то. А все дело было в том, что маску свою носить открыто он еще стеснялся. Многие со своими масками уже так сжились, что даже в туалет ходили не снимая ее: маска стала их вторым лицом. Вот этот, например, вальяжный, с манерой говорить обо всем пренебрежительно, будто для него давным-давно ничто не ново, все надоело и вообще потеряло всякий интерес и смысл. Так вот он слова выдавливал из себя нехотя и бросал их в общий костер спора, как бросают проигранные деньги, — с небрежным достоинством, давая понять всем, что он не мелочится, хотя слова его и на вес золота. А ведь не был же он таким с детства, потому что таким и быть-то невозможно: в школе его ребята задразнили бы или просто отволтузили как следует, отбив охоту манерничать. А тут ему все сходит — его терпят, принимают: оригинал! Или вот этот, другой «оригинал» — горластый, волосы вразброс, говорит — будто на митинге ораторствует. Этот работает явно под Маяковского, тем более что лицом он отдаленно смахивает на знаменитого поэта. Этот тоже так сжился со своей маской, что не расстается с нею ни днем, ни ночью, ни в компании, ни наедине. Ночью разбуди его — он уже в маске. В деревне, у него живет мать-старушка, он иногда заезжает к ней, если бывает где-то поблизости в командировке, но и перед ней он не снимает маски. Мать сначала удивлялась, не узнавая сына, — в кого он такой, а потом свыклась. Ну а тем более свыклись с ним другие, которые теперь уже и не мыслят этого горластого иным: постоянно под градусом, шумлив, растрепан, со всеми на «ты».
А вот еще одна личность — Философ. Этот — где бы ни был, в какой компании, в какой обстановке ни находился — всегда думает, всегда в позе мыслителя. Даже за выпивкой. Возьмет стопку с намерением выпить, но на полпути ко рту рука вдруг остановится — он задумался и забыл, что хотел делать. И сидит в такой неестественной позе, как сомнамбула, пока кто-то не выведет его из этого состояния. А ведь всем же видно, что он нарочно так делает, нарочно ждет, когда на него обратят внимание. Говорит он только при полной тишине — и говорит всегда приблизительно так:
— Видите ли… Не все в мире однозначно, и поэтому нельзя говорить об этом оторванно. А если брать это в общем аспекте мироздания, где царит абсолютная гармония, хотя нам и кажется, что в мире много несовершенного, но кто-то же, какой-то же разум этим управляет?.. И вот эта гармония, это вечное стремление к совершенству, а все направлено именно в эту сторону… Отсюда и наша постоянная неудовлетворенность и постоянное стремление к добру. Добро, всеобщее, всемирное, стремление к всеобщему добру — вот что движет миром и вот что сделает мир совершенным. Но абсолютного совершенства, как вы сами понимаете, быть не может, а поэтому есть и будет только стремление к нему, и это стремление и есть вечный двигатель всего сущего…
Такая речь для Юркиного ума вовсе была непостижимой, как, впрочем, и для многих даже приверженцев этого «философа».
6
Учился Юрка всюду, за стенами института — тоже. Бывал на собраниях официальных и случайных, стремился попасть на любые семинары и совещания, проникал иногда на пирушки и застолья.
Однажды Юрку заприметил Горластый, стал учить уму-разуму:
— А ты что ж, братец, ни к какому берегу не причаливаешь? Думаешь всех хитрее быть? Думаешь, будешь обособленней — так и заметнее? Нет, братец! Так не проживешь. Надо примыкать к кому-нибудь. Один в поле не воин!
— Да я никак не пойму, не разберусь, где кто и кто за кем стоит, и кто что исповедует, — пожаловался Юрка Горластому доверительно. — То «славянофилы», то «леваки», то «правые», то какие-то «славянофобы». Один другого заглазно ругает, а встретятся — целуются?
Захохотал Горластый:
— Чудак ты, Чижиков! «Филы», «фобы»! Все это чепуха, оболочка, прикрытие. На самом деле есть группы. Группа такого-то, группа такого-то. Они захватывают ключевые позиции — в союзе, в издательствах, в журналах, поддерживают друг друга — издают, прославляют, двигают на премии. А ты «филы», «фобы»! Идет элементарная борьба за место на Парнасе. За хорошее место. Понял?
— А вы в какой группе? — простодушно спросил Юрка: мол, я хотел бы быть с вами, раз вы уж такой добрый ко мне.
Горластый снова захохотал:
— Ишь ты, так я тебе и открылся! А ни в какой! И во всех сразу!
— А разве так можно? Сами же говорите…
— Если сумеешь — можно!
«Скользкие какие-то они все, — думал Юрка. — Не схватишь, не зацепишься. Взял бы под свое крылышко — я бы служил ему верой и правдой». И он решил попытать счастья, ударить на жалостливую струну, которая не раз помогала ему в прошлом.
— Трудно мне, — сказал Юрка. — Я ведь из провинции, никого знакомых, один…
— Все мы из провинции!
— И сирота я…
— В каком смысле — сирота? Умственный, что ли, сирота? Не хватает шариков?
— Нет… Без отца рос…
— А-а!.. Ну, милый мой, все мы безотцовщины, тут ничего не попишешь: такова наша селяви.
Не понял Горластый Юрку, а может, сделал вид, что не понял — не взял его под свое крылышко. Но тем не менее Юрка всячески старался попадаться ему на глаза, ловил его взгляд, улыбался, кивал преданно, и тот замечал Юрку, покровительственно хлопал по плечу, спрашивал:
— Ну как, Чижиков, дела?
И тут Юрке хотелось сказать Горластому сразу очень много: пожаловаться, что он одинок, что с творчеством дело идет туго и, главное, в подтексте, — что он очень нуждается в покровительстве сильного, которому он был бы по-собачьи предан, был бы рабом, слугой, телохранителем. Вплоть до того, что сопровождал бы в баню и там тер бы ему спину…
Обо всем этом Юрке хотелось сказать Горластому, но выпалить все сразу одним духом было невозможно, слова застревали в горле, и он лишь с трудом выдыхал:
— Да… Ничего…
— «Ничего», — передразнивал его Горластый. — Ничего — это пустое место, братец! Бунтуй, Юрка! Бунтуй! — напутствовал его Горластый. — Ты должен быть бунтарем! Какой же это поэт, если он не бунтарь? Э-э!
— А против чего бунтовать? — простодушно спрашивал Юрка.
— А против чего хочешь! — Горластый, довольный своей глубокомысленной тирадой, широко раскрывал глаза, обводил победоносным взглядом окружающих, тут же забывал о Юрке и оборачивался уже к другому — такому же — своему обожателю: — Бунтовать, братцы, надо! Ну, не в том смысле, конечно… Не идти и звать к забастовке, — спохватывался он. — Нет! В душе у тебя бунт должон быть! В душе! Душа должна бунтовать! А вы?.. Ладно… Кто сегодня богатый? Пошли по сто граммушечек тяпнем…
Юрка зря обижался на Горластого — тот сам еще только утверждался, но делал это хитро: пока вверху не прижился, от низов не отрывался. Так и болтался все еще между небом и землей. Внизу сшибал «граммушечки», облагая данью наивную молодежь, перед которой играл роль «своего парня», запросто спустившегося к ним с верхов. А в верхах всячески ловил за фалды, за лацканы власть имущих — льстил им, заискивал, расточал заранее придуманные дифирамбические экспромты во время литературных вояжей, а особенно в застольях, куда его уже и приглашали только для роли шута, как гармониста на деревенскую свадьбу. Горластый сам еще готов был тереть спину многим, но, к чести его надо сказать, не опускался до этого. Перед ним маячил живой пример — его однокашник по институту Ларион Просвиркин трет спину косноязычному Философу. Вот уже несколько лет трет, а толку?.. Носит за Философом его портфель, в командировках таскает чемоданы, а сам как был никто, так и остался. Только слава идет худая — лакей, спинотер. Ларион уже и сам чувствует — не вознесет его на Парнас Философ, а отстать от него не может, боится обидеть — тогда совсем пойдет ко дну, тут хоть как-то держится на плаву. Нет, Горластый действует по-другому. С тем же Философом он отношения строит на свой лад. Осилив с трудом его огромный, объемом с Библию, роман, Горластый не посчитался со временем, написал Философу большущее письмо, в котором выразил свой восторг по поводу глубины, широты и других параметров произведения, вознес до небес язык, сквозь который он продирался как сквозь густой терновник, и особо воздал философской стороне романа, из которой он ничего не понял, хотя и честно силился проникнуть в ее суть.
Вот это по-писательски, вот это солидно! Такое письмо Философ не только запомнит, но будет хранить у себя как драгоценную реликвию. А при случае и опубликует его. А уж автора такого письма, разумеется, он в обиду не даст.
Так Горластый забрасывал крючки с наживками в души и в память многим и до поры до времени не спешил тянуть за леску, чтобы не спугнуть золотую рыбку — пусть заглатывает наживку покрепче.
Юрке такие хитромудрости были не под силу…
7
Руководитель творческого семинара не поставил Юрке зачет по творчеству за очередной семестр.
— Не могу, — сказал он, глядя Чижикову прямо в глаза. — Не могу, дорогой мой! Все это не поэзия, — он потряс в руке ворох Юркиных стихов, положил перед собой и долго смотрел на них. — Если не верите мне, переходите в другой семинар. Но я бы посоветовал вам перейти в другой институт.
— Как в другой? — удивился Юрка.
— Очень просто. Выберите, какой вам по душе…
— Мне этот по душе. Я всю жизнь о нем мечтал. А теперь, выходит, все рушится?..
— Почему рушится? Вы еще молоды, перейдите в другой гуманитарный институт — педагогический… Или — на филологический факультет… На тот же курс…
— Да… Но я мечтал… — обреченно проговорил Юрка.
— Я понимаю, что вы мечтали, — преподаватель снял с толстыми стеклами очки, стал их протирать голубым носовым платочком. Потом вытер глаза, снова надел очки. — Я понимаю… Но ведь творчество — это такое дело…
— А вы помогите… Научите, вы же преподаватель, — робко перешел Юрка в наступление.
— Помочь-то можно, а вот научить нельзя. А помогать нечему. Вы даже элементарных вещей не усвоили. Ритм, размер стиха — все это у вас отсутствует. Вы, чувствую, глухой к этим вещам. А как можно писать стихи, не зная, а тем более не чувствуя музыки поэзии? Переходили бы вы на прозу, что ли… Прозу не пробовали писать? Хотя и там слух и душа нужны.
— Не хотите помочь?.. — с укором сказал Юрка. — Я готов дополнительно заниматься…
Преподаватель встал, развел руки в стороны, потом взял свой портфель и медленно, будто побитый, вышел из аудитории. Юрка собрал свои стихи, положил в карман зачетку, поплелся за ним вслед. Хорошо никого из студентов не было при этом разговоре.
Запсиховал после этого Юрка, занервничал, запаниковал. Ударился в тоску, в меланхолию, мысли мрачные стал вынашивать — покончить с собой?.. Кстати, это тоже путь к славе. Правда, посмертной… А ему хотелось бы покупаться в ней при жизни. Да и творческий багаж пока с гулькин нос, вряд ли кого он заинтересует, даже если Юрка и увенчает его трагической своей кончиной. Рано…
Как хорошо складывалось в родной Параноевке — легко жилось, парил на крыльях поэтической славы, как на воздушных шариках, и как туго пошло здесь. Очень туго.
Но голову совать в петлю Юрка пока не будет, а тем более бросаться из окна шестого этажа общежития: высоко падать, да и больно, внизу асфальт твердый как камень. Попробует побарахтаться, может, еще не все потеряно, может, еще и всплывет на поверхность.
Подкараулил Юрка губастого доцента, поздоровался ласково, спросил:
— Можно с вами поговорить?
— Говори.
— Да нет, не здесь.
— Пойдем на кафедру.
— А может, в «Эльбрус»?
— Что-нибудь случилось? — догадался доцент.
— Да…
— Ну ладно. Иди занимай столик. Закажи мне шашлык по-карски. Я через полчаса приду. Давай.
Пришел доцент вовремя — как раз под шашлык. Смачно обгладывая ребрышки, промурлыкал:
— Так что случилось? Зачет по творчеству не получил?
Юрка обреченно кивнул.
— Ты у кого в семинаре?
— У этого, — Юрка приставил к глазам оба кулака, будто в бинокль посмотрел — изобразил толстые очки преподавателя.
— У-у! Да сам-то он великий поэт, что ли? Несколько песенок написал. Если бы не композиторы, кто бы его знал? Стихи-то как стихи читать невозможно.
— Вот он и придирается: размер, ритм. Музыкальность стиха.
— Угу. А ты попробуй себя в другом жанре — в критике, например. Прочитай одну-две книжки, напиши на них рецензии — и перейдешь ко мне в семинар.
— Рецензии? — усомнился Юрка. — Я их никогда не писал.
— Все когда-то за что-то берутся первый раз.
— Он говорит: переходи в другой семинар.
— Ну и переходи. А что?
— А как? Это же неудобно?
— Очень просто. Хотя, конечно, неудобно. Надо повод найти, причину. Принципиальную основу. Я переходил. И ничего. Это не ботинки. Те долго разнашиваются. А это неудобство быстро сменяется удобством, если сделать умно.
— А как?
— Например, не сошлись по творческим направлениям. И ничего. Тебе вообще надо выработать свою теорию, которой должен защищать себя, как щитом. Найти ее и держаться за нее в любом случае, драться за нее даже тогда, когда сам убедишься в ее никчемности. Вот тогда тебя зауважают. Ты будешь выглядеть принципиальным и, главное, — оригинальным. Не бойся на первых порах показаться смешным. Привыкнут. У нас оригиналов уважают. Он тебя за ритм ругает, а ты возведи это в свой принцип.
— Как это?
— Ну вот «как», «как». Что ты закакал! Подумай. Может, ты не потому с ритмом не в ладах, что глухой, как табуретка, а принципиально не принимаешь его.
Юрка задумался: в этом что-то есть!
— А потом, тебе вообще надо подумать о своем будущем, — продолжал доцент. — Надо закрепиться в Москве, заиметь постоянную прописку. Иначе придется тебе возвращаться в свою Перепендеевку.
— Параноевку, — поправил Юрка.
— Еще хуже. А шансы на то, что ты сможешь оттуда взять столицу штурмом, неожиданным взлетом своего поэтического таланта, по-моему, равны нулю. А?
Обидно Юрке слушать такое, но сдержался, не возразил. Да и что возражать, если он прав? Вспомнил свою «малую родину» — поежился: скучно там, глухо, одиноко. Районная газета — единственная отдушина. Да-а, незавидная перспектива. Хотел спросить: «А как?» — но только на стуле поерзал, взглянул на доцента глазами побитой собаки.
— Лучший способ — жениться, — сказал доцент. — Я уже как-то говорил тебе об этом. Это почти безотказно. Скольких я знаю — никто не промахнулся. И ничего. Потом, когда войдешь в силу, можно все менять — жену, квартиру, тестя, тещу, друзей, но на первых порах придется смириться. Лорка — смазливая баба, но она ничего тебе не даст. Она москвичка?
Юрка кивнул.
— Ну и что? Кроме московской прописки, она тебе ничего не даст. К тому же ей самой надо утверждаться, что она уже и делает, — намекнул он на Лоркины шашни с известным поэтом. — Но ей легче, она баба, притом привлекательная. Тут у нее явное преимущество перед тобой. Она твой конкурент. Подумай. Знаешь поговорку: «Не имей сто рублей, а женись как… этот»? Но не повтори его ошибку — женись на дочери только какого-нибудь видного деятеля литературы или искусства. Тут дело более долговечное. Например… — И он перечислил с полдюжины преуспевающих писателей.
— А у них есть дочки?
— Откуда я знаю? Должны быть. У них все есть. Дерзай, Чижиков! Иначе пропадешь. Женишься удачно — будешь в зените. Если не возьмешь творчеством, должность высокую получишь, пост большой займешь — будешь других учить и двигать литературу и искусство вперед иным способом. И ничего.
8
Чижиков лежал на общежитской койке, глядел в потолок и мучительно рожал свою теорию. Он понимал: прежде чем появиться ей на свет, надо уничтожить ту — противоположную — теорию, которая ему мешает. А уничтожить можно, только решительно скомпрометировав, оболгав и унизив ее. Поэтому он призывал из своих кладовых памяти самые убийственные определения, самые уничижительные слова-пули, слова-снаряды, слова-дефолианты: косность, тупиковая ситуация, заскорузлость, рутина, ограниченность, застарелые формы — эти и им подобные выражения были самыми безобидными в Юркином арсенале. На крайний же случай, для решительного удара, он заготовил такие бомбочки, которые способны разнести все на свете, в том числе, может быть, и самого Чижикова. Ну и пусть! Ради своей теории он готов даже на костер, как Галилео Галилей, тем более что на костер сейчас не обрекают.
Да, на благодатную почву упали семена, брошенные доцентом. Знал бы он, что творил. Но дело сделано, бикфордов шнур подожжен, огонь стремительно бежит к своей цели, вот-вот вспыхнет порох — и тогда!..
На очередном семинаре Чижиков рванулся в бой. Не успел преподаватель что-то сказать об основах стихосложения, как Юрка прервал его тирадой:
— Вы вот все время говорите: размер, ритм. А я их умышленно разрушаю! Все эти размеры, старые каноны — ямбы, хореи — все это устарелые рамки, ограничивающие свободу мысли и развитие формы стиха. Это прокрустово ложе для поэзии! Никакого размера! Все должно быть безразмерным, как чулки, как дамские колготки!
Студенты оживились, заулыбались, обернулись к Чижикову, смотрели на него удивленно, ждали, что скажет преподаватель. А он по своему обыкновению протер очки и, не надевая их, прищурившись, взглянул на Юрку:
— Да… Но ведь поэзия это не предмет дамского туалета.
— Конечно… — Юрка замялся, но тут же снова обрел форму, сказал: — Это образно говоря. А вообще, если все время держаться за форму, которой уже почти двести лет, никакого движения вперед не будет. Старые каноны — это вериги, путы для поэзии.
— Однако настоящие поэты успешно преодолевали их — от Пушкина до Есенина и Твардовского. Да и более молодые…
— Твардовский был последним из этих могикан, который преуспел в старых традициях. А Маяковскому уже было тесно в них, вот он и старался сломать их. Поэтому для одних он — великий, гений, а другие до сих пор не принимают его.
— Кстати, я принимаю, — сказал преподаватель. — А вот ты, насколько я знаю, его не любишь.
— Его поэзию, — уточнил Юрка, — но его самого я очень даже понимаю. И вас понимаю: вы поэт-песенник, для песни действительно нужен четкий размер, ритм. Но опять же в старомодном понятии. А посмотрите на современные песни, которые исполняются многочисленными ВИА, — там, как правило, нет ни размера, ни ритма.
— А частенько — и смысла, — добавил улыбаясь преподаватель.
— Это неважно. Хотя вы неправы, бессмыслица — тоже мысль.
— Оригинально! А вот насчет разрушения формы — ритма, размера, рифмы — тут ты, Чижиков, не оригинален. На Западе уже давно этим увлекаются. Это даже стало модой, и называются такие стихи верлибром.
— Тем хуже для нас. Значит, они раньше почувствовали тесноту старых одежд. А мы все еще боимся их сбросить. Вот и барахтаются современные поэты, путаются в длинных фалдах сюртуков и смокингов, задыхаются в тугих корсетах прошлого века, потому и нет сейчас ни одной поэтической величины, вершины, все сплошь холмики. Бугристая местность вокруг, и только, — Эльбрусов нет.
— Формалистические опыты, Чижиков, были у нас гораздо раньше, чем на Западе. Но они ни к чему не привели, и поэты, которые этим увлекались, на крыльях формализма не взлетели высоко, остались в литературе лишь как экспериментаторы. И за то им спасибо: другие не будут тратить напрасно силы там, где они поработали. Так что твоя теория не нова. Можно отвергнуть и знаки препинания. Но будет ли это новизною?
— А почему нет? — не сдавался Чижиков. — Я считаю, что в поэзии знаки препинания тоже ограничивают простор мысли. Особенно для восприятия ее читателем. Ведь при любых знаках препинания читатель все равно делает паузу в конце каждой строки. Поэтому в поэзии надо строкой выражать смысл сказанного.
— «Казнить нельзя помиловать». Как вы содержание этой фразы выразите без знаков?
— Очень просто:
Казнить Нельзя помиловать.Или:
Казнить нельзя Помиловать.Юрка ликовал, сам не ожидая от себя такой прыти: как ловко он выкрутился из этой ловушки! Здорово получилось!
Преподаватель же, чтобы закончить как-то бессмысленную, по его мнению, дискуссию, сказал:
— Ну что ж, пробуй, Чижиков. Может, на этом пути тебя ждет удача. Говорят же: все новое — это хорошо забытое старое.
И хотя последнее слово осталось за учителем, Чижиков чувствовал себя победителем. Это он видел и по глазам сокурсников — они окружили Юрку в перерыве, одни восторгались его теорией, аргументацией, убежденностью, другие спорили, отстаивали традиционную позицию, но равнодушных не было. И это было главным!
Вскоре слух об этой дискуссии распространился на другие курсы, на другие семинары. И там нашлись его сторонники и противники, начались споры. К Чижикову, как основоположнику «новой» теории, обращались за аргументацией, и он старался оправдать свою роль главы «чижиковского клуба». Он рылся в справочниках, в учебниках, в журналах, читал западных верлибристов, усиленно писал стихи без размера и без знаков препинания, читал их упоенно в общежитии и на литературных вечерах.
Ответственный редактор институтских ученых записок «Творчество» попросил Чижикова написать для журнала статью и приложить к ней несколько своих стихов, написанных в новом стиле.
А Горластый, встретив Чижикова, похлопал его по плечу, похвалил:
— Молодец, Чижиков! Бунтуй! — И засмеялся, покачивая головой. Потом сказал: — Слушай, а мне нравятся такие ребята, вроде тебя — ершистые. Пусть даже с придурью, но упрямые. С ними, знаешь, интересно! Слушай, я перехожу работать в институт, буду вести поэтический семинар. Переходи в мою группу, а?
Юрка с удовольствием перешел! Да и кто бы отказался от такого предложения, будучи в его положении?
9
Будто старый движок: почихал, почихал, попыхкал, попыхкал вонючим дымком — и завелся, затарахтел, заработал. Так и Юркина слава пометалась, пометалась из комнаты в комнату, с семинара на семинар, с курса на курс, пошумела, побурлила в стенах института — да и выплеснулась за его пределы. Тут падкие на разные сенсации кумушки подхватили ее за неимением других и понесли по квартирам. Где шепотом, где вслух — понеслось по всем проводам как подметная новость первой величины Юркина затируха. Имя Чижикова все чаще стало склоняться в поэтических кругах. Опять же не сразу, сначала о нем лишь упоминалось, как о казусе в институте, а потом стали спорить, говорить, что в этом что-то есть, но что именно, толком пока никто не мог объяснить.
Сам же Чижиков всеми силами старался, чтобы движок его не заглох, всячески подливал в него маслица, отработанного, прогорклого, изрядно чадившего, но тем и заметнее была его пыхкалка.
Откуда взялась-появилась и масочка на Юркином лице — оно приобрело выражение небрежно-скучающего молодого гения, уже изрядно уставшего от этой такой неустроенной жизни, от такого несовершенного окружающего мира, который он хочет перевернуть, от этой изнурительной борьбы с невеждами, которыми кишит этот мир и которые постоянно выбивают из-под него точку опоры…
Но это была лишь маска. На самом же деле он был вполне доволен шумом вокруг него, ему не хватало лишь одного — публикаций. А как бы хорошо к этому шороху да присоединить бы еще и шелест страниц поэтической книжки! Втайне он надеялся, что такая шумиха должна поспособствовать изданию, однако издатели пока что были глухи к нему и рукописи его отвергали напрочь — решительно и безоговорочно, создав против него прочные барьеры из внутренних рецензентов.
Изредка печатался он в журналах. Да и то… Лишь те редакторы, которые хотели прослыть смелыми, скрепя сердце отбирали для себя одно, реже — два-три Юркиных стихотворения и, запрятав их то ли под длинное оправдывающееся предисловие, то ли в середину коллективной подборки, печатали их и потом, затаясь, долго ждали разносной критики в свой адрес. И напрасно ждали: к их счастью, да и к Юркиному тоже, разносная критика у нас давным-давно исчезла, а процветала в то время лишь хвалебная, панегирическая, дружелюбная, заискивающая, защитительная, лицеприятная, обслуживающая, убаюкивающая, приятно шелестящая, как теплый летний дождик, критика. Но под этот дождик Юрку пока не пускали, осторожничали. Делали вид, что не замечают такого.
И ладно, пусть не замечают, пусть не печатают, это тоже работает на Юркину славу и популярность: его жалеют, за него вступаются, делают из него мученика, страдальца, намекают на далеко идущие выводы: вот, мол, Чижиков не похож на других, потому его и затирают. А еще говорят, что у нас свобода печати. Где же она? Так вот и гибнут таланты на корню.
Юрке это нравилось, сердоболье, поглаживание по головке он любил с детства, по такому случаю он готов и слезу пустить. И пускал. А к уже привычной маске прибавились новые штрихи — обиженного, непонятого, недооцененного гения.
Материально Чижиков жил стесненно — на стипендию да материны переводы. Хотелось хоть чуть-чуть развернуться, шикнуть иногда, показать свою широкую натуру — не получалось. Мать по нездоровью оставила работу, получала инвалидную пенсию, половину которой и отсылала аккуратно Юрочке. Сестра Ксюша сама еще не оперилась — училась в ПТУ, ждать помощи от нее не было смысла. Одна надежда на мать. Чтобы разжалобить ее и сподвигнуть на более щедрую помощь, он посылал ей те редкие свои журнальные публикации, жаловался на загруженность учебной программой, творческой работой, которые мешают ему, как другим студентам, пойти и подзаработать где-то — то ли на овощной базе, то ли на разгрузке вагонов или барж.
Да, не любил Юрочка простой тяжелый труд. Как говорят, грязной тачкой рук не пачкал.
Мать и рада была помочь ему больше, но не могла. Она и так еле-еле сводила концы с концами, о чем писала сыну и тут же просила его не расстраиваться и не думать о них с Ксюшей, они как-нибудь проживут, а он пусть знает свое дело, пусть идет своей дорогой, пусть добивается своей цели.
А Юрочка и не расстраивался и думал о них мало. Он лишь сердился на мать, что она не может обеспечить его как следует. «Плачет, — говорил он в сердцах. — А чего плачет? Огород свой. Картошка своя. Могла бы и продать ведра два». И невдомек ему было, что огород-то сам собой ничего не родит, а у матери руки-ноги совсем отнялись, она еле по дому двигалась. Все заботы легли теперь на юную Ксюшу. Но ему-то что?
10
Со своей лупоглазой Лорелеей, как называл ее Юрка, он расставаться не спешил. С ней ему было хорошо и удобно. Большие карие глаза Лоры были неотразимы, они, как омуты, затягивали Юрку все дальше в свои глубины. И не только глаза, Лора вообще была страстной натурой, ласкала Юрку так, как ему и не снилось. Бывало, исцелует его всего — от макушки до пяток, обнюхает со смаком все подмышки, оближет его, как кошка новорожденного котенка, и все приговаривает: «Какой ты сладенький, Юрчик! Так бы и съела всего тебя!» А сама: чмок, чмок, ах-ох, обовьет его своим телом, будто анаконда, не поймешь, где голова, где руки, где ноги. Лежит Юрка, блаженствует, гордится собой: его любят! Хорошо!
И — удобно. Удобно в том смысле, что по существу он давно перешел на содержание Лоры, а вернее — Лориной матери, которая всячески старалась его прикормить, называла его сынком, а обоих — детьми, и не раз уже намекала, что пора бы им оформить свои отношения. И жили бы как люди… Но Юрка на такие намеки не отвечал, будто не понимал, о чем идет речь, они его лишь настораживали, и он про себя думал: «Пора когти рвать отсюда. Промедление чревато нежелательными последствиями». Но все не решался: то вроде неудобно, то еще что-то, а на самом деле боялся оторваться от сладкого стола и ложа и остаться у разбитого корыта. И он тянул, тем более у Лоры планы на жизнь были совсем другими, чем у ее мамы: она — поэтесса, красива, восторженна, свободолюбива и понимала, что Юра — это всего лишь эпизод в ее жизни, придет время, явится необходимость, станет он ее стеснять, и она сама бросит его, как изношенные туфли. Так зачем же связываться с ним каким-то брачным свидетельством и пачкать паспорт большими четырехугольными штампами? Не стоит. Свобода — вот крылья поэтессы!
Так что оба они были готовы к разрыву, но Лору пока это не подпирало, а Юрка ждал подходящего повода. И повод нашелся. Кстати, повод всегда появится, только нужно очень захотеть.
Лору пригласил на какую-то встречу известный поэт, и она охотно с ним укатила. Чижиков засек это, вечером, как обычно пришел к ней домой с намерением устроить сцену и уйти. Он ждал. Ждал, изображая человека, вконец измученного ревностью. Довел этой игрой почти до обморока свою несостоявшуюся тещу, та вынуждена была проглотить несколько пилюль успокоительного и завалиться в постель с мокрым полотенцем на лбу.
Возвратилась Лора уже за полночь — веселенькая и довольная. Карие глазки ее плавали в тумане. Она подошла к Юрке:
— Ждешь, милый? И дуешься?
От нее разило коньяком и табачным дымом.
— Будешь оправдываться? — спросил он сухо.
— В чем, Юрик?! Зачем? И не думаю…
— Тогда мне больше здесь делать нечего. Я думал… Я надеялся… Я мечтал… — говорил с дрожью в голосе.
— Ю-урочка! Ты плохой актер! — пропела Лора. — Не надо этого театра. Я давно ждала, что ты когда-то мне это скажешь. Только почему-то все тянул. Думаешь, я не знаю твоих планов? Так что не надо… — Она засмеялась пьяно: — Так что катись колбаской по Малой Спасской!
Юрка смотрел на нее испепеляющим взглядом, на языке вертелись грязные слова, но он сдерживался.
— Ну скажи, скажи, облегчись, — просила она.
— Не буду… Сама знаешь. — И он повернулся к двери.
Она его окликнула:
— Юра. — Она подошла к нему: — Надеюсь, у тебя хватит порядочности, когда вознесешься на ту вершину, куда ты так упорно взбираешься, когда у тебя уже будет все — и та жена, и тот тесть, и то положение, надеюсь, у тебя хватит порядочности не забыть свою Лорелею, которая тебя любила и поддерживала в трудную минуту? А?
— Хватит. Надейся, — сказал он резко, будто просто так, лишь бы отвязаться от нее, но в то же время и обещая ей всерьез отблагодарить «за хлеб да за ласку».
— Ну, и на том спасибо. — Лора смотрела ему в глаза: — Может, останешься, переночуешь? Поздно уже. А завтра…
— Нет, — бросил он сухо.
— Правильно, — согласилась она с ним. — Правильно: рвать — так рвать сразу, нечего тянуть резину. Прощай. — И она впилась в его губы долгим поцелуем.
Пришел Юрка в общежитие. Давно здесь не был, думали, что он совсем уж перебрался в Лорке, а койку держит за собой так, на всякий случай. И служила эта койка прибежищем приезжающим в Москву гостям и не окрепшим еще литераторам.
Не ждали Юрку и сегодня. И вдруг он заявился — томный, усталый, гордый, но как всегда демократичный. В комнате, по обыкновению, было людно, накурено, шумно. На столе раскардаш — куски хлеба, на газете горка хамсы, мятая бумага, которой вытирали руки, пустая бутылка из-под кефира, стаканы и вразброс листы со стихами. Сидящие за столом спорили и не сразу обратили внимание на Юрку, который прошел к своей койке, хотел повалиться на нее, но под одеялом кто-то спал, подтянув ноги к самому подбородку. Юрка сдернул одеяло, толкнул спящего в плечо:
— Эй, кто это? Чужую койку занял… Подвинься хоть.
Юрку услышали, заметили, повскакивали со стульев, приглашают его к столу — принять участие в споре. Но он лениво поднял руку, сказал вяло:
— Нет, братцы, увольте… Устал до чертиков! Тяжелым было расставанье…
— Что-нибудь случилось?
— Случилось, — обреченно сказал он. — С Лорой… Разбилась лодка вдребезги…
Но присутствующие или не приняли его драму всерьез, или пытались утешить его, завопили духоподъемно:
— О-о!.. Помиритесь!
— Милые бранятся — только тешатся.
— Любовь не бывает без дра-а-аки, — запел кто-то дурачась.
— Нет, братцы, нет… Тут все гораздо сложнее и серьезнее, — крутил головой Юрка.
— Да наплюй! Сама приползет!
— Вряд ли… Пойду умою руки, — сказал он многозначительно и скрылся в туалете. Там на крышке мусорного ведра сидел молодой прозаик со второго курса Ваня Егоров и корпел над рассказом.
— Все сочиняешь, Ваня?
— Да… Вот, да… — засмущался Ваня и засобирался уходить. Подровнял листочки на фанерной подложке, которая лежала у него на коленях, сунул карандаш в карман, поднялся поспешно. — Извините, Юрий Иванович.
— Сиди, сиди! Я только вот руки помою. Много написал?
— Да ну что вы, Юрий Иванович, — еще больше засмущался Ваня. — Вот тут, да… Почти ничего, да… не пишется что-то, да…
Удивительный парень этот Ваня Егоров. Деревенский, он за два года так и не обтесался и ничего городского не усвоил — был по-прежнему стеснительный и краснел как девочка. Белобрысенький, с редкими белыми ресницами, он всему удивлялся и всем восторгался по-ребячьи. Писал хорошие рассказы и стеснялся их обнародовать, конфузился, когда хвалили. А их хвалили, и довольно широко, хотя он и опубликовал всего с пяток, не более. Рассказы его покоряли языком — свежим, сочным, колоритным и очень простым.
Скромный, тихий, Ваня старался никому не мешать, облюбовал себе место на мусорном ведре и уединялся туда с фанеркой и бумагой. Часто просидит весь вечер и выйдет оттуда ни с чем, а на лице улыбка.
— Что, Ваня, хорошо поработал?
— Да нет. — И показывает бумагу с какими-то чертиками в уголке. — Ничего не написалось! — И доволен чем-то.
А иногда выйдет с исписанной страницей, а то и двумя, а лицо такое кислое, будто его там недруги отколошматили.
— Не пишется, Ваня?
— Да… Вот, что-то написалось… Да все не то, нет, не то…
— Покажи.
— Нет, не надо. Не то, — и он прятал листочки далеко, чтобы друзья не достали их.
— Ты, Ваня, талант, — сказал ему Юрка. — Надежда нашей прозы!
— Да ну, что вы, Юрий Иванович…
— Пиши только побольше! — напутствовал его Юрка.
— Не получается вот… Да, не получается…
— Мне бы твой талант.
— Смеетесь, Юрий Иванович…
— Нет, Ваня, не смеюсь, — Юрка отечески похлопал Ваню по плечу, вошел в комнату. Тут уже посиделки кончились. Один лишь Юркин сосед по комнате наводил чистоту — ребром ладони сгребал со стола головки и хвостики от хамсы, тер столешницу газетой. Увидев Юрку, пожаловался:
— Намусорили, как свиньи.
— Все мы свиньи в этом мире, Вася, — сказал многозначительно Юрка и прошел к своей кровати. — О, а где же квартирант?
— А вон, на моей койке. Это мой брательник приехал Москву посмотреть. Он скоро уедет.
— Пусть живет. Мешает, что ли. — Юрка завалился, не раздеваясь, поверх одеяла, стал смотреть в потолок.
Облегчения от разрыва с Лорой, как ожидалось, он не ощущал. На душе было тоскливо и гадко. Все-таки она ему небезразлична, и она его любит, а он ее предал. Это знает он, понимает она, и от этого гадко, сам себе противен.
Но совесть грызла Чижикова лишь до утра, на другой день он проснулся без всякой тяжести на душе, вчерашнее вспоминалось как давний-давний сон. Однако маску убитого горем носил долго, вызывая сочувствие у друзей и восхищение и жалость у женщин. Особенно действовали на них синие обводья вокруг Юркиных глаз.
Что ни говорите, а косметика — великое дело: она способна творить чудеса. И творит! Сколько нашего брата было (и сколько еще будет!) одурачено женщинами именно с ее помощью! Видишь, знаешь, что это косметика, а веришь, бросаешься.
А сколько разочарований, когда мужчина вдруг увидит случайно свою возлюбленную сразу после ванной! Он готов повеситься от досады! Но вот проходит какое-то время, пока он терзался ненавистью — чуть ли не рвал на себе волосы, она спокойно что-то колдовала у зеркала, даже напевала какой-то веселенький мотивчик, чем еще больше разжигала бурю презрения в его душе: «Кикимора страхолюдная, она еще и поет! Удавить, утопить эту образину — и то мало для нее будет». Но вот эта «кикимора» оборачивается к нему — и он столбенеет, лицо невольно расплывается в счастливой улыбке: перед ним снова чудо красоты! И, как сказал поэт, для него воскресли вновь и жизнь, и слезы, и любовь, и вновь настало пробужденье!
Театр! Жизнь человеческая — сплошной театр.
11
Еще не успел износить Чижиков горестную маску, надетую по случаю разрыва с Лорой Левиной, к нему пришла настоящая беда: умерла мать.
Телеграмма со скорбной вестью была прислана прямо на институт:
«Чижикову Юрию Ивановичу
Дорогой и любимый мой брат Юра сообщаю тебе печальное известие умерла наша любимая родная мама Александра Кирилловна Чижикова хоронить будут завтра двадцать шестого приезжай поскорее твоя сестра Ксения Ивановна Чижикова».
Прочитав телеграмму, Юрка прежде всего почувствовал неловкость от ее стиля. «Не могла уж телеграмму написать как следует. Столько лишних слов», — досадливо подумал он и оглянулся: не смотрит ли кто на него, не дай бог заглянет в текст — сгоришь со стыда. Отошел в сторонку, перечитал телеграмму, и только теперь до него дошел смысл ее. «Мама умерла!.. — подумал он в ужасе и побледнел. — А как же я буду?» Он вдруг сразу осознал невосполнимость этой утраты и почувствовал, что из-под него выбита единственная опора. «Как же я буду?» — билось в голове. Из него словно воздух выпустили, ноги сделались ватные, и он привалился головой к холодной стене.
— Юра, что с тобой? — подскочили к нему ребята. — Тебе плохо?
— Мама умерла… — проговорил он еле слышно.
Наступило молчание, потом один за другим они стали утешать его, советовать, как быть. Если у него нет денег, они соберут ему, кто-то выразил готовность сбегать за билетом на самолет.
— Держись, Юра. Тебе ведь предстоит дорога и там надо будет все это перенести.
«Дорога? Надо ехать? Домой?! — как молнией обожгла мысль, и тут же пришел совершенно определенный ответ: — Не могу». Ему представились эти похороны: гроб посреди комнаты, плачут, и он, конечно, будет плакать. И тут он встретит Лизу… Ну, не Лизу, а мать ее, Натаху, обязательно встретит. Как будет смотреть ей в глаза? Да и не только ей. Там все ведь знают о его поступке с Лизой, знают, почему он не появлялся столько времени дома. Да и сама процедура похорон: процессия от дома до кладбища, захоронение, поминки… Нет, нет, все это не для него, такой нагрузки он не вынесет… Если бы только это, а то ведь там Лиза, Натаха. Он явственно представил их укорный взгляд, явственно услышал голос Натахи: «Эх ты, паскуда!» Он простонал:
— Нет, нет… Я не могу… — На лбу у него выступил пот, голова закружилась, и он медленно стал оседать. Ребята подхватили его, завели в аудиторию, посадили. После короткого совещания решили поймать такси и отвезти его в общежитие.
Привезли, уложили на койку. Он метался в постели, даже бредил.
— Может, врача вызвать? — проговорил кто-то.
— Нет, нет, — решительно воспротивился Чижиков, — не надо. Это скоро пройдет. — Он демонстрировал не только шоковое состояние, но и свое мужество при этом.
— Может, пока съездить за билетом? — опять забеспокоился кто-то.
— Нет, я не могу ехать… Я не в состоянии… — простонал он еле слышно. — Не могу. Телеграмму… Телеграмму пошлите…
Воцарилось молчание, ребята переглянулись, посмотрели на Чижикова — он действительно был не в состоянии: бледен, бусинки пота на лбу и тяжелое дыхание через открытый рот.
— Пить… — попросил он. — Пить дайте.
Его напоили и принялись сочинять телеграмму. Сочинили, стали ему читать вслух:
— «Приехать не могу болен соболезную и глубоко скорблю».
Юрка затих, слушал внимательно текст. Прослушал и молчал, думал.
— Ну как? — спросили ребята. — Пойдет?
— Добавьте… Напишите: «Приехать не могу тяжело болен постельный режим соболезную и глубоко страдаю от невосполнимой потери крепись сестричка твой брат Юрий». — Продиктовал и совсем обессилел, отвернул голову к стене.
Ребята потолклись еще какое-то время в комнате и ушли, наказав ему лежать спокойно.
— Если что, стучите в стену, да, я буду там дежурить, да… — сказал Ваня Егоров.
В комнате стало тихо, Юрий приоткрыл один глаз, потом второй, осмотрел стены, потолок, словно впервые попал сюда, и внезапно почувствовал облегчение: решение принято, дело сделано. Он отделался «малой кровью». Кажется, не уронил себя ни в глазах товарищей, ни… А там? А что там? Для матери теперь все равно — был он на ее похоронах или нет. «Прости, мама…» — вздохнул он лицемерно, будто кто-то мог услышать его вздох. А сестре он все равно не помощник. Родичи? Соседи? Да ну их, всех этих родичей и соседей вместе с Натахой, что они ему? Пусть они забудут его, а он их давно уже выбросил из своей жизни навсегда.
Но тут взбунтовались остатки совести в нем, стали упрекать, обзывать его плохими словами: «Лицедей, подонок! Родную мать не поехал проводить в последний путь! Мать, которая души в тебе не чаяла! Больного из себя разыграл. Это же надо! До такой степени изобразить все: и бледность, и пот, и тошноту — все смог вызвать в себе и обмануть стольких людей. Ну актер! Тебе в театральный — такая способность к перевоплощению! Лицедей, подонок!..»
Юрка стал отгонять от себя эти мысли, застонал уже не для кого-то, а для себя самого, чтобы заглушить остатки совести. Постучал в стену, вызвал Ваню. Ваня тут же прибежал:
— Да… Юрий Иванович… Вам плохо, да?.. Все-таки, может, вызвать врача? Да…
— Не надо, Ваня… Воды… Пить дай…
Три дня валялся Чижиков в постели, выдерживал срок, убеждал окружающих в своей немощности. Валялся и размышлял, как ему теперь быть: он лишился регулярной материнской дотации, осталась одна стипендия… Наверное, поторопился порвать отношения с Лорой — там ему было сытно. Пожил бы еще в нахлебниках. Поторопился. На стипендию не проживешь, гонораришко перепадает лишь изредка, и то бедненький.
Эти мысли оттеснили смерть матери на задний план и заставили его вздыхать еще сильнее. А друзья смотрели на него и верили ему и думали о нем так, как и хотел Чижиков: «Какой он чувствительный, как он легко раним!.. Ну все как у настоящего гения!»
Ах, если бы ко всему этому да прибавить бы хоть толику настоящего талантишка! Нет, не дала природа, обделила. Оболочкой, формой наградила, а содержимое вложить в эту оболочку забыла.
12
Издатели по-прежнему, как сговорились, печатать Юркины стихи не хотели, и это его не на шутку беспокоило. Они отвергали его творчество дружно и категорически, не признавая за ним не то что какого-то новшества, они вообще не видели в его стихах никакого проку.
— Это не стихи и не проза, а черт знает что это такое, — сказал ему откровенно один главный редактор. — И до смысла не всегда докопаешься. Бред какой-то. Кто это читать станет? Ты что, в самом деле так мыслишь? Нет, нет, такое не пойдет!
— Но почему? — возмутился Чижиков. — Есть же люди, которые понимают это, — и читатели найдутся. Почему вы за всех читателей расписываетесь? И вообще, где свобода печати?
— А вот она, — и главный выложил перед ним одну рецензию, другую, третью. — Вот она! Разве я один так думаю — это пишут люди авторитетные.
— Но закоснелые в старых традициях. А вы дайте на рецензию другим. Например, Горластому?
Главный улыбнулся снисходительно, хотел сказать, что Горластый не такой дурак, чтобы письменно поддерживать всякую галиматью, он пока забавляется Чижиковым как игрушкой, держит при себе для разнообразия, как балалайку, и только. Кстати, обращались к нему, просили прочитать Чижикова — отбояривался под разными предлогами, да еще пожелал, чтобы разговор этот остался «между нами». Хотел главный все это сказать Чижикову, но смолчал, а только сообщил:
— Было тут у нас одно время, когда рукописи давались на рецензию тем, кого пожелает автор. Поломали мы это дело. И возобновлять пока не намерены.
«Что же делать? — досадовал Чижиков. — Как быть? Институт скоро кончится, и я останусь между небом и землей гол как сокол? У Лорки и то уже книжка на выходе. Нашла свою жилку — под народность подделывается: бабоньки-девоньки, люшеньки-люлюшеньки, ляшеньки-голяшеньки — и пошла припевками шпарить! Хитра девка! Ну а что же мне-то делать?»
Пожаловался Горластому, а тот руками развел, глаза закатил под лоб, а потом что-то сообразил, смежил руки на животе, склонил голову, заговорил-забулькал:
— Да, это дело сложное. Сложное! Издаться в наше время не просто. Тут надо что-то придумать. Подумать надо. Я подумаю, Юрок. В периодике надо почаще мелькать. В периодике. А сегодня я тебя приглашаю на небольшой мальчишник — думаю поэму свою обмыть. Приходи к шести вечера. Будут хорошие люди, познакомлю. В ЦДЛ на веранду. Двери будут закрыты, но ты не обращай внимания, заходи. Так надо. Сам понимаешь, обстановка… Осторожность не помешает.
Чижиков пришел за полчаса до срока, но заходить постеснялся — рано. Хотел покрутиться в вестибюле, однако же решился и рванул дверь. Сунул голову — и чуть было не ринулся обратно: там в тесной комнатенке за длинным столом плотно, как зернышки в кукурузном початке, сидели человек тридцать мужиков, смачно жующих закуску. На скрип двери они все, как по команде, вдруг перестали жевать, обернулись к Юрке и стали настороженно, удивленно и сердито-вопрошающе смотреть на него: «Кто ты? И зачем сюда ворвался?» Лица у всех были уже багровые, глаза блестели. Чижиков растерянно остановился. Немая сцена, напоминающая кадр из американского фильма времен сухого закона, длилась с минуту, пока не поднялся из дальнего угла Горластый и не объявил:
— Это Юра Чижиков! Молодой талантливый поэт. Мой ученик. Прошу любить и жаловать! Проходи, Юра, ищи себе место.
И все вдруг облегченно осели, заулыбались, загомонили, стали сдвигаться кучнее, давая место новичку. Юрка прошел поближе к Горластому, чтобы быть у того на виду, и там втиснулся со своим стулом. Горластый ободряюще подмигнул ему, в ответ Юрка приосанился.
Тут поднялся из центра застолья подвыпивший критик со свекольным лицом и глазами навыкате и, обращаясь к Горластому, взывал:
— Гаврюх!.. Слушай, Гаврюх!
— Да-да, — вскочил Горластый — он, оказывается, сам тамадил на своем вечере. — Ты хочешь что-то добавить к своему тосту? Давай, Кирюша!
— Да нет, — сказал Кирюша. — У меня есть предложение. Все, кто тебя любит, пришли вовремя. Давайте дверь закроем и посидим спокойно, поговорим. А кто опоздал, пусть на себя пеняет, и вообще пошел он… — Дальше критик продолжал говорить что-то беззвучно, одними губами. Никто ничего не слышал, но все были так догадливы, что дружно засмеялись и очень бурно одобрили предложение:
— Правильно!
— Молодец, Кирилл!
— Запереть дверь на запор!
— Эй, кто там близко к двери? Задвинь задвижку.
— Да там не задвижка, а защелка.
— Ну, спусти защелку.
Сразу двое мужиков кинулись к двери, сдвинули предохранитель защелки, она клацнула, как затвор с тугой пружиной, и этот звук словно снял с присутствующих какие-то путы, они расслабились, взбодрились, повеселели. Горластый по очереди поднимал присутствующих, те поздравляли его с публикацией новой поэмы и непременно говорили о его необыкновенной талантливости, сравнивали с Маяковским, Твардовским, Лермонтовым, Пушкиным — кому с кем вздумается, тот с тем и сравнивал. Горластый, делая вид немного смущенного, принимал тем не менее похвалы как должное и предоставлял слово очередному оратору.
Чижиков пригубливал за все тосты, сдерживал себя, чтобы не напиться, наблюдая за гостями. Да, тут были все нужные люди — редактора журналов, издательств, критики, писатели. Многих Юрка знал в лицо и старался, чтобы и они запомнили его — с ближайшими чокался, дальним улыбался, но все время ел глазами сидящего рядом с «именинником» главного редактора журнала, напечатавшего поэму.
Невыступивших становилось все меньше и меньше, и Чижиков понял, что и ему выступать не миновать, стал лихорадочно думать, о чем ему сказать. Даже хмель вышибло от напряжения, а когда придумал, успокоился, увереннее стал себя чувствовать. И даже ждал своей очереди с нетерпением. Раза два уже думал — вот его поднимет Горластый, нет, опять не его. Наконец, настала его очередь.
— Хочу предоставить слово своему юному другу, ученику, очень талантливому и самобытному молодому поэту Юрию Чижикову. Поэт он своеобычный, на других непохожий, и это, я считаю, хорошо! Плохо, что эта непохожесть делает трудной его жизнь. Ну а у кого она легкая? Тебе слово, Юра.
Чижиков поднялся. В горле першило, он откашлялся, начал:
— Я хотел бы сказать вот что… Тут правильно говорили о талантливости Гавриила Егоровича: он действительно талантливый поэт, и новая поэма — яркое свидетельство тому. Но она свидетельство еще тому, что талант поэта развивается вглубь и вширь: поэма эта взлет не только в его творчестве, но и в нашей поэзии вообще. Это все так. Но поэма, как бы она ни была талантлива, никогда не стала бы явлением литературы, если бы не была напечатана. Поэтому я хотел бы сказать похвальное слово не только автору, но и редактору, который явил ее свету, — Вуколу Степановичу Морошкину! За автора и редактора!
— Браво!
— Молодец!
— За редактора!
— Автору и редактору — горько! — закричал критик.
Горластый улыбался, довольный, поднялся, протянул Морошкину стопку для чокания:
— Видал? Дурак-дурак, а умный!
— Горько! Автору и редактору — горько!
Морошкин, мордастый мужик с большим лбом, с лысиной, чуть прикрытой длинной прядью, выращенной у левого уха и зачесанной через всю голову, с большим животом, сидел вальяжно в кресле, выпятив живот, — ему было жарко. Горластый ждал, пока тот медленно поднимался. И вдруг они ринулись друг на друга, схватились, обнялись, а потом Горластый поймал губами его рот и впился в него, как не впивался, наверное, в губы ни одной женщины в самые страстные минуты. Наконец они расцепились, потом еще трижды припадали друг к дружке, пока немного успокоились и увидели, что вокруг народ. Засмущались, как школьники, только что познавшие сладостную прелесть поцелуя, выпили оба до дна, принялись вилками тыкать в помидор, в грибы, в селедку.
Закусив, Горластый взглянул на Юрку, улыбнулся ему и, показав большой палец, потряс им. Обернулся к Морошкину, стал что-то говорить, и Юрка понял, что он говорит о нем, о Юрке, так как Морошкин все время взглядывал на Юрку и кивал Горластому. Выслушав того, Морошкин поманил к себе Чижикова. Тот вскочил, подбежал к нему.
— Занеси как-нибудь мне твои стихи. Посмотрю, — сказал Морошкин через плечо.
— Хорошо, — с готовностью пообещал Чижиков и, кивая головой, задом попятился к своему месту, как раб от грозного падишаха.
Тосты кончились, застольники, разбившись на группы, говорили все разом. Стоял сплошной гомон и сплошной дым от сигарет — курили все.
Возле Горластого и Морошкина образовалась своя группа, к которой тянул ухо и Чижиков. Говорил Морошкин. Здоровенный детина, с бычьей головой, с огромным лбом за счет лысины, поэт-деревенщик, он был больше известен своими выступлениями в защиту мужика-крестьянина, которого, по его мнению, сгубила современная цивилизация, отшибла у него любовь к земле. Одних споила, других сманила в город и тоже споила. Он так жалел мужика, что готов последнюю рубашку ему отдать, да только не знал, как это сделать: сам из деревни уехал еще до войны и с тех пор ни разу туда не заглянул. А мужик ему нужен был лишь из-за острой темы, с которой Морошкин постоянно собирал, как с тучной нивы, обильный урожай.
— Ведь вы поймите: это же творилось мировое зло! Что значит в России подорвать мужицкую основу? Это значит порушить саму Россию! — говорил он собеседникам, нажимая на «о». — Чего только не творили с нашим мужиком — и кулачили, и дурачили. А ково кулачили? Дядьку мово кулачили, который своим горбом создал свое хозяйство и лодырей приохочивал к работе. Батраки? Какие там батраки! Ну, были сезонные помощники, так он же им платил. Нда… Отлучили русского мужика от земли, а под конец и споили его, бедолагу. Против него целая система разработана. Вы поглядите на бутылки — какие красивые наклейки на них. А для чего это делается, знаете? — Он поднялся, взял со стола бутылку. — О, смотрите: настоящее произведение искусства! Такую картинку да в мою бы книжку! Так не-ет! А на бутылку клеют. Для чего? А все для того, чтобы соблазнять русского человека, чтобы удобнее было спаивать его. — Он помолчал, любуясь этикеткой, и вдруг взвизгнул: — Нет, не могу спокойно говорить о русском мужике, не могу! Жалко мне его!.. — Морошкин сморщился плаксиво, взял пустой фужер, налил в него до краев водки и решительно, одним духом выпил все до дна, только большой кадык его квакнул. Постоял с минуту и снова сел в кресло.
Наступила пауза, собеседники сокрушенно кивали головами. «Смелый какой! — удивился Чижиков. — А может, ему разрешили быть смелым?»
— Вечная тема, братцы мои! — Морошкин горделиво отвалился на спинку кресла. — Ве-чна-я! Ладно, не будем травить душу. Че мы опять об том же самом?
— Так ведь хлебушек-то — он главная тема всегда, — сказал умно Горластый. — А хлеб и мужик… Без мужика и хлебушка не будет.
— Это верно, — согласился Морошкин. И вдруг спросил: — А вы знаете, я вот часто думаю: кем бы я был, если бы не революция? Ни за что не отгадаете! — И засмеялся.
— Поэтом был бы! — сказал Горластый.
— Это само собой: конечно, был бы… — Он обвел всех веселыми глазами, будто его мечта уже осуществилась, произнес: — Кулаком! — И засмеялся всем мило, дружески. — Да! У меня бы хозяйство было — во какое! — Он сжал пальцы в крепкий кулак, поднес его под нос Горластому, и все невольно сжались. — Я бы ни за что не допустил вот этой разболтанности, какая теперь царит на земле.
— Да ты и сейчас кулачина будь здоров! — заметил улыбаясь Горластый. — В хорошем смысле, конечно.
— Ну!.. — махнул разочарованно деревенщик. — Какой там…
— А что, неужели у тебя мало денег?
— Да при чем тут деньги? Что с ними делать? Машина? Ну купил. А дальше?
— Дача, — подсказал Горластый.
— Дача есть, литфондовская. Зачем я буду на нее тратиться, если есть возможность даром получить?
— Ну а что бы тебе еще хотелось?
— Хм, — крутнул головой Морошкин, удивляясь наивности Горластого. — Во-первых, я весь этот капитал пустил бы в оборот. Во-вторых, хозяйство вел, как теперь говорят, только на интенсивной основе. Ну и, само собой, я бы построил себе такую Карабиху, такую Ясную Поляну, что им, классикам нашим, и не снилось. Вот там бы творчеству и развернуться — простор, свобода! Гуляй мысль — то ли по древам растекайся, то ли по полям расстилайся! Никто тебе не помеха, сам хозяин на всю округу! — И вдруг спохватился, засмеялся раскатисто: мол, разыграл вас! — Шучу, конечно… — А в глазах неподдельная грусть затаилась.
Юрка смотрел на него и не знал, чему верить, что было правдой в его словах: говорил ведь искренне, вдохновенно — и вдруг шутка. Вряд ли шутка: это же о нем идут разговоры, что он, будучи с делегацией в Италии, вместо древнего искусства приобщался совсем к другой культуре: скупал в магазинах немыслимой формы краны для ванной, тащил домой через несколько границ голубой унитаз с розовыми прожилками, чем повергал в недоумение таможенников, которые подозревали — не спрятана ли в извивах этого унитаза контрабанда. А еще больше поставил он в тупик отечественных слесарей, которые никак не могли установить привезенные краны — не тот стандарт: не та резьба, не те параметры. Пришлось им в квартире Морошкина всю оснастку перестраивать — ковыряли стены, ставили другого диаметра трубы, нарезали сами резьбу. Зато теперь, говорят, ванная у этого деревенщика не уступает по роскоши ванной любого американского миллионера.
Когда расходились по домам, уже в вестибюле, Морошкин обернулся к Чижикову, который преданной собачонкой следовал за ним, сказал:
— А насчет книжки ты сходи в союз, в контору к Никанору. Он курирует издательства — и… В общем, это дело в его руках. Пойди, поплачь, может, разжалобишь. Без него… — Морошкин покрутил головой. — Ну, будь. Заходи.
— Спасибо… — пролепетал Чижиков ему вдогонку.
13
Про контору Никанора Чижиков слышал и раньше. Есть в большом союзе будто бы такой важный отдел и сидит там некто, который курирует все издательские дела писателей, распределяет, кого куда, кому сколько, кого когда. Ведал этим отделом уже несколько десятков лет Главный Координатор — писатель Никанор Никаноров, который за эти годы стал знаменит, именит и богат, так как распределял прежде всего свои издания и издания своих друзей и близких. Поэтому, наверное, и прозвали этот отдел координации конторой Никанора.
Когда Никанорова мошна стала трещать от непомерного количества денег и об этом стали усиленно говорить, он решил слегка облегчить ее — перечислил в фонд помощи пострадавшему от наводнения курортному городу один миллион сто рублей. И никого не удивил этот миллион, а все спрашивали: «А к чему эти сто рублей?» А Никанор лишь загадочно улыбался да поглаживал свою лысину, словно говорил сам себе: «Вот какой я молодец!» Не удивило никого и то, что Никанор после этого стал почетным гражданином курортного города и что на берегу Черного моря в черте города выросла роскошная вилла, на которую он не истратил ни копейки, но стал ее владельцем.
Идти в эту контору к этому Никанору Чижиков не решался, боялся, что с ним там не станут разговаривать: он ведь не член союза. Но Морошкин своим советом сподвиг его на этот шаг, и он на другой же день направил свои стопы к Никанору.
Подновив свою маску непризнанного гения, вскинув голову надменно, Чижиков вошел в приемную. Тут за секретарским столом сидела беленькая пампушечка и улыбалась какому-то мужлану с львиной гривой, который, видать, успешно и не впервые охмурял ее.
Пампушечка эта работала здесь уже лет пятнадцать, и пришла она сюда когда-то с определенной целью: подцепить в мужья солидного писателя. За это время она зацепляла уже штук восемь писателей, но все они оказались вовсе не солидными, у всех у них была одна страсть: поскорее и поближе пробиться к начальству. И как только эта сверхзадача завершалась успехом (или, наоборот, срывалась), они ее бросали. Тем не менее она не теряла надежды поймать свою мечту в девятый раз. Наверное, этот гривастый и был намечен ею для очередной пробы на должность мужа.
Когда в приемной появился Чижиков, они оба умолкли и посмотрели на посетителя так, будто тот вошел не в учреждение, а ворвался в их спальню, да еще в самый неподходящий момент. Пампушечка быстро и с большой досадой согнала с лица улыбку, но обращать свое внимание на вошедшего не спешила, следила за ним боковым зрением, изучала. Вскоре она безошибочно определила в нем неопытного просителя и, разочарованно дернув уголком рта, снова обратила свой взор на кудлатого. Но кудлатый-гривастый тоже смотрел на Чижикова изучающе — не потенциальный ли это его конкурент на подступах к Никанору: одно дело, когда просит один, и совсем другое, когда просят сразу двое. А к Никанору, как звали в миру Никанорова Никанора Никаноровича, ни с чем больше и не ходили, кроме как с просьбами. Пампушка снова погасила улыбку и уставилась на Чижикова.
— Я к Никанору Никаноровичу… — сказал Чижиков.
— Вы записаны к нему на прием?
— Нет.
— Вы член союза? — продолжала бесстрастный допрос пампушка.
«Вот оно, начинается…» — подумал тоскливо Чижиков и как можно нахальнее сказал:
— Я поэт. Моя фамилия Чижиков.
Пампушка раскрыла рот, хотела еще что-то спросить, но ее опередил гривастый.
— Чижиков! — закричал он. — Так я же тебя знаю! Из литинститута? Слы-ыхал! — И к пампушке: — Оригинальный поэт Чижиков.
— Ну уж, — поскромничал Чижиков, смущенно улыбнувшись, но в душе поблагодарил гривастого за рекламу.
— Очень приятно, — сказала ласково пампушка. — Никанор Никанорович сейчас занят, подождите.
— Хорошо. — Юрка отошел к окну, стал смотреть во двор.
— А я — прозаик, — подошел к нему гривастый. — Эразм Иванович Неваляйкин. — И протянул Юрке руку. — Тоже насчет изданий? — спросил он, кивнув на массивную дубовую дверь.
— Да-а… — замялся Юрка.
— Понимаю! — сказал Неваляйкин. — Я тоже. Трехтомник пробиваю. — Обернулся к секретарше: — Катюш, да кто там у него так долго?
— Ну какой вы, Эразм Иванович, любопытный. Я же вам сказала: женщина. — И, понизив голос, доверительно сообщила: — Дочь его, Нототения.
— Нототения? — удивился Неваляйкин. — Тоже пробивает издание?
Пампушка хохотнула:
— Не знаю.
Вскоре тяжелая дверь с бронзовым набалдашником вместо ручки мягко отворилась и из кабинета вышла изящная стройная девица в фасонной прическе — эдакий стремительный зачес от левого уха убегал через макушку к правому, нависая над ним тугим валиком. Валик этот был скреплен дорогой заколкой. Она быстрым, как лезвие бритвы, взглядом сверкнула по всем, на какое-то мгновение дольше, чем на других, задержала его на Чижикове, послала секретарше прощальный кивок и быстро вышла. Тем временем, не дожидаясь, когда о нем доложат, в кабинет прошмыгнул Неваляйкин.
Пробыл он в кабинете долго, около часа, не меньше, и вышел оттуда весь взмыленный, будто ему пришлось там мешки с песком таскать. По щекам красного лица пот стекал ручьями, ворот расстегнут, узел галстука спущен почти до пупа. Вышел, хукнул облегченно, сказал весело:
— Все в порядке! — К Чижикову: — Иди, пока он еще не очухался. Никанорка сегодня добрый. Иди. А перед тобой, Катюх, я вечный должник. Как только выйдет трехтомник, первые экземпляры — тебе!
— Если не забудете.
— Ну!
Войдя в кабинет, Чижиков приостановился у двери и лишь потом медленно прошел к письменному столу у дальней стены. Стол был большой, как теннисное поле, с обеих сторон на нем лежали неровно сложенные высокие стопки книг, а между ними виднелась массивная круглая и блестящая, как бильярдный шар, голова маленького человечка, утопшего в большущем мягком кресле. Лицо человечка было густо усеяно крупными конопушками, как у десятилетнего мальчишки. Он вытирал махровым полотенцем лицо, голову, отдувался тяжело, словно после жаркой бани. На Чижикова не обращал внимания.
— Фу-г… Два-три таких посетителя в день — и вынесут отсюда вперед ногами, — жаловался он сам себе.
Чижиков смотрел на Никанора, и ему было неловко за свой визит: человек в таком состоянии, а он к нему с какой-то просьбой. Его пожалеть бы…
Наконец Никанор кончил вытираться, сложил аккуратно полотенце, спрятал в ящик и только теперь обратился к Чижикову.
— Слушаю вас. Садитесь, пожалуйста, — сказал он устало плачущим голосом.
Чижиков, как мог, сбивчиво объяснил свою беду.
— Новый сборник, что ли? — уточнил Никанор.
— Новый.
— Я новыми сейчас не занимаюсь. Это решают сами издательства. Я сейчас занят только избранными и собраниями сочинений.
— Но в том-то и дело, что они не решают, — сказал Чижиков.
— Их тоже надо понять, — сказал Никанор. — В стране бумажный кризис. Бумаги не хватает. У нас в каждом издательстве до тысячи заявок осталось неудовлетворенными и около семисот заявок — на избранные. Это надо учитывать?
— Надо, — согласился Юрка. — А как же быть тем, кто не может издать свою первую книгу? Хотя бы очередь установили.
— Да что это, за картошкой, что ли, очередь? Тут ведь все дело решает творчество, качество рукописи.
— Вот сейчас от вас вышел писатель с трехтомником — у него сильно высокое качество? — осмелел Чижиков, почувствовав, что все равно тут терять нечего.
— Кого вы имеете в виду? Неваляйкина? — И он вздохнул. — То, что вы его не знаете, это еще ничего не говорит. Так вы можете и меня упрекнуть — мол, семнадцатитомное собрание запланировал. А я что? Пять лет прошло после предыдущего собрания, имею право новое издать. Я раньше времени не лезу, не нарушаю правило. И далеко не все включаю в собрание сочинений. У меня есть чудесный роман «Свиное рыло». Не читали? Вот видите. Очень жаль: чудесный роман. Так вот я это свое «Свиное рыло» не включаю: знаю — с бумагой туго. И у других отбираем только лучшее и только тех писателей, кто заслужил своей общественной и литературной деятельностью. — Голос у Никанора был тихий, убаюкивающий. Он увлекся и говорил, говорил, наконец кончил, заключил: — Вот так-то, дорогой товарищ… Как вас?
— Чижиков.
— …товарищ Чижиков.
— Но как я могу проявить себя на литературном поприще, если меня не печатают? — спросил Чижиков.
— Ничем не могу помочь. Ничем, — закрутил головой Никанор и запоглядывал вниз под стол, словно искал, куда бы ему спрятать понадежнее свою голову — он так устал, так устал от этого разговора.
— Но поймите, мне, в конце концов, жить на что-то надо. Я сирота, круглый сирота… Я рос без отца, а недавно умерла и мать. Осталась сестренка. Я участник боев…
— Все это хорошо, дорогой товарищ… Но я ничем не могу вам помочь. Напишите заявление, чтобы вам оказали материальную помощь. Я наложу резолюцию, Литфонд выдаст вам помощь рублей сто. Да-да, напишите. А насчет издания?.. Попробую поговорить с директором издательства. Но они решают сами. И потом — я же знаю их положение.
— Пожалуйста, поговорите. Когда мне зайти за результатом?
— За каким результатом? — застонал плачуще Никанор. — Если что получится, вам сообщат. Ко мне заходить не надо. До свидания. Всего доброго.
Чижиков вышел опустив голову. Прошел, ни на кого не глядя, через приемную, во дворе в скверике остановился: «Все, дальше идти некуда. Вот она — жизнь… И никому, выходит, я не нужен. Один. И дерись за свою жизнь один. А где же забота, где коллектив? А еще говорят… Умри я сейчас — и никого это не тронет…»
Откуда-то пришли, вспомнились грустные чьи-то строки:
Над родной страной Я пройду стороной, Как косой дождь…Чижиков поднял руки, схватился за ветку, словно хотел подтянуться, как на турнике, задумался да так и повис на руках. И не видел он, что из приемной за ним наблюдают две пары женских глаз — в одно окно смотрела пампушка Катя, а в другое — большеглазая Нототения.
— Он даже страдает оригинально, — сказала Нототения и снова вошла в кабинет к отцу. — Папуль, посмотри в окно.
— Ты опять, Нота? Что там еще? — Никанор достаточно быстро для своей комплекции высвободил себя из кресельных объятий, посмотрел во двор: — Ну?
— Видишь вот того парня? Он у тебя только что был.
— Ну?
— А знаешь, что он там делает? Он ищет сук, на котором повеситься.
— А-а… — разочарованно отмахнулся Никанор, возвращаясь в кресло. — Каждый будет вешаться — деревьев не хватит.
— Да ты знаешь хоть, кто это? Это же знаменитый Чижиков! У нас в институте, да и не только в институте, о нем везде говорят: оригинальный поэт!
— Ну и что? Я-то тут при чем?
— Как при чем, папуль? От тебя зависит, помоги ему.
— Ты что, влюблена в него? — насторожился отец.
— Пока нет. Но не исключено.
— Ты смотри, — погрозил он пальцем. — Глупостей не натвори, будь разборчивей. Кто он такой? Без роду без племени.
— Он поэт.
— Это еще доказать надо. Какой же он поэт без книжек?
— А ты помоги.
— Отстань, — застонал Никанор. — Что ты ко мне пристала! Вот сводный план изданий, а вот — перспективный, — подвинул он ей два гроссбуха — один толще другого.
— Это я знаю. — Нототения взяла план, отвернула страницу. — О! Твоя фамилия первой.
— Ну и что? По алфавиту. Собрание сочинений. Не буду же я ради какого-то Чижикова оставлять миллион своих читателей без моих книг. Пять лет прошло после последнего собрания…
— А это?
— Опять в меня тычешь? Это новинка. Вещь опубликована в четырех номерах журнала и в трех выпусках «Роман-газеты», теперь читатели просят издать ее отдельной книгой!
— А это?
— Ты что, не знаешь? Этот роман получил премию и теперь издается в лауреатской серии. Автоматически. Я-то тут при чем?
— А вот снова твоя фамилия?
— Это не моя. Это — мамина. Не могу же я оставить ее без издания? У нее и так в этом году запланирован только один сборник всего на сорок листов.
— А вот еще?
— Эта? Ну, эту можно и заменить, — улыбнулся Никанор. — Это же ты! Снять?
— Сними!
— Ты что, дура? — посерьезнел он. — Иди и не вмешивайся в мои служебные дела.
— Молодым надо помогать, папуль.
— А я и помогаю. Ты разве старуха?
— А как же Чижиков?
— Это его дело. — И вдруг сморщился, застонал, запричитал плачущим голосом: — Что ты пристала ко мне? Ты что, ревизор? У меня все по закону делается, я не какой-нибудь там… И не расстраивай меня, пожалуйста.
Так и ушла Нототения ни с чем.
А, собственно, почему она вдруг проявила о Чижикове такую заботу? Уж не влюблена ли она в него в самом деле? Если так, то его дела еще могут поправиться и искать сук ему пока рановато.
Но Чижиков, к сожалению, ничего об этом не знал.
14
У Чижикова уже в привычку вошло: чуть что, чуть какая невзгода — плюх на койку поверх одеяла в чем был, не раздеваясь, и лежит. Если очень припекло — лежит отвернувшись к стенке, если пока терпимо — потолок изучает. Сейчас он сначала завалился к стене, а когда полезли стихи — сердитые, злые, испепеляющие всех и вся, перевернулся на спину. Взял листок, карандаш, быстро записал:
Один Кругом народ кишмя кишит а я один и никому нет дела до меня И это в стране где хвастают вниманием особым к человеку Ложь кругом и демагогия Они там в три горла жрут я ж лежу голодный и никому нет дела до меня А я поэт у всех народов во все времена Барды были в почете У нас же в почете лишь те кто криводушничает льстит лжет поет дифирамбы О как ненавижу я тебя страна моя И имя тебе ДемагогияВот так! Получай, страна родная, от Чижикова! Мало тебе разных недоносков, так вот еще один.
Написал — и легче ему стало, как после клизмы.
Вечером торжественно, с выражением читал собравшимся свой пасквиль. Слушали — переглядывались, прослушали — сказать не знают что: то ли восхищаться смелостью, то ли возмущаться злобной пошлостью, то ли незаметно улизнуть, пока не поздно.
Сидел, молчал угрюмо и Ваня Егоров. И не выдержал, подал голос:
— Да… Нехорошо все это, да… Нехорошо…
— Что нехорошо? — удивился Чижиков.
— Да все это, да… — кивнул он на стихи.
— Тебе-то что! Написал несколько рассказиков — и уже книжку планируют. А я? А у меня?
— А у вас, Юрий Иванович, еще и книжки нет, а слава вон уже какая. Да…
— Эта слава устная, она ведь не кормит.
— А завтра вам издадут книжку, да… Издадут, и как тогда вы будете смотреть на эти стишки? Да… Вас сегодня кто-то обидел, да… обидел, а вы на страну так… На родину так набросились. Страна-то при чем тут? Да… Нехорошо все это. Я думал, вы человек хоть хороший, Юрий Иванович… Да, думал. А вы, Юрий Иванович, да… простите меня, вы — дерьмо, Юрий Иванович. И жить я с вами в одной комнате не хочу. — И Ваня принялся собирать свои манатки.
На другой день к Чижикову подошел круглоголовый, почти без шеи, сутулый человек с реденьким чубчиком над левым глазом. Слегка заикаясь, он представился:
— Здравствуйте, Чижиков. Я — Воздвиженский, — он протянул руку.
— Я вас знаю, — засиял Чижиков. — И стихи ваши знаю и люблю.
— И я о вас много слышал. Не могли бы вы мне дать свои стихи? Может, мне удастся что-то отобрать для публикации.
Чижиков с готовностью передал ему объемистую папку.
— Тут все, и самые последние? — осведомился проницательный Воздвиженский.
— Все.
— И самое последнее? — уточнял он настойчиво.
— Какое?
— Ну, то, что вы вчера читали.
— Нет, — скис почему-то Чижиков. — А зачем?
— Дайте и его.
Юрка достал из кармана сложенный вчетверо листок, отдал Воздвиженскому.
Через несколько дней тот вернул Чижикову папку, присовокупив свою оценку:
— Недурные стихи. Отобрал три для публикации. В том числе и последнее.
— И последнее? — удивился Юрка. — А может, не стоит?
— Ну-ну! Крепкие стихи! Не надо бояться. Поэт — это боец! Помни.
Юрка кивнул. Потом спросил:
— А в каком журнале это будет?
Вместо ответа Воздвиженский снял с Юркиного плеча невидимую пушинку, потом потрогал на его пиджаке пуговицу, увлек в сторонку.
— Понимаешь… — начал он как-то неуверенно. — Этот журнал только создается. Мы тут, инициативная группа писателей, решили организовать новый журнал. Пока только подбираем материал для него.
— Новый журнал? — загорелся Юрка. — Это интересно! Он так и называться будет — «Новый журнал»?
— Пожалуй, нет… Слово «новый» уже есть в названиях: «Новый мир», «Новое время»… Нет, мы предполагаем назвать его «Метроном».
— «Метроном»?
— Да. Тут есть что-то символическое — метроном, отсчитывающий темп, время.
Чижиков внимательно слушал, одобрительно кивал.
— Поскольку дело новое, сопряженное с разными трудностями… Новое ведь всегда у нас пробивается туго, со скрипом, поэтому лучше, если об этом никто не будет знать. Так что я попрошу тебя о нашей затее пока не говорить никому. Договорились?
— Договорились! — с готовностью согласился Юрка.
Организуется новый журнал, для первого номера приняты его стихи, да еще и тайну рождения журнала доверили ему — как тут не возрадоваться Юркиному сердцу! Заулыбался Юрка, посветлел от такого внимания к себе, ходит гоголем. Немного смущало его последнее стихотворение — уж больно оно откровенное, злое. Даже Ваня Егоров возмутился. Но Юрка тут же давил такие сомнения: «Пусть. Воздвиженский лучше меня понимает в этом деле. А Ваня — деревня неотесанная. Надо утверждать себя, надо бороться за себя, иначе затрут. Пусть!» — забил он решительно последний гвоздь словом «пусть». И стал ждать.
Но ждать, к удивлению, пришлось недолго. Не прошло и месяца, как сначала шептуны, а потом и все заговорили о «Метрономе»:
— Слыхали про «Метроном»?
— Нет. А что это такое?
— Ну как же! Подметный журнал. Самиздатовский.
— Что вы говорите?! — захлебывались от сенсации. — Не может быть! Кто же?
— Воздвиженский!
— Воздвиженский?! Ну, это понятно… Однако… А еще кто?
— Чижиков там.
— И Чижиков? Ох-ты ёх-ты! Вот те и Чижик-Пыжик!
И смотрели теперь на Чижикова одни удивленно, другие презрительно, с укором, третьи, развеся губы, с завистью. А сам Чижиков еще и в глаза не видел этот «Метроном», пока тоже питался только слухами, но тем не менее упивался неожиданно свалившейся на него новой волной славы. Славы — да еще какой! Стихи Чижикова из «Метронома» чаще других упоминались — как откровенно негативные, диссидентские. Бросает Чижикова от таких разговоров то в жар, то в холод. Холодок страха все чаще забирается в трусливую душонку: уже явно кое-кто намекает, что за такие стихи по головке не погладят, тут наверняка могут и из комсомола турнуть, и из института выпереть, и вообще… И Воздвиженский, как нарочно, куда-то исчез — не встречается и на телефонные звонки не откликается, посоветоваться не с кем. Затаился где-то, что ли? А может, сбежал? И такие слухи ходят.
Что-то будет?!
Литературная Москва бурлила и пенилась, купаясь в слухах и домыслах вокруг «Метронома», выстраивая огромную пирамиду невообразимых домыслов, потому что, кроме начальства, никто этот журнал даже и не видел.
А начальство литературное полистало, полистало отпечатанный на ротапринте и сшитый крепкими капроновыми нитками журнал, почитало отчеркнутое красным карандашом и не знало, что делать. Возмутилось, конечно, расстроилось — неприятность, а что делать, не знает. Указаний конкретных нет и спрашивать неудобно. Наконец, решили посоветоваться. А им сказали: «Решайте сами, вашей епархии дело». Сами-то сами, а как? Хотя бы намек какой дали — как, что делать с этими отщепенцами: то ли пожурить только, то ли наказать на полную катушку, чтобы другим неповадно было? Время какое-то непонятное.
Собираются за закрытыми дверями, совещаются, спорят, ни к какому общему знаменателю не приходят и расходятся. А время идет, а слухи растут. Наконец решили: обсудить! Но не на самой верхней литературной инстанции, а начать это дело с более низкой ступени: если там произойдет какая осечка, они поправят. А может, за это время последует и более конкретное указание, тогда высшая ступень возьмет и опять же поправит низшую. А пока высшая будет наблюдать с высоты своего высокого положения, что будет делать низшая.
Итак, обсудить!
15
На обсуждение пришло неожиданно много людей. Обычно такой сбор бывает только перед выборами, когда каждый озабочен, чтобы его персону не забыли выдвинуть в руководящий орган. После выборов же все успокаивались и своими обязанностями манкировали, как могли и находили нужным. На заседания приходили обычно лишь в случаях личной заинтересованности. Технические секретари, когда нужно было провести очередное заседание, из сил выбивались, созывая своих членов: просили, уговаривали, умоляли прийти, чтобы собрать кворум. Некоторые приходили, кто поуступчивей, придет, отметится и, не добыв до конца, смывается под любым предлогом. Под конец заседания остаются один Председатель да его помощники.
А тут все явились! Да еще пришли заранее, заняли удобные места — поближе к руководящему столу, чтобы все видеть, все слышать из первых уст, чтобы рассказать потом об этом событии своим женам и знакомым в подробностях и со знанием дела. Сидят все торжественно-собранные, на лицах суровость и печаль, как у присяжных, которым выпала тяжкая доля разобраться в особо опасном преступлении и которым заранее известно, что им придется выносить смертный приговор. И они готовы к этому! Они суровы, но справедливы, каждый из них, не дрогнув, скажет: «Да, виновен!»
Метрономовцы, сбившись плотной кучей, сидели на стульях для приглашенных у самого входа. Они молча взирали на суровые лица избранных членов и обреченно ждали свой участи. Судя по строгой тишине, воцарившейся в комнате, ничего хорошего их не ожидало, никакого снисхождения им не будет, и потому многие в душе стали раскаиваться: зря влезли в это дело, не стоит оно той славы, какую они обрели. Испортили только себе карьеру, запятнали свою биографию. Вляпались, теперь долго не отмыться.
Воздвиженский тоже здесь, сидит среди простофиль сподвижников, выделяется своим спокойным простоватым видом.
Поглаживает бороду. Увидел: приуныли его соратники, решил приободрить.
— Не бойтесь, — сказал он вполголоса. — Ничего не будет. Поговорят, может, посовестят для порядка — и на том дело кончится. Я их всех знаю как облупленных — либералы, только строгость на лица понапустили. Сейчас либерализм в моде, а их хлебом не корми — дай только поиграть в либерализм, проявить заботу, участие, тем более что им это ничего не будет стоить, кроме усилия, которое придется затратить на сотрясение воздуха своим голосом. Жалеть будут — кайтесь, но с достоинством. Кающихся грешников любят, их потом осыпают всякими милостями. Вон тот, с челочкой и маленькими глазками, который сидит первый у председательского стола, — Философ. Злобный — не приведи бог! Если против него сказать что-либо, даже совсем безобидное — пиши пропало. Съест! Ходу не даст, в петлю загонит и даже после этого не успокоится. В литературу не пустит и из нее живым не выпустит. Опасный человек, и окружение у него мерзкое. Бойтесь его и остерегайтесь. Но нам сейчас бояться его нечего — против него мы не сказали ни слова, значит, он сыграет на нас свою любимую либеральную арию: «Добром по добру». Тума-а-ану напустит — ничего не понять! А цель жизни у него одна — свалить Председателя и занять его место. А тот вон, с бородкой клинышком, — критик, типичный эсер-либерал, даже прикартавывает зачем-то. Для аристократичности, что ли. Этот будет говорить много, витиевато, но конкретно ничего не предложит. Рядом с ним с поповской гривой — поп-расстрига, — такой же пустозвон. А вон тот, который суетится и всем кланяется, громила с усами, этот будет орать. Что орать — никто заранее сказать не может, смотря что найдет на него. Пуст, как барабан, обычно его никто не слушает и его речи в резон не принимаются. Сначала всех кидало в шок от его речей, пытались поправлять, а потом привыкли. Лысенький пуздрончик — редактор газеты «Литературные новости» — этот будет все время что-то записывать в блокнот и промолчит «с ученым видом знатока».
Метрономовцы повеселели, кто-то не сдержался и даже пырскнул от всех этих характеристик, но Воздвиженский шикнул на них, погасил преждевременное веселье и продолжал напутствовать и аттестовать остальных членов:
— Будьте серьезны и сосредоточенны, вид держите обиженных, но не покоренных — мол, стали жертвами объективных обстоятельств. Кто тут может врезать и всю обедню подпортить, так это вон тот усач с монгольскими скулами. Этот врежет! Ему что? Провинциал. У себя на родине он классик, и ему наплевать на столичные толки-кривотолки. Он живет далеко и еще в тех временах, когда рубили сплеча. Ишь, ишь, как глазами стрижет! Не нравятся ему мягкотелые собратья. А они и впрямь мягкотелые, как улитки: высунется из раковины, вроде и с рогами, а не страшна. Поводит, поводит ими, то один рог вперед выдвинет, то другой и тут же быстренько снова прячется в свою скорлупку, выглядывает оттуда осторожно. А этот — не боится! Ишь, ишь, как усами дергает, как разъяренный кот. Черный шаман какой-то, ему бы бубен с жестянками да колотушку поувесистей…
В кабинет вошел черненький, гладенький и блескучий, как пиявочка, человек. Глазки его сияли радостно и рот в улыбке был растянут до ушей, как у ребенка перед яркой игрушкой, хотя он конкретно еще никого не видел и лишь лихорадочно бегал глазами по всем — искал, к кому первому подойти и поприветствовать.
— О-о! — Воздвиженский тут же представил вошедшего: — Друг детей пришел! Гигант мысли! Целоваться любит — как сексуальная девица. Пока всех не обчмокает, не обсосет, не обслюнявит — не успокоится. Во-во! Пошел лобызаться! Тьфу, еще и до меня доберется… — И точно: не успел Воздвиженский проговорить это, как Друг детей склонился к нему, сказал ласково, будто ребенку: «Привет, Гошенька!», и смачно, натренированно-ловко чмокнул его в губы. После этого он, довольный, направился поближе к руководящему столу, уселся там на свободный стул и заоблизывался аппетитно, будто наелся любимого варенья. Все же остальные, достав платки, дружно, тщательно и брезгливо вытирали себе губы, щеки и, переглядываясь между собой, снисходительно улыбались.
В кабинет вошел Председатель и, не садясь в кресло, начал говорить. Гомон стих.
— Я сегодня, как всегда торо-о-плюсь… У меня сегодня просмотр моего фильма в два, поэтому давайте про-о-ведем заседание в темпе. Сказали, там будет большое начальство, поэтому сами понимаете…
В рубашке с расстегнутым воротником, в клетчатом потертом пиджаке, словно не на важное собрание пришел, а вышел прогулять любимую собачку, Председатель небрежностью в одежде подчеркивал свой демократизм. Вообще в писательской среде он слыл оригиналом и острословом. Для оригинальности он даже говор себе выработал необычный — некоторые слова произносил врастяжку, делая таким образом на них ударение. А иногда он забывал об этой своей оригинальности и шпарил как обыкновенный смертный.
— Итак, начнем. Дорогие товарищи, вы все знаете, по какому по-о-воду мы собрались: у нас слу-у-чилось серьезное ЧП. Да-да, именно ЧП. Иначе это явление и не назовешь. Группа литераторов во главе с поэтом Воздви-и-и-женским выпустила самиздатом журнал под названием «Метроном». Я читал этот, с позволения сказать, журнальчик и должен доложить вам, что он с душком. С бо-о-льшим душком. Попахивает от него, скажу я вам, сильно не на-а-ашим духом. И мы должны это дело обсудить и осудить… Да-да, и осудить. Дать ему принципиальную оценку вообще и каждому участнику — в отдельности. Ко всем, кто так или иначе принимал участие в выпуске этого «Метронома», мы должны высказать свое отношение. Название придумали непонятное — «Метроном». Ну что это? Смысл какой в нем? «Градусник», «Манометр», «Термометр»… Ну и что? Не смешно. Ладно. Давайте, кто хочет выступить? — Председатель сел, а в кабинете повисло долгое молчание. — Ну, кому слово? — он посмотрел на часы. — А то ведь я тороплюсь.
— Пусть сначала они сами объяснят свой поступок, — сказал усач с монгольскими скулами.
— Верно, — обрадовался Председатель. — Воздвиженский, расскажи нам, чем ты руководствовался, затевая это дело? Зачем тебе это было нужно? И вообще чего тебе не хватает? Расскажи.
— Вообще-то человеку всегда чего-нибудь не хватает, — сказал Воздвиженский, поднимаясь и пряча улыбку. — Человеку много надо.
— Это верно, — согласился с ним Председатель. — Ну а конкретно вот эта твоя затея?..
— Я не понимаю, почему эта невинная забава так всех всполошила? — пожал плечами Воздвиженский. — Всегда творческая молодежь играла в рукописные издания.
— Да! Но тенденция! Содержание какое у вашей этой забавы? Какую цель вы ставили?
— Только одну: обратить внимание на эту вот талантливую молодежь, которую почему-то затирают.
— Но ты мог бы по-другому это сделать, — сказал Председатель. — Пришел бы сюда, ра-а-ассказал бы об этом, и мы помогли бы.
— Ну, пришел бы я, поговорили бы мы с вами, на том дело и кончилось бы. Разве не так?
— Да, пожалуй, ты прав, — снова согласился с Воздвиженским Председатель и закивал горестно головой, призывая и других поддержать его: — Равнодушны мы еще, очень равнодушны, это верно.
— А вы что же, и себя считаете обиженным? — спросил усач с монгольскими скулами.
— Да, считаю, — сказал вызывающе Воздвиженский.
— Странно. Вас так много издают, печатают, так много пишут о вас, что порой совестно делается за вас.
— Не надо за меня совеститься… Я сам устыжусь.
— По-моему, разговор уходит в сторону, — подал реплику тот, что с эсеровской бородкой. — О Воздвиженском много пишут — значит, есть о чем писать: он талантлив и самобытен.
— Давайте его премируем! — с сарказмом бросил усач с монгольскими скулами.
— А что? Давно пора об этом подумать.
— Давайте по существу, — остановил спорщиков Председатель. — У кого есть вопросы? Или кто хочет что-то сказать.
— Разрешите мне, — поднялся усач с монгольскими скулами. — Мне надоели все эти загибоны и вихляния некоторых братьев по перу, надо с ними кончать. Вихляют, вихляют, мутят воду, а потом убегают за границу и там чадят… Тут пишут с душком, а там такие кадила раздувают, хоть святых выноси. Но некоторых я еще могу понять: кого-то обидели, а кто-то поехал там чего-то обретать. Родина, видите ли, где-то у него объявилась. Предки его сотни лет тут жили, тут их могилы, а он эту землю не считает родной.
— Я попрошу не делать такие обобщения и не шить нам политический разбой, — восстал Воздвиженский.
— А какой же это разбой, если не политический? — вскипел усач. — Ишь ты! Вы хотите свести все к мальчишеской забаве? Не выйдет, господин хороший! Игрушечки нашли!
— Федя, Федя, не надо так… — призвал оратора к спокойствию Председатель.
— Не могу я об этом спокойно говорить, — сказал усач, однако продолжал уже гораздо спокойнее: — Я что хочу сказать? Тех, некоторых, еще можно понять. Можно по-разному относиться к ним, но можно и понять. Некоторых. Но вот ты, молодой человек, — ткнул он пальцем в Чижикова. — Вот ты. Чего ради ты на свою родину обиделся?
— Она меня не понимает… — быстро ответил Чижиков, словно ждал этого вопроса. — И не принимает.
— В чем это выразилось?
— Меня категорически не хотят издавать.
— Ну, если сидит где-то в издательстве недоумок, отверг тебя, при чем же здесь родина, скажи на милость? Пришел бы сюда, к нам… Или в конце концов разделил бы гонорар с редактором, как я это делал… кх-кх… Ну, короче, можно же найти выход. А ты сразу: родина такая-сякая. Нехорошо! Короче. Я предлагаю: Воздвиженского из союза исключить, а остальным, учитывая их незрелость, вынести предупреждения с выговором.
— Ну Федя!.. — развел руками Председатель. — Впрочем, ладно. Кто еще хочет высказаться?
На своем стуле заерзал Философ.
— Пожалуйста, — кивнул ему Председатель.
У Философа были узко посаженные крохотные глазки-пуговицы, маленький остренький носик, похожий на трехгранное короткое шильце, и челка, спадающая на узкий лобик, как у бесноватого. Одно слово — философ!
Встал и, уперев глаза в стол, пошевелил в раздумье листки бумаги, наконец заговорил:
— Понимаете, в чем тут дело… Тут ведь не все так просто, как нам кажется, не все однозначно — и, стало быть, нет однозначного ответа. Вообще в жизни, я должен сказать, многое далеко не так просто, как нам это порой представляется. В природе, да и в обществе, все время идет борьба добра со злом, положительного с отрицательным… В космосе есть черные дыры и сверхъяркие звезды, свет и тьма, холод и тепло, смех и слезы, и так далее, и так далее. Добро и зло. Что это такое — никто не знает. Что есть что и кто есть кто? В электричестве два заряда — положительный и отрицательный. Какой из этих зарядов зло? Уберите любой — электричества не будет. Вот я и спрашиваю: кто может определить, кто скажет наверняка, что есть зло и что есть добро? Никто. Сегодня оно добро, а завтра оно зло. Дождь идет — кому-то во благо, а кому-то во вред. И в Библии говорится: не убий, не укради, не пожелай жену ближнего… Но это ладно, — отмахнулся Философ от какой-то мысли, как от мухи, и, обрисовав перед собой обеими руками нечто подобное шару, продолжал: — Жизнь сложная штука, товарищи. Священник при крещении спрашивает у новорожденного: «Веруешь ли?» И тот отвечает: «Верую». Вот и я говорю: в жизни не все так просто. Сегодня мы осуждаем что-то как зло, а завтра оно оборачивается добром, и наоборот: сегодня мы утверждаем это как добро, а назавтра оно оказывается злом. Тут надо разобраться: осудим сегодня, а завтра не придется ли реабилитировать? Оправдаем сегодня, а не придется ли раскаиваться завтра? Вот в чем вопрос, вот что меня волнует. Добро и зло — где они? Надо разобраться. Мы творим свои дела и говорим: «Это добро!» А они там воспринимают это как зло. Они творят свои дела и говорят: «Это добро!» А для нас — зло. Кто же прав? И где тот судья, который это рассудит наверняка? Так и здесь. Что мы имеем перед нами? Черную дыру или вспыхнувшую ярко сверхновую звезду? Я лично не знаю… — Философ развел руки и сел, застрочил что-то карандашом на бумажном листе — наверное, записывал очередную мудрую мысль.
— О-о-очень хорошо сказал, Жора. Как всегда, мудро и… ясно. Спасибо, — поблагодарил его Председатель. — Кто еще хочет выступить?
Друг детей давно уже прыгал на своем стуле и, как подхалимистый школьник, тянул нетерпеливо руку, но Председатель все почему-то не замечал его и только теперь разрешил выступить:
— Ну давай, ладно… Но — не длинно.
— Я коротко, — пообещал Друг детей. Поднялся, заулыбался скромно и застенчиво, склонил головку набок и заговорил медоточивым голосом, обращаясь к Председателю: — Я никогда не забуду вашу гениальную фразу, дорогой Филипп Филиппыч, сказанную вами в одном из выступлений. Вы сказали тогда: «Все люди в детстве были маленькими».
— Спа-а-а-сибо, — поблагодарил его Председатель. — Но разве я только одну фразу сказал гениальную? — вроде как с иронией заметил Председатель.
— Нет, что вы! — всерьез обеспокоился Друг детей и заторопился: — Вы все делаете гениально — ваши стихи, пьесы, повести, романы — все выше всяких похвал! Но эта фраза мне особо запала в голову: она ведь после моих постоянных повторений стала крылатой. Это гениально подмечено вами! Я бы только добавил к этому: «Скажи мне, кто твои дети, и я скажу…» Нет, нет… «Скажи мне, каким ты был в детстве…» Нет, нет, опять не то… Забыл… Зря не записал, понадеялся на память. Вспомнил! Вот оно: «Скажи мне, как ты относишься к детям, и я скажу, кто ты». Вот! Это тоже, мне кажется, очень тонко и очень мудро подмечено мною, о чем я не устаю говорить и говорю каждый раз, когда мне приходится выступать. Дети — наше будущее, товарищи!..
— Что верно, то верно, — сказал Председатель. — Но нельзя ли покороче? И поближе к делу.
— Все. Я кончил, Филипп Филиппыч. Спасибо за внимание.
— Спасибо тебе за короткую, но содержательную речь.
Друг детей расплылся в сладчайшей улыбке и, поклонившись Председателю, сел. А тот продолжал пытать собравшихся:
— Кто еще хочет что-то сказать? Только покороче, а то нас время поджимает. Никто не хочет? Ах, ты хочешь? Ну, пожа-а-а-луйста…
Поднялся критик с эсеровской бородкой. Встал, покачался немного с пяток на носки, словно пробовал прочность основы под собой, откашлялся, достал из кармана заготовленную речь, развернул и принялся читать ее убежденно, четко, делая ударение на каждом слове:
— Дорогие товарищи! Друзья! Я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что мы встретились сейчас с двумя аспектами одного и того же явления. Слушая выступающих и анализируя произошедшее, я взвесил на своих весах совести все «pro et contra», как говорили древние, и пришел к выводу, что этот аспект имеет ту особенность, что мы имеем дело с нашей же недоработкой. Это недоработка всех нас, и мы должны это признать со всей четкостью, со всей откровенностью, со всей принципиальностью, как бы нам ни было горько. Да! Воспитание, помноженное на заботу в отношении молодых литераторов, внимание, помноженное опять же на заботу в отношении литераторов старшего поколения, — вот критерии, вот наши принципы, которыми мы часто пренебрегаем. Здесь кто-то бросил реплику — а не премировать ли нам Воздвиженского? А что? Это было бы только справедливо: он давно созрел для премии, но его почему-то все время забывают выдвинуть.
— Правильно! — заорал в восторге Громила. Вскочил — высокий, нос большой, острый, похожий на железнодорожный костыль, глаза раскосые — один влево смотрит, другой вправо, жесткие черные волосы вразброс, как у дикобраза, руку выбросил вперед, повторил: — Правильно! Разрешите, я скажу. Я, понимаете, недавно со своей женой ездил за город… И там впервые в жизни увидел стадо телят, хотя писал о них много раз. Целое стадо! Такие милые мордашки! И вы думаете, они сами пасутся? Нет, их охраняют, оберегают, направляют три пастуха! А ведь еще есть там и ветеринар, и зоотехник, и бригадир, и сам председатель. А если дальше идти — там и райком, и райисполком… Вон сколько наставников у простых телят! Я не хочу, конечно, сравнивать наших (как их назвать?) клиентов с телятами, но вы посмотрите на эти лица. Это же замечательные ребята! И надо им помочь. Надо рекомендовать нашему издательству запланировать книжку Чижикова, выдвинуть на премию отличного поэта Воздвиженского, остальным — издать коллективный сборник. И это, товарищи мои дорогие, будет по справедливости, по-человечески, гуманно. Я кончил.
— Договорились! — возмутился усач с монгольскими скулами.
— Федя, Федя!.. Ну что ты все в оппозицию становишься? Обязательно тебе хочется выделиться, обязательно ты не как все.
— При чем тут оппозиция, едрена палка!
— Федя!
— Ладно. Молчу. Молчу, как рыба об лед.
— Вот и хорошо. Кто еще хочет выступить? — И тут же: — У меня вопрос к Чижикову. Чижиков, я много о тебе слышал — какой ты ори-и-игинальный поэт. И биография у тебя хорошая: круглый сирота, воевал с диверсантами. Братцы, ну что еще надо! Скажи мне… нам скажи: ты же не хотел оскорбить свою страну? Ведь верно, не хотел? Не хо-о-о-тел. По молодости это случилось, по глу-у-пости. Верно ведь, верно? — И Председатель, забыв выслушать ответ Чижикова, обратился ко всем: — Я ду-у-умаю, мы выводов делать никаких не будем, просто по-отечески пожурим. А?
— По какой молодости? — опять вскочил усач. — А этот? Он старше меня!
— Ну, Федя, не придирайся к словам. Одного по-отечески, другого — по-дружески, третьего — по-сыновьи. Чижиков, ты из-за книжки обиделся? Да?
— В какой-то степени и это, — сказал Чижиков.
— Стрекуленко, — обернулся Председатель к своему помощнику. — Запиши: завтра направить в издательство наше решение рекомендовать… Нет, не рекомендовать, а обяза-а-ать выпустить в будущем году сборник стихов Чижикова. — Обратился к присутствующим: — Все согласны? Согласны. Так. Ну вот видишь, Чижиков, а ты бросился в панику. Дальше что?
— Меня в союз не принимают, потому что у меня нет книжки, — дополнил Чижиков свои заботы.
— А мы иногда принимаем и без книжек. Был бы талант.
— Значит, у меня его нет?
— Этого никто здесь не говорил. — Председатель оглянулся вокруг себя. — Мы можем тебя и в союз принять. Сейчас как раз все в сборе, кворум полный. Стрекуленко, принеси бюллетени. Сейчас заполним и тайно проголосуем единогласно. Нет возражений?
— Но ведь по уставу для приема надо три рекомендации, — напомнил усач.
— А мы вот, пока Стрекуленко будет заполнять бюллетени, напишем рекомендации. Я охотно напишу.
— Правильно! — опять заорал Громила. — Вот это по-человечески, вот это гуманно! — и принялся писать рекомендацию. Критик тоже заскрипел пером. Воздвиженский, подмигивая Чижикову, потянулся к столу, взял листок, быстро начал строчить. И пяти минут не прошло, на стол перед Председателем легли шесть рекомендаций.
— Во, даже вдвое больше написали, чем надо! — обрадовался Председатель. — Но ничего, маслом кашу не испортишь. Стрекуленко, раздай бюллетени. А ты, Чижиков, чего сидишь? Заявление. Где твое заявление? Пиши быстро.
Стрекуленко прошел в одну сторону вдоль стола — раздал бюллетени, идя в обратную — собрал их. Положил перед Председателем. Тот принялся сам считать. Объявил результаты:
— Один воздержался, остальные все «за»! Воздержался, конечно, ты, Федя? Поздравляю, Чижиков!
— Спасибо, — сказал Чижиков.
— Вот так. Все?
Но Чижиков решил использовать это строгое судилище до конца. Пожаловался с печалью в голосе:
— Меня за границу не пускают…
— Ну, милый… Пушкин тоже не был за границей, а писал дай бог каждому.
— Сейчас не то время… Мир — на контрастах, и поэт должен эти контрасты знать, чувствовать, своими руками пощупать и с той, и с другой стороны.
— Нда… Это, конечно, верно, — закивал Председатель. — А ты просился за границу?
— Нет…
— Ну, милый! — развел руки Председатель. — А кто же знает, что ты хочешь куда-то поехать и куда именно?!
— Других посылают… Включают в делегации, а меня нет, ни одного предложения не было.
— Нда… Тут ты, пожалуй, прав. Но это легко поправить. Мы походатайствуем, ты скажи только, в какую страну и на какой срок хотел бы поехать. Стрекуленко, возьми на заметку Чижикова. Вот так. Дитя не плачет — мать не разумеет, — с упреком уже в свой адрес заключил Председатель. Он посмотрел на часы. — Да, пора кончать. Тут были де-э-эльные предложения. Мы их в рабочем порядке обобщим и оформим в виде постановления. Но одно предложение я хотел бы проголосовать. Кто за то, чтобы Воздвиженского на будущий год выдвинуть на премию? Так. Кто против? Воздержался? Ты, Федя? Упрямый ты все-таки человек. Стрекуленко, запиши: единогласно при одном воздержавшемся. Все. Редактора газеты прошу остаться.
Шумно загыргикали отодвигаемые стулья, и под крики громилы: «Правильно! Вот это по-человечески! Вот это гуманно!» — все медленно, устало потянулись к выходу. Некоторые, дойдя до двери, будто попав в водоворот, огибали стол и направлялись в обратную сторону — к Председателю, чтобы решить какие-то свои личные дела. Они топтались чуть поодаль от него, ожидая случая, когда попадут в поле его зрения. А тот отдавал последние распоряжения Стрекуленко и редактору «Литературных новостей» — брюхатому, меланхоличному и абсолютно безразличному ко всем литературным делам человеку:
— Стрекуленко подработает наше решение, а ты в ближайшем номере дашь его изложение. На заседании, мол, шел принципиальный, заинтересованный разговор. Участников осудили…
— Вас понял, — кивал редактор головой, словно китайский болванчик на пружинках, а сам думал, как бы поскорее оторваться от Председателя и уехать домой, где его ждали горячие вареники с сыром, которые теща обещала приготовить и которые он очень любил. — Вас понял, — повторил он.
— Эти признали свою ошибку. Были также рассмотрены некоторые организационные вопросы — приемные дела и выдвижение кандидатур на премию. Кого, что, куда — расшифровывать не надо.
— Вас понял, — снова кивнул редактор. — Можно идти? — обернулся к Стрекуленко: — Я завтра пришлю к тебе за решением. Пока. — И он закачался к выходу. Уже у двери услышал голос Председателя:
— Товарищи, товарищи, мне некогда: я и так опа-а-аздываю на просмотр. Другой раз, другой раз. Неужели вы не устали? Такое заседание было напряженное… Ну работенка, черт бы ее подрал! А никто и спасибо не скажет. Стрекуленко, я ушел, уехал. В общем, меня нет.
16
Вот так в жизни часто и бывает: не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Пойдешь по шерсть, а вернешься стриженым, сунешь голову в пекло, думаешь — сгорю дотла, а оно лишь тепленьким душиком тебя обдаст.
Доволен Чижиков своей аферой. Да и как не быть довольным! Его приняли в союз, теперь он обрел право предъявлять этой организации и Литфонду постоянные требования по обеспечению его всеми видами писчебумажного и продуктового довольствия от туалетных бумажных рулончиков до баночек с черной икрой, по надзору за его бесценным здоровьем — от удаления занозы из пальца до доставки в лучший крематорий столицы. И даже дальше — вплоть до установки каменного надгробья, которое полагалось теперь ему «по штату», и ежегодного выделения средств на очистку его будущей могилы от чертополоха и другой разной растительности, которая в обиходе именуется бурьяном. Но, разумеется, главным призом во всей этой шумихе была книжка. Правда, до нее еще было рукой не достать, она пока лишь замаячила где-то на светлом горизонте, но все равно: ради одного этого стоило играть не только в «Метроном», но и в игры более рискованные.
Однако Чижиков рано праздновал победу, уже на другой день до него дошел слух, что вчерашним секретариатом где-то остались очень недовольны, что его решение аннулируется и все будет переигрываться заново. И снова у нашего героя во рту пересохло, ноги обмякли, завихляли неуверенно по пути к телефону, тыкал дрожащим пальцем не в те дырки, пока наконец набрал номер Воздвиженского:
— Это вы? Это я… Чижиков… Правду говорят?..
— Правду, — прервал его Воздвиженский досадливо, будто Чижиков ему уже изрядно надоел. — Тебя приглашают? — спросил он чуть помягче.
— Нет.
— Ну и успокойся. Речь идет только обо мне. Не паникуй. Все. — И он повесил трубку.
А тем временем в прочных стенах старинного особняка, в котором размещался Союз писателей, висела тяжелая нервная обстановка: каждый был зол и раздражен случившейся оплошностью и искал, на ком бы отыграться.
Особенно напряжена атмосфера была в кабинете у Председателя. Здесь собрался «мозговой трест» секретариата: сам Председатель, его первый заместитель — Философ, Друг детей, усатый провинциал — Федя. Этот Федя давно уже стал москвичом, хотя считалось, что он все еще живет на своей родине. Так было удобно ему: он стриг двух овечек — родную и столичную, и было удобно союзу: всегда под рукой представитель «с места». Сидели здесь также Критик с эсеровской бородкой и большеносый Вышибала — подхалим и телохранитель Философа. Был здесь и не присутствовавший вчера «рабочий» секретарь — Мичман. Этот Мичман служил когда-то на флоте, ходил в политработниках и носил какое-то большое офицерское звание. Но потом его уволили с флота за тупость, а кто-то подобрал его и определил «в Вольтеры» к писателям. Здесь он получил негласное звание «мичман» и был известен всем под этим именем. Настоящей фамилии его никто не знал, а сам он смотрел на писателей сначала как на необученную разнородную массу новобранцев — салагу, а потом как на анархистскую братву и часто строго покрикивал: «Прекратить!», «Отставить!», «Разболтались!» Вот и сейчас он смотрел на всех строго и презрительно:
— Без-зобраз-зие! Такой политический ляп допустили! Недоумки, олухи царя небесного! Такой случай упустили!
— Ну, упустили… — соглашался с ним Председатель и смотрел на него виновато. — Упустили… А если разобраться — никуда мы его не упустили, догоним… Никуда не денется, все в наших руках. А как бы ты поступил на моем месте? Ведь никаких конкретных указаний не дали? — он кивнул на телефоны. — Значит, думаю, обсудить, но…
— «Но»! «Но»! — вдруг заскрипел зубами Философ. — Я не раз говорил тебе: твоя мягкотелость нас до добра не доведет! Властью надо уметь пользоваться. Для чего тебе поставлена «вертушка»? — он ткнул пальцем в белый аппарат с золотым гербом на диске.
— А ты? А ты — первый заместитель! Ты что-нибудь посоветовал? Стал тут размазывать свое «добро по добру». Какой ты помощник?
— Да кому и в чем помогать? Тебе на пенсию пора идти, дедушка добрячок!
— Вот-вот! Ты спишь и видишь, когда займешь мое место! Ну иди, иди, на, садись! — он приподнялся в кресле.
— Прекратите без-зобраз-зие! — рявкнул Мичман.
— Ребята, ребята! — всполошился Друг детей. — Ну зачем же так? Давайте спокойно, дружно… Ну не надо ссориться, прошу вас…
Воцарилась минутная тишина, которую нарушил усатый Провинциал:
— Я ведь говорил вчера, не послушали: на полную катушку надо было лупануть. И были бы на высоте.
— Ну, говорил… — плаксивым голосом сказал Председатель. — Говорил. И я говорил. Я правильно квалифицировал явление — как ЧП. То есть — как чрезвычайное преступление! Ну?
— Да… — подал голос Критик. — Опростоволосились, нечего сказать. Бес попутал. Премию… За что премию? Ведь пишет и заумно, и банально… Это ты виноват, — взглянул он на усача.
— Я-а-а?! — угрожающе стал подниматься со стула усач.
— Да, ты, — не испугался Критик. — Ты первый произнес слово «премия».
— Но в каком смысле!
— Все равно…
И тут прорвало Вышибалу:
— Да таких гадов!.. Таких подонков!.. — он нацелил указательный палец на то место, где вчера сидел Воздвиженский. — К стенке! И расстреливать без суда и следствия! А мы тут антимонию развезли. Стрелять гадов надо!
— Ну, стрелять… — усомнился Председатель.
— Да ты что? — пожал плечами Философ. — Ты что, метафоры не понимаешь?
— От такой метафоры, знаешь… — Председатель поежился.
— Вот я и говорю: тебе сестрой милосердия быть, а не судьбы людские решать. Да тем более — в такой обстановке.
— Ну, хватит, — сказал Мичман. Он посмотрел на часы: — Через пятнадцать минут придет Воздвиженский. Надо всем собраться и быть готовыми к единодушному строгому осуждению. Вплоть до исключения из союза.
— Да, да, — подтвердил Председатель. — Именно так ставится вопрос.
— Да его иначе и ставить нельзя, — сказал Критик.
— Я со всеми согласен… — поднялся Друг детей. — Только отпустите меня: у меня через полчаса совет «Красных следопытов». Дети ждут… Детишки…
— Ты же говорил, что он завтра будет? — напомнил ему Председатель.
— Нет, нет, на сегодня перенесли. ЦК комсомола перенес…
В этот момент вошла секретарша и положила перед Председателем записку:
— Телефонограмма от Воздвиженского.
Председатель стал долго смотреть в записку, Философ не выдержал:
— Ну что там? Читай вслух!
— «Прибыть на секретариат не могу. Заболел ».
— Врет! — догадался Вышибала.
— Издевается, — определил Философ.
— Вот вам! — злорадно сказал Мичман. — И что теперь будете делать? Я же говорю: упустили.
— Ничего. Перенесем на завтра, — сказал Председатель. — Еще и лучше: вы все подготовитесь как следует — напишете свои речи.
— А если он и завтра не явится? — спросил усач.
— Будем обсуждать заочно. А что делать?
— Правильно! — закричал Вышибала. — Вот это правильно! К стенке гада — и без никаких метафор.
— Ну вот, — обратился Председатель к Другу детей. — Как раз успеешь на свой совет.
Друг детей виновато осклабился и остался сидеть, а Председатель обратился к стоявшей все еще подле него секретарю:
— Пошлите Воздвиженскому четкую и категоричную телеграмму: срочно явиться завтра к четырнадцати ноль-ноль на секретариат.
— Иначе будут применены санкции, — добавил Философ.
— Не надо, — отмел с ходу это предложение Председатель.
— Опять «не надо»! — возмутился Философ.
— Ну о каких ты санкциях говоришь? Приводом, с милиционером приведешь, что ли?
Философ в ответ только крякнул и заходил нервно вдоль стола.
Несмотря на «четкую и категоричную» телеграмму, Воздвиженский на секретариат не явился. Не пришел он и на третий, и на четвертый день — он действительно болел. А появился он только через неделю, когда его «оппоненты» были уже накалены до такого предела, что коснись любого — искры полетят. Ах, как они злы были на этого отщепенца — целую неделю он держал их в напряжении, целую неделю каждый из них носил в кармане разгромную речь, как гранату на боевом взводе! Ну, они ему покажут где раки зимуют!
— Начнем, пожалуй, — сказал Председатель, открывая заседание. — Я говорил прошлый раз, что у нас случилось ЧП. Самое настоящее, серьезное ЧП. Но мы не сумели тогда дать этому точную оценку. Нас поправили. И правильно сделали. Кто хочет выступить?
— Так пусть он сам сначала скажет, — кивнул усач на Воздвиженского.
— Что я должен говорить? — спросил тот. — Я все сказал.
— У вас было время подумать и самому дать оценку своему поведению, — нагнетал обстановку усач.
— О чем думать? Какому поведению оценку давать? Все уже сказано! Мы что, дети?
— Вот теперь мне все ясно, — сказал угрожающе усач и медленно поднялся. — Разрешите?
Председатель разрешил.
— Так вот, дорогой гражданин хороший! Не принимайте нас за детей, а еще того хуже — за недоумков. Не таким рога скручивали. Нам все ясно. Ваши постоянные заигрывания, шашни с Западом, «смелые» высказывания и совращение молодежи с пути истинного — это все дела одного порядка: цепочка выстраивается очень четкая, знаете ли. Такое поведение ставит вас вне нашего союза! Вы не наш единомышленник. Я требую исключения Воздвиженского из Союза писателей, и пусть он идет к своим хозяевам туда, где ему любо.
— На что вы намекаете? — возмутился Воздвиженский. — Это клевета. Шить мне политическое обвинение!
— А вы думали как? — усач сел. — Только так!
— Кто следующий? — Председатель посмотрел на Философа.
— Я скажу… Я говорил уже, и вот подтверждается моя мысль: не все однозначно в этом мире. Ты делаешь добро, а получается зло, и наоборот. Субъективно Воздвиженский, может быть, творил добро, но объективно сотворил зло. И поэтому за такое добро надо отвечать как за зло, хотя, повторяю, субъективно он и прав, но… Поймите меня правильно… Если мы будем всегда становиться на субъективную точку зрения субъекта, мы никогда до истины не доберемся, нам нужна объективная истина, а ее мы выявим, лишь встав над субъектом, над фактом, над событием, над случившимся. И вот, встав на эту точку зрения, на эту высоту и взглянув беспристрастным оком на все это, я вижу: сотворено неправедное дело, наносящее вред, я не побоюсь этого слова — вред всеобщему нашему делу; он внес дисгармонию в наши ряды и нарушил привычное течение нашей действительности. А нарушать течение нельзя. Подопри, к примеру, речку плотиной — что получится? Она ее в конце концов прорвет и затопит пашни, селения, нанесет непоправимую беду.
— Ближе к делу можно? — не выдержал Председатель.
— Не мешай, — огрызнулся Философ и замолчал. — Вот сбил, понимаешь, мысль. Да, собственно, я все сказал.
— А предложение?
— Ясно какое… Поддерживаю.
— Ты? — Председатель поднял глаза на Критика.
— Я должен сказать… Что я должен сказать по этому поводу? Мне обидно. Обидно бывает, когда я вижу незаурядный талант и, как бы это выразиться?.. когда незаурядный талант уживается с непорядочными поступками. И когда я обращаюсь к писателям девятнадцатого века, и в частности к народным демократам, — там этого не было. Не бы-ло! Вот что странно!
— Нашел кого с кем сравнивать! — возмутился усач.
— Я — для контраста. И когда я говорю о таланте Воздвиженского, я не кривлю душой, но этот талант тонет, гаснет, меркнет, тускнеет, я бы сказал, размывается в нечто аморфное в тех неприглядных делах, которые он творит и которые составляют его путь, его славу. И получается: слава-то раздувается не по таланту, не за талант, а за дела совсем другого порядка. Нет, это несовместимо… Гений и злодейство несовместны. Это сказал не я, это сказал великий Пушкин — и он был прав. Гениальность мы должны отбросить, тем более что ее и нет, а злодейство надо наказать. Я — «за».
Когда таким образом высказалось уже человек семь, Председатель поднял Друга детей:
— Ты?
— Я все сказал прошлый раз…
— Понятно. Ну что… По-моему, все ясно, будем закругляться?
— Как? — поднялся Вышибала. — А я? Даром сижу тут?
— У тебя речь написана? Может, передашь ее стенографисткам? Ведь главное — стенограмма.
— Нет, я хочу сказать!
— Ну ладно, валяй.
— Я коротко. Тут пытались некоторые разводить антимонию: талант, народные демократы… То, се. Какой талант? Да таких талантов у нас пруд пруди! Настоящие таланты не замечаются, а тут — гений! Поджигатель, вредитель — он же портит молодые таланты. А взять меня, к примеру, или мою жену? Кто нас хоть раз назвал талантами? Никто. А почему? Да потому, что мы честные труженики и «не нужен нам берег турецкий». А хоть маленькую премиюшку нам дали? Нет, дулю с маком. А тут — премию! К стенке таких надо! А пока — исключить!
— Хорошо. Будем голосовать? — спросил Председатель.
— Да, хватит. Все правильно, — сказал Мичман. — Политическая оценка дана правильная.
— Хорошо. Значит, предложение было одно: исключить. Кто «за»? Единогласно. Кто против, воздержался? Нет. Хорошо…
— А может, он хочет что-то сказать? — проявил чуткость усач.
— Мне нечего сказать, — поднялся Воздвиженский. — Думаю, когда-нибудь вам будет стыдно за этот спектакль. — Он подошел к столу, положил перед Председателем членский билет.
— Это что? — удивился тот.
— Билет.
— Но, может, еще наше решение не утвердят.
— Утвердят, — сказал Воздвиженский и вышел.
Усач покрутил головой:
— Ну, фрукт! «Пожалеете».
— Никогда! — сказал Вышибала.
— Перед историей мы как-нибудь оправдаемся, — заметил Критик. — Не обмишулиться бы перед начальством!
— История, — произнес Философ, — она разберется. Она возьмет все в совокупности: время, ситуацию, общую философию и потом уже расставит каждого по полочкам.
— Главное, чтобы дети нас правильно поняли: дети — наше будущее, — сказал Друг детей.
— Ну, ладно… — подвел итог Председатель. — Вы тут оставайтесь, если хотите, а я побежал: мне надо доложить, а потом у меня просмотр… Пока.
17
Чижиков дрожал напрасно: секретариат поступил мудро, отделив пастуха от стада, пастыря от паствы, овец от козлищ, заблудшую молодежь от прожженного соблазнителя, искусителя и развратителя нравов. Разделили — одного наказали, других поощрили, того исключили, этих приняли, вы наши, а тот не наш, вы, ребятки, хорошие, а тот дядя — плохой. Будете вести себя умненько, получите пряник.
Чижикова такой порядок вещей вполне устраивал, тем более что вскоре он этот пряник получил — в виде книжечки его стихов.
Вот она, желанная-долгожданная, — беленькая, глянцевая, с терновой веточкой на обложке! Удивительно только, почему по такому случаю земля не содрогается и небо не трескается? И люди ведут себя как обычно, будто ничего не случилось. Наверное, не дошло еще, не осознали, современниками какого события они оказались.
«Вот она! — нянчил он книжонку на ладонях. — Вот она! Кому бы швырнуть ее под нос? Нате, гады, читайте, завидуйте!» Некому швырнуть под нос…
Казалось, цель достигнута, можно было бы и успокоиться. Но не таков стал Чижиков, чтобы удовлетвориться завоеванным, он уже знал: в нашем деле остановиться — значит безнадежно отстать. Поэтому на людях он не плясал от радости и не выказывал телячьих восторгов, наоборот, он по-прежнему демонстрировал недовольство и маску обиженного не сбрасывал. От Воздвиженского публично не отмежевывался, но и не демонстрировал свою приверженность к нему, держался золотой серединки. О книжке своей отзывался скептически: мол, издатели нарочно испортили ее — выпустили в малом объеме да и стихи оставили в ней не самые лучшие.
Короче, он продолжал играть в сиротство, так как по опыту знал, что от счастливчиков и удачников друзья, если им ничего не перепадает от этой удачи, быстро отворачиваются, а дружба быстро охладевает и оборачивается в свою противоположность. А бедненьких жалеют, приголубливают, сиротам помогают, нищим подают. Блаженных у нас любят. Так что лучше уж прибедниться, чем кичиться успехами — такова метода всех скупцов и нахлебников.
Таким образом, Чижиков не только не сматывал свои удочки, но, наоборот, добавлял к ним новые, более совершенные, с крючками более солидными и с наживкой более изощренной. Да ему и было еще что ловить. В первую очередь надо было заарканить критиков, которые пока прикидывались глухими и слепыми: книжку его они «не заметили», о стихах Чижикова упоминали редко, да и то с разными оговорками и даже с остроумными шпильками в их адрес. Время критиков еще не пришло, и чтобы их зацепить, Чижикову надо было основательно, до посинения подежурить у лунки и до седьмого пота поиграть блесной перед их носами, пока хоть один из них набросится на его наживку. И если такой найдется — считай, дело сделано: тут же среди них начнется свалка, они станут остервенело отнимать его друг у друга и спорить до скончания века, кто первый сказал «а». Но такого пока не находилось. Им все мало! Или выжидают что-то? «Кому бы швырнуть эту книжонку, в кого бы запустить ею?»
И тут он вспомнил свою «малую родину». Вот откуда начинать надо, вот кого удивит он, вот где разинут рты! Тощенькая, правда, книжонка, да ничего, главное — фамилия его четко напечатана на обложке и внутри стихи — столбиком, лесенкой, как у Маяковского. «Ничего! — рассудил он. — Провинция, для нее достаточно и этого, там все сойдет за звонкую монету! Пусть знают Чижикова!»
И он послал сестре свою книжку с уверенностью, что она обязательно обегает с нею всех соседей и всех родственников, оповестит о ней своих подружек. Ах, как бы он хотел видеть их лица, когда они будут брать в руки книжку и читать на обложке «Юрий Чижиков»! Особенно хотел бы он видеть лица Лизки и ее матери — Натахи Пузыревой — вот им отмщение за то унижение, которому они подвергли поэта, накрыв его письмом банку со сметаной!
Послал книжку сестре, послал «родной школе» и еще один экземпляр направил в районную редакцию — редактору, «учителю от ученика» — скромно напомнил он о себе, хотя толком и не знал, работает ли все еще тот редактор и вообще жив ли он, но послал с таким прицелом, что в любом случае в редакции увидят книжку и непременно сообщат о ней в газете. Вот тут-то и узнают о нем его бывшие друзья и подруги, вот и пусть покусают себе локти от зависти!
Через день вспомнил и послал еще — сразу два экземпляра, оба в городскую библиотеку. Рассудил: одну для выставки на стенде «Наш земляк — писатель», а другую для выдачи читателям.
Послал книжки на родину и ждет отклика оттуда. Однако отклика не дождался, а заявился неожиданно к нему в комнату здоровенный детина с обветренным загорелым лицом, с огромными потрескавшимися ручищами и с короткой старомодной стрижкой. Вошел, заулыбался по-родственному. Пахнуло на Чижикова чем-то знакомым, но не узнает он, кто это, смотрит на гостя растерянно, не знает, как себя вести.
— Че остолбенел? — прогудел гость. — Зазнался, своих не признаешь? Гераська я.
— Гераська?! — удивился Чижиков и протянул ему руку. А тот руку его ударом ладони отбил в сторону, облапил Юрку, похлопал по спине:
— Худой какой! Че так-то? Харчи плохие? Привез вот, — указал он на чемодан. — Подкормлю!
— Гераська! — все еще не верил своим глазам Юрка.
— Был Гераська, стал Герасим Петрович! Но для тебя — Гераська, конечно.
— Откуда ты? — спросил Чижиков.
— Приехал на слет передовиков. По-довоенному — стахановцев!
— Ты — передовик?
— А то как же! Иначе жить не умеем. — Герасим открыл чемодан, вывалил на стол сало, колбасу домашнюю, пироги румяные. — Ешь! Зови друзей. Все свое, не купленное.
— Придут сами! За ними дело не станет. Странно: как ты нашел? И ничего не сообщил, не предупредил?
— А зачем? Хотел, чтобы ты не скрылся. Ты же чего-то скрываешься? Чего ты боишься? Даже на похороны матери не приехал. То ж ты совести боишься? Нашкодил и глаз теперь не кажешь. Зря. Уже все забыто.
— Ладно, не надо об этом, — попросил Чижиков.
— Не надо так не надо, — согласился Герасим. — А о чем можно? Твою книжку у сеструхи видел. Хоть бы мне прислал.
— Как она там?
— Кто, Ксюха? Ничего. Трудно ей, конечно. Приехал бы, посмотрел, подсобил бы ей.
О Гераське Чижиков слышал давно, еще мать как-то писала, что тот выучился, работает сталеваром, зарабатывает хорошо и дома хозяйством занимается — огород, поросенка каждый год выращивает. Женился, дети есть.
— Бабушки тоже, брат, уже давно нету. А она тебя любила! Помнишь, пирожками угощала? Вот такими. Только у нее были получше — пышные, мягкие, будто поролон. А вкусные! И не черствели. А эти, наверно, уже как подметка, — он взял пирожок, разломил, одну половину сунул себе в рот, другую отдал Юрке. — Не, ничего, есть можно. Ну, рассказывай, как живешь.
— Да вот так, — Чижиков обвел руками комнату. — Жизнь студенческая — известная.
— Скоро кончишь?
— Последний год.
— А потом?
— Не знаю.
— Ну как же: «Не знаю»? Направление дадут?
— У нас не дают.
— Не дают? Чудной институт. А как же? Сам, значит, как хочешь устраивайся.
— Это сложная штука, Герась. Наша профессия… Тебе не понять ее.
— Так уж и не понять? Ну, ладно: не хочешь — не говори.
Вскоре набежали студенты — веселый народ, вечно голодный, набросились на угощение: пироги быстро растаяли, как и не было. Сало едят, похваливают — никогда не ели такого.
— Свое, не купленное. Сам кабана смолил! — гордился Герасим. — Это тоже целая наука — кабана зарезать да в дело произвести.
Посидел, пошутил с ребятами, засобирался:
— Интересный вы народ, хорошо с вами, а только и честь надо знать: пора мне.
— Оставайтесь здесь!
— Нет, пойду. У меня ведь в гостинице такой апартамент — ковры, ваза в углу вот такая пузатая, лампа чудная на столе! Это ж все надо обжить? Пойду. А ты, Юрок, завтра вечерком ко мне приезжай, поговорим. Не придешь — обижусь.
Чижиков пообещал приехать.
— Приходи, посмотришь, в каких хоромах теперь рабочие живут. Раньше, видать, там богатеи — купцы, аристократы разные жили. Говорят, развлекались по-своему: девок горчицей мазали. А теперь мы там, простые рабочие. Но, правда, без девок. А горчица есть! — Герасим засмеялся, пожал всем руки и ушел быстро.
На свидание к Герасиму Чижиков шел охотно, еле дождался вечера — соскучился по родному. А от Герасима здорово повеяло родным — давним, дорогим, незабываемым: родной поселок, детство, бабушка, пироги — все вспомнилось, всколыхнулось, заныло сердце тоской.
У входа в номер он столкнулся с горничной, которая пристально посмотрела на Чижикова и почему-то разочарованно хмыкнула.
— Чего она? — удивился Чижиков.
— Это я ее нашпиговал. Сказал, что у меня будет очень важный гость — знаменитый поэт. Вот она и пялила на тебя свои зенки. Садись! — Герасим широким жестом указал на стол, который был накрыт самым шикарным образом.
— Зачем ты? — удивился Чижиков.
— А че нам? Давно не виделись, посидим, поговорим по-родственному.
— Но все это?
— Как говорят: фирма за все платит.
— Какая фирма?
— Моя. Я хорошо, Юрок, зарабатываю. Жалиться грех. Доволен и работой, и семьей. Это тоже важно. Все пока идет, тьфу-тьфу, отлично.
Они сидели за столом, закусывали, разговаривали. Герасим пытался выведать у Юрки, как тот живет, как думает дальше жить, но Чижиков отвечал неохотно, неопределенно и всякий раз делал кислую мину.
— Че-то, я смотрю, у тебя настроение не шибко боевое? — заметил Герасим.
— Так жизнь-то не радует, как хотелось бы, — приоткрылся Чижиков.
— Недоволен чем-то? Обидели тебя?
— Было и это…
— То-то ты и стишки какие-то мерзкие про страну написал?
Чижиков вскинул удивленные глаза:
— Откуда знаешь? Дошло и до вас?
— Дошло, — сказал Герасим огорченно. — Что хорошее не дойдет, а плохое быстро распространяется. Поганое радио передавало.
— Да? Ты слушаешь его?
— Я нет. Но есть такие, которые слушают. Так чем же тебя обидели, может, скажешь.
Поежился Чижиков, не хотелось ему раскрываться перед Гераськой — он ведь все равно не поймет его тонкую мятущуюся поэтическую душу. Но делать нечего, решил объяснить этому мужлану, сытому и довольному, свои воззрения на действительность.
— Жизнь, понимаешь, не нравится мне. Не так мы живем… Не так!..
— А как надо? Сыты, одеты, обуты… Чего еще надо? — насторожился Герасим.
— «Сыты»… Да разве в сытости суть жизни? Духу развернуться негде, мыслям нет свободы.
— Как это? Ты ж вот мысли свои мне излагаешь? И пишешь — печатают.
— «Печатают»… Печатают не все. А что я пишу? Я же пишу не то, что хочу.
— Почему? А ты напиши.
— Ну, скажи, разве это жизнь? Твоя вот, например? Ты света белого не видишь, вкалываешь во все лопатки, чтобы накормить семью. У тебя же нет никакой духовной жизни!
— Как же никакой! Я газеты выписываю, книжки читаю. В кино в клуб ходим. А телевизор?
— Телевизор надо уничтожить. От него сплошной вред: он разъединяет людей и отупляет всех посемейно и каждого поодиночке. Мы хотим… Я хочу, чтобы ты жил свободно, раскованно, чтобы тебя ничто не тяготило, не заботило. Отработал, скажем, шесть часов — и все! Гуляй!
— Как? Пить, што ли?
— А пьют отчего? От духовной скованности, от тоски, от душевной неустроенности. Что ни говори, а вот там люди раскованнее. — Чижиков, видать, захмелел или завелся — начал выкладываться.
— Там? Может быть… Не был, не знаю. Читал только. И знаешь, не нравится мне ихняя раскованность. Живут они, верно, побогаче нашего… А может, не столько богаче, сколько — чище, культурнее. Экономнее. Рассказывают: там человек вот так не выложит на стол перед гостем и поллитру ему не купит. Разве это жизнь? Со стыда сгореть можно. И что ж, думаю, у них идет такое не от хорошей жизни? А как те живут, которые безработные? Нет, мне то не подходит: там рабочему человеку защиты нету, ему пожалиться на обиду некому. Я тут сплю спокойно: у меня есть моя работа. Есть сегодня, завтра и на всю жизнь. И детям будет. А там один работает, а другой ждет, когда того выгонят, чтобы занять его место. Разве не так?
— Зато там дорожат работой и делают свое дело качественно.
— Тут есть твоя доля правды, — кивнул согласно Герасим. — Разбаловались у нас многие, работают шаляй-валяй, знают: выгнать — не так просто, а если и выгонят, в другом месте возьмут. Тут што-то делать надо: дисциплина у нас хромает, верно. Но из-за этих нерадивых и пьяниц менять нашу на ихнюю жизнь я несогласный.
— Темный ты, Герасим… Дальше своего корыта видеть ничего не хочешь. Мы хотим тебя вытащить…
— Не надо никуда меня тащить. Ты сам себя вытащи, оглянись и подумай: чего ты хочешь, от чего ты стонешь? Не от жиру ли? Не от раскованности ли этой самой? Может, тебе подковаться надо? Я, брат, знаю одно правило в жизни: человек работать должен. Работать! И мне нравится это житейское правило: я люблю работать. Странно? А вот люблю! И не понимаю тех людей, которые не любят трудиться и нелюбовь эту возводят в правило, ищут оправдательную теорию.
— Может, ты и прав. Но ты ведь многого не знаешь, не видишь. Некоторые узурпировали власть так, что дальше некуда. У нас, например, в писательском мире: сидящие в креслах — они же и гениальные, они же и талантливые, они же и незаменимые — издаются, переиздаются, сами, жены, дети, денег невпроворот, живут за казенный счет: дачи, курорты, заграницы — все им!
— Нехорошо! А куда же вы смотрите? Ты говорил об этом на собрании, скажем?
— Хм!.. Попробуй скажи…
— Ломать такое дело надо. Ломать! А ты в панику ударился: сразу туда заоглядывался. А там, думаешь, щук нету? Там такие акулы, почище ваших, и там не своротишь, там власть ихняя. А ваших можно тряхнуть! — сказал Герасим жестко.
— «Ваших». А у вас на заводе разве нет такого?
— Случаются… Не без того: зарвется какой, соблазнится дармовым богатством. Но у нас быстро это дело разоблачается: рабочему терять нечего, его с «должности» не снимут, поэтому он говорит напрямую. У нас, к примеру, много безобразиев в торговле. Хоть каждый год меняй их. Год поработает, смотришь — уже зажил не по карману. Я думаю: тут деньги всему виной. Предполагается что? Человек лучше сработал — больше получил, больше получил — больше истратил. Лучше живет тот, кто лучше работает. Это теория, а практика показывает другое. Оказывается, деньги можно приобрести и не работая — украсть, спекульнуть, взятку взять. Вот в чем беда. Контролировать трудно, откуда деньги. Не наше все-таки это изобретение — деньги, их ликвидировать надо. Ленин правильно предвидел, надо товары распределять по труду и по едокам.
— Левацкий загиб. Ничего не получится. Уравниловка, — отмел Чижиков предложение Герасима.
— Может быть, — согласился Герасим. — Тут я не специалист, это большая политика. Тут надо иметь большую голову. Но меня вот какой интересный вопрос трогает, и ты мне ответь, если, конечно, можешь. Почему вот, к примеру, ты ни черта не делаешь, учишься, государство тебя учит за свой счет, кормит, и тебе жизнь не нравится? А я вкалываю, как черт, как ты говоришь, дома с хозяйством чертуюсь, детишек ращу — у меня их уже трое! — и мне жизнь нравится. Как вот это ты мне объяснишь? Э-э… Не объяснишь! А я дам тебе объяснение: от испорченности все это у тебя, с детства в белоручки себя готовил, от безделья, от лени. Жить хочется во как, — Герасим обвел комнату рукой, — а работать — пусть дядя. Потому и заглядываешься на тех, кто купается в роскоши, зависть гложет тебя, и злишься от того на всех и вся — не терпится выскочить туда же.
— Тебе не понять… — отмахнулся Чижиков.
— Опять мне не понять! — усмехнулся Герасим. — Что же я, неужели уж такой тупой?
— Дело не в этом. Живем мы с тобой в разных измерениях, как на разных планетах.
— Э нет! — не согласился Герасим. — Живем мы с тобой на одной земле и даже в одном государстве, и связаны мы с тобой одной веревочкой, не только родственной, а… вообще. Постой, постой, не уходи, — остановил он Юрку, заметив, что тот начал вставать. — На прощанье я хочу тебе дать один добрый совет. Кончишь институт — возвращайся домой: надо тебе специальность твердую добывать. Твердую, крепкую, для жизни пригодную. А то ты совсем от жизни оторвался — и писать тебе не о чем.
— Ладно, подумаю, — сказал Чижиков и резко поднялся. Ему стало скучно с Герасимом. — Пойду, уже поздно, — он протянул руку Герасиму. Тот машинально взял ее.
— Я тебе дело советую, — продолжал Герасим, не выпуская его руки из своей шершавой ладони. — Подумай всерьез.
— Я же сказал — подумаю, — с досадой проговорил Чижиков. — До свиданья.
— Прощай, — сказал Герасим грустно: он видел, что весь разговор пропал впустую, ушел как в песок.
Да иначе и быть не могло: говорили они действительно на разных языках. Если Герасим — передовик, «маяк», искренне верил в то, что утверждал, то у Чижикова все было напускным, заемным, он лишь играл роль «бунтаря», «оппозиционера», желая поразить родственника своей смелостью и оригинальностью мышления.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
После столь шумных событий, которые свалились на Чижикова, он и впрямь возомнил себя и знаменитым, и талантливым, и вообще — не от мира сего. Уже и словечка в простоте не скажет — все свысока, все якобы с подтекстом, иносказательно, все с фанаберией. В этом упоении славой он запамятовал даже основную заповедь Доцента — жениться со смыслом и с большим значением. Думал: «Все! Схватил фортуну за шиворот, крепко держу, не вырвется! А все остальное — трын-трава, в том числе и женщины…»
Женщины!.. К ним Чижиков не был равнодушен, наоборот, он питал к ним страстное желание, с наслаждением и умело флиртовал, ловил призывный взгляд красавиц и охотно отвечал им взаимностью, быстро воспламенялся и слыл изрядным ловеласом. Однако, страдая комплексом неполноценности, он все-таки женщин побаивался. Часто в последний момент, там, где другого уже и силой не оттянуть, Чижиков умел увильнуть, увернуться, уйти. При этом он ухитрялся так обставить дело, будто виновата во всем была она, и уходил он с видом обиженного и разочарованного, оставив бедную женщину в недоуменном негодовании на самое себя: она и мысли не могла допустить, что мужчина может отказаться от нее в такой момент без достаточных на то причин. Она ведь не знала, что Чижиков не годился ни для любовной игры, ни тем более для длительной борьбы. А он так поднаторел в этом своем притворстве, что только опытная женщина могла понять и разоблачить его. Но странное дело: когда ему такой финт не удавался, он напрягал все свои силы — моральные и физические, вызывал в памяти самые впечатляющие сексуальные сцены, виденные когда-либо, становился злым, страстным до исступления и опять же — как ни странно — добивался успеха!
Но это ему дорого стоило: после таких «стрессов» он впадал в длительную спячку и потом еще долго бродил с блеклыми глазами снулой рыбы, — тупыми и бессмысленными, как у сомнамбулы. Силы его восстанавливались медленно — неделя, а то и две миновало, пока он не приходил в норму.
Пожалуй, именно по этой причине, а не по забвению тянул он и с женитьбой: боялся оконфузиться. Да и как натуру эгоистическую его вполне устраивало холостяцкое бытие: обременять себя семьей, сковывать свою свободу Чижиков не хотел. Сейчас он для всех, и все для него одного, а появись она, да с правами на его суверенитет, его тут же опутают ненужные ему обязанности…
Может, Чижиков так четко и логично о своей женитьбе и не рассуждал, но подспудно что-то все-таки его сдерживало, и вслух, и про себя на этот вопрос он отвечал лениво: «Авось как-нибудь обойдусь и без этого…»
Но жизнь подпирала — надо было привязывать себя к столице покрепче. Не возвращаться же ему после института на далекую периферию?! Тем более — он уже достаточно заявил о себе здесь, его уже знают. А там? Там вообще такие игры не пройдут: наша провинция, к счастью, еще не очень отравлена абстрактной мазней и шизофреническим бредом разных бездарей, выдающих себя за новаторов, там пока умеют распознавать безвкусную поролоновую жвачку от настоящей конфетки, а, распознав, тут же, без всяких церемоний, умеют и выплюнуть ее, присовокупив к этому просторечное словцо: «Дерьмо!» А то присовокупят что-либо и покрепче.
О милая наивная провинция! Да сохранит тебя судьба в такой чистоте как можно дольше!
Чижикову, разумеется, она такая не подходила: вернись он туда — значит подвести под собой черту. Он это прекрасно знал. Ему нужна была столица. Только столица! Столицу надо было оседлать, притом прочно и навсегда! Но как? Рассчитывать, что после таких стихов и такой его славы Моссовет преподнесет ему на блюдечке с голубой каемочкой ордер на отдельную квартиру и постоянную прописку, конечно же было глупо. Играть и дальше на сиротстве — значит раскрутить себя в обратную сторону почти на полный оборот, значит отказаться от достигнутого. Откажешься, а что завоюешь? Да и завоюешь ли? Нет, надо свою линию гнуть и дальше, не метаться из ряда в ряд, как таксист, догоняющий свой план.
Как же быть? Неужели женитьба — единственный способ покорения столицы?
И тут, как часто в жизни и бывает, вдруг появляется Гоподин Великий Случай!
Ох уж этот случай… Его почему-то ни философы не жалуют — не принимают всерьез как важную философскую категорию, ни в обыденной жизни к нему нет почтения. «Так, — говорят небрежно, — случай помог». Или: «Все это произошло случайно», т. е. как бы поэтому и не заслуживающее внимания. Особенно не любят случай ученые-литературоведы. Если они наткнутся на таковой в каком-либо произведении, автору несдобровать, вовек ему этого не простят. «Это же всего лишь случай!» — будут возмущенно восклицать. Случай — это, мол, такое явление, которое ниоткуда не вытекает и никуда не впадает.
А зря они так думают. Нам ведь только кажется, что мы сами делаем свою судьбу, что все из чего-то вытекает и обязательно куда-то должно впадать, притом исключительно в заранее намеченное. Нет, если пораскинуть умом да проанализировать свою жизнь — легко заметить, что все, что мы из себя представляем, что получили, чего достигли, что утеряли, — все делал он — Господин Великий Случай!
Вспомните, сколько раз вы случайно не погибли, хотя были на краю пропасти, на волоске от смерти? Сколько раз пуля случайно пролетела мимо вашего уха и скольких она случайно отправила на тот свет? Вспомните, сколько раз случай преподносил вам разные сюрпризы — и радостные, и печальные, большие и незначительные, одни из которых быстро забывались, а другие, перевернувшие всю вашу жизнь, запоминались навсегда.
Случай — штука очень серьезная: его ни предугадать, ни предусмотреть, а тем более запланировать совершенно невозможно. Как он случается, кого, когда, где и с чем подкарауливает — никому знать не дано. Случай — великая тайна природы.
Говорят: «Сделай то-то и то-то — и ты будешь застрахован от всяких случайностей». Абсурд! От всяких застраховаться нельзя, а лишь от тех, которые можно предвидеть. Но это уже будет не случай, случай же всегда неожидан, непредвиден и непредсказуем.
Однако вернемся к нашему герою. Мы ведь не трактат философский задумали, а решили проследить судьбу человека по фамилии Чижиков. Теоретическое отступление нам понадобилось единственно, чтобы оправдаться перед критиками: делайте с автором что хотите, но Чижикову помог случай.
Да ведь в жизни часто так и бывает: один, и достойный, и талантливый, бьется, бьется, старается выбиться в люди, а ему, как заказано, — не везет, и все тут. А другой… Народ это явление — с другим — метко определил в поговорке: «Дурак дурачится, а к нему счастье катится». Однако мне нравится вот эта, более определенная для таких случаев: «Матушка рожь, за что кормишь дураков?»
Какая из этих поговорок сейчас больше применима к Чижикову — трудно сказать. Хотя что касается меня — я адресовал бы ему их обе сразу да еще присовокупил бы и третью: «Умный поп тебя крестил, да напрасно не утопил». И этого было бы мало: хочется мне выразиться по его адресу как можно крепче. Но пока воздержусь, может, я и не прав. Пусть время покажет.
2
Институт был в трауре: умер уважаемый преподаватель Евсей Евсеевич Евтюхов, «Три Е», а чаще просто «Евтюх» — так звали его студенты. Это был старейший поэт, в двадцатые годы он был даже довольно популярным под именем Иван Босых. Но со временем поэт в нем угас, и Евтюхов принялся сочинять статьи на тему: «Как делать стихи». А в последние годы и эта тема иссякла, и он перешел на мемуары. В институте старик вел творческий семинар — учил молодых поэтов мастерству. И хотя эти семинары походили скорее на часы воспоминаний, чем на творческие дискуссии, студенты не сетовали: они любили старика — он был добр и знающ. Да и послушать его было интересно: все-таки в наше время уже не так часто встретишь человека, который был современником Маяковского, Есенина, Горького. Можно сказать — живая память, живая реликвия. И вот этот поэт умер.
Гроб с телом умершего был установлен в конференц-зале, преподаватели и студенты поочередно несли вахту в почетном карауле. Был в их числе и Юрий Чижиков. Нацепив на рукав красную в черном окаймлении повязку, он стоял у изголовья покойного, грустно смотрел на желтое высохшее лицо учителя и думал, всерьез думал о смерти: как бы ни жил человек, а конец один — смерть. Несправедливо… Потом он, чтобы отогнать мрачные мысли, перевел глаза в сторону, увидел массу людей и себя на некотором отдалении от всех, с повязкой на руке, в почетном карауле, и сердце его тут же стало наполняться гордостью: как-никак, а он выделен и наверняка уже одним этим останется в истории, тем более вон и фотограф постоянно слепит глаза магниевыми вспышками — снимает для истории. Чижиков поднял голову повыше, натянул на лицо надменную маску, но вовремя одумался, вспомнив обстановку, быстро сменил маску — принял скорбное и задумчивое выражение, вперил глаза куда-то в пространство.
Пять минут пролетели быстро — как одно мгновение, Чижиков даже не успел в полную меру насладиться тем высокомерным чувством, которое охватило его в карауле. Но делать нечего, он медленно отступил от гроба, его место занял другой студент. Фотограф к этому времени уже перестал щелкать аппаратом, и Чижиков окончательно успокоился.
Лилась скорбная музыка. У стены сидели женщины в траурном, и среди них одна в большой кружевной черной шали. Она сидела нагнувшись, плакала и неотрывно держала руку с носовым платком у рта. Шаль закрывала почти все ее лицо. «Наверное, жена… — подумал Чижиков. — Бедная старушка…»
Музыка неожиданно смолкла. К микрофону подошел директор — высокий, сухопарый, не намного младше покойного — и без всяких предисловий стал говорить хорошие слова об усопшем. Потом от преподавателей института выступил давний Юркин знакомый — Доцент, от имени студентов прощальную речь сказал Иван Егоров и от Союза писателей — председатель мемуарной секции. Это был худенький, потертый временем, никому не известный писатель. Фамилию его директор с трудом прочитал по бумажке — настолько она была незнакомой, и пока старичок шел к микрофону и разворачивал трясущимися руками текст своей речи, фамилия его успела напрочь всеми забыться. Затем директор объявил, что панихида закончена, и попросил посторонних покинуть зал, чтобы дать возможность родным и близким попрощаться с покойным. Все медленно потянулись к выходу.
В коридоре директор обернулся, увидел Чижикова, поманил к себе:
— Чижиков, попрошу тебя не уходить: поедешь в крематорий — надо проводить Евсея Евсеича до конца… С тобой поедут еще несколько хлопцев из разных курсов. Автобусы во дворе.
— Хорошо, — согласился Чижиков и заспешил вниз по лестнице.
Во дворе стояли два автобуса и несколько легковых автомашин. Чижиков не торопился занимать место в автобусе, ждал остальных «хлопцев», над которыми он почему-то мыслил себя главным. Ждать пришлось долго, он уже начал терять терпение, когда наконец дверь распахнулась и из нее повалил народ. Потом наступила короткая пауза, и в дверях показались рабочие, которые, согнувшись, кряхтя и понукая друг друга, волокли закрытый гроб. С трудом протиснувшись сквозь узкий проем двери, они приподняли его и понесли к ближнему автобусу. Открыли задний люк и нацелили туда гроб, всунули краем, а потом с силой толкнули его, и он исчез где-то в глубине автобуса. Шофер с грохотом захлопнул люк, а рабочие стали отряхиваться, будто они грузили пыльные мешки.
Чижиков хотел поначалу сесть именно в этот автобус, но теперь заспешил к дальнему: он все-таки боялся покойников.
Автобус уже был почти весь заполнен, сидели здесь и «хлопцы», которые на Юрку не обратили почти никакого внимания. Чижиков прошел через весь салон и занял место в самой глубине.
Настроение почему-то испортилось. То ли потому, что он почувствовал себя одиноким, оттертым на задний план, то ли подействовала вся эта панихидная процедура. Он скис, ругал себя, что так легко согласился ехать в крематорий. «В крематорий?! Зачем?..» Он никогда там не был, знал лишь, что в нем сжигают трупы, но как это делается — не имел представления. Ему виделась большая кочегарка и в ней огромная топка с пылающим жаром, куда рабочие запихивают, будто бревно, гроб, и он горит. «А может, и того хуже… Может… Зачем же гроб сжигать, добро портить? Может, покойника вынимают и голеньким бросают в огонь?..» Ему сделалось дурно, он хотел выйти, но автобус уже тронулся, и Чижиков плюхнулся в кресло.
3
Когда приехали в крематорий, Чижиков скрылся за автобус и простоял там, пока все не прошли в здание. Отдышавшись, вышел на открытое место, стал независимо прохаживаться. Через какое-то время дверь крематория неожиданно открылась, и на крыльце появился Доцент. Здоровенный детина с отвисшей нижней губой, он поддерживал совсем бездыханную вдову Евтюхова. Было такое впечатление, будто он нес ее, безжизненную, под мышкой. Увидев Чижикова, Доцент обрадованно окликнул его:
— Юра, ты здесь? Вот хорошо. Помоги…
Чижиков подбежал, взял женщину под руку, и они вдвоем потащили ее к директорской машине, усадили на заднее сиденье.
— И ты, Чижиков, садись в машину — будешь сопровождать Данаю Львовну домой… Директор велел, — сказал Доцент нахально твердым голосом и тут же обратился к шоферу: — Отвезешь — и быстро обратно. Директор велел. Понял, нет? Давай!..
Машина выкатила на улицу и понеслась. Шофер, видать, знал, где жил Евтюхов, гнал машину уверенно. Выехав на Ленинский проспект, у одного из перекрестков съехал на маленькую дорожку, потом вильнул во двор и почти в самой глубине его остановился.
Чижиков помог Данае Львовне выбраться из машины, повел ее в подъезд. Шофер прокричал вслед:
— Вас ждать? — это относилось к Чижикову, но Даная Львовна опередила его, вяло махнув рукой, — уезжай, мол, не жди.
Опираясь на Юркину руку, она сама вызвала лифт, нажала кнопку этажа и, пока лифт поднимался, стояла склонив голову. В коридоре Данаю Львовну качнуло, Чижиков вовремя поддержал ее — слабенькое, худенькое тело невесомо повисло у него на руках. Он помог ей снять пальто, шаль и, поддерживая, повел ее, или, вернее, она повела его (он шел сзади), в спальню. Там Даная Львовна, тяжело вздыхая и постанывая, медленно опустилась на кровать.
Комнату угнетал полумрак — широкое окно было закрыто тяжелой, как театральный занавес, шторой. Чижиков стоял, не зная, как быть, что делать. Повернуться и уйти — вроде неудобно, и он робко спросил:
— Может, окно открыть?
— Нет, нет, — встрепенулась она. — Не надо. Я не люблю яркий свет. Присядьте, пожалуйста. Вас, кажется, Юрой зовут? Я слышала, как вас позвал Доцент.
— Да.
— Присядьте… — совсем упавшим голосом проговорила она.
Юрка оглянулся, глаза его уже привыкли к темноте, он увидел кресло, сел осторожно. От нечего делать водил из стороны в сторону головой, рассматривал комнату. Над кроватью во всю стену висел ковер, ближе к окну стоял большой шкаф, а за Юркиной спиной из конца в конец тянулись стеллажи, набитые книгами. Что за книги — не понять.
— Вам плохо? Может, врача вызвать? — догадался спросить Чижиков.
— Нет, не надо… Вы, наверное, есть хотите? Там на кухне…
— Я не голоден, — поспешил он отказаться и поднялся: — Если вам… Может… Я, пожалуй, пойду?
— Что вы?! — вдруг вскочила Даная Львовна и завопила испуганным голосом: — Не оставляйте меня одну! Я боюсь!.. Я умру… Прошу вас — не оставляйте меня.
— Ладно, ладно… — Юрка чуть ли не силой уложил ее снова в кровать, успокоил: — Не волнуйтесь, я посижу. — И, опускаясь в кресло, подумал: «Вот это влип! Хорошенькое дело — сторожить старуху. Как бы не пришлось и ночь тут коротать. А вдруг с нею что-нибудь случится?..»
Через какое-то время она подала голос:
— Вы позвоните домой, чтобы не беспокоились…
— Ничего… — сказал Юрка обреченно и пояснил: — У меня нет дома, я живу в общежитии.
— Тем более. Прошу вас: не оставляйте меня. Идите разденьтесь. Дверь на цепочку закройте… Похозяйничайте, пожалуйста… Слева по коридору комната. Там диван и чистая постель в ящике. Располагайтесь как дома. Это комната сына Евтюхова, он в ней живет, когда приезжает. Пожалуйста, прошу вас, не оставляйте меня одну на ночь…
— Хорошо, — сказал Чижиков. — Я все сделаю. Лежите спокойно.
— Пожалуйста… Я вот немного приду в себя, встану — чаю согрею…
— Не беспокойтесь, не надо. — Чижиков вышел в коридор, включил свет. Коридор был длинный. У самой двери стояла вешалка, возле нее — трюмо с фигурными флакончиками и пудреницами на полированной полочке, по другую сторону вся стена до потолка была закрыта полками с книгами. «Старик любил книги!» — с уважением и завистью подумал Чижиков и подошел поближе. От полок несло лежалой старой книжной пылью. Зато от вешалки и от трюмо исходил терпкий устоявшийся запах французских духов, запах этот был до того густой, что от него немного тошнило.
Чижиков снял пальто, туфли, остался в одних носках, но, заглянув вниз под вешалку, увидел несколько пар тапок, выбрал себе по ноге, направился в свою комнату. Открыв дверь, он невольно зажмурился — такой яркий свет брызнул ему в глаза. Заходящее солнце светило прямо в окно и заливало всю комнату светом и теплом. Юрка прошел к окну и оттуда стал рассматривать свое прибежище. Комната была на редкость уютной: диван, письменный стол, шкаф с книгами и малогабаритный красненький телевизор. Стул, кресло и прижатый диваном к стенке полированный ящик для белья. «Боже мой!.. — у Чижикова невольно заколотилось сердце, будто перед ним обнажилась желанная женщина. — Как уютно! Мне бы такую комнатушку — ничего больше не надо! Тихо, светло, уютно — сиди и пиши! Боже мой, живут же люди! Неужели я никогда не добьюсь ничего такого?» Он сел за стол, потом в кресло — все удобно, приятно. «Вот это жизнь!»
Солнце ушло, но комната от этого не стала менее привлекательной, наоборот, в ней обнаружилась новая прелесть: резкость и блеск высвеченных вещей исчезли, появилась какая-то мягкость в тонах, которая навевала легкую грусть. Чижиков сидел — наслаждался недолгим чужим уютом, невольно размечтался.
Сумерки сгущались, а вскоре и совсем стемнело, а он все сидел и думал о чем-то. Наконец очнулся, вспомнил, где он находится, вскочил: «Однако надо проведать бабулю… Как она там?»
Тихонько, по-кошачьи прошел к ее комнате и в свете, падавшем из коридора, увидел, что постель была уже разобрана, а Даная Львовна лежала под одеялом, накрывшись с головой. Ее одежда комом была брошена на кресло.
— Вы, Юра? — спросила она, слегка пошевелившись. — Вам что-нибудь надо?
— Нет. Я просто хотел спросить, может, вам нужна какая помощь. Вам лучше?
— Спасибо… Мне ничего не надо. Ложитесь, отдыхайте. Уже, наверное, поздно?
— Да… Уже ночь… Вам дверь закрыть?
— Нет, нет…
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Он вернулся в свою комнату, постелил постель, выбрал в шкафу книгу, погасил яркую люстру и включил бра над головой. Выключатели были расположены удобно — вставать не надо, стоит лишь протянуть руку, и они мягко отвечали на легкое прикосновение.
Книга не читалась, она лежала нераскрытой на его груди, а он смотрел в потолок и мечтал: «Живут же люди!..»
Постепенно стал одолевать сон, и Чижиков, отложив книгу, выключил свет.
4
Спать не спал, уснуть еще не успел, как в комнату вбежала Даная Львовна и, дрожа всем телом и испуганно что-то восклицая, юркнула к Чижикову под одеяло, сжалась комочком, вдавилась в него:
— Спасите меня… Спасите… Мне страшно… Я боюсь, я боюсь… Я не могу… Мне холодно… Согрейте меня…
От неожиданности Чижиков подался к стене, приподнялся было на локте, но она обвила его рукой за шею, прижалась плотнее и, колотясь в ознобе, продолжала умоляюще шептать:
— Спасите меня… Спасите… Мне холодно… Согрейте… Ну, пожалуйста, согрейте…
Отступать было некуда, и Чижиков протянул руку, хотел поправить одеяло — подоткнуть его края, чтобы ей не дуло, протянул руку и нечаянно коснулся ее тела. Оно неожиданно оказалось нежным и гладким, как бархат, и Чижиков зашарил по нему лихорадочно, поглаживая и успокаивая бедную женщину. Легонькая, мягкая рубашоночка ее закаталась почему-то почти до самой шеи. Он хотел оправить эту тонкую, как папиросная бумага, одежонку, но Даная сделала движение рукой, приподняла на секунду головку — и рубашоночка куда-то исчезла.
— Согрейте меня… — продолжала она трепетно шептать, прижимаясь к нему как можно плотнее. Юрка обнял ее, сжал крепко, стараясь согреть Данаю своим телом. — Спасибо… Ой, какой вы тепленький… Ласковый… желанный… Согрейте меня… Согрейте… Ой, что же вы со мной делаете?.. Ой, что же это я делаю?.. Спасибо… Спасибо, миленький… Какой ты!.. Ой, спасибо… — Она целовала его как безумная. Исцеловала ему губы, глаза, потом шею, грудь, живот. И тут же, на его животе, свернувшись калачиком, она затихла, успокоилась и очень быстро уснула. А он лежал не смея шевельнуться, чтобы не разбудить ее, смотрел в потолок и пытался понять случившееся. Но Чижиков не просто думал, он прежде всего торжествовал победу: впервые женщина оказалась слабее его, уснула усталая, а он, еще полный сил, покровительственно берег ее покой. Чувство настоящего мужчины наполняло его сердце. Однако когда возбуждение понемногу спало, на смену торжеству пришло разочарование, в душу вливалось ощущение, будто совершил он что-то мерзкое, неприятное, стыдное. Ночь ведь не вечно будет длиться, настанет утро, день, будут встречи с людьми… Как это все будет выглядеть?
«А кто узнает? — начал он утешать себя. — Утром пораньше сбегу отсюда — и делу конец, и все будет шито-крыто». На том и успокоился, уснул.
Проснулся Чижиков мгновенно. Что его разбудило — неизвестно, а только вскочил он как ужаленный, открыл глаза и увидел за окном день в полном разгаре, а в комнате стояла чужая тишина.
«Проспал!.. — досадливо подумал он, готовый избить себя за беспечность, и стал быстро собираться. За стеной послышался голос хозяйки — она, видать, разговаривала по телефону — благодарила кого-то за сочувствие и соболезнование, после длительных пауз то и дело повторяла печально:
— Спасибо… Да, да… Спасибо — мне лучше… Спасибо… До свиданья…
Стараясь не шуметь, чтобы не привлечь ее внимания, Чижиков быстро оделся и, подойдя к двери, прислушался. Убедившись, что в коридоре никого нет, он тихонько открыл дверь, прошел на цыпочках к вешалке, нагнулся, чтобы надеть ботинки. Но не успел сунуть ногу в ботинок, как услышал совсем рядом тихий и ласковый, словно весенний ветерок, женский голос:
— Юра, уже уходите?..
Застигнутый врасплох, Юрка на какое-то мгновение затаился, как божья коровка, поморщился конфузливо, будто застигли его за неприличным занятием, медленно распрямился. Поднял глаза на Данаю — и от неожиданности, как от вчерашнего солнца, невольно прикрыл глаза рукой: перед ним стояла красивая молодая женщина! Длинная шея и миловидное личико с чуть заметным румянцем на щечках выглядели такими чистыми и такими белыми, будто были выточены из мрамора. Тонкий прямой носик был настолько нежным, что, казалось, крылышки его светились насквозь. Белым-белые волосы, по-утреннему еще не прибранные, шелковисто блестели. И недоплетенная, лежавшая на левом плече коса, и упавшая на правое ушко небольшая скобочка-прядка волос, и обрамляющие лоб игривые завитки-колечки — вся эта легкая небрежность ее прически не только не вредила ей, но, наоборот — казалось, именно в этой небрежности и крылась та особая необъяснимая притягательная прелесть, которая заставила Чижикова остолбенеть.
Но больше всего Чижикова потрясли глаза Данаи: огромные, обрамленные длинными ресницами, в них туго сидели крутые белки, подпирая изнутри тонкие веки. И тем ярче светились на этом белом фоне большие ясно-голубые радужные «плошки». И было в этих глазах столько нежности, кротости, какой-то детской наивности и вины, что у Чижикова невольно вырвалось:
— Это вы?!
В ответ чувствительные губки ее чуть вздрогнули, на щеках обозначились стыдливые ямочки, а ресницы скромно прикрыли глаза.
— Не уходите… — попросила она тихо.
— Мне на занятия нужно.
— Успеете. Я кофе приготовила…
Даная смотрела умоляюще на Юрку.
— Нет, нет, — забоялся он почему-то и принялся быстро одеваться. Она стояла рядом — в длинном, до пят, домашнем халатике, на плечи был накинут кружевной черный шарфик — траур. — Мне нужно, — сказал Чижиков, пряча глаза.
— Какой вы чистый, нетронутый, незапятнанный… И добрый… Вас сам бог мне послал… Не судите меня строго… — Глаза ее наполнились слезами.
— Ну что вы… — промямлил он.
— Добрый мой ангел и… спаситель… Не забывайте меня, приходите. Придете?
Юрка неопределенно двинул плечами.
— Пожалуйста, приходите… Звоните… Вот вам, — она сунула ему в кармашек пиджака визитную карточку и прильнула щекой к его щеке. Он затаился, руки сжал в кулаки, будто оцепенел.
— Простите… Мне пора…
— Звоните…
— Ладно.
Он выскочил на лестничную площадку и, не обращая внимания на лифт, побежал вниз по ступенькам, будто за ним гнались. Шапка сползала то на лоб, то на затылок, он поправлял ее, а потом и совсем сдернул, понес в руках. И на улице не сел в троллейбус, пошел торопливо к метро пешком. В вагоне забился в уголок, искоса поглядывал на окружающих, прятал глаза, будто все знали, откуда он едет и что с ним произошло.
А почему взбудоражился, чего испугался, что его потрясло, и сам понять не мог. И в институте нервничал. Когда в коридоре его встретил губошлепистый Доцент и спросил: «Ну как, жива вдовушка?» — Чижиков покраснел до ушей, ответил коротко:
— Жива. — И хотел было уйти, но Доцент не отпустил его:
— У Евтюха был хороший вкус, правда? — Доцент ехидненько улыбнулся: — Ребята говорят…
— Перестаньте! — вдруг взвизгнул Чижиков. — Я не люблю пошлость! Тем более в такой ситуации: у нее ведь горе, умер близкий человек! Муж умер! А вы…
— Подумаешь, — спокойно сказал Доцент. — У каждого кто-нибудь когда-нибудь умирает. И ничего. — Он взглянул на Юрку и снова улыбнулся сладенько. — Не злись. С тебя еще будет причитаться! Спасибо мне скажешь!
Чижиков махнул досадливо рукой, ушел: ему больше всего не хотелось, чтобы хоть кто-то узнал о его тайне.
5
В свою общежитскую комнату Чижиков вернулся раньше других, пометался из угла в угол, словно шакал в клетке, завалился на постель и вскоре уснул. А утром проснулся как ни в чем не бывало: совесть утихомирилась, на душе было легко и светло, и все вчерашнее ушло куда-то вдаль и в небыль. Сокурсники ни о чем не спрашивали, и он окончательно успокоился: «Было и не было… Все!» Однако ближе к вечеру все случившееся у Данаи неожиданно стало всплывать в памяти и волновать. Но не совесть терзалась, а сердце — заходилось в желанной истоме. Тайком извлек из кармашка карточку, прочитал:
«Евсей Евсеевич Евтюхов
(Иван Босых)
поэт
доктор филологических наук»
От карточки несло запахом Данаи — и дурманило голову. «Позвонить?.. Нет, неудобно… Но она ведь сама просила. Так быстро — неудобно». И он с трудом сдержался — не позвонил в тот день. Не позвонил и на другой, и на третий. А через неделю уже не решался звонить, потому что слишком затянул и ругал себя за нерешительность, за робость. «Ну при чем тут Евтюхов? — глушил он голос своей совести. — Его ведь нету, а она есть! И мне с ней было хорошо!» Он закрывал глаза, вызывал в воображении Данаю — и млел от желания новой встречи. Гибкое, податливое нежное тело женщины, искавшей у него защиты, и он, впервые ощутивший себя настоящим мужчиной, — что может быть желанней! «А какая комнатулька! Снять бы ее?..» Он просиял от счастливой мысли и не без иронии подумал: «Да вместе бы с хозяйкой!» Улыбнулся, но тут же посерьезнел, боясь спугнуть удачу. «В самом деле, зачем ей одной такая квартира? Вот хорошо бы было!» И Чижиков стал лихорадочно искать повода для новой встречи, но его не было.
И вдруг — звонок! Кто-то из студентов крикнул за дверью:
— Юрка!.. Сирота, тебя к телефону!
Телефон висел в коридоре в специальной нише, которая на длину шнура была сплошь исписана разной цифирью. Стены здесь красились ежеквартально, но уже через неделю на них не оставалось живого места. Комендант корил студентов за безобразия, но повесить у аппарата маленький блокнотик с отрывными листочками не догадывался.
Вызов к телефону всегда действует как удар: на его зов человек вскакивает, словно ужаленный, бросает любую работу, прерывает на полуслове любой разговор и бежит к аппарату. «Телефон!» — и все должно тут же замереть, умолкнуть, прекратить дышать. Чижиков не был исключением, телефонному синдрому он был подвержен не меньше, чем другие. Поэтому неудивительно, что он слишком торопливо вскочил и побежал по коридору. Он понятия не имел, кто звонит и зачем, но бежал. И вдруг услышал в трубке ее голос! Тихий, нежный, робкий:
— Юра?..
— Да…
— Здравствуйте, Юра. Почему вы не позвонили?
— Я хотел… Но мне казалось… Я подумал — неудобно…
— А я все эти дни думала о вас…
Чижиков оглянулся по сторонам, сказал тихо в самую трубку:
— И я — тоже…
— Ну?..
— А позвонить постеснялся…
— Ой, какой вы!.. — Она выдержала паузу, затем сказала: — Вы знаете… Я хотела обратиться к вам за помощью.
— Пожалуйста! — с радостью вырвалось у него. — Я готов!
— Евсей Евсеич о вас всегда хорошо отзывался и всегда вас выделял из всех студентов. Поэтому я и решила обратиться именно к вам…
«Неужели правда — он обо мне помнил?» — приятно удивился Чижиков. И хотя в это мало верилось, тем не менее по душе разлился благостный елей тщеславия: «А почему бы и нет? Вполне могло быть».
— Я знаю из его слов, что и вы уважали «Евтюха», как любовно звали его студенты.
— Да, это верно: я очень… любил его. Он был необыкновенный… — тут же подхватил ее игру Чижиков: — Он был талантлив, он много знал и щедро делился своими знаниями. Другие подшучивали над стариком, я же никогда этого не поддерживал. Наоборот…
— Я это знаю, — перебила она его, и Чижиков сконфуженно умолк: не переборщил ли он в излияниях своей любви к Евтюху? Тем более что все сказанное им было откровенной ложью: относился Чижиков к Евтюху как и все, а может, даже и хуже. — Вот поэтому я и решила обратиться именно к вам за помощью. У Евтюхова осталась незавершенной большая работа — его мемуары. И кроме того — у него огромное количество записных книжек. Настоящий клад! Я хочу все это подготовить к публикации. Но мне необходима квалифицированная помощь — одной не справиться. Не могли бы вы мне помочь? Посмотрели бы все опытным глазом и хотя бы посоветовали, что стоит, что куда?..
— Охотно помогу вам! Это ведь святое дело!
— Спасибо. Я знала, что вы добрый человек и не откажете мне.
— Как можно?.. — танцевал Чижиков у телефона, представляя себя и Данаю за разборкой архива писателя: вот сидят они головка к головке над пожелтевшим блокнотом, водят пальчиками по выцветшим строчкам, пальчики случайно соприкасаются, между ними пробегает ток, и… блокнотик отодвигается… И так изо дня в день, изо дня в день, пока он не приручит ее окончательно. — Я готов хоть сейчас, как скажете. Когда вам удобно?
— Сегодня — нет, — сказала она печально. — Сегодня Евсею Евсеичу исполняется девять дней… По христианскому обычаю, в этот день устраивают поминки. Я вас приглашаю: приходите к семи вечера в ЦДЛ — в зал на веранде. Я познакомлю вас с хорошими людьми. Хорошими и нужными. Придете?
— В ЦДЛ? — Чижиков замялся. — Неудобно как-то, там всегда много наших.
— Ой, какой вы!.. Приходите, я буду вас ждать. Хорошо? Я не прощаюсь… — Она отключилась, не дав Чижикову ответить. Он долго держал трубку у нагретого уха, слушал тревожные короткие гудки и думал, как быть. Потом наконец повесил, подошел к окну, стал смотреть на улицу и взвешивать все «за» и «против» — идти или не идти? В ЦДЛ действительно бывает много знакомых — преподаватели, студенты. Пойти — значит обнаружить себя, выдать свои отношения с Данаей, дать пищу разговорам, домыслам, а это может помещать затеянному делу, может сорвать операцию, спугнуть такую лакомую дичь. «Нет, не пойду», — решает он категорично. Но тут же появляются новые сомнения: «А вдруг на этих поминках окажется кто-то пошустрее меня, пойдет ее провожать да и застрянет там?» Чижикову сделалось дурно от этой мысли, он закрыл глаза и, покрутив головой, застонал, заскулил, как замерзший бездомный пес.
«Хорошие, нужные люди… Пусть, не в них сейчас дело, никуда они не денутся, сейчас надо ее словить и обротать. Но как? Как это сделать наверняка? Как?!!»
Он вернулся к телефону, набрал номер.
— Даная Львовна… Простите меня, пожалуйста, но я прийти в ЦДЛ не смогу. Нет, нет… Я знаю нашу братию и не хочу, чтобы ваше имя трепали… К сожалению, у нас еще очень много пошляков.
— Пожалуй, вы правы… — сказала она, чуть помедлив. — Мне в моем положении надо быть осторожнее… Спасибо. Вы не только добрый, но и умница. Спасибо.
— А работать с вами я готов в любое время. Хотите, сегодня вечером, хотите, завтра с утра.
— Лучше завтра.
— Хорошо. Я приеду утром. Рано! — крикнул он радостно и торопливо повесил трубку, чтобы Даная не успела ответить. Повесил и заулыбался довольный: «Ах, как ловко я ее подцепил! Особенно этим «рано!». По крайней мере, теперь она уже не решится никого оставить у себя до утра!»
6
Ночь Чижиков провел как в бреду: в голове роились картины встречи с Данаей одна другой трепетнее — даже в горле пересыхало. Он несколько раз вставал, гасил любовный жар холодной водой, остужал разгоряченную голову. Жалел, что не пошел на поминки.
«А что, как и в самом деле сейчас у нее какой-нибудь «утешитель»?» — пронзила вдруг молнией ревнивая догадка и тут же стала обрастать любовными сценами, на какие только была способна разгоряченная фантазия Чижикова. Он чуть на стенку не полез от бессилия и досады и снова, уже в который раз, побежал в умывальник, чтобы сунуть голову под кран.
«Нет, так нельзя… — пытался угомонить себя Чижиков на манер индийских йогов: — Мне надо спать… Мне ведь надо выспаться, чтобы быть в форме. Спать… Спать… Спать…» Но сон не шел. Лишь перед рассветом он забылся коротким и беспокойным сном, но тут же пробудился и больше уже не пытался уснуть: за окном разгорался день. Он встал, кое-как по-быстрому умылся и побежал на первый трамвай.
У заветной двери перевел дыхание, принялся охорашиваться. Вскинул голову — поискал кнопку звонка и вдруг увидел в дверях маленький стеклянный глазок. Увидел и растерялся, как перед живым наблюдателем. Хотел было закрыть его ладонью, да раздумал: «Ребячество». Позвонил и стал ждать. Шаги послышались издали — значит, она не наблюдала за ним. Он приосанился, принял озабоченно-деловое выражение и уставился в одну точку: именно таким она должна увидеть его через дверной «бинокль». Но дверь открылась неожиданно быстро, и перед ним предстала Даная во всем блеске своей красоты: беленькая, чистенькая, глазастая! Шелковисто-белые волосы, зачесанные назад, на затылке были схвачены специальной заколкой и выглядели воинственным гребешком, как на шлемах римских легионеров. Виски и лоб украшали маленькие игривые завитушки. Одета Даная была в просторный халат, сшитый из дорогого материала, наподобие поповской ризы. Он и длинен был, как риза, и рукава широченные, тоже как у ризы.
Чижиков невольно зажмурился, как от яркого солнышка, не смея переступить порог.
— Ну же, проходите, — поторопила она его тихим голосом, призывно улыбаясь.
Он вошел в коридор и снова остановился.
— Какой у вас халат шикарный!
— Нравится? Это я сама делала! «Клеопатра» называется.
— Сами делали? Ну!.. — Чижиков хотел польстить ей, но не нашелся и только покачал головой.
— Раздевайтесь, — опять поторопила она его мягким, как заячий мех, голосом. — Проходите, — счастливая улыбка не сходила с ее лица.
Он разделся, пригладил волосы рукой и последовал за ней. Думал, она ведет его в рабочий кабинет, где стол завален пожелтевшими от времени, пыльными папками, блокнотами, тетрадями, но она привела его на кухню, где был накрыт обильный стол.
— Позавтракаем, — сказала она. Видя его растерянность перед обилием еды, пояснила: — Это я вчера из ресторана привезла. Садитесь. Будьте хозяином. Наливайте, — указала она элегантной ручкой на бутылку с коньяком и две миниатюрные хрустальные рюмочки на подносе. Но Чижиков не торопился становиться хозяином: во-первых, боялся оконфузиться, во-вторых, опасался поспешностью выдать свои сокровенные планы и спугнуть удачу. Он играл роль ошеломленного простачка:
— Нет… Неудобно… С утра пить?..
— Ой, какой вы! — улыбнулась она. — Вы совсем-совсем нетронутый еще мальчик, ничем не испорченный. Удивительно, как вы сохранились? — она сама потянулась к бутылке и налила аккуратненько в обе рюмочки по самые краешки коньяк. — За вас! — подняла она свою рюмочку. — Оставайтесь таким.
— Да хорошо ли это? — заскромничал он. — Ведь это провинциализм…
— Нет, в вас другое, — возразила она. — В вас это большая культура, воспитанность, совестливость. Скромность. Стыдливость.
«Хитрость», — продолжил про себя Чижиков, а вслух сказал:
— Ну, вы наговорите, даже неловко как-то. Это я перед вами такой… почему-то…
— Юрочка, не спорьте: я ведь женщина, да к тому же психолог, — я человека за версту чую.
«А вдруг правда?» — забеспокоился Чижиков и взглянул на Данаю.
— Обещаю не спорить, — покорно сказал он.
— То-то же, — торжествующе произнесла она и потянулась к нему чокаться. — За вас.
— Как хотите… а я — за вас. — И он стал цедить коньяк из стопочки.
— Закусывайте, — пригласила она. — А то говорим, говорим. Кормлю соловья баснями.
Чижиков принялся за еду, сначала, робко, а потом вошел во вкус и стал уминать все подряд с жадностью голодного студента. Она отставляла в сторонку пустые тарелочки, подсовывала ему дальние, наполненные, улыбалась и все что-то говорила, говорила, пока Чижиков не взглянул на нее, не встретился с ее большими, полными любви глазами. Он тут же отложил вилку, встал, и она встала, потянулась к нему, и он впился в ее губы. Руки машинально зашарили по ее фигуре, нырнули под распахнутые полы халата и ощутили атласное тело Данаи. Он обхватил ее худенький стан, приподнял и понес из кухни, через коридор, в ее затемненную комнату, опустил на тахту. В мгновение ока сорвал с себя все одежды и поспешил к ней. А она уже ловила его руками, ждала в трепетном волнении и, не дав ему и мгновения для игры, приняла с пылкой страстью.
— Ой, что я делаю, безумная?.. — шептала она. — Ты меня осудишь…
— Да за что же осуждать-то, любовь моя?! Вы не представляете себе, как мне с вами хорошо.
— Представляю. И мне тоже. А это редко бывает. Это такое счастье!..
— Да, — соглашался он с Данаей. Ему действительно было с ней хорошо: она не мучила его долгой игрой, быстро утихомиривалась, и Чижиков чувствовал себя победителем.
— Не осуждай меня… — просила она, целуя его в глаза. — Это все ты виноват: не могу перед тобой устоять.
Слова Данаи были, пожалуй, близки к истине: устоять ей было действительно трудно, тем более что перед этим были девять дней мучительного поста, на десятый не грех было и разговеться.
— Не осуждай меня и не бросай: я без тебя теперь не смогу жить.
— И я без вас…
— Зови меня на «ты»…
— Трудно.
— Глупенький. Ну скажи мне «ты».
— Ты… — произнес он непривычно. — Ты — моя любовь.
— Спасибо… — и она по-кошачьи уткнулась ему под мышку.
Так в тот день очередь до евтюховских дневников не дошла. На другой день и на третий работа над архивами шла все в том же духе. Если поначалу Чижиков шел к Данае с мыслью все-таки заняться рукописями Евтюхова, то со временем он уже перестал о них и думать. «Да их, наверное, и в природе нет, — решил он. — Даная о них не вспоминает».
7
Шли дни. Чижиков бегал к Данае как исправный чиновник на службу: регулярно и точно в назначенное время. Он приходил то утром, то вечером, а с вечера частенько задерживался до утра. Даная была довольна им; кроме любовных утех, она баловала его разными подарками: то купит ему модный галстук, то рубашку. На днях купила у спекулянта адидасовскую шапочку и рада была, что сумела достать такую дефицитную вещь. А он терпеть не мог этот дурацкий колпак, который носили все — от грудных детей до преклонных старцев, носили женщины и подростки, научные работники и шоферы. В них ходили на прогулку и в гости, на работу и в театр. А колпаки и впрямь были какие-то дурацкие, шутовские: высокие, с двумя острыми углами, как гузыри у мешка, и с крупной надписью «Adidas». Но делать нечего. Чтобы не огорчать Данаю, он принял колпак с благодарностью и даже надел его, но за первым же углом стащил с головы и спрятал в карман.
В доме Данаи у Чижикова уже появились свои вещи: его тапочки, его пижама, его чашка, но сам он все еще был здесь гостем.
Однажды она положила перед ним мягкие женские шлепанцы и сказала:
— Это от меня твоей маме. Пошли ей, пожалуйста.
— У меня нет мамы, — с печалью в голосе сообщил он. — Я ведь круглый сирота…
— Юрочка!.. И ты молчал? Бедненький мой, сиротка… — Она смотрела на него грустными глазами, будто он был беспомощный ребенок, осиротевший вот в эту минуту. — Кто же у тебя из родных остался?
— Сестра.
— Ну пошли сестре.
— Неудобно…
— Опять ты со своим «неудобно», — упрекнула она его мягко. — Ты все еще стесняешься наших отношений и держишь их от всех в секрете — и от друзей, и от родственников. Почему?
Хотя Чижиков и готовился к решительному разговору с Данаей каждый день и каждый час, вопрос, однако, этот все же застал его врасплох: он думал, что такой разговор начнется как-то иначе, что спровоцирует его он хитрым манером и в подходящий момент и что время для такого разговора пока не настало. Но она оказалась нетерпеливей, и Чижиков понял: от его ответа будет зависеть, быть его планам или же все рухнет, как карточный домик. И он начал издалека, тщательно обдумывая слова:
— Видишь ли, Дана… Дело в том, что у нас с сестрой не такие близкие отношения, чтобы я мог делиться с ней всем сокровенным. Мы с ней очень разные… Не знаю, почему так сложилось. То ли разница в возрасте сказалась. Даже когда еще жили вместе с матерью — у нас с ней не было ничего общего. А с друзьями?.. — Он посмотрел на Данаю преданными глазами. — Знаешь, Дана… Я слишком серьезно отношусь к нашим с тобой отношениям, к нашей любви, к тебе, чтобы обсуждать это с друзьями. Это мое, наше сокровенное, тайное, святое…
— Тайна, которую все знают.
— Пусть. Но я никого не хочу подпускать к нашим отношениям, даже на расстояние голоса, я боюсь, что кто-то может опошлить их, осмеять и, не дай бог, разрушить…
— Милый, как мне приятно это слышать. — Большие глаза ее наполнились слезами.
«Кажется, проняло», — довольный отметил он, однако держал себя все еще в напряжении: до завершения разговора было пока далеко.
— Но, милый Юрочка, так ведь не может продолжаться вечно?
— Не понимаю…
— Такие отношения, как у нас? Тебе сейчас хорошо со мной, но ты боишься разговоров…
— Не разговоров, а третьих лишних в наших отношениях.
— Но они все равно появятся, если так будет продолжаться и дальше. В конце концов ты встретишь себе девушку или женщину, отношений с которой не будешь стесняться, женишься, а я, постаревшая и с подмоченной репутацией, останусь на бобах.
— Никогда! — пылко возразил он.
— Что «никогда»?
— Никогда не женюсь.
— А мне надо выходить замуж, — сказала она четко. — Я не хочу оставаться вечной вдовой. К тому же если я это не сделаю в скором времени и не выйду замуж за члена союза, Литфонд отберет у меня дачу и гараж, у меня отберут лишнюю жилплощадь.
«Ах вот оно что! — почему-то со злорадством подумал он. — Значит, горят дача, гараж и полквартиры! Тогда стоит поторговаться и еще набить себе цену». Он понял, что разговор близок к разрешению в его пользу, и решил продолжить игру:
— Значит, ты хочешь выйти замуж, а я мешаю тебе? — спросил он угнетенно.
— Боже мой! Неужели ты и в самом деле такой святой? Или наивный? Или хитрый?
— Хитрый, — подтвердил Чижиков с обидой в голосе.
— Не сердись. Но в самом деле?..
— Но в самом деле, я не понимаю: что я должен сделать? Оставить тебя? Не могу. Даже если ты прогонишь меня и выйдешь за какого-то старпера замуж, я все равно тебя не оставлю. Скажи, что я должен делать?
— Предложение.
— Я?! Тебе?! — закричал он радостно. — И ты согласна стать моей женой? Боже мой, какое счастье! — Он упал на колени и, чтобы скрыть глаза, которые могли выдать фальшь в его порыве, уткнулся, словно ребенок, лицом ей в подол.
8
Ритуал помолвки, как водится, завершился поцелуями и страстной любовной потасовкой. А потом она протянула руку, сняла с тумбочки электронный будильник с прыгающими цифрами, посмотрела, который час, сказала деловито:
— А знаешь, Юра, мы могли бы успеть уже сегодня подать заявление в загс. Паспорт с тобой?
— Да.
— Тогда поедем?
— Поедем! — радостно, в тон ей, согласился Чижиков.
Машина стояла у подъезда. Красный «жигуленок» и внутри был оснащен красными причиндалами: красными чехлами из искусственной ткани под лохматую козлиную шкуру, красным набалдашником на рычаге переключателя передач, красным дерматином на дверных панелях.
Даная ловко открыла дверцу, нырнула внутрь машины, впустила с другой стороны Чижикова и, не дав ему усесться, отпустила педаль сцепления. Машина быстро выкатилась со двора, без остановки влилась в уличный поток и понесла влюбленную пару к новой жизни. Машиной Даная владела профессионально, вела ее легко и спокойно, успевала следить за обстановкой вокруг себя и невольно думала: «Ну, кажется, все становится на свои места. Теперь жизнь снова войдет в нормальное русло. Правда, он пока никто в смысле имени и особенно заработка. Но ничего, у меня найдутся кой-какие запасы, а со временем и он наберет силы: у него, наверное, есть хватка. Надо будет только помочь, и я помогу ему, мужчины еще пока кладут на меня глаз…»
Чижиков, утонув в удобном кресле, чувствовал себя как мальчишка, впервые попавший на сиденье рядом с шофером. Но не от машины, не от быстрой езды распиралась волнением его грудь, а от значительности происходящих перемен в его жизни: «Неужели все это происходит наяву? Неужели так легко решится вопрос и с постоянной пропиской, и с квартирой?.. Да еще дача, машина?! Не сорвалось бы… Только бы не сорвалось!» Он взглянул на Данаю.
— Что, милый? — спросила она тут же, не отрывая взгляда от дороги.
— Ты красиво ведешь машину, — сказал он. — Спокойно, уверенно.
— А думал о чем?
— О нас… Ни встречные, ни обгоняющие, хотя и обращают на тебя внимание, но они не знают, куда мы едем! Надо бы на крыше машины кольца обручальные укрепить или куклу — на радиаторе.
Она улыбнулась:
— Шутник… А что, я бы и нацепила! Но ты ведь сам первый застыдишься их. Угадала?
— Наверное…
В загсе ими занималась строгая девица, по всему видно — старая дева, которой были противны все обручающиеся. Но тем не менее она терпеливо растолковывала Данае правила регистрации, помогала оформить необходимые документы, а на лице ее все время блуждала еле заметная, ироническая улыбка. Когда все было закончено, девица объявила, что на регистрацию они должны прийти через два месяца. Даная и Чижиков непроизвольно переглянулись и оба уставились на девицу глазами, полными недоумения: «Так долго?!»
— Так долго? — первой обрела речь Даная. — Но ведь есть, наверное… ну, какие-то исключения?.. — Она кивнула Чижикову, чтобы тот отошел в сторонку, а сама быстро извлекла из сумочки флакон французских духов и с милой улыбкой поставила перед девицей. — Наверное, есть…
Флакон быстро исчез в ящике стола, а срок был сокращен до двух недель.
Выйдя на улицу, Даная сказала:
— Везде вымогатели. Ну да ладно… — оправила на себе одежду, будто вылезла из тесной конуры, спросила: — А теперь куда?
— Домой, куда же еще?
— А может, в общежитие? Заберем твои вещи, и ты попрощаешься со своей холостяцкой койкой.
— В общежитие? — оторопел он и растерянно развел руками: ему тут же представились удивленные лица ребят, их иронические реплики, поздравления, к которым ни она, ни он не были готовы. — Какие там вещи? Один чемодан с книгами… Я и сам как-нибудь соберу все и привезу. А с койкой все равно скоро прощаться: выпуск уже на носу…
— Тем более, — сказала она. — Юрочка, не оставляй себе плацдарм для отступления, если решился всерьез — сжигай за собой мосты.
— Как ты можешь так думать?
— Тогда поедем.
— Поедем.
К великой радости Чижикова, соседей по комнате дома никого не оказалось. Он быстро вытащил из-под койки чемодан, набросал туда навалом свои рубашки, белье, книги, рукописи и, как вор, побежал вниз с тяжелой ношей. Внизу вахтерше объяснил:
— Нашел себе квартиру. Переезжаю. Завтра забегу — остальное заберу. Ребятам скажите — пусть не ждут.
— Ну-ну, в добрый час, — сказала старушка, поглядывая через дверное стекло на красные «Жигули». — А ребяты уже и привыкли, что ты перестал приходить на ночь. А ты, значит, это… квартиру обживал?
— До свидания, тетя Даша. Спасибо вам за все. Я еще приду…
— Приходи, приходи.
Увидев Чижикова с чемоданом, Даная удивилась:
— Так быстро?
— А студент как солдат: ему собираться — только обуться. А я был обут. Открой, пожалуйста, — кивнул он на багажник, и, не успела крышка подняться, он бросил под нее небрежно чемодан, заторопился в машину. — Все. Поехали.
Вечером, пока Даная принимала ванну, Чижиков обходил квартиру и осматривал ее хозяйским глазом. Ее комната по-прежнему была затемнена, и он не стал освещать ее, а заторопился в бывший кабинет Евтюхова. Большой письменный стол завален журналами, книгами, листами чистой и исписанной бумаги. Диван тоже был завален журналами. Застекленные шкафы забиты книгами. «Да, старик был большим книголюбом, — с уважением подумал он о Евтюхове. — Только сильно все захламлено, дышать нечем. Надо будет разрядить обстановку… Потом». Он стал рассматривать книги и так увлекся ими, что не заметил, как к нему подошла Даная и спросила:
— Осваиваешь кабинет?
— Да нет… Просто… люблю книги.
— А ты осваивай. Теперь это твой кабинет, устраивай все по своему вкусу.
— Так сразу? — вырвалось у него. — Неудобно. А ты?
— У меня есть своя комната — там моя и спальня, и кабинет. Я привыкла, мне там удобно.
— Ну а мне пока хватит и той комнатки.
— А тут что будет?
— А тут пусть будет библиотека. Наша общая библиотека, — предложил он.
— Умница! — похвалила его Даная. — Мыться будешь?
— Надо! В новую жизнь надо вступать чистым! Русь крестили — в Днепр людей загоняли. А я пойду приму омовение в ванне. Это будет наша купель.
— Разболтался!.. Я рада, что ты наконец расслабился. Целый день был как-то напряжен, скован.
— Не целый, а только вторую половину. Да и причины были веские.
— Я понимаю, милый, — и она прижалась к нему ласково.
В ванной после Данаи стоял приторный запах шампуня, смешанный с горячим паром, он немного мутил голову. Ванная вообще была пропитана смесью самых разнообразных запахов — это он заметил еще раньше. Даная, видать, любила всякие парфюмерные препараты — шампуни, мыла, лаки: две полки из конца в конец были тесно заставлены банками и флаконами самых причудливых конфигураций, размеров и окраски. Многие были пусты, но почему-то не выбрасывались. Как не выбрасывались и пустые бутылки из-под заграничных напитков на кухне — длинная полка через все четыре стены была плотно уставлена этой яркой посудой. «Страсть к собирательству, что ли? — недоумевал Чижиков. — Надо будет и здесь разрядить обстановку… Потом».
На другой день Даная подвезла Чижикова в институт, а сама поехала в Союз писателей с двумя заявлениями — от себя и от него о переоформлении дачи на его имя. «В связи с тем, что я женился на…» — писал Чижиков вечером под диктовку Данаи и тут же выражал ей свои сомнения:
— Но мы ведь еще не оформлены… Потребуют свидетельство…
— Ничего: пока у них дойдут руки до нашего дела, у нас уже будет свидетельство, — резонно заметила Даная и продолжала диктовать.
Появление Чижикова в институте студенты встретили всеобщим воплем то ли восторга, то ли улюлюканья. Чижиков ждал этого и потому в ответ только улыбался. На шутки, даже очень язвительные, старался отвечать шуткой — знал: поведи он себя иначе — конца приставаниям не будет.
— Ну, Чиж, провернул операцию под кодовым названием: «Охота на Данаю»!
— Любовь — не картошка, — отшучивался он, — не выбросишь в окошко.
— Сколько окошек-то в квартире?
— Пять!
— Ого! Картошки не хватит.
— В такую квартиру можно влюбиться!
— А что, Сирота, теперь ты уже не круглый сиротка? Мамку нашел! Ха-ха!
— Ладно, ладно, — отвечал Чижиков остряку. — Тебе такую мамку — облизался бы!
Доцент-губошлеп в перерыве облапил Чижикова радостно:
— Ну, а ты сердился? Я же говорил, что с тебя будет причитаться. Правда, это не Никанорова Нототения — у той папаша, а у этой — только квартира. Но ничего, ничего, не огорчайся. Как первый этап, это даже здорово. Я вон женился совсем ни на чем, и то ничего. Поздравляю. И не забудь — с тебя причитается. А?
— Ладно, за мной не заржавеет, — пообещал Чижиков.
Горластый, придя на семинар, прежде чем начать занятия, обратился к Чижикову:
— Слушай, Юра! А ты мне нравишься! Это, понимаешь, здорово: раз-раз — и в дамках! Быстро, решительно, смело! Молодец! Поздравляю!
— В дамках и в лямках, — добавил кто-то из студентов.
— Ну знаете! Так можно опошлить что угодно, — не принял реплику Горластый. — Давайте рассуждать серьезно. — Он тряхнул головой. — Женщина она красивая? Красивая! Молодая? Вполне! А что вдова — так это даже и лучше, чем эти пигалицы в обтянутых джинсах. — И к Чижикову: — Правильно сделал, Юра! Поздравляю и желаю, как говорят, счастья! А по поводу лямок, милые мои, я вам скажу так: любая жена — это хомут. Но и без него не обойтись, рано или поздно каждый из нас его надевает. Вот так! Лирическое отступление кончили, а теперь пошли-поехали дальше к вершинам мастерства. Кто смелый? Прошу!
9
После занятий Чижиков вышел в коридор и увидел Данаю. Как ни в чем не бывало она крутила на пальце ключи от машины, отвечала на приветствия знакомых, улыбалась, шутила: в институте ее все знали, и она была здесь как дома.
— Значит, вы остаетесь верны нашему институту? — подошел к ней проректор, поцеловал ручку. — Это хорошо! Поздравляю!
— Да, я ваша, — сказала она. — Но, наверное, ненадолго.
— То есть?
— Он ведь кончает институт.
— А мы его в аспирантуру возьмем.
— Правда? — обрадовалась она. — Или вы шутите?
— Пока шучу, — сказал он неопределенно и заиграл глазками. — Всего вам доброго!
«Зачем она здесь? — досадливо поморщился Чижиков. — Такая опека мне быстро надоест!»
— Дана, ты? — подошел он торопливо к ней. — Что-нибудь случилось?
— Нет, милый! — Она взяла его под руку и демонстративно повела к выходу. — Просто решила заехать за тобой, обрадовать: наши заявления приняли — все в порядке! Может, съездим на дачу? Погода чудесная!
— Съездим, — сказал он спокойно, хотя сам не раз порывался побывать там, чтобы посмотреть свои новые владения.
— Ты чем-то расстроен?
— Нет, милая. Просто немного устал.
— Вот и поедем, побудем на воздухе. Завтра выходной.
А погода и впрямь была лучше не придумать: стояли те солнечные мартовские денечки, когда в тени еще скрипит мороз, а на солнечной стороне голуби греют свои спины и затевают брачные игры, с крыш падает капель, а на дорогах появляются лужицы.
Чижиков сидел рядом с Данаей и щурился от яркого солнца, бившего теплыми лучами прямо в ветровое стекло. Ему стало жарко, он снял шапку, забросил ее на заднее сиденье. Попытался отвернуть солнцезащитный щиток и не смог, Даная помогла ему. Он, сконфуженный, улыбнулся ей.
Через полчаса езды дорога свернула в лес, в машину даже сквозь закрытые окна проник настоянный на хвое воздух. Чижиков оживился:
— Слышишь?
— Да! Воздух здесь чудесный! — отозвалась Даная.
Попетляв по поселку, машина остановилась возле зеленых ворот дачи. Тропинка до самого крыльца и дорога к гаражу были расчищены.
— О, да здесь ухожено! — удивился Чижиков. — Кто это делает?
— Сторож. Здесь есть сторож, я ему приплачиваю. Открой, пожалуйста, гараж, — Даная бросила ему ключи.
Загнав машину в гараж, они вытащили из багажника многочисленные сумки и направились к даче.
Большая веранда, три комнаты на первом этаже и две в мансарде поразили Чижикова. Он ходил из комнаты в комнату, внешне спокойно осматривал каждую, а в душе ликовал: «Мое!»
— Значит, обещали переоформить? — не стерпел, крикнул он Данае из кабинета, который был, как и квартира в городе, завален книгами.
— Да, милый! Переоформят на твое имя. Тебе нравится?
— Очень! Знаешь, иметь бы такую дачку собственную!
— Какая разница? — возразила Даная. — Казенная еще лучше: ты платишь очень умеренную арендную плату, а пользуешься как своей всю жизнь. У тебя ведь никто ее не отберет до самой смерти. К тому же охрана, ремонт — все это делает Литфонд. А со своей намучишься!
— Пожалуй, ты права, — согласился Чижиков. — Я ведь в этих делах профан.
— Не беспокойся: для этих дел у тебя есть я. Доверяешь?
— Вполне!
Утром его разбудил духмяный запах кофе. Открыл глаза, а перед ним стоит на тумбочке жостовский подносик и на нем — металлический кофейник и белая чашечка с блюдечком, сахар в вазочке, ложечка и маленький ковшик со сливками.
«Ну, жизнь началась! Как у Рокфеллера!» — покачал он головой. Оглянулся на дверь — Даная наблюдала за ним и улыбалась.
— Ты меня балуешь, — сказал он. — Могу испортиться.
Даная подошла, села на край кушетки:
— Пей, милый.
— Прямо в постели? Неумытый?
— А потом умоешься, — она говорила с ним как с ребенком. — Ты любишь со сливками или черный?
— Все равно, — сказал он, поднимаясь. — И все-таки неудобно в постели и неумытым. И перед тобой неудобно — ухаживаешь, как за барчуком.
— Мне приятно за тобой ухаживать, милый. Я буду твоей рабыней.
— Не надо. Не хочу, чтобы ты была рабыней, ты — богиня! — И он поцеловал ее. — В крайнем случае — царица. Моя царица.
— Спасибо. — И теперь уже она поцеловала его. — Пей кофе, и пойдем на лыжах прокатимся. Утром хорошо на лыжах.
— О, я к этому не готов! — поднял он руки. — У меня нет ни лыж, ни костюма. И вообще я не умею ходить на лыжах.
— Лыжи есть, — сказала она. — Стоят на веранде.
— То не мои.
— Перестань говорить глупости, обижусь. Твои, — она нажала на последнее слово. — И костюм есть. — Даная метнулась в прихожую и вернулась оттуда со свертком в магазинной упаковке. — Ну-ка, примерь.
Он развернул сверток, раскинул на постели темно-синий с белыми полосками лыжный костюм. Долго смотрел на него, сказал серьезно:
— Дана, прошу тебя: не делай больше так.
— Как?
— Ну вот так… Сюрпризы разные. Мне…
— …неудобно, — подхватила она.
— Да, неудобно.
— Мы что, чужие?
— Все равно. Я чувствую себя все время в долгу перед тобой. Смогу ли я когда-нибудь отплатить тебе тем же? И от того, что каждый день, даже каждый час плоды твоей заботы накапливаются, я все больше и больше чувствую неловкость от того, что не сделал тебе никакого сюрприза, подарка… Ведь я даже букетика цветов тебе ни разу не подарил, хотя постоянно думаю, хочу, но всякий раз что-то мешает, спешу к тебе — и забываю.
— Твоя любовь — лучший подарок для меня, — она снова поцеловала его. — Ну-ка, надень костюм, посмотрим, как он будет тебе.
Чижиков облачился в обнову — она оказалась ему впору. Даная ходила вокруг него, оглаживала складки, одергивала и радовалась, что не ошиблась в размере.
— Чудесно! Посмотри в зеркало, правда хорошо?
Он растроганно кивал в ответ: новый лыжный костюм взволновал его.
Не прошло и часа, как они вышли на крыльцо в спортивном облачении: он в синем с белыми полосами по бокам и на груди, в адидасовском колпаке и в евтюховских ботинках, которые, по словам Данаи, покойный ни разу не надевал; она — в красных шароварах с синими лампасами, в белой шерстяной курточке и в красной вязаной шапочке. Вокруг шеи был накручен длинный красный шарф, концы которого свисали один на спину, а другой — на грудь. Выглядела Даная на редкость эффектно — одеваться она умела. Чижиков посмотрел на Данаю и снова поразился ее красотой и молодостью: «Как девочка! Молодец! Неужели все это не сон? Ах, скорее бы завершались формальности!»
— Ну что, милый? Здесь наденем лыжи или выйдем в лес?
— А?.. — очнулся Чижиков. — Нет-нет, давай в лесу: там хоть и упаду — никто не увидит.
Она засмеялась и первой сбежала с крыльца, щурясь от солнца и снежного блеска.
— Ой, я очки забыла! — воскликнула вдруг она. — Подержи лыжи. — Она снова вернулась в дом и возвратилась оттуда в больших темных очках. Пояснила: — От постоянного прищуривания морщины появятся на лице. Боюсь, разлюбишь.
Погода улыбалась отдыхающим. Потрескивал морозец, светило солнце, в воздухе пахло весной. По-весеннему звонко тенькали юркие синицы.
К удивлению Чижикова, народу в лесу оказалось как на карнавале — много и все были по-праздничному нарядны. Будто попал он на выставку свитеров, курточек, шапочек и шарфов — самых причудливых форм и расцветок. Многочисленные накатанные лыжни стали тесными, и молодежь, щеголяя своей удалью, прокладывала новые, шмыгая быстрыми лыжами среди кустов и деревьев.
Щадя самолюбие Чижикова, Даная увела его на малолюдное место, где он и укрощал старательно своих «рыжих коней». Будто и немудреное дело — ходить на лыжах, а ухекался больше, чем на ученье в армии, впору просить привал, но терпит, не подает вида — не хочется ему осрамиться перед Данаей. Однако она и тут проявила чуткость — привела его на тихую солнечную поляну, где лыжники не катались, а стояли там-сям, повиснув подмышками на палках и подставив лица теплому солнышку, — загорали. Кое-кто из молодых парней, наиболее закаленных или отчаянных, оголился даже по пояс. А скорее всего делалось это из щегольства перед своими юными подругами.
Дома Чижиков отказался от ужина, а потом и от любви, которой так жаждала Даная, разгоряченная лыжной прогулкой. Он только и был в состоянии промямлить:
— Ой, Дана, подожди, пожалуйста, до утра…
— Ладно, отдыхай, милый, — согласилась она, подваливаясь к нему под бочок. — Я только прижмусь к твоему телу и буду ласкать тебя…
— Ой, Дана, ну какая ты… неугомонная, — проговорил он сонно.
— Ничего, ничего, ты отдыхай, мой милый, отдыхай…
Утром у Чижикова ныли все суставы, как у столетнего старика, однако настроение было бодрое, и он подумал:
«Неужели это моя такая жизнь началась? О, только бы не сорвалось!.. Только бы не обиделась она за вчерашнее…»
Но Даная не обиделась.
10
Две недели, назначенные загсом, тянулись удивительно долго. Все эти дни Чижиков был как наэлектризованный, ему стоило огромных усилий держать себя ровно, спокойно, он избегал острых разговоров, обид, был мягким, ласковым, предупредительным и в то же время старался не переиграть, чтобы не испортить задуманное. Правда, Чижикову не так уж и трудно было держать себя в таком состоянии: Даная ему нравилась, и лишь некоторые ее вольности, самостоятельность возбуждали иногда досаду, но он закрывал на все глаза и ни в чем ее не упрекал. Может быть, он не упрекнул бы Данаю, даже будь она уже и женой ему, но сейчас он чувствовал себя скованно.
А дни, как нарочно, тянулись черепашьим шагом. Не случилось бы вдруг чего-то такого…
И оно случилось, его наэлектризованность нашла выход — разрядилась. Да еще как!
Однажды вечером к ним в дом позвонил мужчина. Дверь ему, как обычно, открыла Даная, Чижиков пока не спешил на звонки — ни на телефонные, ни на дверные. Однако всегда ревниво прислушивался к ее разговорам и по телефону и с приходящими. Прислушался он и теперь — и вдруг его как током пронзило: он услышал до наглости вольное обращение пришедшего к Данае:
— Ну, привет, старушка! Как поживаешь?
— Здравствуй, — ответила ему испуганно Даная.
У Чижикова похолодело в груди: первая мысль была — не бывший ли это какой-нибудь ее любовник заявился? Если так, то… Он еще не знал, что последует за этим «то», но в любом случае он будет драться за Данаю. Во что выльется эта драка, он тоже не представлял себе: то ли это будет «джентльменская» беседа, то ли она выльется в примитивную кулачную потасовку двух разъяренных петухов. Последнего Чижиков не хотел: физически он всегда был хил.
Тем временем в коридоре продолжался какой-то странный разговор: вошедший нахально наступал, Даная робко оборонялась.
— Ты почему так смотришь? Не узнаешь, что ли? — спросил гость. — А-а, понимаю: не ждала?
— Да, не ждала…
— Ну как же!
«Кажется, предстоит какое-то испытание… — огорченно подумал Чижиков. — Вот невезуха! Но буду драться!» — решил он и вышел в коридор. Гость как раз укладывал наверх вешалки свою вязаную шапочку с помпоном, и Чижиков успел его рассмотреть: это был не старше Чижикова молодой мужчина с мятым лицом запойного человека. «Алкоголик, — определил Чижиков. — Этот народ обычно труслив». И Чижиков сразу пошел в наступление.
— Кто это? — спросил он у Данаи.
Гость, собиравшийся было расстегивать на себе куртку, оглянулся на голос и, увидев Чижикова, осклабился ехидно:
— О, да тут, я вижу, уже есть папашин заменитель!
— Кто это? — повторил Чижиков свой вопрос голосом строгим и даже начальственным. Он натянул на себя эту маску и решил не снимать ее до победы.
— Сын… — сказала Даная тихо.
— Чей сын? Твой, что ли?
— Нет, Евтюхова.
— Разве у него был сын? — продолжал допрос Чижиков, не обращая внимания на вошедшего, который, услышав такой тон, притих и молча слушал их разговор. Не дожидаясь ответа, Чижиков продолжал: — А по-моему, этот тип пришел тебя оскорбить. По какому праву? Вы кто такой? — обратился он к гостю, глядя поверх его головы.
— Сын, вам же она сказала, — кивнул тот на Данаю, ища в ней поддержки.
— А по-моему, вы не сын, а сукин сын! Да-да! Иначе как же вы смеете оскорблять жену своего отца? — Не давая опомниться своему противнику, Чижиков продолжал наступать: — Покажите ваши документы.
Тот торопливо полез в карман и вытащил замызганный паспорт. Наверное, ему часто приходилось предъявлять его.
— Вот, пожалуйста…
— Какой же вы сын? Насколько мне известно, у покойного и фамилия, и псевдоним были совсем другими. Вот что, молодой человек, времена детей лейтенанта Шмидта давно прошли. Возьмите свой мандат и катитесь отсюда туда, откуда прибыли.
— Но я побочный сын, у меня фамилия моей матери, — объяснял гость. — И Евсей Евсеевич меня признавал.
— А я не признаю, вы здесь посторонний, и вам в этом доме делать нечего. — Чижиков снял с вешалки шапочку, нахлобучил ее на голову обескураженному побочному сыну. — До свидания.
— Куда же я пойду? — взмолился тот. — Я ведь из Риги приехал, на улице ночь. Разрешите хоть переночевать, а утром потолкуем.
— Нет. Нам не о чем с вами толковать, — стоял на своем Чижиков. Он открыл дверь: — Прошу.
— Пусть переночует, Юра, — подала голос Даная.
— Нет, — жестко отрубил Чижиков. — Этот человек не так себя повел, чтобы я мог оставить его на ночь у себя в доме.
— «У себя»? — удивился гость.
— Да-да, у себя, — подтвердил Чижиков. — Уходите!
— Но подождите. Давайте поговорим сейчас.
— О чем?
— Ну, об этом… О наследстве.
— Какое наследство?! — возмутился Чижиков. — В суд обращайтесь. В суд! А сейчас — пошел вон!
Однако гость заупирался:
— Мне некуда идти…
— В Москве масса гостиниц.
— Меня туда не пустят… У меня нет денег.
Чижиков видел, что противник сражен, повержен, однако он не давал себе расслабиться, боялся, что вдруг сейчас дрогнет, верх возьмет жалость, и тогда неизвестно, чем все это кончится. Нет, этого покусителя на его кусок надо раздавить окончательно, и он сказал высокомерно:
— Это ваши заботы. В Москве около десятка вокзалов — там много скамеек. Уходите! — И добавил зловещим шепотом: — Не заставляйте меня применить к вам один из приемов, которым я обучен в морской пехоте и которые я не имею права применять на гражданке. Не вынуждайте! — Чижиков открыл пошире дверь, вытолкнул наследника на лестничную площадку и захлопнул замок. — Дрянь какая-то, — зло проворчал он, отряхивая руки, как после грязной работы. Он прошел мимо оцепеневшей Данаи, будто не заметил ее, закрылся в ванной, мыл руки и понемногу приходил в себя. «Сорвался… Нескладно получилось… И чего я на него так напустился? Он перепугал меня, гад… Теперь все будет зависеть от Данаи — как она воспримет этот мой бой с наследником…» — и не торопился выходить из ванной, пока в дверь тихо не поскреблась Даная:
— Юра… Ты что там делаешь?
— Сейчас, — ответил он бодрым голосом. — Руки мою. — Вышел, обнял дрожащую Данаю. — Прости меня, пожалуйста.
— За что?
— Я не мог слышать, как он начал оскорблять тебя. И потому не сдержался… Прости.
— Я тебя люблю, — прошептала она. — Ты мне нравишься: ты настоящий мужчина!
Он улыбнулся — отлегло от сердца: оказывается, все сработало в его пользу. Ночью в постели, перематывая случившееся, Даная спросила:
— Юра, а ты правда знаешь приемы?
— Какие?
— Ну, эти, запрещенные, которые применяют на войне?
— А-а… Правда, — соврал Чижиков: никаких приемов он не знал, а морскую пехоту видел только в кино. Однако добавил: — Но об этом даже говорить запрещено.
— И не надо. Спи.
Но он не спал — от приятного волнения: «Победил! Пронесло! Только бы на этом мои испытания закончились…»
11
Однако все эти победы на бытовом фронте не могли затмить главной беды Чижикова, беды, которую он даже сам себе боялся назвать своим именем, как суеверный человек боится назвать признаки надвигающейся страшной болезни, — ему не писалось. Ни одной живой мысли, ни малейшей тяги к столу, к бумаге, абсолютная опустошенность и апатия к работе. Вот уже сколько времени прошло, а он ничего не написал, ни одной строки. Хотя и старался, сидел, марал чистые листы бумаги, но ничего не получалось — как из пустого сосуда, ничего даже не капало. Это пугало: хорошо, если застой временный, вызванный перипетиями в его жизни, а вдруг так останется и после того, когда все утрясется? А такое вполне возможно: ведь его творческая фантазия и раньше не очень бурлила, по всему чувствовалось, что ее надолго не хватит, но не на столь же малое время? Раньше импульсы творческих вспышек давали разные внешние раздражители, которые задевали его тонкие эгоистические струны, теперь же таких вспышек почему-то не стало, словно ток отключили. А может, это он притупился, перестал их ощущать, перестал отзываться на них?
Когда Чижиков впервые оказался в уютной комнатушке Евтюховой квартиры, ему казалось, что, имей такой прелестный уголок, он завалил бы все печатные издания своими сочинениями. Но вот он здесь — а сочинений нет. Перо рисует по-прежнему одну и ту же противную рожицу с оскаленными зубами, Чижиков бросает в сердцах ручку, ходит из угла в угол, с досады ломает пальцы, которые хрустят, как пересохший хворост. А Даная там, одна, томится, старается не досаждать ему: ведь Юрочка творит. Он знает, что она томится, и знает, что ее нельзя перетомить одиночеством, особенно сейчас, пока они еще не расписаны. И он сгоняет с лица озабоченность, подавляет тревогу, заставляет себя улыбнуться и идет к Данае.
А после, когда он оставался один, бешенство одолевало его с новой силой. Часто причиной тому были газеты: вот уже несколько месяцев, как имя его исчезло с их страниц, будто нет и не было такого Чижикова, о котором еще совсем недавно критики вели спор, особенно в статьях о молодой поэзии.
Сначала, правда, они опасливо косились на его творения, помалкивали, оглядываясь друг на друга. Начинать ругать? Опасно быть первым: вдруг потом окажется, что это что-то стоящее, вдруг кому-то понравится? Хвалить? Тоже — как бы не влипнуть раньше времени, а с другой стороны, и в хвосте оказаться не очень-то приглядно. Вот они осторожно и пробовали Чижикова, как незнакомую ягоду: клали на язык, гоняли во рту, боясь раскусить, словно ампулу с ядом. Потом каким-то образом пронюхали: кто-то раскусил — и ничего, жив остался, но и вкуса какого-то особого не ощутил. Тут стали понемножку и другие покусывать его, жевать — ничего, не смертельно. А в неурожайное время за неимением другого его можно выдать даже за какую-то свежинку. И, не придумав ничего оригинального, они подхватили не только Чижиковы стихи, но и его теоретическое обоснование своих опусов. К тому же вспыхнула очередная кампания заботы о молодых — и пошло-поехало! Пошла писать губерния! Наперегонки, кто кого переплюнет. До того дописались, что порой стали забывать, о чем спор, о ком, только и знают, что друг друга либо хвалят да цитируют, либо ругают да опять же — цитируют.
Чижиков познал тогда опьяняющий дурман славы и сам уже стал верить, будто и впрямь представляет из себя что-то особенное. И надеялся, что это будет длиться вечно. Но шумиха оказалась очень скоротечной. Подбросить бы в затухающий костер какого-нибудь хвороста, но и хвороста у Чижикова уже никакого не было…
И вот он сидит на мели. «Хотя бы новый «Метроном» кто-либо придумал, нет, молчат, притихли. И Воздвиженского нет, слух прошел, будто он уехал в Америку читать лекции по литературе да там и остался…»
«Скорее бы кончалась эта женитьбенная канитель, завершились бы ее процедуры, все формальности», — досадовал он.
12
В долгожданный для Чижикова день регистрации брака Даная встала рано. Он тоже проснулся, но не спешил покидать постель — лежал, думал, а вернее — успокаивал себя, собирался с силами, как солдат перед решительным броском на вражескую амбразуру. Даная тоже к этому торжественному акту готовилась всерьез: она принялась в последний раз примерять платья, костюмы, парики. Платья она тут же забраковала — немодны, остановилась на костюме: черные в обтяжку брючки, зауженные книзу до предела, белый, из верблюжьей шерсти френчик и черные туфли на шпильках. Парик выбрала «под мальчишку»: сзади короткая стрижка, сходящая к затылку на нет, спереди пышно взбитая шевелюра, слегка нависающая волной над открытым лбом. Уши тоже открыты, и в них красными огоньками светились крошечные рубиновые клипсы. Может быть, прическа была и не очень «под мальчишку», но что-то юное, по-мальчишески наивно-задорное появилось в ее облике. Когда Чижиков поднялся и увидел Данаю, он не сразу даже узнал ее. «Боже мой, какая она красивая! Неужели она всерьез меня любит? Почему?.. За что?..»
— Ты сменила прическу? — с трудом сообразил он о причине ее преображения. — Когда успела?
«Нет, парик сменила», — хотела сказать она, но промолчала и лишь загадочно улыбнулась. Крутнулась перед ним, встала к нему вполоборота — ей казалось, что в этом наряде, именно при такой стойке она выглядит особенно выигрышно. Спросила:
— Тебе не нравится прическа?
— Что ты! Просто непривычно.
— Хорошо, правда? Собирайся, милый, нам нельзя опаздывать.
— Да! — бодро согласился он с ней и, направляясь в ванную, пропел: — Что день грядущий мне готовит?..
— Узы Гименея, — быстро сказала она. — И пир! Свадебный пир.
— Значит, все-таки узы?..
— Узы, милый, узы… У тебя еще два часа есть на раздумье. Можешь отказаться.
— Нет уж, не будем людей смешить. Пусть будут узы, я согласен: они все-таки Гименеевы, а значит — твои. А ты мне нравишься.
— И только?
— Нет, даже больше, — люблю!
— Спасибо.
— Надеюсь, что узы не будут очень…
— Не будут, не будут!.. Поторопись только.
Милые влюбленные болтали, стараясь спрятать за словесной завесой неловкость, которую они оба испытывали перед публичным признанием своих отношений.
Не прошло и часа, как свадебный кортеж из одного «жигуленка» выехал из ворот. По пути экипаж его удвоился за счет свидетелей, и в таком составе он подкатил к загсу. Чижиков в свидетели пригласил губошлепистого Доцента, а Даная — знакомую продавщицу из отдела готового платья ближайшего универмага.
Процедура бракосочетания прошла спокойно — по наторенной схеме: молодые обменялись кольцами, расписались в книге, в паспортах им пришлепнули большие, на полстраницы, фиолетовые штемпели, вручили свидетельство и сыграли марш Мендельсона. В другом зале за заранее оплаченную сумму им раскрыли бутылку шампанского, и они, стоя, тихо чокнулись и принялись медленно пить. Правда, медленно цедили шампанское только трое, Доцент же сразу вылил весь фужер в широко открытый рот, искристая жидкость только квакнула, как в умывальной раковине, сам он крякнул смачно и, вытирая большой ладонью губы, сказал:
— Ну вот, Юрий, а ты боялся! Женился — и ничего.
— Он боялся? — подхватила Даная. — Нет, Юра не боялся, он просто очень стеснительный.
— Ничего! Пообвыкнется, уматереет, войдет в колею! — басил Доцент. — Ну что, на этом и закончите свою свадьбу? Ее надо бы обмыть как следует.
— Вы торопите события! — сощурила глазки Даная. — У меня для всех вас приготовлен сюрприз: приходите сегодня к семи часам в Дубовый зал ЦДЛ, на второй этаж.
Дома Чижиков спросил у Данаи:
— Как, ты заказала столик?
— Три! А точнее — комнату на втором этаже.
— И мне ничего не сообщила?
— Хотела сделать сюрприз и тебе.
— Но ведь это наше общее торжество, и я хотел бы в нем участвовать на равных. Наверное, надо было бы обговорить, кого пригласить.
— Вот список. Если кого хочешь еще — пожалуйста, пока не поздно. Я вижу, ты не доволен, мой милый?
— Да нет… Мне просто неудобно быть приглашенным гостем на собственной свадьбе.
— Не сердись — такой день!
— Я не сержусь… Кстати, я тоже думал об этом, но мне неудобно было говорить: это ведь стоит денег, а я имею только стипендию, гонораров пока никаких.
— «Неудобно», — передразнила она его. — Все будет хорошо. Посмотри список. А наш бюджетный вопрос мы еще успеем обсудить — у нас теперь для этого будет мно-ого времени.
Чижиков действительно думал об этом сабантуе, но не столько событие хотел он отпраздновать, сколько хотел наконец-то «выйти в люди» и снова напомнить о себе. Он решил так вчера, когда в очередной раз сидел над листом бумаги, изрисованным скалящимися рожицами. Женитьба пока была единственным поводом для такого дела — отметить бы ее у всех на виду нахально, дерзко, широко! Теперь дело сделано — стесняться нечего, надо выбивать из него дивиденды. И слава богу — все идет так, будто он сам разработал сценарий.
Чижиков внимательно изучал список. Первым в нем почему-то значился проректор института. «Зачем он?» — поморщился Чижиков. Потом пошли главные и просто редактора издательств, журналов, начальство из Госкомиздата, секретари Союза писателей. Всего человек двадцать пять, и все народ солидный, нужный, Чижикова даже оторопь пробрала: к нему придут такие люди! «Вот это да! Ну Даная, ну молодец!»
— Что скажешь? — нетерпеливо спросила она.
— Что можно сказать? Молодец! А думаешь, придут?
— Придут, — твердо сказала она. — Пусть даже половина не придет, и то окупится. Да и те, кто не придет, не будут в обиде: они ведь были приглашены, их не обошли. Верно?
— Верно. А зачем проректора? — спросил он.
— Как «зачем»? Пригодится. Я хочу продолжить с ним разговор о твоей аспирантуре.
— Продолжить разговор? О моей аспирантуре?
— Да, милый.
— А зачем мне, поэту, эта обуза? Зачем попу гармонь? Я должен быть совершенно свободным!
— Глупенький! Какая же это обуза? Ты и будешь свободен, а в аспирантуре будешь только числиться. Ну, не без того, что-то надо будет делать, но это не такая уж большая обуза. Зато стипендия будет идти регулярно.
— Странно.
— Ничего странного. Ты кончаешь институт — и куда пойдешь?
— А никуда, буду писать.
— Хорошо. Но к этому надо иметь и должность. Ты посмотри: все, даже самые именитые, — все при должности, все занимают какой-либо пост и держатся за свои кресла, как клещи. А они ведь не дураки?
— Нда…
— Ну что тебя огорчает? Надоест — бросишь, а пока надо за что-то зацепиться. Разве я не права?
— Права. Опять ты права! — свел он на шутку и обнял ее.
— Ну а остальные? — кивнула она на список.
— Остальные — все стопроцентной пробы!
— Может, кого пропустила?
— Нет, пожалуй… — Он подумал, сказал: — Может, Гаврюху Горластого пригласить? Он ко мне хорошо относится, помог… И, думаю, далеко пойдет.
— Не возражаю, — согласилась она легко. — Звони, приглашай. Как ты считаешь, если я вот так поеду на вечер? — Даная отступила от него, давая возможность обозреть ее всю целиком.
— Прекрасно! — одобрил он.
13
Вечер удался на славу: почти все приглашенные пришли. Было весело и непринужденно. Провозглашали тосты за молодоженов, потом за всех и каждого в отдельности со словами открытой лести и подхалимства, но никто этого не замечал, каждый принимал похвалы в свой адрес как должное. Тамадой на вечере сам собой оказался Гаврюха Горластый, и это тоже пошло на пользу: он всех знал и всех объединял, называя присутствующих фамильярно — только по имени. Он был к тому же еще и в немалой степени остроумным, умел шутить, обладал способностью копировать поэтов, артистов, и когда он это делал, все искренне смеялись.
Осмелев, Чижиков подходил со своей стопкой то к одному, то к другому, говорил приятное, чокался многозначительно, пригубливал и шел к следующему гостю.
А когда включили магнитофон и начались танцы, Даная была неутомимой — она перетанцевала со всеми мужчинами. Но больше всех, как проследил Чижиков, танцевала она с проректором — еще молодым, заносчивым литературоведом. Чижиков заметил и то, что он слишком плотно прижимался к ней, и что она улыбалась ему слишком кокетливо. «Не будет ли мне стоить это аспирантство бо-ольшущих рожек?» — думал он ревниво и, чтобы не видеть этой картины, решил спуститься в зал — потолкаться там, показаться широкой публике. Еще с лестницы он заметил за столиком в дальнем углу одинокую фигуру Воздвиженского.
«Не мерещится ли мне спьяну?» — усомнился он.
Нет, Чижикову не мерещилось — это был действительно Воздвиженский. Но почему он здесь и почему в одиночестве? Обычно его окружали и сопровождали поклонницы и поклонники, как популярную эстрадную звезду. Чижиков подошел к нему и, раскинув руки, обнял его, как родного брата, принялся по здешнему обычаю целовать. Воздвиженский не противился, хлопал его дружески по спине.
— А я смотрю: он или не он? — склонив набочок голову, заискивающе говорил Чижиков. — Тем более слух прошел, будто уехал, остался…
— Слухи о моей смерти были сильно преувеличены, — сказал Воздвиженский, оправляя свою шкиперскую бородку. — А ты?
— Женюсь! — кивнул вверх на балкон, откуда доносилась музыка и шум застолья.
— Слышал, слышал. Жена, дачка, дочка…
— Дочки нет.
— Будет.
— Пойдемте к нам! — вдруг вскинулся Чижиков. — Пойдемте, я вас познакомлю!.. Там все…
— Нет, нет, не могу, — категорически воспротивился Воздвиженский. — Я жду одного человека, у меня деловое свидание. Присядь, поговорим, если не торопишься.
Чижиков почему-то сник, сел, приготовился слушать.
— Ну а кроме женитьбы, что нового? Написал что? — спросил Воздвиженский.
— Да пока… — замялся Чижиков. — Пока нечем похвастаться. Застой какой-то, — признался он. — Может, вот пройдет это…
— Застой — это плохо, с ним надо бороться.
— Как?
Воздвиженский пожал плечами — сам не знаю. И вдруг вскочил:
— О, прости, пожалуйста, потом как-нибудь… Ко мне уже пришли. — И он протянул обе руки подошедшему к его столику толстенькому неопрятному бородачу.
Чижиков униженно поднялся и направился к своим. На душе было скверно, будто его прогнали от стола. И тут неожиданно он ощутил на своих плечах чью-то дружескую руку:
— Привет, тезка! Почему такой грустный? Говорят, женишься, а грустишь?
Юрка вскинул голову и, увидев перед собой Философа, удивился и обрадовался: сам Философ не обошел его своим вниманием!
— О, это вы?! Георгий Вик… Вук… Викулович! Пойдемте к нам!
— Нет, нет! Я уже свое взял, — сказал Философ. — Да и настроение у меня не свадебное. Тоску на людей нагонять.
Юрка догадался, почему у него настроение скверное: в одном журнале появилась статья о нем, и там было сказано несколько критических фраз в его адрес.
— Не стоит, — сказал Чижиков. — Все это зависть.
— Молодец: ты правильно все понимаешь. Молодец. Слушай, пойдем в фойе, поговорим. Ты мне еще тогда, на секретариате, понравился. Пойдем.
Они вышли в фойе, сели за колоннами.
— Так что у тебя? — участливо спросил Философ и пьяно опустил голову — приготовился слушать.
— Да так… Одиноко на душе как-то, апатия…
— Нда… — Философ причмокнул. — Плохо. Одному — плохо. Надо примыкать… Друзей надо иметь и биться с ними и за них.
— Да я готов, только их нет, настоящих, — Чижиков имел в виду прежде всего Воздвиженского, который только что пренебрег им.
— Надо самому быть активным.
— Как?
— Любым способом. Не творчеством, так другим способом надо уметь заявлять о себе. Тогда и друзья объявятся, зауважают.
— Но как — «любым способом»? — Чижиков наивно и преданно смотрел в глаза Философу.
— Именно — любым способом! Присутствовать и выступать на собраниях, на вечерах. Спорить, даже если не о чем, — информация все равно идет и твое имя там. А как же? И чем скандальнее выступление — тем лучше. Не брезгуй ничем, даже какую-нибудь сплетню сочини о себе и пусти. Любой повод будет хорош. Умер кто-то — добейся, чтобы под некрологом стояла и твоя фамилия. Иди к начальству и убеждай, что умерший был твой друг или учитель. Это очень важно! Как же так? Заявил о себе хорошо, надо не только держать себя на плаву, но и идти дальше.
— Я это и сам чувствую, — растопился Чижиков под таким отеческим напутствием. — Чувствую, но не могу сообразить, как это сделать.
— Одному, конечно, трудно. Будешь сидеть у бабиной юбки — не многого добьешься: там одно соображение. Вот тебе случай отличиться. — Философ склонился к Чижикову, сказал доверительно: — Скоро будет собрание писателей. Выступи там от имени молодых, но уже опытных, как от своего поколения, и скажи: до каких пор, мол, мы будем ходить в коротких штанишках? Нам нужно живое дело, большое живое дело, пока мы молоды и полны сил. Почему нам не доверяют ни издательства, ни журналы? А сидят там десятками лет старики и уходить не собираются, будто получили свои должности в пожизненное пользование. И в руководящие органы союза нас не избирают. Хватит разговоров о внимании к молодым, нужны конкретные дела проявления этого внимания и заботы. Вот в таком духе. Понял? Знаешь, какая это будет сенсация! И я уверен — после этого тебе обязательно предложат какой-нибудь пост. Ну как?
— Здорово! — загорелся Чижиков.
— Сможешь?
— А почему нет?
— Тогда вот тебе факты — кто на какой должности и сколько лет сидит и тезисы. Только обязательно назови фамилии — тогда будет толк. А с фигой в кармане лучше не вылезать.
— Понял! — сказал Чижиков, пряча в карман тезисы.
— Ну и отлично! По рукам! — Он крепко, со значением пожал Юркину руку. — Имей в виду: я в союзе кое-что значу, так что!.. — Он улыбнулся и поднял победно кулак. — Держись!
Дома, лежа в постели, Чижиков с Данаей подбивали бабки прошедшего вечера. Его итогом они были довольны, особенно Даная:
— Договорилась с проректором — обещал содействие насчет аспирантуры. Но тут и ты, милый, должен проявить активность. Сам поговори с ним…
— А я ревную тебя к нему. Я ему!..
— Вот еще глупости! К каждому будешь ревновать — останемся на бобах. Договорилась с главным редактором «Эпохи» об издании мемуаров Евтюхова — тридцать листов. Надо будет мне поторопиться привести их в порядок. Кстати, они у него очень интересные, он со многими видными писателями был знаком. Госкомиздатовец обещал поддержать заявку на однотомник стихов Ивана Босых. Неплохой улов, правда, милый?
Но милый уже спал праведным сном младенца.
«Слабенький все-таки», — по-матерински заботливо подумала Даная о Чижикове и поправила на нем простынку.
14
Вскоре в паспорте Чижикова появился и второй штамп — более скромный, но более желанный: штамп о постоянной прописке в квартире Данаи. Это, конечно, было такое событие, такая победа, от которой могла закружиться голова. И у него закружилась она в прямом смысле слова — даже круги перед глазами поплыли, когда ему вернули паспорт со столь желанной отметкой. Но у него хватило силы выйти из конторы и на воздухе прийти в себя. Дома же на вопрос Данаи: «Все в порядке?» — он ответил спокойно, как о рядовом событии:
— Да, разумеется, — и небрежно выбросил паспорт на стол.
Раздевшись, он прошел в кабинет Евтюхова и стал осматривать его хозяйским глазом.
— Ты хочешь здесь работать? — спросила Даная.
— Да, — сказал он твердо. — Но сначала хочу навести здесь кой-какой свой порядок. А?
— Да, конечно, — согласилась она. — Делай все, как тебе нравится.
Ему нравилось, чтобы диван был свободен от книг, — Чижиков любил валяться на койке, а теперь будет на диване, и читал он только лежа, с трудом осиливал две-три странички любого текста и засыпал. И еще он хотел очистить стол от всех евтюховских бумаг.
— Тебе помочь, милый?
— Нет, я сам.
— Хорошо. Попадутся какие рукописи, ты, пожалуйста, их не выбрасывай, перенеси в мою комнату.
— Не беспокойся, буду аккуратен.
Очистку начал он все-таки не с дивана, а со стола. Сгреб в одну кучу газеты, журналы — тонкие и толстые, подхватил обеими руками, вынес в коридор.
— По-моему, это надо отдать пионерам, пусть сдадут макулатуру? Или вынести на помойку?
— Как? — удивилась Даная. Она привыкла, что Евтюхов дорожил каждой газетой, каждым журналом. Не разрешал ей без его ведома взять со стола ни одного клочка бумаги. Он делал в статьях какие-то подчеркивания, пометки, некоторые вырезал, собирал в папки. И вдруг на помойку? — А… а может, там есть нужные тебе публикации?
— Нет здесь ничего интересного, я посмотрел.
— Так быстро?
— Ну что ты?.. — стал раздражаться он. — Я еще раньше видел все это. Куда их?
— Положи пока вот там, — указала она на уголок у выходной двери. — Я сама потом разберу все…
Чижиков бросил небрежно свою ношу в угол, взял на кухне тряпку, стер со стола пыль, положил на него стопку чистых листов бумаги, сверху — шариковую ручку. Поле для творческой работы было очищено, можно было садиться и творить. Но ему не хотелось, раздражал захламленный диван. И он принялся за него: газеты и журналы постигла та же участь, что и те, которые лежали на столе, хотел было и книги выдворить туда же, но вовремя остановился: в руки попал какой-то тяжелый старинный фолиант — и он подумал: «Может, это что-то ценное?» Отвернул крышку переплета и увидел штамп институтской библиотеки. «О, библиотечная. Вернуть надо. А впрочем… Затребуют — вернем, но лучше, если они спишут ее на покойничка, а книга останется мне: она, видать, дорогая». И он сунул ее в шкаф. Остальные не стал даже смотреть, что за книги, чьи, — рассовал по полкам как попало. Взял с кресла маленькую зелененькую декоративную подушечку — думку, взбил ее и бросил на диван. А вслед за этим и сам улегся, пробуя ложе на предмет удобства. «Хорошо!» — сказал он и вытянул ноги во всю длину. Вот так-то! Как кукушонок: обосновался в чужом гнездышке и доволен.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Намечавшееся собрание писателей по каким-то причинам откладывалось уже несколько раз, и будущий оратор на нем Чижиков изматывался от этого до болезненного состояния. Как всякий трус, чем ближе к намеченной дате, он волновался все больше, изводил себя до изнеможения — настраивал, подбадривал, набирался решимости, и вдруг в самый последний момент все отодвигалось, а из него будто воздух выпускали. Он облегченно вздыхал, надеясь втайне, что, может быть, оно и вообще никогда не состоится, и в то же время негодовал: впустую потрачено столько энергии, столько нервов, тем более что собрание не отменено, а только отодвинуто, и ему снова придется собираться с духом.
Собрание состоялось только осенью, когда Чижиков уже числился аспирантом.
Фойе Дома литераторов гудело как развороченный улей — народу пришло неожиданно много. То ли потому, что давно не собирались и соскучились по общению, то ли оттого, что накануне прошел слух, будто кого-то будут снимать с занимаемого поста, а такие вещи, надо сказать, очень любимы в писательской среде. Чижикову не стоялось на месте, он волновался, ходил, толкался в толпе, искал знакомых, чтобы хоть как-то отвлечься, но и со знакомыми не мог и минуты постоять, не слышал, что ему говорят, не помнил, что сам отвечал. Увидел издали знакомую челочку над узким лбом Философа, его маленькие, глубоко посаженные глазки, заторопился к нему. Поздоровался подобострастно. Тот спросил:
— Готов?
— Да… — с трудом выдохнул Чижиков.
— Настроение боевое?
В ответ Чижиков только сконфуженно осклабился.
— Не дрейфь. Записку с просьбой предоставить тебе слово подай сразу же, не дожидаясь прений. — И он отошел от Чижикова — наверное, не хотел, чтобы их общение стало слишком заметным.
Чижиков остался один, и чувствовал он себя в этой тесной и гомонящей толпе совершенно, до щемящей тоски, одиноким. Сзади услышал знакомый голос известного писателя, он иногда, по особому приглашению, приходил в институт и проводил творческие дискуссии со студентами. Мысли всегда высказывал интересные, смелые — был он человеком ироничным и острым на язык.
Кто-то из его собеседников заметил:
— Сколько народу привалило! Не слышали, говорят, какой-то оргвопрос будет решаться?
— Боже мой! Вас это волнует? Ну, снимут одного, поставят другого, что от этого изменится? Вы или я станем писать лучше? Нет, батенька, просто нынешние писатели очень любят выступать. Их хлебом не корми — дай только на трибуну взобраться. Раньше писали, а теперь знай выступают! Проблемы поднимают! Специалисты по всем вопросам: как кукурузу сеять и как космос осваивать, где пахать, а где погодить, какую реку запрудить, а какую плотину срыть. Слушаешь иного — думаешь: «Вот это да! Вот это гигант мысли!» А откроешь его книгу — там та же проблема, только до тошноты разжижена. Мастерства ни на грош, люди безликие, плоские, только и знают, что говорят о тех же проблемах — с трибун, за обедом, в постели. Кстати, последнее время писатели стали свои опусы обильно уснащать альковными сценами, да так грубо, примитивно, грязно, и думают, что эти сцены и есть сама художественность!
Вокруг засмеялись.
Задребезжал звонок, и все пришло в движение — сплошным потоком толпа потекла по широкой лестнице на второй этаж, в зал.
Чижиков пробился в первые ряды, чтобы быть ближе к сцене и таким образом сократить себе путь к трибуне — а то еще заплутается ногами да упадет на средине зала.
Открылось собрание, утвердили повестку дня, и за трибуну встал докладчик — он читал длинный и нудный отчет, состоящий из одних фамилий. Скажет фразу-другую о какой-то работе, о какой-то секции — и снова на полторы-две страницы фамилии. И зал слушал все это затаив дыхание: каждый боялся пропустить свою фамилию. А услышав ее из уст оратора, облегченно вздыхал, расслаблялся, пытался заговорить с соседом. Но тот пока никак не откликался, так как его еще не упомянули.
Чижиков волновался: много народу в зале, боязно, оторопь берет. Докладчика не слушает, еще и еще раз перечитывает свое выступление.
После доклада был объявлен перерыв на пятнадцать минут, который продлился не менее часа. Почувствовав, что никакой сенсации не предвидится, большинство после перерыва в зал не вернулось. А Чижиков — неврастеническая натура: вначале дрожал от того, что в зале много народу, теперь же досадовал, что народу осталось слишком мало: хотелось покрасоваться все-таки на большом миру.
Первым в прениях выступил известный критик. Длинноволосый и длиннобородый, похожий на попа, он начал издалека:
— Древние говорили: O tempora, o mores! Это значит: «О, времена, о нравы!» Но я хочу привести другое изречение древних: Tempora mutantur et nos mutamur in illis — что означает: «Времена меняются, и мы меняемся с ними».
Из зала раздался голос:
— Который раз?
— Я презираю ваши намеки, — бросил критик в зал и продолжал читать: — В этом изречении заложена глубочайшая, я бы сказал, мысль. Философская и житейская. Какая хотите. Я понимаю это так, что жизнь не стоит на месте. И мы, если хотим поспевать за ней, не должны стоять на месте ни в прямом, ни в переносном смысле. Застой в мыслях — это опаснейший симптом, особенно для писателя. Я что хочу сказать, дорогие товарищи, — нельзя стоять на месте!
Ораторы сменяли друг друга, зал после каждого из них пустел все больше, а Чижикова на трибуну все еще не приглашали. Он сидел как на иголках, не знал, как быть. Возмутиться и полезть на сцену наперекор всем правилам, как делают некоторые, он не решался. Оглядывался по сторонам, искал Философа — и не находил. А из зала уже стали все чаще и чаще раздаваться выкрики — прекратить прения.
Наконец председательствующий объявил:
— Выступило двадцать два человека. Осталось в списке еще девять. Зачитываю фамилии. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы прекратить прения? Так. Кто за то, чтобы дать выступить всем желающим? Так. Меньшинство.
В зале поднялся шум: возмущались, главным образом, те, кто не успел выступить:
— Неправильно!
— Выделить счетчиков!
Под этот шум на сцену поднялся Философ, спокойно вошел в трибуну и стал ждать тишины.
— Георгий Викулович?.. — удивился председатель, увидев его дующим в микрофон.
— У меня есть предложение, — сказал он.
— Но мы уже проголосовали.
— Неважно. У меня есть предложение. Мы очень много говорим о работе с молодыми, и партия призывает нас к заботе о них. Но мы не слышали здесь голоса ни одного молодого. А интересно бы послушать, что они думают о себе, о нас.
— Что вы предлагаете? — нетерпеливо прервал его председатель.
— Если не ошибаюсь, в списках мелькнула фамилия Чижикова? Так вот, дать ему, молодому, слово — и на этом закончить прения.
— Да какой он молодой? Ему уже, наверное, под сорок.
— Ну, это не его беда, а беда нашего союза: моложе нет.
Председатель почему-то обрадовался этому предложению и тут же призвал проголосовать за него.
— Кто «за»?
В зале опять поднялся шум, но председатель, постучав карандашом по микрофону, объявил громко:
— Все! Принято! Чижиков, прошу, вам слово.
Чижиков взбежал на сцену, встал за трибуну, откашлялся, пока в зале не улегся гомон, расправил складки своей речи, начал:
— Предоставление мне слова показательно со всех сторон: не поднимись сюда известный писатель, не стоять бы мне за этой трибуной. И так во всем. Слов о заботе много, а конкретных дел нет. И я спрашиваю: доколе?! Доколе будет продолжаться это словоблудие? Неужели же забота только и заключается в том, чтобы говорить, но держать нас на расстоянии и не пущать ни в литературу, ни в литературные дела? Разве можно назвать заботой о молодых писателях публикацию одного-двух стихотворений в периодике, выпуск одно-го-двух коллективных сборников, прозванных «братскими могилами», одного семинара в два-три года? Нам этого мало. Это подачка, а не помощь. Мы молоды, мы полны сил, энергии и желания работать, делать настоящее большое дело. Но нам не дают такого дела, нам не доверяют ни журналы, ни издательства, ни руководящего поста в Союзе писателей. А не дают, потому что дать нечего: везде сидят десятилетиями вросшие в свои кресла старики. Даже в молодежных журналах — одни старики! Вот вам факты. — И он выдал фамилии, возраст и годы сидения на должности — все по тезисам Философа. Особенно досталось редактору того журнала, в котором критиковался Философ.
Речь Чижикова действительно произвела сенсацию — ему долго аплодировали, а потом в вестибюле знакомые и незнакомые поздравляли, пожимали ему руку. Особенно молодежь — молодые литераторы признали его своим лидером и потащили в буфет. Чижиков увидел Философа, хотел было кинуться к нему с вопросом: «Ну как?» — но тот поднял обе руки в крепком пожатии — мол, хорошо! — и, махнув ему прощально, удалился.
Домой возвратился Чижиков поздно, навеселе и возбужденным. На вопрос Данаи, как прошло собрание, сказал, тая улыбку:
— По-моему, хорошо! — И не стерпел, добавил: — Твой муж отличился, гордись!
— Как? — не поняла она. — Ты выступал?
— Разумеется! И произвел фурор! Волнова-ался — до сих пор коленки дрожат. И устал, будто на мне камни возили.
— О чем же ты говорил?
— На, читай! — широким жестом он извлек из кармана речь и протянул Данае. Та стала читать и тоже сначала взволновалсь, а под конец ее лицо вытянулось в испуге. — Зачем ты это сделал? Ты же отрубил себе дорогу почти во все журналы! Куда ты теперь ткнешься со своими стихами? Думаешь, после этого они будут с тобой целоваться?
— Будут! — сказал самонадеянно Чижиков. — Никуда не денутся! Побоятся: это ведь будет выглядеть как месть за критику. А потом — за мной стоит сам Философ! А это — сила!
— Я стараюсь, стараюсь наладить отношения, а ты все разрушил… Почему ты не показал мне это до собрания?
— Знаешь, Дана, творчество — дело все-таки сугубо индивидуальное, и тут, прости меня, я должен быть свободен!
— Какое же это творчество? — удивилась она. — Это поступок, выпад.
— Творчество, милая, тоже поступок! Да ты не огорчайся, все будет о’кей! Видела бы ты, как меня чествовали после собрания ребята! Это был триумф! Ради этой одной минуты стоило заложить и целую сотню этих разлюбезных тебе старперов. Однако я устал чертовски… Прости меня, давай отложим наш разговор до завтра?
2
После выступления на собрании Чижиков долго купался в славе. Специально для этого каждый вечер ходил в Дом литераторов, чтобы выслушивать похвалы и восхищения в свой адрес. В вестибюле и в кафе его похлопывали по плечу, жали руки, одни клялись в дружбе, другие напрашивались в союзники. Незнакомые и стеснительные смотрели на Чижикова издали и завидовали тем, кто крутился и юлил возле него в непосредственной близости. На собраниях секций и разных комиссий его постоянно цитировали, ссылались на него как на авторитет. Ему и пост дали, как и предрекал Философ, правда, не такой, на какой рассчитывал Чижиков, но все же какое-то продвижение по общественной лестнице — его ввели в состав бюро комиссии по работе с молодыми. Скорее это было сделано по принципу: инициатива наказуема, чтобы сделать и Чижикова ответственным за эту работу. Но он был рад и этому, как некоей ступеньке, за которой неминуемо должна последовать и вся лестница, которая приведет его на вершину власти и славы.
Справедливости ради следует сказать, что далеко не все восприняли речь Чижикова как искренний вопль души, которая изболелась за судьбу литературы, нашлись и такие, кто распознал истинную цену этого вопля.
Как-то Чижиков увидел в Доме литераторов Ваню Егорова, кинулся к нему с широкими объятиями — вот, мол, какой я широкий, несмотря ни на что, ни на твои выпады против меня, ни на мою славу, я готов обнять тебя по-дружески и взять под свое покровительство.
Но Ваня, застенчиво улыбаясь, спокойно и медленно снял с себя его одну руку, потом другую, сказал, отряхиваясь:
— Да ну тебя на фиг, Чижиков. Да… Не хочу я с тобой даже и разговаривать, а не то чтобы обниматься-целоваться. Да… Ты же спекулянт, Чижиков, да, спекулянт самый настоящий, да… И выступал ты как спекулянт, да… Правильные вещи говорил, но это же не твои мысли, не свое ты вынес на трибуну, да. Убей меня, но то было все чужое, и взялся ты за это, чтобы набить себе цену, обратить на себя внимание, а если удастся, то и выбить должность. Да… У тебя ж, Чижиков, ничего своего нет, у тебя все заемное. Да… Как песни у скворца. Даже хуже: тот подражает хорошо, а ты плохо. Да… И женился ты как спекулянт. Да… Нет, скорее как паразит. Ты обязательно должен на ком-то паразитировать — и в жизни, и в творчестве. Вот и оседлал несчастную вдову и теперь ездишь на ней в прямом и в переносном смысле. Да… Паразит ты, Чижиков, да, паразит и наездник, и ну тебя на фиг и иди ты от меня к богу в рай, да, если он тебя примет.
Слушал Чижиков Ваню, кусая нервно нижнюю губу и сжимая кулаки. Побагровел весь. «Ударить? — кипел он. — Нет, это уже не для меня…» Оглянулся на окруживших их бывших студентов, других любопытствующих, выдавил из себя снисходительную ухмылку:
— Все? Выговорился? Ну что ж, спасибо за откровенность. Знаешь, каждый ценит другого в меру своей испорченности.
— Ну да, ну да, — закивал Ваня. — Это я-то испорчен паразитизмом?
— Хуже. В тебе сидит зависть, злоба. Ты просто завидуешь мне. Да-да! Впрочем, время нас рассудит.
— Странно, что ты не сказал «история». Да… Времени больше нечем заниматься, как судить Чижикова и Ивана Егорова.
— Рассудит, — повторил Чижиков и пошел прочь с гордо поднятой головой, хотя на душе скребли кошки и хотелось на ком-то сорвать зло. На Данае это делать он пока не решался, считал, что он еще недостаточно укоренился.
Когда она заехала за ним в ЦДЛ в назначенный час, он, против обыкновения, встретил ее сухо и тут же заспешил на выход, словно торопился скорее скрыться с глаз любопытствующих. Даная еле поспевала за ним. И в машине он сидел мрачнее тучи, молчал, смотрел в боковое стекло на редких прохожих в этот поздний час.
— Что-нибудь случилось, милый? — спросила Даная. — Тебя кто-то обидел? Кто?
— Нашлись… — нехотя отозвался он.
— Кто? Чем?
— Да-а… — протянул он досадливо. — Завистники чертовы.
— Стоит на них обращать внимание?
— Наверное, стоит. Знаешь, друг горькую правду в глаза никогда не скажет, а враг — этот так врежет. Может, благодарить надо за это?
— Горькую правду? Какую же тебе горькую правду сказали? — допытывалась Даная.
— Да-а… — Ему не хотелось пересказывать упреки Егорова — все-таки там была правда, и он сказал неопределенно: — О нас с тобой…
— О нас с тобой? Все еще говорят? — Чему-то обрадовалась Даная. — И что, интересно, говорят?
— Чему ты радуешься? Ничего хорошего не говорят.
— А все-таки?
— Обычное! Что не я женился на тебе, а ты женила меня на себе, что я не хозяин в доме, что ты держишь меня под каблуком.
— Сейчас сочинил? — спросила она.
— Почему сочинил? Люди же не слепые, они все видят.
— Что они видят? — рассердилась Даная. — Ничего они, значит, не видят. Но ты-то видишь, знаешь, что это не так? Почему молчишь?
— Знаешь, Даная, они все-таки в чем-то правы. Мне надоело сидеть все время с правой стороны и чувствовать себя пассажиром. В машине — пассажир, в доме — квартирант. Я все-таки мужчина… муж, в конце концов. А на самом деле?
— Юрочка! — воскликнула Даная, словно нашла счастливую отгадку. — Да ведь тебя мучает чувство неполноценности. А молчишь. Я с удовольствием отдам тебе в руки все бразды правления — и в доме, и в машине. Хочешь?
— Мне, как ты сама понимаешь, все это ни к чему, но люди говорят.
— Вот и хорошо. Завтра же мы им заткнем глотку: переведу счет на твое имя и устрою на курсы автолюбителей.
В ответ он небрежно усмехнулся — вроде как все это ему до лампочки, однако не сказал: «Не надо». Похвалил себя: удачно сымпровизировал разговор, о котором давно мечтал. Однако осадок от стычки с Егоровым не проходил. Дома, закрывая дверь, увидел в углу кучу газет и журналов, которые он когда-то выбросил из кабинета. Куча эта таяла медленно — Даная не торопилась расставаться с нею, тщательно перебирала все, искала заметки, записи писателя и аккуратно складывала в папку: она работала над мемуарами Евтюхова и все это ей могло пригодиться. Чижиков видел ее заботу о Евтюховом наследии и втайне ревновал ее к умершему мужу, но молчал. А тут не выдержал, пнул газеты ногой, сказал ехидно:
— До сих пор лежит — мешается. И что ты ищешь в этой куче, какое жемчужное зерно? Нет там ничего. Носишься со своим Евтюховым…
— Между прочим, он пока нас кормит, — заметила Даная.
Чижиков вытаращил на нее глаза:
— Ага! Упрекаешь куском хлеба?
— Юра, успокойся. Хватит.
«Нет, нет, — остановил он себя. — Рано: я тут пока не хозяин».
— Прости, Дана. Эти сплетни меня так взвинтили… Поэтому мне всюду мерещится подтверждение этих сплетен. Прости.
3
Чижикову по-прежнему не писалось. Правда, стычка с Иваном Егоровым немного встряхнула его, он с ходу сочинил небольшой цикл сердитых отповедей клеветникам и завистникам, но эти стихи даже по собственному разумению Чижикова были слишком слабыми: вялыми, мелкими и сумбурными. Зато выспренность перла через край, как перекисшее тесто из квашни:
Как норовистого коня Оседлал я счастье. Пошли вы напрочь от меня Со своим участьем! Я сделался умней И, конечно, строже: Нет у меня друзей! И враги ничтожны тоже.Получив это послание, Егоров долго хохотал:
— Ой, робята! Ой, не могу! Сирота-то, смотрите, как разъярился! Да… Чего только не нагородил. Он коня оседлал! Да еще — норовистого! Мустанга! Какого коня? Старую клячу оседлал он! Да, старую… А это? «Я сделался умней»? С чего бы это вдруг? Ой, братцы, не могу! Ну, дает! А по мне, так он и последнего ума лишился. — Егоров покрутил листок, заглянул зачем-то на оборотную сторону. — Ну Чижик! А вообще я вам скажу, робята, для Чижикова эти стихи очень даже хороши! Да, хороши. Как бы не взял он их у кого-то на прокат. Вы смотрите: и рифма есть, и даже знаки препинания. Да… Боюсь, найдется когда-нибудь дотошный литературовед, и, если у него будет лишнее время и желание покопаться в подшивках, он наверняка наткнется на оригинал, который послужил Чижикову источником столь гневного вдохновения. Да, найдет, попомните мое слово.
Еще на какое-то время Чижикова выручила и поддержала на плаву мода сочинять короткие новеллы. С чьей-то легкой руки эти «новеллы» заполонили почти все издания, а в субботние дни они печатались даже в вечерних газетах. Вот одна из них: «Выбоина на дороге» — это заголовок, а далее следовал такой глубокомысленный словесный изыск:
«Шел я по дороге, споткнулся и упал. И только теперь заметил выбоину. А ведь заметь я ее раньше да обойди ее — и ничего бы не случилось. Вот и в жизни так же: поди узнай, где упадешь, где тебя подстерегает беда…
Не отсюда ли пошла народная мудрость: «Знал бы, где упасть, соломки подостлал бы»?»
Такие проникновенные и с таким глубоким философским осмыслением выбоин, пней, кочек сочинялись эти маленькие «шедевры» в неимоверном количестве. Писались они малыми и большими циклами, издавались буклетами, брошюрами, книгами.
Циклы эти имели названия, каждый автор именовал свои новеллы на свой лад, чтобы их не спутали с другими, к тому же каждый старался придумать что-то позаковыристей, а точнее — повыспренней, стремился перещеголять соперника в зауми. Если один называл свое детище «Бриллиантовыми блестками», то другой пыжился забраться хотя бы на ступеньку выше и именовал плод своего ума «Жемчужными зернами». Третий, глядя на первых двух, лез еще выше и выдавал «Золотые россыпи». Четвертый, не найдя ничего лучшего, зачерпнул название из другого ряда камней и явил миру «Кремниевые осколки». Пятый тут же переплюнул его, вывалив на прилавок целую «Горсть алмазов». Остальные, кому не досталось уже ни камней, ни металла, облачались в маску мудрой скромности и именовали свои «россыпи» просто: «Озарения», «Наития» и даже совсем скромно: «Афоризмы». В последнюю очередь на этот жанр набросились эпигоны и, как саранча, опустошали все оставшиеся хоть мало-мальски невозделанные участки, в ход пошли «Опилки», «Пылинки», «Крошки», «Гвозди», «Шпильки», «Стружки», и т. д., и т. д.
Само собой разумеется, что в этих «зернах», «наитиях» и «опилках» было столько золотых и бриллиантовых блесток, столько остроумия и глубоких мыслей, сколько спирта в вешнем половодье. В самом деле, это насколько же надо быть одаренным человеком, чтобы навалять целую книгу философских притч! Встань из могилы кто-то из древних Сократов, наверняка снова умер бы от зависти.
А тут нашлись и теоретики, которые всерьез обсуждали эти «Золотые россыпи» на журнальных и книжных страницах. Одни утверждали, что это пишется от лени и оскудения авторского мышления, другие говорили, что это, наоборот, проявление щедрости таланта, что это свидетельство писательского богатства, так как каждую такую «опилку» автор мог бы развернуть в рассказ, в повесть, в роман, в эпопею, а он вот, хороший такой, пощадил нас, читателей. Ну что же, скажем мы в свою очередь автору: и на том спасибо, что не развернул, хоть читать меньше. А то разверни он иную «блестку» в эпопею — мысль та же, куценькая, а читать пришлось бы вон сколько!
Прочитал Чижиков у одного «Осколки», прочитал у другого «Обломки» и просиял: «Да ведь их можно клепать по десятку в день! Это же мое спасение! Не вставая с места, я таких новелл кучу нахомутаю!»
И тут же засел и начал «клепать» и «хомутать». И действительно, с ходу сочинил несколько новелл, а мог бы и больше, но устал.
КОСТОЧКА
Я очень люблю вишни. Но не люблю косточки — и всегда выплевывал их. Выплюнул ее и на этот раз. Но почему-то запомнил место, куда плюнул. И вот через несколько лет мне снова пришлось быть на том месте, куда плюнул. И увидел я там роскошное дерево, усыпанное крупными спелыми ягодами, точно такими, как я когда-то съел. Но меня поразила не вишня, а совсем другое: как часто мы не задумываемся, что мы выплевываем и куда плюем.
ПРОСО И ПШЕНО
В детстве я очень любил пшенную кашу. Но не любил, когда в ней попадались черненькие твердые зернышки проса.
— Тьфу! — отплевывался я, негодуя, когда на зуб попадало вот такое твердое зернышко.
А бабушка говорила:
— Это ведь просо! Не будь проса, не было бы и пшена.
Теперь я вспоминаю ее слова и думаю: «До чего же мудрой была моя бабушка, а я этого не ценил…»
Вот в таком духе и насочинял Чижиков десятка полтора новелл. «Выбоина на дороге» — тоже из его арсенала. Отнес в журнал — напечатали: «Юрий Чижиков. «Шарики».
Но Чижикову явно не везло, словно фортуна отвернулась от него всерьез и надолго: ни вирши, спровоцированные Иваном Егоровым, ни тем более новеллы никаких дивидендов ему не принесли. Все прошло незамеченным, его «Шарики» не только никакой сенсации не вызвали, но даже самых обыкновенных откликов не появилось. То ли мода на такой жанр прошла, то ли «Шарики» были настолько примитивны, что на них никто не обратил даже никакого внимания. Пожалуй, причина скорее всего в последнем: при чем тут жанр, а тем более мода? У талантливого писателя и «Затеси» талантливы, а у бездарного и трехтомная эпопея — всего лишь игра в литературу.
И Чижиков снова сник, запсиховал, родничок, из которого он черпал сюжеты для своих «Шариков», быстро вычерпался: ему по-прежнему не писалось. О том, что он выдохся, Чижиков боялся признаться, он все еще надеялся, что пройдет время — и родничок наполнится, и вдохновение вернется.
Чижиков заметил, что он вдохновлялся, как правило, лишь в состоянии злобной ненависти к чему-то или к кому-то. Как пес, который лаял только на людей с палками. Ему не хватало внешнего раздражителя, и он надеялся, что эта полоса пройдет. Но, увы, она безнадежно затягивалась. Лопалась и надежда на то, что его вечно будет кормить славой багаж прежних успехов. Как у классиков: написал одну комедию «Горе от ума» — и на всю жизнь. Однако и тут — увы — просчитался: во-первых, у него и багажик-то невелик, а во-вторых, в наше время любой багаж надо постоянно пополнять, его все время надо подкачивать, как дырявую резиновую лодку, иначе быстро пойдешь ко дну. Чижикову поддувать было нечем, и он скоро почувствовал, что идет ко дну: и говорить, и писать о нем перестали, словно и не было такого.
Чижиков бесился, стал раздражительным, литературные журналы видеть не мог — там публиковались стихи и проза других писателей, газеты комкал и рвал с остервенением, едва раскрыв их: там печатались рецензии и статьи все о тех же — о других — писателях, а не о нем. Особенно лютовал он, когда видел имя своего сверстника, сокурсника или просто знакомого — тут поток его брани и язвительных замечаний достигал силы необыкновенной, словно взрывался грязевой фонтан, словно прорывалась под большим напором канализационная труба. Ну а когда речь шла о премиях и награждениях писателей, тут он зеленел и буквально задыхался от злобы и зависти.
Даная, как могла, утешала его, а сама работала, работала над рукописями Евтюхова, публиковала их кусками в периодической печати, пробивала книги в издательствах — зарабатывала на хлеб. Чижиков смотрел на нее и, как суеверный человек, все больше склонялся к мысли свалить на нее вину за свое бесплодие: ведь раньше у него шло с набором высоты, а тут будто отрезало все.
Как-то, когда Даная стала к нему ласкаться, он не выдержал, оттолкнул ее, заорал истерично:
— Отстань! Ты из меня все соки высосала!
— «Соки»? — удивилась Даная. — Какие соки? О чем ты говоришь… милый?
— Ты сексуальная маньячка, ты сделала меня творческим импотентом! Алексей Толстой говорил, что на творческий процесс и на любовь расходуется одна и та же энергия. И это так, я это чувствую по себе.
«Ну, насчет импотенции, милый, ты к ней предрасположен и в том, и в другом процессе», — подумала она, но ничего не сказала, а только смотрела на него задумчиво и разочарованно.
— Что уставилась? Почему молчишь? — ярился он, чувствуя несостоятельность своей теории.
— А что я могу сказать? — сдержанно проговорила она. — Не читала ничего подобного, не знаю. Это Алексей Толстой говорил? Странно, вроде умный писатель. Что же это, как сообщающиеся сосуды получается? Странно. — Она хотела свести на шутку и добавила: — А вот Лев Толстой ничего подобного не говорил, а написал столько, и детей было…
— Ты на что намекаешь? — вскинулся Чижиков. — Ты на что намекаешь? Повтори!
— Знаешь, милый… Если это игра, если это в тебе напускное, прошу — прекрати этот спектакль, — сказала она твердо. — А если ты действительно такой и есть, я очень сожалею…
— О чем? Договаривай!
— Обо всем! — Она повернулась и вышла, хлопнув дверью. А он упал на диван и начал терзать подушку — бить ее, мять, колотить, будто она была виновата во всем, чем обделила его природа. Потом захныкал, завсхлипывал, зарыдал громко и наконец застонал, будто его давило предсмертное удушье, а сам все прислушивался, ждал: вот-вот войдет Даная, станет жалеть его, утешать, успокаивать. И конечно же повинится в своей жестокости к нему. Но он будет непреклонен и так просто не примирится с нею — пусть знает, с кем имеет дело, он не какой-то там простой смертный.
Однако, как ни старался Чижиков, как ни бился в истерике, Даная к нему не пришла.
«Ну хорошо же! — мстительно проскрипел он зубами. — Ты еще об этом пожалеешь!»
Притих и уже спокойнее стал размышлять: «Не пришла… Хоть умри я здесь… Как же так? Она же не может знать, что я притворяюсь. А вдруг я умер?! Умер!.. Значит, я ей безразличен? Значит, она меня не любит? Больше того — ненавидит? Меня?! Какая жестокость и какое невежество — так относиться к гениальному человеку. Ведь ей история этого ни за что не простит, как она этого не понимает! Мама никогда бы так не поступила, — вспомнил он вдруг свое детство. — Мама…» И он снова захныкал, заскулил, как озябший брошенный щенок.
Поскулил, поскулил и незаметно уснул. Но и во сне все время вздрагивал, вздыхал и завывал по-щенячьи.
Говорят, с бедой надо переспать, и к утру она уже не будет казаться такой неодолимой, и жизнь, загнанная в тупик, покажется не в таком уж безвыходном тупике, как представлялась накануне, когда виделся только один исход — крепкая веревочная петля.
Чижиков в эту ночь спал со своей бедой, а не с Данаей и утром проснулся с необыкновенной легкостью на душе и слабостью в теле, как после тяжелой болезни. Столько сил и энергии затратил он на демонстрацию истерии — и все напрасно. И вот теперь лежит он сиротливо на диване с озябшими ногами, прикрытыми газетой, с болью в шейных позвонках от твердого диванного валика вместо подушки, с набрякшими от слез глазами и с жалким ощущением абсолютной ненужности на белом свете. А в окно гляделось чистое, безмятежное, ласковое утро.
«Как же быть мне теперь? — была первой мысль в его голове после пробуждения. — Развестись? А что я от этого выиграю? Ну, вышибу я ее из дачи, ну, отниму половину квартиры, и что? Как жить буду один? При ней и дом ухожен, и сам — обстиран и накормлен, она заботится обо всем. Наверное, зря вспылил? Но она-то, она какова! Так и не пришла… Что ж, придется проглотить эту пилюлю, в другой раз буду знать, что этим ее не прошибешь. А сейчас попрошу прощения, авось не слиняю от этого…»
Он поднялся, вышел медленно из комнаты, прислушиваясь, где Даная. Она была на кухне, и Чижиков прошел туда, остановился в дверях с виноватым видом, хотел улыбнуться ей, но она не смотрела на него, и тогда он подошел к ней, положил мягко руки на ее плечи. Она резким движением сбросила их:
— Не подходи ко мне, я ненавижу тебя.
— Прости, Дана… Я виноват… Но пойми мое состояние…
— Ты оскорбил меня.
— Я знаю… Поэтому и прошу: если можешь — прости. Больше это никогда не повторится. Поверь мне, прошу.
— Ты жестокий. Я всю ночь проплакала, а ты даже не пришел.
— Я тоже, Дана, был вне себя.
— Но ты же мужчина!
— Ты права, я не должен был так распускаться… Прости, Дана, — он привлек ее к себе, она не сопротивлялась, уткнулась лицом ему в плечо. Он взял ее голову в обе ладони, приподнял и стал страстно целовать в губы. Она ответила ему крепким объятием, а через минуту цветной халат Данаи уже валялся на полу и долго оставался так в одиночестве, пока помирившиеся супруги, оказавшись в спальне, предавались вожделенной любви.
Ах, эта любовь! Как она сладка после ссоры! Как погожий день после долгого ненастья.
4
От нечего делать, от тоски Чижиков перебирал на стеллажах книги Евтюхова, некоторые брал себе на диван, пытался читать, но быстро задремывал, книга валилась из рук и падала на пол. Он вздрагивал от громкого стука тяжелой книги, но поднять ее было лень, переворачивался на бок и засыпал.
Когда Чижиков добрался до крайней застекленной секции, он обнаружил там великое сборище исторических книг. Были тут и новые издания, но больше старых — в толстых картонных переплетах с кожаными тиснеными корешками и кожаными уголками. Бумага сплошь желтая, пахнущая тленом. Факсимильные издания, древнерусская литература, летописи, диссертации, какие-то серийные выпуски «на правах рукописи», сами рукописи, и все это переплетено и классифицировано определенным порядком. И вдруг тут же, среди книг большого формата, Чижиков увидел толстый фолиант без названия на корешке. «Наверное, старые журналы переплетены», — подумал он и потянул книгу с полки. На лицевой толстой корочке тоже никакого обозначения не было. Но когда он отвернул обложку, а потом — чистый лист форзаца и увидел титульный лист, у него глаза полезли на лоб, а дыхание перехватило комком. На титуле значилось:
Ев. Евтюхов
МАЛЮТА СКУРАТОВ
Историческое
повествование
Еще не осознав, что это такое, не заглянув в текст, он, тем не менее, каким-то чутьем понял, что выудил нечто необычное. И не просто необычное, а то, что может его спасти, поднять и прославить, если… Сердце учащенно забухало, он заметался по комнате, словно нечаянный убийца, ищущий, куда бы спрятать труп убитого им человека. Подбежал к двери, спустил защелку, она клацнула громко, он вздрогнул. Вспомнил, что Данаи нет дома, обрадовался, тем не менее тихо, на цыпочках прошел к столу, открыл первую страницу, прочитал на пожелтевшем листе:
«ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КАЗАНСКИЙ ПОХОД
I
Царский шатер взметнули на высоком холме.
Иван отдернул сердито полог, вышел на волю и тут же остановился резко, не иначе кто-то ткнул его в грудь. То яркое солнце ударило царя по глазам. Сдвинул Иван брови, сгреб черную бороду цепкой рукой и дважды огладил ее сверху вниз, будто выжимал из нее воду. Глянул вправо — там до самого окоема войсковые кухари костры жгли, белый дым от них ровными столбами подпирал небо. Глянул влево — внизу широкая Волга играла серебром мелкой зыби, а за ней опять же до самого окоема густо зеленел бор. А прямо перед ним, где-то в синеватой дымке, была Казань. Она не видна, но царь угадывал ее, чуял, как пес лакомую дичь.
Еще раз огляделся вокруг Иван, сказал вполголоса:
— Лепота! — и улыбнулся.
Из палатки вслед за ним вышел Федька Басманов, поддакнул царю:
— Вельми день пригож! — и отогнал, будто кур шуганул, стражу подале: — Поразвесили ухи! Ну-к!
— Какой день ноне? — не оборачиваясь, спросил Иван у Федьки.
— Быдто Козьмы и Демьяна.
— Ишь ты!.. — чему-то удивился царь. — Хороши, добрые, знать, были эти Козьма и Демьян. Стало быть, и наречем место сие Козьмодемьянском. А?
— Как скажешь, цесарь. Хорошее имя.
Царь повел орлиными глазами и остановил их на пестрой толпе, тесно сгрудившейся на отдаленном лугу.
— Это кто такие? — спросил царь, насупясь.
— Черемисы, — ответил Басманов.
— Чего им надобно?
— К тебе пришли в помощь. Просят принять их в твое войско. А привел всех ихний батыр.
— То добрый знак! Пошто ж, дурак, молчал? Зови батыра».
На последней странице было выведено размашисто, крючкообразно:
«Конец»
И — дата: «20 мая 1941 г.»
Закрыл книгу — и чувствует Чижиков: голова начинает кружиться — не выдерживает лихорадочной работы ни его маленький мозг, ни истощенное в «муках творчества» сердчишко. Лег на диван, книгу положил себе на грудь, она придавила тяжело, словно плита каменная. Смотрел в потолок и шептал: «Конец… Конец… А для меня — начало! Переписать своим почерком… А тем временем слух пустить: влез в историю, наклевывается повестуха… Начитаться надо, подковаться — чтобы не подловили…» И вдруг, как ожог, новая догадка: «А что, если о рукописи знает Даная? Надо как-то выведать». По всем признакам — не знает: она ни разу о ней не говорила… Если бы знала, она ее уже давно бы определила… Повесть закончена в мае сорок первого — перед самой войной, а Евтюховой женой Даная стала лет пятнадцать тому назад. Нет, не должна знать…» — успокоил он себя.
В коридоре громыхнула дверь. Чижиков вскочил, сунул рукопись в тумбочку стола, в самый низ под бумаги, вышел навстречу Данае.
— Что с тобой, милый? — взглянула на него Даная.
— А что?..
— Не заболел?
— А… Голова что-то трещит. Читал много…
— Я тебе дам таблетку. — И она заспешила на кухню.
— Начитался, говорю. Интересные книги у старика собраны… Исторические… Оказывается, это такая увлекательная штука — история! — продолжал он, следуя за ней.
— Евтюхов любил историю, — сказала она. — На вот, милый, запей.
— И есть за что любить! То-то у него и стихов много на историческую тему…
— Да… — подтвердила она. Чижиков ждал, что Даная вот-вот скажет: «И не только стихи, он писал и прозу». Но она не сказала, и Чижиков немного успокоился и, чтобы не вызвать подозрений, историческую тему продолжать не стал.
— Пойду прилягу…
К концу дня Чижиков неожиданно взбодрился и вознамерился пойти даже «проветриться» в ЦДЛ.
— Давно не вылезал… — объяснил он Данае свое желание. — С ребятами повидаться охота… Вроде даже соскучился…
— Меня не приглашаешь, милый?.. — сощурилась Даная.
— Дана… — Чижиков положил руку ей на плечо: — Ты только не обижайся, а пойми меня… Я бы хотел пойти один… Иногда бывает такая прихоть.
— Понимаю: я тебя стесняю.
— Ну не то чтобы, а… Мы с тобой в другой раз сходим… Выйдем в свет! А сейчас мне хочется побыть одному… Как на мальчишнике…
— Ты договорился уже с кем-то?
— Нет. Думаю, там обязательно кто-то будет.
— Ну-ну…
— Не сердись только.
Он был прав: в ЦДЛ обязательно кого-то встретишь. Правда, не всегда того, кого хочешь, но Чижикову на этот раз было все равно. Ему годились любые собеседники, лишь бы выслушали его и разнесли услышанное пошире.
5
Центральный дом литераторов жил своей обычной муравьиной жизнью. В дверях толклись жаждущие попасть в «логово Пегаса» яркие девицы с красными и блестящими, как помидоры, щеками и грустными, как у новорожденных телят, в черной окантовке глазами. Они шли на разные уловки, чтобы только оказаться по ту сторону барьера, где уже дефилировали со вздернутыми головами, гордые как гусыни такие же, как и они, пришедшие сюда на ловлю знаменитостей, хотя настоящие знаменитости сюда уже давно не заглядывают.
Строгие вахтерши ревниво и свирепо, подобно морским львам, охраняющим лежбище своего гарема, держали оборону у врат этого вертепа. И только богу одному известно, как этим девицам в конце концов удается все-таки проникнуть сквозь столь плотный заслон.
Чижиков, как горячий нож масло, разрезал толпу независимым «Разрешите!» и, ни на кого не глядя, предстал перед вахтершами. Сразу четыре руки уперлись ему в грудь:
— Товарищ, товарищ!.. Вы член?..
— Боже мой! — досадливо поморщился Чижиков. — Стоило неделю не появиться, как уже напрочь забыли. — И он не спеша полез в карман, достал пухленькие, как подушечки, красненькие корочки с золотым тиснением.
— Пожалуйста, пожалуйста, проходите, — дружно закивали вахтерши, освободив ему дорогу.
— Извините, — сказала одна.
— Вы не обижайтесь, — добавила другая. — Константин Михайлович Симонов всегда сам предъявлял удостоверение.
— Симонову было легче… — сказал Чижиков, неизвестно что имея в виду, однако вахтерши улыбнулись, будто поняли и оценили остроумный ответ.
По многочисленным закоулкам Дома взад-вперед сновала жаждущая славы литературная мелкота и падкая на сплетни окололитературная шушера. «Ни одного порядочного лица!» — брезгливо подумал Чижиков. И хотя многие его узнавали, провожали завистливым взглядом, перешептывались, а некоторые даже здоровались, но все это было не то, чего он ждал, хотя и льстило.
Размалеванное шаржами и расписанное остроумиями веселых завсегдатаев, как пристанционная уборная, кафе гудело приглушенным гулом. За столиками плотными кучками в самых невообразимых позах сидели любители пить, курить, восторженно говорить о себе и презрительно — о других.
В плотных клубах сигаретного дыма лица были трудно различимы, и Чижиков, приостановившись, дольше обычного поводил глазами по залу. Лишь в дальнем углу заметил он знакомую фигуру: там в обычной своей согбенной позе сидел мрачный человек с бледным и дряблым, как у наркомана, лицом. Перед ним стояла начатая бутылка пива, стакан и наполненная окурками пепельница. Кто этот человек — никто не знал, хотя сидел он здесь всегда. Сколько Чижиков помнит — он здесь в любое время дня и ночи сидит и думает. О чем думает — тоже никто не знал. К его столику никто не подсаживался, изредка, скорее всего машинально, кто-то, проходя мимо, здоровался с ним, человек взбадривался, поднимал голову, на лице появлялось подобие удивленной улыбки, он хотел ответить, но, как всегда, опаздывал — рядом уже никого не было, и он снова мрачнел и продолжал думать свою думу.
Узким коридорчиком, через бар, Чижиков прошел в Дубовый зал. Ресторан тоже был заполнен до отказа, и Чижиков хотел было уже ринуться с ходу через зал к противоположной двери, но тут его весело окликнули:
— О, Юрок! Сирота! Греби к нашему берегу!
Чижиков обернулся и увидел плотную кучу молодых ребят, словно мухи, облепивших маленький столик, и возвышавшегося над ними уже изрядно подвыпившего Гаврюху Горластого. Гаврюха занимал целиком одну сторону стола, а все остальные сгрудились на противоположной. Тут же, под кучей ребят, спал Доцент, подложив под лоб вместо подушки свои кулаки.
— Иди познакомься: славные ребята! — Гаврюха встал, раскинул широко руки, словно хотел обнять покорных, как цыплята, «славных ребят». — Новый курс, мой семинар! — Гаврюха приобнял Чижикова и, тыча ему в грудь указательным пальцем, сказал сидящим: — Это тоже мой ученик! Вот какой орел! Хоть и Чижиков. Ха-ха! Прошу любить и жаловать: Юрий Чижиков! — и захлопал в ладоши, как провинциальный конферансье.
— Чижиков?
— Да мы знаем Юрия Ивановича.
— О, знают! «Юрий Иванович»! Место Юрию Ивановичу, быстро! — распорядился Горластый.
Ребята задвигались, потеснились, высвободили Чижикову стул, и он уселся по правую руку у Горластого.
— Что за переполох? — промычал пьяно проснувшийся Доцент. Он поднял голову, продрал глаза и, увидев Чижикова, снова промычал: — А-а… Сирота… Я тебе говорил и еще раз говорю: ты неправильно женился. Надо было на дочери Председателя.
— Да нет у него дочери, — засмеялся Чижиков, обратив его слова в шутку.
— Это не имеет никакого значения!
— У Философа дочери, но они все замужем, — продолжал Чижиков.
— Правильно, — икнул Доцент. — Надо было на них.
— Так замужем же.
— Это не имеет никакого значения! — стоял на своем Доцент.
Гаврюха тоже улыбался, по-отечески потрепал Доцента по мясистой щеке:
— Ладно, Доцентушка, ладно… Отдохни, бай-бай, дай нам поговорить.
— А я что?.. Разве я?.. И ничего… Пожалуйста. — И он, закрыв глаза, уронил голову себе на грудь.
— Ну, ты где пропадал? — обернулся Горластый к Чижикову. — Заел быт? Заел! На, выпей, — он налил ему в чью-то стопку. — Давай! Во! Слушай, так ведь не годится: пропал, совсем исчез!
— Кризис!.. — вздохнул Чижиков.
— «Кризис», — вздернул голову Горластый. — А ты зачем? Ты же человек! Воля зачем? Надо любой кризис брать за горло! Слушай, давай к нам в институт!
— Да я и так там, в аспирантуре числюсь. Правда, пока ничего не делаю… Могут, наверное, уже и погнать?
— Аспирантура! Мертвое дело! Я тебе предлагаю живое — семинар вести. Вот тут-то и аспирантура твоя оживет, если она тебе так уж нужна.
— Семинар?.. — раздумчиво переспросил Чижиков.
— Да, семинар. А что? Вот хотя бы моих ребят взял бы.
— А ты?
— В издательство приглашают. Главным. По поэзии.
— О!..
— А я, думаешь, не понимаю, что это «о!»? — гордо сказал Гаврюха. — Иди! Жалко ребят отдавать в чужие руки.
— Я ведь давно стихов не пишу, — пожаловался Чижиков. — На прозу потянуло. Лета к суровой прозе клонят.
— Какие твои лета!
— Лермонтова к этому сроку уже давно убили…
— «Убили»… И сейчас убьют. Запросто! Ты же понимаешь, о чем я говорю? Убьют! Не пулей, не-ет! Словом! Слово — страшнее пистолета. Это у нас умеют! Но не подставляйся! Не подставляйся, Юрок! — вещал Горластый, подняв указующий перст и поглядывая на соседние столы — хотел знать, все ли его слышат. И тут же после пафосной речи вдруг хлопнул Чижикова по плечу: — Ну так как насчет семинара?
— Соглашайтесь, Юрий Иванович!
— Соглашайтесь… — заныли на разные голоса «семинаристы».
— Возьмите нас, мы хорошие, — после всех дурашливым голосом пропел курносый белобрысенький паренек с девичьим чистеньким личиком. Пропел и застеснялся, покраснел весь, втянул голову в плечи, словно пытался провалиться сквозь землю. Чижиков поддержал шутку и тем выручил себя и паренька:
— Ну, если хорошие, придется… подумать.
— Хорошие, хорошие! — подхватил Горластый. — Чего тут думать? С ректором и с проректором я поговорю — свои ребята! Все будет в ажуре! Да и тебе, дружок, надо иметь какое-то живое дело. В наше время писатель без должности — нуль. Ну, не совсем, конечно, и не каждый, но я скажу так: трудненько ему, бескресельному-то. Вот ты замкнулся в башенке со своей распрекрасной Данаей и как поэт Чижиков уже куда-то исчез. Понял меня? Так что думать тут нечего. Будем считать — договорились. Лады?
— Лады, — сказал Чижиков и подумал: «Все-таки я везучий: такое предложение! О, если бы все это не было болтовней… Я — преподаватель по поэзии! А этих ребятишек… А эти ребятишки — все мои подручные: буду тянуть их, они будут подпирать меня… Нет, нет, тут действительно не о чем раздумывать, может быть, стоит даже подключить Данаю для верности, пока не перехватили?..»
— Ну, что приуныл?
— Сомнения одолевают, — сказал Чижиков грустно. — Лишаюсь свободы…
— Э, друг, свобода — она хороша, когда у тебя все есть: и слава, и деньги. Притом — прочные, капитально! А так… Свобода нищего меня не устраивает! Ха-ха!..
— Ты прав, — кивнул Чижиков.
— А то нет? — громыхнул Горластый.
— Но и духовная свобода… Независимость от всяких условностей, законов, установок, строгостей для творческого человека — не последнее дело, — добавил Чижиков.
— Это ты, брат, в слишком высокие материи полез, — закашлялся Гаврюха. — Ишь чего захотел! Ладно, давай за ребятишек, — он поднял стопку, выпил. — Так, значит, на прозу, говоришь, потянуло? Это хорошо. Все наши великие поэты грешили прозой.
— Притом классически грешили, — отдал должное Чижиков классикам и скромно закивал головой: мол, нам так не суметь.
— А вдруг? — не выдержал Горластый и посмотрел на ребят. — С чем черт не шутит, правда, хлопцы? Плох тот солдат, который не носит в ранце маршальский жезл. Мудро́ умели выражаться.
«Хлопцы» скромно потупились, только белобрысенький пытливо смотрел широкими глазами то на Горластого, то на Чижикова, впитывал, как губка, каждое слово и восхищался их раскованности и умению умно говорить.
— Откуда будешь? — спросил у него Чижиков. И тот, довольный, что Чижиков выделил именно его, с готовностью ответил:
— Из древнейшего города, ровесника Москвы, — И, улыбаясь, сделал паузу — дал полминуты на разгадку, но сам же и пояснил: — Из Кром. — И добавил: — Саша Говорушкин.
— О, почти земляки! — сказал Чижиков, и Саша Говорушкин заулыбался радостно, будто его похвалили за хорошие стихи, в свою очередь тут же спросил:
— А вы откуда?
— Моя родина южнее… — И нехотя добавил, но не уточнил: — Почти соседи.
— Саша Говорушкин, — сказал Горластый, — хороший парень. Только фамилии пошли в поэзии какие-то… Говорушкин, Антошкин, Прошкин…
— Чижиков, — добавил Чижиков и спросил: — А что, Пушкин разве красивая фамилия? Я тоже мучился поначалу, искал себе псевдоним, а потом решил: «А попробую — чтобы и эта фамилия стала уважаемой». Когда мы слышим «Пушкин», у нас не возникает никакой ассоциации с пушкой. Пушкин значит Пушкин — поэт, гений.
— Ты прав, — Горластый накрыл ладонью Чижикову руку. — Дело не в фамилии, а в стихах. Делом человек красен, а не фамилией! Фамилия — это так, кличка: она может быть такая, а могла быть и другой. Простите, это я так насчет фамилии… Пошутил. А вот что ты на прозу перешел — это совсем недурно: прозаики как-то основательнее. Закатишь романею на современную тему!..
— Нет, не на современную, — поспешил Чижиков поправить Горластого. — На историческую.
Горластый удивленно поднял брови.
— Да-да, на историческую. Тут я как-то окунулся в историю — сколько же там интересных тем! Да поострее современных! А может, потому они и острые, что ассоциации ощущаются явные. Историей можно так ударить по современности!..
— Америку открыл! — развел руками Горластый. — Она ж, история, идет по кругу… Кругами. Все уже было! Было, было… И мы открываем давно забытое.
— Вот взять эпоху Ивана Грозного, — снова перебил Горластого Чижиков. — Малюта Скуратов — это такая личность! Притом так созвучно с нашим…
— Ходить бывает склизко по камушкам иным, о том, что очень близко, мы лучше умолчим, — прочитал Горластый. — Э, история, друзья мои, — великое дело!
Неожиданно в эту мирную беседу ворвался громкий возглас:
— О, Сирота гуляет!
Все подняли головы. Рядом стоял и улыбался во весь рот Иван Егоров. — Чижик, оплакиваешь потерю или торжествуешь успешное завершение операции?
— Какую потерю? Какую операцию? Что ты мелешь? — рассердился Чижиков; ему казалось, что до сих пор он так высоко парил в глазах этих ребят, и вдруг эта фамильярность…
— Он еще изображает из себя святую невинность! Будто ничего не знает!
— Что я должен знать?
— А то, что твой друг, наставник, покровитель и духовный единомышленник Воздвиженский остался там.
— Но я-то при чем тут? — растерянно спросил Чижиков, ища поддержки у сидящих.
— Как при чем? Ты же дружишь с ним. И что, он тебе ничего не говорил о своей затее? Все ведь уже догадывались, куда он лыжи навострил, а он все заметал следы: «Клевета! Я никуда не собираюсь бежать. Я только маму определил на лечение в Париже и езжу ее навещать». На лечение! В Париже! Тут, хоть умри, в районную больницу не определишься, а он в Париже! — улыбался и возмущался Егоров.
— Но я-то тут при чем? — пожимал плечами Чижиков.
— Да, Иван, — повел головой из стороны в сторону Горластый. — Действительно, он-то при чем? Мало ли кто с кем дружил! Вон, — указал он на притихших ребят, — убежит завтра из них кто-то, а я отвечай?
— А притом, что Воздвиженский уже выступает там по разным «голосам» и поносит всех и вся, кроме, разумеется, Чижикова и еще кое-кого.
— А меня? — вскинулся Горластый.
— Тебя тоже поносит.
— Это хор-рошо! — вдруг обрадовался Горластый и потер смачно руками.
— Я «голоса» не слушаю, — сказал Чижиков.
— А я слушаю, — проснулся Доцент. — И ничего…
— А зачем тебе их слушать? — продолжал Егоров, обращаясь к Чижикову. — Ты сам из тех же голосов.
— Ну-ну, ты полегче с такими обвинениями! — вскочил Чижиков.
— Ребята, ребята!.. — схватил Горластый Чижикова за локоть. — Не надо! Ребята, не надо! Юра, сядь. А ты, Иван, иди… Или подсаживайся к нам… А? Садись, выпьем…
— Сидеть рядом с этим?.. — Иван презрительно кивнул в сторону Чижикова, махнул рукой и пошел.
— Перебрал мужик, — подвел итог перепалки Горластый. — Бывает. Не обращайте внимания. Гарсон, нам еще по пятьдесят капушечек, — крикнул он официанту. — Вы как, хлопцы? Осилим еще по пятьдесят капушечек? Осилим!
6
Домой Чижиков возвратился в смятенном состоянии. Испортил вечер ему Иван Егоров. Хотя основное сделал — слух о том, что пишет исторический роман, выпустил. Ребятишки, да и сам Гаврюха, быстро разнесут эту весть по институту, а потом она пойдет гулять по всей литературной Москве. И отличная перспектива замаячила — семинар в Литинституте, если, конечно, Горластый не треплется и если, конечно, его возьмут… А почему бы и нет?
Так хорошо складывался вечер — и вдруг этот Егоров со своей новостью!
«Неужели правда? — с ужасом подумал Чижиков. — Начнут таскать, спрашивать, как, да что, да почему. Еще припаяют соучастие… А я ведь действительно ничего не знал, он ни словом не обмолвился об этом, наоборот, всех уверял, что никуда не собирается уезжать, что это сплетни недоброжелателей. Всем клялся-божился, просил напечатать его, чтобы таким образом обелиться в глазах общественности. И ему поверили — напечатали почти все разом: оба литературных еженедельника дали подборки стихов, «Огонек» — рассказ, «Неделя» — путевой очерк. Выходит, он всех дурачил? В том числе и меня? — с обидой заключил Чижиков свои размышления. — А может, и к лучшему, что не сказал? Вины на мне никакой нет, я ничего не знал и ничего не утаивал… Только поверят ли?..»
Увидев растерянную физиономию мужа, Даная обеспокоенно спросила:
— Что случилось, милый?
— Да ничего особенного. Все нормально…
— Как «нормально»? Я же вижу.
— Воздвиженский сбежал.
— Куда?
— «Куда». Туда, — раздраженно сказал Чижиков.
— Ну и что? Тебе-то что за дело? Почему так переживаешь?
— Странный вопрос! Мы ведь были дружны, начнут таскать, спрашивать.
— Кто? Зачем? — удивилась Даная. — Ты разве знал об этом, помогал ему?
— О чем ты говоришь?! «Помогал»! Я ничего не знал! Абсолютно ничего!
— Я тоже так думаю. Поэтому успокойся. Раздевайся.
— Он по «голосам» какие-то заявления делает.
— Ну и пусть. Затем и бежал. Там даром кормить не будут, — мудро заключила Даная. — Кого видел в ЦДЛ?
— Горластого…
— Это он сказал о Воздвиженском? Может и наврать.
— Нет, Егоров. Иван.
— Этот врать не будет.
Вечером они с Данаей лихорадочно крутили приемник, который визжал, трещал, пищал, будто сопротивлялся, пока наконец не выдал им далекий, еле пробивающийся сквозь неимоверный шум, хриплый голос:
«Советский Парнас — это скопище бездарных тщеславцев, которые только и делают, что делят многочисленные премии и грызутся из-за них. Получив комсомольскую или писательскую, добиваются республиканской, потом бьются за Государственную СССР, а получив Государственную, дерутся за Ленинскую. И так без конца! Никто не думает о качестве литературы, но все хотят премий. Некоторые, наиболее пробивные, уже нахватали столько их разных, что на груди места не хватает для лауреатских значков.
— Но вы ведь тоже лауреат?
— Нет. Хотели дать, но не потому, что им сильно нравилось мое творчество. Наоборот, оно им совсем не нравилось и не нравится, просто хотели меня убаюкать, ублажить, хотели ею заткнуть мне рот, чтобы я поменьше критикой занимался. Прищучить хотели. Но я не таков!»
— Он? — спросила Даная.
— По-моему, его голос, — сказал Чижиков, прильнув ухом к приемнику.
«Конечно, есть там и талантливые люди. Но им очень тяжело проявлять себя. К примеру, молодой еще поэт Чижиков. Совершенно своеобразный поэтический голос…»
— Обо мне говорит! — обрадовался Чижиков. — Молодец! На весь мир!
«…но ему очень трудно живется. О нем почти не говорят, замалчивают, печатают редко и неохотно».
— Дурак и провокатор твой Воздвиженский, — сказала Даная. — Он и впрямь может навлечь беду.
— Ты думаешь? — насторожился Чижиков и после этого целую неделю дрожал, бледнел от каждого стука в дверь, от каждого телефонного звонка. Однако это не мешало ему ночами, накрывшись одеялом, слушать одно и то же интервью Воздвиженского и упиваться пьянящей мыслью: «Обо мне говорят за границей! Обо мне знает заграница! Теперь меня не посмеют тронуть! Но храбрости этой хватало ненадолго, здравый ум подсказывал: «Тронут… Если понадобится, еще как тронут!..» И с неистовостью обреченной кликуши молился: «Хотя бы пронесло! Господи, пронеси эту беду мимо. Минуй меня чаша сия…»
Однажды телефон зазвонил, как показалось Чижикову, необычно резко. Он даже вскочил и стоя ждал, пока Даная снимала трубку.
— Юра, тебя, — сказала она спокойно, но он так перепугался, что не сразу сообразил, о чем идет речь, и захлопотал растерянно, стал лихорадочно прятать листок евтюховской рукописи, с которой переписывал текст своим почерком.
— Юра, тебя! — прокричала Даная. — Уснул, что ли?
— Меня? Зачем? Кто?
— Откуда я знаю. Какой-то грубый мужской голос.
— Мужской голос? Но почему ты не спросила?.. — Чижиков осторожно, будто она была раскаленной, взял трубку, хотел подать голос, но в горле запершило, он откашлялся, сказал: — Але… Я… слушаю… Чижиков слушает…
— Юра, ну где ты там? — раздался в трубке густой бас Горластого. — Ну что же ты? Я о тебе хлопочу, а ты ни звука. Передумал, что ли? Или упиваешься славой? Заграница о тебе вовсю говорит!
— Да ну, о чем ты… Перестань, — Чижиков оглянулся — не слушает ли его кто посторонний. — Ничего я не передумал. Просто заработался…
— Это хорошо! Но надо и это дело ковать. Ректор к тебе хорошо относится, готов взять, но ему, сам понимаешь, нужен толчок сверху.
— Откуда?
— Ну, из союза… Сам понимаешь. Хорошо, если бы твоя Даная нанесла визит Никону. Да и ректору — тоже было бы неплохо. Владимир Петрович ее хорошо знает, но сам понимаешь… А? Попроси ее. Дело стоящее. И не тяни долго, куй, пока горячо, а то остынет… Тут узнали некоторые, уже лезут, а я держу пока оборону, для тебя держу, понял?
— Понял.
— Ну давай, действуй! Что-то ты не в духе? Брось! Брысь, тоска, брысь, печаль! Ха-ха! Ну, бывай! Обнимаю.
— Кто звонил? — спросила Даная.
— Горластый.
— А… Дружка нашел!
— Он по делу… Еще прошлый раз он говорил, но я забыл тебе сказать. В Литинституте открывается вакансия: семинар по поэзии.
— И ты забыл мне сказать об этом? — удивилась Даная. — О самом главном не сказал? Ну милый! Что же ты раздумываешь? Бери немедленно этот семинар!
— Я как-то не принял это всерьез… Думал, сижу весь в романе, семинар может помешать…
— Чему? Юрочка, счастье само плывет тебе в руки! Это же синекура! А почет? А общение? И на роман у тебя времени хватит с избытком: подумаешь, семинар! Бери!
— «Бери»! Там не все так просто: претендентов много.
— Вот видишь! А ты раздумываешь…
— Не все так просто, говорю тебе. Ректору нужен толчок… Чтобы начальство из союза позвонило и порекомендовало меня. Например, Никон. Мне самому идти к нему…
— Давай я схожу, — сказала Даная просто. — И к Никону, и к ректору.
— Да… Сходи, пожалуйста, если тебя это не шокирует.
— Шокирует? Глупости какие! Пойду и все улажу. Никон мне не откажет и Владимир Петрович тоже, он ко мне хорошо относится еще со времен Евтюхова. — И уже скорее для самой себя, чем для Чижикова, произнесла: — Удивительно, как в жизни бывает! Взял жену Евтюхова, как Евтюх «заболел» исторической темой, а теперь и семинар евтюховский возьмешь.
— Горластого.
— Это теперь. А до этого его вел Евтюхов.
— Ну при чем тут Евтюхов? — поморщился Чижиков. — Просто совпадения: по одной стежке ходим.
Не откладывая дела в долгий ящик, Даная тут же принялась за макияж лица, потом достала самое модное платье, нацепила огромные металлические пластины-серьги, браслеты и предстала перед Чижиковым:
— Ну, я пошла, милый. Пожелай мне удачи.
— Уже? — удивился Чижиков. И увидев ее в вызывающе ярком убранстве, взревновал. — Не слишком ли? — кивнул он на ее наряд.
— Нет, милый, — сказала она, ничуть не смущаясь. — В самый раз.
— Ты только там не очень стелись… Не надо… Не нужен мне и семинар.
— О чем ты, милый! Они ведь оба уже такие старички, — с горечью произнесла она и безнадежно покачала головой. — Так что на этот счет будь спокоен и… пиши свой роман.
Вечером вернулась Даная с победой, объявила весело:
— Все в порядке, милый! Завтра в одиннадцать тебя ждет ректор.
— Ты молодец! — не сдержал восторга Чижиков.
— Спасибо. Желаю тебе успеха, милый. Правда, он спросил, не будешь ли ты и к семинару так же относиться, как к аспирантуре? Я сказала, что у тебя были объективные причины: болел, а потом был в творческом «запое» — сидел весь в романе. Так что ты имей в виду, если он заведет об этом разговор.
— Ладно… — сказал Чижиков понуро, как нерадивый школьник, которому учитель сделал замечание.
7
В аудиторию к студентам Чижиков пришел под охраной надежного эскорта: с одной стороны шел ректор — сухощавый, бодрящийся, с высоко вздернутой головой, как у взнузданного жеребца, а с другой вышагивал с не менее гордо вскинутой головой и с высокомерно отвисшей толстой губой — Горластый.
Вошли, вразнобой поздоровались. Горластый подмигнул студентам ободряюще, а ректор сказал:
— Ну, вы, наверное, уже знаете о переменах в вашем семинаре? К сожалению, Гавриил Михайлович уходит от нас. Он идет на большую общественную работу. Пожелаем ему удачи. Семинар будет вести поэт Юрий Чижиков. Это наш выпускник, известный писатель… — Помолчал и не очень уверенно добавил: — Аспирант…
— Мы знаем Юрия Ивановича!.. — подхалимски подал кто-то реплику. Боясь опоздать выразить свое отношение к новому преподавателю, ее тут же подхватили другие.
— Ну и отлично, — обрадованно заключил ректор. — Желаю всем вам отличных успехов.
— Я тоже желаю! — пробасил Горластый. — Я — с вами! — и он поднял сжатый увесистый кулак. — Ну что, Владимир Петрович, не будем, наверное, стеснять молодого преподавателя? — обратился он к ректору.
— Да, да, конечно! Желаю удачи.
Ректор и Горластый ушли, и Чижиков остался один перед дюжиной пар устремленных на него пытливых глаз. Он предвидел именно такое начало, именно такую паузу в первые минуты и готовился к тому, чтобы она была как можно короче. Но она затягивалась: все заготовленные фразы на этот случай почему-то казались неуместными. А ему так хотелось начать умно, просто, не казенно. И вообще ему очень хотелось быть оригинальным и стать любимцем своих подопечных. Он хотел быть с ними на дружеской ноге, но без фамильярности с их стороны, хотелось, чтобы они не почувствовали в нем простака, человека малообразованного, с которым можно и не церемониться. Он будет с ними строг, но справедлив. И потому — уважаем. Такова программа. Осуществлять ее надо с первой минуты, с первой фразы. А ее-то, как нарочно, и нет.
Он подошел поближе к столу, взялся обеими руками за спинку стула, но не сел, а лишь покачал его, словно пробовал на прочность. Откашлялся, улыбнулся и признался:
— Самая тяжелая минута… Вы ведь ждете от нового преподавателя чего-то нового?.. Новых знаний… А я ведь никакой не преподаватель, первый раз стою перед аудиторией в этой роли. И поэт я тоже с не очень большим стажем…
— Ну как же, Юрий Иванович? Вы поэт дай бог каждому!
Чижикову понравилась реплика, но тем не менее он поднял руку — не мешайте, помолчите — и продолжал, потупясь в стол:
— Стаж малый. Но кое-какой опыт есть, а именно опыт в нашем деле я считаю важнейшим фактором. Я думаю, мы будем учиться друг у друга. Обогащать друг друга — это уже неплохо. Будем спорить — тоже хорошо. А спорить есть о чем. И не только по теории. Да в теории, пожалуй, все более или менее ясно, а вот практика — она часто опережает теорию и задает такие задачки, которые не всегда поддаются теоретическому объяснению…
Чижиков говорил медленно, подбирая слова и чутко прислушиваясь к ним, и ему нравилось то, как он начал, даже сам не ожидал, будто и не он это говорит. А главное — его слушают, слушают внимательно! Значит, надо продолжать! Но о чем?
— Например, такой простой вопрос: вы все хотите стать знаменитыми поэтами. Но как это сделать? Одним талантом не всегда пробьешься, к нему нужно еще очень много приложить других сил. А особенно, если талант незаурядный и несет что-то новое. К сожалению, надо уметь пробивать. Как это делать — этому никто вас не научит, это индивидуально, как и талант. Никто не научит вас и писать, можно лишь мысль пробудить, разбудить, заставить ее биться энергичней. В этом я вижу и цель семинарских занятий. Конечно, надо говорить и о форме стиха, и о строчках — удачных и неудачных, о теме… Кстати, о теме. У каждого своя тяга к своей теме: один — эпик, другой — лирик; один — историк, другой — весь в современной гражданской теме. Ну а какая все-таки из них наиболее основательна, наиболее, говоря практическим языком, быстрее утвердит поэта как поэта? Я, например, думаю, что приоритет надо отдать современной гражданской теме. Любой — славословной ли, критической. Славословная, воспевающая успехи, передовиков, власть имущих — такая поэзия быстро вознесет на вершину славы, но эта слава недолговечна. Передовика перегонит другой передовик, успехи со временем окажутся не такими уж и успехами, власть имущий в конце концов власть теряет, и все предается забвению. Поэзия критическая — не сулит спокойной жизни и быстрой славы, но она долговечна. Ее ругают, о ней спорят, потом забывают, но приходит время, ее вновь вспоминают, переосмысливают, анализируют, хвалят… — И в этот момент Чижикову казалось, что он относится именно к этой категории поэтов. — Тут надо выбирать, кому что по душе, кто на что готов. Личность проявляется в экстремальных обстоятельствах, но они не всегда имеются в наличии. Поэтому надо уметь создавать вокруг себя эти обстоятельства. Я, кажется, заболтался?
— Нет, это интересно!
— Да, но у вас, наверное, сегодня было запланировано занятие на определенную тему? Кто староста семинара?
— Я, — поднялся Саша Говорушкин.
— О, Говорушкин! — чему-то обрадовался Чижиков. — Хорошо. Хотя по теме сегодня у нас разговор все равно не получится. Давайте проведем свободную беседу — для разминки, для знакомства, для прощупывания друг друга. Может, есть вопросы?
— У меня есть, — сказал Говорушкин. — А лирикой разве нельзя добиться?..
— Ну, кто же говорит, что нельзя. Можно, все зависит от таланта. Есенин, например. Но Есенин, Пушкин, Лермонтов — это гении, самородки, а я говорю о нашей массе.
— А Рубцов?
— Рубцов — хороший поэт, из массы. Но славу ему принесла трагическая смерть. Я думаю, как и Шукшину, — ему славу тоже принесла трагическая судьба. О них стали так говорить и писать после их смерти.
Вечером дома Чижиков не находил себе места от возбуждения. Он был в восторге от своей «тронной» речи, от беседы, хохотал, вздымал руки к потолку и восклицал:
— Дана, если бы ты слышала меня! Какой, оказывается, я умный! Оказывается, я действительно умный! Более того — во мне дремал философ! И не будь этого случая, все так бы и пропало. Страшно подумать! Я — философ, Даная!
— Милый, я так рада за тебя. Конечно, ты умный, кто же говорит?..
— Нет, нет, я действительно умный! — не унимался Чижиков. — Такие мысли! Надо записать, пока не забылось, о чем говорил: самому интересно, честное слово.
И Чижиков, пока не остыл, сел записывать свою речь. И был он вполне уверен, что это были именно его мысли, а вовсе не заемные ни у тех же Воздвиженского, Горластого, а еще более — из многочисленных статейных дискуссий. Вот уж справедливые слова: блажен, кто верует. Чижиков уверовал в себя, в свой ум, свой талант. Хотя он и раньше от самокритики не очень-то страдал.
8
Жизненная кривая Чижикова резко поползла вверх. И вспоминается мне в связи с этим давняя песня поездных нищих, которые пели ее страшно жалостливыми голосами:
Судьба играет человеком, Она изменчива всегда: То вознесет его высоко, То в бездну бросит без следа.Вот и с Чижиковым она так же. Ведь сидел, казалось, этот человек уже совсем на мели — творчески совершенно выдохшийся, ни к какому делу не приспособленный, и вдруг она подсовывает ему готовую рукопись! Не ленись только — перепиши своей рукой — и ты на коне. И он это делает исправно: выдирает по листочку из евтюховской папки, тайно переписывает, потом комкает, прячет листок в карман, идет в туалет и там, надежно заперев задвижку, начинает рвать его на мелкие кусочки и спускать в канализацию. Делает все это тщательно, следит, чтобы нигде не прилип да не остался на виду хоть маленький клочочек от рукописи.
Не успел еще переписать рукопись, как его пригласили в институт вести семинар! Учить уму-разуму молодых поэтов! Ну как тут вот?.. Другой ведь и умнее, и достойнее, и способнее бьется, жаждет хоть чего-нибудь подобного — нет, не видят, не замечают, не доверяют.
А этот… Пока переписывал рукопись, вдохновился, напитавшись средневековым духом, написал целый цикл исторических стихов. И неважно, что они сделаны то под «Купца Калашникова», то под былины, то под героические песни былых времен, важно, что они сделаны, напечатаны, и о них стали говорить, говорить всерьез, как о новом этапе не только в творчестве самого Чижикова, но и вообще в нашей поэзии. Как это ново, как современно, как созвучно!.. Ах, ах, ах!..
Но и это еще не все! Не успел Чижиков и семестр довести до конца, не успел еще как следует проявить свою ограниченность и необразованность, как его приглашают в Союз писателей к самому Председателю, и тот вежливо говорит:
— Дорогой Юрий Иванович… Союз писателей последнее время справедливо критикуют за слабую работу с молодыми авторами, что мы мало выдвигаем на руководящую работу молодых писателей, и т. д. и т. п. Секретариат решил учредить новую секретарскую должность по работе с молодыми. И доверить этот секретарский пост и эту работу вам. Вы и молоды, и у вас есть уже опыт работы с молодежью. Как вы на это смотрите?
А как он на это смотрит? У него даже дух перехватило от радости, он чуть ли не стал кислород ртом ловить, но держит себя, не проявляется, спрашивает спокойно:
— Вы думаете, я справлюсь с этой большой работой?
— Вот видишь, какой он скромняга-парень! — раздался за спиной Чижикова веселый голос Философа. — Другой бы на его месте ногти в кровь поломал — лез бы в это кресло, а Чижиков… — И он похлопал Юрку по плечу. — Конечно, справишься! — И подмигнул заговорщицки.
— Справишься, чего там… — сказал Председатель. — К тому же ваша кандидатура уже обговорена, там возражений не было.
Вот так! Ну, как тут не возмутиться, как тут не выругаться?! Чижиков садится в секретарское кресло, чтобы вершить судьбы молодых! Но Философ каков? Верен слову!
Первым поздравить Чижикова прибежал Саша Говорушкин:
— Я так рад за вас, Юрий Иванович! Вот только нам не везет…
— Ну, это как, с какой стороны смотреть на вашу проблему, — солидно заметил Чижиков. — Может, наоборот? Один ваш руководитель ушел в главные. И если бы не он, долго бы еще вам не видеть своих первых книжек. Другой — в секретари по работе с молодыми, а вам еще до-о-олго ходить в молодых. Так что тут бабушка надвое гадала.
— Пожалуй, вы правы, — с готовностью согласился Саша Говорушкин. — Вы же только не забывайте нас.
— За мной не заржавеет, как говорит Гаврюха Горластый, — пошутил Чижиков.
И, легок на помине, следующим на поклон пришел Гаврюха:
— Ну, брат, ты и шагаешь! Смотри, штаны порвешь! Ха-ха! Я шучу, конечно. От души рад! Дай я тебя обниму! А все-таки у меня рука легкая, скажи? То-то, брат! — он вольготно уселся в кресло для посетителей, смотрел преданно и удивленно на Чижикова. — Слушай, я думаю, надо организовать твой творческий вечер в Политехническом музее?
— Так сразу?
— Какой «сразу»! Это давно надо было сделать! Я сам его организую, ты только не возражай.
— Не буду.
— И не надо. И дозволь мне вести вечер. Не возражаешь?
— Почту за честь! Лучшего и желать нельзя.
— И не надо. Закажем через бюро пропаганды художественной литературы хороший буклет на мелованной бумаге, да с портретом, да с биографией, да со стихами! С цитатами из восторженных рецензий! Двухметровые афиши закажем! А что? Кому-то можно, а нам? Мы что, у бога теленка съели? А как я буду вести этот вечер! Сделаю это на высшем уровне! Ты же знаешь, как я могу зажечь сердца! Ух-х!.. Организуем?
И организовали! И были буклеты с портретом, с биографией и со стихами на мелованной бумаге, похожие на внешторговские рекламные проспекты. И были афиши, как у эстрадных звезд первой величины. И был вечер, да еще при переполненном зале! И вел этот вечер великий златоуст Гаврила Горластый. И самое главное, ради чего такие вечера и затеваются, была информация в газетах: — где поскупее, где попространнее, но везде со знаком плюс: состоялся творческий вечер, да не где-нибудь, не в рабочем клубе, а в Политехническом музее. А это престижно, это как тот костюм, который куплен не в деревенской лавке, а сшит на заказ в Доме мод на проспекте Мира у самого Зайцева, который поставляет умопомрачительные одежды, годные только для экстравагантных телевизионных шоу.
А потом через какое-то время к Чижикову снова заявился Горластый и стал подмазываться:
— Слушай, Юрок, ты же и меня не забывай! Помнишь, как я тебя поддержал в начале твоих начал? То-то! Ты мне всегда чем-то нравился, черт такой! Слушай! Давай в Политехническом устроим мой творческий вечер? Ну, может, не такой шикарный, как твой тогда, но что-то наподобие. А?
— Давай, — согласился Чижиков.
— Я все сам организую! Тебя прошу — подпиши вот только эту бумаженцию в бюро пропаганды, а остальное, как говорят, дело техники. Дело рук — и никакого мошенства. А?
— Я позвоню — это будет солиднее.
— Отлично!
И действительно, все вышло наилучшим образом: в том же Политехническом музее состоялся творческий вечер Гаврилы Горластого, а вел его Юрий Чижиков — секретарь Союза писателей.
Словом, жизнь закипела, завертелась. Раз дана власть, ее надо использовать на полную катушку — это изречение Гаврилы Горластого работало на предельном режиме. Кроме вечеров, выступлений, присутствий, статей, заметок в газетах, во все издательства полетели чижиковские заявки на сборники стихов, на книжки коротких новелл, на «Избранное», на сборник для детей, на томик в «Библиотеке для библиотек», в серии «Для молодежи». Издание дешевое — массовое, издание дорогое — подарочное. В «Радуге» — на одном языке, на другом — для заграницы. Боже мой — оказывается, какое у нас огромное поле деятельности для «умеющих жить»! Одно и то же, перетасованное так и эдак, под разными названиями, под различными соусами-статьями, — теснит Чижиков в издательских планах более скромных авторов, хотя и более талантливых: все решает власть, а власть в руках у Чижикова оказалась большой, он это почувствовал сразу. «Доброжелатели» и подхалимы старались вовсю: на собраниях его цитируют, в журналах и газетах пошли одна за другой статьи о его творчестве, и сам собой встал вопрос о Большой премии. Нет, нет, ни на какую промежуточную он уже не согласен — не престижно, разве он не секретарь? Давай Большую, как у других.
Правда, от всей этой чижиковской деятельности молодым литераторам проку было мало, но кому это нужно было — вникать в его работу? Так было, так есть…
Молодые лишь те были не внакладе, кто умел подхалимничать перед Чижиковым, — на них Чижиков и опирался, и им он бросал разные подачки: упомянет в докладе, замолвит словечко в журнале, похлопочет насчет книжечки или рецензии в газете.
Из молодых в это время особенно преуспел милый, застенчивый Саша Говорушкин. Он даже в доме Чижикова стал своим человеком. Помогал Данае по хозяйству: бегал на рынок за свежими овощами и фруктами, на кухне орудовал как заправская повариха — Саша оказался отличным кулинаром. По субботам Саша ходил с Чижиковым в сауну и там старательно тер Юрию Ивановичу спину. Незаменимым человеком в доме оказался этот Саша, получше, чем Балда на поповом подворье: Даная Сашей не нахвалится, Даная о Саше лишь и печалится, сам Чижиков без Саши теперь и шагу ступить не может — лучшего помощника, лучшего секретаря и желать невозможно: он и нужную книгу найдет, он и сборник Чижикову составит, и расклейку сделает лучше самого Чижикова, он и в редакцию сходит и выполнит поручение опять же лучше самого Чижикова. Ну и Чижиков платил Саше за это то изданием книжечки, то подборкой стихов в журнале, то попросит или даже потребует «из высших соображений» напечатать статью о нем. Если проходит где-то семинар, Саша едет туда. Сначала он ездил в роли слушателя, потом — консультанта, а теперь уже в качестве руководителя группы.
9
Кампания по ловле и воспитанию молодых литературных талантов, благодаря которой Чижиков оказался в секретарском кресле, в то время как раз достигла своего апогея. Возни вокруг молодых было так много, что казалось, будто это племя появилось вот только теперь, будто никогда раньше никто из писателей не проходил эту стадию развития. «Искать молодых! Помогать молодым! Все для молодых!» И надо сказать — искали, помогали: проводились семинары областные, зональные, региональные, республиканские, семинары общие, раздельные — по жанрам; издавались сборники коллективные и авторские; «толстые» журналы отдавали им целые номера; в еженедельниках появились постоянные рубрики: «Новые имена», «Представляем молодых», «Продолжаем знакомство». Все делалось для того, чтобы не пропустить, поймать и выпестовать гениев. Хотя бы несколько, хотя бы одного. Но, увы, сколько ни забрасывали сети, всякий раз они притаскивали только мелкую рыбешку. О гении, как о морской корове, лишь мечталось: авось еще где-то остался экземпляр, авось поймается. Не поймался… Единственным результатом всей этой канители было лишь то, что молодые до крайности обнаглели. Разворошили муравейник сердитых, настырных, одуревших от стремления к славе молодых бездарей, против которых и до сих пор не найдут никакой надежной защиты.
А гений так и не поймался… Да по правде говоря, не очень-то и хотелось, чтобы он поймался. Это сколько возни потом предстоит с ним! Тут вот объявится иногда мало-мальски талантливый, с небольшим вывихом от серенького стандарта — и то забот не оберешься. По крайней мере в писательских кулуарах — точно, не очень хотели хорошего улова. И прежде всего не хотел его великий деятель, радетель и защитник молодых талантов сам Чижиков. А и в самом деле, какой ему резон выявлять человека умнее и талантливее себя? Это даже противно любой элементарной логике. Он же прекрасно понимал, и любой другой деятель тоже понимал, чем грозит ему лично обнаружение такого феномена. Вот он и старался вовсю создать лишь видимость правдоподобия такого поиска. Не случайно ведь его отдел в шутку прозвали «комиссией по борьбе с молодыми». А она, эта комиссия, на самом деле таковой и была. Все, что делалось для молодых, делалось по велению свыше, машина катилась помимо Чижиковой воли, он лишь умело взбивал радужные брызги вокруг всего этого да снимал пенку: скрупулезно собирал, фиксировал, где, кто и что сделал, и вставлял в свои отчеты.
Однако, если сказать, что Чижиков совсем ничего не делал или делал что-то противное этой кампании — было бы большой неправдой. Канцелярия Чижикова работала на всех парах, колесики крутились, вертелись, приводные ремни шуршали, перегретый пар валил изо всех щелей — того и гляди разорвет котлы: шум, гам, трескотня! Чижиков следил за отбором рукописей, тасовал списки участников семинаров, выносил их на утверждение. Сам, где только можно, выступал, представлял, анализировал, итожил. В выступлениях Чижиков так поднаторел, в такой вкус вошел, что ораторствовал теперь где надо и где не надо. На любом собрании, на любом заседании, о чем бы речь ни шла, он обязательно тянул руку и выступал — говорил о проблемах молодых. А если приоткрыть завесу, так главной побудительной причиной такой его активности было то, что в газетных отчетах всегда поименно называли выступающих. Вот он и старался, вот он и активничал — и убивал этим нескольких зайцев: делал видимость работы и свою славу раздувал, имя свое тиражировал.
Особенно полюбились ему творческие вечера: разливается, бывало, соловьем, сыплет примерами то из Корана, то из Библии, которых он и в руках не держал, а знал лишь понаслышке, то оседлает своего объезженного конька — «проблема молодых» — его тема, его епархия: весь в заботах, весь в поисках, самому писать некогда — все о молодых печется.
На пору его царствования пришлось как раз и открытие журнала «Молодые голоса», в организации которого он принял активнейшее участие. Он все силенки напрягал, чтобы в кресло главного редактора этих «Голосов» посадить не кого иного, а именно Сашу Говорушкина. И хотя в высоких инстанциях на этот счет были другого мнения, он проявлял завидные настойчивость и упорство, ходил, обивал пороги у большого начальства, доказывал, что лучшего редактора, чем Саша Говорушкин, не сыскать.
Ну как тут скажешь, что Чижиков бездельничал или же не проявлял?.. Проявлял!
— Нам хотелось бы, — сказали Чижикову, — чтобы редактором журнала стал человек, далекий от групповых пристрастий, чтобы он стоял над ними, а не под ними.
— Вот это он и есть такой, Саша Говорушкин! — воскликнул Чижиков. — Милейший парень!
— Да, конечно, он милый, честный. Но тут нужен такой человек, чтобы мог и противостоять напору: ведь не секрет, его сразу же начнут подминать — то одна группа, то другая, то третья. Конечно, журнал «Молодые голоса» — и ваша, так сказать, епархия, ваша забота, и именно поэтому хотелось, чтобы вы тоже поняли такую опасность, думали о ней и заботились об объективности нового издания. Чтобы у журнала был один критерий для отбора к публикациям — талант. Высокий уровень художественности и идейности. И только.
— Ну, это само собой…
— Нет, не само собой. Само собой ничего не делается, об этом надо заботиться. А как вы смотрите на такую кандидатуру, как Бронислав Борисов?
Говоривший был вежлив, мягок, голос не повышал, он был у него ровен и спокоен. Назвав Борисова, он пристально посмотрел на Чижикова.
— Критик? — уточнил Чижиков.
— Да, критик.
— Но он же критик, — сказал Чижиков так, будто это была самая постыдная профессия. Он помнил, как этот критик «Брон. Бор.» разделал его поэму. Правда, это было давно и вряд ли здесь об этом знают или помнят. — Он критик, а журнал-то художественный.
— Ну и что? Может, это и хорошо? У него не будет пристрастия и к жанрам.
— Я знаю этого Борисова, — сказал Чижиков с напускной серьезностью. — Ничего плохого о нем сказать не могу. Но надо подумать.
— Да, тут горячку пороть не стоит. Подумайте. Только недолго: Появится другая кандидатура — скажите. До свидания.
Возвратившись в союз, Чижиков тут же позвонил Борисову и голосом закадычного друга произнес:
— Привет, старина!
Чижиков говорит.
— О, добрый день! — удивился тот искренне. — Вот от кого не ожидал звонка…
— Ну почему же? — демократично возразил Чижиков. — Я только что вернулся оттуда, обговаривали кандидатуры… Только прошу, чтобы это пока оставалось сугубо между нами, строго конфиденциально. Обговаривали кандидатуры на пост главного редактора в журнал «Молодые голоса». Я назвал твою фамилию. Говорю: критик, с хорошим вкусом, идейно крепкий, как критик — он не будет пристрастен к какому-то одному жанру. Верно?
Борисов молчал.
— Аллё! Почему молчишь? Верно сказал?
— Я слушаю… Слушаю…
— Назвал твою фамилию. Правда, я предварительно с тобой не посоветовался, но это случилось неожиданно. Ты-то сам как на это смотришь?
— Да как… Дело серьезное, ответственное…
— …и интересное…
— …и интересное, — согласился Борисов. — Надо подумать… Да и доверят ли?
— Думаю, дело выгорит: со мною считаются. Соглашайся, и я буду уверенней пробивать твою кандидатуру. Имей в виду — там претендентов премногое число!
— Спасибо, — сказал Борисов.
Повесив трубку, Чижиков психанул: он не услышал в голосе Борисова того телячьего восторга, на который рассчитывал, и той преданной расположенности к себе, которую хотел вызвать своим звонком. То ли Борисов уже знал обо всем этом, и тогда сообщение Чижикова выглядело смешным, то ли он вообще такой сухарь… Так нет, он не сухарь, он слыл «веселым парнем», остроумным анекдотчиком, потому Чижиков и взял сразу такой тон. Нет, это, конечно, не та кандидатура, какую хотелось, совсем не та, но что поделаешь? Тем более что вопрос с Борисовым наверняка уже предрешен — и Чижикову остается лишь обротать его, сделать покорным, послушным и податливым, не дать ему с самого начала большой воли и свободы, пусть знает, что своим назначением он обязан именно ему, Чижикову.
Однако наш великий стратег на этом пока не успокоился. Он предпринял еще несколько шагов и даже атак — пытался очернить, опорочить Борисова, чтобы расчистить дорогу Говорушкину, но ему это не удалось.
И когда состоялось решение и выписка из него пришла в союз, Чижиков тут же схватил трубку, набрал номер Борисова и самым восторженным голосом сообщил:
— Ну, старик, наша взяла! Нелегко мне было, очень нелегко было отшивать других претендентов, но я стоял насмерть: согласен, говорю, только на Борисова. Уважили. И вот решение у меня в руках. Поздравляю от души! Будем работать вместе, — нажал он на последнем слове. — Нам надо бы встретиться и обсудить, как и с чего начинать: журнал-то — орган союза, молодежный, а я все молодежные издания курирую. Давай-ка завтра часиков в одиннадцать и встретимся? — Чижиков как бы спрашивал, но в то же время это был и приказ: пусть знает сверчок свой шесток.
На другой день ровно в одиннадцать Борисов был уже у Чижикова. Плотный увалень, рыжий, с белесыми ресницами, он вошел независимой походкой, сказал:
— Привет куратору!
Чижикову не понравилась такая вольность, но тем не менее вышел из-за стола навстречу, поздоровался за руку. Хотел по нынешнему обычаю в писательской среде даже облобызать его, но сдержался — как бы не переиграть.
— Садись, — пригласил он гостя за приставной столик, сам сел напротив. — Садись. Ну так, с чего будем начинать?
— А с чего? Известно с чего — с секретарши.
— Это понятно. А всерьез?
— Всерьез? — спросил раздумчиво Борисов. — Опять же с секретарши. То есть со штата, с людей, — пояснил он.
— Верно. Зама хорошего тебе надо.
— Всех надо хороших, только где их взять?
— Искать надо. Зама я тебе могу порекомендовать. Есть на примете хороший парень.
— Кто?
— Говорушкин Саша. Поэт. Слышал о таком?
— Знаю, — без энтузиазма сказал Борисов. — Мне хотелось бы человека поопытнее. А этот — молод, ведь он еще нигде не работал.
— Опыт — дело наживное, а молодость — не порок.
— Так-то оно так.
— Подумай. Не прогадаешь. И насчет авторов подумай. Кому трибуну в журнале предоставлять.
— Ну, за авторами, думаю, дело не станет.
— Не всех же подряд?
— С разбором, — сказал Борисов. — С разбором будем на трибуну пихать. По уму, по таланту. Так?
— Именно так, — согласился Чижиков, хотя его и покоробило то, что он оказался отвечающей стороной, попытался взять инициативу в свои руки: — Именно — с разбором. Дедушкина не печатай, плохой критик и групповой.
— А по-моему, интересный. Групповые статьи не приму. А…
— Бочаркина — тоже не надо: путаник.
— Путаных статей тоже не надо, а принесет толковую — почему не напечатать?
— Путаник, путаник… — и Чижиков назвал еще с пяток не угодных ему поэтов и прозаиков. Борисов слушал его, уже не перебивая, а лишь кивал головой, про себя думал: «Пусть говорит — его пристрастия надо знать. Дедушкин и Бочаркин Чижикова критиковали, это ясно, но поэты, прозаики — чем провинились? Конкуренты?» Не выдержал, попросил:
— Ну а теперь, может, назовешь, кого же все-таки печатать?
Чижиков сделал вид, что не понял иронии, сказал:
— Ну, это мы в процессе работы обсудим, по каждой кандидатуре — персонально.
— По каждой? Слушай, а зачем эта многоступенчатость? Редактор, редколлегия, редакция… Может, сам и будешь редактировать журнал? Так же проще?
— Не надо иронии, — сухо пресек его Чижиков. — Я твою инициативу сковывать не собираюсь. Но я — куратор. Это слово тебе понятно? Я отвечаю за журнал перед союзом.
— Я тоже.
— Верно. И ты тоже. Поэтому я хочу, чтобы мы работали в контакте.
— В контакте — согласен.
— По-братски.
— И по-братски согласен.
— Вот и договорились! — Чижиков поднялся. — Если что нужно, звони, не стесняйся. Сюда, домой, на дачу — в любое время. Вот тебе мои координаты, — он протянул Борисову визитную карточку. — Желаю удачи. — И когда тот был уже в дверях, сказал: — А насчет зама подумай — я горячо рекомендую.
— Хорошо, подумаю, — пообещал Борисов и вышел.
«Упрям, — проскрипел зубами Чижиков. — Наверное, не надо было мне сразу с пофамильных рекомендаций?.. Но ничего, впредь надо будет с ним погибче…»
Говорушкина себе в заместители Борисов, разумеется, не взял. Не взял он его даже рядовым сотрудником.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Настал день, когда Чижиков наконец осилил нудный труд переписывания чужой рукописи. Вот она, последняя страница и внизу заветное короткое словцо: «Конец».
— Конец! — выдохнул Чижиков, словно свалил со своих плеч тяжелый куль с песком, словно и в самом деле это был напряженный творческий труд. — Ну, Евтюх, не лень тебе было столько нахомутать, столько литературы перелопатить? Мне полистать ее — голова кружится. — Чижиков окинул стопы исторических книг, которыми он забаррикадировал свой стол якобы для работы, а на самом деле для маскировки. Сложил пустые корочки из-под евтюховской рукописи — куда их? В унитаз не спустишь. В ведро? Да и зачем? Такой плотный картон, хоть на подметки для сапог. Теперь такого и не достанешь. Пусть лежит, пригодится что-либо переплести. И он сунул пустую папку поверх каких-то книг. Рукопись аккуратно сложил ровной стопкой, покачал головой — пухленькая! Хотел нести Данае, но пока раздумал: в кармане нащупал комок последнего листка, заспешил в туалет и там, по обыкновению изорвав его в мелкие кусочки, бросил в унитаз, спустил воду и долго стоял задумчиво под шум наполняющегося бачка.
Какой парадокс: в прошлые времена писатели стояли задумчиво над камином, теперь — над унитазом, те жгли свои рукописи, этот — спустил в канализацию чужую. И задумался! Мыслитель!
Выйдя из туалета, он направился прямо на кухню. Там в цветастом фартуке вовсю хлопотал Саша Говорушкин, Даная была у него в подручных. На кухне стоял аппетитный дух чего-то вкусного — то ли пирогов, то ли жаркого, а скорее всего, и того, и другого, и еще чего-то-третьего. Саша мастак на такие вещи.
— Ой, Юра! — воскликнула Даная. — А мы еще не готовы. Ты уже проголодался? Мы с Сашенькой для тебя такой сюрприз готовим! Пальчики оближешь! Но пока не готовы, потерпи немного… Сашенька, сколько?
— Полчаса.
— Полчасика, милый.
— Вы не готовы, а я готов! — торжественно объявил Чижиков. — Я закончил роман! Вот так-то, братцы кролики! Постаку.
— Закончил? — удивилась Даная. —вил точ Какая радость! Сашенька как знал… Мы с Сашенькой как знали… Покажи, Юра, — и она заспешила в его комнату. Увидела рукопись, воскликнула: — Ого-го! — и стала листать. — Да как чисто, почти без помарок!
— Ну, ты же понимаешь — это черновик. Я спешил записать мысль и совсем не правил, над фразой, над языком почти не работал. Теперь-то только и начнется работа, — вздохнул он. — Каторжный труд, скажу я тебе, писать прозу. Стихи все-таки легче, там пришла мысль, появилось вдохновение, минута — и все на бумаге. А тут столько времени надо держать мысль, вдохновение, тональность вещи, столько времени носить все это в себе и не растерять. Ужас!
— Да, да… — соглашалась с ним Даная. — Да, милый…
— Поздравляю вас с победой, Юрий Иванович, — сказал Говорушкин. — Знал бы — не такое приготовили бы по такому случаю. Ой, как бы не пригорело! — И он кинулся на кухню.
— Поздравляю, милый, — Даная поцеловала его в щеку.
— Спасибо, — скромно ответил он. — Теперь пойдет самое трудное — отделка, отбелка… Язык… Но это приятная работа!
Однако Чижиков недолго работал над языком и не сильно мучился над фразой — тем более что они были отбелены до него. Он лишь для вида подержал рукопись на столе еще около месяца, полистал ее от нечего делать, а потом отдал машинистке на перепечатку.
И все, джинн был выпущен на волю и пошел гулять по литературным закоулкам и дебрям. Слух о том, что Чижиков написал исторический роман, да притом — хороший, распространился с быстротой самой невероятной небылицы. Этот слух прежде всего поверг в уныние редакторов: «Наверняка сварганил какую-то галиматью, — думали они, — а печатать придется, хвалить придется: уже хлопочут о нем и Филипп Филиппович, и даже сам Никанор. Носятся с этим Чижиковым, как дурни с писаной торбой. Курочка еще в гнезде, а они уже со сковородками бегают». Но когда роман стали читать, сомнения сменились удивлением, и Чижиков стал быстро расти в глазах и читателей, и писателей, а главное — редакторов.
Понес он рукопись в один журнал, там ее прочитали, понравилась, и сдали в набор — в очередной номер. Понес в другой — та же история, и роман пошел публиковаться вопреки всем правилам сразу в двух журналах. По этому случаю, предвидя законные упреки, Чижиков придумал для себя оправдывающую формулу: «Писатель пишет и хочет, чтобы его читали как можно больше. Вот и пусть читают. Это естественно».
Понес рукопись в издательство, и тут без осечки: нашли в плане свободную «дырку» и запустили книгу в производство.
Видя такое триумфальное шествие чижиковской рукописи, издания потоньше — еженедельники разные и ежемесячники — пустились наперегонки печатать главы, отрывки, куски из этого романа.
Разумеется, в такой обстановке находилось в боевой готовности номер один и недреманное око критики. Не успели лечь на стол редакторов первые оттиски гранок и версток, как их тут же растащили строгие судьи от литературы и принялись строчить хвалебные рецензии, которые и запестрели в газетах прежде, чем появились сигнальные экземпляры журналов.
Как нарочно (а может быть, и в самом деле нарочно?) под этот шум-бум незаметно подкатил срок выдвигать кандидатов на премию. И Чижиков одним из первых оказался среди этих кандидатов — свалился туда как-то естественно и просто, а главное — быстро, так быстро, что никто и опомниться не успел, а тем более — усомниться. Ну а раз попал в такие кандидаты, его снова принялись хвалить, теперь уже пошла гулять новая волна — под маркой обсуждения кандидатов в лауреаты.
И все видели: обсуждай не обсуждай, а Чижиков уже там, на коне! Так оно и вышло: несмотря на большущую многолетнюю очередь, он получил премию без особых усилий и почти без нажима на неподкупное жюри. Теперь, как и водится после премии, у Чижикова началась полоса новых забот — знай считай издания и переиздания, издания и переиздания. Но справедливости ради должен сказать, что роман «Малюта Скуратов» стоил того. Другое дело — автор… Не тот, настоящий, а этот, поддельный, Чижиков…
Этот от столь неожиданной большой славы даже сгорбился, будто свалилась на него непосильная ноша, которую он ни нести не способен, ни сбросить не в силах. Она так придавила его, что он весь как-то странно перекосился. Рот искривился, и вокруг него обозначились морщинки, придававшие лицу высокомерное выражение. Тонкие губы были брезгливо сжаты. Маленькие глазки еще больше запали в свои глубокие ямки, будто стыдились смотреть открыто на людей, и поблескивали оттуда сердито, злобно, даже когда Чижиков улыбался. А улыбался он теперь постоянно, делал вид довольного и добродушного человека, участливого и чуткого. Но на деле был зол и нетерпим, мстил за малейшую критику в свой адрес, даже не то что за критику, а просто за какой-нибудь невинный отзыв о нем, который почему-то придется ему не по нраву.
Кто-то в шутку или всерьез подбросил ему мысль, что за такой роман там могут и Нобеля присудить, и это так запало ему, что он возмечтал об этом всерьез. Подлил в этот огонь масла и Воздвиженский — прислал письмо, поздравил с успехом и то ли в шутку, то ли всерьез тоже обронил фразу о Нобеле. А уж этот-то знает, что говорит, — он ведь там, у него информация, можно сказать, из первых рук! И Чижиков начал делать все возможное, чтобы на него обратили внимание и там. Он стал ввязываться, правда, в небольшие конфликтные дела — поддерживал диссидентов, подписывал разные письма в защиту чьих-то нарушенных прав, давал интервью иностранцам, в которых позволял себе не очень лестные отзывы о наших порядках и очень лестные о тамошних. В публичных выступлениях все больше говорил о нравственности, о добре, о библейских заповедях, которые мы, к сожалению, выбросили вместе с религией — выплеснули с водой и ребенка. Одним словом, балансировал на острие ножа, ходил по проволоке — хотелось и здесь ничего не упустить, не очень прослыть оппозиционером, и там схватить, что подадут.
И странное дело: чем больше Чижиков творил зла, тем больше говорил о добре. Только что вещал с трибуны, как поп с амвона, благостным голосом о постулатах — не убий, не укради, не пожелай жену ближнего, как, сойдя на землю грешную, злобно требовал: «Этого Дедушкина убить мало!» — и шел на свидание с женой своего друга, который в этот момент был в командировке. Удивительное создание — этот Чижиков!
2
Заранее знаю, многие не согласятся с моим мнением, да, признаться, я и сам мало встречал в жизни подтверждения этому, скорее наоборот, но тем не менее я все-таки выскажу его. Мне всегда думалось и думается, что чем больше человеку дано, чем выше вознесла его фортуна, чем обширнее его слава, чем сильнее его власть, тем он чутче, добрее, ближе должен быть к людям, тем осторожнее должен пользоваться властью, тем теплее и мягче должна быть у него душа. Мне думается, что быть таковым ему в его положении совсем не трудно: человек обязательно должен облагораживаться. Однако, каюсь, очень немного встречал я таких людей, да и то лишь на начальной стадии своего вознесения. Так что, может быть, я зря так строго сужу своего героя? «Должен»! Мало ли кто что должен — должен, да не обязан. А может, чтобы быть таковым, надо для этого иметь особый талант? Может, нос сам по себе задирается вверх, может, они сами по себе появляются у человека — чванство, гордыня, пренебрежение ко всем, кто остался ниже его на служебной лестнице или по положению в обществе? Может, не каждый человек и способен заметить в себе подобные перемены и вовремя одернуть себя? Да, как правило, они и замечать этого не хотят, а если обратит внимание на это кто-то другой, не верят, отрицают, обижаются, считают это враждебным выпадом и даже мстят потом за это как за поклеп.
…Идет Чижиков по вестибюлю — вид деловой, взор, отягощенный государственными заботами, весь обременен грузом важных дел, — идет, никого не видит в упор — занятой человек. Навстречу ему Гаврила Горластый:
— Привет, Юра!
— Привет, привет, — бросает Чижиков на ходу, дав отмашку рукой — то ли поприветствовал, то ли отмахнулся: «Мол, не до тебя мне, и вообще не мешай».
— Э нет! — хватает его за рукав Горластый. — Так дело не пойдет! Ты что? Своих уже не узнаешь? Ты эти штучки брось! Не думай, что если ты взлетел на такую высоту, то и будешь там вечно вращаться без движков-дружков. Спутники, брат, и те не вечны, — сощурился Гаврила и показал пальцем вверх. — Крутятся, крутятся, а потом постепенно сокращают свою орбиту, входят в плотные слои атмосферы и сгорают. Понял? Земное притяжение, Юра, — серьезнейший фактор. Ты помни об этом.
— Гаврюш, мне, честное слово, сейчас не до аллегорий: замотан вот так, — он провел рукой выше головы. — Так что прости… И не сочиняй небылицы, это тебе все показалось: я каким был, таким и остался: всех узнаю, всех приветствую. Тебя — в первую очередь. Так что заходи, потолкуем. Звони… А сейчас, дружочек, прости: некогда.
— То-то, — погрозил ему Гаврила. — Двигательные установки не сбрасывай, они пригодятся, чтобы не войти в плотные слои атмосферы.
Но ведь так прямо сказать ему в глаза может только такой человек, как Гаврюха! А другие — нет, никогда: одни стесняются, другие боятся, третьи считают ниже своего достоинства делать подобные замечания.
Захохотал дружески вдогонку Чижикову Гаврюха, а того так и покоробило всего, так и передернуло, будто прикоснулся он к чему-то мерзкому, неприятному, а все потому, что правду о себе услышал.
«Беспардонный тип», — кипел злобой Чижиков. Хмуро, быстро прошел мимо секретарши в кабинет, та еле успела сказать:
— Звонил Борисов… Соединить?
— Не надо, — он хлопнул дверью, но тут же открыл, сказал: — Потом, через час…
«Лезет со своими нравоучениями! — продолжал он ругать Горластого. — Очень я в них нуждаюсь! Да и не до них мне… Этот Борисов. Подонок. Знаю, о чем будет говорить: отверг статью Федущенко обо мне, теперь будет объясняться. Пора гнать его уже из этого кресла, надоел».
У Чижикова были причины для плохого настроения помимо Горластого: с неделю назад в одной из газет была статья о публичных выступлениях некоторых деятелей от искусства, в которых они позволяют то, чего никогда не позволят в печатном тексте — выпады против товарищей, сводят счеты, бранятся, а иногда делают и слишком вольные пассажи политического характера, толкуя на свой лад некоторые положения классиков марксизма-ленинизма. Была названа и его фамилия, его недавнее выступление в Библиотеке имени Ленина, где он действительно разоткровенничался. Но ведь там была узкая «закрытая» аудитория!
Чтобы хоть как-то дезавуировать эту статью, Чижиков пригласил подручного критика Федущенко и поручил ему написать о творчестве Чижикова, о его исторической эрудиции, о его философском мышлении. Не полемизируя напрямую с газетой, но ответить на ее выпады. Статью предполагалось напечатать в «Молодых голосах» — голос молодого критика, так как Федущенко хоть и было уже за пятьдесят, но он все еще ходил в молодых. Статья была написана, Чижиков прочитал, понравилась, и вот осечка: Борисов воспротивился ее печатать! Подонок! И вдруг звонок — звонит Борисов по прямому телефону:
— Юрий Иванович? Привет, Юра, Борисов это.
— А, привет, дружище, привет! Что-то давно не звонил… — бодро ответил Чижиков.
— Да не было повода, а без дела надоедать — не люблю. — И добавил: — Боюсь попасть в немилость.
— Ладно. Что за дело, говори.
— По поводу статьи Федущенко. Пока не дошло из других перифраз, как музыканты называют присвоенные чужие произведения, хочу объяснить… Ты читал эту статью?
— Какую статью? — Чижиков наморщил лоб, будто собеседник мог видеть его искреннее недоумение.
— Статью Федущенко о тебе.
— Обо мне? — еще больше наморщил он лоб. — Не помню… По-моему, не читал.
— Ну как же! А он говорит, ты читал и тебе понравилась…
— Не помню. А что там?
— Ну, о тебе статья. А я вернул ему и сказал, что печатать не буду.
— Ну и правильно сделал. А почему?
— Понимаешь, она слишком панегирическая. Слишком. Сравнивает тебя то с Шекспиром — как писателя, то с Сократом — как философа. Такая статья только принесла бы вред тебе: она вызвала бы лишь насмешки.
— Плохая статья, выбрось ее, — сказал Чижиков.
— Я вернул ее. Ты согласен со мной?
— Правильно сделал, — повторил Чижиков, не ответив, однако, на вопрос, и положил трубку. — Подонок! Обо мне он заботится! Нет, надо с ним кончать, с этим «Брон. Бором». Не «Брон. Бор.», а сплошное бр-р-р… — прорычал он и заходил по кабинету — соображал, с какого боку подобраться к Борисову. И придумал: обсудить на секретариате журнал «Молодые голоса» — времени уже прошло достаточно, три года почти, пора подвести первые итоги. Филипп Филиппович, не подозревая никаких подвохов, согласился с ним: пора, дело нужное, серьезное, поручили Чижикову готовить этот вопрос — его инициатива и журнал этот — его епархия. А это-то как раз Чижикову и нужно было. Прежде всего он создал бригаду с задачей тщательной проверки всей деятельности журнала: группу ревизоров с наказом досконально проверить финансовые дела, группу общественных деятелей — проверить работу первичных общественных организаций в редакции, группу писателей по всем жанрам — проанализировать все напечатанное журналом — прозу, поэзию, критику, публицистику. На эту группу Чижиков возлагал самые большие надежды и инструктировал ее специально. Там, по другим разделам, может, и не будет никаких нарушений, а здесь, если даже их и не окажется, их можно и надо найти.
Четыре обозревателя, четыре надежных молодых доморощенных хунвейбина преданно смотрят на Чижикова, готовые на все, давай только четкие указания. Всем им после разгрома журнала были обещаны солидные должности. В кресло главного редактора метил критик Кадушкин — самый тупой, самый бездарный и самый беспощадный из всех. Молодой, не в меру толстый, он имел огромное мясистое лицо. Спрятанные в толстых щеках маленькие мышиные глазки злобно поблескивали. В литературных кругах Кадушкин был известен под несколькими прозвищами: Кадушка, Буфет, Бочка, Барабан, Прозаик — Бандуркин. Миловидный, белобрысенький, с девичьей челочкой на лбу и с застенчивыми ужимками. Из тех натур, которые в хулиганских шайках первыми пыряют ножом и отступают в тень. Этот метил в замы главного. Критик — Федущенко. Длинный, с дынеобразной, совершенно лысой, как обглоданная кость, головой. Он носил большие, нависшие многочисленными сосульками надо ртом усы. Глаза круглые, большие, навыкате, как неумело приделанные фары. Чижиковский борзописец. Спит и видит себя в кресле заведующего отделом критики. Публицист — Тюрбанкин. После публикации небольшого очерка, получившего положительный отзыв в центральной газете, мнит себя наилучшим публицистом, притом критического направления. Все знает, все видит — предвидит, обо всем судит безапелляционно — впопад, невпопад, чаще невпопад, но судит, судит. Рвется занять место заведующего отделом очерка.
Словом, была создана теневая редакция, которая после переворота сразу же займет свои места.
— Товарищи, обсуждение — это не чья-то прихоть, не рядовое очередное мероприятие, — говорил таинственно Чижиков, напутствуя бригаду, — это указание свыше. И если мы справимся с этим заданием, все будет, как я вам и обещал. Редакцию надо разгромить, но умно, доказательно. Слабых вещей всегда можно набрать достаточное количество, чтобы сделать соответствующие выводы.
— Раздавим гадину! — пообещали «хунвейбины» и ринулись в бой.
Но перестарались. На секретариате они действительно не оставили камня на камне от «Молодых голосов». Крушили все напечатанное, всех авторов этого журнала, всех сотрудников, и в первую голову — главного редактора Брон. Борисова. А среди авторов журнала были и очень авторитетные личности, а некоторые авторитетные по разным поводам благожелательно отзывались о журнале, и хотя их имена при обсуждении не назывались, они почувствовали себя задетыми и один за другим выступили здесь же и сказали:
— Так обсуждать нельзя! Эдак мы докатимся черт знает до чего — ничего святого, ничего авторитетного.
И решено было продолжить обсуждение на узком рабочем секретариате, где Чижикову было объявлено замечание, а по журналу состоялось обычное решение: у журнала есть несомненные успехи — такие-то и такие, но имеются и некоторые недостатки, как, например: мало еще того-то и того-то.
Борисов мог бы торжествовать победу, но он был недоволен тем, что Чижиков отделался лишь легким испугом, и предложил освободить его от секретарства вообще, как человека необъективного и группового. С ним, разумеется, не согласились — это-де слишком жестоко, а жестокость не в наших правилах, мы люди гуманные и должны поступать гуманно.
«Ах, гуманные! — сказал себе Борисов. — Нашли, с кем гуманную антимонию разводить! Тогда я сам накажу его!» И через два месяца, когда уже, казалось, все поутихло с этим обсуждением, в «Молодых голосах» вдруг появляется большая статья за подписью Брон. Борисова под странным древним названием: «Инвектива против Юрия Чижикова».
3
— Это что же за б...ство такое?! — возмущенно тряс Чижиков журналом перед самым носом Председателя. — Что же это делается, черт возьми! И ты спокоен? Это же!.. Это же!..
— Ну а что ты передо мной-то трясешь? — спокойно сказал Председатель. — Это твоя работа.
— Как моя? Как моя? Ты посмотри, что здесь! Этот «Брон. Бор.», твой, кстати, любимчик, вон какую клеветническую статью против меня напечатал. Да если бы только против меня, он весь союз оклеветал, и тебя в том числе. Ты посмотри, ты только вчитайся! — Чижиков давно уже был со всеми на «ты». Он бросил журнал на стол: — Ты посмотри. Какая же это моя работа? Это его, его!..
— Да, так оно и есть, друг ты мой дорогой, твоя: твое ведомство, ты ку-у-ратор. Вот мы с тебя и спросим: что за безобразия творятся у тебя? Мой «любимчик». Этим, брат ты мой, меня не возьмешь.
— О чем ты говоришь, Филипп Филиппыч?! — И Чижиков не сдержался, заплакал истерично, забился мелкой дрожью, слезы брызнули, как рассол из прохудившейся бочки. Председатель вскочил, быстро налил в стакан воды из графина, который всегда стоял перед ним наготове, чтобы отпаивать зашедшихся в истерике литераторов-просителей, поднес Чижикову:
— Юра… Юра… Успокойся… На вот, выпей… Выпей… И успокойся. Сейчас мы все уладим… Давай все спокойно обсудим. Спокойно. Ну?.. Ну?.. Вот та-ак…
Стуча зубами о стакан, Чижиков пил воду пополам со слезами, которые все еще текли в три ручья по его щекам. Достал платок, сморкаясь и всхлипывая, сконфуженно проговорил:
— Прости… Не сдержался… Нервы ни к черту стали…
— Ничего. Сядь. Сядь… Конечно, это безобразие, — кивнул Председатель на журнал.
— Главное — сплошная клевета! — Чижиков все еще негодовал. — Назвал меня батарейцем. Не был я батарейцем!.. Говорит, что я рвался в литвожди. Клевета! Хочет поссорить нас с тобой. Разве ты этого не понимаешь?
— Это мелочи, — отмахнулся Председатель. — А вообще это, конечно, безобразие, — раздумчиво сказал он. — Но, здраво рас-с-суждая, ты спровоцировал его на этот поступок? Спокойно, спокойно, — поднял он руку, стараясь удержать Чижикова на месте. — Ты выс-с-слушай меня. Разве устроенное тобой обсуждение было благороднее этой «Инвективы»? Ты вспомни, что несли, какую ахинею пороли, как грубо, грязно говорили твои волонтеры тогда и о журнале, и о самом Борисове? А? Разве он не прав?
— Но ведь секретариат осудил все это, и меня в том числе. А он что же, не согласен с секретариатом?
— Не согласен, как видишь И я бы на его месте не соглас-с-сился: такое нагородить — и получить всего лишь порицание. Да и то в узком кругу секретариата. Мы тебя пожалели, пощадили, а он не хочет тебя щадить, ему обидно…
— Значит, он прав? С решением не согласен, клевещет в печати? Я в суд подам.
— Погоди ты с судом. Мало тебе этого? — ткнул он в журнал. — Еще большей огласки хочешь?
— Что же делать? Ведь так оставлять этого нельзя — это же форменное хулиганство!
— Правильно, этого так оставлять нельзя, и мы это безобразие так не оставим, призовем его к порядку, он ответит за такой разгул. Свобода печати есть свобода печати, но не в такой же степени! Ты прав. Завтра же соберем секретариат и все обсудим. А ты успокойся и веди себя с достоинством — без слез, без истерики. Тут вот, — Председатель потянулся к папке с деловыми бумагами, — тут вот намечается поездка группы молодых писателей за границу… — Он сделал паузу, будто ищет и не находит бумагу, а сам следил за Чижиковым.
— За границу? — оживился тот.
— Ага… Ага, вот оно, — извлек Председатель бумагу. — За границу. Во Францию… Во Францию, брат! Не куда-нибудь!..
— Ну? — нетерпеливо спросил Чижиков.
— Ну вот, я думаю: может, возглавил бы ты эту бригаду?
— Я?..
— А что? Секретарь правления, лауреат, да не раз, председатель комиссии по работе с молодыми, и т. п. и т. д. А?
— Да я… Я что?.. Если надо…
— Надо. Вот поедешь, развеешься от всех этих неприятностей, наберешься европейской культуры… В печати о тебе будут сообщения: делегация во главе с Чижиковым… Чижиков сказал… Интервью — понимаешь? Слава! А за это время все и забудется. Поездка во Францию все забьет, все перебьет. Мы, конечно, примем меры к этому зоилу…
— Пожалуй, ты прав… А когда поездка? Надо подготовиться…
— Скоро. Этой осенью.
— Аж осенью?
— Время пролетит — не заметишь. Подготовиться ведь надо как следует.
— Ну, ладно…
— Вот и отлично. Иди и готовься. Книги о Франции читай, о современной французской литературе напичкайся как следует. Рубашки, белье, носки приготовь получше, чтобы там не опозориться. Да, да! Мелочи тут так же важны, как детали в художественном произведении. Тем более — капстрана.
— Хорошо. — Чижиков потянулся за журналом.
— Оставь его, — сказал Председатель. — Зачем он тебе? Данаю расстраивать?
— Она уже читала.
— Ну и зря.
Чижиков потоптался, не решаясь спросить, но любопытство взяло верх:
— Придумал — «Инвектива» какая-то. Что это значит?
— Это жанр такой. В древности был распространен. — Председатель улыбнулся, покачал головой. — Действительно, откопал же название. Может статься, что он возродит тысячелетней давности жанр! Молодец, копает! Извини, я просто о самом этом слове… — И снова стал пояснять: — Ну, это вроде фельетона, только форма особая — в виде злого открытого письма. Ладно, иди готовься к секретариату. Журнал оставь, он мне будет нужен.
Чижиков пошел к себе в кабинет, сел за стол — хотел успокоиться. Но чем больше он сидел и думал, тем больше им овладевала жажда мести. «Нет, — решил он. — На Филиппа полагаться нельзя, этот либерал, как зовет его Философ, все спустит на тормозах, и на том дело кончится. Надо организацию секретариата брать в свои руки, чтобы этому Брон. Борисову дать такой бой, от которого он никогда бы не оправился». И Чижиков снова заспешил к Председателю.
— Послушай, — сказал он, подсаживаясь поближе. — Я вот что подумал. Для большей пользы дела надо бы провести расширенный секретариат. С приглашением актива. И подготовить все как следует.
— С активом? — удивился Председатель. — Это еще зачем? Какая нужда собирать вселенский собор? Что за ЧП такое?
— Ах, для всех вас, я вижу, это никакое не ЧП, — обиделся Чижиков. — Твоего коллегу, секретаря смешали с г…, оболгали, а ты спокоен? Ты пойми одну простую истину: сегодня меня, а завтра тебя так же, если мы будем все спускать.
— Меня не за что, — сказал Председатель спокойно.
— А меня, значит, есть за что?
— Повод дал. Ну, ладно, ладно. Короче: что ты хочешь?
— Собрать расширенный секретариат с активом и дать случившемуся принципиальную оценку. Чтобы другим не было повадно.
— Хочешь собрать всех своих боевиков, подхалимов и устроить мамаево побоище? — догадался Председатель. — Хочешь повторить то обсуждение?
— Нет, твой либерализм действительно нас погубит! Погубит! Надо же наконец власть показать!
— Власть не показывать надо, ею надо пользоваться…
— А ты не хочешь!
— Ты не дослушал. Властью надо пользоваться умело. Умело, друг мой.
— Нет, ты неисправимый… могикан.
— Думай, как хочешь. А вот откуда ты такой злобный и мстительный? Тебе дай власть — ты многих поставил бы к стенке. А?
Чижиков дернулся, словно готовясь к прыжку. Председатель остановил его:
— Шучу! И — успокойся: секретари у нас не все дураки, думаю, разберутся и дадут всему правильную оценку.
Чижиков ударил досадливо кулаком себя по коленке, поднялся и, опустив голову, вышел.
В коридоре Юрку перехватил Философ, приехавший в «контору» за зарплатой. Он приобнял Чижикова за плечи, спросил:
— Ну что, переживаешь? Зайдем ко мне, поговорим. — Он привел его в свой кабинет, усадил в низкое кресло за журнальным столиком, сам сел напротив, достал сигаретку, слегка помял ее и принялся нюхать — это он так «курил» оригинально. «Накурившись», положил бережно сигаретку на стол, поерзал в кресле, собираясь с мыслями, наконец начал: — Конечно, неприятно, я понимаю. Но поверь мне: все это туфта, особенно если сравнить с тем, что нас окружает в глобальном смысле. Во-первых, кто читает эти «Молодые голоса»? Да никто! Двенадцать тысяч тираж — это же ничто! Ну, позлорадствует, пошумит окололитературная братия, почешут языки любители скандалов и скандальчиков, а через неделю все забудется. А во-вторых, не в этом суть…
— Так он же там и в твой огород камешки бросает, намеки разные делает, — напомнил Чижиков, вербуя Философа в свои союзники. — Особенно в том месте, где он о «добре» меня упрекает, помнишь? Я ведь, как ты знаешь, и не очень об этом говорю, это скорее твой конек. Не случайно он в этом месте переходит на множественное число: «Тебе ли говорить о добре? Такие, как ты, от добра так же далеки, как ослы от храма божьего!» Понимаешь?
— Ну, я же не полный кретин: я все вижу и понимаю.
— Нет, нет, ты послушай, что он дальше говорит! Ты подожди.
И Чижиков метнулся к Председателю, чуть ли не вырвал у того из рук журнал:
— Я сейчас верну.
Прибежал, стал лихорадочно листать.
— Вот, послушай. «Своих друзей-бездарей, свою мафию ты поддерживаешь за государственный счет: помогаешь публикациями и изданиями, устраиваешь на тепленькие местечки, одариваешь всевозможными премиями…» Нет, не то. Хотя это тоже больше к тебе относится, но я хотел тебе другое прочитать. Ага, вот, послушай: «Криводушничаешь ты и в своей «философии». Исповедуешь вроде марксизм-ленинизм, а сам пасешься то в Библии, то в малоизвестных источниках русских философов-утопистов Соловьева, Федорова, пользуясь тем, что их у нас не издают. Да и то ведь не в первоисточники заглянул, а наткнулся, наверное, на какую-то популяризаторскую брошюрку о них и дуешь из нее без зазрения совести». Ну, что скажешь? Прямой намек на тебя, я ведь ни сном ни духом не знаю об этих философах, я только от тебя и набрался этих идей, думал, что это твое. А он докопался!
— Ладно, чепуха все это, пусть копает, — Философ отмахнулся небрежно от журнала. — Закрой его. Я тебе, друг мой, вот что хочу сказать. Что бы они там ни говорили — «Библия», «утописты»… Только это — между нами: я тебе душу открываю!
Чижиков, польщенный, вскочил, в глазах — сама преданность:
— Георгий!..
— Верю! Так вот слушай. В мире существует лишь одна книга и один герой. Книга эта и есть та самая Библия, а герой ее — Иисус Христос. Да-да! И никто в своем творчестве пока даже и близко не подошел к этому шедевру. Ни Толстой, ни Достоевский… Но стремиться к этому надо. Это великая цель, черт возьми! — Философ откинулся на спинку кресла, выдохнул, словно на высокую гору взобрался. Чижиков услышал запах алкоголя, однако не придал этому значения: откровения второго лица в союзе были куда интереснее, и он, не произнося ни звука, сидел весь внимание. Мелькнула было мысль: «А не юродствует ли наш Философ?» — но ее перебил собеседник: — Однако мы сможем чего-то добиться в этом мире и остаться в памяти потомков только в том случае, если сами не будем «иисусиками». Надо уметь возвыситься над своими противниками и врагами, поправ их и уничтожив. Я имею в виду, как ты понимаешь, не физическое уничтожение, а моральное. Физически они потом сами себя прикончат. Пренебречь, замолчать, скомпрометировать, унизить, дискредитировать — вот то оружие, которым мы должны умело пользоваться. Кстати, у тебя есть хорошие задатки всего этого, но надо быть смелее, напористее, изворотливее. Борисов в «Инвективе» правильно подметил твои методы, поэтому надо работать тоньше, я бы сказал, — «изящнее». Вот, к примеру, твой Борисов. Лиши его не то что поддержки, а просто внимания, создай вокруг него самого и вокруг его журнальчика зону молчания и пренебрежения — и он сам издохнет, сам протянет ножки. Но чтобы быть пророком, надо выискивать для себя задачки посложнее и поважнее, такие, которые задевали бы многих. Выдвигать свою теорию, давать свое толкование, свое решение — пусть спорное… Даже и лучше, когда спорное: с тобой спорят, а заодно и имя твое тиражируют, ты таким образом приобретаешь известность, популярность. Стихами да романами этого трудно добиться, к ним надо еще и какое-то постоянное шебуршение.
— О «добре», «доброте» — вечная тема!.. — Чижиков попытался поймать мысль Философа и подсюсюкнуть ему. Но тот, поморщившись, отмахнулся:
— На этих категориях сейчас далеко не уедешь, в этом я убедился на собственном опыте: время суровое, жестокое, трудное, люди очерствели, прагматизм задавил. Я даже проповеди пытался читать…
— Экология! — не унимался Чижиков. — Вот модная тема! Здорово ты ее перехватил у этого старика Забайкальского! Теперь о нем уже никто и не вспоминает; только о тебе.
— Ну почему же «перехватил»? Это мое открытие!
— Вообще-то твое, твое, — быстро согласился Чижиков.
— Дело другое, что ее действительно сделали модной. Столько нацеплялось на нее — как репьев на собачий хвост, впору экологию спасать от ее спасателей, — Философ улыбнулся, довольный случайным каламбуром. Тут же достал ручку и записал его на пачке сигарет. — Вообще-то тем много, — продолжал он раздумчиво. — Например, состояние наших храмов — церквей и вообще нашей веры… Во что мы веруем, черт возьми? — вдруг воскликнул сердито. — Тема? Еще какая! Но… Партийный билет мешает браться за нее. Храмы, конечно, бог с ними, но тема — стоит игры! А есть человеческие струны потоньше, которые возбуждаются в любых обстоятельствах! Это — национальные чувства. Вот на них поиграть заманчиво! Но и рискованно, тут нужны и смелость, и твердость, и изворотливость. Тут важно для прикрытия поднять какое-то солидное знамя, идею! Я вот раскручиваю тему: наше самосознание. Что сюда входит? Беспощадное очищение всего и от всего заемного и чужого. Потому что именно отсюда все наши беды, неудачи и трагедии. Когда я окунулся в эту проблему, я увидел, что это именно так! Все негативное у нас идет, как правило, от людей, оторванных от могил своих предков — в прямом и переносном смысле, таким людям доверять нельзя.
— Могилы? — Чижиков виновато закусил нижнюю губу. — А я тоже… Не знаю, где они… Так-то знаю, конечно… Но давно не был… Совсем оторвался…
— Ты! Ты — это совсем другое дело, нельзя так узко понимать проблему. Речь о нашем са-мо-со-зна-ни-и! Понял? Это звучит! Это поднимает! Верно?
— Вообще-то да… — закивал Чижиков согласно, хотя мысль его все еще вертелась вокруг испугавшего слова «могилы».
— Конечно, найдутся такие, кого это будет бесить. Но это именно и есть те самые «безмогильные» людишки, а среди них немало наших литературных противников, которых как раз-то и нужно растоптать. Эта цель для нас, разумеется, главная, но она не должна себя проявить, в центре борьбы должна стоять борьба за наше самосознание, а не за литературные приоритеты. Это само собой потом приложится. Хорошо бы молодежь к этому делу повернуть. Лично ты мог бы многое сделать — как историк. Пиши статьи, борись за чистоту наших корней, разоблачай тех, кто копается в нашем близком и далеком прошлом и находит там какие-то «пятна». Зачем это делается, знаешь? Чтобы унизить нас, оттеснить на задний план, заглушить наш голос. Твой, мой, других настоящих выразителей народных дум и чаяний. История — это великое дело! Ты на золотую жилу напал! Только работай с умом.
— Но ведь там действительно было много всякого, — попытался возразить Чижиков. — Взять того же Малюту Скуратова…
— Ну и что? Малюта Скуратов! И Малюта сгодится, надо только уметь все обосновать, объяснить с точки зрения исторической необходимости. Надо уметь разоблачать, давить противника. Найди у него, за что можно зацепиться, — зацепись, приклей ему ярлык поярче — вот тогда и роман твой будет на плаву, и сам ты возвысишься. Надо играть на болевых точках людей, на чувствительных струнах обывателя: если ты его задел, завоевал его симпатии — ты на коне. Он в обиду тебя уже не даст! Надо побольше единомышленников сколачивать вокруг себя, не брезговать ими. Я вот со Скуриным на одном поле не сел бы, но пусть будет, раз сам липнет, лишний солдат — авось пригодится, особенно для черной работы. Ты сколотил вокруг себя неплохую команду, но вам не хватает хорошего лидера.
— Так будь им!..
— Погоди, я еще не все сказал. — Философ взял сигаретку и, наблюдая за Чижиковым, принялся ее обнюхивать. Глаза у Чижикова горели, они светились каким-то озарением, решимостью и преданностью. Ему хотелось что-то сказать в ответ на такое откровение, но он боялся спугнуть Философа с накатившей на него волны признания, тем более что тот, оказывается, выложился еще не совсем. И действительно, «накурившись», Философ заговорил снова, предупредив: — Только сугубо между нами. Скоро у нас предстоят серьезные перемены, и мы должны быть начеку, чтобы не проворонить случай, не упустить предоставившуюся возможность. Мы должны этого нашего Председателя, этого старпера, отправить на пенсию…
— А кого на его место? — не выдержал Чижиков и тут же, сообразив, стал замазывать оплошность: — Надо, чтобы ты!
— Тогда мы создадим секретариат по своему образу и подобию, — продолжал Философ, «не заметив» реплики Чижикова. — Газету «Литературные новости» тоже надо прибрать к рукам, там сидит сейчас такой же либерал — ни рыба ни мясо. Газета нам нужна как воздух: это орган оперативного реагирования на происки всяких подонков. А главным редактором туда я мыслю… — Он сделал паузу, потом сказал: — Тебя!
— Меня?
— Да. Это не понижение! В твоих руках будет такая власть! А тут у нас все равно намечается сокращение штатов, и твоя должность упраздняется.
— Почему? — испугался Чижиков.
— Можно было бы сократить секретаря по литературам народов… Но в данной обстановке — это сработало бы против нас: поднимется такой вой… Так что — вот так! Знай, готовься к переменам и держи язык за зубами.
— Понял. Будь уверен — не подведу.
— Верю.
— Завтра секретариат, — напомнил Чижиков.
— Не бойся: раздавим этот прыщ — только брызнет! Сам запомнит и другим будет заказывать.
Чижиков, довольный, растроганно улыбался.
Как и обещал, он занес Председателю журнал.
— Ну что, выработали стратегию, мудрецы?
— Выработали, — сказал Чижиков весело и быстро вышел, чтобы, не дай бог, не проговориться о тайнах, поведанных ему Философом, тем более что его так и распирало — хотелось с кем-то поделиться всем, о чем он только что услышал.
4
Председатель листал журнал и думал о завтрашнем заседании. Конечно, Борисов поступил слишком опрометчиво, необдуманно, по-мальчишески. Шуму, разговору будет много, и хватит его надолго. И конечно, можно к этому подойти двояко: с одной стороны — возмутиться, поднять на принципиальную высоту, обвинить в использовании, служебного положения, и т. д. и т. п. Ведь такого еще не было у нас в печати! А можно подойти к случившемуся и более спокойно: ай-яй, нехорошо поступил, Слава. Но мы добрые, будем считать это недоразумением, ошибкой, совершенной по горячности. Мы понимаем, что спокойно реагировать на то обсуждение, которое устроил Чижиков, конечно же трудно. Так что тут оба вы друг друга стоите. Но использовать печать, журнал, в котором ты главный редактор, — непозволительно! Как непозволительно использовать и секретариат, в котором ты являешься секретарем, для сведения личных счетов…
На другой день, открывая обсуждение, Председатель повторил вслух эти же мысли и добавил:
— Вот и давайте обсудим, как быть. Я пока своего мнения не высказываю, чтобы не давить на вас. На нашем секретариате присутствуют представители Центрального Комитета комсомола. Поскольку журнал двойного подчинения — наш, писательский, и комсомольский, — мы договорились провести совместное обсуждение. Вот и давайте обсудим, как быть, что делать в создавшейся ситуации. Я бы сказал — безобразной ситуации. Но повторяю: пока своего мнения и своего отношения высказывать не буду, чтобы не давить на вас ни своим авторитетом, ни своим положением. Может, это и не скромно, но это же так, и от этого вы никуда не денетесь. Пожалуйста.
Вообще Председатель не любил скандальных дел и всячески старался гасить на корню любые конфликты. И это ему в большей части удавалось. Надеялся он на мирный исход, на спокойное разрешение и этого случая. И если бы так оно и произошло, было бы очень хорошо: меньше шуму, меньше огласки, меньше разных кривотолков и, главное, меньше разных объяснений в вышестоящих инстанциях — писательских и других. Но комсомольцы могут принципиальность проявить — у них в ЦК крайне возмущены поступком Борисова. Хотя Председатель и говорил с ними, старался, насколько мог, остудить накал, но черт их знает, что они там решили в итоге. Да и писатели… Это такая публика — стихия, никогда не узнаешь, куда их понесет.
— Так, прошу, товарищи, — Председатель очнулся от своих мыслей.
Борисов пришел на секретариат готовый ко всему, даже к самым крайним мерам. Тем более что в ЦК комсомола разговаривали с ним жестко и круто, он даже обиделся, вспылил:
— Почему вы со мной так разговариваете? Я не мальчишка. Сделал ошибку — признаю, хотя там все правда. Все дело в том, что мы не привыкли к таким вещам в печати, у нас это не принято. И в этом я нарушил. А жаль, что не принято, разных прохиндеев на чистую воду надо как-то выводить. Наказывайте, снимайте, а кричать на меня не надо.
— И снимем! Незаменимых людей у нас нет.
— Я тоже так думаю.
— Ладно. Обсуждение на секретариате покажет. Идите.
В кулуарах перед секретариатом Борисов храбрился:
— Да пусть снимают! Что я, не проживу без этого хомута? Голова есть, правая рука действует! И даже левая нога пока здоровая, могу ее подключить, если надо будет! А этому подонку я врезал как следует, и это главное!
Чижиков был мрачен, но держал себя гордо, был уверен, что его «оскорбленная невинность» получит достойную компенсацию. И вообще сегодня все не только встанет на свои места и он возьмет реванш, он надеялся даже получить еще что-то сверх того в награду за поруганную честь. А именно: защищая его, писатели невольно будут говорить о его достоинствах — творческих и вообще человеческих, а это значит — ко всему добавится еще изрядная пригоршня славы. Пусть хоть скандальная говорильня предстоит, да, может, тем и лучше: скандальное дольше помнится и шире разносится. Вот только почему-то Философа нет… Чижиков все поглядывал на дверь, ждал его: он надеялся на его могучую поддержку.
Будто угадав Юркино беспокойство, Председатель сообщил:
— Георгия, к сожалению, не будет: у него сильно разболелась голова.
Чижиков тут же осел и приуныл: «Не пришел… Почему? Наверное, что-то пронюхал и хочет остаться в стороне — обычный его приемчик. Значит, дела мои плохи…»
— Прошу, товарищи, кому предоставить слово? — в третий раз обратился к присутствующим Председатель. — Первому регламент удваиваю, — пошутил он.
Затишье перед началом, как перед грозой, было настораживающим. Заволновались виновники «торжества», заволновался Председатель. И не зря: уже первый оратор задал тон, не щадящий ни того, ни другого. Борисова упрекали в использовании журнала в корыстных целях — сведении личных счетов на его страницах, хотя содержание «Инвективы» никто не оспаривал. Чижикова обвинили в слабом влиянии на рост молодых литераторов: семинары проводит, а Союз писателей стареет; в предвзятом отношении к «Молодым голосам» — это ярко проявилось на прошлом секретариате.
Говорили резко, убедительно, страстно: все думали, что секретариат проводится по указанию свыше. Поэтому и метали громы и молнии налево и направо — все хотели быть услышанными наверху, но от конкретных предложений тем не менее воздерживались.
Под конец обсуждения Мичман спросил:
— Товарищ Борисов, ну а у вас вот какого-то сожаления, раскаяния по поводу содеянного не наблюдается?
— Нет, не наблюдается, — быстро ответил Борисов. — Ни сожаления, ни тем более раскаяния. Мне бывает иногда просто неловко, противно от того, что он вынудил меня это сделать. Одолевает иногда какое-то чувство гадливости: все видели это, знали о нем, но проходили мимо, закрывали глаза, затыкали уши, зажимали носы — никто не хотел даже тронуть это. Пришлось стать мне ассенизатором — попытался сковырнуть, но не сковырнул, а только разворочал и испачкал руки. От этого бывает гадко, хоть и руки уже давно помыл. Не скрою: есть и удовлетворение от содеянного: не сковырнул, так хоть с места стронул!
— Жаль, — пожал плечами Мичман. — Такие вещи обнародовать — зачем? Да еще в своем журнале. Это же использование служебного положения. Но я не понимаю одного: зачем все это выносить на всеобщее посмещище? Можно же было вот здесь, в своем кругу, обсудить все тихо-мирно?
Выслушав всех, Председатель поднял голову:
— Вот так-то! — Это относилось к Чижикову и к Борисову: — Судя по речам, по их накалу, обоих надо гнать к чертовой бабушке! И я разделяю этот пафос, и такое мнение, и такое отношение к случившемуся. Что творится, товарищи дорогие! У нас такие статьи печатаются! А интересно, куда смотрела цензура? Полный либерализм! Так, чего доброго, мы можем докатиться и до самого что ни на есть буржуазного плю… плюрализма. — Он обернулся к Борисову: — Тебя же судить надо за такие вещи: тут же оскорбительные эпитеты, — потыкал он пальцем в обложку журнала.
— Пусть судят, я докажу, что я прав по каждому эпитету.
— Вот тут и пожалеешь… То есть я хочу сказать: ваше великое счастье, что сейчас не те, не тридцатые годы, которые я случайно благополучно пережил, а то бы вы, голубчики, уже пели бы популярную песенку: «Соловки вы, Соловки, дальняя дорога…» Безобразием занялись — вот как это называется. Но, я думаю, мы не будем применять к нашим молодчикам высшую меру наказания… Ограничимся строгими выговорами. А?
Все облегченно вздохнули, заерзали, заулыбались, стали улыбками, репликами смягчать свои резкости в выступлениях.
— Тише, тише, товарищи. Давайте проголосуем. Кто «за»? Единогласно. Спасибо. Ну а теперь хорошо бы было, если бы наши «герои» пожали друг другу руки. А?
Чижиков скосил глаза в сторону Борисова — если тот проявит готовность, он встанет ему навстречу, хотя «Инвективы» он ему не простит никогда. Борисов встал — лицо багровое, будто только из парной, — встал, чтобы сказать:
— Филипп Филиппыч!.. Мы же не в детском саду. Ну что мы — дети? Октябрята? Зачем я буду жать ему руку, если у меня кипит все внутри? И у него также, уверен. А может, еще и больше…
— Ладно, ладно… Это действительно к делу не относится. Идите остывайте. Секретариат закончен.
Когда все разошлись, Чижиков спросил:
— Значит, что же теперь, Франция побоку?
— Кто тебе это сказал? — спокойно обронил Председатель, накручивая телефонный диск.
— С выговором, да еще со строгим, за границу разве пустят? — пояснил он свои сомнения.
— Ду-у-урачок ты. — Председатель бросил трубку на аппарат. — Занято. Иди, дорогой, домой и готовься к поездке как следует.
5
Состоявшийся секретариат оба наши героя переживали по-разному. Борисов, ожидавший худшего, был доволен таким исходом дела. Как человек оптимистичный, Борисов находил, что он «процесс выиграл». С красным, будто натертым жженым кирпичом, лицом, с мокрыми от пота рыжими волосами — знать, все-таки нелегко ему далось это обсуждение! — он не торопился уходить и в вестибюле громко, ни к кому конкретно не обращаясь, говорил:
— И тут-то она ему сказала: «Ты за мною, мальчик, не гонись». Выговор! Да через год от него и помину не останется, я его стряхну — вот так, — и он потер, похлопал ладонями, дунул на них. — И все! «Ваших нету»! А мою «Инвективу» он будет носить вечно! Легко отделался, паразит. Филипп чего-то защищает его, не делится ли Чижиков с ним своей Данаей? Даная! «Зевс, принявший вид золотого дождя, соединился с Данаей». — Борисову надо было выговориться, чтобы успокоиться, и он говорил, говорил: — Злые языки рассказывают, будто Даная под хмельком делилась с подругами: «Я думала, на меня упадет золотой дождь, а оно так, редкие росинки». — И Борисов по-дамски разочарованно поджал губки — изобразил Данаю. — Наивная женщина: это Чижиков-то — золотой дождь?! Как все измельчало в этом мире! Даже Зевсы превращаются в Чижиковых.
— Пошлость, — обронил кто-то.
— А я и сам знаю, что пошлость, — не оборачиваясь, сказал Борисов. — Потому что Чижиков самый настоящий пошляк. И ты тоже. Думаешь, не знаю, куда ты сейчас направишь свои стопы и что ты там будешь говорить и делать?
Все смущенно заулыбались, стали расходиться — от греха подальше, и Борисов тоже заторопился:
— Ладно, ребята! Как ни мучилась старушка, а умерла хорошо. Пока! — И он побежал к выходу.
Чижиков реагировал на решение секретариата совсем иначе. Ожидавший реванша, победы, а получивший нагоняй и выговор, он был недоволен таким оборотом дела. И как всякий мнительный человек, он делал далеко идущие выводы: это значит началась полоса невезения, пошла сплошная «непруха»: тот секретариат, этот, взыскание, почти ни одного доброго слова, в выступлениях сверху ни звука в его защиту, да и сам Филиппок что-то крутит непонятное. Нет, не зря, видать, и Философ сегодня так блистательно отсутствовал — вот уж кто действительно «умыл руки». Да и вся болтовня его — это еще журавль в небе, а Филипп хоть и синица, да пока у власти.
Домой Чижиков пришел в высшей степени не в духе. Нет, не такой он хотел для себя славы — какая-то она неустойчивая, зыбкая, хрупкая, непрочная, как папиросная бумага, на волоске держится. Качнись сейчас Филипп чуть больше в другую сторону, и все — секретарство его полетело бы в тартарары, а вместе с ним и все его блага, власть, влияние, авторитет, а главное — издания, похвальные статьи о нем. Почему все так происходит, почему он такой невезучий? Сегодняшний разговор расстроил его больше всего — как все-таки его не любят! Завистники! Не-е-ет, там наверняка к талантам отношение совсем другое. Там, если человек добился славы, материального благополучия — все, это его, пожизненно! Живет он в роскоши и окружен почетом и уважением. А тут даже скрывать приходится свои издания, скрывать гонорары, чтобы не вызвать зависти, нарекания. А попробуй я завести себе секретаря, прислугу, хороший загородный дом — заклеймят, затопчут. Опротивело все… Убежать бы от всего… А куда? Ни Ясной Поляны, ни Спасского-Лутовинова, ни Михайловского, ни даже захудалой Воробьевки нет, чтобы можно было укрыться «от всевидящего глаза, от всеслышащих ушей»… Разве что во Францию?
Навстречу ему выбежала Даная. Она была сильно нездорова, лежала, но собрала все силы, стараясь развеять мрачное настроение мужа:
— Что с тобой, Юра? Что случилось?
— Ничего, — неохотно буркнул он. — Выговор вынесли.
— И только-то? — удивилась она.
— Что значит «и только-то»? — вытаращил глаза Чижиков.
— Ну, за такую позорную статью?..
— Мне выговор!
— Тебе?! За что? А ему?
— И ему.
— Но тебе за что?
— Да все за то же!.. Дана, не трави мне душу своими вопросами. Дай побыть одному. У меня такое настроение — хоть в петлю.
— Ну что ты, милый… Не надо так…
— Отстань!.. — И он быстро ушел в свою комнату, хлопнул дверью, оставив Данаю одну в прихожей. Она плотно запахнула клеопатровый халат, постояла в задумчивости, подошла к двери, спросила осторожно:
— Юра… Может, на дачу поедем, поживем там?..
— Отстань, я сказал!..
Даная еще плотнее запахнула халат и пошла к себе — голова кружилась, появился озноб, и она легла в постель. Ночью поднялась температура, она металась, но к ней никто не подошел.
На другой день Чижиков проснулся поздно. Удивился, что Даная не зовет его к завтраку, сам вышел на кухню — там было запустело и холодно, немытая посуда со вчерашнего дня лежала в раковине.
Собравшись с силами, Даная прокричала:
— Юра, я совсем расхворалась… Приготовь сам себе завтрак… Там…
— Хорошо, — оборвал он ее. — Как только у меня неприятности, так и у тебя случается какая-то болезнь, — проворчал он с упреком. — Удивительная синхронность!
Она думала, что он придет к ней, спросит о самочувствии, предложит вызвать врача, но она откажется — могут увезти в больницу, а ей не хочется… Вместо всего этого он бросил ей упрек. «Мужчины, какой все-таки слабый народ: чуть что — сразу раскисают. Надо встать, накормить…»
Встала, прошла в ванную, но душ, как обычно, принимать не захотела, лишь умылась слегка — глаза промыла, на большее, чтобы прибрать себя как следует, у нее сил не хватило, и она, непричесанная, так и вышла на кухню. Чижиков сидел за столом и сердито жевал сухую колбасу, откусывая прямо от большого полукольца.
— Юрочка, ты куда-то торопишься? Я сейчас, быстренько кофе приготовлю…
Он хотел сказать что-то резкое, упрекнуть, что долго валяется в постели, как барынька какая-нибудь, поднял на нее глаза — да так и застыл с открытым ртом: перед ним стояла высохшая некрасивая старушка. Короткие растрепанные волосы, некогда крашенные и теперь наполовину отросшие, были двух цветов: верхняя часть отливала медно-красным металлом, нижняя — была сплошь седая. К тому же волосы были настолько редки, что в проборах видна была белая кожа головы, похожая на лысые проплешины. Тонкая длинная шея Данаи вся в морщинах, как мятая бумага, дряблое лицо без бровей и без ресниц походило на ссохшееся лицо мумии.
— Ты куда-то торопишься, милый? — снова спросила она, ставя на газ кофейник.
Чижиков молча смотрел на нее с открытым ртом, набитым колбасой и булкой.
— Что с тобой, милый?
— Нет, это с тобой — что? — прошамкал он.
— Я совсем больная, я же тебе сказала.
— Ты совсем старуха! — произнес он в ужасе.
«Идиот!» — обругала она его про себя, но вслух сказала:
— Какой ты… Я совсем больна. — Даная повернулась к выходу, и он увидел ее макушку — совсем лысую, и это было так омерзительно, что его чуть не вырвало. По крайней мере проглотить колбасу он не смог, выплюнул над раковиной и смыл водой.
«Ужас! Вот она какая à la naturel — без грима, без парика. Ужас!»
Чижиков, как видим, кое-что уже знал из французского, правда, совсем немного, да и то переводил с пошловатым привкусом. Так, например, это понятие для него существовало лишь в одном-единственном переводе — «голенькая».
Он быстро собрался и, не говоря ни слова Данае, пошел на выход. Но не успел щелкнуть замком, как Даная выскочила в прихожую:
— Юра, куда так рано?
— На работу! — раздраженно бросил Чижиков, не оборачиваясь. Замок как нарочно заело, а скорее всего не заело, он второпях забыл сдвинуть запорную кнопку и теперь терзал его в сердцах, готовый грызть зубами. — На работу! Разве ты не знаешь, что я работаю, служу и должен ходить в свою контору?
— Да, но так рано? И потом — по четвергам ты вообще не ходил. — Она подошла к двери и мягко сняла замок с предохранителя. Он взглянул на нее, хотел что-то сказать, но только рот раскрыл и поперхнулся: перед ним стояла мило улыбающаяся симпатичная женщина в платочке шалашиком — под матрешку — и смотрела на него большими глазами. Заметив на лице Чижикова удивление, она укоризненно покачала головой:
— Женщине даже заболеть нельзя. Следи да следи за собой… Не уследила…
— Прости… — буркнул он. Вспомнил ее лысину, морщины на шее, дернул брезгливо уголком рта, сказал: — Я тороплюсь. Сегодня вечер поэзии в «Иностранке». Надо подготовиться.
— Я знаю, милый… Это вечером. Ладно, иди, ни пуха ни пера тебе.
Он ничего не ответил, так как если бы он послал ее к черту, это было бы наверняка искренне и грубо. Сдержался.
6
В союзе было пустынно и тихо, как в будний день в областном краеведческом музее. Лишь секретарши отвечали на редкие звонки однообразно и вежливо:
— Кто спрашивает? Его нет. Сегодня не будет. Не знаю. Пожалуйста.
Через час или два им уже до чертиков надоедала такая изнуряющая работа, и они собирались все три в какой-либо одной приемной и судачили обо всем, что только приходило в голову.
Появление Чижикова в необычное время их ничуть не смутило, но сильно озадачило: «Как это понимать? Не пришел ли он чистить ящики и собирать свои бумаги после вчерашнего секретариата?» Секретарши переглянулись и затаились в ожидании, когда он пройдет в кабинет. И по тому, чем он там займется, они сразу определят, что происходит. Если начнет греметь ящиками, рвать ненужные ему документы, — дело ясное: прощается. Но Чижиков не торопился в кабинет, приостановился, спросил у своей секретарши:
— Меня никто не спрашивал?
— Нет, Юрий Иванович, — заморгала тяжелыми от краски ресницами худощавая девица, измотавшая себя на диете. — Вы же обычно в этот день не бываете, и люди уже знают…
— Мг-г… — мыкнул он что-то неопределенное, подумал, о чем бы еще спросить, не придумал, вошел в кабинет, но тут же снова выглянул в приемную: — Писем мне не было?
— Нет.
Не садясь за стол, Чижиков походил по комнате, как зверь по клетке, — на душе было гадко, все противно, тоска-а-а… Нажал на кнопку, вызвал секретаршу:
— Почта была сегодня? Газеты, журналы?
— Нет.
— Сходите в отдел писем.
— А ее нет. Она будет после обеда: у нее ребенок…
— Ладно, — отпустил он секретаршу. Она вышла, прикрыла тихо дверь и, придавив ее тощим задом, тихо сказала своим товаркам: — Мается, бедняжка, от безделья, не знает, чем заняться.
— А ты ему кубик Рубика дай, — предложила самая старшая из них и самая разбитная — секретарша Председателя. Она работает здесь уже лет двадцать и поэтому чувствует себя как рыба в воде.
— Не справится. Там соображать надо.
— Тогда вон — Наталку, — кивнула она на свою подружку — пышногрудую толстуху из комиссии по приему в союз.
— Тем более, — сказала та и тут же всерьез добавила брезгливо: — Этого мне еще только и не хватало! Очень нужно…
— А что? — не унималась старшая. — Он на писательских харчах отъелся: уматерел, шея стала толще…
— Разве что шея, — бросила Наталка, и они все, зажав рты, стали давиться безудержным смехом.
Чижиков звонком снова вызвал секретаршу:
— Что там у вас?
— Да… Девочки шутят. — И она, взглянув на него, на его шею, не сдержалась, прыснула и, зажав рот, проговорила: — Ой, простите.
— Вот отпечатайте, — подал он ей листок бумаги. — Срочно. В трех экземплярах.
Секретарша вышла, потрясла листком:
— Есть работа! Срочная. Родился очередной шедевр! — И она прочитала вслух: — «Список выступающих на поэтическом вечере в Библиотеке иностранной литературы… Вечер ведет Чижиков Ю. И. — поэт, прозаик, эссеист, секретарь правления СП… лауреат… Участвуют: Никанорова Нототения — поэтесса…»
— Ой, «поэтесса»! Пошли, Наталка, тут начались дела сурьезные, — сказала старшая, и они ушли.
Вечер отвлек Чижикова от мрачных мыслей, он возбудился, даже шутил. Перемене настроения немало способствовала и эта длинноногая со стремительным зачесом волос от левого уха к правому и нависшим над ним внушительным валиком. Она мило улыбалась Чижикову, сверкала в его сторону антрацитовыми глазами и вообще отпускала по его адресу разные знаки внимания. Он запомнил Нототению еще с той первой встречи в конторе Никанора, потом видел ее в Литинституте, она ему нравилась, но сблизиться с нею он попытки не делал — возле нее всегда крутилась уйма поклонников, а рисковать Чижиков не умел, не любил и не хотел, боясь поражения.
Когда они выходили из библиотеки, Нототения оказалась «случайно» рядом, спросила:
— Юрий Иванович, вы без машины? Я могу вас подвезти.
У крыльца стоял огромный черный автомобиль, ухоженный и сверкающий, как купчиха в первый пасхальный день. Чижиков кивнул на машину, пошутил:
— Не на этой ли погребальной колеснице?
— Ну, зачем же так мрачно? Катафалк — и то мягче и не всем понятно. Именно — на этой. Соглашайтесь, не бойтесь: эта колесница по мрачным местам не ездит.
— Нам разве по пути?
— Я в этом уверена, — сказала Нототения весело и потянула дверку на себя. — Пожалуйста, — пригласила она его в машину. Он нырнул в просторное, пахнущее духами нутро автомобиля, она плюхнулась рядом, и огромный лимузин легко и мягко покатил по улице. — Не хотите ли заглянуть ко мне в келью на чашечку кофе?
«Знаю я эту «чашечку кофе», — подумал Чижиков, однако сказал:
— Это было бы только кстати. У меня сейчас такое тяжелое время…
— Я слышала. Не надо так переживать, все образуется, — и она безошибочно тут же отыскала на сиденье его руку, положила на нее свою ладонь и легонько дружески пожала: — Не надо.
Чижиков невольно взглянул на шофера — перед ним вертикально маячил огромный ствол шеи, по которой можно было судить, что за рулем сидит человек-медведь. Спокойный, равнодушный, но зверь, притом — сильный.
— Ваша машина?
— Папулькина, — ответила она быстро, как о чем-то совсем никчемном.
«Келья» Нототении слагалась из двух просторных комнат, обширной прихожей и прочих служебных помещений. Столовая, как теперь и принято, совмещалась с кухней, да там, кстати, и места было больше чем достаточно — застолье человек в десять вполне могло разместиться. Зато две другие комнаты были строго определены по своему назначению: меньшая — кабинет, большая — спальня. В кабинете и мебель кабинетная — современная «стенка», исполненная в духе «ретро», письменный стол на резных львиных лапах, кресло рабочее и два глубоких — для отдыха. Все это тоже на ножках, выточенных под звериные лапы.
Если о кабинете можно было сказать, что он обыкновенный, то о спальне этого сказать никак нельзя. Как выражается одна моя знакомая искусствоведка, — это было нечто! Определить ее как будуар в самом пошлом смысле — значит отнестись к ней очень снисходительно. И все-таки попробуем хоть как-то обрисовать сие девичье гнездышко. Большую часть территории занимала здесь огромная деревянная кровать, застланная пурпурным шелковым китайским покрывалом с золотыми драконами. Над кроватью на четырех фигурных подпорках нависал толстый, будто набитый ватой, балдахин. Он был обит темно-красным шелком и по краям оторочен золотистой бахромой. По углам на витых веревках, будто с полковых знамен, свисали тяжелые кисти. Под ним горел мягкий розовый свет.
Стены спальни были оклеены красными шаляпинскими обоями. Многочисленные бра с двойными лампами и хрустальными висюльками, если их зажечь, тоже излучали розовый свет, так же как и два торшера у изголовья кровати.
В ближнем левом углу стоял платяной шкаф, в правом — низенький столик, два удобных кресла в красной обивке и нависающий над столиком светильник, луч от которого высвечивал только столик и расположенные на нем бутылку с коньяком, две стопочки и вазочку с конфетами «лимонные дольки».
Пол, разумеется, был устлан толстым красным ковром.
Чижиков заглянул в одну, в другую комнату — и ни в одну не решился войти: обе они показались ему не жилыми, а какими-то музейными — и направился на кухню.
— Юрий Иванович, проходите сюда, — Нототения пригласила его в спальню, указав на кресло у столика.
Он сбросил у порога ботинки и в одних носках осторожно ступил на мягкий ковер. Ноги приятно утопали в длинном ворсе, как в густой траве.
— И как это называется? — спросил он, оглядывая комнату.
— «Сказка», — сказала она весело.
— «Тысяча и одна ночь»?
— Точно! — обрадовалась она его догадливости. — А вы как бы назвали?
— У меня фантазия… — задумался он. — Никакой поэзии, проза: «Красная комната», например. Или «Красная зала».
— А что? Тоже красиво. Вы имеете в виду только цвет?
— Нет, — быстро сообразил Чижиков, что хочет услышать хозяйка. — Я имею в виду и древнее значение этого слова — красивый.
— Вам нравится?
— Очень! — он уже понял свою роль — все хвалить, всем восторгаться — и начал ее играть.
— Садитесь.
Он сел и тут же сказал:
— Какие удобные кресла! Какой уютный уголок!
Нототения налила в стопки коньяк, подняла свою:
— За вас…
— А я — за вас. — Пригубил: — У-у! Какой чудесный коньяк! Никогда такого не пил.
После второй стопки Нототения перебралась к нему на колени, обняла и поцеловала в губы.
— М-м… Какой ты сладкий, Чижиков!.. — и принялась расстегивать пуговицы на его рубашке. Он ответил взаимностью — распустил на ее спине молнию. Она встала, подняла его и подвела к кровати. Тут она ловко сдернула драконье покрывало, одним движением освободилась от одежды и нырнула под одеяло. — Я жду-у!..
Но он не заставил себя долго ждать — тут же последовал за ней.
Утолив первую страсть, она целовала его и приговаривала:
— Юра… Юрочка… Как я давно о тебе мечтала… Наконец-то сбылась моя мечта.
— Правда? — уточнил он.
— Правда. А ты? Ты думал обо мне?
— Честно?
— Конечно.
— Думал. Еще после первой встречи в союзе. А потом в институте…
— Ну?
— Стеснялся… Боялся получить отлуп. — И пошутил: — Как-никак, а сама царица Шехерезада!
— Глупенький… Скажи просто: подвернулась эта вдовушка?.. Она ведь старенькая?
Он не ответил, провел рукой по ее волосам:
— У тебя красивые волосы. — И вроде в шутку: — А может, это парик?
— Нет, Юрочка, у меня все мое, натуральное. Привык со своей старушкой — у нее все искусственное, все накладное.
— Не надо… Мне противно…
— То-то. Слушай, Юра… Если я тебе по-настоящему нравлюсь, переходи ко мне?
— Мне здесь места нет, — сказал он так, словно уже прикидывал подобный вариант.
— Я тебе отдам свой кабинет, а сама переберусь в спальню. А потом папуля устроит нам такую квартирку, какая тебе и не снилась! Он это умеет! — Рисуя перед ним блестящую перспективу, Нототения постепенно забиралась на него, пока не оседлала совсем. — Ну как? — спрашивала она, целуя. — Мы такой поэтический концерн образуем под эгидой папулькиной конторы — многие от зависти умрут! Соглашайся, а то укушу.
— Подумать надо. Все так неожиданно.
— Думай. До утра еще времени много.
— Хорошо. Ты — моя Шехерезада, и это твоя первая сказка.
— Нет, это не сказка.
— Но красивая мечта, красивая быль — как сказка…
7
Саша Говорушкин застал Данаю совершенно разбитой — опустошенной, растерянной, заплаканной. Он удивился, спросил участливо:
— Что случилось, Даная Львовна?
— Сашенька, он меня бросает… — сказала она трагическим голосом и засморкалась в платочек.
— Не может быть! — искренне удивился Говорушкин. — Не может этого быть! Вам, наверное, показалось. Нет, нет, Даная Львовна, тут что-то не так.
— Что ты говоришь, Сашенька! «Показалось». Показалось, что он дома уже три ночи не ночует, показалось, что он назвал меня старухой, старой каргой? Я что, в самом деле уже… — Она пристально посмотрела на него широко раскрытыми глазами, ожидая ответа.
— Да ну что вы! Как можно об этом говорить? Вы очень красивая женщина… И… и совсем еще молодая…
— Ты добрый, Сашенька. У тебя сердце доброе, ты щадишь меня… Я же вижу.
— Нет, Даная Львовна, я совершенно искренне говорю. Да вы хоть у кого спросите, каждый вам скажет то же самое. Честное слово.
— Спасибо. А он оскорбил меня…
— Вернется. Все перемелется и встанет снова на свои места.
— Нет, нет… Я чувствую, что нет.
— Вам, может, нужно помочь чем-нибудь? — спросил Говорушкин. — Вы, наверное, голодны? В магазин сходить?..
— Нет, Сашенька, не надо, у меня все есть. Только мне не до еды.
— Ну как же? Есть-то нужно. Неужели же из-за этого с жизнью прощаться? Жить надо, надо жить! — бодро и рассудительно говорил Саша, обряжаясь в фартук и принимаясь за холодильник. Быстро нарезал колбасы, разбил в чашку три яйца, налил туда же сливок, смешал и вылил на сковородку. Через пять минут яичница «по-чешски» была готова. — Прошу вас, Даная Львовна, — пригласил он ее к столу. — Прошу. Ваша любимая яичница!
— Только ради тебя, — сказала она, садясь за стол. — Ты, может, выпить хочешь? Достань там…
— Я — нет, а вам для поднятия духа необходимо, — сказал Говорушкин и достал коньяк и стопки. Она выпила совсем немного, успокоилась, но когда поздно вечером Говорушкин собрался уходить, ей снова сделалось плохо — ее затрясло, она стала ломать руки и слезно просить его не уходить:
— Не оставляйте меня одну, Сашенька… Я боюсь самой себя — я что-либо сделаю с собой… Мне страшно, Сашенька. Останьтесь… Вон в той комнатке переночуйте… Вам ведь все равно, а я буду знать, что вы здесь… Прошу вас.
Сашу не надо было упрашивать. При Чижикове он не раз ночевал здесь, охотно согласился:
— Хорошо, Даная Львовна, хорошо, я останусь. Вы только успокойтесь, пожалуйста… Ну что же вы так?.. Ложитесь, я сам себе постелю. — И когда она ушла к себе, он по-хозяйски выключил везде свет и направился в ту уютную комнатку, которая так понравилась когда-то Чижикову. Разделся, лег, но сразу уснуть не мог — случившееся в этом доме было для него неожиданным и нежеланным: «Зря Чижик так поступил… А может, там любовь настоящая, а может, контора Никанора привлекла? — рассуждал Говорушкин. — А только зря он так поступил… Мне-то как быть теперь? Теперь мне приходить сюда неудобно…»
И вдруг дверь открылась и в комнату вошла всхлипывающая Даная:
— Сашенька, извини меня… Но я боюсь одна… Мне совсем холодно… Согрей меня, Сашенька, милый… — Она, маленькая, в короткой мягкой рубашке, которая тут же завернулась почти по самую грудь, быстро забралась к нему под одеяло, прижалась к нему: — Согрей меня… Согрей…
О жизнь!.. Наверное, она не может, чтобы иногда не повторяться. Ну и пусть, было бы только людям хорошо от этих повторов.
Пусть.
Жаль только, что нам в этом доме больше делать нечего, мы последуем за главным героем.
8
Во Францию Чижиков собирался так тщательно и основательно, будто уезжал в долгую и дальнюю экспедицию, куда еще не дошла никакая цивилизация. Брал все свои книги, чистую бумагу, даже пузырек с чернилами.
— Чижиков, — говорила ему Нототения, которая, кстати, тоже была включена в состав делегации, — ты так собираешься, будто хочешь там поселиться навечно.
— О чем ты говоришь, Нота? — испуганно возражал Чижиков. — Чернила, бумага… Ведь за все это там придется расплачиваться валютой. А оно, говорят, там дорого стоит.
— Зачем тебе чернила? Возьми шариковую ручку — хватит на две недели. Где ты там собираешься творить? Не в дом творчества едем.
— Вечерами, в гостинице. Вдруг придет вдохновение, — оправдывался Чижиков, хотя наверняка знал, что никакое вдохновение его не посетит, как ни разу не посетило оно его ни в какой поездке. — Впечатление записать…
— Ой, Чижиков!.. А книги зачем?
— Ну, это необходимо: пригодятся — может, подарить кому надо будет. А может, какой издатель заинтересуется, попросит. Ты тоже свои возьми, — посоветовал он.
— Ой, Чижиков!.. Мудёр ты, оказывается.
— Ну что ты все «Чижиков», «Чижиков»… — обиделся он деланно: он боялся, что его тайные мысли о бегстве станут явью. Нет, он не собирался бежать именно сейчас, он не знал, как это делается, но вдруг случится так, что придется?.. Мало ли какие случаи бывают…
Но волновался Чижиков сильно, особенно в аэропорту — сто потов сошло, пока прошел все перегородки. Когда остались позади таможенники, вздохнул облегченно, думал: наконец-то все, пронесло. Но, оказывается, рано вздыхал: молоденький сержант в зеленой фуражке, который сидел в тесной будочке, неожиданно дольше обычного задержал его паспорт. Листает, листает, поглядывает на Чижикова, сверяет фотографию с его физиономией, а у Чижикова уже сердце опустилось, в горле пересохло, побледнел: если и было хоть малое сходство с фотографией, теперь и то потерялось. А пограничник все поглядывает то в паспорт, то на него и вдруг спрашивает:
— Вы где паспорт получали?
— А что? Что-нибудь не так? — чужим голосом пролопотал Чижиков. — В Союзе писателей… В иностранной комиссии…
Но пограничник, кажется, не слушал его, громко стукнул печаткой, положил паспорт на стойку:
— Проходите.
Заторопился Чижиков к своим, которые все уже стояли по ту сторону «границы» и ждали своего руководителя.
— Что-то вас долго проверяли, Юрий Иванович?
— Подозрительным показался, — Чижиков пытался шутить, но голос дрожал и по лбу катился обильный пот. — Фу, жарко! — Он достал платок, принялся вытираться.
В самолете стал приходить в себя. Легкая тихая музыка, цветные лакированные буклеты с видами Парижа, вежливые красивые стюардессы, катившие впереди себя тележки с разнообразными напитками, окончательно успокоили его, настроили на безмятежный лад.
— Что будете пить?
Чижиков бросил взгляд на тележку, и глаза его разбежались: коньяк, вино, пиво, соки, напитки — все к его услугам. Не решив сразу, что взять, он спросил у Нототении:
— Ты что будешь?
— Я, пожалуй, попробую винца, — сказала она.
— А я — коньячка. Это «Камю»? — спросил он со знанием дела.
— Нет, наш, армянский.
«Наш», — удивился Чижиков. — Наш самолет?..» — И, быстро сориентировавшись, сказал:
— Ничего. Наш не хуже. — И он улыбнулся доверительно стюардессе.
Хорошо! Сразу чувствуется заграница! Еще, наверное, и границу не перелетели, а уже совсем другая атмосфера. Хорошо!
Из аэропорта Пари-ле-Бурже их везли в большом автобусе, кабина шофера была увешана всевозможными вымпелами. Чижиков сидел у окна и не отрываясь смотрел на дома, вывески, людей, витрины — все удивляло, все поражало, радовало, наполняло душу непонятным возвышенным волнением. Париж! Вот он какой — Париж! А люди ходят просто, обыкновенно, а ведь это — Париж!
В гостинице переводчица спросила:
— Кто есть супружеские пары?
— Мы — вот, — сказал Чижиков, кивнув на Нототению. — Но у нас разные фамилии.
— Это ничего, — улыбнулась переводчица. — У нас не так, как у вас, у нас на этот счет демократично. — И поспешно добавила: — В Америке тоже ханжи, я знаю случай с вашим Максимом Горьким.
Переводчица — француженка, но у нее бабушка русская. При знакомстве она пошутила:
— У меня вообще создается впечатление, что редкий француз не имеет примеси русской крови — то бабушка, то прадедушка, то прапра… Даже Жорж Сименон говорит, что его фамилия образована от фамилии русского солдата Семенова, попавшего в плен к французам. Но это лирическое отступление. Больше нет женатиков? Хорошо. Вот вам ключи от номеров.
Чижикову — как руководителю и Нототении — как его супруге и дочери известного писателя отвели люкс. Вошли они в этот люкс и обомлели. Поражала каждая мелочь — все продумано, все для удобства, все красиво. Особенно поразили ванная и туалет. Столько полотенец, столько салфеток, шампуней, брусочков мыла — что и не знаешь, зачем столько и как всем этим пользоваться! Да все в ярких упаковках, да все так пахуче! Да на всем лежат бумажные ленты с напечатанным красивой латиницей словом: «Désinfection». Особенно поразил туалет — все блестит чистотой и стоит запах такой дурманящий, такой пьянящий, что тело невольно наполняется непонятным чувством томительного вожделения.
А ведь это был далеко не первоклассный отель, не те шикарные, в которых поселяются американские толстосумы, — это была старенькая и дешевенькая гостиница на узкой улочке почти в центре Парижа.
— Ты знаешь, Нота, я начинаю понимать нашего Философа! Он очень любит описывать заграничные туалеты, у него почти все романы пропахли вот этим запахом. — Чижиков повел носом. — Чуешь? Вот это заграница! Вот это Европа! Ах, Нота, Нота, как я тебя люблю! Я вполне счастлив! А ты?
— Юрочка, о чем речь! — томно сказала она и пошла босиком по мягкому ковру в спальню. — Иди сюда! Посмотри постель — боязно прикоснуться: белизна, чистота, вспушено все — никогда не представляла себя в такой роскоши! Куда там моя «Сказка» — день и ночь! — И она упала поперек двух кроватей, утонув в перинах. — Догоняй, Юра…
Юра был уже на старте и поэтому быстро догнал Нототению, и было им обоим очень хорошо.
9
На другой день их повезли в пригород, рабочий городок, управляемый коммунистами и по существу построенный ими. Чижикову городок не понравился: какая-то архитектура несуразная: неуютная, некрасивая, как не для жилья. Да и «заграничного» здесь мало — кроме французских вывесок на лавках, совсем не то что на парижских бульварах, через которые они проезжали.
На обратном пути автобус проходил через площадь Пляс-Пигаль. Все оживились, заоглядывались, заулыбались таинственно, плотоядно, будто каждого из них уже щекотал легким перышком из своего крылышка недремлющий амур.
— Пляс-Пигаль!.. Пляс-Пигаль!.. — гомонили все, хотя что это такое, никто из них толком не знал. Кто-то что-то слышал, кто-то что-то читал, кто-то видел в каком-то иностранном журнале большую цветную фотографию обнаженной девицы…
— Пляс-Пигаль!.. Пляс-Пигаль!..
Но автобус уже завернул за угол, и все витрины, мелькнув, остались позади. Ничего не удалось как следует увидеть, рассмотреть, и у каждого лицо вытянулось в разочарованной улыбке. Тем не менее один пуританин заметил:
— Удивительно: культурная страна, а позволяет открыто такие вещи! Ведь здесь же бывают дети, девушки, женщины?
Переводчица успокоила его:
— Французы сюда не ходят. Здесь бывают только иностранные туристы.
Чижиков глубокомысленно молчал, а сам запоминал дорогу: автобус повернул налево, потом на небольшой площади — направо, еще раз направо и вот он уже на узкой улочке, где и расположен их желанный старенький отель.
«О, — удивился он, — так это же совсем рядом!» Вечером, уложив уставшую Нототению спать, Чижиков решил «прогуляться». Тихо, воровски, чтобы не услышали его подопечные, он вышел из номера, спустился вниз и устремился к заветной «Пляс». Она действительно оказалась совсем недалеко, сверкнула неожиданно на Чижикова яркими витринами своих заведений — он даже приостановился, не решаясь ступить в этот так обильно политый огнями оазис. Его поразил странный контраст: при таком обилии света и веселой пляске разноцветного неона совершенно безлюдные тротуары. Вот только на углу стоит скучающая девушка — наверное, ждет кого-то, и все. Нет, вон еще мужчина откуда-то вышел, торопливо прошелся и скрылся в тени.
Преодолев короткое замешательство, Чижиков ступил на освещенную площадь, и девушка тут же сделала несмелый шаг ему навстречу, проговорив мягко:
— Месье?..
Чижиков приостановился, думал, что она хочет его о чем-то спросить, стал быстро соображать, как сказать ей, что он иностранец и поэтому ничем не сможет ей помочь. Он уже открыл было растянутый в улыбке рот, но, увидев перед собой обильно раскрашенное лицо и пошлую призывную улыбку, понял, что это за «девушка», отпрянул в сторону:
— Не-не… — И быстро зашагал прочь. Но у первой же витрины остановился — пройти мимо такой картины он был не в силах: на цветной объемной фотографии в полный рост была изображена совершенно голая молодая красивая женщина, кокетливо плотно сжавшая колени. Она смотрела прямо на Чижикова, призывно улыбалась и даже слегка подмигивала левым глазом. «Как живая!» — удивился Чижиков и приблизился поближе, чтобы получше рассмотреть ее. Но тут приоткрылась узкая дверь (оказывается, вход был рядом), и выглянувший из нее мужчина позвал Чижикова:
— Месье! Силь ву пле, — уважительно склонив голову, он жестом приглашал Чижикова зайти. Но Чижиков слышал, что это удовольствие стоит немалых денег, с сожалением покрутил головой:
— Не, не… — И, выразительно похлопав себя по пустым карманам, сказал: — Нема!..
Но мужчина все равно звал его войти. С трудом преодолевая искушение, улыбаясь и раскланиваясь, как с добрым знакомым, Чижиков нашел в себе силы обойти настойчивого зазывалу и пойти дальше. Однако следующие витрины были еще привлекательнее: женщины группами и в одиночку в самых интересных позах заставили Чижикова вскоре снова приостановиться.
— Вот это да! — неожиданно услышал он русскую речь над своим ухом. — Вот это красотки!
Чижиков вздрогнул, оглянулся — рядом стояли двое и плотоядно улыбались. Они были будто близнецы — оба в костюмах, при галстуках и в шляпах. Но, приглядевшись, Чижиков заметил, что они далеко не близнецы: один круглолицый, с усами и с черными густыми бровями, другой — ростом пониже, с большой головой, сидящей прямо на плечах, с широким, расплющенным, как у гориллы, носом.
«Вот они… — обожгла Чижикова догадка, и в животе у него что-то оборвалось. — Влип… Сейчас будут брать, один уже заходит с другой стороны. Будут принуждать просить политического убежища… Но мне сейчас и дома хорошо: я при должности, при славе. Не соглашаться? Но для них, наверное, именно в таком качестве я наиболее привлекателен. Только бы не били, — стал он молить судьбу. — Все подпишу, все расскажу… Все, все, только бы не били… Жаль, я никаких секретов не знаю. А они будут думать, что я не хочу раскрыться…»
— Вот это малинник! — воскликнул курносый, обходя Чижикова с другой стороны.
Чижиков молчал и лихорадочно соображал, как ему быть — бежать или стоять? Или — сопротивляться? Но как? Кричать, звать на помощь? Он хотел как-то взбодриться, однако трусливое начало все сильнее и сильнее брало верх. В голове беспокойно билась мысль: кто они? А вдруг это какие-нибудь гангстеры, мафиози, которые хотят похитить его в качестве заложника, из-за выкупа, а потом, ничего не получив, убьют, а труп подбросят к стенам посольства… Чижиков даже тошноту почувствовал от такой перспективы. И даже мысль, что о нем после этого будет говорить вся мировая пресса, не утешила. «Нет, нет, лучше не надо…» — Чижиков невольно покрутил головой.
Появилась и такая мысль: «А может, это наши агенты, разведчики, проверяют меня?! Надо быть настороже». Он украдкой взглянул на одного, на другого, хотел понять все-таки — кто они, но лишь с большей уверенностью ощутил свое безвыходное положение. «Здоровые… Морды нахальные, точно — бандюги».
Чижиков машинально сделал шаг назад, потом второй и что есть силы рванул в темный переулок. Он несся посередине улицы, громко стуча каблуками, и все время прислушивался — не бегут ли за ним агенты. Завернул за один угол, за другой, чуть не сбил встречного прохожего, добежал до спасительного отеля, двинул всем телом массивную дверь и, тяжело дыша, придавил ее спиной с внутренней стороны. К нему подошел удивленный швейцар, Чижиков, собрав остаток сил, проговорил:
— Пардон, месье… — Показал ему гостевую карточку и, шатаясь, словно пьяный, скрылся в лифте. В номер вошел тихо, упал в ближайшее кресло — не мог отдышаться.
С тех пор и во все оставшиеся дни он уже ни на шаг не отрывался от группы — берег себя и с нетерпением ждал возвращения домой.
12
В Шереметьевском аэропорту молодую чету из заграничного вояжа встречал сам Никанор. Нототения обрадовалась такому вниманию к ним, бросилась на шею отцу:
— Папулька! Какой ты у нас хороший!
Но папулька был мрачен и неразговорчив, и Нототения забеспокоилась:
— Что с тобой, папуль? Что-нибудь случилось?
— Только не со мной, — бросил он коротко.
— Загадки какие-то?
В машине Нототения снова попыталась вызвать отца на разговор.
— Дома поговорим, — сказал он. Однако тут же полез в карман, достал свернутую до размеров блокнота газету, протянул им через плечо на заднее сиденье. — Пока почитайте вот это.
Чижиков развернул газету и прочитал вслух крупный заголовок:
— «Воздвиженский возвращается?» — И почему-то испугался: — Он действительно возвращается?
— Да, возвращается, — сказал Никанор. — И в этом нет никакой сенсации: талантливый поэт. — И добавил с досадой: — Это тебя не касается, читайте на обороте.
На обороте жирным красным фломастером был обведен фельетон: «Вот такая история с историей!» Голова к голове, словно голубки́, Чижиков и Нототения впились глазами в текст. Но уже на половине первой колонки Чижиков обмяк и отвалился от газеты, как больной от опротивевшей пищи. Его сначала бросило в жар, потом на лбу выступил холодный пот, он побледнел и стал ловить открытым ртом воздух: в фельетоне рассказывалось о романе «Малюта Скуратов» — о его настоящем авторе и Чижикове, который присвоил этот роман.
— Ну? — обернулся к нему Никанор.
— Это ложь… — с трудом выдавил из себя Чижиков. — Это надо еще доказать.
— Тебе мало доказательств? Уж если пошел на такое дело, так делай его, чтобы комар носа не подточил! А то… — Никанор говорил возмущенно, его тонкий бабий голос был на пределе. — А то!.. Корочки зачем-то оставил! Пожалел картонку! Пожадничал, крохобор! Всю рукопись выдрал, а название, написанное карандашом рукой Евтюхова, не заметил. Спешил?
«Эх, зря не остался там!» — подосадовал Чижиков.
— Это не доказательство: почерк можно подделать.
— А рукопись? Целиком черновой экземпляр романа, который Даная нашла в дачном гараже в архиве Евтюхова? Ты что, не дочитал до конца?
— В гараже? Странно… — рассеянно произнес Чижиков. — Зачем ей понадобился гаражный архив? Все время порывался сжечь его, да все руки не доходили. Как знал, что там что-то таится…
— Что ты бормочешь? — Нототения сердито посмотрела на Чижикова.
— Ложь все это! Ложь, ложь, ложь! — бился в истерике Чижиков. — Я докажу! Я докажу!
— Перестань кривляться! — крикнула на него Нототения. — Баба слюнявая.
К дому подъехали молча, молча внесли чемоданы. Нототения нервно срывала с себя одежды, Чижиков неприкаянно стоял у порога.
— Теперь ты видишь, что это за тип? — указал Никанор на Чижикова, обращаясь к дочери. — Это же настоящий уголовник, его будут судить, а тень падет на нас — на меня, на тебя.
— Я докажу, что все это ложь, — подал голос Чижиков. — Это месть Данаи, ее проделки из ревности. Я докажу… Я сейчас пойду… Да-да, сейчас же, — он толкнул еще не запертую дверь, сбежал без лифта по лестнице, вышел на улицу и заспешил по тротуару. Только на полпути он сообразил, что ноги несут его в родную «контору» — к Председателю, а точнее — к Философу — этот должен защитить.
Открыв дверь к Председателю, Чижиков замешкался на пороге, чужим голосом спросил:
— Можно?
— Вообще-то можно, — сказал Председатель. — Но лучше не надо.
— Я хочу сказать…
— Что ты можешь ска-а-азать? Ну что? Ты же вор! Литературный вор! Ты опозорил наш Союз писателей! И ты еще приходишь сюда, чтобы что-то говорить?
— Где Георгий?
— Ах вон ты где хочешь найти защиту и спасение! Нет его, уехал в длительный творческий отпуск. А вообще и твой покровитель, этот твой Философ, такой же вор, как и ты. Только ты воруешь чужие рукописи, а он ворует чужие мысли. Потому, наверное, так поспешно и ушел в подполье, чтобы рикошетом не попало и ему.
— Все это ложь… — начал было Чижиков, но тут же переменил тон, решил разжалобить Председателя: — Но неужели нельзя ничего сделать?..
— А что делать? Твое дело теперь в прокуратуре, там все и сделают, а здесь тебе, дружок, делать больше нечего. Так что… — И он показал рукой на дверь. — Как говорят: освободите помещение.
Чижиков понял, что это конец, и стоял, не в силах сдвинуться с места и все еще на что-то надеясь.
— Вот и получается, — продолжал Председатель, — родился ты недоношенным, так им и остался. Выкидыш — он и есть выкидыш. Тебя спасали в тё-о-плых отрубях, в хлебной оболочке. Спасли. А за-а-чем? Надо было тебя тогда не в отруби окунать, а утопить в… этом самом. Сам знаешь в чем. Иди, Чижиков, иди, хватит.
Выйдя на улицу, Чижиков постоял какое-то время у подъезда в раздумье, потом медленно поплелся куда глаза глядят. Многочисленные прохожие его раздражали, и он свернул в переулок, перешел на набережную. Облокотившись на парапет, он смотрел на спокойные перекаты темной воды и думал. О чем думал — сказать трудно: в голове был сплошной сумбур от разных мыслей, которые, не задерживаясь, бежали одна другой на смену, не оставляя никакого следа.
К вечеру Чижиков проголодался и машинально направился домой к Нототении. Тут у лифта его остановила привратница — ласковая старушка и осторожно сообщила:
— Юрий Иванович, ваша супруга сказали… Вещи ваши, — она указала в свою каморку, — вот они, в этих чемонданах… А в папочке — ваши документы. И книжечки эти — тоже ваши. А они сами сказали, что уехали со своим родителем куда-то далеко, в какой-то дом… Замок в своей квартире они тоже заменили — приходил слесарь… — Старушка, высказав все, что было поручено, смотрела сочувственно на Чижикова. А он только молча кивал и кивал головой, даже когда она уже ничего не говорила. Наконец он очнулся, сказал:
— Хорошо… Пусть пока полежит все здесь…
— Пусть, пусть, — охотно согласилась старушка, желая хоть чем-то помочь этому несчастному. — Пусть, и не беспокойтесь; все будет в полной цельности и сохранности. — И добавила участливо: — Да вы не переживайте… Не убивайте себя этим горем. Оно, может, если толком разобраться, так, может, это совсем и не горе, а скорее — наоборот. Не вы первый, не вы последний. За три года со своей вахты я тут такого нагляделась! На разных! Тут такие экспонаты были, не будь в обиду сказано, вам далеко не чета! Выносливые да гордые, что твой петух ангорский. В волчьих шубах да в малахаях — вот таких-то, цельная копна на голове. А честь всем одна, у всех один конец: чемондан под лифт, на двери новый замок и на год-полгода с глаз долой. Но те, в малахаях, так не конфузились и не страдали — такого не замечала. Они как-то весело уносили кто свой саквояж, кто — баул, — каждый по-своему называл свой багаж. У одного был большущий коробок, желтый, на четырех колесиках! Покатил его по тротуару. А вы, видать, страдаете сильно. Неужели так сердце к ней прикипело? Хотя чего в жизни не бывает… Вам, может, и переночевать негде? Можно ночь перебиться в моей каморке. Я обыкновенно на тахте дежурю, а то есть у меня и раскладушка. Это я на самый крайний случай…
— А? Да-да… — И он снова закивал и вышел из вестибюля.
С тех пор его уже никто и никогда не видел и не слышал. И куда девался — неизвестно.
Слух прошел, правда, уже задним числом, что будто бы в тот самый день, когда разыгрались эти события, на углу Ломоносовского и Вернадского проспектов, недалеко от метро «Университет» случилось уличное происшествие. Там стояла овощная палатка, вокруг нее, как обычно, валялись капустные листья, раздавленные помидоры и гнилые огурцы. Один гражданин, сравнительно молодой еще, в приличном костюме, наступил случайно на гнилой огурец, поскользнулся, упал и ударился головой об угол тарного ящика, которых возле палатки было навалом. Гражданина увезла «скорая помощь» в Институт Склифософского, где он и скончался, не приходя в сознание. При гражданине никаких документов не оказалось, заявлений по его розыску ни от кого не поступало. Из тех, кто в те дни искал пропавших своих родственников, его никто не опознал и не признал, и он был похоронен как неизвестный и невостребованный.
И вот — уже порядочное время спустя — стали почему-то говорить, что это был Чижиков…
Был…
Был, а будто и не было вовсе — поговорили и забыли.
А следы? Да вроде были и следы, оставлял их, следил, только время все стерло, смыло, как морская волна смывает их вместе со всякой нечистью с прибрежного песка.
Был! Но зачем?..

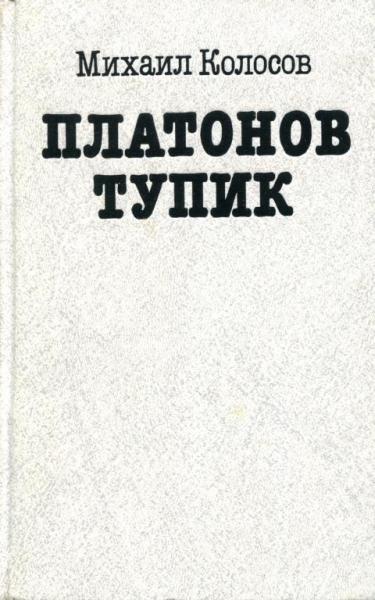



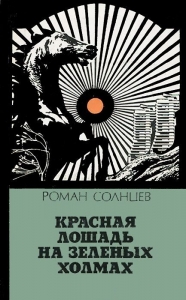

Комментарии к книге «Платонов тупик», Михаил Макарович Колосов
Всего 0 комментариев