Эмэ Бээкман ГЛУХИЕ БУБЕНЦЫ ШАРМАНКА ГОНКА Романы
По сигналу глобальной тревоги…
а четверть века регулярного наблюдения за творческим развитием Эмэ Бээкман и эстонская и общесоюзная критика уже вроде бы вывела закон, определяющий особенности ее личного пути в литературе. Закон этот парадоксален: ни один из множества романов Эмэ Бээкман не похож ни на предыдущий, ни на последующий. Так, после «Глухих бубенцов» (1970)[1], написанных твердой «мужской» рукой — просто, густо, сурово, в строгих традициях эстонской деревенской прозы, незамедлительно, с интервалом в год, появилась «Шарманка» (разновидность антиутопии), где все — и слог, и сюжет, и способ типизации, — решительно отрицали те основы «живописного соображения», за возрождение которых, наперерез новациям эстонского авангарда, казалось бы, ратовала автор «Глухих бубенцов»!
Положите рядом эти романы-погодки: «Глухие бубенцы» и «Шарманку». Впечатление такое, что изменилось не просто выражение авторского лица, но и само лицо, — если воспользоваться метафорическим термином Э. Бээкман. Я имею в виду следующий сюжетный ход из «Шарманки». Пораженный изменчивостью облика своей собеседницы, Оскар, главный герой романа, говорит ей: «У вас много лиц», на что женщина отвечает: «У меня их было еще больше… Но с каждым годом некоторые из них уходят… А иногда… люди уносят их с собой, чуть ли не силой… Бывает, что у меня безвозвратно похищают мое самое любимое лицо — тогда я стремлюсь избавиться и от остальных».
В «Шарманке» обладательница множества лиц, в знак особенного доверия к своему гиду (Оскар сопровождает «почетную гостью из Андорры» в странствиях по городу ее детства) снимает парадное, театральное лицо (фосфоресцирующий перламутр, носовые расширители, бледно-лиловый парик и т. д.), и мы видим одно из ее «домашних» лиц — «усталое и уже совсем немолодое, подстриженные под мальчика волосы с проседью»…
Эмэ Бээкман «меняет лица» в обратном порядке. Простой и домашней была она в «Глухих бубенцах», «Шарманка» написана в фосфоресцирующем стиле — парадоксальном, ироничном, «модерновом».
В редакционном послесловии к первому русскому изданию романа (1974) сказано, что действие его происходит «как бы в будущем». В «Шарманке» действительно то и дело возникают ситуации не то чтобы впрямую фантастические, а как бы заимствованные из романов будущего (не слишком отдаленного, впрочем, вполне поддающегося прогнозированию). На одной из вечеринок, к примеру, персонажи романа обсуждают, приобретать или не приобретать личный вертолет (вертолеты только что появились в торговой сети), а если приобретать, то как быть с ангаром… В другой сцене дебаты разворачиваются вокруг газетной статьи, сообщающей об администраторе крупного завода, который приобрел для увеселения рабочих «комплект танцующих роботов»… Однако не по этим условным приметам, не по движению капризничающей секундной стрелки, то и дело забегавшей вперед, определяли мы романное время. Секундная стрелка может позволить себе любые отклонения, но это никак не влияет на точность часовой…
Главный герой «Шарманки» (по замыслу автора современный образчик «человека как все»— в меру ироничный, в меру неврастеничный, в меру практичный — ничего сверх меры) попадает в полосу безмерности. Встретив женщину с необычными глазами и нестандартным именем — Ирис, влюбляется в нее. За неимением более точного употребляю это дежурное слово, но для того, чтобы обозначить состояние героя после встречи с Ирис, куда более подошла бы калька с французского — упал в любовь.
Убедившись, что на этот раз Оскар действительно болен любовью, мы ждем осложнений, естественных для «священной болезни» — обновления, просветления, преображения… Чуда не происходит. Даже «роковая» любовь не выпрямила согбенной души Оскара. Совершив на гребне кризиса несколько «без-мерных» поступков, наш среднестатистический влюбленный, по мере того как «болезнь любви» сама по себе, в силу только ей видных причин, идет на убыль, возвращается к привычному и весьма удобному, несмотря на мелкие дискомфортности, образу жизни. Сам Оскар этого еще не осознает, но женщина с цветочным именем прекрасно понимает, что их необычный роман слишком похож на рядовой адюльтер:
«Знаешь, я ясно представляю себе, как мы проведем ночь в гостинице соседнего города. Выберем какой-нибудь подходящий образец из фильма или мысленно перелистаем прочитанную книгу и отыщем там подходящий вариант. Затем постараемся быть чуть-чуть более безумными, чтобы индивидуализировать увиденное и прочитанное. Результат зависит от нашего актерского дарования. Но такого рода сцены столь прочно закодированы в нашем мозгу многочисленными примерами, что едва ли мы можем превзойти их… Последует небольшое разочарование. Никому не хочется признавать свою бездарность. Затем начинают искать новую возможность в надежде обрести себя в обществе другого партнера, чтобы еще раз проиграть на шарманке старую мелодию».
Монолог этот кажется Оскару ужасным. Неожидан он и для читателя: до сих пор мы смотрели на Ирис глазами очарованного Оскара и видели в ней реликтовое существо — случайную гостью из тех времен, когда женщины считали высшей властью власть над мужским сердцем… А оказалось, что и Ирис всего лишь «транзисторный сверчок»…
Фабула, как мы видим, особенным богатством не отличается; ее едва-едва хватает на простенький семейный роман, однако в исполнении Эмэ Бээкман коротенькая, незамысловатая для старинной шарманки, мелодия звучит отнюдь не камерно. И оглядка на будущее, и сдвиг в гротеск, и свобода в обращении с реалиями — все это резко укрупняет масштаб изображения. Проделайте мысленно такой опыт: спрямите сюжет за счет якобы фантастических, гротескных излишеств и получите плоский, как стершаяся от долгого употребления аксиома, итог — в эпоху Стандартизации и всеобщего Учета любое отклонение от общепринятых нормативов, даже самое решительное, перспективы не имеет; и окольные пути, и затейливые лабиринты — все соединено с магистралью!
«Шарманка», опубликованная на эстонском языке в 1970 году, вызвала споры. Эмэ Бээкман пришлось объясняться: «Если я использую гротеск, то это диктуется, видимо, моим темпераментом, а также тем, что я хочу сделать свой текст как можно более зримым». И еще: «Я, как видно, не умею писать мягко и ласково; Если меня что-то потрясло, я не могу не потрясти читателя».
Прошел еще год, и эстонские читатели Бээкман оказались свидетелями еще одной метаморфозы: «Запретная зона» (в русском переводе «Час равноденствия») выдержана в спокойной манере городского семейного романа: без преувеличений и утрировки, не ласково, конечно, но достаточно мягко.
Можно, разумеется, объяснить и этот зигзаг обстоятельствами сугубо психологическими — своеобразием творческого поведения Эмэ Бээкман, ничего не умеющей делать «кстати заодно с другими». Когда, мол, установка на гротеск стала диктоваться модой на условные формы, а не личным темпераментом Эмэ Бээкман, ей ничего не осталось как «избавиться» от своего «самого любимого лица». (Если еще раз вспомнить ее почти автопортрет в той же «Шарманке»— женщины с множеством лиц.) И это будет звучать вполне убедительно, поскольку как раз к началу 70-х годов увлечение гротескными формами приобрело в Эстонии, как отмечает эстонский критик X. Пухвель, характер поветрия. Среди молодых писателей утвердилось убеждение, что прямое отражение жизни — отнюдь не лучшее художественное решение, что суть окружающей существенности можно и точнее и глубже раскрыть с помощью такой системы образов, которая не стремится копировать действительность.
И все-таки дело, видимо, не только в «гримасах» моды, заставившей Эмэ Бээкман, дабы не уподобиться «толпе», свернуть с общей всем тропы, бросив удобный «плацдарм», — ведь она и в дальнейшем упорно продолжала «менять лица»!
Однако, если приглядеться еще внимательней ко всем этим преображениям, проявится и еще одна закономерность. Странная переменчивость Бээкман, по-видимому, как-то связана с ее поразительной, может быть, феноменальной чуткостью к переменчивости общественного «пульса»; род этой «пульсации», похоже, и диктует (как бы заказывает) ей форму художественной расшифровки кардиограммы Времени. Практически каждый роман Эмэ Бээкман — портрет общественного состояния. В моменты относительного спокойствия — час равноденствия! — когда в обществе ничего особенного не происходит, когда главное событие — отсутствие судьбоносных событий, она «окунается» в быт («Запретная зона», «Чащоба»), но и тут, на мелководье, поиск, то есть прослушивание пульса продолжается; ни один из внешне бытовых романов Эмэ Бээкман бытовым (в полном смысле этого слова) не является. Да, общество просто ест, пьет, функционирует и ничего вроде бы и не хочет, кроме как есть, спать, функционировать; даже причин столь долгой «спячки» осмыслять не желает, но художнику спать не положено:
Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну. Ты — вечности заложник У времени в плену.Но вот пульс оживает, наполняется, и Эмэ Бээкман не мешкая, по пульсу, ставит предварительный диагноз надвигающегося общественного недуга задолго до того, как он становится панэпидемией, когда нам, живущим на общих основаниях, еще представляется, будто все мы — «практически здоровы», а легкие недомогания — результат космических магнитных бурь…
Возьмите ту же «Шарманку». При первом чтении (в 1974 году) — и русскоязычные читатели, и русскоязычная критика истолковали роман как историю мелкой, стандартной души. Того, что это всего лишь облатка, внутри которой «спрятана» куда более горькая «пилюля», мы как-то не сообразили — «бег на месте» еще только начинался, — и о том, что застой это всерьез и надолго, не подозревали. Мы и не догадывались, а Эмэ Бээкман уже нашла формулу застоя: Управление Учета Мнений; по необщевидным приметам угадав, что в бездонном и бесплодном чреве работающего вхолостую бюрократического молоха будут заживо погребены — и готовящаяся экономическая реформа 70-х годов, и наши робкие на нее надежды… А эпизод с распределением гигантских карамельных петушков? Каюсь, в 1974-м я не увидела в этих сценах ничего, кроме сдвига в фарс да иронической игры авторского воображения. Пятнадцать лет спустя трагикомическая дележка, сопровождающаяся унижающими человеческое достоинство — а вдруг не хватит? — воспринимается, увы, как вполне реалистическая зарисовка с натуры… Можно даже мысленно не «подставлять» — вместо вожделенных карамельных цацек еще более вожделенные югославские сапоги! Нынче, не в пример тем баснословным годам, карамель улучшенного качества занимает одно из самых дефицитных мест не только в рядовых кондитерских, но и в ведомственных продуктовых заказах!
Стремление угадывать и предсказывать будущее — и личное качество таланта Эмэ Бээкман, но и специфика выбранного ею жанра. Вот что пишет А. Зверев об этом свойстве антиутопий: «По самому своему существу она является опытом социальной диагностики, а… притчевая форма… только способ, помогающий сделать диагноз насколько возможно точным. Точность эта особенно важна в силу характера болезней, которые стремится обнаружить и обозначить антиутопия в лучших своих образцах. Почти всегда такие болезни относятся к числу самых прилипчивых, самых опасных, хотя симптомы еще едва заметны, когда антиутопия создается, замечают их, к великому сожалению, лишь годы, десятилетия спустя»[2].
Короче, если все-таки попытаться вывести некую равнодействующую, то окажется, что Э. Бээкман никогда, начиная с первого автобиографического романа («Маленькие люди», 1964), не покидала своего диагностического поста и что во все времена ее волновала одна и та же тема: социальное состояние общества. Что же касается формы, то она менялась в зависимости от этого состояния. В промежутках между «эпидемиями» Бээкман создавала якобы бытовые произведения и даже, порой, отлучалась в прошлое, правда, не слишком далекое («Чертоцвет», «Старые дети»).
Впрочем, и ее отношения с историей более чем индивидуальны. Из всех видов прошедшего времени Эмэ Бээкман всегда выбирала то прошедшее, которое обладает свойством продолжаться в настоящем, а может быть, порой и превращаться в будущее. Иные формы давнопрошедшего — ее, заложницу вечности, но пленницу сиюминутности, социального диагноста и по складу ума, и по влечению души, никогда не интересовали. В этом ее особость — отличие от «правильных» исторических романистов, например от Яана Кросса с его огромной, систематической исторической библиотекой…
Перечитайте «Глухие бубенцы». По видимости — классический исторический роман, действие которого строго ограничено реальными временными рамками: год 1944. И место действия обозначено предельно точно: маленький хутор на севере Эстонии. И тем не менее происходящее в нем почти напрямую связано и с тем, что происходит сегодня в Эстонии, и шире — с тем, что делается в мире. Ведь ежели искать начало тех катаклизмов, какие сотрясают планету, то начинаются они там, на исходе последней мировой войны; это она, война, стерла с лица земли остатки некалендарного XIX века, смела останки патриархального уклада и рожденных этим укладом нравственных устоев, и, развязав тем самым руки и Богу Гонки за научно-техническими миражами, «опростала», опорожнила души верноподданных Нового Божества!
И все-таки: как только пульс общественной жизни начинал, волнуясь, давать слишком уж явные сбои, как только появлялись первые, стертые, неясные признаки хвори — либо совсем нового, неведомого, либо слишком хорошо забытого старого общественного недуга, Эмэ Бээкман вооружалась самым надежным инструментом социальной диагностики: сдвинутой в гротеск антиутопией. Доказательство тому — вышедшая сразу после исторической трилогии — «Гонка», замыкающая предлагаемый сборник.
«Гонка», может быть, единственный роман Э. Бээкман, которому крупно не повезло при переходе «эстонской границы». Написанный накануне Перестройки, в самые тяжкие годы застоя, он вышел в русском переводе в начале 1986-го с явно не соответствующим духу нового времени авторским предисловием, так как был заслан в набор в июне 1985-го, когда даже самые смелые из нас защищались по неписаным законам глухой поры, то есть пользуясь, как удачно сформулировала М. Чудакова, «словарем, ориентированным не на исследовательские, а на сугубо защитительные цели»; при этом, невольно, «выполнялись и цели адаптивные, приспособительные»[3].
Считаю не только уместным, но и совершенно необходимым заметить это щекотливое обстоятельство, заметить и объяснить, ибо не исключено, что на книжной полке читателей худлитовской трилогий уже стоит первое русское издание «Гонки», где Э. Бээкман, в полном соответствии с литературными приличиями тех лет, уверяет, что речь в ее романе конечно же идет о современном буржуазном обществе и к происходящему у нас, в СССР, имеет лишь косвенное отношение:
«В нескольких публикациях по поводу „Гонки“ было сказано: это роман-предупреждение. Мне кажется, сказанное достаточно точно определяет суть дела. Очевидно, в книге ощутима та тревога, с которой я ее писала. И конечно же в ней налицо намеренное заострение и гипертрофирование отрицательных тенденций современного общественного и нравственного развития, дабы рельефнее показать, к чему все это способно привести, если оно не будет направляться и контролироваться человеческим разумом, этакой, гуманистической целесообразностью. Проблема эта, на мой взгляд, не столько нравственная, сколько социальная. Вопрос состоит в том, в чьих целях и ради чего осуществляется научно-технический прогресс и насколько данное общество, данная социальная система способны ее направлять и контролировать. Конечно, в „Гонке“ речь идет о современном буржуазном обществе». Нет, нет, я вовсе не собираюсь доказывать, что та адаптированная, защитительная интерпретация, какую автор, следуя редакционно-издательским установкам образца лета 1985 года, дала своему произведению, стопроцентно подцензурна, а значит — лукава. Не случайно же, вслед за приспособительным заявлением, в тексте предисловия следует такой абзац:
«…Некоторые проблемы… имеют и более общий — если не сказать — глобальный характер, коль скоро речь заходит о человеке и окружающей его среде, о последствиях технизации, о предотвращении экологической и военной катастрофы».
Эмэ Бээкман и в самом деле тревожит не локальный конфликт, она действительно не может указать в качестве единственного прототипа конкретную страну, где силою вещей сложилась опасная для судеб земной цивилизации и социальная, и экологическая ситуация.
Гонка — те смертоубийственные скорости, какие населенцы Земли, соблазняемые демоном потребления, возвели в ранг Нового Божества Живых — проблема интернациональная. Поэтому и у героев эстонского романа, у этих отверженных, сосланных в ртутный карьер бывших гонщиков, а ныне условно заключенных, нет ни национального характера, ни национального строя чувств и мыслей; словно их бывшие идолы — машины, они отличаются друг от друга лишь именами-марками. Герои Гонки — люди того Племени, что родилось «не выживать, а спидометры выжимать», если вспомнить широко известные стихи Андрея Вознесенского: «Итальянский гараж».
Волею автора «Гонки» в колонии самоизоляции и самообслуживания (в финале романа она становится экспериментальной площадкой для испытания сверхвозможностей очередной генерации военных монстров), собраны, так сказать, самые типичные представители этого безродного, отмеченного роковой метой поколения — поколения гонщиков. И хотя наказание «за превышение скорости в возбужденном состоянии» приходит извне, «с воли», пленники ртутного карьера не только жертвы, но и палачи, ибо это и их собственное бездумное упоение механическим ускорением приводит к катастрофе — по древнему, но вечному закону: мне отмщенье, и аз воздам.
Думаю, что не ошибусь, если предположу: «Гонка» осталась почти без резонанса наверняка еще и потому, что вскоре после ее появления внимание читателей было отвлечено, целой серией классических антиутопий: «Чевенгур» А. Платонова, «Мы» Е. Замятина, «1984» Д. Оруэлла.
В столь представительном, в столь блистательном ряду скромная «Гонка» словно бы стушевалась — ее не заметили, не приняли во внимание якобы по причине ее заведомой неконкурентоспособности с классическими образцами. На мой взгляд, это явное недоразумение, следствие нашего, увы, провинциального недоверия к отечественным «новоделкам». Убеждена: если читать текст Эмэ Бээкман без этого, ни на чем, кроме наших комплексов, не основанного предубеждения, станет совершенно ясно: в остроте постановки проблемы и точности диагноза она ничуть не уступает ни Оруэллу, ни Замятину. Больше того, именно «Гонка» подтверждает, что великие предшественники Эмэ Бээкман не ошиблись в определении симптомов самой опасной болезни конца XX века!
Мы не только ощущаем (кожей, нервами) тревогу, с какой Эмэ Бээкман писала это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, мы разделяем ее тревогу. Но это уже, видимо, не наша и даже не авторская заслуга, а своеобразие текущей эпохи, укравшей у классической антиутопии длинное (длиною в несколько десятилетий!) расстояние между настоящим и будущим. Сегодня всем, даже тем, кто начисто лишен дара предчувствия, не нужны футуристические бинокли — чтобы разглядеть смертоносное Завтра, чей пугающий образ без спроса и стука вошел в каждый дом, отравив страхом за здоровье и жизнь детей каждый кусок хлеба, каждый глоток воздуха.
Чернобыль, умноженный на четыре года Гласности, если и не излечил нас до конца от прекраснодушия и позорной близорук кости, все же заставил взглянуть, не жмурясь, в лицо грозной правде: и наша страна оказалась втянута в безнадежный марафон, и наш общественный строй оказался не в состоянии противостоять безудержному бегу антигуманной, железно-ядерной цивилизации…
Алла Марченко
ГЛУХИЕ БУБЕНЦЫ Роман
1
ромой рыжий мерин остановился у развилки дороги, припал на заднюю ногу, медленно повернул голову и поверх оглобли глянул на мужчину, сидевшего в телеге и нерешительно смотревшего в сторону хутора.
— Ну что, голубчик, выдохся? — спросил мужчина.
Телега остановилась как раз промеж двух лип, которые, подобно геральдическим колоннам при въезде в родовое поместье, указывали путь к жилому дому с большими окнами. Едва мужчина тронул вожжи, как конь, покачивая головой, свернул от желтеющих лип на заросшую тропу.
Несколько последних часов тряски по однообразной лесной дороге утомили мужчину, и он даже на какое-то мгновение вздремнул. Проснулся он от грохота колес по заплатам ветхого моста. Теперь, свернув на дорогу, которая вела к хутору, мужчина стал внимательно ко всему приглядываться. Он успел заметить, что окаймлявшие дорогу кусты черной смородины протянули свои тугие ветви, словно молодые яблоньки. Рига, оставшаяся по левую руку, была настолько просторной, что вполне могла вместить в себя зимний запас сена для сравнительно большого стада коров. К тому же она была новой, крепко сбитой и стояла под добротной гонтовой крышей с прямым коньком. В конце риги, рядом с кучей торфа, лежали конные грабли.
Перед забором, окружавшим двор, мерин снова припал на ногу и остановился. Размяв затекшие от долгого сидения ноги, мужчина осторожно слез с телеги. Он так же, как и его лошадь, припадал на одну ногу, и поэтому имел обыкновение, прежде чем сделать шаг, прикинуть взглядом, куда удобнее ступить. Подойдя к лошади, он мимоходом почесал ее между глаз, перекинул вперед вожжи и привязал своего каурого у ворот. Вынув изо рта мерина удила, мужчина достал из кармана горбушку и протянул ее лошади.
Заметив на калитке ручку, мужчина усмехнулся.
Когда он подошел к колодцу, из конуры, гремя цепью, лениво вылез пес. Как ни странно, но дворовый сторож, видимо, принял его за знакомого, а может быть, он был просто доброго нрава, потому что вскоре перестал лаять.
Мужчина кинул беглый взгляд на пса, который сидел теперь перед амбаром и зевал. Незнакомец надеялся, что кто-нибудь заметит его из окна и выйдет во двор. Но вокруг было тихо. Оглядевшись, он сквозь живую изгородь из елей увидел аккуратный стог соломы и удивился, что на этом, словно бы вымершем, хуторе так далеко продвинулись осенние полевые работы.
Лицо мужчины смягчилось, впервые за долгое время он почувствовал, как на него снисходит покой. Пошарив в кармане брюк, он вытащил смятую пачку и пересчитал сигареты. Можно было бы подумать, что он ограничивает себя строгой нормой, если б этот жадный взгляд не был вызван великим голодом на табак, кто знает, как надолго еще.
Внезапно на выгоне, за которым вдоль излучины реки тянулся ольшаник, мужчина заметил старуху. Она стояла в темном платке подле белых стволов берез и мочилась, задрав высоко юбку и расставив ноги, как животное. Мужчина отвернулся, он не был настолько молод, чтобы рассмеяться или разозлиться. И все же старуха в какой-то степени испортила первое впечатление от хутора, который из-за царившего на нем образцового порядка казался сентябрьским вечером этого года даже чуть-чуть нереальным.
Мужчина пристально глядел на недокуренную сигарету. Курить больше не хотелось. Погасив сигарету, он не выбросил окурок, а засунул его обратно в измятую пачку и отправился разыскивать кого-нибудь другого из обитателей хутора — ему казалось, что со старухой, которая приближалась к дому, он поговорить не сможет.
Услышав со стороны хлева громкий голос, незнакомец, словно решив бежать от старухи, поспешно свернул на тропинку, протоптанную в зарослях ромашек. Еще не привыкнув к сумеркам, он, входя в дверь, споткнулся о навозные вилы, но, схватившись за черенок, устоял сам и не дал упасть вилам.
В проходе стояла женщина и маленькой скамейкой дубасила брыкавшуюся на привязи корову. На навозной подстилке валялся опрокинутый подойник. Мужчина хотел остановить женщину, которая столь грубо обращалась с животным, но от растерянности не смог выговорить ни слова. Женщина ругала корову на чистейшем английском языке.
— Ну? — заметив постороннего, крикнула женщина. Швырнув скамейку туда же, где лежал подойник, она вы терла руки полотенцем и подошла поближе.
— Ну? — зло выдохнула она и подбоченилась.
— Здравствуйте, — спокойно сказал мужчина. — Крестьянке следовало бы знать, что если со скотиной обращаться ласково…
— Ясно! — с раздражением прервала его женщина. — То молоко из вымени само потечет в подойник, можно рук и не прикладывать!
— Почему бы ему и не потечь. Вы, очевидно, привели вашу скотину прямиком из английской нижней палаты! — усмехнулся мужчина.
Женщина что-то пробормотала и, повернувшись спиной, направилась по проходу в дальний конец хлева. Похлопав каждую из коров по боку, она наградила тумаком бурокрасного быка, стоящего в ряду последним, и тот сердито засопел. Еще раз хлопнув быка, женщина сказала ему:
— Ну, Мадис, не отвязать ли тебя — в хлеву станет просторнее.
Бык как будто понял, согнул шею и стал ворошить ногой солому. Женщина торжествующе рассмеялась.
— Хожу с ним иногда погулять, — объявила она. — Мадис у меня как пес. Отличный злой бык, никто и близко не подойдет. Не так давно волостное начальство приезжало проверить количество скота, ну, я улучила момент, когда господа рылись в портфеле, и выпустила Мадиса. Мужчины, словно высевки, полетели через забор, какой-то негодяй сломал жердь. Что поделаешь, недосуг им тренироваться в прыжках, изо дня в день разъезжают да вынюхивают. Считают, что раз все граждане записаны в церковную книгу, так пусть будет записана и вся скотина. Скоро захотят получать мясо и шерсть с собак и кошек.
— Так ни с чем и ушли? — полюбопытствовал мужчина.
— Сколько можно трястись за забором? Я едва удержалась от смеха и так жалобно говорю: мой-де злой бык вырвался, что тут будешь делать. Потом коровы мычали от благодарности, а свинья хрюкала от удовольствия, что Мадис спас их от бойни.
Женщина не отошла от быка, пожалуй, она даже придвинулась поближе к ревущему животному, готовая в любую минуту спустить его с привязи.
Мужчина понял, что женщина угрожает ему, приняв, видимо, за какое-то должностное лицо. Он от души расхохотался и, больной ногой волоча за собой пучок соломы, подошел к женщине.
Она широко раскрыла глаза от удивления, когда мужчина положил руку на спину быка, погладил его против шерсти и потрогал страшное животное за рога.
— Надо бы подпилить, — деловито заметил мужчина. — И не мешало бы продеть в нос кольцо.
Женщина взяла в руки цепь, которой был привязан Мадис.
— Хотел попроситься на ночлег, — сказал мужчина, объясняя причину своего появления.
— Ах вот оно что, — вздохнула женщина, видимо устав от собственной резкости.
— Да, только это, — заверил мужчина.
— Кто? Откуда? Зачем? — тихо спросила женщина.
— Слишком много вопросов сразу, — улыбнулся мужчина. — Может, когда-нибудь в другой раз выдастся время рассказать биографию.
— На ночлег? — пробормотала женщина. — Что ж, идите в ригу. Только папиросы и спички, если они у вас есть, оставьте мне на хранение. В Лаурисоо какие-то бродяги спалили сарай.
— У меня за воротами лошадь.
— Пустите на выгон, вон там, за конюшней, где две березы.
— Разрешите, я расплачусь заранее, — предложил мужчина, выуживая из внутреннего кармана кошелек. — Очевидно, как рассветет, тронусь дальше.
— Немецкие марки! — с презрением бросила женщина. — Я насадила их на гвоздь в отхожем месте. Только никто не пользуется, чересчур жесткие.
Мужчина смутился.
Женщина шумно прошла мимо него, взяла чистый подойник и поставила на место скамеечку. Обтерев полотенцем вымя криворогой коровы, женщина вновь принялась за прерванную дойку. Молочные струйки журча полились в ведро.
— Один человек из нашей деревни, — начала женщина, надавливая на соски, — давно мечтал разбогатеть. В эстонское время, уже перед самым концом, когда были созданы базы и обстановка осложнилась, положил в банк солидную пачку крон. До этого собирал десятки дома, одну к другой складывал хрустящие бумажки в библию. Ну так вот, кроны эти пропали. Но ведь известно, что эстонское упрямство крепче можжевелового дерева — мужичок тот головы не повесил, нюни не распустил, стал копить рубли. Так влюбился в русские денежки, что даже начал молиться на красных. Позже, когда под барабанный бой явились «исторические друзья» эстонского крестьянства, на эти деньги ни черта нельзя было купить! Мужичок без конца бегал в волостное правление, кланялся и просил, чтобы господа выдали ему разрешение на покупку молотильного агрегата. Но и смерть не возьмет там, где брать нечего. За три года выделили на волость одни конные грабли, чтобы было чем убрать урожай. И достались эти грабли теще полицейского в благодарность за хорошего зятя. В нашего же богатея вселился такой бес накопления, что начал он поклоняться немецкому орлу. Говорят, в амбаре у него был полный сундук марок, правда, мыши как будто прогрызли дно и немного подъели их с одного бока, но это дела не меняет. Так и так эту дрянь придется выкидывать в печь, чтобы снова освободить место для русских рублей. А долго ли они продержатся, того и гляди, появится белый корабль, тогда что может быть лучше английских фунтов. Вдруг какой-нибудь бывший банкир с голоду вздумает обменять свои стерлинги на сало?
— Да, — заметил мужчина. — Эстонцу здорово досталось с этими деньгами. Золотые рубли, керенки, оберосты, марки, кроны, червонцы и снова марки — название денег и то легко можно перепутать.
— Вот видите, — вздохнула женщина.
— Хорошо, но как же мне все-таки расплатиться с вами? — спросил мужчина и подумал: «Сохрани меня бог остаться в долгу у такой ехидны».
Женщина встала, взяла в руку подойник и широким шагом прошла мимо мужчины.
Он смотрел ей вслед через открытую дверь. Женщина, возраст которой невозможно было определить, выйдя во двор, залитый вечерним солнцем, вдруг словно распрямилась и стала похожа на красивую девушку. Постолы и длинные шерстяные носки ничуть не делали ее неуклюжей. Держа подойник высоко над бидоном, она стояла у колодца в светлом платке, повязанном на затылке, в одном платье, хотя было уже прохладно. Пенящееся молоко ровной белой струей лилось на цедилку. Когда, закончив свои дела, женщина вернулась в хлев, следом за ней приплелся неизвестно откуда вынырнувший горделивый полосатый кот.
Мужчина подался вперед, чтобы заглянуть женщине в лицо.
Он успел лишь заметить продолговатые золотисто-карие глаза. Женщина сразу же исчезла среди коров.
— Только труд и еда еще в цене, — заметила она и выдавила первую струйку из каждого соска коровы прямо в открытый рот коту, сидевшему у скамеечки.
— Отличные у вас звери, — похвалил мужчина и посмотрел на кота, который, шмыгнув в проход, стал себя вылизывать.
— Породистые, — удовлетворенно хмыкнула женщина и слегка отодвинулась, чтобы корова не угодила ей хвостом в лицо.
— Вас тут много на хуторе? — решился спросить мужчина.
— Какое там! — презрительно бросила женщина. — Двое немощных от старости, один немощный по молодости. И я.
Чувствовалось, что о ком-то она умолчала.
— Я тут наподобие «сити» большого города. Мозговой трест, банк с бочкой свинины в амбаре, министр земледелия, который так внезапно поднялся на высокий пост, что вынужден по ночам читать про севообороты и яровые. Одновременно я и биржа труда, которая среди полуголодных недотеп выискивает наиболее расторопных. Организатор, координатор, молочный сепаратор с ложкой и маслобойкой! — на одном дыхании выпалила женщина.
Оба рассмеялись.
— Если так — то честь и хвала вам, — выразил свое одобрение мужчина. — Правда, не мешало бы побелить хлев. Но навоз вывезен, зимняя солома сложена в стог за ригой. Неплохо по нынешним временам.
— У меня хорошие помощники — бык Мадис и баран Купидон.
— Откуда такое имя? — удивился мужчина.
— Придумала. До меня здесь половина животных не имела имен.
— До вас? — мужчине захотелось узнать побольше.
— Почему любопытство приписывают женщинам?
— Спрашивать не полагается, это верно, — улыбнулся мужчина. — Я даже не знаю, как вас зовут.
— Самое милое дело — выворачивать душу наизнанку перед совершенно посторонним, — заметила женщина.
— Пожалуй, — кивнул мужчина.
— Весной я ездила в Виртсу запасти салаки на лето, — слегка помедлив, снова начала женщина. — В поезде моей спутницей оказалась странная женщина. Удивительно, что такие вообще еще встречаются. Так вот, поезд трясло, клонило ко сну, дело было к ночи. В дверях стоял безрукий легионер и тихо напевал какую-то грустную песенку о родном острове и о девушке. Люди дремали. Может быть, потому, что стемнело и не хватало воздуха, все были похожи на уставших и неухоженных животных, у каждого свой запах. Вдруг чувствую, что соседка толкает меня. Легионер, кажется уже в пятый раз, затянул свою песню сначала, кто-то громко храпел. Незнакомая женщина начала всхлипывать у меня на плече и шептать на ухо, что ее терзает ужасная тайна. Мне стало не по себе, поди знай, вдруг убила человека. Да нет, просто иной так раздует чепуховое дело, что и себе истреплет нервы и других накрутит.
Оказалось, женщина дала взятку врачу, чтобы тот вырезал слепую кишку ее здоровому сыну. Ну, положили молодого паренька на операционный стол и оттяпали ему отросточек. Таким образом, женщина спасла свое дитя от мобилизации. Я спросила у нее, чего же она еще плачет. Рана загноилась, что ли? Болеет сын или жаль отростка? Она даже рассердилась, отодвинулась от меня и говорит: а вдруг кого-то, кто действительно болен, из-за этого не прооперировали? Тому, кто в самом деле нуждался в помощи, пришлось ждать или еще хуже… «Если все будут дрожать за свою шкуру, — сказала женщина, — то что станется с этим миром?»
Мужчина промолчал.
— Стой! — крикнула женщина корове, ударившей копытом по подойнику.
«У молодой хозяйки легко меняется настроение», — подумал мужчина.
Женщина встала и пошла процеживать молоко.
Тем временем усталое осеннее солнце опустилось чуть пониже, и с крыши дома на колодец легла тень.
Женщина, высоко держа подойник, прошла к собачьей будке. Ногой отпихнув пса в сторонку, она вылила ему в миску остатки молока.
Мужчина не мог оторвать взгляда от хлопочущей женщины. В хлеву за это время заметно стемнело, и мужчина не видел глаз женщины, когда она проходила мимо, хотя внимательно вглядывался в ее лицо.
— Я отведу лошадь на выгон, — вспомнил мужчина.
Вокруг дома и на дворе по-прежнему стояла призрачная тишина. Всякая спешка показалась ему вдруг бессмысленной. Он повел лошадь к торфяному навесу и, таким образом, телега осталась далеко от дороги. У мужчины после того, как он распряг мерина, возникло ощущение, будто телега является принадлежностью этого хутора, словно она всегда стояла здесь рядом с конными граблями. Оказавшись на выгоне, мерин сразу же принялся щипать траву невдалеке от берез. Мужчина огляделся по сторонам и остался доволен аккуратной оградой из колючей проволоки, окружавшей выгон. Он разглядывал его скорее по привычке, а не потому, что боялся потратить утром лишнее время на поиски лошади.
— Справились? — насмешливо спросила женщина, когда мужчина вернулся в хлев. — Вы же совсем не похожи на крестьянина, — добавила она.
— Как вы не похожи на крестьянку, — ответил мужчина и смутился от посторонних ноток, прозвучавших в его голосе.
— Не знаю, может быть, моя помощь все-таки потребуется утром, когда станете запрягать, — рассмеялась женщина.
— Я не откажусь, — пробормотал мужчина.
— Вот так она и идет, эта жизнь, — проронила женщина. Еще год-два, и я заговорю, как лаурисооская Линда, дескать, у нашенских родился теленок.
Последняя корова была подоена, и мужчина вышел из хлева вслед за женщиной.
— Побродите пока, — через плечо бросила она и заторопилась к дому. Она словно боялась, что мужчина начнет разглядывать ее на свету.
Мужчина вытащил из кармана замусоленную пачку и, прихрамывая, вышел со двора. Подойдя к телеге, он влез на нее и долго колебался, прежде чем зажечь сигарету. Он глядел во двор, большую часть которого заслонял жилой дом. Вероятно, время от времени по двору проходила молодая хозяйка, потому что до его слуха доносилось хлопанье двери и приказы, отдаваемые собаке, которая громыхала цепью перед амбаром. Затем из трубы дома в безветренное вечернее небо стал подниматься дым.
2
от ты где пристроился!
Мужчина вздрогнул от резкого голоса, прозвучавшего где-то совсем рядом.
Он повернул голову и увидел жалкую старушонку в залатанном мужском пиджаке, на котором не хватало половины пуговиц. Из-под болтающейся юбки высовывались галоши, подвязанные к ноге крест-накрест пеньковой веревкой, чтобы при ходьбе они не соскользнули с ног. Голову старухи покрывала полосатая шаль, на одной руке была надета пестрая варежка.
— Чего гримасничаешь! — рассердилась старуха. — Будто не знаешь Випси.
— Не знаю, — смутился мужчина, словно чувствуя себя виноватым, что никогда не встречал никого с подобным именем.
— Э-эх ты! — хихикнула старуха. — Брось дурака валять.
Мужчина осторожно слез с телеги и подошел к старухе поближе. Он заметил, что ее желтоватая, наголо обритая голова напоминает брюкву.
— Нет, не знаю, — твердо повторил мужчина, надеясь, что странная старуха уйдет.
— Позапрошлым летом я тебе показывала, как Пауль и Паулине ходят на прогулку, — не переставая противно хихикать, сказала старуха. — Сам же еще обещал взять меня в арти-истки, только сперва надо было то ли пройтись по морозу, то ли принять ванну, то ли… Гляди-ка, запамятовала.
Старухе стало жаль себя, и она пустила слезу.
— Я так и не стала арти-исткой, — робко сказала она и высморкалась в кружевной платок, который вытащила из внутреннего кармана засаленного пиджака.
— Там без конца дают сладкий суп, — вздохнула старуха. — Хотят избавиться от нас. Глядишь, снова кто-нибудь околеет и сразу — в яму. В этом году не достать было досок на кресты, — покачала головой старуха и оглядела носки своих галош.
Мужчина поглубже надвинул на глаза кепку — так лучше было наблюдать за незнакомой старухой.
— Так ты, правда, не помнишь, как Пауль и Паулине ходят на прогулку? — удивилась старуха. — Не я одна, значит, все забываю! То ли идти в ванну, то ли на мороз, а может, надо было притащить в комнату цветы черемухи? Черемуховый снег, — хихикнула старуха. — Оркестр заиграл, ну прямо-таки загрохотал, и я захлопнула рот, точно переплет библии! — С этими словами старуха начала пятиться и пятилась до тех пор, пока ее пятки не соскользнули с межи, в картофельное поле.
Мужчина решил, что полоумной старухе наскучило болтать и она сейчас уйдет.
— Смотри внимательно и запоминай! — крикнула старуха мужчине и подняла к небу указательный палец.
— Я смотрю, — пробормотал мужчина, чтобы успокоить старуху.
— Вот так, вот так, — пришла в возбуждение старуха, словно охваченная сценической лихорадкой. — Пауль идет ме-едленно и припадает на правую ногу. Как опустит ногу, так скажет: сожалею. Как поднимет — скажет: о сделке. О сделке сожалею. Понял?
Старуха с головой, похожей на брюкву, копируя кого-то, заковыляла по направлению к мужчине. Она брела, подражая какому-то Паулю, который, ступая на больную ногу, почему-то говорил, что сожалеет о сделке.
Продемонстрировав, как ходит Пауль, Випси передохнула и снова отошла к краю картофельного поля.
— А теперь гляди, как ходит Паулине! — взвизгнула старуха. — Гляди, у Паулине левое колено выскакивает из чашечки. Но она очень проворная женщина и знай себе шпарит дальше. Как только нога подвернется, она звонко-звонко протараторит: что сделано — то сделано, что сделано — то сделано!
Изображая Паулине, старуха подошла к мужчине, беззвучно хлопнула в ладоши — пестрая варежка заглушила звук — и расхохоталась.
Мужчина, на которого полоумная действовала угнетающе, сказал:
— Ну, мне пора.
— Куда? — опешила старуха.
— На выгон, за лошадью.
— Нет, нет, — испуганно вскрикнула старуха, и голос ее на этот раз прозвучал отчаянно и глухо.
Мужчина остался на месте.
Теперь давай играть! — требовательно воскликнула старуха и снова хлопнула в ладоши. Ты будешь Паулем. Но кто-то ведь должен изображать Паулине! Я бы не хотела. Ну, да ладно, любишь кататься — люби и саночки возить.
Старуха схватила мужчину под руку и потащила его.
Он не сопротивлялся и шел прихрамывая, недовольно повторяя, как было велено, что сожалеет о сделке.
— Что сделано — то сделано! — тараторила старуха, припадая на ногу и тычась головой в плечо мужчине.
Затем она внезапно остановилась, высвободила свою руку из-под руки мужчины, пристально поглядела на дым, поднимающийся из трубы дома, и укоризненно, произнесла:
— С тобой неинтересно, ты не умеешь правильно хромать.
— Я не умею правильно хромать! — развеселившись, пробормотал мужчина и заковылял к телеге, собираясь отдохнуть там.
А полоумная старуха тем временем уже открывала ворота. Она потеряла всякий интерес к сидевшему в телеге незнакомцу. Зато, приближаясь к дому, она что есть мочи закричала:
— Бенита! Бенита! Бени-тааа!
Мужчина приподнялся и посмотрел на двор.
Как он и предполагал, молодая хозяйка выбежала навстречу старухе, распахнула калитку и радостно поздоровалась.
— Бенита, — тихо повторил мужчина и ощупал карманы. Он вдруг почувствовал, что больше не может здесь оставаться. Отказавшись от мысли закурить, он слез с телеги и направился к женщинам, которые низко кланялись друг другу и хохотали.
«Бенита», — повторил про себя мужчина и ускорил шаг.
Приветливое лицо Бениты помрачнело, когда она увидела мужчину. С оттенком досады, отчасти же чтобы объяснить происходящее, она сказала:
— Старые друзья и старые воспоминания скрашивают будни.
Мужчина разглядывал Бениту и думал, в чем же притягательная сила этой женщины. В то же время такого рода любопытство казалось ему никчемным. Боясь, как бы выражение лица не выдало его, мужчина сдержанно засмеялся. Он сильнее припал на хромую ногу, почувствовал боль, и это вернуло ему внутреннее равновесие. Не давая себе пощады, он попытался вспомнить, когда в последний раз на него находило такое наваждение.
Бенита улыбалась с отсутствующим видом и смотрела в сторону, словно она боялась снова вызвать в мужчине смятение.
Тем не менее мужчина понимал, что завтра, чуть свет, он должен уехать. Хорошо бы запрячь лошадь и выехать на проселочную дорогу до того, как проснутся хозяева.
Старуха смотрела то на Бениту, то на мужчину, и в ее глазах на какое-то мгновение мелькнуло осмысленное выражение. Осмысленное и, быть может, даже тревожное.
В дверях дома показалась старая женщина в темном платке — ее-то мужчина и видел недавно на выгоне у белых стволов берез — и топнула пяткой о каменную ступеньку крыльца.
— Опять ты здесь, Випси, — стала она гнать полоумную.
Голос у старой женщины был довольно-таки грубый.
— Здесь, — не испугалась Випси и тоже топнула ногой о землю, едва не потеряв галошу.
Бенита захихикала, как школьница, и решила, что лучше ей улизнуть в дом.
— А вы кто? — обратилась к незнакомому мужчине женщина в темном платке.
— Эрвин Молларт, ветеринарный врач из-под Тарту, — представился он и, прихрамывая, подошел к старухе.
Его ответ услышала и молодая хозяйка, которая вышла на крыльцо с буханкой хлеба в руках.
— Куда путь держите? — осведомилась женщина в темном платке.
— К морю, — ответил мужчина и неопределенно показал на запад.
— За морем шумят леса, за морем высокие хлеба, за морем железные кресты, — забормотала полоумная. — И кошки в курином оперении стоят на голове, — хихикнула она.
— Помолчи, Випси, — рассердилась женщина в темном платке. — Помолчи, когда люди разговаривают.
Бенита, стоявшая рядом с ней, разглядывала Эрвина Молларта.
— Что ж, познакомимся. — Бенита подошла и деловито протянула руку. Ее лицо, только что лукавое, стало совсем серьезным, когда она сообщила — Вы находитесь на хуторе Рихва, перед вами на крыльце старая хозяйка Минна. А меня зовут Бенита.
Лицо старой хозяйки почему-то помрачнело, она собралась было уйти в дом, но, увидев в руках у Бениты хлеб, спросила:
— Хочешь отдать ей всю буханку?
Бенита не посчитала нужным ответить, протянула хлеб Випси и сказала:
— На, Випси, возьми.
Випси стянула с руки варежку, взвесила буханку на ладони и выпалила скороговоркой:
— Гляди-ка, подаяние нисколько не жжет руку.
— Ешь на здоровье, — смущенно пробормотала Бенита.
Випси вдруг так заторопилась, что забыла попрощаться.
Сунув хлеб под мышку, она заковыляла к воротам.
— Она живет в богадельне, — пояснила Бенита мужчине, когда голова Випси, покрытая полосатой шалью, замелькала меж кустов черной смородины. — В трех километрах отсюда. Говорят, она когда-то работала в театре суфлершей. Одно время я думала — не взять ли ее к себе в помощницы, но она может натворить такое, что беды не оберешься. Как-то летом мыла у нас полы, хорошо, чисто мыла. А кончила и вылила грязную воду в кухне на пол. Никуда не уйти, когда такая хозяйничает в доме. Минна, моя свекровь, сидит в комнате с ребенком, разве ж она доглядит за всем.
— Одна с хутором управляетесь? — поинтересовался мужчина.
— Нет, помогает отец, Каарел, — ответила Бенита. — Надо как-то выкручиваться, — растягивая слова, произнесла женщина.
Почему-то Молларт не решался спросить Бениту о муже, кто знает, где они, эти мужчины военного времени.
— Я должна собрать ужин, — оторвалась от своих мыслей Бенита и уже светским тоном спросила — Чем вас покамест развлечь, господин Молларт?
— Дайте какую-нибудь работу, — непринужденно ответил он.
— Если хотите, возьмите на конюшне косу и накосите клеверу с края поля, — небрежно предложила Бенита, не думая, что посторонний мужчина всерьез воспримет ее слова.
Мужчина уже сделал несколько шагов, когда женщина вдруг крикнула ему вдогонку:
— Остерегайтесь Купидона!
— Что? — с удивлением произнес он и обернулся.
— Остерегайтесь барана Купидона. Он — слава и гордость хутора Рихвы, — смеясь повторила Бенита.
Взяв косу и пощупав большими пальцами лезвие, Молларт завернул за конюшню. Кучи хвороста и поленницы дров сужали в этом месте утоптанную копытами дорогу, по которой скот гоняли на пастбище. Переступая через заполненные грязью выбоины, он дошел до лаза, ведущего на выгон, и остановился. Тихо свистнул, и на его зов, спотыкаясь и припадая на ногу, прибежал его рыжий мерин. Молларт прислонил косу к ограде и меж прясел пролез на выгон. Приподняв у лошади ногу с щербатым копытом, Молларт сосредоточенно стал ее разглядывать. Он пощупал сухожилие на пятке, провел ладонью по берцовой кости и, заметив зацепившийся за колючую проволоку клочок сена, снял его, чтобы обтереть лошади больную ногу.
Лошадь стояла смирно, позволяя хозяину возиться с собою, и словно в благодарность за заботу норовила схватить его губами за рукав пиджака.
Под конец Молларт осмотрел мерину глаза. Оттянутые веки на какой-то миг оголили глазные яблоки, исказив морду лошади, и она вдруг показалась совсем старой.
— Хорошо, что мы не сделали прививки. Мог бы и не выдержать. Тогда кто бы меня повез? — медленно проговорил Молларт и похлопал мерина по шее.
Вскинув косу на спину, Молларт зашагал по направлению к лесному пастбищу. Не доходя до одинокой ели, он свернул в поле.
3
оса, описывая дугу, оставляла за собой широкий прокос. Влажная от росы клеверная отава ложилась пушистой грядой.
Впервые за долгое время к Молларту пришло ощущение свободы. Быть может, хорошее самочувствие было вызвано работой: задеревеневшие от долгого сидения в телеге мышцы нуждались в движении.
Когда Молларт приехал сюда, в Рихву, ему показалось, что истерзанная войной Эстония осталась где-то далеко позади. Бегущие в панике немцы и снующие по дорогам беженцы — все это было сейчас невероятно далеко от Молларта. Словно он один прорвался сквозь еловую чащу на той стороне реки и очутился здесь, в этом благословенном мире.
Решив навсегда покинуть свой отчий край, мужчина сжег за собой все мосты, и теперь надежда на что-то новое и лучшее будоражила его и в то же время сулила покой.
Все, что далеко и туманно, волей-неволей притягивает к себе.
Здесь, на этой прокошенной полосе, он мог отдохнуть душой и предаться раздумьям.
Утром, едва рассветет, придется снова запрягать лошадь, а сейчас можно не торопиться.
Молларт посмотрел в сторону выгона, где сквозь сумрак мерцали белые стволы берез. В небе дремали редкие облака, по земле расползались воздушные тени, и только ель на дороге, по которой гоняли на пастбище скот, стояла, как одинокая черная свеча.
Мужчине было жаль хромого мерина с изуродованным копытом, которого придется бросить где-нибудь в прибрежной деревне. Он купил его несколько лет тому назад жеребенком у одного бедняка, стремившегося избавиться от убогого животного.
Молларт заботился о своем рыжем мерине и постоянно следил за его здоровьем. Накопив ряд наблюдений, Молларт намеревался привить ему заразную для лошадей болезнь — анемию, чтобы испытать на нем разработанный им за долгие годы курс лечения. Работе суждено было остаться незаконченной, бумаги с данными о рыжей лошади теряли свой смысл, так как лошадь приходилось бросить на этом берегу.
В последние военные годы, в особенности когда Молларт пытался со стороны взглянуть на свою деятельность, она порой казалась ему абсурдной. Он чувствовал себя глупцом, который пытается наложить шину на мушиную лапку, в то время когда люди гибнут как мухи. Однако он поддерживал свой трудовой энтузиазм, твердя себе, что надо руководствоваться высшими законами развития, которым всегда есть смысл служить, что бы вокруг тебя ни происходило.
Теперь Молларт носил в памяти сводные результаты своих исследований, надеясь довести опыты до конца после того, как достигнет спокойного берега.
Он гнал от себя смутные мысли о том, что это означает отказ от своей нации, измену святому чувству любви к отчизне. А ведь и в его душе оставался светлый уголок любви к родине, светившийся в часы вечерних раздумий подобно огоньку на болоте. Но, видя братоубийство и слыша, как то одни, то другие поднимали над его каменистой родиной боевое знамя, он на все махнул рукой.
У лошадей, которых в течение своей жизни лечил Молларт, не было крыльев, чтобы оторвать мужчину от земли и приподнять его над явлениями, дабы он мог судить о них. По правде говоря, у Молларта не было желания, подобно песчинке, кружиться в идейных бурях. Ему достаточно было, если поставленные им на ноги животные снова начинали мычать, ржать и месить грязь на дорогах.
Так размышлял он в этот спокойный час, кося траву, а может быть, ему необходимо было повторить про себя принятое решение, чтобы окончательно утвердиться в нем.
Еще мальчишкой решив стать ветеринаром, он оставался верен своему выбору.
Разумеется, в ту пору определяющим был порыв души ребенка, теперь же разум склонял чашу весов то на одну, то на другую сторону.
Вообще-то все решает случай. В детстве, увидев в цирке на ярмарке танцующую лошадь, он стал обучать этому искусству чалую кобылу отца, хутор которого стоял на острове посреди болота. По вечерам после трудового дня мальчишка до блеска расчесывал светлую шелковистую гриву лошади, кормил ее хлебом, а затем, вскочив в седло, заставлял стоять на задних ногах и выделывать всякие фокусы. Отец журил сына и запрещал утомлять рабочее животное. Но упрямый мальчишка не отступался от задуманного. Отец махнул рукой, надеясь, что сыну самому надоест эта затея и он оставит лошадь в покое.
Через некоторое время лошадь уже раскачивалась в обе стороны, словно танцевала вальс. Когда мальчишка приходил на пастбище, лошадь, приветствуя его, поднимала переднюю ногу. Парень до тех пор умолял отца не подстригать лошади гриву, пока тот не согласился. Длинная светлая грива свешивалась с одного бока, и в вечерних сумерках серая лошадь казалась таинственным и неземным существом.
Затем лошадь заболела. С каждым днем она все больше чахла. Глаза ее опухли, и белогривка при виде мальчика уже больше не поднимала переднюю ногу, а понуро стояла где-нибудь под деревом. Казалось, она искала опоры у ствола. Парень думал, что, двигаясь, она вновь обретет прежнюю силу, и продолжал тренировать ее. Он забирался лошади на спину и заставлял танцевать. Но теперь это были уже не шаги вальса, лошадь просто раскачивалась из стороны в сторону, и голова ее, несмотря на натянутые поводья, свисала вниз, а пышная грива больше не развевалась на ветру.
Однажды ранним утром мальчик почувствовал, будто кто-то зовет его, он быстро выскочил из теплой постели и побежал на окутанное туманной дымкой пастбище.
Кобыла с трудом встала на ноги, заржала, и мальчику показалось, что за ночь она поправилась. Он вскарабкался ей на спину и, чтобы разогреть ее, заставил пробежаться рысцой, а затем подал знак подняться на задние ноги. Кобыла вытянула шею и вздохнула, как человек. Она до последней капли израсходовала свои силы. В следующую секунду белогривка рухнула. Задняя часть туловища кобылы была парализована. Она смотрела на оцепеневшего от страха мальчика белыми, точно фарфоровыми глазами.
Когда в полдень выстрелом из охотничьего ружья отец прикончил измученную кобылу, парень убежал в лес и долго пропадал там, не зная, как избавиться от преследовавшего его чувства вины.
Несмотря на длительное отсутствие, мальчику все же не удалось избежать тяжелых упреков. Из-за его фокусов, сказал отец, животное околело.
Много лет спустя Молларт понял, что танцующая кобыла околела от заразного для лошадей заболевания — анемии.
Прошли годы, но он не отступился от принятого в детстве решения. Да и потом, какие бы шаги он не предпринимал, всегда они были тщательно взвешены и продуманы. Часто он осуждал себя за верность тому, на что пал его выбор, но поступать иначе было не в его характере. Порой он походил на ту больную чалую кобылу, которая через силу пыталась встать на задние ноги, что бы за этим ни последовало. Молларт не мог сбросить с себя груза раз взятых обязательств. Он мог быть не в ладах с собой, но его сущность всегда брала верх над ним. Он понимал, что гибкости людей, легко приспосабливающихся к новым условиям, стоит завидовать. В сложные моменты эти люди ведут себя гораздо умнее, чем такие тупицы, как он.
Начав новый прокос, Молларт на миг остановился и перевел дух. Все эти мысли взволновали его. Пытаясь освободиться от них, он огляделся вокруг.
Тени сгущались. Деревенские псы, словно грустя об уходящем дне и надеясь отогнать темноту, заливисто лаяли во дворах хуторов, прячущихся за деревьями и кустарником.
Вдруг из-за куста, точно призрак, вышла большая овца.
Мужчина приостановил работу, сдвинул на затылок шапку и по привычке стал разглядывать животное. Это был редчайший в Эстонии шропширский племенной баран с прекрасным экстерьером, весивший примерно килограммов сто.
— Купидон! — сообразил мужчина и рассмеялся.
Услышав свое имя, баран повернул голову. Он тотчас же принял воинственную позу и приготовился к нападению. Мужчина едва успел отскочить в сторону, когда баран пронесся мимо него. Отбросив косу, Молларт нагнулся и приготовился встретить новое нападение. Животное, остановившись неподалеку на прокосе, повернулось и снова кинулось на незнакомца. Едва баран поравнялся с мужчиной, как тот схватил его за загривок и остановил. Теперь этот кряжистый зверь покорно блеял. Купидон был словно удивлен и разочарован, что противник, вместо того чтобы в страхе бежать, ловко схватил его и стал разглядывать клеймо на ухе.
Молларт взглянул на морду барана. Круглая голова, тупой нос, под щеками ямки, словно баран протягивает губы для поцелуя, косо поставленные глазные впадины в густой белой шерсти — все это придавало зверю хитровато-потешный вид. Молларту нравились представители шропширской породы, в них не было характерной для всех остальных овец глупой простоватости.
Молларт обрадовался, увидев по-настоящему прекрасную особь, стоявшую перед ним на крепких ногах, словно памятник золоторунной овце. Определив, что Купидону года четыре-пять и словно желая убедиться, что он обладает не только внешними достоинствами, а и вполне здоров, Молларт внимательно, насколько позволяли сумерки, осмотрел его.
В общем, врач остался доволен, и все же какое-то сомнение омрачило его лицо. Он нащупал в кармане сигарету, позабыв, что его ждет нескошенная полоска луга и что где-то там валяется брошенная коса.
По дороге, волоча за собой тележку на четырех колесах, приближалась молодая хозяйка Рихвы.
— Купидон! — крикнула она издали. — Купидон, — повелительно повторила она, хотя причин для волнения как будто и не было — баран спокойно стоял возле мужчины, не испытывая ни малейшего желания вновь напасть на него.
Купидон лениво подошел к хозяйке, заблеял и как бы между прочим боднул один из столбиков в ограде, а затем понуро встал у колючей проволоки. Он даже не взглянул вслед Бените, которая, вскинув на спину грабли, быстро приближалась к мужчине.
— Не узнаю свою скотину, — с деланной озабоченностью сказала Бенита. — Неужели Купидон не нагнал на вас страху? Какой бог зверей оберегает вас?
— Вы долго использовали Купидона как племенного барана? — спросил Молларт, словно не замечая игривого тона женщины.
— Все время, пока я живу на этом хуторе. Года четыре.
— И как?
— А разве вы не знаете, как это делается? Или вы до сих пор смотрели у животных только зубы? — удивилась женщина.
— Я имел в виду — с каким результатом? — холодно заметил Молларт.
— В деревне полно потомков Купидона. Правда, у тех, кто не умеет ухаживать за животными, сколько-то ягнят околело.
— А выкидыши? — настойчиво спросил мужчина.
— Вот оно что! — воскликнула женщина. — Кто вам напел про это?
От негодования одна бровь Бениты приподнялась. Как ни странно, но ей удивительно шли эти небрежно прочерченные над глазами темные линии, которые, казалось, жили сами по себе, не подчиняясь никакой закономерности.
— Никто, — успокоил ее мужчина. — Я просто предположил.
Женщина повернулась к нему спиной, всадила грабли в скошенную отаву и начала сгребать ее.
— Все весенние ягнята появились на свет раньше времени, мертвые, — пробормотала она, не глядя на мужчину.
— И сколько таких хуторов?
— Три, — бросила Бенита. — В этом году было мало случек, кому охота навязывать себе на шею лишнюю норму шерсти. И вообще скоро у каждого будет по одной корове и поросенку. Не у всех есть бык Мадис, чтобы держать учетчиков скота подальше от хлева.
Молларт задумался.
— Господин Молларт, вы поможете мне? — спросила Бенита, когда воз был готов.
— Да-да, — пробормотал мужчина.
Бенита вскинула косу и грабли на плечи. Там, где дорога позволяла, Бенита шла рядом с мужчиной и жаловалась.
— В этом году мне не повезло с животными. Околела хорошая свинья. Случилось это так: я вытащила ее из темного хлева в загон, что на дворе. Свинья вдруг стала красной как свекла — солнечный удар! Заколоть не успели, сварили на мыло. Счастье еще, что выменяла у одного немца мыльный камень, иначе бы вся эта куча сала протухла. Кто-то посоветовал продать мясо, дескать, горожане с голодухи слопают, но мне совесть не позволила. Хоть мир и держится на обмане и лжи, а все же рука не поднимается людей околпачивать.
— Такая молодая и столько пессимизма? — улыбнулся мужчина и посмотрел на Бениту.
От этого взгляда женщина оживилась и хвастливо заметила:
— Злость и пессимизм придают жизни остроту. Пожили бы вы на таком одиноком хуторе, тоже, вероятно, злились бы порой и брюзжали, да хоть на самого себя, если никого другого нет под рукой.
— Устали, да?
— Обилие слов заставляет колесо времени крутиться быстрее, — согласилась женщина и продолжала прежним высокопарным тоном — В общем-то я не страдаю от недостатка радости, которую приносит работа, также как и от недостатка своенравия. В детстве, когда мне обрушивали на голову ковш воды в бане и я думала, вот-вот умру, я все-таки вырывалась и убегала.
— Животные пошли в хозяйку, — пробормотал мужчина, думая о Купидоне, и спросил — Значит, отбили вам охоту ходить в баню?
— Нет, отучили бояться воды, — с отсутствующим видом улыбнулась Бенита.
Тележка зацепилась за валявшееся на земле полено, и Молларт остановился. Пока он убирал с дороги полено, Бенита оттолкнула воз, и Молларт, державшийся за оглоблю, споткнулся.
Бенита в испуге застыла на месте. На ее лице вдруг появилось странное выражение, и Молларт понял, что словоохотливая Бенита в сущности еще ничего не рассказала ему. Тележка снова покатилась.
— Лучше бы мне не видеть Купидона, — пробормотал Молларт.
— Почему? — спросила Бенита.
Мужчина не ответил.
Баран Купидон, с вытянутыми словно для поцелуя губами, так сильно встревоживший Молларта, плелся в хвосте обоза, направляясь к хлеву. Но стоило ему увидеть сидящего у фундамента кота, как он в боевом азарте кинулся туда и загнал его на ворота.
— Овцы, которых случали, были деревенской породы?
— Да, но почему это вас интересует? — насупилась Бенита и рывком отворила дверь хлева. Взяв вилы, она начала раскидывать отаву по яслям.
— Хоть это хорошо, — пробормотал мужчина.
— Вы кто — человек, которому нужен ночлег, или инспектор племенного рассадника? — язвительно спросила женщина.
— Ни то, ни другое, — миролюбиво ответил мужчина. — Скажите, пожалуйста, еще вот что — стельность коров на Рихваском хуторе протекала нормально?
— Может быть, вас интересует, как это протекало у меня? — насмешливо бросила женщина. — Когда сядем ужинать, у вас будет возможность собственными глазами осмотреть ребенка.
4
окрытый клеенкой обеденный стол стоял у окна. Струившийся со двора слабый свет освещал лишь стол, оставляя все остальное в темноте. В глубине помещения двигались темные фигуры. Затем где-то в доме вспыхнул свет и начал приближаться к кухне. Лампа, которую несли откуда-то из задних комнат, осветила покрытую солдатским одеялом железную койку. Она стояла в тесной каморке сразу за кухней.
Бенита, державшая лампу, на секунду остановилась у порога и оглядела кухню, словно желая убедиться, все ли участники трапезы на месте. Старик, стоявший у ящика с дровами, повесил на вешалку кепку и неуклюже провел рукой по седым щетинистым волосам.
Бенита посмотрела на Молларта и, кивнув в сторону старика, поправлявшего ворот рубахи, коротко сообщила:
— Мой отец — Каарел.
Молларт поклонился старику, однако тот как будто и не заметил приветствия. Вероятно, его прищуренные глаза еще не привыкли к свету.
Старая хозяйка в черном платке, накинутом на плечи, держала за руку веснушчатого мальчишку. Тот испуганно разглядывал незнакомца и норовил спрятаться за спину старухи.
— Пожалуйста, веди себя по-человечески, — сказала Бенита мальчугану, заметив, что тот кривляется.
Ребенок вздохнул и, пересилив себя, подошел к Молларту; протягивая руку, он сказал:
— Роберт с хутора Рихвы.
— Эрвин Молларт, — серьезно ответил мужчина.
За этим столом могла бы разместиться гораздо более многочисленная семья — несмотря на гостя, длинные скамьи оставались полупустыми.
— Прошу, — сказала Бенита Молларту, садясь во главе стола.
Молларт смотрел в тарелку. Медленно разрезав жаркое, он отломил кусок хлеба и осторожно отхлебнул молока из кружки. Немногословие рихваской семьи сковывало его, хотя Молларт и сам предпочитал скупую беседу и не выносил надоедливых потчеваний, уговариваний и ежесекундных извинений.
Мальчишка привык есть самостоятельно, без того, чтобы его поучали и запихивали ему еду в рот. Если Роберт забывался и начинал вилкой ковырять в тарелке, его останавливали строгим взглядом, и ребенок сразу же равнялся на взрослых.
Молларту было не по себе. Инстинктивное чувство долга заставило его взять нить разговора в свои руки.
— Я смотрю, у вас в Рихве почти все работы сделаны в срок, — начал он с похвалы.
— Да, — согласилась старуха. — Бенита молодая, сил много. А у Каарела опыт и мужские руки, — с достоинством добавила она.
Бенита горько усмехнулась. Обычно старая хозяйка говорила о ее отце так: дескать, до того немощен, в чем только душа держится. Глаза у Каарела были пустые, он жевал пищу медленно и методично, словно усталая лошадь.
— Рихву основал мой зять, — сообщила старуха, чтобы незнакомец не подумал, будто старой хозяйке пришлось всю жизнь довольствоваться обществом лишь Бениты и Каарела. — Бог знает, в какой российской глуши голодают мои дочь и зять.
— Вместе взяли? — участливо спросил Молларт.
— Явились ночью, подняли с постели и под конвоем повели к машине, — со вздохом произнесла старая хозяйка.
Еще недавно столь разговорчивая Бенита как будто нарочно не вмешивалась в разговор.
— Он был волостным старшиной, — с гордостью сообщила старуха. — И в «кайтселийте»[4] состоял. Без него ни одно общество не обходилось, ни одно собрание. Хутор-то ему за участие в освободительной войне дали.
— Я одно время работал на той мызе, откуда отрезали Рихву. Теперь там богадельня, — вставил Каарел.
— Когда нам дали участок, там, кроме кустарника да нескольких больших деревьев, ничего и не было, — торопилась рассказать старуха. Она метнула сердитый взгляд на Каарела, словно тот не смел раскрывать рта без ее позволения. — Полоска поля на берегу ручья — не в счет. Только они зажили по-человечески, как их под конвоем увели. Увидят ли их когда-нибудь мои глазоньки, — расхныкалась старуха.
— Куда ты денешься, — равнодушно бросила Бенита.
— Да разве эти образованные люди что-либо смыслили в поле, — проворчал Каарел. — Гляди-ка, посадили на обочине канавы ясень, теперь мучайся с ним тут, одно наказание, — разошелся старик и засопел, как будто вспыхнувшая вдруг старая неприязнь стеснила ему грудь.
— Это дерево ты не тронь! — расшумелась старуха. — Пока я жива, в обиду его не дам. Они своими руками этот ясень в землю вкопали, а затем стих народный прочли. И дубок тоже посадили — дуб со стародавних времен дорог сердцу эстонцев. Только он, бедняжечка, не привился, видно, не то место выбрали.
Молларт понял, что о ясене на краю поля говорят в этом доме не впервые.
— Да ведь я деревьям не враг, — пробурчал Каарел. — У меня плечи ломит, когда я пашу подле ясеня. Земля вся будто в волосьях, того и гляди, лемех сломается.
— Рихваские стальные плуги крепкие, — сочла нужным вставить старуха.
— Кабы еще так — разрезал корни и нет больше никаких забот. Так ведь нет. На следующий год та же история. Кроны на дереве и в помине нет, а внизу — будто какие духи протянули новые нити. Пашешь и пашешь до того, что сердце готово из груди выскочить. То и дело меняй лошадь, не то рухнет. Что и говорить, животных здесь берегут. А вот кто о человеке подумает?
— Нет, этот ясень я тронуть не дам, — упрямо повторила старуха. — Вали елку на дороге, где скот ходит, ежели руки по пиле соскучились, — ядовито посоветовала она.
Каарел кинул нож на стол. Молларт увидел потрескавшиеся ногти труженика, в которые въелась земля.
— Отцу в самом деле трудно, — с упреком сказала Бенита.
— Не позволю, — визгливо закричала старуха. — Эдак ни одного дорогого сердцу воспоминания не останется!
Она даже всхлипнула. Молларт не понял — деланно или искренне.
Каарел бросил есть и стал смотреть в окно, за которым сгущались сумерки. Неровная поверхность стекла, словно кривое зеркало, исказила лицо старика. Казалось, что его выступающие треугольниками голые виски растут, подобно рогам, от самого лба.
— Говорят, в Рихве раньше было сыровато, — заметила Бенита.
Осталось непонятным, намекает ли она на то, что глаза у старухи на мокром месте, или имеет в виду рихваские земли.
К счастью, именно благодаря фразе, сказанной Бенитой, ссоры не вспыхнуло. Старуха вытерла глаза и принялась торопливо рассказывать дальше. Ей почему-то хотелось показаться перед незнакомцем толковой хозяйкой.
— Да, — вздохнула Минна, стараясь не смотреть в сторону Каарела. — На восьми гектарах проложили закрытые канавы. Сколько денег ушло на это! Одни деревянные трубы обошлись в уйму крон. Выдолбить дерево — с таким делом только мастер справится. А планы, рытье канав, обмер! Подумать только, если б вода из реки вдруг затопила поля или пашни! Об урожае и думать было нечего — только и знали, что разравнивать да обрабатывать. Ну, — удовлетворенно произнесла старуха и выпрямилась, — а потом уж и сена накашивать как следует. Иначе разве б построили у дороги такую большую ригу. Ячмень рос — ну прямо золото, все закрома были битком набиты.
— Крысам раздолье, — бросила Бенита.
— У нас в реке есть водяные крысы, — вставил Роберт.
— Тсс! — остановила его старуха и снова обратилась к вежливо слушавшему ее Молларту — Искусственное удобрение тоже помогло, не без этого. Зять все новшества знал, не хотел землю обрабатывать по старинке, читал всякие книги.
— В реке ужасно много водяных крыс, — вздохнул Роберт. Так как ему не раз разъясняли, что во время еды разговаривать нельзя, он торопливо объявил Бените: — Я сыт, — и похлопал себя по животу.
— Можешь встать, — разрешила старая хозяйка.
Каарел взял предложенную Моллартом сигарету, потер свой заросший подбородок и, не глядя на Минну, пробурчал:
— Картошку бы еще убрать.
— Зря беспокоишься, отец! Пройдет через Рихву война, бомбами покорежит поля, картофелины полетят на крышу и, точно градины, скатятся оттуда в кучу под навесом, — одним духом выпалила Бенита и уголком глаза взглянула на старуху.
Минна фыркнула.
— Война ли, мир ли, — серьезно промолвил Каарел, — люди-то все равно есть хотят, камень — его на зуб не положишь.
Затянувшийся разговор начал раздражать Бениту и, воспользовавшись минутным молчанием, она встала.
Быстро убрав со стола, она сложила посуду в таз, стоявший на плите, и налила в него из кастрюли горячей воды. Старуха тоже встала и сняла с крючка длинное льняное полотенце. Бенита схватила с плиты ковшик, и Молларт, следивший за ее движениями, только сейчас заметил, что пустые ведра из-под воды стояли на ящике для дров, всунутые одно в другое.
Молларт мог в очередной раз убедиться, как прекрасно налажено хозяйство на этом хуторе: из крана, который находился в углу кухни, в ковшик журча побежала вода.
Молларт разглядывал обитателей Рихвы. У всех у них снова был замкнутый и озабоченный вид. И у Бениты, которая ставила посуду на решетку, чтобы дать стечь воде; и у Каарела, разглядывавшего в оконном стекле свое кривое отражение; и у Минны, вытиравшей тарелки. Даже Роберта, казалось, одолевали мрачные мысли, он сидел на чурбачке перед плитой, подперев кулаком щеку, и гладил по блестящей шерсти кота, того самого, которому Бенита во время вечерней дойки нацедила молока из коровьего вымени прямо в рот.
«Странно, — подумал Молларт, — что за столом никто ни разу не заговорил о муже Бениты, нынешнем хозяине Рихвы».
5
емнота сгустилась, окутав все вокруг плотной завесой, как бы сплетенной из волос. Недруг отца Каарела — ясень, который рос на краю поля, шевелил ветвями и, казалось, танцевал и двигался перед Бенитой, мешая ей идти. Бенита наткнулась на колючую проволоку и долго шарила рукой, пока наконец не нашла лаза, ведущего на выгон. Нечаянно сбившись с тропы, Бенита продиралась дальше сквозь кусты. Она несколько раз споткнулась, хотя только что за столом свекровь Минна хвасталась, какими ровными стали рихваские земли после того, как был сделан закрытый дренаж.
Сегодня она и в самом деле запаздывала. Плутая в темноте, Бенита проклинала про себя незнакомца, по вине которого так затянулся ужин. Однако больше всего она досадовала, разумеется, на свекровь. В минуты душевного упадка Бените начинало казаться, что и она разделяет безрадостную судьбу своего отца Каарела — гнуть спину до ломоты в костях. Едва справишься с одним делом, как уже на тебя наваливаются новые заботы и хлопоты. Рихваский хутор своими цепкими корнями и корешками, расползающимися во все стороны, оплетал тех, кто служил ему, связывая их по рукам и ногам. Добро бы Бенита могла управлять хутором и вести дела как полноправная хозяйка. Но поперек дороги ей стояла свекровь. И хотя заботы о хуторе давно уже лежали на плечах Бениты, она не имела права сказать отцу: «Выкорчуй этот проклятый ясень — и дело с концом!»
Бениту всегда раздражало, когда отец, подобно рабочему волу, хотел сбросить с себя несносное ярмо. Ему это никогда не удавалось. Вечно ему приходилось мириться со своей долей. Правда, в последнее время старик чаще ворчал просто так, лишь бы позлить Минну.
Каарел работал через силу, так как Йосся, хозяина Рихвы, мало интересовали дела и заботы хутора.
И, разумеется, львиную долю своей досады Бенита заочно обрушивала на Йосся.
Бенита не знала человека, который звал бы ее мужа Йоссепом. Все только — Йоссь да Йоссь. Бывало, встретятся ей в поселке знакомые и с усмешкой спрашивают, как, мол, поживает Йоссь.
Впрочем, один случай она все-таки помнит. Во время венчания пастор назвал Йосся Йоосепом, и слышать это было очень странно.
Йоссь, будучи уже четыре года женатым человеком, хозяином хутора и отцом семейства, прошлым летом вдруг взял да и скатился на велосипеде с чердачной лестницы — пьян был. Хорошо еще, что зацепился за стул, не то велосипед мог бы с размаху угодить на стол, а оттуда через окно прямо в яблоневый сад. Бог бережет пьяниц. Руки-ноги у Йосся остались целы, только колесо дало «восьмерку».
О пьяных проделках Йосся болтает вся деревня, а вот тому, что он съехал с чердачной лестницы на велосипеде, никто не поверил. Думали, угодил в канаву, такое нередко случалось с Йоссем.
Йоссь и эти господа-бездельники с Веэрикуского хутора друг друга стоили. Связать бы их вместе и заставить плыть против течения! Бенита готова была побиться об заклад, что, привелись, например, Йоссю полоскать в реке белье, он повел бы себя точно так же, как эти веэрикуские лопухи: вытряхнул бы белье из корыта в реку, а затем, когда тряпки стало бы уносить вниз по течению, стал бы с воплями носиться вдоль берега.
Вообще эти веэрикуские господа, устроившие за мостом пляж, раздражали Бениту. Увидев, как госпожа в купальном трико, в шляпе, с книгой в руках загорала на берегу, деревенские женщины пришли в ажиотаж. Те, кто был хоть чуточку помоложе да попригожей, тоже решили вкусить сладкой жизни. Они сшили себе из ситца трусики, стянули грудь лоскутом и стали с визгом носиться по лугу. Бенита была наполовину горожанкой и кое-что в своей жизни повидала, однако такое выпендривание барышень из захолустной деревни было, по ее мнению, форменным идиотизмом.
Пусть беснуются, если хотят, чтоб им пусто было, Бените какое дело! Но достопочтенные хозяева вылезали на свет божий даже из своих тайных убежищ, только бы принять участие в светской жизни. В то время они облав не боялись! Но когда их ждала работа в поле, никакая сила не могла вытащить мужчин из сарая.
Да и чего им бояться! Сельская власть, койгиский Арвед, был подкуплен. Немцев «лесные братья» не интересовали, и немцы их не трогали. Правда, кое-где будто бы видели немецкие отряды, которые шныряли вокруг со сворами собак и стреляли наобум по кустам. Что ж, таков был приказ начальства — расходовать патроны. Однако большей частью все на этом и кончалось.
Похоже, что Йоссю уже изрядно надоела лесная жизнь, однако домой он тоже не возвращается. Наведываясь в Рихву, он прямо-таки не знает, к чему приложить свои силы. Возится с бараном, бог мой, Йоссь просто души не чает в этом Купидоне! Бените иной раз казалось, что Йоссь любит его больше, чем самого себя.
Он может без конца ласкать барана, мекать ему что-то на ухо или целовать в тупой нос. Однажды Бенита услышала, как Йоссь назвал Купидона птенчиком. Излив на него весь свой запас нежности, Йоссь принимался дразнить животное. Это он привил барану свирепость, и тот может, разозлись, с разбегу размозжить себе голову о каменную стену. Йоссь же хохочет, как дитя, и, держа в руках простыню, размахивает ею перед Купидоном до тех пор, пока баран не изогнет шею и не начнет бодать полотнище. А иной раз Йоссь привяжет тряпку ко дну ведра и просто покатывается со смеху, когда баран начинает биться головой о жестяное дно, да так, что звон стоит над всеми рихваскими покосами и полями.
Даже Минна, эта капризная и вздорная старуха, бывало, склонит голову набок, скрестит руки на животе и с умилением взирает на проделки сына. Правда, Бените тоже не всегда удавалось удержаться от громкого смеха, но в общем она не очень-то и старалась, потому что, если человек вообще перестанет смеяться, лицо у него может окаменеть.
Чего таить, иногда Йоссь вспоминал и о своей законной жене. Порой он даже терпеливо выслушивал ее жалобы. Обычно он утешал ее одними и теми же словами, дескать, Бените следует понять: идет война и ничего не поделаешь. В такие времена женщинам всегда приходится трудно, на их плечи ложится основной груз забот.
Интересно, почему этот ветеринарный врач Молларт сует свой нос в частную жизнь Купидона? А может, он вообще впервые видит такого злого барана? И что он у него обнаружил?
Утром Молларт уедет, и бог с ним.
— It’s a long way to Tipperary…[5] — замурлыкала Бенита, чтобы подбодрить себя.
Самое неприятное — идти в темноте по скользким камням. И надо же было так запоздать сегодня. Но в общем дорога до нудности знакомая, исхоженная вдоль и поперек бессчетное количество раз. Порой, правда, мелькнет тревожная мысль, а что, если какая-нибудь группа, проводящая облаву, вдруг напала на ее след. Им тогда ничего не стоит по протоптанной дорожке выйти к сараю. Правда, посередине река, и от сознания этого на душе делается спокойнее.
Бенита ухватилась за гладкий ствол ольхи, раскинувшей свои ветви далеко над водой, для равновесия подняла корзину повыше и левой ногой ступила на первый камень. Впрочем, угоди Бенита в воду, она бы не испугалась. Река была не особенно глубокой, хорошему пловцу пара пустяков добраться до другого берега. Вот только содержимое корзинки подпортилось бы, и тащись тогда домой за новой провизией.
Бенита запаздывала и поэтому с большой осторожностью переступала с камня на камень.
Посередине реки на отмели росли камыши, цепляясь за них, легче было перепрыгивать с камня на камень. Наконец Бенита достигла валуна, на котором можно было даже посидеть, не боясь замочить подол платья. Правда, удовольствия такое сидение не доставляло, кругом холодная вода, однако Бенита все-таки на минутку присела. Больше для того, чтобы проверить свою смелость и присутствие духа — не каждая из этих деревенских женщин была бы способна в темную осеннюю ночь сидеть в одиночестве посреди реки!
Внезапно Бенита почувствовала голод, хотя совсем недавно встала из-за стола. Сунув в рот кусочек жаркого, она едва удержалась, чтобы еще раз не запустить руку в корзинку.
Бенита сидела неподвижно, прислушиваясь к монотонному плеску свинцовой воды. Ни птичьих голосов, ни дуновения ветра. Весной и летом было просто наслаждением совершать эти вечерние вылазки — все в природе ликовало, теперь же при мысли о затяжных дождях становилось не по себе. Хорошо, что осенние дожди еще не начались, иначе пришлось бы идти кружной дорогой через мост, потому что достаточно было одного ливня, чтобы камни на стремнинах исчезли под водой.
Бенита встала и продолжала путь. Шагов десять еще, не больше! Прекрасная обувь — постолы, можно всей ступней опереться на камень или, скрючив пальцы ног, зацепиться за какой-нибудь выступ.
Работая в поле или в огороде, Бенита, бывало, распрямив спину, с тихим изумлением смотрела на свою обувь и одежду. В такие минуты ей казалось невероятным, что на выпускном вечере в колледже она щеголяла в кружевном платье и атласных туфельках. Теперь, в прохладные или дождливые дни, она натягивала на себя старый мужнин пиджак с обтрепанными рукавами и отвисшими, словно свиные уши, лацканами.
До сарая оставалось теперь совсем немного.
Только в такой отдаленной лесной деревне можно было позволить себе прятаться в столь доступном для всех месте. Хотя скрывавшихся мужчин и называли «лесными братьями», фактически они жили на сенокосе койгиского Арведа. Впрочем, было бы не совсем правильно называть этот отрезанный от государственного леса участок сенокосом. Он лежал далеко от койгиских строений, и батрак редко когда приходил сюда с косой. Другое дело, если на культурные луга обрушивалась засуха. Койгиский хозяин любил утверждать, что дешевле удобрить землю поблизости от дома и снять с нее урожай, нежели косить стебельки за рекой. Осенью сорокового года он без всякого сожаления дал отрезать от своих заречных угодий участок своему батраку, новоиспеченному хозяину Юри. Махнув рукой, Арвед сказал, дескать, едва ли батрак запретит ему возить оттуда дрова.
Таким образом, ранней весной следующего года батрак Юри переехал в этот самый сарай, где сейчас скрывались «лесные братья», перевез жену, детей и стал налаживать новую жизнь. На это стоило посмотреть. Вдоль стены Юри набил нары из жердей, перед дверью сложил из камней очаг и соорудил над ним навес из еловых веток, защищающий от дождя. Лето выдалось жаркое, ветки то и дело приходилось менять — хвоя осыпалась и крыша редела. В деревне смеялись, что новоземельцы кормят своих детей супом из еловых игл, которые подобно манне небесной сыплются прямо в котел.
Много ли они успели сделать за пол-лета — очистили лоскуток земли от деревьев и кустарника, построили за сараем хлевок для коровы и лошади — этот Юри ведь не был Юркой из Пыргупыхья[6]. Война быстро прошла через те края, и, когда подули резкие осенние ветры, Юри перебрался обратно в Койги. Его корова заняла привычное место в койгиском хлеву, и до того, как дороги окончательно раскисли, Юри привез хозяину несколько возов дров. Другие хуторяне, которые нельзя сказать чтоб были богаты, но которые все же имели за душой свои двадцать гектаров хорошо обработанных полей, предвидели, что из планов Юри ничего путного не выйдет. Не те времена, одного желания было мало для того, чтобы наладить хозяйство. Бобыль — он бобылем и останется, говорили они с презрением, если нет у тебя необходимых орудий, удобрения и хороших построек, лучше и не берись хозяйничать на земле. Не зря ведь народ разводил племенной скот, приобретал машины и ходил в народный дом послушать речи умных людей. Хочешь иметь с хозяйства доход — трать деньги, заглядывай в книги, одной голой силой тут не прошибешь.
Идя по росистой траве к сараю, Бенита на какое-то мгновение почувствовала щемящую боль в груди — пусть незнакомец как угодно превозносит Рихву, но ведь и она, Бенита, порой ощущала себя задавленной этим хутором. Шаришь как впотьмах: науки, усвоенные в колледже, оказались ненужными для того, чтобы вести хозяйство.
А Йоссь останется Йоссем, от него совета не жди!
Бенита часто ловила себя на мысли — не из-за девчоночьей ли бравады стала она хозяйкой Рихвы. Да что за муж, которому каждый божий день, словно больному, таскай в корзинке еду! А любовь? Когда цветет смолянка, то и пылинка находит пылинку. У них с Йоссем ребенок, и ведь все-таки она привязана к мужу. Почему при виде того, как Элла увивается вокруг Йосся, Бенита ощущает болезненный укол в сердце. Говорят, ревность и любовь — неразлучны. Да и вообще, разве можно требовать во время войны, чтобы у тебя был спокойный сон и муж рядом. У скольких жизнь в этом отношении сложилась еще хуже. Йоссь, приходя домой, хоть иной раз приносил жене охапку рогоза с речной излучины.
— Бенита!
Бенита остановилась, она узнала голос Эльмара, но самого его видно не было. Сзади послышались шаги, и руки Эльмара легли ей на глаза.
— Не паясничай, — сказала она, вырываясь.
— Ты сегодня запоздала, — прошептал Эльмар, обдавая Бениту запахом сивухи.
— Снова нализались, — грубо сказала женщина.
— Один-единственный поцелуй. Твой Йоссичек заждался!
— Не испытываю ни малейшего желания, — зевая ответила Бенита.
— Бенита! — прошептал ей прямо в ухо мужчина.
— Мало вам Эллы?
— Бениточка, — с пьяной настойчивостью клянчил Эльмар.
— У тебя борода, точно борона, — ответила Бенита и оттолкнула пристающего к ней Эльмара.
— Ах, женщины, женщины, — затянул Эльмар и, как лопоухий пес, поплелся вслед за Бенитой к сараю.
— Эгей, вы, лесные жители, вылезайте на кормежку, — крикнула Бенита и, расставив ноги, встала в дверях сарая.
Она вовремя успела закрыть глаза: как всегда, свет карманного фонаря ударил ей прямо в лицо, и, как всегда, Бенита разозлилась.
— Пора бы уже узнавать по голосу!
Эллы здесь не было, и Бенита почувствовала облегчение.
Она ждала, что Йоссь что-нибудь спросит про хутор, как там и что, но он запустил руку в корзинку и принялся с аппетитом уписывать принесенную Бенитой еду.
— Мужики, давайте-ка поближе, — с набитым ртом сказал Йоссь.
С нар, сбитых новоземельцем Юри, один за другим посыпались дружки Йосся, и Бенита испугалась, что какой-нибудь верзила упадет ей прямо на голову.
— Чертовски жесткие нары, — потягиваясь, произнес заморыш Карла. — Все кости ломит.
— На, глотни и ты. — Эльмар сунул под нос Бените бутылку с самогоном.
— Эта живительная влага, которую вам принесла Элла, не согреет меня, — огрызнулась Бенита.
Мужчины заржали, но как-то вяло, видимо, спросонья.
— Сегодня неплохой вечер, темно, — протянул Карла.
— Не отправиться ли нам в деревню? — оживился Эльмар.
— Верно, а что, если пойти спать домой? — шепнул Йоссь Бените.
— У нас в доме посторонний, — громко сказала Бенита.
— Кто? — спросили мужчины.
— Из-под Тарту один. Утром отправляется дальше, к морю.
— Хочешь не хочешь, а фронт, леший его возьми, все время движется, — засмеялись мужчины.
— Вас, лесных жителей, это не касается, — насмешливо сказала Бенита.
— Черт его знает, — подал голос Кустас, самый пожилой и тихий из мужчин. — Сиди тут и думай, что делать, пока ум за разум не зайдет.
— Припустить бы к берегу, да и махнуть на какой-нибудь скорлупке через море, — произнес Карла.
— Чем дома плохо, ежели у нас такие замечательные женщины, — все еще усердно жуя, пробормотал Йоссь и в подкрепление своих слов похлопал Бениту по спине.
— Сходить бы в деревню, узнать, какие новости, — заметил Карла.
— Лень, — зевнул Кустас. Слышно было, как он носком сапога почесал голень.
— Если фронт будет двигаться, жизнь станет привольнее. Никто не будет рыскать по лесам, — обрадовался Эльмар.
— Кому вы нужны, — бросила Бенита.
— Женщинам, только женщинам, — кольнул ее Йоссь. — Ты почему каждый вечер приходишь с корзинкой?
Мужчины засмеялись.
— Ты, Йоссь, помолчи, — предостерег его Кустас.
Бенита молча собрала тарелки и сложила их в корзинку.
— Ладно, — сказала она, вставая. — Йоссь, приходи утром на реку, наловим рыбы.
— А что, бочка с мясом уже пуста? — буркнул Йоссь.
— Долго ли ей опустеть, таскай тут всяким обжорам.
— Ну что ты, Бениточка, — подошел к ней Эльмар.
— В картишки бы сразиться, — протянул Карла, — а где взять батарейки…
— Берегите свой фонарь, — посоветовала Бенита и со злорадством добавила — Дни становятся все короче, скоро прошибете себе головы о стенку, дверного проема не сумеете отыскать.
— Сразиться бы в картишки, спать больше нет мочи, — протяжно повторил Карла.
— Неохота, — сладко зевнул Кустас, — зароюсь-ка я лучше в солому.
— Примем вместо снотворного самогончику, глядишь, и ночь пройдет, — предложил Эльмар.
— Ты к Элле ступай, — хихикнул Карла. — Потом на недельке отдохнешь.
— Уж Элла нас в беде не оставит, — поддразнил Йоссь Бениту. — Как кончатся рихваские припасы, так, смотришь, Элла бежит, за спиной бидон, в руках — кадушка с маслом.
— А мне и впрямь осточертело таскать, — едва сдерживаясь, ответила Бенита. — Пусть Элла побегает, да так, чтоб ее между ляжками пот прошиб.
— Какая муха тебя сегодня укусила, — удивился Эльмар.
— Кто ее разберет, — сердито бросил Йоссь.
Бените нравилось, когда Йоссь сердился, он тогда гораздо больше походил на мужчину.
— Пусть Элла таскает вам подачки, а я принесу пакли. На зиму утеплите свою берлогу, не то превратитесь в сосульки, — сказала Бенита и стала ждать, что ответит Йоссь, потому что единственное, что по-настоящему тревожило Йосся — это приближение зимы.
— С морозами вернемся домой, — высокомерно бросил Йоссь.
— Чем плохо греться у печки, когда зерно в закромах, — съязвила Бенита.
— У тебя земные заботы! — свысока рассмеялся Йоссь.
Бенита стояла как воды в рот набрав, ей не хотелось раздувать ссору.
Не попрощавшись, она пошла, и Йоссь отправился проводить ее.
— Что поделывает Роберт? — небрежно спросил он.
— Слоняется где-то, — хмуро ответила Бенита.
Они дошли до реки. Йоссь остановился, схватил Бениту за руку и привлек к себе.
Какое-то мгновение они стояли совсем близко друг от друга, слушая, как бьются сердца.
Внезапно Бенита повернулась и, оставив Йосся на верху склона, стала спускаться к реке. Шаг ее был слишком резвым, а темнота слишком плотной, и Бенита поскользнулась. Упав на левое колено, она вскочила и от резкого движения порвала подол платья. Вытянув вперед руки, чтобы удержать равновесие, она прислушалась, видимо надеясь услышать от Йосся хоть одно слово, но наверху все оставалось тихо. Бенита отыскала ногой камень и медленно пошла через реку. Было жутковато одной в кромешной тьме переступать с камня на камень, нащупывая дорогу в черной как деготь воде.
6
два рассвело, а скот был уже накормлен и обихожен. Теперь Бенита могла какую-то часть времени уделить и себе.
Откинув прясла лаза, она прошла на выгон. Рыжий мерин Молларта дружелюбно заковылял ей навстречу, и она потрепала его по шее. Направляясь с выгона на луг, Бенита замедлила шаг — сейчас взойдет солнце. Скользя голыми ступнями по холодной от росы траве, Бенита смотрела на кроны старых елей, темневших на заречном лугу. Несколько ленивых, закоченевших от ночной прохлады лягушек отскочили в сторону, уступая ей дорогу. Ступни горели и, хотя плечи дрожали от холода, Бенита чувствовала, как вверх по телу поднимается тепло.
Солнце коснулось крон самых высоких деревьев, над туманной дымкой, словно огненные пирамиды, заполыхали верхушки елей. Река, вдоль берегов которой тянулся ольшаник, тихо журчала, еще погруженная в глубокие сумерки. Безветрие и бледное предрассветное небо сулили хорошую погоду.
Бенита остановилась. Она взяла кофту и платок в одну руку, а постолы в другую и взмахнула обеими руками, точно мельничными крыльями. Солнце вставало, на мельничном бугре запламенели гроздья рябины. Желтые стволы берез словно приподнялись навстречу солнечным лучам.
Затем засверкала холодная трава, и Бенита, скользя ступнями, заспешила к берегу. На миг остановившись, она перевела дыхание, оглянулась и увидела за собой ярко-зеленую полосу на серебряной поверхности луга. Ни единого больше следа, слово кто-то прошел тут на лыжах, роняя по дороге капли росы.
Бенита быстро стянула через голову платье. Ей хотелось искупаться до того, как тени окончательно спрячутся за деревья и кусты.
Пальцами ног она оттолкнулась от песчаного дна реки и поплыла против течения. Над водой поднимался пар, камыши колыхались от движений Бениты. Зеленый плот из листьев кувшинок покачивался на тугих стеблях, словно на якорях. Обратно Бенита плыла на спине. Там, где было помельче, она упиралась ногами в дно и, набрав полные пригоршни воды, плескала ее себе в лицо и на плечи. Выйдя на берег, Бенита, чтобы согреться, стала прыгать под деревьями, потом растерла тело жестким холщовым полотенцем и натянула кофту. Затем Бенита обмотала полотенце вокруг шеи и, сунув в рот два пальца, засвистела, как мальчишка.
На другом берегу показался Йоссь, он прислонился к стволу березы и зевнул. За спиной у него торчал ствол ружья. Бенита расхохоталась. Страшась холода, Йоссь натянул ворот свитера на самый подбородок, тщательно застегнул пуговицы пиджака и сдвинул на глаза кепку, словно лоб его боялся прикосновения утренней прохлады.
Не поздоровавшись, каждый из них прошел по своей стороне метров сто вверх по течению, туда, где можно было перейти реку по камням, не замочив ног. Перепрыгивая с камня на камень, Бенита добралась до середины реки и, наклонившись вперед, стала ждать. Йоссь еще сколько-то прошел вверх по реке и, внимательно оглядевшись вокруг, поставил ногу, обутую в сапог, на кочку. Подняв ружье, он выстрелил в темный щучий омут. Сразу же на поверхность белыми брюшками кверху всплыли плотвички, и течение отнесло их к Бените. Она быстро собрала рыбу и кинула на берег.
— Ну что, достаточно? — спросил Йоссь, когда Бенита разогнула спину.
— Пальни еще разок! — крикнула Бенита.
Прогремел выстрел.
На этот раз улов был хуже.
— Ну? — осведомился Йоссь.
— Хватит. Спасибо, хозяин, — добродушно бросила Бенита.
Йоссь вскинул ружье на плечо, на этот раз стволом вниз, и поплелся по камням в сторону своего логова — убежища от всяких бед.
Бенита, тихо насвистывая, нанизывала на прутик рыбу.
Только она собралась идти домой, как ей навстречу с радостным тявканьем бросился дворовый пес.
За ним на довольно большом расстоянии шел Каарел с каким-то ящиком в руках.
— Ты что делаешь? — крикнула ему Бенита.
— Две! — провозгласил Каарел. — В ловушку эти поросята не лезут, а вот в куничьи силки сегодня ночью попались две!
— Наконец-то! — обрадовалась Бенита.
Приблизившись, Каарел поднял ящик повыше, и Бенита услышала там шорох и возню.
— Отнесу в реку, — пояснил Каарел, — под водой открою заслонку и они, дьяволы, пойдут ко дну.
— Валяй, — сказала Бенита и позвала собаку. Но псу вовсе не хотелось сидеть на цепи. Он отбежал в сторонку, намереваясь обнюхать стволы деревьев и слегка полить их.
Бенита пошла к выгону.
За это время капли росы скатились по стебелькам отавы на землю. Сенокос, выгон и межа зеленели настолько свежо и аппетитно, что любо-дорого смотреть. Яркая зелень никак не хотела поддаваться осени, словно права была мудрость, гласившая: если ты растешь у самой земли, век твой будет долгим.
У лаза Бенита остановилась и оглянулась на реку — удалось ли отцу утопить крыс. Старик взволнованно размахивал руками, до Бениты донеслись проклятия и ругань. В следующую минуту на зеленом лугу мелькнули две огромные крысы, мчавшиеся прямо к хутору. Старик громким голосом науськивал собаку, но разыгравшийся пес никак не хотел понять, что надо работать и хватать мерзких паразитов.
Бенита фыркнула — неудобно было на глазах у растерянного Каарела громко смеяться — и повернула к дому.
Внезапно она умолкла, за ее спиной стоял Молларт.
— Видели, как неслись? — спросила его Бенита.
Он кивнул.
— Хвосты распрямили, помчались, видно, здорово истосковались по дому, — улыбнулась Бенита.
— Выплыли! — издали закричал Каарел. — Чертов пес!
Надо же было кого-то обвинить в неудачной охоте.
Молларт с Бенитой направились к дому.
— У нас амбар каменный, — начала рассказывать Бенита. — Только и есть, что два ряда бревен наверху под кровлей. Крысы так прогрызли деревянную часть, что, того и гляди, крыша рухнет. Когда иду в амбар, всегда беру с собой на всякий случай дубинку. Крысы из закромов с шумом лезут в ходы между балками. Хорошим манерам они не обучены и потому норовят скопом залезть в одну дыру, пищат — и ни с места. Тогда я и принимаюсь лупить их своей палкой, у стервецов тельца толстые, шерсть густая, ну прямо серые поросята, знай себе, причмокивают под ударами. Что поделаешь, однажды вытряхнули крысу из силков в мешок, думали, мешок о стенку — и готово. Но оказались недостаточно расторопны — крыса успела прогрызть мешковину и удрать. Хитрые бестии!
— Племенные животные! — рассмеялся и Молларт.
Бенита посмотрела на него да так и продолжала смотреть — дольше, чем это подобало. У него были странные карие глаза с желтыми крапинками, расходившимися подобно искоркам от зрачков в стороны. Бенита почувствовала, что теряет уверенность. Свободной рукой она поправила полотенце на шее и стала придумывать, что бы еще такое сказать.
— Я смотрю, вы и рыболов, — заметил мужчина, словно хотел дать ей время прийти в себя.
— Да, — ответила Бенита, — вот собрала несколько плотвичек.
— Волшебная река, в которой собирают рыбу, — обронил мужчина и приподнял прясло лаза, чтобы Бените не пришлось перелезать.
— Я только свистну, как они сами подплывают и нанизываются на прутик. Знают, что мне некогда часами простаивать над поплавком.
— Я тоже знаю, что вам некогда, — пробормотал мужчина, — и все же хочу, чтобы вы сказали мне, на каких хуторах находятся овцы, которых случили с Купидоном.
Бенита остановилась и принялась разглядывать свои постолы. Она избегала смотреть на мужчину, она боялась, что, глядя на него, не сможет ответить так резко, как ей хотелось бы.
— Вот, оказывается, что вас интересует! — произнесла она. — Только меня, пожалуйста, исключите из игры!
— У меня серьезные опасения. Если они подтвердятся, одним словом, я не могу уехать прежде, чем не осмотрю животных, — жестко сказал мужчина. — Болезнь, которую я предполагаю, заразна не только для животных, но и для людей, — добавил он уже мягче.
— Я не боюсь, — высокомерно бросила Бенита.
— Не боится тот, кто не знает, — осторожно заметил мужчина.
Бенита не ответила. Она свернула к хлеву, настежь распахнула ворота и стала отвязывать коров от привязи.
— Ну, ну! — понукала она их.
Коровы, стоявшие впереди, медленно вышли из ворот, остановились у обочины дороги, чтобы пощипать траву, и, только когда задние сгрудились и нажали на них, побрели в сторону лесного пастбища.
Молларт, прислонившись к столбику ограды, следил за тяжело ступающими тучными коровами. Какая-то телочка, видно, чтоб попугать мужчину, скакнула в его сторону, но тут же повернула и побежала вперед. Бенита шла за стадом, помахивая хворостиной. Полотенце по-прежнему обматывало ее шею. Она даже и не взглянула в сторону Молларта.
Каарел, держа в руках пустые силки, подошел к Молларту.
— Паршивый пес, — виновато пробормотал он.
— Надо забить крысиные норы жестью, — посоветовал Молларт.
— А где взять эту жесть, — махнул рукой старик, — пусть об этом заботятся хозяева.
— А вы? — удивился Молларт, услышав, что старик так резко отмежевывается от хозяйства, которым ведала дочь.
— Что я, — буркнул Каарел, — я здесь больше за батрака. Кто-то ведь должен работать в поле.
Секунду помолчав, он с горечью добавил:
— Что ж, когда-нибудь могила сравняет бедняка с господином.
Старик сдвинул кепку на затылок, и Молларт увидел, что и при дневном свете голые треугольные виски Каарела напоминают рога.
Старик прищурился на солнце, правый глаз у него слезился и был заметно меньше левого.
— Возьмете у мельничного бугра лодку и поедете вверх по реке, — с шумом проходя мимо Молларта, сказала вернувшаяся с пастбища Бенита.
Молларт хотел расспросить ее подробнее, но Бенита уже хлопотала в хлеву. Вскоре она вышла оттуда, ведя на цепи ревущего быка Мадиса, чтобы отвести его на отаву.
Каарел не стал расспрашивать Молларта, куда тот намерен отправиться на лодке. Снова сдвинув шапку на лоб, старик, не сказав ни слова, удалился.
Молларт чувствовал, что мешает хозяевам. Ни для кого ведь не новость, что гостеприимство эстонца проявляется лишь в тех случаях, когда он сам позовет гостей, высвободит время для праздника, наварит холодца, зажарит мяса, собьет сладкий манный мусс и запасет водки. Чтобы собраться вместе и угостить гостей, нужен серьезный повод — рожденье, смерть или свадьба. В остальное время каждый корпел в одиночку, моля бога, чтоб никто его не потревожил. Не зря же появилось это отвратительное выражение: «незваный гость», ставшее бранной кличкой для всякого, кто ненароком заглянет в дом. Неподатливая и скудная земля не позволяла надолго забывать о ней. Человек должен был непрерывно трудиться в поте лица, чтобы его каменистые поля превратились в цветущие угодья. Земля грозила нищетой, если дневные часы ты проводил в болтовне, перерывы между дождями тратил на свои дела, а редко выдавшуюся погожую неделю пел и плясал.
Молларт жалел, что не имеет официального повода осмотреть животных. Не слишком большое удовольствие клянчить необходимую для работы помощь.
Бенита снова появилась в поле зрения Молларта.
— Возьмите лодку, — спокойно посоветовала она. — Поезжайте вверх по течению. Первый хутор за мостом и будет Лаурисоо. Ошибиться невозможно. Пусть лаурисооские хозяева проводят вас к Элле. Обратно вернетесь тоже на лодке. Тогда и поговорим.
— Спасибо, — коротко ответил Молларт и повернулся, чтобы идти.
Но Бенита уже не торопилась. Она пошла вместе с Моллартом.
— Я провожу вас до мельничного бугра, помогу вам взять лодку, а то вдруг лесные звери напугают вас, — как бы извиняясь, сказала она.
— Лесные звери? — удивился Молларт. — Но ведь сенокос — не дремучий лес, да и вам все равно не защитить меня.
— Нет-нет, все-таки, — стояла на своем Бенита.
— Как хотите, — сказал Молларт и почувствовал, что не может не уступить ей.
— Старая хозяйка Лаурисоо говорит, что смерть забыла ее и нечаянно миновала их ворота. Вы ее узнаете по этим жалобам. А когда придете в Сылме к Элле, держитесь, а то вдруг еще и останетесь там, — смеясь предостерегла его Бенита.
— Она тоже одинокая женщина? — игривым тоном спросил Молларт, надеясь услышать, что Бенита скажет что-то о муже. Но она словно пропустила этот вопрос мимо ушей. Подняв руку, Бенита показала на холм, где краснела спелая рябина, и сказала:
— Вот это и есть мельничный бугор. Когда-то, во времена помещиков, там стояла мельница, теперь остатки плотины затопила вода, только и проку, что можно по камням перейти реку и не промочить ноги.
Бенита легким шагом ступала впереди, и так они дошли до холма. Она протянула Молларту руку, чтобы провести его мимо коварной ямы, на которую падала тень от куста крыжовника. Спустившись с пригорка, они прошли под аркой кустов черемухи и достигли тихой речной излучины, где стояла маленькая лодка. Уцепившись за куст вербы, Бенита нагнулась над рекой, схватила веревку и подтянула лодку поближе к берегу. Молларт долго копошился, залезая в лодку, потом вдруг заторопился, чувствуя, как у него горят уши. Он не решался взглянуть на берег, боясь, что Бенита смеется. Но Бенита, вышедшая из-за кустов с веслами в руках, спокойно стояла возле кочки. Взгляд у нее был скорее грустным, нежели высокомерным.
— Ну и энергии у вас, — с уважением произнесла Бенита, протягивая Молларту весла.
— Это мой долг, — неловко пробормотал Молларт и полушутливо добавил — Ведь и вы не пойдете на вечеринку, если в хлеву у вас жалобно мычат недоеные коровы!
Помахав Молларту, Бенита взбежала на мельничный бугор.
— Попутного ветра! — со смехом крикнула она оттуда.
Гребя одним веслом, Молларт вывел лодку на середину реки и направил ее вверх по течению. Внизу, расставив на камнях ноги, стояла Бенита. Хорошо, что его руки заняты веслами и он не может помахать ей.
7
ем дольше греб Молларт, тем яснее ему становилось, как не хватало в лодке Бениты. Порожистая, с неспокойным руслом река требовала опытного глаза местного жителя, который сумел бы провести лодку там, где следует. В одном месте Молларту пришлось даже чуть-чуть взять назад, так как упавшая в воду береза преградила путь. Но и другим путем оказалось ничуть не легче вести лодку, свободная полоска воды здесь была настолько узкой, что весла задевали за тростник и то и дело поднимали со дна реки ил.
Но мост уже был виден.
Проскользнув под мостом между ледорезами, покрытыми тиной, Молларт услышал над головой стук колес. Судя по звуку — это была не просто обычная телега, подобно тем, что дребезжат по сельским дорогам и мостикам вслед за медленно бредущей лошадью. Одновременно доносились скрип колес, цокот лошадиных копыт, тяжелая поступь скота, хрюканье свиньи и людские шаги. Молларту хотелось поскорее миновать мост, чтобы взглянуть на путников, но здесь, в гуще камней, надо было соблюдать осторожность. Выехав из-под арки, он приподнял голову, но обоз уже скрылся за придорожным кустарником.
За мостом русло реки заметно расширялось. Лес отступил от берегов, и от этого здесь внезапно стало свежо и просторно. Желание уехать, захлестнувшее Молларта, когда он услышал стук колес на мосту, как будто опять утихло. Такому человеку, как он, всегда доводившему до конца задуманное, следовало бы рано утром запрячь лошадь. В то же время он понимал, что надо остаться. Молларт был даже рад этой возможности, представившейся ему благодаря Купидону.
В том, что Бенита дала ему точные координаты, Молларт убедился, когда, поставив лодку рядом с полузатонувшим корытом, вылез на шаткие лодочные мостки и увидел во дворе древнюю старуху.
Старая хозяйка хутора Лаурисоо, завидев постороннего, оперлась дрожащими руками о палку и вперила в него неподвижный взгляд. Видно было, как у старухи дрожат плечи, хотя на ней был жилет из овчины, а под ним — грубошерстная блуза, длинные рукава которой спускались до самых кончиков скрюченных пальцев.
Молларт поздоровался и сообщил, что он ветеринарный врач и хочет осмотреть овец.
Старуха захихикала и, едва шевеля узенькими как ниточка губами, объявила тоненьким монотонным голоском: она-де подумала, что наконец-то смерть пожаловала с другого берега, чтобы посадить ее в лодку и увезти.
— Мой старший сын помер, — сообщила она затем.
— Когда? — испугался Молларт, решив, что в доме траур.
— Позапрошлым летом, — ответила старуха.
— Отчего? — участливо спросил Молларт.
Беспорядок на дворе не оставлял сомнения в том, что на этом хуторе едва ли можно было встретить трудоспособного человека.
— От старости помер, — объявила старуха. Она долго разглядывала незнакомого мужчину, а затем крикнула в сторону дома:
— Эй, Линда!
По скрипучим деревянным ступенькам крыльца во двор спустилась та, которую звали Линдой. Она с царственным спокойствием зашагала по направлению к Молларту, по дороге ступая в коровьи лепешки, клок соломы прилип к ее лодыжке, но ей лень было смотреть под ноги — ее нимало не беспокоило, предстанет ли она перед посторонним мужчиной с чистыми или грязными ступнями.
Молларт стал терпеливо разъяснять ей, зачем он прибыл сюда.
— Ах! — после каждой фразы Молларта вскрикивала женщина. Попросив проводить его к овцам, Молларт вновь услышал тот же взволнованный выкрик, не выражавший ни удивления, ни досады.
Женщина пошла вперед, и Молларт последовал за ней. Он видел ее спину, казалось, что под платьем у женщины, ниже и выше пояса, напиханы булки. Пятки ее напоминали картофелины, серые и неровные, а голые локти в складках — клочок вспаханного поля.
Молларту вдруг вспомнился рассказ одного немецкого офицера, исколесившего Эстонию вдоль и поперек. Им, мол, говорили, что Эстония так же хороша, как Европа. Но нигде в деревне он не встретил крашеных домов, даже по оконным рамам никто не удосужился пройтись кистью, не говоря уже о том, что и люди показались ему тупыми и неопрятными.
Молларт грустно улыбнулся и взглянул на окна длинного хозяйского дома. Иные из них были завешены тряпьем, иные стояли голые, а одно окно закрывала полосатая лошадиная попона, повешенная углом, очевидно, эта комната служила спальней.
Две лаурисооские овцы паслись на привязи у реки.
Линда, женщина неопределенного возраста, стояла как вкопанная, пока Молларт осматривал овец. Он долго и основательно изучал животных, щупал у них сухожилия и железы, сгибал и разгибал им ноги, исследовал слизистую оболочку.
Само собой разумеется, он привык к тому, что хозяева животных присутствовали при осмотре, во всяком случае при заключении, которое он выносил. В большинстве своем они старались помочь ему — утихомиривали скотину или припоминали что-то еще, связанное с заболеванием животного. Впрочем, чаще они мешали, чем помогали. Однако сейчас Молларт чувствовал, что его гораздо больше раздражают безучастность и безразличие этой женщины. Впрочем, что с нее взять, раз бог умом обделил.
— Выкидыш был у обеих овец? — спросил Молларт.
— Ах! — пробормотала женщина.
В конце концов, оставив овец в покое, Молларт отправился к реке, вымыл руки, затем не спеша вернулся к женщине, посмотрел в ее невыразительные глаза и сказал:
— Овцы больны. Это заразный выкидыш, бруцеллез или болезнь Банга.
— Ах! — услышал он в ответ.
— Овец придется прирезать, постарайтесь раздобыть себе для этого дела перчатки. Солому, на которую положите овец, надо будет уничтожить. Внутренности сожгите или закопайте поглубже в землю. После этого тщательно вымойте руки.
Молларт говорил медленно, словно нанизывая слова в ряд. Он был уверен, что его наставления не доходят до женщины, и это его беспокоило.
— Кустас поможет, — услышал наконец Молларт и обрадовался, что хозяйка Лаурисоо заговорила.
— Вы все запомнили, что я сказал? — настойчиво спросил Молларт.
— Ах, — снова пробормотала женщина, и ее лицо вдруг задрожало от беззвучного смеха. — Я давно говорю старухе — надо кончать с ними. Хоть мясо будет, раз ягнят не получилось, чего зря держать. Шерсти нам не надо, полный мешок в амбаре стоит, так и так некому чесать ее и прясть. Старуха плохо видит.
Молларт взглянул на овец. Давно не стриженные животные были все в колючках репейника.
— Мясо можете употреблять в пищу, только прежде его надо как следует проварить.
Молларт хотел еще добавить, что надо бы почистить овечьи ясли, но промолчал. Хлев на этом хуторе, вероятно, настолько грязен, что едва ли кто возьмется пошевелить там пальцем до тех пор, пока к весне животные не начнут подпирать спинами потолок.
Обратно они побрели той же дорогой. Линда впереди, врач следом за ней.
Однако известие о том, что овцы больны, все же слегка встревожило Линду.
— Старуха все требовала — случи да случи, — ворчала она. — Очень надо было вести их в Рихву, а потом отрабатывать Бените за удовольствие, доставленное ее Купи. Ведь можно было уже весной заколоть овец. Это все старуха — иди да иди. Она всю жизнь с ума сходит по овцам, сама дрожит на холоде, вот и копит овчину на шубу да жилеты и куртки.
Линда так и не поняла, что ее овцы заразились бруцеллезом от Купидона. Молларт почувствовал облегчение, во всяком случае из-за овец лаурисооская хозяйка не станет относиться к Бените враждебнее, какие бы там отношения между ними ни существовали.
Старуха по-прежнему расхаживала по двору. Линда, грузно ступая, вошла в дом — дощатые ступеньки прогибались под ее тяжестью.
— Ты хотел знать, отчего помер мой сын? — остановила Молларта старуха. — От старости помер, — повторила она своим тоненьким как ниточка голоском.
Линда снова выползла на двор, держа в каждой руке по три грязных куриных яйца.
Молларт смутился. Но выражение лица у Линды было приветливое, и он не решился обидеть ее отказом.
— Ах, — воскликнула Линда, когда Молларт объявил, что должен наведаться еще и в Сылме.
Приоткрыв рот, Линда подумала и сказала:
— Пройдете через клеверное поле, минуете перелесок и будет Сылме.
Молларт удивился: неужели, чтобы сказать это, ей надо было так долго раскачиваться?
Кивнув женщинам, он пошел в указанном направлении. Распихав яйца по карманам, Молларт ощупал сквозь материю свою хрупкую ношу, не хватало еще, чтобы какое-нибудь яйцо разбилось и испачкало пиджак.
8
ойдя до перелеска, Молларт вынул из карманов яйца и положил на мох. Спрятав их, он усмехнулся, конечно, это ложный стыд, но вдруг при виде набитых карманов кто-нибудь сочтет его жуликом, дескать, бродит тут вокруг с важным видом, осматривает овец, не иначе как зарится на легкий заработок.
Во дворе хутора Сылме, огороженного елями, навстречу Молларту выбежал молодой гончий пес. Обнюхав брюки незнакомца, пес залаял и помчался к крыльцу, указывая дорогу. С двух сторон двери, обсаженные астрами, возвышались пирамиды хмеля, и каждая из них казалась как бы отражением другой. Войдя в сени, Молларт почувствовал запах воска. Он постучал в одну из смежных дверей, которая, по-видимому, вела на кухню.
За столом у окна просторной кухни сидела сылмеская семья.
Молларт поздоровался, пожелал приятного аппетита, на что услышал сразу из трех ртов «спасибо», и объяснил, зачем он пришел.
Из-за стола быстро выскочила молодая женщина, вероятно, это и была хозяйская дочь Элла, от которой его предостерегала Бенита, подбежала к кухонному буфету и, вынув оттуда кружку и тарелку, поставила на стол. Мать Эллы одобрительно следила за дочкиными хлопотами. Пригласив Молларта к столу, хозяйка пододвинулась к окошку, чтобы гостю было просторнее.
Молларт, почувствовав вдруг, что и в самом деле голоден, взял протянутый ему хлеб и поглядел на пододвинутые к нему тарелки с глазуньей и нарезанной ломтями ветчиной, выбирая, что бы такое положить себе.
— Ах так, значит, вы остановились в Рихве, у Бениты, — промолвила хозяйка.
— Рихву видать с дороги, а к нам кто догадается завернуть, — с сожалением заметила Элла и чуть заметно улыбнулась, стараясь, чтобы верхняя губа не обнажила уродливо выдающиеся вперед зубы. Вообще-то Эллу с ее здоровым цветом лица и жизнерадостным взглядом нельзя было назвать дурнушкой. Молларт в душе посмеялся над собой, что это на него нашло в последнее время, с каких пор он стал таким ценителем женщин! Приехал он сюда смотреть овец или хозяйскую дочь? Чья-то рука заботливо налила Молларту вторую кружку молока, кто-то пододвинул к нему тарелку с медом и посоветовал намазать хлеб маслом, а уже сверху медом. Он ел с аппетитом, прикидывая в уме, сколько у него в запасе сигарет и можно ли позволить себе роскошь закурить после еды.
Если еще утром Молларт с негодованием вспоминал злое выражение «незваный гость», то сейчас, сидя за столом на этом хуторе, вынужден был отбросить подобные обобщения. Покончив с едой, Элла приветливо посмотрела на гостя, старая хозяйка принялась снова угощать его, чтобы гость-де как следует подзаправился, а хозяин, пошарив на подоконнике, вытащил оттуда пачку сигарет.
Молларт поблагодарил и, закурив, снова повел разговор об овцах.
— Успеется с этим! — воскликнула Элла.
— Куда вам торопиться, — добавила хозяйка.
Похоже было, что работа хозяев не подгоняет. Их интересовали новости на фронте, но у Молларта не было последних сведений. Он уже много дней как в пути, газет не видел, к тому же он не принадлежал к числу тех, кто при каждом удобном случае делает прогнозы на будущее. Направляется он к морю и пришел к этому решению не за одну ночь, однако ни малейшего желания распространяться о себе и о своих взглядах он не испытывает.
— Оно конечно, — заговорил хозяин, — мы тут живем в лесу, далеко от дороги. Когда в сорок первом русские ушли, мы узнали об этом спустя много дней. Теперь тоже можем проспать, когда господа немцы начнут драпать домой. Мы тут ни с одной властью в ссоре не жили. Даже те нормы, что нам немцы установили, и то с грехом пополам вытягивали. У нас-то у самих пахотной земли всего-навсего пять гектаров — картофель посадим, немного вики или овса посеем, да клочок земли идет под ячмень. Зерно для хлеба в деревне покупаем. Кто откажется продать взамен на мед. Ну и кур держим десятка два. Зато ни у кого в округе нет такого яблоневого сада, как в Сылме. Мой товар в эстонское время прямо на таллинский рынок шел. Не говоря о Пярну. Господа из Швеции, ездившие туда загорать, вдоволь полакомились сылмеским медом.
Рассказ старика вызвал у женщин одобрительный смешок, а Молларт кивнул:
— Вы неплохо устроились.
— Не жалуемся, — согласился хозяин. — А иной, глядишь, работал как вол, прямо из кожи лез, всю норму хлеба сдавал до последнего килограмма, лишь бы получить несколько талонов и купить на них сапоги, одежду или чего-нибудь по хозяйству. Наши женщины любую льняную или шерстяную ткань соткут да еще ковры и прочие красивые вещи для дома. И в искусственном удобрении мы не нуждаемся, как иные, навоза в хлеву хватает, чтобы свою землишку удобрить и урожай снять.
Молларт давно уже не встречал людей, от которых веяло бы таким благополучием и довольством, какое исходило от хозяина Сылме.
Воспользовавшись возникшей паузой, Молларт встал из-за стола. На лице Эллы мелькнуло разочарование, но она тут же взяла себя в руки.
— Что ж, пойдем посмотрим овец, — промолвила Элла и накинула на плечи вязаную кофточку. Ведя Молларта через гумно в сад, она не переставая тараторила:
— Дедушка в свое время построил гумно, а кому оно теперь нужно. Он хотел расширить поля, а отец стал садовником и пчеловодом, я тоже думаю, что это гораздо правильнее. И женщинам легче, — расхохоталась она, заглядывая Молларту в глаза.
Они шли фруктовым садом, мимо собранных в кучи паданцев, и Элла сочла нужным пояснить:
— В этом году яблок девать некуда. Кто станет в такое неспокойное время возить их отсюда? Свинья наедается до отвала.
Элла свернула с дорожки в сторону, подбежала к одной из яблонь и, встряхнув ее, воскликнула:
— Я больше всего люблю требо. Идите сюда, попробуйте! Или вам больше нравится марципан? — спросила Элла, едва Молларт успел надкусить яблоко. — Еще у нас много ранета, зато грушовки в этом году уродилось мало, сколько-то есть белого налива! Антоновка еще не поспела.
Элла ходила вокруг яблонь, трясла их, хотя в траве валялось достаточно паданцев, и, собирая яблоки в подол передника, предлагала Молларту попробовать, без конца что-то объясняя.
Сылмеское изобилие и чрезмерная приветливость Эллы начали тяготить Молларта. Он подумал о своем хромом мерине, который ждет не дождется его на рихваском выгоне, и о Бените, невольно сравнивая ее с сылмеской барышней.
— Вы знаете, тартуские розовые особенно хороши на рождество. Отец приносит тогда из подвала крыжовенное вино, и оно золотится, как мед. Если вам доведется быть на рождестве в наших краях, милости просим к нам, — сказала Элла, снова подходя к Молларту.
Молларт чувствовал, что Элла своей болтовней парализует его мысли. Он с трудом удерживал презрительную усмешку, так и просившуюся на его лицо.
Овцы, пасущиеся где-то поблизости, казалось, находились на недосягаемом отсюда расстоянии.
Наконец, когда они выбрались из сылмеского райского сада, Элла заставила Молларта еще раз остановиться — на этот раз у изгороди из орешника. Хозяйская дочь стала почти насильно запихивать гроздья орехов Молларту в карманы, смеясь над самым его ухом. Он отодвинулся, ему почему-то показалось, что откуда-то из-за куста за ним подглядывает Бенита и посмеивается в кулак.
— Одно время отец заставлял меня идти учиться в университет, — начала рассказывать Элла. — А я и говорю ему: «Дорогой папочка, ты — мой профессор, и всем премудростям я научусь дома». Отец со мной согласился. Мать тоже радовалась, что я осталась дома, нам с ней хорошо, зимними вечерами мы рукодельничаем, ведем всякие разговоры. Иной раз, когда мне взгрустнется, мать скажет: «Пригласи молодежь из деревни, освободим комнату, потанцуете всласть». Раньше и Бенита приходила сюда со своим Йоссем, а теперь ее словно подменили, как будто я хочу отбить у нее Йосся! — рассмеялась Элла.
Молларт, решив воспользоваться словоохотливостью хозяйской дочери, спросил:
— А где сейчас муж Бениты?
Элла вдруг замолчала.
— Не знаю, — через некоторое время неловко пробормотала она.
Еще раз смерив Молларта недоверчивым взглядом, она молча пошла впереди. В конце концов они дошли до маленького, огороженного плетнем выгона, где паслись овцы.
Все было так, как и предполагал Молларт. У двух слученных с Купидоном овец, насколько осмотр позволил определить, оказались симптомы бруцеллеза. Прошлогодний окот, два молодых барашка, с виду были здоровы. Возможно, конечно, что и они заражены, но так как внешних признаков не наблюдалось, сказать определенно, что они больны, было нельзя.
Молларт рассказал Элле все, что счел нужным, о бруцеллезе, посоветовал привязать молодых овец где-нибудь в другом месте и не пускать нынешним летом других животных пастись на выгон.
Элла послушно кивала, почесывая выбракованных овец за ухом, затем грустная и молчаливая побрела рядом с Моллартом обратно к дому.
— Торопитесь! — крикнула им из ворот гумна раскрасневшаяся от плиты старая хозяйка. — У меня блинчики поспели.
9
а этот раз стол был накрыт в комнате. Молларт считал неудобным осматриваться вокруг, но искушение взглянуть на помещение, в котором он находился, было так велико, что Молларт поддался ему — одного беглого взгляда было достаточно, чтобы получить общее впечатление. Комната показалась ему неестественно разноцветной. Всю ее загромождали всевозможнейшие вышитые, связанные и сотканные дорожки, подушки, стенные и обычные ковры, подле умывального столика висели полотенца с красными монограммами, на тумбочках перед окнами пышно цвели аспарагусы, а в углу на комоде стояли вазы из цветного стекла.
Элла с довольным видом смотрела через стол на Молларта. Странно, но хозяйская дочь тоже показалась ему вдруг разноцветной. Пунцово-красные щеки, волосы цвета соломы, а на шее синеватая тень. От света, падавшего сквозь аспарагусы, глаза у нее казались зеленоватыми.
Молларту почему-то вспомнилась прочитанная им когда-то антропологическая характеристика эстонской женщины, кое-какие пункты которой, касающиеся коренастости, скуластости, пшеничного цвета волос и низко посаженного пупа, заставили его грустно усмехнуться.
От Эллы, усиленно потчевавшей его, Молларт услышал пространные объяснения по поводу поданных на стол сортов варенья. Элла с вдохновением поведала ему и о вине, хотя на бутылке и без того можно было прочитать, что вино это урожая тридцать восьмого года, то есть шестилетней давности.
— А как овцы? — ввернула хозяйка.
Элла рассказала, как обстоят дела, и на какой-то миг ее глаза затуманились грустью.
— О, господи! — горестно воскликнула хозяйка. Молларту вдруг подумалось, что с его стороны бессовестно пользоваться гостеприимством сылмеских хозяев, как-никак, а ведь это из-за него они терпели неприятности и урон.
Но люди в Сылме были не настолько мелочны и ограниченны, чтобы обвинять в чем-либо гостя.
— А что, если Бенита нарочно дала распространиться этой страшной болезни, заразила весь скот в деревне? — вдруг выпалила хозяйка.
— Да, да, Бенита коварна! Бессовестная, за случку заставила нас отрабатывать на рихваских полях, — злорадно произнесла Элла, и ее и без того разноцветное лицо пошло пятнами.
— Не может быть! — постарался успокоить женщин Молларт.
— Э-э! — Элла, словно защищаясь, протянула вперед левую руку. — Вы не знаете, потому что не знакомы с Бенитой.
— Эта женщина все рассчитает наперед, — подтвердила хозяйка. Вы не знаете Бениты.
— Она же не ветврач, чтобы распознать болезни, — в свою очередь попытался утихомирить слабый пол хозяин Сылме.
— Вся деревня смеется над ней, — желчно сказала Элла. — Говорит по-английски, каждый день плавает в реке, всякий стыд потеряла. Раздобыла у немцев седло и теперь разъезжает верхом, словно помещица какая.
— А как Бенита стала хозяйкой Рихвы! — воскликнула хозяйка и поближе наклонилась к Молларту. — Соблазнила Йосся. Когда забеременела, у того не оставалось выхода. Старая Минна всегда говорит: «И каким только зельем Бенита опоила Йосся, чем так приворожила его к себе».
— У Бениты и приданого никакого не было, если не считать ребенка, — хихикнула Элла.
Гость встал, даже не допив вина. Поблагодарив хозяев, он объявил им:
— Определить бруцеллез довольно трудно. Не стоит обвинять хозяйку Рихвы. К тому же ни один разумный человек не станет держать животное, болезнь которого может быть опасной для человека. В последние годы распространилось чертовски много всяких болезней. Ничего удивительного, никто о стране не заботится, больницы в руках у военных, лекарств не хватает. Даже представить себе невозможно, как снова навести порядок в доме, чтобы покончить с эпидемиями и заразными заболеваниями.
Молларт умолк, удивляясь про себя, что нападки на Бениту так больно задели его и вынудили быть столь многословным. Чтобы придать сказанному больше веса и таким образом защитить Бениту, Молларт счел необходимым добавить:
— Я работал раньше в Государственном институте сыворотки. В Тарту. В прошлом году его закрыли, а оборудование увезли в Германию.
Молларту было смешно смотреть на пунцовое лицо Эллы, отразившее глубочайшее сожаление.
— Посидите еще, — предложила хозяйка, прервав томительную паузу. — Вам ведь не к спеху.
— Все-таки! — ответил Молларт. — Мне надо заскочить еще на один хутор. Хозяйка Рихвы обещала проводить меня.
— Значит, на Веэрику? — предупредительно спросила усмиренная хозяйка. — Они тоже случили свою овцу с рихваским бараном. Зачем вам делать крюк через Рихву, гораздо проще переехать реку у Лаурисоо, а там уж и рукой подать. Элла пойдет с вами, покажет дорогу, — кивнула она головой на дочь.
Едва они с Эллой вышли на двор, как молодая гончая с радостным визгом кинулась им навстречу.
— Пошли! — позвала пса Элла.
Остановившись у изгороди, Элла резко повернулась лицом к дому, так что юбка ее при этом поднялась.
— Не забывайте нас! — сказала она.
Элла изо всех сил старалась улыбаться как можно завлекательнее, но Молларт смотрел в сторону.
Чуть-чуть попетляв под деревьями, пес умчался по тропинке далеко вперед. У ельника он остановился и залаял.
Элла побежала взглянуть, что так разволновало пса.
До слуха Молларта донесся ее звонкий смех.
— Представьте себе! — пронзительно закричала сылмеская хозяйская дочь, хлопая в ладоши. — Лаурисооским курицам осточертела их мерзкая дыра, и они решили нестись в лесу. — С этими словами Элла собрала с мха лежавшие там яйца.
Молларт старался придумать что-нибудь на тот случай, если Элла вздумает отдать эти яйца Линде.
— Знаете, — защебетала Элла, — девушкой эта Линда была аккуратной и проворной. А как только ушла из дому и выскочила за лаурисооского Кустаса, настолько обленилась, что иначе как ухватом ее и не поднять. Минна всегда раньше говорила: «Лучше бы Йоссь взял Линду», — ну теперь-то она на этот счет молчит. Впрочем, и Бенита не стала для нее из-за этого лучше.
Едва они ступили на лаурисооский двор, как Элла громогласно заявила старухе, которая в ожидании смерти глядела вдаль, что Линдины курицы несутся теперь в лесу.
Старуху ничуть не смутила эта новость. Взяв у Эллы яйца, она, отведя руку назад, положила их на дно опрокинутой бочки, затем замахнулась палкой на пса, который и не думал кидаться на нее и даже не лаял.
Молларт кивнул старухе и поскорее залез в лодку.
Элла прыгнула вслед за ним и, прежде чем он успел занять место, сама села за весла. Молларт пристроился на корме, с такой, как Элла, не имело смысла спорить. Кроме того, он отнюдь не стремился показаться Элле более мужественным.
Отъехав немного от Лаурисоо, Элла запела.
— Там, где плещут балтийские волны… — выводила она, глубоко заглядывая Молларту в глаза.
Молларт достал из кармана предпоследнюю сигарету и сунул ее в рот. Он довольно долго возился, чиркая спичками, а потом, не посчитав это за невежливость, стал разглядывать берега в то время, как молодая женщина пела. Элла не переставая выводила трели, да и почему бы ей не петь — слова знакомые и песня звонкая. Молларт со страхом подумал, что после того, как они побывают в Веэрику, ему придется доставить Эллу назад в Лаурисоо, помочь ей сойти на берег и только тогда…
Снова мыслями Молларта завладела Бенита. И надо же было Купидону попасться ему на глаза.
Но Молларту не пришлось побывать на Веэрику. Случилось так, что хозяйка Веэрикуского хутора сама повстречалась им в ольшанике. Услышав про овец, она удивилась и сказала, что их больную овечку еще на прошлой неделе на всякий случай закололи. Говорят, Бенита сама рылась в книгах, предполагая, что у Купидона бруцеллез, так чего же она теперь заставляет господина доктора зря бегать по деревне! Может быть, хозяева Лаурисоо и Сылме еще не знали об этом, хотя Бенита обещала предупредить их. Хворь эта будто бы опасна и для человека.
Элла расхохоталась. Обнажив зубы, она сложила руки под грудью, и от смеха на ее глазах невольно выступили слезы.
Молларт усилием воли сдержался и поблагодарил хозяйку Веэрику.
Распрощавшись с этой самоуверенной женщиной, которая едва кивнула им, Элла с Моллартом сели в лодку. Хозяйка Веэрику какое-то время смотрела на них через плечо, и Молларту показалось, что он увидел на ее лице презрительную усмешку. И хотя Элла беспрестанно и многозначительно хихикала, Молларт думал только о хозяйке Рихвы. Он не мог дождаться минуты, когда наконец отделается от Эллы.
Молларта тянуло в Рихву. Ему хотелось как можно скорее снова увидеть эту странную Бениту.
Он как будто и забыл, что Бенита подвела его…
10
енита, начищавшая возле колодца молочные бидоны, вся напряглась, увидев Молларта.
— Ну как, живы-здоровы? Корыто не перевернулось? В камышах не застряли? — крикнула она ему. За каждым ее вопросом следовал короткий нервный смешок.
Молларт не ответил. Подойдя к Бените, он стал смотреть, как она трет тряпкой с песком горлышко молочного бидона — руки ее от холодной воды опухли и покраснели.
— Линду Лаурисоо видели?
Молларт кивнул.
— Знаете, что сделала Линда, когда ее вызвали в волостное правление за невыполнение норм по сдаче яиц? Она вам не рассказывала? Явилась к заведующему сельским хозяйством с курицей под мышкой, кинула ее на стол и говорит: «Сами, мол, выньте из нее яйца, меня-то чего терзаете!»
Молларт не засмеялся.
Глаза у Бениты стали настороженными.
— А как Элла? Место зятя не предложили? Приданого не показали? У нее привычка перед каждыми штанами открывать сундуки и вытаскивать оттуда все свое добро. Не может же не ошеломить человека такое богатство! Одних только шелковых одеял у нее шесть или семь, пуховых подушек и постельного белья дюжинами. Даже воротник из опоссума есть. Правда, в деревне говорят, что моль за это время проела в нем ходы.
Бенита, смеясь, закинула голову. Она с грохотом швырнула крышку на вымытую посудину и ополоснула в корыте руки. Затем сняла с гвоздя на стене конюшни жестяную трубу с воронкой, подставила ее под носик насоса и принялась качать воду из колодца в бочку.
— Разрешите, — неуклюже пробормотал Молларт. Бенита отодвинулась, и Молларт, опершись больной ногой о низкий колодезный сруб, принялся за работу.
— Элла не изображала Еву? Не предлагала яблоко с дерева? — спросила Бенита, пряча озябшие руки под мышки.
— Почему вы такая злая?
— Да нет, — уклонилась от ответа Бенита. — Просто неважный характер. Вот Элла, она со всеми ладит, даже койгиский Арвед со всеми своими потрохами у нее в руках.
Молларт пристально посмотрел на Бениту.
— Впрочем, откуда вам знать, кто такой койгиский Арвед, — смущенно произнесла Бенита. — Право, я, как настоящая деревенская женщина, думаю, что мир кончается там, где кончается лес, потому что за лесом у нее нет ни одной знакомой семьи. Что же касается Арведа, то он — баловень судьбы. Он — единственный в нашей деревне имеет собственную молотилку. Щедр на обещания. Я созывала трижды из-за него работников на толоку, готовила еду-питье. На четвертый раз соблаговолил прибыть. С ним даже такой нетерпимый человек, как я, не в силах поссориться.
— В Сылме молотилка ни к чему, там хлеб не выращивают, — усмехнулся Молларт и отошел от насоса — бочка уже до краев наполнилась водой.
— Койгиский Арвед ведает сельским хозяйством в нашей деревне, — пояснила Бенита. — За хорошее вознаграждение его легко… — Бенита недвусмысленно рассмеялась, — одним словом, его легко купить. Сократит норму лесопоставок или подвозки гравия, зажмурит один глаз, когда зайдет разговор о количестве скота, ну и вообще…
— Я также видел хозяйку Веэрику, — прервал Молларт Бениту. Глаза ее тотчас же сузились.
На дворе появился Купидон. Он понуро брел меж хуторских построек, боднул стиральное корыто, прошелся перед носом у собаки и несколько раз скакнул, чтобы попугать куриц. Затем подошел к колодцу и с любопытством оглядел Молларта и Бениту. Вытянутые вперед, словно для поцелуя, губы барана делали его очень похожим на человека, настороженные глаза смотрели умно. Обойдя вокруг Молларта и Бениты, Купидон направился к лестнице, которая вела на сеновал, и стал подбирать упавшее из люка сено.
— Купидон окольцевал нас, — серьезно сказала Бенита.
— Как нам выбраться из этого кольца, — пробормотал мужчина и улыбнулся.
— Купидон понимает, что конец его близок, — с грустью сказала Бенита, избегая взгляда Молларта.
— Хорошо, — решительно сказал Молларт, — спасибо за ночлег, мне пора, я уже и так…
— Я прошу вас, — заволновалась Бенита, — будьте так добры, осмотрите заодно и наших лошадей.
— Может быть, вы сами знаете, что с ними? — нелюбезно произнес Молларт.
— Не совсем точно, — не дала сбить себя с толку Бенита. — Мерина, что помоложе, мучает лишь лень, а старый действительно беспокоит меня. У него астма. Посмотрите, пожалуйста. Отец как раз привел лошадей с пастбища в конюшню. Я ждала вас, надеялась, что вы не откажете. Мне жаль старого мерина, он так отощал.
В дверях конюшни на Молларта пахнуло сухим теплом.
— Вот тот, светлый, — показала Бенита на буланого мерина. — Когда-то ходил под седлом, привык к легкой жизни. До сих пор дурные замашки у этой бестии, никак не хочет образумиться. Попробуй-ка поймать его в поле, если нет с собой хлеба! Иной раз отец хватал с земли конское яблоко и протягивал ему. Теперь мерин не доверяет, правда, подойдет поближе, вытянет шею и понюхает, что у тебя в руке. Особенно артачится во время сенокоса, не по нраву ему в жару шагать перед косилкой. Пойдешь, бывало, утром за ним, а он забьется в кустарник, что на краю пастбища, зовешь его, зовешь, осипнешь вся — ни в какую не идет. Овес есть — тут у него прыти хоть отбавляй, и гулять любит зимой.
Бывшая верховая лошадь скосила глаза на Бениту и запряла ушами, словно рассердись на нелестный отзыв о ней хозяйки.
Бенита провела ладонью по крупу мерина и подошла ко второй лошади.
— Ох ты, болтушник мой, — сказала она гнедому мерину.
Молларт тоже подошел поближе и встал с другого бока мерина. Поверх черной гривы мерина ему видны были глаза Бениты.
— Никто его без корма не оставлял, да и работой не перегружал, а ребра торчат, делай, что хочешь. Ничего удивительного, овес и сено он есть не может, как только пыль попадет в горло, начинает задыхаться. Вот и делаю ему болтушку из муки и картошки, как поросенку, хотя кормить рабочее животное таким пойлом вроде бы и стыдно. Хороший характер у него, послушный, работяга, не упрямится. Как позовешь, подходит и хлеба не требует, с понятием лошадь. Как-то я везла сено с острова на реке и вдруг, только мы выбрались на берег, воз накренился, сама я успела спрыгнуть и никакой беды не случилось. А понеси лошадь, воз опрокинулся бы и все сено уплыло бы вниз по течению. Но она терпеливо стояла на месте, пока я бегала за подмогой. Этого мерина я со спокойной душой могла оставить одного. У него ума побольше, чем у иного человека.
Бенита нашла в кармане краюху хлеба и на ладони протянула ее гнедому. Для буланого это не прошло незамеченным, и он потерся губами о локоть Бениты, тоже требуя лакомства.
Бенита улыбнулась.
Она словно забыла, что привела врача на конюшню для того, чтобы он определил болезнь гнедого и дал совет.
— Вы считаете, что Купидона надо прирезать? — внезапно спросила она Молларта.
Молларт увидел в глазах Бениты тревогу и, помедлив, ответил:
— Лечить нечем. Купите вместо него в деревне племенного ягненка, — посоветовал он.
— Я не могу убить Купидона, — грустно проговорила Бенита. — Это очень трудно.
— А разве отец ваш не справится? — удивился Молларт.
— Нет-нет, вы меня не так поняли, — улыбнулась Бенита и ничего больше не добавила.
— Бенита! — послышалось в дверях конюшни. Это была старая хозяйка Минна. Она смерила Молларта подозрительным взглядом, и его вдруг охватило смутное чувство вины. Он заметил, что и Бенита смутилась.
«Последний срок убираться отсюда», — подумал Молларт и, прихрамывая, вышел вслед за женщинами во двор, яркий дневной свет, ударивший в глаза, заставил его зажмуриться.
В доме хлопнула дверь, и Молларт остался один. Над хутором стояла та же призрачная тишина, что и в день его приезда. Ему казалось, что он пробыл в Рихве целую вечность, хотя с момента его прибытия прошло не больше суток. Молларт медленно поплелся на выгон за лошадью, хотя безмолвие, стоявшее на рихваском дворе, казалось зловещим и торопило поскорее покинуть эти места. В самом деле, давно пора уходить отсюда, но что-то удерживало его. Превозмогая себя, Молларт все же в конце концов запряг лошадь, и телега покатилась к сараю. Здесь Молларт остановил своего хромоногого.
Нельзя же было вот так взять и исчезнуть отсюда.
Медленной, нерешительной походкой к сараю приближалась Бенита. Когда она подошла, Молларт заметил, что хозяйка Рихвы переоделась. На ней было синее вязаное платье, на ногах в такт шагу хлябали неуклюжие туфли с национальным орнаментом, выжженным по краю деревянных подметок и каблуков.
Молларт, прощаясь, протянул руку, но Бенита прыгнула на мешок с сеном и сказала:
— Раз извозчик даровой, хочу прокатиться. Мне надо на Веэрику.
Молларт тронул вожжи. Не будь мерин хромым и не будь у него изуродовано копыто, Молларт пустил бы его галопом.
— Что, если набраться смелости и махнуть вместе с вами к морю, — грустно произнесла Бенита.
Молларт не ответил. Когда Бенита повернулась к нему лицом, он улыбнулся и опустил веки, выражая этим свое согласие.
— Порой я не могу найти покоя, — сказала Бенита. — Хочется куда-то идти. Хочется вырваться из тисков повседневных дел. С утра до вечера верчусь вокруг свекровки, точно в заколдованном кольце, и глотаю ядовитую коричневую пыль чертовой табачницы, этого поганого гриба, которая летит, чуть тронешь его. И так изо дня в день.
Надо было что-то ответить, но ничего подходящего не шло Молларту на ум.
— Вот это и есть женская доля, — пробормотала Бенита. — Доишь коров, кормишь свиней, стрижешь овец, ткешь на станке и растишь детей. Во время войны пашешь поля неизвестно во имя чьей победы, ходишь с саженью и берешься за рукоятки плуга, если больше некому. Гнешь спину в картофельной борозде, весной выращиваешь капустную рассаду в парнике, а как выдается свободная минутка — стираешь в щелоке белье. Топчешься на своей узкой тропке, и твои руки, точно крылья какой-то земляной мельницы, без конца перемалывают эту заросшую бурьяном комковатую почву, чтоб можно было засевать ее. Мокнешь на дожде и стынешь на ветру, с каждым днем все больше прибавляется у тебя седых волос, и ты удивляешься, для чего человеку дан разум, если он им почти не пользуется. За годом идет год, и все они похожи один на другой. Лицо становится дряблым, руки становятся дряблыми. И остается лишь смутная мечта, как светлое облачко, и в этой мечте ты в холщовой юбке среди белоголовых детей, с барашком Купидоном на руках. Но это отнюдь не твоя собственная мечта, а простодушное представление о хозяйке легендарного эстонского хутора, которое тебе еще в школе вдолбили в голову.
Бенита рассмеялась, словно все это было сказано ею в шутку.
Неожиданно — Молларт даже испугался — она на ходу соскочила с телеги и, став посреди пыльной ухабистой дороги, медленно подняла руку и помахала ему.
Молларт не остановил лошади. Он обернулся через плечо назад — Бенита все еще стояла на том же месте, затем она повернулась и побрела к дому. Она так и не пошла в Веэрику..
11
одойдя к калитке, Бенита рассеянно посмотрела на изгородь, скользнула взглядом по дорожкам, темными лучами расходившимся от крыльца жилого дома к амбару, хлеву, конюшне и колодцу, взглянула наверх, на свитые под стрехой ласточкины гнезда, и долго разглядывала железное кольцо, вбитое в бревенчатую стенку хлева над фундаментом. К этому кольцу привязывали коров, когда жители деревни приводили свою скотину на случку с быком Мадисом.
Надо бы убрать картофель. Минна и так все утро ныла, извела всех. Но Бенита с легкостью отбросила мысль о неотложной работе. Совсем иной план зрел в ее голове.
Резким толчком Бенита отворила калитку. Вбежав в дом, она стала тут же у вешалки переодеваться.
Сорвав с себя синее вязаное платье и скинув выходные туфли на деревянной подошве, Бенита влезла в неуклюжие резиновые сапоги. На какой-то миг она покачнулась, теряя равновесие, затем сняла с вешалки выцветший халат и, надев его, завязала концы пояса за спиной крепким узлом. Волосы Бенита собрала в пучок и подняла на затылок, свободной рукой сняла с крючка старую мужскую шляпу, стряхнула соринки, оставшиеся на ней еще с поры сенокоса, и надела на голову.
Схватив со скамьи две пары покорежившихся брезентовых перчаток, Бенита выскочила из двери.
Отца она нашла за амбаром — он чинил корзинки. Уже на многих старых, потемневших от земли корзинах белели новые донышки.
— Отец, — взволнованно сказала Бенита, — пойдем прирежем Купидона.
— Чего это тебе так загорелось? — удивился старик и исподлобья посмотрел на дочь.
— Давай сразу, — скомандовала Бенита. — Старухи и Йосся не видать, сейчас самое время.
— Нет, у меня рука не поднимется, — покачал головой старик.
— Тогда поможешь держать, — нетерпеливо отрезала Бенита.
И пошла.
Старик нехотя поднялся с чурбана и вышел из-за амбара на двор.
Бенита тем временем подтащила скамью к навесу, где лежал торф. Затем побежала к стогу соломы и выхватила оттуда целую охапку.
— Неси нож из амбара, — крикнула она старику.
От Бенитиной беготни взад-вперед калитка ни на минуту не закрывалась, раскачиваясь из стороны в сторону, подобно маятнику. Чего-то все еще не хватало: то она забыла на крыльце перчатки, которые захватила в сенях, то надо было найти подходящее ведро, чтобы выпустить в него кровь. В конце концов со всеми приготовлениями было как будто покончено. Каарел вращал перед конюшней точило, натачивая нож.
И только Купидона нигде не было видно.
Бенита обошла вокруг дома, сбегала на дорогу, по которой гоняли скот, заглянула на отаву, приоткрыла дверь конюшни и осмотрела каждый уголок в хлеву. Все быстрее носилась Бенита по двору и вокруг хутора. Но поиски ни к чему не привели.
Каарел сидел перед амбаром, положив рядом с собой нож, и попыхивал самосадом.
— Оставь свою затею, — пытался он урезонить дочь.
Но слова отца только еще больше раззадорили Бениту.
Скинув мешавшие ей резиновые сапоги посреди двора, она босиком побежала по усадьбе. В глубоко надвинутой на лоб шляпе, в выгоревшем халате, который она в спешке не застегнула до конца, Бенита носилась, сверкая загорелыми ляжками.
Все, что было возможно, она осмотрела. Оставался еще только погреб, находившийся за огородом, в стороне от хуторских построек, рядом с заброшенной баней.
Бенита продралась сквозь заросли сирени, перепрыгнула через грядки с капустой и, закрыв рукой глаза, бросилась прямо в кусты вербы, разросшиеся за последние годы перед заброшенной баней.
Купидон стоял на покатой крыше бани и, словно что-то взвешивая, глядел на свою хозяйку, барахтавшуюся в кустах вербы.
— Ты, баранья морда! — сердито крикнула Бенита.
Купидон покорно стоял на месте и смотрел на хозяйку.
— Ты, летучий баран, — выжала из себя задыхающаяся Бенита. — Ты, Йоссино божество!
Купидон стоял, прищурив глаза и слегка шевеля ноздрями своего тупого носа, словно чуял запах пота, исходивший от разгоряченной беготней хозяйки. Затем баран высокомерно отвернулся и стал глядеть на лесное пастбище.
От наклона головы густая короткая шерсть на его плотной шее разошлась и в белой шубе Купидона появились просветы.
— Слезай, — закричала Бенита.
Купидон медленно повернулся к хозяйке, прижал морду к груди и слегка изогнулся вперед.
Блуждающий взгляд Бениты искал подходящее место, чтобы взобраться наверх.
Какого только барахла не накопилось возле этой заброшенной бани! Рядом с дверным проемом стояли полусгнившие чаны, полные застоявшейся вонючей воды. Они не выдержат, если встать на них ногой. Чтобы попасть на крышу, пришлось идти кругом той же дорогой, что и баран. Бенита босиком пробиралась через крапиву, путаясь в мелком кустарнике. Ступни у нее горели, когда она взбиралась на земляной пригорок погреба, а оттуда дальше, на крышу.
И вот она наверху, рядом с Купидоном.
Бенита задыхалась, ей было жарко, она сняла с головы шляпу и стала обмахиваться ею. Волосы с затылка упали на плечи. Бенита держала шляпу в вытянутой руке и глубоко дышала. Она собиралась с силами — с этим проклятым бараном предстояло еще повозиться.
Так они стояли друг против друга — босая хозяйка хутора, державшая шляпу в вытянутой руке, и гордое племенное животное, торчащий зад которого подпирали кряжистые ноги. Так они стояли и смотрели друг на друга, пока Бенита не надела шляпу и, схватив барана за загривок, не стала стягивать его с крыши.
Купидон упирался. Баран и женщина боролись, и под ними были рихваские поля. Соломенная крыша ходила ходуном, босые ноги Бениты и крепкие голяшки Купидона — все перемешалось. Женщина и, животное боролись под широким небосводом, который лишь у горизонта покрывали маленькие пушистые облака.
В конце концов Бенита догадалась нахлобучить на голову барана шляпу. Животное покорилось. Бенита стянула ошеломленного Купидона с крыши на земляной пригорок погреба. Ничего не видя, баран споткнулся и упал на колени. Но тут же снова вскочил и пошел, словно он устал от жизни и торопился на плаху.
Бенита с исцарапанными ногами протащила барана сквозь вербные дебри, через грядки с кочанами капусты, сквозь заросли сирени и остановилась у колодца.
Отец нехотя подошел поближе.
— Держи! — прохрипела Бенита.
Каарел схватил Купидона за загривок.
Бенита накачала в ушат воды. Вымыла руки и ополоснула лицо. Затем вздохнула и поставила перед перепуганным животным ведро воды. Нашарив в кармане комочек соли, протянула его животному — пусть полижет, поддержит свои силы. Баран несколько раз лизнул соль языком и отвернулся.
У навеса с торфом старик и Бенита легко уложили барана на скамью.
Могучий баран покорно вытянулся, точно овечка.
Каарел держал ноги животного. Нож лежал от Бениты на расстоянии руки.
— Отец! — умоляюще произнесла Бенита.
— У меня рука не поднимается, — повторил Каарел, не глядя на Бениту. — Это тебе не просто овца, взял да и зарезал, когда вздумалось.
Бенита принялась вновь распалять в себе утихшую было за это время ярость.
— Ах ты, слепой баран, — начала она, нащупывая на шее Купидона артерию. — Ах ты, рихваское наказание, безмозглое ты божество, лиходей ты, мучитель наш, зараза ты чумная!
Остро отточенный нож вошел в шею Купидона как в масло.
— Ах ты, летучий баран, — охнула Бенита.
Внезапно Бенита оказалась залита кровью. С халата капало, руки были перепачканы, она так-таки и забыла перчатки.
Каарел резко отвернулся, взгляд его на мгновение как будто застыл. Один глаз был заметно больше другого. До этой минуты Каарел не верил, что Бенита решится прикончить Купидона — красу и гордость хутора Рихвы.
Но Купидон еще дышал. Воспользовавшись испугом Каарела, он передними ногами опрокинул пододвинутое Бенитой ведро и скатился со скамьи на кучу торфа. Собрав все свои последние силы, баран поднял шею, прижал к груди дрожащую морду и кинулся на Бениту. Она схватила его и обвила руками.
Вдвоем с Каарелом они снова подняли обессилевшего барана и положили на скамью. Перепачканная кровью Бенита села на него верхом, и Каарел завершил кровавое дело.
Гордая голова Купидона скатилась на ворох соломы. Под скулами барана все еще были видны маленькие углубления, словно он по-прежнему протягивал губы для поцелуя.
Каарел подобрал с земли клок соломы и, вытирая им руки, отошел от навеса. Он вышел на изрытую колеями дорогу и остановился. Стоя спиной к Рихве, старик поверх кустов черной смородины смотрел на проселочную дорогу, которая за мостиком перерезала ивовый кустарник. Каарел снял шляпу, и его короткие седые волосы встали дыбом, словно от ужаса. Дрожащая Бенита прислонилась к столбу у навеса. Куда бы она ни смотрела, ее взгляд все время возвращался к обезглавленному Купидону. Густая шерсть барана была вся в крови. Задние голяшки все еще вздрагивали.
Как давно это было, когда Бенита вязала детскую кофтенку для маленького Роберта из пушистой шерсти сосунка Купидона.
— Отец, — едва слышно попросила Бенита, — возьми обдирку на себя.
Каарел резким движением нахлобучил на голову шапку по самые брови так, что под ними исчезли глаза. Из-под козырька шапки он взглянул в сторону дома, нагнулся и стал торопливо сдирать с Купидона шкуру.
В воротах, опустив вниз подбородок и скривив от испуга рот, стояла старая Минна. Старуха словно оцепенела, она даже не подумала отойти с дороги, и Бените пришлось отстранить ее рукой, перепачканной в крови. Старуха ничего не сказала, только зашипела.
К Бените снова вернулась способность действовать. Она начала хлопотать с прежним пылом. На ходу засунула ноги в стоявшие посреди двора резиновые сапоги и, взяв у хлева лопату, стала копать яму на краю поля рядом со стогом соломы. Она с таким остервенением нажимала на лопату, что при каждом ее движении прогибалась подошва огромного резинового сапога. Вскоре из комьев земли, перевитых корнями сорняков, образовалась большая куча.
Закончив работу, Бенита снова подошла к воротам — Минна по-прежнему стояла там и громко сопела. И только когда Бенита вторично приблизилась к воротам, неся на вилах охапку соломы и на ней внутренности барана, старуха чуть-чуть отодвинулась в сторону.
Закопав внутренности, Бенита тщательно утрамбовала землю. Но она не остановилась на этом — взяла борону и поставила ее на утоптанное место. Затем со спокойным сердцем пошла к колодцу мыть руки. Зачерпнув из ведра горсть золы, Бенита стала поочередно тереть пальцы.
Каарел тоже закончил свою работу: растянутую шкуру барана он тут же повесил на жердочку под навесом, а тушу отнес в сарай и нацепил на крюк стынуть.
Но что делать с головой Купидона, ни дочь ни отец не знали. Купидон смотрел на них поверх кучи торфа. Казалось, будто он смирно стоит под тяжелой ношей, увязнув всем своим туловищем в торфяной крошке, без всякой надежды выкарабкаться оттуда.
— Вымой руки, — приказала Бенита Каарелу, когда тот собрался было присесть на полевой каток.
Ополоснув руки в ушате, Каарел вернулся к навесу. Голова барана, лежавшая на куске торфа, притягивала его, да и Бенита тоже не в силах была уйти оттуда. Оба смотрели на неподвижную скуластую морду Купидона.
— Однажды в детстве, — медленно начал Каарел, — высоко на дереве, в том месте, где разветвлялся ствол, я увидел череп овцы. — Каарел проглотил слюну и узловатым большим пальцем набил трубку самосадом. — Это было на речном острове, неподалеку от дома моего отца. Череп овцы от ветра и дождя выцвел и стал совсем белым. Меня постоянно тянуло туда. Я глядел, глядел и никак не мог сообразить, как это череп очутился так высоко на дереве.
Спросить не решался. Много лет прошло, пока я узнал, в чем дело. А дело было так: летом на острове держали овец. Как-то в октябре, когда овец переводили на зимовье, одной не досчитались. Погода была дождливая, искать не стали. Овцы-то ведь всегда держатся вместе… если одной не хватает, значит, околела. Только позже сообразили, в чем дело. Оказывается, овца на бегу угодила головой в разветвленный ствол, так и осталась там. Дерево росло, лезло вверх, а вместе с ним и череп овцы.
Бенита сидела рядом с отцом, опустив руки между колен и пальцами перебирая землю. Понурив голову и съежившись, она разглядывала свой халат, забрызганный кровью Купидона. Ей вдруг показалось совершенно невероятным, что на выпускном вечере в колледже она была в белом кружевном платье.
Бенита вздохнула и мельком взглянула через плечо. Минны уже не было в воротах. Бенита поднялась, ее ждали дела по хозяйству.
Внезапно она остановилась. Из-за лип показалась телега, она заворачивала на Рихву.
Вдруг Молларт вернулся назад?
Лошадь заслоняла собой телегу, и поэтому не было видно, кто едет. Взволнованной Бените не пришло в голову взглянуть, не хромает ли приближающаяся лошадь.
Бенита почувствовала, что цепенеет. Она вспыхнула от смущения, ей захотелось сразу же сорвать с себя грязный халат и скинуть с ног неуклюжие резиновые сапоги.
Вдруг Молларт вернулся назад?
Лошадь медленно приближалась, словно не шагала, а плыла.
Нет, в телеге сидели двое.
Бенита глубоко вздохнула и вскочила.
— Тпрру! — сказал парень и натянул вожжи. Он с нарочитой медлительностью слез с телеги, взял в руку вылинявшую шапчонку, поклонился и сказал:
— Дорогая хозяюшка, не позволите ли нам с женой немного отдохнуть у вас с дороги?
Бените трудно было сохранять серьезность. У парня было такое детское и свежее лицо, видимо, он совсем недавно вышел из того возраста, когда ломается голос. Странной показалась и та, которую парень назвал своей женой, — Бенита тут же про себя окрестила спутницу парня «мельничихой». Жеребая кобыла путников едва помещалась меж оглоблями, и Бените стало жаль лошадь.
— Ладно, — согласилась Бенита. — Отведите лошадь туда. — Она показала на выгон за конюшней, где совсем еще недавно щипал траву рыжий мерин Молларта.
Парень стал послушно распрягать лошадь. Он так неловко все это делал, что Каарел, вытряхнув табак из трубки, подошел к нему и помог снять упряжь. Когда смущенный парень встал рядом с распряженной кобылой, чтобы увести ее, Каарел сам взял лошадь под уздцы и отвел на выгон.
«Мельничиха» по-прежнему сидела в телеге. Она не произнесла ни единого слова, и глаза у нее были такие же неподвижные, как у Купидона, голова которого покоилась на куске торфа.
К удивлению Бениты, вся телега была в навозе. «Странно, — подумала Бенита, — что люди путешествуют в такой грязной повозке». Под сиденьем у молодоженов вместо обычного мешка с сеном почему-то лежало светло-желтое атласное одеяло, сверкавшее на солнце.
— Где вы хотите устроиться? — развела руками Бенита.
— Мы ехали сюда через мост, может быть, нам устроиться у реки? — робко спросил парень.
— Что же, если нравится, — согласилась Бенита. Парень помог «мельничихе» слезть с телеги. Девушка ступала осторожно, словно ноги у нее подгибались. Поддерживая ее, парень на ходу схватил под мышку атласное одеяло, и тут Бенита увидела, что в телеге нет больше ничего — ни мешка с провизией, ни дорожной сумки. Однако парень, на минутку оставив девушку, вернулся к телеге. Оглядев сено, лежавшее на дне телеги, он поворошил его и кое-где примял.
Бенита указала молодой паре дорогу к реке и тут же забыла о них.
Хозяйку Рихвы ждала тысяча спешных дел. Схватив из поленницы охапку березовых дров, она бегом отнесла их в дом. Растопив плиту, помчалась к колодцу мыть картофель, чтобы сварить его свиньям. Вернувшись, поставила котел на огонь, затем открыла кран, но оказалось, что вода в баке на чердаке снова кончилась. Она хотела было броситься искать отца Каарела, но из окна кладовки увидела, что старик в одиночестве копает картофель. Страдающий астмой мерин, на котором отец распахал несколько полосок, щипал в поле траву, и Бенита заметила, что Каарел вынул изо рта лошади удила. Старик стоял сгорбившись, его левая рука лежала на ручке корзинки, в правой он держал мотыгу. Бенита вздохнула, зачерпнула в кадушке ложку сметаны и отправила ее в рот, затем пошла качать воду в бак.
Старуха не показывалась. Бените некогда было искать ее по дому, возможно, старая Минна вышла с ребенком погулять на дорогу, по которой гоняли скот. Собственно говоря, Бените некогда было даже думать об этом — она поставила вариться суп, приготовила свиньям болтушку, сбегала за огород на отаву и переставила подальше колышек, к которому был привязан бык Мадис. Уже подошло время и обеденной дойки. Повязав на голову платок, Бенита вдруг вспомнила, что забыла утром открыть на чердаке окна. Этак Йоссин табак, сушившийся на длинных веревках, может, чего доброго, сгнить. Недоставало еще этой неприятности!
На чердаке, который, собственно, был недостроенной мансардой, Бенита разровняла листья табака и распахнула окно, выходившее во двор. Она глубоко вздохнула. Хутор с его окрестностями показался ей неожиданно красивым. Радовали глаз не только постройки, находившиеся в образцовом порядке. Как символ хорошо налаженного хозяйства, за хлевом, частично скрытый изгородью, стоял, выпятив свои желтоватые бока, стог соломы. Радовали и ограды вокруг пастбищ — благодаря стараниям отца Каарела даже колючая проволока на них была туго натянута. Правда, за лето дорога, по которой гоняли скот, и площадка перед воротами хлева оказались изрыты копытами и превратились в грязное месиво. Бенита решила, что после того, как они закончат уборку картофеля, надо будет привезти с реки возов десять гравия и засыпать им дорогу. Ждали своей очереди и другие более мелкие дела — надо было починить подъезд к амбару, где недавно отошла одна доска — чуть оступишься и можно провалиться сквозь настил и поцарапать ногу. Следовало залатать крышу конюшни, скосить траву под яблонями, чтобы по утрам, собирая паданцы, не шлепать по росе. Но все эти работы казались Бените посильными, и на какой-то миг ею овладело приятное чувство удовлетворения. Они с отцом все-таки управлялись с хутором и сумели достаточно разумно установить очередность работ.
Бенита старалась еще больше разжечь в себе чувство восхищения собой. Ей было совершенно необходимо поднять настроение после того, как она прирезала Купидона.
Несмотря на войну, хутор Рихва твердо стоял на ногах. Вся семья жива-здорова — с тех пор, как Йоссь бежал из немецкой армии домой и поселился в сарае, Бениту не терзали душевные муки.
Бенита перевела взгляд от построек и пастбищ вдаль, на петляющую ленту реки и расстилающийся за ней лес в буйстве осенних красок, и вдруг заметила молодую пару. Желтое одеяло сверкало на зеленом поле. Девушка лежала, парень сидел возле нее. А может быть, и наоборот — отсюда, издалека, кто разберет.
Смягченная только что пережитым чувством удовлетворения Бенита решила, что после дойки отнесет парню и девушке чего-нибудь поесть — как долго они этак будут глядеть друг на друга на голодный желудок.
12
енита вышла из-за ольшаника так неожиданно, что парень, лежавший на желтом одеяле, испуганно вскочил. Девушка, по-видимому, дремала, положив руку под голову. Пунцовые от природы щеки парня потемнели еще больше, и по всему его лицу до самых корней волос разлилась краска. Юноша постарался встать так, чтобы заслонить девушку от взгляда хозяйки.
Однако Бенита успела заметить, что «мельничиха» за этот промежуток времени до неузнаваемости изменилась. «Теперь понятно, почему у нее было такое неестественное, точно окаменевшее лицо», — подумала Бенита. Сейчас, когда с лица исчез белый слой, а с головы был снят платок, закрывавший волосы, не оставалось никакого сомнения, что девушка эта — цыганка.
Бенита, которой почти не приходилось сталкиваться с цыганами, подошла поближе и с любопытством остановилась у края желтого одеяла. У девушки были длинные, словно у жеребенка, ресницы, на маленьких мочках ушей висели нанизанные на нитку ягоды рябины. Остальное показалось Бените мало привлекательным — ей не нравились чересчур сочные губы девушки и немного крючковатый нос.
Пока Бенита разглядывала спящую цыганку, парень пристально смотрел на хозяйку. Отведи Бенита взгляд от девчонки, она бы увидела, как нервничает этот пышущий здоровьем деревенский парень и как от волнения часто-часто моргают его веки с ресницами щеточкой.
— Мы скоро уйдем, — робко прошептал парень. — Мы только хотели немного отдохнуть. У моей жены… — парень запнулся, назвав цыганку своей женой, видимо, это было ширмой для того, чтобы избежать расспросов, — у нее от сидения затекли ноги. Поспать тоже не удалось. Всю ночь ехали.
— Не жаль лошади, — пробормотала Бенита.
Девушка широко раскрыла глаза и села.
Поставив на землю бидончик с молоком и сунув парню тарелку с бутербродами, Бенита замешкалась, не зная, то ли идти ей, то ли оставаться.
— Пожалуйста, садитесь, — пробормотал парень и разгладил уголок атласного одеяла.
Девушка-цыганка с измученным видом смотрела в сторону.
— Откуда едете? — спросила Бенита девушку.
Девушка не отрываясь смотрела на реку.
— Из-под Раквере, — торопливо ответил парень. — У моего отца там был большой хутор.
— Был?
— Отец бросил его, — вздохнул румяный парень и украдкой почесал ляжку.
— И куда же вы направляетесь? — спросила Бенита.
— Не знаю.
Девушка по-прежнему молчала.
— Где вы взяли лошадь, телегу… и вообще? — нетерпеливо продолжала Бенита.
— Если мы вам мешаем, мы тотчас же уедем, — неловко произнес парень.
— Что с ней? — показала Бенита на цыганку.
Бените было не по себе в обществе этой странной пары.
От недомолвок в голову лезли дурные мысли.
Парень вздохнул, лицо у него стало плаксивым.
Бенита заметила, как девушка впилась взглядом в парня. Глаза ее, став на какой-то миг безумными, словно гипнотизировали парня, который, застыв на месте, все время облизывал губы.
— Мы учились с ней в одном классе, — в конце концов пробормотал он, потому что Бенита смотрела на него требовательно. — Лошадь не краденая, не думайте, — заикаясь, произнес парень.
Цыганка опустила веки и снова откинулась на спину.
— Это лошадь моего отца, — извиняющимся тоном произнес парень. — Он передал кобылу на сохранение дорожному мастеру. А я взял ее оттуда тайком, я же имел на это полное право. Я в семье самый старший из детей.
Бенита усмехнулась.
— Ладно, ешьте, — приветливо сказала она и быстро поднялась.
Не успела Бенита сделать несколько шагов, как неуклюжий деревенский парень побежал за ней и, схватив за руку, заставил остановиться.
— Ее сделали немой! — выкрикнул он, жарко дыша ей в ухо. — Она едва выжила и теперь не может говорить!
Бенита была не робкого десятка, но сейчас ее охватило желание убежать, однако парень крепко держал ее за руку.
Бенита глотнула и через плечо посмотрела на девушку.
— Я не мог ее бросить. Она совсем одна. Отец сказал: «Выбирай!» И я решил. Она останется со мной. Ясно? — словно помешанный, заорал парень.
В конце концов он отпустил руку Бениты.
— Не мог я бросить ее, — повторил парень. — Или я не человек? Не мог бросить!
Парень, словно он не был полностью уверен в этом, упрямо повторял, что поступил правильно, взял девушку под свою опеку.
Через плечо парня Бенита увидела, с какой жадностью пьет молоко цыганка. У Бениты вдруг пропало всякое желание заниматься гостями. Заметив в ольшанике Йосся, она, с чувством огромного облегчения, окликнула его. Бенита чувствовала, что именно сейчас нуждается в поддержке. Краснощекий парень казался ей слабоумным, хотя он совсем тихо стоял рядом с ней, не кричал, как раньше, и не пытался броситься на нее.
Услышав возглас Бениты, девушка поставила бидон и встревоженно огляделась вокруг. Увидев Йосся, выходящего из ольшаника на луг, девушка вскочила.
Метнувшись парню за спину, она начала кричать.
У нее был жуткий голос.
Бенита ладонями зажала уши.
Это было уже слишком.
Решив, что спина парня недостаточно надежная защита, девушка бросилась бежать. Она добежала до ограды и зацепилась там за колючую проволоку. Бенита смотрела вслед обезумевшей цыганке и удивлялась — барахтается, вместо того чтобы руками раздвинуть проволоку и перешагнуть через нее, раз уж так боится Йосся и хочет укрыться подальше.
За спиной у Йосся торчало ружье. Бенита заметила это не сразу: «Диву даешься на себя и на других, — мелькнуло у нее в голове, — неужели ружье на плече человека — столь обычное явление, что его даже не замечаешь?!»
Хозяйский сын из-под Раквере помог девчонке отцепиться от колючек на проволоке и подвел дрожащую немую к Бените и Йоссю.
— Военные беженцы, — пояснила Бенита Йоссю. — У девушки плохо с нервами, — торопливо продолжала она, давая Йоссю время справиться с замешательством.
Йоссь, желая продемонстрировать дружелюбие, обнажил в улыбке зубы.
— Дядя не ест красивых деток, — сказал он и начал шарить по своим отвисшим карманам, отыскивая папиросу.
— Оставим их в покое, — поспешно сказала Бенита и потащила Йосся к дому.
Йоссь, взглянув через плечо на незнакомцев, еле-еле передвигая ногами, поплелся за женой.
— Разный народ бродит тут, — заметила Бенита. Ей не хотелось, чтобы Йоссь в свою очередь стал расспрашивать молодых.
— Тебе все равно, — ворчал Йоссь, ковыляя за Бенитой. — Ты всяких бродяг на хутор пускаешь. Тебе и в голову не придет, что они могут выдать меня немцам.
Йоссь ежеминутно поворачивал голову и смотрел в сторону реки, где на зеленой траве сверкало желтое одеяло.
— Кому вы сейчас нужны, — вяло бросила Бенита. — До вас ли теперь немцам. Они сами сматывают удочки. Мог бы уж и выйти из лесу. Работы всякой поднакопилось, нам с отцом всего не переделать!
— Что ты понимаешь в войне! — заорал Йоссь, догоняя Бениту. — Твой ум дальше капустной грядки не идет.
— Тоже мне вояки! — презрительно сказала Бенита. — Палишь из ружья по плотвишкам — и то руки дрожат и дыхание спирает.
Йоссь схватил Бениту за руку.
Бенита вырвалась. Слепая злоба ударила ей в голову, ей хотелось вылить на Йосся поток оскорбительных слов, но она сдержалась и с трудом заставила себя улыбнуться.
— Йоссь, ну стоит ли нам ссориться, — миролюбиво сказала Бенита.
Неожиданная мягкость Бениты насторожила Йосся. Он недоверчиво посмотрел на жену. Бенита отвела взгляд и принялась раздвигать прясла лаза.
— Ну, выкладывай, какой еще сюрприз приготовила мне? — спросил Йоссь и из-под сломанного козырька кепки пристально посмотрел на Бениту.
Жеребая кобыла хозяйского сына из-под Раквере подошла к остановившимся у лаза хозяевам.
Йоссь стянул с головы кепку и замахнулся на лошадь.
— Кыш! — крикнул он ей, как собаке. Кобыла запряла ушами, завращала глазами и потрусила к стоявшим в отдалении березам.
— Чужие лошади топчут выгон, — сказал Йоссь и сплюнул.
— Как будешь гнать людей? Издалека ведь ехали. Кто знает, сколько им еще придется быть в пути.
— Что ни день, то какие-то бродяги в доме, — проворчал Йоссь и оттолкнул Бениту, чтобы снова задвинуть прясла. — Хозяин у себя на хуторе крадись как волк и гляди в оба, — сказал он громким голосом, словно нуждаясь в подтверждении, что его права властелина остаются неизменными.
— Пойми, дорогой Йоссь, — мягким голосом убеждала мужа Бенита, — мы живем среди людей, все мы эстонцы, и надо помогать друг другу.
— Для меня Эстония — это Рихва. До других мне дела нет. — Йоссь описал рукой широкий круг, словно хотел показать глупой жене границы своего государства.
— Раньше ты радовался гостям, — уговаривала Бенита мужа таким ласковым голосом, что даже самой было противно. Однако делать нечего, они приближались к тому месту, откуда был виден торфяной навес — там, на коричневом чурбачке, торчала голова Купидона. Только у лаза Бенита снова вспомнила о Купидоне.
— Тогда приходили те, кого я звал, — буркнул Йоссь, однако голос его прозвучал приветливее.
Бенита успокоилась. Она собиралась угостить Йосся доброй порцией самогона, поджарить яичницу — больше всего он любил глазунью — и только после этого осторожно рассказать о Купидоне.
13
оначалу все шло хорошо. Как ни странно, но, подойдя к колодцу, Йоссь не стал звать барана. Собственная жена прочно повисла у него на руке, и Йоссь постеснялся отстранить молодую женщину, чтобы затеять единоборство с бараном. Поднявшись на крыльцо, Йоссь прошел вперед и, не снимая с плеча ружья, направился прямо на кухню. Пожелав старикам и сыну, сидевшим за столом, приятного аппетита, Йоссь не стал задерживаться на кухне и сразу же зашагал в спальню. Здесь, у самого окна, стоял маленький столик, с которого Бенита не снимала никогда белой скатерти, заботясь о том, чтобы аппетит у Йосся был неизменно хорошим.
Так уж повелось, что хозяин Рихвы, наведываясь домой, никогда не ел на кухне вместе со своими домочадцами. После того как Йоссь примкнул к компании «лесных братьев», ему стало даже нравиться это исключительное положение в семье. Скрываться вошло у него в плоть и кровь, хотя он, правда, нередко шатался по окрестностям, предварительно опрокинув в себя для смелости стаканчик самогону.
Бенита носилась между кухней и горницей, и вскоре все необходимое стояло на столе. Сев напротив Йосся на стул, Бенита налила ему из бутылки полный стакан сивухи.
Йоссь ел и пил до тех пор, пока у него не начал лосниться подбородок.
В прежние времена Бенита не раз посмеивалась над ним во время еды: сразу видать, когда мужчина сыт и пьян — на кончике подбородка у него начинает выделяться жир. А вообще по тому количеству еды, которое перемалывал Йоссь, ему бы следовало быть выдающимся атлетом. Бенита с чувством брезгливой жалости смотрела на щуплые плечи Йосся, на его тощие руки и, словно измученное бессонницей, худое узкое лицо. Однако она знала — гораздо легче было подоить, напоить и выгнать на пастбище коров, чем разбудить Йосся.
Поэтому Бенита не разрешала Йоссю ночевать дома, мало ли что может произойти ночью и иметь для него роковые последствия.
Как-то, встретив соседок по деревне, Бенита пожаловалась им на хилость Йосся, и лаурисооская Линда предположила тогда — нет ли, мол, у него глистов.
Что поделать, за время, проведенное в колледже, Бенита стала разборчивой и после слов Линды долгое время гнушалась спать в одной постели с Йоссем.
Бенита надеялась, что Йосся сейчас начнет клонить ко сну и он завалится — не успеешь и глазом моргнуть, как раздастся храп, день, проведенный в мягкой постели, быстро перейдет в вечер, а там, глядишь, пора будет уходить в свое лесное логово.
И тогда историю с Купидоном можно будет утаить до завтрашнего дня. А то и до послезавтрашнего.
Однако сегодня худосочного Йосся прямо-таки распирало от жажды деятельности. Он распахнул дверь на кухню, позвал Роберта и стал возиться с ним. Посадил визжащего от восторга мальчишку на шкаф, потом снова снял его. Затем закатал своего отпрыска в половик, так что у парнишки остались торчать лишь вихор да кончик носа.
Бенита, относя посуду на кухню, благодарила про себя бога, что успела утром вытряхнуть половики.
Выбравшись из-под половика и передохнув от смеха, мальчишка стал изображать барана.
Роберт изогнулся, состроил себе из указательных пальцев рожки и пошел на стоящего посреди комнаты Йосся. Как только мальчишка кинулся на отца, тот подпрыгнул и расставил ноги. Роберт проскочил между отцовских колен и наткнулся на диван — скрипнули пружины.
Щеки у Йосся горели, у него был вид истинно счастливого отца. Узнавая в парне самого себя, Йоссь изо всех сил подзадоривал сына:
— Еще! А ну-ка, нажми! Спину выгни! — кричал Йоссь, и голос его от смеха перешел в дискант.
Несколько раз, не успев вовремя отскочить, Йоссь получил от бычка в коротеньких штанишках удар по бедрам, что привело его в неописуемое умиление.
— Тореадор! Лавровый венок ему, — ревел Йоссь.
Бенита вернулась из кухни, села в уголок дивана, облокотилась на подушку и, подперев рукой щеку, стала смотреть на свое семейство.
— Утомишь ребенка! — нерешительно сказала она.
Как ни странно, Йоссь послушался. Схватив парня на руки, он направился с ним к двери.
От предчувствия беды у Бениты похолодело сердце. Однако тратить время на предположения было нельзя. И она пошла за Йоссем.
Йоссь действительно уже стоял у колодца. Опустив ребенка на землю, он сложил ладони у рта трубочкой и стал настойчиво звать своего любимца.
— Купидон! Купидон! — кричал Йоссь в сторону капустных грядок.
«За капустными грядками — старая баня, чаны с затхлой водой и крапива», — подумала Бенита.
— Купидон! — заорал Йоссь в сторону поймы.
«Когда этот проклятый летучий баран в последний раз пасся на отаве?»— спросила у себя Бенита.
Кричать в сторону хлева не имело смысла. Это понял и Йоссь — Купидон с его любовью к бродяжничеству никогда не торчал днем под навесом.
Однако, несмотря на то что Купидон был любимцем хозяина и пользовался привилегиями, в дом его все-таки не пускали, правда, однажды он все-таки пробрался на кухню и стучал там ногами по каменному полу.
— Купидон! — крикнул Йоссь в сторону амбара и торфяного навеса.
«Может, подмигнет хозяину с куска торфа», — подумала Бенита.
Стоя на крыльце, Бенита вдруг услышала за своей спиной тихое бормотание.
Видимо, настал черед Минны отплатить Бените за ее подлое поведение, когда, прирезав барана, она оттолкнула в сторону стоявшую в воротах и злобно шипящую свекровь. Старуха до тех пор подталкивала свою невестку в спину, пока та не спустилась с крыльца.
— Ты чего зря дерешь глотку, — со злостью накинулась на Йосся старуха.
— Ого, черт! — фыркнул он в ответ. — Что, по-твоему, я не могу звать свою скотину, а?
То ли Минна испугалась сыновьего тона, то ли хотела представиться страдалицей, но она заревела белугой.
— Я зарезала больного барана, — в промежутке между всхлипываниями старухи произнесла Бенита.
— Больного? — переспросил Йоссь и вытер рукой лоснящееся от пота лицо.
Бенита судорожно глотнула. Вслед за этим Йоссь услышал о бруцеллезе, о том, что овцы в деревне заражены и болезнь эта опасна для людей и, наконец, о ветеринарном враче Молларте, посоветовавшем немедленно заколоть барана.
Бенита говорила торопясь, нить ее мыслей, и так не отличавшаяся последовательностью, все время рвалась. Несколько раз она споткнулась, произнося незнакомые слова.
Замолчав и взглянув на стоявшего с опущенной нижней губой Йосся, Бенита вдруг поняла, что она действительно никакая не хозяйка Рихвы. «Одна иллюзия», — подумала Бенита.
— Ну, погоди, черт! — воскликнул Йоссь, и Бенита почувствовала — сейчас начнется.
Йоссь резко повернулся и, нагнувшись вперед, словно шагая против ветра, пошел к торфяному навесу.
Бенита, слегка пошатываясь, последовала за мужем, словно это она, а не он, выпила самогону. Мальчишка, крепко сжав губы, чтобы не проронить ни слова, испуганно семенил сзади. Он уже имел немалый опыт и знал, что лучше не привлекать к себе внимания.
Старуха торопливо нырнула за изгородь и довольно скоро вышла оттуда. Хоть волнение и повлияло на ее мочевой пузырь, однако оставаться в стороне от больших событий она не могла. Итак, раздвинув рукой еловые ветки, старая хозяйка поспешила к торфяному навесу, где стоял ее сын Йоссь и, вытаращив глаза, смотрел на голову зарезанного Купидона.
— Завтра явится какой-нибудь проходимец и посоветует тебе пустить красного петуха на дом, дескать, тоже кишит заразой, — сквозь зубы сказал Йоссь, не отрывая глаз от головы барана. Йоссь стоял, точно в почетном карауле у гроба, и говорил поэтому очень тихо.
Бенита смотрела в землю и видела пальцы своих ног. Теперь она поняла, почему довоенные нарядные туфли больше не налезали ей на ногу — от ходьбы босиком или в постолах ступни раздались вширь.
— Затем явится какая-нибудь бестия и посоветует тебе полить поля мыльным камнем, чтобы избавиться от сорняков, — высказал Йоссь еще одно страшное предположение.
— Мыльного камня не достать, — холодно заметила Бенита.
— Она еще издевается! — прошипела Минна.
— Мама, не издевайся, — взмолился мальчишка.
Взрослые, стоявшие с мрачным видом, едва расслышали бормотание испуганного ребенка.
— Сунь черту палец — всю руку отхватит, — сказал Йоссь.
— Иди-ка ты лучше в дом, — посоветовала Бенита Роберту и подтолкнула его в плечо.
Мальчишка отбежал в сторону и остановился у ворот. Мужское достоинство не позволяло ему покинуть поле сражения.
Йоссь, опустившись на колени перед кучей торфа, стал гладить голову барана.
«Меня он нежностью не баловал», — подумала Бенита.
От движений Йосся из кучи торфа посыпалась крошка и на пальцах ног у Бениты забегали черные жучки.
— Что мне делать с тобой, — вздохнул Йоссь.
Никто не понял, относилось ли это к барану или к жене.
Растущее чувство презрения вселило в Бениту спокойствие и безразличие. Сейчас ей казалось даже странным, что все утро она подсознательно боялась прихода Йосся.
— Я принесу лопату и вырою яму, — предложила Бенита. — Можешь предать земле голову Купидона. Потом пальнешь из ружья в небо, почтишь его память салютом.
Йоссь начал быстро подниматься, потерял равновесие и упал боком на кучу. Он вытянул руки, ища опоры и, побарахтавшись, поднялся. Коварная куча торфа расползлась и сверху посыпались комки, увлекая за собой голову барана. Словно бедняжка Купидон хотел на прощание еще раз боднуть своего хозяина.
Бенита растерянно огляделась вокруг. Надо было успеть схватить какую-нибудь палку — Бенита предвидела, что сейчас Йоссь кинется, и в руках у нее не будет ничего, чем бы она могла обороняться.
Но Бенита тут же отбросила эту мысль. В руках у Йосся тоже ничего не было. Винтовка осталась в комнате на вешалке, и воспользоваться этим, чтобы получить преимущество, Бените не позволяло чувство собственного достоинства.
Йоссь, пригнув голову, действительно пошел на Бениту.
Переняв у своего летучего барана кое-какие повадки, хозяин Рихвы в эту минуту очень походил на Купидона. Только в отличие от тяжело дышащего Йосся баран никогда не держал рот открытым. Взгляд Бениты остановился на зубах Йосся, возможно потому, что ей не хотелось смотреть ему в глаза. И поскольку зубы были видны, ей вспомнилось, что у человека, как и у барана, их тридцать два.
Но тут же все познания в области физиологии животных исчезли из ее памяти и перед глазами пошли круги. Бенита подумала, что по количеству зубов она внезапно здорово отстала от овец. Левая щека ее вздулась, ощущение было такое, будто внутри она пуста, в левом ухе гудели телефонные провода. Когда желтый туман, застлавший все вокруг, рассеялся, Бените показалось, что ее левый глаз вот-вот выскочит из орбиты.
Через мгновение, слегка очухавшись, Бенита увидела, что отступивший было Йоссь готовится к новой атаке. Она быстро повернулась к нему спиной и изо всех сил ударила ногой снизу вверх.
Йоссь пошатнулся и упал на кучу торфа. Над его скрючившимся телом поднялся столб пыли.
Йоссь обеими руками держался за пах, глаза у него были закрыты, из ноздрей вырывались какие-то гнусавые звуки.
Бенита, засунув в рот пальцы, пощупала, действительно ли щека внутри пуста. Нет, все зубы были на месте и, как ни странно, даже не шатались. Затем она провела кончиками пальцев по лицу, помассировала веко, потерла мочку уха, и гудение прекратилось. Зато одна половина лица быстро распухала, словно тесто на дрожжах.
Йоссь, по-прежнему скрючившись, все еще издавал похожие на мычание звуки, точно корова, которая телится.
Свекровь опустилась перед Йоссем на колени и заголосила.
— Можешь отправить своего сына евнухом в Турцию, — сказала старухе Бенита.
Минна облизнула губы и, брызгая ядовитой слюной, начала вопить истошным голосом:
— Каким зельем эта выдоенная козлица опоила моего сына? И чего это Йоссь позарился на нее. Я чуть не рехнулась, когда пастор приехал венчать их. Чуяло мое сердце — ничего путного из этого не выйдет! Бесприданницу лучше было и близко не подпускать. Дай такой дорваться до добра, сразу же начнет проматывать его. Землю с поля и то будет в подоле таскать… — Старуха со свистом перевела дыхание. — Своего старика тоже сразу пристроила на тепленькое местечко. Он тоже хорош, мякинная голова, слизняк. А теперь еще баба кидается на венчанного мужа! Йоссю уж и заснуть нельзя, всю ночь держи палец на спусковом крючке, не то жена возьмет да и стянет горло чулком! Захватит все лучшее, как домовой, а потом пустит красного петуха.
Йоссь перестал мычать, издал стон и сделал матери знак рукой, чтобы замолчала. Воспользовавшись минутой, когда старуха уголком платка вытирала рот, Йоссь сказал Бените:
— Ты здесь в Рихве всего-навсего мочалка для мытья посуды, а потому знай свое место. Советую тебе не соваться в дела, в которых ты ни черта не смыслишь, заруби это на своем носу.
— Если так, хозяин, плати жалованье как прислуге за четыре года и распрощаемся. У отца тоже за работу не получено. А я схожу к соседям, попрошу лошадь, будет что повозить — мешки с зерном, да и прочее добро!
Бенита попыталась улыбнуться, но мешала боль в распухшей половине лица. Таким образом, ей не удалось улыбкой, пусть хоть кривой, закрепить свое превосходство.
Йоссь охая сполз с кучи торфа, отпихнул ногой упавшую с торфяного пьедестала голову Купидона и заковылял к Бените. Показав на понуро стоявшего у ворот мальчишку, он сказал:
— Почем я знаю, может, и ребенок чужой. Может, ты рыбку в мутной водичке поймала? От такой, как ты, драной кошки, всего можно ожидать!
— Йоссь! — крикнула Бенита, силы ее были на исходе.
— Что, струсила? — сквозь стон глумливо произнес Йоссь. — Не думай, все выйдет наружу. Люди и так говорят! Думаешь, мне приятно было стоять рядом и смотреть, как подвенечное платье трещит по швам на твоем животе! В нашей семье я — первый идиот, который позволил окрутить себя брюхатой девке.
Повернувшись спиной к Йоссю, Бенита плакала. Картофельные борозды перед ее глазами качались вверх-вниз, и казалось, будто земляные духи вылезают на поверхность, чтобы подняться в небо.
— Ладно, — сказал Йоссь, который, отомстив жене и унизив ее, вновь обрел спокойствие и великодушие. — Раз уж мы сочетались с тобой браком, должны терпеть. Ребенок есть ребенок, — добавил он патетически. — Рихве без хозяйки нельзя. Живи и управляй. Только запомни — глупостей больше не делай. Еще раз случится что — пеняй на себя! — угрожающе повысил голос Йоссь.
Оставив жену плакать у картофельного поля, Йоссь махнул матери, чтобы шла следом, взял за руку Роберта и исчез с ним в доме.
Через некоторое время Бенита, перед глазами которой все еще плясали земляные духи, увидела, как Йоссь с ружьем за спиной уходил по направлению к сенокосу. «Еще возьмет да и со злости напугает цыганку и хозяйского сына из-под Раквере», — вяло подумала Бенита.
Впрочем, ей было совершенно безразлично, как поступит Йоссь.
«У ветврача хромая лошадь», — почему-то подумала Бенита, и Молларт со своим рыжим мерином предстал перед ней в совершенно новом свете. Давно ли это было, когда Молларт, миновав липы, свернул на Рихву.
14
уха жужжала в кадушке со сметаной, однако Бенита не торопилась выудить ее оттуда. Ей было даже в какой-то степени интересно наблюдать, как насекомое барахтается там, не в силах расправить крылышки. «Ты уже свое отлетала», — подумала Бенита и приложила толстый нож к вспухшему веку.
То ли тело холодили каменные плиты пола, на котором она стояла босиком, или удар Йосся все же не был таким сильным, но Бените казалось, что ее лицо как бы восстанавливает свою естественную симметрию. Ощупав щеку, Бенита снова обрела уверенность в себе, и ей захотелось как можно скорее стереть следы ссоры. Она стала искать в кладовке, чем бы намазать лицо. Все, что только можно было найти на полках, пошло в ход. Густо намазав кусок хлеба сметаной — муху она оставила мокнуть в кадушке дальше, Бенита приложила влажный ломоть к щеке. Стало легче. Но, пожалуй, еще благотворнее подействовал соленый огурец, когда, разрезав его вдоль, она стала водить им по лицу. Мазать щеки яйцом Бенита не стала, не хотелось пачкать руки, и без того полотенце, которое она захватила с собой в кладовку, чтобы вытирать лицо, пришло в негодность. Бенита попробовала сделать уксусный компресс, но стало щипать кожу, и тогда она провела по щеке ломтем шпика. И уже под самый конец приложила к лицу тряпочку, смоченную в самогоне. Кто знает, какое из этих средств помогло, во всяком случае, когда Бенита попыталась сделать гримасу, пострадавшая половина ее лица действовала и уже больше не казалась парализованной.
Все, что во время этих процедур выпало у нее из рук, так и осталось лежать. Бенита усмехнулась — она радовалась тому, что против обыкновения не впала на этот раз в хозяйственный раж. Люди всегда радуются, если им удается превозмочь себя и если оказывается, что они еще способны изменяться.
Она хлопнула дверцей кладовки, хорошо еще, что та не разлетелась от удара ногой. Вернувшись домой после службы у немцев, Йоссь первым делом наварил уйму пива и поставил бочки в кладовку — вот тогда-то и случилась беда с дверцей. В одной из бочек пиво так сильно забродило, что обручи не выдержали давления и лопнули. Бочку разорвало и она выбила, между прочим, и дверь. Кладовка утопала в грязи! Посуда разлетелась вдребезги, студень перемешался с вареньем — чистки, уборки было! А Йоссь махнул рукой, дескать, военное время, должна же и в нашем доме разорваться какая-нибудь бомба. Потом Йоссь все-таки починил дверцу кладовки, вбил гвозди, так она и держалась на честном слове, на большее ленивый Йоссь был не способен.
Бенита вымыла лицо и взяла в руки расческу. Только успела она пригладить волосы, как на дворе послышались голоса и визг.
Перед крыльцом шныряли мальчишки, девчонки и совсем маленькие ребятишки. В центре стояла толстая женщина, держа в руках какие-то мешки и корзинки и, оглядываясь вокруг, видимо, изучала обстановку. Светлый в полоску передник незнакомой женщины удивил Бениту, словно эта мамаша пустилась в путь прямо от горячей плиты.
— Здравствуйте, хозяйка! — крикнула женщина. Она опустила на землю пожитки, вытянула вперед руки и шагнула навстречу Бените. Лицо ее выражало искреннюю радость, это было настолько заразительно, что и детвора стала наперебой выкрикивать приветствия. Среди множества звонких голосов выделялся один, низкий и медлительный. Бенита, немного растерявшись от этой сутолоки, заметила среди мальчишек долговязого мужчину — из-за своего высокого роста он чуть-чуть покачивался из стороны в сторону. Глава семьи тоже любезно улыбнулся слегка смущенной хозяйке Рихвы.
Незнакомая женщина взяла Бениту за плечи, посмотрела на нее добрыми карими глазами и сказала:
— Мы — семья Кулливайну. Меня зовут Меэта. Покажи, голубушка, где бы я смогла сварить поесть своему изголодавшемуся войску.
Бенита безучастно кивнула и проглотила слюну — она не привыкла разговаривать с незнакомым человеком, когда он стоит так близко и дышит прямо в лицо.
— Ты знаешь, как наворачивают дети в таком возрасте! — радостно воскликнула женщина. — Им только в корыте и подавай. В младенчестве — сосок в рот не умещается, а сейчас целую картошку в горло запихивают.
— Что ж, идите на кухню. Я принесу дров, — пробормотала Бенита и, высвободившись из объятий женщины, повернулась, чтобы открыть дверь.
— Голубушка, ты себя не утруждай, мой полк все сам сделает, — рассмеялась женщина в затылок Бените и скомандовала — Мальчишки, живо дрова из поленницы! Девчонки, тащите корзины в дом. А ты, старик, поди накачай воды!
Не успела Бенита опомниться, как на плите уже громыхали кастрюли и сковороды. Чужая женщина, схватив нужную тряпку, вытирала кухонный стол. Девчонки вынимали из корзин и узлов провизию.
Трое долговязых мальчишек внесли на кухню по полной охапке дров. Впереди семенил маленький мальчуган, он услужливо приподнял крышку ящика и при этом так низко нагнулся, что от лямок его штанишек отлетела пуговица. Сложив охапки в ящик, мальчишки побежали за новой ношей. Одна из девчонок, отодрав с нескольких поленьев бересту, разожгла ими плиту.
Растерявшаяся от всей этой суеты Бенита отошла к кухонному окну и увидела, как человек, которого назвали стариком, качает воду. Парни, наполнив ящик поленьями, схватили ведра и взапуски помчались за водой.
Бенита, отойдя от окна, выходящего во двор, прошла между хлопочущими девчонками к другому окну, откуда была видна дорога.
Семья Кулливайну приехала на двух лошадях.
За каждым возом стояло по черно-белой корове. В ящиках на телегах хрюкали поросята, а в зашитых корзинках, если Бениту не обманывал слух, находились курицы или какая-то другая домашняя птица.
На сковородке шипел нарезанный ломтиками шпик. Девчонки оживленно щебетали, мальчишки стояли возле ящика с дровами, ожидая приказаний. Рядом, на скамейке, плескали водой полные до краев ведра.
Бенита хотела было сказать, что кран на кухне вделан в стенку не для красоты, однако снова промолчала. Видимо, бак на чердаке был пуст, недаром свекровь Минна поставила ведра в ряд на скамейку. «Что ни говори, а в деревне естественнее таскать воду ведрами, нежели пользоваться водопроводом», — смиренно подумала Бенита.
— Господи! — воскликнула кулливайнуская Меэта и, положив нож на край сковороды, всплеснула руками. — У нас же картошка кончилась! Голубушка, — она уставилась на Бениту своими добрыми глазами и, вытянув вперед руки, начала снова, — не дашь ли ты нам картошки? Мы ведь не просто так — мой полк выкопает тебе картофель, а ты дашь нам за труды корзинку, ладно?
— Пожалуйста, — поспешно согласилась Бенита, боясь как бы ее снова не схватили за плечи и не начали дышать в лицо.
Кулливайнуская хозяйка еще раз всплеснула руками, и от этого движения ее могучие груди под вязаной кофтой заколыхались.
— Ну и везет нам на хороших людей!
Она тут же вернулась к плите, но за это время одна из ее проворных девчонок взяла на себя обязанность хозяйки и сама перевернула мясо на сковородке.
— Мальчишки — быстро! — скомандовала кулливайнуская Меэта. — Картофельные полосы у вас распаханы, — одновременно обратилась она к Бените. — Очевидно, вы поджидали помощников! Остается лишь взять корзинки и тяпки.
Парни, на которых были длинные штаны, стали наперегонки закатывать их наверх, затем сняли ботинки и сложили в кучу рядом с ящиком. Кулливайнуские ребятишки требовательно смотрели на Бениту. И тогда хозяйка Рихвы, став во главе этой ватаги, направилась к куче хвороста, чтобы раздать мальчишкам корзинки и тяпки.
Когда Бенита с картофельным мешком в руках подошла к краю поля, мальчишки, видимо уже договорившись с Каарелом, усердно собирали в корзинку клубни. Бенита смотрела на парней, пустой мешок болтался у нее на руке, и какое-то странное чувство овладело ею. Словно в Рихве поселилась новая семья, и она, Бенита, внезапно оказалась здесь совершенно лишней. Более того, куда-то подевалось и ее умение работать, словно ей уже и не место рядом с этими проворными мальчишками. Одновременно Бениту гнало на поле чувство долга, но она постаралась подавить его и настроиться на беспечный лад. Странно, что это желание махнуть на все рукой только радовало ее. А может быть, это была не радость, а злорадство? Бенита не придавала слишком большого значения неясным движениям своей души, а потому не старалась определить их.
Намного приятнее было просто так стоять и глядеть, как мальчишки все дальше удаляются от края поля. Глаз хозяйки не обнаружил в их работе ничего, что заслуживало бы порицания. Мальчишки тщательно разрыхляли землю, следя за тем, чтобы в ней не оставалось ни одного клубня.
— Хромой мужчина околел в канаве за мызой, — раздалось вдруг над самым ухом Бениты, смотревшей в эту минуту на дым, поднимающийся из трубы дома.
Бенита не заметила, чтобы Випси свернула от лип к хутору. А может быть, старуха прикорнула в стогу соломы и только сейчас, разомлев от сна, вылезла оттуда?
— Что ты говоришь, Випси? — сказала Бенита, заставляя себя говорить приветливо. — Какой хромой? — сгорая от нетерпения переспросила она.
— Я думаю, это был Пауль, — медленно, словно взвешивая каждое слово, ответила Випси.
— Как он выглядел? — требовательно спросила Бенита и схватила Випси за плечи.
Известие, которое сообщила Випси, казалось Бените правдоподобным. Лишь взглянув старухе в лицо, Бенита поняла, что верить словам полоумной нельзя. Випси вся тряслась от смеха, а глаза у нее при этом были ясные, как у новорожденного младенца. Ей и в голову не могло прийти, что смерть какого-то там Пауля может кого-либо испугать.
Бенита отпустила Випси. Полоумная поправила на голове тюрбан, повязанный из рваной шали.
— Образованный человек, а хромой, — добавила Випси таким жалобным голосом, словно просила у Бениты хлеба.
— А почем ты знаешь, что образованный, раз он был мертв? — спросила Бенита. Невольно ее опять охватило беспокойство, затрудняя дыхание.
Випси вытянула шею, думая, как бы подостойнее ответить на сложный вопрос Бениты.
— У него весь подбородок в рыжих кудельках, — сказала Випси и захихикала.
— Рыжая борода? — спросила Бенита, прерывисто дыша.
— Рыжая, — кивнула Випси и добавила — Немножко черных волос тоже. Как у тигра. Тигриная борода! — закончила она победным выкриком.
Випси взглянула через плечо на работающих в поле мальчишек и с таинственным видом подозвала Бениту пальцем.
Бенита отправилась за ней к изгороди.
— В чем дело? — нетерпеливо спросила Бенита.
Випси приложила палец к губам, пошарила под подолом юбки и извлекла оттуда маленький мешочек. Держа в зубах большую английскую булавку, которой это сокровище было приколото к нижней юбке, Випси стала развязывать грязный мешочек.
Вынув оттуда желтый камушек, Випси сунула его Бените в руки и сказала:
— Испанская сера.
Но Бенита не выказала ни малейшего восторга, и тогда старуха сочла необходимым пояснить:
— Когда во всем мире кончится огонь, люди придут ко мне на поклон. Им нужна будет сера!
Бенита вернула сокровище его владелице, но Випси, задрав голову и закатив глаза, подобно дремлющей на жердочке курице, сказала:
— Все они придут ко мне на поклон. Господа снимут с головы цилиндры, госпожи сбросят пелерины и станут на колени. Они будут клянчить огненный камень, чтобы разжечь в пещерах костры и согреть своих человечьих щенят.
— Ладно, — прервала ее Бенита. — Положи серу на место, иначе потеряешь.
— Да, — рассудительно согласилась Випси и стала запихивать кусочек серы в мешочек. Желтый камушек едва не выскользнул из ее пальцев, потому что Випси трясло от возбуждения. Ей было некогда взглянуть на свои руки, она озиралась вокруг, словно где-то поблизости ее подстерегали грабители.
В конце концов она перестала крутить головой, да, собственно, она и не могла это делать — надо было придержать подбородком вздернутый подол платья, чтобы приколоть мешочек к рубашке.
— Человек с рыжей бородой? — повторила Бенита, все еще не полностью поборов страх.
— Тигриная борода, — подтвердила Випси.
Бенита собралась уходить. Рассказ Випси почему-то взволновал ее. Ноги заныли точь-в-точь как в последние месяцы беременности, когда она донашивала парня, полумертвая от страха перед родами.
— Бенита! — властным голосом остановила Випси хозяйку Рихвы. — Ты позволишь мне накачать воду в бак?
Старуха стояла, высоко подняв руку в пестрой варежке.
И Бенита подумала было, что Випси начнет сейчас кричать: «Хайль Гитлер!»
15
енита заглянула через окно на кухню, и ее охватило пронзительное чувство бездомности. Она увидела энергичную кулливайнускую Меэту, которая, сидя во главе стола, раскладывала по тарелкам еду своей многочисленной семье. Минна понуро сидела по левую руку чужой хозяйки. Очевидно, и Роберт был принят в семейный круг женщины с добрыми глазами.
Но ни чувство своей отторгнутости, ни ревность, на мгновение захлестнувшая Бениту, не огорчили ее. Напротив, это новое чувство своей обособленности радовало ее. Бенита, всегда неуклонно стремившаяся к тому, чтобы иметь прочный дом и крышу над головой, не случайно стала хозяйкой Рихвы. А теперь она даже завидовала военным беженцам, этим странникам по окольным дорогам, забредающим на случайные хутора, чтобы напоить скотину, дать ей передышку и самим отогреться под чужой крышей.
Что, если и ей запрячь лошадь, кинуть в телегу узелок с провизией и отправиться туда, где дуют соленые ветры?
Или ее страшат неожиданности? Так ли уж она довольна неустойчивой жизнью в эти смутные времена? Отчего так связывает ее кусок хлеба, который дает ей Рихва?
Отойдя от дома, Бенита остановилась под яблонями. Она испытывала сейчас отвращение ко всем будничным, привычным делам. А может, она мысленно предала Рихву и теперь стыд заставлял ее бежать? А может, это Рихва отвергала свою хозяйку?
После отъезда Молларта желание покинуть хутор преследовало и Бениту. Возможно, что этот неясный зов души — уйти — возник в ней еще тогда, в хлеву, когда Молларт шел к разъяренному быку, словно это был невинный ягненок.
До этого времени Бенита не ощущала в себе отсутствия силы и энергии. Она не испытывала жалости к себе, и ее тянуло уйти не из-за усталости. Она и не вспоминала о тех холодных ранних утрах, когда с трудом заставляешь себя вылезти из теплой постели, чтобы подоить коров и накормить скотину. Все эти сенокосы, жатвы, вывозка навоза, дорожные работы да и обязательные поставки леса — все это не стоило того, чтобы задним числом хныкать из-за них. Всегда работая много, с увлечением, чувствуя ответственность за свою работу, она достигла в жизни гораздо большего, чем вся ее родня. На плечи сильных всегда ложится более тяжелая ноша, слабые же пусть плетутся в хвосте и пусть их беспомощные руки болтаются впустую.
Как любила Бенита Рихву! Вероятно, и Йосся за то, что он был принадлежностью Рихвы. В первое время Бенита следила за хуторскими постройками, как за больной скотиной. Бывало, в дождь она шла на чердак или на сеновал взглянуть, не прохудилась ли крыша. Завоет осенняя буря, она затаив дыхание прислушивалась, не кряхтит ли и не качается этот видавший виды дом. Неустанно трудилась сама, налаживая хозяйство, подгоняла и Йосся, а еще больше своего отца Каарела, чтобы всюду навести порядок, все усовершенствовать, сделать еще прочнее и надежнее. Она с душевным трепетом прислушивалась к бесконечным рассказам о боях, развернувшихся за поселком, и с великим ужасом думала о смятых войной и превращенных в груды развалин жилищах. Линия фронта казалась ей огненной косой, под которую не должна была попасть Рихва.
Теперь не осталось ни страха, ни любви.
Бенита взялась рукой за корявый ствол дерева и потрясла его. Яблоки, как горох, посыпались на землю. Большим пальцем ноги она стала перекатывать лежавшие в траве зрелые плоды. Ей и в голову не пришло пойти за корзинкой.
— Бенита! — раздался отчаянный вопль Минны.
«Пусть покличет, — подумала Бенита. — Что мне до Рихвы», — жестко повторила она про себя. Но не успела свекровь крикнуть еще раз, как Бенита вбежала в дом.
На кухне был потоп. С потолка отвалился кусок штукатурки, и оттуда на кирпичный пол текла грязная вода.
Бенита распахнула окно и крикнула во двор:
— Випси, сейчас же прекрати!
Бак на чердаке перелился. Випси ничего не смыслила в висевшем на стене водоизмерительном приборе и поэтому продолжала качать воду.
— Ох, батюшки, ох, батюшки! — охала Минна.
Кулливайнуская семья вскочила из-за стола. Мальчишки и девчонки с быстротой хорошо обученных солдат принялись наводить порядок.
Сама Меэта, схватив половую тряпку, начала собирать воду в ведро. Только мальчишки принялись выносить во двор совки с мусором, как мусора словно и не бывало.
Минна сердито смотрела на Бениту, которая безучастно стояла рядом.
Бенита с отсутствующим видом улыбнулась и медленно произнесла:
— Вот видишь, когда-то Йоссь дал Випси пять марок и велел качать воду. Випси до сих пор отрабатывает эти деньги.
Ее словно подмывало подняться на чердак, чтобы взглянуть, много ли бед натворила там вода, но теперешняя Бенита твердой рукой удержала от этого намерения бывшую хозяйку Рихвы.
Она снова отправилась в сад, как будто не успела доделать там что-то очень важное. Оглянувшись через плечо на дом, Бенита вспомнила, что окорок, подвешенный к трубе, вероятно, уже поспел в самый раз. В доме сейчас посторонние, часто разводят огонь в плите, того и гляди, мясо перекоптится.
Бенита подумала, что неплохо бы прихватить с собой окорок, когда она будет уходить из Рихвы.
В то же время мысль о том, что она может покинуть Рихву, казалась ей невероятно ребячливой. Какой-то невидимый и болезненный магнит удерживал ее на этом заросшем травой рихваском дворе, в доме, на конюшне, в хлеву.
Випси неслышно прокралась за Бенитой. Она подошла к ней почти вплотную и пронзительным голосом сказала:
— Кому сера, кому вода!
Бенита пожалела, что всегда хорошо обращалась с придурковатой старухой. Теперь это обернулось против нее. Целыми днями Випси маячит на хуторе и, как верный пес, ходит по пятам за Бенитой. Но жалость к старухе снова одержала верх. Вместо того чтобы прогнать старуху, Бенита спросила:
— Скажи, Випси, у тебя когда-нибудь был дом?
— Нет, — беспечно ответила Випси. Рывком стянув с руки пеструю варежку, она доверчиво протянула ее Бените. — Вот найду пару, тогда и будет у меня дом!
— При чем же здесь варежка? — сердито спросила Бенита, словно ей хотелось заставить полоумную хоть раз заговорить вразумительно.
— Кусти! — вздохнула Випси. Он ушел с мызы, когда цвели анемоны. Сказал, что пойдет в Вигалаский бор и там, в лесной глуши, где водятся медведи, построит дом. Велел мне приходить, когда зацветет мох. Сказал, что сделает в доме только одну дверь, чтобы никто без ведома не приходил и не мешал. Зато пообещал прорубить в стенке два окна — одно для дня, другое — для ночи. Кусти сказал: «Приходи, Випси, когда зацветет мох, законопатим избу, утеплим потолок».
— Когда же ты думаешь идти? — спросила Бенита и невольно улыбнулась: «И Випси собирается в далекий путь!»
— Я уже ходила, — кивнула Випси. От воспоминаний о Вигаласком медвежьем боре Випси растрогалась. Кусти, цветущий мох, окна для дня и ночи — все это стоило того, чтобы немного пустить слезу.
— Я шла, шла, пока не дошла до перекрестка. Сняла с руки варежку и положила на ветку, надо, думаю, дорогу обозначить. Сердце словно чуяло, что придется возвращаться. Ходила искала, да так и не нашла ни бора, ни хижины, ни Кусти. Повернулась и побрела обратно, хлеб-то у меня кончился, да и плодов на деревьях еще не было. Вдруг вижу — стою я около кровати старухи Трехдюймовки, а варежки-то и нет. Откуда мне было знать, что этих перекрестков так много, — удивленно закончила Випси.
— А может быть, мох еще не зацвел? — пробормотала Бенита.
— Вот и я надеюсь, — вздохнула Випси, — вдруг Кусти найдет мою варежку.
Випси снова натянула варежку на руку. Бенита успела заметить, что рука, которая была в варежке, намного светлее той, что была голой.
— Наши лошади! — вдруг вся преобразившись, радостно воскликнула Випси и бросилась бежать.
Бенита сперва подумала, что полоумной старухе опять что-то втемяшилось в голову, но затем она и сама увидела табун лошадей. Неизвестно отчего, ноги у нее вдруг стали как деревянные.
Вначале Бенита не поняла, почему этих лошадей гонят прямо через рихваские клевера, но, поднеся руку к глазам и внимательно присмотревшись, она поняла, что лошади идут сами по себе и что ни конюхов, ни всадников с ними нет.
Випси стояла за капустным полем на обочине канавы и махала лошадям сорванной с головы шалью. Возгласы полоумной донеслись до Бениты. Старуха начала быстро-быстро бегать кругами.
Вдруг Бенита заметила, что Випси мчится к ясеню, что рос на краю поля.
Ну конечно же старуху напугал грохот копыт приближающихся лошадей. Внезапно ноги Бениты снова обрели легкость, и она побежала к проволочной ограде, преградившей путь несущимся лошадям. Прежде чем хозяйка успела достигнуть цели, один из коней, видимо решив, что заграждение, сделанное для скота, для него не препятствие, с разбегу перескочил через колючую проволоку. Вытянув красивую шею, жеребец призывно заржал.
Бенита помчалась что было духу, боясь, что тяжелые рабочие лошади последуют за легкомысленным чалым и покалечат себя. Бенита помнила, сколько было забот, когда, спасаясь от овода, одна из коров разорвала себе о проволоку вымя.
Випси, снова осмелев, улыбаясь вышла из-за ствола ясеня; выражение лица у нее было хитрое, словно у ребенка, играющего в прятки.
— Кыш, кыш! — кричала на бегу лошадям Бенита. Ей хотелось привлечь к себе внимание, чтобы вырвавшиеся на свободу лошади не последовали наобум за своим вожаком.
Сейчас надо было действовать умело.
Бенита, сдерживая прерывистое дыхание, осторожно пошла вдоль ограды, у которой толпились лошади, стараясь не порвать о проволоку платье, и достигла лаза. Лошади вытянули шеи и повернули головы, с интересом наблюдая за движениями Бениты. Один любопытный вороной, протиснувшись вперед, пошел следом за Бенитой. Лошадь мотала своей черной мордой, губами норовя схватить Бениту за плечо и шумно дыша ей в ухо. Даже чалый соблаговолил подойти к лазу поближе. Встряхнув гривой и фыркнув, он снова заржал.
Бенита откинула в сторону нижнее прясло, закрывавшее лаз, затем взялась за верхнее, но, выскользнув у нее из рук, оно со стуком упало на нижнее, и тогда весь табун, теснясь и толкаясь, устремился на дорогу, по которой гоняли скот.
Бенита пошарила в карманах, они были пусты. Хорошо бы заманить сюда чалого, табун пойдет за своим вожаком, и тогда легче будет отогнать их через лесное пастбище к пойме. Пусть попасутся там на отаве, пока за ними не придут.
Спутник цыганки, хозяйский сын из-под Раквере, стоял на выгоне под березами и, прикрыв рукой глаза, смотрел на лошадей. Стук копыт и лошадиное ржание отвлекли его внимание от девчонки. Да и какой крестьянин не интересуется лошадьми?
— Иди, поможешь! — крикнула ему Бенита.
Випси стояла, прислонившись к столбику лаза, и хихикала.
— Встань посреди дороги и разведи руки. Гляди, чтобы лошади не повернули к дому, — скомандовала Бенита, напрягая голос, чтобы перекричать отдувающихся и фыркающих лошадей.
Пока хозяйский сын из-под Раквере бежал к Бените, она отогнала лошадей от лаза, чтобы они снова не рассеялись по полю. Ей необходимо было, чтобы табун сосредоточился в одном определенном месте, не хватало того, чтобы лошади стали повсюду мять и топтать траву.
— Ступай вперед, открой лаз и загони мою скотину в угол, — крикнула парню Бенита.
Толстый парень сделал, что смог. Сломав длинный ивовый прут, он отогнал рихваскую скотину в самый дальний угол пастбища. Затем он помахал Бените рукой в знак того, что все сделано.
Бенита стала гнать лошадей к пастбищу. Випси, подпрыгивая, бежала за ней и хлопала в ладоши. Красивой трусцой длинногривые животные устремились к лазу, который вел на пастбище. Бенита не слишком подгоняла их, лошади чужие, поди знай, иная может испугаться и понести, тем более что по своему составу табун был весьма пестрым. Здесь были верховые лошади, возможно, было сколько-то и рысаков.
Бросались в глаза и годовалые жеребята и старые клячи, были среди лошадей и увечные. Вероятно, этот табун прибежал с мызы, из немецкого полевого госпиталя. Недаром Випси утверждала: «Наши лошади».
Один конь, в белых чулках, потрусил туда, где паслись рихваские коровы; сгрудившись в углу пастбища, они с любопытством разглядывали незваных гостей. Однако парень, хлестнув озорника, быстро вправил ему мозги — конь захрапел и помчался к елям. Его белые ноги, казавшиеся под темным туловищем, неправдоподобно гибкими, мелькали меж низких ветвей, словно показывая дорогу остальным. Чалый, не желавший уступать своей руководящей позиции, галопом промчался мимо «белых чулок» и заржал.
Когда наконец все лошади были водворены на пастбище и прясла задвинуты, Бенита почувствовала, что здорово устала. Хозяйский сын из-под Раквере тоже тяжело дышал, лицо его побагровело, на белых щеточках бровей сверкали капельки пота.
— Эти немецкие доктора щупали лошадей голыми руками, — на обратном пути стала рассказывать Випси. — Немец ощупывал поганое животное! Голыми руками, — повторила Випси. — Зато животные поправились. Ученые люди, а не побрезгали щупать животных голыми руками! — не переставала удивляться Випси.
— Врачи всегда щупают больных голыми руками, — сказала Бенита, чтобы положить конец несносной болтовне Випси.
— Что ты! Что ты! — Випси взволновано замахала руками и так ожесточенно затрясла головой, что комар, жужжавший в ее редких всклокоченных волосах, вылетел оттуда. — Зимой, когда Трехдюймовка вывихнула плечо, к ней привели ветеринарного доктора. Господин был в белых перчатках, точно князь какой, он даже и не подумал снять их, а плечо вправил. Спасибо ему. — Випси остановилась и поклонилась на три стороны; выразив таким образом свою благодарность, она засеменила следом за Бенитой и парнем из-под Раквере.
— Випси права, — улыбнулась Бенита парню, с лица которого постепенно начал спадать румянец. У меня зимой заболел ребенок. Я тоже отправилась на мызу за помощью. В конце концов меня выслушал какой-то ветеринарный врач, немец. Вечером соизволил явиться. Три шикарных жеребца были впряжены в сани, на коленях у барина лежала оленья шкура, в руках — плетеный хлыст, и мчался он по нашей проселочной дороге таким галопом, что казалось, вот-вот поднимется в воздух. Он осмотрел больного, не сняв перчаток, даже шинели не скинул. Я сунула ему в руку узелок, а потом думаю — поди знай, как он это масло есть будет. Может, белой тряпкой рот обложит, прежде чем начнет уплетать то, что приготовлено мужицкими руками?
Випси рукавом вытерла глаза, словно эта история растрогала ее, а хозяйский сын из-под Раквере засмеялся.
— Вообще в лазарете собралось изысканное общество, — продолжала Бенита. — Те лошади, у которых дело шло уже на поправку, нуждались в свежем воздухе. Разумеется, упряжь да и всякие прочие штуковины у этих армейских лошадей, награбленных отовсюду, были самые разные. Всяких чудес можно было навидаться, когда господа обучали лошадей. Когда они ездили верхом, то под седла клали расшитые ковры. На упряжи — бляхи. Иной раз заставляли конюхов расчесывать лошадям гривы на одну сторону, а хвосты заплетать в косички. Бывало, едем мы, мужичье, на своих рабочих клячах в лес на заготовки или к песчаным карьерам за гравием, и попадаются нам навстречу господа из лазарета — тут уж сразу сворачивай с дороги. Точь-в-точь как в старину, во времена баронов.
— Как же их лошади вырвались на свободу? — удивился парень и носовым платком вытер лоб. — А может быть, конюхи сами отпустили их в отместку господам?
— Эстонцев у них на службе не было, — покачала головой Бенита. — В основном — власовцы. Ни нашего, ни немецкого языка не знают. Женщины в деревне боялись их пуще немцев.
— А может, немцы дали стрекача, а лошадей бросили на произвол судьбы? — спросил парень, и его лицо приняло озабоченное выражение.
Бениту предположения парня не интересовали. Внезапно перед ней открылась новая блестящая возможность бежать из Рихвы. Стоило лишь взять с поймы лошадь и запрячь ее. Что-что, а уж на телегу-то она имеет право! Бери лошадей хоть сколько, запрягай их цугом и мчись в далекие края.
Шальная мысль развеселила Бениту, и она улыбнулась.
Парень и даже Випси удивленно разглядывали хозяйку Рихвы.
«Дорога открыта, прощай, Йоссь», — злорадно улыбаясь, подумала Бенита. Сердце ее забилось от горького предвкушения свободы и на какое-то мгновение она забыла о своих спутниках. Выйдя на задворки амбара, Бенита села на иссеченный топором чурбан и рассеянно оглядела покосившуюся поленницу. Парень пожал плечами и направился к реке, где на зеленом лугу сверкало желтое одеяло. Куда-то подевалась и Випси.
На мгновение у Бениты шевельнулось подозрение — а что, если полоумная снова начнет качать воду и совсем испортит потолок на кухне. Однако эта тревожная мысль тут же погасла — она принадлежала той, прежней Бените.
Кто знает, как долго сидела бы Бенита на этом чурбаке, вынашивая планы на будущее и улыбаясь уголками губ, если б хозяйский сын из-под Раквере не крикнул:
— Девчонка исчезла!
Испуганный парень стоял перед хозяйкой Рихвы и умоляюще моргал глазами.
16
уда она денется, — сказала Бенита хозяйскому сыну из-под Раквере, цепко державшему ее за руку. — Гляди, — показала Бенита в сторону берез, — твоя лошадь щиплет там траву — ведь не все же цыгане конокрады.
Парень проглотил слюну и стал теребить на голове свою шапчонку, натягивая ее то на одну, то на другую сторону.
— Пойдем посмотрим, на месте ли телега, — предложила Бенита, чтобы успокоить парня.
Чуть ли не силком она потащила его за собой.
— Я ведь не о телеге беспокоюсь, не о лошади. Девчонка пропала, — продолжая упираться, пробормотал парень.
— Я подумала — отца боишься, вдруг поколотит, если что пропадет из хозяйского добра, — бросила Бенита. — О вещах пекутся больше, чем о людях. Может быть, в ваших краях это не так?
Парень буркнул в ответ что-то неопределенное. Он не уловил насмешки в голосе Бениты.
Они вовремя подошли к риге.
От лип, поднимая пыль, на хутор заворачивала пожарная машина.
Бенита застыла на месте и стала смотреть — не видно ли над строениями дыма. Нет, все было в порядке.
Из кабины торопливо выскочили двое мужчин. В них не было ни присущего пожарникам блеска, ни медных шлемов, ни мундиров.
— Здравствуйте, хозяйка! — заискивающе обратился один из них к Бените. А второй подошел к парню из-под Раквере и по-свойски, взяв его за локоть, отвел в сторонку. Ему не пришлось тратить много времени на уговоры. Уголком глаза Бенита увидела, как парень, махнув рукой, направился к своей телеге. Минутку постоял возле нее, затем, как бы между прочим, сгреб в кучу и примял сено, лежавшее на дне телеги. И вот он уже мелькал по ту сторону живой изгороди, избрав самый короткий путь к реке.
Теперь, когда парень был уже настолько далеко, что ничего не мог слышать, второй пожарник тоже подошел к хозяйке.
— Дорогая хозяюшка, — сказал первый пожарник, заставляя себя говорить медленно. — Нам надо спрятать архив. Покажи какое-нибудь местечко. На несколько дней, — поспешно добавил он.
— А вдруг у вас не архив, а награбленное добро? — улыбнулась Бенита. Ей ужасно захотелось подразнить этих незнакомых людей. Отвратительно, когда у мужчин от волнения начинает дрожать подбородок. Сперва мальчишка со своей девчонкой, теперь эти молодчики, переминающиеся с ноги на ногу, даже мотор своей красной машины не заглушили, торопятся как на пожар.
Но мужчины восприняли слова Бениты всерьез. Один из них вынул из машины толстую папку, на ходу раскрыл ее и сказал:
— Вот, например, документы, касающиеся наших юбилейных торжеств. Читайте, — настойчиво произнес он. Бенита шутки ради полистала подшитые бумаги. Ей бросились в глаза квитанции на покупку брезентовых насосов, учетный листок на древесину, данные о расходовании кистей и красок и мелко исписанный счет из ресторана.
Бенита с шумом захлопнула папку и сказала:
— Пусть грядущие поколения узнают, сколько государственной водки было израсходовано на то, чтобы погасить огонь жажды. Что ж, тащите свое добро в ригу и суньте эти бумажонки в бочку с высевками.
Мужчины, бормоча слова благодарности, по очереди пожали руку хозяйке Рихвы.
Бенита, пройдя вперед, показала им на бочку с высевками, стоявшую в темном углу, а сама снова вышла во двор и стала разглядывать свои руки. Ну и пожатие — прямо до синяков!
Не теряя времени, мужчины внесли в ригу тяжелые тюки. Бросив взгляд на эти здоровенные узлы, Бенита подумала, что продемонстрированные только что папки с актами предназначались для любопытных вроде нее.
— Вы скоро заберете их? — требовательно спросила Бенита.
— Скоро, скоро! — пообещали мужчины и кряхтя внесли в ригу еще один узел, перевязанный бельевой веревкой.
Бените было неинтересно наблюдать за тем, как пожарники разгружают свой архив, и она поплелась к дому. В нерешительности остановившись посреди двора, она заметила, что у ворот хлева уже ложится тень. Приближалось время вечерней дойки.
Бените всегда нравились звуки, сопровождавшие вечерние хлопоты по хозяйству. Из деревни доносится радостный лай, это псов спустили с цепи, чтобы пригнать стадо. Мычат коровы, визжат свиньи, пока им разливают болтушку по корытам. Призывно ржут лошади в ночном — стремятся к реке на водопой. Блеют овцы, их, глупеньких, надо подгонять, пока они не отыщут своих загончиков, словно впервые возвращаются с пастбища в хлев.
Только Купидон был другим.
Бените вспомнилось, что голова Купидона все еще валяется возле кучи торфа. Теперь можно было не торопиться убирать ее. Пусть образцовый порядок на Рихве пошатнется. Глупо переживать из-за этого. Даже если откинуть в сторону ссору с Йоссем. Земля начала колебаться, опустошив многие дома. Испуганные люди бродят вокруг, и кажется, будто все летит вверх тормашками. Чем Рихва лучше других, чтобы подобно священной дубраве возвышаться посреди бурелома? Если Рихва еще годна на то, чтобы служить кровом или складом, — и то слава богу.
Странный человек, этот Молларт. Что заставило его в такое время пойти по следам эпидемии? Что вынудило его действовать? И не все ли ему равно, расцветут ли пышным цветом микробы бруцеллеза после того, как он, Молларт, навсегда отряхнет прах от своих ног…
Однако этот субботний вечер конца сентября был предназначен не для того, чтобы рассеянно стоять посреди двора и размышлять.
Из-за конюшни послышался плач маленького ребенка. Вероятно, то был младенец, еще не вышедший из пеленок.
Вдруг какие-нибудь проходимцы запрятали ребенка в кучу хвороста, а сами тихонько ушли, не обремененные ношей?
У кучи хвороста, опираясь на тот её край, что был пониже, стоял мужчина в кепке. Он с интересом разглядывал свою обутую в сапог ногу, делавшую кругообразные движения и сминавшую начавшую уже желтеть сорную траву. За спиной у мужчины на чурбаке сидела худая женщина и укачивала лежавшего у нее на коленях младенца. Старший ребенок, девочка, развязывала узел, стоявший на изрытой копытами земле, очевидно, искала для младенца сухие пеленки. Маленькая тележка, поставленная посреди скотопрогонной дороги, вызывала глубочайшее недоумение. Бенита никогда бы не поверила, что можно решиться предпринять путешествие с такой повозкой.
Хозяйке Рихвы хотелось обстоятельно разглядеть тележку с четырьмя маленькими колесами и тяговой оглоблей, до отказа набитую всякими узлами и пожитками, но мужчина, стоявший у кучи хвороста, поднял голову, и только сейчас Бенита узнала его.
Помилуй бог, как это господину пастору удалось докатить тележку из поселка в Рихву.
— Здравствуйте, — смущенно пробормотала Бенита.
Пастор поклонился ей, его жена любезно кивнула головой, и только девчонка, шарившая в узле, выпрямилась и чинно присела. Очевидно, скитания убедили ее в том, что чванство — пустая условность. Если у родителей нет приличествующего их званию средства передвижения, то положение, которое они занимали прежде, ничего не стоит.
— Я сейчас провожу вас в дом, — поспешно предложила Бенита. — К нам еще до вас прибыли беженцы, на Рихве второй день идет переселение народов.
Бенита думала приободрить этим пасторскую семью — не только их швыряет судьба.
— Нам бы хотелось, если можно, отдельно. Например, в ригу или в баню, — сказал пастор.
— Баня у нас плохонькая, — растерянно ответила Бенита, — а рига…
Только что здесь побывали пожарники, спрятали в бочке с высевками свой архив. Кто знает, кого еще занесет сюда…
— В бане спокойнее, — решила хозяйка Рихвы.
— Значит, расположимся в бане, — сказала пасторша.
Закутав ребенка в одеяло, она встала.
Бенита быстро подошла к тележке, взялась за перекладину оглобли и повезла. Пастор не стал вмешиваться, он поправил рукой глухой ворот свитера, натиравший ему в теплую погоду шею, и расстегнул пуговицы серого в елочку пиджака.
Пасторша, увидев свой будущий кров, оживилась. Она велела мужу и Бените поставить тележку с поклажей в предбанник. Передав дочке младенца, госпожа собрала шайки и ковши и поставила их на полок. Обнаружив у печки остатки веника и мочалку, она собрала с пола мусор, заодно вытерла пыль с оконца и раскрыла обе половинки ставен.
Бенита внимательно смотрела на черный покосившийся потолок, он еще каким-то образом держался. Знай Бенита, что в бане поселится столь уважаемое общество, она бы не боролась с Купидоном на крыше, ставя под угрозу обвала будущее пристанище пасторской семьи.
— О, тут и ведра есть, — словно для собственного успокоения сказала себе пасторша и посмотрела на свет, не прохудилось ли дно ведерка. — В предбаннике стоят длинные скамьи, на них положим девочку…
— Дал бог ночлег, даст и завтрашний день, — ясным голосом произнесла девочка.
— В доме вам было бы удобнее, — сказала Бенита, чувствуя себя виноватой, что предоставила гостям такое жалкое жилье.
— Нет, — ответил пастор. — Мы набьем мешки сеном, натаскаем хворосту и немножко протопим здесь. От молока тоже не откажемся.
Бенита кивнула, боясь, что всякие любезные слова с ее стороны вдруг окажутся неуместными.
Выйдя из бани — девочка с ведерками следом, — молодая хозяйка Рихвы почувствовала, что общение с пасторской семьей выбило ее из привычной колеи. Она шла какой-то несвойственной ей походкой, маленькими шажками, не отрывая глаз от дороги. Ей хотелось подобрать падающие вдоль плеч волосы и связать их на затылке в тугой узел.
Этот самый пастор конфирмировал ее, венчал ее с Йоссем, он же крестил их ребенка.
Когда Бенита заходила в церковную канцелярию договариваться относительно разных праздничных обрядов, он журил ее за неуплату церковной подати.
«Сейчас самое время снять окорок с трубы и отрезать от него кусок для пастора, чтобы уплатить ему не только старые долги, но и проценты», — подумала Бенита.
Бенита без больших усилий подняла лестницу. Ей нечего было рассчитывать на помощь мужчин. Не станет же Йоссь, который скрывается от всех на свете, лезть на крышу! Бенита, уперев лестницу одним концом к боку корыта, приставила ее к крыше. Шест с перекладинами, который вел на гребень гонтовой крыши, был несколько лет тому назад заменен новым.
Самым трудным оказалось — встать наверху. Покачиваясь на гребне, Бенита почувствовала странный зуд в ногах. У нее было такое ощущение, словно она находилась на грани действительности и сна, — оторвав одну ногу от перекладины, Бенита вдруг почувствовала, что падает вниз. На самом же деле нога, возможно, лишь на несколько сантиметров сдвинулась к стрехе, и тут же ее руки с молниеносной быстротой ухватились за просмоленную трубу. Бените, старающейся поудобнее пристроить на выступе свои ноги в постолах, вспомнился печник из поселка, который, ссорясь с женой, всегда на один и тот же манер мстил своей слабой половине. Он выжидал, пока наступит тот сладостный момент, когда жена начнет варить или печь, чтобы залезть на крышу и усесться на трубе. Через минуту вся кухня до самого потолка утопала в дыму. Жена, задыхаясь от кашля, выбегала из дома и начинала умолять мужа слезть. А он и в ус не дул. Озирался по сторонам, болтал ногами и курил трубку. Печник обычно говорил, что человеку положено со всех сторон прокоптиться. В конце концов, когда жена, простирая руки к небу, падала перед мужем на колени, он отдирал с отверстия трубы одно полушарие своей задницы. Десять лет жена терпела издевательства мужа, но однажды выбежала из кухни во двор с горящей головешкой в руке и стала грозить, дескать, если муж сейчас же не спустится, она сию минуту подожжет крышу. Муж, не ожидая от жены такого сопротивления, настолько перепугался, что чуть не упал, слезая с крыши, и со страху уронил трубку в дымоход.
Бенита осторожно потянула за цепочку, на которой висел свиной окорок. Обычно, когда надо было лезть за копченым мясом на крышу, она брала с собой трос. Все равно лезть, так уж лучше сделать заодно два дела — что стоит несколько раз протянуть трос через дымоход. Но сегодня Бените даже в голову не пришло захватить из-под стрехи амбара стальной трос, распущенный щеткой. В душе Бенита усмехнулась. У реки ее ждет табун лошадей — хозяйка Рихвы задумала мчаться в сторону семи ветров.
Свиной окорок был готов в самый раз и выглядел весьма аппетитно. У Бениты даже слюнки потекли. Она забыла прихватить с собой нож и поэтому оторвала кусочек мяса зубами. Бенита охотно уселась бы на трубу, как тот печник из поселка, но в отличие от него на ней не было штанов с кожаными заплатами на заднице. А ведь можно было бы устроить себе приятный досуг. Никто не догадается искать хозяйку на крыше — пусть приходят и уходят эти беженцы, пусть Минна сама улаживает дела на хуторе, она, Бенита, сидела бы здесь, наверху, словно на наблюдательной вышке, и грызла свиную ляжку.
К тому же исчезла боязнь высоты, и Бенита решила оглядеть окрестности. Этих посторонних набралось в доме столько, что их следовало бы пересчитать как цыплят, прежде чем военный ястреб опустится над Рихвой и сцапает кого-либо из них.
Итак, прежде всего кулливайнуская Меэта со своей семьей. Сколько же все-таки у нее детей? Затем хозяйский сын из-под Раквере со своей «мельничихой», оказавшейся цыганкой. Интересно, нашел ли он девчонку? Бенита нагнулась, чтобы взглянуть в сторону реки — неподалеку от синей ленты воды одиноко поблескивало желтое атласное одеяло. «Может быть, парень утопился с горя? В таком случае желтое одеяло следовало бы отдать пасторской семье», — подумала Бенита. Как ни странно, но недобрые мысли приносили облегчение.
Внезапно Бенита заметила хозяйского сына из-под Раквере. Понурив голову, он бродил далеко от желтого одеяла. «Почему он идет вверх по течению, какой несообразительный парень? Если девчонка утопилась, — с сожалением подумала Бенита, — то тело ее уносит вниз по реке».
Бенита виновато улыбнулась, словно ей надо было просить у кого-то прощения за свои нелепые мысли.
У бани тоже заметно было движение. Девчушка натаскала воды и сейчас шла с вязанкой хвороста. Не иначе как пасторша собирается купать своего младенца. Пастор, заложив руки за спину, бродил вокруг, затем остановился у погреба, куда Каарел только что привез воз картофеля. Отец подобострастно стянул с головы шапку. Пастор что-то говорил и в такт словам кивал головой. Были то слова божественного писания или он журил Каарела за неуплату церковной подати, а может быть, предлагал ему купить оставшиеся портреты Гитлера?
В последние годы пастор широко распространял в округе портреты вождя. Каждый, кому случалось зайти в церковную канцелярию, уходил оттуда с портретом фюрера под мышкой. Более зажиточным хуторянам пастор всучал портреты побольше и подороже, бедные же возвращались домой с более легкой ношей. А сам пастор — судачили злые языки — якобы приобрел совсем крошечный портрет, умещавшийся в нагрудном кармане пиджака.
Кулливайнуский хозяин тоже отвел своих лошадей на выгон, туда, где подле берез паслась с обеда жеребая кобыла хозяйского сына из-под Раквере. Теперь три лошади стояли там мордами друг к другу, словно жалуясь одна другой на пыльные дороги и тяжелые поклажи.
Увесистый свиной окорок давал себя знать, и Бенита решила слезть с крыши. Какая-то непреодолимая сила заставила ее взглянуть туда, где сквозь вербный кустарник зигзагом мелькала белая лента дороги, терявшаяся затем в еловом лесу.
Оттуда приближался целый обоз!
Бените бросился в глаза одинокий человек, шагавший рядом с телегой, из которой высовывались наружу доски. За телегой следовала рессорная коляска, в ней сидели двое мужчин в шляпах. Затем пароконная линейка. Ну и поклажи было на ней, не говоря о женщинах и детях. Через некоторое время Бенита увидела сквозь кусты вербы еще одну повозку — серый, неопределенной формы воз — очевидно, то были мешки, накрытые брезентом.
17
видев, что обоз, миновав липы, заворачивает на Рихву, Бенита сказала стоявшей поблизости кулливайнуской Меэте:
— Гляди, в Рихву валит гость. Будь добра, кликни на подмогу свой полк да прогони скотину домой и накорми ее.
Меэта подошла к Бените и обняла ее за плечи.
— Не беспокойся, все сделаю, — приветливо улыбаясь, пообещала кулливайнуская хозяйка.
Бенита уже бежала к риге. Она распахнула ворота и, чтобы они не захлопнулись, приперла обе половинки камнями.
— Хозяйка, принимай гостей! — крикнул из рессорной коляски мужчина, державший вожжи, и приподнял шляпу.
На какой-то миг Бенита потеряла дар речи.
— Ты нисколько не изменился, Рикс, — произнесла она, медленно идя ему навстречу.
— Неслыханное дело! — покачал головой мужчина, которого назвали Риксом, вылезая из рессорной коляски. — Такого сюрприза я никак не ожидал! Что ты здесь делаешь, Бенита?
— Да вот, стала хозяйкой рихваского хутора, — щуря глаза, ответила Бенита.
— Что хотела, то и получила, — высокомерно бросил мужчина и оценивающим взглядом окинул рихваские постройки. Затем, положив руку на плечо Бениты, стал всматриваться в ее лицо.
От прикосновения Рикса Бенита вздрогнула, однако сразу же приняла равнодушный вид.
— Добро пожаловать, Рикс, на мой хутор, — не скрывая насмешки, произнесла Бенита, стараясь отогнать нахлынувшие воспоминания, от которых к ее щекам невольно прилила краска.
Все, кто ехал в одном обозе с Риксом, с интересом наблюдали за мужчиной и женщиной. Даже лошади скосили глаза на хозяйку рихваского хутора.
— Послушай, Рикс, — чуть наклоняясь вперед и многозначительно глядя на Бениту, произнес второй мужчина, ехавший в рессорной коляске. — Нам, кажется, повезло?
— Мой друг, Парабеллум, — представил мужчину Рикс. — Человек, объездивший полмира.
Парабеллум выскочил из коляски и протянул Бените левую руку.
— Милая публика, — обратился Рикс к попутчикам. — Перед вами госпожа Бенита, моя школьная приятельница, человек с золотым сердцем, которая не откажет нам в помощи и крове.
Бенита натянуто улыбнулась. Чтобы справиться с чувством неловкости, она стала деловитым тоном отдавать распоряжения. Ей было трудно собраться с мыслями, потому что рука Рикса все еще лежала на ее плече, и Бенита чувствовала себя скованно.
— Поставьте телеги в ригу. А лошадей отведите на выгон, вон туда, где две березы.
— Надеюсь, твой муж не дома? — тихо спросил Рикс, сдавливая пальцами плечо Бениты.
Справившись с первым смущением, Бенита выскользнула из объятий Рикса.
— Для кого дома, для кого нет! — смеясь ответила она.
— Мое почтение, — почему-то сказал Парабеллум, который так и не вынул правую руку из кармана. Прихватим с собой к морю хозяйку?
— У меня у самой тридцать лошадей на пойме пасутся, могу и одна доехать, вашей кляче все равно всех не увезти, — шутливо ответила Бенита.
Пока на обочине картофельного поля шло возобновление старого знакомства, остальные беженцы не теряли времени. Причмокивая и понукая усталых лошадей, люди стронули их с места, и возы, один за другим, стали заворачивать в ворота риги. Как и у кулливайнуского семейства, так и у новоприбывших за телегами шли на привязи телки и коровы. В ящиках хрюкали свиньи, а у одной семьи был даже прихвачен с собой пес. Он был привязан коротенькой веревкой к задней оси и, таким образом, из-под телеги виднелся лишь его хвост, закрученный колечком.
Перед тем, как распрягать лошадей, с возов сняли заморенных детишек. Малыши с затекшими от долгого сидения ногами топтались на земляном полу риги. Они снова и снова выходили за ворота, чтобы поглядеть, что делается снаружи, и сразу же возвращались обратно. Очевидно, им надоело находиться под открытым небом и теперь, обретя крышу над головой, они блаженствовали в непривычно просторном помещении.
Последним повел свою лошадь Рикс. Шагая рядом с рессорной коляской, он ввел своего каурого в ригу, повернул оглоблями к воротам, а затем распряг.
— Красивый жеребец, не правда ли? — обращаясь к Бените, сказал Парабеллум.
Бенита кивнула.
— В нынешнее время самое правильное — ехать на одре. Дорогой немцы хотели силой отнять у Рикса его каурого. Рикс откупился сигаретами. Солдаты махнули рукой и оставили нас в покое.
— Не понимаю, как такие люди, как вы, могут спокойно путешествовать? — удивилась Бенита.
Парабеллум усмехнулся.
— Кое-что должно быть и в кармане, и в голове, — произнес он. — В нынешнее время надо беречь своего брата-эстонца. Этак нас совсем разбросает в разные стороны. Кто в русской армии, кто у немцев, кто хворый, кто сам сделал себя хворым — много ли нас останется? Взглянут когда-нибудь на скрижали истории и увидят вместо имен наших мужчин — прочерки. Придется тогда вводить восточные обычаи и создавать гаремы, чтобы поднять численность населения до прежнего уровня.
«Куда они все собрались ехать?»— подумала Бенита, заглядывая в ригу, где сновали люди.
— Эстонию сейчас, пожалуй, накренило к западу, — рассмеялся Парабеллум. — Скоро вода в Виртсу перельется через край.
— Есть ли в этом смысл? — спросила Бенита, а сама подумала о Молларте. — Земля опустеет.
— К сожалению, человек думает в первую очередь о себе, — пробормотал Парабеллум. — Все можно оправдать! Останешься на месте — можешь исчезнуть, опять-таки — прочерк. Уедешь — когда-нибудь вернешься с терновым венцом мученика на голове. Вы не боитесь? Не дрожите от страха? Трескучий сибирский мороз вам не снится?
— На мне нет вины, — ответила Бенита.
— Думаете, на ней есть? — спросил Парабеллум и показал на молодую женщину, нянчившую ребенка у ворот риги.
— Она же едет за мужем.
— Здесь всякие есть. Те, кто бегут от выстрелов — самый примитивный сорт, — согласился Парабеллум.
— У меня, очевидно, плохо развито воображение, — после минутного молчания заметила Бенита. — Я всю войну прожила здесь, в Рихве, и, слава богу, осталась в стороне от всего. Я не прошла школы страха.
— Я ведь не зря предложил вам место в рессорной коляске, — усмехнулся Парабеллум. — Послушайтесь старших.
— Глядите, у одного беженца с собой строительный материал. — Бенита показала рукой на мрачного пожилого мужчину, на возу которого заметила доски. — Очевидно, собирается ставить хибару на другом берегу. И поросенка прихватил, если не сдохнет в пути от морской болезни, то и хозяйства налаживать не надо, все есть, — усмехнулась Бенита.
— Этот человек везет дубовые доски, — сказал Парабеллум, становясь серьезным. — Два его сына-легионера убиты. Жена отправилась весной в город и не вернулась — погибла во время бомбежки. У него был куплен участок для семейного склепа. Жена и дети погибли, класть под плиту с золотой надписью стало некого. Говорят, он поклялся до самой смерти возить за собой доски на собственный гроб. Всегда найдется кто-нибудь, кто сколотит из них ящик и отвезет гроб туда, где человек присмотрел для себя местечко.
— Иной считает, не все ли равно, где помирать — дома в постели или в придорожной канаве. Еще меньше его беспокоит, где он будет похоронен, — сказала Бенита.
Парабеллум поморщился, словно его мучила зубная боль.
У Бениты по спине забегали мурашки. Разговор принял чересчур мрачный характер, и это было совершенно неуместно, потому что тут же, поблизости, суетились краснощекие женщины и с визгом шныряли ребятишки. Кулливайнуская Меэта стояла посреди двора, как олицетворение радости, и процеживала молоко. Из подойника, описывая дугу, текла белая пенистая струйка.
— Откуда вы знаете Рикса? — спросила Бенита Парабеллума.
— По университету.
— В Рихве никогда не собиралось такое пестрое общество, — с грустью усмехнулась Бенита. Ей вдруг стало невероятно жаль, что среди них нет Молларта.
Рикс возвращался с выгона и уже издали махал Бените и Парабеллуму.
— Друзья! — крикнул он. — Мы должны отпраздновать эту прекрасную встречу! Скажи, Бенита, где находится ближайшая лавка, хорошо бы купить сивухи. У меня карманы набиты деньгами, только не знаю, какие купюры сейчас в ходу? Карман жилета лопается от фунтов, карманы брюк набиты русскими червонцами, эстонские кроны позвякивают за пазухой, а немецкие марки я запихал в рессорную подушку, чтоб мягче было ехать. Ну, так показывай дорогу, Бенита!
— Моя мамона надежнее, — рассмеялась Бенита. — Бочка с мясом в амбаре. К счастью, свиной хвост еще не виден.
— А я и не думал, что твоя кладовая пуста. — Рикс снова положил руку на плечо Бениты. — С мешком хлеба не пропадешь, а с мешком денег — непременно.
— Сообщил бы заранее, я бы пиво поставила. Для чего хранить зерно? Вот твой друг старался убедить меня, что скоро в Эстонии не останется ни одного живого эстонца. Что работу, которую не успел закончить Адольф, завершит Иосиф.
— Да здравствует веселое настроение до самого последнего вздоха! — зарокотал Рикс.
— Дубовые гробы нам не нужны, — пробормотала про себя Бенита.
У ворот сарая собрались любопытные.
Предаваться мрачным мыслям или веселиться — и то и другое казалось сейчас Бените неуместным. Сжав губы, она стала разглядывать беженцев. Хотя мужчина, который вез доски для гроба, понуро стоял чуть позади остальных, он больше всех привлекал ее внимание. Глаза и брови на его скуластом лице были поставлены очень близко, от широких ноздрей к уголкам рта тянулись глубокие морщины, казалось, будто все в его лице сосредоточилось посередине, выбритые же и как бы проваленные виски и щеки создавали впечатление светлой рамки вокруг более темной средней части лица.
Затем взгляд Бениты остановился на веснушчатой женщине неопределенного возраста. На вид ей могло быть лет двадцать пять, да и малыши, вертящиеся у ее ног, свидетельствовали о молодости матери. Но тяжелый зад и обвислая грудь изрядно старили ее.
Недалеко от толстозадой женщины потягивался и зевал плечистый мужчина.
— Яанус, — обратилась она к мужчине, — ты напоил лошадь и корову?
— Все будет сделано своевременно или несколько позже, — ответил Яанус, когда его рот встал на свое место.
— Яанус, — гнусавым голосом повторила женщина, — скотина после долгого пути хочет пить.
— Армильда, я в который раз говорю тебе, оставь меня в покое, — гаркнул мужчина.
Какая-то пара прислонилась к воротам риги. Оба были на одно лицо — бесцветные, одетые во что-то серое, среднего роста и возраста.
— Вот эта пара там, — перехватил Парабеллум взгляд Бениты, — лучше всех подготовлена к различным превратностям судьбы. Они везут соль и железо, — прошептал он. — Полагаю, что сколько-то металла каждый из них имеет при себе. Разумеется, не железа, — подмигнул Бените Парабеллум. — Недаром от тяжести их к земле клонит.
Унылая пара пристально смотрела на хозяйку Рихвы и, чтобы избавиться от этих несносных взглядов, Бенита сказала:
— В кухне каждый из вас может приготовить себе поесть.
Собственно говоря, и ей пора уже было собирать узелок с провизией, чтобы нести его Йоссю. Выпитый за обедом самогон давным-давно успел испариться за то время, что Йоссь дрыхнул в своем сарае. А когда Йоссь просыпается, у него от голода подводит живот — так по крайней мере он сам утверждает.
Бенита сделала шаг назад, пятка ее глубоко ушла в землю. Ей почему-то подумалось, что и Йоссь — одно из рихваских животных, которое только и ждет, чтобы его напоили и накормили.
— Как рассветет — тронемся в путь, — закуривая сигарету от зажигалки Парабеллума, внезапно произнес Рикс.
— Или даже еще раньше, — согласился Парабеллум.
— Не жаль? — спросила Бенита и снова подумала о Молларте.
— Идите за молоком! — звонким голосом крикнула со двора кулливайнуская Меэта.
Толстозадая Армильда, появившаяся с подойником в руке в воротах риги, смущенно улыбнулась Бените и, словно извиняясь, сказала:
— У нас с собой корова. Когда уходили из дому, я сразу знала, какую из них брать. Это моя любимица, ее легко доить. Уж прямо не знаю, как оставлю ее на берегу, ужас, до чего жаль.
— А может, она поплывет за лодкой, — сказал Рикс.
Армильда сердито фыркнула.
— Послушай, Парабеллум, — обратился Рикс к приятелю. — Пойдем-ка поспим на сеновале, а то ведь с самого утра в пути, — добавил он, как бы извиняясь перед Бенитой.
Бенита пожала плечами.
— Потом потолкуем, — многозначительно сказал Рикс Бените и еще раз сжал ей плечо.
— Оставь, Рикс, — тихо сказала Бенита. — Это было так давно.
18
еред амбаром в измятом платье, небрежно расставив колени, сидела понурившись сылмеская Элла. Бенита подошла к ней и потрясла за плечо, думая, что Элла задремала.
— Пойдем, — шепотом сказала Элла Бените.
— Куда? — спросила хозяйка Рихвы у сылмеской хозяйской дочки.
— Пошли быстрее! — кривя рот, взвизгнула Элла, и Бенита заметила, что под глазами у нее набухли мешки.
Поскольку в этот момент к колодцу, улыбаясь, летела пасторша, Бенита не стала больше допытываться и последовала за Эллой.
Элла быстро шагала впереди в сторону выгона. Она перелезла через ограду, даже не приподняв проволоки. Колючка, за которую зацепился подол ее платья, немного порвала ткань.
— Скажи мне, Бенита, — потребовала Элла, когда они шли лугом к реке. — Скажи, чем я плоха?
— С чего ты взяла!
— Почему они пренебрегают мной?
— Кто они?
— Мужчины.
— Не знаю, — рассмеялась Бенита.
— Почему они не хотят меня? Ну, скажи же!
— Ты чересчур липнешь к ним, вероятно, поэтому.
— Ах, — Элла вяло махнула рукой. Странно, но она не рассердилась.
— Что случилось? — спросила Бенита, когда, спустившись к реке, Элла начала балансировать по камням.
— Ты глупая, — сказала Элла, не отвечая на вопрос Бениты. — Ты думаешь, будто у мужчин есть душа и мозги. Нет. Даже у рихваского барана Купидона больше ума, чем у этих в сарае.
— Было больше, — пробормотала Бенита.
Элла вздохнула.
— Ты снова носила мужчинам самогон и напоила их допьяна? — спросила Бенита, когда они подходили к жилищу «лесных братьев».
— Да, я отнесла им самогон, — строптиво ответила Элла и вдруг начала всхлипывать.
— Что, не получилось с Йоссем? — с презрением спросила Бенита.
Элла продолжала всхлипывать.
— Знаешь что, Элла? Забирай Йосся, дарю его тебе, — выпалила Бенита, чтоб прекратить хныканье своей спутницы. — Идем, я дам Йоссю официальное разрешение. Подите вы все к чертям! Да снизойдет на вас блаженство, дьяволы! Я сыта вами по горло.
— Нет, все гораздо хуже, — икнула Элла.
— Видишь ли, я не могу вместо тебя заарканить мужчин и притащить их к тебе в постель.
— Поглядим, какую песенку ты запоешь, когда увидишь, — пробормотала Элла, справившись со слезами. — Поглядим, — повторила она злорадно.
Дальше женщины шли в полном молчании.
Бените вдруг показалось, что у нее исчезли все мысли и чувства, словно чье-то тело, наполненное пустотой, шагало за Эллой к сараю и шаг его был размеренным и ровным. Зачем она вообще согласилась пойти с Эллой?
«О какой неожиданности говорила Элла? Все равно, все равно», — повторяла про себя Бенита. Эти слова метались в пустоте ее черепной коробки и через короткие промежутки времени отдавались болью в висках.
Перед сараем не было ни души. Темное его отверстие пустовало. Стояло полное безмолвие.
Элла пропустила Бениту вперед и подтолкнула ее в спину. Бенита тряхнула плечом, чтобы сбросить с себя руку Эллы. Та и впрямь чуть отстала и, обернувшись, Бенита увидела, что Элла плетется сзади, припадая на обе ноги, точно у нее болели коленные суставы.
Пригнув голову, Бенита вошла в сарай и остановилась. Привыкнув к темноте и сообразив, что здесь происходит, Бенита повернулась и через плечо сплюнула в траву. У ближней ели, прислонившись к ней, стояла сылмеская Элла и прерывисто смеялась, словно ее бил озноб или кто-то щекотал ее.
— Ну, что будешь делать теперь? — сквозь смех спросила Элла.
— Послушай, ты куришь? — обратилась Бенита к Элле.
— Нет, — смущенно ответила она.
— Я хотела попросить у тебя спички, — пояснила Бенита.
— Зачем? — подозрительно спросила Элла.
— Подожгла бы все это заведение, — с ледяным спокойствием ответила Бенита.
То ли Эльмар опьянел меньше других, то ли по какой другой причине, но во всяком случае до его помутненного сознания дошла угроза Бениты, и он встал. Держась за столбик от нар, он правой свободной рукой схватил Бениту за грудь и тут же швырнул ее на пол. Хотя на полу лежало сено, Бенита, падая, больно ушибла локоть. Однако ей все же удалось ударить Эльмара кулаком в лицо и вылезти из-под грохнувшегося на нее, подобно мешку, мужчины. Встав, Бенита пнула Эльмара ногой, но, видимо, удар был слабым, потому что Эльмар лишь захихикал и, продолжая лежать, попытался вялой рукой схватить Бениту за ногу.
Остальные «лесные братья» тоже лежали, распластавшись на полу. Йоссь, царь природы, валялся чуть позади и его рука покоилась на голой груди цыганки.
Запах сивухи, витающий в сарае, вызвал у Бениты тошноту.
Йоссь с трудом открыл глаза и посмотрел на жену. Появление Бениты не встревожило его, он даже не удосужился убрать руку с груди девчонки.
— Вот, побаловались здесь малость, — заплетающимся языком произнес Йоссь. — Пристала тут к нам одна баба. Настоящая баба, зря не рассуждает. А вот ты рассуждаешь, и Элла рассуждает. Приходит баба Кустаса и тоже рассуждает. Почему люди должны рассуждать? — пробормотал Йоссь и наконец убрал свою руку, которая казалась приклеенной к смуглой груди цыганки.
Эльмар снова поднялся. Он, пошатываясь, подошел к Йоссю и цыганке, поднял палец, погрозил им в сторону Бениты и хрипло рассмеялся. После того как веселое настроение немного улеглось, он сказал:
— Йоссь нам рассказывал, все мы знаем, какая ты была добрая девчонка. Эта чернявая — тоже добрая девчонка, здорово хлестала самогон. Видно, сильная жажда напала. Человеку надо давать пить, если у него жажда. Йоссь правильно сказал: чернявая девчонка лучше всех вас, она зря не рассуждает. Она вообще не рассуждает. Все время молчит. С тех пор, как толстый белый парень испарился и мы сцапали девчонку, она вообще не говорила. Видно, хотела отделаться от толстого парня.
Кустас, который лежал в стороне с расстегнутой ширинкой, громко храпел, раскрыв рот. Из самого темного угла поднялся заморыш Карла и с закрытыми глазами, покачиваясь, пошел прямо на Бениту. Оттолкнув ее с дороги, он сделал еще несколько шагов, а затем спокойно остановился у стойки нар. Помочившись, заморыш Карла зевнул, причмокнул и полез спать на те самые нары, возле которых он только что сходил по малой нужде.
— Господи! — появляясь в дверях, взвизгнула Элла, когда Карла грохнулся на нары.
Молчание Бениты окрылило Эльмара, и он поспешил поделиться с хозяйкой Рихвы своими приятными впечатлениями.
— Поволокли девчонку сюда. Когда были уже у самого сарая, поняли: зря заткнули ей рот платком. Она и не собиралась рассуждать. Она была полностью согласна с нами. Девчонка, очевидно, тоже устала от тех, кто рассуждает. Карла налил полный штоф самогона и отправил его вкруговую. Совсем как у древних эстов. Никто не гнушается пригубить после другого. Все мы братья. Ну и пошло — круг, еще круг, и никто не рассуждает. В конце концов штоф пошел писать круги с такой быстротой, что только успевай протягивать руку и отхлебывать положенный тебе глоток. Я столько раз поднимал этот проклятый штоф, что у меня аж плечо заболело. Вся спина взмокла. Девчонка артачилась. Женщины всегда ломаются поначалу. Я подержал штоф у ее рта, а Йоссь приподнял его за донышко и вылил девчонке в горло. Этак лучше всего, как тут будешь спорить, ежели живительная влага сама тебе в горло течет.
Карла перестал храпеть и запел:
— О моя девушка, моя Марлен…
— Молчи, заморыш! — прикрикнул на него Эльмар.
— Ты что, болван, идолище лесное, цепляешься! — вяло выругался в ответ заморыш Карла. — Что же, выходит, я дерьмовей всех, раз вы меня последним оставили? Могли бы по крайности двух девчонок привести. Мой старик, когда ездил на ярмарку, всегда привозил каждому по сахарной булочке, — буркнул Карла.
В течение всего разговора цыганка даже не шелохнулась.
Внезапно у Бениты шевельнулось подозрение. Она с быстротой молнии нагнулась и убрала волосы с лица девушки.
Веки у цыганки были опущены. Приподняв одно из них, Бенита увидела неподвижный зрачок. Но девчонка тут же затрясла головой, словно отгоняя муху, и открыла глаза. Ее тупой масленый взгляд обжег Бениту. Девчонка почему-то потрогала свою грудь, однако даже не сделала попытки прикрыть ее.
— Дитятке жарко, — хихикнул Эльмар. — Картофельная сивуха, от нее всегда тело горит.
Кустас зевнул, почесал голову, стряхнул с волос сенную труху, затем внезапно сел и хрипло спросил:
— В чем дело? «Ваньки» уже пожаловали, что ли?
— Нет, спи спокойно, — бросил Эльмар.
— Кустас, а где твоя толстуха? — крикнул заморыш Карла.
— Сварил на мыло, — сонно пробормотал Кустас и, растянувшись, снова захрапел.
Карла заржал.
— Ну и дал господь этому человеку сон! — снова хихикнул Эльмар. — Раз в день встанет на минутку, спросит, жива ли еще его толстая баба в лаурисооских хоромах и не пожаловали ли уже «ваньки», услышит на первый вопрос «да», а на второй — «нет», опрокинет то ли с радости, то ли с горя чарочку, закусит мясом и завалится дальше спать. На храпе Кустаса можно было бы силовую станцию запустить.
Бенита неподвижно стояла на месте. Один странный вопрос не давал ей покоя. Если человек — бесспорно скотина, то почему в таком случае скотина — не бесспорно человек?
— Бог мой, ты ведь тоже достойная женщина, — сказал Эльмар Бените. — Ты тоже не говоришь, будто Йоссь говорит, что ты только и делаешь, что рассуждаешь. Ей-богу, я еще отобью тебя у Йосся!
— Жук — не мясо, а копейка — не деньги, — почему-то произнесла Бенита.
— Ну-ну, не издевайся над мужчиной, — повысил голос Эльмар.
— Бенита сказала это о себе, — вмешалась Элла, стоявшая в проеме сарая.
— У Эллы на плечах голова, Элле можно верить, — с ударением произнес заморыш Карла.
— Ох ты, мой миленький навозный жучок! — Эльмар протянул руки, норовя обнять Бениту.
— Оставь мою жену в покое, — продолжая лежать, буркнул Йоссь и зевнул.
— Ах, женщины, женщины, женщины в сарае… — запел на нарах заморыш Карла и стукнул себя кулаком в грудь.
Цыганка внезапным движением перевернулась на живот и ладонями зажала уши. Бенита, взглянув на спину девчонки, увидела торчащие позвонки, а на правой лопатке — продолговатое родимое пятно.
— Почему ты так спокойна? — прошептала Элла на ухо Бените.
Бенита и сама не поняла, каким образом ее рука вдруг поднялась и ударила Эллу по лицу. Сылмеская хозяйская дочь завизжала. Эльмар громко расхохотался, а заморыш Карла крикнул с нар:
— Ну и бабы! С форсом!
Бенита пошла, заставляя себя идти медленным, ровным шагом.
Вечерняя роса холодила ноги, над рекой поднимался туман. Верхушки берез горели в лучах заходящего солнца, последние усталые комары бессильно плясали над тропинкой.
— Бенита! — донесся со стороны оставшегося далеко сарая голос Эльмара.
На пойме резвились убежавшие из лазарета лошади.
Только теперь Бенита заплакала. Громко всхлипывая, она миновала стремнину, повернула к ольшанику и пошла вдоль берега. От запаха аира и легкого шороха камышей ей стало еще грустнее. Рыдания сотрясали и душили ее. Бенита казалась себе жалким навозным жучком, ползущим по навозной куче, какой в ее представлении был сейчас весь мир.
В таком состоянии она не могла явиться в Рихву, где были посторонние. Ей требовалось время, чтобы справиться с собой.
Бенита перемахнула через проволоку и очутилась среди убежавших из лазарета лошадей. Животные подошли к ней и с любопытством вытянули шеи. Они окружали Бениту со всех сторон, морды их были совсем рядом с ее лицом. Один каурый с белой отметиной на лбу коснулся ее руки. Это бархатистое прикосновение напомнило Бените летние утра ее детства.
Она спала у окна. Падавшие в комнату солнечные лучи казались зеленоватыми от берез, росших подле дома. Каждое утро приходила дедушкина лошадь и просовывала голову в открытое окно. Прикоснувшись губами к лицу спящего ребенка, она фыркала в знак приветствия. Каждый вечер Бенита клала под подушку ломоть хлеба, чтобы утром угостить лошадь. Когда лошадь, склонившись над кроватью, ела, комната наполнялась запахом печеного хлеба.
Бенита пошарила в карманах платья, однако они были пусты. Она поочередно потрепала лошадей по шее. Каждая, на долю которой выпадала ласка, медленно поворачивалась и уходила. Лошадь, подошедшую последней, Бенита взяла под уздцы и повела за собой.
Серая кобыла послушно стояла рядом, пока Бенита открывала лаз. На дороге, по которой ходил скот, под густой елью Бенита остановилась. И женщина, и животное оглянулись на луг, где вдоль реки паслись лошади. В сумерках все они казались одинаково серыми, и только верхушки деревьев ярко полыхали в лучах заходящего солнца.
Серая кобыла, словно прощаясь со своими собратьями, заржала. Затем женщина и лошадь пошли рядом в сторону видневшихся построек Рихвы.
19
енита вздрогнула, заметив у лаза отца Каарела. Она вела за собой лошадь и поэтому не могла остаться не замеченной отцом. Каарел одно за другим отодвинул прясла и, решив, что это лошадь кого-нибудь из приезжих, не стал докучать дочери расспросами. Бенита отвела серую кобылу на выгон, и та присоединилась к лошадям беженцев.
— Гляди, — махнув рукой в сторону реки, сказал Каарел, — парень потерял свою девчонку. Бродит вокруг, зовет, ищет.
— Я не знаю, где она, — пробормотала Бенита и, опершись грудью о прясло, перекинула руки через лаз.
— Да где уж тебе знать, — согласился Каарел, — разве успеешь доглядеть за всеми. Дом полон чужих. Недавно еще три телеги подъехали к риге, — с досадой добавил Каарел. — И чего это носит людей? Сидели бы тихонько по домам, пока бури не улягутся. От судьбы все равно никуда не уйдешь.
— Каждый сам кузнец своего счастья, — вяло ответила Бенита.
И вдруг начала смеяться.
— Ты чего заливаешься? — рассердился Каарел. — Так оно и есть — каждому человеку определен свой путь. Ты родилась в иное время, под более счастливой звездой. Из меня хозяина не получилось. А тебе недолго пришлось ходить в служанках на Рихве и спать в клети. Сразу видать — судьба другая.
— Скажи, отец, — настойчиво потребовала Бенита, — ты в самом деле рад, что я стала хозяйкой Рихвы?
— Не знаю, что и ответить тебе, — махнул рукой Каарел. — Моя жизнь прожита, а для того, чтобы радоваться, я уже слишком стар. Но все-таки хорошо, что тебя взяли на такой зажиточный хутор.
Ответ отца удивил Бениту. С недавних пор она стала думать, что вышла за Йосся главным образом ради отца.
Много лет тому назад, в праздник поминовения усопших, когда они с Йоссем гуляли по кладбищу с букетами пионов в руках, Бенита издали увидела своего отца. Она тихим движением остановила Йосся. Они стояли среди сновавших взад-вперед людей и ждали, пока отец подойдет к ним. У него тоже были с собой пионы, он неловко держал их, перекладывая из ладони в ладонь, пока не освободил одну руку и не сорвал с головы шапку. Старик стоял, согнувшись, перед оживленно болтающим Йоссем и долгое время не решался надеть шапку. Бенита громко смеялась шуткам Йосся, но веселость ее была напускной. В действительности она внимательно следила за отцом, который смотрел на Йосся и старательно, хоть и всегда с опозданием, улыбался, слушая истории, которые рассказывал Йоссь.
Отца, громко смеющегося, Бенита вообще не помнила.
Они долго стояли там, мешая людям, сновавшим на кладбищенской дороге, так долго, что Бенита успела за это время пережить самые противоречивые чувства: ей было стыдно за убогий шейный платок отца, ее злила его приниженность и в то же время всю ее затопляла огромная жалость к нему.
Здесь, на этой кладбищенской дороге, ей стало вдруг невыносимо больно за отца. Ей показалось, что отец как-то глупо прожил свою жизнь, давно потерял всякую надежду на что-то лучшее и теперь старался прийтись по нраву сопляку Йоссю, потому что вдруг…
Бенита поняла, что отцу один-единственный раз в жизни дается возможность принять участие в большой игре и что в этой игре решающая роль отводилась его образованной дочери.
Жалость вызывала тошноту, однако Бенита громко смеялась. Она старалась рассмешить и отца. Сколько раз она пыталась помочь отцу стать самостоятельным человеком, независимой личностью. Но и тот смешок, который ей удалось сейчас вызвать, был слишком ничтожной и запоздалой силой, чтобы заставить подобострастно стоявшего отца распрямить спину.
Бенита смеялась, как пьяная, однако на ее глаза то и дело навертывались слезы.
Потом они с Йоссем пошли дальше. Неприятный привкус во рту не исчезал, и Бенита зарылась носом в пионы, издававшие сладковато-приторный запах.
— Жаль только, что поздно, — после долгого молчания произнесла Бенита.
— Да, вскоре и к нам пришла война, — кивнул Каарел. — Нашего брата мужика только и делали, что обирали — то один, то другой, все кому не лень. Теперь в довершение всего — беженцы.
— Да что там, пусть.
Каарел облизнул губы, но ничего не сказал.
— Рихва могла бы стать образцовым хутором, если б положить на нее все силы, — помолчав, веско произнес Каарел.
— Людей нет, — ответила Бенита.
— Это верно, вдвоем нам с тобой, пожалуй, не осилить, — с ударением сказал отец.
— Да я не об этом, — пробормотала Бенита.
— А о чем же?
— Вот привела лошадь, — показала Бенита на выгон, где две кобылы — та, что сбежала из лазарета, и жеребая парня из-под Раквере — щипали под березами росистую траву. — Запряжем, кинем узлы. Все уходят, а что нас держит здесь?
— А как же земля, дом, пашни? — с неподдельным ужасом произнес Каарел.
— Я пошутила, отец, — извиняющимся тоном сказала Бенита.
У Каарела начало подергиваться веко, и Бените стало невмоготу смотреть на отца.
— Зубами и руками надо держаться за то, что добыто таким трудом, — наставительно добавил Каарел.
— Стоит ли? — пробормотала Бенита.
— Нет, в самом деле, человек глуп, что правда, то правда, — вздохнул Каарел. — Не ценит того, что прочно держит в руках.
Хозяйский сын из-под Раквере брел вдоль речного берега туда, где сквозь туман едва заметно желтело атласное одеяло. Словно по невидимой веревке парень все время шагал взад-вперед.
— Все изменяется, — сказала Бенита, — пока наконец не поймешь, что ничего не надо.
Когда, служа в Рихве, Бенита забеременела от Йосся, ей захотелось как можно скорее пойти с ним под венец. То ли Йоссь был мягок по натуре, то ли еще не совсем остыл к Бените, во всяком случае он быстро сдался. Само собой разумеется, что Йоссь в ту пору часто отпускал старые, как мир, мужские шуточки, вроде того, почем-де я знаю, кто еще приходил к тебе в клеть, и все такое прочее. Стародавней ситуации, что девчонка от хозяина — «того», сопутствовало столь же стародавнее препятствие — будущая свекровь, которая надеялась заполучить для сына жену получше, то есть побогаче. За два месяца, пока между невестой и матерью шла борьба, Йоссь сильно исхудал. Он склонялся то на сторону своей матери, Минны, то на сторону Бениты. В конце концов Бените удалось внушить Йоссю спасительную мысль, после чего он объявил матери, что если она не допустит его брака с Бенитой, он добровольно уйдет на войну. Минна плакала, однако согласие дала. Свадьбу сыграли — пусть лучше нежится в объятиях безнравственной жены, чем станет пушечным мясом на поле брани.
Позднее, когда в доме разыгралась первая ссора, Йоссь угрожал Бените тем же.
Когда родился Роберт, вся деревня смеялась, дескать, у рихваских молодых все не как у людей.
Свадьба была шумной и продолжалась три дня. На рассвете первой брачной ночи, когда молодожены отправились в амбар отдохнуть, у гостей еще оставалось достаточно запала, чтобы подшутить над Бенитой и Йоссем.
Эльмар набрал полный опрыскиватель воды, кликнул остальных балагуров, и они прокрались в амбар. Всю воду, вонявшую каким-то ядовитым веществом, выпустили на спящих молодоженов. Компания загоготала. Звонче всех, перекрывая остальные голоса, смеялась сылмеская Элла. Бенита и Йоссь вскочили, что-то липкое и грязное капало с них. У Бениты бешено заколотилось сердце, оно готово было вот-вот выпрыгнуть из груди. С вечера она чувствовала себя плохо, свадебные блюда не нравились ей, а застольные поцелуи Йосся, от которого разило водкой, едва можно было вынести.
На следующий день щипало глаза, но делать было нечего. Выспавшиеся дежурные пьяницы снова заняли свои места за столом, и веселье пошло полным ходом.
— И куда только запропастилась эта девчонка? — прервал Каарел раздумья Бениты. Хозяйский сын из-под Раквере все еще бродил по сенокосу.
Туман стал плотнее. Солнце зашло, кусты от упавшей на них тени словно раздались вширь.
— Как в воду канула, — вяло заметила Бенита.
Захваченная с поймы серая кобыла вышла из-под березы и, подойдя к Бените и Каарелу, фыркнула.
— Ей хочется размяться, — оживилась Бенита.
Она оставила отца у лаза и побежала в амбар за седлом. Бенита не заметила женщин, стайкой сгрудившихся у колодца и о чем-то оживленно беседовавших. Их дети носились по двору, и Бенита чуть не сшибла какого-то мальчишку, задев его седлом.
Каарел с батрацкой услужливостью помог Бените оседлать лошадь.
Бенита галопом промчалась мимо риги. Хозяйке Рихвы никого не хотелось сейчас видеть — ни Рикса, ни Парабеллума, а еще меньше человека, который вез с собой доски для гроба. Да и всех остальных тоже, тех, чьи лица она не успела запомнить, и тех, кто прибыл позже.
Бенита неслась к мосту. Пыль, поднимавшаяся из-под копыт, окрашивала туман над дорогой в белесый цвет. За мостом Бенита свернула прямо к рябине, ей казалось, что так она быстрее доберется до Лаурисоо — неважно, что почва здесь топкая и копыта лошади глубоко увязают в земле.
20
озяйка Рихвы привязала лошадь к березе у крыльца лаурисооского дома и по шатким ступенькам поднялась наверх. Она угодила как раз к ужину — за столом сидели три женщины, перед ними дымилась коричневая глиняная миска с мясом и лежала гора нарезанного хлеба. Бенита невольно усмехнулась. В деревне рассказывали чудеса о прекрасном аппетите Линды из Лаурисоо. Что ж, могучее тело Линды требовало солидной заправки. Особенно много ела Линда, когда бывала больна. В таких случаях она непрерывно жевала, оправдываясь тем, что когда нет здоровья, надо запихивать в себя как можно больше всякой еды. Про сестру Кустаса, чахоточную Роози, Линда обычно говорила, что у той кишки разъедены самогоном и поэтому она может лопать сколько душе угодно — все равно ничего не задержится и толку не будет.
Вот и сейчас, держа в руке косточку от бараньей грудинки, Роози усердно обгладывала ее. Разумеется, Роози ни в какое сравнение с Линдой не шла. Она была худощавой, плоская грудь ее висела, а веснушчатые щеки, несмотря на то что рот был набит, казались дряблыми и впалыми.
Женщины любезно ответили на приветствие Бениты.
Старуха своим тоненьким голоском пригласила к столу и гостью.
Бенита присела на краешек скамейки. Скамейка, накренилась — ножки плохо держались в гнездах, — и старуха, понуро сидевшая на другом конце, чуть было не потеряла равновесие и не выронила кусок мяса на радость коту, подстерегавшему лакомство.
— Ты уж извини, не можем предложить тебе места получше, — прогнусавила Линда и тыльной стороной руки отерла с лица жир. — Роози своей тощей задницей все сиденья на стульях изодрала. — Линда показала рукой на темный угол кухни, где стояли испорченные стулья, плетеные сиденья которых представляли собой одни лохмотья.
Каждый раз, когда Бенита бывала здесь после того, как обосновалась в Рихве, Линда рассказывала одну и ту же историю про стулья и про задницу Роози. Уже давно никто не смеялся шуткам Линды, да и ей самой надоело скалить зубы, рассказывая свои истории.
— Угощайся, — предложила Линда Бените.
Бенита двумя пальцами взяла торчавшую из миски косточку и принялась обгладывать ее.
— Славный человек этот коновал, велел зарезать овец, — радостно произнесла Линда. — У меня нашлось для него всего шесть яичек, надо было сунуть ему и маслица. Но масло я в начале прошлой недели отнесла койгискому Арведу. Много ли насобираешь сметаны от двух коров. Вчера вечером отвела Арведу и овцу. Теперь Кустас может спокойно сидеть в своем лесу, Арведу надолго вперед уплачено.
— Зря отвела, — сказала Бенита. — В Рихве полно беженцев, вот-вот подойдут русские. Может, уже завтра вывесят новые флаги, и у Арведа не хватит времени передать мужчин немцам.
— Ведь вот как быстро стали воевать. Прошлой осенью немцы были еще в глубине России. Кустас рассказывал. — Линда от удивления так и осталась сидеть с раскрытым ртом. Сказав затем «ах», она поджала губы и нацелилась взглядом на новый кусок мяса. — Может, до завтра еще и не успеют прийти. На войне тоже соблюдают время еды, — добавила она.
— Я предлагала койгискому Арведу самогон, — ввернула Роози, — а он сказал, что больше не хочет. У него будто бы появились язвы в желудке от моего самогона. Теперь барин ест только масло и мед.
— Роози, мне нужен самогон. — Бенита перевела разговор в деловое русло.
— Ты что, как и Элла, стала мужиков спаивать? — хихикнула Роози. — Оно конечно, удержать мужчин при себе дело трудное, — рассуждала она. — Кому подавай сладкое, а кто опять же хочет горького.
Бените вспомнилось, как муж Линды, Кустас, валялся в сарае, раскинув руки и позабыв застегнуть ширинку.
— Много ли тебе надо? — через некоторое время спросила Роози и украдкой посмотрела в сторону двери, ища глазами узел, которого, увы, там не оказалось.
— Пуд, — мрачно ответила Бенита.
— Спаси и сохрани! — воскликнула Роози. — Неужто твой сын собирается жениться?
— У парня полная комната невест, — шуткой на шутку ответила Бенита.
— Ты смотри, Роози, всего, что припасено, не отдавай, — протянула старуха и с любопытством посмотрела из-под платка на Бениту. — Не ровен час, смерть придет, трезвый-то кто захочет старуху в гроб класть?
— А что, если за «лесной шум» я захочу услышать золотой звон? — Роози скорчила хитрое лицо, и на ее щеках, пока она ждала ответа Бениты, выступил румянец.
Бенита сорвала с пальца обручальное кольцо и положила его перед Роози на стол.
— Достаточно?
Три лаурисооские женщины тут же забыли о мясе и, склонившись над столом, стали разглядывать золотое колечко. Из почтения к золоту Линда смахнула со стола кости и хлебные крошки.
После того как прибывший из поселка пастор сочетал в большой горнице рихваского дома молодую пару и надел на их пальцы кольца, Бенита ни разу не снимала с руки этой эмблемы брака. В начале оба они не могли привыкнуть ни к браку, ни к обручальному кольцу, а позже, за какую бы работу Бенита ни бралась, она уже не обращала внимания на золотой ободок вокруг ее пальца, точно так же, как и Йоссь стал для нее своим, словно существовал всегда.
Бенита взглянула на свою правую руку — на том месте, где было кольцо, осталась светлая бороздка.
Однажды оса ужалила Бените палец, он распух, и кольцо стало жать. Даже Йоссь был озабочен ее рукой и советовал распилить кольцо, чтобы не застаивалась кровь. Но Бенита была непреклонна, мысль распилить кольцо казалась ей чудовищной. Чего только Бенита не делала — смазывала палец мазью, ставила компрессы, пока опухоль не спала и рука поправилась.
— Роози думает, что за золото вернет себе здоровье, — сказала Линда, вертя Бенитино кольцо в своих коротких пальцах. — Пустое это. Дед Кустаса в пятнадцать лет заболел, шестьдесят пять лет кашлял и плевался то мокротой, то кровью, пока не умер. Никто на этом свете не заживается. Но дед Кустаса умер вовсе не от чахотки, он пьяным съехал с моста в реку. Вода была уже холодной, это случилось как раз незадолго до рождества.
— Ты, Роози, смерти не бойся, — пропищала старуха. — Смерти надо ждать, как жениха, который в царствии небесном поведет тебя под венец.
Роози лишь улыбнулась и примерила Бенитино кольцо на все пальцы. Она, кажется, и не слышала, что говорили о ее здоровье и сколько лет жизни ей предсказывали. Золото приковало взгляд Роози, ее дряблые веснушчатые щеки снова порозовели, мысли витали где-то далеко.
— Поеду в город, лягу в больницу. Ничего делать не стану, буду себе валяться между белых простыней. Еду будут в постель подавать, всякие там ложки, вилки и ножи из чистого серебра, — размечталась Роози. — Не придется больше мерзнуть в лесу и ждать, пока по капельке насобирается самогон.
— Ты думаешь, — повернулась Линда к Бените, — я зря отдала овцу койгискому Арведу?
Бенита кивнула. Она следила за Роози, которая все еще играла с кольцом и только отнимала время у хозяйки Рихвы.
— Вот придут русские, — не могла успокоиться Линда, — и тоже захотят взять мужиков в армию.
— А при чем тут койгиский Арвед?
— При том, что опять сумеет стать главным. Будет держать язык за зубами, ежели мужики решат и дальше скрываться.
— Так ты думаешь, что овца свое дело сделала?
— Да, — кивнула Линда. — На душе все же спокойнее, когда муж под боком у дома прячется. Тихий, славный человек этот мой Кустас.
У Линды навернулись на глаза слезы. Чтобы успокоить свои нервы, она взяла ломоть хлеба и положила на него почти остывший кусок мяса.
— А может, Кустасу и ни к чему бояться русских? — предположила Линда, прожевав то, что было у нее во рту. — Прошлым летом он дал какому-то русскому одежду. Тот бежал из плена в исподнем. Правда, койгиский Арвед все-таки поймал этого русского и снова упрятал в тюрьму. Но Кустас все же сделал доброе дело для русской власти.
Роози взяла со стола керосиновую лампу и прошла в заднюю комнату. Через приоткрытую дверь Бенита видела, как Роози занавесила окно рваным одеялом. Затем она долго возилась в дальнем углу комнаты, который не был виден женщинам, сидящим на кухне. Бенита догадалась, что Роози прячет золотое кольцо.
— Ах, — жуя хлеб с мясом, пробормотала Линда.
— Роози! — умоляюще воскликнула старуха. — Налей и мне каплю, а то кровь стынет.
— Потерпи, потерпи, — из задней комнаты проворчала Роози.
Затем она вышла, неся в руке, тяжелый жестяной бидон. Осторожно опустив его на щербатый пол кухни, Роози отправилась за лампой.
Поставив лампу на стол рядом с миской, Роози сняла крышку с жестяного бидона. Мгновение поколебавшись, она взяла старухину кружку и отлила в нее немного живительной влаги.
— Слишком полный бидон, все равно прольешь, — извинилась она перед Бенитой.
— Славный человек этот коновал, — снова сказала Линда. — Одним махом освободились и от овец, и от хлопот.
— Ну, мне пора, — вставая и берясь за дужку жестяного бидона, решительно сказала Бенита.
— Как будешь жить без обручального кольца? — с осуждением произнесла Линда.
Старуха молча выпила свой самогон и прошепелявила:
— Рихваская молодуха, ежели по дороге встретишь смерть, направь-ка ее в Лаурисоо.
Нащупывая впотьмах ручку входной двери, Бенита все еще слышала за своей спиной невнятное бормотание старухи. Бенита ступила на крыльцо. Где-то громко залаял пес. Женщина вскочила в седло. Лай не смолкал и раздавался то спереди, то слева, то справа. «Словно какой-то бездомный пес», — подумала Бенита.
Бенита не принуждала лошадь бежать трусцой — жестяной сосуд оттягивал правую руку, а кроме того, ей не хотелось, чтобы ветки хлестали ее по телу и царапали лицо.
Постепенно глаза привыкли к темноте. И хотя Бенита угадывала окрестности, ей все же было жутковато — пес, находившийся неизвестно где, беспрерывно лаял.
Бените вспомнилась черно-белая собака Полла, жившая когда-то у них. Йоссь боготворил Купидона, а Полла боготворила Йосся. Когда Йосся призвали в немецкую армию и, уходя из дома, он заглянул к Полле, собака отчаянно завыла. Неделями ждала Полла возвращения Йосся. Затем потеряла надежду. Ничего не ела и совсем отощала. Бенита отвязала пса. Однажды, когда Бенита стояла посреди двора и смотрела на дорогу, Полла подошла к ноге хозяйки и упала на только что выпавший мокрый снег.
Так она и не дождалась Йосся.
21
енита отворила дверь рихваскои кухни, навстречу ей хлынул пар, дым и шум голосов. Наверное, никогда в этой комнате не собиралось сразу столько народа. Разве что в страдную пору, хотя Бенита предпочитала кормить работников во дворе, если хоть сколько-нибудь позволяла погода.
Парабеллум и Рикс выглядели отдохнувшими. Они с довольным видом сидели за кухонным столом и курили. Муж толстозадой Армильды Яанус в нерешительности стоял около них и пытался принять участие в вялой беседе. Унылая пара средних лет, которая, по сведениям Парабеллума, везла с собой соль и железо, сидела на ящике для дров. Каарел притулился на табурете возле кладовки, а Минна, словно постовой, стояла у порога двери, ведущей в комнату, и держала за руку Роберта.
Армильда, поставив таз с теплой водой на пол, поближе к плите, взяла с печного карниза щетку и велела детям мыть ноги. Кулливайнуская Меэта дремала, стоя у плиты, ее ребята шныряли по кухне и от нечего делать размахивали руками. Армильдин Яанус, отойдя от мужчин, подошел к вешалке с рабочей одеждой — видимо, чтобы сообщить что-то важное стоявшему там мужу Меэты. Яанус, словно его мучил зуд, все время переступал с ноги на ногу. Рабочие ботинки, находившиеся под вешалкой, путались у него под ногами, и он носком сапога запихнул их подальше в угол.
Бенита прошла на середину кухни и, перекрывая шум, крикнула:
— Здравствуйте, добрые люди!
Разговор оборвался, все смотрели на молодую хозяйку Рихвы.
— Принесла пуд самогона, — громко сказала Бенита и со стуком поставила жестяной бидон на пол.
Лицо Рикса расплылось в широкой улыбке. Минна рванула к себе потянувшегося было к матери Роберта и окинула невестку злым взглядом.
— Раз уж эстонский народ решил оставить свою родину, — звонким голосом начала Бенита, — то на прощание следует пропустить по четвертинке.
— Браво! — воскликнул Парабеллум.
Яанус и хозяин Кулливайну пододвинулись поближе. Один из кулливайнуских мальчишек подошел к жестяному бидону, приподнял крышку и заглянул внутрь.
— Руки прочь! — заорала Меэта и потерла рукой глаза.
— Праздник, праздник! — крикнул кто-то из детей.
— Отец, тащи ветчину из кладовки, — распорядилась Бенита. — Женщины нарежут мясо, — добавила она, кивнув на кулливайнускую Меэту и Армильду. — Мужчины пройдут в горницу и раздвинут стол.
— Действуй, народ! — вскричал Рикс, с улыбкой слушавший Бениту.
Послышались сдавленные смешки. Люди засуетились. Каждый старался внести свою лепту, чтобы праздник удался на славу.
Бенита с Риксом и Парабеллумом прошли в горницу.
Странно, что, раздвигая стол, Парабеллум не вынул правую руку из кармана. «Чудак», — подумала Бенита, доставая из шкафа скатерть. Она провела по ней ладонью, разглаживая складки. Эту скатерть ей подарила крестная на свадьбу. Вручая подарок, крестная подчеркнула, что скатерть рассчитана на двадцать четыре персоны. Отойдя в сторону, Бенита оглядела дубовый стол, накрытый скатертью — подарком крестной, и осталась довольна. Внезапно она почувствовала на себе чей-то взгляд и посмотрела в сторону неосвещенной проходной комнаты. Там, на койке Каарела, сидела Минна и, держа на коленях Роберта, следила за каждым движением невестки. Бенита вздохнула.
Вошла Армильда, неся тарелки с ветчиной. Кулливайнуские мальчишки, таскавшие стулья, столкнувшись с толстозадой на пороге, чуть было не сбили ее с ног.
Бенита сняла со шкафа четыре медных подсвечника с полуобгоревшими свечами, оставшимися со дня крестин Роберта, и поставила их на стол в ряд. Рикс щелкнул зажигалкой и, ступая следом за Бенитой, зажег свечи.
— Ты очаровательна, — сказал Рикс хозяйке Рихвы, зажигая последний фитилек.
Бенита, сделав вид, что не слышит Рикса, крикнула вслед спешившей на кухню Армильде:
— Хлеба нарежьте!
Минна тем временем передвинулась на середину проходной комнаты и, заметив ее, Бенита спросила:
— Йоссь не приходил домой?
— Да разве он может прийти сюда, в это стадо, — буркнула в ответ старуха.
— Куда девался Роберт? — не глядя на свекровь, спросила Бенита.
— Увела спать, — в свою очередь избегая глядеть на Бениту, пробормотала Минна.
Оставив свекровь на середине комнаты, Бенита ринулась на кухню и настежь распахнула дверцу кладовки, чтобы дать туда доступ свету. Отыскав на полке глиняную миску, она наполнила ее огурцами, выуженными из бочки. Армильда тотчас же схватила из рук Бениты миску и поставила ее на кухонный стол перед шеф-поваром — кулливайнуской Меэтой, которая, вооружившись длинным ножом, стала нарезать и раскладывать по тарелкам огурцы.
Армильда первой заметила за окном кухни чье-то белое лицо, прижавшееся к стеклу. Она вскрикнула и вытянула вперед руку.
За окном стоял хозяйский сын из-под Раквере.
Громыхнув кухонной дверью, Бенита вышла.
— Молодой человек, подойдите поближе! — позвала она.
Шурша гравием, хозяйский сын подошел к крыльцу.
— Пропала! — с отчаянием выкрикнул парень. — Не пойму, куда она могла исчезнуть?
— Сказать тебе правду, — взволнованно начала Бенита, но тут же осеклась и закончила фразу иначе, чем думала. — Я тоже ровно ничего не понимаю.
— Куда она пропала? — упрямо повторил парень.
— Тебе она так нужна?
Парень шарахнулся в сторону.
— Как вы можете так? — звенящим голосом воскликнул он, и Бенита испугалась, что парень ударит ее.
— Прости, — пробормотала Бенита.
— Утром надо уходить, — уже спокойнее произнес хозяйский сын из-под Раквере, — а она исчезла.
— Входи-ка лучше, народ как раз садится за стол, — предложила Бенита.
— Не пойду, — заупрямился парень.
— Как хочешь, — решила не надоедать ему Бенита.
Однако, когда Бенита приоткрыла дверь, парень все же пошел за хозяйкой, словно ему страшно было остаться одному на темном дворе.
В горнице уже толпился народ. По знаку Бениты все сели. Хозяйский сын из-под Раквере устроился подальше, на самом краешке скамьи, и начал разглядывать скатерть.
Дети первым делом схватили по куску ветчины и ломтю хлеба и принялись с аппетитом уплетать. Взрослые выжидательно смотрели на Бениту.
Кулливайнуская Меэта пришла из кухни последней, неся в руках фаянсовые кружки. Встав в конце стола за спиной у Бениты и подняв палец, она стала пересчитывать гостей.
— По одной кружке на четырех человек, — в конце концов сосчитала Меэта и раздала кружки.
Женщины, не прибегая к помощи Бениты, разлили самогон по бутылкам. Теперь бутылки стояли между свечками, отливая зеленым.
Рикс поднялся и, придерживая левой рукой полу пиджака, сказал:
— Разрешите мне быть за хозяина.
Разлив самогон по кружкам, Рикс остался стоять. Он осторожно пододвинул одну из кружек поближе к себе и произнес:
— Я благодарю хозяйку Рихвы за сердечный прием. Мне думается, что еще никогда эстонец не проявлял по отношению к своим соотечественникам такого понимания и участия, как в последнее время, когда наш народ в отчаянии покидает родные места. Дороги наводнены людьми и животными, дома опустели. Брошенные на произвол судьбы, собаки воют во дворах, дорожки которых скоро зарастут бурьяном. Но те, кто самоотверженно остаются, не отказывают измученным путникам в хлебе и крове. Вот и здесь, на этом прекрасном эстонском хуторе, где нас свела судьба…
Бенита заметила, что Армильда смахнула слезу.
— Не легко, — продолжал Рикс, — покидать страну предков. С болью в сердце мы оставляем за горизонтом поля, на которых наши родители трудились не покладая рук, удобряя своим потом скудную почву.
— Навозом! — воспользовавшись минутной паузой, выкрикнул Парабеллум.
Каарел что-то пробурчал про себя. Но Рикс не дал сбить себя этой репликой.
— В книге судеб нашего народа много печальных страниц. В течение долгих веков нам не давали пощады немцы, однако еще нестерпимей, если тебя оседлают красные. Мы не можем оставаться в своих домах, мы слишком хорошо помним лето сорок первого, когда эстонских мужчин и женщин загоняли в теплушки и ссылали в Сибирь…
Минна, опустив голову на руки, всхлипывала.
— Среди нас сидит мать, почтенная седая женщина. — Рикс взглянул на Минну. — Она поведала мне сегодня свою печальную историю. Ее дочь, настоящую хозяйку Рихвы, и зятя, героя освободительной войны, тоже увели под конвоем в то страшное лето. В чем они провинились? Разве любить свою родину грешно? Разве можно поставить людям в вину, что они гнули спину, обрабатывая поля этого хутора и делая их плодоносными? Что они построили красивый дом и всей душой разделяли стремления своего народа?
Теперь уже никто из женщин, кроме Бениты, не смог сдержать слез. Но Бенита отнеслась к словам Рикса иначе. Ей дали понять перед всем обществом, что она случайная хозяйка в Рихве.
— Будущее готовит нам трудные испытания, — сказал Рикс и, немного подумав, продолжал — Не легко покинуть родину, бросить ее на произвол судьбы, но не легче и воссоединиться с чужим народом, найти себе там место и кров, И поэтому я считаю людей, предпринявших этот далекий и опасный путь, героями. Неудовлетворенность, стремление освободиться из-под гнета, всегда были главными чертами лучших умов человечества. Эмигранты совершали великие дела повсюду, куда бы ни забросила их судьба. Почему Соединенные Штаты Америки достигли таких успехов? Потому что наиболее талантливые представители человечества, не нашедшие применения у себя на родине, переселились на новый материк, и там, на свободе, расцвели их таланты.
— Рикс, самогон остынет, — перебивая приятеля, воскликнул Парабеллум.
— Не мешайте, — обливаясь слезами, крикнула Минна.
— Нет, мы не можем ждать. У нас нет другого выхода. Мы должны, как бы тяжело нам ни было, покинуть зеленые нивы нашей родины.
— Нет, мы-то уж ни в коем случае за море не побежим, — прервал речь Рикса человек, который якобы вез соль и железо. — Мы хотим лишь подальше уйти от линии огня, а затем вернуться домой. У нас сын должен прийти.
Рикс пожал плечами.
Моментально овладев собой, он высоко поднял кружку с самогоном и сказал:
— За здоровье непримиримых!
Бениту словно что-то обожгло. Ей вспомнилось, что говорил Рикс, когда, будучи в выпускном классе, они вместе возвращались с какого-то вечера. Рикс сказал в тот раз, что интеллигентом нельзя стать, им надо родиться. Этими словами он причислил Бениту к низшим слоям общества. Как он потом ни лебезил перед ней, Бенита оставалась непреклонной. Хотя одно время Рикс даже нравился Бените, вот и сегодня она смутилась, увидев, как он вылезает из рессорной коляски.
— Я вот только в толк не возьму, как дикарям удалось обратить в бегство представителей арийского племени? — спросила Бенита у Рикса и, простодушно улыбаясь, взглянула на него.
— Так уж устроен у женщин ум, им недоступно все, что касается войны, стратегии и тактики, — заткнул ей рот Рикс.
— Выпьем за здоровье сверхчеловеков! — рассмеялся Парабеллум.
— Коротко и ясно, — согласился муж Армильды, Яанус, и отхлебнул большой глоток обжигающего напитка. Поморщившись, он украдкой провел коротким пальцем по носовому хрящу и ушной раковине.
Кружки пошли вкруговую.
— Судьбу эстонского народа, как говорят господа из самоуправления, определяют две вещи, — пустился в рассуждения муж кулливайнуской Меэты. — Это — дети и тоннаж. Суда, которые строят наши бравые судостроители, когда-нибудь станут возить разный дефицитный товар, чтобы заново налаживать жизнь. Кроме того, на всех эстонских хуторах должны народиться дети — новые сыны и дочери эстонского народа.
Заметив, что его никто не слушает, мужчина обиженно умолк.
Беженцы и хозяева были заняты тем, что уплетали ветчину с хлебом. В промежутках между чавканьем слышался гул голосов, прощальный вечер начался, как подобает.
Теперь встала Бенита.
— Прошу дорогих гостей поднять кружки и вместе со мной выпить по случаю одного печального события. Здесь, в Рихве, жил великолепный баран по кличке Купидон. О его силе, хитрости и напористости ходили легенды. Затем в Рихву явился один ученый человек, он осмотрел животное и сказал, что баран опасно болен. А баран происходил из редкого племени, он был единственным в своем роде, впрочем, так думают о всех купидонах. Ничего не поделаешь, миф кончился. Купидону пришлось отрубить голову!
Последнюю фразу Бенита произнесла с каким-то особым нажимом и злобой.
Женщины с удивлением смотрели на хозяйку. Рикс не сводил подозрительного взгляда со своей бывшей соученицы, и только Парабеллум как будто что-то понял и рассмеялся.
22
осле того как была выпита вторая бутылка самогона, Парабеллум взял нить беседы в свои руки.
— Я родился совершенно синим, и моя дорогая мамочка решила, кто-кто, а этот ребенок наверняка не жилец. А затем повивальная бабка отшлепала меня как следует, и я заорал. Я вертелся, барахтался ужас как — кому охота получать колотушки. С тех пор я берегу свою шкуру и смотрю, как бы избежать побоев. На войне мне тоже отчаянно везло, позапрошлой зимой пуля прошла сквозь грудь и продырявила легкое — чтоб воздух лучше проникал в него. В госпитале с грехом пополам склеили ребра и сказали: «Парень стал лучше прежнего». Похвалили меня, что грудью пошел на исконного врага, и пообещали железный крест с дубовым венком. Однако я так и не получил его. Адъютант генерала наскочил на мину и вместе с железным крестом взлетел на небо — отправился раздобывать себе деревянный крест. А получи я крест, я бы тут же поехал в гости к Марике Рокк[7]. Два года слал ей со всех концов света любовные письма, пока ей не надоело, и она мне ответила. Она была дамой изысканной и свой ответ дала размножить в типографии на меловой бумаге. Ответ звучал так: «Дорогой воин! Я надеюсь, что пламя вашей любви поможет вам бороться Против врагов Великой Германии и западной цивилизации. Готова буду с благодарностью пожать вам руку, если вы станете героем».
Вообще-то мне повезло, что я не получил креста. Иначе быть бы мне сейчас в гостях у Марики вместо того, чтобы сидеть в таком приятном обществе на исконном эстонском хуторе. И валяться бы мне на немецких пуховиках вместо того, чтобы из края в край носить на своих ногах священную пыль родной земли.
Живы были бы мои друзья, те, что погибли от жажды в Африке, в жарких песках Тобрука, и те, что замерзли в сталинградских сугробах на Восточном фронте, взял бы их в компанию и вновь провозгласил бы Эстонскую республику. Сам я удовольствовался бы весьма скромным портфелем, я — парень не гордый. Но настоящие люди под землей, а по земле, словно личинки, ползают желторотые сосунки. Каждый дрожит за свою шкуру. В сущности, чем плохо было бы сделать республику. Мы знаем из прошлого, что самое милое время для устройства республики — это когда немцы и русские между собой дерутся. Ну, так как, возьмемся, а? — Парабеллум хлопнул ладонью по столу и, посмеиваясь, огляделся вокруг.
Дети, прильнув к краю стола, с интересом глазели на Парабеллума. Рассеянно слушавшие взрослые, чтобы не показаться равнодушными, улыбались.
— По правде говоря, с этими республиками возня. Все время гляди в оба, чтобы какая-нибудь свинья не начала подтачивать основы демократии, а посему давайте и дальше искать веселых приключений, каждый — сам по себе, и пусть эта страна и этот народ отправляются к чертовой бабушке. Интересы народа — они ведь как резина. Один думает так, другой эдак. Этот твой спаситель, тот твой спаситель, и в итоге получается — спаситель спасает от спасителя. Сперва бей поклоны одному усачу, затем — другому. На что мы жалуемся! Даже у магометан есть и Мекка, и Медина…
Парабеллум пододвинул к себе кружку с самогоном.
— Чтобы люди не рассохлись и не развалились подобно старым бочкам, сделаем по глоточку.
Однако беженцы не вняли словам Парабеллума. Они усердно жевали. Набить собственные желудки казалось им гораздо важнее.
— Расскажи-ка лучше, как ты ездил в Париж, — попросил Рикс. — А учредительное собрание по устройству республики мы проведем позднее, когда придет срок.
Парабеллума не пришлось долго упрашивать. Он сам решил чуть-чуть растормошить людей, отупевших от еды и питья.
— Одно время я служил в Италии, и вот однажды мой генерал, Италиано Апеннино, и говорит мне: «Голубчик, соверши-ка вылазку в Париж и привези мне оттуда два ящика коньяка». Такой уж это был генерал, никакого коньяка, кроме французского, не признавал. От остальных марок язык у него сразу чернел, точно дно кастрюльки. А у генерала была презлющая жена Наполина, она терпеть не могла, когда пьют, все только в церковь ходила. Как только генерал Апеннино заявлялся домой с работы, Наполина заставляла его показывать язык. Если язык был черный, как дно кастрюльки, жена тут же хватала первую подвернувшуюся под руку мадонну и разбивала ее о голову мужа. У них в углу комнаты стояла целая корзина черепков от мадонн. Поэтому генералу и пришлось послать меня в Париж за коньяком. У него уж слюнки текли, так ему хотелось поскорее выпить.
Я до блеска начистил сапоги и предстал перед своим Апеннино. Ударил челом и говорю: мой светлейший генерал, я готов выполнить военный приказ. А генерал в ответ: «Благородный бамбино эстоно, сейчас тебе подадут самолет».
Я уселся в самолет один-одинешенек, словно господин какой, три мотора впереди взревели, и полет начался. По дороге я то и дело высовывался и смотрел, когда же наконец покажется этот Монблан. Как только увидел, приоткрыл дверцу самолета и плюнул — угодил в самую вершину. Не то чтоб я почему-либо презирал эту гору, но я эстонец, а каждый эстонец хочет быть в чем-то первым. Итак, я был первым эстонцем, плюнувшим на вершину Монблана. У нас ведь такой чертовски маленький народ, мы просто должны пролезать в первые ряды, иначе нас никто и не заметит. Один человек рассказывал, что дедушка американца Форда якобы был родом с Сааремаа. До того как эмигрировать, они жили на хуторе Норд, и дедушка мастерил крестьянам оси для телег. Американский паспортист перепутал буквы, так из сааремааского Норда получился американский Форд.
Что говорить, на эстонской земле высокому дереву не дадут дорасти до неба. Но, несмотря на это, пусть не затухает в нашей душе национальная гордость!
Из Италии было сообщено по радио, что самолет генерала Апеннино поднялся в воздух. На парижском аэродроме заблаговременно выстроился духовой оркестр, с цветами в руках пришли и марианы в национальных одеждах. На девчонках были галльские юбки и кофты, очень похожие на наши ямеялаские, только вырез поглубже, это и понятно, грудь тоже дышать хочет. Да и для глаз приятнее.
Беда оказалась в том, что хоть из Италии и сообщили, что самолет генерала Апеннино находится в пути, но не сказали, что сам генерал на этот раз не прибудет. Сам-то он, возможно, и приехал бы ненадолго в Париж поразвлечься, но Наполина не разрешила. Генеральша боялась, что парижские девочки сразу же подцепят ее муженька на крючок.
У меня не было, да и до сих пор нет ни Наполины, ни Мийны. Я мог делать все, что душе угодно.
К самолету подкатили лестницу, оркестр что-то заиграл, и я вышел во всем своем великолепии. Мне такой почет вроде бы и ни к чему, но как бы я хотел, чтобы моя покойная мамочка увидела меня в дверях самолета. Она всегда говорила: «Ты, парень, едва ли пойдешь далеко, камень, который катится, мхом не обрастает». Ну, я сделал подобающую мину, прошел петушиным шагом по красному ковру — двое парней раскатывали его передо мной, двое позади скатывали, оркестр гремел и народ смеялся. Девчонки в галльских костюмах протолкались ко мне и вручили цветы. Славные люди — эти французы, не стали раздувать чепуховое дело. Главное, чтобы весело было. Да и как бы ты стал смеяться над генералом Апеннино, его надо было бы встречать со всей серьезностью, а это смертельно скучно, как молитва перед едой.
В отеле я получил такой шикарный номер, что чуть сам не возомнил себя генералом.
После обеда мне вручили ящики с коньяком, и я до следующего утра был предоставлен самому себе. Я сказал себе: бамбино эстоно, иди и развлекайся, кто знает, когда ты снова попадешь в Париж!
Едва я вышел на какой-то бульвар, как парижские девочки сразу же стали на меня заглядываться. Одна черноволосая прелестница остановила карету и стала что-то верещать, а я лишь поклонился ей и с сожалением сказал, что на этом языке не парле. Мадемуазель пожала плечиками и сморщила носик. Что поделаешь, а впрочем, и лучше, что я не остановился около этой дамы. Иначе я бы не стал в тот вечер популярным певцом.
Я завернул в какой-то трактир, сел, выпил несколько рюмок сам не знаю чего, и на меня напала вдруг невероятная охота петь. Как только оркестр удалился на перерыв, я загорланил на весь зал: «Эстония, еще живет в тебе твой мужественный дух…»
Люди в зале приутихли, они никогда раньше не слышали такой красивой песни и такого звонкого голоса. Сами-то французы гнусавят.
Только я закончил про мужественный дух, подошел какой-то господин в позументах и начал перед моим столом изъясняться и размахивать руками. Я было подумал, не иначе как хотят схватить меня за шкирку и вышвырнуть за дверь. Какое там! Этот с золотыми галунами генерал над пьяницами и весельчаками позвал не кого-нибудь, а самого трактирного маршала, и тот стал на немецком языке меня уговаривать, дескать, иди на сцену и вынимай затычки из своей глотки. Я никогда не был гордым парнем и потому не стал ломаться.
Поднялся на сцену, откашлялся, чтобы прочистить горло, поднес ко рту микрофон и дал волю всем своим регистрам. Из-под потолка на меня обрушили сноп света, откуда-то к моим ногам полетели цветы. У меня в груди заклокотало, и мой голос зазвучал, подобно церковному колоколу, который гудит над Эстонией в воскресное утро.
В том месте песни про народ Кунглы[8], когда дочери феи ведут хоровод, французская публика начала подпевать и притопывать. Аплодисменты были такими бешеными, что с хрустальных люстр висюльки посыпались, словно стеклянный дождик. Дамы срывали с себя жемчужные ожерелья и бросали их мне на плечи. Я сверкал, точно светлячок. А эти корзины цветов, которыми меня засыпали! Орхидеи пахли как белена.
Вот тут-то я и развернулся. Вспомнил про золотую избушку за баней у пруда и про то, как там в углу качается мешок. А когда припомнился мне березовый прутик покойной бабушки — тут уж меня совсем за душу взяло, и я запел о том, что ни кедры, ни пальмы не растут на нашей земле, зато одна березка росла у нас в саду.
Дамы визжали от восторга, они стащили меня со сцены, стали водить от стола к столу, откуда-то взялось шампанское, соленые огурцы и клюквенный напиток. Все мое лицо и руки были в красных следах от поцелуев, в таком виде я вернулся в отель, словно какой-то краснокожий.
Утром я раздобыл жбан пива, голова болела от клюквенного напитка и славы. В самолете я все время спал, да и что мне оставалось делать: на Монблане, куда я плюнул, летя в Париж, уже рос эдельвейс. Генерал ужасно обрадовался коньяку. Как только я прибыл, он поставил на стол зеркало и стал дегустировать — ту ли марку я привез. Я, признаться, немного дрожал, вдруг, думаю, подсунули какую-нибудь дрянь. Ан нет, язык у генерала не почернел и можно было не бояться Наполины. За успешное выполнение боевого задания генерал посулил мне повышение в чине, но своего обещания, бедняжка, так и не сдержал. Через три дня, глубокой ночью, американская бомба угодила прямо в брачную постель Италиано Апеннино, и оба они с Наполиной переселились в лучший мир вместе со своим розовым одеялом, чтобы наслаждаться там вечным и блаженным сном. Мир праху их. Аминь.
Парабеллум умолк и пальцами вытер уголки рта. Обведя сидящих за столом взглядом, еще затуманенным полетом фантазии, он увидел ряд сонных лиц. Только Бенита улыбалась с каким-то отсутствующим видом.
Парабеллум был благодарен и за такое участие. Он встал, взял кружку и, глядя на Бениту, сказал:
— Прикажите что-нибудь, уважаемая госпожа, и я с радостью выполню ваше желание.
— Уберите завтра картофель на рихваском поле! — бойко произнесла Бенита и первой рассмеялась. Хозяйка Рихвы смеялась так долго и искренне, что сидящие за столом начали испуганно озираться по сторонам. Растрепанные детские головки, склонившиеся над скатертью, рассчитанной на две дюжины персон, приподнялись.
Смех Бениты заразил и остальных.
— Напрасно не попросили его вывезти навоз в поле! — икая, крикнул Яанус. Армильда дала мужу тумака под ребро.
— Завтра поглядим, как Парабеллум с мотыгой в руках будет гнуть спину на картофельном поле, — с удовольствием кинул Рикс и закурил.
Парабеллум не улыбнулся. Медленно, сморщив лицо, он вытащил из кармана правую руку, и она со стуком упала на белую скатерть. Рука Парабеллума была из черной резины.
23
то-то постучал в окно.
— Кто? — испуганно вздрогнул Рикс.
— Сейчас поглядим, — насмешливо сказала Бенита и подошла к окну. Она отодвинула лимонное дерево, закрывавшее оконный проем. Пришлось покорпеть, чтобы открыть законопаченные створки окна. Когда ей это удалось, ветер взметнул занавески и голова сидящего поблизости Парабеллума оказалась на какой-то миг окутанной белой материей.
— Не пустите ли переночевать? — раздался снаружи женский голос.
— Входите, — разрешила Бенита. — Вы не первая.
— Нас двое. Мы уже давно бродим вокруг дома, никак не можем отыскать дверь.
Каарел встал и, шаркая ногами, скрылся в сенях.
Все с интересом смотрели на дверь, ожидая новоприбывших.
Через мгновение на пороге появилась рыжеволосая женщина в сопровождении мужчины в немецком мундире. Вернее, не мужчины, а мальчишки; он моргал светлыми ресницами и от яркого света щурил свои небесно-голубые глаза. На подбородке у солдатика виднелась детская ямочка, мягкие губы были полуоткрыты.
Солдатик напомнил Бените Йосся, когда, дезертировав из немецкой армии, он после долгих скитаний явился домой.
Женщину, стоявшую чуть впереди молодого солдата, казалось, отнюдь не смущает всеобщее внимание, чего нельзя было сказать о ее спутнике, который весь съежился. Она даже как будто стала выше, а подложенные плечи ее клетчатого жакета словно еще больше встали торчком. Оценивающе разглядывая общество, женщина раскачивала в руке сумку на длинном ремне.
— Пришла к вам босиком, — сказала женщина и рассмеялась, стремясь во что бы то ни стало растопить лед отчужденности. Она подняла ногу, чтобы сидящие за столом увидели толстый шерстяной носок и постолы, высоко зашнурованные вокруг икры. Ее черная узкая юбка чуть не лопнула по швам, когда женщина перелезала через скамью, чтобы сесть за стол.
— Кажется, здесь собрались люди с крепкими нервами, — заметила она и еще раз смерила долгим взглядом компанию, сидящую за столом, накрытым белой скатертью.
— Сегодня русские танки вошли в Таллин, — озабоченно пробормотал солдатик.
— Батюшки светы! — вскрикнула Армильда. — Яанус, что теперь с нами будет?
— Натянем на головы картофельные мешки.
— Яанус! — негодующе воскликнула Армильда.
— Тогда не увидишь, как смерть придет, — пояснил муж.
— Ни один из нас не хозяин над своей судьбой, — веско произнес мрачный человек, который вез с собой дубовые доски для гроба.
— Прошу без паники, — воскликнул Парабеллум.
— Нас разделяет семьдесят три километра, — заметил Рикс.
— Около деревни Тамбурино противники дрались целый месяц из-за каких-то пяти километров, — подбадривая всех, сказал Парабеллум. — Бедняжки коровы, которые остались на линии фронта! У них молоко прокисло в вымени, потому что женщины попрятались в погребах и не решались выйти оттуда подоить коров.
Парень в немецком мундире высокомерно улыбнулся и прислонился к косяку двери. Несмотря на приглашение Бениты, он не сел за стол.
— Послушай, молокосос, — произнес Парабеллум, заметив презрительный взгляд солдатика. — Кто разрешил тебе давать стрекача из армии? Если все будут улепетывать, кто же станет защищать великий рейх?
Парень побледнел, сделал шаг назад и выхватил из кармана револьвер.
— Кретин! — захохотал Парабеллум, махнув рукой в сторону револьверного дула.
Минна, вытаращив глаза, смотрела на солдатика, и губы ее шевелились в молитве.
Армильда спрятала лицо на груди у Яануса и тихо стонала. Унылая пара средних лет, встав из-за стола, незаметно для остальных отошла к окну.
— Послушай, парень, — сказал Парабеллум, — спрячь-ка свое дальнобойное орудие в карман. Я только что спрятал под стол автомат, и карманы у меня полны лимонов. Даю тебе на размышление минуту. Либо ты станешь паинькой, либо полетишь на певческий праздник к ангелам.
— Мне нужен гражданский костюм, — дрожащим голосом попросил солдатик.
— Поди на кухню, там на вешалке висит рабочая одежда. Возьмешь, что тебе впору, — устало сказала Бенита, переходя на «ты». — И не являйся к людям как разбойник с большой дороги. Еще — эстонец!
— Извините, — робко произнес парень. — В нынешнее время разве знаешь, куда попадешь.
Бенита взяла со стола свечу и пошла вместе с парнем. Пока солдатик натягивал на себя старую куртку и штаны Йосся, она светила ему.
— Вот тут дрова, — показала хозяйка Рихвы на ящик у плиты, когда парень переоделся. — Растопи плиту и сожги свой мундир. Поди знай, может, завтра они уже будут здесь, — деловито закончила она.
— Ужас до чего быстро двигаются, — сказал парень и покачал головой. — Никакого сопротивления не встречают. Я никогда не думал, что немцы будут так улепетывать.
— И эстонцы тоже, — ядовито бросила Бенита.
Рыжеволосая женщина в постолах удобно устроилась возле Парабеллума. Сбросив с плеч клетчатый жакет и расстегнув верхнюю пуговицу черной шелковой блузки, она облокотилась на стол.
Бенита пристально смотрела на нее.
— По-моему, мы знакомы.
— Не знаю, — усомнилась чужая женщина. Привстав, она протянула Бените руку и звонким голосом произнесла — Леа Молларт, искусствовед из Тарту.
— Молларт? — испуганно повторила Бенита.
— Да, Молларт, — любезно подтвердила посторонняя женщина. — Собственно говоря, это по мужу. Я разведена, но я как-то срослась с этим именем, потому и не стала его менять.
— Может быть, мы с вами учились в одном колледже, — садясь на стул, пробормотала Бенита, чтобы хоть что-то сказать.
— Сборище школьных друзей, — воскликнул Парабеллум и осклабился. — Рикс, встань, ты ведь тоже как будто причастен к этому.
Рикс уже протягивал руку Леа Молларт, а Парабеллум, найдя среди пустых бутылок одну полную, разливал самогон по кружкам.
«Сплошные Молларты наводнили Рихву», — подумала Бенита, не зная, радует ее это или злит.
— С этим милым юношей, — Молларт захотела поделиться своими путевыми впечатлениями, — мы встретились при весьма странных обстоятельствах. Когда машина и люди, с которыми я ехала, исчезли, — в этом месте Леа Молларт иронически хмыкнула, — я залезла спать в какой-то сарай у дороги. Ночью просыпаюсь и слышу — тихонько открывается дверь и кто-то входит, шурша сеном. Я почувствовала себя в ловушке, я ведь не знала, кто пришел и зачем. Какое-то время внизу раздавался шорох, затем все стихло. Я не решалась заснуть. Дрожала от страха и холода, стиснула зубы, чтобы не стучали. На рассвете откуда-то сверху на меня упала охапка сена, я согрелась и задремала. Проснулась, когда сквозь щели в стенах стал просачиваться свет, и слезла. Я была уверена, что ночного постояльца давным-давно и след простыл. Едва я спустилась, как мой будущий спутник проснулся и первое, что он сделал, схватил револьвер и нацелился на меня. Спросонья не разобрал, что имеет дело всего-навсего с беззащитной женщиной. Ну, а когда понял, вскочил и стал извиняться, как только что в дверях. Мужчины всегда так — сперва продемонстрируют силу и власть, а потом начинают сожалеть об этом, — игриво закончила Леа Молларт.
— Последний срок детям укладываться спать, — вставая, решительно произнесла кулливайнуская Меэта.
Дети, загромыхав стульями и скамейками, поднялись из-за стола. От усталости они потягивались и зевали так, что трещали челюсти. Вдруг совершенно обессилев, они готовы были тут же, в углу комнаты, свалиться и уснуть.
— Я в сарай не пойду! — раскапризничалась кулливайнуская младшая дочка. На нее нагнала страху Леа Молларт.
— Пусть девчонки ложатся на мою постель, а мальчишек устроим на полу. Одеял и матрацев хватит, — решила Бенита и пошла вперед. Кулливайнуская Меэта, пересчитывая по дороге ребятишек, направилась следом за хозяйкой.
Бывший солдат вышел из кухни — ни дать ни взять младший брат Йосся. Насвистывая какой-то марш, он тщательно вытер о полотенце выпачканные в золе руки.
— Чему суждено сгинуть, то пусть и сгинет, — подкрепил он свои действия словами. — Теперь — расслабиться бы немножко и опрокинуть чарочку водки.
— Нет. — Парабеллум поднял палец кверху и потянул бутылку к себе. — В этом доме установлен такой порядок: каждый, кто уберет картофель с одной полоски, получит чарку водки. С двух полосок — две чарки. По работе и плата.
Парень испуганно огляделся по сторонам.
— Дай ему водочки, — разжалобилась Минна. Она пристально смотрела на парня в одежде Йосся, покачивала головой и бормотала: «Точь-в-точь как он, ну, прямо как собственное дитя».
Бените, когда она вернулась в комнату, тоже показалось, будто явился Йоссь и уселся вместе со всеми за стол. И вообще было такое чувство, будто здесь, в этой комнате, витали тени Йосся и Молларта, накладывая на все, что здесь происходило, свой отпечаток.
— Спел бы кто-нибудь, что ли, — предложила Армильда. У нее было увядшее от забот и усталости лицо.
— Ну, народ Кунглы! — подзадорил Парабеллум. — Ведь не так давно кудахтали на певческих праздниках.
— It’s a long way to Tipperary… — начала Бенита, рукой отбивая такт. Но тут же оборвала песню. Собственный голос показался ей хриплым и скрипучим, как давно заигранная граммофонная пластинка.
Леа Молларт постаралась спрятать высокомерную усмешку.
— Синьора, — обратился Парабеллум к Бените, — у вас роковой голос.
— Судьба наша неизвестна, — повторил мрачный мужчина, тот, что вез с собой доски для гроба.
Слабая половина унылой пары вдруг заерзала. Проглотив слюну, женщина собралась с духом и предложила:
— Хотите, расскажу, какую шутку сыграла однажды со мной судьба? Видите ли, мое появление на свет было заранее оплачено. Нельзя было допустить, чтоб деньги пропали, вот я и родилась.
— Как же так? — удивилась Леа Молларт.
На цыпочках подошла кулливайнуская Меэта, ей тоже хотелось послушать эту историю.
— Случилось это на рубеже столетий в одной из таллинских больниц. Моя мать отправилась туда рожать моего старшего братца. Был Новый год, и больничным сестричкам страсть как хотелось пойти на праздник, а как удерешь с дежурства? Думали, думали, что бы такое сделать, чтоб младенцы проспали всю ночь. В конце концов придумали — дали им снотворного. Да, видимо, переборщили — к утру крошки уже остыли… Владелец больницы развел руками и сказал несчастным матерям, дескать, когда в следующий раз придете рожать, денег с вас не возьмем.
— Да, это правда, — подтвердил муж унылой женщины.
— И хотя в нашей семье, кроме братца-покойничка, было еще пятеро детей, мать решила рожать — деньги-то вроде вперед уплачены, не бросать же их на ветер. Так я и появилась на свет — последыш. Что ни говорите — судьба! — с гордостью закончила женщина.
— Вы талантливая выдумщица! — восторженно воскликнул Парабеллум. — Не держите свои истории под спудом.
Унылая женщина умолкла и поджала губы.
— Это чистейшая правда, даже в газетах писали! — вступилась за свою супругу сильная половина унылой пары. — Это жизненная история, — закончил он веско.
— Сдаюсь, — вздохнул Парабеллум и, подняв кружку, обратился к унылой женщине: — Ваше здоровье! Возблагодарите бога, что вам попались такие бережливые родители!
Женщина отхлебнула солидный глоток самогона и тыльной стороной ладони вытерла рот. С победоносным видом оглядевшись вокруг, она схватила со стола кусок хлеба и надкусила его.
— Небось у несчастных матерей сердце кровью обливалось, когда их золотиночек не стало, — вздохнула кулливайнуская Меэта.
— Я на войне повидал столько детских трупов, что меня эта древняя история ничуть не трогает, — поднял голос солдат в одежде Йосся.
— Послушай, парень, — насмешливо заметил Парабеллум, — ты сперва поверни реку в гору, тогда и разговаривай.
Лицо парня пошло пятнами.
— Не веришь? — спросил он, близко наклоняясь к Парабеллуму.
— Одно дело — война, другое дело — мирное время, — попытался провести грань между страшными событиями разных времен Каарел.
— Одно время я начал собирать предметы русского искусства, — сказал Парабеллум, не обращая внимания на замечание Каарела и махнув рукой в сторону возбужденного парня. — И вот однажды…
— Какая эпоха? Авторы? — заинтересовалась Леа Молларт и прищурила глаза, словно перед ней поставили какой-то шедевр и надо было внимательно рассмотреть его.
— Я покупал русские иконы. Кое-какие работы мастеров семнадцатого века, кое-какие девятнадцатого, а некоторые были написаны перед самой войной. По правде говоря, меня не очень-то интересовала их историческая или художественная ценность, я выбирал икону по иному признаку — я смотрел, на какой из них глаза у богоматери красивее.
— Но такое коллекционирование бессмысленно, — заметила Леа Молларт.
— А меня интересовал не смысл, а душа художника, пронизывающая картину. К тому же я не думаю, что душа современного художника обязательно мельче, чем душа какого-нибудь мастера семнадцатого столетия.
— Мы с интересом слушаем, — высокомерно заметила Леа Молларт.
— Одно время довелось мне работать на водочном складе. Русский мороз трещал в бревенчатых стенах, а немцы бродили скрюченные от холода. Когда они, входя в избу, натыкались на углы, их руки и ноги бренчали, как кости первосортнейших скелетов. И вот, откуда не знаю, прослышали они, что мне нравятся богоматери с красивыми глазами. Ну и пошли пачками таскать мне иконы! Развернулась обменная торговля: мне — икона, закоченевшему немцу — четушка водки. Я, конечно, отбирал, не мог же я до капли опустошить немецкие бочки, а перельешь воды — она замерзнет и бочки лопнут. Кроме того, я искал в глубине глаз богородиц исключительную красоту и всю скорбь мира. Далеко не все гляделки намалеванных женщин волновали меня. Некий Эбергардт, башка стоеросовая, изо дня в день таскал мне иконы, но мы с ним никак не могли договориться. У парня было маловато вкуса на женщин. Однажды, так и не получив своей четушки, Эбергардт чуть не спятил — так замерз. Вот тогда-то он и выкинул со мной ужасную штуку. Тьфу, дьявол, язык не поворачивается рассказать…
Парабеллум умолк и потянулся за кружкой с самогоном.
— Ладно, люди должны все знать. Не то подумают, будто жизнь состоит из картофельных борозд и забот о собственном желудке.
Бенита покраснела.
— Эта жертва родильных щипцов, этот Эбергардт, воспользовавшись тем, что я был в отлучке, выколол глаза у всех моих мадонн.
Леа Молларт взяла из пачки Рикса сигарету, зажала ее в зубах и медленно чиркнула спичкой.
— Возвращаюсь и смотрю — у моих богородиц вместо глаз дырки. У меня было такое чувство, словно по мне проехал дорожный каток.
— Наверно, у тебя в голове разорвалась бомба, — вставил Рикс. — Говорить такую ерунду о цивилизованных людях!
Парабеллум задумчиво пускал в потолок кольца дыма и даже не пытался спорить.
— Я не желаю слушать подобные гнусные истории! — завизжал солдатик. — Ну так как — сразу напьемся и завалимся спать, или немножко потренькаем на гармошке, а потом напьемся и завалимся спать? — настойчиво спросил молодой человек в одежде Йосся.
Никто не ответил.
— Бог мой, неужели в этом доме нет какой-нибудь старой гармошки? — плаксиво спросил солдатик и заискивающе огляделся по сторонам.
24
ам, где плещут балтийские волны…" — затянул солдатик после того, как Бенита дала ему аккордеон Йосся.
Бенита слушала. Песня про балтийские волны брала ее за сердце. Возможно, что на нее размягчающе подействовал и выпитый самогон. Во всяком случае, ей вспомнился тот день, когда дезертировавший из немецкой армии Йоссь вернулся домой.
Утром, в канун Иванова дня, он с распухшим лицом ввалился на кухню. Бенита как раз варила в большом котле картошку для свиней и, плавая в пару, не видела даже своей руки. Йоссь ощупью пробирался сквозь облака пара, жалобным голосом клича свою законную жену. Бенита пошла на голос мужа, и он упал ей в объятия. Так он стоял до тех пор, пока она не усадила дрожащего от усталости мужа на стул. Здесь же, на кухне, Бенита сняла с Йосся мундир. В одном нижнем белье он сел к огню и стал шарить в карманах, пока не нашел того, что искал.
Предназначенный для Бениты подарок — тоненькая, как папирус, плитка шоколада — чуть было не угодил в печь вместе с мундиром.
— Ты не представляешь, сколько всего я нес тебе, — извиняющимся тоном произнес Йоссь. — Шелковую блузку с бархатной юбкой, вуаль, чулки с черным швом, кожаные туфли, крем для лица. Даже сепаратор тащил, пока хватало сил. О водке и консервах я и не говорю.
— Йоссь, главное — ты сам вернулся, — ответила Бенита.
— Да. — Йоссь виновато опустил голову на грудь. — Долгая дорога вымотала меня. Пробирался через заросли, а по ночам дрожал под елкой. Костер разводить не решался. Силы день ото дня убывали. Сперва кинул сепаратор. Долго не мог расстаться с ружьем. Я ведь не знал, что меня ждет в следующий момент. Консервы с голодухи потихоньку съел сам. По вечерам, когда устраивался на отдых под деревом, тянул водку, ты же знаешь, я всегда чертовски боялся холода. Когда водка и консервы кончились, настал черед других подарков — ношу-то надо было облегчить. Все оставил вместе с вещевым мешком. Ружье уж под самый конец кинул.
— Главное, сам пришел, — повторила Бенита, утешая мужа.
Весь Иванов день Йоссь проспал в яслях на конюшне.
Вечером на берегу реки возле моста должен был состояться праздник по случаю годовщины Освобождения от красных. Койгиский Арвед велел притащить из народного дома кафедру, ее поставили на пригорке, чтобы волостной старшина был виден всем собравшимся.
Народу привалило множество. В стороне, привязанные к деревьям, понуро стояли лошади, уткнув морды в торбы с сеном. Женщины, сгрудившись перед кафедрой, внимательно слушали все, что говорил народу представитель власти. Выползли и кое-кто из стариков, мальчишки держались поближе к ним и вытягивали шеи, чтобы казаться выше, время от времени они сплевывали направо и налево, как заправские мужчины.
Маленькие девчонки с косичками резвились словно бабочки меж натыканных вокруг кафедры берез. Было ужасно торжественно.
Волостной старшина с гордостью говорил о великом вкладе эстонцев в борьбу против красных. Он дважды отметил, что эстонский народ дал немецкой военной силе большое количество добровольцев. Упомянул также об отважных делах членов «омакайтсе», подсчитал количество облав и перечислил, сколько красных парашютистов и партизан захвачено в лесах.
Он не преминул сказать и о самоотверженности мирного населения в борьбе с восточным врагом. Лесозаготовительная кампания дала горожанам необходимое топливо и строительные материалы.
Между прочим, волостной старшина призвал население выполнять обязательство по сооружению дорог и не забыл напомнить женщинам, что от выполнения ими норм по сдаче сельхозпродуктов будет зависеть окончательная победа и возвращение домой мужчин.
После того как волостной старшина закончил свою речь, загремели барабаны и затрубили трубы. Затем на берегу ручейка, заросшего камышами, была спета прекрасная эстонская песня о том, как плещут балтийские волны.
Бенита стояла в толпе женщин с кротким и просветленным лицом, сердце ее было преисполнено великого покоя. Йоссь отслужил свою службу на благо Германии. Перед тем как уйти из дома, Бенита зашла на конюшню посмотреть на мужа — он спал на сене, будто на подушке, лицо его от сна порозовело. В эту минуту хозяйка Рихвы чувствовала себя всемогущим ангелом-хранителем. Она подумала о бочке с мясом и о кадушке с маслом, стоявших под замком в амбаре, как о лучших спасительных средствах. Размякшая от охватившего ее счастья, Бенита погладила Йосся по плечу и поправила на нем одеяло.
Стоя возле похрапывающего Йосся, Бенита дала себе клятву — сделать все для того, чтобы Йоссь остался жив.
Спустя некоторое время, когда Йоссь со своими дружками обосновался в сарае койгиского Арведа и, полеживая на нарах, ждал окончания войны, к ним забрел какой-то бородатый седой старик. Как Бенита боялась, подозревая, что этот старикашка — шпион. Он нарушил спокойную жизнь мужчин, от зари до зари держал перед ними речи, вызывая на споры и стараясь убедить постояльцев койгиского Арведа в своей правде. Этот сумасшедший хотел вовлечь в борьбу и рихваского Йосся, и растяпу Эльмара, и лаурисооского Кустаса, и даже заморыша Карлу. Старик ошибочно принял мужчин за партизан и пытался подбить их действовать против немцев.
Однажды утром, ругаясь и отплевываясь, старик покинул сарай. Мужчины на время перебрались в другое место, однако старик все-таки не был предателем. Облавы не последовало, старик, видимо, принадлежал к числу истинных борцов-антифашистов. На сенокосе койгиского Арведа стояла тишина, мужчины могли вернуться в сарай на свои насиженные места.
Еще долгое время после этого случая «лесные братья» смеялись над стариком. Правда, иногда в порыве великодушия они признавались себе, что и сами спятили бы от этакой неразберихи. Ну и шутку сыграла судьба с этим стариком: сам — чистейшей воды эстонец, а немцы считают евреем и который год пытаются сцапать. Поживи-ка, если на тебя ведут облаву, как на зайца, этак и молодому недолго поседеть и свихнуться, сочувственно рассуждали мужчины, попивая самогон.
В то же время «лесные братья» отнюдь не считали себя ничтожными трусами. В стене меж бревен они, как святыню, хранили пожелтевшую газету, часто доставая ее и разглядывая напечатанную там фотографию, хвастаясь своими геройскими поступками. На фотографии, расставив ноги, стояли в ряд шикарные парни, бывшие бойцы мародерского отряда. Лица героев были каменные, козырьки шапок надвинуты на самые брови, стволы ружей, казалось, росли прямо из богатырских плеч. Фотография была сделана в первые дни немецкой власти, и подпись под фотографией утверждала, что мужчины, стоящие здесь под елями, нанесли сокрушительный удар по одному из подразделений истребительного батальона.
О том, что эти самые люди после ухода красных разграбили кооперативный магазин, в газете ни словом не упоминалось. Даже в Рихве появились вдруг папиросы, кожа на подметки и удивительное лакомство русских, называемое пастилой.
Бенита тоже не раз рассматривала эту фотографию, слушая хвастливые рассказы мужчин; в устах «лесных братьев» эти былые их подвиги раз от разу становились все удивительнее. Только заморыш Карла дулся, он не мог принять участия в разговоре, так как его на фотографии не было. В июле сорок первого Карла страдал поносом — как тут пойдешь на войну, если каждую минуту приходится откладывать ружье и спускать штаны.
Песня про балтийские волны кончилась, солдатик взял несколько аккордов, а потом заиграл старую милую мелодию.
— Матушка отнесла люльку на лужок, — подхватили все хором.
Былые надежды осуществились, подумала Бенита. Йоссь здоров и невредим, фронт, очевидно, минует их. Рихва уцелеет и хозяева тоже. Может быть, никогда и не было Молларта, ветеринарного врача из-под Тарту. И не жил в Рихве баран Купидон, которого они с Каарелом прирезали. И немую цыганскую девушку — эту сумасбродку, что уволокли с желтого одеяла в сарай, может быть, Бенита тоже придумала?
Может быть.
— И меня берут за сердце вот такие бесхитростные мелодии, — сказала Леа Молларт после того, как песня была допета, и дотронулась до Бенитиной руки. — С настоящим искусством всегда так — смотришь или слушаешь, и от восторга на глаза навертываются слезы. К сожалёнию, в последнее время такое радостное переживание выпадает редко. Во время войны искусство деградирует. Барин превратился в продажного оборванца. Не зря утверждают: когда гремят пушки, музы молчат. Сегодняшнее искусство, словно угодливый адвокат, пытается любой ценой оправдать преступления тех, кто ему платит. Но нормальный человек не терпит, если происходит подтасовка и ложь возводится в добродетель, он начинает протестовать, его передергивает от этого.
— Вы ошибаетесь, — прервал Парабеллум. — Именно с послушными людьми вершили историю. Вы видели военные парады? Хотя бы в кино? Вы обратили внимание, как восторженно рукоплещут люди, увидев мощное огнестрельное оружие? Сегодня они кричат «ура» пушкам, чтобы завтра стволы этих пушек плевались в них смертью.
Рикс, который дремал, подперев щеки руками, вдруг поднял голову.
— В таком случае, чем бы мы стали воспитывать любовь к родине и боевую готовность, если не искусством? — спросил он.
— Вы апеллируете к примитивной психике, — с раздражением Произнесла Леа Молларт.
— Послушай, госпожа, говори по-эстонски, — заплетающимся языком сказал Яанус.
— У меня был спор на эту тему с господином Вальтером. Я встретилась с ним в Тарту. До войны господин Вальтер работал в Дрезденской галерее. Он тоже считал, что искусство должно воспитывать в человеке веру в господствующий строй. Делать из человека фанатического сторонника правящей власти.
— Если мы пустим все на самотек и будем снисходительно относиться к тем, кто морщит нос, единство нации будет нарушено и государство погибнет, — присоединился Рикс к точке зрения господина Вальтера.
— Вам доводилось видеть современную немецкую живопись? — спросила Леа Молларт у Рикса.
— Сразу не припомнить, — уклончиво ответил Рикс.
— Ладно, я попробую немного помочь вам, — с увлечением воскликнула Леа Молларт, очутившись в своей стихии. — Представьте себе наполовину вспаханное поле, на первом плане уходящие вглубь борозды. Вдалеке ярко зеленеет дубовая роща, рельефные кучевые облака бороздят небо. Могучий светловолосый мужчина-ариец пашет поле. На нем белоснежная рубашка с рукавами буфом, она так же чиста, как и его совесть. Лошади арденнской породы — их светлые гривы развеваются на ветру — с извечным немецким упорством тянут плуг.
Леа Молларт вздохнула.
— Или другая картина. На ступеньках, простерев руки, стоит фюрер словно великий миротворец, и улыбающиеся, чистые, счастливые детишки протягивают любимому вождю цветы.
— Детьми можно подсластить самую горькую пилюлю, — насмешливо произнес Парабеллум.
— Мало разве картин, на которых ариец героически кидает во врага последнюю гранату или выпускает последний патрон? В качестве модели подбирают молодого мужчину, у которого каждый мускул напряжен, как у атлета. На картине его лицо слегка — дабы не нарушить эстетических норм — искажено яростью борьбы…
— Человек убивает, чтобы сохранить цивилизацию, — вставил Парабеллум.
— Или возьмите, например, бесчисленные портреты фюрера. Блестящие коровьи глаза, на лбу складки — свидетельство мудрости, взгляд устремлен вдаль, где, подобно восходящему солнцу, сияет новый строй!
— Не знаю, почему господин Вальтер не посадил вас в тюрьму?
— Оставим немцев, — ответила Риксу Леа Молларт. — То же самое можно сказать по поводу любого принудительного искусства.
Солдатик, которому надоели умные разговоры, стремясь привлечь к себе внимание, взял несколько аккордов на басовых нотах и спросил:
— Дадут ли наконец промочить горло? Все только норовят запихать тебе в башку побольше всяких премудростей. Человек не умеет весело жить.
— Все зависит от того, что понимать под весельем, — огрызнулась Леа Молларт, однако все же прекратила разговор об искусстве.
— Я все же думаю, что цель оправдывает средства, — никак не мог успокоиться Рикс. — Какие-то организующие начала необходимо давать народу. Люди спрячутся в кусты и на все махнут рукой, если будут думать своей головой. Развитие остановится, и цивилизация погибнет.
— Кто спрячется в кусты, кто удерет за море, — колко заметил Парабеллум.
— Мы отступаем для того, чтобы собрать силы. Наш долг — обеспечить эстонскому народу новое и лучшее будущее, — сурово произнес Рикс.
— Какой приятный человек и какие твердые принципы, — с другого конца стола пробормотала Бенита.
— Кто знает — новое и лучшее будущее или дурацкий балаган. — Леа Молларт подвергла сомнению высказывание Рикса. — Никто из нас не в состоянии подняться так высоко над временем, чтобы понять, что, собственно, происходит.
— Если б у свиньи были когти, залезла бы на дерево, — сказал муж кулливайнуской Меэты, обычно предпочитавший молчать.
Бените не хотелось принимать участия в беседе. Она водила пальцем по скатерти, чертя какие-то круги и треугольники. В треугольнике появились бараньи рога. А под кругом — корни, густые как волосы. Лень сковывала язык, и у Бениты было такое чувство, будто на нее нашло полное отупение. Интеллигентка по уши увязла в коровьем дерьме! Жалкая пташка, которая, сидя на трубе, считает себя великой!
Все же Рикс был прав, сказав когда-то, что интеллигентами рождаются.
Очень надо было ей в свое время стремиться в колледж? Служить прислугой в семье дяди, чтобы было чем платить за учение? А отцу ее, Каарелу, с раннего утра до поздней ночи — гнуть спину на государственной мызе, чтобы помогать дочери?
«Все было бессмысленным, бессмысленным», — с тоской думала Бенита.
— Когда я открыл дверцу самолета и плюнул на Монблан, — вернулся Парабеллум к старому разговору, — я думал, что совершил самый героический поступок в своей жизни — взглянул на знаменитую вершину мира сверху вниз. Вздор все это. Я только убедился, что и Рикс, и госпожа Молларт — несравненно более высокие вершины, через которые ни одному самолету и не перелететь.
Все с облегчением рассмеялись.
Солдатик снова заиграл на аккордеоне. Спутник девушки-цыганки и тот на миг оторвался от своих мучительных мыслей и начал раскачиваться в такт мелодии.
Бенита украдкой наблюдала за этим парнем из-под Раквере. Она смотрела на его мясистое лицо и округлые красные щеки, и на сердце у нее почему-то становилось легче.
25
очу взглянуть, что за праздник, черт побери, справляют в моем доме! — рявкнул кто-то с улицы. — Я самого черта не боюсь, у меня ружье!
Это был Йоссь.
И, словно в подтверждение этих слов, он дважды пальнул в воздух. Собаки залаяли.
Минна оперлась руками о стол и встала. Беженцы, которые не имели ни малейшего представления о существовании Йосся и других «лесных братьев», съежились, готовые залезть под стол.
Бенита быстро убрала пустые бутылки из-под самогона. Ей необходима была сейчас какая-то деятельность, чтобы справиться с охватившим ее волнением.
Солдатик положил револьвер перед собой на стол. Хозяйского сына из-под Раквере словно сдуло со скамьи — опрокинув лимонное дерево, он выскочил в открытое окно.
Прежде чем Бенита успела произнести хоть слово, чтобы успокоить гостей, Рикс и Парабеллум привстали и направили дула своих пистолетов на дверь.
— Успокойтесь, прошу вас, — ловя ртом воздух, сказала Бенита. Однако вид бледной, как полотно, хозяйки отнюдь не прибавлял мужчинам решимости, и пистолеты так и продолжали быть направленными на дверь.
— Это мой сын, — ясным голосом объявила Минна. — Он никому зла не сделает. Он такой же бездомный, как все эти сироты военного времени, которые не хотят убивать других людей.
Бенита не ожидала от свекрови такого красноречия.
Даже Каарел не захотел остаться в стороне от событий. Он встал, протиснулся поближе к Риксу и Парабеллуму и что-то шепнул им на ухо.
Казалось, одна Леа Молларт не поддалась всеобщему оцепенению. Опустив голову на руки, она расхохоталась и отрывисто сказала:
— Никогда у меня в жизни не было такого количества приключений!
В кухне загремели ведра и покатились по каменному полу, с грохотом упала скамейка и скрипнула ножка отодвигаемого стола или стула. Затем в дверях появился разъяренный Йоссь с ружьем в руках.
— Черт! — оглядевшись в комнате, выругался он. — Моя жена открыла здесь публичный дом! Комната полна мужчин, бутылок невпроворот. Нет, ты только погляди, как стол накрыла — скатерть вытащила, целые горы мяса выставила.
Йоссь был изрядно пьян.
Сылмеская Элла, по-видимому, не скупилась, таская им самогон.
— Черт! — Йоссю хотелось продемонстрировать свою власть. — Хозяин Рихвы — я, захочу — всех вас вышвырну из дома.
Бенита села.
— Потеснитесь, — скомандовал Йоссь.
Кулливайнуская Меэта быстро вскочила и предложила Йоссю сесть на ее место.
— А теперь все будете пить за мое здоровье, или я выкину вас со всем вашим барахлом на улицу, — разошелся Йоссь и, схватив со стола бутылку, стал размахивать ею.
— Выпьем, выпьем, — поспешно согласились женщины. Только Леа Молларт все еще не могла справиться с разбиравшим ее смехом.
— Дерьмовый народ — эти эстонцы, — провозгласил Йоссь, дрожащей рукой наполняя кружку.
Рикс и Парабеллум переглянулись. Леа Молларт перестала смеяться, вытерла платком уголки рта и с интересом стала наблюдать за действиями хозяина Рихвы.
Минна вздохнула:
— Вот что делает война с людьми! Нервы так взвинчены, что не остается уже ни стыда, ни совести.
Подойдя к Йоссю, она положила руку ему на плечо и стала уговаривать.
— Йоссинька, деточка, — заговорила она ласково, — люди пришли издалека, ты на них не сердись. Все мы страдаем одинаково. Надо держаться вместе и протягивать руку ближнему своему.
— К черту! — Йоссь резко дернул плечом. — Все они были прихвостнями у немцев, а теперь мчатся искать новых хозяев. А вот я, — стал выхваляться Йоссь, — еще весной откололся от немцев, я не признаю над собой никакой власти, я — сам себе хозяин.
— К сожалению, редко можно встретить таких смелых людей, как вы, — произнес Парабеллум и, встав, отвесил Йоссю поклон.
— Гляди-ка, — удивился Йоссь, — хоть один толковый человек нашелся. Тебя как звать?
— Парабеллум.
— Если ты — Парабеллум, то я — Йоссь Ружье! — победоносно провозгласил Йоссь и огляделся вокруг — вызовет ли смех эта его шутка. Он встал и, пошатываясь, пошел к дверям.
— Камрады! — крикнул он. — Выходите из леса! Я уже вчера сказал — Гитлер капут! Не валяйте дурака!
Йоссь уже не мог стоять на ногах, схватившись за спинку стула, он упал на нее.
— Да придут ко мне отроки и отроковицы! — из темноты прихожей крикнул Эльмар и, подталкивая впереди себя цыганочку, вошел в комнату. За спиной Эльмара посмеивался заморыш Карла.
— Кустаса мы отправили домой каяться в грехах, — сказал Бените Эльмар.
Цыганка вырывалась, но Эльмар крепко держал ее за руку. И девушке пришлось покориться. Судорожно придерживая под горлом ворот платья, она робкими и!агами подошла к столу. Унылая пара потеснилась, и девушка села рядом с ними. Она опустила голову, и ее темные волосы, подобно покрывалу, упали ей на лицо.
Леа Молларт горящими от любопытства глазами смотрела на новоприбывших.
— Вот, значит, какой он, этот эстонский народ, — пробормотала она про себя.
Парабеллум ухватился за слова Леа Молларт и провозгласил:
— Из кого состоит эстонский народ? Нашу скудную землю часто топтали чужеземцы. Моим предком со стороны деда был некий солдат Гарибальди. Бабушку моего друга Рикса взяли «правом первой ночи», таким образом, перед почтенным обществом восседают рядышком слегка немец и слегка итальянец. Когда я служил у генерала Италиано Апеннино, я всегда думал, почему мне так легко дается итальянский язык, что ни говори — наследственность проявилась.
— Я по бабушке шведка, — рассмеялась Леа Молларт и откинула назад голову. — Очевидно, поэтому меня туда и тянет.
— А наш род берет начало от русских Причудья, — провозгласила сильная половина унылой пары.
— Я — чистокровный эстонец, — перебивая, заорал Йоссь. — Скажи, — он настойчиво посмотрел на Минну, — или ты тоже согрешила с кем-либо из чужеземцев?
Минна еще сильнее сморщила свое и так морщинистое лицо и сердито махнула рукой в сторону сына.
— Видите, — обрадовался Парабеллум, — у нас что ни волость, то свой народ — тут тебе и причудские, и запсковские, тут тебе и полунемцы, и четвертьшведы, не говоря уже о прочих.
Армильдин муж Яанус облизнул губы, видно было, что ему не терпится высказаться. Он вращал своими карими глазами, тайна распирала его щеки, он не мог дождаться, пока стихнет шум.
— В нашей волости когда-то жило много цыган. А потому на самых что ни на есть исконных эстонских хуторах рождалось немало кареглазых детей, — хихикнул он.
Армильда отодвинулась от мужа, взглянув на него, всплеснула руками:
— Бог мой, что же ты мне ничего не сказал, когда к алтарю повел! Теперь, не приведи господь, цыганская кровь заговорит в ком-либо из наших детей и уже тогда ничего путного из него не получится.
— Не волнуйтесь, госпожа, — стал утешать ее Парабеллум. — Есть одна такая уловочка, с ее помощью нетрудно узнать — есть ли в ребенке цыганская кровь. Больше всего цыгане любят мясо ежа. Это их национальное блюдо. Если ваш ребенок начнет гоняться за ежами, наймите сразу же адвоката и приготовьтесь идти в суд, ибо из вашего ребенка вырастает конокрад, шельма и лодырь. По ежам, запомните как следует, узнаете, что вам готовит будущее.
Армильда широко раскрытыми глазами смотрела на Парабеллума и старательно кивала.
— Я буду держать своих ребят подальше от ежей, — пообещала она, — все картинки с ежами из книжек вырву, чтоб дети и не знали, что такой зверь существует на свете.
Леа Молларт засмеялась.
— Пожалуйста, прекратите, — сказала Бенита Парабеллуму.
Цыганка отбросила волосы на затылок. На мочках ее ушей болтались нитки, рябиновые ягоды с них исчезли. Девчонка потрогала рукой остатки своих былых украшений и в упор посмотрела на Рикса. Бенита заметила, что Риксу неловко под взглядом девушки. Закрыв лицо рукой, он нагнулся, словно ища упавшую пачку папирос, и отодвинулся, едва не вытеснив сидящего рядом с ним Парабеллума.
— Разве я не прав, Рикс? — Парабеллум повернулся к приятелю. — Неизвестность — друг и опора человека. Чем меньше мы знаем, тем ограниченнее наше воображение. Если бы мы не представляли, что нас ждет, то не сидели бы в Рихве, а полеживали у себя дома, в постели, и пусть бы все шло, как…
Рикс уже не мог оторвать взгляда от подрагивающего лица цыганки. Да он и не пытался больше прятаться. Парабеллум, забыв закончить фразу, тоже смотрел на смуглую девушку, сидящую напротив него рядом с унылой парой.
Теперь все глядели на девушку, лицо которой исказилось в страшной гримасе.
И тогда девушка начала страшно кричать. Ее голос звучал настолько дико, что сидящие за столом не на шутку перепугались. Кулливайнуская Меэта схватила девушку за плечи. Леа Молларт вскочила, озираясь вокруг, словно ища помощи. Бенита зажала ладонями уши и закрыла глаза. Эльмар подошел к девушке и стал хлопать ее по спине. Его движения были ритмичны, словно он хотел помочь ей вытолкнуть застрявший в горле кусок. Йоссь стучал кулаком по столу и что-то требовал. Но из-за крика девушки его слов было не разобрать.
Парабеллум с умоляющим лицом склонился над девушкой. Но цыганка закатила глаза и ничего не видела.
— У нее падучая, у нее падучая, — твердил Рикс, почему-то обращаясь к Армильде. Армильда хоть и не совсем разобрала, что сказал Рикс, однако восприняла его обращение к ней как приказ к действию. Она оторвала свой толстый зад от скамейки и схватила цыганку. Минна принесла из кухни мокрое полотенце. От холодного компресса девушка перестала кричать. Сквозь мокрое полотенце неслись тихие стоны; девушка откинулась назад.
В открытое окно глядело мясистое лицо хозяйского сына из-под Раквере.
— Отдайте ее мне! — закричал парень, когда девушка затихла.
— Иди и забирай, — испуганно пробормотал Йоссь и жадными глотками осушил полную до краев кружку.
— Верните ее мне! — парень протянул руки через окно в комнату.
Женщины взяли ослабевшую, почти потерявшую сознание девушку под мышки и подвели к окну.
Хозяйский сын из-под Раквере схватил цыганку в свои объятия и, что-то бормоча, нырнул вместе с ней в темноту.
Парабеллум громко вздохнул и сказал:
— Обычно, чтобы выйти из комнаты, люди пользуются дверью.
— Вот вам — нынешняя молодежь, — звонко произнес Эльмар, словно хотел поскорее рассеять мрачное настроение, воцарившееся в комнате. — Тычутся вокруг, точно слепые котята, и не могут найти правильной дырки, которую прорубил в стене плотник.
— Да что говорить, — махнул рукой Йоссь, — девчонке захотелось парня. Если сосчитать все те бревна, которые мокли в ее пруду, можно было бы построить мост через реку.
Опустив глаза, женщины сердито фыркнули.
— Скорей бы утро, — через силу, словно что-то мешало ему говорить, произнес Рикс. — Сидим на линии фронта, теряем время.
— Бедняжка, и что только приключилось с ней, — сделав вид, будто пропустила мимо ушей слова Йосся, сказала кулливайнуская Меэта.
— Ни словечка сперва не говорила, такая тихая и вдруг начала кричать, — удивилась Армильда.
— Падучая у нее, что ли, или какая другая хворь, — вздохнул Яанус.
— Видимо, что-то так потрясло ее, и она потеряла речь. Она не может говорить, — медленно произнесла Бенита.
— Доннерветтер! — вырвалось у Парабеллума.
— Господи, за что? — жалобно протянула кулливайнуская Меэта и растерянно посмотрела на Армильду, у которой от испуга сделалось глуповатое выражение лица.
Затем все сидящие за столом вперемежку заговорили — о чем, уловить было трудно, и только Йоссь сидел с безучастным видом, выводя пальцем на скатерти восьмерки.
Солдатик поднял от аккордеона сонное лицо. Он вытянул шею, локоть его соскользнул с колен, и инструмент издал звук.
— Будем пить или пойдем сразу спать? — спросил солдатик.
Йоссь посмотрел на него.
— Послушай-ка, — сказал Йоссь, пододвигая солдатику кружку, — ты очень похож на меня. Или я раздвоился? Один Йоссь восседает на твоем месте, второй — на моем.
— Я такой же смелый человек, как и ты, — солдатик готов был побрататься с Йоссем.
— Ну, ну, ты не очень-то равняй себя с настоящим Мужчиной, — хвастливо заметил Йоссь.
— Истинная правда, — со свистом произнося букву «с», убежденно сказал парень. Глубоко вздохнув, словно беря размах, он принялся рассказывать — До того, как меня взяли в армию, я побился об заклад с парнями из поселка, что встану вниз головой на башне колокольни. Солнце еще не взошло, а парни из нашей компании уже тут как тут — как и было договорено. Уселись на кладбищенской стене, словно воробьи на проводах. Сидят и дрожат — ужасно холодное утро выдалось. Залез я на колокольню и задрал ноги кверху, к отцу небесному. Ну, тут парни заорали «ура» и «да здравствует». Весь окрестный народ переполошили. Кидали в воздух шапки, двое так и остались без них — закинули на самую верхушку ели, кто доставать полезет, иглы-то колются. Спустился я с башни, парни меня на руки — и понесли, подкидывают в воздух, чуть ли не до самых верхушек деревьев. Потом в поселке обо мне иначе и не говорили: да это тот парень, который стоял вниз головой на колокольне. Когда вышел приказ о мобилизации, я потребовал, чтобы меня определили в летную часть, объяснил всем деятелям — высоты-де не боюсь, на церковной башне вниз головой стоял. И слушать не стали, дьяволы! Немец не уважает эстонского парня. Не подпускает его к штурвалу самолета. Словно он и не человек! Эстонскими девчонками они не брезговали, любую девку попригляднее подцепят и давай услаждать ей слух игрой на гармошке.
— Парень, ты что за ахинею несешь, иди-ка лучше спать, — посоветовала двойнику Йосся кулливайнуская Меэта: после мрачного инцидента она была не в состоянии слушать болтовню солдатика.
— Девчонка эта лишилась языка с перепугу. Ну и что, — глядя на Меэту, обиженно пробурчал парень. — Увидела где-нибудь труп и потеряла дар речи. Нельзя быть такой неженкой. И раньше во время войн людей сажали на кол, вешали вверх ногами или заживо сжигали. Я ведь не малолеток какой, исторические книги в школе от корки до корки прочитал. Побежденных не жалеют! Кто, как не победители, несет время вперед.
— И ты смирился с ролью побежденного? — спросила солдатика Леа Молларт.
— Я? — удивился он. Ему пришлось крепко схватиться за аккордеон, чтобы не упасть на соседа. — Я? — повторил он. — Я ничего, я держу нейтралитет. Я — смелый парень, я стоял вверх ногами на церковной башне. Ну и ветрище там! На земле было совсем тихо, а там просто завывало все. Верхушка башни качалась, словно маятник, а я все-таки задрал ноги к небу и стою.
— А рот ты держал открытым? — с интересом спросил Парабеллум.
— А то как же, — важно подтвердил парень. Он, разумеется, думал, что стоять на голове полагается с открытым ртом.
— Тогда все ясно, — вздохнул Парабеллум. — Я так и думал. Надо было сжать челюсти, тогда бы сердце не выпало из груди и не потерялось.
— Ты чего издеваешься? — взвизгнул парень. Он встал, положил аккордеон на стол — одна из кружек с самогоном опрокинулась, и с угрозой сказал — Я из тебя, дьявола, сейчас кишки выпущу!
— Если тебе известно, что такое быстрота реакции, то лучше сиди и помалкивай, — посоветовал ему Парабеллум и отвернулся.
Бенита заметила, что Парабеллум, шепча что-то на ухо Риксу, в то же время не спускал глаз с оскорбленного солдатика.
— Давайте-ка лучше опрокинем по кружечке, — предложил Йоссь, которому стало жаль парня, и потянул своего двойника за рукав.
— Давайте-ка держаться вместе, как настоящие эстонские мужчины, — сказал солдатик и обнял Йосся. — Эти ч-чуть иностранцы с-слегка ч-чокнутые.
— Скорей бы утро, — скривив рот, пробормотал Рикс.
Парабеллум закурил и ловко выдохнул дым — две серые струйки, словно усы, легли на обе стороны его лица — и торжественно произнес:
— Утром поднимем паруса на нашей телеге и с попутным ветром… Так уж устроен человек — не может беспрерывно быть в движении, нужны ему и остановка и передышка. Когда досидишься до того, что на языке появится привкус скамейки, значит — пора снова трогаться в путь.
26
аморыш Карла склонился над хозяином Рихвы и коснулся плеча своего собрата по сараю. Но Йоссь храпел, положив голову прямо на стол, и даже не шелохнулся. Лицо Карлы расплылось в широкой улыбке, он вдруг почувствовал себя хозяином положения, наконец-то и он мог взять нить разговора в свои руки. Заморыш Карла поудобнее расположил свою тощую задницу на сиденье стула и заговорил:
— Йоссь раз пять в день толкует мне, дескать, ты — заморыш Карла, давай держи язык за зубами. Йоссь у нас в сарае за генерала, потому как ему больше всех довелось понюхать пороху, он даже и в окопах побывал. За это ему почет и уважение. Так вот, Йоссь и говорит мне, ты — заморыш Карла, молчи, когда мужчины разговаривают. Ты мол, жалкий холостяк и, когда умрешь, тебе сделают гроб и в нем трубу. А как прикажете жить, не разговаривая. Иной раз с горя пойдешь за сарай и разговариваешь сам с собой. Я всю жизнь уважал просвещение и газеты читал. Самые разные интересы имел, даже ночами из-за этого не спал. В эстонское время откладывал центы и сразу на целый год выписывал газеты и журналы. Моя покойная матушка не раз сетовала, зачем не отправила меня в университет. Из тебя, Карла, говорила она, мог бы получиться ученый муж! Вся бы волость гордилась. А сестра моя, упрямица, все деньги хотела в хозяйство вложить. Лишняя свинья в свинарнике, говорила она, уж во всяком случае лучше, чем ученый муж в доме. Порой такая жадность ее одолевала, что если, к примеру, на двор к нам прискачет из лесу лягушка, сестра и ту сажала на цепь, чтобы никуда не делась…
Карла облизнул губы и взглянул на сидящих за столом усталых людей, которые, склонив головы на руки, слушали его.
— Может, и вы скажете, — лучше, мол, не треплись, заморыш Карла, — смущенно произнес он.
— Говори, говори, — подбодрила его Бенита.
— Одна только молодая хозяйка Рихвы готова слушать меня. С ней, как с образованной женщиной, интересно обменяться мыслями, — похвалил Бениту заморыш Карла и заморгал глазами. — Даже и теперь, когда мы жили в сарае, она носила нам газеты, и я всегда до последней строчки прочитывал их. В мозгу у меня много лет вертится один вопрос. Почему эстонец так услужлив к чужеземным захватчикам, так послушен? Почему верит в них так же твердо, как козел в свои рога? Возьмем, к примеру, Общество взаимной помощи эстонского народа, или Общество грабителей эстонского народа, как его называют. Одно дело — кричать за спиной, другое дело — усердие этих же самых крикунов. Кто стоит во главе помощи эстонскому народу? Эстонцы! Чего они только не напридумали, чтобы обирать своих сестер и братьев! Сбор денег по листам пожертвований, какие-то там дни пожертвований, просто пожертвования, лотереи, сбор денег к рождественским праздникам, выпрашивание одежды и предметов обихода, продуктов и цветного металла. Под вывеской «зимней» помощи женщинам совали в руки спицы и стригли наших баранов и овец. В то же время нам наплевать, когда наших больных эстонских братьев и сестер морят голодом. Взять хотя бы дома престарелых, сколько за последнее время вынесли оттуда гробов. Нам не жаль своих женщин, когда они в брезентовых сапогах ходят на лесоразработки или мостят дороги. Говорят, на благо германской армии, на благо германского государства. Во имя победы! Где эта победа? Нас дочиста обобрали. Что получил эстонский народ взамен за свое самопожертвование? Ослиные подковы! Стеклянные бусы и пудреницы, искусственные цветы и мастику для натирания полов. Что прикажете делать эстонскому крестьянину с этой мастикой? Ему нужно искусственное удобрение! Зерно отбирают, скот идет на то, чтобы немцы отращивали себе задницы, а эстонец лишь вздыхает и покорно возделывает сахарную свеклу, потому что на протяжении всей войны не видел сахара. Трудимся в поте лица, как крепостные, спин не разгибаем, руки в кровавых мозолях. А потом собираемся вместе и торжественно поем: «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес!»
— Молчи, заморыш Карла, — проснувшись, закричал Йоссь и погрозил пальцем своему собрату по сараю. — Ты чего рассуждаешь? Я давно говорю: эстонский народ — дерьмовый народ.
— Как тут будешь ерепениться, ежели на тебя винтовка направлена, — фыркнул Каарел, с интересом слушавший Карлу. — Неповинен гвоздь, что лезет в стену, ежели его обухом забивают.
— Черт побери, давайте и мы возьмем в руки винтовки, — распетушился Карла. — У нас что, нет мужчин?
— Какие мужчины! — встрепенулся Яанус. Его жена Армильда, дремавшая на плече своего супруга, вздрогнула и проснулась. — Мужчины сами себя покалечили.
Эльмар протянул вперед руку и провозгласил:
— Однажды спьяну я прижал койгиского Арведа к стенке и прямо спросил у него; как ему удалось получить освобождение от армии и остаться честным человеком? Знаете, что он мне ответил? Сказал, что петушиным клювом ввел себе в ногу куриную кровь — и дело в шляпе. Хаапсалуские профессора и те не поняли, что такое с ним приключилось. Хромает, нога распухла, а обнаружить ничего не могут. В старое время рекруты топором отрубали себе большой палец, чтобы остаться дома. Теперь все это делается потоньше. Я однажды подумал, а что, если скрутить из шелка самокрутку и выкурить? Говорят, здорово легкие прошибает. А затем поглядел на Роози, как она вдыхается от этой своей хвори, и рука не поднялась здоровье свое губить.
— Я слыхал, что, если пропустить через мышцу конский волос, тоже начнешь хромать, — сказал Яанус.
— Нет у нас мужчин ни чтобы жить, ни чтобы умирать, так себе, одни полукалеки, убогие да хромые, — встрял а разговор, который с жаром вели мужчины, заморыш Карла.
— Ты чего толкуешь?! Сам-то разве лучше! — разозлился Эльмар. — Утром встанет, начнет брюзжать, вечером ложится спать — снова брюзжит. Жизнь человеку не мила, все время надо ему куда-то мчаться сломя голову. Одним человеком на фронте больше или меньше — какая разница, ничего от этого не изменится. Должен же хоть один петух остаться в деревне, чтобы женщин обхаживать. Почему не пошел в армию, когда звали! Сколько раз эстонскому народу приказ выходил! Чего же ты в кусты залез и там отсиживался? Бродишь вокруг как тень, впрочем, иначе ты и не можешь, раз на святой кладбищенской земле стоит крест с твоим именем.
— Я бы, может, и пошел, ежели была бы такая армия, которая за правое дело сражается. А потом сестра поставила этот крест, как тут пойдешь? Она за меня решила. Теперь никаких забот нет, только и дел — открыть крышку гроба и залезть на свое местечко, когда срок придет, — вздохнул заморыш Карла.
— Нельзя! — воскликнул Йоссь. — Гроб-то без трубы.
— Да, — вздохнул Рикс. — Наш народ не родил в нужное время титана мысли. Это больно дает себя знать. Нет полководца, нет инициативного человека, который сплотил бы людей воедино и погнал бы иноземцев, чтобы и духа их не было.
— Я же сказал — дерьмовый народ, — зевая повторил Йоссь.
— Что с нами этак будет? — жалобно произнес заморыш Карла. — Здесь, в Рихве, собрались лучшие представители эстонского народа. Но они решили отряхнуть со своих ног прах этой земли. Обычно говорят, что крысы покидают тонущий корабль, значит, есть у этого зверя жизненная сила, коли не хочет идти на дно. Моллюск, который еле-еле передвигается, остается на корпусе корабля. Он чувствует себя уверенно в своей раковине до тех пор, пока ее не раздавят. А у крысы — зубы, она всюду прогрызет себе лазейку.
— Да здравствуют крысы! — воскликнул Парабеллум и поднял кружку с самогоном.
Первый раз за долгое время Бенита улыбнулась. Ей вспомнилось, как серые крысы мчались от реки к хутору, когда отец Каарел ходил топить их. Крыс одолела тоска по дому.
— Да здравствуют крысы, — повторил Йоссь и стукнул кружкой о стол так, что самогон расплескался на скатерть.
Бенита посмотрела на свой палец — в том месте, где было обручальное кольцо, виднелась светлая, похожая на рубец полоска, — а затем долгим взглядом обвела гостей. Леа Молларт без конца зевала, прикрывая рот рукой. Остальные тоже сидели с унылыми лицами и провалившимися от бессонной ночи глазами. Но почему-то никто не говорил, что пора расходиться. Кулливайнуская Меэта, примерная хозяйка, отослала лишь детей, сама же продолжала сидеть, облокотившись на стол, чтобы не заснуть. Возможно, они все надеялись здесь, в едином кругу, найти друг у друга поддержку? Или боялись пропустить мимо ушей что-то, что могло оказаться важным в эти смутные времена? Бенита внимательно разглядывала подарок крестной — испачканную, измятую и засыпанную пеплом скатерть. Между кружек с самогоном валялись ошметки ветчины, надкусанные огурцы лежали прямо на скатерти. Потрескавшиеся тарелки, заменявшие пепельницы, едва были видны из-под горы окурков. Но Бенита не испытывала сейчас ни малейшего желания прибрать на столе.
Внезапно она почувствовала тошноту. Стараясь не привлекать к себе внимания, Бенита тихо встала и вышла. В кухне она споткнулась о ведра, которые, входя, опрокинул Йоссь. Она не стала наклоняться, чтобы поставить их на место. Что-то чавкнуло под ногой, и Бенита представила себе, каким отвратительным будет пол кухни, когда рассветет. Ее еще сильнее затошнило. Ручка двери, до которой она дотронулась, показалась холодной и липкой, в водопроводной трубе зашумело, хотя бак, насколько она знала, был пуст. Может, полоумная Випси снова ходила качать воду?
Наружная дверь скрипнула. Наконец-то Бенита стояла на каменных ступеньках и жадно вдыхала в себя прохладный воздух. Внезапно ей почудилось, будто вдали что-то блеснуло. В самом деле, на выгоне, где паслись лошади, мерцал огонь. Бенита сделала шаг назад, прислонилась к косяку и постаралась взять себя в руки. У нее было такое чувство, будто весь мир завертелся вокруг нее, и Рихва, натыкаясь на верхушки деревьев и крыши, взлетает в воздух. Окрестности, насколько хватало глаз в темноте, казались незнакомыми.
Держась за стенку дома, Бенита нагнулась над крыльцом, и ее вытошнило.
Сразу стало легче. Головокружение прошло, и Бенита ощупью спустилась с лестницы. Вытянутая вперед рука коснулась чана, в котором стояли, охлаждаясь, молочные бидоны. Женщина зачерпнула горсть воды и плеснула себе в лицо. Придя в себя, Бенита нашла на скамейке опрокинутое ведро и вручную накачала в него воду. Теперь можно было вымыть лицо, руки, прополоскать рот и горло. Остатки воды Бенита выплеснула на крыльцо, словно ему надлежало быть сейчас самым опрятным местом рихваского дома. Несколько раз глубоко вздохнув, Бенита почувствовала себя достаточно освеженной. Она решила еще раз взглянуть туда, где только что мерцал огонек, полагая, что теперь видение исчезло. Однако свет на выгоне все же горел. На траве стоял штормовой фонарь, и какой-то мужчина, напоминавший огромную ночную бабочку, маячил перед огнем.
Бенита ощупью побрела к выгону.
Глаза, привыкнув к темноте, различали все лучше и лучше, да и отсвет от фонаря помогал. Внезапно Бенита совершенно отчетливо увидела хозяйского сына из-под Раквере — он стоял у лаза, прислонившись к столбику. Держа в руке белый листок бумаги, парень протягивал его девушке-цыганке. Девчонка, закутанная в желтое атласное одеяло, казалась мумией, стоящей посреди ночного пастбища. Как только парень с листком в руке делал шаг вперед, девушка отступала. Поскольку ног ее из-под одеяла не было видно, казалось, что девчонка, чуть покачиваясь, скользит по траве.
«Рихва все-таки взлетела в воздух», — подумала Бенита, и ее охватила дрожь. Постояв какой-то миг с закрытыми глазами, она вновь обрела равновесие и трезвость восприятия. Бенита пошла прямо на фонарь, где только что находился какой-то человек.
Кто бы это мог быть? Немая сцена, разыгравшаяся между девушкой-цыганкой и хозяйским сыном из-под Раквере, явно не касалась этого третьего, чья тень мелькала сейчас между стволами берез.
Бенита шла, по очереди отрывая от земли отяжелевшие ноги. Перед ней покачивался фонарь, и снова ей показалось, что рихваские постройки и поля поднимаются в воздух. Только свинцовые ноги удерживали саму Бениту на земле. С каждым шагом они как будто все глубже и глубже уходили в вязкую почву.
Между березами и фонарем, спиной к Бените, стоял ветеринарный врач Молларт.
27
дравствуйте, Эрвин Молларт, — тихо сказала Бенита.
— Здравствуйте, — ответил Молларт и повернул голову. На его лицо теперь не падал свет от фонаря. Зато Бенита стояла как в луче прожектора. Она напрягла мускулы лица и зажмурилась, чтобы скрыть выступившие на глаза слезы радости.
— Я ждал вас. Ходил вокруг дома, заглядывал в окна. Но у вас справляли праздник, и вы не нашли времени для меня, — заметил Молларт.
— Я устроила попойку, чтобы бодрствовать, пока вы не вернетесь, — улыбнулась Бенита и протянула ему руку.
Он в смущении отступил и спрятал руки за спину. Только сейчас Бенита заметила на земле лошадь и свернувшегося рядом с ней в комочек жеребенка, прикрытых соломой.
— Я прибыл вовремя, — заметил Молларт. — Парень бы один не справился. Кобыла была измучена долгой дорогой.
Бенита смотрела на беспомощного жеребенка, который, казалось, и лежа шатался от слабости. Он еще не вставал на ноги и только сейчас чуть приподнялся и попытался выпрямить суставы передних ног. Да и держать шею ему было не просто: голова жеребенка с белой отметиной на лбу валилась то на одну, то на другую сторону. У кобылы дрожали ноздри, а глаза были большие, влажные и темные.
— Пошли к колодцу, вымоете руки, — распорядилась Бенита и взяла фонарь. Луч света скользнул по цыганке, закутанной в желтое атласное одеяло, прядь волос, выбившаяся из-под края одеяла, походила на крюк, ввернутый в голову мумии.
Парень, по-прежнему стоявший у лаза, сверлил взглядом проходившую мимо Бениту.
Бенита оставила Молларта у колодца, а сама тихо вошла в дом. Пройдя в заднюю комнату, где посапывали дети, она достала из шкафа полотенце. Она могла не бояться, что ее шаги услышат. Сидящие за столом беженцы и «лесные братья» успели снова подзарядиться и теперь вовсю горланили. Солдатик подыгрывал им на аккордеоне. И хотя рука его часто соскальзывала с клавиш, это все-таки была музыка.
Молларт взял из рук Бениты хрустящее льняное полотенце и тщательно вытер руки — каждый палец в отдельности.
— Не принуждайте меня идти к столу, — возвращая полотенце, попросил Молларт.
— Больше мне нечего предложить вам, — с сожалением сказала Бенита и кинула полотенце на скамью. — Есть две дороги. К праздничному столу или на край света.
— Лучше уж на край света, — серьезно ответил Молларт. — Как прямей пройти туда?
Бенита дотронулась до руки Молларта, и тот послушно пошел следом. У выгона ветврач отстал от Бениты, пролез между прясел на выгон и еще раз осмотрел кобылу с жеребенком. Напрасно взгляд Молларта искал хозяйского сына из-под Раквере и закутанную в желтое атласное одеяло цыганку. Их не было видно.
Молларт вернулся к поджидавшей его Бените и взял ее за руку. Ладонь у Молларта была теплая, и Бенита почувствовала, что утро довольно прохладное. ‘Она зябко повела плечами, но тут же подавила в себе дрожь. Они медленно пошли вперед вдоль дороги, по которой гоняли скот.
— Почему вы вернулись? — спросила Бенита и в ожидании ответа затаила дыхание.
— Не надо строить иллюзий, — неловко ответил Молларт. — Просто дорога была отрезана. Фронт. Сам не знаю, как и жив остался. Вы помните моего хромого мерина?
— Еще бы! Ведь это же было позавчера. Вы приехали и отвели своего мерина сюда, на выгон, где только что ожеребилась эта кобыла.
— Позавчера? — удивился мужчина. — А моего старого хромого друга уже нет. Ранило осколком. Пришлось помочь, чтобы не мучился.
— Значит, пешком? — спросила Бенита. — Прямо в Рихву?
— Лесом, потихонечку.
— Но все-таки — в Рихву?
— Куда же еще? — Молларт старался говорить беспечно. — Пожалел вас, когда вы спрыгивали с телеги и стали смотреть мне вслед. Вы же смотрели мне вслед, не правда ли? Я не оборачивался, не хотел, но мне казалось, что вы провожали меня взглядом.
— Нет, я сразу же повернулась и пошла своей дорогой, — сказала Бенита. — У меня было чувство, что это вы смотрите мне вслед.
Мужчина рассмеялся.
— Вам было так же жалко оставлять меня, как и своего мерина? — спросила Бенита.
— Почти. Того я дольше знал. Много дольше, — серьезно ответил Молларт.
— Я и сама не понимаю, почему выпрашиваю у вас внимания, — тихо произнесла Бенита.
Мужчина отпустил ее руку.
Бениту, которая доверчиво шла рядом с ним, смутило это движение. Она отодвинулась и отвернула лицо.
Темнота стала растворяться в предрассветных сумерках. Глаза уже различали лаз, который вел на клеверище. Здесь Молларт по приказу Бениты косил отаву, здесь он встретил барана Купидона и обнаружил, что тот болен.
— Купидона больше нет, — обронила Бенита.
— Так быстро! — удивился Молларт.
— Своей рукой прирезала, — чужим голосом сказала Бенита. — Сама, — подчеркнула она.
Они остановились под одинокой елью, росшей на дороге, по которой гоняли скот.
— Видите ли, — осторожно начал мужчина. — В моем возрасте уже неловко притворяться. Всякие там порывы и прочие движения души ушли в прошлое. Жаль, разумеется. Я чувствую себя непринужденно только среди животных. В людях я зачастую сомневаюсь. Боюсь попасть в глупое положение. Не умею достаточно быстро угадывать побуждения, заставляющие их поступать так или иначе.
— Вы потому и разошлись с женой, что каждый раз перед поцелуем произносили такие длинные речи? — насмешливо спросила Бенита.
— Нет, — нисколько не обидевшись, ответил мужчина. — Да вы спросили бы у нее самой.
— Подглядывали? — удивилась Бенита и тихонько пошла дальше. Молларт последовал за ней.
— На окнах не было занавесок.
— Йосся, моего мужа, тоже видели? — настойчиво спросила Бенита. От стыда у нее зашумело в ушах. Бенита ускорила шаг, чтобы Молларт отстал.
— Не спешите, — попросил Молларт. — Подумайте, сколько я прошел пешком.
— Ладно, — сконфуженно ответила Бенита.
— Вероятно, я не заметил его, — успокоил Бениту Молларт.
Женщина подавила вздох.
— Надо же было и Леа оказаться здесь! — после долгого молчания произнес Молларт.
— Все дороги ведут в Рихву, — бросила Бенита.
— Верните свою руку, — попросил Молларт.
Бенита вяло протянула ему холодную ладонь.
— Виновата жена? — спросила Бенита и подумала о Йоссе.
— Нет, я, — признался Молларт. — Ведь это я когда-то просил ее руки.
— А еще кто виноват?
— В какой-то степени друзья и знакомые, — ответил Молларт. — Им был не по душе этот неравный брак. Красивая и умная жена, а муж всего-навсего коновал, к тому же еще неприметный и хромой.
Бенита молчала.
— Они часто говорили мне, как хорошо танцует моя жена. Хвалили ее за умение ловко маневрировать в спорах и быстро загонять противника в угол. Знакомые подчеркивали, что у моей жены исключительная память, что всех поражает ее эрудиция в истории искусства. Я знал лишь, да и то посредственно, чем болеют лошади. Смотрите, озабоченно предостерегали меня знакомые, когда разводился кто-нибудь из наших общих приятелей, смотрите, чтобы и у вас не кончилось тем же.
Молларт отпустил холодную руку Бениты и стал шарить в карманах.
— Надоело. К чему мне было держать около себя такую очаровательную женщину? В конце концов, когда в прошлом году ликвидировали институт сыворотки и я переехал в деревню участковым ветеринаром, развод оказался единственным выходом из создавшегося положения. Она все равно не поехала бы со мной.
— Такая гордая? — пробормотала Бенита.
— Вы довольны? — спросил Молларт.
— Все встало на свои места, — ответила Бенита. — Я бы не сумела с такой точностью проанализировать человеческие отношения. Так коротко и ясно.
— Отсутствует дистанция, — заметил Молларт.
— Да, — бросила Бенита. — Голова Купидона еще лежит на куче торфа.
Бенита открыла лаз. Они пошли по росистой траве. На востоке, сквозь неплотные облака, пробивался желтоватый свет близкого утра. Словно черные свечи, стояли в предрассветной тишине ели на пастбище. Их острые верхушки казались фитилями, тянущимися к огню.
Близость утра заставила Бениту очнуться и сбросить с себя оцепенение, словно она уже торопилась в хлев, где ее ждали привычные дела.
Молларт смущенно поднял брови, он, кажется, пожалел, что так много рассказал о себе.
— Вам холодно, накиньте мой пиджак, — заботливо предложил он.
Бенита покачала головой и подошла к елям. Хвоя, лежавшая на земле, заглушала шаги.
— Куда вы меня ведете?
— Туда, куда обещала, — ответила Бенита и рассмеялась.
— Понимаю, — сказал Молларт и ускорил шаг.
От елей тропка, перескакивая с кочки на кочку, вела к ольшанику, что тянулся между пастбищем и поймой. Бенита раздвинула проволоку и придержала ее, пока Молларт перелезал. Они вышли на луг, где росли лишь старые одинокие березы.
Дойдя до середины зеленой равнины, Бенита остановилась и выдохнула:
— Ну?
Молларт кивнул.
Над руслом реки вилась молочная лента тумана. Легкий порыв ветра срывал клубы реющей влаги и гнал их сквозь окаймлявшие берег ольхи; светлые язычки белесой дымки простирались к середине поймы до самых берез.
Медное зарево постепенно затопляло влажный воздух. Лошади, стоявшие в излучине реки, заржали.
Молларт тихо свистнул.
Лошади подняли головы и вытянули шеи. Внезапно их темные и светлые ноги перемешались, лошади рассыпались, а затем встали в ряд под ольхами.
Новый порыв ветра сорвал с речной поверхности клубы тумана, отнес их на пойму и укутал ими лошадиные ноги. Казалось, будто огромные туловища животных плывут над землей.
«Мир взлетел», — снова подумала Бенита и на какое-то мгновение почувствовала, что теряет равновесие. Молларт заметил, что женщина, стоявшая рядом с ним, вздрогнула. Это едва уловимое беспомощное движение придало ему смелости.
Молларт схватил молодую хозяйку Рихвы, притянул к себе и поцеловал.
Бенита не вырывалась. Однако Молларт сам выпустил ее из объятий и внимательно взглянул на нее. Руки Бениты упали. Она подняла голову и прищурилась. Солнце взошло.
Молларт свистнул. Кружившие у реки лошади всем табуном направились к людям. Впереди шел тот самый красавец в белых чулках. Однако чалый, который вчера первым перемахнул через колючую проволоку, не мог примириться с такой несправедливостью и протиснулся вперед. Лошади, покачивая головами, осторожно подходили все ближе и ближе.
— Ну как, оседлаем лошадей и помчимся на край света? — засмеялся Молларт.
— В Рихве только одно седло, — мрачно ответила Бенита.
Молларт протянул руку, привлек к себе Бениту и, обняв за плечи, прижал к себе.
Лошади фыркали.
Вороной раздул ноздри и заржал. Это прозвучало как призыв. Весь табун помчался за ним; комья дерна из-под копыт взлетали в воздух. Животные описывали по лугу круги, проносились сквозь сверкавшие на солнце клочья тумана, их гривы вздымались, словно невидимая рука пыталась схватить и остановить их. Бенита и Молларт не могли оторвать взгляда от лошадей.
— Возьмите меня в свои владения лекарем, буду лечить ваших животных, — с радостным вздохом сказал Молларт.
— Пусть этот лекарь возьмет меня в служанки, — усмехнулась Бенита. Однако эта фраза тут же показалась ей неуместной, и она выскользнула из объятий Молларта. Отойдя на несколько шагов, Бенита сказала:
— Священный миг природы миновал. Рай утратил краски. Настало обычное утро. Мне пора доить коров.
На обратном пути Бенита дрожала от холода и усталости. Сегодня она не поплавала в реке, возможно, вчера она купалась последний раз в этом году. Настала осень.
Осень действительно настала. Оглянувшись, Бенита увидела, что березы роняют листья.
Молларт молча снял с себя пиджак и бережно накинул его Бените на плечи. Найдя в кармане смятую папиросу, он чиркнул спичкой. Крепкий запах табака ударил Бените в ноздри.
28
оссь лишь мельком глянул на Бениту, когда она в наброшенном на плечи пиджаке вошла во двор в обществе незнакомого мужчины.
Хозяину Рихвы было сейчас не до того, чтобы выяснять отношения с собственной женой. Он был во власти грандиозных планов, которые надо было сразу же осуществить, сразу, немедленно; сгрудившиеся во дворе беженцы уже ждали его приказаний, чтобы принять участие в затеянном им деле.
Бенита знала страсть Йосся ко всяким увеселительным поездкам. В кустах сирени до сих пор валялись заезженные до непригодности и превращенные в железный лом велосипеды. Как только Йоссь опрокидывал в себя хотя бы каплю спиртного, его начинал одолевать зуд, и он мечтал лишь об одном — услышать в ушах свист ветра. Когда ноги уже не держали царя природы, он садился в седло и принимался мерить глубину канав. Теперь, после долгих месяцев вынужденного сидения в сарае в обществе «лесных братьев», страсть Йосся к такого рода поездкам достигла небывалых размеров. Очевидно, еще ночью, сидя за столом, он обдумывал, как утром, едва взойдет солнце, выкинет свой очередной фортель.
Йоссь вывел из хлева племенного быка Мадиса — гордость хутора Рихвы. Телегу он заблаговременно оттащил на середину двора и приготовил хомут. Сейчас Йоссь ходил вокруг быка, бил упирающегося Мадиса ногой по голяшкам, ругал неизвестно кого и дрожащими руками поправлял упряжь.
— Полезай в телегу! — заорал Йоссь, когда ему наконец удалось запрячь быка, и замахал руками, словно собираясь схватить в охапку всю компанию беженцев. Его нечесаные волосы торчали во все стороны наподобие кудели, лицо было багровым.
— Поехали все! — что есть мочи, точно зазывала в дверях цирка, закричал Йоссь.
Женщины засмеялись.
Первым к телеге подошел Эльмар, держа в руках бутылку самогона.
Быку Мадису надоело стоять и ждать, словно кроткому барашку. Он начал пыхтеть и копытами вырывать из земли траву.
«И как ему удалось запрячь Мадиса?»— с любопытством вытягивая шею, подумала Бенита. Не ожидая от Йосся такой хватки, она покачала головой.
— Ах, — махнул рукой Рикс, не в силах сопротивляться приглашению хозяина. — Прокатимся напоследок и… исчезнем.
Пошатываясь, он подошел к телеге. Зад у Рикса оттягивало книзу, и бедняге пришлось попотеть, прежде чем он взгромоздился и устроился на сене.
— Карла, принеси кнут, — скомандовал Йоссь.
Заморыш Карла быстро побежал выполнять приказание.
Он вертелся, как волчок, стараясь отыскать кнут. В конце концов сообразительный Карла нашел его у дверей конюшни и с победоносным видом, вразвалку направился к своему повелителю.
— Я не могу отказаться от такого удовольствия! — взвизгнула Леа Молларт. Судорожно стараясь держаться прямо, она засеменила к телеге. Уже восседавший там Рикс, оживленно блестя глазами, протянул даме руку. Леа Молларт барахталась, словно попала в сети. Нога в постоле то и дело соскальзывала с оси колеса, сумочка на длинном ремне застряла в грядке телеги. Женщину душил смех, и поэтому залезть было еще труднее.
Бенита огляделась, ища Молларта. Ветеринарный врач отошел к конюшне и прислонился к лестнице, которая вела на сеновал. Стоя там в синеватой тени, он казался очень бледным. Бенита подошла к нему и вернула пиджак.
Только сейчас Бенита поймала на себе пристальный взгляд Йосся. Хозяин Рихвы стоял в телеге и пялил глаза в их сторону.
— Быстрее! — мгновением позже яростно взревел Йоссь и топнул ногой. — Старому черту Мадису не терпится! Люди добрые, залезайте в колесницу истории!
Леа Молларт, откинувшись на передок телеги, хохотала. Не то со вздохом, не то со стоном она вцепилась в плечо Рикса, не переставая хохотать. Потеряв равновесие, Рикс схватился за боковую грядку и, тяжело дыша, уперся ногами о дно телеги, чтобы не свалиться вместе с искусствоведом.
На крыльце, размахивая руками, появился Парабеллум. Горланя и гикая, он старался привлечь к себе внимание. Парабеллум рычал, подражая Мадису, и колотил резиновой рукой о стену.
Армильда первой заметила Парабеллума и от удовольствия начала пронзительно кричать. Присев на корточки, она выжимала из легких воздух, чтобы продлить крик.
Парабеллум распахнул ворот рубашки и скорчил гримасу. От этого движения зашевелились усики, наподобие гитлеровских, нарисованные углем над его верхней губой. На голове у Парабеллума был повязан желтый платок, концы которого болтались над ухом.
От галдежа и долгого стояния на месте Мадис пришел в сильное возбуждение и рванул телегу. Плохо державшийся на ногах Йоссь упал как подкошенный. Эльмар помог метавшему гром и молнии приятелю снова подняться на ноги.
Это послужило как бы последним сигналом к отбытию. Солдатик со своим аккордеоном полез в телегу, а следом за ним — Армильдин муж Яанус. Хоть вопящая жена и держала его за полы пиджака, однако Яанус вырвался и самонадеянно вздернул свой седловидный нос к небу. Толстозадая Армильда развела руками, словно собиралась взлететь в воздух.
Одна только кулливайнуская Меэта оставалась безучастной. Взяв у колодца подойник и взглянув, чист ли он, она направилась к хлеву, где нетерпеливо мычали коровы. Кот, который, не обращая внимания на шум, сидел у стены хлева и самозабвенно вылизывал себя, встал и, задрав хвост, вошел в дверь следом за Меэтой.
Ни ей, ни ему не было дела до веселой компании гуляк.
Бенита стояла как вкопанная, не зная, что предпринять. Она украдкой смотрела через плечо туда, где, прислонившись к лестнице, стоял хромой мужчина. Молларт следил за королем быков Мадисом и не видел вопрошающего взгляда женщины. Подошедшие позже беженцы — мужчины и женщины — молчаливой кучкой встали в сторонке, точно не считали себя вправе принять участие в общем веселье.
Бенита, словно защищаясь от самой себя, нахмурилась и, подавив в себе чувство долга, не последовала в хлев за кулливайнуской Меэтой.
Заморыш Карла, который все еще суетился под носом у быка, волоча за собой кнут, вдруг сорвался с места. Согнувшись, он подбежал к задку телеги, вытянул вперед руку, сжатую в кулак, и подтолкнул воз.
— Сдвинетесь ли вы наконец с места! — крикнул он тоненьким голосом.
Йоссь выхватил из рук Карлы кнут и начал хлестать быка Мадиса.
И бык взял с места.
— Эстония, живет в тебе еще твой мужественный дух! — во все горло заорал Парабеллум.
Какой-то растрепанный паренек появился в дверях дома. Через мгновение на двор Рихвы высыпала шумная ватага ребят. Почти ничего не видя спросонья и тыкаясь головами в животы взрослых, они припустили за телегой и, ухватившись за ее задок, повисли на нем. Ребячья стая, визжа от восторга, то рвалась на звенья, то снова соединялась. Намного более проворные, чем медлительный бык, дети забегали вперед и скакали перед самым носом Мадиса. Малыши носились без штанов, босиком — в том виде, в каком они выскочили из постелей.
— Да здравствует молодость, наше будущее! — закричал Йоссь и помахал кнутом.
Заморыш Карла, толкавший телегу, упал рядом с кучей торфа. Он тщетно силился встать. С трудом приподнявшись на колени, он пополз в сторону изгороди. Однако, как ни крепился, доползти все же не успел и, согнувшись, оправился на глазах у всех, неподалеку от торфяной кучи.
Приободрившись, Карла с блаженной улыбкой на лице отправился догонять веселую компанию гуляк.
Кнут Йосся, описывая в воздухе широкие круги, опускался на спину быка. Еще недавно возбужденный Мадис, вновь обретя достоинство породистого животного, полностью игнорировал своего нетерпеливого хозяина. Бык шел медленно, ровным размеренным шагом. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем телега прогромыхала мимо риги. Тем неистовее веселились ездоки — гам, крики и пение разносились далеко над полями Рихвы.
Солдатик растянул мехи аккордеона и хриплым голосом затянул новую песню:
— В углу мешок качается, цимм-ай, руули-ралла.
Разиня Эльмар заткнул музыканту глотку, сунув ему в рот горлышко бутылки с самогоном.
От беззвучного смеха лицо у Леа Молларт пошло пятнами.
Бык, мотая головой, шел вдоль кустов черной смородины, впереди был перекресток, и Йоссь, с трудом сохраняя в телеге равновесие, стал протискиваться вперед. На одном из ухабов Йоссь, ища опоры, схватил Эльмара за нос. Злобно огрызнувшись, Эльмар ударил приятеля в живот. Йоссь подался вперед и торсом ткнулся в бычий зад. Но поскольку он все равно намеревался взгромоздиться на быка, то стал упрямо карабкаться на него, пока не залез.
Бык взревел, его беспокоил груз на спине, и он делал резкие прыжки, чтобы стряхнуть с себя Йосся.
Йоссь лежал животом на спине у быка и орал:
— Карла, держи быка!
Леа Молларт испуганно визжала.
Щупленький Карла повис у быка на рогах и болтал ногами.
Леа Молларт продолжала в страхе вопить даже после того, как Мадис остановился и Йоссь слез с него.
В утренней тишине далеко вокруг разносилась ругань хозяина Рихвы. Он отпихнул Карлу, взял Мадиса за ярмо и вывел на большую дорогу. Затем «лесные братья» снова залезли в телегу, и солдатик стал перебирать клавиши в поисках новой мелодии.
Но едва сделав несколько шагов, бык остановился. Он повернул голову, зафыркал и замахал хвостом.
Кнут Йосся снова описал в воздухе широкий круг, но бык стоял с безучастным видом и не трогался с места. Он опять обернулся и угрожающе запыхтел.
Люди, стоявшие в воротах и с любопытством наблюдавшие за поведением быка, подвинулись вперед, чтобы лучше видеть. Детвора, бежавшая до этого за телегою, рассеялась. Мальчишки нырнули в кусты черной смородины.
— Это точь-в-точь как с нашей кирхой… — произнесла сильная половина унылой пары.
— Что там у них стряслось? — недоумевала Армильда.
Лицо унылого мужчины расплылось в широкой улыбке. В эту минуту его интересовала только собственная история, которую он собирался поведать.
— Когда-то мимо нас проезжала Екатерина, — начал он и подмигнул Армильде, — и увидела она, что кирха наша куда как плоха. Женщина она была добрая и потому тут же дала штоф золота на постройку нового храма божьего. Ну, Екатерина поехала дальше, а пастор и помещик повздорили. Один хотел, чтобы кирха была поближе к имению, другой требовал, чтобы святую обитель воздвигли в центре поселка. В конце концов какой-то умный мужик посоветовал, дескать, чего это вы, господа, попусту спорите — запряжем быка в телегу, нагрузим воз камнями и пусть себе шагает. Там, где бык остановится, там и быть кирхе. Наложили полный воз камней, и бык попер. Это был огромный и сильный бык, в наше время таких уже не водится, так вот он до тех пор шел, пока на пути ему не попался пруд. После народ смеялся, дескать, бык оказался куда умнее и пастора и помещика, понял, что святая обитель только выиграет в красоте, ежели будет смотреться в пруд.
— Ты что болтаешь? — замахала руками жена. — Может, русские уже здесь, с чего это все пялят глаза на мост?
— Господи, а что, если правда? — подходя к ним, пробормотала Минна и сложила руки на груди.
Даже Молларт покинул свое место у лестницы и подошел к воротам.
— Одного седла не хватило, — шепнул он Бените.
Хотя волнение, охватившее всех, передалось и Бените, она не могла не улыбнуться.
Спрыгнув с телеги, Йоссь завернул быка к дому. Дорога была узкая, и одно колесо застряло на обочине канавы. Заморыш Карла попытался подтолкнуть телегу плечом, но у него не хватило сил.
Дети, шнырявшие меж кустов и лип, тоже смотрели на мост, но по их виду нельзя было понять, кто едет оттуда.
Рига ограничивала поле зрения людей, толпившихся в воротах, а выйти поглядеть на большую дорогу у них не хватало смелости — сомнения и страх пригвоздили людей к месту. Армильда только тихо охала и причитала:
— Какая нелегкая понесла этого Яануса! Только и делает, что чешет вокруг! Что и говорить — цыганская кровь.
Эльмар, Карла и Йоссь вытащили телегу из канавы на дорогу. Остальная публика продолжала сидеть в телеге и галдеть. Йоссь, понукая Мадиса, заставлял его шагать к дому, но бык задрал голову и фыркал. Он и на этот раз игнорировал приказы царя природы.
Люди в воротах прислушались. Грохота военных машин не было слышно. Кто бы это мог быть?
29
ык Мадис нагнул голову и, потряхивая ярмом, припустил. Разгулявшиеся лоботрясы один за другим посыпались из дребезжащей телеги на землю. Леа Молларт, согнув ноги, прыгнула на дорогу.
Из-за риги показалось стадо.
Черно-белые коровы потянулись вдоль дороги к липам. Серый угол риги, деливший надвое поле зрения толпившихся во дворе людей, казался гигантскими воротами, откуда выходило огромное стадо.
Бык Мадис, врезавшийся вместе с телегой в стадо, разделил его на две части. Одни остались на краю поля, другие побрели через дорогу на луг. Веселые гуляки, проклиная злую судьбу, сгрудились около лип. Они стояли с покорным и безучастным видом, словно готовились бесславно погибнуть, став жертвой коровьих зубов, если б только этих животных интересовало человечье мясо.
— Гляди, — с радостным удивлением воскликнула Армильда.
Мощный бык окончательно смешал коровье стадо. Несколько коров свернули на дорогу и поплелись к риге.
Кулливайнуская Меэта, процеживавшая у колодца молоко, держа в руке подойник, подошла к воротам и озабоченно сказала:
— Коровы, видать, недоены, так и прут сюда.
Сквозь сгрудившееся мычащее стадо протолкались два немецких солдата с ружьями на спине.
— Господи, господи! — воскликнула Минна и закрыла глаза руками.
Однако она напрасно тревожилась за сына. Йоссь, стоявший вместе со всеми у лип, во весь рот зевнул и, махнув рукой, заковылял к дому. Молларт, побежавший навстречу немцам, столкнулся с Йоссем у риги.
— Принесите винтовку! — крикнул ему Молларт. — Прогоним немцев!
Йоссь снова зевнул, однако прибавил шагу.
Коровы мычали, бык Мадис, врезавшийся вместе с телегой в их стадо, ревел. Стоя под липами, немцы размахивали руками и что-то кричали людям, норовившим спрятаться друг другу за спину. Но вот, набравшись смелости, вперед вышел солдатик и стал потрясать своим пистолетом перед носом у немцев. Немцы во всю глотку выкрикивали какие-то приказы, направив стволы автоматов на разгулявшуюся компанию. Они целились твердой рукой в упор, не выпуская из глаз растерянных людей. Пистолет был лишь ничтожным придатком к размахивающей руке подвыпившего солдатика — дуло глядело то в лес, то в небо, то в сторону сгрудившихся коров.
Молларт в спешке чуть было не растянулся. Вытянув вперед правую руку, он что-то кричал немцам.
Бенита нетерпеливо смотрела в сторону дома. Йоссь как исчез в кухне, так до сих пор не появлялся. Словно ружье было иголкой в стоге сена, которую невозможно найти.
Бенита не могла больше оставаться на месте. Она вихрем помчалась к липам, и Армильда, решившая любой ценой вырвать своего Яануса из когтей смерти, отдуваясь побежала следом за хозяйкой Рихвы.
Дети, шмыгнувшие в гущу коровьего стада, нашли мирный островок — телегу, подпрыгивающую за быком Мадисом. Взгромоздившись на нее, они галдели и прыгали.
Бенита добежала до лип спустя несколько мгновений после Молларта.
— Впереди русские, вам тут не пройти! — по-немецки кричал солдатам Молларт.
— Освободите дорогу! Освободите дорогу! — орали немцы, хотя дорога была свободна.
— Оставьте стадо и исчезайте, — убеждал их Молларт. Его голос терялся в мычании коров и криках детей.
— Спасайте свои души, — по-английски крикнула Бенита.
Протиснувшись к едва стоявшему на ногах солдатику, Бенита выхватила из его рук револьвер.
Немцы почувствовали облегчение. Словно сговорившись, они вытерли пот со лба и испуганно заморгали глазами.
Критический момент миновал, и это придало Парабеллуму смелости. Он вплотную, чуть ли не нос к носу, пододвинулся к немцам, сорвал с головы желтый платок, рукавом стер нарисованные углем усы и назидательным тоном стал уговаривать их. Он терпеливо повторял, что впереди русские и пробиться невозможно. Пусть немцы спасают свою собственную арийскую шкуру. Здешний народ отпустит их с миром.
Парабеллум говорил по-немецки неважно и поэтому для большей убедительности после каждой фразы произносил «Donnerwetter» и «Scheisse».
Теперь и к Риксу вернулся голос.
— Мы дадим вам расписку, — важно пообещал он солдатам, — что приняли стадо на свое попечение.
— Мы дадим вам бумагу, дадим! — с воодушевлением крикнул солдатик и похлопал Бениту по плечу.
На Леа Молларт снова напал неудержимый смех. Заморыш Карла стукнул ее между лопаток. Это подействовало.
— Вы имеете дело с интеллигентными людьми, — беря себя в руки, сказала Леа. — Здесь ветеринарный врач, — показала она на Молларта. — Оставьте стадо на его попечение.
На солдатика снова напал воинственный пыл. Он, словно клещами, сжал руку Бениты, стараясь вырвать у нее свой револьвер.
От боли Бенита согнулась и, пытаясь оттолкнуть от себя обнаглевшего юнца, свободной рукой влепила ему пощечину.
— Интеллигентные люди! — с истинно арийским презрением воскликнул немец постарше и снова поднял опущенный было ствол автомата.
Между тем две коровы, отбившиеся от стада, подошли к воротам хутора и стали оценивающе разглядывать двор и снующих по нему беженцев. Остальные черно-белые коровы исчезли за деревьями, что росли на лугу по ту сторону дороги. Бык Мадис, которому надоело стоять впряженным в телегу, ревел. Коровы, стоявшие в хвосте стада и норовившие подойти поближе к быку, стали протискиваться вперед.
Немцы орали на коров, забредших на рихваский двор, но пеструхи, зная лишь местный язык, не обращали внимания на призывы к порядку.
Йоссь, который в конце концов появился в воротах хутора, снова стал отходить к дому. Вероятно, он прятал за спиной винтовку и не хотел, чтобы его заметили.
Эльмар, решив договориться с немцами по-хорошему, протянул им початую бутылку самогона.
Немцы колебались. Чтобы показать пример, Эльмар глотнул сам, затем, как человек воспитанный, вытер горлышко бутылки и, ободряюще кивнув, протянул самогон старшему солдату. Тот что-то пробурчал на ухо своему младшему спутнику, после чего младший взял Эльмара на мушку. Только теперь старший отважился поднести бутылку ко рту. Видно было, что «лесной шум» пришелся ему по вкусу. После нескольких изрядных глотков он соблаговолил передать бутылку своему напарнику и в свою очередь попытался взять Эльмара на прицел, однако конец автомата клонился у него то вправо, то влево. Один раз ему все-таки удалось направить дуло на Эльмара, но тут вдруг ему показалась подозрительной Леа Молларт, и он взял ее на мушку.
— Впереди русские, — вздохнув, повторил Молларт.
— Donnerwetter, бросайте животных и сматывайтесь, — посоветовал Парабеллум. Затем удивленно хлопнул себя по лбу и спросил заморыша Карлу:
— Кому, черт побери, нужны эти коровы?
— Да, кому они нужны? — в свою очередь удивился заморыш Карла.
— Пусть эти черти вместе со своей скотиной отправляются русским в пасть! — сплюнул Парабеллум. — Какого дьявола нам беспокоиться!
Парабеллум засунул руку в карман брюк и начал насвистывать.
— Верно, кому это надо, — махнул рукой Эльмар. — Кто будет доить это стадо? Возись тут с ними, а потом придут русские и прирежут их.
Эрвин Молларт изменился в лице.
— Это чистопородное молочное стадо, нельзя допустить, чтобы животные погибли.
Сообразив, что его слова не производят никакого впечатления, Молларт принялся исступленно действовать. Схватив кнут, которым погоняли и хлестали быка, он попытался отогнать коров с края поля на дорогу. Прыгая по обочине канавы и бесцельно суетясь, Молларт из-за хромоты выглядел довольно-таки беспомощным. Он не знал, куда направить скотину.
Бенита, протиснувшись между коров к Молларту, нерешительно сказала:
— А что, если отогнать их через перелог к реке? — И показала рукой на ригу.
— Это правда, что впереди русские? — спросил Рикса старший немец.
— Делайте что хотите, — отмахнулся Рикс и, повернувшись, отошел.
Младший немец еще раз приложился к бутылке, и Эльмар с досадой развел руками.
Окосевшие немцы вопросительно смотрели друг на друга, им вдруг показалось бессмысленным тащиться со стадом неизвестно куда, и поскольку стоящая под липами компания потеряла интерес к коровам, то и у немцев пропала охота защищать имущество великой Германии. Сгорбившись, они стали выбираться из гущи стада. Выйдя на дорогу, немцы оглянулись. То ли им почудилось, что мычащее стадо взывает к их совести, то ли еще что — во всяком случае, они кинулись удирать во все лопатки. Немцы бежали зигзагом, время от времени прыгая за кусты ольшаника, что росли по обочинам дороги, и оглядываясь на липы, но никто из стоявших там не собирался стрелять в них.
Только солдатик грозил в их сторону кулаком и непристойно ругался. Но Бенита надежно держала в своей руке револьвер пылкого молодчика. Поскольку хозяйка Рихвы не успела отломить прут, она взяла револьвер стволом в ладонь и рукояткой стала постукивать коров по заду, подгоняя их.
— Помогите отогнать коров! — сквозь мычание животных крикнул Молларт разгулявшейся компании, направляющейся к Рихве.
— Нам пора собираться в дорогу! — крикнул в ответ Парабеллум.
— Поздно! — воскликнул Молларт. — Впереди русские!
— А вы откуда знаете? — остановился Рикс.
— Я уже вернулся! — произнес Молларт, и Бенита уловила в его голосе злорадство.
Всех охватил испуг.
Люди повернулись и с вытаращенными глазами стали протискиваться к Молларту. Ветеринарный врач, занятый коровами, даже не взглянул в сторону беженцев. Они подошли к нему вплотную и схватили за рукав пиджака.
— Ты чего брешешь? — с надеждой спросил Рикс.
— Дорога отрезана, — холодно ответил Молларт.
Леа Молларт начала нервно смеяться.
— Чему вы смеетесь, мадам? — спросил свою бывшую жену Молларт.
— Он никогда не шутит, — пояснила Леа Молларт и икнула. Она совсем уже дошла от ночной пьянки, говорила невнятно и все время беспричинно смеялась.
— Я знаю его, это — убийственно серьезный человек. Никогда не шутит и никогда не врет. Как сказал, так и есть. Мы в кольце, — с трудом выговорила Леа Молларт и прищурила опухшие веки.
— Я вчера ушел отсюда с лошадью и телегой, а обратно вернулся пешком. Лошадь околела. Фронт, видимо, где-то в районе Ристи, а теперь, вероятно, еще ближе!
Парабеллум протяжно свистнул. Вытащив из кармана желтый платок, он снова надел его на голову и завязал под подбородком крепким узлом.
— Donnerwetter, а я-то думал, что он просто пугает немцев, — вздохнул Парабеллум.
Прошло немало времени, пока беженцы, толпившиеся возле Парабеллума, вновь обрели дар речи.
30
ены беженцев отправились на луг доить коров. Кулливайнуская Меэта кликнула на помощь свое юное потомство. Девчонки обмывали коровам вымя, мальчишки подводили коров к женщинам и держали их во время дойки. Бенита, взяв из хлева коромысло, стала носить молоко с луга к колодцу. Леа Молларт, как горожанку, заставили мыть молочные бидоны и прочую годную под молоко посуду; чтобы поместить весь надой, ее требовалось много. Ребята поменьше стояли у колодца, глазели и, пуская штоф вкруговую, пили парное молоко, так что животы чуть не лопались. Минна, как только один бидон оказывался полон и начинал переливаться через край, прополаскивала тряпку для процеживания молока и бельевыми защепками прикрепляла ее к следующему сосуду.
Проходя через выгон, Бенита крикнула на помощь Каарела. Старик отвел лошадей беженцев на обочину канавы, а кобылу хозяйского сына из-под Раквере привязал к березе. Вдвоем они задвинули прясла, и Бените не надо было, таская молоко, каждую минуту открывать лаз. Родившийся под утро жеребенок, казавшийся на рассвете таким жалким, теперь стоял на своих длинных тоненьких ножках рядом с кобылой и из-под густых ресниц глядел на хозяйку Рихвы, взад-вперед сновавшую через выгон.
Отогнав стадо к реке, Эрвин Молларт осмотрел коров и, видимо, остался доволен их состоянием. Правда, Бенита решила, что он потому занялся ими, что хотел быть по возможности дальше от своей бывшей жены. В создавшемся положении бессмысленно было кому-либо торопиться покидать Рихву. Беженцы находились в кольце. Трудно было даже предположить, что происходит за лесом, за рекой и дорогой. Следовало переждать и примириться со спутниками, с которыми пришлось встретиться в Рихве.
Каарел отнес свиньям корм — сегодня в их обычную болтушку было добавлено молоко. Затем старик отогнал рихваских коров на дальнее пастбище. Будь у Бениты время и желание выглянуть в эту минуту из окна мансарды, она бы увидела свершение мечты своего детства. На ярко-зеленых лугах паслись тучные стада. На выгоне, под березами, рядом с кобылой стоял, растопырив ноги, жеребенок. Вдали, на пойме, резвились гнедые, серые в яблоках, пегие и вороные лошади. Подоенные коровы, покачиваясь, брели к пологому берегу речной излучины на водопой. Утолив жажду, они возвращались и принимались усердно щипать зеленую отаву.
На рихваском дворе Эльмар поднимал полные до краев молочные бидоны и ставил их в корыто охлаждаться. Единственный из мужчин, он вертелся у колодца, стараясь помочь. Он даже побежал по собственной инициативе в кладовку за посудой и вернулся со жбанами, кадушками и горшками — нельзя же было в самом деле допустить, чтобы молочная река вытекала.
Всех, кто был занят молочным стадом, перенятым у немцев, — на сенокосе ли, на дворе или возле колодца — охватила какая-то неистовая жажда деятельности. Работа подвигалась споро, смех и шутки возникали сами собой. Солнечное, в меру прохладное утро еще больше подняло настроение людей. Забылись мрачные рассказы, страх, неприятности, и даже выпитый ночью самогон начал потихоньку улетучиваться из головы. И только мужчины, которые сидели перед амбаром, оставались безучастны. У их ног, зажав в лапах кость, доверчиво развалился пес; белые куры леггорнской породы расхаживали по двору следом за петухом; дети со вздувшимися от молока животами лениво играли на траве. Но мужчины по-прежнему были мрачны.
Каарел вывел из конюшни обоих меринов и, держа под уздцы, повел их на пастбище. Даже он улыбался.
Минна, предоставив Леа Молларт заниматься тряпками для процеживания, отправилась хлопотать на кухню. Вскоре из трубы дома в ясное утреннее небо потянулся дымок. Минна поставила на плиту котел, решив сварить на всех молочный суп.
На зов Леа Молларт, перескакивая через грядки, подбежала пасторская дочка. Девочке сразу же сунули в руку штоф молока. Увидев, что посуды не хватает и что молочная река вот-вот прольется прямо на траву, девчонка побежала в баню и вернулась оттуда с кувшином и тазом.
Минна вышла на крыльцо поглядеть, как справляются с работой Леа Молларт и Эльмар. Старуха держала в руке поварешку и улыбалась.
31
рехдюймовка, настоящего имени которой никто не знал, радостно подпрыгивая, приближалась к Рихве. Две ее крысиные косички болтались над большими ушами. Сморщенное личико было лиловым; солнце играло на старухином платье, сшитом из подкладочного материала, ядовито-яркий цвет которого отражался на лице Трехдюймовки.
— Кто в садике, кто в садике, одна пчелка в садике… — хриплым голосом пропела Трехдюймовка и тщательно закрыла за собой калитку. — Мой отец держал пчел, — сообщила Трехдюймовка Леа Молларт, которая мыла руки у колодца. — Он всегда требовал, чтобы я как следует закрывала калитку — не то пчелы улетят.
Увидев странную маленькую старушку, Леа Молларт испугалась и с надеждой взглянула на мужчин, сидящих перед амбаром.
— Здравствуй, Трехдюймовка! — крикнул Йоссь гостье.
Трехдюймовка послала ему в ответ воздушный поцелуй и кокетливо кивнула.
— Ишь ты, все старые клиенты в сборе! — удивилась Трехдюймовка, оглядывая мужчин. — Ты, дитятко мое, однажды забыл заплатить мне, — погрозила она пальцем солдатику.
— Чокнутая, — проворчал солдат.
Йоссь что-то прошептал парню на ухо. Солдатик протянул: «Ах вот оно что» — и уставился на старуху.
— Где они, где они, дорогие мои, распрекрасные? — протянула старуха на какой-то незнакомый мотив, но, сбившись с мелодии, решила лучше поболтать. — Однажды подошел ко мне пастор — я как раз стояла у церковной стены и мазала губы — и говорит, дескать, стань-ка ты лучше Христовой невестой, Трехдюймовка. Я в ответ — отчего же, веди его, только сможет ли он заплатить? Пастора точно ветром сдуло. Шутник, не правда ли? Господин пастор был под башмаком у своей толстой и ленивой супруги, ну хоть догадался бы по крайней мере немножечко покуролесить с такой шустрой бабенкой, как я.
— Расскажи, Трехдюймовка, — подзадорил ее Йоссь, — как ты развела госпожу Аанисберг с мужем.
— Ах, это такая забавная история, — сложив губки бантиком, кокетливо протянула Трехдюймовка. — Несколько ловких движений — и господа судьи уткнулись в бумаги. Адвокаты носились и лопатами загребали деньги, потому что Аанисберги были очень богатые люди.
— Рассказывай, рассказывай, — подбодрил старуху Йоссь и хихикнул в ладонь.
— На галстуке у господина Аанисберга была булавка с бриллиантом. Мне ужас как хотелось получить ее, — важно произнесла Трехдюймовка. — Я была тогда молодая и красивая и мне здорово шли дорогие камни. Господин Аанисберг каждый вечер выходил прогуляться на улицу Харью. Он астмой страдал. Издали было слышно, как он идет и отдувается. Три раза к нему подходила — толкну его и говорю, дескать, пойдем со мной. А он глядит в сторону, словно деревянный, на меня ноль внимания. На четвертый раз и говорю ему, мол, если ты, такой-сякой, копченый окорок, не можешь, то отдай булавку просто так. Он опять — ноль внимания, нос задрал, идет себе мимо, молчит. Ну, мое терпение лопнуло. Как-то выдался жаркий вечер, смотрю я, Аанисберг плетется, полы пиджака болтаются. Я набралась духу и кинулась ему на грудь, у него аж дыхание перехватило. Пока он ловил ртом воздух, я булавку цап — и дело в шляпе. Бросилась наутек. В подворотню, оттуда на двор — и была такова. Но этого мало. Мое сердце честной девушки было оскорблено, и я сказала себе: Трехдюймовка, отомсти. Отомсти, Трехдюймовка! Отомсти ему за свою честную мать, за свою честную бабушку и за всех честных женщин. Тогда-то я и послала повенчанной мадаме господина Аанисберга письмо. Я всего-навсего спросила: где булавка вашего мужа. Еще я спросила, знает ли уважаемая госпожа, где это ее муж каждый вечер прогуливается. И еще я хотела узнать у этой цацы, куда направляются мужчины, когда они по вечерам одни выходят из дома. И эта цаца поверила мне, она поверила мне! — нараспев закончила Трехдюймовка свою историю.
— Глупый шантаж, — пробормотал Рикс и постучал ногтем по крышке пустого портсигара.
— Тебя не посадили? — спросил Йоссь.
— Хе-хе! — рассмеялась Трехдюймовка. — Письма-то я не подписала! Булавку сразу продала. Однажды явился ко мне полицейский, перевернул весь комод, а что он мог найти там. Без конца носился по моей комнате, так ведь ему и без того все мои тряпки и украшения давно были известны. Он вообще любил прогуливаться по нашему тупичку.
— Сколько тебе дали за булавку? — поинтересовался Парабеллум.
— Да разве запомнишь! — воскликнула Трехдюймовка. — Деньги приходили и уходили, из одного кармана брала, в другой складывала. Я такой человек — мне сразу подавай вещь, которая мне понравилась. Я никогда не считала сенты. Тоже мне дело! — расхвасталась старуха. — Погоди, погоди, — Трехдюймовка еще больше сморщила свое маленькое личико. — Я, помнится, даже подарила эту булавку.
— Кому? — удивился Йоссь.
— Был один такой высокий парень, светловолосый, глаза голубые. Ну прямо молодой чистопородный бог. Он мне ужас как нравился. Я ему говорю — приходи, я с тебя денег не возьму. А он говорит — не хочу. Я выдрала из головы клок волос и молю его — бери булавку, но только приходи.
— И что же — пришел? — спросил хозяин Рихвы.
— Пришел, — кивнула Трехдюймовка и рассмеялась. — Куда он денется? Драгоценные камни так просто на улице не валяются! Я денег на него не жалела, щедрой рукой тратила, купила флакон французских духов и полила простыни, чтоб приятнее было.
— Он и потом приходил? — не отставал Йоссь.
Рикс с безразличным видом смотрел в сторону, продолжая постукивать ногтем по крышке пустого портсигара.
— Нет, не приходил, — вздохнула Трехдюймовка. — Он был дорогой парень.
Немного подумав и взглянув в сторону колодца, Трехдюймовка шепотом спросила:
— Не хотят ли господа дать мне немножко заработать?
Рикс сплюнул и опустил глаза.
Солдатик, который не мог оторвать взгляда от старухи, задумчиво почесывал ляжку. Парабеллум зевнул и пощупал рукой кадык, словно он у него сдвинулся с места.
Йоссь смотрел на мужчин, те даже и не старались скрыть отвращения, которое вызвало у них предложение Трехдюймовки. Йоссь понял, усмехнулся.
— Да вы же не знаете, о каком заработке идет речь!
— Где им знать? Они и не предполагают! — с блаженной улыбкой сказала Трехдюймовка и покачала бедрами.
Мужчины старались не смотреть на Трехдюймовку.
Женщины, закончив дойку, возвращались с берега реки, неся в руках полные до краев ведра с молоком.
— Некуда девать, — посетовала Леа Молларт и развела руками.
— Останется свиньям, — решили женщины и тут же, у колодца, поставили ведра на скамью. Освободив руки, они подошли поближе к амбару. Их тянуло взглянуть на маленькую старушонку в блестящем лиловом платье, с тоненькими косичками, торчащими над большими ушами.
Йоссь как будто позабыл о Трехдюймовке, которая, стоя перед мужчинами, все еще покачивала бедрами. Вытянув шею, он пристально следил за Бенитой — отстав от других, она разговаривала с Моллартом. Они никак не могли наговориться. Их не тянуло к остальным. Йоссь увидел, как Молларт мимолетно коснулся руки Бениты, и она засмеялась. Он заметил, как Бенита показала ели, что росли на пастбище, и Молларт, взглянув в ту сторону, еще раз коснулся руки Бениты.
— Дайте немного заработать! — клянчила Трехдюймовка.
— Ладно, — согласился Йоссь. — На, Трехдюймовка, деньги. — Он пошарил в карманах брюк и рассеянно протянул старухе монету. Старуха схватила деньги, но спустя мгновение разочарованно сказала:
— Пятнадцати мало.
Йоссь, отыскав в кармане еще одну монету, добавил. Ему некогда было разглядывать пфенниги, его внимание все еще было сосредоточено на Бените и Молларте.
— А теперь много, — пропищала женщина. — Моя такса — двадцать.
— Да ладно, оставь себе, — не глядя на старуху, отмахнулся Йоссь.
— Я люблю точность, — провозгласила старуха. Она поискала в складках своего лилового платья и в каких-то ее тайниках нашла нужную монету, которую тотчас же протянула Йоссю. — Полчаса и двадцать — такова моя такса, — громко подтвердила Трехдюймовка, чтобы все, кто был заинтересован, услышали.
— Валяй, — мрачно пробормотал Йоссь.
— Кого? — спросила Трехдюймовка и огляделась вокруг.
— Вон ту женщину, — Йоссь показал пальцем на Бениту.
— Бениту? — удивилась Трехдюймовка.
— Да.
— Моя такса двадцать, — перебирая в кармане монеты, нерешительно повторила Трехдюймовка.
— Начинай, — приказал Йоссь.
— Сейчас, — послушно ответила Трехдюймовка и сделала книксен.
Трехдюймовка выудила из-под выреза платья часы-медальон на позеленевшей медной цепочке и, щелкнув крышкой, перевела одну-единственную стрелку на полный час.
Люди за спиной Трехдюймовки расступились, освобождая дорогу маленькой старушонке, которая взяла разгон и подбежала к Бените.
— Здравствуй, Трехдюймовка, — заметив старуху, сказала Бенита.
Трехдюймовка не ответила на приветствие. Она несколько раз облизнула губы, словно для того, чтобы разогреть рот, и затем принялась на чем свет стоит поносить Бениту.
Язык старухи двигался с такой быстротой, что на ее отвисших губах то и дело выступала пена.
Рот Трехдюймовки исторгал отборную брань. Покончив с бранью, старуха перешла к следующей части своего спектакля. Она перебрала богатый ряд названий половых органов мужчин и женщин, упоминая в промежутках имя Бениты. Затем перечислила всех известных ей в округе мужчин, объявив, что Бенита спала с ними. Но и этого ей показалось мало. Старуха во всех подробностях сообщила оторопевшим слушателям, какими дурными болезнями болеет хозяйка Рихвы. Переведя дух, она взялась за Бенитино тело. Самые страшные уродства и изъяны, какие только могут встретиться у человека, она приписала Бените. С пеной у рта Трехдюймовка лила на хозяйку Рихвы потоки словесных помоев.
Старуха, еще больше взвинтив свой голос, принялась обнажать нутро Бениты. Она проклинала похоть молодой женщины, ее обманчивую сущность, коварство, злобу, ничтожество, скупость и жадность. Она назвала молодую хозяйку Рихвы самым гнусным человеческим отребьем, когда-либо существовавшим под солнцем. Трехдюймовка разошлась, ее рот походил на пушечное жерло.
Наглость Трехдюймовки парализовала людей, стоявших во дворе. Раскрыв рты, вытаращив глаза и опустив руки, они словно утратили способность двигаться. Очевидно, они никогда не слышали сразу столько мерзостей.
Со свистом вобрав в легкие воздух, Трехдюймовка снова стала перебирать части человеческого тела, употребляя ошеломляющие сравнения.
Войдя в раж, Трехдюймовка брызгала слюной и щелкала костлявыми пальцами.
Молларт, бледный как полотно, с медлительностью лунатика вытянул вперед руку и ударил Трехдюймовку по лицу.
Старуха умолкла. Беспомощно захихикав, скосила глаза, ища Йосся. Но хозяин Рихвы исчез.
Трехдюймовка глубоко вздохнула, выудила из-под выреза своего лилового платья часы-медальон, переставила стрелку на прежнее место и, кивнув головой, сказала:
— Все.
32
рмильда схватила со скамейки подойник и вылила молоко на голову Трехдюймовки. — Получай, подлая!
С бровей Трехдюймовки вместе с молоком потекла черная краска. Мокрое лиловое платье прилипло к худому телу старухи.
Разгневанная Армильда потянулась за новым ведром, но кулливайнуская Меэта удержала ее.
— Прочь отсюда! — топнула ногой Меэта и стала размахивать перед Трехдюймовкой руками, словно отгоняя бешеную собаку.
Трехдюймовка показала женщинам длинный нос, сложила рот трубочкой и направилась к калитке. Вид у нее, когда она шла, был весьма жизнерадостный. Старуху словно не смущало, что она была мокрая и грязная. Тщательно притворив за собой калитку, Трехдюймовка крикнула через плечо:
— Завистливые душонки! Завистливые душонки! — и хрипло рассмеялась.
Бенита исчезла со двора. Молларт нервно шарил в карманах. Леа Молларт подошла к своему бывшему мужу и, вынув папиросу из своей сумки на длинном ремне, протянула Молларту:
— Впервые в жизни ударил человека, да еще женщину, — закуривая, пробормотал Молларт.
— Да разве это человек! — утешая его, сказала Леа.
Говорить больше было не о чем. Скованные неловкостью, они постояли еще несколько минут, избегая смотреть друг на друга.
— Ты пешком? — найдя тему для разговора, спросил Молларт и украдкой взглянул на постолы жены.
— Как и ты, — ответила Леа.
— Я нашел среди своих вещей несколько твоих книг, — вспомнил Молларт. — Когда вернемся — заходи. В Тарту не пришлось встретиться, — застенчиво улыбнулся он.
— Благодарю, — равнодушно ответила Леа. — Думаешь, придется возвращаться домой?
— Похоже на это, — кивнул Молларт.
— Что нас ждет? — устало спросила Леа.
— Будем держать кулак, чтобы судьба смилостивилась над нами.
— Пока дышишь — надейся. Кое-кто нервничает побольше нас, — сказала Леа и махнула рукой в сторону амбара, где, сжав руками голову, сидел Рикс.
— Я его где-то видел, — заметил Молларт.
— Я тоже все время Думаю, где я встречала этого человека, — оживилась Леа Молларт.
— Может быть, в университете? — предположил Молларт.
— Я уже спрашивала у него. Он увильнул от ответа и стал утверждать, что к старости вся их многочисленная родня становится на одно лицо. Может быть, я его с кем-то спутала.
Они снова потеряли нить разговора. Молчание и то, что они оказались рядом, угнетало их, быть рядом было тяжело, но ни один из них не решался отойти первым.
К счастью, на крыльце дома появилась Минна и позвала всех есть молочный суп.
На дворе стихло. По затоптанной траве бродили лишь куры следом за петухом. Но и они, сделав круг, исчезли в кустах сирени. Пес залез в конуру и одним глазом выглядывал оттуда. Сбитый с толку суматохой последних дней, пес уже не знал, надо ли вообще еще что-то охранять здесь, в Рихве.
Только что проковылявшая в сторону лип Трехдюймовка внезапно остановилась, приложила указательный палец ко лбу и задумалась. Что-то не давало старухе покоя, и она повернула обратно к хутору. На ее сморщенном лице, когда она заглянула через калитку во двор, отразилось разочарование.
Трехдюймовка отряхнула мокрое платье и стала озираться в поисках какого-нибудь дела.
Взгляд ее, когда она подошла к торфяному навесу, остановился на голове Купидона, валявшейся в самом низу кучи.
Старуха подняла ее и осторожно положила снова на место.
Затем внимание Трехдюймовки привлекли приоткрытые ворота риги, и она сладко зевнула. Но только она вошла, как сон ее моментально улетучился. Сколько всякого добра — и ни души!
С присущей ей основательностью Трехдюймовка принялась действовать. Переходя от телеги к телеге, она переворошила все пожитки беженцев. Она проворно развязывала мешки и открывала замки корзин, не заботясь о том, чтобы закрыть или завязать их. Какой-нибудь тюк или узел после того как был осмотрен, уже не волновал ее душу. От нетерпеливых движений Трехдюймовки мешки с манной и другими крупами накренились. Тут и там на пол или на сено, положенное в телеги, с непоколебимостью песочных часов сыпались продукты. При виде верхней одежды Трехдюймовка оживилась. Она примерила на себя несколько платьев, но, поскольку жены беженцев не отличались правильностью форм, все платья оказались чересчур велики старухе. В конце концов требовательная Трехдюймовка все же выбрала для себя кое-что из одежды. Это была грубошерстная куртка, подбитая изнутри овчиной.
Полушубок доходил Трехдюймовке до пят, из-под него не торчал даже перепачканный подол ее платья. Когда старуха сновала между телегами, ее ноги-палки мелькали из-под платья чуть выше щиколотки.
Трехдюймовка помахала рукавами куртки, настолько длинными, что ее проворные руки ни на вершок не высовывались из них. Пыхтя и отдуваясь, она подняла воротник куртки, и голова ее совершенно исчезла в нем. Казалось, будто шуба стоит сама по себе меж телег. Но закаленное тело Трехдюймовки не привыкло к такой температуре, и поэтому она тут же вылезла из шубы. Схватив куртку, словно охапку сена, Трехдюймовка отнесла свою добычу к двери. Она намеревалась собрать там все вещи, которые придутся ей по вкусу.
Обнаружив в одной из телег прикрытую тряпкой корзинку с яйцами, Трехдюймовка тихонько захихикала. На радостях она нагнулась, и тут вдруг зоркий глаз старухи упал на спрятанные за колесом ботинки. Трехдюймовка, лавируя между телегами, схватила их и прошла к задним воротам риги, выходившим в поле. Встав на цыпочки, старуха подвесила один ботинок на торчавший из досок ржавый гвоздь, по которому плотники, видимо, забыли ударить молотком.
От всех этих дел Трехдюймовка впала в раж, у нее даже порозовели щеки.
Держа в руке корзинку, старуха стала искать самое дальнее от мишени место.
Яйца, одно за другим, полетели в ботинок, подвешенный к воротам. Вначале старуха большей частью промахивалась. Нахмурившись, она поглядела на свою правую руку. Вытянув пальцы, упрямая баба продолжала кидать яйца.
Либо ей больше везло, либо рука просто-напросто приспособилась и обрела сноровку, во всяком случае, яйца летели в ботинок. Желтая жижа потекла с ворот вниз.
Старуха вошла в азарт. При каждом броске она поднимала ногу, словно хотела доказать себе, что тело ее может сохранять равновесие. Опустошив полкорзинки, Трехдюймовка решила потренировать и левую руку, но, видимо, она затекла. Яйца разбивались о столб, не долетая до ботинка.
Дна корзинки еще не было видно, когда наверху на сене послышался шорох. Трехдюймовка сперва не обратила на это внимания, но когда ей на голову упало желтое атласное одеяло, она ужасно испугалась. Старуха выкарабкалась из-под одеяла, но в смятении не заметила, что наступила на подол своего лилового платья, и теперь никак не могла подняться, словно какая-то колдовская сила держала ее. Трехдюймовка поползла дальше на четвереньках. Свалившийся ей на голову мягкий предмет всерьез напугал ее Страх заставлял Трехдюймовку делать отчаянные усилия, и наконец ей все же удалось встать. Шубу, которая так пришлась ей по душе, старуха оставила! у ворот, а сама, не оборачиваясь, выбежала из риги. Согнувшись, словно спасаясь от пуль преследователей, старуха свернула в кусты черной смородины, окаймлявшие дорогу. Перед ее глазами, как желанная цель, возвышались липы — ворота в широкий мир. Деревья были границей рихваских владений. Трехдюймовка полагала, что, как только покинет Рихву, ни одна рука ее больше не схватит, словно она достигнет нейтральной страны, где найдет себе убежище.
Спавшие на сене хозяйский сын из-под Раквере и девчонка-цыганка не заметили Трехдюймовки. Тяжелый сон оборвало ощущение холода. Оказавшись без одеяла, оба одновременно проснулись.
Спустя какое-то время, когда, очухавшись от сна, парень с девчонкой, насколько это было возможно, привели себя в порядок и спрыгнули вниз, им довелось стать первыми свидетелями действий Трехдюймовки. Прежде всего они увидели ботинок, из дырочек которого все еще стекал вниз желток. Естественное любопытство побудило их искать таинственного виновника этой шутки, и тогда они увидели и другие его проделки. Решив, что какой-нибудь хулиган-мальчишка спрятался под телегу или забился в дальний угол риги, хозяйский сын из-под Раквере и девчонка-цыганка стали усердно искать безобразника. Следы были свежие, этот дьявол должен быть где-то здесь.
Между прочим, они заглянули в бочку с высевками и увидели там тюки, перевязанные веревкой. Приподняв один из них, цыганка испуганно замычала. Парень, который тем временем отошел, подбежал к девчонке и застыл на месте перед направленными на него дулами двух револьверов. Девчонка держала в каждой руке по револьверу и целилась в парня. Парень сморщил лоб, оттолкнул девчонку, нагнулся над бочкой и заглянул внутрь. Раскидав папки с актами, они нашли среди тюков одиннадцать револьверов и пистолетов и двухкилограммовую жестяную банку с патронами.
Парень засунул пальцы в рот, собираясь свистнуть. Девчонка покачала головой и стала быстро заворачивать оружие в тряпки и складывать обратно в бочку. Положив сверху тюки с бумагами, парень и девушка уставились друг на друга.
— Я умею держать себя в узде. Ты только покажи мне их, — попросил парень.
Судя по его голосу, можно было предположить, что только что сказанная фраза явилась продолжением какого-то разговора. Кто знает, какие сведения сумел парень вытянуть из немой девчонки, но самого главного он все же не знал.
Девушка показала пальцем на дно бочки и покачала головой.
Парень равнодушно махнул в сторону бочки рукой, словно в подтверждение того, что его вопрос никак не связан с найденным оружием, а затем отвел девушку подальше от бочки, где было светлее.
Достав из кармана бумагу и огрызок тупого карандаша, парень протянул их девушке.
Девушка опустила веки. Она больше не увиливала. Глаза ее невольно увлажнились, когда она стала вертеть в пальцах бумагу и карандаш. Всхлипывая и шмыгая носом, девчонка нацарапала на клочке бумаги, который держала на коленях, несколько неровных строчек.
«Они потащили меня через реку в сарай. Хозяин набросился первым…»— через плечо девушки прочитал парень.
— Что здесь происходит? — раздался чей-то сердитый голос.
Унылая пара, которая везла в накрытой брезентом телеге соль и железо, стояла в воротах. Мужчина показывал пальцем на полушубок, положенный туда Трехдюймовкой.
— Может быть, здесь завелись воры? — спросила слабая половина унылой пары. Пронзительно посмотрев на цыганку, она уже не сводила глаз с испуганной девушки.
— Святой боже! — воскликнул мужчина. — Взгляни на ворота! — показал он на ботинок, из которого все еще тихонько капала желтая жижица.
Женщина вскрикнула, обнажив неполный ряд мышиных зубов.
— На помощь! — высунув голову за ворота, заорал мужчина.
Женщина кинулась к цыганке и, схватив ее за руки, скрутила их за спиной. Хозяйский сын из-под Раквере быстро поднял упавшую на пол бумажку. Еще мгновение — и тайна девушки могла бы стать достоянием всех беженцев. В следующую секунду мужчина схватил парня за руки и сжал их, словно тисками.
— Мы ничего не трогали, — спокойно и с достоинством сказал парень. Но на его слова никто не обратил внимания. На крик прибежал Яанус, и унылая пара приказала ему осмотреть ригу — что и сколько успели здесь переворошить. Яанус осмотрел телеги, заглянул под них, сунул свой седловидный нос в раскрытые мешки, увидел просыпанную манну и крупы, увидел ботинок и почему-то перевернул его, так что содержимое потекло вниз, а затем сделал из всего увиденного вывод:
— Все перевернули вверх дном! Пусть каждый установит сам, что унесли.
— Эти мерзавцы еще не успели! — завопила женщина, все больше впадая в неистовство. — Глядите, полушубок моего мужа лежит у ворот, приготовили, чтобы унести.
Беженцы друг за другом торопливо стекались в ригу. На рихваском дворе и в доме запахло скандалом, ахи и охи перемежались с руганью и проклятиями.
— Мы ничего не трогали! — стараясь перекричать всех, завопил хозяйский сын из-под Раквере.
— Они были здесь одни, когда мы вошли, — в который уже раз проговорила слабая половина унылой пары.
— Цыганка! — унылый мужчина показал на немую девушку.
— А чего ждать от цыганки, — прорычал Яанус, но, поймав взгляд Армильды, умолк и съежился.
— У нас цыгане однажды унесли белье со двора! — ввязался в разговор солдатик. И хотя сам он был гол как сокол, однако забота об имуществе беженцев не давала ему покоя.
Все вдруг стали припоминать, кто что знает о проделках цыган.
Шум стал оглушительным, никто друг друга уже не слышал. Под высоким потолком риги, где кружила испуганная ласточка, сталкивались, подобно мячикам, два слова: «цыгане» и «воры».
Цыганка облизнула губы и огляделась вокруг. Кроме хозяйского сына из-под Раквере, в сарае не было никого, кто бы защитил ее.
Но теперь молчал и он.
Впрочем, нет. Он что-то напряженно обдумывал, а затем набрал полные легкие воздуха и громко, как только мог, объявил:
— Девушка ходила в эстонскую школу! У родителей был большой хутор! Отец разъезжал в шарабане. Она такая же, как и все мы.
Голоса стали тише.
— Ну и что? — скривив рот, спросил до сих пор безучастно глазевший по сторонам Рикс. — Цыган остается цыганом.
— Баста, — авторитетно произнес Парабеллум, покачиваясь на перекладине от ворот.
Цыганка с проворством кошки вонзила зубы в руку унылой женщины. Та вскрикнула. На глазах у испуганной публики девчонка вихрем выбежала из сарая.
Парню бежать не удалось. На помощь унылому мужчине подоспел Яанус. Хозяйский сын из-под Раквере сопротивлялся как только мог, но против двух мужчин он оказался бессилен. Силы юноши иссякли.
— Поймите, — заклинал всех раскрасневшийся парень. — Мы не виноваты.
— А кто виноват? — взвизгнула женщина с мышиными зубами.
— Я не знаю, — растерянно пробормотал парень.
— Господи, — запричитала Армильда. — Неужто они в самом деле думали, что я запрятала золото в мешки с крупой? Зачем они испоганили продукты?
— Только цыган способен на такое свинство, — стоя около выпачканного яичной жижицей ботинка, веско сказал Рикс.
— Что пропало? — спросила Леа Молларт, которая пришла на место происшествия с опозданием.
— Да, кажется, ничего, — нерешительно протянули беженцы и в который уже раз оглядели свои вещи.
— Тогда все в порядке, — решила Леа Молларт. — Да и что бы вы с ними делали?
— И верно, что с ними делать? — испуганно подтвердила Армильда и вопросительно посмотрела по сторонам.
Мужчины наградили парня еще парой тумаков и нехотя отпустили его.
33
енита стояла на обочине картофельного поля. Ее беспорядочные мысли, казалось, были прикованы к этой скудной земле и не подчинялись воле. Ощущение душевной пустоты преследовало ее словно проклятие, и она пыталась сосредоточить внимание на будничных делах.
Окинув внимательным взглядом картофельное поле, Бенита подумала про себя, что с уборкой картофеля нынче осенью они могут попасть впросак. Если беженцы будут еще несколько дней путаться под ногами, того и гляди начнутся осенние дожди и помешают убрать картофель. Пока на хуторе посторонние, ни о какой настоящей работе не может быть и речи. Но тут же стало смешно от этих грустных мыслей. Ведь она окончательно оторвала себя от Рихвы, что с того, что она еще здесь. Ей теперь нет дела до рихваских полей! Правда, может случиться, что и она еще будет гнуть спину здесь, на картофельном поле, но уже без хозяйской тревоги в сердце за успех работы. Как и Каарел, который копошился сейчас на дальней борозде, поставив рядом с собой корзинку. У него, Каарела, в плоть и кровь вошла батрацкая привычка трудиться, он бы весь день чувствовал себя паршиво под взглядом Минны, если б не вышел в поле. А так — покопается с мотыгой — беспокойство и тоску как рукой снимает.
С той поры, когда отец сажал Бениту на колени и пел: «Поехали, поехали, поехали в город. А зачем туда ехать? Есть сахарную булочку, медом запивать…»— длинная вереница лет с грохотом канула в вечность.
За это время история, лязгая гусеницами танков, проехала через судьбы людей и целых народов, а отец по-прежнему напрягает свое плохое зрение, чтобы не оставить на поле ни одной картофелины. Он горбится, нос его почти касается земли, и так будет до тех пор, пока старик навсегда не уйдет в землю. Следя то с участием, то со стыдом за тем, как смиренно несет отец Каарел ярмо рабского труда, сама Бенита всегда старалась бродить по зеленым полям надежд. Теперь она сознавала, что они с отцом за руки и за ноги пригвождены к одной и той же доске. Прикажи ей кто-нибудь — иди и собирай картофель, иначе завтра перед тобой не поставят тарелки с супом, — очевидно, и она пошла бы безропотно, потому что душа ее устала. Если человек в минуту умопомрачения не наложит на себя руки, то пойдет и будет делать все, что нужно, лишь бы не остаться голодным.
Бенита потрогала опухшие от бессонной ночи веки.
«It’s a long way…» — как отголосок похмелья вспомнилась ей строфа из старой милой песенки.
Дорога, которая была до сих пор окутана мраком неизвестности, внезапно сорвалась в пропасть. Без всякого предупреждения — просто бесконечный свободный полет туда, где один за другим тянутся серые дни и ночи без надежд и мечтаний.
Ребенок?
А вдруг Роберт вырастет вторым Йоссем? Что же тогда — Йоссь впереди, Йоссь позади, и так до самой смерти.
Бените захотелось крикнуть что-нибудь отцу, но порыв этот угас, едва успев возникнуть.
Где-то заржала лошадь.
Раннее утро с Моллартом? Лента тумана, берег реки, росистая трава, сухой ковер из игл под густыми елями, резвящиеся лошади с развевающимися гривами. Эти каурые, серые в яблоках, вороные, красота которых приводит человека в трепет, сплошной обман. Ничего этого словно и не было, а если и было, то когда-то очень давно. Подумать только! Какой-то самец коснулся губ самки, всходило солнце, и лошади отошли в сторонку, не хотели мешать. Если то был настоящий самец, он должен был бы пожалеть, что солнце встает вместо того, чтобы зайти.
А чувства? Бенита с детства запомнила фразу, с которой отец по вечерам входил в кухню. Он обычно говорил матери, стоящей у плиты: «Ноги болят. К перемене погоды, что ли?»
Только в субботние вечера, когда отец возвращался из бани и мать ставила перед ним вместе с ужином рюмку водки, он затягивал одну и ту же песню. Одну и ту же песню, если мать оказывалась недостаточно проворной и не сразу подавала ему суп: «Каменщик Юри вернулся с работы, и пообедать хотелось ему…»
«Сахарная булочка, сладкая булка, хочу есть», — это были слова, которые отец употреблял в редкие радостные минуты. Когда мать в конце первого военного года умерла, отца больше всего беспокоило, где бы достать водки, чтобы справить поминки. Бенита достала две бутылки жиденькой водки и несколько литров самогона.
— Видишь ли, — сказал отец дочери, — видишь ли, мы не смеем оскорблять память матери, на поминках всего должно быть вдоволь — и питья и еды.
Худой и сутулый, в обтягивающей полинявшей рабочей рубахе папаша Каарел горбился на самом конце дальней борозды. Он и не подозревал, как дурно думала о нем дочь Бенита, которая стояла на краю поля, уйдя ногами в рыхлую почву.
Страх и голод движут человеком. Все остальное пена, мираж.
Стыд? За те полчаса, что Трехдюймовка осыпала ее бранью, Бенита, видимо, подвела окончательный баланс чувству стыда. Правда, в те минуты ей хотелось, чтобы земля под ее ногами провалилась, чтобы весь рихваский хутор провалился куда-нибудь в тартарары. Но если б Трехдюймовка снова пришла и стала поносить ее, Бенита, вероятно, сама бы созвала народ и сказала: «Глядите и слушайте — вот каков человек».
Стыд — это выдумка.
Разве Йоссю стыдно?
Разве остальным «лесным братьям» стыдно?
Разве девчонке-цыганке стыдно? Она пришла, села за стол, словно сию минуту, подобно ангелу, спустилась с неба на землю и перья ее крыльев пахнут мятой.
Было ли Трехдюймовке хоть раз в жизни стыдно?
Было ли стыдно гостям на свадьбе, когда они явились в амбар и выпустили на молодых все содержимое опрыскивателя?
Было ли стыдно Риксу, когда в последнем классе он делал недвусмысленные предложения бедной деревенской девушке?
Где чувство стыда у сылмеской Эллы, когда она вешается на шею мужчинам?
Понятие стыда только обременяет сознание, сочувствие идет от дьявола; жалость надо истреблять, пока ее не останется.
Отец Каарел гнул спину на дальней борозде. С тупым батрацким усердием он собирал картофельные клубни, и те, описав дугу, летели в корзинку. Их скапливались пуды и центнеры на страх голоду.
«Каменщик Юри вернулся с работы, и пообедать хотелось ему…»
Было ли стыдно друзьям и знакомым Молларта, когда они развели его с женой? — все еще не могла успокоиться Бенита.
И вообще, с какой стати она должна переживать из-за Молларта? Сочувствие надо отбросить в сторону.
Вероятно, и Молларт такой же шкурник, как и все остальные. Может быть, и он, боясь за себя, нарочно изуродовал свою ногу? Ввел себе куриную кровь петушиным клювом или протащил через мышцу конский волос, как рассказывали ночью сведущие мужчины.
Чего ради он все-таки колесил по деревне, разыскивая овец, заразившихся от Купидона?
От голода, не иначе, пришла к заключению Бенита. Он не хотел, как нищий, садиться за стол. Он тоже порядочный человек, как и ее отец Каарел.
Зачем она все-таки послушалась Молларта и зарезала Купидона!
С того самого дня, когда Купидону отрезали голову, и пошли все несчастья. Из-за барана Йоссь впервые набросился с кулаками на жену. Они боролись с Йоссем на куче торфа, словно бешеные звери, и голова Купидона скатилась вниз. Теперь ее кто-то снова положил на коричневые куски торфа.
Бените хотелось крикнуть склонившемуся над бороздой отцу: «Беги на помощь, ударь меня, чтобы ко мне вернулся рассудок! Спеши, потому что я окончательно рехнулась!»
Бенита молчала.
Что-то мешало ей позвать на помощь старика, о котором она еще минуту назад так дурно думала.
Что-то? А может, ей мешал стыд?
У Бениты было такое ощущение, будто ее сдавливает невидимый панцирь. Сдавливает сильнее, чем в тот раз на школьном бале-маскараде, когда, изображая черта, она надела на себя чересчур тесное трико. Скручивало все внутренности, перехватывало дыхание, словно воздушный столб всей своей тяжестью давил на плечи.
Не было сил куда-то идти. Ни одна из дорог не сулила облегчения. А ведь Бениту окружал простор рихваских полей, ни одного беженца не было видно — все они после ночной попойки отсыпались.
Грудь теснило. Невидимая броня, сдавившая ноги, была словно из металла. Кожа мерзла. Казалось, будто в затылок ей молотом загоняют клинья. Бените стало жаль себя, ей захотелось сию же минуту умереть, чтобы избавиться от этих тисков, от холода, головной боли и отвращения к миру.
Она медленно опустилась на край поля. Ощущение, что ты куда-то проваливаешься, подействовало благотворно. Опускаешься и опускаешься, в голове приятная тяжесть от полного безразличия, в ногах слабость. Глаза закрываются сами собой, еще мгновение — и будет станция, имя которой — исчезновение. Ангельские хоры поют гамму, неслышно открываются небесные врата — петли их смазаны.
Спина ее коснулась земли. Голоса смолкли, очевидно, у ангелов нет дирижера.
Ладони нащупали прохладную, чуть влажную землю. В одной горсти оказался камушек. Он давил на большой палец, причиняя боль.
Боль?
Бенита разочарованно открыла глаза. Костлявая с косой прошла мимо, не обратив на нее внимания. Клин из затылка был вынут. По небу плыло большое белое облако, похожее на барана Купидона.
34
енита встала и с чувством облегчения огляделась вокруг. Никого, кроме отца, который по-прежнему стоял, склонившись над картофельной бороздой, спиной к Бените, не было видно. Хозяйке Рихвы не пришлось краснеть перед возможными очевидцами ее минутной слабости.
Собственно, ей тоже следовало бы часок-другой поспать.
Бенита отряхнула с одежды землю и несколько раз глубоко вздохнула. Тишина, стоявшая на рихваском дворе и у риги, подействовала на нее благотворно. Словно не было ни беженцев, ни войны, ни фронта, расположения которого никто не мог точно определить. Когда в самом начале войны отбирали радиоприемники, Бенита тоже послушно отдала свой. Газеты уже несколько недель не приходили в Рихву, идти за ними в дом для престарелых не было никакого смысла — кто в нынешнее время развозит газеты и письма!
Рихваские постройки и поля, насколько хватало глаз, казались единственным осязаемым островком в этом истерзанном мире. Казалось, что только в Рихве есть еще какой-то, хотя и потревоженный беженцами, порядок, какие-то привычки, какой-то укоренившийся ритм жизни.
Но Бенита тут же поняла, что только что перечисленные достоинства Рихвы — одна лишь видимость; это ее мозг ищет защиты от новых тисков, и мысли стараются зацепиться за более удобные представления. Бенита была просто не в состоянии копаться в поисках подоплеки и объяснения событиям последних дней. Кинув взгляд на ворота риги и на телеги беженцев, Бенита подумала, что ей хочется лишь одного, чтобы люди, собравшиеся в Рихве, спали как можно дольше. Никого не видеть, ни с кем не общаться. Вот и от брани Трехдюймовки она убежала за кучу хвороста и понуро сидела там на чурбане, пока не услышала шагов.
Пастор, заложив руки за спину и опустив голову, прогуливался дорогой, по которой гоняли скот. Заметив его, Бенита притаилась между кучей хвороста и стеной амбара. Она пробыла там довольно долго. Крапива жгла ноги. Но приходилось терпеть, так как погруженному в свои мысли пастору это место казалось, видимо, самым удобным для прогулки.
Бените никого не хотелось видеть, она смертельно устала и от людей, и от их поступков. Она не хотела видеть ни Йосся, ни ребенка, ни свекрови. Бенита убеждала себя, что ей точно так же безразлично, тут ли еще ветеринарный врач или уже покинул Рихву.
Сейчас Бените необходимо было найти уголок, где она могла бы отдохнуть так, чтобы никто не мешал ей. Идти в дом не хотелось. А захвачен ли беженцами сеновал над конюшней и над хлевом, она не знала. Так она и стояла здесь, на краю поля, колеблясь и размышляя, где бы найти уединенное место и охапку сена, чтобы растянуться на нем.
Но Бените помешали. Из-за живой изгороди, держа свою лошадь под уздцы, показался хозяйский сын из-под Раквере; он шел по направлению к торфяному навесу. Жеребенок, родившийся ночью, трусил за кобылой. А следом за ними брела вымазанная мукой цыганка и несла под мышкой желтое одеяло.
Парень поставил лошадь между оглоблями, взял прислоненный к колесу хомут и надел его кобыле на шею.
Девчонка безучастно стояла рядом и трепала жеребенка за уши.
Куда они думают направиться?
С этим вопросом Бенита подошла к молодым.
— Уходим, — нехотя ответил парень, он был так занят лошадью, что даже не удосужился взглянуть на Бениту.
— Лошадь с жеребенком не жаль? — медленно протянула Бенита.
— Уходим, — повторил парень.
— Рано еще кобылу запрягать. Жеребенок не поспеет за ней, придется бросить труп где-нибудь в канаве.
— Уходим, — как заведенный, еще раз повторил парень.
— И как вам только не совестно зря губить животных? — уговаривала его Бенита.
— А людей можно? — выпалил парень, со злостью кинул вожжи и угрожающе шагнул к Бените.
Бенита грустно улыбнулась.
— Что вы знаете о жизни? — подходя еще ближе, крикнул парень в лицо Бените. — Что вы знаете о человеческих страданиях? Живете здесь, на захолустном хуторе, одна забота — набить брюхо и завалиться спать! Что вы знаете о земле и народе? У вас куриные мозги, вам не понять мучений и издевательств! Для вас только животное представляет ценность, потому что оно стоит денег! Человек не стоит ничего, на него нет цены, он как навозный жук, которого можно раздавить сапогом!
Девчонка-цыганка подошла к разгневанному парню и тряхнула его за плечи. Запряженная в телегу кобыла запряла ушами, и только жеребенок, у которого пока еще отсутствовало представление об оттенках человеческого голоса, спокойно тыкался носом в брюхо матери. Оглобля мешала ему, жеребенок вытянул шею, чтобы дотянуться до сосков.
Бенита, рассеянно смотревшая на жеребенка, и на этот раз ничего не ответила хозяйскому сыну из-под Раквере.
— Взгляните на эту девчонку, рядом со мной, — чуть потише сказал юноша. — Вся ее родня убита. Братья и сестры, родители и родители родителей. Весь ее народ уничтожен. Может быть, она вообще последняя цыганка на свете. Так и ее сделали немой!
Бенита и девушка долго и внимательно разглядывали друг друга.
— Она одна осталась в живых, да и то благодаря случайности.
На этом месте всхлипывание девчонки прервало рассказ парня.
— Отойди, если не можешь слушать, — попросил парень. — Я должен кое-что разъяснить этой тупой крестьянке.
Девчонка залезла в телегу, съежилась и с головой накрылась желтым атласным одеялом.
С лица Бениты не сходила судорожная усмешка. И как Бенита ни старалась, она никак не могла освободиться от нее.
— Когда девчонка прибежала к нам, я на коленях умолял своих родителей, я раскровенил ноги, ползая перед ними, пока они не согласились пустить девчонку жить в баню.
Парень вздохнул.
— С тех пор моя школьная подруга стала белить лицо и бессловесной тенью сновать между конюшней и хлевом. В комнаты ее не пускали. Зато на лесном покосе она могла вкалывать сколько душе угодно — тут мои родители были добренькими.
Вы думаете, легко было снести все это? У отца девчонки в Соотага было хозяйство, как в ту пору у всякого порядочного человека. Что с того, что он свой хутор сдавал в аренду. Чем девчонка была хуже меня? Нет, затолкали в угол и сделали из нее бессловесную белую рабыню.
— Ваши родители просто боялись, что за укрывательство цыганки их посадят в тюрьму, — обронила Бенита.
— Подлецы! — взорвался парень. — Они не взяли нас с собой, когда убегали. Отец сказал — или девчонка или мы! А ведь тогда им уже нечего было бояться.
Парень перевел дыхание и посмотрел на телегу, где вместо девчонки возвышалась лишь бесформенная кучка, покрытая желтым одеялом.
— Значит, так вы и отправились вдвоем на жеребой кобыле, — пробормотала Бенита и почувствовала, как с лица сходит судорожная улыбка.
— Ох, чего только я не пережил в пути, — по-детски вздохнул парень и почесал заросший пушком подбородок. — Да и здесь мы не избежали проклятия, которое повсюду преследует цыган. Я кое-что знаю, но пусть это останется при мне! — важно закончил парень и посмотрел Бените в глаза.
— Девушка во всем призналась вам? — осторожно спросила Бенита.
— Очевидно, кое-что она утаивает. Все открыть нельзя, если слишком много будешь знать, появится желание накинуть петлю на шею, — упрямо сказал парень.
Хозяйский сын из-под Раквере отвернулся от Бениты и стал возиться с чересседельником. Отпихнув жеребенка в сторону, он обошел вокруг лошади и убедился, что все сделано как надо. Концом сапога парень ударил по переднему колесу и озабоченно стал разглядывать переднюю ось телеги.
Неожиданно лицо парня просветлело, и он сказал Бените:
— Отец девушки каждую весну запрягал лошадь, сажал жену и детей и — куда глаза глядят! Что поделаешь, он предъявлял к жизни требований побольше, чем наш мужик, который с утра до вечера гнет спину в поле. Человек хотел видеть мир. Помню, мальчишкой я однажды встретил их семью на ярмарке. Когда они уезжали, радостные и веселые, в кибитке, запряженной вороным жеребцом, я долго смотрел им вслед. Они исчезли в клубах дорожной пыли и палящего солнца. У меня дух перехватило от зависти.
Девчонка-цыганка отодвинула край одеяла и выглянула, глубоко вдыхая в себя воздух.
— Сейчас поедем, — пообещал парень.
— Никуда вы не поедете! — Это произнес Йоссь, который стоял в воротах, прислонившись к столбу.
Заметив хозяина Рихвы, девчонка закричала страшным голосом.
— А эта что еще орет? — показал Йоссь на цыганку. — Чего это она размалевалась?
— Ты погоди, погоди, — старался успокоить девушку парень.
— Набедокурили в риге, пораскидали тюки, — приближаясь, говорил Йоссь. Подойдя к телеге, он схватился за нее и заорал — Сперва поглядим, что вы стибрили, а потом выгоним вас из Рихвы, как паршивых псов!
— Йоссь, перестань, — взмолилась Бенита. Ей было невмоготу разговаривать с Йоссем.
Девчонка-цыганка снова натянула на голову одеяло, парень теребил в руке вожжи. Йоссь, опершись о телегу и приподняв одну бровь, в упор смотрел на парня.
— Я — хозяин этого хутора. Я не потерплю, чтобы всякая проходимка-цыганка портила настроение моим гостям. Я не выношу воровства. Чего это вы так заспешили? Господа торопятся как на пожар, — насмешливо произнес Йоссь, — потом с меня начнут требовать, если что пропало.
— Они ничего не взяли, Йоссь, — вспылила Бенита и подняла глаза. Муж и жена уставились друг на друга. Бенита словно впервые заметила, что волосы на висках у Йосся поредели, что ворот его свитера болтается и что Йоссь давно не брал в руки бритвы.
— С меня хватит. Хватит, хватит, хватит, — истерически пробормотал парень. Как безумный, он стал хватать со дна телеги сено и кидать его на обочину дороги. Вытянув вперед ногу, Йоссь носком сапога ворошил сено.
— Давай, давай, — повелительно крикнул он, когда парень немного замешкался. Девчонка-цыганка стояла в телеге, закутавшись в желтое одеяло, словно ей было холодно. Краем одеяла со щеки девушки стерло белый слой и теперь одна половина ее лица казалась тяжелее другой.
— Чаша переполнилась, — звонко воскликнул парень. Девушка вскрикнула.
Парень схватил спрятанную на дне телеги винтовку и стал целиться в Йосся.
— Не валяй дурака, — Йоссь презрительно приподнял верхнюю губу и обнажил желтые прокуренные зубы.
— Чаша переполнилась, — повторил парень.
— Перестаньте! — закричала Бенита, но голос ее утонул в вопле девчонки.
— Молчать! — заорал парень.
Женщины умолкли.
— Мерзавец! Старый козел! Мерзавец! — ясно и раздельно произнес парень. — Сейчас мой черед. Моя чаша переполнилась, — повторил он больше для себя, чем для других.
— Не паясничай, — пересохшими губами пробормотал Йоссь.
Парень выстрелил.
Резвившийся на обочине канавы жеребенок налетел на Бениту и сбил ее с ног. Кобыла в паническом страхе понесла в сторону большой дороги, телега громыхала, колеса застревали в колее. Девчонка съежилась в комочек. Хозяйский сын из-под Раквере на бегу вскочил в телегу. Парень держал винтовку, подобно копью, словно ему предстояло пронзить стерегущую их неведомую стражу. Бенита с трудом приподнялась, кляня про себя Йосся, который не соблаговолил прийти ей на помощь. Бенита чувствовала себя такой старой, что ей трудно было подняться. Сумасшедший парень выстрелом испугал жеребенка, и тот понес. Хоть и маленький, а с разбегу свалил Бениту. Когда так неожиданно падаешь, обязательно ушибешься. Бенита почувствовала жжение в руке. Проклятый парень со своей винтовкой. Все-таки Йоссь мог быть повнимательнее к своей жене и хотя бы помочь ей подняться.
Бенита огляделась, но Йосся нигде не было. Неужели он, шальная душа, побежал за телегой? Да пусть себе катятся на все четыре стороны! Почему хозяева Рихвы должны переживать из-за каждого беженца?
Бенита села и увидела, что на краю поля, за ворохом брошенного сена, лежит какая-то фигура в синем свитере с отвисшим воротом.
Бенита вскочила.
За ворохом сена ничком лежал Йоссь.
— Послушай, Йоссь, ну чего ты боишься? — пристыдила его Бенита. — Не годится мужчине быть таким трусом. Если б все мужчины впадали в такую панику, некому было бы воевать. Как первый выстрел заслышат — так ложатся на землю и боятся голову поднять…
Слова текли сами собой. Бенита удивилась, что так спокойно, по-матерински отчитывает лежащего ничком хозяина Рихвы. От этих наставлений ей самой становилось легче на душе. Йоссь не спорил, очевидно, в самом деле стыдится, что так испугался выстрела. Даже не решается поднять голову и взглянуть на жену.
— Йоссь, — сказала Бенита, увидев, что муж продолжает лежать. — Может быть, ты хочешь спать? Царь природы устал, ему пришлось выхлебать столько самогону! Встань, я отведу тебя на сеновал или домой в постель. Отдохнешь.
Муж не шевельнулся.
— Тебе стыдно, Йоссь? — с надеждой спросила Бенита.
Порыв ветра подхватил стебельки из вороха сена и отнес их на редкие волосы Йосся.
— Это даже хорошо, что стыд еще не совсем перевелся на свете. — Бенита не понимала, почему она так много говорит. — Йоссь! — крикнула она повелительно и, отодвинув ногой охапку сена, подошла к мужу.
35
ерез несколько часов после того, как ветеринарный врач Эрвин Молларт заверил смерть хозяина Рихвы, Бенита стояла у окна большой комнаты и поверх картофельного поля смотрела на дорогу.
Монотонно повторяя про себя, что каждому положено самому справляться со своим горем, она отстранила от себя всех, кто пытался ее утешать. Бенита оставалась безучастной, когда беженцы, сочувствуя несчастью, обрушившемуся на Рихву, с готовностью взяли на себя все хлопоты. Просто удивительно, какими деятельными становятся люди, когда в доме появляется покойник. Даже у завзятых лодырей и бездельников руки сами начинают тянуться к работе.
Конец жизненного пути человека влечет за собой уйму хлопот.
Едва успели положить обмытого и одетого в свадебный костюм хозяина на скамью, как беженцы, озабоченные тем, что надо раздобыть гроб, стали выяснять у Каарела, где бы достать доски?
На хуторе не нашлось даже обрезка приличной доски, так как хозяйских лошадей уже давно не посылали на лесопилку. Хутор Рихва содержался в образцовом порядке, и поэтому здесь годами не появлялось нужды не только в серьезных плотницких работах; даже ясли, крепко сколоченные когда-то, не требовали ремонта.
Однако не может же человек остаться незахороненным. Если умер хозяин хутора, к тому же еще у себя дома, надо предать его земле подобающим образом. На поле брани можно обойтись без помпезности, как и в местах расстрела, где жертвы сваливают в общую могилу. Но когда покойник в единственном числе — на общепринятую церемонию обращается огромное внимание.
Бенита услышала доносившиеся из кухни вжиканье рубанка и стук молотка. Сомнения не было, мужчины сколачивали гроб для Йосся. Только она не знала, что они взяли те самые дубовые доски, которые один из беженцев вез для себя. Бенита не слышала, как торговались беженцы, предлагая их владельцу любой товар, лишь бы он отказался от своего имущества. Тот упирался и даже показал выжженные на досках знаки, свидетельствовавшие о том, что этот пиломатериал должен быть использован для одной-единственной цели. В конце концов владельцу досок пришлось сдаться. Правда, он не потерял чувства собственного достоинства и не взял предложенных ему полушубка, поросенка и мешка муки. Махнул рукой и тогда, когда унылая пара, приоткрыв брезент на своем возу, предложила ему соль и железо. Совесть не позволяла ему поживиться на таком деле, хотя он и знал, что в тяжелые времена мешок соли перетягивает мешок золота.
Сняв с воза дубовые доски, беженцы стали наперебой оказывать их владельцу знаки внимания. Женщины приветливо улыбались ему — в той мере, в какой допускал траур, мужчины приподнимали шапки и пожимали руку.
Сейчас они строгали и стучали на рихваской кухне, ибо хозяину надлежало получить гроб, достойный его.
Когда после первого потрясения Бенита снова собралась с мыслями, ее охватил страх за Минну. Но старуха на удивление быстро оправилась от удара, потом-то она, наверное, будет плакать ночи напролет. Когда сын был обряжен, старая хозяйка вышла во двор и стала ходить вокруг флагштока, спрашивая совета у каждого беженца. На похоронах хозяина флаг с черным крепом должен быть приспущен, утверждала Минна. Однако никто не знал, какой флаг надо вывесить. Минне просто не верилось, что даже образованные мужчины не могут ей ничего посоветовать. Взяв Рикса за руку, она подвела его к комоду, выложила на стол три флага: трехцветный, со свастикой и, наконец, красный, который в год советской власти один или два раза водружался на флагшток, и потребовала внести в это дело ясность.
Старуха держала Рикса горячей рукой за запястье и повторяла, что черный креп у нее имеется, пусть только скажет, к какому флагу его прикрепить.
Рикс, съежившись, стоял возле старухи, рот у него кривился, лицо было виноватое, словно он отвечал за войны, революции и прочие волнения, охватывающие народные массы.
Бенита глядела из окна на картофельное поле и вдруг почувствовала в своей руке маленькую ладонь. Она не повернула головы, было выше ее сил смотреть сейчас на своего и Йоосепа ребенка.
— Вчера не стало барана, сегодня — отца. Завтра вдруг ты оставишь меня одного? — сказал Роберт Бените.
Женщины, на цыпочках сновавшие по комнате, увели мальчишку, и он не услышал ответа матери.
Эти женщины, вносившие сейчас в комнату еловые ветки и ставившие в изголовье Йоосепа свечи, отлитые домашним способом, с приходом в дом беды удивительно быстро устранили из комнаты следы попойки. Очевидно, они потому с таким усердием таскали ветки, что и им чудился запах сивухи, не покидавший Бениту. Правда, запах мог исходить и от тела хозяина Рихвы, которое обмыли остатками самогона. «То, что Йоссь не допил при жизни, досталось Йоосепу после смерти», — подумала Бенита, следя за тем, как старательно хлопочут женщины.
Их суетня и беготня заразили и Бениту. Ей стало казаться, что ее ждет какое-то важное дело, хотя какое именно, она не могла припомнить. Какой-то внутренний приказ, которому она не могла противостоять, заставил Бениту отойти от окна. Она тусклым взглядом окинула помещение, но никакого спешного дела, к которому следовало бы приложить руки, не обнаружила. Бенита вышла в проходную комнату и внимательно огляделась. Кровать с продавленным дном — ложе Каарела — стояла на прежнем месте, покрытая линялым солдатским одеялом. На веревке, протянутой вдоль теплой стенки, висели серые шерстяные носки. Бените показалось странным: листва с деревьев еще не облетела, а уже наступила пора, когда надо надевать шерстяные носки.
Пониже веревки, поперек кладки шла, извиваясь, желтая полоска, след от мелинита, которым морили тараканов. В свое время Бенита немного колебалась, проводя на теплой стенке эту полоску, но тараканьему нашествию она положила конец.
Здесь тоже ничто не требовало немедленного наведения порядка. В кухне Бенита споткнулась о стружки, которые один из отпрысков кулливайнуской Меэты запихивал в топку плиты. Запах дубового дерева вместе с чадом из котла, где варился картофель свиньям, ударил в нос, и у Бениты засосало под ложечкой. Она выбралась из кухни и спустилась с крыльца. И только тогда вспомнила.
Теперь она твердо знала, что ей делать. С выражением сосредоточенности на лице, словно это служило ей щитом, она пошла по двору, не пускаясь в разговоры ни с одним из снующих там беженцев. Взяв у ворот хлева лопату, Бенита направилась к навесу, где лежал торф. Какое-то мгновение она колебалась, разглядывая торфяную кучу, а затем вонзила лопату в кочку рядом с живой изгородью из елей. Дерн был крепкий и такой неподатливый, что острие лопаты никак не входило в него. Бенита нажала ногой, однако безуспешно.
Пот стекал по лицу, она совершенно обессилела. Работа нисколько не подвигалась. В конце концов хозяйка Рихвы обеими руками подняла лопату высоко вверх и со злостью вонзила стальное острие в землю.
Сердце билось, она задыхалась, но работу нельзя было оставлять незаконченной. Раньше Бените ничего не стоило выкопать маленькую яму за несколько минут, теперь же это требовало огромных усилий. Сняв с кочки верхний покров, Бенита концом лопаты разрыхлила землю и стала потихоньку откидывать ее в сторону. Казалось, она действует игрушечным совком, так не похоже это было на работу взрослого человека. Бенита беспомощно тыкала и тыкала лопатой, словно приговоренный к казни, который, копая себе могилу, стремится продлить оставшиеся перед расстрелом минуты жизни.
Несколько раз измерив лопатой глубину ямы, Бенита в конце концов осталась довольна. Она распрямила спину и, смертельно усталая, пошатываясь, поплелась к торфяной куче. Голова Купидона то и дело соскальзывала с лопаты. Бенита усилием воли превозмогла слабость в руках и с трудом донесла голову барана до ямы. Голова Купидона со стуком упала в яму, и Бенита стала поспешно закидывать ее землей.
У нее не было ни сил, ни желания оглядеться вокруг, и поэтому она не знала, долго ли наблюдал за ней Эрвин Молларт или подошел к ней только сейчас.
— Размеры потери начинаешь понимать потом, — пробормотал он. Очевидно, это должно было служить утешением.
— Когда-нибудь минувшее поглотит нас, — напряженно ответила Бенита.
Молларт кивнул.
Несколько мгновений они молча стояли у елей, словно прислушиваясь к чему-то.
Бенита плашмя ударила лопатой по бугорку, чтобы уплотнить яму.
— Вечные явления, повторяясь, приобретают новое содержание, — промолвил Молларт.
— Между новым и старым нет фактически разницы, — пробормотала Бенита и посмотрела на рихваский дом, из трубы которого тихо поднимался дым.
— Чем старше мы становимся, тем яснее понимаем, что абсолютно нового и не существует, — согласился с Бенитой Молларт.
— Все под этим небом возвращается на круги своя, — заметила Бенита.
— Большей частью небо бывает низким и оттуда часто льет дождь.
— Иногда появляется и облако, похожее на Купидона.
— Ветры быстро уносят его далеко за лес, — медленно произнес Молларт.
— Если б впереди не было леса, — часто повторяли нам в школе.
— Тогда мы думали, что через лес можно пройти.
— Снег залепляет глаза, и мы не находим дороги, — нерешительно произнесла Бенита и добавила — И снова гнем спину в картофельной борозде и копошимся на своем огороде.
— Сегодня и в самом деле все кажется именно так, — как можно непринужденнее ответил Молларт.
— Я знаю, — сурово заметила Бенита.
— Остается пожелать, чтобы время летело быстрее, — тихо сказал Молларт.
— Когда-нибудь снова настанет день, когда тебя пригвоздят трехдюймовым гвоздем к столбу судьбы.
— Счастье или несчастье человеческой жизни зависит от дистанции. Впрочем, задним числом и длина дистанции не имеет никакого значения.
— Отсюда истина, — заметила Бенита, — шагай по борозде настоящего, не оглядывайся назад и не заглядывай вперед.
— В большинстве случаев человек находится в ограниченном круге своих представлений, — заметил Молларт. — Из борозды настоящего люди пытаются шагнуть в сторону.
Бенита молчала.
— Не вышло. Не сумел принести вам облегчения, — извинился Молларт и каблуком погасил свернутую из самосада папиросу.
36
еред началом проповеди пастор прочитал отрывок из библии. Отложив в сторону толстую книгу, он стал говорить о хозяине Рихвы как о толковом и серьезном эстонском крестьянине, который трудился не покладая рук, сеял и жал. Утешив мать, вдову и сына, у которых рука убийцы отняла сына, мужа и отца, пастор перешел к волновавшим его насущным вопросам.
— Народы мира чувствуют неопределенность своего положения, — начал он. — Правители, которых не так уж много, суровы, злы и высокомерны. Они держат народ в оковах страха и в постоянной тревоге за будущее. Люди с трезвым умом, которые любят справедливость и хотят видеть торжество правды, не могут в тихие часы отдыха отогнать от себя тревожные мысли. Ничто не кажется постоянным, человек боится, что его и его детей может поразить какое-нибудь ужасное несчастье. Революции нанесли тяжелый удар по народам, все на земле перевернуто с ног на голову. С деревьев падают недозревшие плоды, наводнения и песчаные бури опустошают землю, засухи уничтожают посевы, поля становятся голыми. Войны швыряют людей с места на место, многие так и не находят себе пристанища. Брат поднял оружие на брата, и сердца матерей разрываются от отчаяния.
Никто не понимает, почему повсюду в мире царит такой ужас, почему несчастья повсеместно обрушились на человека и на целые народы. Настанет ли когда-нибудь такое время и найдется ли где-нибудь такое место, где честные, открытые и справедливые люди почувствуют себя совершенно уверенно? Смогут ли когда-нибудь люди спокойно жить в своем доме, не боясь лишиться имущества, здоровья и жизни?
В этом месте Минна, вздрагивая всем телом, громко заплакала.
Жены беженцев придвинулись поближе к старой хозяйке Рихвы и взяли ее под руки.
Пастор украдкой вздохнул, посмотрел на покойника, в изголовье которого трепетало пламя свечей, и запел псалом:
— «Настанет час, и пред тобой над звездами забрезжит небо, и все исполнится, чего ты ждал, надеялся на что. И все, что в муке нес ты здесь, и что терпел, навеки ты отринешь от себя…»
Бенита, шевеля губами, старалась подпевать, однако не слышала собственного голоса. Судорога сжала ее голосовые связки, и горло саднило.
Песня была тягучей, от дубового гроба исходил запах свежевыдубленной кожи. Бениту качнуло. Она незаметно отошла к окну, протянула руку к лимонному дереву и оторвала от него листок. Размяв его в пальцах, Бенита поднесла руку к лицу и широко раздула ноздри, стараясь вдохнуть в себя освежающий лимонный запах. От пряного аромата чуть-чуть стало легче. Голова немного прояснилась, но сразу же дала себя почувствовать усталость в ногах. И хотя в парадной комнате рихваского дома царило траурное и благоговейное настроение, Бенита ждала лишь одного — окончания церемонии, потому что силы ее были на исходе. Она готова была сразу, все равно где, свернуться в клубок, подобно собаке, и заснуть.
Бенита судорожно держала открытыми веки и не отрывала глаз от пастора. Она скорее видела, чем слышала, что слуга божий о чем-то говорит — слова не доходили до сознания Бениты. Пастор был словно в тумане, он куда-то исчезал, затем снова появлялся в поле зрения. Губы человека в таларе безостановочно шевелились, но слова, казалось, вылетали из раскрытого окна, подобно мыльным пузырям. Бените хотелось повернуть голову и взглянуть на лимонное дерево, чтобы увидеть, оседает ли часть пузырей на листьях и ветках, но она побоялась это сделать. Ей казалось, что если она потеряет пастора из виду, то заснет раньше, чем успеет перевести взгляд на зеленые ветки.
Внезапно в ушах Бениты зашумело. Шум превратился в грохот, как будто в мозгу у нее заработали какие-то моторы. Посторонний звук усиливался, словно койгиский Арвед въехал на своем тракторе в парадную комнату дома, стремясь оглушающим грохотом пробудить к жизни безвременно ушедшего хозяина.
Бенита напрягалась, чтобы стоять прямо, она собрала все свои силы, стараясь не поддаться этому обману чувств. Что-то случилось и с ее зрением. Язык у пастора перестал двигаться, пастух человеческих душ посмотрел в сторону, мельком оглянулся назад, на приоткрытую дверь, которая вела в проходную комнату. Чего это он ерзает, неужели и у. него шумит в ушах?
Бенита незаметно повела глазами, пытаясь сосредоточить взгляд на более спокойной точке. Это оказалось болезненно, веки словно были забиты песком. Бенита снова поднесла к лицу лимонный лист, и снова терпкий запах упрочил ее связь с внешним миром. Правда, шум в ушах не прекратился, но теперь Бенита совершенно четко видела угол, где стояла печь, с которой местами слезла побелка. На печи стоял холщовый мешок. Бенита попыталась вспомнить, что могло находиться в нем. Она строила всякие предположения, удивляясь своей слабой памяти, но скоро вспомнила, что из года в год на печи хранят сушеные яблоки.
Хотя память как будто бы и восстановила свои способности, однако шум в ушах продолжался. Это обстоятельство серьезно встревожило Бениту. У нее появилось желание сильно тряхнуть головой, чтобы освободиться от назойливого звука, как от попавшей в ухо воды. Но она находилась на богослужении и должна была держать себя в руках.
Кто-то толкнул Бениту, и она снова почувствовала в теле болезненную усталость. Бенита сделала шаг в сторону, чтобы удержать равновесие, и в этот момент ее взгляд, подобно камню, скользнул с печи вниз — Бенита увидела, что люди вокруг нее засуетились.
Только Минна, которую усадили в углу на стул, оставалась ко всему безучастной. Бенита, увлекаемая к выходу потоком толкающихся людей, нечаянно задела бедром угол гроба. От сквозняка свечи, стоявшие в изголовье Йоосепа, погасли.
Странно, что люди после окончания службы так спешат выйти. Обычно пастор, закончив церемонию, на несколько минут застывает в благоговейной позе, теперь же и он исчез из комнаты.
Шум в ушах Бениты не стихал.
Очевидно, это было каким-то обманом чувств, иначе Бенита слышала бы, что говорят люди. Но люди безмолвно топтались перед дверью, толкая друг друга, чтобы поскорее выйти.
А вдруг койгиский Арвед все же приехал на своем тракторе?
Бенита, вздрогнув, остановилась. Ей наступили на пятку. Бениту внезапно осенило, что она не сказала односельчанам, когда будут хоронить Йоосепа.
Этого ей не простят.
Грохот продолжал сверлить мозг, словно вместо головы у нее была каменная глыба, в которой надо просверлить гнезда для взрывчатки. Может ли человек в таком состоянии думать о том, как отнесутся к ее поступку соседи?
Но почему никто не разговаривает? Хозяйка Рихвы пыталась заглянуть кому-нибудь в лицо, но беженцы стояли к ней спиной.
Шум, подобно бураву, все глубже и глубже всверливался в мозг. Казалось, что череп раскалывается, невыносимо ломило виски.
Толпа людей, уже было миновавшая проходную комнату, застряла в дверях кухни. Кто-то отпихнул ногой стоявшую перед очагом корзинку с картофелем и колоду для рубки хвороста. Упавшая набок колода покатилась к плите и застряла в маленьком углублении. Никто не удосужился поставить ее на место. Колоду отпихнули в сторону, и она снова покатилась под ноги входившим в кухню.
Все это происходило в полном молчании.
Бенита хотела остановиться и вернуться в горницу. Но ее увлекли вперед, к выходу.
Во дворе люди повели себя совсем уж странно. Никто не остался стоять на открытом месте, все рассыпались в разные стороны — кто в хлев, кто за живую изгородь, словно люди играли в прятки.
Бенита стояла одна посреди двора, зажав уши руками. Однако, несмотря на это, в ее голове продолжал сверлить бурав, острый как игла.
Затем все стало ясно. Из-за угла риги начали выползать танки.
Руки Бениты упали.
Танки неудержимо ползли вперед. Первый уже миновал липы. Рига, заслонявшая участок дороги, ведущей к мосту, снова казалась огромным чудовищем, чрево которого все время что-то выбрасывало из себя.
Не так давно казалось, будто из этого деревянного строения с гонтовой крышей выходило все молочное стадо Эстонии. Теперь же складывалось впечатление, будто все военные машины на гусеничном ходу сосредоточились внутри риги, чтобы с адским грохотом одна за другой выползать оттуда.
Первые рокочущие танки достигли дорожного мостика, а из-за риги, громыхая, шли все новые и новые чудовища.
Бенита попыталась сосчитать их. Это желание было совершенно машинальным, точно так же ребенком она пересчитывала лошадей, ожидавших своих хозяев у коновязи перед кладбищем.
Она сбилась со счета.
Может быть, танки потому казались такими устрашающими, что здесь, на этой узкой и пыльной ленте дороги, никто никогда раньше не видел их!
Выставив далеко вперед стволы орудий, страшные военные машины упорно шли и шли. На мгновение Бените померещилось, что один танк остановился. И тут же в сотрясающемся от грохота мозгу возникла страшная картина: сейчас повернут короткие приземистые башни, направят стволы орудий на Рихву и огонь сотрет с лица земли все хуторские строения и уничтожит людей.
Взгляд Бениты невольно перескочил с жилого дома на амбар, зацепился за конюшню и хлев и отыскал за кустами сирени баню, словно стремясь удостовериться, что Рихва еще не превратилась в прах.
Кулливайнуская Меэта подошла к Бените и потянула ее к живой изгороди. Бенита вырвалась из объятий Меэты. В ней вдруг вскипела злость. Движения хозяйки Рихвы были более чем резки, когда она оттолкнула от себя Меэту. Прихрамывая, приближался Молларт. Он подошел к Бените, посмотрел ей в глаза, покачал головой, губы его шевелились — он тоже пытался уговорить хозяйку Рихвы уйти куда-нибудь с ровного места.
Бенита смерила его долгим взглядом, ей не хотелось ничего объяснять ему. Глаза увлажнились сами собой. Молларт отошел, и Бенита почувствовала, что сейчас заплачет. Наконец-то она хоть смоет с век застрявший в них песок.
Танкам все еще не было конца. Из-за сарая выползали все новые машины. Не могли же они просто так миновать Рихву, хоть один-то раз должны были пальнуть по хутору. Бените казалось, что они непременно выстрелят, она нетерпеливо ждала, в ней проснулся нездоровый интерес, ей захотелось увидеть, как разрушают, давят, сметают с лица земли. Ей было безразлично, что будет с ней, с Робертом, со всеми беженцами, с отцом и Минной. В ней не оставалось сейчас ни капли жалости, в этот момент она была до мозга костей человеконенавистницей, она ждала и не могла дождаться, терпение ее лопалось — когда же, когда же, наконец, это произойдет!
Бенита вдруг почувствовала, что дрожит; резко повернув голову, она посмотрела на беженцев, притаившихся по углам и за деревьями, она презирала их всех. Страх смерти стал вдруг непонятен и чужд ей, необходимость спасти себя и сохранить жизнь казалась смехотворной.
Земля сотрясалась и вздрагивала.
Все новые танки ползли из-за риги.
Слезы смыли песчинки из глаз Бениты, она жадно и пристально смотрела теперь на дорогу — когда же, наконец?
Но военным машинам не было никакого дела до вылинявших на ветру и дождях построек Рихвы.
Они продолжали свой путь.
Бениту охватил страх, что сейчас танковая колонна кончится. Что через несколько минут от них останется лишь призрачный шум, который будет доноситься со стороны дома для престарелых, и лязг, сверлящий мозг, подобно бураву, постепенно начнет стихать, пока совсем не заглохнет.
Бенита направилась к калитке. Тяжелым покачивающимся шагом она прошла по заросшей колеистой тропе мимо риги. Липы сквозь синеватую дымку казались съежившимися. Земля дрожала, и кусты черной смородины, окаймлявшие дорогу, роняли в траву свои последние листья. Голые кусты, подобно редким метлам, торчали из свежей зелени, но Бенита не обратила на них внимания. Давивший ее мираж исчез при виде танков, теперь она боялась, что после того, как дорога опустеет, на нее откуда-нибудь обрушится новая лавина призраков.
И хотя какая-то непреодолимая внутренняя сила тянула ее подойти к танкам поближе и не было страха смерти, однако привычка взвешивать свои поступки все же остановила Бениту — не делает ли она чего-то недозволенного? Было даже что-то унизительное в таком простодушном уважении к порядку — в противовес этому чувству поднялось упрямство, и последние десять метров до конца дороги Бенита бежала.
Задыхаясь, она остановилась под липами.
Тяжелые гусеницы, устремившиеся вниз, чтобы зубцами вонзиться в землю, были почти на расстоянии руки от Бениты. Ей казалось, что ее правое плечо Тянет вперед, тело стремилось повторить движение гусениц, подбородок упал на грудь, еще секунда — и она головой вперед ринется вниз и вцепится зубами в дорожный гравий.
Все снова завертелось перед ее глазами. Бенита стала падать и инстинктивно схватилась за ствол липы. На какой-то миг она почувствовала невероятную слабость. Ладонь заскользила по стволу вниз, пока не нашла опору в наросте на коре. С закрытыми глазами, целиком растворившись в страшном грохоте, Бенита ждала, что какая-нибудь гусеница, съехавшая с узкой дороги, раздавит ее.
Бените не хотелось открывать глаза. У нее было странное чувство, будто она часть грохочущего стального исполина, оторвавшаяся от него и брошенная на обочину дороги.
Земля сотрясалась под ногами, мышцы тела дрожали.
Затем шум начал стихать. Сила звука уменьшилась так резко, словно вслед за удаляющимися танками несли огромную завесу. Тело перестало дрожать, на смену дрожи пришло ощущение холода. Что-то тяжелое давило левое плечо, словно на сердце лег какой-то груз, оттягивавший один бок вниз.
Бенита открыла глаза и увидела полу пиджака Молларта. Рука его лежала на ее левом плече.
От сверлящего шума в голове остался лишь легкий отзвук.
Бенита попробовала пошевелить ртом. Челюсти скрипнули. Она не издала ни звука. Щеки, казалось, были парализованы, язык не ворочался.
Бенита подняла голову и посмотрела мимо Молларта в сторону Рихвы. Над хутором и вдоль картофельных борозд плыл синеватый дымок. Почерневшие картофельные стебли были похожи в этой дымке на кустарник, по которому прошел огонь.
— Проводите меня до конюшни, я хочу спать, — попросила Молларта Бенита. Она удивилась, что ее неповоротливый язык смог выговорить эту фразу.
Свернувшись клубком в яслях, Бенита тотчас же заснула и ей приснились рожающие танки. Маленькие танки ползли следом за большими. Они были крошечные, как головастики.
37
осле того как была совершена веселая прогулка на быке и у немецких солдат отобрано племенное стадо, «лесной брат» Эльмар, всю ночь бражничавший вместе со всей компанией, невероятно устал и решил переправиться через реку на другой берег, чтобы отоспаться у себя в сарае. Домой Эльмара не тянуло — жены и детей у него не было, а отец сразу взял бы сына в оборот и заставил его работать. Праздная жизнь на сенокосе койгиского Арведа давно свела мозоли с рук Эльмара, и теперь он пекся о том, чтобы по возможности дольше сохранять мягкость своих ладоней. «Как бархат», — хвастался Эльмар своими розовыми руками. Скрываясь в лесу, он привык ухаживать за своими ногтями и для этой цели выстрогал из подходящего куска дерева ногтечистку. Одна лишь Бенита презирала гладкие, как шелк, руки Эльмара и не раз высмеивала его, говоря: «Не лезь, у тебя пальцы как коровьи соски».
Но Эльмар был не из обидчивых. Посиживая иногда на пороге сарая, он с удовольствием сгибал и разгибал свои пальцы, они хорошо гнулись и в сторону тыльной стороны ладони, словно были без костей. А иногда Эльмар растопыривал пальцы и устраивал театр теней, либо изучал линии своей руки, по которым, как говорили сведущие люди, можно было предсказать судьбу. Эльмар был безмерно доволен своими большими и чуть полноватыми руками, созерцание их настраивало его на мечтательный лад. Мечты одолевали его, словно мухи, отгоняй или не отгоняй, все равно лезут в голову. Воздушные замки, которые он строил, были не так уж плохи. Как приятно, прищурив глаза, увидеть себя сидящим где-нибудь за дубовым столом. Какое зрелище — розовые руки на зеленом сукне. Только Эльмару трудно было представить себе, каким образом заполучить место за таким столом. Впрочем, ничего невозможного в этом не было — деятели, сидевшие за этими столами раньше, окажутся большей частью перебиты на фронте, и тогда перед такими людьми, как Эльмар, откроются настежь все двери и начнется новый период для жизни, дающий в руки прочную власть.
Во всяком случае, если из переселения в город ничего не выйдет, можно будет, на худой конец, и дома устроить уютный и безмятежный уголок. Нарушать привычную жизнь стариков нельзя, отец в этом отношении строг и суров. Мальчишкой Эльмара не раз секли вожжами, если, случалось, он чего-то не сделал или сделал по своему усмотрению. Но в отцовском доме была одна недостроенная каморка. Заколоченное досками окно этой каморки выходило в яблоневый сад, комнатка по своему расположению была самой удобной в доме. Начав строить дом еще в молодости, отец рассчитывал на большую семью, он хотел иметь много детей и поэтому поставил просторную избу, чтобы всем хватило там места. Но Эльмар оказался единственным ребенком — у его слабенькой матери после рождения здорового парня случились внутри какие-то неполадки. Так и вышло, что отстраивать крайнюю комнату оказалось не для кого. За многие годы в этой каморке с земляным полом, голыми бревенчатыми стенами и не обшитым чистыми досками потолком собрался всякий хлам. Овечьи шкуры, мешки с шерстью, кудель, чаны, жбаны и деревянные кружки для кваса. В щелях между бревнами один за другим вбивались гвозди и крюки, на которых висели веревки, ремни и старая одежда. В темном углу каморки, на ящике, стояла прялка работы тудулиннаского токаря, на ней покойная бабушка Эльмара в долгие зимние вечера скручивала пряжу. Старуха любила похвалиться своей работой и то и дело повторяла: моя пряжа так тонка, что даже сквозь зрачок злой бабы пройдет.
Эльмар мог бы вынести из этой темной каморки все вещи и устроить там себе кабинет. Нет, серьезно, без шуток, даже дощечку прибил бы: кабинет Эльмара. Точно такую же, какие видел в дверях в городской управе, куда он однажды зашел проведать какую-то знакомую девицу.
К тому же Эльмару известно о существовании одного вполне приличного письменного стола из мореного дуба, с полированными углами из орехового дерева. Стол даже стоял уже в доме у Эльмара, хотя пока еще не принадлежал ему. Дальняя родственница тщедушной матери Эльмара — кто там разберет, какая общая кровь текла в жилах их предков — после мартовской бомбежки переехала со всем своим скарбом к родителям Эльмара. На трех лошадях съездили на станцию и привезли на хутор трое саней, полных мебели. Различные буфеты, диваны, кресла, разборные шкафы, столы на гнутых ножках и, между прочим, письменный стол с полированными углами из орехового дерева и двумя шкафчиками по бокам — все эти роскошные вещи были нагромождены в большой комнате родительского дома. Мебель так и осталась завернутой в половики, а кровать госпожа приказала собрать и спала там под пуховым одеялом. Муж госпожи, который якобы занимался наукой, уехал по мобилизации в Россию. Очевидно, госпожа поэтому и вздыхала по ночам, когда Эльмар, возвращаясь домой, на цыпочках проходил через большую комнату, чтобы лечь спать.
Поскольку госпожа ничего не смыслила в крестьянской работе, родителям Эльмара пришлось взять ее на свое иждивение. Да и за доставку вещей тоже надо было уплатить — как-никак, понадобилось нанять двух возчиков и к тому же еще накормить их и пустить переночевать.
Поэтому Эльмар считал, что имеет полное право потребовать у госпожи письменный стол. Он не отказался бы и от кресла с кожаной обшивкой, их у госпожи было два. Покрытые газетами, они стояли на большом диване ножками кверху.
Разглядывая свои ладони, Эльмар лелеял эти мысли. Он очнулся от них, когда вечернее солнце заглянуло в проем сарая и залило светом розовые руки Эльмара.
Мечты привели его в состояние радужной приподнятости — он потянулся и встал.
На дне бутылки, принесенной сылмеской Эллой, оставался еще изрядный глоток самогона. Эльмар опрокинул содержимое в горло, стряхнул с одежды приставшие к ней соринки и решил отправиться в Рихву. Рассвет прервал празднество — притомившимся людям надо было немного отдохнуть. Теперь они, вероятно, снова бодры и их бедные задницы, затекшие от долгого сидения, могут снова опуститься на жесткие доски скамей.
Эльмар сунул свои чистые и мягкие руки в карманы, губы его сами собой стали насвистывать какой-то мотив, и будущий обладатель письменного стола направился туда, где можно было перейти реку, не замочив ног.
Да и почему бы человеку не идти, тем более если ноги у него длинные, дорога — знакомая, а душа жаждет общества. С порозовевшим от сладкого сна лицом, насвистывая разные мелодии, Эльмар шагал рихваским лугом, где паслось племенное стадо, отобранное утром у немцев. «Лесной брат» миновал березы на выгоне — там понуро паслись лошади беженцев, не было лишь кобылы с жеребенком, хоть Эльмар и не заметил этого. Перескочив через лаз, он подошел к хутору.
На рихваском дворе царила тишина. «Дрыхнут», — подумал Эльмар, и сладенькая ухмылка появилась на его лице. Там, где собиралось вместе много людей — на свадьбе или на крестинах, — там, подобно калужнице весенней порой, расцветала страсть Эльмара ко всяким проделкам. Эльмар знал, как подшутить над людьми, храпящими в сивушных парах.
Да и откуда взяться шутке, если сам не придумаешь, — и Эльмар разработал план действий.
В первую очередь он отправится на сеновал, что над хлевом.
По перепачканной в навозе лестнице Эльмар залез наверх и стал вглядываться в темноту. Предвкушение невиданной добычи заставило его потереть от удовольствия руки.
Крадясь, подобно кошке, Эльмар собрал в кучу штаны и пиджаки спящих мужчин, досадуя, что среди них не было ни одной женщины. Между прочим, во время свадебных торжеств Эльмар связывал ремнем ноги спящих парней и девиц. Испуганный крик проснувшихся девушек звучал в ушах Эльмара, как пение соловья. А чего им еще пищать — так и так пойманы на месте преступления.
Эльмар никогда не понимал капризов и непостоянства этих деревенских девчонок. Когда случалось сцапать на берегу реки их одежду, девчонки, сидя в воде, начинали трястись и Христом-богом молили вернуть им их тряпки. Но стоило им выскочить замуж, как их словно подменяли. Они при всех кормили детей грудью, их нисколько не смущало сесть вместе со всеми за стол и сунуть сосок в рот ребенку. В течение всей своей сознательной жизни Эльмар пытался выбить из девчонок это притворство, но так ничего и не добился.
Связав одежду спящих мужчин в узел, Эльмар отпрыгнул к чердачному люку. Там он внимательно огляделся и даже заглянул за угол ската крыши, прислушался, навострив уши, и остался доволен. Спустившись, Эльмар заколебался — не прочесать ли еще сеновал над конюшней? В ригу, которая стояла чуть в стороне от хуторских построек, где беженцы хранили свои пожитки, Эльмар не решился пойти. Вдруг там кто-нибудь не спит, и тогда его проделка сорвется.
Узел получился довольно-таки солидный, Эльмар едва мог обхватить его рукой. Тяжесть ноши и определила его дальнейшие поступки: он решил побывать на сеновале над конюшней попозже. Неудержимое желание позабавиться, щекотавшее нервы Эльмара, не позволило ему тратить слишком много времени на подготовку.
Перемахнув через лаз, Эльмар длинными прыжками побежал к проволочной изгороди и перекинул узел через нее на луг.
Осторожно опустив верхний ряд проволоки, Эльмар стараясь не зацепиться за колючки, перешагнул через изгородь.
На берегу реки, у ольшаника, он положил узел и развязал брюки, которыми был замотан узел. Тихо насвистывая, Эльмар разглядывал разложенную на траве одежду, приподнимая то один, то другой предмет, пока не нашел то, что ему было нужно.
Ребенком Эльмар больше всего любил обряжать елку, он с превеликим удовольствием навешивал на дерево пучки кудели, бутылки из-под лекарств, мотки пряжи. Как-то он даже схватил с комода отцовскую трубку и привязал ее к верхушке ели. По случаю большого праздника ему простили эту шалость и не принесли из темной каморки вожжи, чтобы проучить парня.
После того как Эльмар прошел конфирмацию, в их избу уже не приносили елку. Вечно чем-то недовольные родители Эльмара считали елку детской забавой, и ему приходилось искать иные пути, чтобы удовлетворить свою страсть к украшательству.
Теперь Эльмар снова чувствовал себя в своей тарелке.
Он развесил пиджаки на ветвях деревьев, а рубашки закинул на самые верхушки, чтобы они развевались там, подобно флагам, брюки же приладил так, будто кто-то невидимый бежит вверх ногами по ольхам.
Обидно, разумеется, что не было женских платьев.
Эльмар вздохнул. Обстоятельства вечно складывались так, что чего-то не хватало для полного наслаждения жизнью. Но все-таки зрелище получилось что надо, и у художника невольно свело мускулы живота. Эльмар тут же подавил смех. Смех в компании удваивает веселье, а потому наш шутник повернулся и зашагал обратно к хутору.
Удачно осуществленная проделка придала ногам легкость. «Лесной брат» шел, перепрыгивая через преграждавшие дорогу изгороди. Для этого достаточно было опереться рукой о столбик, и ноги сами собой взлетали в воздух.
По скрипящей лестнице Эльмар залез на сеновал и, просунув голову в люк, заорал:
— Вставайте! Пробил час! Вставайте!
Он с шумом спрыгнул с перекладины вниз, обеими руками ухватился за лестницу, несколько раз громыхнул ею о стенку и стал ждать.
«Придется потерпеть, пока эти любители самогона очухаются», — подумал Эльмар. Сунув в рот папиросу и опустив уставшую от ноши руку в карман, он стал в ожидании бродить по двору.
Устав от ходьбы, Эльмар остановился, примяв ногой кустик ромашки, и стал покачиваться с носков на пятки. Его внимание привлек кот, который сидел на краю корыта, где остужалось молоко, и лакомился, окуная лапку в молочный бидон. Полосатый зверь лениво взглянул на покачивающегося мужчину и снова опустил лапку в бидон. Густой слой сливок, прилипший к шерсти, кот вылизал до последней капли. Эльмар с удовольствием наблюдал за деятельностью маленького ворюги, удивляясь его аккуратности. Прежде чем снова опустить лапку в молочный бидон, зверь дочиста вылизывал все промежутки между коготками. Кот не давал стекать лакомству и все до капли подбирал своим проворным язычком.
— Ах ты, каналья! — раздался за кухонным окном чей-то женский голос, и белая рука постучала по стеклу, чтобы отпугнуть кота. Женщина даже выбежала на крыльцо, и стала оттуда ругать кота. Кот, задрав хвост трубой, скрылся в кустах сирени.
Эльмар рассмеялся.
Незнакомая женщина сморщила лицо и бросила сердитый взгляд на покачивающегося с пяток на носки мужчину, словно он позвал сюда кота полакомиться.
Эльмар хотел было рассказать ей историю о коте своих соседей, но женщина ушла в дом, так и не дав возможности заговорить с ней.
Здесь, где из вымени чужого племенного стада на рихваский двор натекла целая молочная река и все сосуды, какие имелись в доме, были до краев наполнены молоком, не стоило, по мнению Эльмара, злиться из-за какой-то капли.
Дома у Эльмара держали лишь двух коров, и молока никогда не бывало вдоволь. Однажды и у них на край корыта уселся соседский кот и начал точно так же лакомиться молоком. Слабенькая мать Эльмара схватила негодяя за шиворот. Трясясь от злости, она велела сыну принести бутылку со скипидаром, облила зад мяукающего короля мышей огненной жидкостью и отпустила. Позже они видели, как кот катался в картофельном поле на заднице и орал благим матом. Но страсть его к сливкам с тех пор исчезла. Потом к матери Эльмара пришла соседка и долго возмущалась тем, что обидели ее кота. Мать Эльмара утешала ее, дескать, нечего из-за этакой дряни переживать, кошка по сравнению с собакой так глупа, с ней разговаривай, как с пауком, все равно ничего не поймет.
Жены беженцев, высыпав из дома, подошли к колодцу. Для слабой половины рода человеческого они вели себя, по мнению Эльмара, до странности скромно. Опустив глаза, женщины молча подошли к скамейке и собрали подойники. Горожанка в клетчатой кофте сняла с веревки тряпки для процеживания молока. На голове у нее был повязан белый платок, словно она работала на маслобойне.
Мрачные женщины вселили в Эльмара беспокойство. Он терпеть не мог надутых лиц. Поэтому ему от всей души захотелось, чтобы мужчины поскорее проснулись и в одном нижнем белье выскочили на двор.
Эльмар корчил гримасы, стараясь привлечь к себе внимание женщин и не дать им уйти. Чем больше будет народа, тем больше смеха. Женщины с единодушным презрением смотрели на кривлявшегося Эльмара. Он паясничал, как только мог. В сарае, в перерывах между сном, он учился шевелить ушами и всегда смешил этим своих дружков. Но сейчас все его старания были безуспешны. Что случилось с женщинами, белены они объелись, что ли? Скосив глаза и втянув щеки, Эльмар беспрестанно шевелил ушами, так что едва не растянул кожу на голове. Не помогало.
Бениты среди женщин не было, иначе Эльмар спросил бы у нее, какая муха их укусила; по двору двигались лишь посторонние, никого из рихваских!
Наконец-то! Какой-то мужчина в подштанниках, чертыхаясь, слезал с лестницы. За ним — второй, третий — этот чуть было не шмякнулся в крапиву. Четвертый едва не оступился и не полетел с перекладины. На пятом, худущем, болталась льняная рубаха, из длинного рукава которой высовывалась черная резиновая рука.
В длинных и коротких подштанниках, в спортивных майках и неуклюжих рубахах мужчины, пошатываясь, бродили по двору, заглядывали в сорняки, кто-то из них со злостью вырвал из земли чистотел и вымазал себе руки желтым. Некоторые все же сообразили надеть ботинки, один был даже в сапогах, а те, кто спустился вниз босиком, ступали очень осторожно либо дрожа стояли на месте.
Замерзшие мужчины сплевывали и, поглядывая на женщин, приглаживали свои растрепанные волосы. Их лица, заросшие щетиной, покрывал какой-то серый налет, белье у мужчин давно не менялось. Все это было достаточно смешно для того, чтобы к Эльмару вернулось хорошее настроение. Неужто эти сонные тетери буянили ночью? Вчерашних веселых беженцев словно подменили. Ни одна из женщин не улыбалась.
Кулливайнуская Меэта подбоченилась — эти бездельники надоели ей. Женщина ворчливо спросила:
— Вы что шляетесь здесь среди бела дня в одном исподнем?
— Кто-то стибрил нашу одежду, — хрипло ответил один из мужчин.
Эльмар больше не мог сохранять серьезного вида. Он стал громко смеяться, хлопал себя руками по ляжкам, стараясь во что бы то ни стало поддержать в себе веселое настроение.
Но беженцы были как деревянные, и ни в какую не поддавались.
— Взгляните на реку, — пропищал Эльмар сквозь смех.
«Долго они будут еще топтаться здесь!» — подумал он.
Стремясь скорее увидеть кульминацию всей этой забавы, Эльмар, показывая дорогу, пошел впереди. Он с готовностью отодвинул прясла лаза, так как мужчины в подштанниках не проявили никакой инициативы и без Эльмара непременно споткнулись бы о проволоку. Они еле-еле плелись за Эльмаром, спросонья не соображая, каким образом их одежда очутилась на берегу реки.
По лугу Эльмар шел пятясь. Размахивая руками, он поторапливал остальных — ему не терпелось поскорее достичь ольшаника. Внезапно Эльмар ткнулся задом о что-то большое и мягкое. Он с быстротой молнии обернулся и застыл на месте.
Коровы, еще совсем недавно спокойно щипавшие траву, теперь нашли для себя новое занятие.
Животное остается животным: то, что вызывает у него интерес, то оно и норовит слопать. А потому Эльмар увидел лишь рубашки, развевающиеся на верхушках деревьев, с нижних же веток коровы подобрали все дочиста.
Женщины оценили обстановку быстрее, чем сонные мужчины. Они побросали подойники, и те, загремев, покатились по траве. Кто-то с треском отломил хворостину и стал отгонять коров.
Когда скотина нехотя отошла, глазам открылось ужасное зрелище. Затоптанная копытами одежда была грязной, рваной и изжеванной. На видном месте валялись часы со сломанным циферблатом, финский нож, выпавший из ножен, острым концом вошел в землю. Разбросанные немецкие марки создавали впечатление, будто кто-то оросил рихваскую пойму, ниспослав с неба денежный дождь.
Никто не смеялся, даже Эльмар.
Женщины, вздохнув, подняли одежду и отряхнули с нее грязь.
Мужчины тотчас же сбросили с себя сонливую вялость и стали быстро выворачивать карманы найденных, хотя и до неузнаваемости испорченных пиджаков.
— Документы! — крикнул кто-то.
— Фотографии, фотографии! — возбужденно завопили в другом конце.
Голоса перемешались. Мужчины в подштанниках и перепуганные женщины шныряли туда-сюда, бегали к реке, смотрели в воду.
— Патроны пропали, — вздохнул один из мужчин над ухом у Эльмара.
Эльмар крутил и мял свои пальцы, сгибал их назад — кости у него действительно были на редкость податливые, точно гуттаперчевые.
В общей кутерьме люди забыли про виновника. Спасали все, что можно было спасти. Все ходили, уткнув носы в землю, тщательно исследовали местность и вершок за вершком прочесывали травяной покров, стараясь найти утерянные и выпавшие вещи.
— Золото! — заорала «резиновая рука».
Со стороны рихваского двора, держа в руке тряпку для процеживания, бежала Леа Молларт. Женщина с вытянутой вперед рукой, в которой была зажата белая тряпка, — это зрелище вынудило застывшего было на месте Эльмара пошевелить мозгами. «Лесной брат» стал тихонько, боком, отходить в сторону.
Он был уже возле коров, когда кто-то из мужчин закричал:
— Держите его! Держите этого мерзавца!
Мужчины и женщины, бросив искать свое добро, устремились за Эльмаром.
Сейчас Эльмар пожалел, что он не в нижнем белье и что на ногах у него кованые солдатские сапоги.
Коровы при виде бегущей толпы перепугались. Те, что помоложе, задрав хвосты, понеслись галопом. Одна чернуха, выгнув шею, подобно быку, пошла на остальных. Мычащие животные сбились в кучу, какая-то необъяснимая сила потянула их к реке.
Коровы преградили Эльмару путь.
Кто-то ударил его ногой под коленку. Шутник перекувырнулся и упал на землю.
Подняв перепачканное грязью лицо, он увидел над собой дубинки. Эльмар начал заранее стонать, надеясь разжалобить женские сердца. Однако как раз слабый пол и начал избиение. Каждая прошлась по нему дубинкой. Мужчины последовали примеру женщин, сперва удары были редкими, а затем страсти разыгрались, исчезла вялость из мышц, и беднягу Эльмара стали бить и колошматить кто как мог.
Вскоре на лице Эльмара появились кровоподтеки.
Так на рихваской пойме в излучине реки беженцы до полусмерти избили «лесного брата» Эльмара.
38
енщины с последними полными подойниками возвращались с реки. Не процеживая, Леа Молларт налила молока в ведра для свиней. Каарел заблаговременно поставил их у ворот хлева.
Следом за Леа Молларт семенила Армильда. Ей, видимо, не терпелось что-то сказать.
В ответ на вопросительный взгляд Леа толстозадая Армильда прошептала:
— Я немного понимаю по-немецки…
— Надо перевести что-нибудь? — спросила Леа.
Армильда сунула руку в карман кофты, вытащила свернутую бумажку и протянула Леа.
— Нашла в траве. Поди знай, что за важная птица этот Рикс, вот гляди, немцы за него просят, велят оказывать помощь.
Армильда сразу же заспешила и нарочно повернула голову, словно прислушиваясь к воплям своих мальчишек.
Леа Молларт развернула листок и прочитала текст, написанный по-немецки. Заметив перед амбаром понуро сидящего Парабеллума, она сразу же подошла к нему.
Сев рядом с Парабеллумом, она тихо сказала:
— Видимо, ваш друг имеет отношение к немецкой контрразведке!
— Точно такое же как я к папе римскому, — фыркнул Парабеллум.
— Никогда нельзя быть уверенным. Я уже видела однажды такое удостоверение, — пожала плечами Леа Молларт и протянула Парабеллуму документы Рикса.
Парабеллум скользнул взглядом по строчкам. Протяжно свистнув, он сунул бумагу в нагрудный карман пиджака и весь как-то сник.
— Нашли золото? — переменила тему разговора Леа Молларт.
— Да, — бросил Парабеллум и резиновой рукой хлопнул себя по карману брюк. Там зазвенело.
Проделка Эльмара относительно легко задела Парабеллума. Его пиджак, хоть грязный и измятый копытами, остался цел. С брюками повезло еще больше. Соскользнув с веток, они упали в заросли ольшаника, угодив одной штаниной в воду. Парабеллум и сейчас размахивал ногой, пытаясь вытряхнуть воду из отворота брюк.
Зато остальным мужчинам, которые как раз появились на крыльце рихваского дома, пришлось скверно. У них почти ничего не осталось от одежды, во всяком случае, надевать ее было уже нельзя. Рикс стоял во дворе, в надетой прямо на рубаху неуклюжей холщовой куртке, доходившей ему до колен, на затылке — кепка покойного хозяина. Муж Армильды Яанус напялил на себя выцветший халат, который он снял с вешалки на кухне, и поверх него надел промасленный жилет из овчины. Из-под халата торчали подштанники, стянутые вокруг икр тесемкой. Его собственные грубошерстные штаны сохли на веревке — течением реки их основательно прополоскало. Горстка немецких марок сохла там же, каждая бумажка была за уголок прикреплена прищепкой. Брюки Яануса наверняка достигли бы моря раньше их владельца, если б их не задержало дерево, упавшее во время половодья.
Молларту, как человеку интеллигентному, Каарел выдал парадные брюки из черного сукна, Минна, со своей стороны, дала ему пестрый в крапинку свитер своего высланного зятя. На остальных было различное тряпье, собранное по всему дому. Старые вытянувшиеся пиджаки с оторванными пуговицами тоже пошли в ход. Тщедушный Карла дрожал в Бенитином светло-зеленом осеннем пальто, на голову по самые уши была натянута зимняя шапка Каарела.
— Рикс! — крикнул Парабеллум холщовому чучелу.
Когда приятель подошел, Парабеллум поманил рукой и остальных мужчин.
Выудив из кармана кисет с табаком и кусочек бумаги, Парабеллум обратился к Леа Молларт:
— Будьте так добры, сверните мне дамскую самокрутку.
Леа Молларт великолепно справилась с поручением, высыпав на папиросную бумагу табачные крошки и для себя. Рикс, кряхтя и охая, сел рядом с Парабеллумом, оперся рукой о крышу собачьей будки и поджал под себя ноги. Видно, и ему было не совладать с ознобом.
— Я, кажется, еще не успел рассказать вам, как год тому назад присутствовал на похоронах генерал-комиссара Вильгельма Кубе?
Рикс сделал недовольную гримасу и посмотрел в сторону кустов сирени. Мелькнула фигура пастора, который, заложив руки за спину, расхаживал вдоль капустных грядок. Пастор ходил взад-вперед по узкой борозде, внимательно глядя вниз, словно искал капустных гусениц.
Леа Молларт, поймав взгляд своего бывшего мужа, тихо предложила:
— Иди присаживайся.
Стоявшие мужчины перевернули точильный ящик и примостились на нем.
— Так вот, случилось это ровно год назад, в конце сентября. Господина Кубе, генерал-комиссара Белоруссии, убили партизаны. В эстонских лесах тоже жили их братья по крови, но они вели себя большей частью тихо и смирно. Им и в голову не приходило причинять какое-нибудь зло исконному другу эстонского народа. В Белоруссии все было по-иному. Там каждый куст швырял в немцев гранаты, каждая канава косила их пулеметным огнем, а деревья осыпали их бомбами. Даже деревенские бабы, спрятав в подоле передника топоры, рубили немцам головы, как брюкву. Дети из-за угла кидали в них ножами, а младенцы в люльках мочились им в лицо.
А мы взяли сегодня да отпустили двух немцев, там бы им нипочем не уйти живыми.
Пробил час и господина Кубе — его убили. Я как раз находился в Берлине, когда привезли гроб с телом этого выдающегося представителя когорты восточных наместников и установили его для траурной церемонии в мозаичном зале новой Государственной канцелярии. Прах господина Кубе покоился под золотым государственным орлом, руки были сложены на груди крест-накрест. Вокруг в деревянных бочках росла лавровая роща.
Даже Лицман приехал на похороны. Явились и сошки помельче, вроде Геббельса и Розенберга. В зал внесли огромный венок — лично от фюрера — с муаровыми лентами по краям. Двое мужчин сгибались под его тяжестью. Оркестр гремел, играя бетховенскую «Симфонию судьбы». Было такое чувство, будто твои нервы пропускают через мясорубку.
— Так я и поверил, что тебя пустили туда, — презрительно бросил Рикс и сделал движение, чтобы встать.
— Погоди, погоди, — Парабеллум схватил приятеля за рукав. — Самое главное еще впереди, это и тебе будет интересно!
— Ну и фантазия у тебя, — нетерпеливо фыркнул Рикс, однако остался сидеть.
Парабеллум не обиделся.
— И тогда — нет, вы только подумайте! В мозаичный зал Государственной канцелярии, отбивая шаг, вошли представители белорусского народа. Я спрятался за лавровое дерево. Подумал, сейчас ребята начнут палить из пистолетов. Какое там! Все это общество, понурив головы, подошло к гробу, и какой-то бородач начал на ломаном немецком языке толкать речь. Он говорил долго, жалобным голосом и, между прочим, сказал, что белорусы в лице Вильгельма Кубе потеряли своего лучшего друга, неустанно боровшегося за национальный подъем.
— С какой точки зрения это должно меня интересовать? — Рикс, прищурив глаза, посмотрел на Парабеллума.
— С точки зрения двоедушия, — со злой усмешкой ответил Парабеллум.
— Не будь наивным, — бросил Рикс. — Единодушного народа нет.
— Печально, но это так, — кивнула Леа Молларт.
Парабеллум сунул руку в карман и протянул Риксу найденные документы.
Рикс схватил их и, не раскрывая, сунул за пазуху.
— Патриотическая душа, — сказал Парабеллум и, скривив рот, попробовал в последний раз затянуться окурком самокрутки.
— Резиновая башка, — презрительно бросил Рикс. — Резиновая башка, которая так и не увидела скалу Гибралтара, — издевался Рикс.
— Ну, перестаньте же, — пыталась урезонить мужчин Леа Молларт.
Парабеллум кинул окурок и спросил:
— Сколько братьев по крови ты уже пихнул в тюрьму?
— Черт! — распаляясь, крикнул Рикс и постучал себя пальцем по лбу. — Такие безмозглые идиоты; как ты, только и годятся на то, чтобы совать руки и ноги под пули.
Парабеллум вскочил, и не успел еще Рикс сообразить, в чем дело, как получил удар резиновой рукой по голове.
— Уравняем приятелей, — бросил Парабеллум. — Ну что — ум вылетел из твоей башки?
Рикс тоже вскочил на ноги, вытащил из кармана неуклюжего холщового пиджака револьвер и выстрелил.
— На помощь! — закричали женщины.
Резиновая рука Парабеллума упала вниз, она превратилась в клочья.
Рикс кинулся в кусты сирени. Украдкой обернувшись через плечо, он помчался дальше. Пробегая по грядкам с капустой, беглец плечом задел пастора; от толчка спокойно разгуливавший слуга божий упал прямо на кочаны.
Беженцы пригнулись к самой земле. Леа Молларт спрятала лицо на груди своего бывшего мужа, и только один Парабеллум стоял на месте, наблюдая за удаляющимся Риксом.
— Хотел организовать здесь зондербехандлунг, — пробормотал Парабеллум.
Рикс то и дело оборачивался, однако больше не стрелял. То ли целиться было далеко, то ли жаль стало патронов.
Когда Рикс совсем скрылся из виду, Парабеллум снова сел перед амбаром, посмотрел на свою изорванную резиновую руку и попросил:
— Друзья, у кого из вас есть нож? Срежьте-ка эти лохмотья.
Никто не решался поднять головы.
— Вставайте, смелые борцы! — с напускной живостью воскликнул Парабеллум. — Трусость доведет эстонский народ до могилы!
Молларт грустно улыбнулся, осторожно отодвинул от себя свою бывшую жену и пошарил в карманах. Найдя складной нож, он подошел к Парабеллуму и срезал с резины бахрому.
— Такой операции я еще не делал, — заметил ветеринарный врач.
— С этой рукой у меня вообще целая морока, — сказал Молларту Парабеллум. — Ребенком я всадил в указательный палец огромную занозу, месяц он гноился, пока не зажил. Потом еще случай: попался человек с чересчур твердой башкой — бутылка разбилась в руках, и стеклом порезало вены. Полный таз крови натек. Мать плакала, будто меня уже в морг несли. А сейчас повезло, что без руки. Кругом женщины, стали бы кричать при виде крови.
— Ужасно, ужасно, — с закрытыми глазами ахала Леа Молларт.
— Ничего ужасного в этом нет. Вот только где взять новую резиновую руку? — старался успокоить ее Парабеллум.
Но Леа Молларт окончательно потеряла самообладание, она кричала, тряслась и терла щеки своими рыжими волосами.
— Принесите ей холодной воды, — попросил Молларт женщин и похлопал бившегося в истерике искусствоведа по плечу.
39
азбуженная выстрелом Бенита сразу же услышала крик Леа Молларт.
Перед тем как проснуться, она видела сон — семя в пуху, высоко парившее над верхушками начинающих желтеть деревьев. Сейчас, очнувшись, Бенита почувствовала, будто в ее сердце вошел осколок величиной с семя. Когда сжавшееся от испуга сердце вновь заработало, кровь с шумом побежала по жилам. Бенита старалась быть спокойной. Она зажала ладонями уши, чтобы не слышать все еще продолжавшегося крика. Бенита закрыла глаза и расслабилась, ей хотелось хотя бы еще на миг продлить сон и снова увидеть семя в пуху, реющее над верхушками деревьев. Но из этой попытки ничего не вышло. Бенита ощупью блуждала в потемках своей памяти в поисках солнечной равнины.
Лесная опушка, на которую она вышла, была сплошь усеяна рыжиками. Бенита распрягла лошадь, сняла с телеги корзинки, присев на пенек, стала острым ножом срезать грибы под самый корень. Можно было и не вставать с пня, потому что тут же из мха вылезали новые шляпки. Корзины, полные рыжиков, Бенита относила к телеге. Нагнув корзинку над краем телеги, Бенита опоражнивала ее. Телега наполнялась быстро, как при уборке картофеля. Когда грибы начали уже падать с воза, Бенита снова запрягла лошадь и зашагала рядом с телегой к дому. Позади осталась солнечная равнина, розовая от рыжиков.
На дворе было сейчас так же тихо, как в пригрезившемся ей лесу.
Бенита очнулась и, схватившись за жердочки от яслей, вылезла оттуда, как из люльки.
По затоптанному за последние дни двору понуро бродили беженцы. Бенита надеялась, что, выйдя из конюшни, не встретит посторонних. Однако они все еще были здесь.
За последнее время в Рихве было слишком много всего: людей, коров, лошадей и событий. Бенита вдруг почувствовала тревогу — подоено ли племенное стадо, однако это чувство тут же исчезло.
Увидев хозяйку, беженцы расступились. Бенита заметила прижавшуюся к своему мужу Леа Молларт. Она вытирала глаза и массировала ладонью распухшее лицо. Эрвин Молларт, обняв бывшую супругу за плечи, что-то говорил ей тихим голосом, настолько тихим, что слов не было слышно, шевелились только губы.
Леа Молларт сидела съежившись, подобрав под себя ноги, обутые в постолы; подложенные плечи ее клетчатой кофты стояли торчком, словно крылья у птицы. Капризный рот алел, точно рана. Бенита удивилась сама себе — зачем она ждала Эрвина Молларта обратно в Рихву? Искусствовед бросила взгляд на Бениту, тряхнула волосами и выпрямилась.
— Скажи, — обратилась она к своему мужу, — это ты прошлой осенью дал в «Ээсти сына» объявление, что одинокий дипломированный ветврач ищет работу по специальности?
Молларт кивнул.
Леа снова заплакала.
— Почему все так получилось? — между всхлипываниями проговорила она.
— Что поделаешь, — пробормотал Молларт и, виновато улыбаясь, взглянул на стоявших полукругом людей.
И только на Бениту избегал смотреть незадачливый ветеринарный доктор.
Ее снова охватило чувство пустоты. Ей было невмочь оставаться на месте. Казалось недопустимым и безнравственным, что люди таращат глаза на Молларта и его бывшую жену. Нервы у госпожи Молларт сдали, ну, ничего, повоет немного и успокоится. Рядом с ней муж, он утешит и поддержит ее. Не видно, чтобы кого-то убили, очевидно, выстрел почудился Бените, а может быть, лопнуло семя, покрытое пухом, реявшее в небе ее сновидений?
Парабеллуму, как видно, надоели причитания искусствоведа и, воспользовавшись минутой, когда Леа Молларт замолчала, он Начал:
— Когда я под Салерно взял в плен американского парашютиста…
У Бениты не было сил слушать очередную историю Парабеллума. Она побежала в дом. У нее было такое ощущение, будто во время сна кожа ее живота присохла к хребту, неодолимое чувство голода сразу же погнало Бениту в кладовку. Нетерпеливо шаря по полкам, она нашла тарелку с жареной свининой. Усевшись на крышке большого бидона, как на скамейке, и схватив воткнутый между балками нож, она отрезала толстый ломоть хлеба. Жадно жуя, Бенита постепенно освобождалась от отвратительного ощущения пустоты. Отрезав еще один ломоть во всю ширину хлеба, она пальцами выудила из тарелки второй кусок мяса. Глаза ее затуманились, никаких иных ощущений, кроме наслаждения едой, она сейчас не испытывала. Уминая хлеб с мясом, она пыталась представить себя со стороны. Бените не нравились люди, жадно набрасывающиеся на еду, но сейчас собственное обжорство не вызывало у нее чувства отвращения.
Кто-то приоткрыл дверь кладовки. Бенита хотела крикнуть, чтобы ее оставили в покое, но вместо этого улыбнулась. Из дверей на нее глядело бледное мальчишеское лицо, это был Роберт.
Волна нежности тут же затопила Бениту, от этого чувства сладко заныли руки и ноги. Спрыгнув с крышки, она бросилась навстречу сыну. Втянув Роберта в кладовку, Бенита задвинула ржавый и пыльный дверной засов.
— Ты голоден? — спросила она шепотом.
— Да, — смущенно пробормотал он.
— Чего хочешь — мяса, сметаны или хлеба? А может быть, варенья?
— Я хочу мяса, сметаны, хлеба и варенья тоже, — вздохнув, ответил мальчишка.
Бенита постелила на бочку бумагу и понаставила всякой снеди. Подкатив бочонки из-под пива, они с мальчишкой уселись на них, и пиршество началось.
Роберт уписывал вовсю, перепачкав себе щеки сметаной и крошками хлеба. Подбородок его блестел. Постепенно лицо мальчишки порозовело, в глазах появился блеск. Бенита, улыбаясь, смотрела на сына и вдруг почувствовала себя старой, почти что бабушкой. Кивнув Роберту, она сказала, как обычно говорила бабушка:
— Ешь, мое золотко, ешь, тогда скорее вырастешь.
Мальчик посмотрел на мать и послушно сунул столовую ложку, вымазанную в сметане, в банку с вареньем.
После того как Роберт наконец выпустил из рук ложку, Бенита убрала еду на полку и сказала:
— Теперь мы снова полны сил. Ведь правда?
— Правда, — повторил мальчик.
— Работа ждет. Ты мне поможешь? — спросила Бенита.
Мальчишка кивнул.
Они вышли из кладовки. Бенита, велев сыну подождать, тут же, у кухонной вешалки, переоделась. Она сняла с крюка синие, вытянувшиеся в коленях штаны Йоосепа и натянула их на себя. Повесив платье на спинку стула, Бенита надела мужнин свитер с высоким воротом. Он был ей тесен в груди. На голову она повязала серый в горошек ситцевый платок и туго затянула узел, словно ей хотелось, чтобы ее мягкий подбородок стал жестче.
Держа ребенка за руку, хозяйка Рихвы, одетая по-мужски, появилась во дворе. Она прямо подошла к беженцам, слушавшим Парабеллума, и сказала:
— Надо убрать картофель.
Эти решительно сказанные слова заставили людей повиноваться, можно было бы подумать, что картошку уже схватило морозом и виноваты в этом они. Молча, не споря, беженцы последовали за Бенитой. Около кучи хвороста она раздала всем корзинки, взяла лежавшие у стены тяпки, оглядела свое рабочее войско и зашагала по направлению к картофельному полю.
В воротах, поддавшись искушению, Бенита кинула взгляд в сторону амбара. Там сидели Молларты и слушали Парабеллума — прислонившись к собачьей будке, он все еще пережевывал ту же самую историю, которую давеча не успел закончить. Но и Парабеллум медленно поднялся, распрямил спину и потянулся, чтобы взглянуть на картофельное поле.
Каарел уже распахивал борозды.
Бенита сразу начала отдавать распоряжения. Яанусу велела шагать за плугом, отцу приказала запрячь вторую лошадь в телегу, чтобы свозить картофель в кучу.
Беженцы, замешкавшиеся было на краю поля, рассыпались по бороздам с корзинами и тяпками в руках.
Армильда, проходя мимо Бениты, бросила:
— Господи, у нас-то дома картофель не убран.
— А у нас клевер остался на поле, — вздохнул какой-то мужчина позади Бениты.
Бените было сейчас не до чужих забот. Она, как полководец, следила за тем, чтобы полевой фронт равномерно заполнялся сборщиками картофеля. В начале каждой распаханной борозды стоял, склонившись, человек, и хозяйку Рихвы это радовало.
Бенита опустилась на колени. Ее пальцы проворно заработали. Поочередно переставляя ноги, она подвигалась вперед. Собирая лежавшие на поверхности клубни, она ловко втыкала тяпку именно в то место, откуда на сухую землю сыпались светлые картофелины. Потом Бенита разгибалась и обеими руками кидала клубни в корзину. Переставив корзину дальше, она взрыхляла следующее гнездо, откидывая в сторону посеревшие стебли.
К вечеру картофель должен быть свезен в кучу, решила хозяйка Рихвы, и руки ее заработали быстрее. Далеко оставив позади себя остальных сборщиков, Бенита сочла неудобным оглядываться. Она знала, что в полной мере может надеяться только на себя. И в этом была своя радость. Усталости она не чувствовала, досада исчезла, впереди простиралось поле, с которого надо было убрать урожай.
Роберт, перепачканный землей, носился вокруг, хватал клубни и относил их в корзинку. Папаша Каарел, шагая рядом с телегой, свозил картофель в кучу. Соломенная подстилка была уже полна клубней. Бенита быстрым взглядом окинула неубранную часть поля и кучу картофеля. Урожай обещал быть хорошим.
Приподняв голову, она увидела дым, поднимавшийся из трубы дома. Дым от березовых дров на фоне темного облака, плывущего над сенокосом койгиского Арведа, казался удивительно белым. Наверное, Минна начала готовить ужин сборщикам картофеля.
Бенита усердно собирала клубни в корзинку с плетеным дном; каждая картофелина, вылетавшая из ее рук, была как мысль о Иоосепе, которую надо было откинуть прочь.
40
иновав липы, Випси свернула на хутор. Она несла в руке палку, на конце которой развевалось белое полотнище.
— Я сдаюсь! — издали закричала сборщикам картофеля полоумная Випси. — Ружья в роще лаяли, пушки в лесу куковали, — радостно сообщила она.
Люди на картофельном поле разогнули спины, помассировали усталые мышцы и воззрились на старуху, которая размахивала белым флагом у ворот риги.
Бенита оставила корзинку и мотыгу в борозде и, волоча затекшие от ползания на коленях ноги, пошла навстречу Випси.
— Випси, — спросила Бенита, — немцы ушли из богадельни?
— Да, — вздохнула старуха, — теперь никто не варит нам сладкий суп. Лошади убежали на восток, а мужчины ушли на запад. Разладица у них, видно, какая получилась, что не захотели отправиться вместе? Последней удрала Трехдюймовка. Испугалась из-за бракоразводного дела господина Аанисберга, — прошептала Випси и варежкой прикрыла рот. — В узел-то ей нечего было класть, — хихикнула Випси. — А как будешь путешествовать с пустыми руками? Тогда Трехдюймовка стащила на кухне ковш и завязала его в платок. Теперь у нее еще и чужая вещь на совести, — вздохнула Випси и концом палки поковыряла землю — белое полотнище сразу же стало грязным.
Беженцы, жаждавшие новостей, окружили Випси.
— Я уже сдалась! — проскрипела старуха и рывком вытащила конец палки из земли, нимало не смущаясь тем, что грязные комья угодили людям в лицо.
Беженцы чуть-чуть подались назад. Флаг снова развевался над головой Випси, и она успокоилась.
— Когда русские пришли, они всем сказали… — начала рассказывать полоумная.
— Что она говорит? — снова придвигаясь к Випси, нетерпеливо воскликнули беженцы.
— Они сказали, — растягивая слова и важно приподняв уголки губ, продолжала Випси, — что тех, у кого нет белого флага, расстреляют. Каждого второго, ну уж во всяком случае каждого третьего расстреляют. Они послали меня сказать, чтобы приготовили белые флаги.
— Это правда? — выкрикнул кто-то из женщин.
— Как пить дать, — подтвердила Випси. — Как то, что огонь — это огонь, а дерево — это дерево.
— И сразу расстреляют? — спросил кто-то из стоявших позади.
— Сразу. Двор мызы полнехонек мертвецов. Немцы украли у нас весь белый материал, подумать, сколько их там было и сколько понадобится белых флагов! Даже немец хочет жить, — кивнула головой Випси и затолкала привязанное к концу палки белое полотнище за пазуху, будто кто-то хотел его вырвать у нее из рук. — Христиане, ликуйте! — выкрикнула она строфу из псалма, чтобы приукрасить свой рассказ.
— Господи, господи! — тихонько ахнул кто-то.
— Готовьте флаги, — переведя дух, тихо приказала старуха.
— Какой спрос с сумасшедшей, — промолвил один из мужчин за спиной у Бениты.
— Поди знай, — засомневались женщины.
— Кто сумасшедший? — завопила Випси и задрала голову кверху. — Это здесь собрались сумасшедшие, самые что ни на есть! А не я!
— Нет, нет, — успокоила Бенита.
— Сумасшедшие сидят в комнате с резиновыми стенами, — высокомерно хихикнула Випси. — А я свободная малинка.
— Когда малинка, а когда и желудь, — подтвердила Бенита.
— Когда помру, сера достанется тебе, — пообещала Бените благодарная старуха.
— Никуда ты не денешься, у тебя же белый флаг, — ответила хозяйка Рихвы.
— А что — сразу расстреливают? — настойчиво спросил кто-то из беженцев.
— А почему бы и нет? — удивился Парабеллум человеческой наивности и протолкался в круг беженцев. — Войдя в одно казацкое село, немцы выстроили в ряд всех мужчин, женщин и детей. Офицер ходил вдоль ряда и считал: раз-два, раз-два. Все «вторые» должны были сделать шаг вперед. «Первых» отогнали в сторонку. Затем один из немцев присел к пулемету и давай — та-та-та! «Вторые» упали. А почему русские должны поступать иначе? Впрочем, теперь, как победители, они, может быть, сжалятся и сосчитают до трех.
— Зачем зря пугать! — крикнула сильная половина унылой пары.
— Это — суровый закон войны, — насмешливо произнес Парабеллум и поднял высоко вверх остатки своей искромсанной резиновой руки.
— О господи! — воскликнула Випси, увидев культяпку. — Как же ты будешь держать белый флаг?
— Он встанет в ряд смертников за номером два, — мрачно сказал Эрвин Молларт.
— Правильно, — одобрительно бросил Парабеллум. — Если погонят в ряд, калеки встанут под номером два. Естественный отбор. Закон Дарвина.
— Калек не так много, чтобы вызволить здоровых! — выпалила Армильда.
— Если не хватает, давайте сразу же добавим, — предложил Парабеллум и напряг мускулы лица, чтобы сдержать улыбку.
— Я здоровая! — взвизгнула Випси.
Леа Молларт, запрокинув голову, хохотала во все горло.
— Давайте-ка лучше заготовим белые флаги, — серьезно предложил кто-то из женщин.
— Мне не надо, — усмехнулась Бенита. — Я стою с Випси под одним флагом.
— Может, она выступит от имени всех? — выкрикнул чей-то звонкий голос.
— И простыни останутся целы, — сквозь смех добавила Леа Молларт.
Поскольку вопрос жизни и смерти был исчерпан, люди молча разошлись.
Бенита вернулась на картофельное поле, ступила в борозду, подвинула вперед наполненную до половины корзинку и опустилась на колени. Клубни посыпались в корзинку, работа спорилась ничуть не хуже, чем до прихода Випси. Оторвав через какое-то время взгляд от земли, Бенита увидела, что ряды сборщиков картофеля заметно поредели. Как это беженцам удалось так незаметно улизнуть? Зато из риги доносился шум, очевидно, весть, сообщенная Випси, надолго взбудоражила умы и чувства людей.
Теперь Парабеллум и Молларт взялись таскать корзины с картофелем, однако немногочисленные сборщики не могли обеспечить им полной нагрузки. Леа Молларт, которая, согнувшись, двигалась вдоль борозды, то и дело вставала, чтобы распрямить спину. Випси, сдернув с палки белый флаг и повязав его себе на шею, как платок, копошилась в земле, однако клубни редко летели в ее корзинку.
Даже те жены беженцев, которые остались на поле из чувства долга, работали без всякого энтузиазма. Они глазели по сторонам и разговаривали, зачастую забывая шевелить руками.
Випси очень скоро надоело работать на рихваских хозяев. Вскочив, она подбежала к Молларту, который стоял у телеги и курил.
— Ты научился хромать? — быстро спросила Випси ветеринарного врача.
Леа Молларт тоже встала, не закончив полоски, и, массируя спину, подошла к телеге. Бенита увидела, как Молларт протянул ей папиросу.
Тогда Бенита решила позволить себе минутный отдых. Оглядывая поле и подбирая оставшиеся на поле клубни, она отправилась послушать, о чем говорит Випси.
— Ты опять забыл, как ходили Пауль и Паулине? — настойчиво спросила Випси.
Молларт смотрел в сторону.
— Помнишь, что ты должен был говорить? — спросила Випси, смахивая землю с подола юбки. Отряхнув также пеструю варежку и поправив на голове скрученный из шали тюрбан, она стала не отрываясь смотреть на Молларта.
— Поиграем, если хочешь, — беспечно ответил Молларт.
— Иди сюда, — скомандовала Випси.
Увидев, как Эрвин Молларт берет под руку Випси, Леа удивленно пожала плечами.
— Не все ли равно, где и с кем человек проводит время? — насмешливо бросил Молларт своей бывшей жене.
Леа сдернула с головы платок и пригладила волосы.
— Сожалею о сделке, — сказал Молларт, делая шаг больной ногой.
— Что сделано — то сделано, — включаясь в игру, скороговоркой произнесла Випси, припала на ногу и, покачиваясь, пошла рядом с Моллартом.
— Сожалею о сделке, — вздохнув, повторил ветеринарный врач.
Леа Молларт с убийственной серьезностью наблюдала за происходящим.
— Что сделано, — прощебетала Випси, хихикнув, — то сделано! — закончила она торжествующе.
Бенита ждала, что Молларт, говоря «сожалею о сделке», многозначительно посмотрит на свою жену. Но он не сделал этого. Бениту огорчила и удивила его порядочность. Ее почему-то глубоко задело, что Молларт даже косвенным намеком не хотел оскорбить свою бывшую супругу.
Бенита приготовилась сказать что-то резкое, чтобы освободиться от тяжелого осадка на душе. Но ее внимание отвлек зеленый газик, сворачивающий из-за лип на заросшую рихваскую дорогу.
Машина, замедляя ход и подпрыгивая, подъехала к строениям и, дернувшись, остановилась перед воротами риги.
Випси тут же оставила Молларта. Она где-то позабыла свою палку и поэтому торопилась привязать белое полотнище к мотыге, которую подобрала в начале борозды.
Леа Молларт, увидев военных, прильнула к своему бывшему мужу. «Только бы она не стала хохотать», — с испугом и злобой подумала Бенита. Хозяйка Рихвы успела также заметить, что приближающиеся к риге Молларты покачивались в такт из стороны в сторону, словно жена тоже была хромой.
«Сожалею о сделке, сожалею о сделке», — стучало в голове у Бениты.
Хозяйка Рихвы словно сразу отяжелела, с каждым шагом ее ноги все глубже увязали в земле. Расстояние от телеги к сараю казалось нескончаемым.
— Не стреляйте, у меня белый флаг! — еще издали крикнула Випси и помахала привязанным к мотыге полотнищем. Путаясь в юбке, старуха засеменила к газику, ей во что бы то ни стало надо было успеть подойти первой, потому что на ее плечах лежал тяжкий груз спасительницы своего народа.
Офицер, сидевший рядом с шофером, вышел из машины и спросил у запыхавшейся Випси на чистом эстонском языке:
— Милая мамаша, с чего вы взяли, что мы будем стрелять в вас?
Заметив Моллартов, военный обратился к ним:
— Мы думали, здесь штаб.
— Нет, — неестественно звонким голосом ответила Леа Молларт.
— Кто знает здешние окрестности? — спросил офицер и вытащил планшет.
Бенита робко подошла поближе.
Офицер показал на здание мызы, где находился дом для престарелых, и спросил:
— Какое расстояние до него?
— Три километра, — пересохшими от волнения губами ответила Бенита.
Повернувшись к своим спутникам, оставшимся в машине, офицер-эстонец повторил ответ Бениты по-русски.
— Я сам из-под Вильянди, эти края мне не знакомы, — извинился военный перед Випси и смущенно улыбнулся.
Из риги доносился взволнованный шепот. Внезапно ворота распахнулись и оттуда посыпали беженцы.
Офицер-эстонец удивленно уставился на них.
На то была причина: выходившие из риги люди держали в руках белые тряпки.
Сидевшие в машине русские, словно по команде, сдвинули на лоб шапки и почесали затылки.
Офицер-эстонец пожал плечами и постарался спрятать улыбку в уголках рта.
— Кто эти люди? — спросил он Бениту.
— Военные беженцы и «лесные братья», — виновато ответила Бенита.
— Что за комедию они ломают? — спросил офицер.
— Не стреляйте, у нас белые флаги, — громким голосом повторила Випси.
Офицер рассмеялся. Одна половина его лица сморщилась, а вторая, которую наискось перерезал шрам, осталась неподвижной.
Когда приступ веселого смеха у него прошел, офицер попросил:
— Дайте нам попить, и мы двинемся дальше.
Леа Молларт первой сбросила с себя оцепенение и помчалась прямиком к колодцу.
Заморыш Карла спрятал свой флаг за спину. Облизнув от смущения губы, он набрался смелости, вышел из толпы, и, запинаясь, спросил:
— Что должны делать «лесные братья», то есть партизаны?
Беженцы с испуганными лицами выслушали наглый вопрос заморыша Карлы и теперь ждали, что ответит офицер.
— Отправляйтесь в Таллинн. Там будет парад победителей, — посоветовал офицер. Ему снова пришлось сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться.
— Ах вот что, — кивнул заморыш Карла и задумался.
Прибежала запыхавшаяся Леа Молларт и, откинув назад прилипшие ко лбу волосы, протянула офицеру-эстонцу продолговатый молочный бидон, взятый из корыта, куда он был поставлен охлаждаться.
Офицер с благодарностью принял его, поднес ко рту и стал пить.
— Прекрасное холодное молоко, — похвалил он. — Парное никак не лезет в горло, а холодное могу пить и днем и ночью.
Он протянул бидон в машину, предлагая русским попить молока.
— Надо бы принести кружки! — воскликнула одна из женщин. Но спутники офицера были согласны пить прямо из большого бидона. Вытерев губы, один из них что-то сказал по-русски.
— Большое спасибо, — перевел офицер-эстонец, возвращая бидон Леа Молларт. Сев рядом с шофером, он поднес руку к козырьку и кивнул людям, стоявшим перед ригой.
— Мы можем возвращаться домой? — выпалил кто-то из задних рядов.
— Ну разумеется, — улыбнулся офицер.
Шофер включил мотор. До лип газик ехал задом. Машина шла быстро, словно к кардану была привязана натянутая резинка. Выехав на дорогу, газик, поднимая пыль, описал круг и помчался к дому для престарелых. Проехав мостик, машина исчезла за ольшаником.
Парабеллум задумчиво почесал подбородок.
— Теперь мне ясно, — сказал он, — гибралтарские скалы я так и не увижу.
— Как сон, — вздохнула Леа Молларт, неизвестно, по поводу ли скал или побывавшего здесь газика.
— Немцы драпают, как русские в сорок первом, — насмешливо сказал Яанус.
— Линия фронта пожирает километры, — со знанием дела заметил солдатик.
— Интересно, скоро ли русские объявят мобилизацию? — озабоченно спросил заморыш Карла.
— Будь уверен, — ответил Парабеллум. — Партизаны, как по команде, войдут в состав освободительных войск. Мчись сегодня вечером в штаб и записывайся.
Заморыш Карла сплюнул.
— Мое имя выгравировано на кладбищенском кресте.
— Нашли дураков, — возмутился солдатик.
— У нас дома картофель не убран, — вздохнула кулливайнуская Меэта. — Как бы не было заморозков.
— Да, мы уже глаза намозолили рихваским хозяевам, — кивнула головой слабая половина унылой пары.
— Не знаю, как там в Тарту, может, камня на камне не осталось? — встревоженно заметила Леа Молларт.
— Кровь не просочилась в землю! — взвизгнула Випси, пощупала свои руки и с победоносным видом огляделась вокруг.
— Погоди, погоди, рано еще выкидывать белый флаг, — уговаривал ее Парабеллум.
— Совсем сдурели, порвали материю, — рассердилась Армильда. — У меня две простыни пошли на тряпки.
— Дешево отделались, — засмеялся кто-то.
— Еще неизвестно, что нас ждет впереди, — заметил другой. — До моря-то не дошли.
— Зато золото уцелело, — утешая и себя и остальных, промолвил Парабеллум.
Бениту утомили болтовня и злорадные замечания беженцев. Повернувшись на пятках, она снова пошла в поле и там с остервенением стала перекапывать землю. Из ее рук, описывая большую дугу, в корзинку, стоявшую чуть поодаль, полетели клубни.
На этот раз никто не последовал за ней. Жизнь рихваского хутора никого из посторонних уже не интересовала. На поле остались только Каарел и Бенита. Каарел, понукая понурую лошадь, принялся распахивать следующую полоску, а Бенита, ползая на коленях по борозде, пригоршнями кидала в корзинку картофельные клубни.
Беженцы и «лесные братья», военные дезертиры и просто бродяги стояли в кругу возле риги. Они без конца что-то выясняли, время от времени их разговор прерывался взвизгиваниями Випси и громким смехом детей.
Маленький хозяин Рихвы, Роберт, наискосок шагал по полю. Он подошел к матери, грязными руками вытер щеки и сказал:
— Мама, пошли домой. Отец там совсем один.
Бенита оперлась рукой о дужку корзинки, взглянула на сына, на перепачканный землей картофель, до половины наполнивший корзину, и задумалась.
Она все еще стояла на коленях, съежившись, ноги ее от влажной земли совсем одеревенели. Снова взглянув на поджидающего ее Роберта, Бенита подумала, что она так и не сможет больше подняться с земли.
41
же светало, когда короткая церемония похорон была закончена. Каарел собрал лопаты, которые он с вечера прихватил с собой, отправляясь на кладбище. Рассчитывая найти в поселке помощь, Каарел стучался в двери знакомых. Но двери не открылись. Так старик и копал всю ночь в одиночестве, повесив на дерево штормовой фонарь, но все же успел вовремя приготовить место последнего упокоения для Иоосепа.
Господин пастор пожелал похоронить Иоосепа рано утром. Когда Бенита зашла вечером в баню посоветоваться с ним, пастор высказал сомнение, возможно ли в нынешние смутные времена перевезти прах Иоосепа на поселковое кладбище, как-никак десять километров. Духовный пастырь предложил похоронить хозяина на здешнем сенокосе под березами. Бенита яростно спорила, она требовала для Иоосепа освященной земли и надгробного слова, чтобы все было как подобает.
В конце концов ей все-таки удалось уговорить пастора.
После того, как беженцы оставили Бениту на картофельном поле одну, она больше ни словом не обмолвилась с ними. Она перестала надеяться на их помощь. У съехавшихся в Рихву людей вдруг оказалось столько своих дел, что они даже и носа не высовывали из риги. Сквозь бревенчатые стены доносился непрерывный гул голосов. Он продолжался и вечером, когда папаша Каарел прогромыхал в телеге мимо риги, направляясь в поселок. Продолжался и когда Бенита возвращалась из деревни. Она ездила верхом в Сылме, завернула в Лаурисоо, собираясь разыскать и Эльмара, но ограничилась ближайшими соседями, решив, что все вместе они справятся с предстоящим делом.
Таким образом, рано утром, еще в полной темноте, односельчане собрались в горнице рихваского хутора. Сылмеская Элла приехала вместе с отцом, лаурисооская Линда вместе со своим Кустасом. Господин пастор тоже явился вовремя — в таларе, с псалтырем в руках. Прочитав небольшой отрывок из священного писания и затем пропев псалом, пастор дал знак выносить гроб. Всхлипывающая Элла положила на грудь Иоосепу влажные от росы астры, и лаурисооский Кустас забил гвоздями крышку гроба хозяина Рихвы.
Бенита еще с вечера запрягла в телегу жилистого рихваского мерина, этого бывшего скакуна, и покрыла дно телеги зелеными еловыми ветками, срезанными с живой изгороди. Рихваский бывший скакун от нечего делать полночи жевал овес из торбы. Когда гроб выносили из дому, мерин зафыркал, готовый тронуться в путь. Бенита еще не успела взять вожжи, как заметила у ворот пасторшу с детьми.
Спрятав талар в чемодан, пастор подошел к Бените и попросил позволения кинуть в телегу пожитки его семьи.
Итак, похоронная процессия начала медленно двигаться мимо кучи торфа под навесом, мимо погруженной в ночную тишину риги. Когда, миновав липы, она свернула на дорогу, лошадь зацепилась гривой за ветку, и Бените пришлось какое-то время вести ее под уздцы, чтобы она не понесла.
Двигаясь в темноте, Бенита скорее угадывала, чем видела тех, кто пришел проводить ее мужа в последний путь. По другую сторону телеги шагала пасторша, бережно поддерживая рукой спящего на узлах младенца. Сразу же за телегой шли сылмеская Элла и лаурисооская Линда, а между ними, всхлипывая, Минна. Затем следовали мужчины и пастор со своей старшей дочерью, оба держались за оглоблю своей маленькой тележки, волоча ее за собой. В тележке дремал сын хозяев Рихвы Роберт, так как Бенита решила, что ребенок должен присутствовать на похоронах своего отца.
Мужчины нарочно чуть-чуть отстали, чтобы беспрепятственно поговорить и выкурить трубку. Время от времени до Бениты доносился сладковатый дух табака; и долго еще над дорогой, окутанной влажной дымкой, стоял запах самосада.
Когда телега въехала в железные кладбищенские ворота, лаурисооский Кустас исчез. Бенита не могла понять — сам ли Кустас боялся показываться в поселке или Линда услала мужа обратно.
Но, несмотря на это, провожающих оказалось достаточно, чтобы снять гроб с телеги и донести до могилы. Правда, мужчин было маловато, отец Каарел да сылмеский старик, однако и женщины подставили плечи, оттолкнув Бениту, когда она захотела помочь нести гроб.
Пастор тут же, у края могилы, натянул на пиджак талар, торопливо прочитал молитву, сказал несколько утешительных слов близким покойника, но петь псалом на этот раз не стал. Его жена тихонько завернула лошадь, чтобы тем временем отвезти домой пожитки и детей. Пасторша справилась с этим на редкость быстро, и, когда песок застучал по гробу Иоосепа, Бенита краем глаза увидела, что рихваский мерин понуро стоит у стены церкви со сгоревшей башней.
Только Минна, Бенита и Роберт, который всю дорогу спал в маленькой тележке пастора, укрытый шубой, стояли без дела на краю могилы. Остальные провожающие, и даже пастор, снявший с себя талар, сменяя друг друга, закидывали яму землей. Четыре лопаты все время были в движении.
Когда гроб еще стоял на досках над могилой, Бениту на какой-то миг охватило смятение. Она не предусмотрела, что понадобятся веревки, и теперь боялась, что гроб с телом Иоосепа придется сбросить в могилу. С чувством огромной благодарности Бенита увидела, как отец вытащил из-за куста запасные вожжи.
Провожающие начали разравнивать могильный холмик. То ли деловая обстановка, царившая ранним утром на кладбище, высушила слезы, то ли внимание людей отвлекали падающие с веток за шиворот капли росы — во всяком случае, никто не плакал. Старая хозяйка Рихвы украдкой кинула взгляд на молодую вдову и словно прочла в ее глазах подтверждение тому, что в смутные и трудные времена не годится выставлять напоказ свои чувства.
В официальные книги смерть Иоосепа занесена не была.
Советуясь накануне вечером с пастором, Бенита высказала свое беспокойство относительно этой стороны дела, но пастор полагал, что правильнее оформить бумаги задним числом, и обещал быть свидетелем. Он посоветовал Бените сказать властям, что случайная пуля оборвала жизнь ее мужа. Духовный пастырь считал, что таким образом рихваская семья оградит себя от лишних хлопот. К тому же, заметил пастор, во время войны, когда каждый день гибнут тысячи людей, искать убийцу не станут.
Поначалу совет пастора показался Бените странным. Но, подумав, она отдала должное его житейской мудрости. После полуночи Бенита на часок прилегла, и в полудреме ей стало казаться, что пуля, настигшая Иоосепа, действительно была послана из какого-то фронтового окопа и нашла свою жертву за десятки километров оттуда.
Холмик был готов. Каарел выровнял края лопатой, и сылмеская Элла принесла из телеги еловые ветки. Пасторша робко шла по боковой дорожке, неся в руках желтые георгины. Элла покрыла холмик зелеными ветками, пасторша положила цветы в изголовье могилы; наступил момент, когда нечего было больше делать, и люди стали вопросительно поглядывать друг на друга.
Бенита принялась рассматривать цветы на ковре из еловых веток, они сверкали, как желтое одеяло цыганки на зеленом рихваском лугу.
Каарел снял с дерева кепку и отряхнул с нее капли росы. Это как бы послужило сигналом. Сылмеский старик сгреб в охапку лопаты. Элла смотала вожжи, лаурисооская Линда погасила все еще горевший фонарь.
Минна и Бенита, державшая за руку ребенка, последними покинули холмик.
Пасторша подошла к Бените, пожала ей руку и сказала:
— Я могу вам посоветовать псалом для надгробья.
— Да, — пробормотала Бенита.
— Ты создал чувства мир не для того, чтоб хлад могилы скрыл его, — торжественно произнесла пасторша.
Бенита кивнула. Поверх плеча пасторши она видела, как Каарел сложил лопаты в другую телегу, а затем стал рыться в сене. Найдя пакет, он протянул его господину пастору, который задумчиво стоял в стороне с чемоданом в руках и смотрел на сгоревшую колокольню, над которой летало воронье.
Бенита увидела, как святой отец протестующе поднял руку, но в конце концов сдался и взял то, что Каарел ему совал в руки.
— Чтоб все было как у людей, — услышала Бенита голос отца, — чтоб счеты были ясны как на небе, так и на земле.
Пастор в смущении сунул узел с провизией в чемодан и подошел пожать руки Минне и Бените.
— Господь да поможет вам, — сказал он одетым в траур женщинам.
— Помоги бог и вам, — ответила Минна и уголком платка вытерла глаза.
Теперь нельзя было больше мешкать. Провожающие уселись в телегу. Папаша Каарел, стоя возле второй телеги, держал наготове вожжи, ожидая, чтобы Бенита подошла и взяла их в руки.
42
енита остановила лошадь на рихваском перекрестке, решив, что сылмеские хозяева сойдут здесь.
Минна, которая сидела рядом с Бенитой, держа на коленях Роберта, прошептала невестке:
— Не думаешь же ты отпускать людей, не справив поминок? Что народ-то подумает?
Бенита промолчала и в знак согласия пошевелила вожжами.
Лошадь свернула от лип к хутору.
Лаурисооская Линда тоже осталась сидеть в телеге Каарела. Она не торопилась домой, потому что по дороге к ним присоединился и Кустас. Он сидел сейчас в телеге и болтал ногами, свесив их через заднюю грядку.
Минуя ригу, Бенита еще раз остановила лошадь. Невообразимый гвалт, доносившийся оттуда, свидетельствовал о том, что беженцы еще не покинули Рихву. Почему они так расшумелись в этот утренний час? Бенита ждала, что услышит брань, однако она ошиблась. Женский щебет и взволнованные голоса мужчин сливались в один гул, слов было не разобрать. Никто из беженцев не заметил, что лошадь остановилась у ворот риги. Занятые своими делами, они не нашли времени выглянуть во двор.
Поскольку никто не вышел объяснить рихваским хозяевам причину такого шума, Бенита снова дернула вожжи и через ворота, оставленные на ночь открытыми, подъехала прямо к крыльцу дома.
По пустому двору бродил Эльмар, голова его была перевязана, глаз распух, рука подвешена на брючном ремне, перекинутом через шею. Глядя в сторону, «лесной брат» пробормотал слезающей с телеги Бените слова сочувствия.
Каарел остался распрягать лошадей, а Бенита повела всех в дом.
Минна, повесив платок с бахромой на вешалку, сразу же принялась растапливать плиту.
Бените тоже пришлось развить бурную деятельность, чтобы люди, проводившие Иоосепа в последний путь, не уселись за пустой стол. Вручив ключ от амбара Элле и сказав, в какой из бочек лежит мясо недавно заколотого барана, она велела принести оттуда куски получше и поставить вариться. Крикнув на подмогу Кустаса, хозяйка Рихвы отправилась приводить в порядок горницу.
Козлы, на которых стоял гроб с телом Иоосепа, Кустас выставил за окно. Отодвинутый в угол стол снова поставили посреди комнаты и раздвинули. Распорядившись собрать со всего дома стулья, Бенита отыскала в шкафу чистую скатерть. Расстелив ее и разгладив рукой складки от утюга, она со страхом подумала о долгих часах, которые придется отсидеть за столом. Ей показалось вдруг, что половина ее жизни в Рихве прошла за праздничным столом и кружкой самогона. Свадьбу с Иоосепом справляли три дня. Вскоре после этого были крестины. Правда, в тот раз обошлись двумя днями. А для поминок достаточно одного дня?
Этот самый Кустас, который сейчас носил стулья и расставлял их вокруг стола, на свадьбе Бениты и Иоосепа спьяну запихал в карман булочки со взбитыми сливками. Само собой разумеется, что пьяный в стельку Кустас завалился спать, не сняв пиджака. Свернувшись клубком на старом тулупе под вешалкой, он раздавил булочки и вымазал сливками себя и свой парадный костюм. Его жена Линда, которая утром бегала домой подоить коров, а затем снова вернулась на празднество, отвела своего муженька к колодцу и, приводя его там в порядок, приговаривала:
— Когда Кустас выпьет, он таким жалостливым становится. Непременно должен принести матери что-нибудь вкусненькое. Вот он в гостях и засовывает в карман всякие лакомства, а потом сам забывает. Когда в Сылме справляли конфирмацию, Кустас спрятал за пазуху миску с холодцом.
Бенита перестала разглаживать скатерть и внимательно посмотрела на сгорбленного Кустаса, который так трогательно любил свою мать.
Шаркая ногами, лаурисооская Линда внесла в комнату полную охапку бутылок и тут же расставила их посреди стола в ряд.
— Ночью припрятала под елками, — пояснила она Бените.
Бенита попросила Линду остаться накрыть стол — ей хотелось ненадолго отлучиться.
Хозяйке не терпелось узнать, что делается в риге. Беженцы все еще были чем-то заняты там, на двор никто из них не выходил. Даже дети не высовывали носа из риги — что они могли там делать?
Бенита незаметно проскользнула в чуть приоткрытые ворота и прижалась к стенке.
В сарае шла купля-продажа.
Когда Бенита стала что-то различать в этой сутолоке, ей в первую очередь бросилась в глаза сильная половина унылой пары.
Мужчина, стоя в своей телеге, держал в руках безмен, на конце которого висел холщовый мешок, и, нагнув голову, смотрел, сколько фунтов он весит. Жена, положив для пущей верности руку на брезент, закрывавший воз, вытянув шею, ждала, что скажет ее супруг.
— Двенадцать! — объявил он.
— Смотри, чтоб без жульничества! — предупредил покупатель соли. Получив мешок, он взвесил его в руке. И только после этого протянул унылому мужчине кусок сала. Тот повесил его на крюк и снова взглянул на безмен.
— Детские калоши, тридцатый размер! — крикнула Армильда. — Меняю на размер больше.
Наверху, на сене, рядом со своей бывшей женой сидел Молларт. Леа подняла ногу и крикнула сквозь смех:
— Меняю лапти на вечерние туфли!
— Кому немецкие марки! — хрипло выкрикнул солдатик и помахал пачкой бумажек.
— Выписываю пропуска! — воскликнул Парабеллум и показал всем пустые бланки аусвайсов. — Кто хочет стать героем войны? Железные кресты — на табак!
Несколько мужчин подошли к Парабеллуму взглянуть на знаки отличия. Закатав рукав, Парабеллум показал резиновую руку, до запястья увешанную железными крестами.
— Ну и добра, — вздохнул один из мужчин и крикнул через плечо — Мамочка, поищи-ка табак!
— Русские прищелкнут тебя, если сцапают, — проворчала жена и, подгоняемая любопытством, подошла к ним поближе.
— Эге! — ответил ей муж с видом сведущего человека. — Времена меняются, когда-нибудь эти штучки еще будут в почете.
— Настоящая шведская сталь! — воскликнул унылый мужчина. — Рабочие инструменты, болты и гайки, ломы, пружины, клещи, стамески и зубила, деловое железо!
— Подметки — на чернобурку! — раздался в дальнем углу звонкий голос.
— Финский нож с желобком для стока крови, — крикнули из другого конца.
— Бритвенные ножи для головорезов, — последовало в ответ.
— Белый шелк для невесты!
— Фату можно позаимствовать у паука, — бросила сверху Леа Молларт.
— Детские калоши, размер тридцатый! — не теряла надежды Армильда.
— Диванные пружины, алюминий для самолетов! — в один голос выкрикнула унылая пара.
— Пудреница и пилки для ногтей, — захлебываясь от смеха, воскликнула Леа Молларт. — Меняю на виноград.
— Два оцинкованных ведра на поросенка! Кто хочет отделаться от поросенка?
— Сетки для газовой лампы! Настоящая немецкая продукция! Пару — за бутылку самогона!
«Женщина по дешевке», — хотелось крикнуть Бените.
За сколько?
Какова цена человека?
Сколько стоят руки, ноги, тело и голова?
Когда-то безменом для нее был рихваский хутор.
«Женщина по дешевке», — мучительно хотелось крикнуть Бените.
— Сетки для газовой лампы! — раздалось снова.
— Подметки — на чернобурку!
— Оцинкованное ведро на голову теленка! — послышалось Бените.
У нее было такое чувство, будто ей самой надели на голову оцинкованное ведро и кто-то безостановочно колотит по нему.
— Свинья в калошах!
— Железный крест и костыль! Рыцарский крест, резиновая рука, дубовый венок! Господу душу!
— Клещи!
— Свиной пузырь!
— Пружины!
— Калоши!
— Игральные карты!
— Дьявольский котел!
— Полпуда птичьего щебета!
— Кожа ежа! — крикнула Армильда. — В телеге кожа ежа!
Больше Бенита ничего не слышала. Она изо всех сил зажала ладонями уши, и теперь вместо голосов раздавался сплошной гул. Шею было не повернуть, все тело гудело, словно телеграфный столб во время первых холодов.
Однако глаза у Бениты были открыты.
Люди залезали в телеги и тут же спрыгивали с них, как будто пол риги пружинил и подбрасывал их вверх. Время от времени беженцы почему-то карабкались на самый верх сложенного сена и съезжали оттуда вниз, таща за собой клоки сена. Кто-то кинул в воздух надутый свиной пузырь. Когда он начал падать, чьи-то проворные руки протянулись, чтобы снова подкинуть воздушный шар.
Кто-то вынул он холщового мешка горсть гороха и швырнул в голову своему соотечественнику. У обоих широко раскрылись и задвигались рты. У одного стало подергиваться веко, а второй высунул изо рта язык.
Женщина в красном клетчатом платье опустилась в телеге на колени, глубоко надвинула на глаза платок и сложила руки, как для молитвы.
Где-то сзади отпрыск кулливайнуской Меэты колотил ногами о стенку сарая. Слабая половина унылой пары прижимала к груди кусок подметки в виде сердца. Один из парней зачем-то соорудил себе шапку из газеты и надел на голову — сквозь плотный ряд строчек просвечивала большая фотография — пушки с направленными в небо стволами.
Леа Молларт сбросила коровий колокольчик на пеньковой веревке. «Резиновая рука» быстро повесил его себе на шею, затем залез в рессорную коляску Рикса и начал подпрыгивать на сиденье.
Дети подняли оглобли телеги, а затем дали им упасть.
Унылый мужчина крутил над головой кнутом.
Его жена, подобно водяной луже, расползлась по брезенту.
Бените ужасно захотелось тряпкой подобрать ее.
Армильда встала на ось колеса и опрокинулась в телегу.
«Сейчас, — подумала Бенита, — из-под ее юбки, точно из печки пекаря, посыплются буханки хлеба и булки».
Яанус вынул из кармана куриное яйцо и со злостью шмякнул его о пол сарая.
Внезапно Бенита перестала различать кого-либо, кроме Эрвина Молларта.
Он сидел наверху, на сене, и в упор смотрел на хозяйку Рихвы.
Бенита не сводила глаз с Молларта.
Леа Молларт, сидевшая рядом со своим бывшим мужем, не обратила на это внимания. Она хохотала и время от времени поднимала то одну, то другую ногу, обутые в постолы.
Молларт и Бенита с неподвижными лицами смотрели друг на друга. Бенита уронила усталые руки, она по-прежнему не слышала вокруг себя голосов. Она видела только Молларта.
Молларт шевелил губами.
Бенита напряглась, но произнесенные им слова не достигли ее слуха.
Молларт снова, очень медленно, пошевелил губами.
Бенита не услышала его.
Ей хотелось подойти к Молларту. Но она понимала, что это невозможно. Она бы расшиблась о препятствия. Рига была набита всяким хламом и телегами. Впереди возвышалось что-то вроде остроконечного забора, влезть на который не было сил. Даже если и заберешься наверх, то острия досок, пройдя сквозь кожу, разорвут внутренности.
Молларт приложил одну руку к вывязанной звездочке на свитере, а другой оттянул высокий ворот, стягивавший шею.
Бенита машинально повторила это движение. Она расстегнула верхнюю пуговицу на платье, потому что и ей воротник начал давить шею.
Затем кто-то схватил Бениту за руку и потянул из риги. Бените было все равно, кто ее тащит. Она шла пятясь и смотрела на Молларта, на глазах от напряжения выступили слезы. Солнечный свет разрубил нить взгляда, и Молларта поглотили сумерки.
Теперь Бенита снова стала различать голоса, доносившиеся из риги. Чудилось, будто там гудит молотилка, шумит веялка и трещит льномялка. Стены дрожали, крыша, казалось, подпрыгивала, словно шапка на голове всадника.
Сылмеская Элла трясла Бениту за руку.
— Ты как невменяемая! — рассердилась она. — Я в который раз говорю тебе — все готово, люди ждут. Не можем же мы оставить Иоосепа без поминок.
43
оосеп, память о тебе не поглотит земля, — сказал Эльмар и, стоя, осушил стакан самогона.
Приступая к еде, Эльмар вынул из петли больную руку и торопливо подул на пальцы, словно они были обожжены. Схватив торчавшее из миски ребрышко, он выудил себе на тарелку большой кусок баранины.
— Госпожа пасторша хорошо сказала, — промолвила сылмеская Элла. — «Ты создал чувства мир не для того, чтоб хлад могилы скрыл его».
Каарел прищурил один глаз, тот самый, на который он всегда жаловался. Минна и лаурисооская Линда всхлипнули.
Бенита силилась понять, почему она села так, чтобы в поле ее зрения было лимонное дерево.
— Ведь вот койгискому Арведу не сообщили, — разволновалась старая хозяйка Рихвы. — Он как власть и… — Минна не сумела сказать, кем она еще считает койгиского Арведа.
— Я полагаю, он дал стрекача, — заметил хозяин Сылме. — Прошлым летом купил лодочный мотор. Сам видел. На нашем ручье ему нечего было делать с этой штуковиной.
— Сам жил и другим давал жить, — вздохнул Эльмар и налил полные стаканы.
— Иоосеп тоже, — пробормотал Кустас, со своей стороны стремясь помянуть покойника добрым словом. — Сам жил и другим давал жить. Настоящий эстонец.
— Он-то уж никак не хотел служить немцам, — объявил Эльмар и хлопнул ладонью по краю стола. — Стойкий парень, от русских — в лес и от немцев — в лес. Сейчас он бы снова подался в лес. Заморыш Карла сказал, что красный офицер велел ехать в Таллинн на парад.
Элла, презрительно покачав головой, прервала смех Эльмара.
— Я не верю, — усомнился Кустас, — что Арвед подался в Швецию. Куда уйдешь от своей молотилки и от «форд-зона»?
— Мешки с искусственным удобрением стоят навалом, хутор в полном порядке, к тому же племенное стадо, четыре лошади, не говоря уже о прочей скотине, — вздохнул хозяин Сылме, пересчитывая богатства койгиского Арведа.
— Он уже однажды возвращался из России, в ножках стульев полным-полно золота. В двадцать втором году, что ли, — сообщил Каарел. — Больше он в Россию не захотел. Ругал наши тощие поля — это правда, однако свой хутор сумел сделать зажиточным.
— Башковитый, — заметил хозяин Сылме.
Бенита не понимала, почему они заговорили о койгиском Арведе. Не хватало еще, чтобы они начали, бог знает в который раз, вспоминать, как некогда пахали койгиские поля.
Эльмар, по-видимому прочитав Бенитины мысли, сделал вид, что вспомнил нечто исключительно интересное:
— Вы помните койгиского Юри молодым, когда он еще жил в баньке, что за народным домом?
Увидев, что сидящие за столом кивают, Эльмар с непритворным оживлением продолжал:
— Да, Юри был батрак что надо. Любой хозяин готов был его нанять. Но Юри заламывал большую цену, не каждому голоштаннику это оказывалось по карману. Как-то койгиский Арвед сам поехал договариваться с Юри. Платить согласился столько, сколько запросил Юри, но предупредил, что на койгиском хуторе свои порядки. До тех пор пока пара коней тянет плуг, батрак не смеет прервать работу. Что ж, Юри всегда оказывался выносливее лошади, бояться ему было нечего, и мужчины ударили по рукам.
— И дальше? — с притворным интересом спросила Элла.
— Явился Юри в Койги, и на следующий день велено ему было пахать пар. Сам Арвед залез на крышу погреба, постелил под себя овечью шкуру и начал глядеть в бинокль, как подвигается работа у нового батрака. Терпения Арведу было не занимать. Солнышко его не разморило, он не задремал. Смотрел себе на батрака и на лошадей, пока не наступил подходящий момент. Как только Арвед увидел в бинокль, что силы у лошадей кончаются, тотчас же вывел из конюшни свежую пару. Привел их на край поля и стал ждать, пока батрак кончит распахивать борозду. Старых распряг, новых запряг. Юри не успел даже папиросу закурить.
— Поди знай, уйдет ли Юри из Койги, станет ли налаживать жизнь в своем сарае? — поинтересовалась Линда.
— А чего же, распихает детей по нарам, сложит во дворе перед дверью очаг и повесит на нем котел, — произнес хозяин Сылме.
— Будет есть суп с еловыми иглами, — добавила Элла.
Гости охотно посмеялись бы над историей Арведа и Юри, но на поминках надо было вести себя как подобает.
Бенита все еще не понимала, почему ее взгляд все время притягивало лимонное дерево. Внезапно она сообразила, что отсюда ей видны ворота риги. Как раз сейчас перед ригой стояла покрытая брезентом телега, в которую унылый мужчина запрягал лошадь. Его жена ходила вокруг телеги, протягивая веревку через грядки, чтобы ничего не растерять в пути.
«Уезжают, — с облегчением подумала Бенита. — Те, кто на лошадях, уезжают», — объяснила она себе предполагаемый порядок отъезда беженцев. У нее тут же возникло желание побежать к реке и приглядеть за убежавшими из лазарета лошадьми, чтобы никто не украл их. Ей хотелось побродить по лугу и постеречь чужих лошадей, как самое дорогое имущество.
Чтобы заставить себя остаться с гостями, Бенита принялась снова разглядывать лимонное дерево. Зеленый цвет успокаивал ее. Все, что находилось за окном, было окутано дымкой.
— Окажись я поблизости, я бы пристукнул убийцу Иоосепа, — пригрозил Эльмар и сжал левую руку в кулак. Вспухшие пальцы другой руки не сгибались.
Бенита снова взглянула на двор. Теперь одна за другой покидали хутор семьи, которые прибыли позже и с которыми Бенита, собственно говоря, так и не успела познакомиться.
Вспомнив на какой-то миг о печальной судьбе Иоосепа, гости снова со спокойной душой заговорили о койгиском Арведе.
— У Арведа тоже не всегда все ладилось, — с нескрываемым злорадством в голосе произнесла сылмеская Элла. — Мне совершенно случайно довелось быть на станция, когда там устроили рынок рабов — ну, когда горожанок сгоняли на работу в деревню. Хозяева приехали на лошадях и стали набирать себе рабочую силу. Толкали друг друга, ругались и спорили. Койгиский Арвед выискивал самых молодых и красивых, остальные же охотнее брали женщин постарше. Арвед весь сиял, когда, погрузив шесть девчонок в телегу, мчал их домой. Ну и хватил он с ними лиха! Прежде всего рассердилась койгиская Аманда, увидев, что ее муж с городскими девчонками въезжает во двор. Позже выяснилось, что барышни не желают вставать раньше девяти утра. С такой простой работой, как вязка снопов, они тоже не могли справиться. Снопы не держались. Затем у барышень развалились туфли на деревянной подошве, и они вообще не смогли выходить в поле, потому что стерня колола ноги. На обед, кроме молока и мяса, они требовали еще масло. По вечерам пташкам хотелось танцевать, и Ар-веду приходилось звать гармониста. Неделю хозяева терпели фокусы барышень, а затем Арвед, кляня и ругая все на свете, отослал их обратно на станцию.
— С лица не воду пить, — удовлетворенно кивнула лаурисооская Линда.
Хотя Бенита и старалась подавить в себе любопытство, однако не смотреть через окно в сторону риги она не могла.
Вот еще одна семья беженцев готовилась покинуть Рихву. На дно телеги они поставили ящик с поросятами, детей посадили на узлы, а корову привязали сзади. Кто-то, пытаясь прижать к стене один из притворов то и дело норовивших захлопнуться ворот, присел на корточки. «Очевидно, подпирает камнем», — подумала Бенита.
При постройке риги под воротами осталась большая щель. Держа одно время в риге утят, Бенита всегда тщательно закрывала эту щель доской, чтобы утята не выползали. Однажды вечером, когда Бенита только-только закончила сажать капустную рассаду и, смертельно усталая, едва держась на ногах, шла домой — она встретила по дороге Иоосепа и попросила его загнать утят и приставить доску к воротам риги. А Иоосеп закрыл лишь ворота, забыв про доску: утром утята вырыли из земли все четыреста капустных ростков, посаженных Бенитой.
Но это было давно, несколько лет тому назад. Кто знает, почему ей вдруг вспомнился сейчас этот пустяковый случай.
— Память о Иоосепе будет жить в наших сердцах, — заплетающимся языком провозгласил в эту минуту Эльмар. — Мы поступим так, как поступил бы ты, — пообещал он. — Лес до тех пор будет нашей крышей, пока Эстония не станет свободной!
— Ты снова думаешь уйти? — испугалась Линда. — А Кустас? Кустас так и не вернется домой?
— Что будет делать твой Кустас, меня не касается, — распетушился Эльмар.
— Нас мало, нам надо беречь себя, — веско сказал Кустас.
За лимонным деревом Бенита увидела кулливайнускую семью. Не отдавая себе отчета, Бенита выскочила из-за стола, кивнула гостям и пробормотала:
— Я сейчас вернусь.
На крыльце она чуть не столкнулась с Меэтой.
Меэта протянула руки и обняла Бениту, так крепко, что та едва не потеряла равновесия и не упала со ступенек.
— Дорогая Бенита, — Меэта впервые назвала хозяйку Рихвы по имени. — Мы тебе бесконечно благодарны за то, что ты не отказала нам в крове и помощи.
— Да что там, — пробормотала Бенита.
Меэта стала длинно и подробно объяснять, где находится ее дом, и уговаривать хозяйку Рихвы когда-нибудь приехать к ним в гости.
Бенита, рассеянно слушая Меэту, глядела в сторону риги.
Нет, Молларт еще не уехал. Он стоял неподалеку от торфяного навеса и беседовал с мрачным мужчиной, чьи дубовые доски пошли на гроб Иоосепу. Теперь к мужчинам подошла и Леа Молларт, что-то сказала и, поправив ремень от сумки, чтобы он не соскользнул с плеча, описала руками большой круг.
Бенита вместе с Меэтой направилась к риге. Она шла робко, словно ей, хозяйке Рихвы, не подобало идти к беженцам, чтобы перекинуться с ними словом-другим. Ей было неловко и перед гостями, которых она оставила одних. Почему-то Рихва напоминала ей в эту минуту тюрьму, которую она, арестантка, не смела покинуть без того, чтобы не последовало строгого наказания.
Кулливайнуские дети, протягивая руки, подошли поблагодарить хозяйку Рихвы. Муж Меэты похлопал ее по плечу. Тут же рядом армильдин Яанус запрягал лошадь. Он улыбнулся Бените и надел на лошадь хомут.
Армильда стала так сильно трясти Бениту за руку, что правый бок и плечо хозяйки затряслись. Нагнувшись к самому уху Бениты, Армильда испуганно прошептала:
— Господи, я нашла в телеге кожу ежа! — Украдкой кинув взгляд на Яануса, она жалобно произнесла — Страсти какие, а вдруг…
Еще несколько минут неловкого молчания, прощальных взглядов, и лошади тронулись. Привязанные позади телеги коровы замычали, дети — те, кто был постарше, зашагали рядом с возами — стали махать Бените руками. Кулливайнуская Меэта даже всплакнула, Бенита ясно видела это.
Она тоже подняла руку и помахала отъезжающим.
— Проводите и меня, — поравнявшись с Бенитой, произнес Молларт.
— Хорошо, — ответила Бенита, стараясь говорить равнодушно. Она зашагала рядом с ним по направлению к липам.
Идя по дороге, обсаженной кустами черной смородины, Бенита думала, что Молларт просто дурачит ее — куда он пойдет без лошади и телеги. Но, словно угадав ее мысли, он обернулся через плечо и сказал:
— Нас обещали подвезти.
Бенита взглянула в сторону риги и увидела, что мужчина, который вез дубовые доски, как раз запрягает лошадь.
— У него теперь телега пустая, места достаточно, — заметила Бенита.
— Одежду я постараюсь прислать, — неловко пробормотал Молларт. — Коровы раздели меня, — извинился он.
— Пустяки, — махнула рукой Бенита.
— Что вы мне еще скажете? — настойчиво спросил Молларт.
— Почему я должна что-то говорить вам? — притворилась удивленной Бенита.
— Вот так оно и бывает, — пробормотал Молларт. — Или время не подходящее, или, когда время созрело, люди уже не те.
— Стоит ли говорить об этом, — сказала Бенита. Показав рукой на поле, где над бороздами переплетались черные стебли картофеля, хозяйка Рихвы добавила — Надо убрать картофель и закрыть кучу. Пока не настали холода.
Они остановились под липами, ожидая, пока человек, везший дубовые доски, не кончит запрягать лошадь.
Бенита и Молларт стояли слишком близко друг к другу, чтобы смотреть в глаза.
— Мне очень жаль, — пробормотал Молларт.
— И мне, — промолвила Бенита. — И барана Купидона тоже.
Последние слова сорвались с ее языка непроизвольно.
Оба смутились.
— Вам следовало натравить на меня своих племенных животных, как вы и грозились в первый вечер.
— Никто наперед не знает, что правильнее. — Хозяйка Рихвы вновь заговорила равнодушным голосом.
Испугавшись, что сейчас она выпалит что-то не то, или, хуже того, начнет выворачивать наизнанку душу, Бенита торопливо протянула руку и, смотря Молларту в глаза, сказала:
— Счастливого пути!
Молларт крепко держал протянутую руку. Бенита усилием воли сохраняла на лице упрямое выражение. Молларт неловко отстранился.
Теперь казалось уже невозможным вынести взгляд друг друга. Уйма слов осталась невысказанной. Слова, подобно туче мошкары, реяли где-то совсем рядом. Маленькое промедление, и все правильное и привычное полетело бы к чертям.
Бенита уходила торопливыми, подпрыгивающими шагами. Около риги навстречу ей попалась телега того мужчины, который несколько дней тому назад вез дубовые доски. Хозяйка Рихвы шагнула в сторону, давая дорогу лошади. Мужчина приподнял кепку, сидящая рядом с ним Леа Молларт улыбнулась и помахала Бените. Бенита сделала еще шаг в сторону с ухабистой дороги, ветки черной смородины царапали ноги, зато ей не надо было прощаться с отъезжающими за руку.
Бенита не обернулась, хотя чувствовала, что Молларт смотрит на нее. Она видела только рихваский дом, из трубы которого в небо вилась узенькая полоска дыма.
Слышно было, как лошадь остановили на перекрестке.
— Нуу! — послышалось через мгновение. Телега свернула на проселочную дорогу.
Бенита быстро возвращалась по тропинке и, дойдя до риги, почувствовала облегчение. Теперь ее было не видно. Она могла постоять, перевести дух и даже оглянуться назад.
Возле лип никого уже не было.
Телега исчезла из поля зрения Бениты, вдали раздавался смех Леа Молларт.
Почему-то это невинное проявление радости привело Бениту в ярость, и ей захотелось на что-то излить свой гнев.
Подойдя к риге, она отодвинула камни, придерживавшие створки ворот, и с шумом захлопнула за собой обе половинки. Стены загудели. Бенита тут же снова распахнула один притвор, чтобы оглядеть ригу внутри. Она надеялась найти там следы беспорядка и грязь, чтобы еще больше распалить себя, но, кроме примятого кое-где сена, никаких следов беспорядка здесь не было.
Так Бените и не удалось излить на беженцев свою досаду.
Однако, не находя покоя, Бенита начала шаг за шагом продвигаться вдоль стены. Неужели они действительно не натворили никакого свинства? Бенита сама не знала, на что она надеялась. То, что на полу были рассыпаны горох, ячмень и мука, не заслуживало внимания хозяйки Рихвы.
Даже рессорной коляски Рикса не оказалось, очевидно, Парабеллум взял ее в отместку за простреленную резиновую руку.
Дойдя до бочки с высевками, Бенита с надеждой остановилась. Пожарники не явились за своими архивами. Но в данную минуту Бениту и не интересовало, почему они медлят забрать свое добро. Она хотела убедиться, не захватили ли беженцы эти таинственные пакеты.
Бенита заглянула в бочку с высевками. Ничего подозрительного она не заметила, однако все же вытащила свертки и разложила их на полу.
Никто не заменил бумаги камнями и не сотворил какого-либо иного жульничества.
Вдруг пальцы Бениты нащупали что-то мягкое. Один за другим она стала вытаскивать из бочки какие-то предметы, завернутые в тряпье. Развернув один из них, она увидела револьвер. Тогда она стала быстро срывать тряпки и на пол полетели маузеры, наганы и другое оружие. Когда бочка была опорожнена до дна, на полу, рядом с жестяной банкой, полной патронов, лежало одиннадцать револьверов.
Бенитой внезапно овладела сатанинская радость. Она взвесила револьверы на руке, затем взяла браунинг в одну и большой пистолет в другую руку и нацелилась на ворота.
Бенита почувствовала, что вновь обрела власть и силу. Она удовлетворенно вздохнула, носком ботинка перемешала валявшееся на земле оружие и отпихнула банку с патронами.
Женским чутьем понимая, что держит в своих руках вожжи судьбы, Бенита решила действовать.
Собрав оружие и патроны в подол платья, она быстро вышла из риги. Ноша была тяжелой, и платье трещало по швам.
Она еще никогда так не торопилась осуществить свое намерение, как сейчас.
Бените казалось, что она несет в подоле все тревоги и страдания. Ноша была такой невыносимо тяжелой, что грозила порвать платье.
Ноша громыхала в подоле.
На росистой траве оставалось два длинных следа. Словно по зеленому лугу кто-то скользил на лыжах, хотя самой Бените казалось, что с каждым шагом она все больше увязает в земле.
В излучине реки раздался всплеск. Подол был пуст и легок. Бенита простерла руки и с облегчением вздохнула.
Ей почудилось, будто в воздухе пронесся печальный звук и замер.
1968
ШАРМАНКА Роман
Вместо предисловия
Об Управлении учета мнений, сокращенно УУМе, слышали многие, и немало было людей, которые, разбуди их хоть ночью, могли назвать номер почтового ящика этого учреждения. Однако никто не знал, где оно находится.
Не думайте, что учреждение это было тайным. Напротив, его повсюду широко рекламировали: пишите в УУМ, и ваши желания, предложения, жалобы и благодарности попадут именно туда, куда следует. Сообщайте УУМу обо всем, что вас тревожит и мучает. И помните: учитываются только письменные заявления.
УУМ начал невероятно интересовать меня. Мне казалось, что там сосредоточилось огромное количество информации о современном человеке. Я хотела попасть в УУМ, но не знала, где и как искать это учреждение. Я от корки до корки прочитала телефонную книгу. Я расспрашивала знакомых почтовых служащих и шоферов такси. Но даже самые бывалые шоферы, с большим стажем, не могли удовлетворить мое любопытство, а на почте, вздыхая, говорили:
— У них свой почтовый ящик, огромный как товарный контейнер. Каждое утро он бывает забит до отказа. Раз в день пикап увозит письма. Куда — неизвестно.
В воскресные дни я систематически обходила все улицы города. Свежий воздух, как известно, полезен для здоровья, и поэтому эти прогулки не вызывали у меня досады.
Я надеялась обнаружить на малозаметном доме какой-нибудь боковой улочки табличку со словами: У правление учета мнений. Но не тут-то было. Все мои походы оказались безрезультатны, несмотря на то, что я получила от знакомого туриста в качестве сувенира подробный план города, и таким образом, не оставалось ни одной улицы, которую бы я не исходила вдоль и поперек.
От отца я унаследовала азартный характер, от матери — выдержку. Я не могла примириться с постигшей меня неудачей. Мой интерес к УУМу все возрастал. Я стала думать — нельзя ли проникнуть в таинственный дом каким-то иным путем. И тут я начала читать приключенческие и детективные романы в надежде, что они натолкнут меня на спасительную мысль. Проглотив примерно с полсотни историй про убийства, шпионаж и преследования (в этом отношении мне большую помощь оказали газеты и журналы), я пришла к выводу: надо во что бы то ни стало устроиться на работу в УУМ.
У меня, собственно, несколько профессий, но ни одна из них не казалась мне приемлемой для УУМа. В качестве кого предложить свои услуги?
В тот день, когда моя старая, некогда приобретенная у пастора пишущая машинка окончательно пришла в негодность, меня осенила блестящая идея. Сочиняя романы, я хорошо освоила машинопись и могу вполне сносно печатать. А машинисток якобы всюду не хватает.
Несколько дней подряд, поставив рядом кофейник, я сидела за столом и составляла письмо в УУМ. Немало черновиков угодило в корзинку для мусора, пока я наконец не сочинила нужное послание. Зная, как обильна почта УУМа, я постаралась, чтобы мое письмо не осталось незамеченным.
Труд себя оправдал. Через три дня ко мне явился высокий субъект в очках и попросил продемонстрировать мое умение. Я приняла успокаивающую таблетку, чтобы мои руки не дрожали от волнения, и отпечатала несколько пробных текстов. Просмотрев их, мужчина в очках глубокомысленно кивнул. Затем, проверив мой паспорт и сравнив копию диплома высшего учебного заведения с подлинником (я послала им нотариально заверенную копию с диплома и паспортные данные), он долго и пристально смотрел мне в глаза. Перед уходом господин в очках задал мне два вопроса:
— Почему вы хотите работать в УУМе?
— Мне кажется, что в УУМе, как в зеркале, в какой-то степени отражена суть времени, — нерешительно пробормотала я.
И второй:
— Вы согласны дать подписку о неразглашении местонахождения УУМа?
Я без колебаний подписала бумагу, которую ткнул мне под нос мужчина в очках.
С этого момента я была связана с УУМом.
Прошло уже немало времени с тех пор, как я работаю в упомянутом учреждении. Место, где находится УУМ, отпечаталось у меня в мозгу, я знаю его, как свои пять пальцев. Выйдя из дому, я могу с завязанными глазами найти дорогу в УУМ. На улице, где полно подворотен, я, не глядя, безошибочно выберу правильную и дойду точно до того места, где надо повернуть налево. Затем от чахлой ели дорога сворачивает направо. В течение сорока двух секунд идешь прямо. Еще несколько раз — налево, и снова направо, и ты перед зданием УУМа. На дубовой входной двери красуется звонок, словно пупок посреди живота. Нет, я больше ничего не могу рассказать вам о внешнем виде дома, я же дала подписку. И никто пока не освободил меня от этого обязательства, хотя за последнее время степень засекреченности УУМа несколько уменьшилась. Могу лишь добавить, что учреждение это расположено в очень красивом и прекрасно отремонтированном здании.
Я весьма неплохо знаю людей, работающих в УУМе. В прежнее время сказали бы: они пуд соли вместе съели. Несмотря на мой замкнутый характер, у меня сложились с ними дружеские отношения.
Одно время я горела желанием написать обо всех людях этого учреждения, но я решила не торопиться. Письма, поступающие в УУМ, тоже представляли для меня в этом отношении большой соблазн. Наконец, когда я все еще пребывала в замешательстве относительно главного героя, ко мне неожиданно явился Оскар и излил передо мной душу.
Оскар это тот самый высокий мужчина в очках, который приходил ко мне домой проверить, умею ли я работать, и одновременно удостовериться, что копия с диплома не была фальшивой, а паспорт — подложным.
1
оймав хмурый взгляд Рауля Рээзуса, начальника Управления учета мнений и доктора наук, Оскар нажал кнопку магнитофона.
Раздался вопль. Мужской квартет высокими женскими голосами запел о солнце и счастье.
Это был музыкальный пролог ко второй половине праздника по случаю дня рожденья.
Поскольку в УУМ'е работало пятнадцать человек, дни рожденья здесь отмечались пятнадцать раз в году. В учреждении царила абсолютная демократия, все памятные дни отмечались после работы, в одно и то же время — с шести до восьми, и каждый праздник состоял из двух половин. Первая проходила за столом, вторая отводилась массовым играм. Перешагнувший критический возраст, однако все еще стройный и подтянутый Рээзус строго придерживался современных взглядов на режим питания и физическое развитие, полагая, что установленный им порядок празднования торжественных дат пойдет на пользу и его подчиненным.
Работники УУМ'а знали, что им надлежит делать после того, как заиграет музыка. На большом ковре, стараясь не производить шума, они установили в круг тринадцать стульев. Уборщица Анна-Лийза Артман села на табуретку возле магнитофона. Ей, как человеку в годах и с больными ногами, Рээзус разрешал не участвовать в играх. Хотя в общественной жизни УУМ'а у нее тоже были свои обязанности.
Тринадцать стульев широким кругом стояли в каминном зале УУМ'а, и четырнадцать работников Управления учета мнений гуськом маршировали вокруг них. Анна-Лийза Артман не торопилась выключать магнитофон; ухмыляясь, она смотрела, как ее сослуживцы шагают, вытягивая ноги. Внезапно она нажала на кнопку, музыка оборвалась. Женщины фыркнули, мужчины расхохотались, и в один миг тринадцать мест были захвачены. На этот раз без места остался шофер Ээбен. Согласно правилам игры проигравший должен был сделать двадцать приседаний. Разместившееся на стульях общество принялось хором считать, лишив таким образом Ээбена возможности самому выбрать для себя темп принудительного упражнения. Как только Ээбен кончил приседать, Анна-Лийза Артман снова нажала на кнопку, и мужчины снова запели женскими голосами о солнце и счастье.
Уборщица-затейница, отважно вкушавшая вместе со всеми коньяк, задремала, и поэтому ее сослуживцы довольно долго толклись вокруг стульев. Квартет пропел свою песню, наступил черед совсем недавно выдвинувшейся певицы. Работники УУМ'а топали по кругу, переходя временами на легкую рысь, и смеялись, потому что на праздновании дня рождения всем полагалось быть в хорошем настроении.
Правила игры не разрешали никому, даже Рээзусу, мешать Анне-Лийзе Артман в ее деятельности. Поэтому уборщица преспокойно продолжала дремать. Только когда певица дошла до рефрена и грудным голосом пропела «цик-бум, цик-бум, цик-цик-цик», затейница проснулась. Немного поразмыслив, она закрыла телом магнитофон и неожиданно для всех нажала на кнопку. Многолетний опыт Анны-Лийзы Артман по части подвижных игр всегда помогал ей выбрать наиболее забавный момент. Приседать выпало Оскару.
На сей раз Анна-Лийза Артман остановила магнитофон довольно скоро. Голос певицы оборвался в середине какого-то слова, которое она без конца тянула. Толкая друг друга, все бросились к стульям. И снова Оскар остался без места.
Начальник третьего отдела УУМ'а, Оскар, как раз подкарауливал момент, чтобы устраниться от игры и потихонечку смыться. Лишь только музыка заиграла вновь, он на ходу схватил стул и, взяв его под мышку, отнес в сторонку. Зайдя за тяжелую зеленую портьеру, Оскар настороженно прислушался. Как ни странно, но веселящееся общество не заметило его исчезновения. Оскар задержал прерывистое дыхание и посмотрел в окно. По стеклу барабанил несносный осенний дождь. Оскар вздохнул, однако чувство долга одержало в нем верх. Крадучись, он вышел из каминной.
Бесшумно закрывшаяся за ним дверь отделила его от резвящихся коллег, магнитофонной музыки, начальника Рауля Рээзуса и трех букв: УУМ. Эти три огромные буквы из полированной меди, красующиеся над камином, были единственной в этом здании эмблемой Управления учета мнений. Неважно, что в глубине дома, в каминном зале, главное — они были налицо.
Через полчаса, воспользовавшись общественным транспортом и немножко собственными, уставшими от приседаний, ногами, Оскар уже сидел под пальмой.
Вийвики еще не было.
Оскар смог побыть немного наедине с самим собой. Несколько раз глубоко вздохнув, он в первую очередь постарался отвлечься от мыслей о Вийвике. Легкая улыбка появилась на его лице, и он стал пристально разглядывать листья на пальме.
Как редки были эти минуты, когда удавалось остаться одному. И уж если выпадал столь благословенный миг, Оскар выключался из окружающей среды и мысли его начинали течь свободно.
Оскар откинулся на спинку стула. Интересно, сколько стульев приходится в среднем на человека? Два? Пять? Или больше? Один из них, безусловно, главный, почетный. Затем имеются второстепенные — дома, в кафе или еще где-нибудь. Однако основной, тронный в эпоху стул, должен быть у каждого. С его помощью можно охватить для себя надежную площадь в пол квадратного метра. Сидящий всегда устойчивее стоящего на своих ногах.
Поэтому-то все без конца передвигаются с места на место. Целеустремленные искатели все более почетного стула имеют весьма сосредоточенный вид. Они появляются группами, попарно и в одиночку. Их сменяют новые, похожие на предыдущих. Они словно шествуют по огромной аллее. Поначалу большие, в перспективе они уменьшаются до крошечных размеров. Потом исчезают точно за кулисами, чтобы возникнуть вновь, уже важными и солидными. Иные с глубокомысленным видом потихоньку проталкиваются вперед, обгоняя своих попутчиков. Они не знают, что тем скорее минуют аллею и превратятся в глубине ее в крошечные фигурки.
Все идут, спешат и подкарауливают подходящий момент, чтобы завладеть вожделенным троном. Как всегда, сигнал раздается неожиданно. Садитесь! Те, кто помедлительнее, остаются стоять, они не хотят садиться на оставшиеся шаткие табуретки.
Если вожделенный служебный стул кажется некоторым монументальным и вечным, достойным того, чтобы брать его штурмом, то на второстепенные, по сравнению с тронным, стулья распространяется совсем иное правило. Большинство мечтает об их быстрой смене. Да будет природа этих стульев непостоянна. Да сдвинутся они поскорее в сторону, и да несутся в хороводе. Да уменьшатся и исчезнут с глаз, чтобы появиться из-за кулис по возможности иными, новыми. И да будет грандиозен поток второстепенных стульев.
Оскару снова вспомнилась Вийвика. Он чувствовал, что больше не переступит порога ее квартиры и не сядет в ее кресло под лампой.
Вийвика была одной из многих, кто в душевном смятении посылал письма в УУМ.
Оскар хорошо помнил то утро, когда, перебирая на столе груды конвертов, размышлял, с какого же из них начать свой рабочий день. Нежный почерк Вийвики притягивал внимание. Как раз к этому времени Оскар так устал от Марики, что даже одно ее имя нагоняло на него зевоту. Итак, Оскар привел в рабочее положение сконструированную Ээбеном гильотину для распечатывания конвертов и первым вскрыл письмо Вийвики.
Кстати, Оскар до сих пор придерживался мнения, что Раулю Рээзусу не следовало скупиться, платя Ээбену за его изобретение. Гильотина Ээбена была отличным рабочим инструментом, безупречно выполнявшим свою функцию. Вмонтированный в агрегат автоматический блок своевременно сигнализировал красным огоньком о бумажном заторе. До сих пор гильотина Ээбена не была пущена в серийное производство. Три опытных экземпляра украшали столы трех начальников отделов УУМ'а, больше нигде их не было.
Итак, Оскар с помощью идеально функционирующей гильотины вскрыл конверт с письмом Вийвики. Текст был довольно банальный. Письма подобного содержания заносились в ту картотеку Тийны Арникас, которая называлась «Неудавшаяся семейная жизнь». (Недавно Тийна Арникас усовершенствовала свою систему — начала раскладывать жалобы женщин и мужчин по разным ящикам. Ее беспокоила некоторая дисгармония: синих ящиков, предназначенных для писем мужчин, требовалось гораздо меньше, чем красных, куда складывались послания женщин.)
В то утро, прочитав письмо Вийвики, Оскар занес ее адрес в свою записную книжку.
Служебные инструкции УУМ'а, разумеется, не требовали, чтобы поступившее письмо каким-то образом фиксировалось на страничке личной записной книжки. Оскар делал это на общественных началах. И в глубине души гордился этим. Он не знал никого, кто бы добровольно и к тому же без всякого шума нес на себе груз общественной работы.
Сразу после окончания рабочего дня Оскар поехал разыскивать Вийвику. Так с весны он и продолжал занимать этот второстепенный стул. А сейчас уже была осень. Меж тем, Оскар любил, чтобы второстепенные стулья вертелись во множестве вокруг него и, суля богатый выбор и разнообразие, оживляли жизнь.
Сегодня, поджидая под пальмой Вийвику, он почти с благоговением думал, как думают волевые люди о программе своей жизни, об этом укоренившемся в нем принципе.
Да, настала осень. Пальма, которая росла в дубовой бочке, казалась последним зеленым оазисом среди ливней и резкого ветра. Какие-то обезьяны запихали меж чешуек ствола скомканные бумажки от конфет и удобрили черную землю оазиса пеплом.
За огромной стеклянной стеной барабанил дождь. Затяжной дождь, под который приятно дремать, медленно покачиваясь, в кресле-качалке. Дремотный дождь. В пору октябрьских непогод мать Оскара всегда говорила, что любит такие дремотные дожди. Унаследованная от ее родителей старомодная качалка давала ей право пользоваться такими образными выражениями. Мать Оскара просто срослась со своей качалкой. Так продолжалось до тех пор, пока Оскар не выкинул один фортель. В паз кресла-качалки он засунул кусочек сломанной бритвы, и кресло, когда на нем качались, начинало отвратительно скрипеть. Матери это ужасно действовало на нервы, и она все время передвигала кресло с одного места на другое. Однако новое место оказывалось ничуть не лучше старого, так как маленький кусочек стали по-прежнему таился в пазу.
Мать снова волочила кресло по комнате и снова безрезультатно. Наблюдая издали за все более мрачнеющим лицом матери, Оскар подсознательно старался телепатически воздействовать на нее. Не спуская с матери глаз, он про себя повторял: «В пазу лезвие. Лезвие в пазу».
Телепатический сеанс не состоялся. Контакт не был достигнут. Мать даже и не взглянула в сторону Оскара. Она покорно оставила качалку на месте и позже пользовалась ею просто как обычным креслом.
Оскар до сих пор не понимал, почему он тогда не подошел и не вынул из паза кусок лезвия.
И все же октябрьский дождь оставался для Оскара дремотным дождем.
Тем временем подошла Вийвика и села за стол напротив Оскара. Она с трепетным восторгом взирала на погруженного в свои мысли мужчину. Заметив, что взгляд Оскара сосредоточился на стеклянной стене, в которую барабанил дождь, Вийвика уставилась туда же. Когда она, оглядывая себя, на миг посмотрела вниз, ее взяла досада — прыгая через лужи, она забрызгала чулки грязью.
Оскар увидел Вийвику. Его рука на какое-то мгновение легла на ее запястье. Это означало приветствие. Вийвика блаженно улыбнулась и закрыла глаза.
Взгляд Оскара по-прежнему был прикован к стене. Гул голосов в кафе превратился в его ушах в стук дождя, который прямо-таки ощутимо барабанил по его затылку.
Перед стеклянной стеной стояло искусственное дерево — черная разлапистая ветвь в тяжелом глиняном сосуде. На ветке висели бледно-голубые и серебряные стеклянные шарики. Оскару захотелось, чтобы внутри стеклянных шариков оказались крошечные звоночки, при малейшем дуновении ветра они нежно звенели бы. А еще лучше, если б спрятанный где-то вентилятор неожиданно включался и порывом искусственного ветра заставлял, подобно чуткому дирижеру, эти звоночки звенеть. Время от времени раздавалось бы тихое дзиньканье, все в ожидании застывали бы на месте, прервав болтовню и не понимая, откуда доносится странная музыка, похожая на мелодию музыкальной табакерки.
А на пальме могла бы висеть настоящая живая обезьяна, Оскару очень хотелось заглянуть в глаза нашему предку. Как великодушный цивилизованный человек, он почесал бы обезьяну за ухом. Оскар ясно представил себе, как благодарная обезьяна прыгнет ему на плечо, обхватит длинными неуклюжими руками его голову и начнет шептать на ухо древние мифы, напевая в промежутке песни джунглей. В своем воображении Оскар пошел еще дальше — он видел себя рука об руку с обезьяной среди магнолий. На потеху какаду они станцевали бы бравурный и модный були-вули.
Однако нельзя было окончательно забывать о Вийвике. Оскар налил полные рюмки коньяка. Они выпили. Вийвика смотрела в очки Оскара, и стекла, отражавшиеся в зрачках женщины, подчеркивали блеск ее полных ожидания глаз.
Все больше людей поднималось вверх по каменной лестнице. Они приходили группами, парами и в одиночку. Они сосредоточенно заглядывали в глубину зала, ища глазами место за столиком. Обычный, второстепенный, самый случайный стул, не больше, ведь для того, чтобы провести досуг, иного и не требовалось.
Каждый присматривал для себя наиболее подходящее место. Единственная разница заключалась в том, кому какой стул казался лучшим. Одному хотелось сесть у стеклянной стены, чтобы слушать дремотный дождь своих воспоминаний, другой жаждал смотреть на ржавый кран на дне бассейна, из которого била вверх широкая струя. Даже соски фонтана, видимо, были ржавыми, вода в трубе как бы хрипло и с трудом дышала и, вырвавшись, вздымалась кверху, чтобы тут же упасть.
Тихо журчащие фонтаны Оскару не нравились. Ему хотелось видеть большие и мощные потоки воды, которые с шумом извергаются из глубин классических каменных пастей.
Мысль о грохочущих фонтанах заставила Оскара поморщиться. Он никогда не увидит их, потому что физически он неполноценный человек. Однажды он, правда, сделал такую попытку, но ничего не вышло, так как осматривавшие его инспектора здоровья опять придрались к его почке. Левая почка у Оскара была намного меньше правой, очевидно, уже с рождения. Поскольку во времена его отца и деда не знали широко используемой теперь ренокоскопии, то невозможно было установить, идет ли речь о наследственном изъяне или нет. Во всяком случае, этой асимметрии парных органов оказалось достаточно, чтобы повлиять на судьбу Оскара. В свое время из-за малогабаритной почки его не приняли в Государственный институт унифицирования мифов и не призвали на действительную службу в армию. Однако в университет Оскар все же попал. Его, правда, чуть было не забраковали, но нашелся один профессор, который сказал, что у него у самого одна нога на два номера меньше другой и что на работу мозга это ничуть не влияет.
Внимательная Вийвика, заметив на лице Оскара тень озабоченности, нежно произнесла:
— Оскар, скажи что-нибудь. Тебе станет легче.
Оскар улыбнулся. Его безупречные искусственные зубы сверкнули. Очевидно, Вийвика хотела услышать какой-нибудь анекдот. Для Оскара было проще простого запоминать и рассказывать анекдоты. Неоценимый жанр, приятный и современный, емкий и содержательный. Точный, как фольклор. Модные модификации устного творческого наследия предков — это настоящее искусство, отвечающее темпу эпохи.
Рассказывая, Оскар одновременно разглядывал ногу Вийвики. Женщина с нарочитой небрежностью выставила напоказ свою левую конечность.
Чулок был модного розового цвета, напоминающего цвет яблоневого лепестка. Туфли слегка поношенные и немного испачканные.
У Марики, которая была до Вийвики, были почти такие же ноги. А также у Агне, жены Оскара. У дочери Оскара — Керту ноги совсем другие — длинные, прямые, тоненькие. Ее ноги еще не успели стать приземистыми от стояния и толстыми от ходьбы. Может быть, ноги у Керту так и останутся стройными, теперь с транспортом дела обстоят намного лучше, чем в то время, когда Марика и Вийвика были в возрасте Керту.
Условия передвижения стали несравненно лучше, чем в пору юности Агне, юности, все более отдалявшейся.
2
отом они бежали под дождем и в ожидании автобуса стояли под трухлявой ивой. На море переливалась полоска света, порывами налетал ветер. Где-то погромыхивало, будто пустая бочка билась о парапет.
Покачиваясь, подошел автобус и остановился, окатив грязью ноги ожидающих пассажиров. Оскар, поддерживая Вийвику за талию, помог ей подняться на подножку. Его очки запотели, и он рукой нащупал в кармане монетку. Кто-то выхватил ее из рук Оскара и сунул в ладонь обрывок бумажки.
Оскара и Вийвику заклинило в толпе пассажиров. У Вийвики за спиной понуро стояли длинные парни. Оскар дышал Вийвике в волосы. Вийвика с большим трудом приподняла руку и начала крутить пуговицу на пальто Оскара. Оскару хотелось запротестовать, так как эта пуговица уже долгое время держалась на честном слове.
Вскоре они вырвались из тяжелых запахов автобуса и, не глядя по сторонам, побежали под плотным дождем. Вийвика перепрыгивала через лужи, хотя она была слишком полной для того, чтобы прыгать, и Оскар думал о том, как ему не хочется с ней идти.
Поднявшись на цыпочках по лестнице, Вийвика долго рылась в сумочке и в карманах, ища ключ. Она словно чувствовала настроение Оскара и время от времени поглядывала на него через плечо. Оскар старался избегать ее взгляда.
В передней Вийвика зажгла лампу с зеленым абажуром. Скинув с плеч пальто, она подошла к зеркалу, вытерла мокрое от дождя лицо и подкрасила губы. Оскар, поглядев на свои мокрые перчатки, бережно сунул их в карман.
Войдя вслед за Вийвикой в комнату, Оскар расслабил узел галстука. У него не было ни малейшего желания разговаривать.
Опустившись в единственное кресло, стоявшее в углу под лампой, Оскар удобно развалился в нем.
Вийвика остановилась посреди комнаты, опустила руки, не зная, что предпринять. Для нее не прошло незамеченным, как Оскар украдкой оттянул рукав и взглянул на часы.
Тихий голос из задней комнаты позвал Вийвику.
Женщина зажала уши руками, но все-таки прошла на кухню, налила стакан воды и исчезла с ним в задней комнате. На Оскара пахнуло запахом жареного.
Когда Вийвика вернулась, ее руки заметно дрожали. Она вынула из книжного шкафа початую бутылку и будто нарочно вылила остатки коньяка в тот самый стакан, в котором только что относила ребенку воду.
Оскар отхлебнул глоток. Его губы, прикоснувшиеся к стеклу, казались каменными. Вийвика жадно выпила остатки коньяка.
— Мормон, — сердито сказала Вийвика, и на ее глаза навернулись слезы.
Оскар смотрел мимо нее. Он знал, что единственный выход — это молчать. Он так и сделал. Посидев еще минутку, он встал с медлительностью лунатика и вышел в переднюю.
Чего ради Вийвика зажгла все светильники — торшер, плафон и к тому же еще лампу над кушеткой. Она ходила по ярко освещенной комнате и внимательно оглядывалась вокруг. Против ожидания Оскар не торопился заверить, что это не последний его визит, пусть Вийвика не беспокоится, если он что-то забыл, когда-нибудь в следующий раз и так далее и тому подобное.
Оскар чувствовал, что должен спешить. В противном случае из глаз Вийвики брызнут слезы и, как в кино, последуют сцены объятий и бесконечные разговоры о неудавшейся жизни.
Оскар сам открыл дверь и внезапно почувствовал огромное облегчение. Он взял себя в руки и из сумрака коридора послал Вийвике на прощание воздушный поцелуй.
Как прекрасно было начало и как кошмарен конец, без особых угрызений думал Оскар, спускаясь по лестнице. Как хорошо будет, вернувшись домой, принять ванну и сразу же завалиться спать, чтобы освободиться от похмелья затянувшихся отношений.
Оскар постоял у дома, натягивая на руки сырые кожаные перчатки. Он не взглянул наверх, хотя был уверен, что где-то там, за стеклом, стоит Вийвика и следит за каждым его движением. Почувствовав на себе ее взгляд, Оскар встал под фонарь, напоминающий своей формой лапоть. У Оскара было великодушное сердце, эти несколько минут ничего ему не стоят, пусть Вийвика наглядится на него досыта. Потом приятно будет вспомнить: Оскар стоял под фонарем и думал обо мне. В действительности Оскар думал, где бы достать такси.
Из-за угла как раз вынырнула машина с зеленым огоньком.
Сейчас Вийвика там, за мокрым от дождя окном, начнет все уменьшаться и уменьшаться, пока совсем не исчезнет, как будто и не было ее.
— Собачья погода, — заметил шофер после того, как ему был сообщен адрес.
— Льет и льет, — радостно откликнулся Оскар. Нашарив в кармане сигарету, он прикурил от миниатюрной газовой зажигалки.
— С ночной смены? — спросил шофер и промчался через большую лужу — со стекол машины потекла грязь.
— Да, — дружелюбно ответил Оскар. — Спина устала, и ноги гудят.
Словно по приказу ноги его стали тяжелыми от охватившей его сладостной истомы.
Оскар устроился поудобнее на обитом искусственной кожей сиденье машины и подумал, что с момента работы в УУМ'е он, по сути, ни о чем серьезном не задумывался.
Все предшествовавшее сводилось к нескольким видениям, посетившим Оскара.
Он бежал вверх по низвергающемуся эскалатору, в ушах гудело, и голова казалась засорившимся насосом. Наверху — это можно было едва увидеть — меж фонтанами мыли утренний поезд, который через минуту должен был устремиться в систематизированные пространства. Там, впереди, ждали дальнозоркие жирафы, которые стоически объяли необъятное и теперь отстукивали на телетайпе предельно короткие, но исчерпывающие ответы на все, что казалось неразрешимым.
В другой раз Оскар ощутил себя забинтованной мумией в темном лабиринте пирамиды слов.
С тех пор, как Оскар по совету мозгового инспектора начал пользоваться транквилизаторами, эскалатор остановился. Одновременно исчезло и желание бежать. Пропала и мучительная потребность куда-то спешить. Бинты с мумии были сняты. Оскар отнес большинство своих книг в подвал и сложил на бельевой каток, которым давно уже никто не пользовался. Он несколько раз толкнул взад-вперед ящик катка, и это позабавило его. Книги лежали словно в качалке, и Оскар почувствовал себя их властелином, а не рабом. Это была почти что модель систематизированного пространства — он просто-напросто, когда хотел, отталкивал их всех от себя подальше.
На свете не было ничего, на что стоило бы тратить свои нервы. Надо было только глядеть в оба, как бы самому не попасть впросак и не допустить, чтобы тебе на шею взвалили непосильный груз. Когда Рауль Рээзус принялся создавать УУМ, он пригласил к себе в сотрудники Оскара. С тех пор заботы не отягощали душу Оскара, а работа не ломила костей.
Хорошо, что Вийвика сказала лишь «мормон».
В большинстве случаев женщины в подобной ситуации употребляли такие локализмы, как «свинья» и «подлец». У Оскара же, когда ему говорили «свинья», сразу срабатывал рефлекс и возникало желание хрюкать. Однако, как эстет, он не переносил таких звуков.
В подобных случаях он обычно отвечал:
— Исключим общих предков из игры.
Такси остановилось. Оскар отыскал в кармане измятую бумажку и развернул ее.
— Главное — это приветливое лицо, — сказал шофер, когда Оскар вылез из машины.
— Точно, — ответил Оскар и осклабился.
Так он и вошел в дом, осклабившись. Отличного качества искусственные зубы Оскара были как собственные. Молоденькая женщина, зубной техник, которая делала ему челюсть, очень сочувствовала Оскару. Она считала, что в таком возрасте чересчур рано обзаводиться искусственными зубами. Тридцать девять — черт его знает, как отнестись к этой цифре. Ничего, утешал себя Оскар, средняя продолжительность жизни человека все время растет, граница старости отдаляется. С запасными частями для человека становится все легче, а если учесть рост автомобильного движения, а следственно и катастроф, то ассортимент будет более чем достаточен. В какой-то степени помощь оказывает и наука. Один знакомый Оскара в результате несчастного случая потерял ноготь большого пальца. Теперь ему сделали новый из перламутрового пластика.
Оскар продолжал улыбаться, и к нему само собой вернулось хорошее настроение. Прощай, Вийвика! По всей вероятности, она все поняла. С этой минуты Вийвика интересует Оскара не больше, чем некогда написанное ею письмо, которое сперва лежало в красном ящике Тийны Арникас в разделе «Неудавшаяся семейная жизнь», а теперь перекочевало в архив УУМ'а.
А вот та молоденькая врачиха, зубной техник, о которой Оскар вспомнил сейчас совершенно случайно, была во всех отношениях очаровательным существом. У нее были темные искусственные ресницы и пестрые наклеенные брови. Светлый парик очень гармонировал с ее маленьким розовым ртом. В тот раз, когда зубной техник посочувствовала Оскару по поводу его зубов, ему захотелось чем-то развеселить ее, и он рассказал о перенесенном им в детстве авитаминозе. К огорчению Оскара, зубной техник оказалась человеком на редкость серьезным и выслушала его рассказ с грустным лицом послушного ребенка. Разумеется, ей неинтересно было знать, что мать Оскара с точностью часового механизма ежедневно натирала сыну морковь и заставляла есть, приговаривая:
— Не упрямься, иначе у тебя выпадут зубы.
Оскар остановился на ступеньке лестницы. Он хотел окончательно освободиться от Вийвики прежде, чем нажмет на ручку двери своей квартиры. Где-то внутри вроде бы еще скребло. Хорошо бы какой-нибудь рассудительной мыслью или красивым воспоминанием поставить точку на истории с Вийвикой. Ему словно необходимо было за что-то зацепиться, чтобы откинуть это «что-то» в прошлое и со спокойной душой оставить его там во власти патины времени.
Ну хоть какой-нибудь эпизод должен был отложиться в его памяти, эпизод, который все еще удерживал его и от которого ему надо было освободиться.
Точно просматривая почтовые открытки, Оскар мысленно перебрал вечера, проведенные с Вийвикой, и вдруг вспомнил миг, который он так мучительно искал.
Это было в начале лета, вечером. Солнце почему-то все не заходило и не заходило. Вийвика задернула занавеску.
Однако сквозь нее все-таки еще пробивался красноватый свет. Тихий дом казался опустевшим пчелиным ульем. Обессиленные, они лежали рядом. Внезапно Вийвика встала, шлепая босыми ногами, прошла на кухню и принесла из холодильника полную тарелку клубники со взбитыми сливками.
Оскар даже слегка умилился. Вийвика вновь стояла перед ним словно наяву. Белая ночная сорочка просвечивала, как занавеска в лучах заходящего солнца. На запястье у Вийвики тикали часы. Тарелку с золотым ободком, на которой лежала клубника со взбитыми сливками, Вийвика держала на уровне груди.
Затем, уже лежа в постели и уплетая клубнику, Вийвика нарушила тишину. Она облизала ложку и, смеясь, сказала:
— Вот видишь, любовь все-таки приходит через желудок.
Она сказала пошлость, но лицо ее по-прежнему оставалось нежным и милым. Не таким, как сегодня, когда она ходила по ярко освещенной комнате и заглядывала в углы, словно там во множестве валялись вещи Оскара, которые надо было отдать уходящему мужчине.
Оскар улыбнулся и нажал на звонок у двери. Чаще всего он не брал с собой ключей от квартиры, но не потому, что боялся их потерять. Он просто вел сам с собой игру и, стоя за дверью, представлял себе, как в следующий миг войдет не в опостылевшую ему квартиру, а куда-то, где все ново и интересно.
Когда Агне открыла дверь, Оскар опустил глаза. Ему почему-то казалось, что в его зрачках запечатлелось бледное лицо Вийвики.
3
тот вечер, когда Оскар, развязавшись с Вийвикой, довольный вернулся домой, Агне, распахнув дверь, выпалила:
— Тетя Каролина умерла от инсульта. Часовня. В часовне тетя Каролина. Дитя, появившееся на свет на рубеже столетий. Она умерла от болезни, от которой умирают равно как гении, так и домашние хозяйки.
Оскар положил венок в изножье гроба тети Каролины и подошел пожать руку Вайре. Вайра, дочь тети Каролины, была его ровесницей. В детстве они ходили друг к другу на дни рождения. Тетя Каролина, которая во всем любила строгие и прямые линии, покупала Вайре в свое время только клетчатые и полосатые платья. Все воспоминания Оскара о Вайре были сопряжены с геометрическими фигурами.
Окружающий тебя мир ведь можно систематизировать и по таким признакам: прямолинейные, круглые и составляющие исключение каплевидные фигуры. Разумеется, каплевидные не слишком надежны, их форма неустойчива и в любой миг может измениться.
Глаза у Вайры были заплаканные. Ей позвонили по телефону, но она не успела приехать вовремя и не застала мать в живых.
Зато струнный оркестр явился в часовню точно ко времени, и как ни удивительно, духовный пастырь тоже.
Муж тети Каролины, умерший незадолго до нее, всю жизнь следил за оптическими приборами в обсерватории.
Вайра ходила от родственника к родственнику и бормотала извинения:
— Она оставила письменное распоряжение и потребовала пастора.
Мать Оскара всхлипнула. Этот короткий звук отозвался в душе Оскара странной болью. Ему вдруг захотелось снова стать маленьким, чтобы слышать биение материнского сердца. Оскар отогнал от себя это стандартное представление о матери. Он не помнил, чтобы мать брала его на колени. И снова рядом с ним стояла мать, почти посторонняя, просто требующая уважения старая дама, которой в часы пик надо помогать перейти улицу. На самом деле его мать уже годами носила на запястье шагомер и через день занималась гимнастикой на шведской стенке, чтобы не потерять осанку.
Они приехали сюда вместе, поездом. Всю дорогу мать беспокоилась о венке. Упорно, через небольшие промежутки времени, она повторяла, что от жары в поезде цветы могут завянуть. Она словно нарочно сосредоточила свои мысли на узкой орбите — вероятно, это был способ успокоить себя. После известия о смерти тети Каролины мать развила бурную деятельность — вместе с Оскаром отправилась заказывать венок и долго размышляла над возможными вариантами. Почему-то ее взгляд остановился на венке, по форме напоминавшем лиру. Перед тем, как принять решение, она несколько раз повышала голос чуть ли не до ультразвука. У Оскара был обостренный слух, почти как у собаки, и поэтому от резкого голоса матери где-то в самой глубине его барабанных перепонок закололо и зачесалось. На вокзал, за билетами, мать пошла тоже вместе с Оскаром. Для нее было очень важно, в каком вагоне они поедут.
В последнее время Оскар не мог отделаться от мысли — а что, если лезвие, которое он когда-то спрятал в кресле-качалке, вонзилось в мать и застряло где-то у нее внутри. Теперь его уже не найдешь. Собственная беспомощность делала Оскара нетерпимым по отношению к матери, да и вообще он старался всячески избегать общения с женщиной, когда-то давшей ему жизнь.
Меж тем похоронная церемония шла своим чередом. Один из дядюшек вынул из кармана отвертку. Его тонкая и крепкая рука хирурга уверенно держала ручку инструмента. За его ловкими движениями стоило понаблюдать. В последнее время дядюшка перешел на более легкую работу, хотя и продолжал подвизаться в институте замены органов. Теперь ему доверяли лишь трансплантацию пупков. Когда-то его считали виртуозом, спасавшим людям жизнь. До тех пор, пока не произошла роковая ошибка, лишившая его уверенности. Однако он не сник окончательно и был известен своими речами, с которыми выступал на институтских собраниях. Помимо красивых рук у него был прекрасный голос — в юности он мечтал стать актером.
Вайра ходила вокруг дядюшек. Они стояли кучкой и о чем-то вполголоса совещались. Мать Оскара подтолкнула сына, чтобы он подошел к ним поближе.
У стены стоял белый крест. Кто-то должен был нести его.
Агне держала Оскара за рукав.
Дядюшки пытались незаметно спрятаться за спинами друг у друга. Оскар внезапно почувствовал себя как бы в фокусе. Почти все взгляды были обращены на него, лица людей, одетых в черное, были напряжены.
Мать снова подтолкнула Оскара в плечо.
Вайра встала перед Оскаром, у нее был странный вид. Глаза блестели, уголки рта поднялись вверх, будто она собиралась засмеяться. На миг во рту Вайры сверкнула золотая коронка.
Надрывались скрипки. Руки Оскара пронзила острая боль, словно тугие смычки царапали ему кожу.
Вайра сделала шаг назад. Ее заплаканные глаза смотрели вопрошающе.
Агне что-то прошептала Оскару на ухо, но он не расслышал ее слов.
Черт побери! Кто-то ведь должен нести крест. Ничего не поделаешь, видимо, придется ему взвалить на себя эту ношу.
Вайра взяла Оскара за руку и потащила к стене. Оскар поднял крест на плечо. Шляпа, которую он держал в руке, мешала ему.
Пастор встал впереди всех. Похоронная процессия могла двинуться в путь.
Под ногами хрустел гравий. Оскар шел размеренным шагом, стараясь вспомнить, как несли крест на библейских картинках. Крест как в жизни, так и в искусстве и литературе носили бесчисленное множество раз. Однако лично у Оскара такого рода опыт отсутствовал. Стоило приподнять крест повыше, как он почти опрокидывал Оскара на спину, когда же Оскар опускал крест, то его колени бились о продольную перекладину этой свежевыкрашенной белой краской махины.
Ветер швырял в лицо мелкий ледяной дождик. Оскар не привык таскать тяжести и весь взмок. Он украдкой посмотрел через плечо. Позади шла Вайра, она несла на крошечной бархатной подушечке какую-то медаль или почетный знак.
Интересно, какая награда могла быть у тети Каролины? Оскаром вдруг овладело жадное любопытство, он охотно прислонил бы крест к дереву и взглянул на ношу Вайры.
Оскар снова покосился через плечо. И снова увидел, как во рту Вайры сверкнула золотая коронка.
Интерес у Оскара пропал. И вообще, что могло быть странного в том, что тетю Каролину когда-то наградили медалью? Неужели люди действительно делятся на тех, кто обязательно заслуживает подвески на грудь, и на тех, кто заведомо никогда ее не получит!
Однако вид медали тети Каролины настроил Оскара на более торжественный лад. Он выпрямился под своей ношей и поднял ее повыше. Что ж, пусть дядюшкам будет стыдно — тетя Каролина должна получить все, что она хотела. Музыку, пастора, крест и медаль.
Дядя-хирург все-таки подошел к Оскару.
Оскар не выпустил крест из рук. Похоронная процессия как раз проходила через березовую рощицу, и Оскару вспомнилась история, которая произошла на севере и которую дядя-хирург неоднократно всем рассказывал.
Оскар как будто вновь слышал звучный дядюшкин голос:
— Мы долбили замерзшую землю ломом и киркой, но это было так же бесполезно, как если бы мы пытались скальпелем разбить гранит. От земли отлетали лишь крошечные комочки. Мы долбили целую вечность, может быть, пять часов, а может быть, и пять дней, пока не выкопали яму. Было такое ощущение, словно мы перетащили скалу с одного места на другое. Покойник лежал в ящике из неструганных березовых досок, в щелях похрустывала береста. Гвоздей, чтобы забить крышку, у нас не было. Когда мы стали опускать ящик в яму, оказалось, что она мала. Гроб встал наклонно. Внезапно крышка открылась. С тех пор я потерял охоту гулять в березовом лесу. Мне всюду мерещатся прислоненные к стволам гробы, и крышки их все открываются и открываются.
Не удивительно, подумал Оскар, что дядюшке доверяют лишь самые простые операции. Тайком он прикладывается к спирту. Как человек старомодный, он игнорирует мозговых инспекторов и их препараты. Ничего, скоро он уйдет на пенсию и займется своей любимой работой, будет выводить из обычного одуванчика декоративный Taraxacum grandiflorum.
Крест водрузили на место. Плечо у Оскара могло отдохнуть. Фотограф построил людей перед трепещущими огоньками свечей. Оскар подошел к матери и взял ее под руку. Он знал, что мать надолго пришла бы в дурное настроение, если б рядом с ней не был запечатлен ее единственный сын. Фотография перекочует в семейные альбомы и ее будут разглядывать в течение, возможно, еще нескольких поколений. Водя пальцем по лицам, станут говорить: а вот это, кажется, Оскар со своей матерью.
Агне стояла где-то позади.
Зато в доме покойницы она сидела рядом с Оскаром.
Оскар знал, что Агне терпеть не может поминок. Она неоднократно говорила об этом, точь-в-точь как дядя-хирург о своих призраках в березовой роще. Зачем надо обязательно пить и есть после похорон, допытывалась у всех Агне. Теперь она была вынуждена сидеть здесь со всеми, так как до отхода поезда оставалось еще несколько часов.
— Хлебни разок как следует, — прошептал Оскар на ухо Агне.
Агне опрокинула в себя рюмку и уставилась в тарелку.
— Вот и в нашей семье застучали доски, — громко сказал один из дядюшек.
Тетя Каролина была первой из пяти братьев и сестер.
Мать Оскара всхлипнула.
Вскоре за столом пошли воспоминания.
Вспоминали все те же истории детства, далекого и прекрасного детства.
Как рано всем им пришлось начать работать. Едва окрепли, как стали пастухами. Едва успели попасти коров, как им уже дали вожжи в руки.
— Помню, мы с матерью шли как-то через лес, — начал старший из дядюшек, — над кронами деревьев повисла грозовая туча. Средь бела дня стало совсем темно. Деревья стояли не шелохнувшись, ливень еще не успел разразиться. На маленькой просеке, куда мы пришли, росла земляника. Все вокруг было красно. Я отстал от матери и начал обеими руками запихивать ягоды в рот. Мать обернулась и посмотрела на меня с искаженным лицом. Она с трудом наклонилась и схватила с земли палку. Огрела меня по спине. Стала буквально избивать. Я ничего не мог понять. Были сумерки, была земляника и полное безветрие. Я почему-то не решался заплакать. Мать оттащила меня подальше от пней, кинула палку и крепко взяла за руку. Мы торопились. Едва успели выйти из лесу, как грянул гром. Вдруг стало ослепительно светло. Мать вскрикнула. Зубы ее стучали. Я едва понял, что она велит сделать. Она приказала мне бежать через поле за помощью. Я отнекивался, мне было страшно.
И все-таки побежал через поле. Я бежал и ревел. Ненавидел мать, которая погнала меня одного в грозу.
Потом на лошади приехал отец, подобрал на опушке леса мать с только что родившейся Каролиной и привез их домой.
После рассказа дядюшки выпили красного клубничного вина. Агне по-прежнему смотрела в тарелку. Оскар жевал бутерброд с рыбой, полной мелких костей. Внезапно за окном показалось солнце, бледно-желтое и продолговатое, как лимон. Желтый свет упал на лицо Агне, и она нахмурилась.
И снова они наперебой заговорили о своей ранней юности и подневольном труде.
Вайра, встав за спиной матери Оскара, тихим голосом пожаловалась ей, что не знает, как поступить с вещами тети Каролины. И Вайра, и мать Оскара глядели на большую картину, написанную маслом, с которой на них смотрели окна домов какого-то неизвестного города и балконы с горшками роз.
Теперь подал голос самый младший из дядюшек, про которого не уставали говорить, что он не сын своего отца.
У Оскара, когда он смотрел на дядюшку, невольно появлялась в уголках рта усмешка. Как странно звучало это в наше время: сын своего отца, не сын своего отца. Теперь, когда каждая женщина могла при желании прибегнуть к помощи специального института и выбрать среди генетических кодов доноров наиболее для себя подходящий, личность отца теряла всякое значение. Разумеется, сила инерции старых суждений была велика, точно так же, как не перевелись еще отставшие от времени и выжившие из ума люди, которые гнушались крематорием.
Что же все-таки хотел сказать младший дядюшка? С каких лет пришлось ему начать вкалывать?
— Субботними вечерами мы всей семьей собирались в большой комнате и пели.
Все неловко молчали.
— Мы садились в круг и пели.
Никто не решался кашлянуть.
Почему у всех у них вдруг стали такие торжественные лица?
Оскар попытался представить этих братьев и сестер в какой-то большой комнате. В комнате тепло. Печь накалена. Летом, после дождя, в раскрытые двери струится запах мяты. Умиротворенные люди сидят в сумерках при свете керосиновой лампы и поют. Просто так, потому что им хочется.
Кто-то чиркнул спичкой и зажег сигарету.
Кто-то вздохнул.
Мать наклонилась поближе к Оскару и прошептала:
— Помнишь, как мы сидели вечерами и пели. Приходили Каролина с Вайрой, они тоже садились в круг и начинали подпевать.
— Ты помнишь, Вайра? — спросил Оскар у двоюродной сестры.
Вайра прищурила глаза и медленно покачала головой.
4
то время, как остальные работники УУМ'а попивали у камина свой утренний кофе, шофер Ээбен был занят по горло.
Получив на почте мешки с письмами и погрузив их в пикап, Ээбен заводил мотор, чтобы ехать обратно. Каждое утро он вынужден был возвращаться в УУМ иной дорогой. Рээзус неоднократно предупреждал его: местонахождение УУМ'а не должно быть раскрыто. Неразберихи и неприятностей не оберешься, если жалобщики и люди, вносящие предложения, начнут лично являться в УУМ.
Достаточно долго покружив по городу, Ээбен снова подруливал к зданию УУМ'а. Его каждодневные поездки отвечали определенному принципу: к чему ехать прямо, когда можно в обход.
Ээбен знал: если он просто сделает круг, его легко будет выследить и таким образом пронюхать, где находится УУМ. Иной ретивый жалобщик, кому бурлящий гнев не позволяет сесть за стол и спокойно написать письмо, может нажать на стартер своей машины и, следуя по пятам за Ээбеном, повторить все его зигзаги по городу. И потому Ээбену, помимо составления сложного маршрута, надо было еще уметь избавляться от возможных преследователей. Сидя за рулем, он одним глазом смотрел в зеркало, а другим — на дорогу. При малейшем подозрении он предпринимал различные маневры. Одной из простейших уловок было остановить машину и начать копаться в моторе. Ээбен, известный изобретатель, пристроил под капотом всевозможные зеркала, и стоило ему поднять капот, как перед ним, словно в панорамном кино, возникала картина уличного движения. Пусть только попробует кто-нибудь из его преследователей остановить свою машину где-то поблизости!
Конечно, потенциальный подрыватель основ УУМ'а мог попросту запомнить номер пикапа, но и такая возможность была заранее предотвращена. Рээзус написал не одно длинное прошение в управление движения и в конце концов добился разрешения ежедневно менять номер машины УУМ'а. Впрочем, и сам Ээбен умел неплохо маскироваться. Он попеременно носил то шляпу, то кепку, на случай холодной погоды у него имелись две меховых шапки, а иногда он надевал фетровую каскетку. Она походила на дамскую шляпу, и можно было подумать, что за рулем сидит женщина.
Был у Ээбена и неоценимый помощник — надувная овчарка, которую смастерили по специальному заказу в экспериментальной лаборатории фабрики игрушек. Могучего телосложения пес вечно пребывал в одной и той же сидячей позе, его сухой розовый язык всегда свисал набок, а настороженные уши стояли торчком. Вначале черно-рыжий спутник огорчал Ээбена — стоило машине тронуться с места, как он начинал предательски дрожать. Тогда Ээбен усовершенствовал надувного сторожа. К заду собаки он прикрепил свинцовую пластинку, и с тех пор, если Ээбену приходилось внезапно затормозить, искусственный зверь никогда не падал на переднее стекло. Во всяком случае пес казался настолько подлинным и реальным, что прохожие обходили машину УУМ'а стороной.
Разумеется, Ээбен не каждый день сажал собаку рядом с собой на сиденье. Морда зверя не должна была чересчур примелькаться. Раз-два — есть собака; раз-два — нет собаки. Эти маленькие фокусы на редкость удавались Ээбену. Под хвостом у собаки находился вентиль, через который можно было выпустить из нее воздух, и точно так же легко, с помощью насоса накачать ее. Со временем Ээбен так полюбил искусственного пса, что будучи человеком, любящим классическую литературу, окрестил его Фаустом. Чем дальше, тем больше Ээбен верил, что если какой-нибудь любопытный, вынюхивающий местонахождение УУМ'а, вздумает напасть на него, то, завидев Фауста, сразу же откажется от своего преступного намерения.
Ээбену надлежало быть ко всему готовым и в тех случаях, когда Фауст в виде пустой оболочки валялся на его водительском месте. Ээбен смастерил себе пистолет, или, как он объяснил сотрудникам УУМ'а — макет пистолета. Макет выглядел достаточно устрашающе и по размерам походил на настоящее огнестрельное оружие. Да и звук выстрела у него был сильнее, чем у настоящего пистолета, так как в его рукоятку был вмонтирован мини-магнитофон. Нажим на спусковой крючок вызывал оглушительный грохот пушки, которая находилась в увеселительном парке и выстрел которой Ээбен записал на магнитофонную ленту во время демонстрации пушки по случаю какого-то праздника.
Кроме того, Ээбен, как свои пять пальцев, знал все дворы и проезды в этом хитроумном городе. В случае преследования он всегда мог куда-либо свернуть или отогнать машину за угол какого-нибудь дома. В одну секунду можно было надуть собаку и продуть ствол пистолета. Сипловатый свист, раздававшийся при этом, всегда вызвал у Ээбена ощущение спокойствия и уверенности.
Правда, до сих пор Ээбену не приходилось пользоваться крайними мерами.
Сегодня Ээбен, нагруженный письмами, подъехал к зданию УУМ'а рано. Он остановился перед воротами гаража и посветил фарами. Фотореле открыло двери, и машина въехала внутрь. Ворота автоматически закрылись. Ээбен оттащил мешки с письмами в соседнюю комнату, известную среди работников УУМ'а как весовая. Тут же на столе лежал журнал, в котором Ээбен каждый день отмечал вес доставленной почты.
Для столь солидного учреждения, как УУМ, такая весовая была явно примитивна. У Ээбена мелькнула мысль о дальнейшем усовершенствовании этой комнаты, некогда принадлежавшей дворнику. Он планировал пробить дыру в бетонном потолке и устроить подъемник для писем. В настоящее время в УУМ'е было только три отдела и в соответствии с этим Ээбен должен был делить письма на три равные части и складывать их в плетеные корзинки. Но Ээбен умел предугадывать жизненную перспективу и надеялся, что вскоре число отделов УУМ'а увеличится. Рано или поздно это должно произойти, так как количество писем изо дня в день росло, и подъемник явился бы отнюдь не роскошью, а необходимейшим пособием в работе.
Пока же Ээбен вынужден был мириться с отсутствием механизации труда. Он поднял плетеные корзины и начал разносить письма по кабинетам начальников отделов.
Начинался обычный трудовой день УУМ'а.
Проходя со своей ношей через каминную, Ээбен немного свысока кивнул сидевшим там начальникам отделов. Все трое — Пярт Тийвель, Армильда Кассин и Оскар встали как по команде и разошлись.
Несмотря на кофе, самочувствие у Оскара было подавленным. Обилие почты на столе усугубляло это состояние. Большинство людей любят получать письма, но до поступления на работу в УУМ Оскар никогда не мог бы и предположить, что стольким людям нравится посылать письма. Разумеется, были и такие, кто брался за перо в порыве отчаяния, однако большинство отправителей жаловались на свои мелкие неурядицы. Вообще, всякой писанине стали повсюду придавать все больше и больше значения.
Оскар тут же отогнал от себя праздные мысли и постарался внушить себе, что нехорошо так относиться к своей работе. УУМ был учреждением, необходимым обществу, откуда всевозможные социологи и планирующие организации получали необходимый им материал. Да и футурологи не на одном песке строили свои воздушные замки. Человеческая активность была явлением позитивным. У Оскара по спине забегали мурашки, когда он представил себе, как в один прекрасный день его рабочий стол окажется пустым — ни одного письма, так как внезапно наступила золотая и совершенная эпоха, все довольны, а потому пассивны и ленятся взять перо в руку. Оскар усмехнулся — как бы там ни было, но духовные проблемы останутся незыблемыми.
Оскар расправил спину и пододвинул гильотину поближе. Засучив рукав пиджака, он сунул руку в груду писем.
Искушенный глаз Оскара мог по почерку более или менее точно определить содержание письма. Так и есть: трактат о надлежащем использовании сараев.
По правую руку от Оскара стояли разноцветные ящики. Послание, прочитанное первым, плавно перекочевало в лиловый ящик с надписью: «Жилищные проблемы».
В двух-трех следующих письмах снова та же тема: лестничные площадки и парадные.
Затем попалось несколько жалоб относительно безобразных тротуаров. Под эти письма предназначался коричневый ящик с надписью: «Транспорт. Пешеходы».
Несколько писем нашли себе место в красном ящике — «Неудавшийся брак». Потом Оскару попались одна за другой жалобы матерей, сетовавших на нехватку детских садов или на их отдаленность от дома. Оскар сунул эти послания в розовый ящик, в углу которого красовалось выведенное черной краской слово: «Прирост».
Хотя Оскар уже довольно долго работал в поте лица, никаких признаков того, что груда писем уменьшается, не было.
Оскар, все время усердно пользовавшийся гильотиной, устал и на некоторое время остановил этот уникальный рабочий инструмент.
Его мучало что-то, не поддающееся определению. Он уже и не помнил, когда испытывал такое странное чувство.
Разрыв с Вийвикой не причинил ему боли. Он не раз обдумывал эту историю с начала до конца, в ней не оставалось ни одного нераспутанного узелка. Скорее наоборот. Полное ощущение завершенности. История с красивым началом и вполне определенным концом. Точка была поставлена именно в тот момент, когда он вспомнил Вийвику в белой рубашке, державшую в руке тарелку с клубникой. История Вийвики была надежно запечатана в конверте забвения, и даже конторский агрегат, изобретенный Ээбеном, не был бы в состоянии вскрыть его.
Что-то иное тревожило Оскара.
Он подпер подбородок руками и стал смотреть в окно.
Оскар, с каждым днем твои дела идут все лучше и лучше, мысленно внушал он себе. Работа в УУМ'е с каждым днем становится все интереснее и интереснее. Процент благодарственных писем поднимется скоро с 4,7 до 7,5 — эта цифра запланирована, так оно и будет.
Концентрированное самовнушение, это хорошо испытанное средство, вернуло ему равновесие, и он сунул под гильотину следующее письмо.
Протекает крыша, через день портится дверной замок, шатаются лестничные перила, вибрирует дом, потому что с котлом воздушного отопления что-то неладно, на лестничных площадках отошли каменные плиты. Ну и пусть себе, лежат в своем лиловом ящике и жалуются!
Оскар попытался сосредоточиться, он не смел ошибиться при отборе. Однажды ответственный секретарь Тийна Арникас уже написала Рээзусу докладную, — когда Оскар нечаянно опустил письмо гражданина, жалующегося на сломанную крышу, в розовый ящик с надписью «Прирост». Ведь за то и платили ему зарплату, чтобы он, как квалифицированный работник, вникал в суть писем и правильно их сортировал.
В тот раз, на собрании, Рээзус привел ошибку Оскара как отрицательный пример. Армильда Кассин, которой стало жаль Оскара, в знак своего сочувствия, обронила в кулуарах фразу — как, мол, могут получиться дети, если над кроватью льет.
И все-таки что-то тревожило Оскара. К тому же перед ним на столе как раз лежало каверзное письмо, в котором одновременно говорилось о неудавшейся жизни, об окне, из которого дует, и о плохо освещенных улицах.
Согласно указанию Рээзуса, снятие копий с писем для распределения их по разным ящикам разрешалось лишь в исключительных случаях. Это можно было делать не более, чем с 1,7 процента всех писем. Поскольку конец года был не за горами, Оскар уже успел использовать эти отпущенные ему 1,7 процента. Конечно, во всем был виноват Рээзус с его педантичностью, предоставивший начальникам отделов такое узкое поле деятельности. Впрочем, допустить более высокий процент он тоже не мог. По общему количеству писем оценивалась работа УУМ'а и выплачивалась премия, и более широкое использование системы копий искусственно увеличило бы число писем. Как человек скрупулезно честный, Рээзус старался не запятнать своей репутации и избегал всякого блефа и приписок.
Оскар нажал на одну из кнопок звонка, расположенных в ряд вдоль края стола и напоминавших бородавки. Этим удобством тоже были обязаны Ээбену — звонки позволяли сберечь и без того перегруженную телефонную сеть.
Тотчас появилась завхоз. В руках она держала поднос с кофейником, чашкой и сахарницей. Кроме того, она принесла коробочку из красного дерева, содержащую всевозможные болеутоляющие и успокаивающие таблетки. На этот раз Оскар не прикоснулся к таблеткам, но попросил налить полную чашку кофе и взял щипчиками три куска сахара.
Все-таки что же его беспокоило?
Оскар выглядел крайне озабоченным. Он не смел поддаваться грустным размышлениям. Не смел! Раньше, еще до УУМ'а и до лечения, он постоянно страдал депрессией. Это ужасное состояние не должно повториться. Да и причин для этого нет никаких, убеждал себя Оскар. Раньше их было более чем достаточно. Ему постоянно казалось, что его подстерегает опасность утонуть. Дома его письменный стол скрипел под тяжестью книг, брошюр, разных вырезок и папок. Меж кипами книг вечно терялись ручки и карандаши. Он часто тратил драгоценные минуты на то, чтобы переложить эти кипы с одного места на другое, или найти перочинный ножик и резинку. Ко всему Оскар страдал еще и физически, ибо от все увеличивающейся бессистемности на столе у него часто болела голова. Стремление навести порядок оказывалось тщетным. С каждым днем прибавлялись все новые книги, вырезки, брошюры. Оскар не отваживался убирать их куда-нибудь подальше, опасаясь, что тогда они так и останутся непросмотренными. Решая в какое-нибудь воскресное утро очистить свой стол, он к вечеру, несмотря на усердную работу, мало что успевал сделать. В глазах рябило, так как он с жадностью набрасывался на книги, стараясь прочитать и то и это, чтобы узнать побольше нового и интересного, что еще пахло типографской краской. В голове ничего не удерживалось. В лучшем случае, он к вечеру освобождался от одной груды бумаг, а десять оставалось. И все равно в последующие дни вместо убранной груды возникала новая.
Теперь все было ясно и систематизировано. Не так, как раньше, когда Оскар зарабатывал свой хлеб лекциями. Теперь он испытывал прямо-таки наслаждение, кидая газеты в плиту. Ему вполне достаточно было взглянуть на заголовок, никакие обязательства больше не мучали его, не терзало и беспокойство, что что-то важное останется неузнанным.
И все-таки он был встревожен.
В мыслях у Оскара был полный разброд. Он попытался проникнуть в самые темные и потаенные уголки своего мозга, и как бы прощупывая их рентгеновским лучом, сосредоточить на них внимание. В чем же загвоздка? А вдруг с ним происходит то же самое, что и с матерью, которая никак не могла догадаться, что в кресле-качалке спрятано лезвие бритвы.
Оскару стало вдруг жаль мать, и он заерзал на стуле. Порыв нежности захлестнул его, наполнив чувством сожаления и вины. Он обязан был вынуть это лезвие из качалки. Вынуть сам, раз он его туда запрятал.
Наконец Оскара осенило. Хорошо, что он подумал о матери. Теперь ему стало ясно, почему червь неопределенности подтачивал его.
В его ушах прозвучали будто сейчас произнесенные слова матери. Хотя в действительности они были сказаны на похоронах тети Каролины.
«Помнишь, мы сидели вечерами вместе и пели».
Оскар снова слышал эти слова матери, вызванные рассказом младшего дядюшки. Это он, дядюшка, внезапно заставил всех удивленно замолчать. Ведь это он сказал:
— По субботам мы всей семьей собирались вечерами в большой комнате и пели.
Оскара больно кольнуло при мысли, что Керту никогда и нигде не сможет сказать о своих родителях:
— Мы просто садились в кружок и пели.
5
заднюю дверцу автобуса, напирая на Оскара и тесня его вперед, втискивались все новые и новые пассажиры. Он прислонился плечом к углу водительской кабины, стараясь удержать равновесие, и напряг одеревеневшие от сидячей работы мышцы — не мог же он допустить, чтобы в этой давке сломали его гитару. Бумага, в которую ее завернули в магазине музыкальных инструментов, промокла от снега и порвалась. Какие-то обрывки, точно крупные теплостойкие снежинки, белели на струнах.
Говорят, что ключицу легко можно сломать. Оскар попытался найти плечом более удобное положение.
Из кабины водителя просачивался запах дизельного топлива. Шофер в сером джемпере грубой вязки медленно поворачивал руль. Перегруженный автобус осторожно проехал мимо стоящих на обочине машин — очевидно, было скользко. На арматурном щитке то и дело вспыхивал индикатор указателя поворота. Оскару почему-то почудилось, что там подмигивает красным глазом какая-то женщина. Очки Оскара запотели. С большим трудом он достал из кармана платок и, не снимая очков, протер стекла.
Когда автобус подъезжал к следующей остановке, индикатор снова зажегся, и Оскар понял, почему ему померещилась женщина. Оказывается, шофер приклеил к арматурному щитку вырезанную из журнала фотографию какой-то красотки таким образом, что когда включался индикатор поворота, в левом глазу женщины начинал мерцать красный огонек.
При виде женщины с сатанинским красным глазом Оскар почувствовал себя не таким уж идиотом. До этого момента он все время испытывал неловкость из-за своей гитары.
— Гитару? — спросила молоденькая продавщица магазина и усмехнулась.
— Вот именно, — ответил Оскар. — За роялем зайду завтра.
Человека на каждом шагу подстерегает опасность стать жертвой моды и сопутствующих ей предрассудков. Гитара в последнее время была монополией одних лишь мальчишек, точно так же, как записью музыки на магнитофонную ленту занимались только женщины пенсионного возраста.
Подростки с ломающимися голосами и прочие юнцы с еле заметным пушком на лице оттерли Оскара от прилавка. Парни держали в руках гитару и со знанием дела громко обсуждали ее качества. Когда же Оскар все-таки установил контакт с продавщицей и в конце концов настолько осмелел, что даже попросил упаковать приобретенную гитару, парни, прищурившись, взглянули на него, демонстративно пожали плечами, и один из них сострил что-то насчет третьей молодости.
Входя в автобус, Оскар подумал, что и здесь он, возможно, вызовет смех. В страшной давке струны гитары на миг коснулись спинки сиденья, и на весь автобус громко дзинькнуло. Оскар втянул голову в плечи и только теперь, встав так, чтобы прикрыть телом предательскую бандуру, почувствовал себя лучше.
Вздор, успокаивал себя Оскар. Он же толстокожий, ничто не должно волновать его.
Говорят, человека легче всего вывести из привычного состояния, когда он устал, угнетен или рассержен.
Сегодня утром Оскар проснулся с тяжелой головой.
Согласно советам модных психологов, он начал сразу же внушать себе: ты здоров, доволен, относительно свободен, с тобой ровным счетом ничего не произошло. И о, чудо, настроение у него скоро исправилось, и даже стало казаться, будто какой-то тихий прекрасный звон сопровождал каждый его шаг. Выйдя из автобуса, он пошел, печатая следы на только что выпавшем искрящемся снегу, а в ушах у него все еще звучал этот таинственный и нежный звон, напоминавший ангельское звучание арфы — или что-то в этом роде.
И лишь позже, на работе, когда он вдруг почувствовал беспокойство и на какое-то время вышел из равновесия, ему вновь на миг вспомнились утренние сомнения и охватившее его чувство тоски.
В глазу красавицы опять замерцал красный огонек. Автобус остановился. Теперь в нем негде было упасть яблоку. Мать с хныкающим и болтающим ногами ребенком протиснулась вперед. Оскару пришлось повернуться, пуговицы его пальто задели за струны, и они издали несколько неопределенных, отрывистых звуков.
В переднюю дверь тоже ломились. Оскар изо всех сил упирался, прикрывая телом гитару.
Надо же, чтобы очередь на такси оказалась такой безнадежно длинной.
В следующий момент он уже перестал раскаиваться, что поехал на автобусе. Он просто-напросто забыл о давке.
Оскара охватила необъяснимая дрожь, что бывало с ним крайне редко. В таких случаях едва ли кто в состоянии дать себе отчет о происходящем. Один-единственный взгляд, и Оскар почувствовал себя во власти какой-то волшебной силы.
Неужели новая Вийвика?
В какую-то минуту отрезвления Оскар усмехнулся про себя. Десятая или которая по счету Вийвика?
Впереди Оскара стояла женщина, чье лицо он не сумел бы так сразу- описать. Доминировали на лице слегка испуганные глаза. Незнакомка с испуганными глазами вошла в автобус не одна. На ту, другую, Оскар даже не взглянул.
Оскар видел, как рука в белой перчатке потянулась за билетом.
— Ирис, ты не выронила билет? — спросила та, другая, у незнакомки с испуганными глазами.
Что за чудесное имя: Ирис!
Рука в белой перчатке снова потянулась к карману. Оскар постарался, насколько это было возможно, чуть-чуть отодвинуться. Локоть Ирис задел за струны гитары.
Большие темные зрачки были устремлены на Оскара.
Оскар собрался с духом и сказал:
— Здравствуй, Ирис. Извини, не могу снять шляпу. Руки заняты.
Большие зрачки сузились, и глаза незнакомки снова приняли испуганное выражение.
— Простите, — неловко пробормотала Ирис.
— Старые друзья что-то не узнают меня в последнее время, — нагло продолжал Оскар, опережая Ирис. — С тех пор, как я ношу очки.
— Возможно, — пробормотала опять Ирис и улыбнулась.
Самое страшное, по мнению Оскара, было позади. По-видимому, он действовал достаточно убедительно. Теперь правильнее будет помолчать и дать женщине с испуганными глазами прийти в себя. Поспешность может все испортить.
Оскар заставил себя смотреть мимо Ирис, хотя это потребовало известных усилий. Взгляд Ирис блуждал где-то далеко. Очевидно, женщина перебирала в памяти — где же она могла встречаться с этим мужчиной?
На следующей остановке многие сошли, в том числе и Ирис. Рука Оскара освободилась. Он поднял шляпу и долго держал ее, не опуская. Когда автобус тронулся, Оскар заметил на себе взгляд Ирис, стоявшей на остановке.
Оскару стало жарко, хотя в открытую дверь автобуса врывался холодный воздух. Теперь он знал остановку Ирис. Это не могло быть случайностью. Ирис должна была жить где-то поблизости. Иначе не могло и быть.
Собственно говоря, он знал Ирис уже очень давно. Он видел эту женщину в летний солнечный день и зимой, в снегопад. Каждый раз, мелькнув в толпе, женщина успевала лишь ошеломить его и повергнуть в растерянность. Возможно, я ошибаюсь, размышлял про себя Оскар. Может быть, воображение и реальность перемешались? Так много людей проходит мимо тебя в течение дня. Они откуда-то являются и куда-то исчезают. И только очень немногие остаются в памяти.
Нет, Ирис он знает давно. Всегда знал. Однажды она даже сидела рядом с Оскаром. Оскар помнил, как его мысли тогда начали растекаться, подобно ртути, и в висках застучало. Возможно, он даже и не взглянул на Ирис и все же оказался у нее в плену.
Очередная Вийвика? Неизвестно которая? Робкое начало знакомства, мимолетные разговоры, пока оба как будто случайно не обнаружат, что их тянет друг к другу. Последует взлет, который будет продолжаться до тех пор, пока не наступит время спада.
Когда Оскар, с гитарой под мышкой, добрался до дома, в передней он увидел Агне. Как всегда она стояла на корточках перед печкой и раздувала огонь.
На Агне были стоптанные тапочки, рукой в перчатке она поднимала поленья. Агне очень заботилась о своих руках. Рукава ее кофты были засучены.
Агне разожгла огонь, поднялась и долгим взглядом посмотрела на Оскара. Оскар поставил гитару в угол, она звякнула.
Задумчивый взгляд Агне неприятно подействовал на Оскара. Он придал своему лицу равнодушное выражение. Сняв пальто, он ради того, чтобы что-то сказать, спросил:
— Керту уже пришла домой?
6
ерту сидела в гостиной, там же находился и Черный Джек. Собственно, это был ее одноклассник Тармо, за которым прозвище Черный Джек сохранилось еще с той поры, когда он и его сверстники проходили стадию ломки голоса и носились шумными ватагами. Говорят, ему до сих пор нравится эта пиратская кличка, хотя оба они с Керту учились уже в последнем классе. Правда, открыто его остерегались называть Черным Джеком. Однажды — погода была еще довольно сносная, и Тармо разъезжал на своем черном мотоцикле — Оскар увидел его у магазина. Парень сидел в седле мотоцикла, на голове у него, как положено, был защитный шлем, который украшала собственноручно сделанная надпись: Черный Джек. Тармо преспокойно сидел на осеннем солнышке и с наслаждением грыз фруктовые вафли с анилиново-розовой прослойкой.
— Прекрасно, — почему-то сказал Оскар, входя в гостиную.
Керту поднялась со стула и подошла к Оскару. На ней опять был тот же неуклюжий свитер, достигавший до половины бедер, из-под которого едва виднелась юбка.
— В чем дело? — спросила она строптиво.
Оскар оторопел. Среди писем, поступавших в УУМ, он неоднократно читал такие, которые начинались словами: «Я презираю своих родителей…»
Оскар усмехнулся.
— Я хотел спросить, играет ли Тармо на гитаре?
Парень покачал головой.
— Старикан-бог не наградил меня слухом, — заметил он равнодушно.
Оскар пробормотал что-то неопределенное и задумался. Он опустился в кресло и на миг забыл о Керту и Тармо.
— Чего это ты надулся? — спросила его Керту.
— Неужели действительно никто не играет на гитаре?
— Не понимаю, что это тебе взбрело в голову, — засмеялась Керту. Похоже, что непривычное поведение отца веселило ее.
— Ну, а петь-то вы, надеюсь, умеете?
— Это еще зачем? — удивилась Керту.
— Чтобы соскрести грязь с сердца, — сказал Оскар.
Керту обхватила руками затылок, подняла глаза к потолку и вздохнула.
Черный Джек в упор глядел на Оскара.
— Кое-кто лишний в этой комнате, — медленно произнесла Керту.
Черный Джек поднялся и провел рукой по коленям, разглаживая брюки.
— Ладно, — примирительно сказал Оскар. — Ухожу.
Оскар вразвалку прошел через переднюю в спальню и долго рассматривал там свое лицо в зеркале, пытаясь понять, что мог прочитать в его взгляде этот мальчишка.
Позже, когда они сидели за столом — Черный Джек уже ушел, — Оскар возобновил разговор о гитаре.
— Для чего? — спросила Керту, теперь уже с легким раздражением. — У нас есть радио, телевизор, магнитофон и пылесос, который жужжит.
— Сели бы в круг и спели, — упрямо проговорил Оскар.
Агне смотрела в тарелку.
Керту фыркнула.
— На тебя опять что-то нашло, — устало заметила Агне.
Оскар украдкой наблюдал за женой. Агне всегда была замкнутой, она никогда никому не смотрела в глаза. Казалось, она была непрерывно занята какими-то своими проблемами, тяжелыми и мрачными. Особенно угрюмой становилась Агне после того, как утрачивала интерес к какому-нибудь из своих очередных хобби.
Последнее хобби Агне, длившееся не один год, оставило в их квартире глубокий след. Агне ходила в какой-то кружок рукоделия, где ткали на ткацких станках. Время от времени она приносила домой коврик или покрывало. Оскар не переносил эти тряпки с симметричным узором, которыми Агне покрывала стулья и диваны. И вечно одно и то же — крестики да звездочки, красные, зеленые и коричневые. Вначале Оскар пытался протестовать, но на Агне это не производило никакого впечатления. Жена утверждала, что хочет сделать их дом уютным. Каждую весну, когда солнце все ярче светило в комнаты, выцветшее рукоделие Агне казалось особенно безобразным. Может быть, дело было в Оскаре, на которого все эти крестики и звездочки действовали удручающе. Хотя все знакомые утверждали, что у Агне есть вкус и что дома у них уютно.
Разумеется, страсть Агне к рукоделию не шла ни в какое сравнение с ее предыдущим увлечением камнями. В ту пору Агне таскала в дом всевозможные камни и гальку. Раскладывала их по углам, стремясь составить художественные композиции. Однажды, возвращаясь домой, Оскар издали увидел Агне, она шла по проезжей дороге рядом с каким-то стариком, толкавшим тачку. Агне, оживленно жестикулируя, разговаривала с этим дедом. Достигнув ворот, они вдвоем подхватили из тачки массивный валун и потащили его в дом.
До тех пор, пока камни заполняли лишь углы комнаты, жизнь в квартире была еще более-менее сносной. Хуже стало, когда Агне вынесла мебель на чердак, и они стали жить на камнях. Положенная на камни доска должна была служить полкой. Вторая доска, поставленная на половинку жернова, представляла собой стол. Однажды вечером, выйдя из себя, Оскар заменил подушку на кровати камнем. Вот тогда Агне испугалась. Постепенно и незаметно камни стали исчезать из дома.
Спина пребывающей в вечной деятельности Агне становилась все мускулистее. Оскар смотрел на свою жену и думал, что голова ее между широкими плечами делается все меньше и меньше. Ему надоело сидеть за столом, а встать было лень. Собственно говоря, следовало бы вынуть из ящика скакалку, положить ее в карман и выйти из комнаты. Мозговой инспектор посоветовал ему по вечерам прыгать. И действительно, Оскар не раз добрым словом поминал этот совет. Стоило ему на свежем воздухе сделать положенное количество прыжков, и он спал как убитый, не нуждаясь в снотворном.
Летом, в период белых ночей, прыгать становилось все труднее. Оскар беспрестанно ощущал тягостное беспокойство, словно кто-то преследовал его. Он не хотел, чтобы его застали за этим занятием, и обычно уходил для своих вечерних упражнений на маленькую и тихую мощеную площадку за подстанцией, куда не так-то просто было проникнуть постороннему взгляду. Однажды он решил пойти в лес. Только он начал прыгать, как услышал где-то поблизости от себя пыхтение и свист рассекаемого воздуха. Испуганный этим, он стал прислушиваться, думая, что на кого-то напали. Подавив в себе страх, Оскар подкрался туда, откуда доносились звуки. Спрятавшись за ствол, он увидел полного мужчину, прыгавшего через широкий ремень, который, описав в воздухе большую дугу, шлепался о землю.
Даже у мозгового инспектора арсенал не был неисчерпаем, какие-то советы являлись универсальными.
Воспоминание об этом случае в лесу заставило Оскара улыбнуться. Забавно было представить себе каждого за его любимым занятием. Оскар словно видел себя прыгающим через веревку. Тут же, поблизости, запыхавшаяся Агне тащила в охапке валун. Над ними в седле мотоцикла, сидел Черный Джек и грыз вафли с анилиново-розовой прослойкой.
Оскар с удовольствием отправился бы попрыгать, и только сырость и промозглость вечера удержали его от этого. Прыгая, он мог бы всего себя забрызгать грязью.
Керту стала убирать со стола, но Агне остановила ее.
— Нам надо поговорить, — сказала она.
Агне будто очнулась от какого-то оцепенения. Еще до того, как она заговорила, ее щеки пошли пятнами.
Оскару стало не по себе, и он посмотрел на Агне с некоторой опаской. Керту, догадавшаяся, о чем будет разговор, сказала:
— Может быть, без меня? У меня завтра две контрольные.
— Нет. Это касается и тебя. Останешься здесь.
Оскар вздохнул. Все предвещало приближение взрыва.
Оскар пытался убедить себя, что натура Агне время от времени требует небольшого скандала. Впрочем, он убедился, что термин «небольшой скандал» довольно далек от того, что обычно происходило.
Раза два в году Агне вела себя подобно вулкану во время извержения. Повод всегда находился. Оскар до сих пор так и не мог решить, что же все-таки лучше — кратковременно действующий вулкан или ежедневное землетрясение в несколько баллов. За свою жизнь он с избытком познал на собственной шкуре и то, и другое. В свое время подобные «землетрясения» ежедневно вызывала мать Оскара. Агне была замкнутой и молчаливой до тех пор, пока не накапливалось достаточно поводов, — и тогда происходило извержение.
— Пепел, огонь и лава, — буркнул Оскар себе под нос.
Керту словно ошпарило. Одно плечо у нее опустилось, другое беспомощно торчало, подобно птичьему крылу. И поэтому ее неуклюжий свитер, казалось, еще больше обвис на ней.
— Вы должны считаться со мной, — сердито фыркнув, сказала Агне. — Вы и так слишком редко считаетесь со мной.
Как в свое время Оскару импонировал уверенный и сильный характер Агне! Ее сложение баскетболистки и непоколебимость ее натуры казались Оскару на редкость гармоничными.
С первых же дней знакомства Оскар почувствовал себя рядом с Агне очень надежно. В то время Агне заканчивала факультет физической культуры, а Оскару оставалось еще год учиться на юридическом. Возможно, что маленькая разница в возрасте, усугубляемая тем, что Агне опередила его в учении, подсознательно вызывала у Оскара ощущение защищенности. В смятении он сбежал от матери учиться в другой город, и кажущийся контраст в характерах матери и Агне стал для него роковым.
— Убери на всякий случай посуду, — посоветовал Оскар Керту.
Заряд горького смеха, заложенный в его словах, не дошел ни до Керту, ни до Агне. Керту, которая со всех ног было бросилась выполнять распоряжение Оскара, только б вырваться из этой напряженной обстановки, застыла на месте от сурового взгляда Агне.
— Сегодня мне звонила некая Вийвика, — выпалила Агне. — Она требовала тебя и еще что-то. Беспокоилась, скоро ли ты будешь свободен.
— Типичный шантаж, — поспешил вставить Оскар, чтобы успокоить Агне.
Керту съежилась, готовая спрятаться под стол, и натянула воротник свитера по самые уши. Она натянула его так высоко, что, казалось, ее голова торчит, как из трубы.
— Ты не считаешь меня человеком, — со странным спокойствием сказала Агне и посмотрела мимо Оскара. — И это не в первый раз.
Оскар опустил глаза. На нем не было свитера с таким большим воротником, чтобы можно было натянуть его по самые уши.
— Я не знаю, зачем она тебе звонила, — нерешительно ответил Оскар. — Я с ней едва знаком.
— Может быть, ты ей сказал, что едва знаком со мной, — огрызнулась Агне. — Того, что она мне сказала, было достаточно…
Теперь Агне больше не владела собой.
Она громко зарыдала. Ее маленькое лицо стало багровокрасным. Тело вздрагивало. Мускулистые плечи, когда она поднесла руки к глазам, показались ему слишком атлетическими.
— Прошу тебя, Агне, — успокаивал ее Оскар. — Ведь здесь Керту.
— Если ты ничего не понимаешь, то пусть она, как дочь, вразумит тебя, — пробормотала Агне сквозь слезы.
Керту удивленно подняла глаза. Воротник ее свитера сполз на плечи, и она не отрываясь смотрела на мать.
Когда-то очень давно, впервые увидев, как Агне вспыхивает подобно вулкану, Оскар не на шутку испугался. Он стал утешать жену, как умел, и говорить ей всякие хорошие слова. Самый первый взрыв произошел, кажется, из-за Анники. Собственно говоря, сейчас он уже и не помнил Аннику. Разве только, что Анника любила голубой цвет и отращивала чудовищной длины ногти на своих маленьких пальцах. После Анники Оскар довольно долго держался подальше от женщин. Домашний мир был восстановлен, они с Агне разыгрывали счастливую семью и учили Керту читать по букварю. Керту как раз в то время ходила в первый класс.
Но вдруг Агне перестала по вечерам бывать дома. Начались какие-то бесчисленные дни рождения, встречи, курсы. Кроме того, Агне в ту пору увлеклась изучением языков, и стихосложение на эсперанто стало ее хобби.
Однажды вечером Оскар случайно увидел ее в кафе. Агне сидела там с неизвестным мужчиной.
У Оскара снова выросли крылья, и он нашел Эрику.
Вскоре огнедышащая гора опять пришла в действие. Оскара это уже мало пугало. Мужчина, с которым Агне сидела в кафе, был для Оскара хорошей страховкой. Оскар не знал да и не хотел знать, как долго тянулся роман Агне. Едва ли это было серьезно. Уже на следующее лето Агне овладела страсть к пешим походам, и она стала таскать с собой Керту.
Поскольку с течением времени Оскар привык к вспышкам Агне, то не слишком серьезно воспринял и сегодняшний взрыв. Он надеялся, что у Агне это скоро пройдет.
— Ты жалкая душонка! — воскликнула Агне с ненавистью.
— Мама, пожалуйста, перестань, — прошептала Керту.
— Молчать! — заорала Агне. — Учись жизни! Набирайся опыта в семейных отношениях.
— Почему вы оба такие злые? — примирительно пробормотала Керту.
— Ни один из вас не считает меня человеком, — продолжала Агне, повышая голос. — Хотите, чтобы я молча все сносила. Не смела проявлять свой характер! Все для того, чтобы вам было удобнее. Моя участь — жертвовать собой, ни на что другое я не гожусь!
— Тогда расходитесь, если вы не можете жить вместе! — крикнула Керту и разразилась слезами. Девочку трясло и она снова натянула воротник свитера на самые уши.
Теперь Агне окончательно впала в бешенство. Она вскочила, бросилась к Керту и стала трепать ее за волосы.
У Оскара внутри словно что-то перевернулось. Ледяная дрожь охватила его с головы до ног, и в течение какого-то мгновения он был совершенно беспомощен. Потом он понял, что ему надо делать. Вернув себе способность двигаться, он встал из-за стола и нарочито медленно пошел в прихожую. Взяв в углу гитару, он, бренча струнами, вернулся к столу.
Агне отпустила Керту. Керту подняла голову, следя за каждым движением Оскара. Глаза у девочки покраснели, длинные волосы были всклокочены. С чуть приоткрытым ртом и заострившимися чертами лица, Керту стала удивительно похожа на него.
Оскар крепко сжал обеими руками гитару и поднял ее высоко вверх. Какой-то миг он разглядывал свои побледневшие от напряжения пальцы, а потом трахнул гитару о спинку стула.
Остов гитары разлетелся в щепки, а струны искривились. Они слегка вибрировали. Раздался странный звук. Звук был столь необычный, что Оскар не удержался, двумя пальцами приподнял струну и приложил к уху.
Однако теперь он уже больше ничего не слышал.
7
аряду с повседневной кропотливой работой, мы не должны упускать из виду самого главного. Ограниченность кругозора несовместима с нашим учреждением. Нельзя забывать: УУМ создан для того, чтобы помогать людям, служить им опорой. Наши корреспонденты изливают нам душу, и УУМ — это та отдушина, которая помогает им избавиться от лишнего бремени. Мы собираем мнения, систематизируем их и посылаем дальше в надлежащие учреждения. УУМ как бы наблюдает в лупу за теми токами, которые проходят через человеческий мозг.
Раньше люди посылали свои заявления и жалобы непосредственно в соответствующие учреждения. Специалисты различных отраслей были вынуждены просматривать их. Кроме того, отсутствовал какой бы то ни было обзор круга проблем, которые люди затрагивали в своих письмах. Создание УУМ'а было во всех отношениях положительным явлением, аморфность сменилась централизацией, несравненно больше соответствующей нашему времени.
Чтобы общество развивалось, надо знать мысли и мир чувств его членов. Раньше мир чувств считался интимной сферой, куда не смел проникать посторонний взгляд. Научные исследования последнего времени показывают, что на поступки человека весьма существенно влияет его душевное состояние.
Если в тяжелые послевоенные годы люди в первую очередь занимались делами, от которых зависело их существование, проще говоря, мысли человека были заняты заботами о еде, одежде и крове, то теперь человек для полного своего удовлетворения нуждается в гораздо большем. Душевное равновесие нельзя понимать как вялость духа и равнодушие, напротив, в идеальном случае это свидетельствует об отсутствии разрыва между стремлениями и достижениями.
В общем лабильная динамика душевного состояния требует все более интенсивного углубления в сложный комплекс этих проблем, дабы по мере возможности сохранять чаши весов на одном уровне.
Видоизменение стремлений, отраженное в письмах, посылаемых в УУМ, дает нам картину модификации человека на определенных отрезках времени. Пусть хотя бы в течение года-двух, что, разумеется, является мизерной единицей времени, если принять во внимание историю в целом. Возможность сконцентрировать внимание даже пока на маленьких сдвигах позволяет нам с удовлетворением констатировать, что изучение человека достигло довольно-таки высокой ступени.
Письма, поступающие в УУМ, убедили нас в том, что и самые незначительные проблемы частной жизни требуют научного подхода. Мы должны добиться такого положения, при котором могли бы в большом количестве предлагать положительные модели человеческих отношений.
Мне могут возразить, что стремление к душевному спокойствию, быть может, и не являлось главным поводом для написания письма. Верно, всякие жалобы, касающиеся сферы обслуживания, неполадок с транспортом, неурядиц с ремонтом и прочих мелочей, — все это, пожалуй, относится только к быту. Но я бы хотел возразить возможному оппоненту: широкая постановка и таких проблем — разве это не говорит о возросшей общественной активности современного человека!
Здесь тоже косвенно проявляется стремление к душевному равновесию — ведь если человек не может освободиться от груза волнующих его обстоятельств, его начинает точить червь неудовлетворенности, подрывающий нервную систему.
Нет ничего важнее внутренней гармонии, являющейся предпосылкой счастливой жизни. Во имя счастья человека мы делаем свою скромную работу.
С такой речью выступил Рээзус перед гостьей, писательницей, автором букваря из Андорры. Изложение принципов УУМ'а потребовало уйму времени, так как каждую фразу переводили на понятный автору букваря каталонский язык.
Гостью принимали в каминном зале УУМ'а. В центре сидел доктор наук Рауль Рээзус, рядом с ним расположились все три начальника отделов. Во время ответственных выступлений Рээзус любил держать начальников отделов под рукой — так можно было не бояться, что он забудет нужные данные и попадет в неловкое положение.
Тийна Арникас по второму кругу разносила кофе, и ее любопытству не было границ. Еще до приезда писательницы из Андорры по УУМ'у прошел будоражащий умы слух: автор букваря носит в носу расширители, что считалось последним криком мировой моды. Эти штампованные из пластмассы полукружья вставлялись в ноздри, что придавало лицу неповторимое своеобразие, которое, правда, казалось позаимствованным у какой-нибудь чернокожей африканской красавицы. Это новшество моды придавало человеческому голосу необычный носовой звук. Ээбен, обладающий способностью проникать мыслью в будущее, услышав про носовые расширители, предположил, что если вмонтировать в пластмассовые полукружья еще и вольфрамовые струны, то человечество одним махом пройдет стадию ломки голоса.
Пророчество Ээбена зиждилось отнюдь не на пустом месте. Некоторые более предприимчивые музыканты — такой, во всяком случае, ходил слух — уже перестроили свои инструменты, стараясь выжать из них модные носовые звуки. Не было ничего невозможного в том, что музыкальные инструменты, творчество композиторов, а также звукозапись, — одним словом все, что имело дело с человеческим голосом или его имитацией, — находилось накануне революции.
Потому-то работники УУМ'а, собравшиеся по случаю визита писательницы из Андорры в каминном зале, и глазели на нос вышеупомянутой заморской дамы. Может быть, в ее растянутых ноздрях таилась частичка великого начала? Если по примеру Ээбена заглянуть в будущее, то можно было себе представить, что с трансформацией голоса и звука иным должно стать и их восприятие. Не говоря о звуковой аппаратуре, ничего невозможного не было и в искусственном усовершенствовании человеческого уха. Ведь должен же человек научиться воспринимать эту новую для него гнусавость — вот и прикрепят к его голове рупорообразный звукоулавливатель.
Хотя дама, удостоившая УУМ своим визитом и любезно продемонстрировавшая андоррский букварь, вызвала на лицах присутствующих недоуменную улыбку, тем не менее все остались в высшей степени довольны заморской гостьей. Новые ветры никогда не проносятся мимо!
Речь Рээзуса не пробудила у автора букваря никаких эмоций. Прихлебывая кофе, дама, будучи энтузиастом своего дела, сравнивала местный букварь с андоррским изданием. Время от времени она гнусаво смеялась — видимо, ее забавляло, что местная и андоррская азбука начинается с буквы «А», и что в обоих изданиях можно обнаружить еще кое-какие совпадения.
Рээзус, который в любых условиях чувствовал себя, как рыба в воде, с помощью переводчика давал пояснения к местному изданию. Во всяком случае, он не ударил лицом в грязь, и культурные связи, завязавшиеся между представителями двух народов, обещали быть крепкими, как канат.
По окончании приема Рээзус обязал Оскара проводить даму в отель.
В вестибюле отеля Оскар хотел откланяться и уйти, но дама, через переводчика, попросила его остаться. Она сказала, что на нее произвело неизгладимое впечатление посещение их очаровательного учреждения и что она с удовольствием подарит букварь с автографом Оскару на память. Только для этого она должна на минутку подняться в свой номер.
Тем не менее дама не спешила за обещанным букварем. Она говорила о чем-то с переводчиком, смотрела на часы, переводчик кивал головой, а Оскар терпеливо стоял рядом. Не выказал он нетерпения и когда дама, отпустив переводчика, стала подниматься на лифте наверх.
Не прошло и получаса, как автор букваря из Андорры вернулась. Книгу она забыла и, смеясь, показала на свои виски — по всей вероятности, склероз получил распространение и в Андорре.
Оскар не решался уйти, хотя чувствовал себя преглупо — разговаривать с помощью жестов было, по его мнению, сущим идиотизмом. Народу в вестибюле собралось больше обычного, на них посматривали. Оскар предположил, что это вызвано шумихой вокруг носовых расширителей представительницы Андорры.
Страдающий от неловкости Оскар сник бы окончательно, не прошепчи вдруг писательница с модным носом ему на ухо на чистейшем местном языке:
— Удерем отсюда!
Оскару почудилось, что его хотят похитить. Он, словно загипнотизированный, последовал за автором букваря, устремившейся с вытянутой вперед рукой через улицу.
— Мы должны успеть до того, как совсем стемнеет…
Писательница назвала адрес.
Потом они шли по аллее, и Оскар удивлялся, как хорошо андорка знает дорогу.
Зачем, куда, да и кто она, собственно, такая? Временами Оскар чувствовал себя соучастником преступления, безо всякого сопротивления подчинившимся чужой воле. Одновременно его подстрекало любопытство. Но еще сильнее было чувство гражданского долга. Оно толкало Оскара вперед, словно ему предстояло предотвратить нечто недозволенное.
Андорка ни в какие объяснения не пускалась. Она торопилась, шагая так широко, как позволяло ее модное платье.
Перед глазами Оскара мелькнул зеленый огонек. Сев в такси, дама отвернулась от Оскара. Она порылась в сумочке, щелкнула замком, вздохнув, подняла руку и, наконец, повернулась к Оскару.
Оскар не узнал ее.
Дама сняла носовые расширители, шляпу и парик. Оскар увидел усталое и уже совсем немолодое лицо, подстриженные под мальчика волосы с проседью.
— Все останется между нами, не правда ли? — прошептала автор букваря.
Оскар открыл было рот, собираясь засыпать даму вопросами — так требовал его внутренний долг. Но тут андорка сжала ему руку, и это волнующее пожатие подействовало на него весьма странным образом. Оскару показалось, что его лицо глупо перекосилось.
Женщина улыбнулась.
На углу они сошли. Дама остановилась, посмотрела на тротуар и наклонилась. Каково же было удивление Оскара, когда она ловким движением сняла с туфель каблуки, будто они держались на магните, и сунула их в карман. Теперь автор букваря шла по неровным плитам тротуара пружинящей походкой, словно на ней были комнатные тапочки.
— Эта улица всегда была такой, — сказала Оскару женщина.
Оскар, который все еще не мог привести свои чувства в равновесие, хотел схватить женщину за руку, остановить ее и допросить.
— Бог мой, — прошептала андорка. — Неужели в мире есть что-то вечное? Неужели это возможно?
Она остановилась. Взгляд ее был устремлен вверх, глаза экзальтированно блестели.
Оскар перевел дух и внимательно огляделся.
Они стояли во дворе обычного, построенного лет сорок — сорок пять тому назад дома. Здание из белого искусственного камня все было в серых подтеках, некрашенные оконные рамы — в саже. Двор был вытоптанный, если этот неогороженный участок за домом вообще можно было назвать двором. В глубине стоял металлический гараж с широкой полосой резины над висячим замком. Около стены дома росла старая ива, кора ее была повреждена грузовыми машинами, очевидно, когда вывозили мусор или привозили топливо.
Здесь же, чуть в стороне, находились мусорные контейнеры, все разные, некоторые без крышек.
Но автор букваря из Андорры стояла как зачарованная, в ее больших зрачках отражалось нечто такое, от чего она глубоко вздыхала. Машинально ее рука поднялась к горлу, словно она искала пуговицу, чтобы расстегнуть ее, но пальцы не нащупали ничего, кроме пушистого шарфа.
— Что показалось вам вечным? — спросил Оскар и не узнал собственного голоса, как будто он говорил в пустой церкви.
Женщина отмахнулась от Оскара и завороженно посмотрела наверх.
Оскар внимательно разглядывал стену дома. Ничего достопримечательного. Ровный ряд окон, светлые и темные занавески, которые сейчас, в сумерках, казались сероватыми. В некоторых квартирах горел свет, с потолка свисали плафоны с двумя или тремя светильниками. На одном из подоконников была прикреплена кормушка для птиц — попорченная дождем фанерная платформа клонилась книзу. Окно справа от кормушки было забито деревянными дощечками, словно перед ним поставили поперечную решетку. Оскар сперва и не заметил этого, потому что за окном еще не зажигали света.
Он догадался, что автор букваря из Андорры смотрела именно на это окно.
На всякий случай Оскар приметил, где оно находится. Четвертое от угла, на третьем этаже. Прямо под окном стояла поленница. Хорошие дрова, этак кубометра три-четыре.
Едва Оскар успел остановить оценивающий взгляд на поленнице, как туда, будто по телепатическому приказу, двинулась автор букваря.
Она подошла к дровам, встала на, цыпочки, выудила из поленницы полено и медленно поднесла его к лицу.
Оскар испугался.
Женщина, держа у носа полено, зачарованно произнесла:
— Осина!
Из-за угла вышла маленькая девочка с щенком на руках. Она опустила его на траву, и щенок, обнюхивая землю, побежал к мусорным контейнерам.
— Нельзя! — сказала девочка.
Щенок завилял хвостом, несколько раз подпрыгнул и лапами попал в золу, просыпавшуюся через край контейнера.
Автор букваря из Андорры осторожно положила полено на место. Она протянула руки и стала приближаться к Оскару. На лице женщины блуждала нежная улыбка. Не отдавая себе отчета, Оскар тоже протянул навстречу ей руки. Женщина схватила их. У нее были сильные пальцы.
— Спасибо, — проговорила она растроганно.
Уже в полной темноте они, спотыкаясь, перешли неровную улицу и вышли к крошечному парку.
Женщина остановилась под деревом и приказала:
— Поймайте машину, я подожду здесь.
Резко сказанные слова подействовали на Оскара, как удар хворостиной по лицу. Оскар знал, что поблизости должна быть стоянка такси, но пошел туда нехотя, двигаясь боком. Ему казалось, что он не должен оставлять женщину одну. Его все еще мучило, может быть, даже больше, чем раньше, какое-то внутреннее беспокойство. Он гнал от себя эту навязчивую мысль: не подозревай! И все же подозревал. Дурацкие видения мелькали в его сознании: автор букваря, которую он оставил стоять под деревом, засовывает в дупло пластиковую бомбу, роет каблуком землю и прячет туда страшное комковатое вещество — измышление современной науки, уничтожающее и убивающее прежде, чем успеваешь сообразить.
Оскар терпеливо выстоял очередь, хотя его снедало ужасное беспокойство. Обычно неплохой выдумщик, он не мог сейчас придумать ни одной правдоподобной истории, которая, будучи преподнесена согражданам, помогла бы ему скорее получить машину.
Когда подошла очередь Оскара, автор букваря из Андорры оказалась рядом с ним. Конечно же, это была она, потому что приветливо улыбнулась ему и, само собой разумеется, первой залезла в машину.
Оскар должен был взять себя в руки, чтобы назвать шоферу отель. Еще больше усилий потребовалось ему, чтобы посмотреть на даму.
Губы и глаза женщины фосфоресцировали, лицо смугло пылало, носовые расширители были водворены на место. Все это венчал бледно-лиловый парик, который разделялся надвое прямым пробором, как бы образуя заячьи уши. Одно ухо обвисло, и женщина возилась с ним до тех пор, пока оно не встало торчком. Оскар хотел спросить, есть ли там внутри проволока, но не рискнул. Когда машина свернула на освещенную улицу, Оскар заметил на указательном пальце женщины огромный перстень. Странное украшение опять заставило Оскара заподозрить неладное, и он еще раз взглянул на руку женщины. Это было не кольцо, а вделанные в кольцо часики. Оскар облегченно вздохнул.
Когда он снова решился взглянуть на молчавшую женщину, то увидел, что андорка плачет. В зеленоватом отсвете ламп дневного света даже слезы, казалось, фосфоресцировали.
Оскар затаил дыхание. В висках стучало. Если только что он собирался завезти андорку в отель и ехать дальше, то теперь передумал.
Шофер такси подозрительно часто посматривал в зеркальце. Оскару не хотелось заводить с ним разговор о своей попутчице, чтобы удовлетворить его любопытство.
— А теперь пойдем в бар, — весело сказала женщина, когда они вышли у отеля.
На лице дамы не было никаких следов слез, хотя Оскар не заметил, чтобы она в машине пользовалась носовым платком.
Женщина легким пружинящим шагом шла впереди Оскара, на ее черных лакированных туфлях рдели красные каблуки.
8
углу бара как раз освободился столик. Они сели под красным грушевидным светильником. Автор букваря устроилась спиной к кованой фигуре, украшавшей стену. Оксидированный прутик извивался по белой поверхности стены так, будто рука человека, придумавшего это произведение искусства, рассеянно провела карандашом по бумаге, набрасывая эскиз. Стенное украшение могло породить любые представления. Перед глазами Оскара маячило нечто среднее между параграфом и крюком, на который вешают мясо.
Писательница из Андорры выложила на стол прямоугольную денежную купюру и распорядилась:
— Сегодня я хочу начать слева.
— А именно? — с готовностью спросил Оскар.
— Там над стойкой полка. Я хочу попробовать все. Очередность — слева направо.
Этот странный заказ Оскар сделал официанту на иностранном языке. Он решил, что так будет более к месту.
— Приступим к делу, — сказала дама, когда первые две рюмки и кофе были поданы на стол.
— Что я должен делать? — спросил Оскар.
— Слушать.
Оскар съежился.
Мало было ему УУМ'а. Мало ему было Вийвики, Анники, Эрики, Марики и всех остальных, которых он вынужден был слушать! Все только и хотят изливать душу. Только и ищут кого-то, кому можно поплакаться в жилетку! Но это была всего-навсего обычная реакция Оскара, выработавшаяся в нем с годами. На самом же деле его интересовало все, что касалось андорки.
— У вас добрые и честные глаза, — заметила дама, как бы поясняя, — и поэтому именно вы узнаете, кто такая автор букваря для андорских детишек.
— Хорошо, — пробормотал Оскар. Он старался смотреть на писательницу из Андорры так, чтобы кованое украшение, напоминающее параграф, не попало в поле его зрения.
— Я много раз пыталась покончить с собой, — начала она. — Первый раз это было в том самом доме, который мы с вами ходили смотреть. Мне было тогда пять лет.
Женщина рассмеялась.
— Потом окно заколотили деревянной решеткой. Она до сих пор там. Неужели это возможно? Не может быть, чтобы меня обманули мои глаза?
Автор букваря схватила Оскара за руку и через стол наклонилась к нему поближе.
— Но ведь там действительно была решетка, — пробормотал Оскар.
— Я давно не была так счастлива, как сегодня вечером.
Я словно остановила время, словно наконец добралась до какого-то важного отправного пункта.
Андорка отпустила руку Оскара и снова прислонилась к спинке стула. Открыв сумочку, женщина вынула оттуда блестящий предмет, напоминающий маленький футляр для карт, нажала на невидимую пружинку и в следующий момент поймала ртом выскочившую из футляра сигарету.
Оскар перевел не одну спичку прежде, чем сумел предложить даме огня. Газовую зажигалку он оставил на столе в кабинете УУМ'а.
— У нас на стене висел ковер со звездой. Мой отец — он был маленького роста, — играя на скрипке, всегда головой закрывал звезду. Родители часто ссорились. Мать никогда не бывала довольна отцом. Не знаю почему, но в то время я не могла понять их, очевидно, не смогла бы и сейчас. Помню, отец стоял перед звездой и играл на скрипке. Мать ворвалась в комнату, схватила скрипку и хотела ударить ею отца. Отец отскочил в сторону, и мать угодила скрипкой по звезде. Затем отец повел себя совершенно противоестественно. Он схватил разъяренную мать в объятия и стал ее страстно целовать. Это было ужасно. Непонятно и страшно. После этого мне расхотелось жить. Когда они ушли в другую комнату, я выбросилась из окна.
Включили музыкальный автомат. Оскар повернул голову и на расстоянии шага увидел ожидающего официанта.
— Какой флажок принести на стол? — спросил он у Оскара и осторожно покосился на парик с заячьими ушами, украшавший голову автора букваря.
— Андорры, — шепотом ответил Оскар.
— Сине-желто-красный, — громко добавила женщина, чтоб официант, прервавший их разговор, поскорее удалился.
— Чем же кончилось великое падение маленького ребенка? — спросил Оскар.
— Под окном стояла поленница. Кто-то положил на нее матрац — проветрить.
Автомат, кажется, испортился, музыка прекратилась. Оскар обеими руками схватился за сиденье стула. Игра на стульях в «Кто лишний», которой они развлекались в УУМ'е, настолько вошла ему в кровь и плоть, что невольно и здесь у него появилось желание захватить стул.
Автор букваря по-своему истолковала поспешный жест Оскара.
— Знаете, раньше, когда мне рассказывали о падениях, у меня тоже начинала кружиться голова. Мне надо было обязательно за что-то ухватиться, чтобы снова обрести равновесие.
Оскар кивнул.
— Теперь я только и делаю, что ношусь по горным дорогам, так что в ушах свистит — и ничего.
Вместе с очередными бокалами на стол принесли довольно убогий на вид флажок Андорры. На красную материю были наспех наклеены синие и желтые полоски бумаги. Автор букваря из Андорры с усмешкой посмотрела на флажок, оперлась локтями о стол и скрестила пальцы, словно собираясь произнести молитву. Палец, на который было надето огромное кольцо-часы, несколько раз вздрогнул в такт тиканью часов.
— Вы знаете, что в Андорре много контрабандистов? — ни с того ни с сего спросила автор букваря.
— И вы тоже?
Женщина удивленно подняла брови.
В эту минуту в бар вошли трое молодых людей и сели за стойку. На них были серебряные носки, и Оскару показалось, что в темноте, под стойкой, поблескивают светлячки. Он решил быть поосторожнее и не так часто поднимать рюмку.
Автор букваря из Андорры тоже остерегалась много пить. Лишь чуть-чуть пригубив, она отодвигала от себя каждую следующую рюмку. Только когда очередь дошла до коричневого ликера, андорка осушила весь бокал и украдкой провела языком по фосфоресцирующим губам.
Оскара заинтересовали наиболее распространенные в Андорре способы самоубийства, ему хотелось знать, какие из них автор букваря испробовала на себе. Но женщина не отреагировала на вопрос. Она о чем-то думала, улыбаясь про себя, временами на ее лице появлялось выражение грусти. Оскар понял, что его спутница с головой ушла в воспоминания.
Вдруг с андоркой стало твориться что-то странное. Подперев рукой щеку, она как будто задремала, голова ее свесилась вниз, однако глаза оставались открытыми. Ухо парика снова повисло, как в такси. Потом женщина запрокинула голову и, глядя в никелированные пластины потолка, как в зеркало, еще ниже опустила заячье ухо. После чего, подвернув вниз и второе ухо, вытаращенными глазами посмотрела на Оскара. Облик ее совершенно изменился, бледно-сиреневая челка, образовавшаяся из ушей парика, подчеркивала темную глубину ее глаз.
— У вас много лиц, — заметил Оскар. Ему захотелось потанцевать с автором букваря.
— У меня их было еще больше, — печально сказала женщина. — Но с каждым годом некоторые из них уходят.
— Где же вы их теряете, я бы подобрал какое-нибудь, — попробовал пошутить Оскар.
Андорка нахмурилась. Она дотронулась большим и указательным пальцем до переносицы и начала вспоминать.
— Одно погребено под обломками во время землетрясения. А иногда люди уносят их с собой, чуть ли не силой. Утром загляните в карман, вдруг и вы захватили какое-нибудь, — пробормотала женщина.
— Утром?
Оскару не хотелось смотреть на часы.
— Бывает, что у меня безвозвратно похищают мое самое любимое лицо — тогда я стремлюсь избавиться и от остальных. Мое детское лицо исчезло в тот раз, когда отец стоял перед звездой и играл на скрипке. Знаете, какое это потрясающее чувство, когда, прыгая из окна, вы приземляетесь на матрац. Впоследствии у меня не было ни одного переживания, равного этому.
На мгновение женщина умолкла, следя взглядом за серебряными носками под стойкой, синхронно двигающимися вверх-вниз.
— Я бы с удовольствием еще раз испытала это сегодня. Только вот эта деревянная решетка!
— А матрац мы бы нашли, — игриво произнес Оскар.
Женщина откинулась назад и задумалась. Изогнутое кованое украшение обрамляло ее лицо. Чего только не выражал этот витой металлический прутик! Оскар видел горы и пропасти, и что-то бесконечно таинственное, чему не мог найти определения. Он стремился к ясности и в первую очередь в отношении личности автора букваря из Андорры. С каким бы удовольствием он сорвал с нее, как маску, все эти бесчисленные фальшивые лица, лишь бы увидеть под ними ее настоящее лицо. Ну, а если он поймет неуместность столь поспешных и решительных действий — то устранить эти чужеродные пласты осторожно и постепенно, как снимают со старых полотен более поздние слои краски.
Женщина очнулась от своих мыслей, опять порылась в сумочке и вынула на этот раз оттуда толстый фломастер.
Поддерживая флажок рукой, она ловко нарисовала на желтой бумажной полоске корону.
— Меня все время тревожило, что чего-то не хватает, — пояснила она.
Громкая музыка резала слух.
Гул голосов усилился. Серебряные носки под стойкой бара задвигались с еще большим рвением. У дверей толпились люди. Они куда-то торопились, но тут же забывали — куда и снова шныряли между столиками. Взгляд автора букваря переходил с одного лица на другое. Состояние задумчивости сменилось беспокойством. Из футлярчика с пружиной прямо в рот выскочила новая сигарета, лишь только предыдущая была погашена в пепельнице.
— Как мы любим стулья, как ненавидим их и как много приходится нам, в общем, стоять, — заметила женщина, не отводя взгляда от снующих людей.
— Что стало впоследствии с вашими родителями? — полюбопытствовал Оскар. Он подумал об отце андорки, который стоял перед звездой и играл на скрипке.
— Что может случиться с людьми в современном мире? — равнодушно ответила женщина. — Их либо убивают, потому что так написано у них на роду, либо они погибают каким-то другим образом, не закончив дистанции. В лучшем случае они умирают без посторонней помощи.
Разговор не клеился.
Оскар чувствовал, что сегодня судьба отомстит ему. Сейчас, когда его любопытство достигло апогея, андорка будто нарочно замкнулась в себе.
Молчащая женщина парализовала Оскара. Из головы у него улетучились все мысли. Его внимание привлекала только андорка. У него было такое чувство, что он забыл все на свете, кроме собственного имени. От ужаса лоб его покрылся испариной. Он судорожно пытался вспомнить год своего рождения. Возможных вариантов было три, и Оскар не мог выбрать нужного. Почему-то ему казалось, что предполагаемые годы его рождения были все одинаково трудными, но почему — он не мог вспомнить. От панического страха руки его задрожали, он не знал, куда их деть, чтобы предательская дрожь не бросилась в глаза писательницы из Андорры.
— У вас дрожат руки, как у старого крупье, — сказала женщина, и звук ее голоса еле-еле донесся до Оскара.
Музыка оглушительно била в уши.
Внезапно Оскару стало спокойно и тепло. Женщина положила свою ладонь на его руки. Видимо, биотоки, исходившие от нее, благотворно подействовали на Оскара.
— Не пейте больше, — посоветовала она.
Оскар с трудом повернул голову от музыкального автомата и посмотрел андорке в глаза.
— Я вам дам таблетку; станет легче, — предложила женщина.
У самого рта Оскара, на протянутой ладони, появилась крошечная раскрытая коробочка с розовыми таблетками. Пытаясь ухватить таблетку, Оскар задел ногтями за крышку коробочки, и в наполненном голосами и музыкой помещении раздался какой-то странный металлический звук. Наконец, одна из розовых таблеток очутилась в руках у Оскара. На него напал страх — ведь это же таблетки профессионального самоубийцы! Его разум, который все еще был начеку, предостерегал: нельзя глотать, ни в коем случае нельзя глотать. Оскар поднес руку ко рту и стал катать таблетку по подбородку. Дрожащие пальцы, которым инстинкт самосохранения придал ловкость, спрятали ее за воротник. Таблетка скользнула за пазуху, и Оскару показалось, что она обожгла ему кожу. Он был уверен, что утром обнаружит на груди ожоги.
Улыбнувшись через силу, Оскар поблагодарил автора букваря из Андорры.
Женщина, загадочно усмехаясь, гладила вихор своего парика, точно это была собака.
— Теперь пойдемте наверх, я вам дам мой букварь с дарственной надписью, — нежно сказала женщина. — Уже поздно, пора идти.
Оскар, как лунатик, побрел следом за ней.
Как только они вышли из бара в прохладный вестибюль и Оскар увидел лестницу, он тут же понял, что ему надо делать. Не оглядываясь, он помчался в гардероб, схватил пальто и ринулся вверх по ступенькам. Входная дверь прыгала перед его глазами. Коснувшись рукой холодного стекла, Оскар на секунду остановился и перевел дух.
У двери, в углу, за большой агавой, стояла автор букваря из Андорры. Ее губы и веки блестели, из ушей лились фосфоресцирующие слезы. Пораженный Оскар хотел было спросить, с каких пор у плачущих людей слезы текут через уши, но прежде чем он успел открыть рот, его снова обуял страх. Какая-то неведомая сила предостерегала его и требовала: иди.
Оскар успел на первый автобус. Он был единственным пассажиром. С деловым видом Оскар подошел к кассе и полез в карман пальто за мелочью. Пальцы коснулись чего-то мягкого.
Это просто ужасно! Автор букваря положила ему в карман свой парик. Оскар сунул дрожащую руку за пазуху и, нащупав старый потертый бумажник, немного успокоился. Затолкав бумажный рубль в кассу, он крутил никелированную ручку до тех пор, пока у него не оказалась целая лента билетов. Оскар дунул, и лента поднялась в его пальцах, подобно воздушному змею.
Так он и сел на место, держа в вытянутых руках бумажную ленту. В конце концов билеты пришлось повесить себе на шею — следовало освободить руки и проверить свои вещи.
Все было на месте: паспорт, удостоверение УУМ'а, профсоюзный билет и прочие документы. У Оскара отлегло от сердца. Он хотел уже убрать бумажник, как вдруг на глаза ему попалась какая-то записка.
Это оказался рецепт. Мать просила получить ей лекарство. Только не забудь, дважды повторила она. Оскар вздохнул, и розовая обжигающая таблетка, которую ему дала андорка, очутилась у него за поясом.
И тут ему вспомнилась Агне.
Он беспокойно заерзал и машинально сунул руку в карман пальто. Пальцы снова коснулись отвратительно мягкого и пушистого парика, по бокам которого торчали заячьи уши на проволочном каркасе.
9
екабрь в УУМ'е был одним из самых загруженных месяцев. Длинные темные вечера, дождь и пронизывающий ветер вынуждали людей сидеть дома. У многих находилось теперь время посылать в УУМ свои соображения относительно усовершенствования мира, а также высказывать различные мнения, которые в конечном счете тоже служили этой благородной цели.
Чем хуже становилась погода, тем напряженнее складывались дни у работников УУМ'а. Ээбен все чаще думал и говорил об установке лифта в весовой. Начальники отделов обменивались опытом чтения писем по диагонали. Рауль Рээзус понял всю серьезность положения и обещал поставить вопрос о создании еще одного отдела.
С утра до вечера работали при искусственном освещении. Шум дождя, который не могли заглушить плотные портьеры, нагонял сон. Людей угнетало отсутствие солнца, а обилие работы делало их немногословными.
На столе завхоза непрерывно трещал звонок. И завхоз только и делала, что ходила по кабинетам и разносила кофе и таблетки.
Однажды в УУМ'е произошла авария. Во всем здании погас свет. В помещениях воцарилась такая тьма, что хоть глаз выколи. Корпевшие в одиночку и от этого безучастные ко всему, служащие УУМ'а сразу заволновались. Всем не терпелось поскорее выйти из темных кабинетов. Ощупью, чиркая поминутно спичками, они стали пробираться по коридорам в каминную.
В углу комнаты, предназначенной для приемов, стоял подсвечник высотой почти в человеческий рост. Это был не обычный подсвечник, а скульптура девушки, на плечах и голове которой сидели птицы. На остриях, спрятанных меж выступами крыльев металлических птиц, можно было одновременно зажечь двадцать одну свечу. Поскольку вся эта штуковина была на колесах, то с появлением моды на свечи девушку, ставшую вдруг необходимой, перекатили из угла на середину комнаты и нашли ей применение.
Полированные буквы «УУМ» поблескивали на каминной стенке. Хотя дальние углы комнаты оставались в тени, все было очень торжественно.
К сожалению, свечи успели догореть до того, как завхоз привела электрика.
— Давайте рассказывать страшные истории! — хихикнув, предложила ответственный секретарь УУМ'а Тийна Арникас.
Оскар раздумывал над письмом, которое он успел прочесть еще при свете.
— Один автор предлагает новый способ ловли тигров, — произнес Оскар. — Посреди пустыни устанавливается стеклянная клетка, и тигр не замечает, как попадает в нее.
— Почему пустыня? Почему стеклянная клетка? — спросила Армильда Кассин. Она с глубоким сочувствием относилась к жалобам женщин, но если дело касалось писем, не затрагивающих непосредственно быта и семейной жизни, то обращалась за советами к Оскару или к Пярту Тийвелю.
— Разве тигр не может жить в пустыне, если ему это нравится? — растерянно спросил Ээбен.
— На стеклянной клетке можно нарисовать пальмы. Тигр ошибочно подумает, что попал в оазис, — усмехнулся кто-то.
Оскар, удобно откинувшись на спинку стула, попытался в темноте представить себе это захватывающее зрелище бледное небо, огненный шар солнца, прозрачная стеклянная клетка, дверь — настежь, чтобы захлопнуться следом тигром. Оскару так понравилась нарисованная его воображением картина, что он и сам готов был полезть в клетку. Он подумал, что такая стеклянная клетка должна притягивать к себе рыскающего по пустыне тигра. Зверь не может оставаться равнодушным к ней. Сколько бы он не кружил около пустого стеклянного ящика, все равно в конце концов войдет внутрь.
Зажегся свет, и пейзаж бескрайней пустыни сменился лицами работников УУМ'а с зажмуренными глазами.
Дверь распахнулась.
Рауль Рээзус вскочил и поспешил оттеснить назад пришельца. Но за ним по пятам шла и без умолку щебетала завхоз, радовавшаяся тому, что электрик справился со сложной задачей.
С человеком, у которого были золотые руки, не подобало вести себя невежливо. Рээзус попятился, и электрик размашистым шагом вошел в каминную УУМ'а. На его мягком женоподобном лице играла дружеская улыбка, он кивнул головой, и его утомленное от тяжелой работы тело погрузилось во вращающееся кресло.
Электрик вытянул во всю длину ноги в резиновых сапогах, повел плечами, чтобы поудобнее устроиться в кресле и стал стягивать длинные, по локоть, резиновые перчатки. Одновременно он с интересом оглядывался вокруг. Рээзус подвинулся поближе к каминной стенке, надеясь, видимо, своим телом закрыть от постороннего взгляда блестящие буквы. Если Рээзус, действовавший инстинктивно, мог бы трезво оценить обстановку, он бы понял, что спина столь стройного, как он, человека не может скрыть такую крупную и блестящую надпись.
Да и было уже поздно.
Взгляд электрика остановился на трех предательских буквах. От удовольствия и восхищения он застонал. С удивительной легкостью подняв с кресла свое расслабленное тело, он как зачарованный стал двигаться в сторону сверкающих букв.
— УУМ… УУМ… — бормотал он себе под нос.
— Это просто декорация, — беспомощно проговорил Рээзус.
— Ха-ха, — сказал электрик и укоризненно покачал головой в сторону Рээзуса. — Меня, стреляного воробья, не проведешь!
Электрик хлопнул резиновыми перчатками и объявил:
— Начиная с сегодняшнего дня можете не беспокоиться об электричестве. Я вас в беде никогда не оставлю. Я тут обнаружил еще несколько дефектов, их надо в срочном порядке устранить, иначе… — говоря это, он угрожающе повысил голос и, нахмурив брови, по очереди обвел всех присутствующих пронизывающим взглядом.
Он не объяснил, что кроется за этим многозначительным «иначе», и перевел разговор на более волнующую его тему.
— Я изобрел трехколесную детскую коляску, снабженную портативным регулирующим устройством. Я убежден, что мое изобретение моментально разрешит многие проблемы, с которыми к вам без конца обращаются ваши корреспонденты. Вы только потрудитесь… — Он снова многозначительно оборвал фразу.
Повернувшись к Рээзусу, электрик с уверенностью проговорил:
— Вам придется заняться моим изобретением.
— Это почему же? — криво усмехнувшись, спросил Рээзус.
— Я слышал ваше выступление и в курсе всех условий учета мнений, так что не беспокойтесь. Но я знаю и то, что повсюду действует закономерность исключений. В городе имеется только одна бригада, которой починить электрические кишки — раз плюнуть. Я ее руководитель. Может случиться, что из-за больших очередей вы неделями будете сидеть в темноте. Я уже сказал, что в доме имеются повреждения в проводке. Если хотите, могу прислать инспектора. Вообще, с электричеством лучше не шутить, иначе…
— Иначе? — переспросил Рээзус.
— Не хочу пугать вас, — широко, по-свойски улыбнулся электрик.
Завхоз, бледная, стояла в самом дальнем углу комнаты.
Рээзус, против обыкновения, настолько растерялся, что это всем бросилось в глаза. Его красивое лицо вдруг сразу постарело. Пружины, направляющие мысль и волю, сейчас бездействовали и мышцы поэтому ослабли.
— Не беспокойтесь, — приветливо сказал электрик помрачневшим работникам УУМ'а. — Я скоро вернусь, и вы увидите нечто сногсшибательное.
После ухода электрика Рээзус опустился в кресло. Оскар давно уже не видел его таким угнетенным. В системе конспирации местонахождения УУМ'а образовалась трещина, и это грозило лавиной неприятностей.
— Мы просто не впустим его, когда он снова придет, — предложила Тийна Арникас.
— Прямо не знаю… — пробормотала завхоз. Ее лицо подергивалось.
Оскар откашлялся. Как убежденный патриот УУМ'а, он обязан был что-то предложить.
— Пусть придет, посмотрим на его изобретение, пообещаем переслать его в соответствующее учреждение и, таким образом, отделаемся от него. Заодно возьмем с электрика письменную клятву о неразглашении. Этим мы его свяжем с УУМ'ом, и он поймет, что коль скоро нарушит слово, хода его изобретению не будет.
— Логично, — буркнул Рээзус.
Все остальные поддакнули.
К назначенному времени вернулся электрик. Он переоделся и надушился. В руке он держал огромный картонный чемодан, потертый на углах, который как-то не вязался с его элегантным костюмом.
Вскоре каминная превратилась в настоящую персональную выставку. Автор, взяв в руку карандаш, оживленно принялся объяснять разложенные повсюду чертежи и рисунки.
Изобретенная электриком детская коляска имела странный вид. Второй великий изобретатель, Ээбен, разглядывал рисунки с нескрываемым интересом. Он задал несколько вопросов по существу и, получив ответ, удовлетворенно закивал головой.
Оскар сидел в кресле рядом с Рээзусом и с любопытством следил за происходящим.
Переднее колесо трехколесной коляски было универсальным — стоило с помощью гидравлического устройства удлинить его вилку, и коляска съезжала с лестницы в горизонтальном положении. Внизу колесо переводилось на свое обычное место.
Для подъема коляски по лестнице наверх электрик предложил оригинальное вспомогательное устройство. Оно представляло собой длинную пластмассовую ленту с желобком посредине, которая, подобно металлической рулетке, свертывалась, умещаясь в круглой коробочке. Нажмешь на кнопку коробки, и оттуда выскакивает эта лента с желобком, достающая от нижней ступеньки лестницы до верхней. Оставалось только установить переднее колесо коляски на желобок — и кати ее вверх, слегка подталкивая.
Тийна Арникас, стоявшая у Рээзуса за спиной, восхищенно прошептала:
— Сколько проблем помогло бы разрешить это изобретение!
Острый слух электрика уловил похвалу. Он прервал свои объяснения и с почтением обратился к ответственному секретарю:
— Никто сейчас не может даже предположить, какое большое будущее ожидает трехколесную коляску. Вы только подумайте, какая экономия колес! Во-первых, за счет этого можно будет расширить производство колясок! Во-вторых, сократится расход времени на транспортировку детей и уменьшатся связанные с этим затраты труда. В третьих, — здоровье детей! Кто в нынешних колясках в состоянии достаточно часто вывозить детей на свежий воздух? И это еще не все. Трехколесная коляска — залог семейного счастья. У мужчин вылетят из головы все шальные мысли, когда эта коляска, как беззвучная труба, начнет звать их домой. Регулирование гидравлического устройства — в высшей степени увлекательное времяпрепровождение. Далее — завод по производству лифтов сможет сократить выпуск своей продукции и переключить производственные мощности на что-либо другое. Я уверен, что если отпадет проблема транспортировки детских колясок, люди с удовольствием будут подниматься хоть на десятый этаж, чтобы тренировать свое сердце и мышцы. Трехколесная коляска обеспечит людям здоровье и счастье!
Великий изобретатель устал от длинной речи. Он отступил чуть назад, не в силах оторвать взгляда от разложенных эскизов, и с полным удовлетворением опустился в модное вращающееся кресло. Заглянув под винтовое сиденье, он снова выпрямился и победоносно добавил:
— Вот вам еще один аргумент в пользу моего изобретения! Раньше стулья были на четырех ножках, теперь обходятся одной.
Электрик-изобретатель ухватился за подлокотник другого вращающегося кресла, на котором сидел Рээзус, с силой толкнул его, и оба завертелись волчком.
Вечером, когда Оскар выходил из УУМ'а, голова его гудела от мыслей и впечатлений. Все прошло великолепно. Неожиданный гость, чье появление в каминной поначалу испугало Рээзуса, покинул УУМ своим человеком. Электрик-изобретатель дал подписку, что обязуется держать местонахождение УУМ'а в тайне. Рээзус, по случаю благоприятного исхода инцидента, предложил всем сотрудникам по рюмочке коньяка из неприкосновенного гостевого фонда, хранящегося в железном шкафчике его кабинета. Никто не скупился на похвалы в адрес трехколесной коляски. Даже великий рационализатор Ээбен был поражен изобретательностью электрика, хотя сам занимался сейчас настолько важными проблемами, что думать об усовершенствовании детской коляски у него не было времени.
Уходя, Рээзус заметил:
— УУМ пользуется в народе большой популярностью.
И в глазах Рээзуса мелькнуло нечто такое, редко уловимое, что называют радостью труда.
Оскар шел через темный и дождливый город. На душе было хорошо, словно он тоже сделал какое-то ценное открытие. Его глубоко тронуло, что наиболее светлые умы человечества не устают думать о дальнейшем усовершенствовании мира, даже если дело касается не столь важных на первый взгляд вещей. Все вокруг человека постепенно, но неуклонно поднимается до уровня, достойного эпохи.
Оскар ступал медленно, не обращая внимания на дождь. Он решил заскочить в какое-нибудь кафе, чтобы в людской сутолоке побыть немного наедине с собой. И тут же, за одной из стеклянных дверей, увидел призывно мерцающие огни.
В кафе его обдало паром, очки у Оскара запотели.
Он отошел в сторону и протер их. Когда он снова надел очки, то увидел перед собой удивительно знакомое лицо. Оскар пытался вспомнить, кто же это, и стал молниеносно сопоставлять различные имена с лицом, повернутым прямо к нему. Анника, Марика, Эрика, Вийвика — нет, ни одна из них.
Оскара охватил стыд. По спине побежали мурашки. Но он взял себя в руки, шагнул вперед, кого-то задел, извинился, смутился, в горле у него пересохло.
Лицо женщины оставалось непроницаемым.
— Добрый вечер, — услышал он как бы со стороны свой голос.
За спиной Оскара с шумом открывались и закрывались стеклянные двери. В кафе порывами врывался сырой ветер, слегка шевеля волосы Ирис.
10
гне не могла найти объяснения перемене, которая произошла в Оскаре. Каждый вечер, возвращаясь домой, Оскар видел в глазах жены вопрос, однако делал все возможное, чтобы оставить его без ответа. Новое загадочное состояние Оскара словно окрылило Агне. Она хотела надеяться, что их жизнь изменится теперь к лучшему, хотя, по правде говоря, и не очень верила в это.
В последнее время Агне была постоянно настороже, с ее лица не сходило выражение нетерпеливого любопытства. Теперь она часто забывала напустить на себя мрачный вид, и это благотворно действовало на Керту. Девочка болтала больше обычного, за ужином рассказывала о всяких школьных происшествиях, и Агне с интересом слушала дочь. Годами проявляя подлинное или притворное равнодушие к своей семье и необузданно увлекаясь всем, что касалось мира вещей, Агне вдруг захотела стать центром внимания как Оскара, так и Керту.
После того, как Оскар стал регулярно приходить домой сразу же после работы, Агне отказалась от своих бесконечных походов и даже от кружка рукоделия. Энтузиасты ткацких станков и различных орнаментов звонили и спрашивали, в чем дело? Агне отвечала, что не совсем здорова и просила забросить ее незаконченные работы куда-нибудь подальше в угол, чтобы они никому не мозолили глаза.
Часто нападавшая раньше на Керту, Агне теперь настолько размягчилась, что того и гляди готова была совсем распустить девчонку. Керту совсем отбилась от рук, она валялась на диване, смотрела телевизор, шепталась с Черным Джеком, то бишь Тармо, когда тот приходил к ним в гости. Но школу девочка посещала с охотой, и этого, по мнению Агне, было достаточно.
Силы Агне словно удвоились. Квартира сияла чистотой. Узнав о каких-то модных кулинарных рецептах, Агне ставила на стол блюда, внешний вид которых не давал никакого представления об их содержании.
К Агне вернулась ее хозяйственность и предприимчивость, она как бы родилась вновь.
И Оскар, как истый труженик, сидел по вечерам за своим столом, перебирал бумаги, заглядывал — чего уже давно не делал — в умные книги и даже написал маленькое социологическое исследование, предварительно основательно порывшись в картотеке УУМ'а.
Закончив это исследование, Оскар поразился — значит, в чем-то простом и узком все-таки можно еще найти какую-то закономерность, подчиняющуюся логике. Он чувствовал, как в нем восстанавливаются прежние силы, и лелеял надежду от маленькой истины перейти в будущем к большой.
Оскар разбирал книжные завалы в своей комнате и даже спускался в подвал на розыски необходимых ему книг среди тех томов, что давно пылились на бельевом катке.
Однажды вечером Агне спросила, какова цель его работы — уж не готовит ли он после долгого перерыва какую-нибудь лекцию. Вопрос жены неприятно поразил Оскара, погруженного в этот момент в чтение. Возникшие было стабильность и равновесие вмиг нарушились. Оскар почувствовал себя как бы пойманным на месте преступления, все снова стало расплывчатым и запутанным, он снова утерял способность вникать в серьезные проблемы, и в висках у него опять застучало.
Оскар понял, что воспринимал информацию лишь неким верхним, надпочвенным пластом своего сознания. И это поверхностное восприятие создавало обманчивое впечатление о якобы возродившихся духовных силах. Он сидел за столом и работал только для того, чтобы убить время.
В действительности же он не переставал думать об Ирис — точнее, она присутствовала в его подсознании. Существование Ирис было для него тем воздухом, который он вдыхал, читая и сортируя письма в УУМ'е, или же просматривая книги и работая над своим маленьким исследованием дома.
Оскар терпеливо и в то же время с нетерпением ждал.
Он сдерживал себя, чтобы поминутно не смотреть в окно и не проверять погоду. Должны быть какие-то границы приличия, хотя бы в той мере, в какой это необходимо, чтобы скрыть суть дела от окружающих.
Оскар ждал первого настоящего снега.
В тот раз, когда он случайно встретил Ирис за стеклянными дверьми кафе и попросил разрешения проводить ее, она отказалась.
На прощание она пообещала:
— Когда выпадет снег, я буду по вечерам ходить на лыжах. Вы можете составить мне компанию.
И ушла.
Однако снега в этом году все не было и не было. А если он и выпадал, то сразу переходил в дождь, без конца барабанивший в окна; с деревьев капало. Временами подмораживало, столбик ртути на градуснике падал ровно настолько, чтобы дороги стали скользкими. Оскар следил за сводками погоды, но никаких изменений не ожидалось.
Однажды вечером он почувствовал, что больше ждать не может, он просто устал ждать. Усталость затуманила образ Ирис. Испуганные глаза словно растворились в сумраке и дожде. Мимолетная встреча с Ирис канула в безвозвратное прошлое, и на Оскара нашло полное равнодушие.
Он забросил свою работу, часами лежал просто так и смотрел в потолок. Не было ни последовательных мыслей, ни ясных желаний. Временами его душила злоба, и дышать становилось трудно. И тогда Оскар готов был отрицать все на свете. Глаза Ирис, которые все еще нет-нет и смотрели на него сквозь туман, были полны насмешки. Оскар чувствовал себя одураченным, и ему хотелось излить свой гнев и накричать на эту призрачную Ирис.
В этот вечер Оскар лег рано в надежде отдохнуть и сбросить с себя апатию и тоску. Он твердо решил со следующего дня зажить по-старому. Завтра же он отберет из почты УУМ'а подходящее письмо, взвесит таящиеся в нем возможности, постучит в намеченную дверь и сядет на стул, который ему непременно будет предложен.
Умиленная происшедшей в нем переменой Агне вначале не придаст значения тому, что после длительного перерыва Оскар в какой-нибудь из вечеров задержится. Она не захочет поверить, что все вернулось к прежнему — природа запрограммировала в человеке известную дозу оптимизма. Агне даже и в голову не придет, что ее семейная жизнь может снова пошатнуться.
Но задуманный план не принес Оскару ни ожидаемого покоя, ни облегчения.
Он пытался внушить себе, что в Ирис нет ничего особенного — точно такая же, как и предыдущие. Эти Анники, Марики, Вийвики, Эрики. Какое имеет значение, что имя ее не кончается на «ка». Чистая случайность и родительская прихоть. В его, Оскара, возрасте наивно ждать чего-то необыкновенного.
Но откуда тогда этот глупый душевный трепет и тайные надежды? Отношения у людей гораздо проще и вульгарнее, чем кажется в юности. И становятся еще проще, потому что развитое общество, можно считать, почти ликвидировало всякие искусственные преграды, созданные религией и ограниченными индивидуумами. Для игры в жмурки нет времени, годы не идут, а летят! Надо брать то, что дается тебе в руки, и откидывать в сторону всякие там угрызения совести и громкие слова.
Пора иллюзий миновала навсегда. Как честный гражданин, Оскар ни перед кем не пытался разыгрывать из себя благородного рыцаря, ему годами не приходило на ум слово: люблю. Ведь есть тысячи других возможностей в подходящий момент приласкать партнера: ты мне нравишься, ты хорошая, смешная, в крайнем случае — милая. И так далее и тому подобное. Этих ходовых словечек больше чем достаточно. Одной малышке Оскар когда-то говорил: моя дождевая капелька. Второй, полной: моя сахарная горка.
По мнению Оскара, ходячая мораль, как бы ее время от времени не подогревали, безнадежно устарела. О прочной семье, как об оплоте, мечтали разве лишь некоторые старомодные женщины. И многие представительницы слабого пола, мыслящие современно, тоже не были сторонницами показного счастья, длящегося десятилетиями. Раньше домашней наседке нужна была опора, теперь же общество позаботилось обо всем, не говоря уже о всеобщей независимости. Женщинам хватает работы во всех областях жизни, а детям, пусть они будут какими угодно гениальными и наоборот, — воспитательных учреждений любого профиля.
Поскольку общество фактически освободило человека от примитивных родственных оков, то каждая личность могла наслаждаться жизнью, как хотела, и впитывать в себя впечатления — чем больше, тем лучше. Темп жизни, о котором повсюду так много говорили, изменил как течение, так и продолжительность человеческих отношений.
Новое старело с головокружительной быстротой, на смену ему должно приходить еще более новое, способное удовлетворить пресыщенные чувства.
Ход мыслей Оскара был прерван звонком в дверь. Оскар напрягся, но тут же расслабился и поудобнее устроился на подушке. Он узнал вошедшую по голосу — к Агне пришла ее тетушка.
Оскар живо представил себе, как массивная тетушка садится в передней на стул и медленно стаскивает сапоги, проклиная сапожников.
Шаги удалились на кухню, тетушка любила сидеть именно на кухне. Там они с Агне стали обсуждать какие-то будничные дела. Оскар не прислушивался к их болтовне. Приход тетушки напомнил ему один ее рассказ.
— Я бы не хотела снова стать молодой и выйти замуж, — сказала она. — Не хватило бы сил начинать все это с начала. При рождении первого ребенка едва не отдала богу душу. Со вторым, который родился десять лет спустя, было, правда, полегче. Потом стала ухаживать за мужем. Шестнадцать лет болел, прежде чем бог прибрал его. Весь воз пришлось мне одной тащить. Когда у младшей дочки родился ребенок, опять меня запрягли. Ночей не спала, ребенок все кричал. Нет, я бы ни за что не начала все это сначала, хотя муж попался мне хороший, душевный. Вот только одно бы я хотела еще раз пережить — побродить девчонкой в камышах. Я родилась у моря, и вода в камышах была очень теплой. Я вечно пропадала там, и мать кричала мне из избы звонким испуганным голосом: где ты, малышка! По телу проходила сладкая дрожь, когда над головой раздавался испуганный голос матери. Я плакала про себя от счастья, а из камышей все равно не выходила.
Тетушка всегда рассказывала эту историю в назидание и утешение тем, кто начинал жаловаться на старость. Почему-то каждый раз она забывала сказать, что ее первый ребенок, из-за которого она чуть не умерла, погиб в войну. Словно она не помнила этого.
Они беседовали на кухне, Агне и ее тетушка. Оскар знал, что и Керту сидит с ними. Керту относилась к двоюродной бабушке с нежной симпатией. Оскар до сих пор не переставал удивляться дочери, которая как-то летом взяла на свое попечение того самого пискуна, тетушкина внучонка, чтобы дать бабушке отдохнуть. Оскар почувствовал себя очень странно, когда, вернувшись с работы домой, увидел, как Керту катает перед домом коляску.
Самопожертвование Керту произвело на Оскара неизгладимое впечатление. Хотя ни тетушку, ни саму Агне не трогало, что девочка нянчилась с ребенком. Во всяком случае, они никогда не говорили об этом.
Агне очень уважала свою тетку, вероятно, у нее были на то причины. Быть может, она бессознательно передала Керту это свое чувство благодарности и долга, и поэтому поведение Керту казалось ей вполне естественным. Вообще-то у Агне была по-своему добрая душа, когда-то, очень давно, она написала в альбом Керту такие строки: «Никогда не забывай сделанное тебе добро».
Оскар перевернулся на другой бок. По телу разлилась приятная истома.
Поговорив на кухне о своих делах, они втроем вышли в переднюю. Тетушка с тяжелым вздохом опустилась на стул и стала натягивать сапоги. Опять в адрес сапожников были брошены нелестные слова.
Все весело рассмеялись. Оскар знал, чем был вызван этот смех. Тетушка носила в кармане клещи, чтобы натягивать сапоги — они были узки ей в подъеме.
— Во всяком случае, хулиганов и убийц я не боюсь, — громко изрекла тетушка, перестав смеяться. — Как только кто сунется, я его сразу клещами за нос, представляю, какой он вой поднимет.
Оскар невольно усмехнулся.
Приход тетушки развеял мысли Оскара. Он подумал об Ирис, и ему стало ясно, что она ничем не отличается от тех, других. Ей вполне под стать находиться в одном ряду с Анникой, Марикой, Эрикой и Вийвикой. С таким же успехом ее мог заменить и кто-либо другой. Все равно, все равно, все равно.
По окну барабанил косой дождь. Глаза Оскара закрылись. Сон подкрался к нему неслышными шагами, как тигр с обвислыми усами, который нес плакат: «Никогда не забывай сделанное тебе добро».
11
Армильдой Кассин, начальником второго отдела УУМ'а, Оскар поддерживал чисто деловые отношения, зато с начальником первого отдела Пяртом Тийвелем они были почти друзьями. Пярт то и дело заглядывал в кабинет к Оскару, и если их не подгоняла срочная работа, они, прихлебывая кофе, часок-другой болтали.
Сегодня смущенно улыбающийся Пярт Тийвель вошел в кабинет Оскара, невзирая на то, что Оскар был очень занят — он корпел над составлением сводной таблицы учета мнений для годового отчета.
Пярт Тийвель сел напротив Оскара, отодвинул в сторону лампу с зеленым абажуром и прошептал:
— Закончил!
Ни для кого не составляло тайны, что Тийвель был лучшим начальником отдела УУМ'а. Его годовая премия всегда превышала сумму, выплачиваемую другим, так как Пярт обладал способностью невероятно быстро читать и с точностью классифицировать самые запутанные и туманные жалобы граждан. Ответственный секретарь Тийна Арникас постоянно восхищалась начальником первого отдела.
Должно быть, решил Оскар, Пярт уже закончил составление сводной таблицы.
Тийвель набил до отказа свою трубку, и Оскар по случаю важного события отказался от сигареты и тоже вынул трубку из ящика стола.
— Можно считать мой научный труд законченным, — сказал Пярт, прислоняясь к спинке стула и выдыхая дым.
Оскар был сражен. Никто в УУМ'е и подумать не мог, что у Пярта хватит энергии заниматься еще и целенаправленной исследовательской работой. И без того круг дел, интересовавших его, был невероятно широк, и он занимался ими годами. Надо отдать ему справедливость — эти увлечения в нерабочее время не были для него пустой забавой. Всем его начинаниям сопутствовал успех, и он даже добился некоторый славы. Выведенный Пяртом Тийвелем сахарный лук, который шел на приготовление сладких блюд, стали выращивать и на полях соседних стран.
Последнее изобретение Пярта, касавшееся шляп, к сожалению, до сих пор еще не было внедрено.
Оскар машинально провел рукой по волосам. Хотя его голову украшала густая шевелюра, он тоже порадовался бы вместе с лысеющими мужчинами, появись новинка Пярта Тийвеля на прилавках магазинов. В последние годы Пярт занимался опытами по части изготовления своеобразных головных уборов, дно у которых было из материала, пропускающего ультрафиолетовые лучи. Страдая из-за своих жидких волос, Пярт проверил это изобретение на себе и добился поразительных результатов. На его темени пышно разрослись кудри, правда, лиловатого цвета. Пярт убеждал всех, что это не являлось данью моде и что замена искусственного волокна НВФ волокном ТК непременно придаст волосам коричневато-черный оттенок. Но искусственное волокно ТК было не достать, и изготовители шляп не торопились внедрять в производство изобретение Пярта Тийвеля.
— Ты будешь защищать докторскую? — выпалил Оскар. Сердце на миг замерло от пронзившей его зависти.
— Нет, нет, до этого мне еще далеко, — смущенно отмахнулся Пярт Тийвель. Хотя начальник первого отдела и казался счастливым, от Оскара все же не укрылось, что его что-то гложет.
И действительно, отнюдь не заботы о последнем изобретении являлись в данный момент причиной сдержанности Пярта Тийвеля. Он вообще был по характеру человеком скромным и чувствительным и всегда искренне страдал, когда на него обрушивалась волна похвал и славы. Прямодушный, он не умел притворяться, хотя люди, знающие его поверхностно, вполне могли принять застенчивость Пярта за позерство. Когда после удачного завершения опытов по разведению сладкого лука к нему пришел фотограф, Пярт пожелал, чтобы его сняли непременно со спины. Мотивируя это странное желание, он заявил, что его скромное достижение под силу каждому рядовому человеку — стоит только немного потрудиться и подумать. Поэтому пусть на фотографии будет человек вообще, без особых примет — просто затылок, шея и плечи, как у каждого.
— Так на какую же степень ты рассчитываешь?
— На докторскую — не потяну, на кандидатскую, пожалуй, тоже, — пробормотал Пярт и раскурил трубку. — Думаю, такому, как я, вполне достаточно фельдшерской. Объем работы — всего-навсего пятьдесят страниц плюс таблицы. Э-э, на большее меня не хватит.
— Тема? — выдохнул Оскар.
Несмотря на свое расположение к Пярту, Оскар никак не мог отделаться от чувства зависти. Он завидовал тем непонятным движущим силам, которые помогали Пярту непрерывно изобретать и трудиться в поте лица. Ведь Пярт не был карьеристом и тем более падкий на деньги. Оскар чувствовал, что существуют в жизни области, для него недоступные, хотя и считал себя человеком бывалым. И это вызывало в нем щемящее чувство беспокойства.
Впрочем, Оскар понимал, что несправедлив по отношению к робкому и застенчивому Пярту. И потому всячески старался держаться с ним подчеркнуто любезно, порой даже перебарщивая.
— Тема? — улыбнулся Пярт. — Хорошо, сейчас скажу.
Впервые Оскар заметил, что у Пярта неестественно прямые плечи, словно пиджак был надет не на человека, а на робота. Это неожиданное наблюдение так увлекло Оскара, что слова, сказанные Пяртом, донеслись до него, как сквозь туман:
— Сдвиги в социальной среде за три года на основании писем, полученных УУМ'ом.
— А сдвиги хоть сколько-нибудь заметны? — загорелся Оскар.
— Еще бы! — воскликнул Пярт. — Это крайне увлекательная микроистория, где все меняется, как в калейдоскопе. Обычно думаешь — один год как другой, но факты свидетельствуют об обратном. Особенно, если поискать связи между экономической и культурной жизнью…
— Ты хочешь сказать, что кроме картотеки УУМ'а пользовался и другими материалами? — прервал его ошеломленный Оскар.
— Ну, конечно! — удивленно ответил Пярт. — Связи человека с социальной средой, их действие и взаимодействие — вот в чем суть проблемы.
Оскар был совершенно потрясен. Хотя приблизительно он представлял себе гигантский объем работы Пярта Тийвеля, но то, что проделал Пярт, на самом деле казалось ему непостижимым. Ему стало стыдно за свою статейку, которой он так гордился. Его ношей была какая-то жалкая хвойная иголка, тогда как Пярт упорно тащил на себе воз бревен.
— Все это ничто, — объявил вдруг Пярт.
— Почему?
Начальник первого отдела молча вынул из нагрудного кармана пиджака газетную вырезку с пометкой на полях, где указывался номер газеты, а для большей убедительности и число. Педантичность Пярта невольно вызвала на лице Оскара улыбку, ставшую еще шире после того, как он прочитал коротенькую заметку. В ней сообщалось, что в городе объявился кабан, который вломился к кому-то в подвал дома и съел заготовленные на зиму картофель и овощи. В последний раз кабана видели школьники — он бродил в рощице между двух дорог, как раз у черты города. Автор заметки предостерегал население от кабана, родителям же советовал не отпускать своих отпрысков далеко от себя. Конец статьи звучал весьма тревожно: если в ближайшие дни кабан не будет пойман, придется объявить в пригороде чрезвычайное положение и просить общество охотников, а также военнослужащих, помочь обезвредить злодея.
— Ты боишься кабана? — участливо спросил Оскар.
— Нет, — убитым голосом проговорил Пярт. — Это я его выпустил.
— Ты что, начал разводить кабанов? — рассмеялся Оскар.
— Нет. Я получил его еще поросенком. Вернее, щенка без принудительной нагрузки не продавали. Этой нагрузкой и был поросенок.
Оскар даже и предположить не мог, что у прославленного и хорошо известного в УУМ'е пяртовского боксера Ролля в детстве был брат-поросенок, появившийся в принудительном порядке.
— Не мог же я до бесконечности держать кабана в квартире. Вначале я пытался. Он жил в ванной. Жена только и делала, что мыла морковь и картофель для него. Но в ванной абсолютно нечего было рыть. Это было сущим мучением для животного. Ролль боялся кабана, и я не решался оставить собаку одну с ним в доме.
Оскар хорошо помнил тот день, когда Пярт пришел на работу с Роллем за пазухой. Владелец щенка выглядел тогда изрядно напуганным. Работники УУМ'а, падкие до сенсаций, собрались в кабинете Пярта и наперебой гладили песика. Пярт дрожащим от волнения голосом объяснял каждому в отдельности, что не может оставлять Ролля одного дома. Жена тоже работает и нет никого, кто бы мог последить за собакой.
Армильда Кассин, которая воспитывала своих детей с помощью техники, по телефону давая им указания, чем питаться и когда идти в школу, пренебрежительно рассмеялась. Кажется, она была единственной, кто поморщился при виде Ролля.
Особенно Пярт боялся противодействия со стороны Рээзуса, но самым неожиданным образом начальник УУМ'а проявил полное понимание. Так утверждал Тийвель, когда вышел из кабинета Рээзуса с Роллем под мышкой. Возможно, Рээзус не хотел терять такого хорошего работника, как Тийвель, и поэтому пошел ему навстречу. Перед тем, как отправиться в кабинет Рээзуса, Тийвель сказал своим коллегам, что если Ролля не разрешат держать в УУМ'е, то он, Тийвель, вынужден будет, пока не пристроит пса, сидеть дома.
Общая нехватка квалифицированных кадров повсеместно рождала послабления.
С этого дня Ролль приходил на работу вместе с Тийвелем, а вечером они вместе возвращались домой. На редкость смышленый боксер никому не мешал. Пярт принес для Ролля из дома пуховую подушку и щенок спокойно спал в углу кабинета. Иногда, если ему становилось скучно, Ролль залезал на подоконник и смотрел на улицу.
Но как-то раз, пока начальники отделов совещались в кабинете Рээзуса, пес все же слегка нашкодил. Он разорвал подушку. Когда, вернувшись с совещания, Пярт открыл дверь своего кабинета, Ролль стоял словно посреди снежных сугробов, и на его бровях осел пух. Анна-Лийза Артман, уборщица УУМ'а, разумеется, рассердилась. На следующий день Пярт принес Роллю новую подушку, а Анне-Лийзе Артман — букет роз, и инцидент был исчерпан.
Однажды завхоз даже предложила Роллю работу. Это было в тот период, когда она истоптала все подметки, пытаясь заказать для шофера Ээбена надувную овчарку. Человек деловой, завхоз обещала Роллю небольшую зарплату и годовую премию, но пес заартачился. Как только пришел Ээбен и взял собаку на поводок, Ролль поднял жуткий вой, уперся лапами в пол и с отчаянием в глазах посмотрел на Пярта Тийвеля. Мягкому по натуре Тийвелю стало жаль пса, и он решительно сказал нет, хотя до этой минуты, заботясь об интересах УУМ'а, не возражал против столь необременительной для Ролля работы. Потом Тийвель, как бы в свое оправдание, долго говорил о безнравственных родителях, которые из тщеславия и жадности к деньгам устраивают своих детей на работу.
Собаку оставили в покое, но с тех пор дипломатические отношения между Ээбеном и Роллем были прерваны.
Конечно, никто в УУМ'е не догадывался, что Пярт держит дома еще и кабана.
— Положение стало совершенно невыносимым, — продолжал рассказывать Пярт. — Я не мог больше спать по ночам. Поросенок вырос и без труда вылезал из ванны. Потом он начал ломать пол и грызть дверь. Помню такой случай; едва мы задремали, измученные усталостью, как услышали: кто-то бегает по квартире. Жуткий звук, словно парочка рогатых чертей носится по паркету, стуча копытами. Это была страшная ночь. Я отпаивал жену водой с сахаром. Ролль с визгом залез к нам в постель. Кабан же носился там, где ему вздумается. На рассвете жене стало чуть полегче, я решился оставить ее одну и увести кабана.
Оскар, который слушал, подперев лицо руками, посмотрел в щелку между занавесками — мягкими хлопьями падал снег. Оскар вскочил, чтобы взглянуть на градусник за окном.
— Семь градусов мороза, — сказал он, блаженно улыбаясь.
— То утро, когда я отводил кабана, тоже выдалось холодным, — вздохнул Пярт. — Ну и хлопот было! Первым делом я сунул ему в горло кляп, чтобы он не орал. А то бы нагнал панику на весь дом. У меня были самые добрые намерения. С кабаном на плечах я прежде всего отправился в ближайшую от нас столовую — прямо на кухню. Едва я развязал мешок и выпустил кабана, как женщины замахали руками и стали ругаться. Грозились вызвать блюстителя порядка и посадить меня. На чем свет поносили пьяниц, которые только и делают, что творят всякие безобразия. Ради того, чтобы раздобыть деньги на водку, готовы ловить несчастных животных и сбывать их, говорили женщины. Я им сказал, что мне и гроша ломаного не надо за эту скотину, а они не поверили. Это, видите ли, противоречило их представлению о пьянчужках…
Оскар пытался сосредоточиться.
— Я смылся из этой столовой и направился в лес. Разъяренные женщины некоторое время еще шли за мной по пятам и размахивали поварешками. Я петлял, как заяц, чтобы они никого не натравили на меня. Кабан был чудовищно тяжелым, а я не очень-то много занимался в своей жизни физическим трудом. Ну, немножко копался в земле, когда лук выращивал. Это не в счет. Я чувствовал, что слабею. Сил не хватило, а то бы отнес кабана подальше. Я надеялся, что кабан сам уйдет из города в лес, а он, свинья, все-таки домашний был, вот и выкидывает теперь всякие штучки. Ирис так хорошо заботилась о нем; как он, бедняга, выдержит этот мороз. Ты ведь сам только что сказал — на улице семь градусов, — окончательно расчувствовался Пярт.
Оскар, который большую часть рассказа Пярта Тийвеля пропустил мимо ушей, вдруг насторожился. Очень знакомое имя — одновременно нежное и пронзительное — коснулось его слуха. Внезапно он сообразил, что сию минуту в его кабинете прозвучало имя Ирис.
— Ирис? — переспросил Оскар.
— Да, моя жена Ирис, — машинально ответил Пярт Тийвель, охваченный тревогой о кабане.
— Красивое имя, — тихо проронил Оскар.
Но ведь не единственная же это Ирис на свете, успокаивал он себя. Невольно в его голове мелькнуло предположение: не потому ли Ирис показалась ему давно знакомой, что он где-то видел ее в обществе Пярта? Правда, не в обычаях УУМ'а было устраивать семейные праздники. Рээзус следил за тем, чтобы местонахождение УУМ'а знал лишь ограниченный круг людей. Значит, сюда Ирис не заходила. Оскар стал вспоминать, в какой части города живет Пярт Тийвель. Оказалось, он этого не знает. Странно, что их дружба не простиралась дальше встреч на работе и иногда в кафе.
Оскар стал расспрашивать Пярта, какой столовой он предложил кабана и в какой рощице он его в конце концов выпустил.
Район совпал. Оскар похолодел. Если еще совсем недавно ему казалось, что он может относиться к Ирис равнодушно, то теперь эта, с трудом внушенная себе мысль, развеялась в прах. Он был уверен, железно уверен, что Ирис значит для него невероятно много.
Точно он был мальчишкой, чья страсть кого-то в чем-то перещеголять определяет цель и средства к ее достижению.
Пярт Тийвель озабоченно попыхивал трубкой. Ему было неважно, что за окном крупными хлопьями падает мягкий снег.
Он глубоко вздохнул и сказал:
— Я чувствую себя преступником.
12
скар запрокинул голову. Там, в вышине, крутился бесконечный снежный вихрь — игра и хаос — все вместе. Порывы ветра швыряли во все стороны снежные волны, и тогда казалось, что над головой во всю полощется дырявая крыша огромной палатки.
Оскар шел быстрым шагом, он весь взмок. Теперь, стоя на опушке перелеска, он не знал, куда идти. Крупные хлопья, кружившие вокруг, изолировали его от остального мира. Он словно был отделен от всего и свободен. Мог беседовать сам с собой, мог подстегнуть свои мысли и тут же отогнать их. Странное, небывалое состояние было сладостным, как полет, оно делало тело легким, и вместе с тем Оскар ощущал внутри какую-то тяжесть.
От густого снегопада на плечах выросли сугробы. Снег не был тяжелым, но Оскар стряхнул его, словно хотел этим движением отбросить невольно закрадывающуюся в душу тревогу.
Он так долго ждал этого вечера и часа. Он не предполагал даже, что первый настоящий снегопад может произвести такое глубокое впечатление, особенно, когда стоишь на опушке леса, вдали от шума, от людей и ежедневных обязанностей.
Но почему же ему все-таки было не по себе?
Может быть, его страшила возможная встреча с кабаном, этой живой химерой, обретающейся где-то на окраине города?
Оскар усмехнулся.
Однажды какой-то самоубийца, который пришел в лес, чтобы повеситься, принял бродячую собаку за волка и так перепугался, что, скинув с себя петлю, бросился наутек.
Оскару нечего было переживать, что он пришел сюда. Никто, кроме кабана, не мог его увидеть. А если бы даже и мог — что ж, он просто захотел побыть на природе, как и положено честному гражданину, который придерживается здорового образа жизни.
Если он до сих пор верил, что Ирис придет в условленное место, то теперь эта уверенность поколебалась. Казалось невероятным, что они встретятся. На расстоянии трех шагов от него деревья тонули в белой мгле. Возможно, Ирис блуждала по ту сторону плотной снежной завесы, но Оскар не знал, где ее там разыскивать.
Чувство неловкости постепенно перерастало в досаду. Оскар неплохо ориентировался, когда дело касалось стульев. За свою жизнь он сидел на самых разных и, положив локти на стол, чувствовал себя, во всяком случае, вполне уверенно. За предложением Ирис встретиться могла таиться хитро расставленная ловушка. Ирис как будто приготовила для него невидимую стеклянную клетку, и у Оскара не хватало мужества обойти ее.
Почувствовав раздражение, Оскар стал кружить по снегу. Едва различимые в белесом тумане стволы деревьев обступали его со всех сторон, а косые от порывов ветра снежные вихри создавали впечатление, будто деревья качаются и вот-вот рухнут на землю.
Наверное, его плохое настроение было вызвано возникшим чувством неполноценности. Кому захочется признаться себе в том, что умение приспосабливаться имеет потолок, да к тому же еще и бетонный.
К чему людям придумывать себе странные ситуации, когда без того невероятно много утомительной нелепицы? Оскар был очень зол на себя и на весь мир.
Оскар все кружил и кружил. Он обошел ближайшие сосны и взял в руку сломанную ветром пушистую ветку.
Увидев тогда из окна УУМ'а, что пошел снег, Оскар обрадовался, как ребенок. Он сидел в своей любимой позе — опершись локтями на стол — и долго глядел на снегопад. Воображение рисовало ему лесную опушку — это была идиллическая и завершенная картина, вставленная в определенную рамку и исключавшая бесцельное топтание с пушистой веткой в руке, словно для обороны.
Сейчас появится кабан, мысленно подразнил себя Оскар. Вот тогда он совершит геройский поступок! Нацелится на кабана веткой — тот в сумерках не поймет, что это не ружье, — от страха его хватит удар, и он рухнет к ногам героя.
Обозленный Оскар все брел и брел, в голове у него шумело до дурноты. Привыкнув к зримым стенам и твердым границам, к гулу голосов или к музыке, он все более и более недоумевал, чего ради он топчется и блуждает в снегопаде меж едва различимых стволов.
Но вместо того, чтобы уйти, Оскар все дальше углублялся в лес. Он словно прощупывал местность, упрямо пытаясь освоиться с ней. Смешно, ведь эту рощу он знал, просто снегопад до неузнаваемости изменил ее.
Темнело.
Оскар никогда раньше не задумывался над тем, до какой степени он связан с городом. Ощутив это, он даже расчувствовался и готов был горячо доказывать первому встречному, что единственно возможный образ жизни в современном мире — урбанизация. Он бы нашел десятки доводов в защиту своих взглядов. Начать можно было хотя бы с психологического обоснования скопления народа в дачных местах.
Но излить душу было некому. Бредущий по снегу Оскар испытывал такую уверенность в своей правоте, что спорить с самим собой у него не было никакой надобности. Будь он поэтом, он немедленно бы сложил оду городу.
Внезапно пришла усталость. Оскар нашел пень, выглядывающий из-под снега, и сел. Дрожащей рукой зажег сигарету. Опершись локтем о колено, он почувствовал себя немного лучше. И в нем снова поднялась тоска по Ирис.
Оскара забавляла быстрая смена его настроений. Обычно новая история начиналась гораздо проще, не требуя траты нервов, если не считать неудобств, вызванных некоторым несовершенством быта. Со всеми все шло гладко — все эти Вийвики, Марики, Эрики и Анники как будто сидели и ждали либо на стуле, либо на кровати. Они знали цену времени и стремились к душевному покою.
Весь предыдущий опыт Оскара в подобных делах можно было свести к одному: более или менее в границах нормы. В глубине души он относился к такому выражению с большим сочувствием. Стандартизация и нормирование всегда — сознательно или подсознательно — были ему по вкусу. Этот его взгляд на вещи укрепила и работа в УУМ'е. Правда, иногда разного рода ограничения будили в нем дух протеста. Не потому ли он принес домой гитару, а потом разбил ее о спинку стула. Может быть, именно этим своим поступком он хотел привести в норму обстановку, сложившуюся дома?!
Оскар понимал, что нисколько не отличается от покойной тети Каролины, которая по-своему любила ясность и поэтому покупала Вайре платья с геометрическими рисунками.
Все люди стараются на свой лад создать из хаоса систему. Весь мир стремится к порядку. Человек начал понимать цену жизни, поэтому он хочет на все случаи знать оптимальное решение, чтобы как можно меньше растрачивать себя. Фанатизм и риск встречаются все реже. Масса информации, разросшаяся, подобно опухоли, доказала, сколь несущественно желание одной личности. Нет смысла напрасно растрачивать себя.
Оскар снова обрел свою обычную трезвость и уравновешенность. Он бросил в сугроб окурок сигареты, отряхнул шапку и полы пальто, смахнул снег с плеч. Взглянув на ботинки, он почувствовал, что носки у него промокли.
Оскар встал с пня и пошел в сторону дороги. Он шел прямо, будто был связан с городом пуповиной. Ему казалось, что эта пуповина была чересчур натянута, когда он бродил и кружил по снегу, представляя себе, что находится в лесу в полном одиночестве.
Сквозь снегопад донесся шум тяжелого грузовика. Оскар вбирал в себя этот звук, точно музыку, вбирал всем своим существом, соскучившимся по городскому шуму. Он отбросил пушистую ветку и сунул руки в карман. Проклятие, перчатки тоже промокли.
Оскар прибавил шаг, однако шел осторожно, переступая через небольшие сугробы.
Он уже был совсем близко от дороги, когда впереди себя, между деревьями увидел женщину. Она шла, пошатываясь, и держала в руках по объемистому мешку. Оскар стал наблюдать за женщиной; ему показалось странным, что она с такой тяжелой ношей бродит по заснеженному лесу.
Внезапно женщина выпрямилась, огляделась вокруг и звонким голосом стала звать кабана!
Ирис!
Оскару захотелось куда-нибудь спрятаться, ему показалось, будто он следит за чем-то недозволенным.
Но Ирис подошла к нему, положила мешки на землю и просто сказала:
— Добрый вечер. Вам случайно не попадался на глаза кабан?
— Нет, — ответил Оскар.
Ирис улыбнулась, вынула из мешка две морковки, одну протянула Оскару, а вторую принялась грызть сама.
— Что ж, подождем немного.
Оскар взял морковку, хотел было откусить, но челюсти свела судорога. Тогда он зажал морковку в зубах, и судорога прошла.
— Иногда он не решается подойти. И тогда я оставляю ему еду на пне. Он никогда еще не видел снега. Ведь правда, это волнующее зрелище, когда впервые увидишь снег?
Оскар не знал, что отвечать. Женщина говорила о кабане, как об изнеженном ребенке.
Ирис посмотрела на часы.
— Идем, — сказала она. — Если хотите, — прибавила она через мгновение.
Оскар схватил мешки и побрел вслед за Ирис в темный лес. Они остановились неподалеку от молодых елей, и Оскар почувствовал, что вместе со снегом его обдало ароматом какого-то цветка. Он на миг закрыл глаза. В ушах шумело. Может быть, он перенапрягся, таща тяжелые мешки. А может, его пугала собственная беспомощность — он не знал, о чем говорить, боялся сделать шаг, хотя стоять на одном месте в застывшей позе было неудобно. Ему казалось, что лишнее движение может отпугнуть Ирис.
Оскар так долго ждал первого снежного вечера. Много раз он мысленно сжимал Ирис в своих объятиях, и снег скрывал их от посторонних взглядов. Он воображал, как они быстро идут вдвоем и заходят в какое-нибудь кафе, где тепло и струится мягкий свет. Они о чем-то говорят, смотрят друг другу в глаза и не видят никого вокруг. Но, по-видимому, Ирис не устраивала ничем не примечательная программа Оскара. Она пришла на свидание с кабаном, а не с ним. Вдобавок ко всему, она принесла с собой картофель и морковь. Видимо, для нее было важнее всего накормить животное.
Едва ли Ирис допускала, что они могут где-то уютно посидеть, так как на ней были брюки, валенки и заячий полушубок.
Внезапно Оскар о чем-то вспомнив, пошарил в кармане. Потом снял шапку и, поборов смущение, надел на голову парик с заячьими ушами, принадлежавший автору букваря из Андорры. Затем взял Ирис за плечи, впился взглядом в ее лицо и прошептал:
— Теперь мы одной породы.
Ирис посмотрела на странный парик Оскара и улыбнулась:
— Почему?
Рука Оскара нащупала пушистый шарф, который Ирис носила на голове. Его пальцы коснулись маленьких ушей и скользнули по лицу. Оскар чувствовал, что слова сейчас не нужны. Одна неосторожная фраза — и все исчезнет: Ирис, снег, лес. Возможно, останется только кабан. Обнажив клыки и готовясь к нападению, он будет все приближаться и приближаться.
13
гне сидела на корточках перед печкой и разжигала огонь. Войдя в переднюю, Оскар сунул в карман промокший парик андорки, хотя его следовало бы просушить. Агне не должна была видеть этой улики, так как никакого сколько-нибудь правдоподобного объяснения относительно того, откуда у него женский парик, Оскар не смог бы дать. Более того — парик с заячьими ушами стал почти реликвией, он разрушил стену между ним и Ирис. Оскар сжал в кармане мокрую реликвию и про себя улыбнулся.
Он прошел из передней в комнату и быстро направился к окну. Отодвинув в сторону тяжелую узорчатую занавеску, он прильнул лицом к стеклу, и прохлада его помогла Оскару окончательно овладеть собой. Правда, он довольно долго гулял перед домом, прежде чем решился войти. Он боялся, что не сможет изобразить на своем радостном и смятенном лице обычную кисловато-серьезную мину.
Снег все еще шел.
Собственно говоря, ничего особенного не произошло. Они с Ирис безмолвно стояли рядом. Потом она тихонько отошла в сторону и высыпала из мешков морковь и картофель — часть овощей осталась на пне, часть рассыпалась. После этого они вышли из леса.
На дороге по-прежнему громыхали тяжелые грузовики. Ирис шла на шаг впереди, руки в карманах, и, казалось, была погружена в раздумье. Оскар шагал следом за женщиной и мог бы идти так до бесконечности. На каком-то углу Ирис остановилась, протянула Оскару руку и быстро пошла, ни разу не оглянувшись. Оскар не решился спросить: когда? И сама Ирис тоже ничего не сказала.
Неопределенность будущего нисколько не тревожила Оскара. Ему почему-то казалось, что в данный момент это не так и существенно. Странно, если раньше ему всегда хотелось все рассчитать заранее, то теперь даже нравилось надеяться на случай, тем более, что он верил: его час придет. Должен прийти.
За столом Оскар упорно смотрел в тарелку. Он не слушал, о чем болтают Керту с Агне. Когда Агне внезапно обратилась к нему, на лице Оскара невольно появилось выражение покорности. С миной пай-мальчика он протянул жене солонку. Агне покачала головой, и на ее лице появилась проникновенная улыбка. Эта улыбка испугала Оскара. Угрюмая Агне устроила бы его сейчас больше. Все было бы в норме: два полюса — Ирис и Агне.
Тут же Оскар представил себе, как они с Агне стоят перед судом. Самым разумным было бы подать заявление сообща. Но сперва Ирис должна разойтись с Пяртом Тийвелем. Сперва? Почему сперва?
Оскару стало не по себе. Все это выглядело пугающе сложным.
При одной лишь мысли о бракоразводном процессе ему становилось нехорошо. Но на этот раз Оскар должен собраться с силами. Никогда еще подобное решение не приходило ему в голову. Он отнюдь не был столь легкомыслен, как могли предполагать все эти Анники, Марики, Вийвики и Эрики. По их мнению, Оскар готов был в любую минуту бросить Агне, однако они глубоко заблуждались и великолепно это осознавали, когда любовная история приходила к концу. Если Оскар не мог избавиться от какой-нибудь из очередных пассий по-хорошему, он прибегал к жестокой фразе:
— У меня исключительная жена.
Это действовало убийственно. Женщина, которой ронялась такая фраза, принималась от жалости к себе реветь. В промежутках между всхлипываниями она бормотала что-то насчет разбитой жизни, собственной глупости, и вообще чувствовала себя отвратительно.
Поев, Оскар остался за столом. Он сидел здесь один, понурившись, и смотрел на сахарницу с серебряной ручкой. Совершенно не к месту ему вдруг вспомнилось, как сокурсники Агне, даря им эту сахарницу на свадьбу, пожелали, чтобы жизнь Агне и Оскара всегда была сладкой, и в подкрепление своих слов доверху насыпали в нее сахар. Агне, приняв подарок, передала его Оскару. Рука у него почему-то дрожала, и крупинки сахара просыпались в рукав и в туфлю. Оскар помнил, как сахар хрустел у него под ногами — видимо, какую-то порцию сладкого получил и пол. Задним числом Оскар вдруг рассердился. Что за дурацкий подарок! Такое ощущение, будто руки до сих пор липкие. Одновременно Оскар удивился — как недолговечна человеческая память. В то время была нехватка сахара, и содержимое сахарницы явилось ценным дополнением к студенческому свадебному столу.
Лучше всего было бы жить в гостинице, подумал Оскар. Вещи не имеют там никаких нелепых связей с прежней жизнью и не могут в самый неподходящий момент всплыть и расстроить тебя.
В столовую вошла Керту и помахала Оскару рукой. Ее пылающие щеки очень гармонировали с белой вязаной шапочкой.
— Куда? — крикнул Оскар ей вслед.
— В кино, с Тармо, — ответила Керту из передней. Спустя мгновение хлопнула дверь.
— Каждый вечер, — проворчал Оскар в порыве отцовских чувств.
Агне ответила совершенно неожиданно:
— Пусть ходят. Тармо хороший парень.
Оскар уставился на Агне и почему-то пошевелил ушами. Этим, сохранившимся с детства искусством Оскар пользовался в последнее время очень редко.
Агне рассмеялась. Она подошла к Оскару сзади и обхватила его шею руками. Оскар испугался, на какой-то миг его даже охватил ужас. Ему вообразилось, что Агне читает его мысли — она все знает и собирается теперь задушить его. Смех — но это же ничего не значит. Это мог быть и нервный смех.
— Мне этот Тармо не нравится, — наугад сказал Оскар.
— Почему? — удивилась Агне.
— Чурбан какой-то бесчувственный.
Агне пожала плечами и отошла.
— А знаешь, ты тоже показался мне вначале бесчувственным, — призналась вдруг Агне и застенчиво улыбнулась.
Оскар с неприязнью подумал, что Агне уже давным-давно кажется ему бесчувственной.
— Между бесчувственностью и уравновешенностью — большая разница, — как бы извиняясь, заметила Агне. Она на минуту открыла окно, вытряхнула скатерть, снова расстелила ее на столе и вынула из шкафчика редкое марочное вино.
— По какому случаю? — удивился Оскар.
— Сегодня выпал первый снег. Зима входит в свои права. Хочется как-то согреться.
Они долго сидели молча, потихоньку потягивая вино. Агне как будто чего-то ждала и выглядела растерянной. Она что-то обдумывала про себя, не с мрачным видом, как обычно, а сосредоточенно, уйдя в себя, словно пыталась телепатически передать свои мысли Оскару. Глаза ее то сверкали, то подергивались печалью, то она вдруг начинала улыбаться.
— Знаешь ли, — сказала она наконец и пристально посмотрела на Оскара.
Внезапно у Оскара мелькнула надежда. Он напряг слух — доносившаяся сверху едва слышная музыка чертовски мешала ему сейчас, он боялся пропустить хоть слово из того, что скажет Агне. А она могла сказать что-то важное. В глубине души Оскар надеялся: вдруг Агне окажется инициатором. Вдруг ей все надоело и она захочет покончить с затянувшейся совместной жизнью. Вдруг?
— Я решила изменить свою жизнь, — веско сказала Агне.
Оскар сдержался, чтобы ненароком не кивнуть.
— Странно, конечно, но теперь я наконец-то уверена в тебе.
Агне отпила вина. Оскар пришел в полное смятение.
— Мне хотелось бы со своей стороны помочь наладить нашу жизнь. Я чувствую потребность стать другой, более покладистой.
Наливая вино, Оскар прижал горлышко бутылки к краю рюмки, чтобы руки его не дрожали.
— Так много времени надо, чтобы начать хоть чуточку понимать себя. Человек часто окостеневает еще совсем молодым, когда склероз фактически еще не грозит ему. Меня все время что-то терзало, и я никак не могла понять, в чем дело. Теперь я, кажется, поняла. Ты мне помог. Ты в последнее время был таким милым, терпеливым и уравновешенным. По вечерам рано приходил домой, мирился с моим мрачным настроением. Ты проявлял терпимость и ни разу не обидел меня даже словом.
Скорее бы Агне закончила свои благодарственные излияния! Душа Оскара просто стенала. Он не понимал, куда гнет Агне.
— Видишь ли, — продолжала Агне, — в своей жизни я всегда все делала наперекор своей натуре. Всегда выбирала самую изнурительную дорогу вместо того, чтобы идти по гладкой. Всегда принуждала себя нести ношу, которая в действительности была мне не по нутру. Разумеется, нехорошо валить на кого-то собственную глупость и ошибки, однако я не могу не вспомнить одно наставление, которое постоянно давала мне мать. Она говорила: надо, пересиль себя! Постепенно у меня выработалось этакое детское упрямство: неужели тебе с этим не справиться? Неужели ты этого, действительно, не можешь?
Лоб у Оскара покрылся испариной. Агне как будто говорила на непонятном языке, и в то же время в ее рассказе проскальзывало что-то очень знакомое.
— Ты ведь помнишь мою спортивную карьеру, — с гримасой сказала Агне. — Стоило одному болвану-преподавателю сказать, что у меня хорошо получаются прыжки в высоту, как я тут же заставила себя прыгать. В действительности у меня не было к этому никакого призвания. Просто включился несложный механизм. В мозгу робота нажали на нужную кнопку. В тебе открыли талант, сказала я себе. Теперь остается только пересилить себя. А этому я научилась у матери. Я стала отчаянно тренироваться. Напрягалась изо всех сил, не давала себе пощады, хотя где-то внутри у меня закипал протест. В то время у нас на факультете училось немало рекордсменов. Внешне они от нас почти не отличались, все парни и девушки были с хорошими физическими задатками, и это еще больше утверждало меня в моем решении. Ты ведь помнишь. Я получила несколько дипломов — мои старания все же увенчались пусть маленьким, но успехом.
Дались ей эти спортивные истории студенческих лет! Просто не потянула, чего уж там говорить. Но куда она все-таки гнет?
— Позже я много раз видела во сне себя и планку. Эти сны были как отвратительные замедленные фильмы. По нынешним понятиям даже модные. Они стали моими ночными кошмарами, не давали покоя и днем. Я поднималась над планкой, почти преодолевала ее, но она все-таки падала. Во сне собственный зад казался мне огромным. Каждый раз он задевал за планку, и это сводило на нет возможные рекорды и достижения. И все же, — Агне рассмеялась, — однажды все вышло по-другому. Я оторвалась от земли, поднялась вертикально в воздух, завертела ногами, будто ехала на велосипеде-невидимке, и преодолела планку: она осталась внизу под ногами. В тот раз я получила огромное удовольствие от прыжка, несмотря на то, что все происходило во сне.
Оскар не решался прерывать Агне. Он слушал, хотя и ловил себя на том, что делает это рассеянно. Мгновениями он вырывал какие-то отдельные слова из произнесенных фраз. И тем не менее, эти провалы в рассказе Агне не искажали смысла. Да и вообще, думал Оскар, к чему столько слов, когда можно высказать все с несравненно меньшей затратой усилий. Очевидно логическая фраза вскоре утратит свое единодержавие.
Эти вялые обрывки мыслей роились в голове Оскара, вероятно, лишь для того, чтобы рассеять охватившее его разочарование. Отнюдь не истории со сновидениями рассчитывал услышать от жены Оскар, а нечто совсем иное.
— Чем же ты, собственно, собираешься заняться? — нетерпеливо спросил он.
— Я хочу, чтобы моя деятельность соответствовала моему характеру.
— Ты думаешь, это возможно?
— Должна же я в конце концов найти себя.
— В чем?
Агне задумалась.
— Не знаю, — наконец сказала она.
Прямой вопрос Оскара раздосадовал Агне. Она потеряла нить разговора, несколько раз открывала рот, но желание продолжить рассказ у нее явно пропало. Видимо, Агне хотелось начать издалека, прежде чем перейти к сути дела.
У Оскара не хватило выдержки, а ведь именно за это качество его только что хвалила Агне. Более того, он, кажется, даже обидел ее. Взглянув на вновь помрачневшее лицо жены, Оскар понял: в его нетерпеливых вопросах невольно прозвучала насмешка.
— У твоей матери были самые лучшие намерения, — примирительно пробормотал Оскар. — Я думаю, что на нее очень сильно подействовала смерть твоего отца. И только принцип — «надо, приходится, преодолевай себя» помог ей жить дальше. Будь уверена, сама она тоже следовала этому пуританскому принципу. Не одну тебя заставляла.
— Да-да, — оживилась Агне и, как бы прося прощения, примирительно посмотрела на Оскара.
Неожиданно Агне показалась ему какой-то беспомощной. Маленькая кошачья головка терялась меж широких плеч, словно пряталась от удара.
— Ты думаешь, я уже не смогу от всего этого освободиться? — робко спросила Агне.
Оскар растрогался. Он шагнул к Агне и поцеловал ее.
Позже, подойдя к окну, он увидел у ворот Керту и Тармо. Парень обнимал девушку.
Оскар пришел в ярость. Он готов был трахнуть кулаком по стеклу и крикнуть грубость. Он едва сдержался. Прижавшись лбом к холодному стеклу, он попытался успокоиться. Одновременно его охватило чувство неловкости, словно он тайком выслеживал Тармо и Керту. Оскар отвернулся от окна и беспомощно остановился посреди комнаты. Агне будто ждала этого момента. Она подошла к мужу и прильнула к нему. Оскар почувствовал отвращение. Но откуда Агне было знать, что он видел, как Тармо обнимал Керту. Оскар был в ловушке. Чтобы спастись, он схватил носовой платок и стал кашлять и сморкаться. Агне отпустила его. Оскар быстро подошел к столу, налил полный стакан вина и залпом осушил его. Теперь на него напал настоящий приступ кашля. Когда кашель прошел, Оскару почему-то вспомнился случай, о котором ему часто рассказывала Агне.
Отец Агне, известный мастер своего дела, копал очередной колодец. Работа уже приближалась к концу, второй человек стоял наверху и ждал, чтобы с помощью блока поднять на поверхность последнее ведро песку. И тут произошел обвал, отца Агне погребло под песком.
Впервые услышав об этом, Оскар спросил, почему они предварительно не опустили в колодец бетонные кольца? Не захотел заказчик, объяснила Агне. Говорят, кольца лучше опускать, когда колодец вырыт — не будет перекоса.
В дверях столовой стояла раскрасневшаяся Керту в белой шапочке.
Оскар не заметил, как хлопнула входная дверь.
Керту не услышала ни одного упрека, потому что рот Оскара как будто был набит песком.
14
ак-то под вечер — было это в январе — в кабинет Оскара вошла ответственный секретарь УУМ'а Тийна Арникас и села на стул.
На ее лице, после смерти Рээзуса, застыло выражение отчаяния. У Тийны был такой вид, будто она за это время перенесла операцию. Ее вялые с виду мышцы были теперь напряжены, а некогда мягкое лицо напоминало модернистскую маску.
Это она, Тийна Арникас, войдя в предпоследний день старого года в кабинет Рээзуса, нашла начальника УУМ'а мертвым. С криком Тийна Арникас выбежала из кабинета и помчалась по коридорам. В первую минуту она не могла говорить, лишь издавала неопределенные звуки, а потом долго сидела в каморке Ээбена и дрожащими руками обнимала за шею резинового пса Фауста.
На похоронах Рээзуса Тийна Арникас, напротив, была совершенно спокойна. Более того, когда Пярт Тийвель держал речь, все заметили на лице Тийны Арникас кривую усмешку, и это обстоятельство надолго стало предметом разговоров работников УУМ'а. В течение многих дней секретаря провожали осуждающие взгляды, так как все без исключения уумовцы тяжело переживали смерть Рээзуса. В конце концов Армильда Кассин все же восстановила доброе имя ответственного секретаря — она рассказала всем по очереди, что Тийна Арникас приняла слишком большую дозу успокаивающих таблеток и поэтому пребывала на кладбище в трансе.
Сама Тийна Арникас тоже пришла в ужас от своей неуместной улыбки — разве иначе она бы стала так усердно предаваться горю? Так думал Оскар, так думали, вероятно, и другие работники УУМ'а, которые сравнительно быстро вновь вошли в привычную колею.
Каждый день Тийна Арникас хватала кого-нибудь из уумовцев за пуговицу и в который раз рассказывала, как она обнаружила Рээзуса:
— Он просто сидел за столом.
Этого можно было и не говорить, так как другие служащие УУМ'а тоже видели покойного Рээзуса, сидящим за столом. Но никто не решался прервать Тийну Арникас. Все понимали — для того, чтобы освободиться от потрясения, ей необходимо рассказывать об этом, и не раз.
Оскар подавил вздох, решив, что сегодня Тийна Арникас выбрала своей жертвой его.
Он ошибся.
— Я не люблю хитрить, — решительно заметила Тийна Арникас и кашлянула.
— Как будто бы нет причины, — ободряюще бросил Оскар.
— Последние годы Рээзус навещал меня почти каждый вечер. Дома его считали азартным шахматистом, который не может закончить день, не сыграв приличной партии. В день похорон, после церемонии, ко мне подошла жена Рээзуса и попросила показать ей старого приятеля мужа по шахматам. Я указала на вас, Оскар.
— Я ни разу в жизни не передвинул ни одной шахматной фигуры, — испугался Оскар.
— Какое это имеет значение? — недовольно поморщилась Тийна Арникас.
— Все-таки… — хотел было возразить Оскар, но Тийна Арникас взмахом руки заставила его слушать дальше.
— Недавно меня разыскала жена Рээзуса и попросила передать вам, чтобы вы к ней зашли. Вероятно, хочет поговорить о своем покойном муже. Должна признаться, что педантичный Рээзус порой бывал рассеянным и забывал у меня свои вещи. Думаю, что самое правильное взять вам их с собой и отдать жене. Само собой разумеется, вы должны будете рассказать ей что-нибудь приятное о часах, проведенных с ее мужем. Нарисуйте портрет серьезного мужчины, который решал шахматные задачи так же точно и добросовестно, как вел свои рабочие дела.
— Что вы еще прикажете? — неприязненно спросил Оскар.
— Все, что мне придет в голову, — надменно кинула Тийна Арникас.
У Оскара запылали уши.
— Не надо волноваться, вы все равно сделаете так, как я захочу.
— Ну и вампир, — пробормотал Оскар себе под нос.
— Перестаньте вилять, в конце концов не так уж я много прошу у вас. Один-единственный вечер — это не столь большая жертва. Чтобы помочь вам преодолеть сомнения, могу сообщить, что в моем железном шкафчике лежит пачка компрометирующих вас писем. Должна заметить, что у вас странная система — выбирать женщин, имена которых оканчиваются на «ка».
— Так, так, — пробормотал Оскар.
— Так-то так, но и этак, — ядовито заметила Тийна Арникас и по-идиотски захихикала.
— Я могу получить эти письма? — спросил Оскар, и ему был противен собственный голос.
— Будем великодушны, — неопределенно ответила Тийна Арникас. — В конце концов каждому интересно, что о нем пишут. Даже частные письма придают человеку вес в собственных глазах, — милостиво провозгласила Тийна Арникас.
— Когда?
— Чем раньше, тем лучше. — Нахмурив брови, Тийна Арникас что-то обдумывала про себя. — Нет. Сегодня, обязательно сегодня.
Сказав Оскару час и адрес, Тийна Арникас с непреклонным видом удалилась из кабинета.
Оскар вынул из ящика стола эспандер и начал медленно его растягивать. Таким образом ему удалось подавить в себе гнев — это был старый, испытанный прием. Каждый раз, пользуясь эспандером, Оскар поражался собственным тоненьким рукам. Как много он тренировал свои мышцы и все безрезультатно! Сколько он себя помнил, его конечности всегда были немощными: какими были в выпускном классе, такими и остались. Интересно, как это культуристы набивают себе мускулатуру?
Оскар с большим трудом разыскал жилище Тийны Арникас. Он стоял перед большим покосившимся деревянным домом на окраине города. Из окна коридора на улицу пробивался слабый желтый свет. По шаткой лестнице, перескакивая сразу через две ступеньки, Оскар взбежал наверх.
Тийна Арникас уже ждала его, она открыла дверь, прежде чем Оскар успел поднять руку и постучать. Оскар прямо-таки бросился в комнату, так как за его спиной ожесточенно загремели жестяные тазы и ведра.
Это была скорее каюта, чем комната. Жилище Тийны Арникас походило на трюм корабля времен Нельсона. То, к чему стремилась хозяйка, совпадало с тем, что она видела в фильмах, — это было ясно с первого взгляда.
С коричневого потолка свисал фонарь с цветными стеклами. Окон не было, вместо них стену, что была пошире, украшали три иллюминатора, за стеклом каждого из них — красочная картинка на морскую тематику: старинные парусники на синих волнах.
Оскара качнуло. Он украдкой оглядел стены, взглянул на пол и заметил, что пол действительно покатый.
Тийна Арникас дала гостю спокойно осмотреться в комнате. Ответственный секретарь УУМ'а прилегла на койке, поджав под себя ноги и прикрыв их подолом длинного платья.
Оскар снял пальто, сел на чурбан возле дубового стола и начал протирать очки.
— Совсем, как Рээзус, — вздохнула Тийна Арникас. — Он тоже каждый раз пугался, когда в коридоре начинали громыхать жестяной посудой. Эти матросы, — монотонным голосом продолжала Тийна Арникас, — без конца носятся с ведрами и ковшами. Им все время кажется, что корабль дает течь.
— Где же находится сейчас ваш корабль? — кашлянув, спросил Оскар.
— Морская карта висит на стене, там помечено, — лениво ответила Тийна Арникас.
Оскар мельком взглянул через плечо. Если он не ошибался, то к шкафу, повернутому задней стенкой наружу, была действительно приколота большая морская карта.
— Ах, да, — Тийна Арникас медленно встала и открыла кованый сундук. Она выложила оттуда на стол завернутый в платок пакет, развязала узел, и Оскар увидел забытые здесь Рээзусом вещи. Расческа, галстук, очки с разбитым стеклом, неиспользованный билет в театр и шахматную фигурку из слоновой кости. Последним Тийна Арникас выложила перочинный ножик, на серебряной рукоятке которого был выгравирован крокодил, пожирающий собственный хвост.
— Я думаю, что из-за ножа и хочет видеть вас жена Рээзуса. Эту старинную и ценную вещичку она когда-то подарила Рээзусу. В последний свой приход сюда Рээзус вспомнил про нож, правда, уже внизу, у входной двери. Сказал, что в следующий раз заберет его домой. На ноже хороший штопор.
Оскар хотел было сунуть вещи Рээзуса к себе в карман, но Тийна Арникас ладонями накрыла его руки и настойчиво прошептала:
— Вы ведь не спешите. К тому же письма под подушкой.
Оскару захотелось как можно скорее убраться отсюда. Он чувствовал себя в этой комнате-каюте препаршиво. Обычно, приходя куда-нибудь по письму, в котором звучала жалоба на одиночество, он проводил в обществе адресата по меньшей мере несколько часов. Даже в том случае, если считал, что данная личность не представляет для него ни малейшего интереса. Может быть, он слишком хорошо знал Тийну Арникас? Скорее наоборот. На работе за ответственным секретарем не замечалось никаких странностей. Очевидно, никто из служащих УУМ'а не знал, что Тийна Арникас уже долгое время была в близких отношениях с Рээзусом. В общем, в УУМ'е Тийна Арникас производила впечатление, пожалуй, даже чересчур принципиального работника, какие встречаются порой среди замшелых старых дев.
— К чему вся эта декорация? — раздраженно спросил Оскар как бы в продолжение своих мыслей.
— Спросите у бабочки, почему у нее пестрые крылья, — помедлив, ответила Тийна Арникас.
— Остается еще добавить, что у насекомых не бывает детства, — насмешливо произнес Оскар.
— Странно, что людям всегда бросается в глаза чужая обстановка, — уязвленно проворчала Тийна Арникас. — А ведь я не делаю ничего такого, чего бы не делали все. Или вы не замечаете этой всеобщей тяги к наслаждениям? Люди делают из этого культ. Из кожи вон лезут, чтобы развлечь себя. Обезьянничают и подражают, самобытность отсутствует. Ведь все зависит от фантазии. Каждый стремится к тому, что когда-то осталось невкушенным. В конце концов каждый должен получить от жизни свое. К примеру, возьмем меня — я в детстве пасла коров, теперь наверстываю то, чего была лишена тогда.
Объясняя свою точку зрения, Тийна Арникас сердито ходила по комнате-каюте. На мгновение остановившись, она схватила в каком-то темном углу толстую книгу и швырнула ее на стол перед Оскаром.
— Восточные сказки, — прочитал Оскар на обложке и открыл книгу в том месте, где лежало что-то вроде закладки. Это оказалось нечто иное, как кожа гадюки. Невольно Оскар отпрянул назад.
— Дитя города, — презрительно бросила Тийна Арникас и рассмеялась.
Оскар что-то пробубнил про себя.
— Рээзус читал мне вслух сказки. У него был мягкий голос. А у вас в горле хрипы. Хотя я намеревалась — нет, ничего из этого не выйдет. Еще раз приходится убеждаться в старой истине, что люди незаменимы. Пусть в чем-то незначительном, не бросающемся в глаза. Да, что-то навсегда уходит в вечность. Навсегда. Человек не совершает круговорота в природе, подобно дождевой капле. К чертям!
Тийна Арникас бросилась на койку и зарылась лицом в подушку.
Оскар встал, думая, как бы достать из-под подушки письма. Ему хотелось скорее бежать отсюда. Казалось, что оставаясь здесь дольше, он каким-то образом запятнает Ирис. Но письма он должен получить! Во что бы то ни стало должен! Это имело прямое отношение к Ирис. Оскар хотел расчистить тылы. Чтобы была гладкая равнина, простирающаяся до самого горизонта, до того места, где он когда-то сидел розовощеким мальчуганом и разглядывал пальцы на своих ногах.
Тийна Арникас подняла голову и с изумлением посмотрела на стоящего у стола Оскара. Кто знает, чего она ждала, лежа ничком и всхлипывая.
Руки у Оскара висели, как плети. Внезапно он начал действовать, распихивая по карманам забытые Рээзусом вещи. Карманы почему-то казались маленькими.
— Хорошо, — вздохнув, сказала Тийна Арникас и поднялась с койки.
Она смиренно помогла Оскару надеть пальто, хотя Оскар и отстранял ее. Потом щеткой смахнула с его плеч какие-то пылинки и наконец вынула из-за пазухи пачку писем.
От Тийны Арникас Оскар пошел прямо к жене Рээзуса. Правда, по дороге он выпил в баре рюмочку коньяку, бросив в него две успокоительные таблетки. От этого в горле у него пересохло, и Оскар освежил рот горстью снега из сугроба.
Беседуя с женой Рээзуса, Оскар спокойно и со знанием дела говорил о шахматах, вынул из карманов вещи Рээзуса, не забыл отдать и театральный билет.
— Да-а, — кивнула головой жена Рээзуса. — В тот раз он не пришел. Кресло рядом со мной пустовало. Затем из дома пропал перочинный ножик с крокодилом на рукоятке. Оба эти раза меня мучало тяжелое предчувствие. Знаете, этот ножик мне подарил мой дядя, он потом умер в Шанхае от желтой лихорадки. Я до сих пор не могу понять, почему крокодил, нарисованный на рукоятке ножика, грызет себе хвост. Может быть, вы знаете?
Оскар не знал.
Странное, забытое слово — перочинный ножик — не давало Оскару покоя, когда он шел домой.
Он видел Рээзуса сидящим в своем кабинете за минуту до смерти. Начальник УУМ'а точил старинное гусиное перо ножиком, на рукоятке которого выгравированный крокодил грыз себе хвост.
15
этот день в Управлении учета мнений не работали. Все были возбуждены. В каминной УУМ'а должна была состояться закрытая продажа карамельных петушков. Этой великолепной возможностью — приобрести карамельный сувенир — сотрудники управления были обязаны новому начальнику Гарику Луклопу.
Гарик Луклоп чрезвычайно быстро освоился в УУМ'е. Первые несколько дней он изучал помещения от подвала до чердака, делая для себя какие-то пометки и даже зарисовки. Так, по крайней мере, утверждала завхоз, которая сопровождала Гарика Луклопа и открывала ему двери. Получив основательное представление о доме, новый шеф стал постепенно знакомиться с работниками УУМ'а. Он не вызывал их в свой кабинет, а самолично обошел всех. У него хватило выдержки и спокойствия выслушать мнение каждого — он желал выяснить, нет ли у его подчиненных каких-либо предложений относительно усовершенствования работы УУМ'а. Кроме того, его интересовало, чем была вызвана столь строгая засекреченность учреждения. По выражению лица Луклопа можно было заметить, что стереотипный ответ — таков-де порядок, установленный в свое время Рээзусом — не удовлетворял его. Один лишь Ээбен, который терпеть не мог кружить по городу в гололедицу, заявил, что такая степень засекреченности, действительно, бессмысленна.
Получив достаточное представление о своих подчиненных и о помещениях УУМ'а, Гарик Луклоп просидел целый день в кабинете за запертой дверью. Тийна Арникас, у которой кабинет начальника ассоциировался с глубоко потрясшим ее событием, несколько раз подходила к двери и прислушивалась. Из комнаты почему-то доносились обрывки разговора, хотя никто не заметил, чтобы в дом, а тем более в кабинет, заходили посторонние. Несколько позже работники УУМ'а узнали, что Гарик Луклоп любил обмениваться мыслями сам с собой. Толковые собеседники попадались чрезвычайно редко, и поэтому Гарик Луклоп считал необходимым советоваться с собственной персоной. Тем более, что у него всегда находилось о чем. О своих фантастических планах Луклоп рассказал на пятый день своей работы в УУМ'е на общем собрании, проводившемся в каминной.
Надо заметить, что многие сотрудники УУМ'а слушали нового начальника с плохо скрытой усмешкой. Они сомневались, что грандиозные замыслы Луклопа могут быть претворены в жизнь.
После общего собрания всегда такой тихий УУМ гудел, как пчелиный улей. Люди собирались группами и с увлечением обсуждали речь своего шефа. Похоже, что Луклоп оказался в некотором смысле психологом — он на полдня исчез из УУМ'а, чтобы подчиненные чувствовали себя свободно и могли в непринужденной атмосфере поделиться впечатлениями.
Начальник второго отдела Армильда Кассин, женщина, обычно склонная к сарказму, на этот раз выражала бурный восторг по поводу незаурядной внешности Луклопа. Она как будто и не слышала грандиозной программы, предложенной шефом. Может быть, Армильда Кассин не очень верила в воздушные замки, которые строил Луклоп, и поэтому пропустила его речь мимо ушей. Во всяком случае, коллеги вдоволь посмеялись над Армильдой Кассин, слушая ее бесконечные дифирамбы новому начальнику.
— Я никогда не видела такого мужественного мужчины, — говорила она. — Вы обратили внимание на его классически красивую верхнюю губу, она словно высечена из мрамора. А то, что он иногда закатывает левый глаз и косит им, мне ничуть не мешает. Наоборот — создается впечатление, будто он видит в двух разных плоскостях. Во время его доклада я не могла отделаться от ощущения, что один его глаз следил за слушателями, а перед вторым в это время возникали какие-то образы. Он не растрачивает себя на какое-то одно дело, так как обладает редко встречающимся даром симультанного мышления. А все ли заметили, какие у Луклопа маленькие ноги при его большом росте? Он ходит как на копытцах! Быстро-быстро! Вы обратили внимание, как проворно он вышел из каминной комнаты после собрания? И уж конечно, чтобы чего-то достигнуть, он затрачивает куда меньше времени, чем обыкновенный человек с большими и тяжелыми ногами.
Все знали, что последнее наблюдение Армильды Кассин отнюдь не было беспредметным. Неоднократно сетуя на медлительность и неловкость своего супруга, она сделала неоспоримый вывод: мужчины с большими ногами не могут преуспеть в жизни.
Итак, судьба подарила работникам УУМ'а относительно вольготные дни. После речи Луклопа они часами обсуждали создавшуюся ситуацию, не заботясь о драгоценном рабочем времени. Сегодня, тем паче, трудно было ожидать, что кто-либо станет вникать в письма, ибо предстоящая выставка-продажа карамельных петушков, как событие совершенно исключительное, будоражила все умы.
После штурмовщины в конце года поток писем спал и, таким образом, небольшая потеря времени не являлась опасной для УУМ'а. Отзывов, заявлений, предложений и жалоб поступало заметно меньше, и редко когда послания эти бывали многословными или пылкими. Видимо, энергия людей за праздники поиссякла так же, как иссякают деньги за время длительных кутежей. Потом долго живешь тихо и экономно.
Теперь, накануне продажи карамельных петушков, в разговорах работников УУМ'а неоднократно возникал вопрос о деньгах. Все жаловались, что сидят на мели и еле-еле умудрились наскрести какие-то гроши, — ведь нельзя же упускать благоприятную возможность приобрести столь ценный товар. Люди с азартом изливали друг другу душу и растроганно ахали, снова и снова благословляя счастливый случай, выпавший на их долю в виде этой закрытой выставки-продажи. В кабинетах УУМ'а не смолкали истории о скупых бабушках, не решавшихся дать взаймы из своих пенсионных средств, и о неразумных детях, не желавших пожертвовать стипендию на покупку столь необычных сувениров, да к тому же съедобных.
При всем при этом работники УУМ'а не могли понять, почему Гарик Луклоп организовал эту продажу. Одни подозревали, что новый начальник хочет завоевать расположение своих подчиненных, другие предполагали, что продажа карамельных петушков таит в себе какой-то более глубокий, тайный смысл. Во всяком случае, стало известно, что организация выставки-продажи не составила для Луклопа особых трудностей. До УУМ'а Гарик Луклоп занимал высокий пост на фабрике карамельных петушков.
Как человек, обладающий обширными знаниями, Луклоп в конце концов разъяснил своим сотрудникам, почему петушки уже годами числились в списках дефицитных товаров. Проблема заключалась в формах для прессовки. Луклоп рассказал, как самоотверженно трудились инженеры и конструкторы, пытаясь использовать для пресс-форм существующие материалы. Однако для петушковых форм они не годились, поскольку быстро изнашивались. Раньше, когда для блага человека вполне достаточно было маленьких обычных петушков, никаких трудностей, собственно, и не возникало. Обычные петушки изготовлялись просто. Теперь же положение осложнялось тем, что в связи с возросшими потребностями населения необходимо было выпускать петушков весом в полпуда и более.
Формы трескались и ломались, так как к прежнему требованию прочности — в связи с выпуском петухов-гигантов — прибавилась еще потребность в эластичности.
Научные работники, разумеется, сумели изобрести материал, обладающий одновременно стойкостью и гибкостью, однако беда была в том, что он оказался ядовитым. Рассказывали о многочисленных случаях, когда после испытания пресс-форм из нового материала, дегустаторы карамельных петушков заболевали странной болезнью: на носу появлялись волдыри, а кончики пальцев начинали невыносимо чесаться.
Поскольку с этими пресс-формами возникло столько трудностей, производство карамельных петухов-гигантов продолжало оставаться на весьма низком уровне. И в данном случае большая заслуга Луклопа заключалась в том, что он сумел получить из ограниченных фондов фабрики какую-то часть для закрытой продажи в УУМ'е.
Ээбена заблаговременно послали дежурить у гаража. Карамельные петушки, так же, как и письма, поступавшие в УУМ, должны были быть доставлены в каминную через весовую.
Вскоре ответственный секретарь Тийна Арникас сообщила своим коллегам, что контейнеры с петушками прибыли.
Оживленное общество поспешило в каминную, куда как раз с помощью Ээбена вносили петушков. Ценный груз поднимали из подвала наверх в плетеных корзинках, точь-в-точь, как и письма.
К удивлению уумовцев, женщины в желтых куртках, прибывшие с товаром, попав в изысканное помещение каминной, не выказали ни малейшего замешательства — очевидно, они привыкли к таким местам. Желтые женщины оглядели помещение с презрительно-мрачным видом и начали шумно сдвигать столы, чтобы сделать из них прилавок.
Заметив на лицах работников УУМ'а детское любопытство, женщины с грохотом закрыли двустворчатые двери каминной, оставив открытым лишь тот вход, который вел в весовую. Вскоре в замке заскрипел ключ, и уумовцы отпрянули подальше, словно их публично пристыдили за то, что суют свой нос куда не следует. Пришлось набраться терпения и ждать.
Позади послышался легкий шорох. Обернувшись, смущенные сотрудники увидели своего начальника. Луклоп великодушно улыбнулся, одним глазом посмотрел на подчиненных, а другой нацелил на дверь каминной.
— Приготовьтесь, — распорядился он. В голосе Луклопа прозвучала торжественная нотка.
Он тут же скрылся за углом коридора, оставив работников УУМ'а беспомощно обозревать друг друга.
— Как это понять? — спросила Армильда Кассин, пожиравшая глазами начальника, пока тот находился поблизости.
Женщины принялись пересчитывать свои деньги, а мужчины собрались в кружок и стали что-то тихо обсуждать.
Вот-вот должна была начаться продажа. Приближение этого важного события взбудоражило всех.
В замочной скважине громыхнул ключ, из дверей выглянул Ээбен.
— Стройтесь по степени занимаемой должности, — прошептал он.
Быстро закрыв дверь, Ээбен стал нарочито громко разговаривать с продавщицами, словно стараясь замаскировать какой-то свой недозволенный поступок.
Указание Ээбена помогло беспорядочно толпившимся уумовцам расположиться по системе. Пярта Тийвеля, как начальника первого отдела, вытолкнули вперед. За ним встала Армильда Кассин, затем Оскар, досталось место и Тийне Арникас, чье положение на служебной лестнице трудно было определить, и так далее до Анны-Лийзы Артман, уборщицы УУМ'а, завершавшей очередь.
Торжественная тишина витала вокруг выстроившихся гуськом уумовцев. На их лицах отражалось волнение и блаженство. Совет, который потихоньку дал Ээбен, остался Луклопом незамеченным; все вышло так, будто уумовцы подготовились к продаже петушков по собственной инициативе.
Наконец дверь каминной распахнулась. Впустили первого покупателя. За тот миг, пока отворяли и закрывали дверь, Армильда Кассин умудрилась бросить взгляд на прилавок и громко прокомментировать увиденное.
— Вы знаете, это потрясающее зрелище! — обратилась она к очереди. — Петушки всех цветов и размеров, выбирай любого! Только бы хватило, — нервно добавила она.
Тийна Арникас еще раз громко объявила, сколько петушков она намерена купить. Кое у кого из ее знакомых приближаются круглые даты и ей хочется преподнести им необычные подарки.
— Только бы хватило, — озабоченно прошептала и она.
— Что вы разохались! — воскликнул кто-то сзади голосом, в котором звучали бодрость, радость и оптимизм. — Нас мало, а товара много. Всем хватит.
Но и Оскар, стоя в очереди, волновался. Просто он, как и подобает мужчине, лучше управлял собой, чем представительницы слабого пола. Оскар не стал оповещать всех, сколько петушков он собирается купить. Разумеется, их придется взять целую кучу — за раз будет и не унести. Для Керту, для Агне, для подруг Агне; Керту просила одного петушка для старой тетушки, да и о своей матери Оскар тоже обязан был подумать. Но самое главное — он решил купить одного петушка для Ирис. Для нее и для Керту он возьмет самых больших, в этом он не сомневался. Его немного беспокоило, каким образом петушка, предназначенного Ирис, спрятать так, чтобы никто не узнал. Тем более, что Оскар не знал сроков и способов хранения этой продукции. Он втайне надеялся, что упаковка содержит пояснение. В последний раз, когда он покупал носовые платки, в придачу ему была дана брошюрка Управления гигиены.
Естественно, что больше всего волнений было из-за петушка для Ирис. Ведь Оскар еще не был настолько хорошо знаком с ней. Пройдет время, пока их отношения примут такой характер, который позволит делать ей подобные подарки. Оскар надеялся, что Пярт Тийвель купит жене какого-нибудь жалкого цыпленка, во всяком случае Оскар хотел, чтобы его подарок доставил Ирис удовольствие. Кроме того, Оскар полагал, что к тому времени, когда он сможет подарить Ирис петушка на палочке, Пярт Тийвель вместе со своим цыпленком будет забыт.
Логически рассуждая, петушки могут стать с течением времени еще большим дефицитом, как это произошло с некоторыми товарами. В минутном порыве эгоцентризма Оскар даже пожелал, чтобы производство пресс-форм так и не было налажено. Тогда он сможет преподносить Ирис петушков, ставших редкостью и поэтому представляющих особую ценность.
Пярт Тийвель вышел из каминной с тремя пакетами средней величины. Его лицо сияло радостью. Очевидно, он задним числом наслаждался благоприятным исходом торговой операции, так как ни с кем не захотел пускаться в разглагольствования. Когда же у него спросили относительно ассортимента, он махнул рукой, улыбнулся и обнадеживающе сказал:
— Предостаточно, всех цветов и размеров — от мини до макси.
Одного старомодного мини-петушка на палочке Тийвель сунул в нагрудный карман пиджака.
Армильда Кассин оставалась в каминной комнате довольно долго.
Кто знает, может быть, потому, что Армильда Кассин со своей женской нерешительностью пробыла там столько времени, Оскару и не повезло. В тот момент, когда, кряхтя под тяжестью пакетов, в дверях возникла начальник второго отдела, появился Гарик Луклоп в сопровождении нескольких мужчин и женщин. С его любезного приглашения вся посторонняя компания — разумеется, без очереди — вошла в помещение, превращенное в торговый зал.
Очередь занервничала.
— Лезут тут всякие, — громко проворчала Тийна Арникас, которая инстинктивно терпеть не могла преемника Рауля Рээзуса.
От волнения Оскара залихорадило. Он снова стал в уме подсчитывать необходимое ему количество петушков и еще раз прикинул, сколько самых больших, средних и поменьше он должен купить. Когда Оскар подсчитал количество обычных, рядовых петушков, в нем заговорила совесть. Многочисленные родственники и знакомые обидятся, услышав, что у него на работе продавали дефицитный товар, а он не подумал о них и отделался покупкой устаревших экземпляров.
Ирис он собирался купить того полупудового светло-зеленого петуха, который стоял в левом углу прилавка. Оскар приметил эту уникальную птицу, когда Армильда Кассин со своими многочисленными пакетами протискивалась в дверь. На первых порах он спрячет гигантского зеленого петуха в ящике стола в своем кабинете. Но в опасной близости от стола находился радиатор, и петух мог растаять или стать вязким и потерять вкус.
Лоб Оскара покрылся испариной.
Гости, вошедшие в каминную комнату вместе с Луклопом, все еще находились там.
Все эти люди, пролезшие без очереди, возмущали Оскара, как они возмущали и Тийну Арникас, хотя она старалась скрыть свою досаду. Оскар злился вполне обоснованно — стоять в очереди казалось ему унизительным. Все неприятные хождения по магазинам он всегда взваливал на Агне.
Знай Тийна Арникас, Оскар и другие, стоящие в очереди, какие нужные люди вошли в каминную вместе с Луклопом, они бы, возможно, и смягчились. Но, к сожалению, никто из нетерпеливо топтавшихся на месте служащих не мог и предполагать, сколь важны эти незнакомые посетители для будущего процветания УУМ'а.
Когда, наконец, очередь дошла до Оскара, ни у одной из одетых в желтое продавщиц не оказалось времени заняться им. Какая-то женщина в лисьей шапке, вошедшая в каминную через весовую, стояла в кругу продавщиц и что-то втолковывала им.
Желтые женщины, не обращая внимания на Оскара, принялись ходить взад-вперед вдоль прилавка и собирать расставленных на нем карамельных петушков. Поминутно заглядывая в какой-то список, они откладывали отобранные экземпляры в стоявшую рядом плетеную корзинку.
Оскар ждал, переминаясь с ноги на ногу, и, затаив дыхание, смотрел на огромного светло-зеленого петуха. К счастью, его никто не тронул. Наконец-то и для Оскара, проявившего столько терпения, нашлось время. Пересохшими губами он прошептал:
— Этого, — и в подтверждение своих слов ткнул пальцем.
Оскару пододвинули зеленого петуха.
— Прекрасный экземпляр, — одобрила продавщица, — вот только трещина.
Лишь сейчас Оскар заметил, что у петуха вот-вот отвалится его великолепный хвост.
— Чуть-чуть смажьте пищевым клеем, он отлично схватывает, — утешила его продавщица. — К тому же, их все равно приходится разламывать перед употреблением. Я слышала, что в одном магазине продавали хромированные пневматические молотки, они были задуманы именно для карамельных петушков и кокосовых орехов. Знаете, это очень эффектно, — доверительно пояснила любезная продавщица, — кладешь петуха на стол и на глазах у всех разбиваешь его пневматическим молотком.
— Пневматические молотки? — удивился Оскар. — Обычно ими разбивают асфальт.
— Это совсем другие, я говорю о специальных кухонных молотках, — воскликнула продавщица в ответ на невежественное замечание Оскара.
Оскар кивнул и смущенно посмотрел в сторону. Было как-то неловко, что он не в курсе современных производственных новинок. Но тут же он умилился: чего только не изобрел человек для своего блага.
Он мысленно посочувствовал далеким пещерным людям, которые грязными ладонями запихивали себе в рот полусырое мясо. Оскар с восхищением взглянул на светло-зеленого петуха и тут его вдруг осенило. Завтра же он изложит свою ценную идею на бумаге и направит эту бумагу на фабрику карамельных петушков. Наконец-то пришел и его час, наконец-то и он будет способствовать прогрессу!
Оскар набрал с прилавка петушков всяких размеров и расплатился. Правда, почти все петушки были с дефектами, лучших, видимо, по распоряжению женщины в лисьей шапке, сложили в плетеную корзину. Но творческие планы настолько захватили Оскара, что его не обескуражили незначительные трещины и поломки. Он совершенно четко представил себе, каким образом будет содействовать всеобщему развитию. Он видел свой грядущий вклад так ясно, как того оловянного генерала, который когда-то стоял за толстым стеклом в витрине магазина и о котором он мечтал в детстве. Стекло было таким толстым, а раскрашенный генерал стоял так близко!
Потрудись Оскар дать себе отчет в своих мыслях, он бы понял, что его блестящая идея родилась по сути тоже из воспоминания детства. Когда в этих местах первый раз прокатилась война, он увидел на окраине города, в какой-то канаве, кучу динамита. Странные желтые комья валялись меж лопухов, таволги и валерианы.
Оскар решил предложить фабрике карамельных петушков новый метод дробления петушков — путем взрыва. При изготовлении внутрь петушка заложат крошечный заряд динамита, а из петушиного хвоста будет торчать тоненький фитилек.
Почетному гостю или виновнику торжества предоставят право и удовольствие чиркнуть спичкой (чем черт не шутит, — возможно, эта очередная новая традиция пустит таким образом корни). Оскар представил себе, с каким напряжением собравшиеся гости следят за петухом, лежащим на подносе. Шипя, огонь достигает заряда, раздается легкий взрыв, и петух распадается на кусочки. При виде этого удивительного и щекочущего нервы зрелища женщины вскрикивают, а мужчины храбро улыбаются, демонстрируя свой твердый характер и бесстрашие.
Да, взрыв, придуманный Оскаром, мог соперничать разве что с выстрелом пробки от шампанского.
Душа Оскара ликовала от переполнявшего ее счастья.
В его воображении возникли бесконечные толпы людей, все они протягивали руки к карамельным петушкам, начиненным зарядом динамита. Петух был зеленым, как надежда, а из серебряного хвоста торчал красный фитиль. Народ радовался карамельным петушкам, народ был счастлив.
Надолго ли, подумал Оскар, немного поостыв.
По крайней мере, до тех пор, пока не наступит, например, пора искусственных сверчков, работающих на транзисторах.
Оскар усмехнулся.
В домах с воздушным отоплением станут строить искусственные очаги из кирпича и глины для искусственных сверчков, работающих на транзисторах. Очаги будут пригодны и для того, чтобы в инфракрасных лучах испечь бычью ляжку.
16
скар крепко держал Ирис за руку. Он спешил и прямо-таки тащил женщину за собой. Ирис почти бежала, чтобы поспеть за ним. Ветер свистел навстречу и бил в лицо.
Никто не преследовал их, ни от кого не надо было бежать. Оскар не утруждал себя мыслями о том, что сказать и как поступить, если они с Ирис вдруг нарвутся сейчас на Пярта Тийвеля или на Агне. В этот момент им владело лишь одно желание: найти место, где бы они с Ирис могли спокойно побыть одни.
Собственно, Оскар не отдавал себе отчета ни в чем, его логическая потенция была как бы парализована. Сумей он хоть на миг трезво оценить обстановку, он бы понял, что это желание неосуществимо, как… Как что? В современном мире все возможно. Это убеждение создавало фундамент для стремлений и желаний у многих людей. Если надо, то можно сварить суп и в атомном котле. Если надо, то можно перевернуть пирамиду и поставить ее вершиной вниз. Будет необходимо — фабрика по выпуску галош начнет хоть с завтрашнего дня строить подводные лодки. Размаху человеческого разума нет границ. Запихивать пищу откармливаемым гусям через воронку и высушивать голову врага до размеров сморщенного кулака — это были довольно-таки устарелые шуточки.
Каждая клетка мозга Оскара была наполнена непреодолимым желанием: сию минуту найти место, где бы он смог побыть с Ирис так, чтобы никто не мешал им.
Ветер швырял в лицо ледяные иголки. По небу расплывались зеленоватые пятна, предвещавшие еще более жестокие холода. На мгновение Оскару померещилась Агне, такой, какой он ее часто видел зимними вечерами, возвращаясь домой, — жена сидела на корточках перед печкой в перчатках и разжигала огонь.
Ирис не спрашивала, куда Оскар тянет ее. Она двигалась поразительно легко и ровно, не чувствуя усталости. Их быстрая ходьба не могла привлечь чье-либо внимание — город в этот вечерний час был почти безлюден. Пустынные, продуваемые ветром улицы как будто насмехались над ними — смотрите, сколько места, чтобы побыть вдвоем.
Запотевшие витрины кафе были в подтеках, как окна в бане, словно здесь, в центре города, собраны вместе все банные заведения, где в жарком пару под аккомпанемент томной музыки люди лили себе на голову горячую воду.
Оскар стал задыхаться. Он потянул Ирис в какую-то защищенную от ветра подворотню. Они стояли рядом, около старых ящиков. Оскар прижал Ирис к себе. Ее брови заиндевели. Странная старинная мелодия в промежутке между порывами ветра коснулась слуха Оскара — был ли то душещипательный романс или что-то в этом роде, он не мог вспомнить.
Оскар еще крепче прижал Ирис к себе, но сквозь толстые пальто тепло одного тела не достигало другого. Поцеловав Ирис, Оскар очнулся.
Где же все-таки можно побыть вдвоем? Он не видел для этого никаких возможностей. В кафе, ресторанах, барах, кино — всюду им пришлось бы находиться среди людей. К тому же, все эти места показались вдруг Оскару невероятно вульгарными и неприятными. Увеселительные заведения были несовместимы с Ирис. Отправься они туда, и все то, что едва успело зародиться, пошло бы обычным, много раз исхоженным путем. Оскар инстинктивно страшился повторений, он напряженно искал новых дорог, но их не было.
Оскар боялся, что Ирис выскользнет из его объятий и уйдет. Поэтому он еще раз торопливо поцеловал ее и сам отстранился. Ему стало стыдно. Будь он актером, он смог бы признаться себе, что по части выразительных средств его арсенал довольно-таки скуден.
Что делать?
Оскар судорожно искал слова, которые помогли бы ему удержать Ирис. Ты прекрасна, я боготворю тебя, я ждал тебя и мучился — эти фразы были настолько затасканы, что от одной мысли о них начинали гореть уши.
— Ты миф, — выдавил из себя Оскар и облегченно вздохнул.
Ирис расхохоталась.
Взявшись за руки, они перебежали улицу и вошли в тепло рыбного магазина. Остановившись у прилавка, стали внимательно разглядывать выставленный товар.
— У рыб рыбьи глаза, — сказала Ирис и снова фыркнула.
Спрессованные куски филе на эмалированном блюде напомнили Оскару бруски динамита, которые он видел в детстве среди зарослей таволги и валерианы.
Очки у Оскара запотели и он смотрел на Ирис, как сквозь стекла аквариума.
Оскар подумал, а вдруг зима отнимет у него Ирис. Теплые дюны и сумеречные, пахнущие смолой, леса были так невероятно далеки — жалкий мираж в этой холодной пустыне. Не зря же в мае поют любовные песни — дан вам срок, дано вам место.
Когда они снова вышли на улицу, Ирис сказала:
— Мифам в этом мире не очень-то уютно.
Наконец они все-таки вошли в одно, находившееся в сторонке, кафе и нашли место за столиком, где сидел какой-то старик и решал кроссворд; время от времени он отрывался от своего занятия и с шумом прихлебывал жидкий кофе.
Здесь сидели в пальто. Ирис расстегнула верхнюю пуговицу и размотала шарф. Оскар сам себе удивился — он до сих пор не видел, какое у Ирис тело. Он всегда считал это весьма существенным. Со временем у него даже выработался определенный стандарт — дольше всего он оставался с теми женщинами, которые казались ему инфантильными. Это Агне с ее могучей осанкой и дородными плечами толкнула его искать противоположности.
А Ирис?
Оскар изо всех сил пытался отогнать от себя пошлые мысли, простительные разве что барышнику. Он достаточно насладился всеми этими преходящими радостями. Более того, он мог, положа руку на сердце, признаться себе, что порой бывал всем этим пресыщен.
Пока Оскар трезво обсуждал сам с собой притягательную и отталкивающую силу тела — поводом к этому послужило грызущее его чувство собственной беспомощности и хилости, — Ирис грела руки. Она растирала и массировала пальцы. В душе Оскар был почти готов к тому, чтобы взять через стол руки Ирис и согреть их, прижав к своему лицу. Но как раз в этот момент сосед по столику стал самым прозаическим образом прихлебывать кофе, и почерпнутый в салонных романах прием так и остался непродемонстрированным честной публике, сидящей в этом тихом кафе.
Ирис словно прочитала мысль Оскара. Она улыбнулась, протянула через стол руки и с фамильярностью, свойственной супругам, приказала:
— Согрей мне руки. Все суставы болят от холода.
Поборов смущение, Оскар сжал руку Ирис, но все же скосил при этом глаза на старика. Сосед по столику не обращал на них ни малейшего внимания; что-то бормоча про себя, он считал буквы и водил тупым карандашом по квадратам.
Оскар исступленно стиснул пальцы женщины, наверное, он сделал ей больно. Он поймал себя на том, что хочет закрыть глаза. Точно так же, как в тот раз, в лодке, когда они с Эрикой плыли по реке, усеянной по берегам отдыхающими. Эрика — кажется, это была все-таки она — нетерпеливо потребовала: поцелуй меня, сию же минуту, мне так неспокойно, я больше тебе не верю, ты должен тотчас же доказать, и так далее — до тех пор, пока Оскару не пришлось выполнить желание спутницы. Он до мельчайших подробностей помнил тот случай: он снял очки, сунул их в карман, медленно наклонился вперед, все еще надеясь, что Эрика смутится и отступит. Но Эрика была непреклонна в своих желаниях. Она вытянула губы трубочкой и Оскар должен был сделать то, что от него требовали. Губы Эрики были солеными. Оскар закрыл глаза, на языке вертелась презрительная фраза: что за бред!
Сейчас Оскару тоже было не по себе. Его раздражало все — старик, который никак не мог допить свой кофе, остальная публика, официантки, лавирующие между столиками, какая-то шумная компания в углу, потрескавшийся потолок и запыленные светильники.
Оскар вынужден был признаться себе, что довольно-таки избалован. Покой и тишина УУМ'а, собственный кабинет, настольная лампа с мягким светом, удобная гильотина для вскрывания конвертов, кофейные чашки и таблетки от головной боли на подносике — стоило лишь нажать кнопку звонка, мягкие ковры — все это являлось нерасторжимой частью его жизни.
Дома он тоже мог найти покой или потребовать его. Выносливая Агне работала за троих, ее приходилось даже останавливать, когда она бывала охвачена очередной сумасбродной идеей относительно перестановки в квартире.
Да и все остальные женщины тоже проявляли к Оскару заботу и внимание. Что им еще оставалось делать, раз уж они попадали под покровительство такого приятного мужчины, который был наделен чем-то, что властно притягивало к нему. И самое главное — он умел в нужном месте и в нужный момент промолчать. Он не был лишен сообразительности и такта и, кроме того, имел про запас достаточное количество острот, которые не утомляли слушательниц, так как слушательницы менялись.
Ирис молча сидела напротив Оскара и не предлагала со своей стороны никакого выхода из положения.
Да и разве должна она была это делать?
Откуда она могла знать, как много дней Оскар думал о ней и как ждал сегодняшнего вечера? Может быть, для Ирис он просто малознакомый человек, который исчезнет из памяти сразу же, как только исчезнет из виду. Просто для разнообразия зашла с ним в это захудалое кафе и снова вернется домой к псу Роллю и Пярту Тийвелю.
По сравнению с Пяртом Тийвелем, Оскар чувствовал себя несчастным отшельником. Да и пес Ролль, к которому Оскар относился в общем с симпатией, сейчас приводил его в бешенство, в пору было, идя в УУМ, сунуть в портфель крысиный яд для него.
— Как поживает Ролль? — спросил Оскар у Ирис.
Ирис растерялась. Вопрос Оскара испугал ее. За показным равнодушием женщины таилась настороженность. Ирис близко наклонилась к Оскару, задела локтем чашку и прошептала:
— Откуда вам так много известно обо мне?
Оскар усмехнулся. К нему вернулась обычная уверенность. Он довольно долго удерживал на лице таинственную улыбку, но такая игра стоила свеч — он сделал, кажется, правильный ход.
— А в выращивании сахарного лука вы тоже участвовали?
Это было уже слишком.
Ирис побледнела и отпрянула назад. Она вся сникла. Оскар не понимал причины этой внезапной перемены.
— Мне не нравится, когда обо мне так много знают, — мрачно произнесла женщина.
Она тут же встала и пошла. Оскар едва догнал ее.
Опять они шли по извилистой улочке.
Ветер дул в спину. Оскар крепко держал Ирис за локоть. При новом порыве ветра ему почудилось, что Ирис может взлететь в воздух. Всем своим существом Оскар чувствовал, что если Ирис сейчас вдруг исчезнет, то уже не будет ни одного случая, который бы свел их.
Оскар попытался обнять Ирис и заглянуть ей в лицо. Но она упрямо отстранилась. Она, конечно, очень сердится, что Оскар столько разузнал про нее. Он мысленно проклинал себя и сожалел о своем промахе. Тем более, что в действительности не знал об Ирис ничего, кроме того, что сказал.
— Я знаю, где мы можем побыть наедине, — выпалил Оскар.
Теперь он намерен был осуществить совершенно сумасбродную затею.
Внутренний распорядок УУМ'а строжайше запрещал служащим находиться в служебных помещениях в нерабочее время. Исключение составляли лишь коллективные празднования дней рожденья, которые обычно длились два часа и с которых Рээзус всегда уходил последним, предварительно лично проверив все помещения. Новый начальник Гарик Луклоп не изменил эту часть предписаний Рээзуса. Разумеется, совершенно недопустимо было приводить в УУМ посторонних. Правда, после того, как Луклоп проявил некоторый скептицизм в отношении абсолютной засекреченности УУМ'а, можно было, пожалуй, рассчитывать на более мягкое наказание за нарушение порядка.
Ирис не сопротивлялась. Она не имела ни малейшего представления, куда Оскар собирается вести ее. Она не знала, какого большого мужества требует принятое им решение.
Оскар держал Ирис за рукав, когда они входили в дом поблизости от УУМ'а. В свое время Рээзус доверил Ээбену запасной ключ. Счастье, что Оскар знал, где живет шофер.
Оскар пошарил рукой, ища кнопку звонка, однако ее не оказалось. Ему пришлось долго стучать, пока открыли двери и они с Ирис вошли в узкую прихожую. Хотя нетерпение и подгоняло Оскара, он все же успел оглядеть квартиру Ээбена. Его поразил беспорядок, в котором жил великий изобретатель. Пальто и куртки Ээбена висели в углу передней на палке от щетки. Маленькая дочь Ээбена сидела в кухне на двух, положенных одна на другую, автомобильных шинах и ела картошку прямо со сковородки.
Поскольку пребывание в помещении УУМ'а после окончания рабочего дня было строго запрещено, Рээзус не пошел навстречу Ээбену, когда тот разошелся с женой и остался с ребенком без квартиры. Лишь после долгих упрашиваний он разрешил отцу-одиночке поселиться в уумовском гараже. Каждое утро Ээбен со смехом рассказывал, как они спят в машине и нахваливал свое просторное жилище — оба сидения, и переднее, и заднее, сходили за комнаты. Дочери нравилась задняя комната, там она и располагалась вместе с резиновым Фаустом.
Разумеется, все сотрудники УУМ'а понимали, что эти бесконечные рассказы Ээбена адресовались в первую очередь Рээзусу. Тактичный Ээбен не хотел, чтобы покойного начальника УУМ'а мучила совесть из-за нарушенного закона. Но раз уж Ээбену доверили запасные ключи, естественно, что он с ребенком пользовался каминной и мылся в просторной ванной УУМ'а.
Теперь Ээбен жил в квартире, отвоеванной для него Рээзусом. Хотя комнаты Ээбена из-за царившего в них беспорядка производили неприятное впечатление, Оскар оглядывал жилье шофера с внезапно проснувшейся завистью. Может быть, потому, что он пришел сюда с пронизывающего ветра, в голове его мелькнула нелепая мысль: не плохо было бы остаться здесь с Ирис! Пустые консервные банки и груда немытой посуды нисколько не помешают, если рядом с тобой человек, чье присутствие создает светлый микромир, за пределами которого тебя ничто не интересует.
Ээбен шарил по карманам, ища ключи. Вероятно, он мешкал в надежде, что Оскар отрезвеет, откажется от своей сумасбродной затеи и уйдет, не взяв ключей. Но Оскар продолжал молча ждать, и Ээбен прекратил фокусничать. Глядя мимо Ирис и Оскара, он объявил:
— Я не могу дать ключей.
— На один час, — стыдясь Ирис, шепотом попросил Оскар.
— Хорошо, — сочувственно пробормотал Ээбен и вынул ключи из кармана брюк.
Открывая и снова запирая за собой многочисленные двери УУМ'а, они в конце концов добрались до кабинета Оскара. Ирис села в то самое кресло, в котором когда-то сидел Пярт Тийвель и жаловался на свои горести.
Плотные шторы, свисавшие с потолка до самого пола, не пропускали света. Это обстоятельство в какой-то степени приглушило тревогу Оскара. Наконец-то они были с Ирис наедине, вдвоем, в тиши и спокойствии.
— Какой в этом смысл?
— В чем?
— В том, что мы пришли сюда?
Оскар не знал, что ответить. Он сидел на своем обычном месте, облокотившись о стол, его взгляд скользил по ручкам ящиков. Где-то внизу был спрятан зеленый петух, приготовленный в подарок Ирис. Это рассмешило Оскара.
— Я тоже хочу смеяться, — бросила Ирис.
— У меня это от смущения, — извинился Оскар. — Я так ждал этого момента, а теперь не знаю, с чего начать, — признался он.
— Хорошее начало, — снисходительно сказала Ирис.
Немного помолчав, она насмешливо продолжала:
— Я обычно наслаждаюсь началом, чего не могу сказать о конце. В начале время кажется бесконечным. Каждая минута — заполненной событиями. Каждый взгляд, движение, шаг, взмах руки — все, на первый взгляд, незначительное, фиксируется до мельчайших подробностей. Множество мелких и преходящих вещей кажутся важными. В конце все идет наоборот. Время мчится подобно поезду сквозь туманную равнину. Подробности рассеиваются и в памяти остаются лишь какие-то тусклые полустанки с длинными томительными остановками. Слышатся бессвязные выкрики, гул, грохот, шум, царит суматоха, и воздух наполнен бесприютностью. Или предчувствием бесприютности.
Оскар сосредоточенно слушал. Он не знал, как истолковать слова Ирис. Было ли это откровенностью? Иронией над собой? Или параллелью тому, что она думала в действительности?
— Я не выношу, когда обо мне много знают. Предпочитаю начинать на пустом месте.
— Но ведь я ничего не знаю, — поспешил заверить ее Оскар.
Ирис рассмеялась.
— Чем быстрее меня узнают, тем раньше я начинаю чувствовать приближение финиша. Даже более того — меня начинает одолевать потребность действовать в бешеном темпе, чтобы как можно быстрее наступил конец. Перед финишем в душе рождается тоска по новому началу. Скорый поезд мчится лишь для того, чтобы достичь темного туннеля, из которого нет выхода. Пугает каждая промежуточная станция, где надо что-то доказывать и выяснять.
— Странно, — пробормотал Оскар и украдкой посмотрел на Ирис, ее глаза смеялись.
— Ничего странного. Если существуют люди, которые по поводу каждого мига восклицают: длись вечно! — то должны, по-видимому, существовать и противоположные им индивиды.
— Начнем с начала! — вскричал Оскар и на всякий случай засмеялся, чтобы не показаться по-глупому легковерным или серьезным. — Я хочу познать медленное течение времени и зафиксировать каждую фазу начала. Никогда раньше я не искал в этом наслаждения. Не умел. Я всегда жил скорее в противоположном ритме. Спешил в начале и бесконечно тянул в конце.
— Так и быть, — сказала Ирис, вставая с кресла. — Этот дом похож на лабиринт?
— Да, — смущенно кивнул Оскар. Он не понимал, что задумала Ирис.
— Поблуждаем немного по дому, а затем встретимся, словно в первый раз.
— В первый раз, — пробормотал Оскар и, открыв дверь, выпустил Ирис из кабинета.
Сам же с каким-то смутным ощущением остался стоять посреди комнаты.
Вся эта, столь хорошо продуманная методика работы УУМ'а, которую олицетворяли удобный стол и стул, гильотина для вскрывания конвертов, настольная лампа подходящей высоты, дававшая мягкий, но достаточно яркий свет, ряд кнопок звонков под краем стола и так далее — все это внезапно показалось Оскару унылым и серым рядом с мистической атмосферой, созданной Ирис.
Ощущение неопределенности и ожидания, возникшее от слов Ирис, состояло из мерцающих красок, которые трудно было описать, из подъемов и пропастей, от которых, словно от меняющегося давления, шумело в ушах, из далей и тупиков, которых ему не дано было увидеть.
Либо Ирис находилась вне традиционно циничного мира, либо была его квинтэссенцией. Оскар не мог так сразу определить это.
Возможно, Ирис придумывала свои чувства, точно так же, как Ээбен изобретал свои машины. Вообще, люди либо придумывают самих себя, либо, если это не представляет интереса, ломают головы над какими-то конкретными вещами или условными системами. А сами думают, что совершенствуют себя или окружающий их мир.
В старину говорили, что жизнь — это долина бедствий. Теперь, когда душевную и физическую боль можно снять, употребляя соответствующие химические средства, а кроме того, на земном шаре еще встречаются места, где не обязательно растрачивать свою душу и плоть на то, чтобы как-то существовать, — вполне можно было допустить, что жизнь все больше становится игрой.
В данный момент Оскар был очень увлечен игрой. Он просто сгорал от нетерпения поскорее выйти из кабинета, чтобы где-то в лабиринтах УУМ'а встретиться с Ирис — впервые.
Если еще минуту назад ему хотелось слегка подшутить над Ирис, то теперь он дрожащими пальцами застегнул пиджак и прислушался на миг к своему взволнованному дыханию.
Старт!
В коридорах УУМ'а горели лишь дежурные лампы, а углы и повороты оставались в темноте. Оскар крался, как тигр, и поглаживал несуществующие усы. Он миновал дверь с табличкой: Армильда Кассин. Не поворачивая головы, прошел ту часть коридора, где находился кабинет Пярта Тийвеля. Оскар фыркнул — как было бы весело всем УУМ'ом посмотреть фильм о его первой встрече с Ирис. К счастью, насколько было известно Оскару, в стены УУМ'а еще не были вмонтированы объективы. Блаженное чувство уединения часто ослабляется в современном мире страхом быть увековеченным кем-то на пленку.
Наряду со все прогрессирующей свободой личности, все менее гарантированной становится ее неприкосновенность. Скоро и у жителей дальних планет кончится спокойная жизнь. На них будет направлен луч лазера и сверхмощная оптика, и каждый землянин сможет увидеть потом на экране, как обитатели других планет чистят, например, зубы перед сном.
Оскар обошел множество комнат, несколько раз ему чудилось, будто, скользя, приближается Ирис, скрестив на груди руки, точно святая. Но нет, ее нигде не было. Приятное состояние возбуждения сменилось у Оскара чувством обиды. Разозленный вконец тщетными поисками, он поплелся обратно в свой кабинет, чтобы выкурить сигарету.
Ирис, положив ногу на ногу, спокойно сидела в кресле.
— Здравствуйте, — сказала она, вставая. — Хочу сделать вам устно одно заявление.
Упругим шагом она подошла к остолбеневшему Оскару, обвила руками его шею и поцеловала. Эта ласка растопила Оскара, как огонь свечу. От дикой жары в натопленном кабинете Оскар вспотел. Капельки пота стекали со лба на скулы.
Вдруг Ирис вырвалась и отпрянула в сторону.
— Сатана идет! — испуганно прошептала она.
Оскар прислушался. В доме царила полная тишина. Но когда он снова попытался приблизиться к Ирис, до его слуха долетел звук шагов — чертовски уверенная поступь, такая отчетливая, что даже ковры не могли ее заглушить. Теперь шаги раздавались совсем близко. Ирис снова села в кресло и почему-то стала смеяться.
Дверь открылась. На пороге стоял Гарик Луклоп. Вместо «здравствуйте» он произнес:
— Кхе-кхе.
Тайный смысл этих звуков Оскар понял несколько позже.
17
рошло ровно два месяца с того вечера, когда Гарик Луклоп застал Ирис и Оскара в рабочем помещении УУМ'а. Оскар, для которого с этого дня начался новый отсчет времени, чувствовал себя почти юбиляром. Все, что творилось вокруг, если это не касалось его и Ирис, казалось ему несущественным и скользило мимо его глаз и ушей.
В последние два месяца он часто встречался с Ирис. Ничего подобного Оскар ранее не испытывал. Ирис умела придать каждому своему взгляду, движению, взмаху руки значимость, от чего часы, проведенные вместе, приобретали особый смысл и окраску. Если они какое-то время не виделись, Оскар жил впечатлением последней встречи. Задним числом он обнаруживал в поведении Ирис самый различный и порой неясный подтекст. И так как Оскару стоило больших трудов понять ее, Ирис постоянно присутствовала в его мыслях. Она обладала особым даром привязывать к себе людей.
На следующее утро после того, как Гарик Луклоп засек нарушителя внутреннего распорядка УУМ'а, Оскар был вызван в кабинет начальника.
Тот тягостный разговор и собственное ничтожество много дней терзали Оскара. Угнетенное состояние долго не покидало его, и только мысли об Ирис способны были развеять его мрачное настроение.
В то утро Оскару стало ясно, что Луклоп поистине человек действия.
Он посоветовал начальнику третьего отдела написать заявление об уходе. Этот удар жестоко потряс Оскара. Он сросся с УУМ'ом и не представлял себе жизни без него. Неловко в таком возрасте позволять себе подобные эмоции, но что поделаешь — по крайней мере, хоть перед собой человек должен быть иногда искренен.
Разумеется, Оскар не думал, что именно в УУМ'е он приносит наибольшую пользу обществу, любой другой на его месте точно так же справился бы с каждодневным потоком писем. Скорее наоборот, общество, через УУМ, приносило Оскару наибольшую пользу. В его работе не было захватывающих дух неожиданностей, когда требовалось к тому же принять молниеносное решение. Оскар умел читать письма по диагонали и довольно быстро соображал, в какого цвета ящик опустить то или иное послание. Методика классификации жалоб и заявлений постоянно совершенствовалась. Письма сортировались по все более узким темам, и соответственно увеличивалось число ящиков разного цвета. Однако Оскар отлично приспособился к этим постоянно вносимым изменениям, во всяком случае, не хуже, чем Пярт Тийвель или Армильда Кассин.
Кроме всего прочего, Оскару просто нравилось безукоризненное функционирование организма УУМ'а. Будучи шестеренкой или винтиком этой системы, Оскар жил довольно-таки привольно, и трудности приспособления к возможному новому месту работы уже заранее страшили его.
Можно представить себе, как сник Оскар, когда Луклоп сказал ему прямо в лицо, какое наказание ждет нарушителя железного внутреннего распорядка УУМ'а.
Но, к счастью Оскара, человек действия понимал и человеческую психику. Луклоп сумел прочитать на несчастном лице Оскара смиренную просьбу.
Дав потерявшему дар речи начальнику третьего отдела дойти до кондиции, Луклоп многозначительно произнес:
— Всегда имеются две возможности…
С этой минуты их разговор принял совершенно секретный характер. Никто никогда не узнал бы о нем, не выдай Оскар сам себя. Но это случилось много позже, когда, подвыпив, он признался Ээбену, что Луклоп вынудил его передавать все, что работники УУМ'а говорят о своем начальнике.
Луклоп так и сказал:
— Хочу иметь возможность учитывать мнения своих сотрудников.
Вполне вероятно, что это, считающееся аморальным, предложение было вызвано искренним желанием Луклопа услышать в свой адрес самую справедливую и откровенную критику. Оскар успокаивал себя и другим соображением: не исключено, что эти его незначительные дополнительные обязанности благотворно повлияют на общее развитие УУМ'а.
Безвыходное положение заставило Оскара согласиться на предложение Луклопа, и с тех пор он по нескольку раз в неделю заходил в кабинет начальника.
Когда частное общение Оскара с начальником стало слишком явным, Оскар легко вышел из положения: он разъяснил своим сослуживцам, что Луклоп решил на основании отчетов его отдела проанализировать всю работу УУМ'а.
Оскар, как и любой другой, знал, что похвала действует на человека воодушевляюще. Поэтому он стал рассказывать Луклопу вымышленные истории, где главными действующими лицами выступали по очереди все уумовцы, включая Анну-Лийзу Артман. Герои этих поэтических историй, каждый на свой манер, пели хвалу новому начальнику. Оскар в своем устном творчестве иногда просто впадал в азарт. Ему доставляло удовольствие наделять каждого сотрудника образным языком, а что касается Анны-Лийзы Артман, то тут Оскар использовал даже диалекты.
Луклоп выслушивал его с довольной ухмылкой, а наиболее красочные места просил повторить. Особенно ему пришлась по вкусу одна фраза, будто бы принадлежавшая Ээбену. Шофер-изобретатель якобы сказал: наш новый начальник такой трудолюбивый, что не знает ни сна ни отдыха.
И в самом деле, мнения сотрудников УУМ'а о своем начальнике, переданные Оскаром, прямо-таки окрылили Луклопа. Как тут не работать, если славные подчиненные в один голос хвалят тебя.
За последние два месяца Луклопу удалось провернуть поразительно много всяких дел.
Прежде всего он уменьшил степень засекреченности УУМ'а. Работникам учреждения потребовалось время, чтобы привыкнуть к этому нововведению. Резиновый пес Фауст теперь безучастно сидел в углу каминной, и у Анны-Лийзы Артман прибавилось забот. Она каждый день пылесосила собаку и мокрой тряпкой протирала ей язык и глаза. Уборщица хвасталась, что ей стало веселее работать — можно побеседовать с псом, когда надоест вощить или натирать полы.
Ээбен тоже радовался новшеству. Ему не надо было больше колесить по городу, чтобы запутать следы. Теперь он возил письма с почты прямо в УУМ.
Кроме всего, наняли швейцара, это был щуплый человек по имени Яан Темпель. Ему вменялось в обязанность следить за тем, чтобы непрошеные гости не проникли в служебные помещения. Женская половина УУМ'а полагала, что такой хлипкий человечек не сумеет справиться, если вдруг придется применить силу по отношению к какому-нибудь чересчур ретивому «гостю». Но они ошиблись — Луклоп не промахнулся в своем выборе. В больших руках тщедушного Яана таилась неимоверная сила, и через несколько дней все в этом убедились. Яан Темпель с такой мощью открывал двери, что ручки часто оставались у него в ладони. Но кроме силы, он обладал и большой ловкостью — вся плохо приделанная фурнитура тотчас привинчивалась на место большими шурупами — и уже накрепко.
Странное дело, но на первых порах никто даже и не пытался проникнуть в УУМ со своими жалобами или заявлениями. Система посылки писем стала с течением времени настолько незыблемой, что у Яана Темпеля не возникало необходимости применять свои могучие возможности для защиты от дерзких вторжений.
Хотя у дверей УУМ'а и прикрепили ящик для писем, их опускали туда чрезвычайно редко. Да и все те, что обнаруживались в ящике, были подписаны неким Яаном О. Темпельбергом — это был псевдоним Яана Темпеля. Что ж, старик сидел у дверей без дела и от скуки писал беззлобные послания то о плохом покрытии тротуаров, то о домах, где накануне весенней оттепели не в порядке были водосточные трубы, либо брал под обстрел другие, более мелкие неполадки в организме большого города.
Как выяснилось позже, Яан Темпель был во всех отношениях активным человеком. В свободное от работы время он исполнял обязанности добровольного соглядатая. При одном лишь его появлении на рынке у торговцев мясом волосы становились дыбом.
Однако исчезновение искусственного пса Фауста из служебной машины, а также появление у дверей учреждения Яана Темпеля, сиречь Яана О. Темпельберга, отнюдь не были самыми грандиозными нововведениями Луклопа за последние три месяца.
Начальник УУМ'а заказал два проекта пристроек. Один из них предусматривал сооружение вместительного флигеля, который по кубатуре должен был значительно превзойти виллу, приспособленную под само учреждение. Здесь должны были в будущем разместиться кабинеты по оформлению заявлений и мнений, где специалисты с высшим образованием на основе устных заявлений граждан станут составлять короткие и точные письма.
Как объяснил своим подчиненным Луклоп, каждое жизнеспособное учреждение нуждается в четких перспективах. Надо заблаговременно предусмотреть главное, чтобы идти в ногу со все увеличивающимися требованиями в области классификации мнений.
Второй проект, который был разработан в срочном порядке, касался перестройки подвала УУМ'а. Однако этот проект Луклоп подробно не комментировал. Хитро щуря глаза, он отвечал любопытствующим, что после завершения строительства всех работников УУМ'а ждет приятный сюрприз.
Надо сказать, что кое-кто из уумовцев все же пытался тайком проникнуть в подвальный этаж и разведать, что там делается. Но не так-то просто было определить цель строительства. Убрав с пола известняковые плиты и сняв более чем полуметровый слой песка, рабочие приступили к бетонированию ямы. Затем какие-то люди из спецтреста начали укладывать трубы и обогревательные устройства — никто не понимал, для чего. Возможно, что те, кто был посообразительнее — Ээбен или Тийвель — догадывались, но держали язык за зубами. Сюрприз должен быть сюрпризом.
Грандиозное переустройство УУМ'а, возня рабочих в подвале, грузовые машины, въезжающие во двор, — от всего этого Оскар был очень далек. Главное — прочно держаться за свое служебное кресло. Луклоп, казалось, был доволен красноречивыми докладами своего подчиненного, и Оскару этого вполне хватало.
Оскар работал старательно, быстро и настолько сосредоточенно, что успевал закончить чтение и сортировку писем задолго до окончания рабочего дня. Поэтому у него оставалось много времени, чтобы думать об Ирис.
У Оскара даже выработался особый ритуал.
Расчистив стол от писем, он открывал нижний ящик и погружался в созерцание зеленого карамельного петуха. Петух, хвост которого все еще не был заклеен пищевым клеем, как бы перебрасывал от Оскара к Ирис волшебный телепатический мостик.
Встречаясь, они старались избегать традиционных увеселительных мест. Однако не всегда им это удавалось. Холод загонял их в какое-нибудь кафе или ресторан, где было шумно и людно. В худшем случае они, держась за руки, сидели в кино. Внешне все складывалось так же, как с Эрикой, Анникой, Вийвикой, Марикой и прочими. И все же раньше, посещая с кем-то из них эти же самые кафе, Оскар тихонько садился куда-нибудь в уголок, стараясь не бросаться в глаза, и время от времени посматривал по сторонам, боясь, не увидел бы его кто. Теперь же, приходя сюда с Ирис, он с величавой медлительностью поднимался по лестнице. Как-то раз Ирис даже обратила внимание на эту торжественную поступь и сказала:
— Мы маршируем, как на коронации.
И в следующий раз:
— Как бы не оступиться на этой лестнице, ведущей в небо.
Эти заурядные лестницы, где под ногами скрипел песок, Ирис умела одной фразой сделать праздничными и нарядными. Впрочем, безоблачное и спокойное настроение не всегда сопутствовало ей. Иной раз она пускалась с Оскаром в пространные рассуждения.
— Интересно, — сказала она недавно и проницательно посмотрела на Оскара. — Интересно, сколько это будет продолжаться? Чем кончится? Скоро ли настанет момент, когда я почувствую себя лишней?
— Никогда, — попытался успокоить ее Оскар.
— Нет, — заспорила Ирис. — Ты меня не понял. Я не. думаю, что уже надоела тебе. Я сказала это не потому, что меня мучает какой-то дурацкий призрак ревности. В иные минуты меня охватывает странное беспокойство, я начинаю думать, что больше не подхожу к данной ситуации или к данному человеку. До сих пор никак не могу побороть рецидивы этого чувства. После окончания средней школы я уехала учиться в другой город, но не потому, что меня влекло туда. И работу часто меняла, решив вдруг, что я там лишняя. Возможно, меня подгоняет страх где-то задержаться на всю жизнь. И в то же время я завидую людям, способным остаться где-то или с кем-то навсегда. В чем-то они постоянны или, по крайней мере, думают, что постоянны.
Оскару не все было понятно в рассуждениях Ирис. Под действием каких-то внутренних побуждений Ирис порывалась разрушить достигнутое спокойствие и равновесие, поколебать состояние стабильности. Оскар тоже вечно искал чего-то нового, но всегда с твердой целью — обрести покой. Если Ирис предупреждала возможное пресыщение, то у Оскара отправной точкой его поступков являлось именно пресыщение.
Оскар продолжал разглядывать пышный хвост карамельного петуха, когда внезапно его пронзила ошеломляющая догадка: неужто Ирис считает его постоянным? Странно, что она не имеет ни малейшего представления о его многочисленных приключениях. Ирис, которая ему ближе, чем Агне, знает о нем гораздо меньше Агне.
В тот вечер они с Ирис поехали в кафе, где в кадках росли пальмы и журчал фонтан.
Играла тихая, убаюкивающая музыка. Никакие заботы не тревожили, жизнь сулила радости, напротив сидела прекрасная Ирис — во всяком случае, Оскар считал ее прекрасной, тут он ничуть не отличался от всех остальных влюбленных. Вечер обещал сложиться особенно. Оскар хотел услышать от Ирис слово «да». В УУМ'е уже давно поговаривали о квартире, которую выделяют их учреждению. Оскару нужно было твердое согласие Ирис, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Он верил: Луклоп благосклонно отнесется к его заявлению. В этом смысле даже хорошо, что шеф в свое время застиг их в рабочем кабинете УУМ'а. Таким образом, он был заблаговременно подготовлен к просьбе Оскара.
Созревшая мысль придала Оскару силы. Пришло и его время совершить по-настоящему мужской поступок. В его теперешней семье проблемы такого рода всегда решала Агне. Что касается его бывших приятельниц, то Оскару очень быстро начинало все надоедать, если отсутствовали благоприятные условия для общения. Не мог же мужчина, достигший среднего возраста, мириться с тем, чтобы сидеть на скамейке в парке. И то, что в отношениях с Ирис он довольствовался столь малым, еще раз подтверждало исключительность и неповторимость для него этой женщины.
Вполне сносная жизнь с Агне в продолжение нескольких лет объяснялась именно тем, что после окончания института они поселились в просторной квартире, оставшейся от ее родителей.
Оскар вздохнул. Это воспоминание было сейчас совершенно неуместным.
Он сосредоточился и стал думать о положительных качествах своего характера. Он знал, что от этих мыслей лицо его в ответственный момент обретет необходимую одухотворенность, а глаза начнут излучать тепло.
Оскар в упор смотрел на Ирис. Она немного отодвинулась, на щеках выступили пятна. Вероятно, она догадывалась, какой решительный разговор намерен повести Оскар.
— Мы уже столько времени знакомы, — пробормотал он.
Начало получилось отнюдь не торжественное. Оскар сделал паузу. Что-то, оказавшееся в поле его зрения, отвлекло внимание. Ему было жаль отвести от Ирис свой одухотворенный взгляд, но не сделать этого он тоже не мог. Оскар протер очки и оглянулся. Нет, вероятно, ему померещилось.
Он был бы поражен значительно меньше, увидев на пальме раскачивающихся обезьян.
Но, к сожалению, никакой ошибки не было — под одним из дальних тропических деревьев сидел Пярт Тийвель с Керту.
Оскар от волнения облизнул губы и закрыл глаза, чтобы прийти в себя.
Выражение его лица изменилось. Он весь напрягся, и его состояние передалось Ирис. Она тоже обратила внимание на пару, приковавшую взгляд Оскара.
— Гляди-ка, ему стало скучно. И где только он разыскал такую милую невинную птичку?
Несмотря на сердцебиение, Оскар попытался трезво оценить обстановку. Птичка, то есть его дочь Керту, без сомнения выглядела прелестно. Белая блузка подчеркивала цвет лица, свои длинные волосы Керту уложила в какое-то фантастическое многоэтажное сооружение.
Чей это мог быть маневр?
Агне?
Неужели она действительно была способна на такое свинство? Но ведь она ничего не могла знать об Ирис, еще меньше о ее муже.
Пярт Тийвель?
Кто же еще! Значит, он с самого начала следил за ними и ловко все вынюхивал. Как это ему удалось? Впрочем, ничего удивительного. Ведь они с Ирис появлялись всюду совершенно открыто. Более того, они поднимались по лестницам кафе, будто шли на коронацию.
— Не разглядывай их так, Пярту станет неловко.
В этот момент Оскар почувствовал к Ирис неприязнь, чтобы не сказать больше. Она будто бросила тень на Керту. Хотя и непреднамеренно, так как не могла знать, что с Пяртом сидит дочь Оскара. И все же слова Ирис больно задели его.
Зачем было Тийвелю разыгрывать этот фарс? Оскар не понимал. Сам он, например, после единственного романа Агне никогда не интересовался, куда ходит жена. Или он попросту думал, что ни на что особенное Агне не способна, что у нее отсутствует необходимая фантазия? К тому же у женщин часто бывает довольно сильно развит инстинкт сохранения семьи, какая бы плохая она ни была.
Но почему Керту пришла с Тийвелем? Что заставило ее сделать это?
18
скар решил серьезно поговорить с Керту. А подходящего случая все не было. Подкарауливая удобный момент, Оскар вечерами торчал дома, но тут же постоянно вертелась Агне.
В конце концов ему стало невмоготу без Ирис, и они встретились. В дальнем углу кафе снова сидела Керту в обществе Пярта Тийвеля. На сей раз Оскар наблюдал за этой чертовой парочкой лишь уголком глаза. К счастью, Ирис их не заметила. Оскар подумал, что, назови она Керту еще раз птичкой, он не совладает со своим гневом и обязательно швырнет об пол чашку или какой-нибудь другой бьющийся предмет.
Хотя Ирис держалась в тот вечер на редкость скромно и в глубине ее глаз мерцал чарующий и манящий огонек, Оскар был не способен насладиться исходившим от нее покоем. В прошлый раз, когда они с Ирис заметили Пярта Тийвеля и Керту, в голове у Оскара словно прозвучал удар гонга, надолго выведя его из равновесия. Это ощущение не проходило. Оскар до сих пор не сказал Ирис самого главного. Но сейчас у него не было для этого соответствующего настроения и душевного подъема.
В те мгновения, когда Пярт Тийвель и Керту не попадали в поле зрения Оскара, он со злорадством думал, что Ирис осталась совершенно равнодушной, увидев своего мужа в обществе незнакомой девушки. Оскар истолковывал эту, пожалуй, даже противоестественную инертность Ирис лишь в одном плане: выходит, он, Оскар, значит для нее гораздо больше, чем Пярт. Лицо Ирис ни разу не исказила гримаса ревности.
Сам он когда-то относился гораздо ревнивее к мимолетному роману Агне. Оскар усмехнулся — гляди-ка, он до сих пор внушает себе, что у Агне был именно мимолетный роман. Будто кто-то может стоять рядом и предельно точным аппаратом измерять глубину чувств и отношений.
Вообще-то такая машина для измерения чувств вполне пригодилась бы. Она могла бы стоять во всех бюро ЗАГС. Служащие прикрепляют к телу жениха и невесты соответствующие датчики и измеряют накал чувств. Не было бы потом мучительных разводов, детей с искалеченной душой, без отца и матери.
Если такой аппарат еще нигде — насколько было известно Оскару — не изобретен, то сигнализационная система, работающая быстро и точно, уж наверняка имеется. Нельзя считать случайностью то, что Керту и Тийвель снова находились в том же кафе, где сейчас сидели они с Ирис. Черт его знает, каким образом в наши дни удается организовать такую слежку.
Оскару стало жутковато, его бил озноб.
Подумать только, что на людей, как только это понадобится, направляют какой-то радарный луч высокой селективности, и он из общей массы выбирает одного или парочку желаемых индивидуумов. Дежурные операторы наблюдают за ними по цветному экрану, а расставленные повсюду микрофоны улавливают каждое сказанное ими слово. Оскар представил себе, как эти дежурные операторы издеваются, какими перебрасываются шуточками, как их скрючивает от смеха, когда в сокровенную минуту они с Ирис говорят друг другу нежные слова. Ведь слова, предназначенные для выражения чувств, звучат чертовски старомодно и кажутся современному цинику такими же смешными, как и немые фильмы начала века с их прыгающими кадрами.
Оскар с подозрением стал разглядывать шурупы с никелированной головкой, которыми была закреплена столешница. Он почти верил, что в эти головки вмонтированы сверхчувствительные фотоаппараты, микроскопичность которых может быть выражена величиной, приближающейся к нулю.
Внезапно Оскар почувствовал, что у него нет сил разговаривать с Ирис, отвечать на ее взгляды, фиксировать многозначительные движения рук и улавливать шепотом произнесенные фразы. Он ощутил себя духовным импотентом, его мозг, казалось, вот-вот впадет в сумеречное состояние, он с опаской ждал каких-то злобных подкалываний и омерзительных намеков. Он бы не удивился, начни люди, сидящие в кафе, издеваться над ним и Ирис.
Вид Пярта Тийвеля и Керту снова выбил Оскара из колеи.
Не существовало места, где можно было бы побыть вдвоем, зная наверняка, что никто и ничто не следит за тобой и не преследует тебя. Не было места, где он мог бы избавиться от неприятного зрелища — Керту в объятиях Пярта Тийвеля.
В тот вечер Оскару хотелось поскорее расстаться с Ирис. Она ухватилась за рукав его пиджака, видимо, ей передалось возбуждение Оскара, и она боялась отпустить его в таком состоянии. Если бы днем, разглядывая в своем кабинете зеленого карамельного петуха, Оскар мог предположить, что Ирис так привязана к нему, его хватил бы от счастья легкий удар. Теперь же он отчаянно искал предлога, чтобы поскорее уйти. Он решил подкараулить Керту у дверей дома и заставить ее признаться во всем. Оскар хотел, используя свои отцовские права, выпытать у дочери всю правду.
Он должен был любой ценой оторвать Керту от Пярта Тийвеля. Он не мог дольше выносить эту чудовищную ситуацию. Необходимо было решительно вмешаться.
Домой Оскар поехал на такси. Он попросил шофера остановиться метрах в ста от дома, чтобы Агне не услышала, как хлопнет дверца машины. Крадясь вдоль забора, он дошел до калитки, но из предосторожности не воспользовался ею, а побрел по глубокому снегу за дом и там пролез через дыру в ограде. Тихонько обойдя дом, Оскар, стараясь не производить шума, дюйм за дюймом стал отворять дверь. Войдя в темный подъезд, он прильнул к стеклу и стал обозревать улицу. Как солдат, стоял он на сторожевом посту, и ничто не могло остаться для него незамеченным.
Хотя мартовские вечера в этом году были особенно прохладными, Оскар спрятался в подъезде не только из-за холода. Он учитывал, что Пярт Тийвель проводит Керту домой. Это было бы вполне естественно. Он, Оскар, вел себя сегодня совершенно недопустимо: посадив Ирис в автобус, сделал шаг назад, и дверцы закрылись. Потом он, разумеется, объяснит Ирис, что отстал нечаянно. Даже при большой любви вынужденная ложь бывает иногда необходима.
И вот они появились. Они шли медленно, Пярт Тийвель держал Керту под руку. Оскар, который все еще видел в Керту ребенка, вынужден был с неохотой признать, что его дочь производит впечатление взрослого человека.
Они остановились. Керту посмотрела в сторону дома. По тому, как она держала голову, Оскар догадался, что она глядит на окна. Керту могла не волноваться — не в привычках Агне поджидать кого-то из домочадцев, стоя у окна. Надо отдать ей должное — это действительно было ее хорошим качеством.
Теперь они предусмотрительно стояли у ворот, отгороженные от дома кустами сирени. Однако редкие ветки все же не создавали стены между Оскаром и беседующей парочкой. Свет фонаря освещал их головы. Ничего, со злорадством подумал Оскар, вы меня преследуете, но и я не лыком шит.
Пярт Тийвель наклонился к Керту. Оскар не мог смотреть на это хладнокровно — он отвернулся. Ноги не держали его. Оскар готов был бежать, пусть хлопнет дверь, пусть все услышат и высунутся из окон, он пойдет и набьет морду этому дубине Тийвелю — мальчишкой Оскар употреблял такие выражения.
Но он уже не был мальчишкой, и потому не каждый импульс являлся приказом к действию, его мозг не утерял еще способности к анализу. Оскар остался на месте.
Тийвель целую вечность держал Керту за руку, пока, наконец, не повернулся и не пошел.
Керту побежала к дому.
Она вошла в подъезд, и Оскар схватил ее за плечо. Он предвидел, что с испуга Керту может закричать, и поэтому рукой в перчатке зажал ей рот. Сделал он это так ловко, словно усвоил лучшие приемы из детективных фильмов.
— Пошли на улицу, — приказал Оскар.
Когда они зашли за кусты сирени, где на свежевыпавшем снегу отпечатались следы двух пар ног, Керту со злостью воскликнула:
— Ты следишь за мной?!
Оскар не ожидал от Керту такого выпада. Он растерянно пробормотал:
— А ты?
— С чего ты взял? — удивилась Керту.
— Ты приходишь с этим олухом туда, где нахожусь я, — в сердцах выпалил Оскар и понял, что начал разговор не с того конца. Надо было встать в позу всемогущего повелителя, а он опустился до уровня Керту, и теперь разговор, очевидно, сведется просто к тому, что один мешает другому.
— Кто разрешил тебе таскаться по кафе с пожилым мужчиной? — снова начал Оскар, и на этот раз его голос прозвучал сердито и наставительно.
— Тебе не мешало бы помнить, что мне исполнилось восемнадцать, — насмешливо произнесла Керту. — Я могу даже выйти замуж, не спрашивая разрешения, если, конечно, мне вздумается. Кафе вообще не в счет.
— Выбирай слова, когда разговариваешь с отцом! — заорал Оскар.
Точно так же говорила Оскару его мать, когда у них начались первые конфликты. Она топала ногой и требовала:
— Выбирай слова, когда говоришь с матерью!
Керту начала смеяться. В свое время Оскар не осмелился бы вести себя так дерзко.
— Чего это ради Пярт Тийвель обхаживает тебя? — стал допытываться Оскар, игнорируя смех Керту.
— Вероятно, я ему нравлюсь, — небрежно бросила Керту.
— Я требую объяснений, — не унимался Оскар.
— Мы тоже могли бы потребовать у тебя отчета о многом, — не осталась в долгу Керту.
— Кто — мы? — не сообразил Оскар, думая о Пярте Тийвеле.
— Мы с мамой.
— При чем тут мать, — раздраженно сказал Оскар, предположив, что тут не обошлось без какой-то интриги со стороны Агне.
— Не беспокойся, ни при чем, если только не считать, что она твоя жена.
— Как же она разрешает тебе шляться бог знает с кем?
— Точно так же, как и тебе.
Оскар ударил Керту и только тогда отдал себе отчет в своем поступке.
— Ты ничего не понимаешь!
Его восклицание прозвучало как извинение.
— Большая любовь?
Керту терла щеку.
— Ты считаешь, что это невозможно? — спросил Оскар серьезно.
— Так много-много больших любовей, — притворно вздохнув, сказала Керту.
— Я пожалуюсь матери, что ты ходишь в кафе с пожилыми мужчинами, — Оскар, как утопающий, схватился за соломинку.
— Мать думает, что я была с Тармо в кино, — вызывающе сообщила Керту.
— Вот видишь! — Оскар почувствовал себя победителем.
— Ничего ты матери не скажешь, — уверенно произнесла Керту. — В таком случае я тоже могу кое-что рассказать ей. На этот раз мы с тобой равноценные противники. Мать из игры исключим.
— Гляди, какой орешек!
— Мне надоело смотреть, как ты без конца унижаешь мать.
— Ну, знаешь ли… — Оскар не закончил своей фразы, так как ни одной спасительной мысли не приходило ему на ум.
— Да, да, я знаю. Теперь ты можешь торжественно объявить, что я тебе больше не дочь и могу убираться из твоего дома! В старину благородные папаши так и поступали, а их примеру следовали и другие. Трогательные истории, слезы и все прочее, — рассмеялась Керту.
— Керту, — Оскар положил руку на плечо дочери. Он с болью ощутил, что от его прикосновения Керту вздрогнула. — Почему ты такая злая?
— Ты разговариваешь, как пастор, — буркнула Керту. Однако слова Оскара, видимо, все же задели ее.
— Ты, пожалуй, был не худшим из предков, — медленно проговорила Керту. — А потомок мог бы быть еще хуже.
Оскар кивнул.
— Я и так долго терпела, — с сочувствием к себе объявила Керту, и это вызвало у Оскара улыбку. — А одна девчонка у нас, из младшего класса, просто свихнулась.
Голос у Керту звучал совсем по-детски, когда она с жаром начала рассказывать:
— Пришла однажды утром в школу и сказала учительнице, что у нее больше нет дома. Мать куда-то увезли, кажется, в больницу, а отец привел домой птичек. Вся школа переполошилась. После уроков учительница пошла вместе с ней, и выяснилось, что мать преспокойно сидит дома, и никаких птичек нет. Я думаю, что даже у ненормальных есть своя логика. Не могла же она такое взять с потолка…
— Что ты можешь знать, — угрюмо бросил Оскар.
Его слова прервало громкое гуденье. На элеваторе снова включили какой-то вентилятор или мотор. Звук этот бил по нервам и беспокоил, заломило кости.
— Это ты должен знать! — Керту почти крикнула эти слова Оскару в ухо.
Они вошли в калитку.
Толстые гардины, сотканные Агне, годились хотя бы на то, чтобы заглушать этот сверлящий звук.
Прежде чем пойти по дорожке, Оскар невольно бросил взгляд на улицу. Что-то еще, кроме назойливого гудения, тревожило его. И действительно, на углу маячила знакомая фигура. Это был Тармо по кличке Черный Джек.
Оскар нагнулся, ему показалось, будто мальчишка держит наготове камень, чтобы кинуть его.
19
осле того, как Управление учета мнений объявило в газетах конкурс на самое содержательное письмо, почта УУМ'а увеличилась почти вдвое. Ээбену приходилось теперь по утрам делать два конца, чтобы доставить мешки с почтой. Луклоп добился дополнительного фонда зарплаты, и служащие УУМ'а получили возможность отдавать работе лишний час.
К дополнительной нагрузке прибавилась и весенняя усталость, поэтому завхоз постоянно находилась в бегах. На аптечных складах она раздобыла полный набор витаминов и теперь разносила по кабинетам, помимо таблеток и кофе, витаминные сексеры и приятную минеральную воду с привкусом катионов.
Объявленный конкурс пробудил у многих дремавшее Доселе тщеславие — письма стали длиннее и, пожалуй, содержательнее. Кое-кто из авторов посланий пытался даже острить, но большинство высказывало свои сомнения, предложения или жалобы в весьма задушевном тоне. Перегруженным чтением писем сортировщикам и классификаторам, правда, шутливый тон нравился больше, но они ничего не имели и против задушевности. Ведь задушевность присуща многим людям.
Согласно распоряжению Луклопа, был установлен стенд лучших писем. Каждый начальник отдела получил право отбирать по три наиболее содержательных письма из ежедневной почты.
По утрам, поджидая Ээбена с очередной партией писем, начальники отделов и ответственный секретарь Тийна Арникас сидели в кабинете Луклопа и производили отбор лучших из тех, что поступили накануне. Конкурс носил, так сказать, перманентный характер; к вечеру десятого дня на стол жюри должно быть положено десять писем. Жюри было создано заблаговременно, в него вошли знатные люди различных профессий.
Среди работников УУМ'а царило небывалое возбуждение, все с нетерпением ожидали дня, когда будет обнародовано решение жюри, всем хотелось побыстрее узнать, чей же автор станет лауреатом конкурса.
Десять дней, в течение которых поступали письма на конкурс, кое-что изменили во взаимоотношениях сотрудников УУМ'а. Армильда Кассин, Пярт Тийвель и Оскар были охвачены подлинным азартом. На ежедневном утреннем совещании в кабинете Луклопа каждый из них боролся, как лев, чтобы протащить на стенд своего автора. До сих пор такие доброжелательные по отношению друг к другу, начальники отделов теперь отчаянно спорили, говорили колкости и высмеивали плохой литературный вкус того или иного автора, его ограниченность и узость в трактовке проблем. Гарик Луклоп сосредоточенно выслушивал всех, чувствовалось, что он старается любой ценой быть объективным. Но у него была одна слабость — ему особенно нравились те послания, в которых, кроме всего прочего, содержались биографические данные автора. Луклоп отдавал себе отчет в своем пристрастии, порой относился к себе с иронией, но тем не менее отдавал предпочтение тому письму, которое содержало сведения об авторе.
По утрам, когда Ээбен поднимал письма из весовой наверх и разносил их по трем кабинетам, начальники отделов не знали, как подольститься к нему. Каждый хотел, чтобы ему досталась пачка побольше. Чем больше карт, тем больше козырей, обеспечивающих победу.
Начальники отделов относились к своим находкам так, будто сами произвели на свет автора отобранного письма и вложили в его уста текст. Радость открытия никого не оставляет равнодушным.
Работники УУМ'а не утруждали себя мыслями о поводе, заставившем людей написать им. Это выяснится позже, когда на дом к авторам лучших десяти посланий пошлют репортера. Что побудило их прислать письма — терзающая ли душу проблема, жажда славы или надежда на награду, обещанную победителю, — пока было неизвестно.
Приз выбирали очень тщательно, в соответствии с современными вкусами; фото миниатюрной ветряной мельницы из пластмассы было напечатано в газете вместе с объявлением о конкурсе. Поскольку эти сувенирные мельницы, которые, согласно последней моде, могли украсить собой любой дом, редко задерживались на прилавке, — можно было предположить, что стимулом для многих корреспондентов явился именно приз. Однако в УУМ'е, учреждении все-таки с социологическим уклоном, не принято было делать пустые предположения. В первую очередь — принцип научности. Со временем, после того как будут подведены и проанализированы итоги, все станет ясно.
Луклоп был доволен тем, как протекает конкурс. Его глаза энергично поблескивали, когда на утренних совещаниях они сообща отбирали лучшее письмо.
Всем казалось, что особую важность будет представлять письмо, отобранное на десятый, последний день конкурса. Поэтому утро решающего дня прошло в самых горячих дебатах. Все три письма, представленные Армильдой Кассин, в ходе обсуждения были отвергнуты. Возможно, здесь сыграло роль то обстоятельство, что накануне ее письмо было выдвинуто на стенд, как лучшее. Начальник второго отдела с убитым видом села в стороне, безнадежно махнула рукой и предоставила мужчинам грызться между собой.
Письмо, положенное на чащу весов Оскаром, звучало так:
«Дорогой УУМ!
Уже с давних пор я являюсь вашим верным корреспондентом. Я незамедлительно сообщал вам о разных недостатках и высказывал мнение по поводу многих явлений. Вначале я не замечал, чтобы мои письма оказывали влияние на ход вещей. Но теперь, когда я прохожу мимо архитектурного памятника на улице Кабели, душа моя переполняется гордостью. Я дважды обращал внимание УУМ'а на то, что рядом с дверью архитектурного памятника стоит мусорная урна неподобающей формы. Для меня это было невыносимо — деревянная дверь с изящной резьбой и вдруг цементная урна в виде бочки, куда безответственные граждане бросают к тому же мусор. Я был еще ребенком, когда мой отец, архитектор, водил меня за руку к упомянутому памятнику. В связи с этим зданием он сообщал мне разные интересные факты из истории, говорил о несравненной работе старых мастеров-строителей. Теперь, когда мой отец находится на заслуженной пенсии по старости (рабочий стаж — 32 года!) и не может из-за больных ног много двигаться, я часто рассказываю ему о состоянии того или иного здания. Мы оба радовались, когда вышеупомянутая урна у резной двери исчезла.
Сам я работаю на комбинате по изготовлению заборов и в связи с этим хочу обратить внимание уважаемого УУМ'а на тот факт, что пора ввести предписание, требующее окраски заборов только в зеленый цвет. Пусть людей всюду окружают зеленые заборы! Пусть человек везде чувствует себя среди зелени, как на природе!
С уважением
Ваш Мадис Кээгель».
Пярт Тийвиль слушал письмо с кривой усмешкой в уголках губ. Его лиловатые волосы топорщились, как петушиный гребень. В последнее время с его лица не сходило выражение целеустремленности, черты его заострились, и Тийвель стал похож на сошедшего со старинной гравюры мудрого философа, возраст которого определить невозможно. Такая ясность взора, свойственная человеку, в чем-то глубоко убежденному, обычно отпугивает окружающих. Им становится не по себе, они чувствуют себя так, будто провинились. Очевидно, их угнетает, что сами они еще не определились.
Лицо Пярта Тийвеля стало красивее и жестче. Оскар, который украдкой поглядывал на Пярта, должен был признаться себе, что девушкам в возрасте Керту, несомненно, должны нравиться мужчины такого типа. В том возрасте, когда романтические приливы согревают воображение, подобно Гольфстриму, не любят вялых, приземленных типов, предпочитая им личности, живущие таинственной и интенсивной духовной жизнью.
Теперь стал читать Пярт Тийвель.
«Смешно, — начал он, — что люди в эпоху глобальных катаклизмов обращают все больше внимания на случайные мелочи. Человеческий ум заполнен всякой чепухой, затрагивающей в данный момент его „ego“. Замечали ли социологи, что некогда столь высоко ценимые принципы аскетизма и самопожертвования все чаще заменяются культом благосостояния и наслаждения? Неужели ученые, изучающие образ мышления людей, действительно не могут понять, что боевой дух вытеснен из сознания человека, что он уступил место прозаичной апологетике стабильности?..»
В конце письма автор рекомендовал работникам УУМ'а как можно больше исследовать мнения людей по поводу проблем и явлений крупного масштаба.
— Слишком обобщенно, — пробормотала Армильда Кассин и махнула рукой.
— Кто он, собственно, такой? — буркнул Оскар, преданно посмотрев в сторону Луклопа. — И к тому же в этом письме отсутствует положительный элемент, — добавил он через мгновение.
В этот момент Оскар понял, что они с Армильдой Кассин достигли уровня, позволяющего им считаться образцовыми служащими. Быстро и легко привыкнув к Гарику Луклопу, они умели предугадывать решения, которые тот вынесет. Что ж, тем приятнее чувствовал себя начальник УУМ'а, да и все казалось вполне демократичным, если его личная точка зрения выражала как бы совокупность мнений подчиненных. Луклопу казалось, что он не шел вразрез с большинством, и потому он твердо верил в непогрешимость своего поведения.
Когда Луклоп высказался в пользу письма, представленного Оскаром, и приказал вывесить послание Мадиса Кээгеля, как лучшее за десятый день, Оскар почувствовал спокойный и ритмичный стук в висках. Чем бесконфликтнее была среда, тем больше времени оставалось для себя. Правда, это расходилось с письмом, прочитанным Пяртом Тийвелем, в котором звучало беспокойство по поводу равнодушия современного человека. Ну что ж, пусть борются те, у кого нет своих личных проблем.
Оскар ломал голову, размышляя, как стать смелым, чтобы устранить препятствия на пути к своему счастью. Препятствия на пути к счастью? Раньше ему никогда бы и в голову не пришло, что он может применить к себе подобное сочетание слов. Автор письма Пярта Тийвеля прав, человек способен изменяться до бесконечности. Если смотреть на вещи реально, то все препятствия, требовавшие от него действий, были довольно туманными — какие-то темные провалы, через которые не знаешь, как перешагнуть; какие-то лица, которые хочется выдвинуть на первый план, и другие, которые, дразня тебя, сами беззастенчиво лезут туда. Когда пытаешься облечь все это в слова, получается омерзительно. Я люблю препятствия на пути к счастью — у Оскара от неловкости начали гореть щеки и уши: какие стертые, похожие на обсосанные леденцы, слова. В наши дни говорят проще: я хочу эту женщину, но мне негде с ней спать.
Оскар должен был действовать, УУМ мог подождать. УУМ получил от Оскара свою долю — представленное им письмо висело в качестве лучшего на стенде. Теперь надо было заняться своими делами. Надо было найти возможность серьезно поговорить с Пяртом Тийвелем.
Оскар сидел в своем кабинете и обдумывал, как завести разговор с Пяртом. Теоретически это было просто — оружие искренности и откровенности разит острее всего. Но были люди, по отношению к которым Оскар был неспособен применить это оружие. Например, мать — с ней Оскар всегда разговаривал обиняком, умалчивая о чем-то важном. Так повелось с того дня, когда он, спрятав лезвие в пазу кресла-качалки, никак не мог заставить себя признаться в этом поступке. А может быть, еще раньше между ними возникло нечто такое, что исключало откровенность. Собственно, до сих пор Оскар не мог отдать себе отчета — а не женился ли он на Агне именно из-за того, чтобы избавиться от ежедневного общения с матерью!
Пярт Тийвель пришел сам и привел с собой боксера Ролля.
Ролль устроился у ножки кресла и печальными стариковскими глазами уставился на Оскара.
Оскар удивился решительности Пярта Тийвеля.
— Ну что ж, придется брать быка за рога, — начал Тийвель, и Оскар облегченно вздохнул.
— Что будем делать? — спросил Оскар. Его беспомощный вопрос прозвучал так задушевно, словно вернулись те прежние, беззаботные времена, когда Пярт Тийвель иной раз заходил в кабинет к Оскару, чтобы посоветоваться с ним. Оскар всегда всей душой сочувствовал начинаниям Пярта Тийвеля, будь то разведение сахарного лука или же изобретение шляпы, способствующей росту волос.
— Ирис нельзя разорвать пополам, — сказал Пярт Тийвель.
— Я не могу от нее отказаться! — воскликнул Оскар так порывисто, что на каком-то слоге его голос сорвался.
— А я и подавно.
— Оставь Керту в покое!
— Оставь Ирис в покое!
— Исключи из игры моего ребенка.
— Не раньше, чем ты перестанешь преследовать мою жену.
Боксер Ролль заворчал.
— Я не могу, — тихо, чтобы не дразнить собаку, ответил Оскар.
— Я тоже не могу.
— Это невозможно, — пробормотал Оскар, все время думая об Ирис. Не годилось все-таки громко объявлять, что он любит Ирис.
— Ирис для меня все, — нажимал Пярт Тийвель.
— Для меня тоже, — со своей стороны поспешил заверить Оскар.
— А дочь? — ехидно улыбаясь, поинтересовался Тийвель.
Что касается дочери, то Оскар не мог так сразу сказать, какое место она занимает в его жизни.
— Что будем делать? — вернулся Оскар к первому вопросу.
— Оставь мою жену в покое, — потребовал Тийвель.
— А Ирис хочет, чтобы ее оставили в покое?
— Она моя жена, — ответил Тийвель, сочтя это объяснение исчерпывающим.
— Пусть Ирис сама решает, — обеспечил себе победу Оскар.
— Она не знает тебя и не может поэтому решать.
— Зато, может быть, она понимает меня, — бросил Оскар.
Ролль встал и угрожающе зарычал.
— Вам теперь вместе не жить, — осторожно выдохнул Оскар.
— Все равно она останется моей женой.
— Ты псих, — миролюбиво сказал Оскар.
— Нет, я просто кое в чем постоянен.
— Это старомодно.
— Неважно.
— Зато я усердно раскачиваюсь в такт маятнику, — Оскар сделал попытку перейти на более легкий тон.
— Я остаюсь археологическим явлением.
— Что будет дальше? — снова начал Оскар.
— Я тебя предупредил, — сказал Пярт Тийвель, вставая.
— Жаль, мы были друзьями. — Оскар хотел во что бы то ни стало восстановить мир. Он никогда не был сторонником угроз.
— Были.
— Посмотрим, кто кого! — Оскар еще раз попытался шутливой фразой разрядить обстановку.
— Увидим.
— Увидим, — Оскар счел своим мужским долгом принять брошенный вызов, но голос его слегка дрожал. Оскар не жаждал борьбы. Оскар прекрасно отдавал себе отчет в том, что положение складывалось куда сложнее, чем можно было ожидать, когда он познакомился с Ирис. Он не знал, как отнесется ко всему этому Ирис, что предпримут Керту с Тийвелем и какого взрыва можно ожидать от Агне.
Оскар сник. Он медленно открыл нижний ящик стола, где лежал зеленый карамельный петух — от него исходил сладкий запах.
Сегодня карамельный петух не мог создать телепатическую связь с Ирис. Это было ужасно. Огромная пустота заполнила все существо Оскара. Он готов был сунуть голову под изобретенную Ээбеном лазерную зажигалку, пусть острый, как игла, луч просверлит его мозг и вместо того, чтобы зажечь, навсегда погасит в нем что-то.
20
конструированная Ээбеном лазерная зажигалка удалась на славу. Правда, из-за размеров ее нельзя было носить ни в кармане, ни в сумочке. Зато эта, стоявшая на железных ножках, штуковина как нельзя лучше вписывалась в перестроенный подвал УУМ'а.
Она вспыхивала так эффектно, что даже закоренелые противники курения не могли противостоять соблазну и дымили, как паровозы, чтобы снова и снова поднести сигарету к импозантной зажигалке. Надо было надавить на кнопку, а затем прижать лицо к защитному стеклу, в котором находилось отверстие для взятой в рот сигареты. Когда возникала вспышка лазера, казалось, будто в сигарету ударяет шаровая молния, даже спустя мгновение кончик сигареты светился, подобно большому огненному шару. Оскар помнил из уроков физики, что это явление называли газовым разрядом.
Еще совсем недавно Оскар был готов подставить голову под луч лазера. Оригинальный способ самоубийства. На уровне мировых стандартов! На всякий случай он еще раз осмотрел систему крепления защитного стекла и должен был признать, что она предельно проста. Нужна была лишь отвертка для винта с крестовидной головкой.
Оскар что-то пробурчал про себя. Хотя сложные проблемы его личной жизни отнюдь не были разрешены, в такой день, как сегодня, не подобало думать о самоубийстве.
Сегодня УУМ праздновал. Если о человеке говорят, что его переполняет радость от кончиков пальцев до корней волос, то в УУМ'е царило оживление от самой нижней точки подвального этажа до крыши.
Швейцар Яан Темпель, он же Яан О. Темпельберг, пропускал только тех посетителей, у которых в руках были пригласительные билеты с золотым тиснением. Добросовестный и предусмотрительный во всем, что касалось работы, Яан Темпель привинтил к входной двери еще одну массивную кованую ручку. Он учитывал свою силу. Не было никакой гарантии, что дверная ручка не останется в руках швейцара, когда он распахнет дверь перед очередным приглашенным. Теперь же имелась запасная скоба, и никакие неожиданности со стороны Яана Темпеля не могли испортить уумовцам их праздник.
Вообще, работники УУМ'а сегодня словно переродились. Армильда Кассин, которая в обычные дни ничем не привлекала к себе внимания, поскольку была неуклюжа и неподвижна, сегодня носилась по коридорам и кабинетам с важным видом устроительницы.
За ней распространялся запах скипидара, так как ради столь торжественного случая начальник второго отдела начистила ваксой свои туфли.
Тийна Арникас пришла в весьма необычном наряде — на ней было капитано-матросское платье-рубашка. Полосатое платье с высоким стоячим воротником и золотыми погонами достигало впереди колен, а со спины едва прикрывало зад — точь-в-точь в соответствии с последней модой.
Уумовские мужчины по случаю праздника раздобыли шорты — так посоветовал Гарик Луклоп. Они по очереди ходили в ванную переодеваться, чтобы спуститься затем в подвальный этаж, где Луклоп встречал прибывающих гостей.
Оскар в голубых мини-штанишках первым спустился вниз.
Внимательно осмотрев устройство замечательной лазерной зажигалки Ээбена, он отошел в угол, стараясь понять, что же так долго строили здесь всем им на радость.
Чтобы подготовить своих подчиненных к важному событию, Луклоп накануне вечером прочитал им лекцию о грязевой культуре. Оскару хорошо запомнился доклад, кое-какие наиболее важные высказывания он мог процитировать хоть сейчас. Но действительность, открывшаяся его взору, затмила все теоретические выкладки Луклопа.
Да, как ни странно, но на этот раз действительность превзошла обещания.
Оскара смущало лишь то, что вскоре предстояло разуться на глазах у всех. Остальные присутствующие, как он успел заметить, тоже испытывали неловкость. Такой торжественный прием — и вдруг босиком!
К счастью, Луклоп еще не скомандовал снимать обувь. Оскар про себя подумал — скорее бы все это было позади, как с зубом, который ты решил рвать. Но время еще не подошло. Следовало запастись терпением и попривыкнуть к помещению, прежде чем вкусить блага грязевой культуры.
— Ну, разве не красота! — прошептала Тийна Арникас, на минутку остановившись возле Оскара.
Оскар взял с подноса, который она держала, стакан аперитива и маленькими глотками осушил его до дна.
Не один Оскар жадным взглядом озирал переоборудованный подвал УУМ'а. Весьма интересно было краем глаза наблюдать за каждым новым посетителем, который, войдя в подвал, останавливался ошеломленный. А когда гость подходил к Луклопу, то слова застревали у него в горле и он был способен разве что кивнуть начальнику УУМ'а.
О сути грязевой культуры то и дело выступали печать и телевидение, да и туристы, побывавшие в соседних странах, делились своими впечатлениями в этой области, но, как говорится, свой глаз — алмаз.
Взор вошедшего в первую очередь привлекал грязевый бассейн. Темно-серая грязь в обрамлении белых бортов и лесенок выглядела на редкость декоративно. Присмотревшись к необычному зрелищу, люди вскоре замечали, что грязевая масса отнюдь не была однородной, безжизненно-серой. Сконструированные Ээбеном потайные лампочки то тут, то там отбрасывали на грязевую поверхность зеленые и красные блики. Такое же разноцветное мерцание струилось с граненых выступов стеклянного потолка.
На рельсах, установленных между этими выступами, висели столы, напоминающие по форме листья Виктории Регии. Сейчас они покачивались над самым бассейном. Из лекции Луклопа Оскар знал, что столы передвижные. Во время грязевых сеансов сервировщик мог оставаться на берегу бассейна.
Гости в черных парадных костюмах с грушевидными галстуками, только что вошедшими в моду, вызывали у Оскара сочувствие. Их женам придется стоять в очередях на приемных пунктах химчистки — в этом не было никаких сомнений. Можно предугадать, каким нападкам подвергнутся в этом случае мужчины: валялся пьяный где-нибудь в сточной канаве!
К счастью, Оскар был одет соответственно событию. Он взглянул на свои волосатые ноги, в душе у него забрезжила тайная надежда — вдруг эта привезенная в цистернах с дальнего побережья грязь затормозит рост волос.
В своей лекции Луклоп предсказал великое будущее грязевой культуре. Целительное действие грязи с незапамятных времен известно человечеству. Научные исследования последнего времени показали, что теплые грязевые ванны для ног предупреждают и лечат множество заболеваний. Перечень болезней был довольно обширен: суставный ревматизм, коронарная недостаточность, чрезмерное ожирение (грязевая ванна уменьшала аппетит у обжор), расстройства вегетативной нервной системы; в отдельных случаях грязь помогала даже заикам.
Поскольку у человека в латентной форме наличествуют все болезни, профилактика, по мнению Оскара, никогда не помешает. Тем более если она осуществляется в таких приятных условиях.
По словам Луклопа, оздоровительная грязевая культура постепенно охватывает весь мир и завоевывает все больше сторонников. Очевидно, потому, что у людей слишком мало времени, чтобы заботиться о себе.
Несмотря на то, что рабочая неделя повсеместно сокращается, темп жизни каждого индивида становится все бешенее. В свободное время люди интенсивно освобождаются от напряжения, но бесконечные заботы об отдыхе часто прибавляют им седых волос. Кроме того, наблюдался скрытый рост фактической рабочей нагрузки. Постоянное общение требовало все большей затраты нервной энергии. Во имя всеобщего прогресса приходилось без конца разъезжать, со многими встречаться и обмениваться опытом. В современном мире, если ты не хотел плестись в хвосте, уже нельзя было жить обособленно.
Оскар окинул взглядом гостей, робко жавшихся возле Луклопа, и его вновь охватило приятное чувство своей принадлежности к УУМ'у. С приглашенными сюда представителями вышестоящих организаций Луклоп намерен был обсудить перспективы дальнейшего развития своего учреждения. Для активизации работы УУМ нуждался в широком общении с аналогичными институтами других стран. Кроме освоения ценного опыта соседей, важным моментом в такого рода контактах являлась демонстрация местных достижений. Варясь в собственном соку, в один прекрасный день ты обнаруживаешь, что о тебе забыли. Реклама, неустанное восхваление самого себя — вот единственный способ удержаться на орбите.
Эта старая истина, действительная для одной личности, распространялась и на разные учреждения. Луклоп разбирался в истинной сути вещей, и только теперь уумовцы поняли, что Рээзус, руководя УУМ'ом, был по-старомодному скромен и ограничен.
Поскольку отдых и общение отнимали у людей все больше времени и на заботу о собственном здоровье его почти не оставалось, грязевая культура сулила в этом смысле большую помощь жителям земного шара. Всякого рода встречи за круглыми и прямоугольными столами следовало повсюду постепенно заменять грязевыми сеансами. Одним выстрелом, таким образом, убивалось два зайца! Важная беседа сопровождалась оздоровительной ножной ванной — ничего лучшего нельзя было придумать!
Прозвучал гонг.
Это означало, что все гости в сборе.
По телу Оскара пробежал легкий озноб.
Луклоп отдал распоряжение своим работникам показать посетителям пример.
Итак, они уселись на длинных скамьях и начали разуваться. Мужчины делали это тут же, на берегу бассейна, женщины проходили за ширму, чтобы приподняв платье, расстегнуть подвязки.
Торжественная тишина, сопутствующая оголению ног, была прервана по взмаху руки Луклопа. Церемониймейстер, автор лазерной зажигалки, Ээбен, включил музыку. Модный ансамбль затянул какую-то ужасно знакомую мелодию.
Оскар никогда не думал, что люди будут настолько стесняться своих голых ног. Стыд вообще весьма относительное явление — на пляже ходят в трусиках, которые даже пупка не прикрывают, а теперь, когда голыми были лишь пятки, не знают, куда девать глаза. Щеки у женщин почему-то пылали, кое у кого из мужчин горели уши.
Каждое начинание требует привычки. Главное — смелость. Оскар, подбадривая себя, кашлянул и по белой лесенке спустился прямо в грязь.
Его отважный пример явился как бы сигналом к действию. Мужчины в черных костюмах, подавив вздох, начали закатывать штанины. Вероятно, они предпочли бы не разгибаться, так как, едва подняв глаза, уже не могли стереть с лица выражения неловкости. Голени оказались на виду — кривые, тоненькие или изогнутые, как ножки у рояля, у кого как, полы пиджака, как назло, чертовски коротки, тяни не тяни их книзу, все равно не помогает.
Ансамбль гнусавыми голосами закончил свое выступление, и из репродуктора раздалось:
— Allez!
Шлепая ступнями, гости спустились по лесенке в грязь. В бассейне забулькало. Ступали наугад и с явным облегчением. Стоя по колено в темной грязи, люди вновь обрели прежнюю уверенность.
Оскар со страхом наблюдал, как некоторые более робкие гости чуть ли не прыгали в бассейн — будь что будет. К счастью, никто не поскользнулся и не упал. В какой-то степени спасало ребристое дно бассейна, не дававшее ногам скользить.
Постепенно на лицах людей стали появляться улыбки.
Что говорить, пребывание у колыбели новой культуры поднимает тонус и рождает в душе даже самого скромного участника пьянящую смесь, главным компонентом которой является важность момента и значительность очевидца. Бойся или не бойся, но наслаждение сенсацией в итоге все равно компенсирует минутные неприятности.
Веселье нарастало. Теплая грязь, обволакивающая усталые ноги, делала тело легким. Кровообращение — оно у каждого современного человека так или иначе нарушено — достигло оптимального состояния. Не говоря уже об удовольствии, которое доставляло тепло. Во всем теле появилась восхитительная расслабленность и в то же время упругость. Люди, у которых от раздражения или ежедневных забот были сведены мускулы лица, молодели на глазах. Об этом оповещали друг друга восторженными восклицаниями. Луклоп, разбрызгивая грязь, переходил от одной группы гостей к другой. На героя дня были устремлены благодарные и почтительные взгляды.
Оскар удивлялся этой метаморфозе. Заметив, что люди стесняются своих голых ног, он усомнился было в перспективности предприятия Луклопа. Публичное оголение ног, связанное с грязевой культурой, легко могло возмутить участников. Попробуй тогда справиться с оппозицией! Достаточно одной роковой трещины, чтобы перечеркнуть хорошие намерения. И само собой разумеется, Луклоп, потерпев фиаско, не удержался бы на своем посту. Дорогостоящее переустройство подвала УУМ'а начальство могло бы с легкостью расценить как недопустимое расточительство. Тем более что то и дело проводились суровые кампании, со всей остротой осуждающие различного рода излишества, подражание плохим образцам и прочее низкопоклонство.
Как по волшебству, начали двигаться висящие на тросах столы, те самые, что напоминали по форме листья прекрасного водяного растения тропиков — Виктории Регии. Оскар помнил картинку из какой-то старой книжки, где был изображен ребенок, который сидел на корточках на листе Виктории Регии, а на пальце ребенка пристроилась крошечная птичка колибри.
В ту пору Оскару были больше знакомы вороны и кувшинки, поэтому картинка произвела на него глубокое впечатление. Очевидно, и проектировщики уумовского подвала пережили в детстве нечто подобное, иначе они едва ли придумали бы эти великолепные скользящие по всему помещению столы.
Тийна Арникас, похожая на странного полосатого жука, хлопотала у края бассейна, ставя на подъезжавшие столы разного сорта бутылки с целебной настойкой. Луклоп не выносил слова «алкоголь». Слова «целебная настойка» гораздо больше соответствовали эпохе, которой была присуща всесторонняя забота о здоровье и благосостоянии человека.
Когда столы, нагруженные бутылками с настойкой и разного размера стаканами, подъехали к гостям, стоявшим посреди бассейна, Оскар, протянувший руку за стаканом, оказался как раз напротив Пярта Тийвеля.
До этого момента Оскар всячески старался не замечать мужа Ирис. Теперь выхода не-оставалось.
Ситуации, из которых нет выхода, словно магнит притягивают к себе человека.
Накануне вечером взволнованная Агне сказала Оскару:
— Мне говорили, что Керту видели в обществе какого-то пожилого мужчины.
— Может быть, она случайно встретила кого-нибудь из своих преподавателей, — с деланной беспечностью ответил Оскар.
— Может быть, — охотно согласилась Агне. Но тут же вспомнила, что у Керту не было ни одного учителя-мужчины.
— Кто бы это мог быть? — сказала она озабоченно.
И, потрясенная вдруг страшной догадкой, взорвалась чисто по-матерински:
— Ну, погоди, старый соблазнитель! Я его задушу, если он только посмеет…
— Тогда будет поздно, — ответил Оскар со стоическим спокойствием, возникшим от употребленного Агне старомодного слова: «соблазнитель».
Но здесь, в грязевом бассейне, лицом к лицу с Пяртом Тийвелем, у Оскара не осталось и следа того стоического спокойствия. Его мучил страх. Долго ли еще удастся держать Агне в неведении? Ни он не отступится от Ирис, ни Пярт Тийвель — от Керту. По всем правилам цепной реакции скоро должна вмешаться Агне. Город слишком мал. В этом Оскар, да и не только он, не раз мог убедиться. Как говорят в детективных романах: ловушка неминуемо захлопнется.
Пярт Тийвель облокотился о стол, имитирующий лист Виктории Регии, и взглянул Оскару прямо в глаза.
— Ирис? — спросил он.
— Керту?
Пярт Тийвель медленно покачал головой. Объяснять что-то друг другу было излишним.
Грязевой сеанс перестал занимать Оскара. Он сгорбился, все тяжелые заботы снова легли на его плечи.
В этот момент грязь в бассейне забулькала и пошла пузырями. Гости радовались новому сюрпризу. Воздух, который накачали в бассейн, привел в движение серое мутное вещество — получался как бы массаж ног. Это должно было оказать еще более оздоровительное действие, чем стоячая грязь. Шепотом сообщали, что в числе прочего это лечит и от импотенции.
Оскар опрокинул подряд три полных стаканчика целебной настойки. Пищевод обожгло, но спустя мгновение появилось ощущение необыкновенной легкости во всем теле — хотелось взлететь в воздух.
— Нервничаешь? — с усмешкой спросил Тийвель.
Почему бы ему и не поиздеваться, с досадой подумал Оскар. Не мог же он, Оскар, признаться Ирис, что Пярт с Керту организовали против них заговор. Что Керту его единственная дочь и вообще… он все же отец. Эти трезвые, пахнущие сделкой комбинации ни в коем случае не должны были опошлять и принижать его отношений с Ирис. С Ирис, которая была единственной. Оскар чувствовал, как становится все более сентиментальным, старомодное умиление, подобно сиропу, затопляло его мозг. Ему хотелось крикнуть:
— Не мешайте! Дайте человеку один-единственный раз в жизни любить!
Но Оскар стоял, как воды в рот набрав. Между пальцами его ног пульсировала грязь. Изнеможение овладело им. Оскар оперся локтями о стол, теперь они с Пяртом Тийвелем стояли настолько близко друг к другу, что их лбы почти соприкасались.
21
юди начинают придавать значение снам, когда что-то терзает их.
Оскар и Ирис стояли на берегу озера. Оно было знакомо ему с детства. Вода здесь раньше была удивительно чистой и прозрачной. Теперь же поверхность озера густым зеленым слоем покрывали водоросли, и только местами виднелись как бы оконца. Ирис наклонилась. Прежде чем зачерпнуть ладонями воду, она спросила Оскара:
— Вода здесь чистая?
— Можешь смело черпать.
Вода струилась у Ирис между пальцами. Она вымыла лицо и попила.
В просвете между облаками сверкнуло солнце.
Оскар взглянул в водяное оконце и замер от ужаса.
Сквозь толщу воды просвечивало песчаное дно.
Там, внизу, тихо покачивались трупы, застывшие в разных позах — скрючившись, на корточках, полулежа. Было такое впечатление, будто это не мертвые тела, а до неестественности правдоподобные скульптуры людей в одежде. Сквозь прозрачную воду они были видны до мельчайших подробностей. Ближе всех находился человек с монгольским лицом в позе дискобола. Позади него — женщина с закрытыми глазами и задранной кверху головой.
Больше Оскар не мог смотреть. Он оттащил Ирис в сторону, чтобы она меж водорослей не увидела дна. Оскар тянул ее дальше от берега. Ирис не должна была знать, что пила отравленную воду.
Жуткий сон много дней не давал покоя Оскару. Он пробовал смеяться над собой, но из этого ничего не вышло. Наоборот, с ясностью, будто все это происходило наяву, перед глазами Оскара вновь и вновь возникали эти люди в прозрачной воде, под крышей из водорослей.
И позже, когда Оскар встретился с Ирис, сон этот стоял между ними. Смутное чувство вины заставило Оскара пуститься в пространные разговоры, чтобы окольными путями выяснить, не возникло ли вдруг у Ирис какого-то недовольства им. Оскар начал издалека.
Ирис была первой женщиной, кому он так много рассказал о своем детстве. Истории детства заставляют большинство людей расчувствоваться — Оскар и хотел подогреть Ирис, сделать ее более восприимчивой, пусть и она ответит ему откровенностью. Но Ирис была рассеянна, несколько раз она заговаривала о том, что не мешало бы переменить место работы. Совсем как Агне, мелькнула у Оскара мысль о своей законной жене, которая всегда порывалась начинать все сначала.
— Ежедневно пересчитываю тысячу сто шестнадцать столов, — рассказывала Ирис — она работала инженером в огромном ресторане «Форум». — Надоело. Если б можно было хоть один день не заниматься этим. Наш директор просто помешался, лично ходит меня контролировать. С тех пор, как какие-то молокососы распилили стол и под полой вынесли его по частям, директор никак не может успокоиться. Без конца всех подозревает.
— А зачем они унесли стол? — удивился Оскар.
— Чтобы не платить по счету, — рассмеялась Ирис. — Официант был в состоянии шока и решил, что у него начались галлюцинации. Бедняга, у него после этой истории поседела борода. А как спросишь деньги, если нет даже места, где был сервирован обед. До сих пор над ним подтрунивают, всегда кто-нибудь да скажет: смотри, Оскар, не поставь опять тарелки и бокалы на воздух. Да, его тоже зовут Оскар, — небрежно бросила Ирис.
Оскар украдкой огляделся. От удовольствия ему захотелось потереть руки — сегодня Пярт Тийвель и Керту не выследили их. Видимо, в каком-то из радаров перегорела крошечная, с мизинец, лампочка.
— И потом, эти ненормальные охотники за сувенирами, — продолжала Ирис. — Они заказывают шампанское, сами открывают бутылки и пускают пробки прямо в светильники. Как только разобьют один, кидаются, сбивая друг друга, собирать осколки. Якобы они приносят счастье. Есть и такие, кто ножом вырезает куски паркета или линолеума, чтобы унести с собой. Теперь мы заказали чугунные светильники и просверлили в них отверстия для света. Авось продержатся дольше, если эти любители не будут являться с молотками и зубилами.
Оскар хотел что-то вставить, но Ирис не позволила перебить себя.
— Инженер по посуде жалуется, что каждый день приходится списывать сотню кофейных чашек — любители отламывать ручки стали весьма распространенным видом посетителя. Чем больше ручек от чашек молодой человек подарит своей девушке, тем лучше она будет к нему относиться. Девушки пришивают ручки к подолу юбок как украшения.
— У тебя их еще нет? — Оскар наклонился и заглянул под стол.
— Мне обещали по знакомству достать маленькие коровьи колокольца, — прошептала Ирис и рассмеялась.
Оскар занервничал. Он хотел перейти к более важной теме и услышать в конце концов решение Ирис. А она без умолку рассказывает о всяких случаях в ресторане-гиганте «Форум» и почти никак не реагирует на прикосновения и взгляды Оскара.
— Ирис, — прервал ее наконец Оскар. — Не пора ли нам что-нибудь предпринять?
— Хочешь уйти? — спросила Ирис с тенью легкой обиды в голосе.
— Нет, я бы хотел, чтобы нам никогда и никуда не надо было уходить. Чтобы мы были вместе. Постоянно. Навсегда.
Оскар вложил в свои слова все те чувства, которые в старину считались прекрасными и благородными. Искренность, задушевность, преданность — Оскар даже сам удивился — чувства эти звенели в его словах, подобно колокольчикам. Это было удивительно для слуха.
— Ты кузнечик, который стремится прыгать против ветра, — после небольшой паузы заметила Ирис.
— Я, по крайней мере, героический кузнечик, который не боится бури.
Ирис что-то пробормотала.
Оскар заерзал на стуле. Собравшись с духом, он требовательно и несколько раздраженно сказал:
— Надо, в конце концов, внести ясность.
— Я к этому не готова, — просто ответила Ирис.
— Почему?
— Нет такого мерила, которое определяло бы, готов человек или нет. Здесь играет роль интуиция.
— Чем я плох? — обиженно спросил Оскар.
— Пярт Тийвель тоже неплох, — Ирис пожала плечами. — Дело во мне. Долго ли я пробуду с тобой? Есть ли в этом смысл?
У Оскара от гнева перехватило горло. Ему захотелось тут же схватить Ирис в охапку и сжать ее так, чтобы она громко закричала от боли. Но мгновением позже, глубоко вздохнув, Оскар немного успокоился и попытался припомнить, желал ли он когда-либо причинить кому-то физическую боль? Такого случая он припомнить не мог.
— Я позабочусь о квартире, — сказал Оскар хриплым голосом. — Ты должна. Я так больше не могу.
Ирис взглянула на него с легкой улыбкой.
— Я никого, никого до тебя… — пробормотал Оскар, но вовремя спохватился. Здесь было не место для подобных признаний.
— Может быть, это только кажется, — сказала Ирис и положила свою руку на руку Оскара.
— Почему же ты тогда встречаешься со мной по вечерам? — Оскар все еще надеялся услышать от Ирис что-то определенное.
— Не знаю, — ответила она. — Мне просто нравится.
— И ничего больше? — испугался Оскар.
— Не знаю, — предпочла Ирис неопределенность.
— Ты легкомысленная! — вырвалось у Оскара.
Брови Ирис слегка приподнялись, она близко наклонилась к Оскару и сказала:
— Пярт Тийвель знает меня лучше, но он никогда не осмеливался упрекать меня.
Оскар приуныл. Вульгарный назойливый тип, которого дальше дверей не пускают. Пярт Тийвель может с полным правом издеваться над ним. Однако Пярт Тийвель вовсе не так уверен в Ирис, как старается показать. К чему было в таком случае инсценировать эти дурацкие ухаживания за Керту? К чему было таскать ее за собой и мозолить всем глаза?
Голова у Оскара гудела.
Ему хотелось бежать отсюда. Нырнуть в УУМ, спуститься по лестнице в подвал, включить обогреватель в грязевом бассейне, разуться и сойти по белой лестнице вниз. Нет, прежде чем это сделать, он на мгновение остановится у лазерной зажигалки, поднесет к ней сигарету, посмотрит, как шаровая молния воспламенит ее, а затем сделает несколько глубоких затяжек. Он постоит в бассейне, положив руки на металлический лист Виктории Регии, и все спокойно обдумает. А потом шагнет через барьерчик в дальний угол бассейна, где журчит теплая вода, смывая с ног грязь. После этого он опустится на стул перед сушильной машиной и долго будет сидеть так, подставив ноги под вращающиеся мохнатые диски, досуха вытирающие ноги.
Да, Луклоп тысячу раз был прав, когда, опираясь на науку, перестроил подвал УУМ'а. Современному человеку, который в сфере человеческих отношений становится все беспомощней, грязевая культура совершенно необходима для успокоения нервов или, по крайней мере, для того, чтобы сохранять свое тело в форме.
Оскар посмотрел на Ирис, которая сидела тут же, на расстоянии руки от него, и ему показалось, что он знает эту женщину целую вечность. И все же светлое лицо Ирис таило в себе что-то необъяснимое, и проникнуть в это необъяснимое было невозможно. Оскар подумал о том, насколько поверхностными и инертными были слова, которыми они только что обменялись и которые никуда не могли привести их.
А ведь всегда было так просто. Со всеми этими Эриками, Мариками, Анниками и Вийвиками. По крайней мере, со стороны Оскара. Все более сложные чувства, когда он соприкасался с этими женщинами, оставались в дремотном состоянии. Должно быть не только у него, но и у них, подумал Оскар и почувствовал, как от презрения у него в горле образовался ком.
А может быть, он и сам слишком редко проявлял желание проникнуть до конца в суть каких-то вещей? А если и пытался это сделать, то не чересчур ли быстро уставал? До сих пор где-то внутри у него гнездилось то странное и непонятное чувство, которое охватило его на поминках тети Каролины. Когда заговорили о старом обычае собираться вместе и петь. Он даже купил впоследствии гитару, надеясь хоть на миг создать у себя дома такой же уютный кружок, приятный и непринужденный. Все кончилось тем, что гитара была разбита в щепки о спинку стула. Она породила лишь отчуждение и досаду — злой взгляд Агне и усмешка Керту не выходили у Оскара из головы.
— Ирис, — сказал Оскар.
Ирис рассеянно подняла веки.
— Да?
— Говорят, что где-то есть озеро, со дна которого слышится колокольный звон. Поедем туда?
Ирис не ответила.
Оскар вздрогнул. Почему его преследуют озера? Чтобы избавиться от воспоминаний о сне, он деловито произнес:
— Пойдем, здесь душно и шумно.
Потом они немного побродили по пустынным улицам, где по уже просохшему и чистому асфальту первый апрельский ветер гнал редкий снежок.
Оскар проводил Ирис на автобусную остановку. Его неодолимо тянуло в УУМ. Он решил сегодня еще раз нарушить распорядок — но, может быть, это уже не каралось так сурово, как раньше, потому что Луклоп доверил ключи от УУМ'а всем начальникам отделов.
Не зажигая света, Оскар направился к лестнице, ведущей в подвал, и стал спускаться по ступенькам, покрытым мягкой ковровой дорожкой. Словно из-под земли доносилась нежная музыка. Может быть, Луклоп велел установить над бассейном какую-то таинственную музыкальную машину?
Оскар, крадучись, двигался вперед, пока не дошел до перегородки. Ему открылась странная картина. На берегу бассейна сидел Ээбен с карманным роялем в руках и наигрывал вальс. Его дочь, в школьной форме, в сползающих чулках в резинку, с торчащими косичками, раскинув руки, старательно танцевала на белом краю бассейна.
Оскар смотрел, как зачарованный. Кто знает, сколько времени они провели здесь таким образом, во всяком случае, не похоже было, что они собираются уходить. Закончив одну мелодию, Ээбен начал новую. Девочка танцевала в темпе, легко и ритмично. Пока Оскар украдкой наблюдал за ними, Ээбен не перемолвился с дочкой ни единым словом.
Оскар тихонько поднялся наверх и стал ощупью пробираться по темным коридорам к наружной двери. И, кажется, — вовремя, ибо вдалеке послышались гулкие шаги Луклопа. Это была странная и нереальная поступь, будто переступали только ноги, управляемые бессвязными мыслями, сам же он, этот волевой Луклоп, находился где-то не здесь.
На пустынной улице Оскар вытянул перед собою руки и сделал несколько танцевальных па. Белые полоски снега, подгоняемые ветром, перекатывались через носки его ботинок.
— Ирис, — произнес Оскар.
Он был уверен, точнее, он надеялся, что Ирис в этот момент вздрогнет, где бы она сейчас ни находилась — в автобусе, или уже дома в обществе Пярта Тийвеля и Ролля.
22
ечером кто-то разбил камнем окно в комнате Керту. Агне проявила удивительное спокойствие, принесла из подвала кусок фанеры и заделала дыру.
На сей раз ее уравновешенность объяснялась военной хитростью. На следующее утро разыгралось сражение. Во время семейного кофе лицо Агне вдруг пошло пятнами и она сказала:
— Этой мерзости пора положить конец!
Ни Керту, ни Оскар не решались спросить, что подразумевала Агне, говоря это. Оба виновато уставились в чашки. Унизительное чувство страха парализовало Оскара. Не направлена ли эта внезапная злоба Агне, злоба, за которой угадывалась угрожающе клокочущая ярость, против него или Керту?
— Сегодня ты в школу не пойдешь, — объявила Агне дочери.
— Я не могу пропускать занятий, — воскликнула Керту. Она пространно заговорила о контрольных работах, собраниях и еще о чем-то. Керту знала, что иной раз такие рассказы могут утихомирить Агне. Керту стремилась любой ценой развеять ее подозрения. Да, подумал Оскар, забыв о недавнем страхе, дети такой матери, которая требует по отношению к себе дипломатии, обязательно будут ораторами.
— Меня это не интересует, — отрезала Агне. — Мы с тобой идем к врачу.
— Зачем? — испугалась Керту.
— Она же не больна, — вмешался Оскар.
— Дурачье, — пробормотала Агне. — Я хочу, чтобы ее проверили. И тогда начну действовать.
— Ты что, с ума сошла? — заорал Оскар.
— Мама, образумься, — пролепетала бледная, как смерть, Керту.
— Нет, вы меня не переубедите. Довольно! Я только и слышу, что Керту ходит с каким-то старикашкой. Ее всюду видели. Во всех ресторанах и кафе. В последний раз даже в этом ужасном «Форуме», — объявила Агне с глубоким вздохом.
Керту, прищурив глаза, смотрела на Оскара.
— Конечно же, это Тармо разбил окно, — сказала Агне. — Разве не логично? Он серьезный парень и презирает легкомысленных пташек.
— Выбирай слова, когда говоришь о своем ребенке, — буркнул Оскар. Он боялся вмешаться решительнее. Он не знал степени выдержки Керту. Может быть, девчонка выложит все: и про свой сговор с Пяртом Тийвелем, и про отношения Оскара с Ирис.
— Слышишь, отец просит тебя обращаться вежливее со своим ребенком, — насмешливо сказала Керту, и ее лицо приняло жесткое выражение.
— Будьте разумными, — произнес Оскар стандартную фразу и поднялся из-за стола.
Он просто-напросто бежал из дома. Парадная дверь и калитка со стуком захлопнулись за ним. Со стороны элеватора доносилось резкое гудение. В утреннем небе кружили вороны, птицы спешили спрятаться в кронах сосен, карканье их сливалось с гулом.
Оскару хотелось как можно быстрее и как можно дальше уйти отсюда. Он боялся, что Керту не сможет противостоять Агне. Было очевидно, что девочка, чтобы избежать унизительного похода, раскроет карты. Конечно, Оскар не мог представить себя на месте Керту, но предполагал, что у нее нет выхода. Придется чем-то расплачиваться ради сохранения собственного достоинства. Какое это имеет значение, что знакомство с Пяртом Тийвелем она завела в первую очередь из-за Агне. Душевный покой Агне и без того был нарушен, хотя и по непредвиденной причине. Кто мог предположить, что в городе пойдет такой трезвон, когда увидят Керту вместе с Пяртом Тийвелем. Да-а, можно себе представить, как добрые знакомые годами нашептывали Агне об Оскаре. Этих милых приятельниц хлебом не корми, дай им только посудачить и поделиться информацией.
Похоже, что сам Оскар уже не интересует их, а, может быть, Агне слишком холодно отнеслась к их наветам и тем отбила охоту болтать. Теперь им брошена новая кость: Керту. Очевидно, они уже успели обрушить на Агне поток сочувствия. В наши дни постоянная озабоченность считается хорошим тоном. Как бы ребенок не сбился с пути, как бы самому не заболеть смертельной болезнью.
Но смеяться не стоит. В нынешнее время больше, чем когда-либо, следует считаться с предостережением — начал смехом, как бы не кончил слезами.
Оскара охватила слепая ненависть к Пярту Тийвелю. Человек с лиловыми вьющимися волосами вывел отнюдь не сахарный лук, а чертов корень.
В начале рабочего дня Луклоп вызвал начальников отделов в свой кабинет. Оскару пришлось сесть рядом с Пяртом Тийвелем. Сейчас должно было начаться маленькое торжественное собрание. Из-за своих личных переживаний Оскар успел забыть об объявленном УУМ'ом конкурсе на лучшее письмо. Меж тем за это время жюри, состоявшее из именитых людей, проделало в поте лица большую работу и определило победителя. Им оказался автор Оскара — Мадис Кээгель, который в своем письме заклеймил стоявшую у дверей архитектурного памятника мусорную урну, напоминавшую бочку. Тот самый Мадис Кээгель, письмо которого на десятый день конкурса вывесили на стенде, как лучшее, и который работал на комбинате по сооружению заборов. Тот самый Мадис Кээгель, который рекомендовал красить ограды в зеленый цвет, чтобы люди чувствовали себя, как на природе.
Услышав от Луклопа о выдвижении Мадиса Кээгеля, Оскар бросил на Пярта Тийвеля торжествующий взгляд. Лицо начальника первого отдела оставалось непроницаемым. У Оскара мелькнула идея. Теперь-то он, наконец, отомстит Тийвелю! Он решил после торжественного собрания поговорить с Луклопом.
Тайный план принес Оскару некоторое облегчение.
С наслаждением откинувшись на спинку стула, он смотрел, как победитель конкурса Мадис Кээгель, сопровождаемый швейцаром Яаном Темпелем и доставившим его сюда Ээбеном, входил в комнату.
Мадис Кээгель сиял. Осторожно неся свой живот, он прошел на середину кабинета и неуклюже поклонился во все стороны. Сев, подтянул на коленях брюки, которые, согласно давно прошедшей моде, были узки в голени.
В честь лауреата конкурса Луклоп произнес короткую, но сердечную речь. Все по очереди пожимали победителю руку, а Армильда Кассин, вынув завернутый в бумагу букет цветов, протянула его Мадису Кээгелю.
Луклоп вытащил из-под стоявшего на столе стеклянного колпака пластмассовую мельницу и передал уникальный сувенир победителю, онемевшему от проявленных к нему знаков уважения.
Мадис Кээгель опустился в кресло и еще раз подтянул свои узкие брюки. Облизнув губы, он начал говорить.
Его слушали с вежливыми улыбками, хотя все рассчитывали сразу же после церемонии разойтись.
— Употребление алкоголя один из самых страшных пороков человечества, — начал Мадис Кээгель. Он говорил долго и обстоятельно о том, как водка разрушает печень, сердце, почки и мозг. Приводил многочисленные примеры того, как люди, злоупотребляющие алкоголем, теряют работоспособность или преждевременно покидают этот мир.
Длинная речь всех утомила. Но нельзя было проявить неуважение по отношению к лауреату и покинуть комнату. Впрочем, терпение уумовцев было вознаграждено, так как после длинного выступления Мадис Кээгель подал блестящую идею, сулившую окончательную победу над пресловутыми градусами.
— Знаете ли вы, — сказал он, — что если сунуть в рот лягушке зажженную сигарету, то лягушка будет тянуть ее до последнего вздоха. Ни за что не выпустит, хотя каждая затяжка приближает ее к концу. То же и с людьми. Они не в силах отказаться от спиртного, которым их поят, тяжелые последствия не волнуют их. Поэтому я считаю, что алкогольную отраву следует заменить чем-то менее вредным. Могу вам сообщить, что такой заменитель или псевдоконьяк мною найден. Сам я употребляю его уже лет десять, нахожусь при добром здравии и могу авторитетно заверить, что этот напиток не приносит организму ни малейшего вреда.
В Пярте Тийвеле вспыхнул дух изобретателя. Он подался вперед, стараясь не пропустить ни единого слова. Луклоп тоже слушал с интересом, но подоплека этого интереса, как предполагали уумовцы, была иной. Начальника нередко видели с красным носом. Да и на торжественном открытии грязевого бассейна Тийна Арникас частенько останавливалась возле Луклопа со своей целебной настойкой.
Новоиспеченный лауреат Мадис Кээгель охотно делился своим опытом.
— Исходным веществом для псевдоконьяка является березовый сок, который надо брать от Betula verrucosa. Для завершенности вкуса и аромата я примешиваю сок Betula lenta. Но ничего не получится, если, приготовляя напиток, вы не добавите листьев и молодых побегов Betula lutea. Все это ставится бродить в хорошей дубовой бочке и через определенное время закапывается в землю.
По-видимому, Мадису Кээгелю стало неловко, он съежился и извиняющимся тоном добавил:
— Я не могу сказать вам точного рецепта. Видите ли, я бы хотел запатентовать бетуляк.
— Валяйте! — весело воскликнул Луклоп.
— Но в патентном управлении не желают со мной разговаривать, — поморщился Мадис Кээгель. — Просто преступление, — ожесточился он. — У них отсутствует чувство ответственности за здоровье своего народа и всего человечества!
Мадис Кээгель перевел дыхание и вытер платком уголки рта.
— Я полностью разработал систему изготовления бетуляка. Я посвящал этому все свое свободное время. В первую очередь березовые посадки — вы только представьте, сколько надо учесть всяких факторов, чтобы обеспечить непрерывность производства. Гектары, количество берез на гектар, годы, которые потребуются на выращивание березы, среднее количество сока с одного дерева, бригады сборщиков сока, транспорт, количество фабрик, и не забывайте те тысячи дубовых рощ, которые пойдут на изготовление бочек! Хорошо, что у нас наконец-то открыли вычислительный центр, выполняющий заказы частных лиц. Иначе я бы не справился с этой гигантской работой!
Мадис Кээгель чуть не всхлипнул.
— Иногда я представляю себе — и это так воодушевляет меня, — как все человечество пьет один бетуляк. Мы упраздняем вытрезвители, противоалкогольное лечение, сколько семей нам удается уберечь от развала, насколько веселее становятся люди.
— Прекрасно, — сказал Луклоп, вставая. Он пожал руку Мадису Кээгелю. — Я надеюсь, — твердым голосом добавил начальник УУМ'а, — что как лауреат нашего конкурса вы найдете понимание и в патентном управлении.
Мадис Кээгель, взяв под мышку полученный приз — пластмассовую мельницу, — отступил к двери. Он, видимо, хотел еще что-то сказать, но Луклоп уже листал какую-то толстую тетрадь с видом человека, настолько погруженного в свою работу, что мешать ему представлялось недопустимым.
Оскар вернулся в свой кабинет, и в ту же минуту зазвонил телефон.
— Я должна сейчас же встретиться с тобой, — повелительно сказала Керту.
Те же самые слова говорила ему в свое время Вийвика, когда звонила. Это было не так уж и давно.
— Я постараюсь уйти, — растягивая слова, ответил Оскар. Слушая выступление Кээгеля о блестящих перспективах, открывающихся перед бетуляком, Оскар почти забыл утренний инцидент. Теперь, предчувствуя продолжение неприятного разговора, он не испытывал ни малейшего желания встретиться с дочерью.
— Не постараешься, а придешь, — безапелляционным тоном заявила Керту и назначила место и время встречи. Такой решительности Оскар никогда раньше у дочери не замечал.
Подперев голову руками, Оскар вздохнул. Как ни мрачны были его предчувствия, он не смог сдержать улыбки при мысли о Мадисе Кээгеле. Такой же энтузиаст, как и Пярт Тийвель с его сахарным луком. Но по сравнению с Мадисом Кээгелем Пярту везло больше, его патент получил распространение во многих странах. Несмотря на это, Оскар не знал никого, кто бы отказался от прежнего лука в пользу сахарного. Сахарный сорт Allium сера, по сравнению с которым обычный сладкий лук казался абсолютно горьким, не вызывал у потребителя восторга, ибо не выполнял функций лука, а был безвкусным, словно зеленый абрикос. И вообще, на сладкое можно было использовать иные, более подходящие для этой цели плоды.
Оскар фыркнул про себя.
Этот козырь он использует.
Пярт Тийвель!
Хотя времени до встречи с Керту оставалось немного, Оскар поспешил в кабинет Луклопа.
Без всякого предисловия он начал:
— Пярт Тийвель недоволен результатами конкурса. Он заявил, что в УУМ'е покровительствуют полоумным, вместо того, чтобы поддержать толковых людей, которые в силах помочь решению проблем, имеющих значение для всего мира. Одно высказывание этого вольнодумца, — Оскар огляделся по сторонам и еще ближе наклонился к начальнику, — одно высказывание меня особенно возмутило. Он сказал: «Луклоп оказал на нас и на жюри давление, иначе никто не присудил бы первого места этому Мадису Кээгелю».
Луклоп схватил две сигареты, зажал их в уголках рта и одновременно зажег. Он редко делал так, но это было верным признаком того, что начальник УУМ'а разозлился.
— Вот и все, — закончил Оскар и на манер Мадиса Кээгеля отступил к двери. Пусть Луклоп переваривает. Оскар, кажется, попал в самую точку. Вероятно, Луклоп тоже считал новоиспеченного лауреата болваном, но теперь как-никак был задет его авторитет. Кроме того, Луклоп совершенно не выносил, если кто-либо сомневался в демократичности системы управления в УУМ'е.
Проходя мимо кабинета Тийвеля, Оскар через приоткрытую дверь заметил начальника первого отдела. Он неподвижно Сидел за столом, положив голову на руки и запустив пальцы в свои лиловатые волосы.
Оскар замедлил шаг, чтобы как можно дольше не выпускать Пярта Тийвеля из поля зрения. Он испытывал нечто похожее на сочувствие. До чего же странное существо человек, подумал Оскар, сердясь на самого себя.
И надо же было Ирис из тысячи и тысячи мужчин откопать именно Пярта Тийвеля! Что же связывало скромного научного работника с Ирис? Что-то непонятное и непреодолимое заставило робкого Пярта пойти в атаку — он сумел заручиться согласием Керту и составить коварный план. Оскару стало жутко перед тем непонятным, что скрывалось в Пярте, и о чем Оскар не имел ни малейшего представления.
Оскар остановился посреди тротуара, мешаясь под ногами у прохожих.
Загадочность натуры Пярта Тийвеля заставила Оскара сравнить себя со своим бывшим другом. Был бы он, Оскар, способен спустя десять лет преследовать Ирис, стремясь любой ценой сохранить ее для себя, если б возникла аналогичная ситуация между Ирис и каким-то мужчиной? Да, конечно.
Ты бы пополз за Ирис, пытаясь схватить ее за руки, воскликнул какой-то голос внутри Оскара. Нет, с издевкой произнес умудренный житейским опытом бесенок, годами сидевший в кармане жилета Оскара и хорошо знавший своего хозяина. Нет, издевался рогатый, едва ли — тем более, что через десять лет Ирис будет ровно на десять лет старше теперешней.
Через десять лет? Оскар что-то пробормотал про себя. Эти перекликающиеся голоса, словно наивные мальчишки, которые рассматривают годы, как статические единицы, нанизываемые, подобно бусинкам, на нить эпохи. Что будет через десять лет? Может быть, за это время мазерный или лазерный нож под ноль обреет земной шар, не оставив на нем ни одного живого существа. Меж корешков цивилизации будут ползать какие-то четвероногие существа, из которых в лучшем случае когда-нибудь снова разовьется питекантроп, а может, и не разовьется.
Что будет через десять лет? Оскар вдруг вспомнил одно вычитанное в газете сообщение, задним числом потрясшее его.
Все суда шли вокруг континентов. Каналами, которые когда-то были выкопаны почти вручную, с неимоверным трудом и жертвами, и которые многократно сокращали путь кораблей, никто не пользовался. Более того, ими нельзя было пользоваться, так как в них топили собранный на материке металлолом: машины, танки, рыцарские кресты, пушки, кофейники, бензобаки, кровати с пружинными матрацами, гильзы от снарядов, испорченные дверные замки, велосипеды и уходящие в небо железные лестницы, взобравшись на которые когда-то смазывали головки ракет.
Все считали это нормальным, и суда шли вокруг. Когда Оскар вдумался сейчас в это информационное сообщение, оно показалось ему более чем странным: суда делают круг, хотя существуют каналы. И никто не протестует! Мир даже и не всколыхнется от смеха над собой.
Что же будет в таком случае через десять лет!
Нет! Ирис нужна ему сейчас, сию минуту, немедленно!
А Керту?
Оскар замедлил шаг.
Вон она идет, эта девчонка.
Оскар смотрел на нее издали, как на незнакомое создание. Когда это она успела так вырасти? Ведь еще недавно она была… Впрочем, так говорят все родители о своих детях. На Керту были клетчатые сапоги, похожие на рыбацкие, которые доходили ей до середины ляжек. Агне все подметки отбила, доставая для Керту эту ультрамодную обувь. Когда Оскар восстал против такого баловства, Агне махнула рукой и произнесла фразу, которой из поколения в поколение оправдывали желание ребенка:
— В свое время у меня не было возможности иметь то, что я хотела. Пусть теперь ребенок испытает радость от модных и красивых вещей.
На голове у ребенка сидела крошечная гусарская шапочка, этот красный головной убор, собственно, ничего не закрывал и все время норовил сползти. Вероятно, поэтому Керту шла очень прямо, словно несла на голове кувшин с водой.
Заметив Оскара, Керту остановилась, слегка расставив ноги, упрямо сжала губы и ни шагу не сделала навстречу отцу. Возможно, это было и не так, но Оскару все же показалось, что она смотрит на него каким-то оценивающим взглядом. На ее лице мелькнула презрительная усмешка, и это не могло быть случайностью.
Оскар не знал, как начать разговор. В конце концов Керту позвала его, пусть сама все и объяснит. Странным было и то, что его атакует собственный ребенок. В какой момент произошло это изменение в соотношении сил?
— Положение весьма критическое, — произнесла Керту. — Ты должен как можно скорее кончить свой идиотский роман.
Примерно четверть века тому назад так же решительно говорила с Оскаром его мать. В тот раз Оскар по уши влюбился в девочку из соседней школы: у девочки были чудесные каштановые волосы, закрывающие плечи, подобно широкому воротнику. Матери той девочки Оскар не нравился и она шипела до тех пор, пока Оскар не получил от своей матери строгий наказ оставить длинноволосую девочку в покое.
— В классе надо мной без конца смеются. Все знают, что я ходила с Пяртом Тийвелем по кафе и ресторанам. Спрашивают — не дедушка ли мне случайно этот тип с лиловыми волосами. Кто-то пустил слух, что дети Пярта Тийвеля тоже заканчивают какую-то там школу. Все смеялись до потери сознания и расспрашивали, нравятся ли мне мои будущие приемные дети. Наш класс проявляет огромное рвение, пытаясь вернуть меня в лоно добродетели. Одна негодяйка, увидев мои клетчатые сапоги, чуть не умерла от зависти и стала умолять меня уступить ей этого старика на время, пока он не купит ей таких же сапог.
— Как мать? — спросил Оскар.
Керту поняла, на что намекает Оскар. Девочка отвернулась, Оскар видел только пылающую мочку ее уха.
— Противно было.
Оскар вздохнул. Ему хотелось сказать Керту что-то хорошее и утешительное, но он не знал как. Только Агне могла прийти в голову такая идиотская мысль. В известном смысле этому можно было найти объяснение — для нее, учительницы физкультуры, физическое состояние человека как бы потеряло связь с психикой. Оскар до сих пор с неприятным чувством вспоминал обстоятельный отчет Агне после того, как родилась Керту и они вернулись из больницы домой. Он помнил все до мельчайших подробностей, хотя это было так давно. Все, что хочется поскорее забыть, чертовски долго остается в памяти.
— Я думаю, что никогда не рожу ребенка, — обронила Керту.
— Не воспринимай все это так трагично. Надо уметь отделять физиологию от психики, — сказал Оскар.
— Тебе легко говорить! — разозлилась Керту.
— Послушай, — Оскару словно бросили спасательный круг. — Пойдем купим бабушке подарок!
Настроение у Керту тотчас же изменилось. Оскар знал, что она любит делать подарки. Это соответствовало жертвенному складу ее характера.
— Я чуть не забыла, что у бабушки сегодня день рождения! — с жаром воскликнула Керту.
Оскар схватил Керту за руку и они побежали под мелким апрельским дождиком.
Протиснувшись к прилавку, отец с дочерью углубились в созерцание всевозможных товаров.
— Прямо не знаю… — беспомощно сказала Керту.
Оскар тоже не мог решить. Здесь продавали зажимы для лучин, выкрашенные в синий цвет рыбьи хребты, которые вешали на стенку как украшения, мини-пилы вместе с козлами высотой в десять сантиметров, тапочки из креповой бумаги и маленькие бочонки для коньяка, которые одевали на шею. Оскар не думал, чтобы какая-либо из этих вещей была необходима его матери. Но давно уже миновали те нищие времена, когда людям дарили предметы обихода.
В конце концов они остановились на коньячном бочонке на шею, так как его отверстие закрывала красивая резная затычка, а сбоку висел сплетенный вручную яркий шнурок. Они вышли из магазина в приподнятом настроении, под мышкой Керту несла пакет.
— Итак, — сказал Оскар. — Теперь у бабушки имеется коньячный бочонок. Остается достать коньяк и сенбернара, который носил бы бочонок на шее. Как только достанем собаку и коньяк, отправим бабушку жить в горы. Там она будет ждать, пока снежная лавина не погребет под собой сбившихся с дороги странников. Тогда она повесит на шею собаке коньячный бочонок и пошлет ее искать потерпевших бедствие. Собака отыщет под снегом людей, раскопает их, замерзшие путешественники подкрепятся из бочонка и воскреснут. Потом собака приведет на место бедствия спасательный отряд.
Керту долго и громко смеялась. Из глаз ее текли слезы. Прохожие бросали на них недовольные взгляды. Иного человека, не умеющего радоваться, начинает одолевать зависть, когда другие смеются.
Заговорив об использовании бочонка, Оскар вспомнил о победителе конкурса УУМ'а Мадисе Кээгеле. Пожалуй, нет все же причин сомневаться в талантливости лауреата, во всяком случае, он здорово придумал название своему напитку.
Оскару не захотелось рассказывать дочери о бетуляке. Веселое настроение, которое вдруг нашло на него, быстро улетучилось. Его душу терзали три женщины, имена которых нельзя было даже поставить рядом: Керту, Ирис, Агне. Исключив одну из них, он должен был зачеркнуть и другую. Нельзя было даже и подумать об этом, особенно сейчас, когда Оскар смотрел на все еще хохочущую Керту. Девочка размашистым шагом шла рядом с ним, держа под мышкой коньячный бочонок, и, вероятно, представляла себе, как суровая бабушка нацепляет на шею несуществующему сенбернару коньячный бочонок и посылает собаку искать под несуществующей лавиной несуществующих потерпевших.
23
од ногами, словно здесь было болото, колыхался желтый слой хвойных игл. Тут было сухо, хотя кругом хлюпала апрельская грязь. Голые сосны стояли чуть в стороне от странного круглого искусственного озера с островком посередине, однако хвойный ковер простирался до самой воды. Ветер срывал иглы с мертвых сосен и относил их к берегу.
Впервые увидев это озеро, Ирис сказала:
— Здесь тихо и уединенно. Однажды побывав тут, человек больше уже не придет сюда. Ему неинтересно. В такое время года люди ищут пробуждающуюся природу, стремятся в еще нетронутые места.
В последнее время встречи с Ирис напоминали тайные маневры. В день свидания Оскар уходил с работы раньше, мотивируя это необходимостью лечебных процедур. Ирис работала теперь в утреннюю смену, и таким образом, светлые послеобеденные часы принадлежали им. Оскар ждал Ирис каждый раз в одно и то же время в переулке у ресторана «Форум», большей частью ему удавалось приехать на такси. Затем они мчались за город, шли в умирающую сосновую рощу и гуляли там вокруг желтовато-коричневого круглого озера с островком посередине.
Вечера оба проводили дома. Керту с Пяртом Тийвелем больше не преследовали их — на первых порах все, казалось, было спокойно. Заметив скрытую радость Агне, Оскар почувствовал себя неважно. Впервые в жизни он склонялся к честной игре, но обстоятельства оказывались против него. Поведение Ирис по-прежнему оставалось загадочным. Оскар не мог вытянуть из нее ни одного определенного решения.
Они с Ирис часто бродили по этому пружинящему под ногами хвойному ковру, им было хорошо вдвоем. Но ведь они не могли продолжаться вечно — эти минуты и часы, которые приходилось красть!
Как-то Оскар вновь попытался поговорить с Ирис на эту тему.
— Почему мы так старомодны? — вместо ответа спросила Ирис.
Оскар снял шляпу и стал обмахиваться. Его задел вопрос. Он считал, что живет в соответствии с неписанными законами современности. Он никогда не устанавливал для себя границ и не воспринимал брак с Агне, как добровольное тюремное заключение, где надо в каждом своем шаге отчитываться охраннику.
— В один прекрасный день приходишь к старому, как мир, решению и говоришь: будь моей женой. Ты и только ты! Навеки вместе и тому подобное, — рассмеялась Ирис.
Оскар едва сдержался, он готов был кинуться прочь отсюда и, подобно быку, начать биться лбом о ствол мертвого дерева.
— А вдруг я хочу быть честной, не обманывать себя и других, — пояснила Ирис.
— Честной? — удивился Оскар.
— Может быть, я хочу еще десятки раз влюбляться, если будет позволено употребить это устаревшее слово, — усмехнулась Ирис.
— Я знаю, — нерешительно ответил Оскар. — Ты ни с кем не хочешь вступать в будни. Разумеется, все, что до будней, гораздо интереснее.
— Точно… Чем дальше идешь вдвоем, тем уже становится твоя жизнь. В соответствии с визуальной перспективой.
— Я, видимо, должен отступить, — в отчаянии сказал Оскар.
К счастью, Ирис только рассмеялась. Произнеся эту фразу, Оскар тут же почувствовал страх. Если бы Ирис ответила «да», ему пришлось бы униженно просить у нее прощения. Он бы ни за что не смог уйти, оставить Ирис, навсегда отойти от нее.
Порой Оскар жалел, что нет еще пока таких лекарств, от которых гасло бы влечение и исчезала любовь. Хорошо, если бы можно было сознательно срезать те ростки, которым не предназначено солнце. Все-таки наука еще плохо помогает людям, не учитывает их растущих потребностей и запросов. Иной раз человек, запутавшись в своих мыслях и чувствах, становится таким беспомощным, хоть караул кричи. Как хочется порой убежать от самого себя, только как и куда?
Подсознание наносило разуму недозволенные удары. Невольно Оскар протянул руки, чтобы еще раз обнять Ирис.
— А Пярт Тийвель? — язвительно спросил Оскар после того, как запечатлел на губах Ирис долгий поцелуй.
— Это совсем другое, — неприязненно ответила Ирис.
— Что в нем такого особенного? — ревниво выпалил Оскар.
Ирис рассмеялась.
— Он как зал ожидания на вокзале — всегда приютит. Как поезд, который не может не придти.
— Когда-нибудь и он может сойти с рельс, — с трудом скрывая злость, произнес Оскар.
— Когда-нибудь, — передразнила Ирис и ногой подкинула в воздух хвойные иглы. — Когда-нибудь и нас вынесут ногами вперед, — мрачно закончила она.
— К чему ты стремишься, чего ищешь?
— А надо ли куда-то мчаться, сломя голову! Мне доставляет наслаждение миг. Как интересно смотреть на это странное озеро, такое, какое оно есть. Вырытое ковшом углубление или ров. Правда, на острове нет замка, но его можно вообразить. Или эти сосны, трагические деревья, точно бывшие люди.
Ирис чуть склонила голову набок.
— Почему вы убили нас? Почему вы убили нас? — прошептала она.
У Оскара запульсировало в затылке.
Ирис отошла в сторону, к стволам. Она останавливалась возле деревьев, отламывала кору, долго и внимательно разглядывая голые вершины, где трепыхались отдельные желтые иглы, затем наклонялась, брала с земли пригоршню таких же желтых игл и разбрасывала их.
Сделав круг, она подошла к Оскару, остановилась, сунула руки в карманы и серьезно произнесла:
— Брак в большинстве случаев утерял смысл. В прежние времена люди, по крайней мере, служили друг другу поддержкой, делили заботы. Тогда заботы были проще и их легче было развеять.
— Все-таки скажи, что тебя так ожесточило? — спросил Оскар, осторожно приближаясь к Ирис, словно страшась, что она обратится в бегство.
Внезапно Оскар понял, что такие, как Ирис, никогда не напишут писем в УУМ. Те, кто отправляют послания, по природе своей оптимисты. Они считают, что любая проблема может быть решена, какой бы общей и сложной, узкой или личной она ни была. Оптимисты? Может, правильнее было бы назвать их нивелированными личностями? Люди, которые ждут приказов, решений, чтобы автоматически следовать им и, таким образом, избавиться от груза. Они фетишизируют закон, моду, господствующий образ мыслей и уверены, что для них есть место под крышей в этом мире. Случись кому-то задеть их или ограничить занимаемое ими пространство, как они сразу же поднимают крик.
Подумав о ящиках с архивами и груде писем в УУМ'е, Оскар почувствовал себя как-то странно. Он мысленно увидел монумент, который мог бы стоять перед зданием УУМ'а. На постаменте — огромная человеческая фигура с головой только до бровей. Недостающую часть черепа эта высеченная из гранита фигура держит в вытянутой руке. Скульптуру можно было бы назвать: «Научите жить!»
Создать бы еще один УУМ более высокого класса, подумал Оскар, и горькая улыбка скривила уголки его губ. Послать бы туда письмо и спросить совета. Еще лучше было бы носить в кармане отгадчик мыслей, чтобы знать, что делается в голове Ирис.
Оскар понимал, что стоящая перед ним женщина до боли дорога ему. Хотелось быть с нею как можно ближе, раствориться в ней, дышать с ней единым дыханием. А сейчас Ирис была так далеко, хотя Оскар и держал ее в своих объятиях.
Ирис что-то напевала про себя и покачивалась на пружинящем хвойном ковре.
— Ты знаешь, — спросила вдруг Ирис, — как менялся человек?
— Нет, — поспешно ответил Оскар.
— Вот видишь, даже не потрудился подумать над этим, — насмешливо произнесла Ирис. — Ладно, я тебе скажу.
Ирис улыбнулась своей загадочной улыбкой, и Оскар не знал, услышит ли он сейчас ее собственные мысли, или должен будет мириться с ее очередным фокусничанием.
— Человек, который содержал свою семью, детей, дом, превратился в неудержимого транжиру. Он разбазаривает вещи и треплет нервы своим близким. Человек во всем стал ненасытным. Видишь, и я тебя мучаю. Может быть, и Пярта Тийвеля. Если как следует подумать, то, вероятно, этот список можно продолжить. Мы дошли до того, что последние приверженцы старомодной морали уже стыдятся самих себя. Когда-нибудь они для смелости закроют глаза и отряхнут с себя все, что не соответствует эпохе. Люди полагают, что стремительная и беспутная жизнь помогает им сделать ее яркой и щекочет нервы. Меня, например, волнует, когда я прихожу с тобой в этот мертвый лес. Мне нравятся мгновения, когда мы подкарауливаем друг друга и ищем ключ к разгадке. Мы чувствуем себя свободными, потому что отваживаемся искать ключ. Вообще-то, это очень распространенная игра, снобствующие оригиналы могли бы выдумать что-нибудь и поновее.
Оскар испытующе смотрел на Ирис.
— Ты хочешь сказать, что великая и необъяснимая, независящая от воли сила, которая откуда-то управляет человеком, заставляет его становиться искателем мгновений, чтобы хоть на какое-то время почувствовать себя хозяином положения?
— Примерно так, — ответила Ирис и сложила губы трубочкой. — Пожалуйста, поцелуй меня.
Оскар схватил Ирис в объятия.
— Видишь, как мы свободны, — усмехнулась Ирис, переводя дыхание.
Взявшись за руки, они подошли к самому берегу и стали смотреть на отражающиеся в озере облака. Ирис бросила в воду пригоршню хвои, и облако превратилось в ежа.
Оскар понял — чтобы докопаться до сущности Ирис, нужны, вероятно, годы. Он понял наивность своих стремлений и детскую нетерпеливость — сейчас, немедленно! Понял и то, что предпосылок для достижения близости, необходимых для этого лет, может и не быть. Он не боялся, что их с Ирис, или одного из них, скоро вынесут ногами вперед, его беспокоило нечто совсем иное. Терпеливость стала у современного человека весьма редкой чертой характера. Никто не хотел проявлять выдержки, выжидать — зачем тратить время, если ты вовсе не уверен в результате!
Сам Оскар тоже никогда не отличался терпением. Они с Ирис — одного поля ягоды, если верить ее словам. Впрочем, кто знает, теперь позируют повсюду, даже в постели.
Обилие современных средств коммуникации заранее позволяло овладеть необходимыми манерами на все случаи жизни. Готовые образцы просто требовали подражания. Люди потихоньку тренировались, чтобы не быть смешными в своей отсталости.
Даже самобытность и оригинальность были большей частью откуда-то позаимствованы — просто невозможно противостоять чертовски заразительным примерам! Ведь намного проще перенять, чем тратить время на то, чтобы до чего-то дойти.
Ирис натянула перчатки. Они были красные, с вырезом на ладони. Оскар взял руку Ирис и поцеловал незащищенные места. Он как бы завершил этим красивым жестом свой недавний ход мыслей. В одном, виденном им фильме, герой точно так же поцеловал героине ладонь. Даже перчатки тоже были красные.
Оскар рассмеялся.
— Пойдем, — сказала Ирис.
Оскар шел очень медленно, чтобы продлить минуты пребывания с Ирис. Пусть ждет Пярт Тийвель, пусть смотрит на часы Керту, готовая схватить телефонную трубку и позвонить своему сообщнику. Никому не придет в голову искать их здесь. Этот редкий захиревший лес, просвечивающий насквозь, в сущности не был подходящим местом для встреч влюбленных. Хвойный ковер навевал грустные мысли. Только глупцы могли приходить сюда, где сама обстановка действовала отрицательно. И без того человек придумывает себе всякие химеры.
Как ни удивительно, но выйдя на большую дорогу, они сразу же поймали такси.
Оскар сел, близко прижавшись к Ирис, и скоро почувствовал, как тепло ее тела постепенно обволакивает его. Ирис, скрестив руки в красных перчатках, смотрела на влажно поблескивающую бетонную ленту, мчавшуюся навстречу. Небо приняло сиреневатый оттенок. Туманная дымка окутывала парки и рощицы, разбросанные меж жилищ. Хотя по краям шоссе лепились дома, свежий весенний воздух как бы раздвигал все вокруг, делая перспективу необычайно широкой.
После крутого поворота шофер резко сбавил скорость. Впереди был затор. Такси, лавируя, подъехало ближе и поравнялось с грузовиком, фыркающим дизельным мотором; кузов, где лежал какой-то груз, был накрыт брезентом.
Оскар потянулся взглянуть, в чем дело.
Водитель опустил стекло, и музыка волной ударила по барабанным перепонкам. Оскар с Ирис тоже опустили стекла, звуки усилились. Популярный ансамбль пел модную песенку:
Качалось солнце, тебя я встретил, Играла радуга под небосводом…— Проклятье! — громко выругался шофер. — Нашли развлечение! Вечно приходится из-за них стоять.
Впереди, во всю ширину дороги катилась лавина девиц, толкая перед собой детские коляски.
— Откуда эта музыка? — спросил Оскар.
— У всех в коляске по радиоприемнику. Настраивают на одну волну, оглохнуть можно.
Машины гудели. Синеватое облако выхлопных газов застилало лиловое небо.
Позади и впереди девчонок, кативших детские коляски, сгрудились машины, однако девчонки, проявляя характер, не освобождали дорогу. Оскар почти наполовину высунулся из окна, зрелище представляло для него большой интерес, и словно напоминало ему что-то, а что — Оскар не мог вспомнить.
Пестро одетые девчонки были на редкость серьезны, словно им помешали бог весть в каком важном деле. Они выполняли какой-то им одним известный ритуал, которому взрослые не могли найти логического объяснения.
В колонне были широко представлены всевозможные детские коляски последних десятилетий. Рядом с колясками на высоких колесах катились низенькие, обтекаемой формы. Оскар хорошо помнил такие тележки. Когда Керту была маленькой, младенцев возили в светло-голубых и молочного цвета лимузинчиках с тиснеными лебедями по бокам.
Оскар отпрянул в глубь машины. Подавив волнение, он смотрел по сторонам, ища взглядом Керту. Несколько дней тому назад, вечером, Керту спустила с чердака свою старую коляску. Вероятно, это обеспокоило бы Агне, не побывай она с Керту недавно у инспектора женского здоровья. В тот вечер она попросту расхохоталась. Керту объяснила, что ей нужна коляска для школьного спектакля. Агне усердно помогала дочери стирать пыль с коляски, вдвоем им удалось закрепить и расшатанное колесо. Агне даже разыскала на дне какого-то чемодана старые погремушки Керту и подвесила их к коляске. Агне суетилась с такой радостью и так от души смеялась, что Оскар не на шутку удивился.
— Родители кормят их, суют им в карманы деньги, покупают пестрые тряпки — вот вам и своя отечественная золотая молодежь. Идиоты! — возмущался шофер.
Ирис молчала. Опершись руками в красных перчатках о край обивки, она приподнялась и стала пристально следить за происходящим. Мельком взглянув на нее, Оскар увидел, что глаза Ирис влажно блестят.
Музыку разорвала сирена. Две красные машины неслись со стороны города. У Оскара сжалось сердце. Вдруг и Керту там, среди этих девчонок. Ему почему-то показалось, что пожарные машины врежутся прямо в девчоночью толпу. Но нервы девочек не выдержали требовательного воя сирены. Они опрометью бросились к обочине дороги, увлекая за собой коляски. Машины, попавшие в затор, могли тронуться с места. Через мгновение мимо такси со свистом промчалась пожарная машина. Постепенно удаляясь и затихая, выла сирена. Грузовик затарахтел и рванул с места. Оскар внимательно посмотрел на обочину дороги и увидел Керту. Дочь со своей повозкой стояла под тополем. Она как раз нагнулась над коляской, словно успокаивала плачущего ребенка.
— Упрямый народ, — проворчал шофер, переводя скорость. — Черт его знает, сколько бы мы здесь проторчали. И куда только смотрят их родители?!
Оскар оглянулся через плечо назад. Керту по-прежнему стояла под тополем. Оскар заметил движение ее руки, наверно, откинула назад падающие на глаза волосы.
Ирис пристально смотрела шоферу в затылок. Оскар почувствовал, что сейчас он для Ирис не более, чем случайный попутчик.
24
ще накануне УУМ бурлил от приятной сенсации, и вот сегодня последовало неожиданное продолжение.
Учреждению в конце концов выделили давно обещанную квартиру и сегодня на общем собрании работников должно было состояться распределение. После того, как новость стала известна, Луклоп не сразу собрал своих подчиненных. Исключительное чутье подсказывало Луклопу, что кашу не едят горячей. Необычайное известие и без того взбудоражило умы. Надо было дать людям свыкнуться с мыслью, что один из них станет счастливым обладателем квартиры. Надо было дать время, чтобы первый порыв надежды немного поутих. Кроме того, полезно было каждому кандидату испытать легкую депрессию, вызванную предположением, что он может и не попасть в разряд счастливчиков. Потеря, пережитая в воображении, заменит наивный пыл трезвым скепсисом, и люди поведут себя гораздо терпимее, когда дело примет реальный оборот.
Луклоп не хотел быть свидетелем взрывов злости и отчаяния. Да и для учреждения будет полезнее, если общий тонус сотрудников не снизится из-за этой единственной квартиры. Человек, пребывающий в плохом настроении, хуже и медленнее работает, производственные психологи часто высказывались по этому поводу в печати.
В последнее время повсеместно стремились навязать человеку хорошее настроение. Не хочешь смеяться — заставь себя обнажить зубы и сразу тебе станет легче. Была опубликована пространная статья о начинании одного передового завода, где администрация раздобыла комплект танцующих роботов и в обеденное время они давали представления.
Эффект был потрясающий, если откинуть в сторону одно пустячное обстоятельство, омрачившее крайне смешную премьеру. Одного рабочего пришлось на скорой помощи увезти в больницу, так как в разгаре танца робот всей своей тяжестью наступил бедняге на ногу.
Луклоп не выносил вокруг себя магнитного поля отрицательных эмоций, тем более что сам находился в отличнейшем настроении. Работа в УУМ'е подвигалась великолепно, все плановые показатели из месяца в месяц выполнялись. И что самое важное — Луклопу удалось отстоять проект гигантской пристройки к УУМ'у. Строительство должно было начаться очень скоро. Кроме всего прочего, Луклопа окрыляло еще одно радостное событие, в известной степени личного характера.
Как раз вчера он и Ээбен ходили на базу, чтобы из только что прибывшей партии отобрать персональную машину. Один экспериментальный экземпляр полностью покорил начальника УУМ'а. Пришлось пойти к заведующему базой, который отнесся к желанию Луклопа с некоторым неодобрением, так как в отношении этой машины у него были иные планы. Но достаточно было нескольких телефонных звонков, и Луклоп получил то, что хотел.
Когда он в новой машине подкатил к зданию УУМ'а, все подчиненные высыпали посмотреть на нее и все наперебой высказывали свое восхищение. Луклоп следил за выражением лица Пярта Тийвеля и, навострив уши, прислушивался к тому, что говорил начальник первого отдела. В последнее время он особенно зорко следил за настроениями Пярта Тийвеля. Донесение начальника третьего отдела не не шутку встревожило Луклопа. Не каждый годился для работы в УУМ'е, и тут надо было проявить осмотрительность. Но в поведении Пярта Тийвеля на сей раз не было ничего предосудительного. Он восхищался вместе со всеми и, как все, ходил вокруг пятнистой машины, выкрашенной под божью коровку.
Ничто не омрачало радости Луклопа, получившего новую персональную машину. Даже замечание того рабочего базы, который, проходя мимо, сказал своему попутчику:
— Этот драндулет вполне годится для зада бумагомарателя.
После обеда Луклоп попросил завхоза собрать всех сотрудников в грязевом бассейне. Он считал, что правильнее всего будет именно здесь разрешить сложный вопрос. Пусть люди постоят в теплой грязи — это улучшит кровообращение, сердечную деятельность, успокоит нервную систему и все прочее, и тогда уумовцам легче будет отказаться от квартиры в пользу кого-либо из своих коллег.
Поскольку грязевой сеанс проходил сегодня в узком кругу, никто не потрудился одеться соответствующим образом. Мужчины просто закатали брюки, а женщины сняли за ширмой чулки.
Мастер коктейлей Тийна Арникас приготовила по распоряжению Луклопа легкую дозу целебной настойки и сейчас устанавливала бокалы на листьях Виктории Регии.
Услышав утром, что в этот день состоится распределение квартир, Оскар ужасно разволновался. Родившиеся в результате долгих раздумий мотивировки, призванные убедить остальных в его неоспоримом праве на квартиру, вылетели из головы. Оскара охватило смятение, он с испугом заметил, что его руки дрожат настолько, что он даже не в состоянии пользоваться гильотиной для писем. В поисках облегчения от сдавившего сердце тяжелого чувства Оскар открыл нижний ящик стола и начал в упор разглядывать карамельного петуха, которого он так и не передал Ирис, потому что ни одно из проведенных вместе мгновений не было достаточно торжественным. Карамельный петух по-прежнему лежал нетронутым на дне ящика, только краски его, казалось, немного потускнели. То ли в этом было виновато яркое весеннее солнце, то ли сам он выгорел, приняв какой-то буроватый оттенок — Оскар не мог понять. Не дав этому обстоятельству смутить себя, он гипнотизирующим взглядом смотрел на петуха, а затем вполголоса, как заклинание, произнес:
— Пойдем со мной, пойдем со мной!
Будто вместо петуха в ящике лежала Ирис.
Оскар так и не получил от Ирис определенного ответа — для кого же он должен просить квартиру? Ему казалось, что день распределения еще очень далек. И только сейчас он понял, что напрасно сдерживал свои душевные и физические порывы, надо было действовать гораздо активнее, чтобы окончательно завоевать Ирис.
Оскар пытался заставить себя успокоиться. Он представил себя и Ирис на пороге квартиры, пахнущей свежей краской, стоило сделать шаг, чтобы оказаться в своем собственном, отгороженном стенами, раю. Вдвоем, только вдвоем, рай не терпит квартирантов, однажды змея уже испортила сладкую жизнь Адама и Евы.
Все еще не в силах унять дрожь в руках, Оскар проглотил несколько успокоительных таблеток и некоторое время держал руки в открытом ящике стола. Задвинув животом ящик, Оскар ощутил боль в пальцах, и это помогло ему упорядочить свои мысли и справиться с нервами.
Сейчас, расставив ноги, Оскар уверенно стоял в теплой грязи. Локтями он опирался на подъехавший к нему на рельсах столик, в уголке рта у него была зажата сигарета, зажженная от лазерной зажигалки. Оскар почувствовал на своем лице подходящее к данному событию выражение пай-мальчика и подумал, что сумеет постоять за себя и Ирис.
Полному жизненных сил человеку, создающему новую семью, нужна была квартира. Просто и ясно. До сих пор он не прибегал к помощи общественности. Жилплощадь, оставшаяся от родителей Агне, в свое время сняла этот вопрос с повестки дня. Правда, в этой старомодной квартире отсутствовали современные удобства. Раньше у Оскара не раз возникала мысль ходатайствовать о лучшей квартире, но Агне с негодованием отвергла эту мысль и этим отбила у Оскара всякую охоту действовать. Она с пеной у рта говорила о широко распространенных иждивенческих настроениях — настоящий человек сам должен заботиться о крыше над головой, даже если придется во имя этого отказаться от чего-то другого. Она, Агне, предпочитает лично приложить руки, нежели попрошайничать и разводить интриги. От всех этих ее сентенций пахло молоком матери.
Но в настоящий момент Агне не имела никакого касательства к этому делу. Пусть себе преспокойно остается в квартире, унаследованной от родителей, пусть топит печь, надев на руки перчатки, и пусть перед Ивановым днем ищет человека, который починил бы и покрасил крышу. Оскара не должно это больше тревожить.
Кто знает, куда бы завели Оскара его мысли, если б Луклоп не открыл собрания.
— Нам надо распределить квартиру из трех комнат с подсобными помещениями, имеющую более или менее все удобства.
— Какие удобства? — взволнованно крикнул кто-то, кажется, Армильда Кассин. Впрочем, голоса Армильды Кассин и Анны-Лийзы Артман легко можно было спутать.
Луклоп перечислил обычные удобства, такие, как ванну, мусоропровод, плиту-автомат, холодильник глубокого охлаждения и прочее, и, сделав небольшую паузу, закончил:
— В квартире также имеется транзисторный пылесос, который в народе называют пылесосом-собакой. Все стены раздвижные, так что при желании можно сделать из комнат зал. В капитальные стены вмонтирован широкоэкранный телевизор и стереофонический магнитофон. Достаточно нажать на соответствующую кнопку — и с потолка спускается алюминиевый экран. Для утренней гимнастики в ванной комнате установлены эспандеры для ног, рук и шеи. В потолок как будто должен быть вмонтирован генератор запахов, который вместе с кондиционированным воздухом создает — в зависимости от того, какую программу выберешь, — атмосферу либо соснового леса, либо розария, либо свежескошенного луга.
Женщины ахнули. Мужчины зашлепали по грязи, выражая таким образом бурливший в них восторг. Пярт Тийвель раскачивал свой стол. Он-то, конечно, на квартиру не претендует, подумал Оскар, подсчитывая про себя возможных соперников.
— Собственно, сколько у нас претендентов на квартиру? — осведомился Луклоп.
В первую минуту начальник УУМ'а не решился поднять глаза. Кто знает, чего он ждал. Может быть, надеялся, что люди окажутся трезвыми реалистами и не будут тратить время на пустые притязания, поскольку перспективы на получение жилплощади были мизерные.
Весь основной костяк УУМ'а поднял руки. Остальные работники, выполняющие менее важную работу и имеющие незначительный стаж, не решились, за исключением Яана Темпеля, выступить в качестве соискателей и заявить свои претензии.
Луклоп разглядывал грязь в бассейне, предоставив людям самим оценить ситуацию. Пока начальник УУМ'а медлил, опустилось три руки. Честь принадлежать к числу самых скромных людей завоевали Анна-Лийза Артман, Пярт Тийвель и Ээбен.
Таким образом, напряженная пауза уменьшила количество конкурентов на три человека. Остались Армильда Кассин, Тийна Арникас, разумеется, Оскар, а также Яан Темпель и завхоз.
То обстоятельство, что и Пярт Тийвель опустил руку, очень воодушевило Оскара. Вернее, его охватило злорадное чувство, так как отказ Пярта Тийвеля от квартиры свидетельствовал о его неспособности к борьбе. Не может быть, чтобы он не хотел для Ирис лучшей квартиры. Возможно, его уверенность в себе пошатнулась, раз он так быстро отступил.
Дольше всех держал руку Оскар.
Сделав глоток смягчающего горло напитка, Луклоп попросил работников УУМ'а перегруппироваться. По одну сторону бассейна сели те, кто не претендовал на квартиру, по другую — борющаяся, как назвал ее Ээбен, пятерка.
Первым решили выслушать завхоза, которая сидела с краю.
Заняв место последним, Оскар с удовлетворением отметил, что ему придется говорить в конце. Успеет выслушать выступления и аргументацию товарищей и собраться с мыслями. К тому же он отлично помнил результаты конкурса в УУМ'е, когда именно Мадис Кээгель, чье письмо разбиралось практически последним, вышел в победители.
— Квартира у меня большая, на площадь не жалуюсь, — решительно начала завхоз, — но зимой в углах полно инея, а с порога приходится топором срубать лед. Я не в силах содержать эту квартиру. У меня две дочки, учатся в университете. Нам очень пригодилась бы трехкомнатная квартира, когда они вернутся домой.
— Как же, вернутся, замуж выйдут, — выкрикнула Тийна Арникас.
— Не выйдут, — заверила завхоз. — Слишком хорошо помнят своего отца.
— Прошу не перебивать выступающего, — смотря в сторону и покашливая, произнес Луклоп.
— Все? — спросил Пярт Тийвель, который протоколировал выступления, держа лист бумаги прямо на колене.
Встала Армильда Кассин. Завхоз говорила сидя, начальник же второго отдела выступила, как перед судом.
— Уважаемые коллеги! У меня трое маленьких детей. Двое ходят в школу, самый младший еще нет. Муж зарабатывает тем, что пишет музыку, поэтому мне приходится терпеть в квартире рояль. Чтобы мне не сказали, дескать, пусть о квартире заботится муж, спешу заверить, что мой супруг ни к какой организации или учреждению не принадлежит. Он выполняет случайные заказы и пишет конкретную музыку для рекламного центра. Недавно он закончил вальс, рекламирующий полотеры. Может быть, слышали? Вот так. Далее я хочу сказать… — Армильда Кассин беспомощно оглянулась вокруг, заметила на лицах людей, сидящих по другую сторону бассейна, выражение вежливого безразличия, и уголки ее рта стали нервно подергиваться. — Представьте себе, — торопливо продолжала она, — самый младший из детей отказывается пользоваться туалетом, который находится в общем коридоре. Без конца таскает свой горшок на середину комнаты, где имеется кусочек свободного пространства. Наш единственный стол завален детскими книгами и тетрадями. Поэтому дети едят под роялем. Они берут в руки миску и, сидя на полу, съедают свою порцию. Дети у нас очень активные. Старший строит модели самолетов и мастерит воздушных змеев, и они висят в комнате под потолком. По ночам я — как аэродром, вечно на меня садится какой-нибудь самолет. Знаете, как это страшно — просыпаешься, быстро зажигаешь ночник, а на тебя в упор смотрит морда змея. Кроме того, у моего мужа дурная привычка петь во сне. Нам совершенно необходима еще одна комната, чтобы отделить его вместе со всей его дневной и ночной музыкой. У среднего ребенка врожденный порок сердца, он должен ежедневно заниматься физкультурой. Между моделями самолетов мы закрепили кольца, и он постоянно висит на них. Когда он начинает раскачиваться, то ногами смахивает отовсюду вещи.
На этот раз Армильда Кассин увидела вокруг себя заинтересованные лица. Начальник второго отдела рассмеялась. Ей стало легче от того, что ее история дошла до сердца слушателей.
— Все? — спросил Пярт Тийвель.
— Еще чуть-чуть, — смущенно пробормотала Армильда Кассин и медленно села. — Теперь немного о себе. Я всегда мечтала иметь кресло. Сейчас мне его некуда ставить. А ведь я тоже человек! — После паузы и глубокого выдоха она страстно воскликнула — Представьте себе, у меня никогда в жизни, с самого детства, не было квартиры с кондиционированным воздухом! А пылесос-собака? Как бы он облегчил нелегкую жизнь работающей матери! Только включишь его, и он сам пойдет вылизывать комнаты. По всем углам пройдет, соберет пыль из-под кровати, вокруг ножек стола. Не грохочет, ни на что не натыкается. Если сможет удержать детей на месте, то и их почистит.
О пылесосе-собаке Армильда Кассин говорила с такой нежностью, с какой люди рассказывают о любимом животном.
Анна-Лийза Артман громко вздохнула.
— Труд моей жизни оказался бессмысленным, — с грустью сказала уборщица.
В зале грязевой культуры УУМ'а воцарилось напряженное молчание.
Оскар почувствовал какой-то странный укол в сердце. Ему хотелось крикнуть: время, остановись! Ведь еще совсем недавно претендент на квартиру старался вызвать сочувствие жалобами на то, что он с детства живет без ванны. Теперь говорят уже о пылесосе-собаке и кондиционированном воздухе.
По знаку Луклопа Ээбен включил музыку. Все оживились, встали и, подпрыгивая в такт музыке, начали делать круги по бассейну.
Перерыв кончился.
Слово предоставили Тийне Арникас.
— Я рано осталась сиротой. Меня воспитывали три тети, три сестры. Теперь все они одиноки. Живут кто где, вдали друг от друга. Я бы хотела соединить их и взять к себе. Старые работники УУМ'а знают мою каюту. Туда мои тетушки при всем желании не поместятся. О пылесосе-собаке я уже и не мечтаю. Если получу квартиру, могу уступить эту штуковину Армильде Кассин. У меня тоже есть своя мечта, но это не неодушевленное кресло. Я мечтаю видеть около себя своих тетушек. Они бы так мило и весело щебетали, совсем как воробушки. На огне бы шумел чайник. Утром они бы приходили на кухню, краснощекие, в белых платочках на голове. Стали бы упрашивать меня одеться потеплее, когда холодно, и совать мне в руки зонтик, когда идет дождь.
Глаза у Тийны Арникас заблестели. Она была растрогана своей речью.
Действие успокаивающих таблеток стало проходить. Оскар начал ерзать, не зная, куда девать руки, чтобы они не дрожали. Здесь не было ящика, куда можно было бы сунуть пальцы и причинить себе боль. В голове опять все смешалось. Момент был слишком напряженным, для того чтобы Оскар мог в совершенстве владеть собой. Что мог он противопоставить всем этим людям, добивающимся квартиры?
Последним перед Оскаром говорил Яан Темпель.
У него, разумеется, шансов почти не было, так как одним из наиболее благоприятных факторов, естественно, считался рабочий стаж в УУМ'е. А место швейцара утвердили совсем недавно. Неизвестно, на что надеялся Яан Темпель, когда поднимал руку. Его, правда, не раз хвалили за добросовестность, но и другие претенденты неплохо выполняли свои служебные обязанности. Тем не менее выступление Яана Темпеля выслушали с уважением. Пока он говорил, Тийна Арникас молча двигалась по кругу. Видимо, возможность выговориться принесла ей облегчение, и теперь она с милой улыбкой разносила коктейль «Грук». Эту марку Тийна Арникас выдумала сама, посвятив ее грязевой культуре.
— У меня три сына, они, слава богу, живут отдельно. На всех вместе приходится семь детей. Они тоже все женаты и, слава богу, тоже живут отдельно. Кроме трех молодых семей, которые живут у меня.
— Вы только что сказали — все живут отдельно, так откуда же три? — вставил кто-то вполголоса.
— Все живут, слава богу, отдельно, — повторил Яан Темпель, он же Яан О. Темпельберг, который в своих письмах в УУМ, подписанных этим псевдонимом, никогда не жаловался на плохие жилищные условия. — Да, отдельно, вот только эти три семьи живут в моей квартире. У меня две комнаты. То есть было две комнаты. В одной комнате живет одна семья, у них двое детей. Вторую комнату, побольше, две семьи разделили перегородкой, и в каждой семье, слава богу, по одному ребенку. Мы с женой обитаем на кухне и в передней. Одну ночь в передней спит жена, другую — я. По очереди. Я тоже могу отдать кому-нибудь пылесос-собаку, нам с женой нужны кровать и обеденный стол. Хорошо, если бы нашлось местечко и для пары стульев, могли бы, бог даст, посидеть.
Если до выступления Яана Темпеля Оскар думал, что тягаться с такими нуждающимися безнадежно, то теперь трезвый внутренний голос в нем заглох. К тому же перед глазами удивительно ясно встал образ Ирис, и это решило все.
Оскар вскочил, схватил сигарету и побежал мимо бассейнов с водой и сушильных машин прямо к лазерной зажигалке. За ним по полу отпечатывались грязевые следы, но Оскар не обратил на это постыдное обстоятельство ни малейшего внимания. Главное — он наконец-то сможет прижать лицо к защитному стеклу зажигалки. Сигарета дрожала у него во рту, но лазерный луч все же попал в цель: огненный шар от газовой вспышки, и первая глубокая затяжка. Оскар побежал обратно на свое место, но не сел, а остался стоять, полусогнувшись, одной рукой опираясь о край бассейна, а в другой держа сигарету. Затем медленно начал распрямляться, и было такое впечатление, что он рухнет прежде чем встанет во весь рост.
— Дайте любви кров! — воскликнул Оскар.
Он не собирался садиться, но его зад непроизвольно коснулся края бассейна. Еще минута, и он соберется с силами и продолжит. Удивленные сослуживцы с жадным интересом ждали его дальнейших слов. Оскар сделал несколько затяжек и открыл рот, чтобы проаргументировать свой выкрик. Почему-то он не слышал своих слов, которые диктовал ему мозг. Может быть, коктейль «Грук» парализовал его голосовые связки? Последний раз Оскар потерял дар речи в каком-то из начальных классов, когда неожиданно вошел инспектор, и его вызвали отвечать. Разумеется, у Оскара не могло возникнуть сейчас никакой ассоциации с тем случаем. Он просто не слышал собственного голоса, его пухлые губы так одеревенели, что сигарета едва держалась во рту.
Оскар попробовал еще раз что-то сказать, но тщетно. Взмокший от напряжения, он едва смог поднять руку, но она тут же бессильно упала.
— У Оскара замечательная жена, — словно порываясь помочь ему, произнес кто-то.
— И славная взрослая дочь, — раздалось в другом конце бассейна.
— У них просторная квартира в хорошем районе, — добавил чей-то авторитетный голос.
— Он зря претендует на квартиру, — осмелился кто-то громко высказать общее мнение.
25
скар сидел в своем кабинете, собираясь с силами, чтобы привести в действие гильотину для открывания конвертов и приступить к делу. Почта сегодня снова была обильной, и он озабоченно поглядывал на груду писем, которые предстояло прочесть и рассортировать.
Ощущение, что сил становится все меньше, не покидало его в последнее время. Конечно, это могло было быть вызвано весенней усталостью. Но несомненно большую роль тут сыграла потеря речи на собрании по распределению квартиры, заставившая его усомниться в себе и стать более осторожным. Раньше, в свободную минуту, Оскар с удовольствием ходил из кабинета в кабинет и болтал с сослуживцами о всякой всячине. Теперь он избегал людей и держался в стороне. Когда кто-нибудь заглядывал к нему в дверь, он делал вид, что погружен в работу.
Разумеется, неудача с квартирой удручала не одного Оскара. Это же обстоятельство, а возможно, и весенняя усталость угнетали и остальных. Яан Темпель стоял у своих дверей поникший, и если кто-то справлялся о его самочувствии, отвечал одно и то же:
— Слава богу, еще жив пока и не помру раньше, чем получу квартиру.
Завхоз после собрания перестала красить губы. Разнося чашки с кофе и таблетки, она отворачивала в сторону свое бледное лицо, словно изучала стенку или оценивала состояние мебели.
По слухам, Тийна Арникас устраивала в своей каюте сногсшибательные вечеринки, даже Луклоп бывал на них, так по крайней мере шепотом рассказывалось в коридорах УУМ'а. Разговоры эти, видимо, имели под собой почву, так как веки Тийны Арникас, когда она приходила на работу, были слегка покрыты светлой тенью, чтобы не было заметно, как запали глаза. Всячески пытаясь поднять свое настроение, она в последнее время, по примеру составительницы букваря из Андорры, некогда посетившей УУМ, начала носить носовые расширители. В разгар моды на них промышленность выпускала расширители в весьма ограниченном количестве, теперь же они, любых фасонов и размеров, валялись на всех прилавках.
Армильда Кассин после получения ордера на квартиру, часто отпрашивалась с работы. То ли ей было трудно вынести завистливые взгляды, то ли у нее было много дел по оборудованию новой квартиры — никто этого не знал, в последнее время начальник второго отдела стала на редкость немногословной.
На собрании все претенденты — кто в большей, кто в меньшей степени — рассказали о своих горестях и заботах и теперь чувствовали себя неловко. Оскар неоднократно вспоминал, как испугалась Ирис, когда ей почудилось, что о ней слишком много знают. И она не была исключением. Почти все убедились, что чрезмерная откровенность, вызванная умилением, отчаянием или алкоголем, выходила потом боком. Страх показаться смешным и стать объектом пересудов порождал хроническое душевное похмелье, которое при встрече с людьми, кому ты излил душу, усугублялось, точно застарелый болезненный процесс.
Открывая конверты, Оскар никак не мог отделаться от своих беспорядочных мыслей. Время от времени на языке вертелось мучительное имя: Ирис. Сердце давила какая-то неясная тяжесть.
Скользнув взглядом по очередному письму, Оскар положил его в соответствующий ящик. Сегодня письма были самыми обычными — один жаловался по поводу неотремонтированной крыши, другой возмущался шумом и вибрацией, третий ворчал, что подниматься и спускаться по лестнице с детской коляской сущее наказание. Большинство же посланий начиналось, как обычно, словами: «Мне не с кем поделиться своими горестями…»
Оскар улыбнулся. Как давно это было, еще во времена Рээзуса, когда в УУМ пришел электрик-изобретатель и, показав чертежи детской коляски на трех колесах, предсказал большое будущее своему изобретению. Оскар был совершенно уверен, что решение проблемы коляски ничуть не уменьшит количество недовольных. В один прекрасный день женщины, например, поймут, что трудна не транспортировка детей вверх и вниз по лестнице, а роды, которые являются крайне вредными и губительными для здоровья. Вполне возможно, что скоро они настойчиво потребуют инкубаторы для выращивания младенцев. Тем более что эта проблема отнюдь не нова — она периодически вновь и вновь возникала в мировой печати. И так далее и тому подобное. Это называется прогрессом, с иронией подумал Оскар. Заманчивая система инкубаторов поведет за собой ученых, и спутником искусственного выращивания оплодотворенного семени неизбежно станет племенная работа, успехи генетики уже сейчас многообещающи. И вот вместо обычных людей земной шар населяют хорошо развитые, красивые и суперздоровые граждане. Эти новопоселенцы действуют рационально во имя все растущего прогресса. У них не бывает минут слабости, душевных терзаний, отчаяния, их душу не засоряет и никакой иной эмоциональный хлам, который в настоящее время наносит вред отдельной личности и тормозит общее движение вперед. Они не нуждаются в духовной близости, так как поддержку и понимание ищут те, кто в чем-то сомневается или напуган жизнью. Новопоселенцы ограничиваются физической любовью, ибо это необходимо для безупречного функционирования организма. Они сохраняются молодыми и живут бесконечно долго.
Внезапно Оскар заинтересовался, действительно ли средняя продолжительность человеческой жизни выросла за последнее столетие. Он прикидывал и так и сяк и пришел к выводу, что все осталось, примерно, на том же уровне. Современные войны с их неисчислимыми жертвами отняли у целых поколений в общей сложности миллионы лет и триллионы дней. Не меньше, наверное, отняли чума и другие эпидемии. Войны, которые велись когда-то врукопашную, с мечами, поднятыми над головами ржущих лошадей, сводили в могилу относительно немногих.
Оскар пытался отогнать от себя сумбурные мысли и положил под гильотину очередное письмо.
В нем опять говорилось о невыносимом одиночестве. Оскар собирался привычным жестом опустить письмо в красный ящик, но тут его внимание привлекла подпись: Лирика.
Зазвонил телефон.
Оскар, держа письмо в правой руке, левой неторопливо поднял трубку.
— Ты должен сейчас же, немедленно, прийти домой, — всхлипывая, произнесла Керту.
— Что случилось? — испугался Оскар.
— Бы-ыстрее, — икнула Керту и повесила трубку.
У Оскара забилось сердце.
Письмо в его руке казалось лишним, и он забыл, в какой ящик его надо было положить. Вскочив, Оскар привычным движением убрал стол. Письмо, прочитанное последним, как бы повисло в воздухе. Оно уже не лежало в конверте, но еще и не попало в ящик.
Скомкав письмо, подписанное Лирикой, Оскар сунул его в карман.
Если б голос Керту не звучал так взволнованно, Оскар испытал бы удовольствие от быстрой езды с Ээбеном. Выкрашенный под божью коровку, лимузин беззвучно глотал километры.
Оскар вспомнил, как во время войны, добираясь до деревни, он двенадцать часов подряд ехал на открытой платформе. В тот февральский день шел дождь, а затем подморозило. Одежда Оскара покрылась ледяной коркой, при каждом движении он отчетливо слышал треск ломающегося льда. Когда на одной из станций он побежал в помещение вокзала погреться и приложил руки в рукавицах к раскаленной печке, облако пара поднялось до самого потолка.
Ээбен включил радио. В передаче для домохозяек как раз обсуждался вопрос — какой формы льдом пользоваться при сервировке коктейлей: в виде шариков, кусочков, палочек или же звездочек.
Керту ничком лежала на диване. Она подняла навстречу входящему в комнату Оскару заплаканное лицо.
Благодарение небу, на вид девочка казалась здоровой, Агне была на работе, дом не горел.
— Я не могу из-за каждой твоей истерики убегать с работы, — устало сказал Оскар.
— Тармо уходит, — прошептала Керту.
— Все мы куда-то уходим, все мы откуда-то приходим, — веско ответил Оскар.
— Его забирают в армию. Сегодня уезжает поездом, — объявила Керту и снова заревела.
— Позвонила бы матери, поплакала бы у нее на груди, — заметил Оскар и почувствовал предельную усталость.
— Ты должен что-то предпринять, — жалобно протянула Керту.
— Разбирайся сама со своими парнями, — бросил Оскар. Он пожалел, что отпустил Ээбена.
— Какой ты глупый, — вздохнула Керту, перевернулась на спину и скрестила руки под затылком. — Ведь во всем виноват ты. А теперь умываешь руки.
— Разумеется. В наше время детей тащат на аркане в институты, в наше время папочки должны за парней свататься к девчонкам. А нам было стыдно, если мать водила нас за ручку в первый класс.
— Ты говоришь, как настоящий склеротик.
— А ты так несамостоятельна, что должна просить помощи у склеротика, — укоризненно произнес Оскар. Невольно он подумал — все ли у него в порядке с головой. Раньше он легко мог обратить в шутку любой серьезный или недоброжелательный разговор.
— Когда я, во имя душевного спокойствия матери, начала встречаться с этим Тийвелем, Тармо стал в свою очередь следить за нами. Тогда мне это было смешно. А потом он взял да и бросил школу. Я, конечно, не уверена — только ли из-за этой истории он выкинул такой номер. Во всяком случае, он ушел. Я получила от него два дерзких письма. Разозлилась. Разумеется, я не стала объяснять ему, что вынуждена была ходить с этим Тийвелем по твоей милости. Напротив, мне даже казалось, что легкие муки ревности пойдут ему на пользу.
Оскар рассмеялся.
— Как рано женщины становятся расчетливыми и злыми!
— С такими, как вы, иначе нельзя, — серьезно ответила Керту.
— До чего же ты опытна в житейских делах, — насмешливо произнес Оскар.
— Ты слишком долго злоупотреблял терпением матери. Думаешь, мне было приятно видеть, как люди шушукаются о моем отце.
— По-твоему, я должен жить, как заключенный?
— Уходил бы тогда! — в сердцах бросила Керту, и глаза ее снова наполнились слезами.
— Тебе просто говорить, — примирительно пробормотал Оскар.
— Ладно, — сказала Керту, вскакивая и вытирая глаза. — Сейчас пойдешь со мной и все расскажешь Тармо. — Лицо Керту пошло красными пятнами, она с воинственным видом сунула руки в карманы. — Я люблю его. Ты вообще можешь представить себе, что такое любовь?
Оскар весь сжался на стуле. Ему казалось, что Керту сейчас, как тигрица, кинется на него.
— Ты несколько легкомысленно бросаешься большими словами.
— Зато у меня серьезный и рассудительный отец, — зло рассмеялась Керту и резким движением откинула с лица волосы.
— Разбирайся с ним сама. Свали все на меня, — полупросительным тоном предложил Оскар.
— Я не могу. Ты должен пойти. Он не будет со мной разговаривать. И потом, неужели ты думаешь, что так просто просить прощение? Особенно когда ты не виноват.
Оскар пошел вместе с Керту. Дочь бежала впереди, отец едва поспевал за ней.
У места сбора, перед закрытыми воротами, толпился народ. Девчонки, модно подстриженные под мальчика, с торчащими на шее галстуками бабочкой, яростно протискивались вперед. У всех у них в носу были расширители. Оскар украдкой взглянул на раскрасневшуюся от волнения Керту и возблагодарил судьбу за то, что его дочь относится к моде более сдержанно. Если Оскар еще был способен оглядываться и различать в толпе отдельные лица и фигуры, то Керту не видела ничего. Она упорно пробивала себе дорогу к закрытым воротам, над которыми висело выцветшее полотнище со словами: добро пожаловать!
Убедившись, что дальше ей не пройти, Керту начала протискиваться назад. Оскар, который оставался на месте, видел, как голова дочери то появлялась, то снова исчезала в толпе. В следующий момент задыхающаяся Керту оказалась рядом с ним. Она потащила его за угол, они миновали какой-то дом и очутились перед длинным и высоким забором. Местами покосившийся, он, казалось, вот-вот упадет. Внезапно невидимая рука швырнула на улицу бутылку, она со звоном упала на асфальт и разбилась. Керту плотно прижалась к забору и попыталась заглянуть в щель. Кроме Керту, здесь были и другие девчонки, — кто в одиночку, кто с подругой. Хихикая, то вдруг становясь серьезными, они пытались установить контакт с теми, кто находился по ту сторону ограды. Один лихой парень влез на дерево и оттуда беседовал со своей подружкой. Мать какого-то призывника, оттеснив девиц, стала просить этого парня передать ее сыну бутылку. Женщина протянула руки вверх, парень нагнулся и в конце концов ему удалось схватить бутылку. Но то ли ладонь была скользкой, то ли по иной причине, бутылка выпала у него из рук и разбилась о край забора, обрызгав красным вином девчонку и женщину.
Оскар продвинулся поближе к ограде. Между теснившимися здесь девчонками как раз появилось свободное местечко. Оскар боялся, что и на него что-нибудь свалится. Керту не замечала отца. Она не переставая следила за тем, что делается во дворе. Интересно, думал Оскар, каким чудом удастся мне вытащить отсюда этого Тармо.
Неизвестный парень с плаксивым лицом шагал по тротуару. Девчонки, как по приказу, оторвались от ограды и окружили его. Оказывается, он перелезал где-то через забор и угодил в яму с золой. Сейчас он отряхивался и, подобно измученному жаждой страннику в пустыне, просил пить.
Керту первой отошла от этого перепачканного золой чучела. В уголках ее губ промелькнула надменная усмешка. Она вновь прижалась к щели — неужели она, действительно, предполагала, что Тармо безошибочно найдет место, где стояла Керту, которую он, собственно, и не мог видеть.
Возможно, Керту надеялась на силу телепатии.
Вскоре она и в самом деле убедилась, что стоять так бессмысленно. Схватив Оскара за руку, она потащила его назад, к воротам. За этот промежуток времени сюда понаехало много машин. Стало тесно, и рейсовый автобус с трудом лавировал между людьми. Большинство провожающих по-прежнему толпилось около ворот, но и поодаль стояли группы и что-то обсуждали.
— Видишь? — Керту дернула Оскара за рукав.
Оскар не знал, на что или на кого ему надо смотреть.
Естественно, он искал взглядом Тармо, хотя парень находился за забором, никакого сомнения в этом не было. Керту еще раз дернула Оскара, прежде чем он понял, на ком ему следует остановить внимание. Под тополем стояла самая обычная девочка, коротко остриженная, с накрашенными губами и галстуком бабочкой под подбородком, в клетчатых, доходящих до половины бедра, сапогах, точь-в-точь таких, какие Агне достала для Керту. В носу у нее тоже были расширители, как и у ее сверстниц.
Оскару опять вспомнилась составительница букваря из Андорры. Теперь, задним числом это было теплое и приятное воспоминание.
— Посмотри, — прошептала Керту и расплакалась.
— Ужасно, — на всякий случай сказал Оскар, хотя та девочка под тополем показалась ему самой обыкновенной. Но лучше, решил Оскар, подыграть дочери и отозваться нелестно о незнакомой девчонке, а то черт их разберет. Появление на горизонте этой девицы странным образом вывело Керту из равновесия.
— Уйдем отсюда, отец, — сквозь всхлипывания сказала Керту.
— Пошли, — с облегчением произнес он. Быстрым шагом они стали удаляться от толпы, изрядно утомившей Оскара.
Всю дорогу Керту плакала. Оскар ей не мешал. Он крепко держал дочь под руку, сквозь слезы она едва ли различала дорогу.
Постепенно настроение Керту начало передаваться и Оскару. Всплыли в памяти всякие неприятности — крупные и мелкие. Мрачные мысли все сильнее овладевали им. Эти мысли снова и снова приводили его к тупику, в который зашли его отношения с Ирис.
У ворот дома Оскару вспомнился один очень давний эпизод. Когда-то они с Агне ездили к морю. Гуляя однажды в субтропическом парке, они увидели, как какой-то человек бил по клюву пеликана, приблизившегося к краю вольера для птиц.
Сейчас Оскару было ничуть не легче, чем в тот раз, когда он увидел, как человек бьет пеликана по клюву.
26
озможно, Агне слышала, как Оскар копошился, и только притворялась, что спит. Как это мило с ее стороны, подумал Оскар, что порой она подчиняет свой взбалмошный характер верной интуиции и ведет себя сносно.
Перед тем, как уйти из дома, Оскар на цыпочках прокрался в столовую. Как он и предполагал, на столе стояли цветы и какие-то пакетики. Агне имела обыкновение уже с вечера готовить подарки новорожденному. Точно так же она делала и для Керту.
Сегодня Оскару не хотелось бы выслушивать поздравления и вместе с Агне и Керту торжественно пить утренний кофе. Он не испытывал к этому ни малейшего желания. Он просто не смог бы с улыбкой смотреть на жену и дочь и выражать свою переливающуюся через край благодарность.
Утро было чудесное. Свежее, солнечное, улицы еще пустынны. Какие-то птички Щебетали, и где-то вдали, точно скворец, свистел паровоз.
Оскар, боявшийся, как бы Агне не проснулась, вдруг успокоился. Он с удовольствием огляделся и глубоко вздохнул. Помимо его воли, настроение улучшилось. Он чувствовал себя моментами почти так же хорошо, как когда бывал с Ирис. Может быть, жизненный тонус повышало сознание, что он находился на пути к Ирис. Он намерен был подождать ее у ресторана «Форум». Немыслимо дольше терпеть разлуку, и без того слишком много дней прошло впустую. В последнее время Оскару казалось, что он отупел, и это вселяло в него тревогу — в таком виде нельзя было предстать перед Ирис. Поэтому его рука не поднималась, чтобы набрать номер ее телефона. Случай тоже ни разу не свел их.
Оскар собирался на несколько дней съездить в соседний город. Он хотел уговорить Ирис поехать с ним. В конце концов могут же они урвать у этого бешено мчащегося времени хоть несколько дней и ночей для себя. Будь потом что будет. Оскару нужно было заручиться согласием Ирис, чтобы взять билеты на ночной поезд.
Полный надежд и ожиданий, Оскар летел, как на крыльях. Дверь за ним, когда он уходил, захлопнулась, в квартире стало тихо. Пусть спят. На самом деле или притворяясь — не все ли ему равно. Человек живет один раз, так пусть он будет как можно независимее от своего окружения.
Оскар шел размашистым упругим шагом. Он наслаждался своей бодростью и уверенностью. Последний срок по-настоящему сблизиться с Ирис. После этого она уже не уйдет от него. Катись тогда к черту эта выделенная УУМ'ом квартира вместе с пылесосом-собакой. В жизни все-таки гораздо важнее что-то иное. И это иное надо беречь. Оно важнее, чем собственное железное здоровье.
К чертям! Нельзя допустить, чтобы досада придавила тебя и превратила в моллюска.
Не так давно, в конце марта, Оскар, возвращаясь домой, решил сделать круг через парк. Снег почти сошел, на земле похрустывали лишь белые кристаллы. Как фирн в горах. На лесной полянке он увидел парней, играющих в футбол. Они стремительно носились взад-вперед, в пылу игры падали так, что снежные зерна сверкающим фонтаном рассыпались в воздухе. Парни вскакивали и снова неслись за мячом. Оскар тогда долго наблюдал за ними и завидовал, что они получают от игры столько удовольствия.
Сегодня утром и он бы погонял мяч вместе с ними.
Спортивный азарт так захватил в тот раз Оскара, что потом он бывал на стадионе, где проходили соревнования по легкой атлетике. Легкость и элегантность прыжков и бега когда-то очень привлекали его, теперь старое увлечение вновь вспыхнуло в нем. Правда, ненадолго. Странное дело, но на стадионе не было ни одного болельщика, трибуны стояли пустые. Даже более того, некоторые скамейки пришли в негодность и обвалились вместе с истлевшим полом. Оскар попробовал сесть, но не нашел места, где бы угрожающий треск не вынуждал его тут же вскочить. Как ни старался Оскар сосредоточить свое внимание на том, что происходит на поле, он не мог отделаться от неприятного чувства. Спортсмены удивленно косились в его сторону, кое-кто улыбался и махал руками, подзывая его к себе. Как будто он, зритель, был выступающим, потому что те, кто на самом деле выступал, смотрели на него.
Ирис однажды сказала, что для ресторана «Форум» заказали железные двери, так как обычные не выдерживали и дня. После того, как он побывал на стадионе, слова Ирис обрели новое значение; действительность еще раз подтверждала, что время стремительно движется вперед. Прежняя азартная толпа на трибунах нашла для себя более интересное поле деятельности.
Уже четверть часа Оскар ходил по улице у ресторана «Форум» и носком туфли подкидывал в воздух камушек. Люди толпились у дверей ресторана, как у заводской проходной. Ирис как-то сказала, что в «Форуме» более пятисот работников. Она, якобы, знала только небольшую часть персонала. Ну и отлично, подумал Оскар, по крайней мере, никто не заподозрит, что он ждет именно Ирис.
А вот и она. Единственная. Неповторимая. Дьявольщина, и она всерьез восприняла предостережение, напечатанное в газетах, и она, как многие другие, стала в последнее время носить на лице прозрачную защитную маску из пластика, закрывающую лицо от скул до шеи. В газетах писали, что с наступлением весны с угрожающей быстротой стал распространяться вирус AZ2, который на долгое время поражает голосовые связки. Лекарств против этой эпидемии не было — рекомендовали защитные маски и лесной воздух.
Оскар пошел навстречу Ирис. Глаза ее казались необыкновенно теплыми и мягко блестели после сна.
— Видишь, — как бы оправдываясь, сказала Ирис из-под своей светло-зеленой маски. — Нас обязали их носить. Каждый день у дверей стоит контроль. Иной раз слежка начинается прямо с автобусной остановки.
Голос Ирис звучал глухо. Оскару приходилось напрягать слух.
— Уедем из этого города, где нас преследует и А, и Z, и 2,— сказал Оскар, держа Ирис за руку.
— Куда?
— Я возьму билеты на ночной поезд.
— Нарву букет незабудок и помчимся в темноту, — засмеялась Ирис, зубы ее за маской казались зелеными.
— Ты поедешь? — Оскар ждал подтверждения.
— Едва ли, — ответила Ирис и посмотрела Оскару прямо в глаза.
— На несколько дней тебя, может, и отпустят с работы. Инспектор здоровья наверняка найдет на твоей перфокарте что-нибудь такое, что позволит ему выписать бюллетень, — торопливо сказал Оскар, порываясь найти более простой выход в борьбе с мелкими бытовыми препятствиями.
— Нет, — улыбнулась Ирис, чувствуя неловкость, — ей было неприятно, что они разговаривают обиняком.
— Что тебе мешает? — громким шепотом спросил Оскар и весь напрягся.
Ирис взяла Оскара за руку и отвела его в сторону. Она остановилась у железной решетки, защищавшей ствол векового дерева.
— Я не знаю, с чего начать, чтобы все объяснить тебе, — пробормотала Ирис. — Возможно, я не справедлива, но мне кажется, что мы живем в разных плоскостях. Я боюсь, что ты меня не понимаешь.
Это звучало оскорбительно. Оскар хотел было сыронизировать по поводу плохой деятельности своего мозга, однако промолчал.
— Кто знает, может быть, дело во мне. Вдруг моя психика сошла с нормального пути. Я ничего не могу с собой поделать, но меня преследуют какие-то навязчивые представления, которые удерживают меня от подобных шагов. Хотя в тебе и в твоем предложении есть что-то заманчивое.
— Что-то заманчивое, — убитым голосом повторил Оскар. Он хотел крикнуть: я люблю тебя, и в подтверждение своих слов встряхнуть Ирис, чтобы она пробудилась и поняла наконец то большое и неповторимое, чем были наполнены слова Оскара.
Страх показаться смешным удержал его от внезапного порыва.
— Видишь ли, — колеблясь, продолжала Ирис, — изо дня в день я наблюдаю в «Форуме» за одной и той же непонятной картиной. Многочисленный homo sapiens сидит в зале, ест, пьет и смотрит, как другой представитель той же разновидности под музыку раздевается на сцене. Бывают и другие вариации. Однажды вечером двое девиц в зале зверски подрались из-за какого-то парня. Они вынули из сумочек кастеты и колотили друг друга до тех пор, пока их не разняли.
— Крайности, — вставил Оскар.
— Я так не считаю. Скорее условные рефлексы времени. Чувствую себя чужеродным телом в этом сумасшествии. Все во мне восстает!
— Зачем вообще обращать внимание на то, что творится вокруг?
— К сожалению, мы не затворники, — пожала плечами Ирис. — День за днем эта реальность, считающаяся нормальной и незыблемой, впитывается и в нас. Мы начинаем думать, что именно так оно и должно быть. Когда-нибудь дойдем до того, что стыдясь своей старомодности, поспешим утратить индивидуальность. Надо быть начеку, чтоб не попасть в общий поток. Это не легко, так как приятнее скользить по широкой и гладкой дороге стандартных отношений. Серьезные проблемы времени вращаются где-то на самых отдаленных орбитах, и мозговые клеточки нуждаются в усилителях, чтобы понять эти проблемы и проникнуть в их суть. Уж лучше будем тогда лелеять свое серое вещество на пуховых перинах чувственности и восхищаться при этом безупречной работой своего пищеварения.
Оскар открыл было рот, но не проронил ни звука.
Ирис засмеялась. Она подняла маску на лоб, теперь ее глаза стали таинственно зелеными, но губы обрели естественную окраску, и слова уже не звучали глухо.
— Хочешь сказать, что я нахожусь между двух огней. До проблем не доросла, а от удовольствий жизни отказываюсь с пуританской ограниченностью, — насмешливо произнесла Ирис.
— Нет, я хотел сказать, что протест путем умерщвления собственных чувств так же бессмысленен, как и крик в вакууме.
— Пусть будет так. Знаешь, я ясно представляю себе, как мы проведем ночь в гостинице соседнего города. Выберем какой-нибудь подходящий образец из фильма или мысленно перелистаем прочитанную книгу и отыщем там подходящий вариант. Затем постараемся быть чуть-чуть более безумными, чтобы индивидуализировать увиденное и прочитанное. Результат зависит от нашего актерского дарования. Но такого рода сцены столь прочно закодированы в нашем мозгу многочисленными примерами, что едва ли мы сможем превзойти их.
Ирис на мгновение умолкла.
— Последует небольшое разочарование. Никому не хочется признавать свою бездарность. Затем начинают искать новую возможность в надежде обрести себя в обществе другого партнера, чтобы еще раз проиграть на шарманке старую мелодию.
— То, что ты говоришь, ужасно.
Ирис пожала плечами. Она осторожно оперлась рукой в красной перчатке о решетку, опоясывающую старое дерево, стараясь, чтобы незащищенное место ладони не коснулось холодного металла.
Оскар хотел спросить у Ирис, зачем она напрасно обольщала его, но, побоявшись снова сказать не то, промолчал. Мгновением позже лицо его вспыхнуло — он понял, насколько банально и смехотворно прозвучал бы его вопрос. Как будто он относился к неповторимым минутам, проведенным с Ирис, как к потерянному времени. Именно так, как сказала Ирис: homo sapiens хочет сидеть, есть, пить и смотреть, как другой представитель той же разновидности раздевается. Кулисы его не интересуют. У него нет ни желания, ни времени проникнуть за них.
— Постараемся все-таки забыть эти условные рефлексы времени, — сказал Оскар, измученный словами Ирис и своими мыслями.
Невозможно было представить, что через мгновение Ирис уйдет, железная дверь «Форума» распахнется и поглотит ее.
— Я верю, — мягко сказала Ирис, — я почти верю, что твое отношение ко мне в какой-то степени необычно для нашего времени. К сожалению, из всего этого ничего не выйдет. Мы заранее отравлены тем, что мы знаем.
Время Ирис вышло. Нервно посмотрев на часы, она потащила Оскара к железной двери «Форума».
— У нас установили для опаздывающих зловонную западню. Потом целый день жутко пахнешь. Все боятся как огня этого ящика с пульверизатором, который висит на стене. Стоит только опоздать, как эта штуковина начинает брызгать в тебя зловонной жидкостью. А обойти этот ящик никак нельзя.
Когда они подошли к входу, железная дверь с глазками раздвинулась. У Ирис уже не было времени сказать Оскару еще что-то. Она махнула ему рукой и поспешно рванула вниз забытую на лбу зеленую пластиковую маску. Оскар инстинктивно хотел последовать за ней, но половинки железной двери с легким шорохом сомкнулись перед самым его носом. Оскар попытался заглянуть в один из глазков, но ничего не увидел. Вероятно, в них были вставлены толстые оптические стекла.
27
скар едва держался на ногах, когда через несколько часов добрался до своего кабинета в УУМ'е.
Рассеянно копаясь в груде писем, он стал по цвету сортировать конверты, идущие под гильотину. Жалобы и заявления были неинтересными. Из пачки синих конвертов он попробовал построить карточный домик. Чтобы его сооружение не рухнуло, он подбирал конверты по размерам, и вскоре три этажа были готовы. Оскар дунул на карточный домик, но тот устоял против ветра. Когда Оскар принялся размахивать газетой, имитируя бурю, зазвонил телефон: Ирис?
Оскар потянулся к трубке, и конверты рассыпались по столу и полу.
— Оскар, образумься, — умоляюще произнесла Агне, ее голос звучал как из-под земли.
— Ты что, уже в преисподней? — с издевкой спросил Оскар. Собственные слова показались ему чрезвычайно остроумными.
Агне не рассмеялась.
— Вечером придут гости, — сказала она робко.
— Хорошо, — нехотя промямлил Оскар и повесил трубку.
Ему стало жаль Агне, которая старалась, чтобы их совместная жизнь хоть внешне оставляла хорошее впечатление. А может быть, Агне все еще любит его? Оскар должен был признаться себе, что такая мысль давно не приходила ему в голову. «Оскар, образумься», — повторил он про себя слова Агне.
Когда он полез в карман за сигаретой, рука его коснулась какой-то измятой бумажки. Ах да, это же письмо неизвестной женщины, жалующейся на свое одиночество, которую родители наградили таким странным именем. Оскар разгладил письмо, занес адрес Лирики в записную книжку и положил послание, как и следовало, в красный ящик. По всей вероятности, Тийна Арникас будет ворчать, когда обнаружит старое письмо в пачке свежих. Пусть! — Оскар махнул рукой. Ему было лень идти в архив, чтобы потихоньку положить письмо на нужную полку.
Оскара стал одолевать сон. Он встал из-за стола и пересел в кресло. Через мгновение он задремал и ему стали сниться сны. По берегу озера, сплошь заросшего водорослями, прыгал карамельный петух. На зеленом водном покрове не было ни одного просвета. Пошел густой снег. Какая-то женщина брела по сугробам, ее красные лакированные каблуки поблескивали. Один сугроб осел. Отряхивая снег, появилась Ирис, обхватив за шею страшного кабана. Затем Оскар увидел себя — на негнущихся ногах он ковылял за Керту, девочка катила перед собой старую детскую коляску. Он захотел взять из коляски ребенка, но рука его наткнулась под одеялом на саксофон.
Оскар проснулся с головной болью. Снова пересев за стол, он привел в порядок письма, настроил гильотину на рабочий лад и нажал кнопку звонка. С дымящейся чашкой кофе вошла завхоз. Оскар получил от нее редкую таблетку, снимавшую депрессию. Правда, ему пришлось расписаться в толстой книге учета мелких расходов. До Оскара такая же таблетка была вручена Пярту Тийвелю.
Новый транквилизатор подействовал отлично, и Оскар сосредоточенно проработал до конца рабочего дня.
Вечером, проходя через каминную, он увидел там всех сотрудников УУМ'а. Тут он снова вспомнил о своем дне рождения. Растерявшись, Оскар хотел исчезнуть за занавеской, но было уже поздно. Уумовцы приветствовали начальника третьего отдела громким ура и аплодисментами. Они выстроились гуськом, чтобы, проходя мимо новорожденного, пожать ему руку. Оскару пришлось отдать должное Пярту Тийвелю — он тоже находился в каминной и, проникновенно глядя Оскару в глаза и пожимая руку, улыбался как все. Значит, и на него подействовала таблетка, догадался Оскар. Очевидно все подняли свое настроение таблетками, так как Оскар давно не замечал в каминной УУМ'а такого оживления и взрывов смеха.
К Оскару подошли Гарик Луклоп и Тийна Арникас. Последняя протянула ему несколько искусственных страусовых перьев. В последнее время считалось особенно изысканным дарить в торжественных случаях вместо цветов искусственные перья. Луклоп протянул Оскару кроме того и полосатую картонную коробку, крышку которой украшал золоченый фирменный знак ресторана «Форум».
Коробка оказалась невероятно тяжелой, но отнюдь не потому, что Оскар внезапно почувствовал слабость в ногах. Его взволновала смутная надежда найти в коробке с надписью «Форум» маленькую записку от Ирис! Он, который изо дня в день читал бессчетное количество писем, ощутил вдруг отчаянную тоску по записке хотя бы в одну строчку.
Оскар положил тяжелую коробку на середину стола и дрожащими пальцами развязал ленту. Показался огромный торт, сплошь украшенный повторяющимися узорами из крема. Элемент узора напоминал какое-то слово, и Оскар попытался его прочесть. Он разглядывал торт со всех сторон, пока не разобрался. Сверху и по бокам многократно повторялось его имя — Оскар, — выписанное розовым и желтым кремом.
Оскар рассмеялся. Ему вдруг стало невероятно весело, как будто завхоз по случаю дня рождения дала ему дополнительно еще одну таблетку, на этот раз не потребовав росписи в книге.
— Давайте меня есть! — воскликнул Оскар в промежутке между взрывами смеха.
Тийна Арникас принесла в обеих руках огромный, как меч, нож и принялась разрезать торт. Взяв по тарелке с куском торта, уумовцы принялись жевать, расхаживая по просторной каминной. Каминная, действительно, казалась сегодня вместительней, чем обычно. Только сейчас Оскар обнаружил, что стулья висели на крюках вдоль стен.
Заметив удивленный взгляд Оскара, Тийна Арникас подошла к начальнику третьего отдела, мило улыбнулась и прошептала измазанными кремом губами:
— С сегодняшнего дня начинается новый, высший этап игры со стульями. Как только Анна-Лийза Артман прервет музыку, каждый должен будет хватать со стены стул. Я думаю, эта система гораздо забавнее прежней.
В УУМ'е, справлявшем день рождения Оскара, не было недостатка в веселье. Когда процесс поглощения торта прервался, Ээбен включил магнитофон. На ленте была записана модная песенка, которую в последнее время исполняли повсюду:
Качалось солнце, тебя я встретил, Играла радуга под небосводом… —пела певица, и у нее был голос Ирис.
Музыка оборвалась, и все бросились к стене за стульями. Снять их с крюков было целой проблемой, теперь в игре со стульями важны были не только скорость и ловкость, но и сила. Надо сказать, что мужская половина УУМ'а проявила галантность, нарочно медля и тем самым давая женщинам возможность первыми захватить стулья. Оскар заметил, что ему тоже дали фору. Внезапно мелькнула тревожная мысль — уж не считают ли его слабым по сравнению с другими мужчинами, но тут же он понял — никто не хотел даже пустяком портить ему праздничное настроение.
В перерывах между игрой разминались и ели торт. Твердой рукой Тийна Арникас раскладывала его по тарелкам. Внезапно в середине торта сверкнуло что-то красное. Оскар, завороженный, подошел поближе. Еще раз у него мелькнула надежда. Вдруг все-таки где-то внутри прячется записка от Ирис! Больше ничего не надо, только три слова, только три слова: едем ночным поездом.
Древняя фраза «я тебя люблю» уже давно не фиксировалась на бумаге.
Оскар усердно угощал всех, ему не терпелось увидеть, что же скрывается внутри подарка. Как назло Анна-Лийза Артман снова включила магнитофон. Подвижные игры, чередующиеся с едой, прочно вошли в уклад жизни уумовцев еще во времена Рээзуса. Оскар подавил любопытство и как только оборвалась музыка побежал вместе со всеми хватать стул. Внушив себе, что его ждет письмо от Ирис, он уже почти не сомневался, что оно находится в торте.
Настроение у Оскара поднялось, он даже расшалился.
Каждый раз, когда музыка обрывалась, он первым хватал с крюка стул. Прежде чем сесть, перепрыгивал через него и подбадривал себя криком:
— Allez!
Это восклицание безумно веселило сослуживцев Оскара. Они просто корчились от смеха.
Наконец, торта было съедено столько, что Оскар мог добраться до его середины. Он быстро разорвал красный станиоль — под ним виднелись три бутылки шампанского.
— Ур-раа! — радостно закричали собравшиеся. Тийна Арникас достала из-за занавески поднос с бокалами.
Оскар по очереди поднес бутылки к свету и просмотрел у каждой дно и пробку. Записки не было.
Внимательное разглядывание бутылок Оскаром снова рассмешило веселую компанию. Уумовцы тряслись от смеха. Не зря ведь говорят: если у человека хорошее настроение, стоит показать ему палец, и он начнет хохотать до упаду.
Оскар пришел домой невероятно усталый. Агне открыла ему дверь прежде, чем он успел позвонить. Она терпеливо стояла, опустив руки, пока Оскар причесывался, чтобы предстать перед гостями.
Появление Оскара было встречено громкими радостными возгласами.
Поприветствовав новорожденного, все продолжили прерванный разговор. Тема была увлекательной. Мужчины и женщины обсуждали — держать личный вертолет на крыше или лучше все-таки построить для него ангар. Такая новинка, как индивидуальный вертолет, всех очень взбудоражила. Не так давно они поступили в торговую сеть для продажи.
В оживленном разговоре на мгновение возникла пауза — надо было поднять бокалы в честь виновника торжества.
Прежде чем раздался звон бокалов, Оскар услышал далекий паровозный гудок.
Это шел ночной поезд.
1970
ГОНКА Роман
1
клубах дыма мелькают языки пламени, от сильных порывов ветра становятся все прожорливее. В шум врезаются звонкие хлопки и треск. Поднимающиеся вверх раскаленные потоки воздуха все выше и выше увлекают за собой планер, по крайней мере, я надеюсь на это. Стрелка альтиметра мечется туда-сюда, да и вообще на приборном щитке царит полный хаос.
Неужели?
Думаю о катастрофе с каким-то странным ледяным спокойствием. Пытаюсь делать каменное лицо, чтобы чей-то тревожный, молящий о помощи взгляд мог найти в нем точку опоры. Я не знаю — возможно, обшивка крыльев планера уже плавится от жары. И не имею ни малейшего понятия, каким временем я могу еще располагать. Случиться может все. Миг — и яркое пламя охватит планер. Хлопья пепла исчезнут в облаке дыма, и бескрылая стрекоза рухнет вниз.
Черт побери!
Я еще в силах как-то манипулировать штурвалом. Потоки воздуха дьявольски непостоянны. Они унизительно швыряют планер вверх-вниз, словно за моими плечами и нет большого летного опыта. Прямо-таки издеваются, приоткрывая пелену дыма и вырывая оттуда яркие языки пламени. В самом деле, будто язык мне показывают: уматывай подобру-поздорову туда, где властвуют привычные для тебя ветры и ненастье. Здесь король стихии — огонь! Заранее ничего не предугадать. Да и невозможно. Планер с чудовищной скоростью устремляется вверх, он как бы взял старт в стратосферу, на хвосте — реактивный мотор. Тут же на фюзеляж начинает давить непомерный груз, дым сгущается, только что прижатый к земле огненный смерч вновь вздымается и выплескивает в небо столб искр — какое-то мгновение парю среди красных звезд.
Никакая сила не в состоянии была бы усмирить это безбрежное море огня, чтобы остался гореть лишь былой печальный огонек под старой елью, роняющей капли дождя, под которой мальчишка печет картофель.
Потоки воздуха продолжают швырять меня из стороны в сторону. Уносят на крыльях надежды подальше от стихии — не морочу ли я себе голову, уповая на спасение, может, я уже не понимаю ситуации? И тут же пылающие вершины деревьев снова притягивают планер.
Сердце колотится.
Очевидно, у каждого человека бывают в жизни черные дни, когда все обращается против него. Весь мир ополчился против меня, скажет он. Надо же, чтоб еще радио замолчало! Карта, лежащая передо мной, кажется в данный момент филькиной грамотой — попробуй разгляди ориентиры сквозь дым.
Синоптики и диспетчерская служба даже не заикнулись об опасности.
Нелепость.
Если б знал, не полетел. Если б, если б! Человек редко когда заглядывает вперед. Собственно, ему и не хочется быть слишком дальновидным — перед ним тотчас возникают границы и вырастают стены.
Утром, поднявшись в бледное небо, я стал следить за маревом, вызванным засухой, миражи, отражаясь в озерах, как бы создавали вокруг них заводи, на удивление просто менявшие местоположение, со склонов долин в реку соскальзывали стада животных, но не тонули. Деревенские церквушки то перепрыгивали с места на место, то, не подчиняясь земному притяжению, повисали в воздухе.
Мне и в голову не приходило, что эти миражи должны были бы насторожить меня и заставить подумать о возможности самовозгорания лесов. Не говоря уже о том, что я мог оказаться во власти стихии.
Авось все-таки удастся выбраться из опасной зоны?
Приборы вышли из строя, ориентация потеряна — очевидно, я отклонился от трассы.
Ну, что ж, приземлюсь где-нибудь на безупречно подстриженной лужайке, удивлю лениво расхаживающих там игроков в гольф. Они побросают свои клюшки, опаленный огнем планер в разводах сажи станет сенсацией и несомненно привлечет к себе внимание людей. Они протянут мне высокий бокал с шипучим прохладительным напитком, на его пенящейся поверхности будут плавать молочно-белые кусочки льда. Я стану грызть их, так что осколки полетят во все стороны, а затем залпом осушу бокал — дух захватит.
Запасы воды в моем теле, видимо, исчерпаны, и, однако, с меня беспрерывно льет пот, неудивительно, ведь меня поджаривает, как на сковороде. Ладно, от лужайки отказываюсь. Придумаем что-нибудь попроще.
Пусть будут дома, поля, извилистые дороги. Мирные рощи, холмы и равнины. Обыденный пейзаж с почтовой открытки. Я примирюсь и с меньшим, с таким местом, где приземление уподобилось бы головокружительному трюку. Приму все, что ниспошлет мне случай. Железнодорожный узел. Сто пар рельсов, пешеходные мосты, проемы туннелей, прямоугольники перронов, товарные склады, стоянки и кусочек парка с посаженными в ряд деревьями. Главное, чтобы в их вершинах не полыхал огонь.
Не знаю, удастся ли сорвать с рук перчатки? Пальцы распухли. Пока эти «сосиски» еще держат штурвал.
Ладно. Отказываюсь от заманчивого железнодорожного узла со стоянкой и парком. Пусть будет хотя бы нефтеперерабатывающий комплекс. Цистерны, нефтехранилища и трубы, трубы! Немыслимая чащоба труб. Они ползут по земле, забираются в баки и резервуары, проникают через здания, прорастают из крыш, громоздятся по воздуху на опорные вышки, закручиваются вокруг них, тянутся под углом черт знает куда и, описав круг, возвращаются обратно. До боли слепящие заросли труб простираются повсюду.
Может, и там найдется какая-нибудь возможность посадить планер.
Мне бы не хотелось сгинуть в бушующем огне, упасть среди обуглившихся стволов.
Не останется даже костей. Никакого следа.
Опухшими губами бормочу хвалу своему планеру. У этой птицы душа орла. Тело планера — очевидно, оно в ожогах, как и мое, — искорежено, ослабло от встрясок, на месте швов наверняка образовались трещины, их угрожающая сеть норовит расшириться. Уж коли пришла беда — отворяй ворота.
В горле першит, начинается удушливый кашель. Под ложечкой сосредоточилась болевая точка; кажется, будто она превращается в ком. Я вынужден дышать неглубоко и очень спокойно. Становится легче. Нет смысла двигать ногами и размахивать руками, надо сдерживаться и ограничить свою потребность в кислороде. С приступами кашля можно совладать, если на какой-то момент задержать дыхание. Серый дым окутывает планер, глаза не различают даже крыльев. Может быть, я парю над устьем доменной печи? Внизу, в неясной дали, светлое зарево становится карминным. Задираю голову, солнце в зените, но сквозь пропитанный дымом воздух оно кажется бледным — а может, это луна? Тем не менее серый диск обжигает. Я сосуд с потом, который никак не иссякнет.
Сколько дней тому назад я выехал из дому? Не помню. Да и неважно. Во всяком случае, ночью, перед тем как отправиться в путь, я видел во сне Урсулу, она пришла со шприцем и хотела воткнуть в меня иглу, и тут я проснулся. Вскочил с постели, решив, что зазвонил будильник. Черта с два, даже ночь еще не распахнула глаз. Торопиться мне было некуда. Я прислушался к голосам в квартире, стояла глубокая тревожная тишина, словно я оказался изолирован от всего мира. Мысли перенеслись в область недозволенного. Не поезжай, не поезжай, не поезжай — отстукивали по рельсам колеса поезда. Скажи, что ты не в форме. Или что заболел. Пошли этих доброжелателей подальше. Пусть заткнутся и перестанут твердить: тебе надо вырваться из твоего повседневного окружения. Увидишь, тебе станет легче. Как будто рецепт забвения так прост. Я ворочался в постели. Там, в недозволенном, куда перекинулись мои мысли, копошилось множество чертенят. Кто-то тащил меня за одну, кто-то за другую руку. Как бы не разорвали на части. Роберт, подбадривал я себя, врежь им, отколошмать. Но мне недоставало силы воли. А они заладили свое: крупные международные соревнования проводятся так редко! Нельзя подводить остальных! Последний рывок — подливали они масла в огонь, соблазняя меня, — и золотая медаль в кармане! Они принялись накачивать меня, и, как ни противно признаться в этом, меня начало распирать от тщеславия. Одна-единственная победа — как заключительный аккорд! А затем можешь плюнуть на рекорды. Ведь вот какие добренькие! Эти чертенята одолели меня, я почувствовал, что начинаю заикаться. Довольно-таки мучительно — заикаться мысленно.
Таким образом, и мое подсознание, и Урсула предостерегали меня.
Но, очевидно, любое отступление труднее наступления. Вот я и выбрал путь наименьшего сопротивления и отправился на соревнования. Хотя почву из-под ног у меня выбили, да и настроен я был непозволительно пессимистично: готовился, не уронив себя, проиграть.
Беспокоиться за свою жизнь, которой отпущено тебе так мало, казалось чем-то недостойным. Я отнюдь не был связан путами осторожности. Урсула, погибнув, оставила в наследство своему мужу обостренное чувство опасности, которое якобы будет оберегать его долгие годы.
Странно, но я сейчас не ударился в панику. Хотя и парю над смертоносным огнем. Очевидно, такое отклонение от нормы вызвано моей апатией. Дымный воздух заменил мне наркоз.
Я был еще совсем мальчишкой, когда однажды случай обострил мое, безразличное до той поры, отношение к смерти. Я только начал ходить в школу. Помню, мне не терпелось от корки до корки отбарабанить учителю букварь — очевидно, уже и тогда мне свойственно было тщеславие, — однако в нашем классе благородная цель овладения книжной премудростью считалась на первых порах делом второстепенным. Нам без устали вбивали в голову правила дорожного движения. Улица и сумерки, скорость и светофоры, где и когда что переходить. И все же, возвращаясь домой, мы перебегали дорогу, невзирая на потоки машин, и сердце сладко екало, когда где-то поблизости скрежетали тормоза. Правила и запреты оставались для маменькиных сынков. Жизнь в школе чуть-чуть оживилась, когда нам стали рассказывать о бешенстве. Наказывали держаться подальше от бродячих собак и кошек. Говорили о смертельных укусах. Эта не укладывающаяся в нашем сознании, маловероятная возможность почему-то приводила нас в странное возбуждение. На переменах мы хихикали, дразнили девчонок: щелкали зубами и грозились смертельным укусом.
В ту пору мы жили на обветшалой вилле. Некогда изысканное здание дряхлело с какой-то завораживающей последовательностью, словно у дома была злая, склонная к самоуничтожению душа. С карниза сыпались куски штукатурки, от просмолившихся труб один за другим отскакивали кирпичи, фонарные столбы вдоль террасы покосились, и с них слетели и вдребезги разбились последние колпаки, ступеньки наружной лестницы облезли, от водосточных труб и желобов, чуть дунет ветер, отламывались куски — дом и впрямь утратил вкус к жизни. Сад зарос, даже между плитами террасы пробивались побеги березы и рябины. В бывших альпинариях рос разве что тысячелистник, но и на этом невзрачном растении с отталкивающим запахом с самого его появления лежал отпечаток старости.
К обветшалому дому принадлежал еще и большой плавательный бассейн, дугообразные перила из ржавых труб обозначали места, где когда-то по железным лесенкам спускались в воду.
В дни моего детства уже невозможно было определить глубину бассейна. Бетонная ванна давно превратилась в свалку, ниже выложенного каменными плитами края оставался, быть может, метр свободного пространства. Детей тянуло сюда словно магнитом. Мы не испытывали сколько-нибудь значительного интереса к бывшим обитателям виллы и к их дальнейшей судьбе; все, что было до нас, прекрасно умещалось в два расплывчатых слова — смутные времена. Почему-то мы были убеждены, что в те смутные времена, неизвестно почему расшвырявшие людей по белу свету, на дно бассейна были спрятаны интереснейшие вещи. Поначалу я не мог себе представить, что это за вещи. Но, разумеется, нечто гораздо более захватывающее, нежели мусор, который обитатели виллы ежедневно кидали теперь в бассейн. Битую столовую посуду, старые газеты, сухие ветки, консервные банки, обломки железных кроватей, дырявые тазы, прохудившиеся ведра, отжившие свой век кастрюли; весной бассейн закидывали оставшейся от зимы картошкой, она прорастала там и бурно устремлялась вверх — пышная ботва ее питалась ржавой трухой и мусором.
Детям запрещалось прыгать в бетонную ванну. Где еще вокруг дома такой сад, не уступающий по размерам парку и словно созданный для детей, — с довольным видом говорили родители. Однако вместе с мальчишками мы решили при первой же благоприятной возможности раскопать бассейн посередине до самого дна. Один из нас был уверен, что под мусором находится железный люк, который ведет в подземелье. Другой шепотом сообщил, что там хранятся противогазы с хоботами и запаянные жестяные банки с изюмом. Третий бормотал что-то о ракетах для фейерверков, четвертый располагал точными данными, что в тайнике лежит разобранный на части мотоцикл, ожидающий своего нового владельца. Пятый же переплюнул всех. Он ничего не сказал, он только строил многозначительные рожи, чем невероятно разжигал наше любопытство.
В один из хмурых октябрьских дней того первого школьного года, под вечер, я, взяв с собой лопату, отправился в сад и прыгнул в бетонную ванну на пружинящие залежи мусора, чтобы начать раскопки. Лопата была тупая, от дождей ее рукоятка покрылась зеленоватым налетом и наполовину истлела, того и гляди сломается. Да и мусор словно был переплетен проволокой; несмотря на все мои усилия, лопата ни на дюйм не погружалась в него.
Я взмок. Разогнул спину, сдвинул шапку на затылок и заметил на краю бассейна огромную крысу, которая пялилась на меня. Ее усищи топорщились; казалось, она скалит зубы, выжидая момент, чтобы вцепиться мне в лицо. Страх лишил меня рассудка, и первой мыслью, мелькнувшей у меня в голове, когда я оправился от испуга, было: крыса бешеная, сейчас она укусит меня, и я умру. Выйдя из состояния оцепенения, я решил постоять за свою жизнь: поднял лопату над головой, чтобы поразить врага. Но, прежде чем острие ударилось о каменную плиту, крыса, словно нехотя, отпрянула в сторону и снова нагло вытаращилась на меня. Эта крыса стережет сокровища, спрятанные на дне бассейна, подумал я. Она обладает сверхъестественной силой, и у нее ядовитые зубы — в этом нет никакого сомнения. Подавленный собственной беспомощностью, я попятился. Отшвырнул лопату, залежи хлама, подобно пружинящему матрацу, подбросили меня вверх, кинулся в угол бассейна, схватился за ржавые перила и с трудом выбрался наверх. Несколько секунд — и я ощутил под ногами твердую почву. И, однако, мне почудилось, будто погнавшаяся за мной крыса успела, пока я лез наверх, укусить меня за мочку уха. Потом я несколько дней разглядывал свои уши в зеркале, и они казались мне то ли странно розовыми, то ли подозрительно синеватыми, словно вот-вот начнут отваливаться: первый признак того, что я медленно умираю.
Как ни странно, но ресурсы прочности планера все еще не исчерпаны. В этом непрестанном гуле — в моих ушах тоже гудит и шумит — я не слышу скрипа и хруста истерзанного тела планера. Оно и лучше, что я не улавливаю этих звуков, предвещающих гибель. Пусть останется хотя бы крошечный уголок неизвестности; какая-то надежда и возможность спасения все-таки уместятся в нем. Я отдаю себе отчет в том, что гибель людей в молодом возрасте — один из отличительных признаков нашего времени, и, однако, воля к жизни пока еще преобладает во мне над пассивностью и безучастностью. Я все еще манипулирую, чтобы удержать планер в поднимающихся кверху потоках воздуха. Случись мне заскользить вниз, и огонь быстро сделает свое дело — не останется времени даже подумать о том, насколько высока температура в этой объятой пламенем точке.
А может, отказаться от всяческих попыток? Гляди-ка, в клубах дыма появился яркий просвет, там ждет моего появления Урсула. Я почти уже могу дотянуться до нее — посадил бы к себе на колени, — но нет, она открывает дверь в еще более светлое пространство и снова терпеливо ждет меня.
Темная завеса отрезает нас друг от друга.
Побыстрее бы пролететь сквозь это скопление дыма!
Еще раз увидеть Урсулу. Что из того, что она кажется какой-то прозрачной, вот-вот растает, все равно это она. Уже не в первый раз мне приходится втолковывать себе: не гоняйся за химерами, Урсула умерла, ее нет. Странно, сколько двойников появилось у Урсулы после ее смерти. Пока она была жива, она казалась единственной, а после на улицах города я то и дело встречал бесчисленное количество как две капли воды похожих на нее женщин. Редко выдавался день, когда б я невольно не убыстрял шаг — там, впереди, шла Урсула! С бьющимся сердцем я устремлялся ей вслед, но брошенный через плечо недовольный или недоуменный взгляд незнакомки отрезвлял меня. Встречались и такие, кто смотрел на меня благосклонно и обнадеживающе, но их интерес тут же гас. Вероятно, мое лицо выражало разочарование, а может, даже и враждебность.
Навстречу летит ворох листьев, каждый листик как маленький факел. Мир и впрямь полон неожиданностей. Когда эти огненные бабочки исчезают, я понимаю, что мне вновь повезло.
Если я сгину, то в клубе начнется неописуемый переполох. Почтенная организация, которая и раньше устраивала международные соревнования, причем всегда успешно, а тут вдруг такое…
Состояние готовности к смерти внезапно проходит, я с наслаждением представляю себе, какая возникнет кутерьма. Возбужденные лица, телефонные звонки, взаимные обвинения, бестолковая беготня туда-сюда, циничные резонеры устремятся в бар и начнут строить предположения, чья репутация теперь пострадает больше всего. На меня им наплевать, я для них ничто, важен вопросительный знак, стоящий в графе таблицы под моим именем. Сторонников безупречных систем от всего этого бросит в дрожь. Представив себе их подавленное состояние, я неожиданно вижу себя в новом свете и тотчас становлюсь старше и умнее. Я тоже до сих пор верил, что суетня и болтовня признак участливости и стремления действовать, — на самом деле это не что иное, как самообман. Носясь в клубе из комнаты в комнату, они не потушат лесной пожар и никого не спасут.
Не знаю, может ли отравление угаром вызвать эйфорию, но, во всяком случае, мне сейчас хорошо, и я принимаюсь горланить песни. С этой минуты у меня нет никаких обязательств, и мне не о чем беспокоиться. Не надо больше стремиться к высшим достижениям и страдать из-за неудач, оттого, что остался в стороне. Мне никогда больше не придется переживать теснящую сердце боль поражения, да и многого другого, от чего я избавился и что не собираюсь перечислять. Эй, вы, там, будьте непреклонными, серьезными, честолюбивыми, ожесточенными, несите свое дурацкое бремя, бойтесь и отчаивайтесь, ревнуйте, интригуйте и клевещите — делайте все то, что вы, в своем притворном великодушии, готовы в любую минуту простить другому, потому что в первую очередь сами нуждаетесь в прощении.
Хотя какое мне теперь до всего этого дело?
Мне больше никогда не придется думать о своих должниках и о тех, чьим должником являюсь я сам.
Чем плохо мне! Сквозь густую пелену дыма я вижу светлое пространство. Урсула открывает дверь в ослепительно белый зал и распахивает врата в бесконечность. Вслед за ней летят прозрачные птицы.
И я. Из моих глаз сыплются искры.
2
оль пронзает затылок и, пройдя через голову, сосредоточивается в глазах. Странно, сколько усилий требуется человеку, чтобы приподнять веки. Понять что-либо трудно. Тело вздрагивает от резкого толчка. Просто небольшая воздушная яма. Встряска оказалась полезной, мое сознание, кажется, несколько проясняется.
Возможно ли это? Бескрайнее небо без единого облачка.
Все залито светом. Моя способность к координации восстановилась еще не полностью. Такое чувство, будто я соскальзываю с сиденья всякий раз, когда гляжу вниз. Мало было лесного пожара! Теперь люди сами уничтожают лес. Бульдозеры атакуют деревья. Стволы валятся, но грохот и треск не долетают до меня. В ушах монотонный гул. В затекшей шее что-то хрустнуло, когда, с трудом повернув голову, я оглянулся назад. Там простирается необъятное черное облако. Как мне удалось выбраться оттуда?
Солнце печет затылок, меня же бьет озноб. Выходит, я все-таки жив. Тупая боль и тяжесть распространяются от плеч ниже, руки покалывает точно иголками, ноющая боль норовит судорогой свести ноги. Я не в силах ни пошевелить ими, ни размять их. Надо терпеть, боль — признак жизни.
Странные люди там, внизу, за рулем бульдозеров. Они же не роботы — могли бы вылезти из кабин и помахать мне. Чтобы я знал: лечу над мирной землей. Но что им до меня. Они спешат, создают мертвую зону, преграду огню.
Я и сам еще не в состоянии радоваться своему спасению. Даже дышать не могу. Воздух в кабине, похоже, стал другим, я должен напрячь всю свою волю, чтобы заставить легкие работать в полную силу. Роберт! Мне кажется, я выкрикнул свое имя, однако ничего не услышал. То ли уши заложило, то ли горло сдавило. Лучше мысленно: Роберт! Глотни свежего воздуха! Глотни, сколько можешь! Человек всегда должен иметь про запас спасительные призывы. Не унывай, парень, а лети себе дальше!
Только неизвестно куда.
Лес и люди остались далеко позади.
Аппаратура вышла из строя. На приборном щитке полная неразбериха. Наклоняюсь вперед и гляжу на карту. Нацеливаюсь на землю. Чертовски голо здесь. Ни единой точки опоры, за которую можно было бы зацепиться. Такого мертвого пространства на моей карте просто не существует. Я отчаяннейшим образом сбился с трассы.
Парю над изрезанным расселинами и лощинами плоскогорьем.
День клонится к вечеру. Сгущаются тени, делят земную поверхность на бугры и складки. В низины стекается все больше и больше черных чернил. Холмы и возвышенности вбирают в себя теплый свет, несмотря на знойное марево, они золотисто-коричневые и, чудится, будто покрыты верблюжьей или буйволиной шерстью. Я устал, мне хочется прилечь. Меня прямо-таки тянет вниз, на обетованную землю. Но приземляться здесь нельзя. Хотя после того, что я пережил — очевидно, я все-таки стоял лицом к лицу со смертью, — я был бы вправе поддаться любому из своих настроений. Нет, я должен добраться до какого-нибудь селения и опуститься там. Дальше все будет проще простого: на негнущихся ногах я добреду до ближайшего бара, скажу протирающему стойку хозяину buenos dias, немедля добавлю tengo calor и протяну руку, чтобы взять стакан холодной воды. Сдерживая себя, я выпью ее медленными глотками и, как бы между прочим, спрошу, как обстоят дела с лесным пожаром. Скоро ли его остановят? Ощущая под ногами надежный пол, я смогу, после того как утолю жажду, немного поболтать, прежде чем пойду к телефону. На том конце провода снимут трубку, я соберусь с силами и бодро выкрикну свое имя, сообщу, где я, услышу в ответ радостные восклицания, а затем мы обсудим, каким образом транспортировать отсюда меня и планер. Вероятно, мне придется переночевать в маленькой гостинице этого поселка, и я уверен, что задолго до того, как башенные часы хрипло пробьют полночь, я усну сном праведника в добротной старинной деревянной кровати.
Но прежде, чем залезть под прохладные простыни, я закажу себе ужин, выпью бутылку красного вина — подкреплюсь и расслаблюсь одновременно. Разумеется, гостиница построена по меньшей мере в восемнадцатом столетии, стены ее испещрены именами известных людей, побывавших там, и конечно же потускневшие от времени полки украшают бесчисленные реликвии — меня ждет приятный вечер. В находящемся по соседству полупустом трактире по вечерам играют на гитаре — может, и не стоит жалеть, что мне не повезло на соревнованиях. Медленно, но верно канут в прошлое мои блуждания в облаках дыма. Через несколько лет я уже с трудом буду припоминать подробности этого опасного полета.
Наверное, в баре или в гостинице заинтересуются, откуда я. Южная непосредственность быстро подберет ключ к загадке. К тому же мой испанский несколько старомоден, да и заржавел, наверное, порядком — ведь я вынес его из детства, испанскому обучала нас, мальчишек, тетушка Мария, оживляя для нас слова, звучавшие в пору ее юности. Конечно, в нынешний трезвый век никто не прибегает к торжественным обращениям, где каждое слово как затейливая виньетка, — увы, тетушка Мария имела обыкновение говорить именно так.
Тетушка Мария — так мы называли одинокую старую даму, которая жила на втором этаже, в угловой комнате дома моего детства. Худенькая тетушка Мария не двигалась, а словно парила, подобно невесомому цветку бессмертника, и была гораздо старше виллы с потрескавшимися ступеньками лестниц и бассейном, полным разного хлама. Она прямо-таки потрясла нас, проказников, сказав однажды, что в ее юности вместо нашего и окрестных домов стоял девственный лес с непроходимыми зарослями шиповника в глубине. Какой еще девственный лес? — в один голос удивились мы. Даже сборщики ягод редко забредали в эти отдаленные места, утверждала тетушка Мария. Вот так ей удалось расположить нас к себе — в первую очередь этим таинственным дремучим лесом. Но детей одними историями не заманишь, к ним прибавились самодельные конфеты-помадки, до того вкусные — пальчики оближешь! Постепенно появились и почтовые открытки с видами Испании — шаг за шагом тетушка Мария сплачивала нас вокруг себя, и в один прекрасный день мы обнаружили, что уже знаем простейшие испанские слова. Конечно же тетушку Марию считали чудачкой, людям было не уразуметь, что и самая пустячная тревога может стать источником энергии. А именно — тетушка Мария не хотела мириться с жестокой неизбежностью, что вместе с ней навсегда уйдут и ее знания. И она с упорной последовательностью, прибегая к хитростям, вновь и вновь усаживала нас на свои плюшевые стулья. И даже когда от нашей бестолковости хмурились ее брови, глаза все равно светились торжеством, словно она собиралась провести кого-то за нос. Когда мы сгибались под тяжестью незнакомых слов, тетушка Мария показывала нам репродукции картин испанских художников, то и дело обращая наше внимание на стоящих в полутемной комнате печальных мальчиков, и объявляла: инфант.
Я долгое время простодушно думал, что «инфант» означает «хилый». Поэтому в душе никак не мог примириться с тем, как одевалась тетушка Мария. Она тоже, подобно хилым испанским мальчикам, проживавшим в больших и, по всей вероятности, сырых комнатах замков, украшала свои платья кружевными воротничками и большими, как у клоунов, пуговицами.
В мою память врезалась Испания почтовых открыток тетушки Марии — замки, фонтаны, парки, памятники — обитель многовековой древней культуры, и поэтому безжизненное плоскогорье, на котором я сейчас нахожусь, вселяет в меня чувство страха. Неужели в сегодняшнем, кишащем людьми мире, тем более в дряхленькой Европе, возможна такая фантастическая оголенность? Ни единой, даже самой маленькой деревушки не маячит на горизонте. Никаких строений, которые небосвод, хотя бы с одного края, пришпилил к земле. Нет даже миража горстки домов, которую узкие, утонувшие в вечной тени улочки, подобно темной сети каналов, делили бы на островки.
Очевидно, от усталости я потерял терпение.
Неожиданно на левое крыло планера обрушивается удар. Еще один!
Приходится поверить собственным глазам, понимаю, что я беспомощен и сделать ничего не могу.
Сильный порыв ветра отрывает исковерканный конец крыла и уносит прочь. Планер, вздрогнув, подскакивает вверх, словно освободившись от ненужного обломка, и через секунду, подхваченный ветром, уже летит вниз, в сторону земли.
Ущерб серьезный, планер беспомощно болтается в воздухе. Я напрягаюсь. Прочь все посторонние мысли! Сосредоточиться, углубить и ограничить внимание. Я и не пытаюсь отыскать на земле преступников, избравших мишенью мою воздушную повозку. Ведь я не могу покарать их. Кто бы они ни были — браконьеры или террористы. При приземлении я должен остаться цел. Чьим же врагом я оказался? Теряюсь в догадках. Если хочешь жить, откинь все посторонние мысли. Действуй! Ты все равно не знаешь обычаев и условий здешних мест, так что едва ли сумеешь привести их в какую-то систему.
Мою апатию как рукой сняло.
Я обязан выйти живым из этой дурацкой истории.
Планер вздрагивает, кренится набок и скользит по какой-то странной траектории без того, чтобы я направлял его. Не очень-то приятно сознавать, что все мои усилия идут насмарку. Хорошо еще, что птица со сломанным крылом вообще несет меня. Но куда? Нос планера тянет на запад. Садящееся солнце ослепляет. Щуря глаза, я стараюсь разглядеть, какова поверхность земли. Внизу бескрайняя темная пустота. Долина? Нет, это не ложбина, созданная природой, скорее огромный открытый карьер. Сквозь голубую дымку замечаю обвалившиеся уступы. На одном из них, кажется, остов экскаватора, наполовину засыпанного землей.
Планер теряет высоту. Я очутился в полосе безветрия. Захватило дух — раскаленный солнечный диск исчез. Тень, отбрасываемая краем карьера, поглотила меня.
Понемногу глаза начинают различать в темноте. Только бы не рухнуть на своем покалеченном планере на какую-нибудь машину или механизм! Тогда сегодняшний безумный день завершится достойным образом. Полагаю, что возможен и более благоприятный исход. Впереди в похожем на кратер водоеме отражается небо. Маленькое круглое озерцо, берег заменяет земляная насыпь. Размеры этого водоема соответствуют моему умению плавать.
Хвост планера шлепается в воду.
Корпус же пропахивает земляной вал.
В глубине моего сознания кто-то торжествует.
Покалеченный планер заслуживает того, чтобы называться орлом. Мне и раньше приходилось стукаться об землю. Не в новинку.
Да здравствует безветрие!
Еще несколько десятков метров лета, и планер врезался бы в стену карьера.
Открываю купол, и меня внезапно охватывает ощущение, будто весь этот долгий день я дышал искусственным воздухом, легкие наполнены жалким заменителем. Вылезаю из кабины, одеревеневшие суставы делают меня неповоротливым, будто я робот. Прыжок получается неловким, но я все же оказываюсь на берегу: ноги погружаются в какое-то крупитчатое вещество. Черт его знает, гравий это, шлак или высохшие комья земли. Ноги не слушаются, колени подгибаются, и я сажусь. Внезапно ощущаю чудовищный голод. Поспешно открываю молнию на куртке. В одном из внутренних карманов оставалась про запас плитка шоколада. Шоколад наполовину растаял, пачкает руки, но до чего вкусно! Я облизываю и хрустящую фольгу, в которую он был завернут. Сейчас мои силы восстановятся, и я встану. Прежде чем стемнеет, неплохо бы узнать, куда я попал. Сейчас обзор закрывает какая-то темная куча. Куда? Пустая порода? Дьявол его знает!
Слабость не дает мне встать. Прилечь бы ненадолго прямо тут, на этой насыпи. Чуть-чуть вздремнуть было бы совсем не лишним.
Я вяло роюсь в карманах, проверяю, на месте ли документы. Внезапно чувствую, что поблизости кто-то есть. Чутье не обмануло меня. Из-за кучи породы выползают темные фигуры. Пятеро мужчин. Теперь-то уж придется преодолеть лень и подняться, чтобы вежливо поприветствовать незнакомцев. Ненормальные! Они не дают мне даже пошевелиться. Выскочили, словно пантеры, и окружили меня. Ну и шутники! Почему у них в руках кривые обрезки труб? Как козлиные рога на фоне светлого неба. Один из парней толкает меня в грудь, я падаю навзничь, в полумраке мне не разглядеть его лица. Другой вытаскивает из кармана моток провода и связывает мне руки. Любезные господа рывком ставят меня на ноги. Ощупывают с ног до головы. Какое дружелюбие напополам с грубостью для того, чтобы обнаружить под одеждой пистолеты и другое оружие. Ну да ладно, но почему они молчат? Немые сумасшедшие? Или, по их мнению, слова — ничто, пыль? Закончив обыскивать меня, они соблаговоляют отступить на шаг, однако один ретивый малый не желает оставлять меня в покое. Хватает за запястья, тонкий пластмассовый провод и без того врезается в них. Охранник не смотрит на меня. Вижу его профиль. Мужчина как мужчина, щеточка усов, на шее, на шнурке, маленькая фигурка с зеленовато флюоресцирующими глазами. Кто знает, что за разбойничий талисман! Но почему разбойничий? Охранникам не обязательно быть в форме. Я ведь не знаю, в какое секретное место или запретную зону занес меня мой планер со сломанным крылом. Ни один из рядовых граждан и представления не имеет, какие замаскированные зоны и секретные районы можно обнаружить на этом огромном и крошечном земном шаре!
Штатский человек, обладай он хоть каким зорким зрением, на самом деле слеп, как котенок. Ему неведомо, что, быть может, — мощные машины, пожирающие камни и щебень, долбят землю, создают подземные лабиринты, где размещаются какие-то важные военно-стратегические материалы; он понятия не имеет, что хранится за толстыми, без окон, каменными стенами зданий; гуляя по идиллической лесной тропинке, он может ненароком очутиться возле запретной зоны, окруженной оградой из колючей проволоки, за которой находится нечто сверхсекретное и сверхохраняемое, — и он с бьющимся сердцем заспешит прочь, так как знает, что лучше ничего не знать.
Он знает только, что человек должен быть оптимистом, верить в прогресс цивилизации и светлое будущее планеты. Простодушно принимать за чистую монету внушаемую ему мысль: все засекреченное служит безопасности такого, как он, штатского человека.
К счастью, я слишком устал, чтобы вырываться, кричать, топать ногами и требовать ясности и справедливости. Возможно, именно моя вялость и безучастность смогут лучше всего защитить меня.
Да и как бы я смог рассеять их подозрения? Кто в наше время верит словам? Кто станет слушать заверения? Даже в повседневной жизни человек подчас не понимает, почему кто-то считает его врагом и норовит стереть в порошок, а тем более оказавшись в чужом месте во власти какой-то шайки.
Мой страж следит за действиями остальных. Те осторожно оттаскивают планер подальше от воды, волокут его через береговую насыпь. Они обращаются с ним чуть ли не с нежностью, словно он фарфоровый. Теперь рыщут в кабине, но там ничто, похоже, не привлекает их внимания, они распрямляются и с новым рвением принимаются за планер. На этот раз действуют грубо. Вонзают в тело планера ножи, вспарывают обшивку — что они рассчитывают найти там, кроме тросов? Эти идиоты со все возрастающим жаром удовлетворяют свою неуемную страсть к уничтожению: ломают на куски крылья планера, ломают штурвал. Кошмарное положение — я не могу найти объяснения этой разрушительной работе. Неужели они считают меня пришельцем из космоса, а может, я попал на другую планету?
Все фантастическое всегда было мне чуждо. Очевидно, мне с самого рождения не хватало в мозгу какой-то извилины. Невероятная, почти фантастическая ситуация, в которой я очутился, возможно, возмездие судьбы. Не прислушавшись к своему внутреннему голосу, я в свое время согласился сняться в научно-фантастическом фильме и на полгода стал обитателем планеты XZ. Тот фильм неожиданно принес мне известность, в зрителях недостатка не было, моя фотография мелькала на страницах киножурналов многих стран, мне было противно глядеть на белый парик из овечьей шерсти и серые глаза, излучавшие известную долю силы воли и жестокости, которую смягчала сквозившая во взгляде земная печаль.
Поодаль, в вышине, полыхает красным стена карьера.
Снизу, из глубины, вот-вот поднимется тьма и, переступив через край, шагнет в пространство, расползется по равнине. Интересно, появится ли с наступлением темноты на плоскогорье отсвет далеких огней какого-нибудь поселка или города?
Сгущающиеся сумерки все более плотной завесой скрывают от глаз окружающее.
Мужчины, похоже, торопятся. Однако нельзя сказать, чтобы они делали свою разрушительную работу спустя рукава, наспех. Их движения заученно умелы. Словно совершается какой-то призрачный танец, модное представление без музыки. Только иногда слышатся хруст и треск. Мой страж сплевывает себе под ноги. На какое-то мгновение сверкнули зубы. В маленьком озере пока еще отражается затухающее небо, и это позволяет мне следить за фигурами мужчин. Странно, неужели им до сих пор не надоело возиться с разбитым планером? Мне жаль его. Подобно верной птице, он пронес меня над лесом, охваченным пожаром. Не загорелся и не дал мне упасть в пламя. Меня угнетает, что я оказался таким неблагодарным и не смог уберечь его от унизительной гибели.
Ну и кретины, решили, что обычный планер таит в себе опасность, и потому превращают в щепки его останки. Уж столько-то можно бы знать о планеризме — поднять планер в воздух с такой глубины немыслимо. В темноте трудно определить высоту вертикальных стен открытой шахты. Быть может, сто пятьдесят, а то и двести метров. Во всяком случае, все мы находимся на дне глубокого колодца. Погребенный в земле экскаватор, который я заметил до того, как приземлился, остался где-то далеко и высоко, может, стоит там с незапамятных времен, вышел из строя в какое-то из первых десятилетий начала века.
Призрачные фигуры торопливо снуют взад-вперед.
Они относят подальше останки разбитого и расколотого планера, я слышу, как они швыряют куски в кучу. Вероятно, там нашелся пятачок ровной земли. До меня долетает взволнованное бормотанье — значит, не немые! Кажется, они о чем-то спорят между собой.
Что-то еще беспокоит их. Но ведь они получили то, что хотели: незнакомец, вторгшийся к ним, взят в плен, а его воздушная повозка уничтожена.
Вспыхивает спичка.
Я бы тоже с удовольствием закурил.
Нет, они зажгли не сигареты. Они подожгли останки планера.
Странно, но я почти не испытываю страха. Хотя, если считать, что их действия целенаправленны, то вполне логично сперва уничтожить планер, а затем пленника. Возможно, они руководствуются жесткой инструкцией: любой неожиданно вторгшийся к ним человек подлежит ликвидации.
В современном густонаселенном мире человек стремится создать замкнутые системы, чтобы не затеряться в людской массе. Группы складываются на основе всевозможных признаков: вегетарианцы и коллекционеры, «моржи» и любители икебаны. Расхитители государственного имущества и идеалисты. Религиозные фанатики и садоводы. Вероятно, и здесь подобралась группа, объединенная какой-то общностью, но боюсь, что их связывает вовсе не невинная сфера интересов. Скорее служебные обязанности, присяга — подпись на бумаге, спрятанной в железном чреве какого-нибудь сейфа, словно капля крови. Во всяком случае, их поведение говорит о своеобразных законах, действующих на этой территории и не соответствующих привычным нормам. Ладно, сам того не желая, я вторгся в запретную зону, нарушил какое-то законоположение — но они могли бы, по крайней мере, хоть выслушать меня! Отсюда следует: человек, чья нога коснулась этой земли, не смеет выйти отсюда живым, дабы не выдать тайну карьера. Что это могла быть за тайна?
Нет смысла взвинчивать себе нервы.
Быть может, положение все-таки менее серьезно, чем я предполагаю.
Что, если это какие-нибудь самодеятельные сектанты, получающие удовольствие от придуманного ими ритуала и стремящиеся произвести впечатление на незнакомого человека? Известно, что люди, сплотившиеся в группы, становятся в чем-то фанатиками, их распирает от собственной воображаемой исключительности, и они постепенно начинают думать, что за пределами созданной ими общины мир нелеп и невыносим. То, что просачивается извне, надо решительно отметать, — они так и поступают, демонстрируя заодно верность принципам секты.
Мое чутье, во всяком случае, молчит.
Остается выжидать.
Костер никак не хочет разгораться, но вот наконец высоко вверх взметнулось яркое пламя. Мужчин словно отбрасывает в сторону. Все искоса поглядывают на небо. Молча отходят подальше, чтобы раствориться в тени.
Все они, насколько позволяет разглядеть яркое, режущее глаза пламя костра и густота тумана, кажутся мне моими ровесниками. Пора юности миновала лет двенадцать-тринадцать тому назад. Взрослые мужчины, созревшие, казалось бы, для великих дел. Однако прежние мерки уже недействительны, тем более здесь, в этом странном месте, где примитивный вандализм, похоже, приносит этим людям удовлетворение.
Мой страж ударяет меня меж лопаток, заставляет шевелиться. Я нехотя подхожу поближе к костру. Естественно, я не застрахован от какой бы то ни было неожиданности — в этом меня убедили события сегодняшнего дня, — возможно, что уже в следующий момент они схватят меня и бросят в горящие обломки планера? Кто потребовал бы у них отчета? Те, кто знал меня, какое-то время будут с сожалением говорить: Роберт со своим планером как в воду канул. Поиски не дали никаких результатов. Вертолеты прочесали всю трассу. В этом районе бушевал лесной пожар. Их омрачит ужасное предположение. Дома будут ждать результатов расследования родные. Но тщетно. Может быть, через год, когда все попытки что-то узнать так и не увенчаются успехом, на семейном кладбище установят мемориальную доску с предполагаемой датой смерти и дополнят ее надписью: погиб на чужбине. Проходя мимо, авось кто и остановится — подумать только!
Расставив ноги, стою в нескольких метрах от костра. Будь это возможно, я бы врос пятками в землю. В фантастическом фильме с моим участием во время самых важных монологов фоном мне служила зловещая огненно-желтая клокочущая и извергающаяся плазма. Космическая и грозная, от которой кровь леденела в жилах. Разумеется, трюк, во время съемок в павильоне все было довольно обычным. Теперь же мне кажется, что плазма устремляется за мной по пятам и жар ее обжигает мне спину. А пламя костра дышит в лицо.
Мой страж выпускает меня из своих тисков. Я продолжаю гнуть свою линию и даже краешком глаза не смотрю, как он удаляется. Вероятно, он тоже ищет тени, не хочет быть на виду. Один я стою на ярком свету, словно выставленный на всеобщее обозрение.
Пусть глядят, коли охота, — во мне поднимается необъяснимая злоба.
Внезапно ощущаю: внутреннее напряжение начинает ослабевать — видимо, происходит что-то, что успокаивает и укрощает меня. Потрескивание костра стихает, пламя гаснет, и воздух как будто другой, приглушает тревогу. В темноте слышатся чьи-то шаги.
В круге света появляется женщина. Скромный облик, мечтательное выражение лица, мимолетно брошенный взгляд на небосвод — она кажется ребенком, который, разбуженный глубокой ночью шумным обществом, встал с постели, чтобы тихонько подойти к двери и заглянуть в щель: что они там делают, почему не спят? Сонным глазам не хочется привыкать к свету, но любопытно поглядеть, прежде чем тебя снова погонят в постель.
Приход женщины действительно помог стряхнуть отвратительное оцепенение, рожденное неизвестностью и страхом. Пожалуй, именно потому, что она — и это поднимало дух — никак не вписывалась в здешнее окружение, в котором находились измученный пленник с руками, связанными проводом, и прячущиеся в тени, караулящие его безжалостные люди, готовые кинуться на свою жертву. Струящееся и переливающееся платье ниспадает с плеч, в собранных на затылке волосах покачивается перо страуса. Не знаю, может быть, таких дам можно встретить на шикарных приемах, хотя, вероятнее всего, на опереточной сцене. Уж не собирается ли она при свете костра спеть какую-нибудь арию?
— Флер, — говорит кто-то из мужчин, — у него не было при себе оружия, не говоря о бомбе.
— Дорогие друзья, его забросил сюда случай! Я так и думала! — радуется Флер.
— Флер, не торчи на виду, — доносится хриплый голос откуда-то из темноты.
— Эрнесто, я прошу тебя, время позднее, и с неба смотрят одни лишь звезды, — не двигаясь с места, примирительно говорит Флер.
— Делай, как знаешь, — ворчливо раздается в ответ.
С души спадает тяжесть, когда слышу, что эти до сих пор молчавшие мужчины умеют разговаривать.
— Но ведь замечательно, что кто-то заблудился и попал сюда! — озорно восклицает Флер, и голос ее эхом отдается в темноте.
— Лично меня это не радует, — считаю я нужным вмешаться.
— Очень мило, выходит, равновесие сохранено, — произносит Флер. — Гармония складывается из приятия и неприятия с небольшой дозой приправы.
Кто-то из мужчин смеется сквозь зубы.
Вероятно, я кажусь им бестолочью, однако не стыжусь этого.
— Мне бы хотелось какой-то ясности, — говорю я громко, так, чтобы услышали и затаившиеся во тьме мужчины. Улавливаю в своем голосе нотку непоколебимого спокойствия. Может, это просто-напросто продолжение фантастического фильма и я снова вжился в роль?
— Ясности! — Флер разражается смехом, простирает руки к небу, ее пышное одеяние развевается. Смех обрывается. С поднятыми вверх руками, словно благословляя меня, Флер говорит мужчинам — Даруйте ему жизнь, это редкостный экземпляр, прямодушный и упрямый.
Вероятно, у этой женщины давно не было возможности посмеяться над кем-нибудь.
— Он не может ни находиться здесь, ни уйти отсюда, — бормочет кто-то за моей спиной.
Костер потух, лишь угли еще тлеют. Мужчины чуть придвинулись ко мне и к Флер. Я различаю их фигуры. Могли бы подойти и поближе, при свете дня я все равно никого бы не узнал.
— А как же быть человеку? Находиться не может и уйти не может, — Флер поспешно хватается за брошенную кем-то фразу. — Рано или поздно мы все поймем это. А он может убедиться в этом уже сейчас, на собственной шкуре. Кстати, как тебя зовут, не сломаем ли мы язык, произнося твое имя?
— Не могу представиться, руки связаны.
Один из мужчин проявляет невероятную любезность и освобождает мои запястья от сжавшего их провода.
С трудом протягиваю к костру правую руку, в которой едва пульсирует кровь. Называю себя и застываю в позе человека, просящего подаяние.
Темные фигуры гуськом проходят мимо меня, пожимают руку, и я слышу разные голоса и череду имен: Уго, Эрнесто, Жан, Майк, Фред.
Флер — последняя, я жду прикосновения ее пальцев. Но этого не происходит. Женщина сует мне в ладонь плоскую флягу и приказывает:
— Выпей до дна и выспись как следует.
3
остаточно было открыть на момент глаза, и пронзительная синева неба ударила мне по нервам. Режущая боль яркого света разъедает глазные впадины, проникает в мозг, в затылке начинает пульсировать. Дышать мучительно, я стону и хриплю. Сую руки под мышки и сворачиваюсь клубком, подтягиваю колени к подбородку и превращаюсь в живой комок. Почти такой же, как в детстве, когда я решил изведать жизнь полярного исследователя и попытался провести ночь в пещере, выдолбленной в сугробе. Домашние бродили по саду, лучики света от карманных фонариков плясали в густом снегопаде. Я был Амундсеном, и мне не было до них дела, покуда они с проклятиями не вытащили меня за ноги из снежного домика и не погнали в комнату. В тот поздний зимний вечер было в равной степени много как шума, так и горячего чая с малиновым вареньем.
Здесь, во всяком случае, дьявольски жарко.
Мне придется потрудиться, чтобы направить мысли в определенное русло.
Не хочется вспоминать вчерашний вечер, но я должен нащупать хоть какую-то нить.
Плоская бутылка виски, которую протянула мне Флер, была с одного боку вогнутой, с другого выпуклой, подходящий сосуд, чтобы носить его в потайном кармане, ближе к телу. Я не стал упираться, на всякий случай проявил послушание и отвинтил пробку. Припомнив свой старый трюк, я действовал с достаточной ловкостью. Запрокинув голову, поднес бутылку ко рту под нужным углом, и виски с бульканьем полилось в рот. Раздались жидкие аплодисменты. Я вливал в себя огненную жидкость, как ни странно — из горла не вырвался водопад искр; правда, я думал, что, как только пустая фляга выскользнет из моих рук, я тотчас рухну на землю. До сих пор я проделывал этот трюк только с лимонадом. Теперь выбора не было. Бутылка помогла выиграть время. Мне хотелось завалиться спать, и спать долго и крепко, без сновидений. Я должен был любой ценой освободиться от безумия этого дня. Большей частью, очнувшись после глубокого сна, мне удавалось позабыть о мучивших меня проблемах, они, казалось, сходили на нет. Хотелось, чтобы и сейчас было так. Но я боялся бессонницы. Очевидно, виски пришлось кстати, чтобы отдать швартовы и, подобно черному кораблю, покачиваясь, отплыть в темное море. Сон — как ветер в паруса. Я одолею свои беды, привык я внушать себе накануне тяжелых для меня дней. Я закалил себя трезвой предусмотрительностью: утром может обернуться и похуже, поэтому надо быть отдохнувшим, сильным и ко всему готовым.
Заливая в горло виски, я не забывал о тех, кто разбил и сжег мой планер. Им тоже требовалось время, чтобы прийти в себя; прояви я нетерпение, это вынудило бы их с бухты-барахты принять поспешное решение. Они понимают, что человек, опорожнивший бутылку виски, — пусть даже такой тренированный и спортивный, как я, — всю ночь будет находиться словно под наркозом. Им не придется приставлять ко мне охрану. Тот, у кого ноги стали как ватные, не станет бродить в кромешной тьме по карьеру, чтобы выведать тайну и попытаться бежать. Огромный каньон, если в нем не уметь ориентироваться, — по сути, узкая камера. Сделаешь шаг и столкнешься с неизвестностью, как будто перед тобой решетка. Я должен тайком начать исследовать вертикальные стены карьера, чтобы найти место, где легче всего взобраться наверх. К тому же надо запастись водой и продовольствием. У меня нет карты этого района, а мой компас поглотил огонь. Придется рассчитывать на то, что сумею выудить у этих людей сведения относительно плоскогорья. Плутая наугад, далеко не уйдешь.
Голова раскалывается. Я осторожно переворачиваюсь на живот, вытягиваю уставшее от непривычного положения тело, широко раскидываю руки и ноги, теперь я целиком слился с землей. Глядя сверху, можно было бы подумать, что человек вылез из своей оболочки, оставив ее лежать на земле.
Я собираюсь с силами, даю глазам еще на какое-то время отдых, затем поднимаюсь и иду. Чтобы увидеть, узнать, оценить обстановку и начать действовать.
Я встаю на колени, я уже знаю, что за земляным валом находится маленькое, образовавшееся на месте кратера озеро, вода в котором выше уровня земли. Поодаль в небо поднимается изрезанная поперечными рубцами стена карьера, над ее краем я видел кроваво-красную полосу заката. Наваждение! Гигантская стена, на которой угадываются уступы бывших выработок, и сейчас, с наступлением утра, багровая! Я поднимаюсь на ноги. Размеры каньона головокружительные. За холмистой равниной во все стороны тянутся участки, земную кору которых долбили, возможно, в течение веков, более далекие из них тонут в знойном мареве. Однако не только освещенная солнцем стена, но и весь карьер пугающе огненного цвета. Мое сердце начинает тревожно биться. Нет крыльев, чтобы улететь из этого огромного оврага. Странно, в данный момент мне кажется невероятным счастьем привычная ходьба по земле, когда под ногами шелестит пожелтевшая трава позднего лета, а взгляд прикован к синеющей на горизонте полоске леса. Чувство подавленности растет. Светлое небо над головой такое недосягаемое, словно я смотрю на него со дна колодца. Хоть взывай о помощи.
— Роберт, — слышу я тихий голос.
Флер сидит на камне подле вчерашнего костра, концы ее желтого платка топорщатся на затылке, как лопасти пропеллера. С сияющим лицом она вертит головой, словно кокетливая девчонка, которая хочет похвастаться своими ленточками. Мое же внимание привлекают горные ботинки Флер и ее короткие парусиновые брюки. Деловая одежда женщины вселяет в меня смутную надежду. Может, она хочет быть моим проводником?
— Боб, — повторяет Флер и смеется. — Брось эту мысль, — Флер поднимает палец над головой и медленно чертит в воздухе большие круги. — Весь край там, наверху, заминирован. Был у нас тут один, Самюэль. Смелый и сообразительный. Семь потов с него сошло, пока заготовил всевозможные крючья и шипы, связал вместе обрывки веревки, сплел из шнура какие-то петли. Я помню то утро. Помахал нам шляпой и пошел, на плече связка веревки и железяки. Целый день, затаив дыхание, мы следили за тем, как он взбирался наверх. Он с умом выбрал себе тропу: выдолбленный водой сток. Там можно было не бояться обвала. Камень или уступ, выдержавший потоки воды, выдерживал и тяжесть человеческого тела, не срывался и не летел вниз. На закате Самюэль добрался до края стены. Мы наблюдали в бинокль, как он сидит наверху, отдыхает и ждет наступления темноты. Затем раздался взрыв. Словно солнечный диск обрушился на землю.
Рассказывая историю Самюэля, Флер пристально смотрела на меня. Теперь, отведя взгляд в сторону, она добавляет:
— Нет смысла повторять это. Приложи руку к сердцу, Боб. Бьется. Вот и пусть бьется.
Флер, видимо, любит рассказывать небылицы. Кто мог быть заинтересован в том, чтобы заминировать край карьера? Хотя в наше время не к чему ломать голову над целесообразностью затрат. Мертвые зоны теперь в почете: не высовывайтесь оттуда и не лезьте туда.
— Меня глубоко потрясла печальная судьба Самюэля, страшно взлететь в воздух без всякого предупреждения.
— Весьма разумно, — одобрительно произносит Флер. — А теперь пошли туда, за холм, бедняжка Бесси ждет.
— Кто такая бедняжка Бесси? — спрашиваю я, подражая интонации Флер.
— Корова, — с достоинством отвечает Флер.
Сонный и измочаленный, плетусь следом за Флер, мечтаю о ванне, горло пересохло, смотрю под ноги, чтобы не споткнуться. Во всяком случае, пора положить конец провинциальным страхам и удивлению перед непонятным или непривычным. Представьте себе! Подумать только! Неужели? Я ведь немного понюхал мир, правда, большей частью я находился в условиях, отвечающих стандартам цивилизации, но и этого опыта должно хватить, чтобы не быть простачком и не мерить незнакомые места мерками родного ландшафта.
Что с того, что где-то в карьере у Флер имеется своя корова Бесси, ведь и Флер точно так же может показаться странным, что я на своем покалеченном планере свалился именно сюда, на территорию, изолированную от остального мира. Впрочем, Флер и не проявляет интереса, кто я и откуда, в современном мире странные встречи, пересекающиеся пути и совпадения стали чуть ли не нормой.
Мы взбираемся с Флер еще на один холм и почти бегом спускаемся на маленькую равнину, где на бурой спекшейся поверхности, подобно кустикам лука-резанца, торчат редкие клочья травы. У Флер с собой ножницы, из кармана она вытаскивает пластикатовый мешок. Осторожно срезает с кустиков стебли подлиннее, собирает их в ладонь, усердный труд Флер на этом чахлом лугу венчает жалкий пучок. Она вертит в руке этот желтоватый снопик, оценивающе смотрит на него, затем принимается дуть на стебли.
Женщина деловито расхаживает между редкими кустиками травы и не переставая дует на верхушки стеблей. Догадываюсь: по ее мнению, это означает сев. Похоже, что старания Флер бесплодны, с усмешкой думаю я. Но вполне возможно, что я несправедлив: ведь что-то же все-таки растет на этой сухой, потрескавшейся, в беловатых соленых разводах почве.
Флер поворачивает ко мне свое раскрасневшееся лицо и утешает обещанием:
— Скоро увидишь Бесси.
Держа под мышкой пластикатовый мешок с кормом, Флер продолжает путь. Тяжелые горные ботинки, видимо, утомили ее. Она с трудом волочит ноги. Однако жалобы, столь свойственные женщинам, не в ее характере, она напевает себе под нос веселый мотив.
Неожиданно Флер останавливается, переводит дыхание и заявляет:
— Сколько лет пришлось прожить на свете, чтобы заиметь собственную корову!
Собравшись с силами, она шагает дальше, мимоходом пинает ногой ржавую консервную банку; вместе с отлетевшей в сторону банкой поднимается пыль. Кажется, будто мы забрели в отдаленные уголки карьера. Красноватые стены то подступают, то отступают, заставляя нас менять направление, — лабиринт; и солнце, которое только что светило нам в спину, теперь обжигает наши лица. Глядя на искусственные образования земли, даже невежда сообразил бы, как часты здесь обвалы. Кажется, будто то тут, то там со стен огромной поварешкой зачерпнули куски породы и раскидали их холмами по дну карьера.
Под нашими ногами похрустывает какое-то зернистое вещество, похожее на шлак, идти становится труднее. Тем не менее мы пробираемся и сквозь эту зону, огибаем огромную глыбу; крошечные осколки, покрывающие ее поверхность, отражают свет, словно внутри холма прожектор с дуговой угольной лампой.
Вот мы и пришли.
Останавливаемся в нескольких метрах от маленького домика, в действительности это снятая с колес дача-прицеп. На овальных окнах болтается то, что осталось от занавесок, покосившуюся дверь подпирает рычаг какого-то большого механизма. Вокруг развалюхи валяется всевозможная домашняя утварь: ведра, тазы, сиденья, ковшики и миски. Из мебельного щита с дорогим шпоном сделан стол, ножками служат скамеечки из пластика. Протерев тряпкой доску из орехового дерева, Флер ссыпает на нее стебли и длинным ножом начинает размельчать их.
Уйдя в свою работу, Флер, видимо, забыла о моем присутствии. Я сажусь на садовый стул с трубчатым каркасом, полинялая материя слегка трещит под моей тяжестью, однако не рвется. Солнце печет. Флер перебирает рассыпанные по столу стебли. Я же думаю о том, возможны ли еще такие каждодневные процедуры, как умывание, еда и питье.
Флер отодвигает от двери железный рычаг, и я могу убедиться, что женщина сказала правду. Из бывшего походного домика, покачиваясь, выходит на свет божий настоящая корова. Что из того, что на шее у животного ремень безопасности от машины, мы все равно имеем дело с настоящей живой буро-красной коровой с тупыми рогами, черт его знает какой породы. Бесси прямиком направляется к столу и принимается жевать размельченные стебли. В заключение облизывает и доску орехового дерева, чтобы из скудного рациона не пропало ни крошки. Флер продолжает хлопотать с прежним усердием. Из разноцветных картонок ссыпает в ведро кукурузные хлопья и рис и ставит их на чисто вылизанный Бесси стол.
Бока у коровы поднимаются и опускаются, она с удовольствием поедает пищу, предназначенную для человека. Во всяком случае, у меня текут слюнки, но я не решаюсь взять у бедной Бесси пригоршню для себя. Теперь, утолив из второго ведра жажду, Бесси может осмотреться. Заметив меня, она с любопытством подходит поближе. Тянется влажным носом к моему лицу, и с губ ее мне на брюки капает вода. Флер тут же подбегает к нам, я жду, что она отгонит от меня скотину: я из тех детей города, кто никогда в жизни не мечтал завести корову. Однако женщина обвивает руками шею животного и приникает ухом к голове коровы, теперь их глаза совсем близко от меня, и Флер шепчет:
— Видишь, Бесси знакомится!
Видно, это приводит ее в восторг.
Флер прижимается к корове и произносит тоном, не допускающим возражений:
— Ну, разве не прелесть?
Я стараюсь украдкой отодвинуть свой стул подальше от Бесси, которая шумно дышит мне в лицо. Моя строптивость отнюдь не отпугивает Флер. Она опускается на колени, обеими руками раздвигает корове губы и показывает мне ее великолепные голубые искусственные зубы.
Хотя совсем недавно я решительно положил конец своей провинциальной привычке удивляться неожиданностям, однако на этот раз я все же не смог сдержаться.
— Искусственные зубы?
— А что тут странного? — искренне поражена Флер.
Слава богу, растерянность присуща не только мне.
— Сейчас у всех коров искусственные зубы! Как бы они смогли иначе есть? Даже у телят выпадают зубы — вода и воздух такие, что зубы начинают разрушаться, а корова тоже хочет жить и давать людям молоко!
После чего мы и пьем молоко. Флер быстро подоила Бесси. Та выдала два ковшика пенистой теплой жидкости, которую я при других обстоятельствах ни за что бы в рот не взял.
4
ремя от времени я кидаю взгляд на Бобби, который сидит сжавшись в комок. На его хмуром лице отвращение — он только что выпил парного молока. Однако отказаться от него не решился. Вообще-то это хорошо, что Бобби владеет собой, кто-нибудь другой на его месте мог бы и разбушеваться. Он не догадывается, в каком положении оказался, не знает, где находится. По крайней мере, для меня бремя неизвестности всегда было невыносимо, и тогда легко отказывали тормоза. Если только он не тайный агент и не полицейский, приставленный следить за нами, то, во всяком случае, человек, который поразительно умеет держать себя в руках. Уму непостижимо, как это иные люди живут, не идя на поводу у своих желаний. Боб напоминает мне тех молодых людей, над которыми я когда-то подшучивала, разъезжая по северной Швеции. Совершеннейшие недотепы, будто одним миром мазаны. Вперится в тебя такой, потом растопырит пальцы и запустит пятерню в волосы, а сам все таращится, такое ощущение, будто от его глаз мостик к тебе протянулся. Значит, подзавела ты его, но ни единой искорки страсти не вспыхнет в серых, цвета оленьего мха, глазах. Все они сомневаются и раздумывают столь долго, что для действий, похоже, и времени не остается. Да еще ломают голову, девушка ты или видение, возникшее из тумана. Один из них проявил невиданную смелость — все топтался да мялся, что-то соображая про себя, и в конце концов пригласил-таки меня на танец. И вот, чтобы распалить его, я нарочно стала вытворять черт-те что. Вертелась и извивалась перед ним, как дьявол, притопывала каблуками и виляла бедрами, трясла головой и вращала глазами. Парень вконец растерялся, ноги у него стали заплетаться. Бедняга сел в калошу, я понимала, что он на чем свет клянет себя за легкомыслие и отчаянность. Он взмок, крупные капли пота стекали по щекам — казалось, будто из-под волос струятся слезы. После танца я краешком глаза понаблюдала за ним. Он залпом осушил свой бокал и как лунатик выбрался из зала, чудо, что еще в дверной косяк не врезался.
Я чуть не задохнулась от смеха, на глазах выступили слезы, да так окончательно и не высохли. Сдавило горло. Куда ты, дурачок! Постой, погоди! Стало нестерпимо жаль, что мы оказались разного поля ягодами.
Надо придумать для Бобби щадящую версию. Если я напрямик выложу ему, где и среди кого он находится, это надломит его и он окончательно замкнется в себе.
В общем-то не так и сложно наплести ему какую-нибудь чушь. Эксперимент — под это понятие можно подвести сегодня, пожалуй, все что угодно. Да я бы и не солгала. К тому же вошло в моду испытывать себя в экстремальных условиях. Мир стремительно преображается, и всегда находятся энтузиасты, которые в изменившихся условиях ищут новые способы существования. Лишь ограниченные и довольные собой обыватели полагают, что их дома, земли и машины гарантируют им стабильность в любых обстоятельствах. Разве только инфляция заставляет их время от времени охать и стенать. Но и это всего-навсего для вида, охи и вздохи — признак хорошего тона. Посетовать есть на что: жизнь беспрерывно дорожает. Про себя же они подсчитывают свои дивиденды и думают — с другим будь что будет, а уж я-то не пропаду.
Итак, я разъясняю Роберту — но не раньше, чем он хватает меня за руку и требует объяснений, — что надо набраться терпения и принять участие в нашем эксперименте. Мы, группа случайно оказавшихся вместе людей, добровольно решили испробовать на собственной шкуре возможность приспособления к условиям полной изоляции. В случае ядерной войны, например, зараженность окружающей среды радиоактивными веществами может заблокировать часть людей в какой-то определенной зоне. Вот нам и хочется узнать, выдержим ли мы, живя в саморегулирующейся системе, где нет ни повседневных обязанностей, ни контактов с друзьями и обществом, где семейные связи нарушены и нельзя поехать куда вздумается. Мы дали свое согласие и не можем раньше времени прерывать эксперимент. Для нас это отнюдь не невинная игра. Мины по краю карьера, разумеется, настоящие, ведь вот слабонервный Сэм не вынес испытания и погиб. Я стараюсь убедить Роберта проверить свою выносливость и стойкость, другого выхода нет, пусть вольется в нашу компанию, любому современному человеку такого рода опыт пойдет только на пользу. Конечно же он потребует назвать ему срок — деловые люди всегда хотят знать, с какого часа до какого, надолго ли.
Тут я бессильна. Нам сказали: на некоторое время. Намекнули, что срок заключения, во всяком случае, сократится. Все будет зависеть от нас самих. Дескать, корректное поведение, послушание… Неопределенность и вселяет в мужчин беспокойство. Постепенно растет подозрение, что с нами хотят покончить втихую. И таким образом избавиться от нас без лишних хлопот. Ведь антисоциальный элемент повсюду расцвел пышным цветом. Человечеству нужны надежные фильтры и крепкая рука. Мужчины сами себя взвинтили и поверили своему воображению. На самом же деле мы никому не в обузу. По крайней мере, здесь, в этом заброшенном карьере. Но поди разъясни им! Нервы на пределе, уж и не знаешь, из какой метлы ждать выстрела. Вчера накинулись как безумные на потерпевший аварию планер Роберта. Надо им было сжигать этот покореженный планер? Хотя и оставлять его тоже ни к чему. Это во сне мы можем подняться в воздух и улететь отсюда, а наяву — никогда.
Мужчины могли бы сразу догадаться, что Боб им не опасен. Их заразил своей нервозностью Эрнесто, этот только и ждет нападения и светопреставления. Обычно он решается выбраться из-под крыши лишь после полудня, когда тень от стены карьера перемещается к нашим вивариям, выходит, словно медведь из своей берлоги, долгое время стоит в дверях, щурится, принюхивается, протирает кусочком замши свои дымчатые очки, чтобы яснее разглядеть все вокруг. В такие минуты кажется, что у него даже уши вытягиваются, чтобы лучше уловить звуки и голоса. Вечно у него на шее болтается бинокль, который он никому другому просто так не доверит; постоянно ему надо выискивать на стене карьера снайперов. Когда-то он якобы слышал о тайной секте охотников на людей и теперь полагает, что корыстные чиновники из Международного управления по надзору за тюрьмами продали им лицензию на уничтожение всех нас. Остальные позволяют Эрнесто морочить им голову — а может, просто делают вид, что верят его россказням, — во всяком случае, смотрят ему в лицо, словно это экран телевизора, на котором нескончаемой чередой бегут кадры фильма о том, что происходит за пределами карьера. Постепенно все привыкли начинать день, когда дверные проемы вивария погружаются в тень и трудно становится взять их на мушку. Один лишь Уго отваживается порой поиздеваться над Эрнесто и с удовольствием начинает разглагольствовать об огневых качествах винтовок с инфраприцелом. Я не очень точно представляю себе, насколько хорошо видно в сумерках или темноте с помощью такого приспособления, однако кое-какие логические конструкции способен постичь и женский ум. Эрнесто то и дело корит и предупреждает меня, чтобы я не бродила по карьеру при ярком утреннем свете; угрожает столкнуть Бесси в кратер, чтобы забота о корове не выгоняла меня из вивария. Эти разговоры для меня как нож в сердце, я впадаю в такое бешенство, что начинаю молотить кулаками Эрнесто в грудь и кричать: я никому не позволю трогать Бесси! Ведь именно Бесси не дает мне пасть духом. Немного успокоившись, я выкладываю ему свои аргументы. Где они возьмут столько охотников на людей, которые держали бы нас на прицеле денно и нощно! Когда мы подписывали в тюрьме соглашение, нам совершенно недвусмысленно сказали: с этого времени будете жить в колонии без стражи. И лучше не терзать себя догадками — как долго это продлится. Меня тоже пробирает дрожь, когда вспоминаю, как темнили чиновники. Разговор был весьма неопределенным. Они все время ссылались на циркуляр Международного управления по надзору за тюрьмами. Авторитетная комиссия этого управления нашла, что тюрьмы перенаселены сверх всякой меры и бюджет многих государств перегружен расходами на содержание массы заключенных. В силу этого комиссия и порекомендовала испытать систему исправительных колоний самообслуживания. Тогда-то и отобрали из числа заключенных добровольцев, дабы провести эксперимент. Эксперимент — что касается этого слова, то я могу смело смотреть в глаза Роберту, не подозревающему ничего дурного.
Но как долго будет продолжаться это испытание, чтобы оно смогло оправдать себя?
У Сэма срок заключения оказался коротким. Его останки, вероятно, растащили стервятники. Эрнесто якобы нашел на дне карьера карман от жилета Самюэля вместе с карманными часами. Я не захотела смотреть на это. Остальные, кажется, тоже.
Возможно, правы были те, кто остался в тюремных камерах, отказавшись от заманчивого предложения администрации! Почти свобода? Жизнь на природе? А комфорт? Но кто там позаботится о нас? И врачебной помощи нет! А если я заболею? Неужто я должна умирать в карьере всеми покинутой? Даже охраны нет? А вдруг сюда проникнут террористы? Они проникают куда угодно: у кого есть оружие, у того найдутся и миноискатели. Ах, раз в месяц можно делать заявки на все необходимое? Продукты и вещи покупаются за счет заключенного. Надо оставить распоряжение своему банку? Бог мой, во что же обойдется тогда мнимая свобода?
Хорошо, что нашлось хоть столько добровольцев, чтобы можно было оправдать создание такой колонии. Все же хлопотная и дорогостоящая затея, без помощи разных там фондов им бы не справиться. Международное управление по надзору за тюрьмами добилось объявления заброшенного ртутного карьера закрытой зоной, минный пояс вокруг гигантского каньона тоже потребовал кое-каких затрат. Пришлось отремонтировать старую железную дорогу, ведущую в карьер, чтобы доставить туда отслужившие свой век товарные вагоны, ставшие для нас вивариями. Затем установили грузовой лифт и оснастили его хитроумным электронным устройством, так что лифт стал управляться только сверху. После чего направленными взрывами завалили железнодорожный въезд в карьер. Строй и тут же разрушай.
Специальное ведомство занимается нашим снабжением: банковскими чеками, закупкой заказанного товара, доставкой вещей и транспортировкой их вниз на лифте. Наши желания вынужденно скромны. Все виды затрат строго ограничены. Именно это обстоятельство чуть было не склонило Уго аннулировать свое согласие поселиться в колонии. Жизнь в самоизоляции должна иметь свои специфические радости, пытался втолковать он администрации. Он добивался разрешения заказать сборный бассейн с водоочистительной установкой. Хотел также уплатить за портативный ватерклозет. И, разумеется, ему требовался микрокомпьютер в качестве партнера по шахматам. Мы цивилизованные люди, пытался убедить он чиновников. Бесполезно. Вконец отчаявшись, он выложил карты на стол. Мол, а как же права человека, как-никак он, Уго, сам финансирует эти покупки! Но его и слушать не стали. У заключенного нет никаких прав, кроме прав заключенного. И хватит болтать ерунду. Должен понимать — не отдыхать едет на свою виллу на Средиземном море, а препровождается под конвоем охранников в тюрьму на открытом воздухе. И все же Уго примкнул к нашей компании. Теперь ходит справлять нужду за кучу мусора и принимает душ под еле сочащейся струйкой воды. Труба, спускающаяся по стене каньона, проржавела, и кран с трудом поворачивается. Мне приходится открывать и закрывать его обеими руками. Воду для Бесси я таскаю издалека. Может быть, корове хотелось бы пить и чаще, но я и так выбиваюсь из сил с этими ведрами. Мужчины нарочно не помогают мне. Один лишь Жан приходит иногда на помощь. Остальные терпеть не могут Бесси. Упрекают меня, что я только о глупой скотине и забочусь. Эти остолопы, похоже, ревнуют меня к Бесси. Ничем другим этого не объяснить.
Я никогда раньше тяжелой работой не занималась, так что уход за Бесси для меня своего рода закалка. Я поняла, что человек должен вкалывать, если хочет избавиться от ночных кошмаров. Мне следовало бы давным-давно это уразуметь, может, все сложилось бы иначе. Ну да ладно. Сожаления не помогут. Что касается мужчин, то я перехитрила их, сумела выторговать себе у администрации кое-какие привилегии. Мы уже некоторое время прожили в колонии, когда я вместе с очередным заказом на товары отправила должностным лицам прошение. Оно получилось весьма душещипательным. У меня у самой навернулись на глаза слезы умиления, когда я перечитала свой опус. Прежде всего я деликатно намекнула, что имею определенные заслуги в освоении колонии нового типа. И что мой прецедент окажется неоценимым, когда жизнь в карьере придется пропагандировать среди других заключенных женщин. Предвзятость всегда опровергается положительными примерами. Я же довольна здешней жизнью. Часто ли можно встретить заключенных, которые не жалуются? Более того: я верю в успех эксперимента и советую в дальнейшем расширить эту систему. И хотя я всем довольна, тем не менее прошу разрешения увеличить квоту закупок. Кабинетным работникам следовало бы понимать, что когда без конца крутишься и носишься, да еще под открытым небом и палящим солнцем, одежда снашивается быстрее, и особенно тонкая женская одежда. Кроме того, чтобы выдержать пребывание в раскаленном, как духовка, карьере, надо пить красное бургундское вино. Здешний микроклимат действительно трудно переносим: сильные порывы ветра редко когда разгоняют воздушные массы, застывшие в каньоне. Здесь царит сухая жара, почти как в пустыне. Я благоразумно решила не добавлять, что вместо дозволенных двух бутылок виски неплохо бы получать четыре. Может, в дальнейшем удастся выклянчить еще что-нибудь. Например, шампанское. Ведомства надо осаждать требованиями постепенно, почти незаметно. Через определенные промежутки времени, так, чтобы предыдущая уступка успела позабыться. Просить слишком многого было бы опасно: нажатие на кнопку, и на дисплее появятся мои данные, после чего последует отрицательное движение головой: опять эта женщина сбилась с правильного пути.
Может, они и не дочитали мое прошение до конца, может, их тронуло это извечное женское стремление менять свою одежду на более модную. Мне разрешили увеличить расходы вдвое. И я отослала в банк соответствующее распоряжение. Я испытывала необъяснимое торжество, словно одержала над кем-то победу. Прежде я не умела ценить свои неограниченные возможности, я могла, если б захотела, купить фламинго, чтобы оживить свой сад. Когда прибыло первое заказанное мною вечернее платье, я на несколько часов заперлась в виварии. Долго и жадно разглядывала свой новый наряд, хотя он и не относился к числу шикарных моделей моей излюбленной фирмы — для покупки уникального комплекта не хватило бы той суммы, которую мне удалось выторговать, так что пришлось примириться с моделью платья, выпущенной небольшой серией. Ну, во всяком случае, здесь, в самоизоляторе, можно было не опасаться, что столкнешься с какой-нибудь дамой в таком же наряде.
Когда я в тот вечер появилась среди своих товарищей по невзгодам в новом туалете, то и они оживились. Подобного рода зрелища успели уже позабыться. Один только Уго помрачнел. Глаза его сузились и засверкали. Его взгляд испугал меня. Странно, раньше я не замечала, чтобы этот человек принадлежал к породе хищников. На протяжении всего вечера Уго старался побольнее уязвить меня. Он поносил цветовую гамму моего платья, находя, что это жуткая мазня. Неудачную модель именно потому и сбагрили в колонию, что там, дескать, сойдет. Нет предела безвкусице, рассуждал Он, этот наряд — дурной сон мидинетки. Лучше б закинула свою новую тряпку подальше да продолжала разыгрывать из себя деревенскую девчонку, бегала бы в парусиновых брюках, матерчатых сандалиях или горных ботинках. В тот вечер его голос звучал пронзительно, Уго говорил со мной премерзко, словно я была его собственностью. И вконец взвинтил мне нервы. Через какое-то время и у остальных лопнуло терпение, и они принялись корить его. Но защищали они меня неумело. Жан стал размахивать руками и утверждать, что Флер очаровательна, но презрительный взгляд Уго заставил его заткнуться. Уже и раньше У го давал Жану понять, дескать, нечего голодранцам соваться, когда разговаривают господа. Застенчивый Фред пролепетал что-то о людской озлобленности, но несправедливости не пресек. Майк ни с того ни с сего принялся разглагольствовать о грубости, нарушающей гармонию жизни, но его никто не слушал. Я надеялась, что Эрнесто, как настоящий мужчина, вскочит и задаст Уго жару. Но нет. На его лице застыла отвратительная усмешка, и это еще больше раззадорило Уго.
В тот вечер я ждала, что какой-нибудь внушавший всем нам страх дежурный снайпер — охотник на людей, вскинет винтовку с инфраприцелом и возьмет кого-то из нас на мушку. Однако вокруг стояла тишина.
Размолвка, не вылившаяся в ссору, улеглась сама собой, оставив в душе тяжелый осадок.
После полуночи, когда мы забрались в свои виварии, я услышала чьи-то шаги возле моего вагона. В эту ночь я заперлась на задвижку, и проникнуть в мое жилище можно было, лишь взломав дверь ломом. За дверью топтался Уго. Прижавшись щекой к стенке вагона, он шептал в дверную щель пылкие слова. Мне и без того было душно и жарко. Казалось, будто горячее дыхание Уго обволакивает меня, когда он, как в бреду, повторял: дорогая, не плачь. Ты прекрасна. Так прекрасна, что мне больно.
Мне хотелось дышать спокойно, но я не могла. Я свернулась на кровати, держа под мышкой бутылку виски и давая волю слезам. Время от времени я отхлебывала из бутылки. И даже у слез, которые непрестанно текли из моих глаз, был привкус спирта.
5
нетущая неизвестность и любопытство терзали меня, однако я сдержался и не стал во всеуслышанье требовать правды и разъяснения. Немного терпения, и Флер наверняка сама все расскажет. Разумеется, я понимал, что на полную ясность рассчитывать не приходится. Цивилизация, казалось, для того и развивалась, чтобы погрести под лавиной расплывчатых слов даже самые простые отношения и понятия. Всевозможные гипотезы, версии, концепции, теории, обвинения и оправдания — все они были не что иное, как эквиваленты хорошо замаскированной примитивной лжи. Чем глубже люди рассматривали какое-нибудь явление, тем дальше уходили от его сути. Нескончаемое барахтанье в мутных волнах. Ощущение опасности и инстинкт самосохранения невероятно переплелись. Массам, потерявшим в этой неразберихе голову, скармливались примитивнейшие истории. Тот самый фантастический фильм, главная роль в котором принесла мне известность, это тоже был просто-напросто дурацкий миф. Этически высокоразвитое общество планеты XZ самоотверженно боролось против агрессивных устремлений малоразвитой Земли. Благородные обитатели XZ уничтожали размещенное в космосе супероружие и пытались защитить мировое пространство от загрязнения. Возможно, успех фильма и был обусловлен тем, что в нем предлагалось людям утешение: где-то есть существа, которые честнее и умнее нас, они стараются предотвратить мировую катастрофу и охраняют людей-букашек от апокалипсических ужасов. Подобный миф действовал как-то успокаивающе и благотворно. Возникала иллюзия, будто здравый смысл утрачен не до конца. Земной гуманизм — это захиревший выродок, у него есть где-то большой и сильный брат, на которого можно положиться.
Я молча слушал Флер и кивал в знак согласия. Предложенная ею версия была не так уж плоха, если учесть, что ее придумала женщина. Безусловно, все наслышаны о многочисленных экспериментах, в ходе которых человек подвергает себя испытаниям в непривычных условиях. И, разумеется, тогда он открывает в себе подспудные силы. Экспедиции в одиночку на Северный полюс, кругосветные путешествия на парусной лодке или на бамбуковом судне, построенном по древним образцам; либо попытки выжить и прокормить себя в каком-нибудь уединенном месте, пользуясь примитивными орудиями труда пещерного человека. Чтобы в который раз доказать наличие новых, вернее давно позабытых, возможностей существования. Человечество подсознательно ищет альтернативу. В случае тотальной ядерно-водородно-нейтронной войны кое-кто, может, и уцелеет, дабы воссоздать популяцию на опустошенной планете. Самые светлые головы всегда старались смотреть вперед, проецировать настоящий момент в будущее и даже при самом мрачном прогнозе ловить луч надежды. Пусть в перспективе видны лишь две бесконечные глухие бетонные стены, между ними все-таки остается вертикальная светлая щель, это нож оптимизма прорезал там узенький выход в залитое светом пространство.
Я сижу на полу в своем виварии. У них оставались про запас пустые вагоны. Значит, в последнюю минуту число участников намеченного эксперимента сократилось, часть людей заколебалась и не воспользовалась отведенным им кровом. Флер дала мне несколько банок консервов и показала сильно проржавевшую двухдюймовую трубу, свисавшую со стены каньона и кончавшуюся громоздким вентилем. У меня было все, что требовалось для жизни: воздух, пища, вода, крыша над головой, — Флер велела мне обживаться. И все-таки внутренне я как будто нахожусь в состоянии невесомости, словно нет у меня ни прошлого, ни будущего, ни памяти, ни представлений, ни обязанностей, ни забот. Я могу существовать, то есть функционировать физически. Я ничем не обременен. У меня пустой, чуть погромыхивающий вагон, старый пульман, где я мог бы пройтись колесом, возникни у меня такое желание. Но в данный момент у меня нет никаких желаний. Я сижу на полу, прислонясь спиной к стене, и тупо гляжу в полупустую консервную банку. Я просто существую и перевариваю пищу. Еда точь-в-точь такая, какая берется с собой в экспедицию, даже хлеб в металлической банке с крышкой.
Я почти ощущаю, как после долгого голодания сахар в крови снова приближается к норме и сердце начинает биться спокойно и ровно. Расслабляюсь и даю себе передышку, я словно перестаю быть самим собой и накапливаю силы, чтобы осмыслить увиденное.
Я вроде бы независим, но я-то знаю, что эти чужие мне люди там, в других вивариях, могут сделать со мной что им заблагорассудится. Ничто не помешает им совершить глупость или жестокость, они не обязаны мотивировать свои поступки. Дверь у меня не запирается, не говоря уже о возможности прибегнуть к защите общественных инстанций; вчера они разломали мой планер, сегодня им может не понравиться, что я все еще не отдал концы.
В своей беззащитности я похож на ту старую виллу, где я жил ребенком. Кажется, еще и теперь цел тот построенный когда-то в лесопарке дом. Там сделали капитальный ремонт, но судьбу здания это не изменило. Убогое, оно притулилось между выросших словно по волшебству высотных домов-башен и с непреодолимой силой притягивает к себе поселившихся в этих новых домах детей асфальта. Проказниками движет любопытство: вилла — чужеродное тело в современном районе новостроек. Отличающийся от всех остальных дом, стоящий среди покореженных, наполовину высохших деревьев, кажется обманом зрения. Необычный, он, очевидно, таит в себе незнакомый и таинственный уклад жизни. И это обстоятельство не дает покоя, выводит из равновесия, раздражает. Причину душевного смятения надо ликвидировать, и на это боевого духа хватит у каждого.
Таким образом, старая вилла стала жертвой непрекращающихся набегов. В заваленном мусором бассейне вечно дымится костер. Стоит кому-то залить его водой, как за завесой едкого и смрадного дыма костер снова возрождают к жизни с помощью фляжки с бензином.
Дети высотных домов забираются в подвал виллы и залезают на чердак. Они пробираются через люк на крышу и разгуливают там, громыхая жестью. Жертвой их агрессивного любопытства стали круглые чердачные окна, которые в прежние времена поблескивали из-под края карниза, как стекла очков, и глядели во все стороны света. Обновленные в ходе ремонта водосточные трубы тотчас сделались добычей неугомонных детей: куски труб из оцинкованной жести, подобно расчлененным конечностям огромного насекомого, так и валяются до сих пор в кустах сирени.
А может, и я уподобился агрессивному детищу асфальта, которого раздражает не поддающийся объяснению уклад жизни? Чем больше я прихожу в себя после пережитого и изнуряющей усталости, тем беспокойнее становлюсь. Увы, я уже давно взрослый и знаю, что неистовая деятельность, по сути, не что иное, как переливание из пустого в порожнее. Это не невинное приключение, которым наслаждаешься, зная, что скоро все будет позади…
Не крылось ли в зове покойной Урсулы какое-то предостережение? Хоть я и не фаталист, однако…
Когда Флер закончила обихаживать Бесси, я отправился следом за ней.
Солнце припекало макушку, воздух рябил, ни дуновения ветерка. Мы шли по буграм, большим и поменьше, тропинки не было. Пейзаж уже не казался сплошь искусственным, хотя и естественным его нельзя было назвать. Без конца приходилось обходить выветренные ветрами и размытые дождями нагромождения, напоминавшие гигантские столбы. Странно, что эти коричневатые образования не тронули ни лопата, ни экскаватор. Возможно, сердцевина у столбов была каменной.
Местами каньон сужался, мы были букашками на дне оврага, карабкавшимися между темными глыбами руды. Быть может, когда-то эти затвердевшие громады рухнули сверху, отломившись от зубчатых краев глубокой пропасти, увидеть которые можно было, лишь задрав голову. Выбраться отсюда — все равно что взять приступом отвесную скалу. В поднебесье резко закричала какая-то птица. Пронзительный звук был рожден где-то в застывшей темной и морозной далекой ночи, там, где на рельсах, расходящихся по блестящим стрелкам, скрежещут колеса поезда, и казался в этом зное мучительно неуместным.
Мало-помалу каньон начал расширяться, отвесные стены отступали и раздвигались, можно было предположить, что впереди выдолбленные участки карьера тянулись в разные стороны подобно щупальцам. Постоянно совершенствующимися орудиями производства здесь, возможно, веками добывали руду. Ведь вся цивилизация поднята человеком из глубин земли. Молох прогресса все яростнее и алчнее вгрызался в горные породы и отложения, жег и плавил земные богатства и большими глотками запивал их черным соком земных недр.
Внезапно Флер, шедшая впереди, скользнула в проход, выдолбленный в выступе стены, ободряюще махнула мне рукой, мы сделали несколько десятков шагов в живительной прохладе полутьмы и вышли в пышущее жаром ответвление карьера, напоминавшее по форме овальное блюдце, зажатое высокими бурыми стенами под блеклым выцветшим небом.
На блюдце лежала богатая добыча. В глазах у меня зарябило.
Флер заметила, что я опешил и зажмурился. Она взяла меня за руку и остановилась, чтобы я освоился с внушающим страх зрелищем. Очевидно, мы очутились на берегу искрящегося моря, в ушах шумело. Я торопливо ступил в несуществующую воду, и Флер со мной. От яркого блеска больно резало глаза, мы нырнули в мусорную свалку. Огромные кучи, таившие в себе угрозу обвала, образовывали здесь холмистый ландшафт. Я озирался по сторонам. Сверкали стекло и никель, отражая в себе солнечный диск, который, подобно шаровой молнии, вприпрыжку следовал за нами. Мы шли по дну диковинного моря все глубже и глубже, казалось, нагромождения вещей, как гребни волн, вот-вот сомкнутся над нашими головами. Какие-то полоски жести и металлические прутья цеплялись за брючины, под ногами что-то скрипело, откуда-то, звякая о железо, сыпались осколки.
Возможно, когда-нибудь бурые стены карьера рухнут и погребут под собой эти груды. Тогда у потомков будет увлекательное занятие: откапывать пласты культуры нашей эпохи. Станки, бочки, проволоку, котлы, моторы и трубы; телевизоры и телефоны; холодильники и битое стекло; всевозможные конструкции, кондиционеры, кухонную утварь и множество каких-то обломков, которые и не знаешь, как назвать. Пытливые потомки решат привести в систему материальное наследие нашей эпохи; они установят в полуобвалившемся карьере вентиляторы с реактивными двигателями, чтобы с их помощью сдуть с завалов слой земли, и станут копаться в вещах, отгадывая их предназначение.
Стоит удушливый смрад. В нижних слоях мусорной кучи, видимо, что-то гниет. Голод и усталость обострили мою восприимчивость. Перед глазами плывут круги. В затуманенном сознании промелькнула мысль: странные люди, добровольно проверяют возможность существования на всемирной мусорной свалке. Неужели человеку суждено уподобиться крысе?
Удушливое зловоние сменилось запахом промасленного металла. Я заметил, что мы идем странной улицей, вдоль которой вместо домов стоят нагроможденные друг на друга отжившие свой век автомобили. Иные с виду вполне пригодные, большая же часть — остовы. Сеть дорог на кладбище машин на редкость упорядочена, дороги перекрещиваются под прямым углом, тут и там попадаются пустыри, словно городские площади.
Я шел все дальше, ноги у меня подкашивались. Не помню, чтобы когда-либо раньше я так уставал. Стало стыдно своей слабости. Может быть, виски, которое я пил накануне вечером, содержало вещество, отнимающее силы и парализующее волю?
Мы все бродили и бродили по городу мертвых машин. Я ждал, что какие-нибудь странные существа, например сморщенные старички, усохшие до размеров младенца, держась за ручки, вот-вот выползут из дверец нагроможденных этажами машин и, устроившись на каком-нибудь выступе, начнут по-идиотски хихикать: видали дурака, разинул рот и хочет докопаться до сути вещей.
Неожиданно ландшафт изменился. Мы достигли пустыря, на котором, выстроившись по-военному в ряд, стояли пульманы. Никто их не опрокинул и не нагромоздил один на другой. Виварии были на колесах и стояли на рельсах буфер в буфер. Высоко наверху выступала стена карьера, отбрасывая на поезд без локомотива неровную зубчатую тень.
Не помню, как я вошел в дверь своего вагона. Во всяком случае, я тотчас же растянулся на полу, голова моя, казалось, куда-то покатилась, перед глазами маячила черно-бурая стена каньона.
Теперь я в своем виварии собираюсь с силами и не отрываясь смотрю на консервные банки, лежащие передо мной на полу.
Надо же — у меня есть свой дом. Крошечные окошки под потолком, большая раздвижная дверь, въезжай хоть на машине.
6
пробуждаюсь от отупляющего забытья.
Флер сидит в дверях, подогнув ноги, обхватив колени руками, касаясь затылком притолоки. Не глядя на меня, говорит:
— Ну и соня же ты, Боб. И откуда только у тебя такое спокойствие? Мы до полуночи, как привидения, бродим по карьеру, прежде чем нас начнет шатать от усталости. Валяться без сна на тюфяке — это же с ума сойти можно. Я уже устала ждать, сколько раз пыталась заговорить с тобой, а ты не отзывался, продолжал себе посапывать. А может, притворялся? Предупреждение слышал?
— Не слышал.
— Ну так слушай. У меня под рукой флакон. Нет, не с питьем, а с ядом, и под очень большим давлением. Если прысну, ослепнешь на несколько дней. Понял?
— Ты зачем меня пугаешь?
— Чтобы слушался. Без разрешения ни шага! Порог вагона — граница, учти это. И цени мою доброту. Эрнесто приказал повесить на дверь замок. А я пообещала караулить тебя. Так что не беспокойся.
— А есть ли смысл меня караулить?
— Человек тотчас меняется к лучшему, если за ним приглядывать! — убежденно восклицает Флер. — Разве ты не знаешь, что свобода пагубна для человека?
— Я готов поклясться хоть богом, хоть чертом, что не стану совать нос в ваши дела, если дадите мне уйти. Полезу наверх по стене по следам вашего приятеля Сэма. Не зря же он взлетел на воздух, как-никак прорвал минный пояс. Теперь есть выход. Если хотите, умолчу о вашем существовании. И в конце концов, какое мне дело до какой-то компании сумасбродов, делайте что хотите. Я вам чужой, у вас нет права командовать мной.
— Каждый властен над всеми, и все властны над каждым, — самоуверенно заявляет Флер. — Выбрось из головы свои дурацкие планы. Мы по горло сыты искателями счастья. Мины поставлены в несколько рядов. Сэм это знал, но у него сдали нервы.
— Сколько мне еще торчать в этом пульмане?
— Наберись терпения. Не задавай дурацких вопросов. Не спорь. Постарайся поладить с мужчинами. Может, тогда они тебя не тронут. Но вообще-то на них нельзя полагаться. Мы все немного со странностями. Во всяком случае — подвержены настроениям. Да и вообще, где теперь увидишь милых и добрых людей?
— Могли бы и остальные прийти сюда, выяснили бы все до конца.
— Нигде и никогда нельзя выяснить все до конца, — с ненужной запальчивостью внушает мне Флер.
— Значит, так и будем здесь киснуть?
— Слушай, Боб, — сердится Флер. — Ты смеешь заявлять, что киснешь в моем обществе? Ну, знаешь, я не терплю хамства со стороны мужчин.
— Прости. Могу пропеть тебе оду. О, ты, прекраснейшая из прекрасных! — Я замолчал, мне стало неловко.
Флер украдкой взглянула на меня, в глазах обезоруживающая беспомощность, как у всех людей, остерегающихся неуместных шуток.
Очевидно, в глубине души я напуган, раз прибегаю к насмешке. Нет причин говорить колкости этой женщине. Она единственная отнеслась ко мне с участием. И все же она слегка действует мне на нервы, сам не знаю почему. Может быть, дым лесного пожара помутил мой рассудок. А может, вселяющий ужас каньон внушил мне, что мистика возможна. Во сне я надеялся: открою глаза, а подле меня сидит моя Урсула.
— Боб, прошу, не огорчай меня, — тихо произносит Флер.
Эта женщина всевозможными способами старается подчинить меня своей воле. Очевидно, она удивлена, что я не пожираю ее взглядом, тогда не понадобились бы слова. Мне кажется, я был тверд и осторожен, но тем не менее чувствую, что меня заманили в ловушку. Сижу в этом вагоне, как в камере, и ничего не могу предпринять для своего спасения. Может, меня ищут с вертолетами — но я не могу дать знать о себе. Даже планера нет, который указал бы на мое местопребывание. Нет возможности развести костер, чтобы привлечь к себе внимание. Я попал в лапы маньяков. Всевозможные секты, подобно сыпи, появляются на теле человечества, страдающего отравлением цивилизацией. Сектанты-фанатики не щадят даже себя, не говоря уже об остальных.
Вдали взревел мотор и тут же заглох. Его снова пытаются завести. Плохо отрегулированный мотор фыркает, работает с перебоями, чихает. Резкие звуки ударяются о стены карьера и падают оттуда на крышу вивария.
Флер встает, приподнимается на цыпочки, обводит взглядом кладбище машин, она забыла о моем существовании. Я бы мог взять с пола флакон и прыснуть химикалием в лицо женщины. От отвращения я вздрагиваю. Вижу стонущую Флер, прижимающую руку к глазам. От нестерпимой боли она не находит себе места. Я вожу ее по городу мертвых машин и терпеливо объясняю, что находится справа, а что слева. Стремясь хоть как-то искупить свое преступление, я обстоятельно описываю ей вмятины, вздутия, пятна ржавчины на атрибутах неотъемлемых благ цивилизации. Несчастная Флер повисла на мне и жалобно стонет: и ты, и ты!
На самом же деле Флер топчется в дверях, в отдалении тарахтит мотор.
— Жди меня здесь! — вдруг повелительно кричит Флер, спрыгивает из вагона на землю, я слышу, как стучат подметки ее ботинок по плотно утрамбованной земле. Она бежит на шум. Что задумали эти сумасшедшие? И вообще — осмысленны ли их действия? Что взволновало Флер? Может, они затевают нечто опасное? Вижу, как стремительно вышагивает Флер, ее загорелые ноги движутся ритмично, локти согнуты и она, подобно бегуну на длинные дистанции, несется вперед. Исчезает за разбитыми машинами. Я с нетерпением останусь ждать ее, словно она должна вернуться бог знает с каким известием.
Кто-то там старательно газует. Мотор ужасающе тарахтит. Очевидно, машина с места не двигается. Я же пригвожден к флакону с ядом. Разумеется, меня удерживает не эта дрянь в аэрозольной упаковке. Рискованно осложнять свои еще не сложившиеся отношения со здешними обитателями. Их тут слишком много. Разумнее будет своей покорностью усыпить бдительность мужчин.
Пусть катятся ко всем чертям. Мне даже хочется, чтобы в этом чаду и грохоте что-то взорвалось. Чтобы горстку безумцев мусором разметало по этой свалке. Чтобы они сгинули навсегда вместе со своими угрозами. Конечно же минный пояс по краю карьера — пустая выдумка. Точно так же, как и погибший Сэм — бесцветный герой жалкой легенды. Уж я бы отыскал пологую стену, по которой вскарабкался бы наверх. Нужны кирка и крюки. Не всюду же карьер похож на каньон!
Я бы хотел вновь оказаться в привычной среде. Нудная, порой тягостная будничная жизнь — какое это счастье! Невыносимо, когда человека, словно котенка, швыряют на дно колодца. Я и нахожусь в колодце или преисподней, здесь кричи хоть до полного изнеможения — никто тебя не услышит. Небо над головой — это всего лишь мираж, меняющий окраску, утром светлеет, а с наступлением вечера гаснет. Огромное и безмятежное небо. Изменчивое, облачное, солнечное — величавый бескрайний воздушный океан — и внезапно — никакое. Инертное. Как вакуум. Безветренное и пустынное. Я не в состоянии улететь отсюда, чтобы вновь приземлиться в свою повседневную жизнь.
Они все еще возятся с мотором. Он работает на предельных оборотах.
Грохнуло. Напрягаю зрение. Вдалеке обрушиваются нагроможденные друг на друга покореженные машины. Чего они роются в этих развалинах?
Здесь, в карьере, надо освободиться от дурной привычки искать логическую связь явлений, все это бессмысленный расход умственной энергии. Если обитатели вивариев решили подвергнуть себя испытаниям, чтобы доказать возможность существования вне социальных связей, то зачем же они пытаются воссоздать привычную среду? Удалиться от исходного пункта, чтобы, сделав круг, вернуться туда же? Так эксперимент с самого начала обречен на провал. К чему они запускают моторы? Почему хотят снова и снова с помощью машины изменить свое местоположение в пространстве? К чему создавать в забытом богом и людьми карьере городскую атмосферу? Неужели они не в состоянии жить без чада, дыма и шума? Здесь же некуда ехать. Даже соображения престижа здесь отпадают.
А может, человек испорчен до мозга костей и неспособен к очищению?
Эксперимент — похоже, это вздор. Скорее какая-нибудь секта, совершают современный культовый обряд: жертвуют ревущий мотор на алтарь мусорной свалки.
Перед темной кучей стоит светлая фигурка. Это Флер неожиданно возникла там, среди отбросов и хлама, словно она вышла из пробитого в мусоре и рухляди потайного хода. Флер кажется внезапно такой хрупкой и беззащитной подле это черной груды — заблудшая овечка на фоне грозных кучевых облаков, — мне стало жаль ее. Почему эти безумные мужчины вовлекли в свою дурацкую секту женщину?
Флер чуть ли не бегом устремляется к вивариям, размахивая руками. Несмотря на горные ботинки, она делает несколько прыжков, затем кружится на одном месте, такое впечатление, будто ноги ее скручиваются узлом. С чего бы такое упоение? А может, она притворяется?
Я сижу в дверях вагона, подперев голову.
— Не будь таким бесчувственным! — кричит она мне.
Что я должен, по ее мнению, делать? Сама только что угрожала и запугивала меня. Может, мне все же дозволено сидеть в дверях, свесив ноги?
Задыхающаяся Флер кладет локти мне на колени, и я. вздрагиваю. Глаза у нее большие и влажные, желтый платок съехал на затылок, пуговицы на блузке расстегнуты чуть ли не до пояса, от ее непосредственности мне становится не по себе. Может быть, инфантильность взрослых людей не только порок эпохи, но и мода?
Дыхание Флер становится спокойным, глаза светятся неподдельным оживлением, и все же я чувствую, что она вот-вот готова расплакаться.
— Ты не представляешь, Боб, что они там нашли! — выпаливает Флер.
На секунду зажмуриваю глаза. Наваждение. В голосе Флер звучит непритворная доверительность, словно мы с ней старые приятели и вместе играли когда-то в песочнице.
— Они откопали в куче хлама белую машину Луизы! Я ошалела от счастья. Мы снова встретились! Что из того, что она помята, обивка истлела, арматурный щиток в трещинах, фары разбиты, решетка проржавела, шины спущены — все равно это машина Луизы! Это не просто «мерседес» — это мое детство. Как часто мы утюжили асфальт этой белой машиной! Давай опять почешем спину шоссе, радостно восклицала я, усаживаясь рядом с Луизой. Ни малейшего сомнения. Я осмотрела всю машину. Мое сиденье снизу словно покрыто коростой. Луиза ужасно сердилась, когда я приклеивала туда жевательную резинку. Я ловила момент, чтобы она не заметила, и продолжала наклеивать. Это бесконечное ралли порой наскучивало мне. Я знала наперечет каждую виллу за каждым поворотом. В маленьких деревушках я требовала остановиться. Луиза не спорила, она тоже любила море и запах рыбы. Мы дышали жадно и наперегонки. И — в путь. Снова поднимаемся в горы, моросит дождь, взад-вперед убаюкивающе ходят щетки дворников, и мне совсем не хочется взрослеть. Сидя рядом с Луизой, я засыпала и просыпалась, а она знай себе следит за дорогой и едет. Мне казалось, что она никогда не устает. Только часто меняет очки. В ящичке их был не один десяток, на любую погоду. С наступлением темноты она надевала Очки в золоченой оправе, их она держала в замшевом футляре и не позволяла прикасаться к ним. На стеклах не должно быть ни малейшей царапинки. Луиза говорила, что эти очки делают ночь светлее. Я верила Луизе и считала правильным все, что бы она ни делала. Машина Луизы была мне домом в гораздо большей степени, чем дом, в котором мы жили. Я обожала Луизу, а она меня. Но я и досаждала ей. Любовь ведь надо подвергать испытаниям, не правда ли? Порой мы приезжали в отель очень поздно. Так поздно, что в ресторане уже гасили свет. Мне же непременно хотелось молока и булки. И Луиза вела ребенка в ресторан. Сонная, я висела у нее на руке. На самом деле мне вовсе не хотелось молока и булки, но мне доставляло удовольствие, когда Луиза сурово хмурила брови и требовала у строптивого официанта того, чего хотел усталый ребенок. И ни один из них не осмеливался перечить Луизе. Желание ее было священно. И мое желание было священно. Мы были до смешного эгоистичны, не правда ли? — рассмеялась Флер.
— Кто такая Луиза?
— Долгое время это меня не интересовало. Я просто была с Луизой одно целое. Я твоя Луиза, а ты моя Флер, говорила она всегда. Я была уже девушкой, когда мне внезапно захотелось все узнать. Прежде чем решиться спросить, я подумала, что, наверное, она взяла меня к себе на воспитание. К себе и к своему ворчуну. Мой милый ворчун, обычно говорила она своему мужу, лишая его таким образом возможности ворчать. И вот в один прекрасный день я узнала, что Луиза моя родная бабушка. А ворчун Висенте — родной дедушка. С того момента я стала сторониться их. Словно они предали или обманули меня. Мне вдруг захотелось отделиться от них. Странно, не правда ли?
Флер прижимается щекой к моему колену, и я боюсь пошевелиться.
7
снова погрузилась в безбрежное море печали. Что-то серебристое и неуловимо зыбкое трепещет вокруг меня, мне кажется, я слышу какой-то неясный шепот. Висенте и Луиза утешают меня. Мне хочется выбраться, но нет берегов. Тело ощущает дыхание знойного дня, разум подсказывает, что я нахожусь меж бурых стен заброшенного ртутного карьера. Это киноварь, пояснили мне в первый же день мужчины. Не бойся, здесь нет ничего сверхъестественного, просто земля имеет цвет киновари. Но светлые переливы настроения сильнее призрачно-красного цвета вспоротой земной коры, вивариев и мусорных свалок. Мужчины и раньше выкапывали из-под обломков вполне пригодные машины, чинили их и заводили. Но то, что они наткнулись на машину Луизы, привело меня в смятение.
Мое странное зыбкое детство вновь обступает меня. Была бы Луиза жива, она бы вызволила меня отсюда. Прорвалась сквозь минный пояс, наплевав на опасности, и осталась бы целой и невредимой. Появилась бы здесь, прижала меня к груди, дала бы мне выплакаться и увела с собой по одной лишь ей известной тропе.
В детстве я привыкла ждать долгих телефонных разговоров. Знала: сейчас Луиза уставится в одну точку, будет стоять как изваяние, расставив ноги, не слыша, что ей говорят, не обращая внимания на Висенте, положившего ей руку на плечо, и внезапно очнется, словно для того, чтобы произнести: в путь. Пружина закручивалась. Луиза носилась туда-сюда, взбегала по лестнице в спальню. Укладывая вещи в дорожную сумку, Луиза громко, так, чтобы слышал Висенте, выглядывающий из окна первого этажа, говорила — я должна, не знаю, как надолго мы с Флер задержимся. Стремительно выехав из гаража, Луиза опускала в машине стекло и выпаливала стоящему на лестнице Висенте, что путешествие, возможно, будет для ребенка утомительным и поэтому придется где-нибудь несколько дней отдохнуть. Моя усталость была просто-напросто предлогом, чтобы развязать себе руки. При желании я всегда могла поспать на заднем сиденье машины, Луиза никогда не забывала взять с собой подушку и плед.
Помню, однажды — я тогда была еще маленькой и у меня не было привычки спать в машине — я почувствовала себя осоловевшей от шума мотора и петляющей дороги, и мы с наступлением ночи остановились перед сверкающим огнями отелем. Портье взял меня на руки, отнес в вестибюль, и я погрузилась в мягкое кресло. Позднее, в номере, я ожила и по приказу Луизы забралась в ванну из белого мрамора, огромную, как бассейн, я визжала, плескалась, сон сняло как рукой. Луизе было жаль лишать меня удовольствия, тем не менее ей не терпелось поскорее уложить меня в постель. Мне запомнилось неестественное выражение ее лица: взгляд задумчивый и одновременно беспокойный, а на губах мягкая сочувственная улыбка. У меня пропала охота плескаться и резвиться, я нырнула под прохладные простыни и зажмурила глаза. Возбуждение после длинной дороги не давало уснуть. Щелкнул дверной замок. Луиза куда-то ушла.
Я проснулась от шума воды. Потихоньку вылезла из постели, неслышно прошла по толстому ковру и через приоткрытую дверь ванной комнаты заглянула в окутанное паром помещение. У меня захватило дух — настолько потрясающим было зрелище, открывшееся передо мной. В ванной стояла молодая женщина в вечернем платье, из душа на нее лилась вода, коротко остриженные волосы прилипли к голове, светлый, в локонах, парик валялся на черно-белом в шахматную клетку полу. Луиза стояла спиной к двери, все еще в дорожной юбке, разутая, рукава блузки закатаны, и большой розовой губкой терла лицо молодой женщины.
В своем детском неведении я считала, что Луиза хочет позабавить меня. И все же какой-то необъяснимый запрет не позволил мне открыть рот и рассмеяться. Очевидно, мне показалось странным, что молодая женщина, с которой обращались так бесцеремонно, стояла смирно, позволяя Луизе распоряжаться собой. Я подумала, уж не кукла ли это в человеческий рост, потому что с длинных ресниц на щеки стекали черные ручейки краски.
Резкое движение Луизы, и молния на спине вечернего платья куклы открылась. Нет, это все-таки человек. По очереди приподняв ноги, женщина освободилась от своего мокрого и мыльного одеяния. Сняла и белье — удивительно, что можно раньше помыться и только потом раздеться. Я почувствовала свое превосходство, меня Луиза научила, как надо делать правильно. Луиза терла губкой тело молодой женщины, мыльная пена разлеталась во все стороны. Мне стало не по себе, и я забралась обратно в постель. Натянула одеяло по самые уши и стала ждать, что будет дальше. Вскоре обе они появились в полоске света, и Луиза кинула своей нагой спутнице белый махровый халат. Она чуть ли не швырнула ей этот халат прямо в лицо, и я вздрогнула от испуга. Что еще страшного она намерена сотворить с этой женщиной-куклой? Похоже, ничего. Они исчезли в соседней комнате. Луиза требовательно спросила у своей спутницы: Фе, когда же ты наконец образумишься? Затем дверь бесшумно закрылась — сон ребенка священен.
Позднее мы с Луизой бессчетное количество раз мчались в какой-нибудь из городов Средиземноморья, будь то Испания, Франция или Италия. Одновременно Луиза старалась показать мне мир и людей. В Монако, у княжеского дворца, мы наблюдали смену караула. Я смотрела как завороженная, Луизу же, казалось, не интересовали эти красиво одетые мужчины, марширующие под звуки духовых инструментов. Ее взгляд беспокойно блуждал по сторонам. Мы бродили с Луизой по узким улочкам, усеянным сувенирными магазинами, где она заставляла меня выбирать почтовые открытки, сама же следила сквозь витрины за прохожими. В Монако мы также гуляли в крошечном городском парке. За каменным парапетом зияла пустота, а далеко внизу переливалось море — но даже и это не привлекало Луизу. Она поглядывала через плечо на темную аллею парка. Покидая скалистое царство, Луиза долгое время оставалась молчаливой. Там затеянная ею погоня не увенчалась успехом.
В дальнейшем же ей всегда везло.
Я подрастала, а отели, где мы останавливались, раз от разу становились все меньше и обшарпаннее. Не то чтоб окружающее стало мне казаться беднее или Луиза сделалась скупее, а ее кошелек полегчал — просто та женщина вынуждала нас останавливаться во все более жалких гостиницах. Все неказистей становились ванные комнаты, которыми пользовались мы трое: Луиза, Фе и я. И каждый раз Луиза приказывала женщине-кукле становиться в платье под душ. Словно до нее нельзя было дотронуться, прежде чем не будет смыта вся грязь. Парики, которые Луиза срывала с головы женщины и швыряла на пол ванной, с течением времени меняли цвет. Платиновые сменились угольно-черными, а затем пришел черед рыжих. Чем третьеразрядней был отель, где Луиза находила Фе, тем более вызывающим выглядел парик женщины и тем аляповатее ее платье.
Наши путешествия все удлинялись, и как-то раз в сырой осенней Венеции — к тому времени я сделалась заправским сыщиком и соглядатаем — я наблюдала за Фе, которая долго стояла под еле сочившимся душем. Хотя дожди шли беспрерывно и крупные капли на окнах были как пузыри на лужах, давление в трубах выдерживалось низкое, дабы не транжирить воду. Мыльная пена, взбитая Луизой на голове Фе, медленно, большими хлопьями, падала вниз, однако никак не исчезала. Очевидно, мыло попало женщине в глаза, она часто моргала, веки у нее покраснели, но, может, она плакала и ее слезы текли вперемежку с тонкими струйками воды. Внезапно она заметила меня. У меня болезненно сжалось сердце — такая печаль сквозила во взгляде женщины. Я почувствовала, как из ее глаз в меня заструилось пронзительное и безмолвное отчаяние. У меня было такое чувство, словно я вся намокла и отяжелела. Я широко распахнула дверь, внезапно мне показалось унизительным подсматривать, и я крикнула Луизе: оставь ее в покое! Луиза подошла ко мне, шлепая босыми мокрыми ногами, но я не отступила и не извинилась. Я со злостью смотрела на руки Луизы в мыльной пене — они были такими бесконечно усталыми.
Луиза против моего ожидания не вспылила.
— Скажи, Флер, что я, по-твоему, должна с ней делать? — тихо спросила она.
Впервые Луиза говорила со мной, как со взрослой. Я забыла о своей недавней подавленности, душа моя ликовала. У меня спросили совета! Во мне пробудилось сознание своей власти, и мне захотелось быть великодушной. По своей наивности я полагала, что одной-двумя фразами можно распутать давным-давно запутанные отношения. Я бормотала какие-то ничего не значащие примирительные слова, дескать, пусть Луиза будет добра к Фе, ведь та всегда была такой послушной. Намного послушнее, чем я. Обе женщины, большая и сильная Луиза в блузке с закатанными рукавами и забрызганной юбке и хрупкая Фе, несчастная, вся в мыльной пене, в намокшем и превратившемся в тряпку вечернем платье, расхохотались. Они корчились от смеха в маленькой и душной ванной комнате, выложенной черным кафелем. Их смутные отражения на стене задрожали, очертания их вздрагивающих тел казались затуманенными, словно это были не люди, а отражения отражений, объемный мираж в воздушном пространстве.
Я стояла оскорбленная, не говоря ни слова, пока не заметила, что, несмотря на безудержный смех, у обеих из глаз катились слезы. То, что плакала Фе, смиренная душа, ничуть меня не удивило. Но Луиза! Ее слезы потрясли меня, как некогда землетрясение в Италии, когда Луиза в ночной рубашке схватила меня с постели на руки и выбежала на лестничную площадку. В тот раз все ограничилось несколькими умеренными толчками, меня колотило от испуга. Но плачущая Луиза! Я почувствовала, что и у меня начинает дрожать подбородок.
Позже мы все выпили по стакану красного вина; Луиза вновь стала прежней и погнала меня спать. В висках у меня стучало. Я пережила переломный момент. Перед глазами в хаотическом беспорядке мелькали видения. Когда эти сумбурные видения исчезли, я почувствовала себя одновременно несчастной и гордой. Чужая скорбь, с которой я столкнулась, ранила мне душу и обогатила меня. Во мне стало прорастать зерно мужества. С этой минуты и я готова была взвалить на свои плечи какой-нибудь груз. Мне даже хотелось нести этот груз, чтобы испытать свои силы.
Хотя наши совместные поездки с Луизой были еще настоящим, я поняла: что-то безвозвратно ушло и изменилось. Едва ли ее могли занимать теперь мои проделки и шалости в белой машине — моей второй детской, где я, насколько мне позволяло ограниченное пространство, играла в свои дурацкие игры. Нет, я никогда не прикасалась к многочисленным очкам Луизы. Ее глаза указывали нам обеим дорогу, я усвоила это с малых лет. Но я вытворяла разные фокусы с перчатками. Засовывала их между обивкой сидений и словно невзначай выкидывала по одной из окошка. А затем с интересом следила из заднего окна, как ее подхватывало ветром и кружило, раздувшиеся пальцы начинали трепетать, словно помахивали, прощаясь, и перчатка терялась из виду. Много одиноких перчаток осталось лежать на обочине дорог в пожухлой траве и пыли. Луиза конечно же не могла не видеть мои тайные, тихие и глупые забавы. Сидя за рулем, она мирилась с ними и позднее косвенно наказывала меня. Брала с собой в магазин, где продавались перчатки. Продавщица, как всегда, подкладывала Луизе под локоть плюшевую подушечку и начинала натягивать ей на руку перчатку, перемеряя таким образом не одну пару. Я испытывала в эти мгновения какое-то мучительное чувство. Да и сама Луиза не проявляла особого интереса к предлагаемому ей товару, следя за ерзающим ребенком, старающимся избежать ее взгляда.
В тот раз в Венеции, когда я в полудреме увидела разбросанные по ветру перчатки, реющие над асфальтом, кто-то склонился надо мной. Я почувствовала по запаху, что это не Луиза. Взглянула из-под ресниц — Фе коснулась моей щеки своими пухлыми губами, губы были пугающе холодны. Я вся сжалась. Мимолетный поцелуй надолго запомнился мне. И даже потом я порой просыпалась по ночам и тщетно ждала холодного, как роса, прикосновения. Теперь она часто приходит ко мне. Во сне. Я до утра чувствую на своем лице обжигающе холодный след поцелуя.
Я начисто забыла о Бобе. Под моей щекой вместо подушки его колено. Неловко. Я отстраняюсь. Наверное, я в чем-то похожа на собаку, чутьем распознаю злых и добрых людей. Может быть, мне следовало бы спросить Боба, отчего он такой грустный. Грусть — это миг раздумий, грусть облагораживает жизнь. Мне всегда неприятно смотреть на людей, не испытывающих боли и тоски, их безобразно распирает от самодовольства. Я не стану терзать Роберта расспросами. Вряд ли мне удастся настроиться на его волну. Печаль у каждого своя и определению не поддается. Она слагается из увядших лепестков цветов и звука свирели, растворяющегося в сумраке и тумане. Печаль живет в одиночестве и пустоте. Мы никогда больше не встретимся. Луиза, Висенте и Фе. Так же как Вильям, Дорис и Кэтрин. Кого-то из них больше нет, а для кого-то нет меня. Только что они как будто были здесь. Но я не смогла унестись за ними вместе с дуновением ветра.
И я ведь не совсем одна. Я потихоньку принюхалась к одежде Боба. Такой не пнет собаку ногой, он не жесток. Наверное, и остальные коренные обитатели нашей колонии не сделают этого. Хотя что-то бурлит и бродит в них, беспокойство и неуверенность передаются и мне, делают меня боязливой. Я стала опасаться драк, нездорового блеска в глазах, смеха, похожего на вой, — возможно, я вижу дурное предзнаменование в каких-то случайных проявлениях. Я не знаю, что бушует в этих мужчинах — злоба, отчаяние или обыкновенное беспокойство? Быть может, только Бесси в состоянии успокоить меня. Как было бы хорошо, если б Боб поднял руку и погладил меня по голове. Нет. Он сосредоточенно прислушивается к шуму мотора. Вероятно, и ему хотелось бы «заземлить» в металл накопившееся в нем электричество. Остальные только и делают, что ощупывают проржавевшие и помятые кузова машин, запускают пальцы в сердце мотора, прикасаются к промасленным клапанам, перебирают электропроводку, нажимают ногами на педали, пробуждая выкинутые на свалку машины от летаргического сна.
8
елый «мерседес» — меня захлестнула горячая волна, — и надо же было нам выкопать из груды развалин именно эту рухлядь! Стук железа стал музыкой нашей жизни; мы все еще верим, что там, и конечно же в самом низу, нас ожидает что-то чертовски интересное. Ну, например, невиданный доселе «роллс-ройс» с золотым капотом или по меньшей мере «сильвер-гоуст» с сиденьями из натуральной серебристо-серой кожи. Мы трудимся как безумные, выворачивая наизнанку кладбище машин. Мы осквернители мусорных пирамид, и я, зачинщик, получил то, чего хотел. Я пришел в ярость, колотил ногой по железу машины: но металлу было ни жарко ни холодно от моих ударов, моя же подошва, несмотря на крепкие сапоги, горела огнем. Я был в бешенстве, что никто из мужчин даже и не пытается меня утихомирить. Все мы здесь заключенные, с отчаянием думал я, люди одной судьбы и, несмотря на это, абсолютно безучастны друг к другу. Очевидно, каждый думает: вдруг мои страдания поутихнут, если мучения рядом стоящего набухнут как нарыв. Длинная вереница дней проведена сообща в колонии, но никто не потрудился спросить у другого: за что тебя подвергли такому суровому наказанию? Если б можно было, встав соседу на плечи, выбраться из этого проклятого красно-бурого каньона, мы бы растоптали и раздавили друг друга — лишь бы спасти собственную шкуру. Разве только жалостливая Флер стала бы умолять, уговаривать и стараться примирить нас. Все эти «охи» и вздохи у нее от слабых нервов, ей-то до нас какое дело. Единственный бог — это собственное благополучие. Временами на Флер находит порыв дружеских чувств, она бродит за мной по пятам и молит: Эрнесто, не будь ты все время таким мрачным. Мне что, для ее удовольствия растягивать рот до ушей? Пусть увивается вокруг Роберта, он здесь новое лицо и потому представляет интерес, завлекать и кривляться — для Флер развлечение, а душа ее давно очерствела. Да и у других тоже. Держались в стороне, проклятые остолопы, — пусть себе Эрнесто бушует.
Пора бы уже прекратить возню с этими драндулетами. Но никто не способен придумать ничего нового. Наша коллекция и так разрослась. На площадке возле вивариев мы устроили стоянку, и она уже забита машинами. Что с того, что они покорежены и не блещут красотой — с вмятинами, ржавые, без решеток и зеркал, — на всех на них можно ездить. Где тут было взять инструменты или запчасти, работали, можно сказать, голыми руками, мы с Жаном до одури копались в моторах и все-таки заставили их заработать. Майк так и остался подсобным рабочим, мотора он не знает, попросишь у него гаечный ключ, обязательно протянет не тот номер и концы проводов присоединит не туда, куда нужно. Поневоле мы потешаемся над ним, но он, похоже, не обижается, называет себя ассистентом, протирает тряпкой инструмент, заботится о том, чтобы не поцарапать руки. Да и что с него возьмешь, но он хоть запастись бензином умеет. Никогда бы не подумал, что его так много в этих обломках. Фреду, видно, нравится отвинчивать со дна баков тугие пробки, чтобы сцедить в сосуд все до последней капли. Ту малость, что остается на дне, он фильтрует через тряпку, и таким образом бензин очищается от осадка ржавчины. В нашем хранилище скопилось более десяти канистр вполне пригодного топлива. Черт его знает, может, наш азарт не так и бесцелен. Все же занятие, пусть даже и никчемное. Ведь и золотоискателями не всегда руководила лишь страсть разбогатеть.
Отчаянная злоба начинает постепенно стихать. Откуда моим спутникам было знать, что значило для меня увидеть «мерседес»? В обычных условиях какая-то повидавшая виды и заезженная развалина ничего бы не всколыхнула в моей душе. На главных улицах любого большого города можно сотнями встретить машины этой марки. «Мерседес» рекламируют по всему свету, и делается это отнюдь не для того, чтобы пускать пыль в глаза. Тот, кому позволяют средства, покупает эту машину и не жалеет об этом. Мотор работает, как швейцарские часы, машина быстро и плавно набирает скорость, а прочность кузова дает сто очков вперед жестянкам массового производства. Об амортизации и говорить нечего, сидишь, как на коленях у матери: ни скорости, ни поворотов и неровностей даже и не замечаешь.
Машина совершенна, недостатки надо искать у людей.
С собой у меня уже давно сведены счеты, но мысли под крышку не спрячешь. Снова — как гром среди ясного неба: я жил неправильно. Я даже во сне вижу: громыхая коваными сапогами, я поднимаюсь по трапу в самолет, мундир цвета хаки защищает меня от холода и жары, дождя и грязи. У меня орлиный взгляд, я ловок и силен, не боюсь ни бога, ни черта, и меня никто ни в чем не может обвинить. Почему я не стал наемником? На профессиональных головорезов всегда есть спрос. Во время атаки можешь отправить на тот свет сколько угодно душ, никому не придет в голову тащить тебя в суд. А случится тебе стать ангелом смерти, будучи частным лицом, не исключено, что так и подохнешь в тюрьме. Слабонервные люди утверждают: и наемный солдат не застрахован от пули. Вздор! Жизнь дорога каждому, с этим не поспоришь, но наемника не стоит путать с обычным солдатом. Тот, кто нанимает, имеет деньги. Платить за то, чтобы вскоре увезти труп в цинковом гробу, — ищи дураков! Надежное и дорогое снаряжение броней защищает наемного солдата. К тому же тот, кто выкладывает деньги, рассчитывает на прибыль и, значит, уверен в победе. Враг не обучен, слаб, почти безоружен — знай себе коси. Только и делов. У наемника имеются и другие преимущества по сравнению с рядовыми людьми. Главное — у него нет ни дома, ни семьи. Полная свобода, никаких тревог на сердце. О ревности они и понятия не имеют. Жизнь богата переменами, одно приключение за другим. Не надо думать ни о прошлом, ни о будущем. И даже если случайная пуля отыщет его и сразит на какой-нибудь пустоши или изрытой танками земле, то в свой последний миг, пока сознание еще не угасло, он может испытать удовлетворение: никому нет дела до того, как я жил и как умер.
Дурак же я был, что, став взрослым, не сумел придумать для себя ничего путного. Сдуру пустил корни в асфальт. Катящийся камень мхом не обрастает, в этом, наверное, и есть счастье.
У меня же все получилось наоборот. Кора и дом были как гири на ногах. Чем дальше уводили меня грузовые рейсы, тем больше я мучился. Как там дома? Неужели опять? Мой напарник умудрялся жить иначе. Уезжая, он отбрасывал все мысли о доме и, лишь возвращаясь, вспоминал, как зовут его жену. Во время привалов не брезговал и шлюхами, а по дороге рассказывал кучу анекдотов о женщинах, тайком обзаводившихся любовниками. Он считал, что этим развлекает меня. У меня же руки судорожно впивались в баранку.
Уже в тюрьме я подумал: вот ты и получил, что хотел, — бездомность и свободу от жены. Радуйся, идиот! Можешь быть вольным жеребцом!
Когда настал мой черед провести ночь с Флер, я утром чуть не поколотил ее. Спит с кем попало — современная женщина, ничего не скажешь! Вспомнилась Кора, и в глазах потемнело.
Поселившись в колонии, мы принялись наперебой осаждать Флер. Она одаривала взглядами всех, однако предпочтения никому не отдавала. Неужели никто из нас не заслуживал привязанности? Что это за женщина, которая мирится с целым табуном! Флер лишила нас тайных надежд и желаний. Очевидно, каждый почувствовал, что внезапно утратил всякую ценность. Не годен даже на то, чтобы испытывать боль утраты. Флер унизила нас, превратив в бездушных самцов, — знайте свой черед. Соперничество и игра отпали. Все происходило так просто — ни борьбы, ни сопротивления. Из-за того, что Флер была одинакова со всеми, мужчины не могли даже затеять настоящей драки. А она, после прозябания в каменных стенах тюрьмы, всем пошла бы на пользу.
Флер, похоже, не очень-то и разбиралась, кто бывал у нее. Ночь, лампа не горит, лица не видно, говорить лень. Изнеможение и чувство опустошенности — вот и все, что могла предложить Флер. Правильно сказал Уго: мы всего-навсего рабы страстей. Кора, та умела придать жизни остроту. В ночь перед моим отъездом на нее находило какое-то исступление, она готова была чуть ли не растерзать меня. Порой я спал лишь урывками, по полчаса, она тут же будила меня и шептала, что наслаждаться жизнью можно и забегая вперед. Быть может, она пыталась внушить мне, что во время моего отсутствия она — образец воздержания и нравственности. К утру я бывал вконец измотан. Без отдохнувшего и жизнерадостного напарника было бы немыслимо пускаться в путь. Накануне отъезда Кора умудрялась вымотать мне еще и душу. Она с трудом поднималась с постели, чтобы приготовить завтрак, но тут же плюхалась в спальне на пол и начинала монотонно раскачиваться. Я даже не мог спокойно сварить себе кофе, как оставишь ее одну в таком отчаянии! По щекам Коры катились слезы. Она выглядела ужасно: опухшая, глаза красные, волосы всклокочены. Я старался внушить себе: она отвратительна, забудь ее на две недели, пока ты в отъезде. Самообман не удавался. Каждый раз, захлопывая за собой дверь, я начинал терзаться. Я, как лунатик, выходил на улицу, в ушах все еще отдавались всхлипывания Коры. На углу постоянно торчал какой-то подозрительный тип с бакенбардами, возможно, он, едва я исчезал из виду, тут же взбегал по лестнице наверх, к Коре. Она ведь вечно сетовала: я не переношу одиночества. Я проклинал свою бедность, то, что должен был изо дня в день ишачить, часто бывать в отъезде, оставляя Кору в состоянии подавленности. Мне хотелось сломя голову мчаться домой. Но баранка была моей жизнью. И тем не менее, отправляясь в путь, я ненавидел свой тягач, его огромные бесчувственные колеса, которые снова и снова начинали наматывать бесконечные, тягучие километры. Казалось, будто это вовсе не километры, а мои собственные жилы и нервы.
Я надрывался ради Коры и дома, но большей частью у меня не было ни дома, ни Коры.
Я был уверен, что вечером впавшая в отчаяние Кора колеблясь и нехотя наберет по телефону знакомый ей номер и скажет надломленным голосом: я одна. Ей стоило лишь поманить, и мужчины тотчас начинали осаждать ее. Вероятнее всего, она была к ним ко всем равнодушна, и все же кто-то должен был быть с нею рядом.
Мой напарник привык к тому, что я начинал рейс в плохом настроении, — что взять с человека, издерганного духовно и. физически? Поэтому вначале за руль садился он и почти всегда вел машину до самого Бреннера. За это время я успевал кое-как отоспаться и немного успокоиться. Не доезжая Европейского моста, мы менялись местами. Я брал себя в руки и плавно вливался в поток машин. Видел лишь ленту асфальта, дорожные знаки и машины впереди и позади себя. Меня считали виртуозным водителем. Я чувствовал свою машину настолько хорошо, словно ее гигантская серебристая кожа была моей собственной. Вероятно, это тоже один из парадоксов жизни, что именно первоклассные мастера совершают незначительные, но непростительные ошибки, которые в худшем случае приводят к катастрофе. Случилось то, чего я и предполагать не мог. Во время последней поездки в книге моей судьбы была перевернута черная страница. В Стамбуле. Обычно мы заканчивали там наш рейс и возвращались обратно с грузом фруктов. На этот раз мы рассчитывали вернуться с сушеными абрикосами. Однако представитель фирмы дал нам совершенно другое задание. Пообещал хорошее дополнительное вознаграждение, поскольку рабочий цикл неожиданно был продлен. От нашего трейлера отцепили фургон и вместо него прицепили открытую платформу. На обоих ее ярусах стояло семь «мерседесов». Ценный груз следовало доставить через всю Анатолию в Ирак. Такого длинного маршрута у нас с напарником еще не было. Мы подбадривали себя мыслью, что положим в карман немалые денежки.
Я послал Коре домой телеграмму: задерживаюсь в пути на девять дней. Вроде бы все ясно. На самом же деле человек — жалкое насекомое, ни воля, ни разум ему не помогут; не предчувствуя дурного, он идет навстречу собственной гибели.
Перед выездом представитель фирмы дал нам кое-какие наставления. Высокомерный блондин говорил, слегка пришептывая, и украдкой почесывался через белый элегантный костюм. Наверное, страдал каким-нибудь кожным заболеванием. В каждом его жесте сквозило: Турция для меня то же, что для иного каторга. Может быть, он считал дни, когда истечет срок его контракта. Во всяком случае, создавалось впечатление, что его подстегивает чувство злорадства — он и нас заставит помаяться в знойной и кишащей людьми южной стране. Он говорил о турках с глубоким презрением, слышно было, как он прямо-таки скрипит зубами от едва сдерживаемой злобы. Он внушал нам: они бедны, грязны, невежественны — особенно в глубинных районах страны. Будьте предельно осторожны. У них в голове лишь одна мысль: где-то что-то стянуть. Безразлично, нужно им это или нет, будь то хоть самая обычная блестящая пуговица — все равно стащат. Будете останавливаться, берегите груз как зеницу ока — вас тут же окружит стадо обезьян. Одни станут отвлекать ваше внимание, другие тем временем залезут на платформу и начнут обчищать «мерседесы». Что не смогут снять — отломают, что сумеют открутить — открутят, а что удастся разбить и поцарапать — разобьют и поцарапают.
Когда мы пустились в путь, нервы у нас были порядком взвинчены. Солнце палило нещадно. По всей вероятности, мы смогли бы на крыше кабины жарить яичницу. Но мы, крепкие ребята, мчались все дальше и дальше. Проносились через поселки, подобно курьерскому поезду. И смогли убедиться в том, что слова светловолосого агента не были пустым злобствованием и поклепом. Стоило нам проехать мимо горстки домов или лачуг, как тут же стаей высыпали проворные смуглые мальчишки. Этих заморышей в лохмотьях хватало повсюду, зачастую галдящие ватаги выстраивались по обочинам дороги. Они скакали там с горящими, как угольки, глазами, указывали на нас пальцами, швыряли камнями и долгое время бежали за машиной в облаках клубящейся пыли. Завидя детей, мы прибавляли скорость и включали фары, чтобы отпугнуть их. Обилие снующих повсюду темнокожих мальчишек было просто поразительным. Как могла прокормить их выжженная солнцем, покрытая скудной растительностью, изрезанная солончаками земля?
Да, природа плоскогорья производила особенно тоскливое впечатление. Странно, но, когда мы проезжали там, звук мотора становился иным: вместо привычного рева в ушах отдавался монотонный сверлящий звук какого-то азиатского музыкального инструмента. Инструмент взвизгивал и часами тянул свою пронзительную мелодию. Я изо всех сил старался забыть о Коре, но тоскливое завывание нагоняло мрак и горечь. Я ясно представлял себе следующую картину: жена принимает в дверях телеграмму, и я видел, как она бледнеет. Она раз десять перечитывает скупое известие, а затем, обхватив голову руками, садится за стол. У нее нет сил даже дышать, тяжелый удар парализует ее, словно она получила страшное сообщение. Невыносимо, что наша встреча отодвигается. От радостного настроя не остается и следа. Утратившая равновесие Кора в сумерках бредет в спальню, бьется в отчаянье на ковре до тех пор, пока усталость не берет свое. Вечером она безучастно сидит перед телевизором, уставившись невидящим взглядом в экран, еще раз перечитывает телеграмму, комкает ее и швыряет в угол. Машинально снимает телефонную трубку и набирает номер. Она не может иначе. Одиночество страшно, особенно если выглянешь в окно: на улице кипит жизнь, там снуют люди, и никому из них нет до тебя дела.
В одном из женских журналов Кора вычитала какой-то вздор о телепатии. Она поверила, что может на большом расстоянии передавать мне свои мысли. У меня же, напротив, такой способности нет. Таким образом, она направляет свои послания как бы в пустоту, поскольку они остаются без ответа. Тщетные поиски контактов якобы порождают в ней чувство, будто она очутилась в холодном космическом пространстве.
Мне было трудно понять сложность ее восприятий.
В мареве плоскогорья, когда пейзаж перед глазами как будто свертывается, я испытал гнетущую беспомощность оттого, что не смог на расстоянии передать Коре слова утешения, а ведь я знал, что с каждым часом там, за стеклянной стеной дали, куда мне никак не дотянуться, все возрастает и возрастает черная угроза. Вести машину стало почти невозможно. Я договорился с напарником, что в первом же придорожном баре пропущу стаканчик виски, чтобы расслабиться, и завалюсь спать, а он покрутит баранку, пока я не проснусь, освеженный. Мой всегда такой общительный приятель даже и не пытался развлечь меня своими двусмысленными шутками, его необычная молчаливость должна была бы насторожить меня. Но против моего желания он возражать не стал. Сказано — сделано. Два двойных виски — и из ушей исчезла назойливая и пронзительная азиатская музыка, мотор пел свою обычную песню, и я отключился.
Не знаю, как долго мне удалось поспать. Я успел увидеть какой-то странный рваный сон: я держал Кору за руку, словно клещами, и видел, как постепенно синели ее конечности. Темная полоска ползла от предплечья все выше. Я напрасно напрягал все свои силы, чтобы разжать судорожно сведенные пальцы, — Кора погибала на моих глазах.
Я в страхе проснулся. Машина стояла. Поломка мотора? Не может быть. Мелькнуло опасение: стадо обезьян забралось на платформу. Отвинченные блестящие детали исчезают в карманах. Я сейчас же встану и пойду проучу воров. Они разбегутся в разные стороны, из дырявых карманов на гальку со звоном посыплются эмблемы, зеркала и ручки. Отчего так тихо? Может быть, эти оборванцы кромсают тупыми ножами обивку?
Но оказалось, что мы остановились в безлюдном месте. Серая равнина. Белые плоские камни, клочки травы, горячий, кажущийся желтым ветер. Вдали цепь гор с голыми вершинами. Мой напарник сидел скрючившись и стонал. «Чертов аппендицит», — выдавил он бескровными губами. Я покрылся холодным потом. В висках и затылке пульсировало от выпитого. Я никогда в жизни не садился за руль пьяным, а сейчас выхода не было. У напарника был вид умирающего, глаза ввалились, скулы резко обозначились. Я перенес стонущего приятеля на койку, откуда еще не успел выветриться приснившийся мне сон.
Я завел мотор и нажал на педаль газа. На дороге, подобно преградам, вставали миражи. Я мчался сквозь мечети и минареты, оттуда неслись крики на непонятном нам языке; я проносился сквозь замки и дворцы, они рассыпались как пепел. Отшлифованные временем восточные строения вновь и вновь вставали на пути. Ревя мотором, тяжелый грузовик, управляемый мною, крушил их; от этой разрушительной работы по спине бежали мурашки.
Невдалеке от безжизненного соляного озера все и случилось. Я проехал, по всей вероятности, с час, никого не встретив, а теперь попал в затор. Внезапно из-за пригорка прямо на дорогу с блеяньем высыпало стадо овец — будто за ними гнался волк. В туче пыли возникло и другое препятствие. Из-за баранов я свернул влево и врезался в старый зеленый автобус. Жалкая душегубка была набита до отказа маленькими черными обезьянками.
Я до самой смерти не смогу забыть детского крика и стонов. Они орали, визжали, вопили и призывали на помощь аллаха. Кто-то должен был бы ударить меня палкой по голове, чтобы стереть из моей памяти эти звуки и это зрелище. Навалившись грудью на руль, я видел, как из маленького сплющенного автобуса на меня смотрело множество огромных стекленеющих глаз.
Отчаянно блеяло стадо овец. Мой напарник не мог вымолвить ни слова. Мы оба окаменели от ужаса.
Впоследствии я стал пленником своих видений.
На плоскогорье во все стороны от дороги в паническом страхе расползаются окровавленные дети, волоча по растрескавшейся земле свои перебитые конечности. Зурны играют какую-то щемящую мелодию, пронзающую тебя насквозь, у овец в шерсти извиваются юркие черные змеи. Раскаленные солнцем плоские камни трескаются и рассыпаются в песок. И сам я, как зверь, стою на четвереньках на берегу высохшего соляного озера и слизываю горькие белые кристаллы.
9
ерять самообладание и тут же снова брать себя в руки — это Эрнесто умеет. Неожиданно налетающие на него порывы немедленно обретают силу урагана — ты ждешь разрушений, но нет, напротив, воцаряется странная тишина, от которой начинает звенеть в ушах. Я всегда с восхищением и завистью наблюдаю за тем, как Эрнесто, собрав всю свою силу воли, обуздывает себя. Очевидно, его нервная система соединена с каким-то сверхмудрым миниатюрным электронным аппаратом, который, будучи скрыт под кожей, следит за настроениями хозяина. Стоит чувствительному механизму уловить нервную дрожь напряженных мышц, как он включается и начинает посылать монотонные импульсы, помогающие тормозной системе организма интенсивно функционировать. Первым делом у Эрнесто разглаживается лоб, затем расслабляются мускулы лица, словно чья-то нежная и участливая рука провела по его глазам и щекам и сняла с заросшего щетиной подбородка в ладонь лишнее напряжение. Затем спасительная расслабленность растекается от плеч к рукам, вздувшиеся мышцы опадают, скрюченные пальцы разжимаются, ладони поворачиваются наружу, к солнцу — ловят его лучи.
— Фред, загляни-ка в бак, — говорит мне Эрнесто с таким спокойствием, словно уже успел позабыть свой недавний приступ неистовства.
Я отвинчиваю пробку, сую в бак стержень и разглядываю его чуть влажный конец.
— Пусто.
Мы поднимаем с земли веревочную петлю, зацепленную за бампер «мерседеса», впрягаемся в эту примитивную упряжку и, дыша потом друг на друга, начинаем оттаскивать машину подальше от мусорной свалки. Лошади тянут свою повозку. А может, ослы? Одному лишь себе я могу признаться: дурацкое упорство. Когда мы добираемся до открытой площадки, начинается настоящая работа. Эрнесто открывает крышку капота, и вместе с Жаном они наклоняются над мотором, едва не стукнувшись лбами. Майк сосредоточенно перебирает инструменты, готовый по первому требованию протянуть нужный гаечный ключ. Уго вздергивает верхнюю губу, усы его топорщатся, так он выражает свое отвращение, но тем не менее все же лезет в машину. Мужчины, знатоки мотора, уже копаются в покрытых нагаром агрегатах. Страшно интересно узнать, до конца ли исчерпаны ресурсы очередной развалины, вытащенной со свалки. Большей частью им везет. Снова можно с удовлетворением заявить: эта махина еще отнюдь не мертва. Они говорят о машинах как о живых существах. Одна находилась в летаргическом сне, другая была без сознания, третья, скорее всего, в обмороке. Убедившись в жизнеспособности машины, они начинают говорить громкими от возбуждения голосами и все яростнее копаться в ее внутренностях. Там столько интересного, что временами голоса мужчин понижаются до эротического шепота.
Подстегиваемый азартом остальных, я тоже нахожу себе занятие. С усердием пчелы собираю из бензобаков остатки горючего. Благодаря мне мы имеем неплохое маленькое бензохранилище. Бессчетное количество раз я взбирался на эту гору остовов и пролезал между нагроможденными одна на другую машинами. Незабываемые, щекочущие нервы мгновения: над моей головой неожиданно нависают стертые об асфальт лысые шины, словно лапы, готовые схватить меня, а может, это покрытый коростой засохшей грязи дифференциал ждет, когда придет в действие механизм высокоразвитой цивилизации, чтобы расплющить мое тело. Самоотверженность — залог успеха. Я снова опускаю шланг в бензобак, отсасываю из резиновой трубки воздух, во рту появляется приторный вкус, и сцеживаю в посудину драгоценное топливо. По вечерам моя одежда становится заскорузлой от тавота и пыли, от меня несет бензином, я разгуливаю, подобно готовому вспыхнуть факелу. Тогда я принимаюсь ведрами таскать воду из булькающей и плюющейся трубы в стоящее за моим виварием пластмассовое корыто. Как только над каньоном начинает сгущаться темнота, я раздеваюсь догола и с остервенением тру себя до тех пор, пока тело не начинает гореть. Я тру себя и умиляюсь: такой хилый, а ведь мог бы стать рабочим человеком! Но бывает и так, что накануне очередной вылазки я с трудом подавляю отвращение и с удовольствием отшвырнул бы подальше подхваченные мною пустые и помятые бидоны. Но я превозмогаю себя — а может, я боюсь остальных? — пытаюсь освободиться от чувства омерзения и через какой-нибудь немыслимо узкий проход заползаю внутрь мусорной свалки. Я исследователь пещер искусственной горы, я ползу в темноте, меня подстерегает неизвестность, опасность обвала. В своем деле я должен быть изворотлив и следить за тем, чтобы вовремя подобрать под себя руки и ноги, подобно истинному спелеологу. Я не должен делать никаких опрометчивых движений, чтобы не вывести из состояния равновесия груду зловонного металлического и прочего хлама, возвышающуюся над моей головой. Равновесие, мертвая точка — эти неустойчивые состояния могут в любой момент обернуться непонятным движением, грохотом, гибелью. Неподвижность — это отклонение, искусственная преграда на пути вечного движения. Мгновения неподвижности всегда вызывали у меня чувство страха.
Я не знаю, испытывают ли страх мои товарищи. Навязчивая идея Эрнесто известна всем. Снайперы — охотники за людьми, в кармане лицензии, за которые были уплачены немалые деньги, — наблюдают за нами со стен каньона и держат каждого из нас под оптическим прицелом. Мы насекомые на конце иголки. Остальные обитатели каньона откровенностью не отличаются, несут просто так всякий вздор. Поэтому трудно понять их. Самозабвенно копаться в драндулетах, вытащенных с кладбища машин, — для чего? Давайте хоть покатаемся, уговаривал я их, но без толку. Наберут в рот воды — и ни слова, но я-то понимаю, что и им хочется нажать на педаль акселератора. Табу — и все. В остальном они себя не ограничивают, для них не существует внутренних преград. Никто из них не хочет быть смиренным монахом или кающимся грешником. Их циничное бесстыдство ошеломило меня. А может, они притворяются такими? Установили очередь к Флер. И даже мне отвели время. Равенство и братство! Нет слов! Я не стал выкладывать им свою точку зрения, благоразумно решив не привлекать к себе внимания, но они все же догадались, что я не использую своих возможностей. Стали посмеиваться и зубоскалить, не преминув упомянуть о моей хилости, а также о феномене современности — импотенции среди молодых мужчин. Я терпел все эти уколы, смирившись с ролью белой вороны. Тоже мне душевная опора, когда одна женщина принадлежит всем и никому. Тут все ясно. Я же был счастлив по-своему. Между мной и Флер осталась чистая зона — словно пространство, усыпанное белым кварцевым песком, поверхность которого нельзя было осквернять следами ног. В последнее время Флер порой испытующе поглядывает на меня. Я стал для нее загадкой. Это восхитительно, когда рядом с современными обнаженными и выхолощенными отношениями остается место для крошечной тайны. Где-то здесь, по каньону, подобно мячику, катится клубок вопросов. И только мы с Флер догадываемся о его существовании. Что-то похожее на нежность зародилось в суровом мире самоизоляции.
Остальные мужчины ищут душевного равновесия в машинах. Бог его знает, на какую неожиданность или чудо они надеются. Тайны человеческой души, похоже, ничуть не трогают их. Словно интерес к своему ближнему, это детская болезнь, которой ты давным-давно переболел. Да и вещам они не умеют по-настоящему радоваться. А ведь в гигантском карьере, превращенном в исправительную колонию, можно найти пустые и ровные участки — да хотя бы эти просеки на кладбище машин, где можно было бы развить вполне приличную скорость. Во всяком случае, мне плевать, я в ближайшее же время сяду за руль какой-нибудь машины и заведу мотор. Разумеется, здешние драндулеты не идут ни в какое сравнение с моей спортивной машиной. Если бы я и попытался персонифицировать мертвую материю, то мог бы смело сказать: ну и мускулы были у моей машины! Срывалась с места как тигр, преодолевала расстояния с легкостью и резвостью антилопы и тормозила с ходу, вцепившись, подобно льву, когтями в асфальт. Бесполезно было бы искать ее на мусорной свалке среди этих обломков, на таких, способных к самоуничтожению, машинах ездят до тех пор, пока не разбивают их вдребезги, а останки идут в печь фабрики по переработке мусора вместе с фотоаппаратами, пластиком, калькуляторами и музыкальными агрегатами. Такие машины заканчивают свою жизнь в жарком пламени. Спортивная машина — либо она существует, либо превращается в пепел. Промежуточное состояние, медленная смерть от ржавчины, тления и распада была бы унизительна для такой машины.
При воспоминании о моей машине у меня начинает колотиться сердце. Я пытался забыть тот страшный момент, остановивший ее стремительный бег. Еще и сейчас я испытываю восторг, перебирая в памяти лучшие годы своей спортивной машины. Я никогда никого не сажал в нее рядом с собой. Обивка соседнего сиденья вплоть до гибели машины оставалась новой и нетронутой. Не знаю, может, с самого начала сиденье покрывал слой белого кварцевого песка, на котором нельзя было оставлять следов. Мне уже двадцать восемь, но, к сожалению, есть множество вещей и состояний, в которых я ни черта не смыслю. Мне довелось жить в зыбком мире предположений и неясных порывов. Впервые в жизни я здесь, в карьере, что-то уяснил для себя. А именно: я научился ползать в лабиринтах мусорной свалки, чтобы найти в ее зловонной темноте пробку бензобака, к которой мои чуткие и по-женски тонкие пальцы до сих пор не прикасались.
Форму рук я унаследовал от матери.
Я тоже из породы тщедушных, хотя на рост, слава богу, жаловаться не могу, а рядом с матерью выгляжу чуть ли не силачом. Подростком, когда мне казалось, что мои мускулы становятся все крепче, на меня порой находило желание показать свою удаль: подниму-ка я мать в воздух, думал я. С этой шальной мыслью в голове я следил за тем, как мать расхаживает по нашей гостиной среди напольных ваз из китайского фарфора. Нарисованные на пузатых сосудах узкоглазые мандарины и павлины тоже, казалось, пристально следили за маленькой фигуркой и призывали: спрячься в фарфоровую скорлупу, иди, послушай, как она гудит! Возможно, мать и догадывалась, чего хотят от нее души древних китайцев, но, очевидно, боялась, что ортопедический ботинок помешает ей залезть в вазу. Именно эта покалеченная нога и удерживала меня от того, чтобы подбросить мать в воздух. Я смело мог взять ее на руки вместе с фарфоровой вазой, так, чтобы моей изнеженной матери не пришлось вскрикнуть от страха, что ей причинят боль.
Мать никогда не рассказывала о несчастье, сделавшем одну ее ногу короче другой. У меня же не хватало духу расспрашивать о том давнем происшествии. В нашем доме считалось неуместным выпытывать что-либо друг у друга. Я привык представлять себе: мы живем, порхая как мотыльки, легко и беззаботно. Конечно, это сравнение относилось скорее к нашей домашней атмосфере. Реальные же люди находились под гнетом своих физических недостатков. Увечная мать, отец, который ковылял, опираясь на палку, и я, хилый ребенок, к которому то и дело приглашали мудрых докторов. Меня возили по санаториям и курортам. Подростком, когда у меня возрос интерес к самому себе, я потребовал у врачей отчета относительно моих недугов. К моему удивлению, они посчитали меня в общем-то здоровым — малокровие и хилость в счет не шли. Я начал усердно заниматься спортом. Играл в теннис и ходил плавать в бассейн. Родители хвалили меня за усердие, но я чувствовал, что они неискренни. Меня все время тянуло испытать проснувшиеся во мне силы и выносливость. Я верил, что бледный маленький мотылек может превратиться в жужжащего жука. Я вбил себе в голову, что отправлюсь в Норвегию кататься на лыжах. Родители онемели от ужаса. Стыдясь своих опасений, они прятали от меня глаза. Разговор о заснеженных горах застрял у меня в горле как рыбья кость.
Сосуд родительских невзгод наполнился до краев еще до того, как я появился на свет, родителям было уже невмоготу нести на себе даже легкий груз забот. Несправедливо обвинять их в чем-либо, это была наша общая боль. Правда, не все обстоятельства прежней жизни окутывала в нашем доме завеса тайны. О том, что заслуживало упоминания, говорилось отрывочно и скупо, события минувших дней делили на мгновения и эти мгновения в течение длительного времени вкрапляли в разговор. Сильные переживания таили для ребенка такую же опасность, как гранитные скалы и скованные льдом водопады северной страны. И все же постепенно мне стал ясен утешительный парадокс: в несчастье можно обрести счастье. Надломленный тяжкими страданиями мужчина встретил увечную девушку, которая в силу своей застенчивости хотела оставаться в тени. Я мысленно увидел заросшую диким виноградом виллу, ярко-зеленую лужайку перед зарослями олеандра, оживленных людей, которые стояли там на ярком солнце и беседовали, держа в руках бокалы. Я увидел замшелую каменную террасу, где в деревянных кадках росли агавы. Меж толстых агав в плетеных креслах особняком сидели два одиноких человека. Несколько светлых каменных плит и мексиканское растение, разделявшие их, оказались преодолимым барьером. В самом деле, счастливая находка таится подчас всего лишь в нескольких шагах от тебя. Всего-навсего несколько шагов, чтобы протянуть руку, назвать свое имя и сказать для начала какие-нибудь незначительные слова, наполнить окружающее тебя пространство звуком непринужденной беседы. Ни отец, ни мать не запомнили фраз, произнесенных в момент знакомства, достаточно оказалось звучанья голоса, чтобы развеять кошмар одиночества. Очень скоро они заговорили в доверительном тоне, словно уже тогда у них были тайны, не предназначавшиеся для чужих ушей. И случилось так, что два тихо журчащих ручейка потекли бок о бок и перестали тосковать по шуму безбрежных морей.
Представление о времени куда-то исчезло, деликатное общество развлекалось само по себе и не беспокоило их. Гости и хозяева старались не выказывать сочувствия, хотя и жалели убогих и делали все для того, чтобы они чувствовали себя непринужденно. Их не заставляли идти в дом к столу, а приносили подносы с едой и напитками прямо на террасу. По капле, словно лекарство, они тянули ароматный мускатель, их лица светились радостью — они вдруг поняли, каким близким может неожиданно стать совершенно чужой человек.
Необычное душевное состояние родило в них чувство раскрепощения. Неутоленный до сих пор, тяжко переносимый, приводящий к апатии голод по близкому человеку был сразу же утолен. Если поначалу они просто ухватились друг за друга, то вскоре их взаимный интерес перерос в горячую привязанность. Здоровым и смелым людям не понять всей силы чувства общности. Оно всеобъемлюще и неделимо. Раз обретенное, оно не боится ни испытаний, ни проверки временем, оно вечно в своей неизменности. Так они говорили, мои хрупкие, изувеченные мотыльки.
Эти странные создания думали, что их отпрыск тоже мотылек.
А на самом деле он оказался гусеницей, ползающей по лабиринтам мусорной свалки.
10
обладаю редкой способностью смотреть на себя со стороны. И эта способность никогда не оставляла меня. Если я порой терял почву под ногами, то только потому, что сам относился небрежно к своему дару. То, что дано богом, надо хранить и лелеять, так что пестуй свой талант и забудь о себе. Но вот беда, человек, бывает, устает от щедрого дара природы! Талант — это бремя, и мука, и лишняя пара глаз, которая видит вглубь и вдаль. Но иной раз чувствуешь, что тебе все надоело, тебе неохота оценивать свои поступки и слова. Самоконтроль кажется лишь безжалостным самобичеванием. Хочется дышать свободно. Пусть катятся ко всем чертям все эти дарования, способности и таланты! И внезапно понимаешь, что если ты вообще чего-то еще хочешь, так только быть заурядным.
Талант тысячелик, но большинство людей живет в блаженной вере, что на его долю не выпало ни одного таланта. У меня же, помимо завидного дара к самоконтролю, был еще один — я умел обнаружить в себе скрытые достоинства. Как-то одна женщина сказала мне, дескать, ты, Уго, не являешься, как все мы, продуктом массового производства, сам бог, своими руками, вылепил тебя из глины! Так что на мне ярлык: ручная работа, единственный экземпляр, цена — на вес золота. Когда же я теперь подогреваю свой талант, смотрю на себя глазами стороннего наблюдателя и ищу достоинств, мне хочется в сердцах плюнуть в самого себя. И я вынужден сказать: Уго, ты опускаешься. Не обладай я даром самокритики, мне было бы легче. Деградация? И где только откопали такое слово?
И круг замкнулся. Стоило мне лишь раз отказаться от самоконтроля там, в баре, за полчаса до катастрофы, как мой жестокий талант стал беспрестанно мстить: ты на миг забыл обо мне, так вот, в наказание за это твоим страданиям не будет конца.
Раньше я не знал, что значит тревожное пробуждение по ночам и мучительные раздумья: а что же дальше? Какие бы пути и лазейки я ни искал, все сводилось в основном к вопросу быта — стоило ли менять тюрьму на колонию самообслуживания? Нам предоставили кажущуюся свободу, которая парализует и съедает нервы. Наш крошечный народ вроде как полноправный хозяин в своем государстве. Государство — это карьер, края которого заминированы, а грузовой лифт управляем лишь сверху. В тюрьме узник находился среди узников, все подчинялись режиму, здесь же мы можем делать все, что нам заблагорассудится. Не ропщите, что ваши возможности ограничены! У тех, кто в камере, вообще нет никакого выбора. Жизненного пространства здесь относительно много и уйма всякого хлама, в котором можно рыться. Ненавидеть и любить нам тоже позволено. Всякое недовольство от лукавого. Гляди-ка, чтобы поднять наш дух и внести в нашу жизнь некое разнообразие, на шею нам свалился посланник из внешнего мира. Незадачливый планерист, похоже, никак не уразумеет здешних порядков. Вероятно, в газетах не сообщалось об эксперименте с нами. Оно и правильнее. Каждый может найти оковы как в своей душе, так и в обычаях и среде, где он обитает. Только большей частью это не осознается.
Разумеется, мы могли бы придумать разные способы, чтобы избавиться от угнетенного состояния. Устраивать драки, плести интриги, сдружиться, привязаться к кому-то, делить сферы влияния. Но нет стимула, потому что характеры не совпадают и нет точек соприкосновения. Искать ссоры просто так было бы банально. Во имя чего махать кулаками у кого-то под носом? Неизвестно, к чему это приведет. Ущемленные люди могут со временем стать особенно злыми.
Самоизоляция с привкусом свободы, пожалуй, все же гораздо более суровая мера наказания, нежели тюрьма. Когда торчишь в камере, чувствуешь себя мучеником. Можно ненавидеть охранника, громыхающего связкой ключей. Можно выражать недовольство по поводу питания и предъявлять жалобы администрации и министерству юстиции. Можно отправиться на лечение в тюремную больницу. В обычной тюрьме существует враждебный полюс, который здесь, к сожалению, отсутствует. Никто тебя не охраняет, никто не командует, еда такая, какую соблаговолишь себе заказать, да и поле деятельности найдется. Это уж наше личное дело, что мы так по-идиотски проводим время. Перебираем мусорные горы! Кем я стал? Чернорабочим! Во имя чего я работаю? Ведь никакой же цели нет. В нашем государстве деньги ничего не стоят. Работой мы убиваем время. Внушаем себе, что старые колымаги, выволоченные из груд рухляди, представляют для нас интерес. Стоянка полна машин, ожидающих, чтобы их завели, мы могли бы пуститься в путь — но куда?
Когда я дал согласие поселиться в колонии, я и не предполагал, что мой дух здесь надломится. Нередко, ворочаясь по ночам без сна, я отчетливо ощущаю, как частицы моего мозга отделяются друг от друга, в каждой извилине своя картина, запечатленная памятью, свой ход мыслей — и все эти звенья разрозненны.
Моя внутренняя раздробленность серьезно беспокоит меня — очевидно, это признак постепенного распада личности. Как прожить жизнь в таком состоянии? Переломный момент отпущенного человеку времени еще впереди, я же пока не достиг того возраста, чтобы катиться под гору.
Так что без конца ищи возможностей бегства от своих мыслей. Не находя ничего лучшего, я вместе с остальными роюсь в грудах мусора. Надрывая мышцы, я вытаскиваю на свет божий одну рухлядь из-под другой. Я, как и остальные, превратился в коллекционера бесполезных вещей. В грудах отбросов и отходов жизнедеятельности человека кроме машин можно найти и еще кое-что.
Я не могу не смотреть на себя со стороны и вынужден констатировать: ну, как, жалкий философ самоизоляции, опять твои мысли петлей сдавили тебе горло? Раньше у меня не было необходимости глубоко задумываться о чем-то. Достаточно было ловить момент. Самоуверенность моя была непоколебима. Небытие, бесконечность, смысл жизни — эти категории казалась чем-то далеким. Теперь мозг мой болен, и я становлюсь все злее и злее. Я без конца оценивающе смотрю на себя, и нет сомнений, что я необратимо меняюсь, заметно старею, ощущаю усталость от жизни, пригибающую меня к земле, день ото дня теряю свою прежнюю форму — меняюсь с бешеной, вселяющей ужас быстротой. Страшно, но я не в силах приостановить этот чудовищный процесс. Раньше я блестяще владел искусством саморегулирования. Любой неприятности я тотчас умел найти противовес — иначе я бы не смог жить столь напряженной жизнью.
Администрация тюрьмы соблазнила нас крайне убедительным аргументом: в колонии самообслуживания срок наказания значительно сократится. Увы, никакой более точной информации нам не сообщили и срока не указали. Это, мол, эксперимент, его надо еще опробовать, одним словом, напустили туману. Но заполучить нас сюда они хотели. Может быть, смысл мрачного опыта состоял в том, чтобы поглядеть, насколько быстро можно таким образом окончательно разделаться с нами? В конечном счете мы все равно погибнем — я уже почти не сомневаюсь, что именно к этому и идет.
Очутившись в колонии, я в пределах дозволенной суммы написал распоряжение банку и заполнил лист заказов на предметы потребления и продовольствие, отказавшись, правда, от кое-каких необходимых мелочей, с тем чтобы выписать роскошный настенный календарь. Получив его, я стал отмечать черным крестом каждый прожитый тут день. Мое новое занятие сопровождалось необъяснимым чувством удовлетворения: шаг за шагом я приближаюсь к свободе. На сегодняшний день на листах с цветными картинками набралось бесчисленное количество жирных крестов, и эти бесхитростные знаки приобрели зловещий смысл. Словно мне было предопределено до самого смертного часа зачеркивать дни своей жизни. Я то и дело вижу во сне, как с обрыва сыплются вниз все новые и новые календари и на их вкладышах, будто для издевки, позируют соблазнительные секс-бомбы, стройные и пышные, молочно-белые и смуглые, — женщины на любой вкус. Я же вынужден разглядывать мертвые картинки и выводить черные кресты.
До того рокового дня катастрофы я думал, что проблемы у большинства людей имеют временный характер. Но без исключений не обходится, и таким исключением была Виргиния. Четко распланировав свою жизнь и деятельность, она никак не могла взять в толк, почему ее желания не исполняются. С годами ее вечная неудовлетворенность все возрастала. Невозможно обвинять весь мир в своей неудавшейся жизни, и так она вбила себе в голову, что, будь я рядом с ней, ей бы удавались все ее начинания. Болезненное тщеславие и бьющая через край энергия делали Виргинию невыносимой. Она подстраивала наши вроде бы случайные встречи. Черт знает, каким образом она вынюхивала, где я нахожусь. Снова и снова она попадалась мне навстречу в коридоре какого-нибудь отеля, изображала удивление, разводила руками, улыбалась, сверкая зубами, и приглашала в бар, чтобы после длительного перерыва перекинуться парой слов. Там она своими разговорами зажимала меня как бы между двух вальков и начинала прокатывать, чтобы я размяк. Она рисовала мне картины нашего в высшей степени счастливого брака, который мог бы начаться незамедлительно. Позвякивая оковами, она предлагала мне свободную от забот жизнь. Кроме неугасимой любви нас ждали великие дела. Сразу же после свадьбы Виргиния намеревалась начать строительство нового отеля — благоприятная конъюнктура, блестящие перспективы — потом станем грести деньги лопатами.
Строя в сигаретном дыму бара свои воздушные замки, она хватала меня за полу пиджака, комкала материю — нет, парень, никуда не денешься — и украдкой проводила кончиком языка по губам, пересыхающим от волнения.
Теперь судьба заочно как бы обручила нас с Виргинией — как ее, так и моим проблемам нет конца-краю. На место временных бед пришли постоянные. Это приводит в бешенство. Топтание на месте противоестественно для человека. В жизни один цикл должен сменяться другим. Подъем, кульминация — и опять все сначала. Однообразие для личности — то же самое, что для тела медленная смерть. Следишь за тем, как затухают в тебе интересы, как увядает дух, слышишь произносимые тобой жесткие ироничные фразы, и никуда тебе не выбраться, все выходы заминированы.
Я выбыл из игры, а Виргиния, будь она проклята, на свободе и, возможно, взяла на прицел кого-то другого. Насмешек заслуживает тот болван, который дастся в руки Виргинии. По крайней мере, до меня Виргинии не дотянуться. Даже в заключении можно порой воскликнуть: свобода, бесценный мой дар!
Когда в последний раз я вырвался из тисков Виргинии, я тут же вскочил в машину и дал газу. Для любой другой женщины подобное поведение мужчины было бы пощечиной, простить которую невозможно, но Виргиния не отступилась. С ловкостью амазонки, лавируя из одной полосы в другую и обгоняя всех, она помчалась вслед — теперь ее машина неслась за моей по пятам. Почти вплотную, того и гляди, что передние колеса ее синего «рено» окажутся на багажнике моего красного «рено». Выбрала ли Виргиния эту марку машины потому, что ее выбрал я? Какая безвкусица! В этой гонке у меня хватило времени лишь на мимолетное презрение. Да, по сравнению со мной рука у нее была тверже. Отбросив в сторону самоконтроль, я на этот раз выпил в баре три рюмки коньяка, чтобы заглушить омерзение и вытерпеть присутствие этой женщины. Виргиния висела у меня на хвосте с отвратительным упорством. Как комиссар примитивного детективного фильма, преследующий преступника. Во мне шевельнулось смутное предчувствие опасности. Она решила загнать меня в пропасть — мелькнуло у меня в голове. Я старался быть особенно осторожным на поворотах и с судорожным вниманием следил за дорогой. Пусть не надеется подчинить меня своей воле! Прибавлю скорость и стряхну тебя, дьявола, со своего хвоста, торжествовал я, впереди начинался безупречно прямой отрезок дороги. Я помчался как на крыльях, дав мотору волю. Внезапно машину занесло. Боковое скольжение?! Я перевернулся через крышу. Гибельной пропасти здесь не оказалось.
Виргиния вывернула машину и сбила несколько саженцев оливы. К несчастью, меня вынесло на полосу встречного движения, и, чтобы избежать столкновения, желтая, битком набитая людьми «симка» свернула с асфальта и врезалась в бук. Отец и дети скончались на месте, жена умерла в больнице. На моей совести было четверо. Виргиния, которая неотступно следовала за мной, наблюдала за случившимся со стороны и умыла руки. Причина несчастья оказалась до невероятности нелепой: у кого-то, кто вез виноград, высыпались на дорогу гроздья, колеса выжали из ягод сок, и неожиданно ставшая скользкой дорога распорядилась моей машиной как ей вздумалось.
На суде Виргиния выступила в роли стороннего свидетеля. Случайный очевидец. Что ж, она имела на это полное основание. Все на свете решает случай.
Эпоху на скамью подсудимых не посадишь. Мы сами любим большие скорости, никто нас не принуждает. Мотор стал нашей неотъемлемой частью. Жизнь кажется привольней, когда в ушах свистит и шумит. Как будто душа проветривается. Вся муть оседает, и то, что в результате нервного напряжения сместилось, вновь встает на свои места.
Порой, бродя по мусорной свалке, я ищу взглядом свой автомобиль. Разум подсказывает, что было бы нерационально везти так далеко разбитую машину. И все же сердце сжимает тоска. Я словно бы сросся со своей красной машиной, современным мужчинам машина нередко заменяет самого надежного друга.
Порой я наблюдаю за товарищами по несчастью и думаю: все мы люди, прошедшие по острию ножа. Знаю, что все мы приговорены к тюремному заключению за более или менее схожие дела. Преступная небрежность по отношению к своим согражданам, вождение машины в пьяном виде. Администрация тюрьмы, вызвав меня, чтобы спросить, хочу ли я поменять тюрьму на каньон, подчеркнула, что умышленным убийцам таких привилегий не дают. Таким образом, все мы, исключая новоприбывшего, случайные убийцы. Хотя, может, и он ненароком, не отдавая себе отчета, отправил кого-нибудь на тот свет! Тех, кто этого не совершил, с каждым днем становится все меньше. Круг убийц растет. Убийцы по легкомыслию. А может, от подавленности? В наше время спиртное употребляют не для того, чтобы поднять настроение, а для того, чтобы выйти из состояния угнетенности.
Меня и сейчас тянет к бутылке. От внутренностей только что вытащенного из-под кучи мусора белого «мерседеса» тошнит. В мои обязанности всегда входило забираться в раскаленные остовы машин, чтобы привести в порядок салон. По мнению Эрнесто, главное для хоть сколько-нибудь стоящей машины — это салон. Я снова должен протирать тряпкой арматурный щиток, стряхивать с ковриков толстый слой пыли, чистить пучком перьев полуистлевшую обивку, рыться в ящичках и кармашках — удивительно, сколько разрозненных дамских перчаток рассовано повсюду в этой белой машине. Как будто ее владелица была однорукой. Нет конца-краю человеческим странностям. Почему-то эти разрозненные перчатки были запихнуты и в складки обивки, словно кто-то копил кожаные перчатки на черный день. От всего этого тряпья становилось дурно. Чаша переполнилась, и я выбрался из жаркой, как духовка, машины. Остальные по-прежнему, не поднимая головы, копаются в моторе. Только Фред карабкается поодаль по какой-то куче мусора. Похоже, ищет, куда бы опустить вторую ногу. Во всяком случае, сейчас он стоит, как журавль на кочке, широко раскинув в стороны руки, чтобы удержать равновесие. Вокруг него рябит раскаленный воздух, и кажется, что тело Фреда вибрирует, словно он готовится отправиться в путь на катящейся бочке. Я втягиваю голову в плечи, не хочу слышать возможных вопросов, пусть они лучше не поднимают глаз от мотора, пусть не преследуют меня взглядом! Я свободный узник каньона и могу, если захочу, нарушить здешние неписаные законы.
Эти жертвы рутины, у которых в крови все еще бьется ритм рабочего дня, не в силах меня понять, им и здесь подавай работу. Работа будто бы необходима, дабы по выходе на свободу суметь вновь адаптироваться в обычной жизни. На сегодняшний день средства массовой информации предлагают каждому болвану на любой случай жизни удобную и устраивающую его словесную формулировку. И те только и делают, что пользуются этими ходячими фразами. Вдохновение и импровизация для них — синонимы гомосексуализма и перекочевывают в ту же плевательницу. Их много, следовательно, они правы — разве не трогательная логика? Тех, кто думает своей головой, скрутим в бараний рог, и тогда жизнь станет прекрасной.
Во всяком случае, я пойду своим путем. Прямиком отправлюсь в виварий и даже не оглянусь. Что с того, что согнувшись и втянув голову в плечи, словно ожидая резкого окрика: стой! Пусть привыкают, я им не солдат в строю.
Убийственная жара не дает продохнуть. В этом проклятом каньоне нет ни дуновения ветерка. Сейчас я опрокину в глотку двойное виски и растянусь на полу вагона. Я и раньше средь бела дня валялся здесь, отдувался и мечтал о свободе. Если я когда-нибудь выберусь отсюда, я, разумеется, уже утрачу форму. Очевидно, и запас слов поиссякнет. Хорошо, если за весь день мы перекинемся парой скупых фраз. Раньше речь у меня текла сама собой — одно удовольствие слушать. На мне всегда лежал отпечаток лоска, и я был профессионалом в своем деле. Каждой женщине, которая встречалась на моем пути, я помогал решать ее проблемы.
Вновь и вновь мне приходится вселять веру в себя.
Потерянные годы, увы, углубляют пропасть, уже отделяющую меня от прежнего общества. А нет общества, нет и разговоров о моих способностях. Новые люди заняли мое место. Возможно, кто-то, кто помнит меня с тех времен, пренебрежительно кинет: дружище совсем опустился. Нет у Уго прежней предприимчивости, нечего рассчитывать на его поддержку. Стар и потрепан. Сидел в тюрьме. Совершил дурацкую аварию. В катастрофе погибло много людей. Нервы у него никуда, начнет еще жаловаться и лить слезы по прошлому. Тоже мне врачеватель душ!
Я позволяю себе еще один изрядный глоток виски, что ж, придется до получения следующей бутылки, положенной по норме, обходиться без спиртного. Теперь же мне необходимо себя одурманить. Иначе начну биться головой об пол.
Боюсь, что могу позабыть тонкости вариантов своей методики. К каждому, кто нуждался в помощи, я умел найти особый подход. Непреложное правило: человек неповторим. Лишь какое-нибудь психическое состояние может быть схожим у многих. Пресыщение жизнью, мысли о самоубийстве. Примерно за месяц я мог вытащить из омута бед любую женщину. Большей частью мне доводилось вмешиваться в жизнь тех, кто нуждался в моей помощи в самые критические моменты. Редко, когда люди вовремя осознают серьезность положения. Последняя стадия страданий — и милосердная подруга потерпевшей предстает с просьбой пред мои очи. Зачастую оказывалось нелегко выбрать кого-то из числа нуждавшихся в помощи. Умелый перекрестный опрос: возраст, происхождение, склонности, привычки, круг интересов, количество браков, разводы, состояние здоровья, наличие детей — даже докторам выкладывают все, я тем более должен иметь ясное представление о том, что явилось причиной, приведшей к кризису, ибо какое-то время мне приходилось жить бок о бок со своей подопечной. Каждая женщина — случай особый, но почти все они больны душой от собственной бесприютности. Чем глубже бывала пропасть отверженности, тем больше приходилось сыпать туда всяких снадобий. Запасы моей нежности и мне самому казались неисчерпаемыми, а от безудержной траты достояние это лишь росло. Возрождая другого человека к жизни, я порой так отдавался этому, что влюблялся в творение своих рук. Наблюдать за возрождением и обновлением души — это наполняло меня чувством удовлетворения и торжества. Я не жалел ни сил ни нервов.
У моих товарищей по колонии — работа в крови, восемь часов труда предусмотрено для человека. Всем им кажется, что они ужасные работяги. Просто чудо, как они выдерживают! Моей нормой в течение многих лет было трижды по восемь часов в сутки. Но и этого не хватало. Муж, любовник, слуга, шофер, гид, советчик, собеседник, созерцатель — время должно было быть резиновым. Легко ли быть проводником в салонах мод и сопровождающим на приемах? Или часами сидеть молча и с серьезным видом разыгрывать из себя исповедника?
Да и уметь тактично принять гонорар: я позволял дамам преподносить мне ценные подарки, что возвышало их в собственных глазах. Иные, более чувствительные особы, доставляя мне эту радость, прямо-таки лопались от счастья.
11
егодня ночью ко мне приходил мой покойный отец. Я услышал его еще до того, как стала раскручиваться лента сна. «Жан», — ворчливо позвал он меня. Так, видно, устроено было природой — он не мог говорить иначе нежели хриплым брюзгливым голосом, независимо от того, хорошее или дурное у него настроение. Сквозь сон я приготовился внимательно слушать — что хочет сказать мне отец? Я ворочался и размахивал руками, словно это могло разогнать кромешную тьму. Постепенно я стал что-то различать, но к отцу это не имело никакого отношения. В отблеске заката скользил на своем планере Роберт. Планер все быстрее терял высоту. Я невольно втянул голову в плечи, того и гляди крыло планера скосит меня. К счастью, Роберт с планером куда-то исчезли, и наступил черед появиться отцу. Он стоял у дома, в нашей апельсиновой роще, и был очень стар, намного старше, чем когда умирал. Маленький и сморщенный, с обвисшей кожей, с трубкой, зажатой в углу рта, уши большие и ржаво-бурые, словно тронутые морозом листья салата. Я принялся разглядывать его одежду. Он был в ползунках с завязками на сутулых плечах, на груди — вышитый заяц. Отец как-то мягко ступал по траве — поверх ползунков были натянуты белые вязаные носки. С трудом подбирая слова, я стал укорять отца. Сказал, что тотчас же принесу ему брюки и пиджак. Отец махнул рукой и велел мне собирать апельсины. И вот мы снова, как прежде, принялись за работу. С той только разницей, что я был большим, а отец маленьким. Мы собирали под деревьями плоды и складывали их в тележку, вскоре она наполнилась доверху. Мне было грустно, что отец так одряхлел. Теперь я повезу воз, деловито подумал я во сне. И дернул тележку, но она и не подумала сдвинуться с места. Я не мог понять, в чем дело. Отец топтался вокруг тележки и бурчал, дескать, что за колеса к ней приделали. Я взглянул и увидел на осях огромные апельсины, вязкие шары брызгали соком и все больше и больше сплющивались. Знал, что отец начнет браниться, — снова не успеем вовремя добраться до шоссе и апельсины повиснут на шее мертвым грузом. Сейчас туристы и отдыхающие потоком устремятся с юга на север, а нас нет на месте. Люди — это те же перелетные птицы, с той только разницей, что на зиму они спешат в холодные края, туда, где идет снег, — так думал я в детстве, глядя на проносившиеся мимо машины. Редко кто останавливался, чтобы купить ведро апельсинов и высыпать их в багажник. Однако на этот раз отец не стал ворчать. Он улегся под апельсиновым деревом посреди упавших плодов, блаженно улыбнулся, глаза его внезапно стали голубыми, и сказал скрипучим голосом: наконец-то ты, сын, все же вышел в люди.
Этот сон все утро преследовал меня, снова и снова возникая перед глазами. Я верил, что это было не просто видением. Отец положительно оценил мою деятельность, и это ободряло меня.
Вероятно, отец был прав. Не сейчас, но после того, как я выйду из колонии, я непременно выбьюсь в люди. Почему бы отцу, влачившему жалкое существование, и не задрать нос — есть надежда, что сын станет богатым господином!
Я чувствую, что мои товарищи по несчастью ненавидят колонию самообслуживания. В их глазах то и дело вспыхивает темное пламя отчаяния. Они словно сжались в комок, как звери в клетке, подойдешь слишком близко — огреют сквозь прутья лапой. Боюсь, что в один прекрасный день чаша терпения у них переполнится и они совершат тогда что-нибудь страшное. Считаю своей обязанностью не выпускать их из виду, чтобы предотвратить возможные безумства. Но каким образом? Я робею перед их умом и хитростью; стоит им захотеть, и они сметут меня с дороги как былинку. Чем я укрощу их, если разбушуются? Было бы у меня хоть образование или нечто такое, что внушало бы им почтение и страх. Босяк, говорит обо мне Уго. Я полагаюсь лишь на свою интуицию, но на сегодняшний день этого недостаточно. Когда мы роемся в мусорных кучах, я начинаю понимать, как мало знаю о мире. Что за жизнь ведут люди, если им требуются всевозможные диковинные штуки! Часто в руки мне попадаются предметы, назначения которых я не в состоянии определить, не говоря уже о том, чтобы подобрать им название. Изобилие вещей, кроющихся в мусорных кучах, прямо-таки ошеломляет меня. Сколько повыброшено ценного, кажется, что огромная прослойка людей только и делает, что разбазаривает добро.
Жизнь здесь, правда, тихая, но далеко не спокойная. Какое-то предчувствие возмездия давит меня — безумное расточительство где-то там, за пределами каньона, непотребное транжирство должно повлечь за собой жестокое наказание. Ненасытность людских желаний вселяет в меня ужас. Неужто все они помешались? Тупице Жану соблаговоляют объяснить: это мини-калькулятор для домашней хозяйки. Утром сунет в щель напечатанную в углу свежей газеты перфокарту с сегодняшними рыночными ценами и отправится делать покупки. Нажала на кнопку, и ни один продавец не сможет обмануть. А вот это детский спектрометр. Направишь луч на мочку уха младенца и прочитаешь на шкале, чего не хватает в его крови и какие вещества следует добавить в детское питание. Позавчера я нашел устрашающего огромного паука из пластика, под брюхом полно роликов и резиновых планок, на ногах металлические кружочки, выяснилось — магниты. Наливаешь в паука воду со стиральным порошком, прикрепляешь его снаружи к окну, сам сидишь в комнате и водишь палкой, к которой тоже прикреплен магнит, и эта тварь под твоим руководством моет тебе окна.
Поначалу богатства мусорных куч отпугивали меня. Я испытывал к ним чувство почтения, как-никак чужие ценные вещи, трогать которые не подобает. Не бесхозное же это добро, безусловно, эти залежи кому-то принадлежат, и меня накажут, если я суну что-то себе в карман. Остальные своими смелыми действиями мало-помалу вправили мне мозги. Все они с самого начала чувствовали себя совершенно свободно среди здешних сокровищ. Прибыв в колонию самообслуживания, они заявили, что им понадобится время, чтобы освоиться на новом месте. Стремясь чем-то заполнить незанятые часы, они стали бить бутылки и тарелки об камень — развлекались, словно дети, «стрельбой» по мишени. Я глядел на бессмысленное уничтожение и судорожно сжимал за спиной руки. Странно, но мне ужасно хотелось составить им компанию и тоже расколотить что-то вдребезги. Я преодолел свое дурацкое желание, мне не положено делать глупости, непременно получу за это по рукам.
Они же не ограничивали себя ни в чем. Распоясались так, что обломками труб разнесли в пух и прах вполне еще пригодную машину, грохот металла и звон стекла пробрали меня до костей. Ужасно, но и у меня снова зачесались руки. Однако сам я не решался даже тряпки порвать без спросу. В конце концов набравшись храбрости, я попросил разрешения у Эрнесто. Он казался мне старше и умудреннее остальных, мне хотелось равняться на него, брать с него пример. Эрнесто удивился и вытаращил глаза, пробормотал что-то насчет моей придурковатости, но тут же перестроился и дружелюбно разъяснил мне, что в здешнем государстве все мы равноправные властители. Я еще больше зауважал Эрнесто за его великодушие. У меня и позже всегда теплело на сердце, когда я заслуживал его одобрительный взгляд. Разумеется, в пылу разрушения недосуг раскидывать глазами, и только позднее, когда опустошать и разорять нам наскучило, мы стали замечать друг друга, принялись судить да рядить, как упорядочить жизнь и чем заполнить дни. Эрнесто пришла в голову неплохая мысль: что, если начать вытаскивать из-под груды мусора машины получше и приводить их в порядок? Я готов был подпрыгнуть от радости, когда заработал мотор первой налаженной машины. Копаться в моторе под руководством Эрнесто одно удовольствие. Похоже, его забавляет натаскивать меня. Он не скряга, своих умений не скрывает. Каждый раз охотно объясняет что к чему. Старательность всегда была у нашей родни в почете, и я наматываю на ус каждое наставление Эрнесто.
Пожалуй, я здорово выиграл, что дал согласие тюремной администрации и перебрался в колонию самообслуживания. Из душной тюрьмы я вырвался на свежий воздух, и умные сильные люди приняли меня в свою компанию. Только в одном они немного странные — не хотят объяснить мне, почему вначале с такой страстью ломали вещи, а теперь довольны, чиня и ремонтируя их. Отводят взгляд, разбредаются — и молчат. Однако они все же хорошие ребята. Еще отец говорил мне, когда я был мальчишкой: в других людях ты прежде всего видишь самого себя. Положа руку на сердце я могу поклясться, что никому не желаю зла. Подобное признание звучит, пожалуй, странно в устах убийцы, но судьбе было угодно это несчастье. Я должен нести свой крест и смириться, может быть, мадонна простит мне мое прегрешение. Хочу быть трудолюбивым, как муравей, потому что человек, если он по горло загружен работой, не сломится под грузом вины. В работе я состязаюсь с Эрнесто, да и Майк старается не отставать от нас. У го, не в обиду будь сказано, бездельник. Он человек иного склада и не привык работать руками. Иногда он вскользь рассказывал о женщинах, которым якобы помог. Именно состоятельные дамы подчас попадают впросак, того и гляди сунут голову в петлю. Уго служил опорой истерзанным душам; каким же редкостным даром должен обладать человек, чтобы заставить другого выбросить из головы мысли о смерти. Он походил на священника из нашей деревни, всегда находившего для людей слова утешения. Однажды, подвыпив, Уго признался, что удержал от самоубийства не один десяток женщин, а это во много раз превосходит число жертв автокатастрофы, в которой он был повинен, однако при определении меры наказания никто этого во внимание не принял.
Что ж, несправедливость вызывает горечь. И Уго средь бела дня то и дело исчезает в виварии. Не знаю, что он делает в этом душном вагоне? Может, они с Флер занимаются любовью? При этой мысли сердце болезненно сжимается. Я не вправе ревновать и все же ревную. Не могу я ежеминутно ходить по струнке, хоть и стараюсь. Моя ревность смешна; в глазах избалованной и красивой Флер я жалкий человек, ничтожество. Бедный деревенский парень, который за полгода городской жизни так и не сумел избавиться от мужицкого налета.
Я ведь до сих пор не могу поверить, что спал с Флер. Эротический сон — не более. Очевидно, я, подобно лунатику, бродил по карьеру до самой глубокой ночи, покуда не залез в свой виварий и, смертельно усталый, повалился на матрас. Вот только руки не соглашаются с разумом. Странно, но мои пальцы до сих пор помнят прикосновение к телу Флер.
Должно быть, нами овладело умопомрачение, когда, вырвавшись из тюремных стен, мы очутились на просторе заброшенного карьера. Человек ведь может одуреть, попав из затхлой и темной камеры на свет и свежий воздух. Первые дни жизни в колонии мы действительно словно обезумели. Только и делали, что ломали вещи и машины, а по ночам по очереди ходили к Флер. Сам бы я на такую гнусность не отважился. Эрнесто многозначительно подтолкнул меня и спросил: Жан, а ты чего ждешь? Ты, случаем, не муже-люб, признайся честно. Повяжем тебе лиловую ленточку на шею и оставим в покое.
Поздно вечером я отправился к Флер, ноги меня не слушались. Я боялся ее насмешек и ждал, что она вышвырнет меня за дверь. Но ни того ни другого не произошло.
Какое это было переживание!
Утром Уго пристально посмотрел на меня и сказал с издевкой: раб страстей.
После этой ночи я словно переродился. Пожалуй, я первым перестал ломать вещи. Ушел оттуда, где остальные в поте лица с шумом и грохотом рушили все, что попадалось им под руку. Я бродил среди отдаленных мусорных куч и собирал красивые и целые вещи. Отмывал свои находки и тащил их в свой виварий. Вагон стал мне мил, собственный маленький домик, который мне хотелось уютно и красиво обставить. Постепенно виварий обрел облик, его можно было считать домом. Правда, перед дверью и под окном не росли апельсиновые деревья. Но нельзя же требовать слишком многого от колонии самообслуживания. В прежние времена преступники, сидевшие в кандалах за решеткой, могли лишь мечтать о такой вольной жизни.
По ночам я стал поджидать Флер. То и дело приподнимался и садился на постели, прислушиваясь, не раздадутся ли за стеной легкие шаги Флер. Нам было бы хорошо в моем уютном гнездышке. От счастья и благодарности я стал бы целовать ей ноги.
Но она не приходила.
Уго, правда, частенько отлучался куда-то, но сегодня я не мог подозревать его в том, что он осаждал Флер. Ее приставили сторожить новенького. Эрнесто считал, что за ним надо присматривать. Вдруг Роберт решил заминировать наши виварии? Я не понимаю, почему Эрнесто беспрестанно говорит о минах и прочих боеприпасах. Откуда Роберту взять мины? Эрнесто за словом в карман не лезет. Голова у него варит. Пластиковые бомбы могли быть доставлены в карьер еще до нас. Что правда, то правда, мы еще не успели облазить все уголки огромного каньона. Чтобы рассортировать необъятные мусорные кучи, потребовались бы, пожалуй, годы. Много ли мы успели, однако кое-какие коллекции уже образовались. Мое собрание люстр, ламп и фонарей в числе самых скромных. А вот коллекция бюстов на Площади почивших государственных мужей, та действительно большая. Майк охапками таскал книги в пещеру и складывал их там. В свободные минуты он забирается в прохладную пещеру, выдолбленную в скале цвета киновари, и наслаждается тем, что перебирает и перелистывает свое достояние. Эрнесто, которому то и дело мерещатся опасности, не раз предупреждал Майка: будь осторожен, свод пещеры может обрушиться и погрести под собой и тебя, и твои книги. Майк и в ус не дует, машет рукой. Чаще всего он молчит, стремится быть один, кто его разберет, что он за человек.
Мы ведь друг друга не знаем, скрываем свою прежнюю жизнь, словно у каждого в душе есть уголок, отгороженный колючей проволокой.
Мне скрывать особенно нечего. Если б кто-то заинтересовался моим прошлым, я бы мог рассказать. Зато здесь, в карьере, у меня появилась своя тайна, и о ней я никому не заикнусь.
Тайна, равная сокровищу.
Не случайно отец, явившись ко мне во сне, похвалил меня. Похоже, что, выйдя на свободу, я стану богат. Сейчас я живу на пособие Международного управления по надзору за тюрьмами — ради эксперимента в колонию самообслуживания водворили одного представителя неимущего сословия; хватит унижений, пройдет какое-то время, и господина Жана будет не узнать. С полным правом я вынесу из карьера плоды своего труда, и никто не посмеет отнять у меня мое достояние. Я шутя уплачу страховой компании за разбитый чужой «линкольн», пусть оставят меня в покое. Мать и сестер заберу из маленькой отцовской лачуги в город. Будучи богат, я, может быть, даже решусь разыскать Флер. Удачная крупная сделка хоть кого поднимет в цене. Что я мог предложить Флер сейчас? Апельсиновые деревья, посаженные на моей родине еще дедом, захирели. Век апельсинового дерева так же долог, как век человека, но все же когда-то приходит старость.
А вот собранное в карьере сокровище не истлеет и не сгинет.
Бежав от своих товарищей, охваченных жаждой разрушения, я однажды в предзакатный час слонялся по дальним уголкам каньона и очутился подле какого-то странного образования породы, меня словно к месту пригвоздило, когда я увидел его. От вертикальной стены карьера отделялась скала, напоминавшая своими очертаниями раздувающийся на ветру парус и сплошь усеянная сверкающими жемчужинами. Разинув рот, я смотрел на это чудо природы, затем, ошеломленный, подошел поближе и коснулся пальцем переливающейся бусинки. Капля упала и рассыпалась на тысячи невидимых шариков. Настоящая ртуть! От удивительной находки перехватило дыхание. Скалу, покрытую блестящими каплями, я назвал Миракулум. Я шел оттуда, повторяя шепотом это волшебное слово и ставя на пути вехи.
Теперь каждый вечер, прихватив с собой стопки и бутылки, я провожу подле Миракулума. Собираю капли ртути на стекло от очков, делаю это старательно, словно коплю змеиный яд. Я нежно разговариваю со своим Миракулумом, никогда и никому я не отважился говорить такие ласковые слова, как теперь этой немой скале. Щедрость Миракулума позволила мне собрать несколько бутылок ртути. Сосуды, полные до краев жидкого металла, невероятно тяжелы, я тайком по одному отношу их в свой виварий. С каждой новой ношей передо мной все шире открываются перспективы будущего. Главное, чтобы под давлением тяжелого сокровища не лопнули бутылки.
12
ного ли времени прошло с тех пор?
Не помню.
Я невольно подслушал, как Тесса негодующе крикнула в телефон:
«Он ни черта не смыслит! Майк одержимый! Живет во имя какой-то призрачной идеи!»
От слов Тессы я вздрогнул, как от удара. По-моему, я вполне твердо стоял на земле, правда, в ту минуту — на ковре залы нашей квартиры, где все вокруг меня было осязаемо и насквозь знакомо с детства: посреди потолка висела люстра, под ней массивный овальный стол темного дерева, вокруг двенадцать обитых гобеленом стульев, у стены громоздился буфет, в верхней части которого, за резными столбиками, поблескивала стеклами горка; из окон, обрамленных портьерами, в комнату струился рассеянный солнечный свет, в воздухе трепетали нежные, по-домашнему уютные пылинки, у всех трех диванов по-прежнему было восемнадцать медных ножек в форме львиной головы, да и огромную пальму вот уже двадцать лет никто не переставлял, о нашем комнатном дереве всегда заботился один и тот же садовник — менял землю, удобрял, срезал высохшие листья. Нам никогда не надо было вызывать этого старика, он всегда приходил сам в нужное время и делал все необходимое.
Я не знаю почему, потрясенный словами Тессы, в течение нескольких секунд старался уверить себя в незыблемости нашего дома. Очевидно, мне хотелось подсознательно, подчиняясь инстинкту самосохранения, зафиксировать, что воспринимаю реальность адекватно. Меня ведь слегка задело поведение Тессы. Крикнуть чужому человеку по телефону: Майк живет во имя какой-то призрачной идеи!
Ее слова задели меня, однако я постарался подавить в себе неприятный осадок, глубоко засунул руки в карманы, вытянул губы, готовясь весело засвистеть, и направился к двери, чтобы по ковровой дорожке коридора дойти до холла, где Тесса беседовала с кем-то по телефону. Я едва успел сделать несколько шагов, как меня охватило сомнение, неожиданно показалось неуместным и фальшивым мое намерение обнять Тессу, сжать в ладонях ее пылающее от смущения лицо, заглянуть ей глубоко в глаза, посмотреть, как вздрагивают ее искусственные ресницы, и сказать: дорогая Тесса, я тоже кое-что смыслю в жизни и людях, скажи мне, что тебя мучает.
Передо мной выросла стена, веселый мотив замер на губах, еще не успев родиться, руки, засунутые в карманы, не были уже так самоуверенно напряжены и мускулисты, они стали дряблыми, словно вареными, и не подчинялись моей воле.
До сих пор я крайне редко задумывался над характером нашего длившегося не один год брака, никогда не пытался разведать причины настроений Тессы, я всегда думал, что все обстоит так, как и должно обстоять, ибо совместная жизнь в общем-то не обременяла меня. Было исключено, чтобы взаимоотношения с женой стали краеугольным камнем моей жизни; просто я нуждался в надежном тылу — жена была принадлежностью дома, по квартире расхаживала верная душа, Тесса не только радовала глаз, но и дарила, когда хотела, мгновения забытья.
В большинстве случаев я оказывался пленником своих мыслей. С юных лет я увлекся актиномицетами, и этот многосторонний объект исследования по-прежнему занимал меня; чем больше мир узнавал о лучистых грибках, тем больше загадок таилось в них. Меня все время подстегивало сознание: я должен торопиться. Возникла отрадная цепная реакция: чем больше опытов я проводил и чем больше добивался заслуживающих внимания результатов, тем интенсивнее начинали множиться мои идеи, они без конца делились, подобно клеткам развивающегося организма, — в моем воображении возникали все новые и новые возможности. Широчайшее распространение актиномицетов во всем мире, обилие форм этих интереснейших микробактерий в каком угодно климатическом поясе, не говоря о их жизнеспособности и устойчивости, — все это сулило беспрерывные неожиданности и сюрпризы. Утилитарная отрасль микробиологии уже длительное время занималась актиномицетами, заботясь непосредственно об интересах человека, в этих исследованиях и мне удалось восполнить кое-какие небольшие пробелы. Теперь же я все больше и больше тяготел к теории, я сумел увидеть новые перспективы подхода к материалу и собирался создать хитроумную всеобъемлющую систему, которая стала бы отправной точкой для исследователей в этой области по меньшей мере лет на десять. Я упорно шел к вершине. При современных темпах развития неизменность какой бы то ни было системы в течение десятилетия явилась бы величайшим достижением, во всяком случае, это было бы немаловажной ступенью к следующему, поворотному моменту на пути изучения актиномицетов.
У меня было все для того, чтобы выстроить свою систему. Совершенная лаборатория, знающий персонал, достаточные материальные ресурсы, чтобы постоянно менять аппаратуру на более современную; к тому же я еще не достиг тридцати — в науке крайне важно не пропустить поры расцвета умственных способностей; итак, у меня хватало энергии на то, чтобы торопиться. Мне создали самые благоприятные условия, возможно, забота, которой меня окружили, была даже чрезмерной. В поездках меня сопровождал секретарь-телохранитель. Не допускалось, чтобы мелочи жизни отвлекали меня. Я мог спокойно думать.
Я уже почти зафиксировал каркас своей системы. До сих пор все время подгоняя себя, я в какой-то момент стал осторожнее и расчетливее, мне необходимо было разобраться еще в кое-каких неясных пока подробностях, чтобы не начать опрометчиво предлагать принципы взаимосвязи актиномицетов. Многие оставшиеся нерешенными вопросы ждали единственно возможного решения, научное открытие нельзя было насильно затолкать в какие-то определенные рамки, это не чемодан, который мой телохранитель Аврелий в случае необходимости прижимал коленом, чтобы защелкнуть замки.
Может быть, оставалось сделать лишь один маленький шаг, чтобы достичь вершины. В специальных журналах я опубликовал ряд статей и намеревался дать в печать еще целую серию, чтобы исподволь подготовить достопочтенное общество микробиологов к ошеломляющему открытию. В любой области отношение к новому одинаково; надо быть немного психологом, чтобы выступить со своими концепциями не прямо, а как бы исподволь, скармливая их маленькими дозами и приучая людей к свежим мыслям, как к яду, ибо, если потревожить осиное гнездо, можно затормозить развитие. Правильнее делать вид, что ты и не открыл ничего принципиально нового; твои уважаемые и высококвалифицированные коллеги, разумеется, давно все знали, ты лишь связал концы с концами и восполнил отдельные, абсолютно несущественные пробелы. Молодых Ньютонов и Эйнштейнов, простосердечно восклицающих «эврика», проглатывают в эпоху коллективной науки еще до их рождения. Деликатно улыбаясь и проявляя великую заботу о чистоте и процветании науки.
Все было тщательно продумано, до победы рукой подать — еще миг, и человечество известят об открытии. Утилитарная отрасль науки могла бы, опираясь на мои концепции, сразу сделать огромный скачок в области сельскохозяйственной, фармацевтической и химической промышленности.
Однако внезапно начался какой-то необъяснимый обратный процесс. Вначале я не ощущал никаких признаков беды. Несчастье подкрадывалось незаметно.
«Майк одержимый, он ничего не смыслит в жизни», — повторила Тесса в трубку.
Услышав слова Тессы, я застыл на месте, парализованный каким-то необъяснимым чувством: мое кровообращение, казалось, замедляется, красные кровяные тельца погружаются в летаргический сон, очевидно, в кровеносных сосудах начался процесс свертывания крови. Если б Тесса говорила в шутливом тоне, я не обратил бы ни малейшего внимания на ее слова, но из холла донеслось нечто совсем иное: впервые я уловил в ее голосе презрение, в кипящей злобе разверзлась мертвящая пропасть враждебности.
В моем сознании с нелепой последовательностью стал повторяться один и тот же рождающий страх вопрос. Тот ли я, кем себя считаю? Все прочее растворилось в тумане. Постепенно способность мышления восстановилась. В силу вступило критическое отношение к себе. Когда я совершил ошибку, когда возник хаос в моем надежном тылу? С какого момента начались расхождения между мною, каким я себя считаю, и тем, кем являюсь на самом деле? Ошибку надо исправить прежде, чем она усугубится.
Много позже я понял, что тогдашний испуг в один момент лишил меня самоуверенности, к которой примешивалось тщеславие. Внезапно я оказался беззащитным и напуганным и, разумеется, стал искать опоры в своей почти законченной научной системе. Размышления об этой сложной структуре приободрили меня, я решил, что беглого анализа такого сравнительно примитивного явления, каковым является один из моментов семейной жизни, достаточно, чтобы устранить некоторые отклонения и восстановить равновесие.
Я был нетерпелив, для долгих копаний в себе у меня не хватало времени, я хотел немедленно поставить все на свои места. Вскоре мне предстояло в сопровождении Аврелия лететь через океан, я задумал покопаться в научных лабораториях нескольких университетов и намеревался пробыть в отъезде самое большее месяц. Собственно говоря, предстоящая поездка была необходима мне, чтобы немного проветриться перед тем, как закончить серию статей. Заготовки лежали на письменном столе. На какое-то время я должен был отвлечься от этих исписанных листов бумаги, чтобы вновь испытать их властную притягательную силу. Чтобы заторопиться домой, за свой стол, в свою крепость, в свой кабинет. Темно-коричневые и мшисто-зеленые тона комнаты способствовали концентрации мыслей на тайнах жизни. Я почти всегда заходил в свой кабинет с каким-то благоговением, словно в святилище. А уходя из кабинета, верил, что обрывки мыслей остаются висеть в спокойном полумраке; и в самом деле, возвращаясь, я обнаруживал перед собой комбинации, ожидающие своего развития, они покачивались на прежнем месте, в едва колеблющемся воздухе, мне было легко собрать все нужное воедино и продолжить то, что осталось незавершенным. Все, что приходило мне в голову в кабинете, никогда не забывалось и не улетучивалось. Когда я возился в лаборатории или находился в поездке, я всегда должен был записывать в блокнот осенившие меня мысли, в противном случае они либо исчезали, либо сами собой трансформировались в прописную истину.
Итак, рейс через океан должен был взбодрить меня и вызвать тоску по рукописям и кабинету. Накануне решающего рывка надо было обрести идеальное душевное равновесие, чтобы максимально сосредоточить свои силы и волю. Я не сомневался, что, вернувшись домой, с жаром наброшусь на работу. Я ни в коем случае не собирался отказываться от поездки из-за капризов Тессы.
Я торопливо перебирал в памяти последние недели нашего брака. Нюансы более отдаленных времен так и так позабылись.
За несколько дней до отъезда, известив Тессу о своих планах, я заметил, что она отвела глаза и помрачнела. Я терпеливо объяснил жене, почему не могу взять ее с собой. На том материке наши интересы разошлись бы — это ведь не увеселительная поездка, — меня отвлекали бы посторонние разговоры и праздные желания что-то купить или посетить сенсационные места. Тесса, казалось, поняла мои доводы, во всяком случае спорить не стала. Когда же на следующий день она вскользь обронила, что позвала в гости своих друзей и чтобы я по этому поводу освободил себе вечер, я понял, что на этот раз должен покориться.
Большей частью я сторонился ее друзей. К тому же они менялись так часто, что запомнить их имена было невозможно.
В тот вечер в нашей квартире собралось с десяток совершенно незнакомых мне людей. Я благоразумно запер дверь своего кабинета и сунул ключ в карман, чтобы никто из них развлечения ради не зашел туда и не переворошил бумаги на письменном столе.
Едва собравшись, друзья Тессы умудрились перевернуть квартиру вверх дном. Меня ошарашила их ретивость — про себя я окрестил их вечными двигателями. Они непрерывно шныряли по комнатам, запускали музыкальные агрегаты — игнорируя мое неудовольствие, Тесса накупила их в большом количестве, везде у нее под рукой должны были быть клавиши и кнопки, — хлопали дверцами холодильников, доставали из бара и буфета вина и напитки покрепче, понаставили всюду формочки для льда, бутылки из-под лимонада и минеральной воды; то тут, то там в наши старинные люстры стреляли пробками из-под шампанского, женщины беспрерывно готовили на кухне все новые салаты из шампиньонов и коктейли с крабами, в бесчисленном количестве разносились баночки и бутылочки с приправами — весь этот грандиозный бедлам олицетворял, по их мнению, праздник и отдых.
Прежде я деликатно намекал Тессе, что она могла бы не возиться с приготовлением еды и напитков, наняла бы повара и слугу, которые накрыли бы стол как полагается. Я с удовольствием после долгого перерыва воспользовался бы накрахмаленными салфетками и смотрел бы на серебряные подсвечники и букеты гвоздик в вазах, как в былые времена, когда отец с матерью принимали гостей и мне тоже разрешалось сидеть вечером за столом.
Тесса смеялась и говорила, что этак чинно киснуть за столом давным-давно изжило себя и к тому же смертельно скучно.
Молодые мужчины и женщины предпочитали сидеть развалясь в креслах или слоняться из комнаты в комнату. Во время приемов, которые устраивала Тесса, я не находил себе места. Где бы я ни пристроился, меня обязательно задевала бедром проходившая мимо хихикающая или хохочущая женщина, словно в нашей квартире мало места и невозможно пройти мимо, не толкнув кого-то. Я попробовал укрыться в ванной комнате, чтобы хоть немного отдохнуть от всех них; грохочущая музыка, шум голосов и экзальтированные выкрики начинали действовать на слух. Но, увы, меня опередили. За незапертой дверью я обнаружил парочку. К счастью, я не оказался свидетелем чего-то непристойного, но все же разозлился; высокий кудлатый мужчина в узких брюках, которые прямо-таки трещали по швам, стоял нагнувшись над раковиной и преспокойно чистил моей зубной щеткой свои лошадиные зубы. Женщина, поставив ногу на край ванны, затягивала ремешок на туфле.
Странно, что она проявляла такую заботу о своих туфлях, состоявших из тонюсеньких ремешков, в то время как молния на ее вечернем платье была расстегнута до самого копчика.
Я возмущенно фыркнул и захлопнул дверь.
Теперь я уже никуда не решался сунуть нос. Я охотно приготовил бы себе на кухне сандвичи — живот подвело от голода, эти сварганенные наспех салаты я не рискнул есть, — однако боялся попасть под ноги снующим в кухню и из кухни женщинам, да и вряд ли мне удалось бы найти там чистые ножи и вилки.
Я с нетерпением ждал конца этого томительного кутежа. Я жаждал уединения в своем кабинете, броситься на диван и выспаться при открытом окне. Воспользоваться спальней в сегодняшнюю ночь было невозможно. Какая-нибудь бесстыжая парочка конечно же побывала в нашей постели. В конце концов я ведь не какой-то завсегдатай ночлежки, чтобы спать на грязных простынях.
Я сел в тени пальмы — авось они вскоре устанут от разгула и разойдутся? Зачем Тессе понадобилось вовлекать меня в эту вечеринку? Я ведь и раньше допоздна засиживался в лаборатории и в тиши вечерних часов делал немало полезного. К тому же мне было неприятно смотреть на Тессу. На ней был жуткий, обтягивающий тело комбинезон телесного цвета, напоминающий покроем пижаму; мне казалось, что сквозь тонкий шелк просвечивают ее соски. Да и остальные женщины были одеты во что-то облегающее либо просторное и открытое, с вырезом до пупа, и у всех между грудей болталось бесчисленное количество цепей и побрякушек. В тот вечер Тесса казалась мне чужой, ее можно было перепутать с любой другой, и мне стало не по себе от мысли, что я женат на стандартной женщине.
После полуночи я неожиданно им понадобился.
Пресытившись суетой, питьем, едой и валяньем, они окружили меня; я оказался в фокусе множества блестящих глаз, гости бренчали льдом своих полупустых бокалов и жаждали духовной интермедии. Какая-то женщина, с иссиня-черными волосами и выщипанными бровями, подошла ко мне, покачивая бедрами, остановилась, выпятила свой плоский живот и, сложив губы трубочкой, спросила:
— Что нового в микробиологии?
Мне хотелось язвительно заметить, что ее мозги все равно не в силах этого уразуметь и что ее действиями управляет лишь игра гормонов, однако я заставил себя вежливо промолчать — к чему мне потом выслушивать упреки Тессы, что я испортил им праздник, — я напустил на себя вид маститого профессора и на полном серьезе принялся пудрить им мозги.
— В микробиологии масса нового. Скоро не надо будет мучиться, рожая детей. Современная наука просто обязана избавить женщин элиты от этого тяжкого бремени. Согласитесь — женщина теряет форму, тратит свои лучшие годы и к тому же на свет может появиться урод.
Все оживились.
— Самим рожать детей — это вчерашний день! Уже стало возможным клоническое воспроизводство.
— Что значит — клоническое?
— Людей станут размножать подобно тому, как почками и черенками размножают растения, и ребенок будет походить на своего предка как две капли воды. — Я назидательно поднял палец. — Самая большая притягательность этого метода в том, что при клоническом воспроизводстве мужчины тоже смогут иметь отпрысков, ядро их соматической клетки будет пригодно для трансплантации донору, и ребенок будет копией отца, от матери он не унаследует ни одной черты. К примеру, если я сам себе очень нравлюсь, то путем клонического размножения смогу обрести вечную жизнь. Я, как личность, могу повторяться здесь, на земном шаре, бессчетное количество раз. Майк первый, Майк второй, Майк третий — и так до бесконечности. У всех у них будет точно такая же внешность, как у меня, умственные способности и наклонности также не будут отличаться от моих. Так что приготовимся к бессмертию!
— Потрясающе! — вздохнула женщина с иссиня-черными волосами, потрясла грудью, на миг глубокомысленно уставилась в потолок, а затем осушила полупустой бокал.
— А секс? Неужели всего лишь наслаждение? — оживился тот самый тип, который нахально пользовался в ванной комнате моей зубной щеткой.
Я решил отплатить ему за то, что, перед тем как пойти спать, должен буду рыться в шкафчике и искать, имеются ли там про запас новые зубные щетки.
— Как сказать, — я с независимым видом пожал плечами. — Тот, кто жаждет для себя вечной жизни, должен подвергнуться стерилизации. Ничего не поделаешь, даже ослу приходится подумать, прежде чем выбрать из двух куч сена одну, — заметил я не без злорадства. — За все надо платить — и за победу, и за поражения. Надо решать, что выгоднее. Только не раздумывайте слишком долго, а то опоздаете!
Гости, ошеломленные новостью, принялись, как заведенные, ахать, вздыхать и ерзать, в их пустых глазах появилось выражение крайнего отчаяния. Одна лишь Тесса усмехалась про себя, вероятно, считала, что ее муж-микробиолог окажется в новой ситуации всемогущим. Очевидно, сумеет сообразить, как заполучить вечную жизнь и одновременно сохранить сексуальное наслаждение.
Моя мини-лекция почему-то отрезвила компанию и снова возбудила их аппетит. Они набросились на остатки салата в мисках, на кухне захлопали дверцы холодильников, лед с решеток перекочевал в термосы, бутылки разглядывались на свет, вечность представлялась чем-то очень далеким, а умирать от сиюминутной жажды никто не хотел. В склоненных над бокалами бутылках играли блики света и отражались мертвенно-бледные лица, гости спешно искали забвения, словно клоническое размножение человека стояло на повестке завтрашнего дня и, как только забрезжит рассвет, им придется сделать выбор — остаться ли земными, грешными, жалкими смертными или ценой полного отречения достичь вечного повторения своей неповторимой личности.
Я не имел ни малейшего представления, хотела ли Тесса, презрительно отозвавшись обо мне по телефону как об одержимом, который ничего в жизни не смыслит, утешить этим кого-то из своих знакомых, обсуждавшего с ней проблему смерти и бессмертия, — во всяком случае, искренность тона Тессы вселила в меня тревогу. До отъезда оставалось мало времени, я должен был действовать. Было бы тяжело уезжать, увозя с собой необъяснимую натянутость отношений или даже враждебность.
К сожалению, мне в голову не пришло ни одной дельной мысли, которая помогла бы нормализовать домашнюю жизнь.
Я признался себе, что я бездарный муж.
Тесса как будто почуяла мое состояние, потому что вечером, накануне отъезда, она неожиданно выключила один из музыкальных агрегатов и заявила с продуманной решительностью:
— Мне нужна довольно крупная сумма.
— В чем же дело! — облегченно воскликнул я. — Сколько?
— А я не собираюсь упрощать тебе жизнь и называть сумму, — ядовито произнесла Тесса.
Я решил, что лучше будет промолчать, поплелся в свой кабинет, выудил из ящика стола чековую книжку и задумался. Каждый месяц я перечислял в банк на счет Тессы довольно-таки внушительную сумму, которой ей хватало на ведение хозяйства, тряпки и развлечения. Сколько же я должен выписать сейчас? Черт его знает. Я стал прикидывать, что ей могло взбрести в голову. Может быть, она собирается за время моего отсутствия съездить на какой-нибудь курорт? Это предположение было вполне логичным, и поэтому я выписал чек на сумму, которой хватило бы на то, чтобы объехать пол-Европы. Я считал, что проявил щедрость.
Тессе надоело ждать меня, снова гремела музыка, и Тесса потягивала из высокого бокала какой-то напиток. Я положил чек перед нею, она мельком взглянула на него и коротко бросила:
— Мало. Мне нужно еще столько же.
Я повернулся на каблуках и, недовольно сопя, вернулся в свой кабинет. Я ведь не машина, печатающая деньги! Тесса даже не потрудилась объяснить, зачем ей такая сумма! Открытое вымогательство, она пользуется тем, что я последний вечер дома и не могу послать ее ко всем чертям.
Выписывая новый чек, я заметил, что у меня слегка дрожит рука. Нервы расшатались, испуганно подумал я. Открыл окно и сделал несколько дыхательных упражнений, пытаясь восстановить душевное равновесие. Скоро я пришел в норму. Держа двумя пальцами чек и размахивая им, я, насвистывая, отправился в комнату Тессы. Она даже не взглянула на чек, попросила, чтобы я положил его на стол. Мгновение спустя Тесса сообразила, что в своей надменности и бесцеремонности зашла слишком далеко. Она встала, подошла ко мне, приподнялась на цыпочки и сухими губами равнодушно прикоснулась к моей щеке. Очевидно, я должен был подскочить до потолка от проявленной ею нежности, а я, увы, помрачнел. На сердце заскребло: может, мы устали друг от друга? Ах, пытался я успокоить себя, ведь ни одна система не функционирует все время ровно, всегда бывают какие-то колебания и отклонения, подъемы и спады. Наверное, разлука пойдет нам на пользу. Конечно же Тесса будет с нетерпением ждать моего возвращения домой, так же как я буду тосковать по тому чувству покоя и сосредоточенности, которые охватывали меня за моим письменным столом. Прежняя свежесть чувств, и радость, которую мы дарили друг другу, восстановятся, и, быть может, даже в еще более совершенной форме.
Я бодро отправился в путь. Насыщенная программа помогла мне в течение поездки стряхнуть мрачные мысли и почти забыть о Тессе. Все это время я был занят делами поинтереснее, нежели самоистязание. Строить какие-то предположения и подозревать жену, будучи вдалеке от дома, значило бы заработать невроз.
Домой я вернулся на несколько дней раньше намеченного срока.
Я мог быть доволен собой, меня действительно мучила нестерпимая жажда деятельности, и, кроме того, время, потраченное на поездку, не прошло зря. По ту сторону океана я даже во сне думал об усовершенствовании своей системы и, просыпаясь по ночам, делал кое-какие существенные пометки. Я был готов к финишному рывку. Состояние подавленности, в котором я находился накануне отъезда, казалось мне теперь далеким и несущественным. Даже если Тесса за это время стала колючей как еж, мне все равно. Впредь я не стану обращать внимания на капризы жены. Я не собирался плясать под чью-либо дудку. Я был убежден: я — выдающийся ученый, и эгоцентризм мне дозволен, быть может, даже необходим.
Перед дверью квартиры в нос мне ударил неприятный запах. Почему-то мне не захотелось совать свой ключ в замочную скважину, и я, подобно случайному гостю, нажал на кнопку звонка. Одновременно с раздавшимся мелодичным звонком распахнулась дверь: кого-то ждали. Передо мной стояла Тесса. Волосы перехвачены на затылке тесьмой, овал лица неожиданно чистый и милый, искусственных ресниц нет и в помине, в глазах ребячливый азарт и блеск. Я боялся погасить этот огонек и готов был отвести взгляд. Но нет, Тесса изменилась До невероятности, она обхватила меня руками за шею, и я размяк. И все же я почувствовал, что и от Тессы исходит тот же вызывающий тревогу резкий запах, который озадачил меня уже при выходе из лифта. Тесса самозабвенно обнимала меня за шею, я украдкой обвел взглядом прихожую. Цвет стен изменился, дверцы стенных шкафов были приоткрыты, зеркало и бра отсутствовали, в углу валялись в куче картон и оберточная бумага.
Едкий запах синтетических смол и растворителей ощущался теперь совершенно явственно.
В конце концов Тесса устала висеть у меня на шее и разжала руки. И тут же упоенно защебетала, мол, дорогой, я хотела тебя удивить и обрадовать, ведь не могли же мы дольше жить среди всей этой затхлой и устарелой мебели; я пригласила дизайнера, маляров и старьевщика, бог мой, весь этот месяц я разрывалась на части, сколько было трудностей, я только и делала, что бегала из одного мебельного магазина в другой, а устроиться, распаковать и расставить по местам — я и не думала, что у нас столько одежды, посуды и книг, все это надо было вытащить, рассортировать и снова уложить на место…
Меня охватило дурное предчувствие.
Я кинул пальто в угол, прямо на ворох оберточной бумаги, и, заставляя себя идти размеренным шагом, принялся бродить по квартире.
Мне захотелось завыть в голос.
То, что произошло за это время, было чудовищно.
Землетрясение, пожар, наводнение да любое другое стихийное бедствие не потрясли бы меня в такой мере, как потрясло увиденное. Катастрофа неуправляема, она не зависит от человека, который волей-неволей покоряется неизбежности и, призывая на помощь разум, старается примириться с потерей.
В моей квартире предумышленно был учинен невообразимый разгром.
Вместе с уютной старой мебелью было сметено и воспоминание о моих прадедах, родителях и моем собственном детстве. В полумраке вечерних часов тени дорогих мне ушедших людей располагались на диванах и в креслах, временами их бледные лики, казалось, глядели на меня из потускневших зеркал или из-за стеклянных витрин шкафов. Большие восточные ковры, хранившие следы ног прошлых поколений, — все это исчезло. Пальма и та была срезана — в кадке с землей оставался один-единственный жалкий отросток. Внезапно я почувствовал себя предельно опустошенным и беззащитным. Даже прежние портьеры оказались недостаточно хороши для Тессы, теперь на окнах висели жалкие мятые полотнища в сюрреалистических разводах. Я угадал на них какие-то скабрезные фигуры. В обиходе не нашлось бы ни одного подходящего названия, чтобы описать новую мебель. Диваны не были диванами — к тому же все они были разномастные. Один из них, черный, с высокой спинкой, вселял ужас, будто это не диван, а адская бездна. Опустишься на него — и нет тебя, сразу же провалишься в зияющую тьму. Остальные приспособления для сидения были чудовищно вытянуты и извивались. Их покрывал пятнистый бархат, на котором серые, цвета плесени, пятна сменялись красными, словно мебель страдала грибковым заболеванием и скарлатиной. Тут и там стояли столы, светлые и темные, повыше и пониже, но и одного такого, куда можно было бы поставить столовый сервиз с супницей. И вообще, сидя за каким-либо из этих столов, пищу приходилось бы отправлять в рот на уровне колен. Кроме того, в зале находились еще разные, наполовину обитые, наполовину отполированные деревянные предметы, назначение которых оставалось для меня загадкой.
Тесса за моей спиной шептала что-то о последней моде, затем потащила меня за руку в свою комнату. Там был сооружен монументальный круговой помост, на котором в беспорядке валялись черные, зеленые, лиловые и красные подушки. И лишь в центре комнаты оставался пятачок свободного пространства, где можно было стоять; а так, при желании, ты мог бездумно броситься в любую сторону и приземлиться на дурацком, обитом материей помосте. Жизненное пространство человека было превращено в арену блуда. Торопливо и смущенно Тесса стала собирать среди подушек свое белье. Вероятно, она считала, что эти крохотные, разноцветные, изобилующие кружевами и едва прикрывающие тело предметы дамского туалета гармонируют с этим ложем.
Я окаменел и потерял дар речи.
Усилием воли заставил себя войти в свой кабинет.
Моя темная и спокойная комната волей больной фантазии была превращена в лабораторию из какого-нибудь фантастического фильма. Все было сверкающе-белым: потолок, стены, шкафчики на ножках-палочках; на каждой дверце золотая виньетка, в которой я угадал свои инициалы, а у самой длинной стены лежал на боку труп слона. Или труп мамонта — чудище было мохнатым. Над вытянутыми передними ногами, имитирующими подлокотники, возвышалась голова с хоботом, на бивнях лежала белоснежная столешница — очевидно, она представляла собой подставку для газет и журналов. Как-никак комната человека, занимающегося умственным трудом!
Я задохнулся, сердце, подпрыгивая, покатилось вниз по невидимой лестнице. Я был в состоянии шока и не мог сделать ничего другого, как встать на колени перед своими рукописями, в беспорядке разбросанными по полу. Я не решался прикоснуться к бумагам. Я и не хотел знать, насколько перепутаны были отдельные листы и части, я не был уверен, смогу ли я вообще когда-нибудь преодолеть нашедшее на меня оцепенение, чтобы привести в порядок и прочесть эти ставшие неожиданно чужими бумаги.
Незрелые, но обнадеживающие мысли, подобно ниточкам, оставались реять под потускневшим потолком моего кабинета — теперь же маляры смахнули их, словно пыль. Я почувствовал, как в моем мозгу появилось что-то неприятное, чужеродное, будто опасная полынья или пучина, и что-то очень важное исчезло в ней как в воронке.
Ночью я спал в своем кабинете в пружинящей складке мохнатого живота слона-мамонта и то и дело просыпался от странного звука, походившего на повизгиванье брошенного щенка, я прислушивался — может, в эту странную квартиру попало живое существо, но стояла тишина, наверное, это я сам плакал во сне. Утром я с презрением подумал: и этому-то миру я должен дарить свою блестящую систему, свое открытие, плод работы своего ума! Кому это вообще нужно? Разве что горстке таких же, как я, отшельников науки, которые ничего не смыслят в жизни!
Внезапно я возненавидел свою горячо любимую работу, в душу закралась пугающая мысль: я больше не в силах идти к вершине. Мне словно подкосили ноги, а пользоваться костылями чужих знаний я не хотел, Компилировать какой-то вздор из крупиц мыслей, вымученных из себя средней руки служителями науки, — этот унизительно простой путь был для меня неприемлем. Должен же я был сохранить к себе хоть каплю уважения.
Я вдруг почувствовал себя опустошенным, а ведь мне не было еще и тридцати.
И все же где-то внутри еще теплилась искра прежней жизненной силы. Я любой ценой хотел вновь стать личностью. Я даже сходил к психоаналитику. Он отнес мой душевный разброд на счет переутомления, ультрамодный же дизайн квартиры, который стал причиной моего недуга, вызвал на его лице лишь усмешку. Участливый врачеватель душ посоветовал мне на какое-то время изменить привычный образ жизни и вести себя обратно тому, как я вел себя раньше; он выразил предположение, что безошибочная память и желание работать могут восстановиться.
Переломить себя и действовать вопреки своим привычкам?
Я ухватился за эту рекомендацию, как утопающий за соломинку.
Я разрешил Тессе приглашать к нам в гости ее друзей, когда ей только захочется. Теперь в нашей омерзительной квартире из вечера в вечер шел непрекращающийся гнусный праздник. Мы валялись и барахтались средь подушек обитого материей помоста в комнате Тессы. В холодильниках стояли про запас батареи шампанского. Раздавались залпы летящих в потолок пробок. Я не противился, когда распутные подружки Тессы волокли меня, пьяного, в нашу новую спальню, на кровать под балдахином; меня нисколько не шокировало, что из простыней еще не выветрился запах недавнего свального греха.
На одной из очередных вечеринок меня угостили горьковато-сладкими сигаретами с одурманивающим запахом. Женщины уставились на меня и, заметив, как я в задумчивости разглядываю кольца дыма, затряслись от смеха. Это был миг зарождения новой надежды. Я увидел под потолком комнаты Тессы парящие нити своих потерявшихся мыслей. Причудливая, стремящаяся принять упорядоченную форму и переливающаяся разными цветами грибница.
В голове раздавались какие-то щелчки, словно кто-то включал находившиеся все это время в состоянии летаргического сна извилины мозга. Меня охватил неистовый порыв счастья. Никто не смел мне больше мешать. Я тихонько отполз подальше от лежащих, резко пахнущих духами тел. Уйду, подумал я, и навсегда избавлюсь от этого безумия. Пропади все пропадом — Тесса, квартира и ее то и дело меняющиеся друзья, имена которых невозможно запомнить.
За спиной щелкнул замок. Ох, какое же облегчение я испытал! Как будто на крыльях я слетел вниз по лестнице, меня переполняло такое пьянящее счастье, что едва ли оно уместилось бы в тесной закрытой кабине лифта. Я вошел в гараж, нажал на кнопку, путь был свободен. Завел машину, выехал из гаража и увидел в зеркальце, как фотоэлемент мягко закрыл ворота. В воздухе реяли ледяные кристаллы, был чудесный мягкий зимний вечер. Я вышел без головного убора и забыл переодеться — на мне болталась какая-то блестящая рубаха, уместная разве что для оргий, — ну да ладно. Сейчас поеду в ближайший приличный отель, сниму комнату, а утром пойду в квартирное бюро и выберу себе подходящее жилье — с одним лишь условием: чтобы был уютный и сумеречный кабинет, — и начну работать.
Еще не так много времени упущено. Может ведь человек иногда отдохнуть несколько месяцев! Да здравствует дальновидный психоаналитик! Я по гроб жизни благодарен ему. Я с головой погружусь в свою гениальную систему и никогда больше не вспомню ни про Тессу, ни про ее оргии.
Состояние эйфории охватило все мое существо. Внезапно все стало простым и ясным.
И только уличные фонари превратились в густую гирлянду огней и раскачивались на сильном ветру. Ярко освещенные витрины поднялись в воздух, и их горячий свет пролился мне на голову.
Единственное, что навсегда стерлось из памяти, это момент автокатастрофы.
От комиссара полиции я узнал, что погибло трое. Я отделался легко — у меня оторвало лишь кусочек мочки.
В зале суда я расслышал шепот: глядите, это и есть убийца — тот самый, с заштопанным ухом.
13
уже много часов сидел в дверях вивария, болтая ногами. Расслабленная поза и бездействие влекут за собой апатию, я не раз ловил себя на том, что ни о чем не думаю. Место здесь чужое, а ситуация знакомая. Злополучное продолжение навязанного мне в моей прошлой жизни безделья. Участие в фантастическом фильме принесло мне пугающую, прямо-таки головокружительную известность, но затем шумиха вокруг моего имени сменилась полным молчанием. Поначалу я настроился отдохнуть, но вскоре состояние постоянной расслабленности стало действовать мне на нервы. Я прислушивался, не зазвонит ли телефон, не раздастся ли звонок в дверь. Я не мог спокойно проходить мимо почтового ящика. Особенно мучительно было то, что вместе со мной ждала и Урсула. В течение дня она несколько раз звонила мне домой, словно для того, чтобы поболтать о разных пустяках. И тем не менее я чувствовал, что она в напряжении и ждет, что я крикну ей в трубку — получил предложение. Друг детства, инженер по автоматике, тоже не выпускал меня из виду. Когда звонил, то на чем свет стоит ругал свою работу. Завал с бумагами, трудности со снабжением, халатность на каждом шагу. Грозился немедленно подать заявление об уходе. Его явное стремление утешить меня было трогательным. Ему тоже приходилось нелегко. Роберт, у тебя, наверное, нет времени выслушивать меня, обычно говорил он в конце разговора. Да, лгал я, у меня на столе несколько сценариев, раздумываю, стоит ли идти на актерские пробы. Самому же хотелось крикнуть: неужели я всего лишь актер-однодневка и мода на меня прошла?
Пленник бездействия или обстоятельств — какая разница?
Теперь у меня есть и настоящий страж: Флер с ядом в аэрозольном баллоне. Хотя она страж и не слишком ревностный. Сперва где-то бродила, затем принесла несколько подушек, кинула их на пол вагона и улеглась на них так, чтобы можно было выглядывать в дверь. Временами она засыпала, но тут же поднимала голову, встряхивала волосами, постукивала носком своих горных ботинок об пол и в который раз провозглашала:
— Знаешь, Боб, сегодня очень важный день.
Объяснить что-либо подробнее она не пожелала. Что должно было произойти сегодня? Мне все равно. Вряд ли сегодняшний день может стать для меня важным. Из этого каньона я так скоро не выберусь. Я — бесполезное и обременительное чужеродное тело в их тесном обществе. Они растерянны и не знают, что со мной делать. Охраняют ли меня всерьез, или я должен пройти какой-то испытательный срок?
Замалчивание и утаивание всегда вызывали у меня отвращение. Хотя я и завидую своему приятелю, инженеру по автоматике, которому изо дня в день приходится распутывать какие-то запутанные дела, сам я, очевидно, не мог бы состоять в штате, быть, например, кабинетным работником, которому верноподданные подчиненные приносят на стол документы с грифом «Совершенно секретно». По-моему, человеку дозволены лишь личные тайны. Внутрисистемные тайны всегда в той или иной степени враждебны человеку или, по меньшей мере, опасны для какого-то определенного слоя общества. Те, кто, владея тайнами, приводят в движение рычаги, в моих глазах либо болезненно властолюбивы, либо переоценивают себя сверх всякой меры: дескать, я управляю людьми, не представляющими особой ценности, знание пойдет им только во вред, а вот моя голова поистине кладезь мудрости, позволяющий разумно направлять дела. Утаивание к тому же оскорбительно для человека. Скрывают — значит, не доверяют. Не доверяют — значит, на тебе клеймо предателя. Если так, то что же остается, кроме ожесточения?
В конце концов Флер надоедает молчать, и она открывает рот, чтобы поболтать.
— Я думаю, Боб, тебя скоро освободят из-под стражи. Они смогли убедиться, что ты умеешь себя вести. Ведь ты оставался здесь совсем один, однако никаких глупостей не натворил. Меня же долго не было, когда я ходила смотреть на белый «мерседес» Луизы. Эта машина полным-полна воспоминаний, я, пожалуй, не решилась бы в нее сесть. Разревелась бы только и все равно ничего не увидела бы. Удивительное дело, что именно эта машина очутилась на здешней свалке! Я действительно думаю, что уже завтра ты сможешь сам всюду разгуливать и подыскивать себе занятие. Что-то ты должен придумать, а не то раскиснешь так, что больно будет смотреть на тебя. Все мы пережили этот трудный момент. Возиться с машинами довольно приятное занятие, да и дни летят быстрее. Но что-то надо найти и для души. У меня, слава богу, есть Бесси. Когда мне невмоготу заботиться о корове, все, что нужно, делает Жан. Он рос в деревне, есть сноровка, да и трудиться привык. Сама я никогда раньше регулярно не работала. Смешно и странно думать, что у человека бывают каждодневные определенные обязанности и он не может от них уклониться. Мне всегда хотелось жить так, чтобы я в любое время, когда только вздумается, могла затеряться. Но я никогда этого не делала. Вероятно, малодушие брало верх над смелостью. Да и вообще гайка у меня слаба. Жану, например, мало возиться с моторами. Есть у него еще одна тайная деятельность, пагубная страсть, которая порабощает его. Мы делаем вид, будто не замечаем тяжелых, как свинец, бутылей, которые он держит на полу и под полом своего вивария. По вечерам он ходит собирать ртуть. Хочет в будущем заняться прибыльным делом. Бог с ним. Жан не представляет себе, что бедным людям жить легче, нежели богатым. Когда не надо заботиться о хлебе насущном и остается много времени на то, чтобы копаться в собственных мыслях, проблем становится выше головы. Но всем нам жаль умерять его пыл. Майк, правда, думает, что Жан может преждевременно погубить себя. Говорит, что у Жана появились какие-то признаки отравления. Правда, я не замечала, чтобы десны у Жана посинели. Майк сказал, что ртуть вызывает нервные и психические расстройства. Мы пытались удержать Майка: не лишай человека удовольствия! Мой дедушка Висенте всегда говорил Луизе, моей бабушке, — не лишай человека удовольствия. И знаешь, Боб, вряд ли в этом мире осталось еще что-то, что для людей не было бы вредным.
Ты молчишь, Боб, ты не знаешь. Я тоже не знаю.
В те времена, когда жила Луиза, люди еще понимали, что хорошо, что плохо. Когда дедушку в очередной раз проваливали на выборах, Луиза принималась выговаривать ему, дескать, выкинь из головы эту дурацкую политику. Мы проживем и без избирательных кампаний и борьбы за власть. Это доставляет мне удовольствие, стоял на своем Висенте. Удовольствие! Луиза всплескивала руками. Помилуй бог! В тебя швыряют помидорами и тухлыми яйцами — и это доставляет тебе удовольствие! Тебя освистывают — тоже удовольствие! Висенте не давал сбить себя с толку. Он терпеливо, как ребенку, объяснял бабушке, что причина недоразумений проста. Правду не любят, его же совесть не позволяет сглаживать и искажать факты. Испокон веку прямота приводила людей в исступление. Луиза твердила: далеко ты со своей правдой не уедешь. Я-то вперед не вырвусь, улыбался Висенте, жизнь мостит дорогу невеждам, а у меня слишком ясный ум. Народ приходит в восторг от пустых красивых речей и лживых обещаний. Так что помидоры и тухлые яйца летят не в него, Висенте, — ими пытаются замарать честность, которая причиняет неудобства.
Знаешь, Боб, мне до сих пор жаль Висенте. Куда бы он ни выставлял свою кандидатуру, всюду его проваливали. Вообще-то они с Луизой были, очевидно, одного поля ягоды. Оба мечтали переделать мир к лучшему, оба гнули свою линию, и оба, один за другим, умерли — устали от тщетной борьбы.
Флер подпирает голову руками и бормочет что-то дощатому полу и мне о совершенно незнакомых и давно ушедших из жизни людях. Ее речь становится все более приглушенной, вероятно, она говорит о судьбе своих близких сама с собой, ищет в прошлом золотое зерно, которое, видимо, так и останется ненайденным.
— Знаешь, Боб, — она снова поднимает голову. — Майк беспокоится, что у Жана помутился рассудок, а сам он уже давно свихнулся.
Флер на мгновение умолкает, о чем-то думает, а затем многозначительно произносит:
— Вообще это чудо, что мы до сих пор живы. Порой кажется более правдоподобным, что мы встретились не на земле, а в подземном царстве.
Я не знаю, насколько Флер искренна, не понимаю, почему она так раскисла.
Противно, что один я такой болван, который ничего не знает и не понимает.
В любой ситуации находится один такой болван, который ничего не понимает.
Жизнь пошла по второму кругу. Мучаясь от одиночества и безделья, я оказался тем болваном, который не знал, что думают о его личности и актерских способностях в соответствующих инстанциях. Очевидно, мне на спину приклеили какой-то ярлык, раз я вдруг стал непригодным. Однажды меня ошеломила Урсула: Роберт, ты никак не остановишься в росте, все тянешься и тянешься вверх. Может, ты уже не умещаешься в кадре?
— Хочешь, я расскажу тебе, чем занимается вечерами Майк, пока Жан ходит собирать ртуть? Роясь днем в отбросах, Майк откладывает в сторону найденные там книги. Затем собирает их в охапку и тащит в свою нору. Там, позади, в стене карьера есть пещера с двумя входами. Словно каверна в чреве земли, не знаю, пробита ли она человеком или возникла сама по себе в незапамятные времена. Майк сидит там в полном одиночестве, он так глубоко погружен в свои мысли, что хоть из пушки стреляй — он все равно не заметит. Как-то раз, встав в тени у входа в пещеру, я до одури наблюдала за ним. Все думают, что он ходит туда читать. Ничего подобного. Он смахивает кисточкой с каждой страницы пыль и песчинки. Большей частью ему попадается всякая дрянь. Как-никак мусорная свалка. Карманные издания нашумевших романов, детективы, истории, изобилующие сексом. Но Майк ужасно старательный, как будто он хранитель музея и находится среди уникальных рукописей. Потом он с размаху швыряет приведенную в порядок книгу в самый дальний угол пещеры. Там их целая куча, и все они снова в мусоре и песке. Мне стало не по себе: наверное, он ненавидит книги, но почему же тогда…
Неожиданно Флер умолкает, задирает голову и прислушивается.
До моего слуха тоже доносится отдаленный шум. Возможно, где-то в небе повисла грозовая туча.
Флер поспешно садится, а затем, стукнув ботинками, встает. Наклоняется и выглядывает за дверь, смотрит в небо. Словно ужаленная, отскакивает назад. Губы Флер дрожат.
— Боб, — шепчет она. — Я ужасно боюсь!
— Чего?
— Снова они! Уже второй раз. Почему они избрали именно наш карьер? Неужели не знают, что здесь живут люди? А может, они умышленно идут на нас?
Флер неожиданно становится беспомощной и жалкой, бессмысленно семенит взад-вперед по виварию, ее тревога передается и мне.
Я тоже вытягиваю шею и выглядываю наружу. Шум усиливается, с явлениями природы он ничего общего не имеет, где-то рокочут мощные моторы. Звуки наталкиваются на стены каньона, возникает какой-то сумбур, смесь воя, дребезжанья и грохота. Временами кажется, что рев моторов доносится из недр земли — из глубины поднимаются подземные корабли.
Эрнесто и Фред спешат к вивариям. Несмотря на то что они торопятся, оба петляют. Они несутся, пригнувшись, длинными прыжками — от одной мусорной кучи к другой, прячась то за обломками старой машины, то за грудой какой-нибудь рухляди. Неожиданно мой взгляд останавливается на Уго, которого словно вышвыривает из вивария, он падает на четвереньки и не собирается подниматься. Как зверь, ползет вдоль вагонов, лица из-за свисающих всклокоченных волос не видно. Майк же, напротив, приближается к вагонам, как по канату, зажав уши руками.
Я все еще не вижу источника усиливающегося шума.
Флер толкает меня в спину.
— Прыгай! — хрипит она. — Лезем под вагон.
Мы спрыгиваем на потрескавшуюся землю, Флер, втянув голову в плечи, тащит меня за рукав, делает знак, чтобы я лез под вагон.
Я стряхиваю ее руку, я хочу видеть, в чем дело.
— Они не должны нас заметить! — истерически кричит Флер. — Могут убить.
Флер приседает на корточки между рельсами и тянет меня за штанину.
Неожиданно из-за почти вертикальной стены каньона один за другим появляются огромные вертолеты, у каждого под брюхом танк. У меня обрывается сердце. Я считаю: семь!
Флер молотит меня кулаками по голени. Она что-то кричит, но я не разбираю ее слов.
Подчиняюсь приказу Флер. Ногами вперед залезаю под виварий, пытаясь не упустить из виду чудовищные гигантские вертолеты.
Они кружат над карьером, нет сомнения, что собираются приземлиться.
А я-то надеялся, что какой-нибудь разведывательный вертолет ищет меня, затерявшуюся букашку.
От неведомого доселе ужаса слабеют и подгибаются ноги, я сажусь и задеваю Флер. Она как будто только этого и ждала, обеими руками вцепляется мне в предплечье, ее пальцы больно впиваются в мою кожу, сейчас она, наверное, завоет от страха. Флер поворачивает голову, смотрит на меня, глаза ее неподвижны и кажутся безжизненно белесыми.
Поодаль мужчины нырнули под вагоны и ползут между рельсами в нашу сторону. Они медленно приближаются, лица у них грязные и потные, рубашки расстегнуты и болтаются. Люди решили сбиться в кучу. Лишь Жана нет среди них.
Я успокаивающе поглаживаю Флер по плечу, ее судорожно сведенные пальцы разжимаются, я могу наполовину высунуться из-под вагона; опираюсь рукой о землю, солнце раскалило ее, гляжу в небо — что намереваются сделать со своим грузом эти летающие чудовища?
Вертолеты рокочут в дальнем углу карьера, примерно в том месте, где я, скользя на своем планере, неожиданно почувствовал, что теряю высоту. Может быть, наш страх необоснован — может быть, вертолеты просто транспортируют железный лом на мусорные свалки заброшенного карьера!
Я заглядываю под вагон. Глаза, уставшие от яркой белизны неба, должны привыкнуть к темноте, чтобы что-то увидеть. Кажется, что там вовсе не люди, а какая-то неопределенная темная масса. В прах разлетелись их независимость, самостоятельность, молчаливость, так импонировавшие мне и служившие для меня примером. Или их страх происходит от осведомленности, а крупица моего мужества — от невежества?
Что делали вертолеты и танки в карьере прошлый раз? Может, тот легендарный Самюэль вовсе и не подорвался на мине, а попал под огонь танковой пушки!
Вертолеты начинают снижаться. Танки раскачиваются на тросах, словно угловатые обломки скал. И карьер, до краев наполненный шумом и лязгом, тоже как будто раскачивается. Уж не оптический ли это обман? И, быть может, это тоже иллюзия, что скованность, которая нашла на меня, внезапно рвется, как истлевший шелк, дух освобождается от гнета апатии, слух и зрение обостряются, сила воли крепнет — я должен немедленно что-то предпринять! Мне вдруг становится смешно, что мои ровесники, люди одного со мной поколения, лежат, прижавшись друг к другу под вагонами, тоже мне modus vivendi — бомбите, а мы спрячемся под стол! Мы беспомощны и склоняем колени перед силой! Размахивать голыми руками конечно же глупо, но мы непременно должны знать, что здесь происходит. Мы трусливы и изнеженны! Само собой разумеется, мы надеялись на вечнозеленые мирные времена — ведь предыдущие поколения отстрадали за нас положенное.
Я решительно выбираюсь из-под вагона, оглушительный шум сжимает мне голову. Вскакиваю на буфер, носком туфли упираюсь в щель между досками вивария, подтягиваюсь, хватаюсь за край крыши и рывком залезаю наверх.
Я стою на крыше, расставив ноги. Меня охватывает ликование. Я вышел из темного укрытия!
Вертолеты освободились от своей ноши. Поодаль в неровном строю стоят танки, рычат и ревут, как доисторические броненосцы. Вертолеты стремительно поднимаются в воздух, летят вертикально, словно у каждого под брюхом гигантская пружина, которая, раскручиваясь, толкает машину вверх. Вот они уже кружат над каньоном, набирая высоту и теряя отчетливые очертания, и постепенно становятся прозрачными, как стрекозы, их рокот ослабевает, превращаясь в гул.
Теперь танки увеличивают обороты и для чего-то берут разгон. Мое недавнее предположение: вертолеты транспортируют танки на свалку — было всего-навсего жалкой уловкой, придуманной, чтобы успокоить себя. Организм военной машины бессмертен, здесь не действуют законы, определяющие продолжительность жизни людей и вещей; орудия убийства находятся в постоянном процессе обновления, они не подвержены старению, угасанию, тлению и распаду.
Непостижимый язык войны — радиосигналы, условные знаки — остается вне нашего восприятия. Я не знаю, что будет дальше. Мы не можем ни к чему быть готовыми.
Неожиданно из всех танков одновременно в воздух взметаются синие клубы дыма, тяжелые машины срываются с места, башни вращаются на ходу, стволы пушек поднимаются вверх — сверкает огонь.
Одна из мусорных куч воспламеняется.
Черный дым собирается в стенах каньона и растекается, не поднимаясь в небо. Танки бесцельно кружат вокруг горящего мусора, кажется, будто это движение лишено всякого смысла. Затем они выстраиваются друг за другом и, ревя моторами, устремляются в огонь. Может быть, в бронированных чудищах сидят камикадзе? Или нашпигованные программой роботы? А что, если испытываются невоспламеняющиеся танки? Или имитируется шквал огня в военных условиях и людей проверяют на храбрость?
Я успеваю сообразить, что, если б в танках находились люди, они были бы примерно одного возраста с оцепеневшими от ужаса хозяевами карьера, прячущимися под вагоном. Те, кто находятся сейчас в чреве ревущих машин, не могут обмануть себя иллюзией, что предыдущие поколения отстрадали за нас наши возможные страдания. Сегодня немыслимо свести все к одному знаменателю. В высокоразвитом мире каждый кружится на своей орбите, блестящий век эгоцентриков, былые возвышенные идеи оказались наивными и не могут сплотить людей. Сплачивают иные силы: выгода, приказ, страх.
Хлопья сажи летят в лицо, прилипают к коже. В ушах гудит, я жадно хватаю ртом удушливый дымный воздух. Крыша вагона вибрирует под моими ногами. Щиплет глаза. Горящие леса были ерундой в сравнении с этим. Объятая пламенем мусорная свалка распространяет зловоние. Огонь проникает внутрь вещей, тут и там вверх взлетают снопы искр, вырываются лиловые и оранжевые языки пламени.
Им там, в танках, наплевать на все — щекочущая нервы свистопляска. Огнеупорная обшивка и противогазы; человеческий разум изобрел надежные средства защиты для горстки избранных, для тех, кому предопределено уцелеть при любых обстоятельствах.
Поодаль вспыхнуло новое пламя. Очевидно, горит тот водоем, на крутой берег которого я приземлился на своем покалеченном планере. Интересно, чем они облили водную поверхность, чтоб столб пламени взвился на высоту нескольких десятков метров!
Я вижу все, что происходит, я стою в полный рост на крыше вивария, в едком дыму; я стою, подобно мишени, но никому нет до меня дела, бессмысленно тратить время на отдельных людей, пусть, не вынеся ужаса, умирают от разрыва сердца, великая сила служит великим целям! А может, я кажусь издали какой-то частью мусорной свалки; есть люди, которые считают других людей хламом, — это тоже одна из отличительных черт современного перенаселенного мира — иначе к чему эти готовые уничтожить нас чудовища?
Колеблющееся над горящей мусорной кучей черное облако охватывает все большее пространство, временами языки пламени исчезают в дыму; рассчитывать на то, что огонь скоро стихнет, нечего, в остатках окружающей человека среды таятся неисчерпаемые запасы энергии, в данном случае подогревается и без того раскаленный воздух. Огонь, бушующий в каньоне, пожирает запасы кислорода, карьер, выдолбленный в земной коре, — это мешок, наполненный тяжелыми продуктами горения, и этот мешок изолирован от воздушного океана. Все мы попали в гигантскую газовую камеру, где мучительно медленно происходят необратимые и губительные процессы.
Я всегда высмеивал разговоры о конце света.
Вероятно, буду высмеивать и впредь, если только сейчас не остановится дыхание.
Да и что еще остается человеку?
14
душливое зловоние проникает в ноздри, во рту появляется какой-то прогоркло-кислый вкус — хочется сплюнуть и окатить лицо холодной водой. Но даже высморкаться невозможно, мы лежим под виварием, тесно прижавшись друг к другу, страх придавил нас, превратив в горстку схожих существ — бесполых и без возраста. Тела наши почему-то переплелись. Очевидно, все страдают от отвратительного смрада — смеси дыма, угара, пота, тления и конечно же бензина, этот запах исходит в основном от меня, собирателя живой воды для моторов, первопроходчика мусорных куч, мастера по отвинчиванию пробок на баках с горючим — сезам, откройся — выцежу оттуда все до капли.
Время от времени в глазах мутится. Я поминутно вздрагиваю, словно пробуждаюсь после наркоза, и мысленно призываю себя к порядку: Фред, не забудь, как тебя зовут, постарайся сохранить здравый смысл.
Внезапно замечаю, что мои пальцы впились в ногу Флер. Пытаюсь отдернуть перепачканную в масле руку. Онемевшие пальцы скользят по земле, будто покрытой ржавой крошкой, я смотрю на кисть своей руки как на некоего диковинного зверя, двигающегося боком. Только сейчас отдаю себе отчет в том, что ничего не почувствовал, прикоснувшись к Флер. Кажется невероятным и даже смехотворным, что еще недавно мы украдкой переглядывались, ища в глазах друг у друга какую-то тайну. Чудовища, завладевшие каньоном, посеяли среди нас панику, мы повели себя точно загнанные звери и дочерна вытоптали то воображаемое пространство, которое покрывал ослепительно белый кварцевый песок.
Чувствую, что потеря невозместима, и у меня вырывается стон. Остальные не слышат этого жалобного звука, рожденного душевной болью. Такое ощущение, будто от непрестанного гула мы превратились в грохочущие барабаны. Вагон над нами сотрясается, спекшаяся почва под нашими телами вибрирует. Пронзительно звенят покрытые маслянистой пленкой рельсы. Словно уносят куда-то вдаль наш безмолвный крик о помощи. На самом деле звон стальных шпал гаснет в груде пустой породы, которая погребла под собой рельсы. Возможно, на сегодняшний день в мире перерезаны все каналы, провода и кабели, и лишь по их обрывкам, подчиняясь силе инерции, еще поступают фрагменты каких-то сообщений, чтобы уйти в песок. Земля всегда поглощает все.
Невероятно, каких огромных усилий требует от меня перемещение моего тщедушного тела. Очевидно, я растерял всю свою силу воли и теперь шарю, словно слепой, пытаясь собрать ее жалкие остатки. Чтобы выбраться из-под вагона, из этой давящей тесноты, мне приходится дюйм за дюймом волочить свое тело через рельсы. Грудь, живот, бедра трутся о стальной брус. Ярость и жалость перемешались во мне, и от этого на душе у меня муторно. Перед вагоном я переворачиваюсь на спину, смотрю, как растекается дым, мне необходимо успокоиться. Что, собственно, произошло со мной? Я не ранен, на моем теле нет даже царапины. Может, я задыхаюсь? Вроде бы нет. И хотя вокруг вместо неба серое, угарное марево, тем не менее еще есть чем дышать. А шум, пекло, смрад и неизвестность надо перетерпеть.
Мои недостатки вечно отравляли мне жизнь, я всегда остро переживал свою тщедушность, ибо сравнивал себя со своими мужественными родителями — я во всем уступал им. Их самообладание и доброта, казалось, лишь усугубляли мою слабость. Уж не ждал ли я от них жесткости и бессердечности? Может быть, их суровое отношение ко мне способствовало бы закалке моего характера?
Отсутствие ясности всю жизнь терзало мне душу, и я всегда стремился разобраться во всем до конца.
Вот и сейчас. Возможно, шум, огонь и черный дым свидетельствуют о конце света? Не знаю — ибо опыта светопреставления ни у кого из нас быть не может.
Пока человек жив, у него остается свобода мыслить, в каком положении и под чьей властью он бы ни находился.
Я не хочу прислушиваться к грохоту моторов и дрожать, ожидая, что какой-нибудь бронированный исполин расплющит меня своими гусеницами.
Уход в себя — вот, пожалуй, и вся житейская мудрость, которую я сохранил на сегодняшний день.
После моей смерти люди скажут: он был никто, обычный безвольный человек, который ничего в жизни не добился. С усмешкой сожаления будут говорить — он рассуждал о свободе мысли. Свобода мысли — может, это и было то немногое, в чем такой человек, как он, находил опору.
Я отчетливо помню один из знаменательных моментов моего прошлого, когда я получил право воспользоваться родительским подарком — счетом в банке, искренне веря в то, что деньги в мгновение ока дадут мне, хилому юнцу, возможность обрести независимость. Я стал с размахом проводить в жизнь свои замыслы. Однажды туманным осенним днем фирма прислала мне домой мощный, сверкающий никелем мотоцикл. Я тщательно подготовился к этому важному событию. Легким, пружинящим шагом я сбежал вниз по лестнице; моя новехонькая, широкая в плечах и узкая в бедрах кожаная куртка поскрипывала при каждом моем движении, в согнутой руке, на ремешке, покачивался полосатый шлем; полдня я привыкал к защитным очкам и так и не снял их, лицо блестело от выступивших на нем капелек пота. Я и впрямь выглядел как заправский спортсмен, и мне не терпелось поскорее испробовать свой мотоцикл.
Мотоцикл красовался на бетонной дорожке перед гаражом, я как зачарованный остановился в нескольких метрах от мощной машины, мысленно видел, как сажусь в седло и, взревев мотором, срываюсь с места. Мчусь по аллее, окаймленной желтыми шелестящими деревьями, зажигаются уличные фонари, мириады сверкающих огней освещают круг почета, который я совершаю в момент своего возмужания.
Эта картина взбудоражила меня, я приготовился действовать, дал измороси остудить лицо, затем натянул на влажные руки длинные перчатки — и тут передо мной возникла мать. Как всегда, она появилась неслышно, невесомая бабочка с искалеченной ногой, она умудрялась прилетать туда, где ее меньше всего ждали.
Мать испуганно посмотрела на меня, будто я был грабителем, наморщила лоб, нервно провела ладонью по лицу, словно хотела избавиться от прилипшей к нему паутины. Тотчас же клейкие нити обволокли и мои щеки, я снял защитные очки и повторил движение матери.
Мать благодарно улыбнулась, как будто то, что я снял очки, было с моей стороны проявлением особого почтения, однако сквозь мягкость в ее взгляде читалась сила воли и одновременно какая-то приниженность, от чего мне стало не по себе. Мать имела обыкновение носить чересчур длинные платья из тяжелого темного шелка, тем непривычнее было видеть сейчас на ее плечах вызывающе светлый, в гроздьях сирени, платок с бахромой, концы которого свисали до середины голени. Нежно-лиловые цветы пробудили во мне какое-то необъяснимое чувство вины перед матерью.
От прохлады мать зябко передернула плечами, еще плотнее закуталась в платок и, не глядя ни на меня, ни на мотоцикл, погрузилась в созерцание огненно-желтых кленов по краю сада.
Я нервничал, время тянулось, бабочка не торопилась улетать. Уличные фонари, зажженные по случаю круга почета, который я собирался совершить, постепенно меркли.
Матери некуда было спешить. Я ждал обычного воспитательного ритуала: мать подойдет ко мне, постарается приподняться на цыпочки, чтобы заглянуть сыну в глаза, ее испытующий взгляд остановится на мне, время от времени она будет наклонять голову, дабы сделать на чем-то акцент в нашей безмолвной беседе.
От удивления плечи у меня приподнялись, кожаная куртка неуместно громко скрипнула — мать подошла к мотоциклу, провела кончиками пальцев по никелированным частям, затем ступила на подножку и забралась на мотоцикл. Нет, не на сиденье, она устроилась на бензобаке, скрестила ноги, прислонилась спиной к рулю и уперлась носками туфель в седло. Так она и сидела скрючившись, маленькая фигурка, завернутая, как в кокон, в большой сиреневый платок.
Это зрелище испугало меня. Самоуверенность моей матери, ее убежденность в полноте своей власти озадачивали и огорчали меня. Я снова потерпел поражение. Мать постоянно выискивала все новые и новые способы моего укрощения, мне же недоставало решимости взбунтоваться.
Я стоял неподвижно, словно загипнотизированный, затем, повинуясь какому-то непонятному побуждению, положил свой желтый в черную полоску пластмассовый шлем дном на землю, и он, покачиваясь, остался лежать там, затем машинально расстегнул кожаную куртку, выпростал руки из рукавов и накинул куртку на плечи матери.
Она с безучастным видом позволила мне проделать все это, изморось каплями осела на ее лице, словно кожа покрылась волдырями, внезапно мать стала некрасивой, вероятно, она поняла, что смотреть на нее неприятно, и отвернулась. И все-таки мне удалось перехватить ее сверкнувший торжеством взгляд.
Я чувствовал, что моя враждебность по отношению к матери несправедлива, и тем не менее кипел от возмущения. В этот момент мне хотелось, чтобы мощный мотоцикл сам освободился от подпорок, завелся и рванул с места. Пусть мать в испуге упрется подошвами в седло, раскинет в стороны руки, чтобы удержать равновесие, все равно, сидя на бензобаке, она была бы абсолютно беспомощна, а я со злорадством стал бы наблюдать за ее злоключениями — вот сейчас она упадет с мчащегося с бешеной скоростью мотоцикла. В своем воображении я увидел маленькую неподвижную фигурку на мокром асфальте посреди желтых кленовых листьев, я смотрел на нее отчужденно и с удивлением: почему у этой женщины подметка на одной туфле значительно толще, чем на другой?
Однако видение тут же рассеялось, и я убедился, что снова дышу спокойно, равнодушно взирая на скорчившуюся на баке продрогшую под мелким дождем мать. Я понял, что, давая волю фантазии, человек обретает силу и независимость и это приносит ему удовлетворение.
Мне так и не удалось совершить круг почета на своем великолепном мотоцикле — ни тогда, ни позже. Меня злило, что шины без конца оказывались спущенными. Кто-то тайком протыкал их. Я устал от безмолвной войны. Я вынужден был нести крест родительской любви. Мне был понятен и в то же время непонятен их страх за меня.
Со временем они основательно обработали меня своими историями. С детства мне внушали, что душа человека тонкой, как волосок, нитью связана и с его телом, и с эпохой, в которую он живет. В моем воображении эпоха являла собой бесформенный сосуд, в котором самопроизвольно перекатывались стеклянные шарики случайностей; человеческое тело, напротив, казалось таким осязаемым и зримым; я долгое время не мог постичь связь этих двух столь различных феноменов — эпохи и человеческого тела — с живой душой. Мне, изнеженному и сверх меры оберегаемому ребенку, эпоха представлялась достаточно стабильной. Куда бы я ни попадал, меня всегда окружали забота и комфорт. Я не знал ничего, кроме однообразного благополучия.
К сдержанным рассказам отца о выпавших на его долю в юности страданиях я относился как к вымышленным историям, где преувеличения закономерны. Позже я понял, что он посвящал меня лишь в самые незначительные факты своей жизни, дабы не ранить душу ребенка. Теперь же, находясь в колонии, среди удушливого угара и черного дыма, среди нестерпимого шума, который, подобно рентгеновскому излучению, бомбардирует твое тело, я отдаю себе отчет, что отец о многом умалчивал.
Излюбленная история о почтовых марках, спасших ему жизнь, заставляла меня, пожалуй, лишь гордиться сообразительностью отца. Подстерегавшая же его в действительности смертельная опасность скользнула как бы мимо моего сознания, не задержавшись в нем. Концлагерь, окруженный оградой из колючей проволоки, бараки с нарами в несколько этажей и дымящие крематории я тоже воспринял как некие декорации. Нечто подобное мне случалось видеть в театре и на экране: люди в полосатом, у каждого на груди номер. Арестантская одежда отличала тех, кто боролся за правду, и создавала атмосферу напряженности: не постигнет ли правдолюбца незамедлительное наказание? Приметы эпохи? Униформу носят и теперь, свободные люди по собственной воле одеваются одинаково, у всех на рубашках картинки, надписи или эмблемы — элементы семиотики в быту.
Люди всегда преклонялись перед условностью и чтили систему знаков. В концлагере эта человеческая слабость спасла отцу жизнь. Удивительно, что при аресте он догадался прихватить с собой пакетик с почтовыми марками, кажется, они даже заранее были спрятаны у него под подкладкой пальто. Напрасно говорят, что с развитием цивилизации человечество умнеет, в прежние времена людям свойственна была облагораживающая их поразительная дальновидность, которую сегодня днем с огнем не сыщешь.
Несмотря на обыски и переброски с места на место, отцу удалось сберечь маленькие бумажные квадратики с картинками, целлофановый мешочек, спрятанный на груди, таил в себе бесценное сокровище — человеческую жизнь. Марка за маркой отодвигал отец свой смертный час в концлагере. Остальные дистрофики мерли как мухи, а он за каждую марку получал от повара, страстного филателиста, дополнительную порцию баланды.
После освобождения из лагеря отец ничего и слышать не захотел о марках. Нет, твердо заявил он своим бывшим товарищам — коллекционерам. Он оставался непоколебим, одна лишь мысль о том, что марки могут еще раз понадобиться ему для спасения жизни, была ему нестерпима. Им владело суеверное предубеждение: едва он снова соберет полный альбом редких марок, как волей-неволей начнет ждать рокового стука в дверь. Разумеется, отец не был в плену иллюзий, не верил в возможность мирного золотого века; по его мнению, каждое новое поколение повторяет ошибки предыдущего, только тяжелее и мучительнее, средства уничтожения все время множатся и совершенствуются — он же надеялся, что не станет очевидцем новых ужасов, ибо умрет раньше естественной смертью.
Каждый раз страдания отца завершались счастливо, мне же, его единственному отпрыску, учитывая теорию вероятности, едва ли могло так повезти.
Мне и не повезло. Я стал убийцей и отбываю наказание в колонии самообслуживания, в заброшенном карьере. Все мы здесь беззащитные букашки на дне каньона посреди пустынного плоскогорья, и ничто не помешает кому угодно покончить со мной и моими товарищами. Нас могут ликвидировать, как людей, доставляющих неудобства, мы можем стать жертвами чьей-то бессмысленной жажды террора, не исключена возможность, что нас просто раздавят — как бы невзначай по нам проедутся танки, совершающие здесь, в этой созданной руками человека гигантской расселине, свои непонятные маневры.
Маневры? Я ведь не знаю, что происходит в остальном мире! За это время могла вспыхнуть тотальная война! Много ли времени понадобится для этого? Электронно-вычислительные машины получат команду, выберут оптимальный вариант и дадут военным силам указания к действию. Тысячи самолетов взревут моторами, из подземных шахт в небо взметнутся ракеты, острые как нож лучи размещенного в космосе лазерного оружия срежут с шероховатой поверхности земли густонаселенные зоны, отравляющие вещества и смертоносные бактерии в стальных капсулах, снабженных взрывчатым устройством, полетят к цели. И для этого никому не понадобится убивать эрцгерцога или захватывать радиостанцию соседней страны. К чему какие-то предлоги? Все равно никто уже никогда не узнает, почему или как началась эта самая Последняя Война.
Здесь, на свалке, отыщутся десятки, а то и сотни исправных радиоприемников. Международное управление по надзору за тюрьмами установило, на краю карьера мачту, чтобы глушить нам все передачи.
Времена счастливых спасений безвозвратно канули в Лету. Вероятно, это распространяется на всех, и дорожные убийцы, отбывающие наказание в колонии, не исключение.
Вслед за последней войной в мире наступил звездный час — короткий, благословенный и человечный. Ослепительная вспышка, миг, в который оставшиеся в живых успели оценить жизнь.
Очередное спасение моего отца пришлось на гребень этого теплого течения.
Едва успев вдохнуть свободы, отец тяжело захворал, какая-то болезнь суставов подкосила его. За ним приходилось ухаживать, как за немощным стариком. Усилия врачей оказались тщетными. И все же они старались поддержать едва теплившуюся в нем жизнь, не давая ей окончательно угаснуть. Друзья отца, вместе с ним испытавшие на себе ужасы войны, своего рода братство, упорно искали возможностей спасти его. В конце концов помощь предложил один норвежец, товарищ по концлагерю. Моя бабушка вылечит тебя, пообещал он в письме, приезжай.
Человек, пока жив, надеется.
Так отец очутился на хуторе, на краю векового ельника, где усохшая старушка взяла его на свое попечение. Языковой барьер не давал им перемолвиться ни единым словом. Деловитая и расторопная старушка зря времени не теряла. На следующее утро из долины, где была расположена деревня, явились два здоровенных парня, подняли больного на носилки и отправились в путь. Покачиваясь на парусине, отец едва не лишился чувств от неизвестности. Перед глазами мелькали верхушки гигантских елей. Тут и там шуршали белки и сбрасывали вниз шишки. Торжественное величие природы раздражало отца, он не мог слушать щебета птиц и полной грудью вдыхать напоенный ароматом воздух. За долгое время своего заключения он привык к тому, что человека ведут куда-то лишь для того, чтобы причинить ему зло. Похоже, его страхи были обоснованны. Возле какого-то большого пня парни опустили носилки на мох, подняли больного и раздели его догола. С невозмутимым спокойствием светловолосые богатыри посадили онемевшего от испуга иностранца прямо в муравейник. После чего повернулись к отцу спиной и стали лениво перекидываться словами. Жгучие муравьиные укусы причиняли отцу нестерпимую боль, он потерял сознание и очнулся уже на носилках. Идущий впереди парень мельком взглянул на него через плечо и улыбнулся, довольный тем, что глаза у больного открыты и он жив.
На следующее утро, едва рассвело, отец решил бежать с хутора, но куда побежишь, если ноги не держат. Однако в тот день в лес его не понесли. Старушка возилась рядом в пристройке, затем снова появились парни, сгребли больного в охапку, отнесли в баню и посадили в чан, от которого поднимался пар, — горячая вода пахла чем-то кислым. Постепенно глаза отца привыкли к тусклому свету баньки, и он заметил, что в воде полным-полно дохлых муравьев.
Курс лечения продолжался.
Отец попеременно сидел то в муравейнике, то в дымящемся чане.
Однажды утром, когда настал черед отправляться в муравейник, парни, оставив носилки у стены дома, взяли отца под мышки и с размаху поставили на ноги. Но упасть не дали, поддерживая его с обеих сторон; оторопевший больной никак не мог опереться на ступни — либо пальцы, либо пятки волочились по земле. Однако плечистые парни продолжали тащить его и, не обращая ни малейшего внимания на жалобы чужестранца, разговаривали между собой и гоготали, отпуская шутки.
Из чистого упрямства отец оттолкнул парней в сторону и зашагал самостоятельно.
Снова счастливое избавление. Первое время он иногда пользовался костылями, пока не стал обходиться тростью — да и то в редких случаях. И все же одна странность с тех пор навсегда осталась за отцом — все начинания норвежцев он одобрял безоговорочно и не уставал высказывать свои опасения: промышленный дым Европы может проникнуть и в Норвегию, пролиться ядовитым дождем над ее лесами и погубить муравьев и ели.
Я вздрагиваю — я даже и не заметил, когда Флер вылезла из-под вагона и прислонилась спиной к его стенке. Задрав голову, она смотрит на клубящийся дым.
Мне становится стыдно, что я, не подавая признаков жизни, валяюсь на земле. Поднимаюсь, бреду к вагону и тоже прислоняюсь спиной к стенке, украдкой бросаю взгляд на Флер, лицо ее мертвенно-бледно, лоб в саже.
И снова из-за стены каньона появляются вертолеты. Моторы танков снижают обороты, огромные стрекозы опускаются в карьер. Внезапно воздух прорезает резкий гудок автомобиля и тут же обрывается. Я вижу на стоянке Жана, он мечется от одной машины к другой, распахивает дверцы и сигналит, наверное, ищет самый громкий клаксон.
От горящих мусорных куч поднимаются желтые клубы дыма. Дымовая завеса скрывает танки. Сердце колотится, я с тревогой жду, когда же они взмоют в небо.
Вот они и появились в поле зрения, поднимаются все выше и выше под брюхом устремившихся ввысь вертолетов.
Невольно восхищаюсь, до чего безукоризненно функционируют военные машины, и с почтением думаю о гениальности людей, создавших их. Бронированные чудища висят под светлым небосводом, будто пушинки. Скользя, начинают удаляться.
Фред, говорю я себе, твое восхищение отвратительно.
Жан отыскал машину с самым мощным клаксоном и не переставая сигналит.
Этот протест слышим только мы, жители колонии, от которых ничего не зависит.
15
а будет сегодняшний день поворотным. Должен же и я что-то сделать и упорядочить в этом проклятом мире. Раньше они постоянно приставали ко мне: Эрнесто, будь человеком, дай нам покопаться в машинах. Нет, огрызался я, если кто-нибудь посмеет самовольно завести мотор, сброшу неслуха в кратер. Они знали, что я не шучу, и повиновались. К тому же эти несчастные побаиваются моих мускулов работяги. Даже в шутку не перечат мне. Все помнят, как однажды я проучил Флер. В тот раз захмелевшая Флер уставилась на мою руку и вдруг пустила слезу, тем не менее начала надо мной подтрунивать; дескать, послушай, Эрнесто, что-то ты подозрительно волосатый, уж не обезьяний ли ты случаем ублюдок? Дружки ее загоготали, я же схватил Флер в охапку и перевернул головой вниз — пусть, думаю, повисит, подобно подстреленной вороне; мужчины прямо-таки замерли при виде подобного зрелища, никто даже не пикнул. Через какое-то время я поставил Флер на ноги, она долго не могла прийти в себя и смотрела помутившимся взором, не очень-то весело висеть головой вниз, ничего, в следующий раз подумает, прежде чем открывать рот. Мужчины поняли, что я наказал Флер сравнительно легко, женщине нельзя причинять физические увечья, этим же идиотам за какую-нибудь глупую выходку я бы выдал сполна. Кратер на всех нагоняет, страх. И на меня тоже. В нем стоит странная, темная, словно мертвая, вода, порой ее уровень по непонятной причине понижается, чтобы вскоре снова подняться, того и гляди смоет берег. Время от времени мы наращиваем вокруг кратера вал, понимаем, что должны держать мертвую воду в узде. А почему — черт его знает. Иногда человеческим разумом движет чутье. Попав в колонию самообслуживания, я каким-то шестым чувством понял, что должен стать здесь вожаком. Эти далекие от жизни и изнеженные типы безоговорочно пошли на это. Позднее я смекнул, что никто из них все равно не справился бы с ролью предводителя. Жан, правда, работяга, сила у него есть, а вообще-то он парень недалекий. К тому же совсем недавно перебрался в город из какой-то глуши, из ноздрей еще не выветрился запах лугов, глаза вытаращены, как у необъезженной лошади. Странно, но он единственный нашел здесь, в каньоне, какую-то цель, что с того, что дурацкую, ведь если человек хочет собирать чистую ртуть, чтобы обеспечить себе будущее, бог с ним. Пусть таскает тяжелые бутыли и прячет их в своем вагоне и под ним. Все-таки Жан тупица, думает, никто не знает, чем он по вечерам занимается. Да и сколько может стоить эта ртуть? И разрешат ли ему забрать бутылки с собой? Чей карьер, того и ртуть. Лучше уж не заводиться. Всегда найдется кто-то, кто наложит лапу на плоды твоего труда.
Итак, да будет сегодняшний день поворотным. Это решение поднимает мой дух. Человек словно перестает быть узником, если может командовать другими и к тому же проявлять по отношению к ним доброту и сердечность. Мне жаль было смотреть на них, они стояли сбившись в кучу после того, как вертолеты с танками исчезли из виду, одуревшие, в испуге принюхивались к дыму, тянущемуся от мусорной свалки, кашляли, переминались с ноги на ногу, в глазах страх, как будто все они ждали своего смертного часа. Но, поскольку на этот раз мы уцелели, надо продолжать жить. Поначалу они никак не могли уразуметь, о чем я толкую им, видно, уши заложило от грохота, в конце концов я заорал, дескать, черт вас всех дери, вы что, и не хотите вовсе прокатиться на машине?
Постепенно до них дошло, в чем дело. Забавно глядеть на оцепеневших людей, когда они снова начинают осторожно двигаться. Такое впечатление, будто суставы у них одеревенели, кровь в жилах застыла и требуется время, чтобы отогреться. Смешно здесь, в этаком пекле, и вдруг закоченеть!
Может, они подумали, что я собираюсь подшутить над ними? Нерешительно они поплелись за мной к стоянке. Или испугались, что я прикажу кому-нибудь из них сесть за руль? Никто после совершенной аварии не включал зажигания и не нажимал на педаль газа. Быть может, предстоящая поездка на машине напомнила им о погибших? Знаю, я сам долго не мог прийти в себя, и во сне и наяву мерещилась одна и та же картина: моя мощная машина врезается в старый зеленый автобус. Смуглые лица детей с течением времени потускнели, а из гаснущих глаз по-прежнему глядит холодная пустота.
Я был великодушен и милосерден к своим товарищам по заключению, не стал принуждать кого-либо из них сесть за руль. Из выстроившихся в ряд машин я выбрал маленький грузовичок, в его кузове разместились все, включая и новенького, Роберта. Очевидно, он все же случайно угодил в карьер и не представляет для нас опасности.
Как-то я обнаружил на свалке облезлый персидский ковер, теперь он пригодился, я разложил его на дне кузова. Нет у нас тут первоклассных дорог, по которым можно мчать, не подпрыгивая на ухабах.
Мы с нетерпением ждали сегодняшнего дня, раз в месяц на нашу долю выпадает счастливый миг, поднимающий нам дух. Мы можем отправляться в юго-западную часть каньона и забирать оставленное у подножья лифта продовольствие. Слоняющиеся с унылым видом, когда дело касалось работы, эти недотепы проявляли редкостную энергию, разбирая посылки. Без единой жалобы они перетаскивали тяжелые ящики в свои жилища. Беднягам приходилось не один раз отмахать приличное расстояние, чтобы перенести туда припасы. Волоча тяжести по этой жарище, люди даже и не замечали, что с них градом льет пот, взмокшие, они работали сосредоточенно и не роптали. Быть может, в этот важный день им казалось, будто вокруг кипит повседневная свободная жизнь и они делают закупки в торговом центре. Я не знаю, какие еще мысли могла пробудить в них присланная снедь, во всяком случае, это событие, видимо, взбадривало их; пожалуй, только я один не испытывал восторга, когда плелся следом за ними в юго-западную часть каньона. Каждый раз, когда приближался назначенный день, я все больше и больше нервничал: вдруг Кора не внесла требуемой суммы и ящик с продовольствием на мое имя не поступил. Одна лишь мысль об этом сводила с ума — я, здоровый, крепкий мужчина, которому сил и энергии не занимать, в один прекрасный день оказываюсь в унизительнейшем положении нищего. И когда голод становится невмоготу, начинаю ходить от вивария к виварию, просовываю в дверь голову и клянчу: дорогие товарищи по несчастью, пожертвуйте хоть крошку съестного.
В те прекрасные времена, когда никакой беды еще не произошло и я был свободным человеком, меня прямо-таки приводили в бешенство всякого рода неудачники. Если у человека голова на плечах и руки-ноги целы, он должен уметь прокормить себя. Вокруг без конца твердили о всевозможных кризисах, безработице, ухудшении конъюнктуры; всем этим нытикам я отвечал одно и то же: пока есть здоровье, я не сдамся. Хоть чернорабочим заделаюсь, а себя и свою жену прокормлю; если придет нужда, я легкого выхода искать не стану и клянчить пособие, чтобы выставить себя на посмешище, не намерен. Если уж развелось на свете людей тьма-тьмущая, то на легкую жизнь не рассчитывай, с этим приходится считаться. Каждый должен научиться экономить и приспосабливаться, дабы не протянуть ноги.
А теперь судьба издевается надо мной, нет у меня возможности выбирать, на каком поприще вкалывать, — моя жизнь полностью зависит от Коры. В некоем умопомрачении я накануне судебного заседания переписал свой счет в банке на имя жены. Да и как я мог поступить иначе, я обязан был обеспечить Кору. К тому же я в то время и понятия не имел, что попаду в колонию самообслуживания и мне придется ежемесячно вносить определенную сумму за продукты питания и все прочее. Кора согласилась оплачивать расходы по колонии, адвокат все это уладил, однако предупредил, что жена в любую минуту вправе прекратить финансирование. Когда-нибудь Коре надоест содержать мужа, к тому же деньги, лежащие в банке, могут в очередной раз обесцениться — инфляция: чтобы умереть — много, чтобы жить — мало.
Гляди-ка, все обитатели колонии паиньками сидят в кузове, на драном ковре, молчат и ждут. Самое время повернуть ключ зажигания и нажать на педаль газа.
Колеса машины, словно в нерешительности, катятся по бугристой поверхности, в моих руках нет прежней уверенности. Я кидаю взгляд в зеркало, они сидят там, расслабленные, осоловевшие от дыма. И у меня череп раскалывается от грохота вертолетов и танков. Эти бедолаги считают, что заслужили награду за пережитые страдания, каждый мечтает о своих припасах, тем более что в одном из ящиков стоят в ряд бутылки, по две на брата, как предусмотрено установленной для колонии нормой, — чудовищно мало, если учесть, что это на месяц. Очевидно, все они мысленно поднимают стопки, жмурятся, предвкушая миг опьянения, ну прямо коты у теплой печки. Им даже разговаривать лень.
Погодите! Не думайте, что жизнь так проста: грех — искупление, горе — радость, гнет — расслабление. Человек находится не на качелях — вверх-вниз, вверх-вниз, из одного состояния в другое. Я и не собираюсь везти их сейчас к лифту за ящиками с продовольствием. Я выведу их из состояния безмятежности, пробью в нем брешь и сделаю это не со зла. Конечно, не исключено, что я хочу отодвинуть момент, когда меня вдруг точно обухом по голове ударит. Все заахают, начнут строить предположения, дескать, неразбериха и бюрократия, а может, в фирме, которая нас снабжает, испортилась электронно-вычислительная машина — это же свинство, что Эрнесто не получил ни одного пакета! Они станут негодовать и притворяться, будто глубоко обеспокоены моей дальнейшей судьбой. И лишь я один буду знать: нечего больше рассчитывать на Кору. Если продукты питания не поступили, значит, я обречен на голод. И вскоре меня снова переведут в настоящую тюрьму. Если ты гол как сокол и не в состоянии обеспечить свое проживание в колонии, торчи в камере. И не стоит больше рассчитывать, что срок наказания тебе сократят. Вынести жизнь в тюрьме и крушение надежд тяжко, но еще тяжелее ощущать себя покинутым. Страшно, но делать нечего; ты на свете один как перст. Есть ты, нет тебя — никому от этого ни жарко ни холодно. Честно говоря, это-то и ждет меня впереди. Кора не из тех, кто будет долго горевать. Такого уж точно не случится. Время возьмет свое, мой образ потускнеет в ее памяти, и дальше все пойдет как по маслу. Она и раньше заявляла: ты, Эрнесто, крепко стоишь на ногах, я же одиночества не вынесу. Находясь в длительных поездках, я отдавал себе отчет в том, что моя жена двулична. Одну жизнь она ведет со мной, другую, тайную, когда я вдалеке. Я мог догадываться, что она изменяет мне, мог видеть все это во сне, страдать от бессильной злобы, но не имел возможности что-то предпринять. Кора умела разграничить обе жизни. Угрызения совести, похоже, не мучили ее, и от своих исповедей она меня избавила. За это я благодарен ей. Груз правды был бы слишком тяжел для меня. В отчаянии я мог бы вместе с машиной сорваться с какого-нибудь моста или горной дороги в пропасть.
Я жму на газ. Маленький грузовичок как игрушка, на таком легко лавировать среди мусорных куч. Я немного пощекочу нервы сидящим в кузове. Продлю миг ожидания. Вижу в зеркало, что они встревожены, обеими руками вцепились в борт кузова. В глазах недоумение — с чего это Эрнесто так несется по коридору мусорных куч? Они пока еще не решаются молотить кулаками по крыше кабины. Боятся меня. Хорошо, что боятся. Каждому здесь, в этой земной жизни, определено кого-то или чего-то бояться. Если б никто ни перед кем не испытывал страха, люди во всем мире беспрестанно истребляли бы друг друга и недра земли не успевали бы поглощать трупы. Страх съедает и вместе с тем спасает человека.
Они еще не созрели для взрыва. Подавляют свой протест. На лицах испуг, и ничего больше. Ну, помотаю их немного, пока не взмолятся.
Если б только Кора услышала меня, если б это было возможно, я тотчас бы молитвенно сложил руки и смиренным голосом стал заклинать ее: дорогая жена, делай что хочешь, только не бросай меня на произвол судьбы.
Проснувшись в последнюю ночь полнолуния в виварии, я с особой четкостью осознал свою полную беспомощность. Ночь была душная, я подошел к двери и, приоткрыв ее, взглянул на холодный и далекий диск луны. Завораживающая картина угрюмо-черных гор мусора и голубоватый обманчивый свет, зажегшийся в окнах и фонарях разбитых машин, не смогли отогнать зашедшую в тупик мысль: я абсолютно не властен над своей женой. Эта мысль начала пускать чудовищные ростки — жена на мои деньги приобрела себе любовника. Отвратительного, пустого прощелыгу. Остряка, изощряющегося в плоских шутках и пошлых комплиментах. За плату он развлекает похотливую, не выносящую одиночества Кору. Он, этот мужчина, — накипь, плавающая на поверхности жизни, карикатура на наемного солдата. Вижу его коротко подстриженные усики, капризную складку в уголках губ, подкрашенные брови и зеленоватые стекла очков, якобы придающих загадочность взгляду его пустых рыбьих глаз. Разумеется, такой мужчина превыше всего ценит праздную жизнь и удобства. Он с воодушевлением печется о своем здоровье и внешности. Ежедневно плескается в бассейне, то и дело прибегает к услугам массажиста, разминающего его тело, увлекается каким-нибудь престижным видом спорта — ему же необходимо щеголять своими мускулами и быть в форме, это его капитал. Кора нужна ему лишь до тех пор, пока не иссяк мой счет в банке.
Думая об Уго, я рисовал в своем воображении этого продажного типа. Дрянь и дерьмо, просыпаясь по ночам, ругаю я Уго. Временами на меня как бы находит помрачение, мне начинает казаться, что именно он стал дружком Коры. Я стал замечать, что порой даже днем уставлюсь на Уго, точно бык на красное полотнище, аж в глазах темнеет от клокочущей во мне ярости. Требуется время, чтобы остыть: я, словно заведенный, внушаю себе — обуздай свой гнев, Эрнесто, опомнись! Уго такая же жертва колонии, как и ты.
Ага! Чаша их терпения переполнилась. Молотят кулаками по крыше кабины. Эти тупицы наконец сообразили, что, кружа среди мусорных куч, мы все больше удаляемся от цели — подножия шахты лифта в юго-западной части каньона.
Они колотят и колотят по жести, очевидно, решили, что я рехнулся и утратил способность двигаться в нужном направлении. Погодите, вы считаете, что у меня не все дома, — так вот вам еще один урок! Я добавляю газа, на полном ходу делаю поворот и тут же резко нажимаю на тормоз, но так, чтобы никто не вылетел из кузова.
Открываю дверцу кабины и высовываюсь, чтобы взглянуть назад. Лица у всех разъяренные и бледные.
— Вы думаете только о себе! — кричу я до того, как они успевают открыть рты. — А что стало с Бесси? Может, танки снесли ее загон? Корова тоже живое существо.
— Ты прав, Эрнесто! — восклицает Флер и вздыхает.
Уго передергивает плечами, словно его бьет нервный озноб.
— Айда утешать Бесси! — цедит он сквозь зубы.
— Поезжай помедленнее, Эрнесто, — просит Майк, лицо его похоже на перекошенную маску.
Я пережидаю минуту, даю им прийти в себя. Они снова послушно устраиваются на драном ковре, и каждый заблаговременно хватается за борт.
Я с силой захлопываю разболтанную дверцу. В кабине стоит удушливый запах масла. Мы не сумели как следует отремонтировать эти драндулеты, голыми руками чуда не сотворишь.
Однако повидавший виды грузовик все же едет.
Мы подъезжаем к тому месту, где недавно грохотали танки. Твердая поверхность, будто по ней ползали змеи, испещрена зигзагами, оставленными на земле гусеницами танков. Танки нарочно проехали по разбитым машинам, одиноко стоявшим здесь подобно изгоям мусорного царства. Ржавые кузова расплющены, свеженанесенные раны поблескивают металлом, пластами отошла и разлетелась в разные стороны краска, на развороченной земле блестит стеклянная крошка.
С вытоптанной танками земли исчезли неровности, покрытые редкими клочками травы; раздавлены, будто их и не было, чахлые растения, долго и с трудом прораставшие в сухой зернистой почве.
Неподалеку от кратера я замедляю ход. Вода ушла вглубь, за вал, возможно, мертвая жидкость уплотнилась и теперь воздействует на какие-то подземные пласты — уж не ожидается ли извержение искусственного вулкана? Мозг обычного человека слишком несовершенен, чтобы понять, к каким последствиям может привести стремительное развитие современной науки и техники. Не знаю, откуда они это взяли, во всяком случае, когда нас поселили в колонии, Майк и Фред заявили, что от кратера лучше держаться подальше. Якобы до нас в этом карьере творились непонятные вещи. Чуть ли не что кратер возник в результате подземных ядерных испытаний. Уго своими жуткими историями старался перещеголять товарищей по несчастью. Дескать, кратер взорвали для того, чтобы захоронить там ядовитые химикалии, однако, прежде чем отверстие было засыпано, там скопилась вода, и вот эта самая обыкновенная вода превратилась в смертельно ядовитую жидкость. Мы с Жаном и Флер помалкивали, слушали, что говорят эти умники. Возможно, они просто так болтали, хотели добавить таинственности заброшенному карьеру — леший их разберет.
Во всяком случае, я всегда испытываю непонятное чувство облегчения, когда удаляюсь от кратера. Вот и теперь. Хотя изрытая земля не позволяет мне ехать быстро, я все же нажимаю на газ.
К счастью, проклятые танки не разрушили загон Бесси. Описав дугу, я сворачиваю к загону и торможу. Будьте любезны, господа, вас доставили к самому подъезду. Вылезайте и поглядите, что делает животное. И доложите мне. Я не очень-то рвусь выбираться из кабины. На самом же деле мне не терпелось поскорее узнать, стоят или не стоят у подножия лифта ящики с продуктами для меня. Каждый раз, когда я отыскиваю среди доставленного груза пакеты, посланные на мое имя, у меня подгибаются ноги — я снова получил отсрочку. Кора еще не окончательно отказалась от меня. Я опять могу есть свою еду и потягивать свое спиртное; увы, подозрения и терзания незамедлительно возвращаются и по-прежнему мучают меня до следующего раза. Миг расслабления и радости, новое стремительное падение по лестнице, ведущей в пропасть отчаяния. До чего жестоки деятели, установившие в колонии внутренний распорядок! Переписка для нас не предусмотрена. Вы и так пользуетесь достаточной свободой, заявила администрация тюрьмы, кто еще из заключенных имеет возможность заказывать себе еду и предметы домашнего обихода! И не забудьте, две бутылки спиртного на человека в месяц — это столь щедрая уступка, которая даже нас самих приводит в изумление.
Все, кто только что тряслись в кузове, вмиг исчезли в дверях шаткого жилища Бесси. Очевидно, возымело действие, что я прикрикнул на них, никто не решился остаться безучастным. У всех возник небывалый интерес к корове. Однако они что-то слишком долго торчат в этом закуте, а может, я чрезмерно нетерпелив, разумеется, я хочу знать, удосужилась ли Кора…
— Эрнесто! — кричит Флер. — Иди же сюда!
Мужчины сгрудившись стоят у двери, поверх их голов я впотьмах ничего не вижу. Расталкиваю всех, чтобы освободить себе проход, чего они в самом деле путаются под ногами!
Бесси лежит на боку, шея вытянута, губы обмякли, искусственные зубы меж бледных десен кажутся особенно голубыми, глаза какие-то неестественные, словно стеклянные шарики с черной точкой посередине, взгляд страдальческий. Флер опускается подле животного на колени, время от времени наклоняет голову и прикладывает ухо к тому месту, где должно биться сердце коровы.
— Она едва жива! — в отчаянии произносит Флер.
— Единственная возможность — это прикончить ее, — бормочет Жан так тихо, чтобы Флер не услышала.
— Шумовой стресс, — констатирует Майк. — Своими силами ей не выкарабкаться. А лекарств у нас нет.
— Она была славным существом, — с сожалением говорит Уго.
— Нельзя, чтобы животное мучилось, — говорит Роберт.
Я бросаю на него уничтожающий взгляд. Пусть не воображает, будто его так легко приняли в нашу компанию. Пусть помалкивает и ведет себя смирно. Стоит человеку выйти из-под надзора, как он становится невероятно самонадеянным.
На губах Бесси — смотреть на это мучительно — медленно появляются пузыри, они все больше и больше разбухают, окрашиваются в цвета радуги и лопаются.
Я вздрагиваю. Видимо, спасти ее невозможно. Слепая смерть, посапывая, поджидает свою добычу.
16
вообще уже ничего не хочу! — кричу я мужчинам — их фигуры расплываются передо мной, как в тумане, — и тру кулаками глаза, веки щиплет.
— Флер, человек всегда должен чего-то хотеть, — раздраженно бросает Эрнесто.
Не хватало еще, чтобы Эрнесто силой стал учить меня уму-разуму. Сегодня он опять вообразил себя вожаком и запросто может дать волю рукам. Я не хочу, чтобы меня поколотили, я вообще ничего не хочу. Теперь все кончено, они отнимут у меня Бесси — последнюю близкую душу. За преступление, которое я совершила, мне добавляют все новые и новые наказания, и нет конца этому. Что еще уготовила мне судьба?
Эрнесто поворачивается ко мне спиной и принимается орать, командовать и распоряжаться. Голос Эрнесто внезапно становится отвратительно визгливым, что никак не вяжется с его мужественным обликом. Я стараюсь не слушать, и все же мне становится ясным, что он задумал. Он и Жан берут Бесси на себя. Эрнесто полагает, будто щадит меня, раз не говорит, что они решили прикончить Бесси. Приказывает остальным отвезти меня к виварию. И сквозь зубы добавляет: если Флер действительно не в состоянии отправляться за продовольствием, пусть торчит у себя в вагоне и ждет, когда мужчины вернутся. До наступления темноты надо побывать у лифта и забрать ящики с провизией. Оставлять их там нельзя. Могут подумать, что нас уже нет в живых, и отправить продукты обратно. Эрнесто то и дело мерещатся всякие ужасы, ну кто осмелится тронуть добро, за которое уплачено?
Мне все равно, меня словно и нет. Я нахожусь в каком-то звенящем пустотой небытия пространстве, нечувствительна к боли и безвольна. У меня не хватает мужества еще раз подойти к Бесси, опуститься подле умирающего животного на колени и погладить его напрягшуюся шею. Очевидно, я не в силах была бы вынести взгляда Бесси, безмолвного, прощального вскрика — чутье животных безошибочно.
Я избегаю смотреть в ее сторону. Страшно, когда все впереди, но не менее страшно, когда все уже позади. В решающий момент человеку надлежало бы собрать все свое мужество, на самом же деле он цепенеет и чувствует, как что-то надламывается в нем.
Мужчины не разрешают мне стоять здесь, они оттаскивают меня подальше от закута Бесси и, подталкивая сзади, помогают залезть в кузов, я и сама не понимаю, падаю я или бросаюсь на драный ковер.
Фырчит мотор, колеса подпрыгивают по изрытой танками земле. Мое обмякшее тело подскакивает на дне кузова, я и не пытаюсь за что-то ухватиться, набью себе шишки, ну и пусть. Слава богу, остальным нет до меня никакого дела.
Перед вивариями машина резко тормозит, и я вместе с ковром скольжу по дну кузова вперед. С грубой бесцеремонностью мужчины ставят меня на ноги и через борт опускают на землю. Словно оглушенная, я стою у ступенек своего жилища. Машина швыряет мне в лицо облако выхлопного газа и, взревев мотором, трогается. Я остаюсь в полном одиночестве, поодаль дымится мусорная куча, может быть, меня навсегда оставили в гигантских стенах каньона; темно-бурые, тянущиеся в небо стены вот-вот обрушатся, чтобы землей, рудой и камнями заполнить огромную расселину, которую веками долбил человек. Должна же когда-нибудь сровняться с землей эта отвратительная щель, кладбище цивилизации с бесчисленным множеством отходов человеческой деятельности.
Хочется завыть, чтобы освободиться от гнетущего одиночества. В коленях отвратительная дрожь, из пересохшего горла не вырывается ни единого звука.
Еще недавно я была совсем другим человеком. От нечего делать поддразнивала Роберта, разжигала его любопытство и возбужденно заявляла: сегодня знаменательный день.
Теперь я больна от смятения и страха, мне не хватает воздуха. Боюсь войти в свой виварий — до сих пор мое жилище давало мне иллюзию надежности и удобства. Увы, в бутылках не осталось ни капли виски, я всегда быстро уничтожала свою ежемесячную норму спиртного. Не знаю, о чем я думала, когда после приземления Роберта на край кратера предложила ему осушить подаренную мне Жаном флягу. Вероятно, по доброте душевной, из сочувствия, гостеприимства, — и чего это я цацкалась с ним? Теперь осталась на бобах. Шарить по вагонам мужчин бессмысленно, и у них бутылки пусты. К тому же Эрнесто считает кражу виски особо тяжким преступлением.
Мне неприятно заходить в свой виварий, который я в свое время обставляла с таким увлечением и азартом. Я попросила мужчин вбить в потолок вагона крючья и повесила на них вешалки со своими платьями. Одежда разделила помещение на две половины, пестрая реющая стена радовала глаз, в любой миг я могла представить себе, что нахожусь дома и разглядываю свой гардероб, выбирая, что надеть. Теперь мне чудится, будто там, на крючьях, висят не платья, а мои пустые коконы. И невозможно снова вдохнуть в них жизнь. Эти странные броские наряды, отголоски моих прежних умонастроений, напомнили мне, что, поселившись в каньоне, я изо всех сил старалась позабыть прошлое. Я слишком настраивала себя на легкомысленный лад и скольжение по поверхности. Жизнь не стоит того, чтобы в нее углубляться! Усердно врачуя свою душу, я надеялась на возрождение, на то, что, выйдя из заключения, смогу пройти по второй половине своей жизни, не теряя почвы под ногами. Теперь я поняла, что все мои усилия оказались тщетными.
И нет ни капли виски, чтобы одурманить себя.
Сердце пронзила боль: вдруг в этот самый момент Эрнесто и Жан заканчивают свою страшную работу. Тело Бесси обмякло и словно растеклось, бренные останки беззубой коровы прилипли к земле. Конечно же Эрнесто вынул у Бесси ее голубые искусственные зубы и закинул их в мертвую воду кратера. Там они медленно опустятся на дно или в бездонную пучину. Из-за этих-то искусственных зубов Эрнесто и не любил Бесси. Как-то он сказал, что перестал верить в будущее человечества с тех пор, как почувствовал у молока вкус пластмассы.
Одиночество терзает меня, как лихорадка, заставляет метаться туда-сюда.
Я срываюсь с места.
Все же есть одно утешение — нырнуть в родную с детства машину Луизы.
Пробежав всего несколько десятков метров, я начинаю задыхаться. Широко открыв рот, глотаю раскаленный, пропитанный гарью воздух. Я не даю себе пощады. Мчусь дальше, сердце того и гляди выпрыгнет из груди. Черт побери, о чем же я думаю, зачем упорно продолжаю носить тяжеленные горные ботинки? Может, я надеялась забраться по отвесной стене каньона наверх? Ботинки на моих ногах как свинцовые гири.
Я останавливаюсь посреди площадки, где стоят машины. Воздух перед глазами серый, словно от роя мошкары, и рябит. Из носа на пыльную землю капает кровь. За все время нашего пребывания в каньоне ни разу не выпало дождя. Даже облачка не занесло сюда. Небо над головой — словно пропитанная потом простыня.
С трудом переставляя ноги, я делаю еще несколько шагов и хватаюсь за ручку дверцы белого «мерседеса» Луизы. От солнца ручка раскалилась и обжигает ладонь. Я распахиваю настежь все дверцы. В лицо ударяет спертый воздух.
Забираюсь на заднее сиденье и поджимаю под себя ноги. Закрываю глаза, сосредоточиваюсь и пытаюсь представить себе невозможное: дождливо-туманный осенний день, мы снова с Луизой в пути, приближаемся к Риму. В тот раз я отправилась в Рим уже не маленькой девочкой, которая любила, особенно в серую дождливую погоду, свернувшись клубком, подремать на заднем сиденье машины. В тот пасмурный день я была уже взрослой девушкой, внешность которой вылепила Луиза. Короткие волосы, точь-в-точь как у нее, завиты мелкими кудряшками — работа одного и того же парикмахера, только на Луизу, поскольку она осветляла волосы, уходило больше времени. Темные волосы, считала Луиза, такая же безвкусица, как и дешевые ожерелья, подходившие разве что к карнавальному наряду. Давно, еще девчонкой, я стала клянчить у Луизы красные деревянные бусы — ребенок не смел самовольно рыться в ящиках универмага — и, к своему великому разочарованию, получила вместо них строгую и скромную золотую цепочку. Итак, я тоже носила юбку в складку из шотландки, белоснежную блузку, кожаный пояс кофейного цвета и пиджак с широкими лацканами, плотно облегающий фигуру. Странно, но я совсем не помню, какого цвета был этот пиджак. Хороший вкус надо прививать с детства, любила подчеркивать Луиза, покупая мне очередной наряд. В магазинах готовой одежды она обходила стороной вешалки, на которых висели платья из воздушной ткани, украшенные воланами, кружевами и вышивкой. Женственные наряды постоянно за что-то цепляются, с непоколебимой уверенностью заявляла Луиза. Летом, в жару, я носила простые белые платья — светлая одежда приучает к опрятности, говорила Луиза. Да и высокие каблуки тоже были не по ней — таким образом, и на мне в тот осенний день, когда мы ехали в Рим, были мягкие, цвета оленьей шкуры мокасины. Мое походное обмундирование позволяло мне, как и Луизе, быстро шагать куда-то или энергично претворять в жизнь какие-то дела.
И лишь одно обстоятельство Луиза упустила из виду: сила воли и решительность, которые были присущи ей и которые она старалась привить и мне, оказались несозвучны моему характеру. Я уже давно знала, что Фе моя мать, но я никогда не испытывала тоски по ней. При воспоминании о Фе я испытывала лишь умиление, примерно с таким же чувством я, будучи уже взрослой, вспоминала гномов и фей, увиденных в детстве на сцене театра или на экране. Фе, вероятно, потому и жила в самых потаенных уголках моей души, что ее призрачный образ не вязался с образами традиционных сказок. Я уже много лет не видела ее. Исчезла она и из поля зрения Луизы, поскольку Луиза не стала искать ее за океаном, она терпеть не могла морские и воздушные путешествия. Только машина дает подлинную свободу передвижения, доказывала она Висенте, отдававшему предпочтение самолету. Разумеется, требования Луизы мог удовлетворить только «мерседес», к тому же обязательно белый.
Здесь, в бесконечных нагромождениях мусорных куч и залежей, могли обнаружиться и другие белые «мерседесы», баранки которых касались руки Луизы.
В вестибюле отеля, куда мы зашли, Луиза повела себя как-то непривычно для меня. Заявила, что хочет побеседовать с директором, заодно оплатит счета Фе, а мне велела подняться наверх. Не разжимая губ, Луиза назвала мне номер комнаты Фе, повернулась спиной — и разговор был окончен.
Вот тебе и на! Я вмиг обрела столь желанную независимость. И Оторопела от неожиданности. Нерешительно занесла ногу на ступеньку лестницы, покрытой ковром. Привыкнув к роли статиста, мне нелегко было выйти на передний план и оказаться с Фе с глазу на глаз. Я не знала, как обратиться к ней, в голове роилось множество слов, но все они казались фальшивыми.
Я остановилась перед темной дверью, на которой поблескивал медный номер. На стук никто не отозвался. Воздух в узком и темном коридоре был затхлый, и я поморщилась. Даже тишина была пыльной, очевидно, здесь редко удавалось сдать комнаты. Как воспоминание о лучших днях с потолка взирали амуры, эти пузатенькие карапузы выглядели безжизненно-серыми.
Я уже собиралась повернуться на пятках, чтобы неслышно сбежать в своих мягких мокасинах с покрытой облезлым ковром лестницы обратно в вестибюль, куда каждый раз, когда открывалась и закрывалась наружная стеклянная дверь, струился живительно-влажный осенний воздух.
Но приказ Луизы засел у меня в голове. Я не смела проявить трусость.
Я нажала на ручку. Дверь оказалась незапертой.
В комнате было темно. Когда я вошла, кто-то прошмыгнул в ванную. Открыл краны. С шумом потекла вода. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидела широкую смятую постель, на стуле валялась одежда. На ночном столике стояла наполовину опорожненная бутылка дешевого красного вина, бокала я не заметила.
Заглянуть в ванную я не решилась. Ведь я уже не малый ребенок, которому все дозволено. Смелости хватило лишь на то, чтобы настежь распахнуть деревянные ставни. Я нагнулась и выглянула в окно. Внизу зиял колодец внутреннего двора. Там и сям из трещин каменных стен пучками торчала трава. С крыши, покачиваясь, свисал оборванный провод. В каменном мешке не было ни дуновения ветра, и невесомый мелкий дождик не проникал в комнату. Я набрала полные легкие сырого, пахнущего известкой воздуха и обернулась назад. Тут я увидела, что стены комнаты обтянуты холстом. Виньетки, букеты роз, пышные деревья и улыбающиеся нимфы с фарфоровыми личиками, на головах — гигантские сооружения из пышно взбитых волос. Тоненькая полоска света обозначала местоположение двери, ведущей в ванную, вернее рамы, обитой тканью. Разрисованная ее поверхность была густо усеяна светлыми пятнышками величиной с булавочную головку, краска понемногу отслаивалась от ткани.
Скрывшаяся в ванной Фе, очевидно, решила основательно помыться. Настроение у меня с каждой минутой падало. Я ходила по маленькой комнате, остерегаясь к чему-либо прикоснуться. Провела кончиками пальцев по полотну, покрывающему стены, оно было шероховатым и холодным. В месте стыка я приподняла ткань, полотнищами натянутую на раму, — обнажилась оштукатуренная стена в пятнах плесени. Я быстро отдернула руку, словно зеленовато-черные разводы таили в себе заразу.
Луиза, как назло, мешкала, заставляя меня терзаться в этом отвратительном номере.
Возможно, мне следовало крикнуть в сторону ванной чужим звонким голосом — дорогая мама, выходи скорее, это я, Флер, жду тебя.
По спине побежали мурашки.
Я вздрогнула. За моей спиной стояла Луиза. Ничего удивительного, ведь и на ней были мягкие мокасины, к тому же, несмотря на плешины, ковры приглушали шаг.
Луиза не стала раздумывать. Ее руки никогда безвольно не повисали. Она с силой рванула плотно закрытую дверь ванной и распахнула ее, оттуда повалили клубы пара. Когда пар рассеялся, я увидела Фе, волосы ее были всклокочены, она сидела, завернувшись в кимоно, на краю ванны и курила. Из крана по-прежнему с шумом лилась вода.
— Выходи из своей берлоги! — нетерпеливо вскричала Луиза.
Фе медленно поднялась, швырнула тлеющую сигарету в пенящуюся воду, прислонилась спиной к дверному косяку, склонила голову набок и с полнейшим равнодушием уставилась на нас.
— Только не вздумай говорить, что ты всю жизнь много страдала и тебя надо понять. Я сыта этим по горло. Мы просто увезем тебя отсюда.
Фе покачала головой. Она не клянчила сочувствия и не собиралась оправдывать себя.
Я с осуждением смотрела на свою мать. Мой взгляд сверлил ее печально обвисшие щеки и морщинистую шею. Эта женщина, чьи неопределенного цвета волосы как будто были смазаны жиром и слиплись в неряшливые пряди, становилась для меня все более чужой.
Жалкая, потрепанная и вялая женщина в дверях ванной не могла быть дочерью Луизы и моей матерью. Это какая-то ошибка. Безучастная фигура в кимоно, полы которого приходилось придерживать руками, поскольку пояс отсутствовал, казалось, тоже была покрыта пятнами плесени, как и стена под холодным и шероховатым полотном. Место этой женщины, без сомнения, здесь, в жалком номере этого отеля, и мне бы не хотелось видеть ее на заднем сиденье белой машины Луизы. Ее настоящий дом здесь, она могла в любую минуту, подобно призраку, исчезнуть за полотнищами обшарпанной ткани.
К горлу подступили рыдания; меня обманули. На какой-то миг я даже возненавидела это увядшее, жалкое и утратившее интерес к жизни существо, на плечах которого, как на вешалке, висело японское кимоно.
— Пойдем, Луиза, — пробормотала я.
Луиза повернулась ко мне. Меня испугало ее лицо, внезапно ставшее асимметричным. Я попятилась, мне показалось, что Луиза хочет закатить мне оплеуху, совсем как тогда, в моем детстве, она закатила оплеуху понуро стоявшей под душем Фе.
— Убирайся отсюда! — заорала Луиза. — Жди меня в машине.
Я вышла из номера, не простившись с Фе.
Испытывая огромное облегчение, я прошла по коридору и бегом спустилась по лестнице. Голову мою занимали уже иные мысли: сейчас придет Луиза, мы покружим немного по старым кварталам Рима, остановимся возле какого-нибудь фонтана, а потом усядемся в славном маленьком трактирчике и закажем вкусный обед.
Спустя какое-то время Луиза снова сидела за рулем, она развернула машину, и мы поспешно стали выбираться из города, словно спасаясь от вспыхнувшей эпидемии чумы. Я побоялась и заикнуться, что обессилела от голода. Луиза вела машину небрежно и рассеянно — не глядя на дорогу, взгляд ее блуждал по сторонам, будто она что-то искала. Внезапно она успокоилась, вырулила на обочину, и мы вылезли из машины. Луиза вытянула вперед левую руку, рукав ее жакета задрался, расстегнула ремешок часов, поднесла их к уху и, склонив голову, стала сосредоточенно слушать их тиканье. Потом опустилась на корточки, положила часы на землю, встала, стряхнула несуществующие соринки со своей дорожной юбки в складку, подняла ногу и изо всех сил ударила по часам крепким каблуком своих мокасин.
17
онечно, свинство, что Международное управление по надзору за тюрьмами не сообщило военным властям местонахождение колонии. Не исключено также, что соответствующий документ затерялся в какой-нибудь воинской канцелярии. Одна из отличительных черт века информации: важное сообщение тонет в ворохе всяких бумаг. Вполне вероятно и то, что в сегодняшнем неразумном мире никто и не хочет прийти к соглашению. Назло не считается с интересами другого. Мы уже дважды оказывались невольными участниками на арене военных действий. Сегодняшний штурм карьера оказался мощнее предыдущего. А завтра? Послезавтра?
Сегодня жертвой пала лишь Бесси.
А впредь?
Мы, как идиоты, тупо роемся в мусорных кучах, чиним машины, чтобы ездить на них, а ведь в любую минуту могут появиться вертолеты, обстрелять и поджечь все вокруг. Уго, сказал я себе, когда мы средь шума и грохота, сгрудившись, лежали под вагоном, ты свои руки больше пачкать не будешь.
Хотя день выдался изнурительный, чувствую, как постепенно из меня уходит отчаяние, будто кто-то мягкой кистью слой за слоем стирает его. Очевидно, каждый человек в самых потаенных уголках души лелеет какую-то, пусть даже детскую, мечту. И внезапно она, почти уже забытая, становится реальностью. Выйдя из машины у шахты лифта, я подумал: уж не мерещится ли мне это? Зажмурив глаза, я сказал себе: Уго, ты был талантливым врачевателем человеческих душ, теперь с этим навсегда покончено, с головой у тебя творится что-то неладное. Правда, ты еще не видел летающих чертей и разгуливающих змей, но ведь любая беда подкрадывается неслышно, пустяковые поначалу нарушения усугубляются и в конце концов губят тебя. Я стоял как изваяние и боялся открыть глаза. Наконец собрался с духом: возле ящиков с продовольствием сидела самая что ни на есть настоящая, живая афганская гончая.
Я много лет мечтал обзавестись такой собакой. К сожалению, мой кочевой образ жизни не позволил мне осуществить эту мечту. Я то и дело менял местожительство — от одной нуждающейся в помощи женщины к другой гибнущей от душевных бурь даме, прихватив с собой самый необходимый, однако довольно-таки объемистый багаж. В первую очередь богатый гардероб — элегантно одетый мужчина поднимает настроение женщины больше, чем мы можем предположить. А когда я надевал свою длинную шубу с енотовым воротником, эффект оказывался просто поразительным. Какими бы разными ни были женщины, всем им хотелось получить на память именно ту мою фотографию, где я позирую на фоне темного моря, стоя у заиндевелого парапета, — голова не покрыта, полы шубы распахнуты, воротник поднят. Пожалуй, все они готовы были стайкой слететься под полы моей шубы, в тепло.
Одних только атрибутов, создающих соответствующее настроение, набиралось три чемодана: сборники избранных стихотворений, путеводители и музыкальный комбайн с кассетами и пластинками. Содержимое саквояжа из крокодиловой кожи было особенно ценным: четки, православная икона, музыкальная шкатулка работы прошлого века и миниатюрные шахматы с фигурками из слоновой кости. В этой сокровищнице лежали и ордена различных стран, и муаровые ленты, надеваемые через плечо; в особо торжественных случаях я выучивал из кармана нацистский рыцарский крест с дубовым венком, это тоже размягчало кое-кого из дам. Когда я впервые повесил себе на шею этот крест, одна моя тогдашняя подопечная нагнала на меня страху: волосы встали дыбом — неужто я выгляжу таким старым? Глупышка поверила, будто я сам, лично, заработал этот крест, и все приставала: скольких врагов пришлось уложить для этого? К счастью, ограниченность кругозора этой дамы в области истории побила все рекорды. Потом я перестал удивляться. Женщины просто не знали, когда была последняя война.
Со временем я наловчился укладывать чемоданы и в случае необходимости мог собрать пожитки за полчаса. Бывало, что какая-нибудь капризная дочь Евы давала мне от ворот поворот. И я отправлялся на все четыре стороны, не оставляя своих координат.
Когда женщинам все приедается и отношения идут на спад, щедрые в прошлом создания, широкие натуры, порой становятся мелочными, как прачки. Однако я не намерен был из-за чьих-то прихотей и настроений отказываться от заработанных подарков; обычно я выступал в роли любителя искусства и не мешкая сдавал подаренные мне ценные картины на хранение в банковский сейф. Зачем трепать себе нервы и выслушивать, как женщина, на которую ты потратил столько сил и энергии, оплакивает выброшенные на ветер деньги.
Таким образом, афганская гончая была бы несовместима с моим неустойчивым образом жизни. К тому же ни одна переживающая душевный кризис и прибегнувшая к моим услугам дамочка не потерпела бы, что я отдаю часть своей нежности и заботы какой-то собаке. Ты взят в дом, чтобы утешать меня, так будь моим безраздельно! Многие женщины любили путешествовать — им нравилась суматоха отелей — куда бы я дел бедное животное?
Я утешал себя: наступит время, поживу в свое удовольствие, пошлю нуждающийся в помощи женский род ко всем чертям, уединюсь на своей вилле и неделями не буду выезжать из нее даже на расстояние десяти километров; стану радоваться своему уютному дому, пяти живописным пиниям в саду и густой самшитовой ограде, отделяющей меня от соседских владений. Вот тогда-то мы и побродим вдвоем — я и собака, будем спать когда захочется и есть что понравится. Сколько раз мне приходилось глотать устриц, жевать трюфели и, несмотря на отвращение, делать вид, будто изысканные деликатесы вовсе и не застревают у меня в горле.
И вот теперь неожиданный сюрприз, от которого потеплело на сердце. Афганская гончая сидит как раз возле моих свертков. Не перевелись еще в мире неведомые благодетели!
Шагнув в сторону собаки, я почувствовал в ногах какую-то удивительную легкость. Все предостерегающе закричали, мол, осторожно, вдруг она бешеная, а может, у наших врагов коварный план именно через эту дворнягу — дворнягу! — погубить всех нас, давайте прикончим ее сразу; мне же захотелось не мешкая прочитать табличку на шее собаки. Вдруг собака прислана не мне? Все чуть ли не завопили от ужаса, когда я присел перед собакой на корточки и принялся изучать табличку. Страх смерти, то и дело подогреваемый Эрнесто, совсем лишил их рассудка. Скоро столовый нож покажется им гильотиной, а вилка — штепселем электрического стула.
Собака сидела смирно, мне всегда нравились хорошо воспитанные животные — не понимаю, почему Флер так привязалась к тупой и неповоротливой корове, — собака не рычала и не лаяла, пока я изучал табличку. Порода афганская гончая. Кличка: Фар. При себе имеет собачьи консервы английского производства, нетто 45 фунтов. Выпивает в день 1,5 литра воды. Итак, данные собаки и инструкция, как ее кормить. Кто послал пса? Кому? Неужто действительно мне? На обратной стороне таблички об этом не сказано ни единого слова.
Я попытался успокоить остальных. Насочинял, что у меня имеется кое-какой ветеринарный опыт, в юности занимался разведением породистых: собак. Фару два или три года, кожных заболеваний нет, судя по слизистой оболочке, никакой инфекции в организме не наблюдается.
Осведомленность, с которой я поспешил высказать все это, удовлетворила их, и они оставили меня разглядывать собаку, я украдкой провожу ладонью по голове Фара и взлохмачиваю его мягкую шерсть.
Шерсть у афганских гончих настолько красива, что глаз не отвести. Я не знаю ни одной другой породы собак с такой великолепной шубой. Не только туловище, но и передние и задние лапы покрыты одинаковой длины шелковистой шерстью цвета крепкого чая со сливками. Золотисто-коричневые пушистые прядки на кокетливо висячих ушах подчеркивают изящество черной морды. На светлом лбу темные полукружья бровей — у собак этой породы иногда бывает совсем человеческое выражение.
Сгущающиеся сумерки мешают мне заглянуть в глаза собаке.
— Фар, — тихо и настойчиво говорю я.
Собака напрягается, ждет команды.
Пусть с самого начала запомнит мой голос.
В кузове машины, между ящиками, мы оставляем свободное пространство для Фара — таким образом, во время поездки у него будет свое место, нечто вроде временной конуры. Я хватаю большого пса в охапку и подсаживаю в машину. Все заняты своими хлопотами и словно не замечают, что мне нужна помощь. Еле-еле поднял его — Фар упитанный, крепкий пес. Ну да ладно, я не сержусь на товарищей. Своим поведением они признали, что Фар безраздельно принадлежит мне, это даже хорошо, ни у кого не будет никаких прав на собаку.
Машина, слегка покачиваясь, движется в сторону вивариев, руль доверили незадачливому планеристу, ничего, справляется. Пусть привыкает к роли слуги. Он среди нас единственный, кому ничего не присылают. И мы, чтобы не дать ему протянуть ноги, вынуждены по очереди отрывать от себя кусок. Вообще надо бы поговорить с ним начистоту. Пусть знает и мирится с тем, что обязан бежать по первому взмаху руки и делать, что прикажут. У нас тут не бесплатный дом отдыха, а серьезное, даже мрачное заведение — тюрьма, хотя и без стражи. Впрочем, этот попавший в передрягу голубчик, видимо, не очень ясно представляет, куда приземлился. У нас тут подобралась подходящая компания — к чему нам скрывать и стыдиться своего статуса? Веселенькая история, ты среди заключенных, а считаешь себя свободным человеком!
Яркие краски заката на восточной оконечности каньона заметно тускнеют, сужающаяся светлая полоса становится все краснее, тень, опустившаяся на каньон, сгущается и сливается со все еще клубящимся дымом — Роберт вынужден ехать медленно, зажигать фары ему запрещено.
Каждому из нас очень часто приходится полагаться либо на острое зрение, либо на чутье.
В общем, я никогда не жаловался на недостаток интуиции; встречая нуждающуюся в помощи женщину, я вскоре находил верный способ, как вывести из кризиса бедное создание, погрязшее в бездне мрака и помышляющее о самоубийстве. Одних надо было залить, как сиропом, нежностью и сладкой музыкой, другим опять-таки требовались острые ощущения, и я изо всех сил старался вызвать у них интерес к жизни; женщины и сами верили, что смена впечатлений необходима им как воздух. Были и такие, кто поддавались внушению: пустая и поверхностная жизнь все равно заведет в тупик, лишь через духовность открываются новые невиданные просторы. С женщинами такого типа приходилось повозиться: я только и делал, что водил их на содержательные театральные постановки и мудреные лекции. Большинство из этих женщин, разумеется, предпочитали выступления и эксперименты парапсихологов. Именно те, кто не слишком преуспели в науках, слушая псевдонаучный вздор, начинают открывать в себе небывалые и таинственные глубины. Им кажется, будто внезапно у них появилась удивительнейшая способность к восприятию; на сеансе какого-нибудь шарлатана они впадают в транс, после чего им требуется преданный слушатель, которому они могли бы без устали рассказывать о своих наблюдениях, сновидениях, каких-то давнишних приключениях, внезапно обретших новый смысл и выросших до колоссальных размеров.
К наиболее простому типу женщин принадлежали те, кого могли излечить блюда первоклассных ресторанов, хорошие вина и постель.
Фар — своим прибытием? появлением? падением с неба? — до того обрадовал меня (постелю ему ковер у входа в виварий, пусть будет ко мне поближе и стережет меня), что я не боюсь затронуть свои сокровенные чувства, решаюсь вспомнить о неудаче, постигшей меня с Фанни, этой, будь она неладна, старой шлюхой. Крепкий попался орешек!
К ней оказался неприемлем ни один из моих методов врачевания. Я так намучился и устал с ней, что начал тосковать по спокойной жизни на вилле в обществе собаки.
Я полагал, что сумею легко вывести Фанни из тупика, в который она зашла в своей личной жизни, и, прибегнув к поэзии и живописи, быстро приведу ее в норму. Я потащил ее в Ватиканскую галерею, старая пава вырядилась в перья и шелковую шаль с бахромой — ни дать ни взять музейный экспонат; я заставил ее пройти через десять залов, давая пояснения по поводу той или иной картины, вконец измотал ее — я видел, что ноги у нее от усталости заплетаются и каблуки подворачиваются. Мои усилия не дали результатов. Вечером в отеле я увидел, что она перебирает таблетки, и понял — подсчитывает дозу снотворного, чтобы умереть без мучений.
Ни днем ни ночью я не спускал с нее глаз. Роль спасителя придавала мне силы, я должен был переломить ее душевный настрой. Это отнюдь не смешно, что и в моей профессии есть своя этика. Коли взялся за гуж и заключил контракт, пусть даже на словах, не говори, что не дюж, из кожи вон вылези, а помоги другому человеку выкинуть из головы дурные мысли.
Возможно, все дело было в возрасте Фанни. Никогда раньше я не связывал себя с. клиенткой столь преклонных лет. Что касается временных дам моего сердца, то я вообще никогда не интересовался годом их рождения и обстоятельствами жизни, имевшими место в прошлом. Под моим крылом у них должна была возникнуть иллюзия, что этого прошлого не существовало, что именно сейчас все и начинается и важно лишь то, что ждет их впереди. Со временем я научился льстить дамам, не замечать их дефектов, изъянов внешности, безвкусицы, глупости; только после прекращения между нами каких бы то ни было отношений я позволял себе критически взглянуть на этих женщин и разрешить себе легкую иронию в их адрес — но опять-таки задним числом, в рамках воспоминаний.
Я пытался пристрастить Фанни к спорту. Она довольно-таки сносно играла в теннис, правда, немного вяло и с отсутствующим видом. Я кое-что слышал о пестром прошлом Фанни и знал, что вообще-то она неглупа и кое в чем разбирается. Она ведь зналась с государственными деятелями, коммерсантами и банкирами. Так что речь шла не о классической терпящей нужду старой проститутке.
Шли дни, я не оставлял Фанни времени на грусть, однако ее затаенный взгляд по-прежнему вселял в меня тревогу. От бесконечных хождений с Фанни я уставал, как никогда раньше, порой прямо валился с ног и жаждал лишь одного — уединения и покоя. Рядом с Фанни не могло быть и речи о крепком сне, вечно приходилось быть начеку; стоило Фанни повернуться на другой бок, как я тут же просыпался, Фанни несколько раз заводила разговор об отдельных спальнях — я был категорически против.
Временами мне казалось, что мои старания и постоянный надзор вызывают на ее лице презрительную усмешку.
Однажды вечером, когда Фанни готовилась принять ванну, я почему-то заглянул в ванную комнату — краны были открыты, и из них бежала вода. На краю ванны что-то подозрительно блеснуло. Там наготове лежала бритва.
Неслышно появившаяся за моей спиной Фанни в ярости прошептала:
— Опять шпионишь!
Я испугался, ибо внезапно со всей ясностью осознал опасность своей профессии. Не заметь я вовремя лезвия, Фанни удалось бы перерезать себе вены, и я мог быть заподозрен в убийстве.
Меня трясло от бешенства. Проклятая баба решила поставить под угрозу мою свободу! Меня бы извели бесконечными допросами, половину нажитого с таким трудом состояния того и гляди пришлось бы сунуть адвокатам в зубы, и еще неизвестно, чем бы вся эта история кончилась.
Я велел Фанни тотчас же одеться, и мы поехали в ночной клуб. Утром, когда вернемся, я подожду, покуда пьяная старуха уснет, и отправлюсь к кому-нибудь из друзей. Если, проснувшись, она все-таки осуществит свой план и покончит с собой, у меня, по крайней мере, будет алиби.
В ту ночь Фанни в большом количестве пила шампанское. Как всегда, она вела себя на людях безупречно; глядя со стороны, можно было подумать, что это достойная дама из аристократического рода. От игристого напитка глаза ее затуманились, однако на лице неизменно сохранялась одна из самых чарующих ее улыбок. В этой некогда заученной обворожительной улыбке таилось многое: довольство собой, достоинство, уважительное отношение к окружающим, готовность поддержать непринужденную беседу.
В ту ночь Фанни говорила непривычно много. Я молчал и слушал. Фанни без передышки болтала и смотрела мимо меня. По всей вероятности, она не слышала музыки и не замечала танцующих пар. Усвоенная ею великосветская манера держаться и жалкое подобие прежней колдовской улыбки были в разительном контрасте с тем, что произносили ее уста. Странная речь Фанни текла, тембр голоса причудливо менялся, река бурлила, наталкиваясь на пороги. Рассказывая, она перескакивала с одного на другое, ничем не связанные между собой истории следовали без всякого интервала, словно несколько человек разом, торопясь и перебивая друг друга, хотели использовать возможность, чтобы раскрыть свой внутренний мир.
Некоторые из фраз врезались мне в память.
«Гедонистический образ жизни со временем будет вызывать омерзение».
«У меня шея черепахи».
«Ты своим рвением в работе даже пуговицы к жилетке не заработал».
«Все люди так или иначе продают себя».
«Брось свое ремесло, тоже мне сентиментальный дилетант!»
До этих пор ее пустая болтовня, перемежающаяся сентенциями, которые она кидала в воздух, оставляла меня равнодушным. Ладно, пусть мои усилия и затраченное время не стоят и пуговицы от жилетки — люди, замышляющие самоубийство, обычно теряют чувство реальности; но «сентиментальный дилетант»— это уж слишком, я был в бешенстве. Меня так и подмывало выкинуть какой-нибудь номер, я чуть было не схватил стакан, чтобы плеснуть Фанни шампанским в лицо. Стоп! Возьми себя в руки. Однако во рту остался горький привкус оскорбления. Свести на нет мой профессионализм! Наглая баба! Я был бы вправе заливаться соловьем! Я спас больше человеческих жизней, нежели какой-нибудь высокообразованный психиатр своей примиряющей болтовней и обилием таблеток. И на тебе — сентиментальный дилетант! Что-то надломилось во мне. Почва стала уходить из-под ног, хотя выпил я совсем немного. Старая мегера посмела втоптать в грязь дело всей моей жизни!
В голове шумело, сердце колотилось, на миг я забыл, что слова несчастных и в стельку пьяных женщин — пустой звук.
Я взял себя в руки и повел Фанни танцевать. Срок нашего контракта еще не истек. Я дал ей понять, насколько она жалка: Фанни делала отчаянные усилия, чтобы удержаться на ногах. Когда она пошатываясь возвращалась к столу, то смотрела на ковровое покрытие, стараясь ступать по рисунку. Плюхнувшись на стул, она самым неблагопристойным образом опрокинула в себя полный бокал шампанского.
Под утро я отвез ее домой и не позволил сразу, в одежде, повалиться на постель. С жестокой последовательностью я заставил ее почистить зубы, снять грим и отыскал ее ночную рубашку. Она весьма своеобразно выполнила мои распоряжения: вынула изо рта зубной протез и в сердцах шмякнула его о телефон; сорвала искусственные ногти и сунула их в карман моего жилета. Свой норковый палантин Фанни кинула, как коврик, на пол перед кроватью и вытерла об него ноги; каблук застрял в прорези кармана, и она упала на подушки. Снять платье Фанни была уже не в состоянии, ей было жаль расстаться и с золотой чешуйчатой сумочкой, висевшей на цепочке у нее на запястье. Со стоном ворочаясь в постели, Фанни все еще зачем-то держала сумочку в руке. На ощупь выудила оттуда губную помаду. Меня передернуло от неприятной мысли: сейчас примется малевать свой беззубый рот. Но вместо этого она провела на своем шелковом голубом вечернем платье жирную неровную разделительную черту, начинавшуюся от груди и кончавшуюся ниже пупа. Тут силы ее иссякли, рука с зажатой в ней губной помадой безвольно упала на одеяло.
Я выскочил из спальни и стал поспешно собирать свои вещи. Перед уходом, на всякий случай, взглянул на нее. Я мог не беспокоиться, едва ли она так скоро проснется и начнет покушаться на свою жизнь. Фанни лежала неподвижно, губная помада по-прежнему была зажата в руке, на платье страшная красная полоса — как кровоточащая рана.
Затем я уехал на Сицилию. Старался держаться подальше от праздной публики, жил в скверном дешевеньком отеле, в скудно обставленном номере с побеленными известкой стенами. Каждое утро, просыпаясь, я первым делом видел черного жука, который, перебирая лапками, быстро двигался по краю стены. Я был в растерянности: я очутился в странном сумрачном и прохладном месте. Может быть, я лежу в склепе?
Постепенно мой дух излечился.
В дальнейшем я тщательно выбирал клиентуру.
Теперь же могу сколько угодно отдыхать в обществе афганской гончей.
Только нет пиний, самшитовой ограды и свободы.
18
ень клонится к вечеру — вот уже и совсем стемнело. Мы сидим вокруг костра, смотрим на огонь и ждем, когда чурбаки и обрезки досок, собранные на мусорной свалке, превратятся в угли, чтобы можно было испечь на них мясо. Шматы его горой лежат на большом листе, вместо вертелов мы запаслись проволокой потолще и металлическими полосками, снятыми с машин.
Впервые мы разводим огонь здесь, в каньоне, ради собственного удовольствия. Непонятно, что нашло на Эрнесто, ведь раньше именно он был самым ярым противником подобных действий; вы что, рехнулись, говорил он, костер для них как мишень, они запросто перестреляют нас. Даже зажигалкой можно было пользоваться только в стенах вивария. Как ни странно, у Эрнесто отличное настроение, словно он и не зарезал Бесси. Я же совсем оробел, никогда раньше не присутствовал при забое крупной скотины, и мне стало не по себе. Овцы — другое дело, корова всегда вызывала у нас, бедняков, выращивающих апельсины, почтение. Бесси была еще жива, а у меня уже дрожали руки. Зато в Эрнесто бурлила энергия, и, когда он, готовясь к этому делу, сновал взад-вперед, мне казалось, будто спекшаяся земля ходуном ходит под его тяжелыми шагами. А меня все сильнее бил озноб, даже колени подгибались. А вообще в последнее время меня вдруг ни с того ни с сего начинает колотить. Вот и сейчас, вроде бы сижу себе спокойно у костра, а коленки дрожат.
Эрнесто действовало на нервы, что я сложа руки тупо стоял у загона Бесси. Он разбушевался и стал орать на меня, хотел, чтобы я с ходу стал деятельным и энергичным, но его попреки еще больше сковывали меня и делали неповоротливым. Эрнесто понял, что толку от меня не будет, хлопнул себя ладонью по лбу, вытаращил глаза и спросил: Жан, а как мы вывезем отсюда этакую груду мяса? Святая мадонна, Бесси еще жива, а он говорит о груде мяса! Я тоже не представлял себе — как. Я давно убедился, что хоть мы и действовали сообща, однако умнее всего предоставлять все решения Эрнесто. Последнее слово все равно всегда оставалось за ним, так чего ради мне встревать? Так уж устроен мир, что люди делятся на тех, кто приказывает, и тех, кто выполняет эти приказы.
Эрнесто знал, что делать. Он велел мне как можно быстрее смотаться на площадку, где стояли машины, завести белый «мерседес» и тотчас же ехать обратно. Я попытался слабо возразить, сказав, что у нас есть вполне приличный отремонтированный фургон и что «мерседес» для перевозки мяса не годится. Но Эрнесто стоял на своем. Я понимал, что не смею ослушаться его приказа. Он посмотрел на меня безумным взглядом, белки его глаз налились кровью — может, в них отражались скалы цвета киновари, а может, предстоящее заклание Бесси так подействовало на него — во всяком случае, я отправился за машиной. Пусть мое послушание успокоит его. Вообще-то послушание мой самый большой порок, из-за него-то в свое время и произошло несчастье.
Едва пробежав небольшое расстояние и скрывшись из поля зрения Эрнесто — среди мусорных куч и взгорков нетрудно затеряться, подобно иголке в стогу сена, я почувствовал, что выбился из сил. В голове мутилось, под ребрами кололо, словно мне в печень всадили нож; ни шагу дальше. Я задыхался, ноги не держали меня, и я опустился на землю.
Я стоял на коленях посреди мусорной свалки, время, казалось, остановилось, в ушах отдавался приказ Эрнесто, но тут кто-то будто шепнул: небольшое промедление тебе только на руку, ты не увидишь, как забьют несчастную Бесси. Мне было нестерпимо жаль большое и беспомощное животное. Я уперся ладонями в землю, чтобы не рухнуть, и потому не смог сложить руки для молитвы, хотя мне так хотелось помолиться: пресвятая мадонна, дай мне силы и ясный ум. Избавь меня от этой мучительной дрожи.
Удушливый зной терзал меня, тело горело, как в лихорадке, с кроваво-красной от заходящего солнца стены каньона скатывались большие красные капли; земля под моими ладонями плавилась, раскаленная за день мусорная свалка дышала жаром, подобно топке котла. Дальняя куча все еще тлела, но и тут, в залежах вещей, тоже что-то плавилось и пригорало, едкий смрад заползал в ноздри, и мне все больше и больше не хватало воздуха.
Я разрыдался как ребенок, странно, но этот недостойный мужчины взрыв чувств помог мне. Появился повод повторять в мыслях: ты, Жан, глупый сентиментальный южанин, прекрати реветь! Никому твои слезы не помогут, ни тебе, ни тем двум девчонкам, выскочившим на велосипедах из-за живой изгороди и угодившим под колеса «ситроена». Слезы ничего не изменят, вставай-ка, Жан, единственно, что может унять душевную боль, это наказ отца, данный тебе в детстве: работай и молись!
Я медленно поднялся, как старый больной зверь, и пошатываясь продолжал путь. Я не стал оглядываться — возможно, поодаль, на взгорке, стоял Эрнесто, держа в руке окровавленный нож, который он позабыл отшвырнуть прочь; больше всего его интересовало, куда запропастился этот идиот Жан, на горизонте до сих пор не видать мчащегося белого «мерседеса», за которым, подобно дымовой завесе, клубится красная пыль.
Я плелся к стоянке машин. Ну и пришлось же людям гнуть здесь спину, добывая руду из недр земли. Огненная полоса заката передвигалась по стене карьера все выше и выше — до наступления темноты с Бесси должно быть покончено.
Только что я плакал, а теперь стал взахлеб смеяться. Почему бы мне не проявить послушание? Таким, как я, дабы вымостить себе дорогу в жизни, ничего другого не остается. Покорность — мое единственное достояние в этом мире. Невероятно, но я был почти на вершине счастья. Едва я переехал в город, как мне удалось получить место на бензостанции. Подручный, ученик, но как бы там ни было — работа! Многие согласны были везти на себе какой угодно воз, лишь бы получить работу, отстаивали в очереди за дверью биржи труда, а мне повезло. Послушание и усердие определяли каждый мой шаг, и вскоре я уже стал немного разбираться в моторе и был годен на большее, чем сунуть шланг в бензобак или протереть стекла и фары.
Но что поделаешь, если мадонна отвернулась от меня, оставив однажды вечером одного на бензоколонке. Стояла осенняя пора, к тому же будний день, клиентов почти не было, так что я прекрасно со всем справлялся.
Но судьба решила подвергнуть меня испытанию. Первую его половину я выдержал с честью. Господин, сидевший за рулем «ситроена», вышел из машины и небрежно бросил мне — дескать, взгляните, что там с мотором, не тянет. Ну конечно — засорился карбюратор. Меня прямо-таки распирало от гордости, что я столь быстро обнаружил неисправность. Ох, Жан, до чего же ты сообразительный парень, с довольным видом бормотал я себе под нос, вновь собирая карбюратор. Держа в руке гаечный ключ, я время от времени бросал взгляд на владельца «ситроена», не собирается ли он поторопить меня, иные клиенты весьма нетерпеливы. Этот странный человек сидел на белом пластмассовом стуле, и его губы шевелились. Я подумал — наверное, напевает что-то про себя, как и я. Ничего подобного! Он разговаривал с кем-то, кто, по его мнению, сидел на соседнем стуле, хотя стул пустовал! Мужчина напрочь позабыл о моем существовании, он размахивал руками, то и дело поворачивался к несуществующему соседу, затем неожиданно вытянул вперед руку, словно собираясь встряхнуть призрак за плечо, но тут же отдернул, как будто его обожгло. Возможно, испугался собственной неучтивости. Я знал, что не подобает таращиться на клиентов, но меня подстегивало любопытство; я сбавил темп, то и дело поглядывая из-за капота на господина. На нем был элегантный серо-голубой костюм, который, несмотря на сумерки, слегка поблескивал, а вот стоптанные туфли с загнутыми кверху носами никак не вязались с его одеждой. Обычно у людей, ездящих на машинах, обувь почти не снашивается, как и у старичков с легкой поступью; где же пришлось странствовать этому господину, чтобы так истрепать свои туфли?
Закончив работу, я по пожелтевшей лужайке медленно направился к мужчине, испытывая в душе какую-то необъяснимую тревогу. Я надеялся, что он сам заметит меня, вскочит, расплатится и уедет. Почему-то мне хотелось, чтобы он поскорее исчез отсюда. К сожалению, господин не торопился. Взмахом руки он пригласил меня сесть. Поскольку он только что обращался к стулу и разговаривал с кем-то несуществующим, мне показалось, что, опустившись на сиденье, я расплющил призрак.
Мужчина осведомился, закончил ли я работу, и посмотрел на меня ясным взглядом, словно и не беседовал только что с духом.
Я кивнул.
Он положил передо мной на столик крупную купюру, на эти деньги он мог бы купить себе две пары новых туфель, и заявил, что сдачи не надо. Тем не менее это царское вознаграждение показалось ему недостаточным. Он выудил из кармана флягу с коньяком, открутил стаканчик, наполнил его до краев и протянул мне. Сам же поднес бутылку ко рту и стал пить прямо из нее, на миг оторвавшись, чтобы рассеять мои колебания:
— А вы чего ждете?
Глухой голос был недовольным и требовательным.
Да, послушание было моей слабостью. Щедрая плата лишила меня возможности возразить господину.
Коньяк был выдержанный и крепкий, на секунду перехватило дыхание и зашумело в голове.
Слава богу, мужчина встал и побрел к машине. Пресвятая мадонна, похоже, мне не придется больше выслушивать его приказы. Только я успел с облегчением вздохнуть, как он, точно вкопанный, остановился у открытой дверцы машины. Мужчина о чем-то глубоко задумался и стал правой ногой делать какие-то странные движения, словно хотел стряхнуть с подошвы налипшую на ней грязь.
Все это показалось мне подозрительным. Я втянул голову в плечи и крадучись направился к двери бензостанции.
— Эй! — окликнул меня мужчина. — Мне предстоит дорога длиной в вечность. Я должен быть уверен в машине. Испробуйте-ка ее!
Я повернулся, нерешительно подошел к нему поближе и пробормотал — мне не хотелось оповещать весь мир о своем грехопадении, — что после выпитого садиться за руль запрещено.
— Не смешите меня! — разозлился мужчина.
Пожертвованная щедрой рукой купюра словно приклеилась ко мне, ее было никак не отодрать, я на чем свет стоит проклинал себя — какого черта я взялся за эту пусть и выгодную работу. Я сунул руку в карман, чтобы вернуть деньги. В эту самую минуту мужчина тоже сунул руку за пазуху и вытащил еще одну хрустящую бумажку того же достоинства, что и первая.
— Берите, — приказал он.
Кровь редко ударяет мне в голову, однако на сей раз ударила. Не каждого можно купить, подумал я.
Вероятно, лицо у меня пошло красными пятнами, мужчина понял, что допустил оплошность, и примирительно произнес, что действительно должен быть уверен в машине. Ехать на ночь глядя — дело нешуточное, и не буду ли я настолько любезен испробовать эту развалину.
Свой новый роскошный «ситроен» он высокомерно назвал развалиной.
Хотя этот господин и разозлил меня, тем не менее стало жаль его. Я видел, как он страшится предстоящей дороги. Никогда не могу отказать человеку в помощи. Не выношу, чтобы меня упрашивали. Снисходительность — слабая сторона моего характера, и тут уж ничего не поделаешь.
Ладно, велика важность, сяду за руль и сделаю небольшой круг, чтобы отвязался. К тому же показалось заманчивым впервые в жизни испробовать марку машин, на которых ездят важные господа. Я опустился на сиденье, включил зажигание и резко взял с места — пусть убедится, что мотор снова работает в полную силу.
И надо же было двум школьницам на велосипедах свернуть из-за изгороди на дорогу!
Колеса с блестящими спицами, стукнувшись о бампер, полетели в разные стороны. Стальные стрелы подобно молниям ослепили меня, они и до сих пор причиняют мне боль. Самих девочек я не видел.
На сегодняшний день я вбил себе в голову: произошла ошибка, круг, который я сделал, оказался не маленьким, а очень большим и отнял у меня значительную часть жизни. Время поездки не ограничилось сумеречным мигом — оно обернулось годами. Если соединить воедино все беспросветные часы, проведенные в тюрьме, получилась бы одна кромешная тьма.
Сейчас царит зримая тьма. Стены каньона погрузились в небо. Догорающий огонь костра освещает сидящих вокруг него людей. Все напряженно ждут момента, когда можно будет кинуть мясо на угли. Может быть, чувство подавленности исчезнет, когда они почуют запах жаркого. В колонии мы питались одними консервами — почему же меня должно возмущать, что о бедной Бесси уже успели позабыть. В чем мне упрекнуть их? Бесси не первое животное, которое забили на потребу людям. Я сам отвез ее тушу. Если б мне когда-нибудь сказали: Жан, придет время, и ты повезешь в белом «мерседесе» окровавленные куски мяса, я бы ни за что не поверил в подобный бред. Живя в карьере и роясь в мусорных кучах, я поумнел настолько, чтобы понять: жизнь странная штука. Те, кто имеют обыкновение говорить: не может быть, невероятно, хотят отрицанием сохранить в себе состояние безмятежности, полагая, что в их сердце возможен неприкосновенный островок спокойствия.
19
асслабившись, мы лежали вокруг затухающего костра на принесенных из вагонов одеялах и подушках, отдельные угольки еще пламенели. Над каньоном висел полумесяц, света этого космического фонаря хватало, чтобы различить очертания друг друга.
Никто не спешил в свой виварий. Почему бы не провести ночь под открытым небом? Может быть, днем нам снова придется прятаться под вагоном или искать убежище в какой-нибудь пещере, образовавшейся в скале цвета киновари. Страх Эрнесто, что охотники за людьми прикончат нас, уже не кажется плодом фантазии. Вертолеты, танки и все еще дымящаяся мусорная свалка позволяют представить варианты нашей гибели.
Мы до отвала наелись жареного мяса и могли теперь поблаженствовать.
Я, кажется, на миг задремал. Очнувшись, различил перед глазами какое-то странное видение. Над каньоном колыхался гигантский чугунный колокол, его железное било, раскачивающееся подобно маятнику, с размаху ударило по металлу. Земля подо мной содрогнулась, очевидно, сильный толчок привел в движение воздушную массу каньона, не исключено даже, что где-то со стены посыпались осколки руды, однако ни одна из фигур, застывших у костра, не шевельнулась. Фар, шерсть которого блестела даже сейчас, в темноте, словно ему беспрестанно хотелось красоваться во всей своей собачьей красе, задрал морду кверху и завыл. Уго и Флер, сидевшие по обе стороны собаки, а может, это она пролезла между ними, стали наперебой гладить ее. Ласка успокоила Фара.
Все же вой собаки вывел людей из оцепенения. Я не заметил, кто заговорил первым, во всяком случае, завязалась оживленная беседа. Все принялись убеждать друг друга, что после такого безумного дня неплохо бы откупорить бутылку.
Я взглянул на свои наручные часы. Было четыре минуты первого. Выходит, чудовищный колокол возвестил полночь. Может быть, это столкнулись искусственные звезды, снующие по небу? Вот и еще один день канул в вечность; созревшая единица времени лопнула, как семенная коробочка, и уронила семя нового утра в поток жизни — прорастать.
Все продолжали убеждать друг друга в необходимости распить бутылку. И чего это они уговаривают, доказывают, ведь никто же и полусловом не возразил. Один я не участвовал в стихийном собрании, у меня нет права голоса, Эрнесто намекнул мне на это. Его охватило какое-то странное возбуждение, когда ящики с провиантом были доставлены на место. Перед тем как развести костер, он решил открыть их перед своим виварием, дабы устроить бессмысленную выставку. Похваляясь полученными консервами, концентратами и бутылками, он бросил через плечо — гляньте-ка, только Роберту нечего тащить в вагон, он у нас на иждивении.
Перестань, Эрнесто, пытались остальные унять его странную, смешанную с торжеством злобу. Но что правда, то правда, у меня даже соли не было, чтобы отложить себе про запас кусок мяса. А может, его следовало бы провялить? Леший его знает, как это делается, чтобы не завелись черви.
Мне, в общем-то, не на что надеяться, и тем не менее я верю, что вскоре выберусь из кошмарного каньона. И хотя я стараюсь не думать о своем неопределенном положении, однако чувствую — какой-то предел терпению наступил. Видимо, я дошел до ручки. Разумеется, субъективное состояние не влияет на объективные обстоятельства. Я стараюсь быть тихим и непритязательным — ведь именно такие люди остаются неприметными. Пусть эти тут хорохорятся, а я надел на себя воображаемый панцирь и освобожусь от него по окончании испытательного срока. Испытательный срок? Долго ли он продлится?
И все же, глядя на пышущие жаром угли, где запекалось мясо, я чувствовал себя вполне сносно. Я и раньше замечал, что после гибели Урсулы полностью успокаивался лишь тогда, когда лица людей, окружающих меня, оставались под покровом темноты или были скрыты густой тенью. Я мог расслабиться и не искать в чьей-либо внешности хотя бы крошечного сходства с покойной Урсулой. С момента гибели жены потребность в сравнении и сопоставлении стала для меня психопатической привычкой; однако долго ли можно находиться в напряжении и украдкой изучать лица посторонних людей? Удивительное раздвоение: неповторимая, исключительная Урсула — как и любой другой человек — и вдруг дурацкие кабалистические представления, что моя жена из-за какого-то, пусть даже малозаметного, сходства продолжает жить в ком-то другом.
Попав в каньон и оправившись от первого потрясения, я, увидев Флер, отметил с чувством удовлетворения: как хорошо, что она абсолютно не похожа на Урсулу!
Я и не заметил, как Флер исчезла в виварии.
Сейчас она стоит в темном дверном проеме, освещенная лунным светом, снова в том самом роскошном струящемся вечернем платье, в котором появилась в первый вечер, когда я приземлился на своем искореженном планере на краю кратера. Флер стоит как изваяние, раскинув руки, огромная светлая летучая мышь, слабый холодный свет придает ей библейскую значительность, она позволяет остальным любоваться ее позой прорицательницы — зачем она стремится привлечь к себе внимание? Разумеется, это проявление щедрости, женская расточительность — Флер чуть-чуть поворачивается боком, и лунный блик падает на пузатую бутылку в ее вытянутой руке.
Флер решила быть щедрой. Мужчины лишь говорили, что неплохо бы выпить, но ни один из них не поторопился выставить свои драгоценные запасы.
Нет, Урсуле были чужды вошедшие сейчас в моду позы и манера держаться, она любила все естественное. Меня не трогает моноспектакль Флер, я равнодушно слежу за ее безмолвным ликованием: глядите, на что я способна, нас ждет блаженный миг!
Жан берет в руки гитару, которую нашел на мусорной свалке. У гитары не хватает половины струн, тем не менее неторопливые ее звуки не режут слух. Что-то ритуальное слышится в низких отрывистых басах, и Флер под сопровождение этих далеко разносящихся звуков сходит с подмостков — пир может начаться.
Из бутылки в стопки с бульканьем льется виски, жадно вытянутые руки тут же подносят стопки ко рту, я тоже получаю свою порцию и разом опрокидываю ее в горло. Усталое тело начинает гудеть, внутри приятный жар, но это не удушливый жар каньона. Видно, за свою прежнюю жизнь я мало употреблял спиртного, раз выпитое пробуждает во мне какие-то светлые, нежные видения; напряжение и кошмары исчезли, я могу думать об Урсуле, как о живой. Мне кажется, что если я только выберусь отсюда — а я непременно выберусь, и скоро, — Урсула будет ждать меня дома, выйдет навстречу, протянет свою маленькую крепкую руку и спрячет под ресницами заблестевшие глаза. Урсула проявляла подчас невероятную застенчивость.
Платье Флер, которая сидит, поджав под себя ноги, мягко струится по земле, рука со стаканом виски протянута к луне, Флер смотрит сквозь него на небесное светило.
У этой изнеженной и привыкшей к праздной жизни женщины нет ничего общего с Урсулой.
Маленькая и бесстрашная труженица, Урсула и после двадцати пяти лет оставалась по-девчоночьи худенькой, бегала как жеребенок, предпочитала простую, как у школьницы, одежду и поэтому еще больше походила на подростка.
Однажды вечером Урсула обхватила меня за шею и, по-детски всхлипывая, рассказала, как днем ее обидели до глубины души. В ее кресло, едва уместившись в нем, уселся здоровенный мужчина. Пациент нерешительно открыл малюсенький рот над отвислым подбородком, белки его глаз в мельчайших красных прожилках беспокойно забегали по сторонам, взгляд выражал отчаяние и мольбу.
Пациент пришел удалить больной зуб. Урсула сделала ему укол и через положенное время подошла к нему с щипцами, за эти полчаса страх мужчины неизмеримо возрос, и он заорал на весь зубоврачебный кабинет: я не позволю этой девчонке измываться надо мной! Находившиеся в кабинете пациенты вздрогнули, врачи остановили бормашины, разговоры смолкли, Урсула, хрупкое создание, стояла на виду у всех с щипцами в руке, от стыда ей хотелось спрятаться за спину здоровенного мужчины. Кончилось тем, что зуб удалил другой врач.
Бесстрашная Урсула была доведена до отчаяния. Почему я такая маленькая. Даже ты называешь меня колибри! — жаловалась она, уткнувшись мне в грудь. А ведь у меня сильные и ловкие руки, я могу в один момент вытащить зуб с каким угодно крепким корнем! Урсула не выносила, если затрагивали ее профессиональную гордость.
Ловкость и сноровка пришли к ней не без труда. То, чем обделила ее природа, она компенсировала ценой непрестанных усилий.
Обрести силу и мастерство — вот что постоянно заботило Урсулу. Не проходило и дня, чтобы она не делала физзарядки. Я, актер, порой не проявлял должной заботы о своем теле. Урсула же по утрам, подобно жонглеру, подбрасывала гантели. Сидя перед телевизором, мяла в руках теннисный мячик или вышивала. В самом деле, пальцы у нее были гибкими, как у пианистки, и сильными, как клещи. Однажды, когда Урсула была дома одна, к ним в квартиру пытался вломиться какой-то пьяный. Урсула одним-единственным приемом довела скандалиста чуть ли не до обморочного состояния: она схватила его за распухший нос и потянула. Вырвавшись из ее тисков, мужчина пустился наутек. После Урсула смеялась до слез: нос мужчины хрустнул под ее пальцами, словно кочан капусты, а маленькие глазки внезапно стали огромными, как блюдца.
Вышивание, задуманное поначалу как тренировка пальцев, превратилось впоследствии в страсть. Помимо усвоенных навыков, у нее открылся редкостный дар. Наши наволочки украсились романтическими букетами цветов, а полотенца — монограммами, на юбках Урсулы появились фиалки и маки, на блузках — подснежники и еще какие-то нежные диковинные цветы. Порой, разглядывая готовую вышивку — лицо довольное и одновременно озадаченное, она бормотала: вдруг я ошиблась и выбрала не ту профессию?
Когда после успеха в фильме обо мне забыли, я тоже не раз сомневался: может, и я выбрал не ту профессию?
В любом обществе Урсула в своих платьях, отделанных вышивкой, производила фурор. Стоило ей только появиться, как с женщинами начинало твориться что-то непонятное. Как завороженные, они тянулись к Урсуле и кругами ходили вокруг нее.
Надо же, я утратил чувство времени и пространства. Парил в воспоминаниях рука об руку с Урсулой. Остальные меж тем разговорились, их голоса становились все громче и громче.
Что ж, они под защитой ночи и потому могут излить свою душу.
Я навостряю уши.
Обсуждают побег?
— Достать бы большой кусок пластиката и сделать оболочку воздушного шара, баллоны с водородом найдутся в мусорных кучах. Залезем в корзину, отпустим веревку и махнем в облака, — с воодушевлением заявляет Жан.
— И сразу же попадем на экран какого-нибудь локатора, небольшой снаряд — и от нас лишь мокрое место.
Это говорит Уго.
— Вправе ли мы вообще желать большего, чем заслуживаем? Случайность — это не оправдание.
— Закон великой эпохи — фактически человечеством правят миллионы мелких случайностей, — тихо, будто и не споря, произносит Фред.
— Ты прав! — с жаром восклицает Эрнесто. — И мы по чистой случайности попали в этот переплет.
— Послушайте! — вмешивается Флер. — Знаете, о чем я подумала? Они могут невзначай прикончить нас, даже не подозревая, что произошло. Допустим, мы спрячемся под виварием. А они случайно выберут мишенью именно этот вагон и сбросят на него бомбу. И все, конец.
— Вполне логично! — одобрительно произносит Уго. — За это стоит выпить!
Он протягивает свою рюмку Флер. Остальные следуют его примеру. Флер не забывает и меня.
Уго потягивает виски и рассуждает: раньше убийца стоял со своей жертвой лицом к лицу. Укокошил, и дело с концом. Нынче же такой упрощенный способ изжил себя. Лучше не знать, что ты совершил. Предположим, рыскающей в океане подводной лодке дан приказ выстрелить ракетой по какому-то квадрату, обозначенному номером или кодом. Разве команде известно, кто погибнет? Не правда ли, какое гуманное кровопролитие! Никаких угрызений совести, картины ужасов не отчеканятся в мозгу, можно не бояться, что кошмары будут преследовать тебя. Даже количество жертв останется неизвестным. Кстати, он когда-то близко знал женщину, которая неоднократно пыталась покончить с собой. Нет, он ее не любил, но его мучил постоянный страх; что, если она действительно осуществит задуманное? Кому хочется быть свидетелем предсмертной агонии и видеть труп?
— И как же ты поступил? — с интересом спрашивает Эрнесто и в ожидании ответа делает изрядный глоток виски.
— Стерег ее как зеницу ока, отбирал у нее таблетки и лезвия бритв. Не знал ни сна, ни покоя. В конце концов сбежал, нервы не выдержали.
— Она жива? — продолжает допытываться Эрнесто.
— Не знаю, — отзывается Уго. — Меня это уже не касается. Может, все-таки положилась во всем на волю случая.
— Вот и им все равно, останется ли в каньоне хоть одна живая душа или нет, — замечает Фред.
— Очевидно, даже на бумаге не сохранилось наших следов. Мы давно перестали существовать. Сами виноваты, что до сих пор еще не уразумели этого, — говорит Майк и усмехается, не разжимая губ.
Все начинают ржать.
По спине пробегает дрожь. Я до дна осушаю свою рюмку.
Флер корчится от смеха, она быстро хватает бутылку и отхлебывает из нее. Жадно хватая ртом воздух, кричит тоненьким голосом:
— Мальчики, тащите еще виски! Может, последний день живем!
Расщедрившиеся мужчины без возражений исчезают в вивариях.
Флер ждет их, такое впечатление, словно она лишилась рассудка. Она противно хихикает, гладит Фара, причмокивая, целует его, снова дико хохочет, будто внутри у нее заведенная до отказа пружинка смеха.
Большие темные фигуры шумно спрыгивают из вагонов на землю. При свете луны все они кажутся приземистыми.
— И все-таки жаль, — усаживаясь, произносит Эрнесто. — Может, кто-нибудь станет оплакивать нас?
— Будь уверен, ни одна живая душа! — смеется Флер и трет кулаками глаза.
— Существует тысяча способов убивать, — принимается за старое Майк и пробует новый сорт виски.
Мне тоже хочется напиться до бесчувствия.
Они не жадничают, наливают и мне, виски льется через край стопки, никто уже не экономит драгоценный напиток. Правда, появилась одна лишняя глотка, ну да ничего, переживут. При этом они не обращают на мою особу ни малейшего внимания. У них своя компания, в которую постороннему не попасть. Вот и хорошо, что они не втягивают меня в беседу. Их разговоры о возможностях гибели разбередили мне старые раны, хотя я не видел ни предсмертной агонии, ни обезображенного трупа. На теле Урсулы не было ни единой царапины. Шейный позвонок, разводя руками, сказал доктор и выглянул в окно: его внимание привлек цветущий каштан. Все стало внезапно нереальным: разводящий руками мужчина в белом халате, цветущий каштан, утро того самого дня, когда я делал пробежку по лесу и наблюдал за тем, как рыжая дворняга гоняла по песчаной прогалине ленивую ворону.
Майк упрямо продолжает свою мысль.
— Существуют косвенные убийцы. Всегда приходится платить дань цивилизации. Никто никогда не подсчитывал погибших от химических веществ, радиоактивных излучений, загрязнения!
— Прекрати читать лекцию, — прерывает его Флер и снова начинает хихикать. — Я сама была наркоманкой и, видишь, жива.
— Не говори так, пропитанная всевозможной отравой и все же несравненная женщина, — бормочет Фред, притворяясь в дым пьяным. Он хватает из догорающего костра тлеющий уголек и смотрит, как долго можно подкидывать его на ладони.
— Почему жизнь так несправедлива? — канючит Жан, которому не так-то легко поднести рюмку ко рту. Чтобы она не выскользнула из рук, он для пущей верности придерживает ее край зубами.
— Не так уж все и плохо, — утешает его Уго. — Ты ртутный король, настоящий ас в своем деле, так что не волнуйся. Когда отправишься путешествовать на своей яхте, прихвати и нас.
— Издеваешься, — размахивает кулаками Жан. Встрепенувшись, он испуганно спрашивает — Так это ты подбираешься к моей ртути? Стащить решил? Обокрасть меня? Разве я не самый бедный из вас?
Жан с трудом встает, на мгновение склоняется над Уго, но не кидается на него. Хватая руками воздух, он пошатываясь плетется в сторону вивариев.
— Приятель готов, отправился спать, — успокаивающе говорит Уго приунывшему обществу. — Дорогой Фар! — Флер приходит в себя, обхватывает собаку за шею и раскачивается вместе с ней, словно баюкая ее. — Бесси уже нет. Мы все ели ее мясо. И ты, Фар, тоже. Бесси передала тебе частичку своей души. Знаешь, душа зверя может переселиться только в зверя, а душа человека — только в человека. Теперь ты для меня Бест Фар.
Смеется одна лишь Флер.
Со стороны вивариев слышится какой-то стук.
Затем дребезжанье.
Мужчины привстают.
Шаркая ногами, приближается Жан, в обеих руках у него по отбитому горлышку бутылки.
— Ну, Уго, — задыхаясь, произносит он. — Струйки ртути были как живые, когда растекались в разные стороны. Тебе не ободрать меня как липку. Светлые ручейки побежали, что сороконожки.
Опьяневшие мужчины сердито бормочут:
— Дурак! Остолоп! Совсем свихнулся!
Эрнесто выхватывает из рук Жана горлышки с опасно зазубренными краями и, размахнувшись, зашвыривает по одному в мусорную кучу.
— Жан, что тебе взбрело в голову! — с негодованием восклицает Майк.
— Свое добро, что хочу, то и делаю, — вызывающе заявляет Жан и заплетающимся языком бормочет еще что-то невразумительное.
— Ну ты и дурак, — выговаривает Майк Жану. — Мало мы вдыхали ртутных паров! А теперь по твоей милости и шагу не ступи, чтобы не отравиться. Скоро у всех у нас начнется трясучка и мы спятим. Не придется убивать, сами сдохнем.
— Разумеется, у того, кто теперь гол как сокол, голова уже не варит, — Жан с трудом выговаривает слова, взвизгивая при этом так, словно кто-то наступил ему на палец.
— Мне жаль Жана, — вмешивается в разговор Уго, икает и поспешно просит прощения.
— А мне никого не жаль! — хихикает Флер.
— Заткнись, вертихвостка! — рявкает Эрнесто. — Что ты понимаешь! Человек уничтожил плоды своего труда. А у тебя одна забота — задирать ноги!
— Замолчи, Эрнесто! — стонет Фред и принимается биться лбом о колени.
Внезапно становится так тихо, что начинает звенеть в ушах. Костер еще чуть-чуть теплится. Я бы хотел, чтобы Фар завыл, но он не может — женщина крепко обхватила его за шею. Мужчины ерзают, не находят себе места. Поднимают бутылки, наклоняют их и разглядывают на свет луны. Руки ощупью ищут стопки.
— И все же мне жаль его, — тупо повторяет Уго.
— Это виски делает тебя жалостливым, — говорит Флер каким-то непривычно тусклым голосом. — И вообще, ты умеешь только притворяться.
Уго машет рукой, поднимается и устало идет к вивариям.
— Теперь и он что-нибудь разобьет, — вздыхает Фред.
— Главное, чтобы не уничтожил запасы виски, — беспокоится Флер. — Вдруг придется кого-то помянуть, а выпить нечего.
— Флер одна будет сидеть на краю ямы и потягивать спиртное, — пытается сострить слегка протрезвевший Жан. — Только кто выроет нам могилу, если нас самих уже не будет, — пугает его вопрос, на который нет ответа.
Помрачневшая компания даже не замечает возвращения Уго, пока он не опускается на колени рядом с Фаром. В руке у Уго какой-то рулон.
— Глядите, — торжественно произносит он. — Здесь портрет, написанный знаменитым фламандским художником Ван Дейком. Поверьте, это подлинник, а не подделка. Я нашел его в дверной панели одной из разбитых машин. Любое полотно этого художника — целое состояние. Я дарю его Жану.
Закончив свою тираду, Уго разворачивает картину.
Майк складывает вместе несколько спичек и чиркает ими. Света все равно недостаточно. Чья-то рука кидает щепки на затухающие угли костра. Маленькие жадные язычки пламени начинают пожирать их. Теперь все видят глядящее с полотна надменное и самоуверенное лицо мужчины в обрамлении высокого белого воротника. Взгляд его ясен: истина познана. Ничтожные мысли отринуты. Ноздри мужчины напряжены, словно он ощущает какой-то струящийся из будущего тревожный запах, который слегка настораживает его. Он достаточно умен, чтобы понимать: равновесие и совершенство могут в мгновение ока рассыпаться в прах.
Маленький костер догорел. Мы думаем о мужчине, явившемся к нам из глубины веков.
Похоже, все чувствуют себя паршиво.
Портрет заглянул нам в души.
От лунного света лица обитателей карьера мертвенно-бледные. Восковые фигуры с глазами из ртути.
Эрнесто первым приходит в себя и деловито осведомляется:
— Так, говоришь, старая и ценная картина?
— Семнадцатый век. Цена баснословная.
— Кого ты дурачишь, Уго? — Эрнесто в ярости.
— Честное слово, я разбираюсь в живописи, — оправдывается Уго.
— Картина свернута в рулон и засунута в дверную панель — значит, украдена из музея! Жан не сможет сбыть ее, за такое ему было бы несдобровать.
— А может, кто-то спрятал свое сокровище от воров? — не сдается Уго. — Или, пересекая границу, скрыл от таможенных властей. Владелец потерпел автокатастрофу, и картина так и осталась в тайнике.
Жан не торопится протянуть руку, чтобы принять даруемое ему сокровище.
Кто знает, может, он думает, что никому из нас уже ничего не понадобится?
20
опьянела и устала, но спать не хочу.
Мне становится стыдно за себя, когда я думаю о покойной Луизе: ее Флер накачалась виски, водится с подозрительными мужчинами, а сейчас собирается улечься в вечернем платье под открытым небом на ссохшейся и пыльной земле.
Я в самом деле ложусь на бок и утыкаюсь носом в локоть.
Может, Фар сжалится надо мной и пристроится рядом? Мы были бы вместе, две бесконечно одинокие души, несчастные и никому не нужные.
Я смотрю на себя со стороны — что за отвратительное существо. Ведь Флер другая, она любила большую неуклюжую Бесси и, однако, с аппетитом уплетала ее мясо, запеченное на углях. Флер, которая привередливо ковырялась вилкой в изысканных блюдах роскошных ресторанов, теперь ела мясо руками, ничуть не заботясь, что оно в золе и угольной крошке.
Странно и грустно глядеть в прошлое и видеть в нем заносчивую и разборчивую девушку, которая превыше всего ставила свою чистоту и красоту и остерегалась прикасаться к засаленной мебели и облупленным стенам жалкого гостиничного номера, где она в последний раз встретилась со своей матерью, Фе. Опустившаяся, потрепанная женщина показалась Флер отвратительной и вызывала чувство брезгливости.
С тех пор прошло не более десяти лет, и вот теперь мне в лицо кинули: шлюха, и меня это ничуть не задело, даже не возникло желания расцарапать негодяю лицо и заставить просить прощения.
Мужчины то и дело говорят о парах ртути — что, если вместе с отравленным воздухом я вдохнула в себя безразличие?
Должно быть, мой бывший муж Уильям был прав, когда произнес те роковые слова: ты, Флер, сама себя проиграла, и поэтому я не могу больше жить с тобой.
В тот раз от жестокости мужа у меня перехватило дыхание. Меня захлестнула ярость, захотелось разом пресечь незаслуженные взгляды, упреки и поступки мужа.
Разумеется, эта вспышка была запоздалой. Я давно упустила время, когда еще можно было вернуть чистоту и подлинность чувств. С самого начала нашей совместной жизни я не могла повлиять на Уильяма. Может, на нем была мета: непригоден для совместной жизни. К сожалению, никто из нас не был ясновидящим, чтобы отменить бракосочетание.
Во всяком случае, наше супружество истерзало и опустошило мне душу.
С самого начала моей самой большой ошибкой было промедление. Еще тогда, когда Дорис была совсем крошкой, мне следовало схватить ее, нашего первенца, в охапку, завести машину и скрыться в неизвестном направлении. Но Луизы, которая поняла бы мой поступок, уже не было, и, к сожалению, я не унаследовала ее решимости. Я наивно полагала, что в дальнейшем наши отношения с Уильямом наладятся, — неужто человек должен считать себя глупцом, если он с надеждой смотрит в будущее? Я верила, что мы неуклонно будем идти к вершине, Уильям и я, и с нами Дорис. На самом же деле я топталась в густом тумане, предполагая, что муж здесь, где-то совсем рядом, и стоит мне лишь окликнуть его, как он тут же поддержит меня за локоть и дальнейший путь снова покажется легким. Туман сбил меня с пути, дюйм за дюймом я сползала все ниже и ниже; я ведь малыми дозами принимала наркотики, ровно столько, чтобы поверить — я в лоне своей драгоценной семьи, в узком теплом кругу, нас трое, мы держимся друг за друга, счастье и единодушие исходят от нас.
Уильям не догадывался, что произошло. Насколько я понимаю, у него не было на это времени. В те редкие минуты, которые нам доводилось проводить вместе, я старалась быть мягкой и нетребовательной. Для этого нужен был лишь маленький допинг — страдания и заботы другого человека не должны были нарушать покой Уильяма.
Что-то закипает во мне, мне хотелось бы спросить своих товарищей по несчастью, которые растянулись вокруг потухшего костра и отдыхают при гаснущем свете луны: разве грех, если человек в интересах ближнего подавляет свой эгоизм. Пусть бросит в меня камень тот, кого любовь не сделала жертвенным.
Уильям с фанатичной преданностью служил своему богу, чтобы самому по возможности дольше оставаться в роли божка. Он не давал себе пощады, во всем был предельно точен и расчетлив.
Он платил юристам большие гонорары за то, чтобы они досконально изучали условия контрактов и выискивали в них возможные подвохи. Уильям никогда не давал поймать себя на удочку. Он знал себе цену, недаром же тратил уйму времени и денег на то, чтобы держать себя в форме. Знал, что данные богом способности и обаяние не вечны. Постановка голоса была той осью, вокруг которой вращалась вся его жизнь. Шарлатаны молниеносно прогорают, аргументировал он необходимость своих непрестанных вокальных упражнений, если, конечно, вообще соблаговолял что-то объяснить или оправдаться передо мной. Все его выступления должны были быть отрежиссированы до тонкостей, и он всегда просил именитых постановщиков оценить проделанную работу. Многие просто-напросто бездарно извиваются в такт музыке, с пренебрежением говорил он о дилетантах. Он регулярно посещал уроки хореографии — это должно было способствовать выразительности каждого его движения и жеста. Одного голоса мало, комментировал он свои физические тренировки, публика должна что-то и видеть.
Он гордился своим совершенством и тем, что способен сохранять его.
Уильям зарабатывал кучу денег.
Нам не нужно столько, давай поживем и для себя, пыталась я исподволь убедить его.
Моя ограниченность ничего, кроме высокомерной жалости, у него не вызывала. Займись и ты чем-нибудь, советовал он. Я должен иметь возможность самовыражения.
Несколько раз я ездила вместе с ним в турне, меня поражала невероятная популярность Уильяма. Может, она и по сей день не угасла? Каналы информации не доходят до нашей колонии. Поначалу успех Уильяма ударил мне в голову, казалось, будто и меня коснулась его слава. Бог мой! В аэропортах ревущие от восторга массы ожидали его появления на трапе. Полицейским приходилось затрачивать невероятные усилия, чтобы обеспечить его неприкосновенность. Экзальтированные девицы готовы были даже влезть в окна машины, в отеле покой Уильяма охраняли частные детективы. Он же вел себя так, словно ничего этого не видел. С той самой минуты, когда он появлялся в поле зрения масс, его движения приобретали особую элегантность, походка становилась пружинящей, и на лице появлялась легкая улыбка пресыщения. Он не отвечал ни на одно приветствие, не замечал протянутых рук поклонников — так дешево его было не купить. Он всегда стоял как бы на пьедестале.
На концертах Уильяма, в шквале восторга, свиста и топота, я всегда чувствовала себя каким-то инородным телом и с отчуждением смотрела на мужа, у которого каждая нота и каждое движение были продуманы; великолепная, свободная манера исполнения делала его своеобразным — синтез машины и человека — поющим агрегатом, чье звучание дополнял ансамбль музыкантов с абсолютным слухом, и все это, вместе взятое, усиливалось аппаратурой, выпущенной лучшей фирмой звукотехники — даже еле слышный шепот артиста явственно раздавался в самых последних рядах гигантского зала — все было блистательно, но почему-то и унизительно. Визг зрителей, доведенных до экстаза, действовал угнетающе; казалось, они вот-вот начнут отрывать от кресел подлокотники и швырять их в плафоны, чтобы зал погрузился в темноту. Я невольно ждала, что концерт кончится кровавым побоищем.
Ведь Луиза держала меня под стеклянным колпаком, и я выросла человеком, чуждым эпохе: я никак не могла считать искусством то, что сопровождалось воплями и от чего публика приходила в неистовство.
Втайне я ждала, надеялась и даже молила бога — мне страстно хотелось, чтобы мой знаменитый муж был низведен с пьедестала, чтобы мода на Уильяма прошла. Чтобы гипнотизирующий публику деспот снова стал обычным человеком.
Однако не тут-то было — Уильям невероятно легко приспособился и к новым веяниям. Он консультировался с футурологами и психологами, и это позволило ему не следовать слепо за модой, а самому создавать ее. Каждый сезон он удивлял публику новым, кардинально измененным репертуаром. Всегда он умел выбрать ошеломляющее, едва только начинающее зарождаться направление, хватался за него, подстегивал композиторов, менял ансамбли и стиль, менял и свой облик — все это было для него проще простого. Тысячеликий Уильям — от романтика до циника. Изображал ли он мальчишку или рафинированного представителя элиты, он одинаково притягивал к себе публику. Ему ничего не стоило сыграть и нищего бульварного певца; незатейливый мотивчик и бравурно хриплый голос пробирали слушателей до мозга костей. Не было предела изобретательности художников по костюмам. Как-то раз Уильям вышел на сцену босым, в болтавшемся одеянии из мешковины, с сумой через плечо. Он чертовски ловко умел создать иллюзию — его мускулистое и пропорциональное тело внезапно могло стать тщедушным и согбенным.
И публика снова ревела от восторга.
Может быть, от гениальных людей и нельзя требовать заурядной личной жизни?
Однажды меня испугало его заявление, которое я сама неосторожно спровоцировала. Я часто с удивлением замечала, что все письма своих почитателей Уильям, не просматривая, бросал в корзину для бумаги; когда же ему присылали цветы, он оставлял их в гардеробной; никогда ни одной гвоздики не сунул в петлицу. Я осмелилась как-то намекнуть ему на его равнодушное отношение к поклонникам его таланта. Не знаю, то ли сказалось перенапряжение, вылившееся наружу как раз в тот момент, во всяком случае, он с безграничным презрением процедил сквозь зубы, что эта потная и вопящая публика глубоко противна ему. Охотнее всего он выступал бы за стеклянной стеной, чтобы отгородиться от сидящих в переполненном зале одураченных масс. Отвращение — вот все, что он испытывал.
Меня испугало его двуличие. Публика боготворила Уильяма, с его же стороны не было ни крупицы ответного чувства, хотя работал он как проклятый и массу усилий клал на то, чтобы публика встречала его восторженными криками.
Он продолжал с фанатизмом оттачивать свое мастерство. Все те же резкие смены стиля, предвосхищавшие повальное модное течение. Казалось, головокружительному калейдоскопу превращений не будет конца; и все это он проделывал с несокрушимой самонадеянностью: публика, подобно водопаду, прорвавшему плотину, все равно устремится за ним.
Его советчики не ошиблись в своих расчетах.
У меня волосы вставали дыбом при мысли, что люди так подвержены психозу. Я отнюдь не была самонадеянной, однако высоко ценила чувство собственного достоинства.
Внезапно я почувствовала, что мою душу охватило смятение. Наркотики помогли мне восстановить равновесие, и я перестала замечать безумства, творящиеся вокруг. И все же транквилизаторы оказались не столь сильны, чтобы я могла сопровождать Уильяма в его гастрольных поездках. У меня не было сил присутствовать на его концертах, мне не хотелось сидеть с бледным страдальческим лицом среди ликующей толпы.
Уильям без конца совершенствовал свое мастерство и становился все неумолимее. Ни малейших отклонений от режима: время, положенное на сон, нельзя было сократить и на четверть часа; за едой он не позволял себе даже бокала вина, предписания диетологов были священны. Уильям, вероятно, уже и не помнил, что такое бездельничать. Возможно, для него было отдыхом ежедневное получасовое сидение в кресле, когда, нацепив наушники, он слушал выступления других модных певцов. В эти минуты — как и во всех остальных случаях — никто не смел мешать ему, во всяком случае, ребёнок не должен был попадаться ему на глаза.
В то тяжелое время я часто плакала, разумеется украдкой. При виде слез Уильям с осуждением бы нахмурил брови. Я тосковала по Луизе, она часто являлась мне во сне. И тогда я изливала ей душу; во время наших давних долгих путешествий я на протяжении ста километров не говорила столько, сколько сейчас, в эти краткие сумеречные мгновения. Во сне все становилось ясным, Луиза, не выпуская руля из рук, давала добрый совет; передо мной открывались новые дали, вероятно, я действительно бывала порой счастлива во сне и верила, что сумею наладить свою жизнь.
Утром я пыталась вспомнить ночные советы Луизы — но тщетно. Я проклинала несовершенство человеческой памяти и убеждалась, что из одной пустоты погружаюсь в другую.
Разочарование усугубило состояние угнетенности. От моей жизнерадостности не осталось и следа; мне хотелось, чтобы проклятые гастрольные поездки Уильяма длились как можно дольше. Я с отвращением кидала в сторону газеты и журналы, где были напечатаны интервью с Уильямом и его фотографии — фотографии певца, умеющего удивительным образом перевоплощаться и годами остающегося на вершине славы. Я знала, что импресарио советовал ему сниматься в окружении манекенщиц и киноактрис — в интересах дела, публике это нравится, разъяснял мне Уильям, и все же это больно задевало меня, я чувствовала себя обманутой и преданной, когда видела своего мужа, запечатленного в обществе ослепительно улыбающихся звезд.
Я отравляла себя и все больше и больше цеплялась за ребенка. Иногда я похищала Дорис у няни, хватала девочку на руки, прижимала к груди ее маленькое теплое тельце, закрывала глаза и представляла себя уравновешенным и волевым человеком, словно это и не я, Флер, а Луиза, которая держит на руках маленькую Флер, готовая защитить ее от всех земных невзгод.
Нам с Уильямом не следовало заводить второго ребенка. Я была опрометчива, да и Уильям тоже— очевидно, он отнесся к увеличению семьи как к некоему своему долгу. Или нас сбила с толку ходячая истина — единственный ребенок вырастает эгоистом, во всяком случае, я наглядный тому пример. Могло быть и так, что Уильяму захотелось сделать жизнь своей жены более содержательной — вдруг она перестанет грустить и скучать, избавится от настроений, угнетающих мало занятую женщину, бесцельно слоняющуюся по дому. А может, он думал, что второй ребенок поможет ему избежать моих упреков, дескать, у него никогда не остается для меня времени и нам нечего будет вспомнить в старости. Или благоразумие покинуло нас, и мы вообще ни о чем не думали. И вообразили, что мы все еще одно целое.
Как бы там ни было, наша жизнь превратилась в ад.
Ожидая ребенка, я, как обычно, большую часть времени проводила одна. Ведь Уильям не мог нарушать графика своих поездок и выступлений. Мне же казалось, что мой будущий ребенок должен слышать голос своего отца. Таким образом, младенец за два месяца до своего появления на свет почти ежедневно слушал пение своего знаменитого отца: я включала магнитофонную ленту с записью песен Уильяма и прикладывала наушники к животу.
В больнице меня поначалу щадили и дали оправиться после родов. Приносили в палату завернутый в пеленки комочек и, едва заканчивалась процедура кормления, уносили. Глупо было бы искать в сморщенном личике новорожденного красоту или уродство — дети, которым всего несколько дней от роду, до того похожи друг на друга, что их легко перепутать. К сожалению, Катрин ни с кем не перепутали, и вскоре истина всплыла наружу. Не зря же врач стал делать мне успокоительные уколы. Катрин родилась безрукой. Правда, кисти рук были, но они росли из плеч. Несчастный ангелочек, пробормотал врач. Я не в состоянии описать свое первое потрясение. Крошечные растопыренные пальчики, пятачки ладошек, утолщения на запястьях, переходящие в плечевые суставы. Казалось, что Катрин и впрямь готовится взлететь в небо. Ей надо было еще чуть-чуть поднабраться сил, чтобы крылья могли держать ее.
О том страшном времени, предшествовавшем катастрофе, в памяти сохранились лишь какие-то обрывки картин и звуков.
Строгая няня, женщина без возраста, с правильными чертами лица, типичная старомодная сестра милосердия, никогда не дававшая волю своим чувствам, впервые увидев Катрин, безутешно разрыдалась. Ее ухоженное лицо внезапно покрылось глубокими морщинами, на коже, как сыпь, выступили красные пятна, и женщина выпалила простую и жестокую истину, подкосившую меня под корень. Я еще не успела осознать, что Катрин никогда не сможет сама о себе заботиться, даже ложку ко рту ей будет не поднести. До сих пор трагедия казалась более абстрактной: физический недостаток, уродство, дефект. Бог мой, ведь даже для самых незаметных и незначительных дел человеку нужны руки!
Через неделю няня взяла расчет. Каждый мускул ее неподвижного лица выражал отказ — нет смысла уговаривать меня и увеличивать жалованье, я своего решения не изменю.
На этот раз я молила бога, чтобы популярность Уильяма выросла до небывалых размеров и восторженная публика растерзала бы его на части.
Он прибыл домой в назначенный срок, контрактом предусматривались и передышки.
Я медленно, не говоря ни слова, распеленала ребенка.
Уильям не издал ни звука. Он закрыл глаза и кончиками пальцев стал тереть виски.
Затем тяжело опустился в кресло в темном углу комнаты и просидел так, возможно, час, о чем-то думая. Я впервые заметила у него под глазами темные круги. Внезапно он вскочил как ужаленный и принялся бродить по дому, словно что-то искал. Переходя из комнаты в комнату, он каждый раз с шумом захлопывал за собой дверь. Казалось, будто с интервалами в несколько секунд кто-то бьет в огромный барабан.
Потом задребезжали стекла входной двери, и я услышала, как Уильям завел мотор своей машины.
Три недели от него не было ни слуху ни духу. Он умыл руки. Я слонялась по дому как в полусне, время от времени пробуждаясь, чтобы заняться домашними делами. Мне и в голову не приходило нанять прислугу, я никого не хотела видеть.
Однажды вечером позвонил адвокат Уильяма. Он говорил монотонным голосом, словно зачитывал какое-то законоположение. Сообщил, что Уильям уполномочил его оформить наш развод. Попутно дал мне понять, что проигравшей стороной несомненно окажусь я. Уильям якобы раздобыл заключение экспертов роддома относительно моего случая: не исключено, что причиной уродства ребенка явились наркотики, которые употребляла мать.
В тот вечер Дорис, а также Катрин остались некормлеными. Чтобы отдохнуть от Дорис, я дала ей снотворное. Катрин же от голода стала кричать, и крик ее с небольшими интервалами продолжался далеко за полночь. Я думала, она умрет от голода или надорвется от воплей, тем не менее и пальцем не пошевелила.
Спустя долгое время в нашем доме снова звучали песни Уильяма — я проиграла все его пластинки. Сидя в том самом кресле, в котором последний раз сгорбившись сидел Уильям, я потягивала неразбавленное виски до тех пор, пока уже не в силах была встать и меня не сморил сон.
Я не слышала крика младенца и ни разу за ночь не подошла к нему.
Душа как бы оставила мое тело.
Уильям появился на следующий вечер. Тогда-то он и бросил мне в лицо роковые слова о том, что я сама себя проиграла. Уильям не пошел взглянуть на Катрин, хотя та не переставая орала; к моему удивлению, она была еще жива. Отчаяние, бессонница и спиртное настолько взвинтили мне нервы, что я принялась кричать и топать ногами. Очевидно, я не произнесла ни одного разумного слова. Когда я рухнула на пол, у Уильяма хватило жалости плеснуть мне в лицо стакан воды. Да я уже и не смогла бы больше кричать. Я поднялась и стояла безучастно, ощущая во всем теле невероятную слабость. Я даже не сделала попытки остановить Уильяма, когда он схватил побледневшую Дорис на руки и вышел в прихожую. Он открыл входную дверь, и в дом плотным багряным потоком хлынули лучи заходящего солнца. Медленно, едва переставляя ноги, я вышла на лестницу и поднесла руку к глазам. Уильям пружинящей походкой шел по аллее к воротам, ребенок на его руках подпрыгивал в такт шагам, от обоих на гравийную дорожку ложилась длинная тень. Ни он, ни Дорис не оглянулись. Уильям все удалялся и удалялся и тем не менее не исчезал из виду. Дорожка от дверей до ворот чудовищно растянулась.
В этот момент меня осенило, что для нас с Катрин оставался лишь один выход.
Выбора не было.
С этой минуты я действовала целенаправленно, словно все мои поступки были запрограммированы. Я распеленала ребенка, присыпала тальком складки на его тельце, где появились опрелости, покормила — очевидно, в молоке еще оставалась примесь виски. Щеки Катрин порозовели, веки сомкнулись. Я снова завернула младенца в пеленки и даже прикрыла одеяльцем.
Наружная дверь после ухода Уильяма осталась распахнутой, в нее все еще беспрепятственно лилась красная река заходящего солнца. Мне пришлось окунуться в плотное обжигающее вещество. Услышав хруст гравия под ногами, я остановилась, сообразив, что надо закрыть дверь — к чему привлекать внимание репортеров? Впоследствии все должно выглядеть как случайность.
Спящий ребенок оказался невероятно тяжелым и оттягивал руку. Преодолев слабость, я вернулась, бесшумно закрыла дверь, сунула ключ в карман и снова повернулась лицом к горячему заходящему солнцу.
Открыв дверцу машины, я положила завернутый в одеяло сверток с младенцем на переднее сиденье. Ослабила ремень безопасности и пристегнула Катрин.
Я осталась довольна собой, села за руль, ослабила и свой ремень безопасности — понимаешь ли ты, несчастное дитя, что твоя мать и себе не делает никаких послаблений. Мы равны и отправимся вместе.
Мотор тотчас заработал, словно большая кошка замурлыкала под крышкой капота. Я подумала: люди научились делать прекрасные вещи. Мной овладело необъяснимое чувство радости: человечество в своих устремлениях достигло поразительных результатов.
Я вела машину одной рукой, когда ехала извилистыми, идущими под уклон улочками в сторону города. Никаких трудностей с управлением у меня не было, «тойота» сама прекрасно вписывалась в повороты. Машина бесшумно катилась по дороге, окаймленной подстриженной живой изгородью. Настроение приподнятости не покидало меня: прекрасные сады с газонами и кустами роз, чистые тихие дома, террасы с диван-качалками, отороченными воланами. Странно, но я с умилением смотрела на знакомый мне район вилл, словно видела его впервые. Люди своим трудолюбием и прилежанием вновь пробудили во мне уважение к ним, хотя в скользящих мимо садах я не заметила ни души.
Я подъехала к перекрестку. Влилась в поток машин и решила, как только миную мост, свернуть на девятую магистраль, которая вела прямиком на запад; мне хотелось, чтобы низкое солнце слепило глаза, так, пожалуй, легче будет сделать последний решающий рывок. Нравилось мне и то, что девятое шоссе было уже, чем остальные, и не имело разделительной полосы.
Мне казалось, что никогда раньше моя голова не была столь ясна и рассудок столь трезв. В своем решении я оставалась твердой, рука не смела дрогнуть, вернее, она должна была дрогнуть преднамеренно.
До конца выжав газ, я пронеслась стрелой мимо тянувшихся впереди меня малолитражек. Сквозь слепящие лучи заката я жадно сверлила глазами дорогу, высматривая большие грузовики. Сгодилась бы и цистерна с живой рыбой. Довольно-таки эффектное зрелище: из отверстия в цистерне бьет водяная струя, вместе со сверкающим водопадом на асфальт сыплется радужная форель.
Вот мне и предоставился подходящий случай. Передо мной катил большой четырехугольный фургон, на его задней серебристой стенке гигантскими черными буквами было выведено название фирмы. Я была не в состоянии прочесть скачущие буквы. Мотор, как мне показалось, жалобно взвизгнул, когда я до упора нажала на педаль газа.
Почему рука, сжимавшая руль, не послушалась меня и дрогнула?
В больнице, после того как я пришла в сознание, мне разъяснили, что я вовсе и не врезалась в фургон. За секунду до столкновения я взяла влево и столкнулась с идущим навстречу старым расхлябанным «фольксвагеном». Подержанная малолитражка была куплена компанией студентов, их там набилось пять человек, как селедки в бочке. Двое парней скончались на месте, третьему пришлось ампутировать руку; одна из девушек из-за повреждения позвоночника на всю жизнь останется прикованной к постели, вторая отделалась так же легко, как и я.
Самое невероятное, что труп Катрин нашли на переднем сиденье «фольксвагена», на руках у погибших парней, причем одеяльце, в которое она была завернута, оказалось наброшенным на лица обоих студентов. Словно увечное и еще неразумное человеческое дитя хотело сказать: не смотрите на кисти моих рук, которые, подобно крыльям растут из плеч. Ведь я не птица, а всего-навсего человек.
Эту фотографию, сделанную дорожной полицией, демонстрировали на суде.
Нужно было установить истину, и они имели на это право. С какой стати щадить бездушного убийцу?
21
аса два-три я, пожалуй, подремал. Проснулся оттого, что кто-то настойчиво шептал мне на ухо: Майк, Майк! Я вскочил, как будто подброшенный пружиной, и сел. В непосредственной близости от меня никого не было. Может, померещилось, что Флер стоит рядом, на коленях. Это расплывчатое видение вызвало чувство неприязни. Не хотелось бы сейчас красться следом за Флер в виварий.
Голова раскалывается от боли.
Придвинуться поближе к костру нет смысла, угли уже давно погасли.
Печальная серость предрассветного часа и безжизненность бледного неба, казалось, проникли и в меня. Остальным повезло, проспят сумеречный миг, предшествующий наступлению утра и вселяющий в человека чувство безысходности: ты никому не нужный изгой. Если я останусь здесь и, дрожа от холода, примусь распутывать клубок зашедших в тупик мыслей, станет еще хуже. Странно, каждый день мы проклинаем жару, постоянно жалуемся, что нам нечем дышать в раскаленном воздухе каньона, а теперь такое чувство, будто в голове звенят ледяные иглы.
Майк, спрашиваю я себя, сохранилась ли в твоей душе хоть капля любви к ближнему?
Сохранилась, заверяю я себя.
Значит, надо подняться.
Боюсь, как бы хруст моих одеревенелых коленей не разбудил остальных. Нет, один лишь Фар поднимает голову. Собака смотрит мимо меня — вероятно, я слишком жалок, чтобы удостоиться ее взгляда. Да и вряд ли ее глаза различают что-либо в этом густом полумраке. А может, Фар привык следить за движущимися объектами. Кто знает повадки этих изысканных собак!
Я на цыпочках удаляюсь от спящих возле потухшего костра людей, я знаю, что надо принести из вивария. Ворох одеял и бутылку виски. Я хочу согреться, хочу, чтобы ледяные иглы в мозгу растаяли.
Я возвращаюсь, и ноша моя тяжелее, чем я предполагал. Выходя из вивария с перекинутыми через руку одеялами, я плечом задел подзорную трубу, которая висела на вбитом в стену гвозде. Прихватил и ее. Неужто одному Эрнесто обозревать в бинокль окрестности?
Повесив примитивный оптический прибор за ремешок себе на шею, я злорадно усмехнулся — ишь ты, оказывается, и на себя можно посмотреть со стороны — взгляни через бинокль правде в глаза, Майк! Ты уже давно не тот знаменитый микробиолог, ученый с мировым именем, чьи статьи печатались на многих языках и на кого возлагались большие надежды. Да и сам ты считал себя человеком выдающихся способностей.
И тут разом все рухнуло. Меня как будто вырвали из мира совершеннейших, мощно пульсирующих, беспрестанно растущих и развивающихся систем и кинули в какую-то студенистую массу, перестоявшую питательную среду, где не могли бы существовать даже микроскопические живые организмы, не говоря уже о человеке.
Теперь я оскудел духом, опустился до уровня ребенка-естествоиспытателя. В потайной пещере, образовавшейся в скале цвета киновари, я неделями листал и сортировал найденные в мусорных кучах книги; когда мне попадался мало-мальски серьезный, требующий определенной подготовки текст, я спотыкался, мне казалось, будто я вгрызаюсь в древнюю тибетскую грамоту, которую невозможно расшифровать. Лишь незатейливое содержание бульварных романов и сказок привлекало мое внимание, и я зачитывался ими, забывая все вокруг. После, осознав, что моим мозгам доступна лишь эта дребедень, я впадал в депрессию: моя ограниченность прогрессирует подобно болезни.
Я тихонько хожу вокруг своих товарищей и осторожно накрываю их одеялами, чтобы уснувшие тяжелым сном узники не очнулись от холода и отвратительный озноб не стал колотить их. Отдыхайте, друзья по несчастью. Никому из нас не ведомо, что сулит грядущий день.
Прежде я точно знал, чего жду от нового дня. Движение к захватывающей и волнующей цели было разделено на дни-звенья, и все они имели свою неповторимую окраску и содержание. Благословенное многообразие! Каждое утро в груди моей пылал жар новых свершений.
А остался лишь пепел воспоминаний.
Теперь ребенок-естествоиспытатель наблюдает за будничными вещами и по своей наивности воображает, будто видит больше, чем остальные, рядом с ним.
Я сижу скрестив ноги, набросив на плечи одеяло, и держу в руках примитивный туристский бинокль — всего лишь с трехкратным увеличением. Я нашел его в ящичке наполовину погребенной под грудой мусора машины. Драндулет не вызвал у Эрнесто ни малейшего интереса, он махнул рукой: ни к чему и вытаскивать на свет божий этакий хлам. Через заднее, без стекла, окно я нырнул в машину, словно рыба в обломки разбитого судна, — и вот получил в награду никчемную игрушку.
Но все же я могу наблюдать за тем, как пробуждается день.
Хотя не так уж много увидишь в эту трубу. Правый ее объектив поцарапан, часть света рассеивается. Я могу воссоздать судьбу бинокля: его забыли на морском берегу, и ленивая волна швыряла мокрый песок в отшлифованное стекло. Затем бинокль подобрали — оставлять мусор не подобает — сунули в ящичек машины, и больше никто его оттуда не вынимал. Пока к нему не потянулась рука бывшего блестящего ученого Майка, ныне отупевшего жителя колонии.
И вот выживший из ума узник дрожащей рукой подносит бинокль к глазам. На западном склоне каньона неподвижно стоят какие-то чахлые деревья. Пожалуй, их там десятка два. Если смотреть невооруженным глазом, то это просто-напросто цепляющаяся за край оврага поросль. Ах как восхитительно лицезреть вместо мусорных куч и отвесных скал грязно-красного цвета живые деревья. Похоже, что и наверху царит полное безветрие, сожженные палящим солнцем и потому лишенные листвы верхушки деревьев стоят подобно обуглившимся фитилям свеч на фоне бледного неба. Ребенок-естествоиспытатель не в состоянии определить породу деревьев.
По этому поводу не мешало бы сделать глоток виски.
Погрузившись в созерцание, я позабыл, что голова моя полна ледяных игл, которые необходимо растопить.
Чувствую, как они тают. Излишки воды каплями выступают на лбу. Наброшенное на плечи одеяло источает тепло.
Самочувствие мое улучшается, и я решаюсь подумать о вещах, которые в последнее время беспокоят меня.
Вчера вечером, когда мы жарили и уплетали мясо бедной Бесси, мне пришлось не раз прикусить язык, чтобы не спросить: скажите же наконец, что там у коровы — зоб, желудок или рубец?
Позже я старался припомнить марку той белой машины, на которой привезли тушу. Перед моими глазами четко вырисовывались очертания машины, решетка радиатора, расположение фар, но марка начисто вылетела из головы. Ну да ерунда, стоит ли переживать из-за этого? Можно и так: эта белая развалина, этот синий драндулет. Смешно, но я не помню и марки своей последней машины, той, на которой насмерть задавил людей. Случись мне обнаружить свою расплющенную машину на мусорной свалке, я, пожалуй, едва ли узнаю ее.
Деревья же на западном склоне карьера я все же смог бы узнать.
Может, у меня прибавилось бы мужества, если б я, скажем, знал, что там, наверху, влачит жалкое существование буковая поросль.
Миг восхода, должно быть, уже настал, хотя ничто пока не указывает на это. Неужели остановились часы? Нет, секундная стрелка движется по кругу. У меня хорошие старомодные часы. Холодные пульсирующие цифры электронных часов раздражают меня. Даже при полнейшем провале памяти я не забываю завести свои часы. Очевидно, солнце скрыто грядой облаков. Жалкая рощица там, наверху, потому и не розовеет. Подарит ли нам природа сегодня пасмурную погоду? Вот была бы благодать. Возможно, именно от этого палящего зноя и помутился мой ум!
Постепенно мгла рассеивается. Не помешало бы натянуть тент над спящими товарищами. Гудящая голова и неожиданно яркий, режущий глаза свет — едва ли приятно, чего доброго проснутся не в духе и, все больше и больше ожесточаясь, начнут препираться друг с другом, а я ненавижу ссоры, они действуют мне на нервы.
Хорошо, что солнце не торопится выглянуть. Темная, не тронутая яркими лучами рощица не предвещает быстрого наступления дня. Что, если сегодняшнего дня просто не будет? Лучше снова бархатный вечер, мерцание звезд, на небе встает луна, в ноздри проникает соблазнительный запах запекающегося мяса, а виски, если поднести стакан к пламени костра, приобретает золотистую окраску меда. Ощущение одиночества исчезает. Где-то поодаль, за твоей спиной, в темноте, звонко смеются добрые духи, своим смехом они вселяют в тебя надежду.
Сейчас вокруг лишь пронизывающая серость. Хоть начинай думать, что твои товарищи, неподвижно лежащие под одеялами, умерли от тоски.
По этому поводу надо сделать глоток виски.
Мы оба стережем их. Я и Фар. Уго привязал ему на шею колокольчик. Я смотрю на Фара в бинокль. Во всем мире нас теперь только двое, и больше не на кого обратить свой взор. Кончик восхитительного носа Фара влажно поблескивает, от дыхания приподнимается темная шелковистая шерсть на его висячих ушах. Но отчего пуст взгляд его глаз? Я наклоняюсь вперед, кручу бинокль и так и этак, чтобы получше разглядеть собаку. Фар смотрит мимо меня. Странно, что он не следит за единственным бодрствующим здесь человеком. Я запускаю руку в карман. Вытаскиваю платок и начинаю размахивать им. Естественной реакцией собаки было бы не спускать глаз с движущегося предмета.
Фар не обращает на платок ни малейшего внимания.
Эта собака слепа.
Ее белесые зрачки свидетельствуют о патологии.
На глазах у Фара бельмо.
У меня перехватывает горло.
Словно мне причинили зло и обманули.
Что проку от того, что я знаю: в наше время бельмо не только болезнь старости, но и недуг, сопутствующий загрязнению окружающей среды, он поражает и детей; в таком случае, вероятно, и молодых животных. Словно они не хотят видеть, как навсегда исчезает гармония, некогда присущая миру.
Мне снова приходится с помощью виски поддерживать свои силы.
На душе муторно. Чувствую себя виноватым перед Фаром. Все омерзительно.
Солнце больше и не желает вставать, каньон безмолвен, остывшие за ночь мусорные кучи источают зловоние.
Наверное, и мы, обитатели карьера, стали составной частью мусорной свалки. Где-то там, далеко, давно начался трудовой день. Люди мчатся в блестящих жестяных коробках к месту своей работы, чтобы встать за штамповочные прессы и множить мир вещей; они думают, что создают изобилие, а тем самым и счастье. Они считают себя творцами и ведать не ведают, что во имя мишуры рубят зеленую ветвь жизни.
Фар тоже жертва, хотя он ни черта не смыслит в гонке цивилизации, которая спит и видит, как бы воздать хвалу самой себе.
Жертва путалась под ногами у бредовой эпохи, так пусть лучше исчезнет на мусорной свалке.
— Фар! — шепотом зову я.
Фар удивленно навостряет уши, принюхивается и, уткнув нос в землю, медленно минует спящих, никого из них не задев, и затем нерешительно направляется в сторону только что раздавшегося голоса. Собака ступает осторожно, и даже колокольчик на ее шее не позвякивает. Хриплым голосом я повторяю ее имя.
Фар садится у моих ног. Я глажу его мягкую шерсть, под моей рукой бьется его сердце, поднимаются и опускаются ребра — я делаю глоток виски.
К сожалению, мой неосторожный шепот разбудил Эрнесто. Он поднимается. Щуря глаза, потягивается, разгибает колени, ворочает шеей, под тонкой рубашкой играют могучие мускулы. Подтянув брюки и не обращая на нас с Фаром ни малейшего внимания, он идет понятно куда. Оправиться. Не стоило бы и упоминать об этой ежеутренней процедуре, не придумай Эрнесто соответствующего ритуала.
В тот раз я не мог сдержать улыбки, когда рано утром, кликнув мужчин, Эрнесто объявил, что справлять малую нужду тоже должно доставлять удовольствие. Мы молча плелись следом за ним, вероятно, колебались, предпринимая такую странную совместную прогулку. Разве мы стадо? Мы все больше удалялись от вивариев, временами переходили на бег трусцой — в целях здоровья, — и я думал, что, быть может, Эрнесто прав: узник, обреченный на праздную жизнь, должен уметь превращать обыденное в развлечение. Очевидно, никому из нас раньше не доводилось бродить в тех местах, куда нас привел Эрнесто. Мы с интересом разглядывали огромную нишу, выдолбленную в стене карьера. В этом причудливом зале у края задней сводчатой стены ровным полукругом стояли бюсты. Хотя и разные по стилю, все они тем не менее были величественно-парадны и выполнены в бронзе, граните или мраморе, а один даже отлит из нержавеющей стали. Разглядывая выставку, мы начали понимать, что побудило Эрнесто собрать эту коллекцию. Из недр памяти мы выуживали лица, промелькнувшие на страницах газет, обложках книг, в журналах или на телеэкране. Перед нами были слепки, сделанные с диктаторов, узурпаторов, президентов, председателей и коронованных особ, либо перекочевавших в иной мир, либо свергнутых с пьедестала.
Переполненный мочевой пузырь не позволял нам расхохотаться — чего только не встретишь на мусорной свалке! Не только вещественный мир ветшает и ржавеет, но и честь, и слава. Сколько бы ни болтали о несокрушимости и вечном могуществе, но даже тысячелетняя держава может рухнуть как карточный домик. Кратковременность систем явление удручающее и одновременно вселяющее надежду. Нестачивающиеся зубы времени все сотрут в порошок, в том числе и недостойные проявления человеконенавистничества.
Я полагал, что согласно ритуалу, придуманному Эрнесто, нам придется облегчиться на глазах у знаменитостей.
Однако эта церемония потребовала от нас более отважных действий.
Рядовому человеку всегда хотелось покарать сильных мира сего. Хотя бы задним числом!
Каждый из нас мог выбрать объект по вкусу и помочиться бюсту на макушку. Пусть излишки воды, скопившиеся в человеческом организме, потекут по бровям, щекам, подбородку и выпяченной груди с высеченными на ней в ряд знаками почестей!
Во всяком случае, как-то странно было проделать это.
Мы чувствовали себя анархистами-экстремистами. Могли выразить протест против всякой зависимости и покорности. Могли излить себя в прямом смысле этого слова. Получайте! Мы вынуждены были терпеть ваши политические махинации, тайные и открытые сговоры, громкие лживые обещания — так вот вам! Народ недвусмысленно выразил свое мнение. Мы вправе гордиться собой: мы не утратили социальной памяти.
Облегчившись, мы вволю посмеялись. На какой-то миг мы перестали быть бесправными заключенными. Иллюзия свободы позволила нам распрямить спину.
И все же на следующее утро я уклонился от этого ритуала. Заметил, что моя независимость не понравилась Эрнесто. Я не мог ничего поделать, но мочиться на бюсты — такая форма борьбы казалась мне недостойной.
К тому же всей компанией ходить загаживать скульптуры означало бы подчиниться воле Эрнесто. Может, он вообразил себя некоронованным королем колонии? Во имя стремления к свободе следовало бы, наверное, и на него помочиться!
Слепой Фар неподвижно сидит подле меня, видно, приноровился к своему дефекту. Да и что еще остается слепому существу, кроме послушания? Хватило бы только подопечному опекунов!
Фару безразлично, встанет ли солнце или нет. Зато это не безразлично мне.
Я устал от странного балансирования на грани ночи и дня. Судьба — а может, что-то иное? — превратила меня в инфантильного естествоиспытателя, и я снова подношу к глазам жалкий туристский бинокль.
Деревца на краю каньона исчезли.
Современная техника способна за несколько минут поглотить маленькую рощицу. Однако ни машин, ни людей наверху не видать. Шум я бы услышал. А минный пояс? Фар даже не шелохнулся. Ведь не глухой же он: как только услышал мой шепот, сразу же подошел.
Отшвыриваю от себя бинокль с мутными стеклами.
Через край каньона сползает вниз какое-то облако. Захватывающее явление природы! Кажется, будто очень медленный мутный водопад невесомо повис над пропастью. И все же облако подчиняется силе тяжести: растягивается, но не становится разреженнее или прозрачнее. Очевидно, потоки воздуха из долины подгоняют эту как бы загустевшую массу и питают поднятое с земли облако с желтой взвесью, напоминающее теперь по форме высунутый язык. Может, там, наверху, разыгрались смерчи и вихри? Или где-то вдали бушует торнадо вместе с грозой и равновесие в природе нарушено?
В свое время нас привезли в колонию ночью, в закрытой машине. Мы не знаем, какова местность вокруг, не имеем понятия, далеко или близко от нас горы или леса, деревни или поселки. Плоскогорье, сказал Роберт. По-видимому, заброшенный ртутный карьер находится в изолированной от остального мира зоне, иначе какой-нибудь любопытный мог бы очутиться на краю каньона и заглянуть вниз. Пожалуй, придется все же поверить в существование минного пояса. Я не помню, что, собственно, произошло с Сэмом. Не утонул ли он в кратере? А вообще-то нас словно и не существует, мы никого не видим, и нас никто не видит. Сбившийся с пути Роберт не в счет.
За спиной слышатся тяжелые шаги.
Фар встает и машет хвостом. Он хочет быть добр ко всем. Слепота породила собаку-конформиста.
Выполнив свой ритуал, возвращается Эрнесто. Уж не знаю, какому историческому деятелю он указал сегодня его истинное место.
— Чертов хорек! — сквозь зубы цедит Эрнесто.
От неожиданности я вздрагиваю.
— Думаешь, ты в баре своей роскошной квартиры и можешь закладывать сколько душе угодно! Или позабыл, что здесь тюрьма? Нет, вы только представьте, каков барин! Сам себе король и повелитель! Кто позволил тебе в одиночку глушить виски? Здесь все обязаны считаться друг с другом! Спиртное должно быть поделено с точностью до грамма! А он тут уединился себе и рад! Эта белая манишка и знать не желает, что такое жизнь и страдания!
Я пытаюсь остудить гнев Эрнесто и протягиваю ему бутылку виски.
— Не пройдет! — рявкает Эрнесто. — Видали мы таких боссов — вытащат из кармана хрустящую бумажку и откупятся от назойливого типа! Думаешь, глоток виски заткнет мне рот, и я в знак благодарности похлопаю тебя по твоим тощим ляжкам?!
В ушах начинает шуметь, слушать эту плебейскую брань унизительно. Во рту появляется горький привкус. Я сплевываю.
Эрнесто бьет меня ногой в спину.
Я хватаю ртом воздух.
Ах, это за то, что я не скрыл своего презрения?
— Эй, вы, поднимайтесь! — орет Эрнесто. — Наши минуты сочтены! Взгляните еще разок на белый свет, прежде чем подохнуть!
Эрнесто указывает рукой на желтое вытянутое облако, которое, словно кончиком языка, касается дна каньона.
— Ни черта мы не соображали! — кричит Эрнесто. — Нас отправили сюда как подопытных кроликов, а теперь хотят отравить! На нас надвигается облако газа! Проклятые ученые! Чертовы белые манишки, только и делают, что умствуют! Сейчас проведут маленький эксперимент, отправят нас прямиком в царствие небесное — и тогда станет ясно, каким образом избавиться от сотен тысяч людей!
На его крик все поднимаются и спросонья начинают расхаживать взад-вперед. Фар едва слышно повизгивает.
Обитатели колонии не решаются повернуть головы, словно шейные позвонки у них не смазаны и заржавели. Возможно, не хотят встретиться лицом к лицу с новой опасностью. Будто и не замечают вытянутого вперед пальца Эрнесто.
Эрнесто ставит бутылку на землю перед носком своего сапога и безумным взглядом следит за надвигающимся облаком — одну из дальних мусорных куч уже накрыл этот ползущий язык, и она кажется желтой, словно ее посыпали серой.
Эрнесто потирает свои могучие ладони.
Я ничего не подозреваю.
Эрнесто хватает меня за воротник и поднимает на ноги.
Первые удары очень болезненны.
Потом я перестаю что-либо чувствовать и раскачиваюсь из стороны в сторону.
Откуда-то, словно из-под земли, раздаются возгласы, требующие прекратить избиение, и колокольчик на шее Фара звенит как погребальный колокол.
Эрнесто же продолжает молотить меня, и в его крике тонут крики остальных.
— Да, я убийца, но и вы тоже! Убирайтесь ко всем чертям! Я хочу отомстить! Чертов прохиндей!
Очевидно, он пыхтит, хотя я и не слышу. Но мое лицо обжигает его горячее зловонное дыхание.
Я измолочен, как боксерская груша.
Сквозь пелену вижу, что Эрнесто сидит на земле, держит обеими руками бутылку виски — якорь жизни.
Я изо всех сил стараюсь удержаться на ногах, но все клонюсь и клонюсь к земле, равновесие утрачено. Я опускаюсь на вытянутые руки. Чувствую, что силы иссякли, больше мне уже не подняться на ноги. Но я знаю, что должен уйти отсюда. Все равно куда. Во что бы то ни стало уйти. И почему бы не на четвереньках? Для животных ничуть не унизительно передвигаться на четвереньках. Наши далекие предки тоже не считали позорным такой вид ходьбы. И вообще, что такое стыд? Унижение? Условность, выдумка. Я должен уйти.
И я ухожу. Как животное. На четвереньках. Хорошо, что никто не издевается надо мной. Не наступает на пальцы. Я забыл, что все еще ношу обручальное кольцо. Разве я не развелся с Тессой? Ну да все равно. Пусть себе валяется в будуаре на помосте с кружевными трусиками на голове. Может, и Тесса расхаживает сейчас на четвереньках и с удивлением замечает на пальце обручальное кольцо. Может, кто-то наступает ей на руку и золотое кольцо, вдавливаясь, оставляет на коже болезненный рубец. Хорошо, что никто больше не глумится надо мной. Любому, даже Тессе, ничего не стоило бы уложить меня легким ударом ноги. Позади нарастает и стихает шум. По-видимому, я отошел на порядочное расстояние. Мне надо как можно быстрее уйти. Нет смысла медлить. Я двигаюсь дальше. Стукаюсь головой о жесть. Это машина. Снова машина! У нас много отличных машин. Невероятно трудно удержаться на трех точках опоры и дрожащей рукой шарить по кузову, чтобы найти ручку. Эврика! Мои пальцы нащупывают ручку. Сейчас распухшие бесформенные пальцы ухватятся за что-то жизненно важное. Дверца машины, скрипнув, открывается. Согнуться не могу, внутренности жжет как огнем. Человеку не встать на ноги. Надо преодолеть непреодолимый барьер. Что-то ведь я должен довести в своей жизни до конца. С невероятным трудом забираюсь на сиденье. Руки падают на руль. В лимузине стоит тошнотворный запах крови. Неужели это моя кровь пахнет так отвратительно? Да нет же, я все путаю. Меня ведь не ударили ножом, моя кровь во мне как в сосуде и никуда не вытекает. Это кровь Бесси. На этой самой машине вчера вечером перевозили мясо. Жарили его на костре и ели. Вот и нет уже иных ценностей, о которых стоило бы думать. Мне нельзя отвлекаться на посторонние вещи. Что-то я обязан довести в своей жизни до конца. Рука в запястье не гнется, и все же я поворачиваю ключ зажигания. Мотор несколько раз чихает, а затем начинает ровно шуметь под крышкой капота. Нога нащупывает педаль газа.
Машина срывается с места. Зловонная посудина только того и ждала, чтобы, изрыгнув, подобно дракону, огонь, помчаться. Я нажимаю на газ, проношусь мимо нашего лагеря, мельком вижу отскакивающих от потухшего костра людей, похожих на огромных лягушек. С бешеной скоростью я лавирую среди мусорных гор. Раздающийся за спиной грохот жести приводит меня в упоение. До чего же здорово задевать эти драндулеты!
Я несусь прямиком на желтое облако! Стелющийся язык наполнен каким-то непонятным веществом. Я, подобно стреле, вонзаюсь в студенистое сердце облака. Пусть они убираются ко всем чертям со всеми школьными премудростями: твердые, жидкие и газообразные состояния. Человеческий разум давно уже дошел до плазмы.
Все тонет в адском грохоте.
Вокруг ослепительно светло.
Очевидно, наконец-то выглянуло солнце.
22
ы инстинктивно сбились в кучу, готовые схватить друг друга за руки и удержать силой, если еще кому-то взбредёт в голову безумная мысль ринуться в неизвестность. Наши взгляды прикованы к одному и тому же: мы смотрим, как мусорная куча извергает огонь. Я со стоном говорю себе: Фред, почему ты не помешал Майку? Быть может, мы не умеем или не хотим думать о возможных последствиях? Мы вяло отчитывали Эрнесто, когда тот клял всех ученых и Майка в том числе. Наш лепет не смог заглушить в Эрнесто порыва злобы: он избивал Майка, а мы берегли свою шкуру. Или мы надеялись, наблюдая за грубой сценой, избавиться от тоски? Сонные, с похмелья, мы даже и не успели вмешаться. Равнодушие, просочившееся в мозг и тело, удерживало нас на месте. К тому же деликатный человек терпимо относится к причудам другого: почему бы Майку не передвигаться на четвереньках, если ему этого хочется! У каждого из нас свои маленькие уловки, помогающие освободиться от гнета. Пусть себе раскатывает на машине!
Сожаления сейчас бессмысленны.
Майка поглотило пламя. Мусорная куча полыхает.
Он по ту сторону черты.
После вынесения судебного приговора мне дали возможность увидеться с отцом.
Мир давным-давно изменился, тем не менее остатки его старой оболочки продолжают путаться под ногами, еще действуют прежние, ставшие бременем обычаи. Сердечный взгляд, доброе слово, прощание. О чем нам было говорить? Мы молчали и не смотрели друг на друга. Сквозь толщу моей накопившейся усталости не пробивалось никаких чувств. Если что-то и беспокоило меня, так это волосок на плече отцовского пиджака, но рука моя не поднималась, чтобы снять его. Скорее бы истекло время свидания и он ушел! Он уже было собрался уходить, мой сломленный горем отец, однако не мог повернуться к сыну спиной, ничего не сказав. Я видел, как открылся его рот, и весь съежился в ожидании удара. Сейчас я услышу упреки: процесс воспитания продолжается.
Я ждал обвинений: ты для нас с матерью не станешь на старости лет опорой, ты не ценил нашу любовь и заботу — все это он был бы вправе сказать. И тем не менее я не слышал ни слова о его переживаниях, ни единого упрека: какое преступное легкомыслие садиться пьяным за руль. Ты задавил людей насмерть. Отца беспокоило другое: почему у людей атрофировалось чувство самосохранения? Он долго размышлял над этим и во время последнего нашего свидания рассказал мне, к чему пришел в результате своих раздумий. Я сосредоточил все свое внимание, выслушал отца, запомнил сказанное, однако не в состоянии был глубоко вникнуть в смысл его слов. Меня ждала тюрьма — сумею ли я приспособиться? Не сломится ли мой дух? Удастся ли мне когда-нибудь освободиться от гнетущего сознания: я убийца. И вообще, возможно ли искупление? Я запутался в дебрях своих переживаний, и обобщенный ход мыслей отца показался мне даже оскорбительным своей отвлеченностью. Я втайне ждал, что после привычных упреков он утешит и подбодрит меня.
Сейчас, не отрывая глаз от мусорной кучи, где стихало бушующее пламя, и представляя себе чудовищное зрелище — обуглившееся тело Майка, я шепотом повторяю слова отца:
«В ожидании грозящей всем нам тотальной катастрофы человечество создает себе иллюзию освобождения путем самоуничтожения».
Крупица истины, высказанной отцом, тонет в шуме огня. Она никому не нужна, эта истина. Большей частью люди и не хотят сознавать, что их ждет и к чему они придут. Надеясь на то, что страдания преходящи, люди продолжают жить. Я бросаю взгляд на бледные лица своих товарищей. Эрнесто моргает — видимо, пытается сдержать слезы. На осунувшемся лице Флер лихорадочно блестят широко раскрытые, остекленевшие глаза.
Мы потеряли Майка, о котором так мало знали.
Современный человек не хочет заглядывать в душу своего ближнего. Нет сил вдобавок к собственному грузу взваливать на себя еще и чужой. Международное управление по надзору за тюрьмами подвело нас всех под одну статью — мы несем наказание за схожие преступления — к чему детали? Нюансов и оттенков у каждого что песку морского, разве успеешь перебрать такое количество?
Сейчас мы снова спаяны общим чувством — оплакиваем Майка и испытываем ужас перед грозным желтым облаком, которое все ближе и ближе подбирается к нам.
Слизнет ли нас с лица земли ползущий через мусорные кучи язык?
Мы лишены возможности действовать. У нас нет средств, чтобы рассеять это облако, отступать некуда и выбраться из этой гигантской ямы немыслимо — нам остается окаменеть от страха. В наши дни опасность, угрожающая жизни человека, не имеет отчетливого облика реального врага. Мы совершили преступление вовсе не из вражды к тем, кто погиб. Все в мире стало расплывчатым и случайным. Можно ли считать поводом к убийству фанатичную ненависть или, скажем, патриотизм?
По сравнению с нами мой отец и его товарищи, будучи в заключении, жили в неизмеримо более тяжких условиях. Приступ безудержного смеха загасил бы свечу жизни, едва теплящуюся в их истощенных телах, расскажи им кто-нибудь о вольных тюрьмах будущего. У каждого свой виварий, ни тебе надзирателей, ни построений, ни перекличек и принудительной работы; продукты — по заказу, в них даже входит определенное количество виски, общение между собой свободное, работа — ради времяпрепровождения, женщина — для услады глаз и тела, не жизнь, а сказка.
У них все было иначе. Ограда из колючей проволоки, через которую пропущен ток, на вышках часовые — палец на спусковом крючке; стукачи и доносчики среди заключенных; голод, нужда, холод, газовые камеры и виселицы; пытки и чудовищные медицинские эксперименты над беспомощными и беззащитными людьми, не говоря уже о крематориях, — моему поколению и не представить себе всего этого.
И все же они верили в спасение. Дети разумного в прошлом мира, они были убеждены, что временно попали под власть маньяков. У них не возникало сомнения, что безумная система, жертвами которой они стали, явление локальное и недолговечное. Рано или поздно рехнувшихся дикарей отстранят от власти и вновь будут восстановлены гуманистические принципы. Страшное время следовало пережить и дождаться освобождения — справедливость восторжествует.
Была надежда, которая придавала силы, побуждала действовать, чтобы и со своей стороны ставить палки в колеса чудовищному механизму.
Современный человек знает слишком много. Иллюзии рассеялись. Он понимает, что в один прекрасный момент жизнь на всем земном шаре может кончиться. Даже примитивные племена, укрывшиеся в девственных тропических лесах Филиппин и живущие в каменном веке, едва ли устоят перед разрушительной силой.
Мы стоим подобно изваяниям, так, будто наша жизнь уже прожита. Кто знает, может быть, мы мысленным взором видим свою собственную гибель на костре отбросов цивилизации и говорим себе: ведь вот Майк оказался первым, похоже, ему повезло? Миг — и все позади. Медленно надвигающееся облако, переполненное тяжелым желтым веществом, должно быть, несет с собой мучительную смерть, длительную агонию. Или мы здесь, в этой расселине земной коры, последние живые существа, букашки, которых огромная слепая сила поначалу упустила из виду!
Я украдкой щиплю себя за руку. Фред, мысленно спрашиваю я себя: неужели это и впрямь ты? Мне хотелось бы вытеснить из сознания навязчивый вопрос, в котором кроется издевка. Мой внутренний голос вправе смеяться надо мной, до чего же нелепыми оказались мои устремления! Я был эгоцентричен, и мое самоосуществление мало чем отличалось от самоосуществления животного. Возможно, именно из-за наличия подобных мне инертных по отношению к внешнему миру индивидуумов распоясались садисты, полагающие, что могут действовать безнаказанно. Вдруг я невольно повинен в том, что змеиное жало желтого облака с шипением подкрадывается к нам?
Я, дурак, верил, что стоит мне воспитать в себе смелость, силу и грубость, как я начну совершать поступки, достойные мужчины.
Надо лишь пройти небольшой этап, чтобы избавиться от затянувшейся инфантильности, достичь непоколебимой уверенности в себе, и я тут же совершу что-то выдающееся!
В один прекрасный день я почувствовал: с этой минуты родительскому давлению должен наступить конец. Пусть не вмешиваются в мою жизнь, теперь я буду делать все, что мне вздумается. Во мне бушевали азарт и отвага, и вдруг меня охватила растерянность. Хоть начинай оплакивать свою недавнюю юность, но вернуть упущенную гонку на мотоцикле — в кожаной поскрипывающей куртке и черножелтом полосатом шлеме на голове — я не хотел. Снежные горы Норвегии тоже не привлекали меня, не будили никаких чувств и пустынные, малонаселенные места, теперь я испытывал потребность находиться в гуще людей, которые помогли бы мне избавиться от робости и неловкости.
Я хотел, чтобы в ушах отдавался гул человеческих голосов; жаждал услышать обращенные ко мне слова, намеки, шепоты. Я хотел окунуться во все это так, чтобы всеми органами чувств, каждой порой ощутить кипение жизни.
Я ощупью искал верный путь.
Поначалу я стал вечерами приезжать к стоянке перед оперным театром. Я опускал окно своей спортивной машины, опирался на него локтем, другая рука небрежно лежала на руле, и наслаждался созерцанием публики. Поблизости от меня стояли лимузины всевозможных марок. Может, они уже нашли приют на здешней мусорной свалке? Из лимузинов выходили стройные женщины, сновали взад-вперед, стуча каблучками, запах духов смешивался с едким запахом бензина, до меня долетали сдержанные слова приветствий, которые растворялись в жарком летнем вечере подобно тому, как растворяется и оседает на улицах раскаленная за день городская пыль. Сквозь шуршание шин время от времени доносился освежающий шум фонтана, это настраивало на ожидание таинственных случайностей. Затаив дыхание, я прислушивался к звуку приближающихся шагов: сейчас кто-то остановится подле открытого окна машины, наклонится и тихо-тихо скажет что-то дружеское и поднимающее дух. Парящие в воздухе голоса и запахи, зажигающиеся фонари, вечерняя неторопливая толпа — все это заставляло сердце биться сильнее, во мне поднималось скрытое до сей поры необъяснимо-сладостное желание.
Я часто приезжал сюда к окончанию спектакля и ждал, что какая-нибудь элегантная дама по ошибке откроет правую дверцу моей машины, опустится на сиденье и только тогда заметит, что перепутала автомобиль. Сколько раз пола шелковой накидки, наброшенной на вечернее платье, касалась блестящего бока моей спортивной машины, но случай, которого я ждал, так и не выпал на мою долю.
Постепенно интерес к оперному театру угас. Я с грустью понял, что здесь не стоит искать возвышенных переживаний, приходить в восторг, будучи предоставленным самому себе, не имело смысла, я не сумел влиться в экзальтированную человеческую массу большого города.
Мне ни разу не пришло в голову пойти в оперу, для меня было бы ужасно пригвоздить себя на несколько часов к обитому бархатом креслу; я получал удовольствие лишь от инструментальной музыки, арии и дуэты повергали меня в глубочайшее уныние.
Отныне я стал вечерами медленно прогонять машину вдоль тротуаров, находясь в плену иллюзий: будто я шагаю в потоке людей. Туда же, куда и они. Но вскоре эти иллюзии осточертели мне. Я вынужден был признаться, что меня в равной степени мучает как одиночество, так и желание вырваться из него. Я не отдавал себе отчета, какое из этих состояний тяготит больше — пожалуй, ожидание. Мне казалось, что все остальные люди дождались того, чего ждали, и пришли к тому, чего хотели. Я считал себя исключением и только позже понял, что в каждом большом городе полным-полно таких, как я. Я не относил себя к числу робких, просто я находился во власти ложных представлений, будто бы кто-то должен найти меня, ибо только в этом случае встреча окажется полноценной. Я убедился в крайней скудости своего жизненного опыта и боялся, что если буду по собственной инициативе искать спутника и друга жизни, то смогу потерпеть неудачу. Возможное разочарование уже заранее сделало меня ранимым. Меня пугало, что такой неловкий в общении человек, как я, мог сделаться объектом насмешек, вызвать высокомерное к себе отношение, меня могли запросто обвести вокруг пальца. Страх осквернить душу сковал меня.
Вид влюбленных парочек и гогочущих компаний приводил меня в бешенство. Им живется просто, я же вечно мучился мыслью, что стоит мне привязаться к кому-то, как нежность тут же даст трещину и из образовавшихся щелей на поверхность вылезет пошлость.
Не испытывал ли Майк нечто подобное?
Может, и он устал от нетерпеливого ожидания встречи с родственной душой, мечтал о тепле, которое даст радость откровения: есть все же кто-то, кто с уважением относится к моей личности, к моему духовному миру и образу мыслей.
Пламя, бушевавшее в мусорной куче, стихло, синие язычки огня пляшут на обломках взорвавшейся машины, поздно крикнуть: Майк, возможно, мы потеряли друг друга раньше, чем успели обрести! Он уже ничего не услышит, а остальные, чьи души закрыты на замок, ничего бы не поняли. У каждого человека свой код, и не так-то легко подобрать к нему ключ.
На меня словно повеяло холодом.
Мысли унеслись прочь от угрожающего желтого облака. Что, если с нами уже происходит нечто непонятное и доселе неизведанное?
Мои товарищи, сидящие с удрученным видом, оторвали взгляд от пламени, поглотившего Майка, и теперь жадно смотрят на серое, все более темнеющее небо. Я тоже задираю голову.
Накрапывает дождь.
Вслед за каплями сверху начинает просачиваться свежий воздух, и в ноздри проникает давно позабытый запах моря. Странно, что выдаются дни, когда не печет солнце. Похоже, никто еще не решается поверить в дождь. Чудес не бывает. Разве на бугристой поверхности карьера смогли бы вырасти и зацвести кусты, которые светлели бы под низким темным небом, подобно пушистым сугробам?
Здесь, в бывшем ртутном карьере, мы все время дышали черт знает каким воздухом, какой-то непонятной смесью, в которой все-таки было и чуть-чуть кислорода, — мы же не задохнулись! Сюда, словно в котел, все больше и больше вливалось пыльного зноя; скалы цвета киновари выделяли ртутный пот, к тому же продукты распада мусорных куч, едкие газы и испарения изо дня в день отравляли нас.
Тяжелые капли дождя отскакивают от спекшейся земли, падают обратно, катятся словно шарики ртути и покрываются слоем пыли.
Эрнесто делает знак рукой и первым идет в сторону вивариев. Он не оборачивается, поскольку не сомневается, что остальные гуськом покорно последуют за ним. Может, проявляет заботу, приглашая нас укрыться от дождя? Или по привычке командует? Или думает, что кажущийся невинным дождь таит в себе очередную опасность?
Жаль идти в укрытие, не такой уж сильный этот дождь, однако сейчас не время проявлять упрямство, ведь Эрнесто, если на него вновь найдет порыв злобы, сможет еще кого-нибудь довести до состояния отчаяния. К тому же, возможно, именно сейчас мы спаяны как никогда раньше?
И тем не менее каждый забирается в свой виварий, каждому хочется побыть наедине с собой.
Я сажусь на пол вагона и смотрю на дождь как на нечто нереальное.
Возможно, взмахом руки Эрнесто хотел сказать, что мы недостойны такой благодати — стоять под чистым, освежающим дождем.
Этика заключенного?
И все-таки в жизни немало забавного: открыв рот и вытянув шею, я словно кузнечным мехом вбираю в себя струящуюся в открытую дверь прохладу — краду свежий воздух.
Почем я знаю, быть может, в больших городах уже вошел в обиход новый термин — «похититель воздуха». Ретивые, приноровившиеся к обстоятельствам субъекты открывают люки и клапаны на тех установках, которые производят обогащенную кислородом и озоном дыхательную смесь, чтобы набрать полные легкие живительного свежего воздуха; усталые и пресытившиеся свежестью, они уходят, но отнюдь не как воры — карманы пусты, и даже в руке ничего нет.
Все указывает на то, что настоящее, особенно же будущее принадлежит абсурдным ситуациям.
Разъезжая на машине по центру города, я, как последний идиот, искал старые проверенные ценности — близость, доверие, верность — и остался на бобах. Я бы не сумел запрыгнуть на подножку этого пугающе непонятного поезда жизни, вот я и нашел противоядие мучившему меня состоянию тревоги — бутылку.
С тех пор в углу моего гаража всегда стояли про запас крепкие напитки. Парочка изрядных глотков — и за руль. В голове легкий шум, поэтому я ехал осторожно, хотя пьянящее ощущение отваги подстегивало меня. Однажды я снова поставил свою машину перед оперным театром, но не остался сидеть, развалившись на мягком сиденье, я был по горло сыт ожиданием. Чуть ли не бегом я направился на те улицы, где определенного рода близость можно было купить за деньги. Сердце храбро билось в груди — ведь люди, вступающие в сделку, одновременно и связаны, и разделены дистанцией. Коль скоро я оплатил счет, никто не вправе насмехаться надо мной, задевать и водить за нос. Меня защищала этика свободного рынка. Я считал самыми подходящими для себя именно уличных девиц. Мне были бы доступны и более дорогие женщины, но я не хотел связывать себя с какой-то определенной дамой, которая находилась бы на моем содержании: повторные встречи, звонки, огласка. Уж если я вынужден покупать отношения, то пусть они будут анонимными, тогда душа не погрязнет в скверне. На первых порах достаточно мимолетных встреч — в поисках разнообразия, в дальнейшем я, очевидно, сумею ориентироваться получше, чтобы достичь более высокой ступени человеческих отношений. Я не сдался и не отказался от мечты о совершенстве.
Полный решимости, я шагал по темным боковым улочкам, дабы заключить недвусмысленную сделку. После выпитого виски я чувствовал, что стыдливость моя улетучилась. Я пришел с целью купить и мог разглядывать выставленный товар так же обстоятельно, как и любую витрину.
Я прохаживался, засунув руки в карманы, — прежде всего надо осмотреться.
Меня ошарашила система экспозиции. Женщины стояли каждая на своем определенном месте. Сделав еще один круг по «улицам веселой жизни», я отмерил шагами расстояние между проститутками, ожидающими клиентов: уличный фронт был отмерен и поделен с поразительной точностью. Ошеломляющее открытие для инфантильного юнца! По своей наивности я предполагал, что к вечеру, то есть к началу рабочего дня, девицы собираются стайками, изображают встречу школьных подруг на углу улицы, перебрасываются шутками, смеясь, запрокидывают голову, поворачиваются лицом к ближайшему фонарю, в струящемся от него свете сверкают зубы, и заинтересованные в товаре прохожие могут сделать свой выбор, не оскорбив чувств продажной женщины. Незаметный жест, и одна из барышень покидает своих спутниц — парочка удаляется. Маленькая сценка: спешивший на свидание воздыхатель явился.
Реальная жизнь развеяла мои представления. Уличные женщины с мрачным видом стояли раздельно, каждая на своем сторожевом посту. Очевидно, ни одна из них не смела сунуться в чужие владения. Сравнение, которое пришло мне в голову, ничуть не позабавило меня: собаки, подняв ногу, отметили границы своей территории.
Порция виски не позволила сомнениям взять надо мной верх, я испытующе заглядывал в лицо каждой женщине. Никто из них не прятал глаз. Но, как ни странно, ни с одной я не встретился взглядом. Они тоже смотрели на меня, однако их глаза были устремлены куда-то в бесконечность, два параллельных луча шли сквозь меня, я не был препятствием, вероятно, как и стена дома на противоположной стороне улицы.
Наконец, выбор был сделан — несмотря на бесконечные хождения взад-вперед, все же необдуманный; боясь, что пары спиртного выветрятся и моя затея так и останется неосуществленной, я подошел к одной из девиц поближе и по ее взгляду увидел, что это стоящее в ожидании существо все же способно на контакт. В ее глазах молниеносно зажегся притворный блеск, теперь они видели только меня, словно мою прозрачную до этого момента голову обменяли на другую.
Куда идти?
Меня повели в дешевый отель.
Девица оказалась не из болтливых. Слава богу, что я не прихватил с собой какую-нибудь балаболку. В номере она дала мне время на то, чтобы освоиться, и я смог понаблюдать за ней. Волосы, или парик, — последний крик моды: тонкие крученые проволочки, торчащие в разные стороны. Лицо чрезмерно вытянутое, на котором доминировал подбородок, этот недостаток женщина попыталась скрыть блестками, наклеенными на обе скулы. Однако похоже, что в частной жизни девушка была опрятной и бережливой: она сняла медальон, поцеловала его и повесила на крючок. Подняла и сложила оброненный кружевной платочек и поглубже засунула его в карман жакета — каждая вещь стоила денег, и ничто не должно было потеряться.
Молча, как само собой разумеющееся, она возилась со своими украшениями и тряпками, словно находилась в комнате одна.
Впоследствии мне встречались и такие, кто старался своими историями затронуть мои чувства. Любительницам поболтать, которыми владело непреодолимое желание поговорить о жизни, я не давал морочить себе голову. Шлюхи никогда не вызывали у меня жалости. Все люди, которым платят за их труд, торгуют собой. Так уж устроен мир, что приходится продавать себя — либо свой ум, совесть, талант, нервы, умение, либо свое искусство любви. Принципиальной разницы нет, и непонятно, почему о проституции говорят большей частью в связи с продажными женщинами. К чему фальшивое сочувствие? В каждой области есть свои неудачники и свои счастливчики.
Меня тревожило нечто совсем другое.
Я стал слишком часто прибегать к услугам уличных женщин. Привык к дешевым гостиницам; скрипучие лестницы и двери, тусклые лампы, потертые ковры, булькающие трубы и зловонные номера уже не вызывали у меня отвращения. Правда, я все в возрастающих дозах употреблял виски, чтобы одурманить себя. Меня пугало, что я попал в замкнутый круг. Нигде я не заметил моста или трамплина, чтобы спастись и прийти к иному, более высокому уровню отношений. Туда, где бы я мог надеяться обрести что-то подлинное и полноценное.
Жить без душевного общения я уже не мог.
Каждый раз, перед тем как выйти из дому, клялся себе: сегодня я отправляюсь в темные переулки в последний раз. Завтра я начну новую жизнь. Ведь эти дешевые гостиницы так и не смогли избавить меня от тоски.
23
се побежали в свои виварии, спеша укрыться от дождя, мы с Фаром оказались последними. Редкие крупные капли просачивались сквозь рубашку и по одной стекали по голой спине, впитываясь в брючный пояс. Капающая с неба вода, похоже, доставляет удовольствие Фару, собака идет за мной следом, ее пушистая шерсть липнет к туловищу, и Фар кажется каким-то обтекаемым. Я замедляю шаг, Фар подходит к ноге, и я похлопываю его по шее. Вероятно, пес понял, что означает проявление с моей стороны дружеских чувств, — ничего, мы оба с тобой в расцвете лет, мы во всех отношениях тянем на господина и его собаку, у нас горделивая осанка и крепкие мускулы. Я не намерен, как Майк, терять самообладание. Да, нам от души жаль его. Нельзя поддаваться отчаянию, на то тебе и дан разум. У кого собачье чутье, у кого человеческая сообразительность. К тому же надо надеяться на счастливую случайность.
Только что мы были бессильны перед надвигающимся облаком, которое, подобно языку какого-то чудовища, тянулось к нам через мусорные кучи, а вот гляди-ка! Пошел дождь — просто чудо в этом иссушенном месте. Войско крошечных капель пробивает лохматое желтое облако, вода впитывает в себя отравляющие вещества, переносит их на поверхность земли, там они исчезают в дерне и становятся для нас неопасными.
Вот уже и рассеялись контуры еще недавно такого зловещего облака. А может, опасности и не было, нам ведь доводилось слышать о миражах, и не исключено, что наша тревога вызвана всего-навсего небесным отражением. Черт его знает! Я с незапамятных времен пытался внушить себе: Уго, не стремись докопаться до сути происходящего, ограничься объяснением каких-то моментов; оставайся в границах близкого тебе осязаемого мира, иначе понапрасну сведешь себя с ума и все станет нестерпимым и отвратительным.
По чистой глупости я начал между делом размышлять о жизни; пропал сон, и нацарапанные в календаре крестики, казалось, обрели какой-то зловещий смысл.
Вероятно. Майк и погиб оттого, что зашел в своих мыслях в тупик.
Гопля! Мне нравится моя способность с легкостью запрыгивать наверх и приземляться точно на пол вивария. Для Фара я постелю коврик в дверях.
— Ко мне! — командую я Фару.
Собака повизгивает.
С чего это она скулит! Неужто большой собаке трудно прыгнуть на метровую высоту!
Я настойчивее повторяю свою команду.
Фар подчиняется и прыгает. Он ударяется головой о дверной косяк, падает, звякнув колокольчиком, и с приниженным видом остается лежать, уткнув нос в землю. Я выбираюсь из вагона, мои движения осторожны, словно и я могу ушибиться. Присаживаюсь рядом с собакой на корточки, поднимаю ей морду и смотрю.
Будь все проклято! На глазах у собаки бельмо.
Они спихнули нам увечное животное, какое издевательство!
В колонии самообслуживания у нас не должно быть никаких, даже самых маленьких радостей. Новомодный садизм! Хотят еще больше зажать нас в тисках отчаяния и превратить нашу жизнь в ад. Капля за каплей — на что еще способны их злобные умы, чтобы осквернить наши чувства? Мерзавцы!
Теперь не вызывает сомнений, что военные маневры в этом карьере не случайность. Пусть узников каньона терзает страх, пусть им будет невтерпеж здесь. Пусть живут среди смердящих мусорных куч, вдыхают ядовитые ртутные пары, и пусть им составит компанию слепой пес.
Для бунта нет сил. Да и за кого или против кого бунтовать? Сил хватает лишь на то, чтобы взять Фара на руки и поднять в виварий. Я баррикадирую дверной проем первым попавшимся под руку барахлом, чтобы собака не свалилась вниз. Теперь мы уляжемся рядом на полу.
Я жду, чтобы дождь с шумом обрушился на крышу, но, увы, по ней по-прежнему стучат лишь редкие капли.
В свое время я легко и безболезненно мог высвободиться из-под какого угодно тяжелого гнета. Теперь же во мне как будто что-то надломилось. Без конца приходится подбадривать себя.
Испокон веков бесчисленное множество людей выходило из тюрем закаленными. Нельзя падать духом; Майк — предостерегающий тому пример.
Я не должен быть уничтожен как личность из-за ненависти, которую питала ко мне Виргиния. Она на своей машине неотступно следовала за мной, и это привело к катастрофе. И о чем только я думал, предоставив машине катиться на холостом ходу? Неожиданно скользкий участок дороги, и я потерял управление. Однако несчастье не должно стать началом моего конца. Тот, кому в жизни в общем-то везет, должен учитывать, что где-то впереди его подстерегает роковой миг, который оборвет доселе безоблачное существование, придавит и потрясет тебя. Преуспевающий человек должен всегда оставаться начеку, чтобы в нужный момент включились защитные механизмы, помогающие смягчить удар. В тот раз, в баре, когда мы с Виргинией выясняли отношения, я внезапно почувствовал, что мой душевный защитный барьер истончился, в нем появились бреши — я стал заполнять эти пустоты спиртным. Защитные механизмы не сработали. У меня была сотня способов избавиться от Виргинии, я же воспользовался самым примитивным — стал удирать на машине.
В последние годы я слишком интенсивно работал, и это дало себя знать. Вероятно, истощились запасы сил. Забота о впавших в отчаяние женщинах вымотала меня. Когда я сидел с Виргинией в баре, на меня нашло полнейшее отупение, слова иссякли, я был по горло сыт всем, и Виргинией в том числе. Пусть оставят меня в покое!
В юности я был уверен, что страстно люблю Виргинию. До чего же глуп человек в этом щенячьем возрасте. Однако нельзя отрицать, что косвенно Виргиния помогла мне, на пустом месте я бы не сумел придумать такой оригинальной и доходной профессии, которая к тому же давала возможность весьма разнообразно проводить время.
Я знал Виргинию чуть ли не с детства. Но заметил ее, пожалуй, лишь на выпускных экзаменах. А сблизились мы еще позже, следующей весной после окончания лицея. К тому времени я уже полгода работал в банковской конторе и должен сказать, что эта должность меня не вдохновляла.
Летний сезон еще не начался, а я уже давно ходил купаться. В тот вечер бушевал шторм. Я пытался войти в воду сквозь накатную волну, но бутылочно-зеленая лавина отшвыривала меня назад, на прибрежную гальку. Мои усилия не увенчались успехом. Море вскипало с невиданной силой. Но я был упрям. Стоя на полосе пляжа и тяжело отдуваясь, собирался с силами для новой атаки. Черт принес на пустынный берег какую-то девушку — это оказалась Виргиния. Понятия не имею, что ей понадобилось там в этакий шторм. Может, пришла полюбоваться на огромные волны. Ведь постоянно говорят и пишут о том, что шум моря вызывает у людей наплыв чувств, взметающиеся в воздух водяные массы и брызги заставляют душевные струны звучать подобно арфе.
В тот раз море было враждебным мне. Открытым ртом я жадно вбирал в легкие соленую водяную пыль, и чувство досады все больше и больше овладевало мною — я ни в какую не хотел отступать, и тем не менее мне пришлось. Я родился и вырос в курортном городе и терпеть не мог лето, когда стекается тьма-тьмущая отдыхающих и все внезапно становится чужим, вселяющим беспокойство, неуютным и каким-то липким. Вероятно, такое же беспокойство ощущали и мои родители, поэтому в летнее время мы жили в пансионе маленького приморского городка, расположенного в горах. На его узких улочках, которые то и дело переходили в лестницы и где, несмотря на изменившиеся времена, товар все еще развозили на осликах — даже длинные булки, которые мать приносила по утрам от булочника, казалось, пахли этими осликами, — можно было спокойно бродить и в самый разгар лета, не опасаясь, что кто-то отдавит тебе пальцы или наступит на пятки.
Но конечно же маленький, прячущийся в горах городок был скучноват своей размеренной жизнью — сколько можно бродить среди мраморных саркофагов высеченного в выступе скалы кладбища, средь осыпающихся букетов роз и розмариновых кустов? — поэтому весной, до того как нагрянут отдыхающие, надо было взять от моря и жизни все, что можно.
Оттого-то я и чувствовал себя в тот вечер оскорбленным — море вышвырнуло меня на берег, словно пробку, и Виргиния застигла меня в тот момент, когда я, униженный, отдувался на ветру.
Она смахнула нить водорослей с моего уха и крикнула сквозь шум и рокот, что как раз сегодня вычистили их бассейн, напустили туда воду и мы могли бы сходить искупаться.
До этого времени я не бывал у Виргинии. Знал, что ее родители владельцы отеля «Апельсиновая роща», и представлял себе апельсиновые деревья с золотыми плодами на карточках меню. Подобные успокаивающе-старомодные эмблемы очень нравятся туристам и отдыхающим.
Я принял предложение Виргинии, и мы стали медленно подниматься наверх, в город. Идя следом за ней по узкому тротуару, я имел возможность разглядеть девушку. На Виргинии были светлые туфли на низком каблуке, полудлинная белая в синюю полоску юбка и облегающий красный свитер. Она еще не успела загореть, кожа лишь слегка порозовела, и когда Виргиния время от времени оборачивалась через плечо, чтобы перекинуться со мной какой-нибудь ничего не значащей фразой, я видел ее по-детски голубые глаза.
Когда мы приблизились к стоящему на уступе отелю, меня удивило количество протоптанных там дорожек, раньше мне не доводилось бывать подле этого здания, хотя издали я сотни раз видел неоновую вывеску «Апельсиновой рощи». Да и что могло привлекать меня здесь? Таких погруженных зимой в спячку, а летом кишащих людьми мест было вокруг великое множество. Ранней весной, с первым ветром, в нашем городе начинались срочные малярные работы, гостиницам придавался свежий вид, и запах краски распространялся повсюду.
«Апельсиновая роща» тоже была готова к приему отдыхающих и туристов. Терраса со зданием отеля, бассейном и садом оставляла впечатление, что все здесь до последнего дюйма либо свежепокрашено и отполировано, либо натерто до блеска — даже кустарник в глубине сада казался причесанным. Плавательный бассейн, облицованный ярко-голубым кафелем, был до краев наполнен кристально-чистой водой — вероятно, постояльцам морочили голову, рассказывая о горном источнике и трубопроводе. Вокруг бассейна в ожидании солнечного тепла и приезжих стояли в ряд опущенные зонты от солнца; под балконом высилась гора сложенных шезлонгов.
Вскоре мы с Виргинией уже плескались в прохладной вод, бассейна, плавали наперегонки из одного его конца в другой, затем вылезли, отряхнулись, как собаки, несколько раз обежали вокруг бассейна, чтобы согреться, оставив на вычищенных до блеска каменных плитах мини-пляжа множество мокрых следов, и снова кинулись в воду.
Потом босиком мы прошли через открытое кафе в дом, ступая по ковровому покрытию холла, которое напоминало только что подстриженный газон, и опустились на тумбы перед стойкой бара. Виргиния позвала какого-то Леона, и сразу же словно из-под земли вырос кудрявый смуглый молодой человек и подал нам аперитив. С того времени я стал частым гостем «Апельсиновой рощи». Иногда мы ужинали в пустом ресторане вместе с родителями Виргинии.
Когда подавался кофе, нам с Виргинией приходилось порой выступать в роли своеобразного жюри. Отец Виргинии держал нейтралитет, он любил подчеркнуть, что слух у молодых людей более острый, пусть они и решают. Таким образом, Виргинии и мне. приходилось оценивать подготовленный ее матерью к летнему сезону репертуар, состоящий из пародий. В этом году мадам решила развлечь гостей отеля, имитируя знаменитого Уильяма Ксебека. Для того чтобы наши замечания были дельными, строгими и справедливыми, мадам включала запись самого Уильяма Ксебека, вслед за этим ставила кассету с музыкой и пела за поп-певца. Закрыв глаза, мы могли бы сказать, что сам прославленный Уильям явился в этот скромный отель, чтобы выступить перед узким кругом. Подражательские способности мадам были бесподобны. Слушателям оставалось лишь смеяться и горячо аплодировать. Отец Виргинии усмехался, щурил глаза и недоумевал, почему женщина с такими фантастическими способностями вышла замуж за такого заурядного человека, как он. Мадам касалась губами щеки мужа и улыбалась с отсутствующим видом. Очевидно, эта слегка грустная мимолетная улыбка имела под собой какую-то почву, поскольку отец Виргинии тут же начинал давать клятвенные обещания, что расширит свои владения; таким образом, и мне, школьному приятелю Виргинии, довелось услышать, что в ближайшее время они приберут к рукам соседний участок земли и построят там еще один отель. Отец Виргинии назвал архитектора, у которого собирается заказать проект, что же касается строительного материала, то самым рациональным он считал монолитный бетон; ту часть своего теперешнего участка, где раскинулись декоративные кусты, он собирался пожертвовать под низкий кухонный блок, соединяющий оба здания; там же задумал разместить и хлебопекарню — таким образом, можно было иметь не только фирменные блюда, но и фирменные булочки и пирожные.
Фантазия отца Виргинии разыгрывалась, он принимался говорить о казино, висячем зимнем саде и черт его знает о чем еще — во всяком случае, он изо всех сил старался доказать, что он не какой-то там бездарный человек и благодаря грандиозным замыслам все же достоин своей талантливой жены.
Отец заливал до тех пор, пока Виргиния не начинала смеяться. Дочь с невинным видом смотрела на папашу и напоминала ему, что эти же самые заверения она слышала еще в детстве. Пусть отец не обижается, но зачастую обстоятельства оказываются сильнее человека. Что ж, она лишь повторяла услышанные когда-то от самого отца оправдания, почему планы не претворяются в жизнь. Виргиния говорила об инфляции — потрясающая новость: деньги тают как снег под лучами весеннего солнца. К тому же владелец соседнего участка с возрастом становится все упрямее. Будет ждать хоть до второго пришествия, чтобы получить баснословную прибыль от все дорожающего участка земли.
Настроение у отца бывало испорчено, прикусив нижнюю губу, он недвусмысленно смотрел на часы, словно ему надо было пораньше лечь спать, чтобы отдохнувшим и полным сил начать размещать поток нахлынувших средь ночи постояльцев.
К сожалению, до начала летнего сезона оставалась еще уйма времени.
До приезда отдыхающих наши отношения с Виргинией успели сложиться, причем весьма успешно. Последующие вечера были бы пустыми и тоскливыми, не держи я Виргинию хотя бы несколько мгновений в своих объятиях. Состояние возбужденности, в котором находилась Виргиния, не осталось незамеченным родителями, и они, не прибегая к особым ухищрениям, стали прощупывать своего будущего зятя. Порой мы с отцом Виргинии, подойдя к парапету на краю участка, смотрели с уступа, выложенного гранитными плитами, вниз, на город и залив, и мой будущий тесть, убеждая в основном самого себя, говорил, что местоположение «Апельсиновой рощи» отнюдь не плохое: стоящие вдоль набережной роскошные отели были и навсегда останутся владениями миллионеров, не стоит и мечтать о том, чтобы попасть в узкий круг избранников божьих; однако представитель среднего класса тоже может прибыльно вести свое дело, если голова у него варит. Разумеется, он обращал свой взор на вожделенный соседний участок, где росли кипарисы и миндаль. Между ними, словно для того чтобы позлить отца Виргинии, была разбита большая яркая палатка. Вид этого развевающегося на ветру красного палаточного дома явно расстраивал его, отец издевался над соседом, безмерно любящим своего внука и разрешившим мальчишке устроить в центре города площадку для игр.
Но вот пришло время, когда начали съезжаться отдыхающие. С севера прибывали дополнительные самолеты, по шоссе ползла пестрая лента машин, все вдруг страшно заторопились к морю. Бульвары и аллеи заполнились бледными людьми в крикливых нарядах.
Официанты в уличных кафе сбивались с ног, отдыхающие на радостях, что начался отпуск, были неуемны, они перебарщивали с солнцем, бледнолицые хотели в одно мгновение превратиться в собственные негативы — повсюду разъезжали машины с красным крестом, спеша на выручку пострадавшим от солнечного и теплового удара; эти отдельные неприятности не могли приостановить безудержного стремления к отдыху. Бары чуть ли не до рассвета были заполнены посетителями, повсюду в обнимку прогуливались парочки, с утра и до захода солнца пляж был усеян народом, даже когда темнело, оттуда доносились возгласы, объятие волн казалось особенно заманчивым и таинственным именно непроглядной ночью.
«Апельсиновая роща» заполнялась гостями по капле, как сосуд, и в один прекрасный день оказалась полной до краев: отец Виргинии мог с удовлетворением потирать руки.
Внезапно мы с Виргинией оказались в роли бездомных бродяг. Теперь бассейн не принадлежал нам, а пляж и подавно. И за стойкой бара для нас уже не находилось места. Виргиния не могла небрежно крикнуть: эй, Леон! Леон носился, чтобы всюду поспеть. Он разносил прохладительные напитки сидящим в шезлонгах и лежащим на надувных матрасах отдыхающим; тотчас же снова мчался за стойку бара и хватал миксер для коктейлей. Да и когда наступал вечер, служащие отеля при свете лампионов суетились в саду. Убирали шезлонги, щетками на длинных ручках терли каменные плиты пляжа, через водосток и канализацию с журчаньем стекала мыльная вода. И мы с Виргинией не шлепали босиком по свежевымытым плитам.
И все же мы не могли друг без друга. Мы встречались потихоньку поздно вечером, словно родители Виргинии презирали меня и запрещали своей дочери встречаться со мной — на самом же деле им было не до нас. Отец Виргинии постоянно ссорился с персоналом отеля, однако старался держать себя в руках и то и дело приходил на кухню проверить поваров; очаровательная мадам выступала по вечерам в ресторане со своими тщательно подготовленными пародиями. Чтобы выступление казалось еще более завершенным, она заказала себе точную копию излюбленного в этом сезоне костюма Уильяма Ксебека; так она и стояла перед благосклонно настроенной публикой: в черной шифоновой блузе, в черных обтягивающих брюках, тонкая талия перетянута широким красным поясом, делающим ее еще тоньше, на пальце покачивался белый цилиндр. Она имела успех. Поджидая Виргинию, я наблюдал за ней в открытое окно ресторана и слышал громкие аплодисменты.
Словно для того, чтобы закрепить успех пародий, рекламный самолет ежедневно тащил за собой в небо гигантского воздушного змея, на котором было выведено имя Уильяма Ксебека. Ожидались концерты знаменитого певца.
Виргиния делилась со мной коммерческими тайнами: отец очень доволен выступлениями жены, непонятным образом ее пародии побуждали людей заказывать шампанское. А может, то было заслугой белого цилиндра?
Вместе с пышным весенним цветением изменился и облик Виргинии, она стала смелой, решительной, уверенной в себе. Она не намерена была мириться с ролью бродяги. Владения «Апельсиновой рощи» не были обширными, тем не менее там нашелся уютный дикий уголок. Декоративные кусты, казавшиеся весной редкими и приглаженными, теперь буйно разрослись, и Виргиния, раздвигая ветки, умудрялась пролезть в образовавшуюся там пещеру. В этом скрытом от глаз месте она держала про запас надувной матрас.
Заросли кустов из вечера в вечер были в нашем распоряжении.
Возвращались с прогулки гости отеля, пустел ресторан, все расходились по своим номерам. Зажигались лампы, из окон доносились обрывки разговоров и смех. Обычно свет в них горел недолго. Тепло и доносящееся издалека стрекотание кузнечиков, очевидно, благоприятствовали любовному пылу. Слышались громкие вздохи и шепот, гаснущие в городском шуме. Спустя какое-то время кое-где открывались ставни, в темнеющих проемах появлялись парочки, их выдавали красные точки сигарет, которые были видны далеко, их отсвет проникал даже в заросли кустов.
Те, в отеле, могли быть вместе, нам же с Виргинией приходилось расставаться. Она снимала с веток платье, надевала туфли, махала рукой, когда я выражал беспокойство по поводу матраса — его мог запихнуть сюда какой-нибудь мальчишка, работающий на кухне, заявляла она и исчезала.
Шли недели, была середина лета, когда однажды вечером, возвращаясь из города, я с удивлением обнаружил, что как-то неохотно иду в «Апельсиновую рощу». Я не стал докапываться до причины этого смутного нежелания. Возможно, это была усталость, возникшая от ненасытности Виргинии. Внезапно мне показалось, что она слишком сильна и жадна. В своем воображении я увидел Виргинию после полуночи рыскающей по кухне ресторана, достающей из холодильников тушеное мясо и жареную рыбу и с жадностью, словно она изголодалась, набрасывающейся на еду.
И все же я направился в «Апельсиновую рощу». Как всегда поздним вечером площадка вокруг бассейна была вымыта и камни пахли свежестью. В ресторане все еще звучала музыка, но у меня не было настроения слушать пародии мадам. Мне стало казаться, будто я бильярдный шар посреди зеленого суконного поля и на меня с трех сторон нацелены кии. Не было сомнения, что им удастся загнать меня в лузу, и я, покачиваясь, останусь лежать в сетчатом мешочке, а оттуда своими силами не выбраться.
Меня пугало и то, что Виргиния отчаянно цеплялась за меня, в этом была вселяющая тревогу фанатичность. Мне стало не по себе от мысли, что и в дальнейшем мне придется слушать пародии мадам и принимать их с искренним или притворным восторгом; я представил себе, что снова стою вместе с отцом Виргинии у парапета, устремив взгляд на вожделенные соседские владения, — в этой семье со сложившимися обычаями меня заставили бы вращаться по строго определенной орбите.
В тот вечер, когда Виргиния, сняв с ветки висевшее на ней платье, надела его и начала застегивать пуговицы, я почувствовал облегчение. Она легким быстрым шагом скрылась в доме. Я тоже собирался последовать за ней, однако медлил. Остановился в тени дерева и закурил сигарету. Я смотрел на освещенные кое-где окна отеля, следил за букашками, которые бились о лампы фонарей, прислушивался к шуршанию шин мчащихся по шоссе автомобилей и, пожалуй, впервые подумал о тайне жизни. В отеле наступил час шепотов и вздохов. Откуда-то из-за жалюзи взметнулся в ночь резкий, как гудок машины, взрыв смеха. Эта чужая жизнь, протекавшая в темных комнатах отеля, вселяла беспокойство. Я с завистью подумал: любой из них может сложить утром чемодан и уехать куда ему вздумается. Я понял, что в «Апельсиновой роще» нельзя прожить жизнь, сюда можно только приезжать на короткое время. Чтобы потом в кладовых памяти отыскать эпизод случай или приключение. Ах да, ведь это было в «Апельсиновой роще»! Хорошо было приехать сюда, однако еще лучше уехать. Кажется, в ресторане этого отеля выступала какая-то дама, которая ловко подражала модному в то время поп-певцу. Как же звали этого певца?
Какие таланты откроются в будущем у Виргинии?
Вероятно, она возьмет бразды правления в свои руки. Похоже, что именно она начнет расширять владения отеля. Любезно улыбаясь, Виргиния сунет под нос владельцу соседнего участка какую-нибудь перекупленную долговую расписку. Станет угрожать длительным судебным процессом до тех пор, пока старик не устанет от осады и не согласится продать свой участок.
Но все это в стороне от тайны жизни.
Я огляделся, ища урну, чтобы выбросить окурок, когда из отеля выбежала какая-то женщина, на ней была странная развевающаяся хламида, очевидно ночная рубашка. С разбегу, ногами вперед, она прыгнула в бассейн. Я раздавил каблуком окурок и подкрался поближе, чтобы понаблюдать за странной ночной купальщицей. Поодаль горели редкие фонари, и я не видел женщину, но слышал плеск воды. Что-то тут было не так. Я сбросил с себя одежду и кинулся в воду. Впереди, под водой, что-то мелькало. Мне удалось схватить женщину за рубашку. Без особых усилий я дотащил ее до лесенки, ведущей в бассейн, и поднял наверх. После того как я сделал ей искусственное дыхание, женщина застонала, слава богу — жива. Она села и закашлялась. На всякий случай я похлопал ее по спине, чтобы легкие поскорее прочистились.
Женщина стала дышать ровнее, и я посчитал самым разумным исчезнуть. Сейчас возле бассейна начнется суматоха. Несомненно выбежит спутник этой женщины, муж или любовник; испуганные возгласы, шум, в окнах зажжется свет, шепоты и вздохи оборвутся, заснувшие вскочат — как-никак щекочущее нервы происшествие, которое чуть было не окончилось трагически.
Я было отправился восвояси, однако вокруг стояла тишина. Меня поразила человеческая разобщенность. Спутник этой дамы посмел остаться равнодушным: хочешь — топись. Да будет у всех полная свобода личности.
Спасенная женщина что-то бормотала с закрытыми глазами. Неожиданно она раскинула руки, приподнялась, села на мокром краю бассейна и крепко обхватила меня за ногу.
— Ах, дорогой Ноэль, — пробормотала она. — Как хорошо, ты все же дорожишь мною и вытащил меня на берег.
— Я вовсе не Ноэль, — буркнул я.
— Все равно, я ужасно замерзла.
— Возвращайтесь в свою комнату, — посоветовал я.
— Ни за что! Мне холодно, — добавила она плаксивым упрямым голосом.
— Хорошо, я дам вам свою рубашку.
Я только успел одеться, а тут снова пришлось стягивать с себя рубашку.
То же самое проделала женщина со своей мокрой ночной рубашкой, она стояла обнаженная, пока я не протянул ей свою. Рубашка доходила ей почти до колен, и я мог спокойно взглянуть на нее. Черт его знает, сколько ей могло быть лет; она была хрупкой и походила на девчонку — но сейчас и сорокалетние умудряются выглядеть юными.
— Вы многих людей спасли? — задала женщина дурацкий вопрос, растирая при этом голени и колени, хотя едва ли ей могло быть холодно в такую мягкую летнюю ночь, да еще в сухой рубашке.
— Я профессиональный спасатель, — насмешливо произнес я.
— Немедленно спасите меня! — потребовала женщина.
Я решил, что она дурачится.
— Правда, я нуждаюсь в этом!
— Хотите снова броситься в воду? — спросил я, разозлившись.
— Ох, мальчик, вы, наверное, новичок, — вздохнула женщина.
— Что я должен сделать? — спросил я, не скрывая своего замешательства.
Женщина захихикала.
— Прижмите меня покрепче к своей груди.
Я сделал то, что мне велели, — женщина дрожала.
— Я горю желанием отомстить ему! — прошептала она.
— Прекрасная мысль — полетим утром, ну, скажем, на Кипр! Пусть бьется головой об стену. Ну как — полетим?
Разумеется, я никуда не полетел с той истеричной женщиной. Да и вряд ли она утром помнила, что учинила и наболтала с пьяных глаз ночью. Вероятно, на следующий день она просто чувствовала себя разбитой и явилась в ресторан лишь к обеду. Затем она гуляла по аллее со своим другом, разглядывала модные тряпки, висящие на вешалках перед входом в магазины, затащила мужчину в какой-нибудь бар, чтобы с помощью апельсинового сока снять все еще продолжающееся состояние похмелья, и попросила положить в напиток побольше колотого льда. Едва ли ей хотелось вспоминать ночную ссору. Можно предположить, что под вечер парочка станет листать рекламный проспект — куда бы поехать дальше?
По всей вероятности, «Апельсиновая роща» надоела им.
Мне тоже.
Через несколько дней начинался мой отпуск.
Я сложил Чемодан, сел в автобус и поехал в другой курортный город.
Хотелось испробовать возможности новой профессии. Та женщина подала мне неплохую идею — почему бы мне не стать профессиональным спасателем! Впереди был длинный и тернистый путь овладения этой профессией.
Лет десять мне сопутствовал успех.
До тех пор, пока Виргиния… Это имя вертится у меня на языке, мне хочется выплюнуть его.
24
ы стоим на краю кратера и обдумываем, как довести нашу работу до конца.
Почти невозможно было добиться единства от этих тупиц. Правда, они тотчас же согласились с тем, что тело Майка нельзя оставлять на мусорной куче в обгоревшей машине. Бренные останки человека надо погрести в недрах земли, пришли они к единодушному мнению. Но затем, позабыв о деле, принялись мудрствовать. Чего они только не болтали о человеческой судьбе, скоротечности жизни, эпохе, обстоятельствах. Твердили о стрессе и состоянии отчаяния, чувстве опасности и его отсутствии. Намекали на то, что именно я довел Майка до точки. Чушь. Он сам раскис и предопределил свой конец. Прежде, будучи на свободе, мы могли ежедневно читать в газетах о самоубийствах — и ничего. От жалостливой болтовни остальных у меня в конце концов стали вянуть уши. Своей деловитостью я вмиг заставил их умолкнуть. Я напомнил, что в такую жару даже обуглившийся труп может источать зловоние, и если их диспут еще продлится, то жуки, не говоря уже о крысах, покончат с останками Майка. А разве в каньоне есть крысы? Ох, Флер! Почему бы им здесь не быть!
Наконец они взяли себя в руки, чтобы обсудить, как организовать похороны. И тут же столкнулись с непреодолимыми трудностями: где найти такое место, которое бы навсегда осталось неприкосновенным? Как предать несчастного Майка земле, если нет гроба? Завернуть ли его, как Христа, в белое полотно? Странно, недоумевали они, в мусорных кучах можно найти все что угодно, только не гробы. И куда мы подевали лопаты? Может быть, этой спекшейся поверхности нужна кирка? О кирке сказал Жан, остальные, вероятно, и представления не имеют, как выглядит это орудие.
Я слушал их и чувствовал, как от нетерпения меня начинает колотить. Если бы мир состоял из подобных недотеп, вся работа осталась бы несделанной и мертвые непохороненными.
Я чуть было не заорал от злости, но тут неожиданно мне вспомнился случай из моей юности. Это было в ту пору, когда я еще не отряхнул с ног пыль родной деревни и не перебрался в город. В нашей деревне хоронили одного балагура и волокиту, который спьяну угодил под перевернувшийся трактор. Накануне по деревне поползли слухи, будто человек этот умер насильственной смертью и что вся эта история подозрительна — несчастный случай подстроили обманутые мужья. День похорон выдался на редкость душным, в черном костюме было жарко, как в шубе. Отец, который терпеть не мог имя, данное мне матерью, и упорно называл меня Эрнстом, сызмальства старался привить мне правила приличия и благопристойность.
Похороны устроили честь по чести, собралась вся деревня, все соблазненные женщины и их мрачные мужья; мамаши крепко держали за руку своих подросших дочерей, словно покойник все еще мог представлять для них опасность. Были там и мы, все те, кто умел играть на трубе, так что получился духовой оркестр.
Как раз в тот момент, когда пастор закончил читать отходную и мужчины приготовились опускать гроб в могилу — держа в руках концы ремней, они ждали, когда подадут сигнал, и мы, музыканты, уже поднесли трубы к губам, — грянул оглушительный гром. Не знаю, кто уж там с испугу выпустил концы ремня, во всяком случае, гроб упал в яму, накренился, и какая-то непонятная сила сорвала с него крышку. Позднее сведущие люди рассказывали, что видели на лице покойного отвратительную усмешку. Сразу же вслед за раскатом грома хлынул проливной дождь, люди, на мгновение застывшие на месте, с визгом разбежались в разные стороны. Даже почтенные хозяева не постыдились пуститься наутек.
И только мы, музыканты, остались на местах. Не то чтобы мы были менее суеверны, чем остальные, просто никто из музыкантов не решился самовольно удрать, как-никак своя компания. Поскольку мы остались и промокли до нитки, терять нам было нечего. Мы сложили инструменты под деревом, один из нас залез в яму, приладил крышку, другой в это время принялся копать, удлиняя яму, и общими усилиями нам удалось поставить гроб в правильное положение, затем мы взяли лопаты и закидали могилу землей.
В этом мире приходится делать всякую работу.
Воспоминание юности согрело мне душу, и я не стал затевать скандала. У всех у нас нервы были на взводе; если лошадь понесла, то кнут ей не поможет, только хуже будет. Пока остальные что-то беспомощно лепетали о предстоящих похоронах, я выработал программу действий. Однако не торопился навязывать свою волю. Я знаю, что за моей спиной они называют меня тираном и грубияном.
Глядя на этих неженок, я с удивлением подумал, что в наши дни, когда постоянно приходится сталкиваться с трудностями, многие люди умудряются жить в стороне от действительности, их занимают лишь их собственные мелкие проблемы. Хотел бы я поглядеть на них за рулем груженного доверху тягача на горных дорогах, где под колесами гололед. Крик ужаса — и они в пропасти.
Очевидно, то давнее происшествие на деревенском кладбище вспомнилось мне как нельзя кстати. Я стал понимать, что никогда нельзя раскисать, надо, невзирая на обстоятельства, всегда все выяснять до конца. И только когда в окружающем мире начнут твориться непостижимые вещи, человек может позволить себе впасть в панику. Поэтому-то я и принялся колошматить покойного Майка. Как высокообразованный человек, он должен был бы объяснить мне, что это за желтое облако, которое, подобно огромному языку, сползает вниз по краю карьера. Я чуть было не тронулся умом, когда увидел это вещество ядовитого цвета. Я был уверен, что сейчас желтая масса погребет нас под собой. Мы задохнемся и перемрем как мухи. Вероятно, именно Майк и люди одной с ним профессии сделали столько страшных изобретений — годами газеты трубили об атомной, водородной, нейтронной бомбе, о бактериологическом оружии и разрушительных лучах лазера — я ни черта не смыслю во всех этих делах. Мой разум воспринимает ружье и пулю. И не я один такой, темный и глупый. Не зря народ в больших городах переполошился, то и дело на улицы стекаются толпы, в душах людей смятение, они не могут оставаться в четырех стенах, собираются вместе, заполняют площади и требуют: остановите это безумие. Но всякие белые манишки и очкарики знай себе бормочут о закономерности цивилизации, черт знает каком-то там развитии и его неизбежности. И продолжают вынашивать в своем больном мозгу новые ужасы.
Так и Майк. Откуда мне знать, что он высидел в своей лаборатории, возможно, выращивал в колбе двухголового человека — в наши дни запасная голова может пригодиться, чтобы понять эту безумную жизнь; что, если именно он изобрел ядовито-желтый газ, который решили испробовать в месте нашего заключения, — ведь мы здесь как букашки на ладони. Но и сам он тоже с ужасом уставился на грозное облако, сползающее по стене каньона вниз, вероятно, плоды науки и на него самого нагнали страху, вот он и стал в одиночку распивать виски. А у меня при виде этого в глазах потемнело. Я просто должен был всыпать ему. Бог мой, до чего же он был жалок, даже не попытался дать сдачи.
Пока остальные переливали из пустого в порожнее, я думал. Болтовне надо было положить конец, и я предложил единственно возможный выход. Никто не спорил. Молча они забрались в кузов грузовика — перед этим обежав виварии, чтобы нацепить на себя что-то черное, если таковое у них имелось. Как-никак похороны.
Да и что бы они могли предложить! Флер попыталась было открыть рот, но передумала, поняла, что нытье и оханье неуместны.
Я объяснил им, почему тело Майка вместе с обгоревшей машиной придется столкнуть в кратер. Мертвая вода и мертвый человек принадлежат друг другу. Я придумал это не ради каких-то удобств. Я бы мог хоть голыми руками выкопать могилу в этой спекшейся земле. Но учтите, что Майк сам списал себя в тираж, в канцелярии тюрьмы душа его по-прежнему числится в списках. В следующий раз, когда мы пошлем заказ на продукты, там увидят, что распоряжения от Майка нет, и тогда жди посланцев из внешнего мира. Для несчастного Роберта, который свалился нам как снег на голову, смерть Майка чистое везенье. Мои слова вызвали негодующий ропот. Я успокоил их — в тюрьме, даже в том случае, если это тюрьма на открытом воздухе, посторонним находиться нельзя. Разумеется, комиссия начнет расследовать причину смерти Майка. Если мы зароем тело несчастного, его все равно вытащат на свет божий. Что бы там ни было, а осквернения трупа я не потерплю! К тому же, как объяснить, что не мы отправили Майка в огонь? Кто поверит нашим заверениям, что он сам врезался в мусорную кучу, машина взорвалась и он погиб? Должно быть, не избежать неприятностей и из-за отремонтированных машин. Члены комиссии разозлятся, начнут орать, дескать, здесь не кемпинг и раскатывать на машинах не предусмотрено правилами колонии. Нас отправили не в лагерь отдыха, а в забытое богом и людьми место поразмыслить над своими преступлениями и покаяться в грехах.
Таким образом, до прибытия комиссии мы должны переставить все пригодные машины на другие места и замаскировать их разным хламом.
Лучшего решения не найти, придется сбросить Майка вместе с покореженной машиной в мертвую воду; он навсегда исчезнет в глубинах кратера, мы же скажем, что, вероятно, на Майка нашло умопомрачение и он утопился. Неожиданно исчез, и поиски не дали никаких результатов. Держу пари, что ни один водолаз не согласится спуститься во внушающий ужас кратер, к тому же из-за одного исчезнувшего заключенного сюда не повезут плоты, насосную станцию и прочее оборудование. Главное, оставаться в своих показаниях единодушными. Может, хоть такая капля единодушия у нас найдется? Я задал этот вопрос и пристально посмотрел на каждого. Угрюмые фигуры не замедлили подтвердить, что разумнее всего поступить именно так.
И вот теперь мы, единодушные и укрощенные обитатели колонии самообслуживания, стоим на берегу кратера. Должен признаться, что и мое мужество на исходе. А ведь только что я был полон энергии, когда, взяв трос, зацепил с мусорной кучи обгорелые останки белого «мерседеса», за рулем — скрючившийся обезображенный труп Майка. Единственно правильное решение — погрести его вместе с машиной. Никто из нас не смог бы снять его с погнутой рамы сиденья. С большим трудом нам удалось протащить машину с Майком по буграм к кратеру. Я сам сел за руль и, призвав на помощь все свое умение, то нажимал на педаль газа, то переключал скорость — у этого легкого грузовика не было запаса мощности, покореженную машину пришлось волочить, ведь шины у нее обгорели. Я боялся, что грузовичок не сможет выполнить работу трактора. В зеркало заднего вида я заметил оставленные на земле глубокие извилистые борозды, завтра надо будет их выровнять. На одном из пригорков капот грузовика, тянувшего изо всех сил, приподнялся кверху. Я скомандовал остальным забраться на крышу кабины — для противовеса, одна лишь Флер покачивалась в кузове машины. Маленький грузовик выполнял тяжелейшую работу, вот какой груз пришлось ему тащить после того, как он был списан на лом! Мотор гудел и ревел, из-под крышки капота валил дым — однако ничего, выдюжил.
Самое трудное ждало нас впереди. Доставленные на место обломки машины придется поднять на вал кратера, а затем вручную столкнуть в воду. Леший его знает, вдруг вода, на которой иногда вскипают и лопаются редкие пузыри, плотная, как в Мертвом море, удерживает человека на поверхности и в конце концов вытолкнет машину вместе с Майком наверх! Мы и понятия не имеем о свойствах странной воды.
В голову лезут всякие ужасы. И что ты, бедняга, сделаешь, если в этом абсурдном мире вода уже не вода, а воздух не воздух — подобно желтому языку сползает с гор. Хорошо, что дождь разорвал и развеял облако.
Я принес с ближайшей мусорной кучи несколько тяжелых железяк и по одной закинул в кратер. Остальные, вытянув шею, сосредоточенно наблюдали за экспериментом. К счастью, вода приняла это железо, не вытолкнула на поверхность.
Неоднократно уровень воды в кратере поднимался, и мы все выше и выше насыпали защитный вал. Теперь же придется опять взяться за лопаты и прокопать в нем ход, потому что никакая сила не сможет перетащить обгоревшую машину через вал.
Сегодня странный день, небо все еще затянуто облаками, и мы тем не менее отдуваемся и утираем пот.
Терпение Жана лопается, он отшвыривает лопату в сторону, отцепляет трос от машины, садится за руль грузовичка и заводит мотор — до чего же он суетится и нервничает! Описав круг, он приближается сзади к «мерседесу» и, ударяя по нему, начинает подталкивать к кратеру. Оси колес врезаются в поверхность.
Глупый Жан — толкая грузовиком «мерседес», он лишь побьет обе машины, а груз все равно с места не сдвинется. Я кричу, чтобы он вылез из машины, пусть поищет в мусорных кучах жестяные листы или какие-нибудь гладкие пластины.
На часы смотреть нет смысла, в таких случаях поспешность плохой помощник. Будем вкалывать сколько нужно, но дорогу пластинами выложим до самого края карьера; машину поднимем домкратами и подсунем под нее доски.
Теперь я сам сажусь за руль. Вспотели, дурачье, как ни удивительно, понимают серьезность момента и выстраиваются по обе стороны дороги.
Я завожу мотор грузовика. Осторожно, дюйм за дюймом, начинаю подталкивать машину с прахом Майка к кратеру. Бампер грузовика скрипит, в любой момент могут сломаться проржавевшие кронштейны. Черт побери, только бы не иссякли ресурсы маленького грузовичка! Запах масла проникает в ноздри. И что-то еще, более отвратительное — трупный запах? А может, загадочная вода кратера?
Раскачиваясь и кренясь по обе стороны, бурые обломки ползут к воде. По лицу струится пот, до чего же омерзительно смотреть через ветровое стекло. Хочется закрыть глаза и до отказа нажать на газ. Жутко видеть вздрагивающее тело Майка за рулем некогда роскошной машины. Что, если добавить газа и погрузиться вслед за Майком в бездну кратера? Может, так оно и произойдет? Вдруг откажут тормоза? Я не смотрю в зеркало. Боюсь увидеть на чьем-нибудь напряженном лице ожидание — вот и Эрнесто сгинет в пучине!
Вверх взметнулся водяной столб.
Волна ударяет в капот грузовика.
Крупные брызги медленно стекают по ветровому стеклу.
Я изо всех сил жму на тормоза — раздается скрежет.
Вода шумит подобно водопаду.
Слышится вскрик.
Как будто кто-то окликает меня.
Грузовик, завалившись набок, останавливается на самом краю кратера, фары смотрят в воду. Искореженный «мерседес» медленно сползает вниз. Корабль идет ко дну, носом вперед погружается в бездну. На мгновение, словно спина кита, всплывает крыша. Все кончено.
Моя нога дрожит на тормозе, мотор чихает; я вдруг забыл, что надо делать, чтобы включить передачу заднего хода.
Неужели я уже ни на что не способен?
Голова не варит.
Но ведь руки тоже обладают памятью.
Правая рука нащупывает переключатель скорости и автоматически делает какое-то движение. Я верю своей руке и снимаю ногу с тормоза. Хотя на самом деле мне, пожалуй, все равно, в какую сторону начнет двигаться машина — навстречу небытию или жизни.
Вода отступает. Кто-то словно оттаскивает кратер в сторону. Задние колеса грузовика наталкиваются на какое-то препятствие.
И снова правая рука догадывается, что ей надо делать, и поворачивает ключ зажигания.
Я выхожу из машины. Земля плывет перед моими глазами.
Плачущая Флер утыкается лицом мне в плечо.
Остальные окружают меня, размахивают руками, громко и возмущенно что-то говорят, похоже, собираются отколошматить меня как следует.
Неужели им не стыдно так галдеть? Стояли бы себе молча, понурив головы и думали о погибшем Майке. Они же продолжают кричать, отдирают от меня безудержно рыдающую Флер, трясут меня, перед глазами мелькают их руки. Я ничего не чувствую. Возможно, они колотят меня. Пусть колотят, если им хочется. Я устал и опускаюсь на землю.
Покрасневшие глаза Флер на миг оказываются совсем близко. Ее горячие обветренные губы касаются моего ледяного лба.
Я сижу, остальные отходят. Их притягивает кратер. Ах, вот оно что! Я бы до этого не додумался. Они идут гуськом вдоль вала, на ходу нагибаются, поднимают что-то и бросают в воду. Бросают вслед ушедшему горсть земли.
Тотчас же в сердце закрадывается беспокойство.
Вода может начать прибывать.
Начинаю засыпать землей то место, где мы прокопали вал.
Тяжелая работа постепенно возвращает мне равновесие, я прихожу в себя. Остальные тоже взялись за дело. Мы должны немедленно восстановить защитный вал вокруг кратера. Мертвая вода коварна и опасна.
Мы хотим остаться в живых и должны быть начеку.
25
иновал полдень, небо по-прежнему затянуто облаками, но, однако, зной проникает в каждую пору. Естественно, что после похорон все мы направились к водопроводной трубе. И только безутешно всхлипывающую Флер мы отослали в виварий, обещав принести туда воду в ведрах, чтобы и она смогла ополоснуться. Я как раз шел с двумя пластмассовыми бочонками, ручки которых прогибались под тяжестью воды, когда увидел Флер. Она сидела в дверях вивария и терла глаза руками. Съежившаяся и маленькая, в черном вечернем платье, порванном где-то о металлический стержень, Флер внезапно показалась мне тряпичной куклой. Она догадалась снять свои идиотские горные ботинки, и они валялись перед виварием вместе с полосатыми шерстяными носками. Маленькие белые ступни Флер свисали так же сиротливо, как и подол ее порванного платья. Если и не тряпичная кукла, то, по крайней мере, ребенок, которого жестоко обидели.
Мое сердце дрогнуло от жалости, я не знал, как поднять дух Флер; и не постыдился сделать то, что мог и умел. Я зачерпнул из ведра пригоршню воды и брызнул ей в лицо. Это было приятно, капли холодили, и Флер расслабилась. С закрытыми глазами она откинула назад голову и несколько раз глубоко вздохнула, словно готовилась погрузиться в прохладное море. Я налил воду в ковшик и окатил ей ноги.
— Роберт, — тихо произнесла Флер. — Знаешь, на самом деле мы лучше, чем хотим казаться. Только нам все время что-то мешает. В последнее время я постоянно думаю о своих близких и никак не могу понять, отчего все они так неправильно жили. Не оттого ли, что чудовищно быстрое развитие цивилизации требовало от нас дани и мы из жадности отдавали самое плохое, что у нас было, обезображивая таким образом лицо сегодняшнего мира. За скаредность приходится расплачиваться, мы бессильны перед тем количеством злодеяний и пороков, которые наваливаются на нас. Нас превратили в трусов, и нам не остается ничего иного, как принять участие во всеобщей жестокой игре. Мы делаем вид, что все и должно быть именно так, как оно есть. Знаешь, мой дедушка Висенте, который всю жизнь стремился стать политиком, открыто участвующим в политической жизни, остался всего-навсего советником за сценой, правда, талантливым, умевшим на основе какого-то момента экономической жизни прогнозировать безработицу, волнения и смену власти, — я тебе о нем рассказывала, они оба с Луизой были легкомысленными чудаками, только один в государственном масштабе, а другой в семейном; так вот мой дедушка Висенте обычно говорил: в уничтожении живого люди играют роль некоего усилителя. Я никогда не понимала этого высказывания, мне казалось, что дедушка слишком умен, чтобы говорить доступным языком, но теперь я, кажется, стала что-то соображать. Все мы в какой-то мере повинны в уничтожении, именно за это и несем наказание.
Я слушал Флер; ее такой бесцветный и усталый голос, казалось, робко и боязливо стучался в дверь моего сознания, но я не хотел открывать эту дверь ее мыслям; согласно всем правилам логики я должен был жгуче ненавидеть обитателей колонии, и в том числе Флер — проклятые дорожные убийцы! Им подобный убил мою жену, незабвенную Урсулу; в свое время, потрясенный горем, я готов был задушить преступника, который по небрежности, в состоянии дурмана, утратив чувство опасности, погубил человека.
На суде свидетель рассказывал, что такси, совершившее аварию, привлекло к себе внимание: дважды меняло ряд, перед самым носом у других машин пересекло разделительную полосу и свернуло направо, наперерез автобусу, прибавило скорость и помчалось вдогонку за идущей впереди машиной, пристроилось у нее на хвосте — на дорогу выбежала собака, машина резко затормозила, и такси врезалось в нее. Скрежет металла и брызги стекла. Шофер такси вылез из машины, даже не взглянув на пассажира, достал из кармана жевательную резинку, содрал с нее обертку и сунул в рот несколько штук разом. Вероятно, беспокоился, как бы не почуяли запаха спиртного. Когда на место прибыла «скорая помощь», врач сказал, что женщина, ехавшая в такси, скончалась — перелом шейного позвонка.
Судья прервал поток слов очевидца: в их распоряжении имелся акт экспертизы.
Мне бы на чем свет стоит проклинать здешних заключенных, желать им страшного возмездия за погубленные человеческие жизни, я же, согнувшись, лью воду на ноги Флер, и мне приятно, что кожа розовеет и Флер начинает шевелить пальцами.
Где-то на задворках моего сознания вертятся слова, сказанные дедушкой Флер, — в уничтожении живого люди играют роль некоего усилителя. В душе я презрительно смеюсь над сентенцией старика: этак можно найти объяснение чему угодно. Ходячая фраза злополучного политика оправдывает или по меньшей мере извиняет преступления — наверно, мы достигли такого этапа развития, на котором пытаются сгладить любой акт насилия, словоблудием научились пользоваться как средством одурманивания.
Словно уже и не существует правильных объяснений, настоящей боли и решимости. Ставить с ног на голову и развенчивать какую угодно этику и мораль вошло в моду. Все мы должны углубляться в сложность взаимосвязей; ярое осуждение чего бы то ни было — признак примитивного мышления. Мы только и делаем, что углубляемся, а углубление это уже наполовину понимание, наполовину прощение. Вдруг мы уже не способны отличать зло от добра.
— Роберт, что ты думаешь о том, что я тебе сказала? — умоляющим голосом спрашивает Флер.
— Все горазды оправдывать свои слабости, — бормочу я себе под нос. Хочется добавить: и все же вы безответственные негодяи — но я молчу, ведь и я не отличаюсь твердостью духа и не добиваюсь, чтобы правда восторжествовала, хотя бы для кого-то из этих живущих в забытом богом месте людей. Я молчу, точно воды в рот набрав, и вытираю протянутым мне полотенцем ноги Флер.
И тут же меня охватывает досада, я швыряю полотенце Флер, сую руки в карманы, поднимаю плечи, словно собираюсь ринуться в драку, и размашистым шагом иду к водопроводной трубе. Коренные жители колонии, преступники, должно быть, уже успели окатиться водой, теперь и свободному человеку не мешает смыть с себя пыль и пот. Вероятно, в наши дни уже повсюду действует парадокс: человек, не лишенный законом никаких прав, остается в тени всяких преступников и злопыхателей и дожидается своих благ, стоя последним в очереди. Вдруг останутся какие-то крохи? Тем, кто жалуется на притеснения, придется гарантировать человеческие права вне общей очереди — не то поднимут шум.
Возле водопроводной трубы стоят голые мужчины, кожа в пупырышках, волосы мокрые. Вентиль открыт, длинная труба, которая сверху спускается в каньон и прикреплена к стене карьера большими петлями из обручной стали, с бульканьем выплескивает воду, от струи поднимается водяная пыль. Я спешу стянуть с себя одежу; я устал от зноя и заранее испытываю удовольствие при мысли, что сейчас окачу себя водой, давно не видел гусиной кожи на своем теле, подставить шею под ледяную струю подчас просто необходимо.
И я становлюсь под струю, труба выплевывает мне на спину порцию воды, она ручейками стекает по ногам. Я жду шумящего водопада, однако труба не соблаговоляет даже побрызгать меня, она лишь как-то странно шипит. Эрнесто успел натянуть брюки и приходит мне на помощь. Он до отказа откручивает вентиль, но и это не помогает.
— Отойди в сторону, попробуем снова выманить воду, — командует он.
Я разозлился, хотелось послать его к черту; может, всего-навсего кувшин воды и выплеснула мне на шею внезапно пересохшая труба; наполовину смоченное тело кажется особенно липким, меня все больше и больше подавляет, что я не смог помыться, и мне не остается ничего иного, как отойти в сторону и следить за действиями Эрнесто. Он обматывает конец жерди тряпкой, поджигает ее и подносит к трубе гнущийся факел. Тотчас же вспыхивает пламя, огонь начинает бушевать, и полыхающий шар подобно гигантской капле свисает с трубы, не собираясь падать.
— Наберись терпения, — советует Эрнесто. — Обычно природного газа хватает минут на двадцать, как сгорит, снова появится вода.
Остальные растирают себя полотенцами и бросают равнодушные взгляды на шар, из которого вырываются языки пламени, словно то, что из трубы вырывается огонь, самое обычное явление.
Боюсь, как бы у меня не сдали нервы.
Чувствую, что не могу свыкнуться со всем этим, и в то же время должен перебороть себя и приспособиться.
Украдкой кидаю взгляд на дорожных убийц — они как раз одеваются, и понимаю, насколько они сильнее меня. Мы примерно ровесники, но я во всем уступаю им: истеричный молодой человек, которому хочется что-то сокрушить, чтобы мир снова стал прежним и привычным. Но я не могу даже самого простого — добыть воды из трубы!
На мгновение меня охватывает страх — вдруг и меня ждет участь Майка? Странно, раньше я не догадывался, что процесс отбора давно начался, модель человека будущего фактически уже сложилась. Доминирующее свойство этой модели — равнодушие, позволяющее ей мириться с любыми явлениями.
Нас трогают протест и противоборство какой-то отдельной личности, и мы называем это героизмом. Что бы я смог сейчас сделать? Разве что разметать огонь по всему каньону, побежать нагишом с факелом в руке и поджечь все эти проклятые мусорные кучи, чтобы дым поднялся в небо, был виден за сотни километров и возвестил людям об опасности всеобщей катастрофы? Может, это заставит их вздрогнуть и подумать: мы сами сделали мир непригодным для жизни. Химера! Никому не пришло бы в голову поспешить к ртутному карьеру, чтобы спасти нас от смерти в огне. Скорее всего те там будут следить за столбом дыма издалека и прикидывать: пожалуй, направление ветра благоприятствует нам, зараженное облако пронесет мимо.
Внезапно огненный шар исчезает, и по трубе снова бежит вода, на этот раз природа сжалилась надо мной. Вода с шумом обрушивается мне на голову, что с того, что она пахнет сероводородом — бурильными работами были разрушены естественные перегородки подземных резервуаров, газ смешался с водой; я все прощаю, потому что мне сейчас хорошо, и я думаю, как и все люди: может, и мне удастся как-то прожить свою жизнь на этой опустошенной и загрязненной планете, не буду же я тем дураком, который помчится разжигать большой, предупреждающий об опасности огонь и тем самым подвергнет себя риску погибнуть от удушья. Я стою под струей, растираю тело и смотрю на скалу цвета киновари — льющаяся вода смывает с меня хлопья сажи сгоревшего газа, они, подобно обуглившимся письменам, падают мне под ноги, в грязь, и я топчу эти безмолвные послания.
Человек, когда он помоется, гораздо терпимее смотрит на мир. Обитатели каньона, как я слышал, к послезавтрашнему дню должны сделать заказ на продовольствие; я же напишу обстоятельное объяснение относительно того, как я оказался в этой колонии, представлю для проверки свои данные, номер заграничного паспорта, координаты комитета, организовавшего международные соревнования по планерному спорту. В конце концов откроется возможность для контактов с внешним миром, полноправный свободный гражданин уже не будет изолирован от себе подобных — не сомневаюсь, что за мной сразу же приедут. Жизнь нормализуется, впоследствии я еще, чего доброго, стану думать, уж не сон ли все эти кошмарные дни, проведенные в каньоне? В какой-то степени я смогу отомстить за гибель Урсулы — и для этого вовсе не надо будет набрасываться с кулаками на кого-нибудь из дорожных убийц. Для них, несомненно, будет тяжелейшим ударом, когда я, махнув на прощанье рукой, покину это место в сопровождении официальных лиц и фоторепортеров.
В мире еще сохранились какой-то порядок и ясность. Чистые и нечистые да будут разделены.
Вряд ли имеет смысл более обстоятельно рассказывать дома о пережитом мною здесь. Все равно никто бы не понял, куда я попал. Со стороны обитателей колонии было весьма неглупо на первых порах заморочить мне голову, мол — эксперимент, экспедиция, позднее Уго соблаговолил открыть мне истинное положение вещей — ведь в наши дни вошло в моду изучать пределы человеческих возможностей в экстремальной ситуации. Вероятно, я и дома представлю эту версию: группа ученых решила проверить возможность существования в заброшенном ртутном карьере, чтобы испытать человеческую выносливость в неблагоприятных условиях, в обстановке, где почти все нити, связывающие человека с цивилизацией, порваны. Разумеется, в научном мире с огромным интересом ждут результатов эксперимента. Ведь сегодня люди во вред себе срослись с благами и удобствами — поэтому-то и необходимо узнать, как изоляция и примитивный быт влияют на духовное и физическое состояние человека. Если эксперимент закончится успешно, можно будет рекламировать заброшенные места с целью их заселения. И это отнюдь немаловажно в условиях демографического взрыва и сверхбыстрой урбанизации. Новые времена ставят перед человечеством новые требования. Скученности надо противопоставить расселение людей в тех зонах, которые принято считать непригодными для жизни.
Теперь же, освежившись, я направляюсь в свой виварий, чтобы составить письмо властям.
Я сижу в виварии и усердно вывожу на бумаге строчки; официально, предельно вежливо, прибегая кое-где к старомодным обращениям, я описываю свое положение. Странно, что я, в сущности, свободный человек, должен апеллировать к Международному управлению по надзору за тюрьмами для того, чтобы была восстановлена законная справедливость! На мгновение отрываю взгляд от бумаги и смотрю по сторонам: меня поражает, что за короткое время вокруг меня образовалась богатая вещественная среда. После того как я приземлился на разбитом планере, мне предоставили для жизни пустой товарный вагон, к сегодняшнему дню он незаметно превратился в жилое помещение, причем даже с удобствами, где можно чувствовать себя вполне сносно. Жители колонии притащили сюда с мусорной свалки наиболее пристойные автомобильные сиденья, они вполне заменили кресла, но не только они украшали мое жилище. Как принято в лучших домах — на чем спят, на том не сидят, — у меня была и кровать, где вполне могли улечься двое. Может, я втайне рассчитывал пригласить сюда Флер, когда тащил в свой виварий куски обивки, которые содрал с больших легковых машин. Есть у меня и стол, столешницей служит пуленепробиваемое стекло. Машины дипломатов и государственных деятелей тоже попадают на свалку, и они не вечны, несмотря на то что покрыты броней. Да и подушек более чем достаточно, одна даже из настоящей кожи, и пледов хватает — нынче, отправляя машину на свалку, никто не удосуживается вынуть из нее вещи. Мне натаскали сюда кучу обуви, вполне приличной, начиная с резиновых сапог и кончая лакированными туфлями. Живу как состоятельный буржуа, у входа стоит большой декоративный глиняный кувшин — подарок Флер. Что из того, что горлышко отбито — тем древнее он кажется, несведущий гость может позавидовать.
Мне надо съехать отсюда, а не уйти руки в карманах.
Это обстоятельство одновременно забавляет и омрачает, но тем не менее действует ободряюще. Все-таки у меня хватило сил приспособиться к жизни в каньоне. Возможно, я уже и сам сумел бы поднести горящий факел к трубе, если б вместо воды с шипением опять пошел газ? И кто знает, не счел бы я вскоре естественным, что бренные останки человека бросают в мертвую воду, в кратер, где раньше топили контейнеры с остатками радиоактивных веществ? А может, это воронка, образовавшаяся в результате подземного ядерного взрыва или шахта баллистической ракеты — какое это имеет значение? На земле осталось не так уж много пространства, чтобы для каждой вещи находилось свое место.
Должно быть, так и следует относиться ко всему?
И снова снаружи начинает доноситься шум.
К этому тоже надо относиться как к обычному явлению. Я не намерен больше прятаться под вагоном. Вертолеты, перевозящие танки, приходится считать неизбежностью повседневной жизни. Ведь должны же всякие там военные проводить где-то свои маневры. На сегодняшний день скопилась уйма информации, и от этого происходит еще большая неразбериха; у каких-то вычислительных машин подвели контакты — и, таким образом, не связались два обстоятельства — безлюдное место, выбранное для военных маневров, и тот факт, что на самом-то деле оно не безлюдно.
Пусть грохочут там, в небе. Они не станут приземляться на крыши наших вивариев. Это было бы неудобно и хлопотно — вагоны шаткие.
Авось нам удастся избежать опасности.
Отчаяние и крики не помогли бы.
Надо закончить письмо. Серебряная авторучка, которую я обнаружил в одном из ящичков «кадиллака», сама каллиграфически выводит слова. Всю жизнь я ценил хорошие ручки за то, что они помогали скрыть изъяны моего почерка.
Шум усиливается.
Вероятно, остальные тоже либо сидят, либо лежат в своих вивариях и готовы к тому, что на их ограниченном жизненном пространстве будут проводить маневры.
Не стоит удивляться новым явлениям, происходящим в мире, пусть они скользят мимо, не задевая тебя. Несомненно, последует что-то еще более ошеломляющее, и, для того чтобы воспринять это, надо чтобы в мозгу оставался уголок про запас.
Рев мощных моторов нарастает.
Я не позволю сбить себя с толку. Письмо надо закончить. Плохо, что среди залежей мусора мне не удалось найти пачки чистых конвертов. Слишком мало времени было для поисков. Ведь в каньоне можно найти все.
Гляди-ка, начали стрелять. Ну и пусть стреляют. Ведь должны же они где-то израсходовать свои боеприпасы?
А теперь, похоже, взорвали бомбу. Вагон закачался. Надо кончать свою объяснительную записку. Собственно говоря, все необходимое уже сказано. Едкий дым заползает в двери вивария. Уж не желтое ли это облако подкралось так близко? Все равно. Теперь осталось только поставить подпись. У меня дурацкая привычка брать разгон, прежде чем сделать на бумаге росчерк. Вагон вибрирует, и это мешает.
Вот это взрыв! Дух перехватило, и голова загудела. Похоже, ракета угодила в стену каньона. С борта вертолета, должно быть, открывается захватывающее зрелище: я, человек, сдвигаю с места горы.
Вагон сотрясается.
Я больше не в силах внушать себе стоическое спокойствие. Вскакиваю с кресла и, как загнанный в клетку зверь, бросаюсь на стену вагона, хватаюсь руками за оконный проем. Подтягиваюсь и выглядываю наружу.
И снова чудовищный взрыв.
Когда дым немного рассеивается, я вижу, как почти отвесная стена каньона клонится вперед. Оторванная от земной тверди глыба начинает проваливаться в зев. Падение сопровождается странным звенящим звуком. До сих пор я думал, что горы сдвигаются с места с грохотом. Но нет, порвалась лишь струна, и ее болтающиеся концы жалобно звенят.
Я еще не закончил письма. Кидаюсь на пол. Растираю онемевшие запястья, необходимо поставить подпись.
Делаю над собой усилие, подписываю письмо. Хочу еще прибавить post scriptum: я сказал правду и только правду — но, пожалуй, это уже будет лишним.
1982
Примечания
1
Русский перевод: Таллинн, 1973.
(обратно)2
Зверев А. Когда пробьет последний час природы… (Антиутопия. XX век). — Вопросы литературы, 1989, № 1, с. 34.
(обратно)3
Чудакова М. Взглянуть в лицо. — В сб.: «Взгляд. Критика. Полемика. Публицистика». М., СП, 1988, с. 387.
(обратно)4
«Кайтселийт» («союз защиты») — военная организация эстонской буржуазии.
(обратно)5
Долог путь до Типперери… (англ.).
(обратно)6
Речь идет о герое произведения классика эстонской литературы А.-Х. Таммсааре «Новый нечистый из Пыргупыхья».
(обратно)7
Популярная актриса того периода.
(обратно)8
В эстонской литературе сказочная обетованная земля.
(обратно)
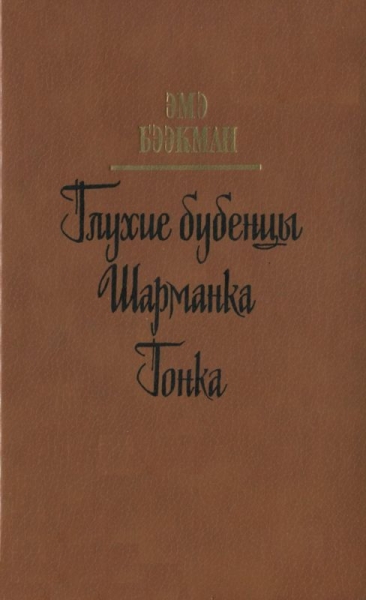


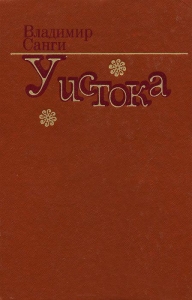
Комментарии к книге «Глухие бубенцы. Шарманка. Гонка», Эмэ Артуровна Бээкман
Всего 0 комментариев