Федор Углов Сердце хирурга
Глава I
После бессонной ночи, проведенной у койки тяжелого больного, оперированного мною, я возвращался домой. Дышалось легко, свободно, и хоть солнце еще не взошло, пряталось где-то за высокими домами, оно угадывалось в игре золотистых бликов, пробегающих по оконным стеклам, по тонкому утреннему ледку лужиц на асфальте.
Радостно было видеть бодрые, повеселевшие лица прохожих – без оружия, без противогазных сумок. Надписи на стенах зданий – с указателями ближайших бомбоубежищ, с предупреждением об угрозе артобстрела – были уже вчерашним днем, тускнели, не подновляемые за ненадобностью краской, и со спокойной деловитостью бежали по улицам автофургоны, помеченные такими будничными и такими дорогими словами: «Хлеб», «Продукты», «Овощи»…
Как волновал он, послеблокадный Ленинград!
У трамвайной стрелки пожилая женщина в брезентовой куртке, по виду заводская работница или строитель, удерживала за плечи рыдающую девушку, а та вырывалась и сквозь слезы твердила: «Нет, нет, нет!..»
Я подошел к ним, спросил, не нужна ли помощь – я врач…
– Никто не поможет мне, никто! – крикнула девушка.
– Глупая! Сумасшедшая! Легла бы под трамвай! – Женщина ругалась и в то же время успокаивала девушку, говорила, что теперь, когда одолели войну, можно поправить любую беду…
– Да, да! – поддержал я, хотя по сбивчивым словам девушки, по затрудненному и специфическому дыханию понял всю безнадежность состояния ее здоровья и все же сказал твердо: «Не делайте глупостей, мы вас вылечим!»
Назвал адрес нашей клиники.
На что надеялся я, обещая незнакомой мне тогда Оле Виноградовой исцеление, избавление от невыносимых мук? Утешить ее, удержать от необдуманного поступка – это было, пожалуй, единственное желание. Ведь мы еще не делали операций, которые могли бы вылечить Олю, мы только нащупывали пути к ним.
Когда же девушка на следующий день пришла к нам, мы, подтвердив для себя клинически серьезность ее болезни, услышали горький рассказ-признание…
Какой может быть интерес к жизни, когда новый день встречаешь в страхе? Из месяца в месяц, из года в год…
Накануне Оля добилась приема у заведующей терапевтическим отделением районной поликлиники.
Заведующая встретила холодно. Она понимала, что ничем не может помочь, и, наверное, от сознания собственного бессилия говорила резко, с досадой:
– Эффективных методов лечения вашей болезни нет. Но все, чем современная медицина располагает, вам назначим…
– Плохо мне, – еле сдерживая слезы, сказала Оля. – Это же невозможно – заживо гнить и неизвестно чего ждать! Ехала к вам, раскашлялась в трамвае – все сразу отхлынули от меня. Такой запах! И вы вот – я же вижу – отворачиваетесь… Как жить?
– Будьте терпеливы, – сказала заведующая, – вас, повторяю, лечат.
– А мне все хуже!
– А вы что ж – на чудо надеетесь?
Заведующая спросила раздраженно и тут же, стараясь смягчить свой безжалостный вопрос, поспешно добавила:
– Успокойтесь, Виноградова. Ступайте к своему участковому врачу – она поможет, сделает все, что в ее силах…
Домой Оля возвращалась, не видя дороги, не замечая ни встречных людей, ни звонкой весенней капели, ни поголубевшего, как бы раздвинувшегося от этой голубизны неба. Ей двадцать второй год, а вокруг – пустота. Проклятая болезнь! Она убивает не только организм; она убила все былые надежды, мечты – об институте, счастливых днях, заполненных работой, отдыхом, когда можно пойти в театр или с компанией друзей уехать за город, в лес… Да только ли это! Как многообразна, содержательна жизнь… для других, но не для нее! Одна лишь Надя, любимая сестричка, утешительница, рядом…
Но почему так несправедливо тяжела расплата за минуты давнего легкомыслия?!
…Светлый, солнечный день поздней осени. Оля вернулась из школы, пообедала в одиночестве – мама и сестра были на работе – и побежала к подруге, за два квартала, на их же улице. Побежала налегке – в плащике, босоножках, с непокрытой головой. А бурые листья срывались с деревьев и падали под ноги.
Они делали с подругой уроки; после русского взялись за математику: было две трудных задачи, решение никак не давалось – провозились до сумерек. А потом увлеклись изобретением причесок, смотрелись в зеркало – какая кому пойдет… Совсем стемнело, на улице поднялся ветер, по оконному стеклу ударяли капли дождя. Оля собрала свои учебники и тетрадки, из-за какого-то глупого упрямства не попросила у подруги чего-нибудь теплого, что защитило бы ее от дождя и ветра. Выскочила из подъезда, отважно бросилась навстречу непогоде.
Дома Олю, озябшую, посиневшую от холода, напоили горячим чаем, уложили в постель. Но в ночь у нее начался жар, температура поднялась до 40°, а к утру девушка впала в беспамятство. Врач признал крупозное воспаление легких.
Болезнь протекала трудно. Лишь на восьмой день Оля пришла в себя, температура стала снижаться, хотя еще в течение месяца упорно держалась на 37,4–37,5°. Мучил кашель. Ни температуру, ни кашель, ни общее недомогание не могли сбить даже эффективные по тому времени лекарства и уколы.
Все же учебный год Оля закончила успешно, перешла в девятый класс. Чудесное лето с его живительным теплом и отрадным чувством свободы заставило позабыть недавние мрачные дни. Но лето промелькнуло быстро, а осенью, в пору холодных дождей, Оля, неведомо как простудившись, снова слегла в постель. Было обострение легочного процесса с повышением температуры и приступами кашля.
К желанному аттестату зрелости Оля шла через приступы болезни. В часы отчаяния поддерживала мечта: поступлю в медицинский институт, буду учиться, чтобы предостерегать людей от неожиданных болезней… Но все ее планы и налаженная жизнь семьи рухнули, сплетенные грозным словом: война! Отец в первые же дни ушел в народное ополчение и погиб. Суровой блокадной зимой умерла от истощения мать, отдававшая часть своего полуголодного пайка ей, Оле. Практичной, волевой Наде каким-то образом удалось устроить сестру истопницей при военной кухне, и, вероятнее всего, только благодаря этому Оля перенесла блокаду.
Обострения болезни все чаще укладывали ее в постель – на длительное время. Возле была верная Надя, рвалась, тянулась из последних силенок – лишь бы Оленьке стало получше! Но болезнь неумолимо прогрессировала. Температура почти постоянно была повышенной. Оля лежала, бездумно глядя в потолок, безразличная ко всему окружающему.
Однажды лучиком надежды промелькнуло сообщение, вычитанное в медицинском журнале. Оказывается, при такой, как у нее, болезни все же делают операции – разрезают гнойники. Правда, в журнале писалось, что после таких даже успешно проведенных операций раны часто не заживают, остаются открытыми. И хоть страшно было представить себя на операционном столе – Оля обратилась к хирургу. Тот внимательно осмотрел ее и, вздохнув, развел руками: операцию, которая нужна ей, – увы! – в Ленинграде не делают. Луч надежды как мгновенно вспыхнул, так же мгновенно и погас…
В тот день, когда Оля была у заведующей отделением районной поликлиники, она, вернувшись домой, из случайно подслушанного разговора узнала: Надя только из-за нее не выходит замуж за любимого человека, из-за нее жертвует своим счастьем.
Вот тогда-то я и повстречал у трамвайной стрелки отчаявшуюся Олю. И этот роковой случай стал для меня толчком к ускорению большой, дотоле неведомой работы…
Гнойные заболевания легких, хронические пневмонии с бронхоэктазами и абсцедированием, пожалуй, – самая мрачная страница в истории терапии и хирургии. Терапевтическое лечение давало лишь кратковременный эффект, и большинство больных погибали от интоксикации и амилоидоза почек.
В то время (вторая половина сороковых годов) лишь немногие хирурги осмеливались вскрывать абсцессы или же по частям извлекать изгнившее легкое. Смертность от таких операций была высокой, а у перенесших операцию часто оставались бронхиальные свищи или раны.
Сколько раз в военные годы мы с горьким чувством беспомощности стояли у постели раненных в грудь, не зная, как им помочь. Они требовали операций, методика и характер которых были нам не ясны. Поэтому уже в конце войны, и особенно после нее, мы стали специально заниматься этой проблемой, много читали, экспериментировали.
Из отрывочных сведений, доходивших до нас, было известно: некоторых успехов в этой области достигли хирурги США. Крупицы их опыта были рассеяны по страницам специальных журналов на английском языке. Стало ясно: без хорошего знания языка не обойтись. И я обратился за помощью к Надежде Алексеевне Живкович. За счет скудного времени, что после работы оставалось на отдых, брал уроки – два раза в неделю по полтора-два часа. Заставлял себя литературу, в том числе и художественную, читать только на английском, со словарем, конечно; чуть ли не каждое слово выписывал в тетрадь, особенно поначалу.
Помню, первую статью по хирургии легких, небольшую по объему, я читал ровно месяц, заполнив незнакомыми словами и непонятными оборотами речи всю тетрадь. Надежда Алексеевна, кажется, была довольна мною как учеником, а я с радостью первоклассника воспринимал даже мало-мальскую похвалу… И вскоре читал уже не облегченные издания, что выпускаются как пособия для изучающих язык, а обычные книги на английском. И хорошо запомнил, как называлась первая из них – «Scarlet pimpernel». Роман из времен первой Французской революции. Увлекательная по содержанию, она стала дорога мне: сдан экзамен самому себе – читать умею!
И чем больше я знакомился с литературой по лечению заболевания легких, тем настойчивее ощущал внутреннюю потребность вплотную заняться этой проблемой. Представлялось, что мы стоим на пороге ее решения – больше упорства, больше усилий… Порог переступить можно и нужно! От статей на английском перешел к немецким журналам – хотя с трудом, но справлялся сам; французские же статьи переводила Надежда Алексеевна.
Осенью 1945 года в клинику поступила больная с множественными гнойниками в нижней и средней долях правого легкого. Чтобы вывести ее из тяжелого состояния, мы применили все, что было известно и доступно из консервативных и оперативных методов лечения. Решились даже на операцию: пересекли диафрагмальный нерв, чтобы парализовать движение диафрагмы…
Больной стало лучше, но болезнь не прошла, и гнойники в легких остались. Чувствуя себя подготовленным к радикальной операции, я обратился к нашему руководителю Николаю Николаевичу Петрову с просьбой разрешить ее провести.
– Рано, папенька, рано, – сказал он. У Николая Николаевича было обыкновением называть своих помощников «папенькой».
Я, досадуя в душе, понимал профессора: подобной операции мы не только никогда не делали, но даже не видели, как ее делают.
Веру Игнатьеву – так звали молодую, двадцатипятилетнюю женщину – мы лечили восемь месяцев, стараясь улучшить ее состояние то местным, то общим воздействием. Все это время я разрабатывал методику удаления двух долей легкого. Наконец Николай Николаевич разрешил мне оперировать Веру.
После были сотни самых сложных операций, но эта, конечно, незабываема. Трудная сама по себе, она была еще и шагом в неизведанное…
Первое в жизни вскрытие грудной клетки, в то время как в памяти еще свежи сообщения, что какой-то больной умер от одного прокола плевры… Плевропульмональный шок!.. При одной мысли, что я должен широко раскрыть грудь больного, мое собственное сердце сжималось от страха… А тут еще сложность: оказалось, что я не могу вскрыть грудную полость. Она была в прочных спайках, почти в рубцах, и вся анатомия легкого, которую я так тщательно изучал, изменилась до неузнаваемости. Надо было подобраться к корню легкого, к его сосудам, но всякая попытка разделить спайки приводила к кровотечению.
Пишу эти строки и как бы заново переживаю свое тогдашнее состояние…
Операция длится уже более двух часов. Наркоз не безукоризнен, местная анестезия из-за спаек малоэффективна. А я между тем никак не могу обнаружить сосуды, чтобы их перевязать. Сплошные рубцы. Чуть подашься к центру – того гляди перикард вскроешь, сердце поранишь. Пробую отделить спайки к периферии – задеваю легкое, оно кровоточит. А к тому месту, где должны быть сосуды, никак не подберусь! Разделяя рубцы, можно легко поранить крупный сосуд, вызвать кровотечение… Как тогда его остановить?
Но сколько топтаться на месте? Не может же операция длиться без конца.
Несмотря на непрерывное переливание крови, начало снижаться кровяное давление – грозный предвестник тяжелого шока!.. Прерываю операцию, даю больной отдохнуть чтобы давление снова поднялось.
И опять все усилия напрасны – никак не могу обнажить сосуды. От сознания, что мне ничего не удастся сделать и больная погибнет на операционном столе, я покрылся холодной испариной. Вся воля нацелена на то, чтобы сохранить самообладание, ясность мысли, твердость рук… Николай Николаевич, пристально следивший за операцией, отлично понимавший ее трудность и мою беспомощность в борьбе со спайками, тихо сказал:
– Что ж, папенька, видимо, не удастся раздельно перевязать каждый сосуд. А больная может не выдержать… Придется корень легкого между зажимами пересекать небольшими участками и тщательно их прошивать. Иначе корень в спайках вам, папенька, не разделить…
Как благодарен был я учителю – искренне и глубоко переживал он и за больную, и за меня. И словно второе дыхание пришло, зажглась светлая искорка надежды… Действительно, почему не применить метод, не раз описанный в литературе? Он не совершенен – это ясно, но когда нет другого выхода, как быть? Действовать!
Я стал захватывать ткань в том месте, где должны проходить сосуды, пересекать и прошивать. Постепенно, идя в глубь корня легкого, подобрался к крупному сосуду.
– Осторожно, папенька, – словно уговаривал меня Николай Николаевич, и как я ни был в те минуты взволнован сам, чувствовал волнение своего наставника – не порвите сосуд, не спешите… Пока все идет хорошо. Вы молодец, папенька…
Слова Николая Николаевича помогли мне собраться, еще осмотрительнее и в то же время увереннее продолжать операцию. И вот – наконец-то! – легочная артерия перевязана и пересечена. Важный этап пройден. Но подобных этапов в операции еще несколько.
Миллиметр за миллиметром шел я к нижней легочной вене и перевязал ее без осложнений. Остался бронх – в окружении лимфатических узлов и мелких сосудов. Его нужно обработать, чтобы не вызвать излишней потери крови. Давление и без того низкое… Пришлось второй раз делать перерыв.
И вот последний этап – спайки. Они прочно держат легкое, к ним так трудно подойти, что пришлось дополнительно пересекать рёбра и расширять рану, продлив ее от грудины до позвоночника. Весь мокрый от пота, я опасался, как бы под конец не ошибиться, не допустить непоправимое. Наконец, выделив доли из спаек, удалил их из плевральной полости. И впервые за много часов расслабил собственные мышцы. Все!..
Операция продолжалась четыре часа – долгих, как день. Не осталось, кажется, никаких сил, но расслабиться можно было лишь на секунды – перед нами лежал человек, в котором едва теплилась жизнь.
Я подробно рассказываю об этой операции и расскажу о некоторых других, потому что уверен: в книге о труде хирурга такие описания просто необходимы. Легко сказать – сделал операцию, но давайте хоть немного проследим, что же стоит за этими словами, постараемся понять, какова ответственность и та нагрузка, которая ложится на хирурга.
А пока – вернемся к Вере Игнатьевой. Всю ночь и последующие трое суток мы не отходили от больной. Пульс у нее был сто шестьдесят ударов в минуту, слабого наполнения. Николай Николаевич Петров днем и ночью по нескольку раз заходил в палату – давал советы, подбадривал нас. И сейчас, через годы, слышу глуховатый голос, чувствую успокаивающее прикосновение чутких пальцев. Как это важно, когда твой учитель вовремя оказывается рядом, душевным словом и мудрым замечанием поддерживает тебя!..
На восьмой день Николай Николаевич, посмотрев Веру Игнатьеву и выйдя из палаты, сказал мне:
– Ну, папенька, если ты и был грешен в чем – все грехи снимаю. Дело идет на поправку. Поздравляю!
А через два месяца Вера Игнатьева выписалась из клиники в хорошем состоянии. Температура была нормальной впервые за много лет.
Это была победа. Большая победа. И хотя, вполне понятно, мы радовались ей, эта победа показала нам, как мы еще слабы, как мало умеем! В процессе операции выявились серьезные недостатки. Было много неясного, как предупреждать операционные осложнения, как бороться с ними.
К этому времени стали вырисовываться контуры моей будущей докторской диссертации.
…Собрав всех нас, Николай Николаевич Петров распределял темы, говорил, кому написать журнальную статью, кто должен приступить к кандидатской диссертации, а кто – к докторской. Волнуясь, я ждал – что мне? На днях я сказал Николаю Николаевичу, что хочу взять тему докторской диссертации по хирургии легких. Он промолчал. А сейчас, не дойдя до моей фамилии, закрыл совещание…
На другой день опять, как до меня дошел, – закончил разговор.
Подождав, пока все разойдутся, я попросил у Николая Николаевича разрешения поговорить с ним, вновь твердо повторил свое:
– Хочу разработать тему «резекция легких».
– Какой вы, однако, настойчивый, папенька, – покачав головой, сказал Петров то ли с похвалой, то ли, наоборот, с осуждением. – Я ведь не специалист в этой области и не смогу быть полезным вам как руководитель.
– Сможете! – с невольным жаром и, вероятно, очень убедительно заверил я. – В специальных вопросах постараюсь разобраться сам, с помощью книг, а общее руководство и направление будут ваши, Николай Николаевич!
Учитель думал.
– Ну вот что, папенька, – наконец сказал он, – два месяца сроку вам! Познакомитесь в основных чертах с состоянием этой проблемы, а потом скажете мне, какие вопросы подлежат разработке…
В назначенный срок я обстоятельно рассказывал Николаю Николаевичу о том, что в отечественной литературе совершенно не разработаны ни показания, ни методика, ни возможные осложнения при резекции легких.
– Как видите, Николай Николаевич, есть чем заняться, – закончил я как можно спокойнее, а сам в тревоге ожидал окончательного решения. Клинику этого вопроса постараюсь дополнить экспериментами и анатомическими изысканиями…
Тема моей диссертации была включена в трехлетний план работы кафедры. Однако хочу оговориться. О диссертации упоминается здесь только потому, что впоследствии в ней удалось обобщить определенный опыт, раскрыть новое направление в хирургии. Изданная отдельной книгой, она стала помощником в работе для многих хирургов… Меня же в тот период мало занимала чисто научная деятельность: интересовали и беспокоили люди, нуждавшиеся в помощи, люди, которых нужно было спасать.
После операции Веры Игнатьевой я с еще большей осторожностью стал думать о возможности новой подобной операции. До этого – пока изучал книги и экспериментировал на животных – думалось: сложно, но сумею! А оказалось: между экспериментом и книгой, с одной стороны, и операцией у больной, с другой – дистанция огромного размера. Ведь по сути Вера Игнатьева осталась жива чисто случайно!
Прежде всего не было ясно: правильно ли мы ставили показания к операциям, правильно ли решали вопрос, кого надо оперировать, а кого лечить консервативно? Этот вопрос в отечественной литературе не был освещен, и я усиленно читал все доступное в библиотеках Ленинграда, особенно на английском языке. Затем, обобщив данные и свой скромный опыт, написал первую статью по грудной хирургии.
Другое, к чему я стремился, – постичь все детали резекции легких. Нужно заметить, что в те годы большинство хирургов отвергало турникетный метод операции, то есть пересечение всего корня легкого или доли его, пережатого турникетом. Указывалось на огромные преимущества раздельной перевязки элементов корня легкого или доли – каждого сосуда и бронха отдельно – метода трудного и неотработанного. Поэтому, читая статьи разных авторов по методике резекции, я на трупах проверял рекомендации, вырабатывая свое суждение. Результаты поисков были представлены мною в виде обзора по методике резекции легких, опубликованном в «Вестнике хирургии».
Анатомический зал! Сколько часов проведено у его холодных столов, какие невероятные варианты возникали в голове, когда надо было приоткрыть завесу той или иной тайны…
Четырнадцать длинных месяцев с упорством сражающихся бойцов искали мы неизвестное в поставленной перед собой задаче: успешная резекция легких. Четырнадцать месяцев – от первой операции к следующей… И, право, не из-за любви к пышнословию вспомнил я тут про бойцов. У нас был именно передний край.
Разговаривая со мной, Оля Виноградова прикрывала рот платком, отворачивалась в сторону. Однако я все равно чувствовал тягостный запах гниения, и нужно было следить за собой, чтобы случайно не показать этого, не обидеть ее лишний раз! На лице Оли были то отрешенность и безразличие ко всему, то вдруг оно искажалось глубоким страданием, душевной мукой, взгляд становился затравленным, жалким, и слезы, слезы… Человеческое горе во всей своей безысходности!
Как хотелось вернуть девушку в полузабытый ею мир земных радостей. Но ведь придется удалить все легкое! Предстояла операция, подобной которой не встречалось в практике нашей страны. Мы только знали, что попытки некоторых крупнейших хирургов сделать то, что теперь хотели сделать мы, или кончались печально, или осложнения сводили на нет результаты напряженной работы.
– Вы обещали мне, – говорила Оля, – обещали!
– Вашу болезнь без операции не вылечишь, – объяснял я ей. – А подобных мы пока не делали…
– Вы обещали! – твердила Оля в слезах.
– Сделать такую операцию – великий риск, – отвечал я. – Мы не можем идти на этот риск.
Однако в моем голосе, видимо, не чувствовалось категорического отказа, и Оля уловила это. Успокоившись, твердо сказала:
– Вы знаете, что я обречена. Если не будет операции – не будет никакой надежды на спасение. Умоляю – не отказывайте… Я все равно так больше жить не могу… И не хочу! Я опять… Я покончу с собой!
Последнее было сказано с такой осознанной решимостью, что я не сомневался: она исполнит задуманное.
– Хорошо, Оля, – ответил я. – Вы ляжете к нам в клинику на обследование… Не падайте духом.
Тщательно проведенное обследование подтвердило односторонний характер поражения: правое легкое оставалось здоровым, а левое было полностью поражено мешотчатыми бронхоэктазами. Функция его была ничтожна. Оно представляло собою источник интоксикации и балласт для сердца. Ведь сердцу приходилось проталкивать кровь через нефункционирующее легкое.
Провели лечение, чтобы улучшить состав крови, уменьшить интоксикацию. Оля почувствовала себя лучше, мы увидели первую слабую улыбку на ее лице. Главное: она надеялась!
Меня же в то время смущало не только отсутствие хотя бы мало-мальского практического руководства по проведению подобной операции. Останавливала собственная неудачная попытка удалить правое легкое у больного. Такая попытка была, и хоть она принесла мне некоторую известность среди врачей, но перед самим собой я должен был признать свою неподготовленность, понял, какие незапланированные, неожиданные трудности кроются в этой операции…
То была операция больного Рыжкова, сорока двух лет, поступившего к нам с множественными гнойниками правого легкого. Консервативное лечение не принесло ему облегчения, и Николай Николаевич Петров на этот раз уже сам посоветовал мне сделать операцию, тем более что общее состояние Рыжкова позволяло идти на риск. Операция была назначена на 7 января 1947 года.
При вскрытии грудной клетки мы обнаружили большое количество спаек, которыми все легкое фиксировалось к грудной стенке. С немалыми усилиями удалось подобраться к корню легкого, обнажить легочную артерию.
Огромный сосуд с тонкими стенками был перед моими глазами. Требовалось обойти его со всех сторон. Спайки мешали этому, а любое форсирование могло привести к разрыву стенок сосуда, и тогда – катастрофа. То были минуты сильнейших душевных переживаний и сомнений!
Бережно, с огромным трудом удалось обойти пальцем сосуд, провести лигатуру и перевязать его. И сразу – падение давления до угрожающего показателя! Прервали операцию и довольно долго ждали. Давление застыло на критических цифрах. А нужно было преодолеть еще и другие травматичные моменты – перевязать верхнюю и нижнюю легочные вены, перерезать и ушить бронх, разделить спайки между легким и плеврой. Разве Рыжков выдержит – при таком-то давлении? И невозможно ждать, когда оно поднимется, – сколько можно больному быть с открытой грудной клеткой?..
Что делать? Продолжать операцию – шок и – верная смерть. А не продолжать нельзя. Из литературы я знал, что перевязка легочной артерии в эксперименте над животными заканчивалась некрозом легкого и гибелью подопытного. А у человека еще никто артерии не перевязывал… Никогда я не чувствовал себя таким беспомощным!
В операционную вернулся отлучившийся ненадолго Николай Николаевич, потеснил нас, подавленно стоящих у стола, спросил:
– Сколько времени держится низкое давление?
– Около часа, – ответил я, – падение вторичное, почти не имеет тенденции к подъему…
– Кончайте операцию. Осторожно зашивайте рану, не прекращая борьбы с шоком.
– А как с легким? – взволнованно спросил я. – Легочная артерия-то перевязана!
– Выхода, папенька, нет, – сурово сказал Николай Николаевич. – Кончайте! Может быть, обойдется.
Последние слова учитель сказал уверенно и обнадеживающе.
Зашили рану грудной клетки, приложили все свое умение, чтобы вывести Рыжкова из шока…
К нашей радости и к удивлению, больной стал быстро поправляться, выделение мокроты прекратилось, температура была нормальная. Он пожимал мне руку, благодарил за избавление от страданий. Что я мог ему сказать? Объяснял сдержанно, что проведена лишь первая часть операции – перевязана легочная артерия, что – вполне вероятно – придется ему, Рыжкову, снова ложиться под нож…
– Конечно, конечно! – охотно соглашался он, полагая, что вся операция проходила по строго задуманному плану, радуясь, что уже после первого этапа он как бы заново вернулся к жизни – здоров, можно сказать. – Я понимаю, я готов!
Нужно отметить, что Рыжкова после операции мы наблюдали многие годы. Он чувствовал себя нормально, обострения легочного процесса у него не наблюдалось. Бесконечно благодарный нам, он охотно приезжал по вызову – для контроля или демонстрации. В свой последний приезд вдруг заявил мне:
– Не могу примириться, Федор Григорьевич!
– С чем же?
– Почему вас зовут доцентом, а не профессором!
– Рано мне в профессора, – отшутился я, невольно подумав при этом, какой нравственной перегрузки стоила мне операция Рыжкова.
– Не рано, – убежденно ответил он. – А если вам для звания профессора понадобится удалить мое второе легкое, – я готовый, хоть сейчас!
Добрый человек! Говорил он это так серьезно, что похоже было – не шутит!
Операция перевязки легочной артерии у человека, от которой он не только не умер, но даже избавился от гнойного заболевания, произвела в медицинском мире громадное впечатление. Она обещала новые перспективы, новые открытия… В газетах писали обо мне, что я – «впервые в мире…» и тому подобное. Было, не скрою, лестно читать и слышать подобные слова, однако обострилось чувство ответственности. Я хотел не случайных удач, а надежных добытых опытом результатов, которые были бы уже системой…
Еще несколько раз применяли мы подобную операцию у других больных – уже сознательно и, как ни странно, такого поразительного успеха, как в случае с Рыжковым, добивались не всегда. Забегая вперед, скажу, что позже я поручил разработать более детально эту проблему А. В. Афанасьевой в ее докторской диссертации, с чем она, по-моему, неплохо справилась. Тогда же мы долгое время не могли установить, почему легкое у больного не омертвело, в то время когда в эксперименте у животных оно всегда омертвевало. А суть была вот в чем… Перевязка легочной артерии приводила к резкому обескровливанию легкого, но через спайки с грудной стенкой образовывался коллатериальный (запасной) путь кровоснабжения, поддерживающий питание легкого. В то же время недостаточное кровоснабжение из-за перевязки главного сосуда приводило к сморщиванию легкого и постепенному запустению гнойных полостей. Так что, сделав эту операцию отчаяния по совету Николая Николаевича, мы – пусть и случайно, однако для пользы дела – получили хороший результат. Было основание радоваться этому? Разумеется.
Приблизительно в это же время ситуация, подобная нашей, возникла в операционной у А. Н. Бакулева, и он, как и мы, вынужден был непредусмотренно закончить операцию после перевязки легочной артерии. Его больной, как и наш Рыжков, почувствовал себя здоровым. Однако отдаленные результаты А. Н. Бакулев, к сожалению, не опубликовал…
Вот что мы имели в своем активе в те месяцы, когда роковой, как я его окрестил для себя, случай столкнул меня и Олю Виноградову.
А к Оле все в клинике привязались. Бывало, зайду в палату:
– Здравствуй, Оля!
– Ой, Федор Григорьевич, а к нам на окошко птица садится!
– Какая же птица?
– Красивая. Перышки чистит. Мы ее кормим.
Ожившие глаза смотрели с надеждой. Оля надеялась на нас, была уверена, что после операции к ней вернутся счастливые дни.
Операция состоялась 5 июня 1947 года.
Применили разработанный мною волнообразный разрез с пересечением ребер. Невероятного напряжения стоило освободить от спаек легочную артерию и перевязать ее с великой осторожностью, чтобы нитка не соскользнула, но и не перерезала тонкую стенку артерии. И все это в глубине, где так легко поранить аорту и легочную вену! Тут малейшая ошибка, неосторожное, нерассчитанное движение и – непоправимая беда. Я собрал волю, что называется, в кулак, старался ничем не выдать своего волнения. И мне, и неизменным моим ассистентам – Александру Сергеевичу Чечулину и Ираклию Сергеевичу Мгалоблишвили – необходимо было сейчас как никогда проявить все свои способности и умение.
В конце концов артерия была перевязана, прошита и пересечена; кровяное давление у Оли не упало, состояние не ухудшилось, и мы позволили себе сделать небольшой перерыв… Второй же этап операции при перевязке нижней легочной вены заставил пережить нас ужасные минуты. Из-за фиброза легочной ткани и смещения левого легкого в больную сторону эта вена оказалась глубоко в средостении, прикрытая сердцем и почти недоступная для хирурга. Чтобы ее обнажить, наложить на нее лигатуры, прошить и перевязать, ассистент, помогая мне, должен был довольно сильно отодвигать сердце вправо. Но сердце плохо переносит любое прикосновение, а тем более насильственное смещение… Олино сердце тут же отозвалось дополнительными и неправильными сокращениями (аритмия), и врач, непрерывно измерявший по ходу операции кровяное давление, тревожно сообщил, что оно катастрофически падает. Сердце Оли грозило остановиться. И мы вынуждены были на какое-то время отступить, дать сердцу возможность выровняться.
Ассистент вновь отодвинул сердце для продолжения операции, и через несколько минут – новый перерыв. За ним – другой, третий… Сердце с каждым разом все труднее возвращалось к нормальной работе. Стремясь как можно быстрее закончить перевязку и пересечение вены, я вынужден был предостерегать себя от торопливости. Вена натянута, и если она выскользнет из лигатуры – конец… Остановить кровотечение из короткой культи нижней легочной вены практически невозможно.
Годы спустя, с приобретением опыта, мне, правда, удавалось это сделать. Однако что за мучения были!.. Но в тот день, несмотря на большой соблазн закончить операцию как можно скорее, у меня все же хватило выдержки и хладнокровия с особой тщательностью перевязать и прошить сосуд. А когда убедился, что перевязка сделана безупречно, пересек вену…
Операция продолжалась три часа сорок минут. Три часа сорок минут и почти два года работы над книгами, эксперименты над животными и анатомические изыскания… Три часа сорок минут за операционным столом плюс многомесячное обдумывание каждой детали. И конечно же опыт первых трудных и весьма поучительных операций. И длительная, самая тщательная подготовка больной, направленная на укрепление ее сил, которая никак не укладывалась в «средний койко-день», но которая принесла значительное улучшение состояния Оли: мокроты стало меньше, выровнялась температура и картина крови…
После операции покой не наступает – ни для больного, ни для операционной бригады. Или, вернее, он приходит, но не сразу. Как только местное обезболивание перестает действовать, болевые импульсы с огромной операционной раны устремляются к мозгу, а это, как правило, вызывает падение у больного кровяного давления… Борьба за жизнь человека продолжается.
И в тот день – полутора часов не прошло (я отлучился, чтобы выпить стакан чаю) – ко мне прибежали с тревожным известием: Оле плохо!
Она лежала белым-бела, с очень слабым и частым пульсом, безразличная ко всему. Срочно ввели морфий, струйно начали вводить кровь, наладили дыхание кислородом… Розовели Олины щеки, дыхание стало ровным, хорошим. Двое суток мы не отходили от нее, пока угроза не миновала. А в последующие дни особое внимание обращали на то, чтобы рана и плевральная полость не нагноились.
Тогда у нас не было никакого опыта в выхаживании подобных больных после операции. Как горячо дискутировали мы, собираясь в ординаторской, как спорили, находя нужное решение! А порой, разгоряченные, все вместе шли в библиотеку – искать ответ в книгах.
Как сейчас помню раздумчивый кавказский акцент Ираклия Сергеевича, его по-юношески пытливый взгляд, чистоту и доброту которого не могли погасить прожитые годы войны.
– Федя, а не лучше ли нам откачать всю кровь из плевры, чтобы случайно не нагноилась?
– А чем будет заполнена плевра, когда воздух всосется? – вступает в разговор Александр Сергеевич.
– Ну, диафрагма поднимется, ребра опустятся, постепенно чем-нибудь заполнится…
– Чем-нибудь она не может заполниться, – говорю я. – Туда, откуда всосется воздух, сместятся сердце и сосуды. А сосуды из-за смещения могут перегнуться, резко затруднят работу сердца.
– Подумать нужно, – не сдается Ираклий Сергеевич.
– Я согласен с Федей, что кровь откачивать не следует, – это опять Александр Сергеевич. – Кровь свернется и зафиксирует сердце на месте…
– А угроза инфекции?
– Угроза реальная, – соглашаюсь я с Ираклием Сергеевичем. – Будем на страже! Зато если не откачаем кровь, позднее Оле будет легче…
– Это да, – кивает головой Ираклий Сергеевич. – Но надо думать, друзья, думать! Вы знаете, что Оля мне сегодня рассказала? Сон видела: луг в ромашках, и она бежит по нему. Бегу, говорит, Ираклий Сергеевич, бегу!..
И было славное чувство в душе: рядом с тобой такие же, как ты сам, увлеченные люди, они твои товарищи по работе, мы понимаем друг друга… Как много это чувство значит для дела и как часто нам в жизни не хватает его! В ту пору я был счастлив, что нахожусь среди хороших людей, что во главе нашего коллектива стоит мудрый и благородный Николай Николаевич Петров.
Не забыть ту доброжелательность, с которой Николай Николаевич относился ко всем нововведениям, ко всем моим предложениям, направленным на разработку проблем легочной хирургии. Он лично не принимал участия в этих операциях, но часто успех нашей работы держался на вовремя поданном им совете. С бескорыстием большого человека все, что знал и умел сам, он щедро отдавал нам…
Мы не слышали от него упреков, когда случались неудачи. Николай Николаевич понимал, что они не от небрежения, а от недостатка опыта. На тернистой же тропе нового дела нас всегда поджидают непредвиденные неожиданности. Глубоко переживая наши неудачи, он в то же время оберегал нас от излишних эмоциональных потрясений, подбадривал и одновременно всем своим поведением показывал пример самого заботливого отношения к больным. Интересы больного человека ставились им превыше всего. И прогресс науки Николай Николаевич Петров прежде всего расценивал как помощь страждущему человечеству… В книге я еще не раз вернусь к этому дорогому для меня имени.
С Александром Сергеевичем Чечулиным мы оба были доцентами, но я заведовал отделением, а он исполнял обязанности заведующего клиникой. Однако за все годы нашей совместной работы Александр Сергеевич ни разу даже косвенно не намекнул о своих формальных правах давать мне те или иные указания… Его отношение ко мне и другим строилось на уважении, стремлении помочь в новых начинаниях, не было в нем ни зависти, ни боязни, что кто-то обойдет его. Это была, конечно, школа Петрова. Александр Сергеевич беззаветно любил медицину, в совершенстве освоил профессию хирурга. Жаль только, что, будучи заядлым спортсменом, он отдавал своему увлечению слишком много времени – докторская диссертация оказалась ненаписанной, и хотя он был прекрасным хирургом, опытным преподавателем, после того как ушел из института Н. Н. Петров, его не оставили заведующим кафедрой. На этот пост был избран другой специалист, имевший докторскую степень.
При всех моих операциях Александр Сергеевич ассистировал первым ассистентом, а вторым, как уже упоминалось выше, был Ираклий Сергеевич Мгалоблишвили, ныне профессор. В клинику он пришел с опытом, полученным на фронте. Энергичный человек, способный хирург, Ираклий Сергеевич защитил кандидатскую диссертацию и вскоре перешел в Военно-медицинскую академию, стал там доктором наук и занял кафедру хирургии в одном из периферийных вузов…
Благополучно законченная операция у Оли Виноградовой была для нас не случайной победой. Ей предшествовала двухлетняя кропотливая подготовительная работа. Операция положила начало более быстрому развитию этого раздела хирургии в клинике Н. Н. Петрова. Вслед за ней мы провели несколько подобных – по удалению долей легкого, затем по удалению всего легкого при абсцессе…
Интерес к работе клиники был необычен. Наши заявки на демонстрации и доклады в Хирургическом и Терапевтическом обществах принимались и включались в повестку дня сразу. Мы почувствовали даже то, что, вероятно, постоянно чувствуют удачливые люди искусства, – настойчивое внимание к себе со стороны других, ощущение внезапно пришедшей к тебе известности, чуть ли не славы. Однако когда серьезно работаешь и конца работы не видно, ты поневоле далек от праздного самолюбования. Были дороги теплота и уважение коллег, основанные на понимании твоих устремлений.
Запомнилось, например, такое. Однажды я услышал, как два хирурга средней квалификации обсуждали мое выступление, и один, не видя, конечно, меня, сказал:
– А толковый этот парень Углов!
– Да, – согласился другой, – и молодой совсем!
Выглядел я тогда действительно молодо: черные волосы, невысокий рост, спортивная фигура. Рядом с Чечулиным и Мгалоблишвили, рост которых был как у хороших баскетболистов, я, конечно, проигрывал – не та солидность. Да еще Н. Н. Петров как-то по-домашнему, сердечно называл меня всегда Федей, а Феде, замечу, было уже за сорок.
Возможно, мой внешний «несолидный вид» внушал определенное недоверие некоторым маститым хирургам, в то время тоже приступавшим к освоению проблем хирургии легких. Лично же я с большим уважением относился к каждому из хирургов, кто работал в этой области, удовольствием вспоминаю совместное выступление с Петром Андреевичем Куприяновым в Терапевтическом обществе.
Я демонстрировал двух своих первых больных – Веру Игнатьеву и Олю Виноградову. Обе чувствовали себя прекрасно. И все же было у меня некоторое ощущение робости. Еще бы – сам Куприянов, всесоюзная знаменитость, признанный авторитет, и я с ним… Попросил совета у Николая Николаевича. Тот внимательно, как на репетиции, прослушал мое выступление и сказал:
– Вам отводится для демонстрации семь минут, а вы, папенька, разбежались на целых девятнадцать. Вот это сократите и это… Кроме того, рекомендации излишне категоричны, а больных излеченных – всего двое. Хотя эффект разительный, но все же, Федя, – их двое, а не двадцать! Я советую вам никаких рекомендаций обществу не давать, а закончить свое выступление вот такими словами…
И Николай Николаевич привел их мне.
На заседании общества, показав хороший результат операций у больных, раскрыв по клинической картине и по бронхограммам их состояние до операции, я закончил выступление следующим образом:
– Вместо выводов разрешите мне сослаться на слова одного французского философа, о которых мне напомнил мой учитель Николай Николаевич Петров: «Я ничего не предполагаю, я ничего не предлагаю, я только излагаю и прошу вас самих сделать вывод из изложенного».
Под аплодисменты я прошел на свое место, стал слушать доклад П. А. Куприянова. Он продемонстрировал больную, которой – приблизительно в то же время, что и я, – удалил левое легкое. Выводы его доклада совпадали с моими данными. И в дальнейшем наши выступления нередко перекликались, мы как бы дополняли друг друга.
Уже будучи заведующим кафедрой госпитальной хирургии 1-го Ленинградского медицинского института, я в 1951 году демонстрировал больного, у которого удаление пораженного раком легкого было произведено при внутриперикардиальной перевязке сосудов. Такая методика демонстрировалась впервые в нашей стране. Не было сомнения в ее прогрессивности: она расширяла технические возможности хирургов, способствовала увеличению операбельности таких больных. Поэтому на заседании общества слышались только одобрительные голоса. Лишь представитель клиники П. А. Куприянов сдержанно сказал, что они этой методикой не пользовались и что-либо говорить в ее пользу у них нет оснований…
Примерно через год я выступал уже с докладом на эту тему: сообщил о семнадцати операциях при раке легкого с внутриперикардиальной перевязкой сосудов. Преимущества этого метода теперь уже доказывались на большом материале. В прениях взял слово Петр Андреевич Куприянов и, ссылаясь на меня, подтвердил надежность внутриперикардиальной перевязки сосудов легкого. Закончил он выступление неожиданным сообщением, что этот метод теперь широко применяется в их клинике.
– Мы с вами в одной упряжке идем, – сказал он мне с улыбкой во время перерыва. – А в упряжке должен быть надежный коренник. Так ведь?
Здоровье – это счастье человека. И нужно было видеть сияющие глаза Оли Виноградовой, слышать ее звонкий смех! Надя говорила мне, что забыла, как улыбается сестра, а теперь… Оля резвилась, как маленькая – бегом, бегом, бегом… На четвертый этаж взбегала по лестнице, не чувствуя одышки, а ведь до операции на второй этаж поднималась с трудом, поддерживаемая нянечкой. Не было границ ее радости.
– Федор Григорьевич, – приметив меня во дворике, кричала она из раскрытого окна, – вы идете и ничего не видите!
– А что я должен увидеть?
– Все, что вокруг вас! – И смеялась.
И я, встряхнувшись, замечал, какой на самом деле хороший денек, небо высокое, чистое, много солнца и мягкой спокойной синевы…
Появились в нашей клинике и другие больные, подобные Оле, гладко прошли операции и у них, они хорошо чувствовали себя в послеоперационный период.
Однако меня не покидало смутное ощущение тревоги: на первых порах нам посчастливилось, но знаем-то мы еще мало!.. Особенно заметно выявилось это, когда в клинику стали поступать больные с хроническими абсцессами. Их тяжелое состояние было серьезным препятствием для операции. У них так резко падало артериальное давление, что приходилось делать долгие перерывы в операции, а порой – просто немедленно прекращать ее, лишь бы снять больного живым со стола! Были случаи с печальным исходом…
Смерть больного всегда тяжело переживается хирургом, и вдвойне тяжелее, если происходит при разработке новых разделов хирургии. Тут и сам факт смерти человека, который надеялся на тебя и к которому ты привык сам; тут и угроза успешному продолжению начатого тобой дела… Умрет больной во время операции или после нее – места не находишь, терзаешься, упрекаешь себя во всех возможных и невозможных ошибках и упущениях.
Не все способны понять, как сложен, а иногда и драматичен труд хирурга, прокладывающего новое направление в науке. Сколько обвинений и укоров летят ему если не в лицо, то в спину!
На одной из патологоанатомических конференций мы разбирали причину смерти больного, погибшего во время операции при раке пищевода. Вспоминая этот случай сейчас, четверть века спустя, невольно думаешь о том героизме, который проявили и больной и хирург: тяжелейшая операция проводилась под местным обезболиванием. Во время операции, при прохождении через левую плевру, пищевод можно было выделить лишь при условии, что опухоль не проросла правую плевру. Но знать заранее об этом хирург не мог. У больного правая плевра как раз оказалась проросшей опухолью и при выделении порвалась… Можно себе представить, что в эти минуты переживал хирург!
На конференции один из медиков-администраторов, уяснив вроде бы объективную картину случившегося, все же грозно изрек:
– Не надо было рвать правую плевру!
Сказано было так, что хирург чуть ли не обвинялся в том, что сознательно погубил человека. Как будто бы при подобной операции имелся другой выход!
Ужасно слушать несправедливые упреки, еще ужаснее оправдываться под их тяжестью… Мы старались на подобные мероприятия приглашать Николая Николаевича, Человек с непререкаемым авторитетом, он одним своим присутствием вносил успокоение в ряды ретивых администраторов.
О, эти печальной памяти так называемые лечебно-контрольные и патологоанатомические конференции былых лет! В какие судилища они превращались с их непременным стремлением во что бы то ни стало найти виновных! А коли виновного изыскивали – незамедлительно следовала административная санкция. И чтобы избежать неприятностей, хирурги всячески старались доказать, что всему виной одни лишь объективные причины… Это не шло на пользу делу: ошибки замазывались, когда на них нужно было учиться.
Николай Николаевич Петров постоянно внушал нам: при несчастном случае мужественно ищите, в чем ошиблись, не бойтесь этого! Поняв причину ошибки, вы не повторите ее в будущем, предостережете других…
– Николай Николаевич, вы считаетесь у нас в стране непревзойденным диагностом. Были ли у вас диагностические ошибки? – спрашивали мы у него.
– Были, – отвечал он. – Такие, что оказывались роковыми для больных. Неприятно вспоминать, но никуда не денешься…
– У нас при разборе, вы знаете, врачей за ошибки сурово наказывают. Правильно ли это?
– Нужно наказывать за халатность, небрежность, – говорил Николай Николаевич. – А за ошибку, особенно при постановке диагноза, возьмется наказать лишь тот, кто сам у постели больного не решал сложных вопросов… Ошибка поиска – не ошибка от невежества и зазнайства. Это нужно различать.
– А мы мучились: что же делать с тяжелыми больными, у которых хронические абсцессы? Одна смерть, другая… Из-за этого может быть приостановлена вся наша так успешно начатая работа.
Поздним вечером, отдыхая, мы сидели в ординаторской.
– Не брать на стол тех, для кого операция – непосильная нагрузка, – горячился Ираклий Сергеевич.
– Отказывать несчастным в помощи? – возразил Александр Сергеевич. – У меня язык не повернется сказать больному: прощайте, мы вас выписываем, ничем помочь не в силах!..
– Друзья, – вступил в разговор я, – таких больных нужно готовить к операции, как готовили Веру Игнатьеву. Но положение их более тяжелое – что-то особенное требуется, искать нужно. Пенициллин на многих из них не действует. Так ведь? А что, если начать применять его местно?.. В очаг поражения.
– Это мысль! – живо отозвался Ираклий Сергеевич. – Ведь некоторые хирурги делают так – при маститах…
– Мысль, – задумчиво согласился Александр Сергеевич.
Сейчас может показаться странным: над чем бились! А тогда именно бились. В то время, не так уж и отдаленное от нынешнего, мы еще не умели справляться с угрозой воздушной эмболии, открытого пневмоторакса, кровотечения и некоторых других осложнений.
Взвесив все «за» и «против», мы пришли к единому мнению: поскольку ничто другое не помогает – вводить пенициллин прямо в легкое. Во многих случаях был получен отличный результат. Тяжелые больные, которых длительное время лихорадило, после первых же уколов в легкое чувствовали облегчение, даже выделение мокроты у них исчезало, они легче переносили операцию. Но не все! И вот с теми, кому не помогали внутрилегочные пункции, не знали, что делать. Отпустить из клиники – почти сказать: ты обречен, ты безнадежен… А среди таких – и это сознавалось нами с особой горечью – были дети. Поныне снятся их бледные личики с неизъяснимой печалью, рано уставшие глаза…
Запомнилась шестилетняя Валя. Ее мать, психически ненормальная, привязала девочку к кровати и открыла форточку на всю ночь – дело было зимой. Валя заболела тяжелой формой воспаления легких; после у нее было не менее тяжелое обострение. В клинику ее привезли чужие сердобольные люди. Нас, повидавших немало человеческих страданий, потрясла судьба этой девочки. Состояние ее было ужасным: левое легкое в гнойниках, постоянно повышенная температура, огромные выделения мокроты… В довершение всего в моче появился белок – первый признак начинающегося амилоидоза почек, а это – начало конца.
Я сам делал Вале уколы внутрь легкого – при тщательной местной анестезии, чтобы как можно сильнее пригасить болевые ощущения. Валя, поняв после первых же уколов, что от них ей становится лучше, шла в перевязочную без сопротивления, вела себя со взрослой рассудительностью…
– Немножко больно, зато потом будет хорошо – да?
Мы кивали в ответ: да, Валя, да, милая…
Меня часто не только что восхищало – буквально поражало сознательное отношение детей к своей болезни, понимание того, что все медицинские манипуляции, нередко болезненные, которые мучительно переносили даже взрослые, – необходимы, без них не обойдешься. В детях, которых коснулось горе, много мужества и терпения.
Пенициллин, вводимый Вале в очаг поражения, не помогал, интоксикация держалась. Девочка таяла на глазах.
Я обратился к учителю:
– Николай Николаевич, а если девочке ввести однопроцентный хлористый кальций, как вы советовали делать при сепсисе?
Он задумался, ответил, размышляя:
– Что ж, это, вполне вероятно, даст результат… Ведь у таких больных нарушена проницаемость клеточной мембраны, особенно нервных клеток, нарушена и их функция. Попробуйте! Может быть, у подобных больных происходят те же процессы, что и при общем заражении крови… Тут, папенька, поле деятельности…
И мы решили применить Вале внутрилегочные уколы пенициллина с внутривенным введением больших доз однопроцентного хлористого кальция. Девочка перенесла это вливание хорошо (а влили относительно большую дозу – сто миллилитров), но температура держалась. Тогда на следующий день – после обязательного предварительного контроля под лучами рентгена – мы ввели Вале внутрилёгочно раствор пенициллина на новокаине.
К великой нашей радости, температура упала!
Продолжая вводить кальций и одновременно делать внутрилегочные уколы, мы скоро добились значительного укрепления организма Вали, и операция по удалению у нее пораженного левого легкого прошла без осложнений. У постели девочки с охотой дежурили и врачи, и медицинские сестры. Через месяц уже можно было выписать нашу общую любимицу из клиники. Но никто за Валей не приходил, и мы задержали ее у себя еще на полтора месяца, – пока длилось оформление в детский дом. Испившая в детские годы горькую чашу до дна, Валя отвечала на нашу заботу любовью и лаской, и, право, до сих пор слышится мне ее трогательный голосок…
Нужно ли объяснять, что с этих пор у нас в клинике метод борьбы с гнойной интоксикацией с помощью хлористого кальция и внутрилёгочных пункций получил твердую прописку. А это – само собой, после опубликования в хирургической печати наших данных – привлекло внимание других медицинских коллективов. К нам приезжали, чтобы лично ознакомиться с методикой подобной подготовки больных к операции.
Правда, кое-кто из хирургов считал, что мы напрасно тратим время на такую подготовку, она не обязательна, когда врач в совершенстве владеет своей профессией… Такого мнения, например, придерживался Н. М. Амосов – хирург талантливый, однако человек несколько увлекающийся. Он писал, что безо всякой подготовки получает благоприятные результаты – гнойная интоксикация ему не помеха. Однако спустя некоторое время Н. М. Амосов признал, что все же в некоторых случаях он тоже находит нужным готовить больных к операции. И это признание только выгодно оттенило незаурядность характера и преданность науке блестящего хирурга и большого ученого…
Прошло всего каких-нибудь два-три года, а клиника Н. Н. Петрова стала известной в стране как один из ведущих центров торокальной хирургии. Наряду с лечением гнойных заболеваний легких мы уже принимали и больных раком легких. Николай Николаевич благословил нас на разработку очередной совершенно новой проблемы – хирургии внутригрудного отдела пищевода, и вскоре тут тоже были получены первые успехи. Обо всем этом и о другом, о нашем дружном коллективе энтузиастов, в котором каждый работал с единственной целью – спасти больного, еще будет рассказано в других главах. Мне же те годы особенно дороги потому, что именно тогда я становился на путь большой хирургии.
А начало пути, полного труда и дерзаний, проглядывается в далеких днях детства. Мои приятели по улице и школе хотели быть моряками и путешественниками, машинистами на не виденной нами железной дороге и знаменитыми сыщиками, с понятной мальчишеской легкостью меняя свои привязанности, наделяя себя новой мечтой… А я не помню, когда бы не хотел стать хирургом, твердо знал и стремился к одному – буду врачом, и именно хирургом. Так что начало всему – от порога отчего дома…
Глава II
Мы жили в сибирском городке Киренске. На триста– пятьсот верст вокруг не было другого места, где бы еще имелась больница. И редкую неделю в нашем гостеприимном доме не останавливались на ночлег приехавшие издалека знакомые. «К доктору, – говорили они, – дал бы он облегчение!..»
Уважительно произносилось имя киренского хирурга Светлова. Руки у него, как я сейчас понимаю, были искусные, душа чистая, сострадательная к чужой беде. Он был из тех благородных русских натур, которые на заре нового двадцатого века связали свою жизнь со служением простому народу, стремились в глухих, медвежьих углах нести людям знания, культуру, собственным примером учили добру и бескорыстию.
Какими счастливыми, буквально заново воскресшими уезжали в свои деревни после светловских операций наши гости! А однажды произошло такое, что вовсе укрепило мое желание – буду как Светлов!
…В деревне подрались парни. Местные задумали проучить пришлых, чтоб те не ходили к ним на вечеринки, не смущали девушек: пусть, мол, со своими красавицами веселятся! Обычная потасовка переросла в кровавое побоище. Среди пострадавших оказались мой двоюродный брат Петя и его дружок Василий. Брату нанесли сквозное ранение правого предплечья с перерезом двух нервов. Василия ударили ножом в шею, был, по-видимому, поражен крупный сосуд. Парень от потери крови несколько раз терял сознание.
В Киренск раненых привезли в тяжелом состоянии. Помню запрокинутое посиневшее лицо Василия, уложенного в телеге, его безжизненно свесившуюся руку. Петя запекшимися губами просил пить. Я, переживая, ходил под окнами больницы, было тревожно видеть через стекла мелькание белых халатов, но я все же верил: доктор Светлов поставит парней на ноги.
И после было радостно сознавать, что мои надежды оправдались. Я словно бы в самого себя поверил: можно научиться спасать людей!
Как-то вечером всей семьей мы читали вслух «Ущелье дьявола» Дюма. Там есть эпизод: внезапно заболела маленькая девочка, перепуганная мать бежит к врачу, но тот соглашается спасти крошку лишь при одном, унизительном для женщины условии… Слезы навертывались на мои глаза, я ненавидел этого бессердечного лекаря, был готов в те минуты мчаться туда, к бедной девочке, чтоб спасти ее.
Такие вечерние чтения были обыкновением в нашем доме. Сколько хорошего давали они нам, детям! С тех пор, например, наизусть помню поразившую тогда мое воображение поэму Пушкина «Братья-разбойники»… Заключенная в книгах великая сила, словно живительная кровь, переливалась в наши сердца.
Обычно в сумерки, как только отец, вернувшись с работы, отдохнет и закончит неотложные дела по хозяйству, мы, приготовив уроки, садились вокруг стола у зажженной лампы и допоздна читали вслух. Начинал отец, читал он с большим чувством. Особенно любили мы исторические романы. Они давали нам понимание того, как велика наша страна, как богата она интересными, даровитыми людьми, как нуждается в полезных делах! Слово Россия приобретало для нас конкретный смысл, было таким же близким и родным, как другие понятия – дом, мама, папа, товарищи…
Когда в книге попадались трогательные сцены, у отца заметно дрожал голос, а иногда он даже прерывал чтение, чтобы успокоиться. Человек трудной судьбы, испытавший унижения, несправедливость, он был чуток к горю других. А всегда так: страдания других лучше понимает тот, кто сам страдал. Вспоминаются строчки Ивана Никитина из его «Бурлаков»: «Эх, приятель! И ты, видно, горя видал, коли плачешь от песни веселой!..»
Нередко в такие вечера мы слышали от родителей рассказы о минувших днях – они как бы служили живой иллюстрацией к узнанному из книг, дополняли их, заставляли нас задумываться над суровой правдой жизни. И снова хочется сказать, с нежной благодарностью вспоминая отца, маму: прекрасной школой воспитания были домашние вечерние чтения-беседы!
Вот отец, отложив в сторону книгу, задумавшись над судьбой литературного героя, говорит:
– Да, и ему пришлось хлебнуть мурцовки…
– А что такое мурцовка? – спрашиваем мы.
– Арестантская еда из крошек хлеба и сырой воды, – поясняет отец. – Мы на этапе только этим и питались…
– А что такое этап?
Отец отвечает строчками из Некрасова:
Под караулом казаков с оружием в руках Этапом водим мы воров и каторжных в цепях…Он замолкает, тень нелегких воспоминаний набегает на его лицо.
– Папа, – спрашиваю я, – а как у тебя все это было?
И детское воображение уже рисует картину: под низким хмурым небом по чавкающей осенней дороге бредут закованные в цепи арестанты, их мочит дождь, ошметья грязи из-под копыт казачьих коней летят им в лица, и нет конца этому печальному пути, и вот уже кто-то из несчастных со стоном валится на холодную землю…
Семнадцатилетним юношей несколько месяцев брел по этапу мой отец.
Родился он в 1870 году, в семье потомственного пролетария, рабочего нижнесалдинских заводов (Нижне-Тагильский округ Пермской губернии) Гаврилы Тимофеевича Углова. Заработок у Гаврилы Тимофеевича был ничтожный, а семья большая, и старшие дети – дочери, которых на завод не устроишь… Поэтому сын Гриша на одиннадцатом году пришел в заводской цех.
Четыре класса приходского училища (образование, которым в ту пору мог похвастаться редкий из рабочих), природный ум, бойкий характер способствовали тому, что мальчик в четырнадцать лет уже был умелым слесарем и токарем по металлу. А это определило к нему и отношение взрослых товарищей – вместе с ними он участвовал в тайных собраниях, где под руководством исключенного из университета за революционную деятельность студента читалась запрещенная литература, обсуждались меры борьбы с предпринимателями…
Так продолжалось до тех пор, пока в рабочей среде не оказался провокатор. И самое обидное, что предал всех человек, которого и подозревать-то не могли, – из пролетарской семьи. Он сразу же получил повышение по работе, открыто похвалялся своими «успехами». А у Григория Углова, у всех других провели обыски и тут же уволили с завода с «волчьим билетом».
Григорий Углов, темпераментный по натуре человек, забияка, участник слободских драк, вместе с другими подкараулил провокатора, и они хорошенько проучили его. И хотя драки в слободе – явление привычное, дня без них не обходилось, в этом случае полиция вмешалась живо. Делу придали политическую окраску, состоялся скорый суд: ребят осудили на вечное поселение в Восточную Сибирь. Вначале острог, а потом и этап – под конвоем, в одной связке с уголовниками, убийцами, клеймеными разбойниками…
Здесь, в Сибири, отцу было разрешено жить в районе между Качугом и Витимом. Долго он скитался в поисках работы, кормился тем, что чинил по деревням посуду, нанимался пасти лошадей, помогал местным жителям в уборке урожая, а в длинные зимние вечера, когда на улице трещал жестокий мороз, становился даже сказочником – за умение живо, увлекательно и весело рассказывать получал кусок хлеба и возможность переночевать в тепле. Тут, конечно, выручала давняя привязанность к книгам, в рассказах был удивительный сплав когда-то вычитанного и приукрашенного собственной буйной фантазией…
Скитания продолжались до тех пор, пока не подвернулась удача: взяли масленщиком на пароход «Каролонец». Пароход, принадлежащий богатому судовладельцу, курсировал по широкой, неоглядной Лене. Теперь были постоянная работа и твердый заработок. А главное, пароход – это машина, механизм, это железо, то, по чему скучали руки отца – заводского человека. Летом – в плавании, а зимой, когда «Каролонец» стоял в затоне, Григорий Гаврилович Углов удивлял всех в мастерской умением исполнить любую, самую тонкую слесарную и токарную работу.
Осенью 1889 года «Каролонец» с большим грузом вышел из Витима. Внезапно начались ранние жестокие морозы, по реке навстречу плыла шуга, плицы колес, ударяясь о льдины, ломались, приходилось их чинить в ледяной воде. Ход был медленный, а всем – капитану, механику, матросам – хотелось дойти до Киренска, где жили родные. Но усилившиеся холода остановили реку, заковали ее в ледовый панцирь – помятый, ободранный пароход с большим трудом пробился к пристани Бабошино. До Киренска оставалось пятьдесят пять непреодолимых километров.
Пришлось зимовать в Бабошино. «Каролонец» поставили на прочные балки, ремонтировали, заменяли пришедшие в негодность части, красили… Хотя и долгим был рабочий день, но молодость брала свое – при первой возможности, особенно по воскресеньям, Григорий Углов с дружками уходил на гулянье в соседнюю деревню Чугуево.
Вот тут-то я и должен перейти к рассказу о своей матери, сыновнюю любовь и большое уважение к которой не стерли годы.
А рассказ о матери необходимо начать с далеких дней, на событиях которых – отсвет самой русской истории…
По реке Лене, дивясь ее простору и дремучей красоте таежных берегов, плыли на лодке три плечистых синеглазых и русоволосых брата Бабошиных: старший – Афанасий, средний – Иван, младший – Егор. В поисках лучшей крестьянской доли добрались они сюда из полунищей степной России… Во время ночных стоянок дикие звери непугано ходили вокруг их костра, а братья, еще боясь поверить в свое счастье, подбадривали друг дружку: тут не пропадем, тут жить можно!
Плыли неспешно, приглядываясь, где бы поселиться навсегда, чтобы не только для охоты раздолье нашлось, чтоб хлеб сеять можно было.
Осенью добрались до Киренска. Тут, в четырех верстах, закладывалась деревня Хабарово. Бабошины, мастера на все руки, решив подкопить деньжат, нанялись рубить, ставить и отделывать избы, и зазимовали здесь. Когда прошумел ледоход, собрались в путь-дорогу, но средний, Иван, заупрямился: крепко держала парня местная красавица. Старший и младший, ругая и жалея Ивана, отплыли вдвоем…
Скоро ль, долго ль плыли, но однажды достигли такого места, которое очень им приглянулось. Небольшая быстрая речушка впадала в Лену, рядом голубело озерцо, где воду копить можно, а кругом нетронутый лес. Братья видели: мельницу поставить – лучше не найдешь места.
По речке жили тунгусы, промышлявшие охотой. Бабошины пошли к ним с поклоном – проситься в соседи.
В большом чуме собрались старики – сидели на оленьих шкурах, важно курили трубки с длинными тонкими мундштуками, смотрели на двух рослых молодых русских мужиков.
– Однако зачем пришли сюда? Для чего просили собрать старейшин?
– В соседи желаем.
– Однако что делать будете? Охотой не проживете, надо в тайгу далеко ходить, вы не умеете. А земли – хлеб сеять – нет. Мы зерно охотой зарабатываем, меняем… а вы что?
– А мы хлеб будем мельницей зарабатывать. Построим водяную мельницу, молоть станем – у хлеба без хлеба не останемся.
– Это какая такая мельница?
Тунгусы непонимающе переглядывались, братья – как могли, словами и жестами, – объяснили. Тунгусы наконец поняли, заулыбались, возбужденно заговорили на своем языке. Старшина сказал:
– Польза от вас, однако, есть. Оставайтесь. Будем давать наш хлеб молоть. Руками зерно мелем-мелем, долго, однако! На охоту ходить некогда…
И вскоре потянулись подводы с мешками к Бабошиным, или – как говорили местные – на Бабошиху. Так назвали мельницу, речку тоже стали звать Бабошихой, а когда по Лене пошли пароходы, другого имени для пристани не искали: Бабошино.
Так мои прапрадеды (по материнской линии) закрепили в Сибири свою фамилию.
А деда моего – уже внука старшего из Бабошиных, Афанасия, – звали Николаем Петровичем. Он рано остался вдовцом, с двумя малолетними детьми на руках – трехлетним Ефимом и двухлетней Настасьей, моей матерью.
До конца дней своих горевал дед по жене – Варваре Семеновне, и вся любовь тоскующей души была направлена на детей. Из-за них он не женился снова, попросил лишь своего брата Осипа, чтобы днем, когда занят работой, Ефим и Настенька находились бы под присмотром в братниной семье. Несмотря на уговоры Осипа и его жены, он каждый вечер, как бы поздно ни возвращался с поля или из леса, уносил на руках спящих детей в родной дом, говоря, что без них ему света нет.
Хотя и не знал Николай Петрович Бабошин грамоты, но человек был любознательный, впечатлительный – хотел он видеть дальше того, что окружало его, и поэтому в доме деда часто находили приют ссыльные, особенно политические. Совестливый, он ни в каких делах не шел на обман, на хитрость и как ни тянулся изо всех сил, сколько ни работал – бедность не отступала. Забегая вперед, скажу, что «по наследству» перешла она и к сыну, Ефиму. Рано возмужавший в тяжелом крестьянском труде, что только не делал он, чтобы выбиться из нищеты, даже уходил золото мыть на Бодайбинские прииски, но призрачная мечта о сытой жизни так и оставалась мечтой…
А Настенька, на которую отец молиться был готов, как две капли воды походила на свою покойную матушку. Уже с двенадцати лет девочка самостоятельно вела весь дом. Отец с Ефимом уходили корчевать пни, чтобы хоть добавочный кусок пашни отвоевать у тайги, а проворные руки Настеньки то на огороде мелькают, то в хлеву у коровы, то обед она стряпает, пол моет, белье штопает… Останавливавшиеся в доме ссыльные удивлялись: такая маленькая, ребенок еще, и столько у нее забот, и поиграть-то с ровесниками некогда, жалко девочку! Некоторые из них, находившие тут приют и ласковое слово в трудную для себя пору, надолго задерживались, помогая Настеньке, как могли.
Впоследствии мать рассказывала нам про одного из таких – про каторжника Каллистрата.
Двадцать пять лет провел Каллистрат в сыром подземном руднике, прикованный цепью к тачке. Когда пришло желанное освобождение, не мог он уже выпрямиться в полный рост, не разгибались у него и пальцы на руках. Зайдя в ненастный день обогреться, он так и остался в доме Бабошиных навсегда, стал в семье своим человеком. И мать, вспоминая его, говорила: «Каторжником Каллистратушку называли, а добрее человека трудно было сыскать!» Несмотря на искалеченную жизнь, на болезни, он сохранил ясность души, способность к доброй шутке… Зайдут к повзрослевшей Насте подруги или знакомые ребята, а Каллистрат на глазах у них вдруг вытаскивает из Настиной постели сучковатое полено, говорит: «Капризная царевна заснуть не могла, когда ей под перину горошинку положили, а наша Настенька сегодня на бревне распрекрасно выспалась!» И заливается при этом веселым добродушным смехом, и всем другим весело…
Когда я слушал рассказы матери и отца про людей, подобных Каллистрату, зарождалось во мне желание пристальнее вглядеться в своих земляков, с невольным восхищением думал я о сильном и терпеливом русском человеке, достоинство и доброту которого не могут вытравить никакие невзгоды, самые тяжкие испытания.
С тех пор помнится мне одно стихотворение, неизвестно кем написанное, сложенное, возможно, в народной среде, – о характере истинного сибиряка. При всей непритязательности, внешней простоте этих строк, в них, по-моему, очень верно подмечены и как бы сконцентрированы те душевные и деловые качества, что отличают русского человека:
Смелость, сметливость, повадка Ездить по стране, Чистоплотность, ум, приглядка К новой стороне. Горделивость, мысли здравость, Юмор, жажда прав, Добродушная лукавость, Развеселый нрав. Политичность дипломата В речи при чужом. Откровенность, вольность брата С истым земляком. Страсть горячая к природе От степей до гор, Дух, стремящийся к свободе, Любящий простор, Поиск дела, жажда света. Знать: да что? да как? Стойкость, сердце золотое! Вот наш сибиряк!И это – умение с достоинством встретить и вынести любую напасть, желание помочь другим, охота к труду – были в нашей матери. Однако я, кажется, тороплюсь – нужно вернуться к тем дням, когда в деревне под отцовской крышей жила работящая, умная девушка Настенька. Впрочем, уже тогда, в семнадцать своих лет, за прилежность, скромность, за то, что с детского сиротского возраста, не жалуясь, а с улыбкой, самостоятельно вела она хозяйство, деревенские величали ее почтительно: Настасьей Николаевной. Даже на молодежных вечеринках парни обращались к ней по имени-отчеству.
Уже взрослым услышал я в деревне рассказ. Может, и ничего особенного в нем нет, так себе, крошечный эпизод, но в эпизоде этом, в том, что через многие годы остался он на памяти чугуевских жителей, ощущалась их уважительность, доброжелательность к Настасье Николаевне.
А дело было так. Чугуевских ребят и девчат пригласили на гулянье в село Горбово – по соседству, за пять верст. В разгар вечеринки вышло какое-то недоразумение, и серьезное: горбовские парни, вспылив, выскочили из избы на улицу, стали выламывать колья, грозились ножи в ход пустить. Гости же заперли двери на засовы, притаились: в чужой деревне – не в своей!
Выманивали, выманивали горбовские чугуевцев, но те отмалчивались. И вдруг в окно, разбив стекла, влетел конец огромного бревна, со свистом стал ходить по избе – от стены к стене. Ребята разбежались – кто в сени, кто на кухню. Девчата с визгом полезли под стол, под лавки, забились на печь. И только Настенька, выбрав момент, села на разгуливающее, сокрушающее домашнюю утварь бревно, оправила юбку и запела! Бревно вздрогнуло, покачнулось и замерло. За окном грозно спросили: «Это кто сел на бревно?» – «Я», – ответила Настенька и, обращаясь к главарю горбовских парней, шутливо-укоризненно сказала:
– Это что ж, Василий Васильич, вы такую игру выдумали? От нее не весело, а один шум. И скучно нам: пригласили, а сами на улице развлекаетесь, гости-то без хозяев – это правильно?
Разбушевавшийся Василий, польщенный вниманием Настеньки, ответил ей вежливо, с готовностью услужить:
– Мы к вам, Настасья Николаевна, завсегда по-хорошему!..
А Настенька в этот момент шепнула своим, чтоб двери открыли, и бояться не нужно, а если не пустить Василия с дружками, они избу по бревнышку раскидают… Василий вошел, сняв шапку, поклонился и, чтобы показать, какие они тут, в Горбово, щедрые, гостеприимные, приказал своим приятелям:
– А ну на стол – конфеты, вино, орехи!
Настенька подругам шепнула: «Пойте!» А сама Василия за руку в хоровод ведет, говорит ему:
– Вино до следующего раза обождет. Попляшем, попоем да восвояси… С утра молотить, и кони голодные стоят, на них утром работать. Ждем вас у себя, Василий Васильич!
Тот чубатую голову склонил:
– Мы, Настасья Николаевна, с полным нашим удовольствием!..
Уехали из Горбова с миром, а в поле дали волю смеху: покаталась Настенька на бревне! И если б не это катанье, погуляли б колья по спинам чугуевских ребят, и кого-нибудь домой изувеченным повезли…
Вот в ту пору на одной из вечеринок заприметил и полюбил Настеньку с первой же встречи Григорий Углов, гармонист, любитель помериться силой в драке, но и – знали все – мастер «золотые руки», умеющий, как никто другой, работать. Лихо носил он матросскую фуражку, ходил форсисто, дерзко и насмешливо поглядывал на других. Шел ему девятнадцатый год.
Зачастил Григорий в Чугуево! Настеньке тоже по сердцу был этот парень – белолицый, смелый, и лишь не нравилось ей, что охотлив он до пьяных гулянок, дебоширит, уж очень настойчиво, не стесняясь никого, преследует ее, в дом повадился ходить, с Ефимом для этого дружбу свел…
Заслал Григорий, как обычай требовал, сватов, но не тут-то было. Сама Настенька, покоренная преданной любовью Гриши, уже соглашалась на замужество, но отец со сватами даже разговаривать не стал, показал им от ворот поворот. Не мыслил он свою жизнь без дочери, не мог представить даже, что уйдет она из дома, а тут к тому ж и домогается ее пришлый, чужой человек, который хоть и мастеровой, но от земли далек, катается на пароходе вниз и вверх по реке, и неизвестно еще, куда он увезет Настеньку, будет ли она с ним счастлива… Нет уж!
Три года подряд – осенью, когда «Каролонец» становился на зимовку, и по весне, когда уходили в плаванье, упрямо засылал Григорий Углов сватов в дом Бабошиных. Лицом почернел, про веселые песни забыл и не мог отступиться. Однажды, отчаявшись, пришел к закадычным друзьям Николая Петровича – Матвею Лаврентьевичу и Пелагее Ивановне, сказал, что на колени перед ними упадет, только пусть помогут, сосватают Настеньку, а то уж и жизнь не мила… Но Николай Петрович и тут остался непреклонным, да еще строго выговорил своим друзьям, чтоб не сердили его, ничего с этой затеей не получится.
Однако Пелагея Ивановна, задобренная гостинцами Григория, женским чутьем понимавшая, что при такой пылкой любви дело нужно добром кончать, снова уговорила Матвея Лаврентьевича пойти к Бабошиным. Но Николай Петрович, когда они вошли в дом, на приветствие не ответил, полез на печь, лег там, отвернувшись к стене. Тогда Пелагея Ивановна тоже полезла на печь, повела с хозяином разговор о том о сем – про цены на хлеб, про диких кабанов, что повадились из леса на огород бегать, урон от них большой, про погоду еще… Николай Петрович тоже понемногу разговорился. А сваха долго искала что-то у себя в карманах, нашла и протянула ему: «Поешь!» – и сама себе в рот положила. Николай Петрович пожевал, спросил: «Ты чего это, кума, чесноком меня кормишь?» – «Иль не вкусно? – ответила Пелагея Ивановна. – Хлебушком нужно заесть. Пойдем к столу». Так спустились с печи.
А за столом, продолжая разговор, Пелагея Ивановна неожиданно сказала: «Дай-ка руку, кум!» Николай Петрович, ничего не подозревая, протянул руку, Матвей Лаврентьевич быстро принял ее, а проворная сваха со словами: «Господи, благослови!» – тут же разняла их руки. Николай Петрович на божницу взглянул, а там восковые свечи тихо теплятся. Выходит, ударили по рукам, у него взяли согласие на замужество дочери. «Настасья!» – закричал Николай Петрович таким голосом, что всем жутко стало, и зарыдал безутешно, уронив голову на стол…
Какие слова нужно найти, чтобы написать о материнской мудрости и материнской любви? Написать вообще о матери и, что самое трудное, о своей матери, которой обязан всем.
Передо мной – пожелтевшие странички писем былых лет. Вот неровные, торопливо бегущие строчки, выведенные рукой моей двоюродной сестры Ольги, дочери Ефима Николаевича. Женщина в годах, она возвращается памятью в незабываемые дни детства, и главное лицо в ее воспоминаниях – тетя Настасья, моя мать.
«Меня поражала всегда тишина в доме у вас, – рассказывает Ольга. – Никто никогда ни на кого не кричал, никто не плакал, не жаловался. Все шло как хорошо заведенные часы: тихо, спокойно. Все работали по силе своих возможностей. У старших детей – большие работы, у младших – малые. Если сказали – вычистить двор, его сейчас же чистят, не оставят на потом, никто не убежит к соседям играть. Мои родители нередко посылали меня к куме Настасье, как говорила мама, на исправление поведения. Потом она спрашивала у тети Настасьи: «Ну, как моя дочь себя вела?» А тетя Настасья всегда хвалила меня и удивлялась, почему я непослушная дома. Скажет, бывало, маме: «Ты с ней будь ласковой, она и станет послушна». Я называю тетю Настасью великой матерью.
Сколько лет прошло, а помнится такая картина. Вы тогда жили у тети Нилы, была осень или лето, и мы с братом Колей ночевали вместе с вами. Мы на полу, вы на кровати, а у кровати висит зыбка. Я проснулась от тихого разговора. Тетя Настасья кормила ребенка. Потом она подошла к каждому, поцеловала меня, думая, что я сплю, кому подушку поправила, кому одеяло – ко всем прикоснулась, всех приласкала…»
Сколько волнующих воспоминаний вызывают у меня строчки этого письма! Ведь она, наша мама, совсем не ходила в школу, была неграмотной, но, обладая прекрасной памятью, легко запоминала содержание книг, что читались в доме вслух, неплохо знала историю русского народа, помнила даты важных событий, имена и дела выдающихся людей. Ее суждения были просты, человечны, поражали глубиной обобщений и своей безошибочностью. Особенно близко к сердцу принимала она судьбы своих односельчанок, в разговорах всегда защищала женщин и нам говорила: «Женская доля тяжелая, с положением мужчины не сравнить. Женщина, кроме большой работы, несет на себе заботу о семье, о муже, часто не слыша доброго слова. А даст она волю сердцу – тут ей позор и оскорбления ото всех!»
Однажды, бросив вызов деревенским порядкам, одна наша соседка ушла от мужа к поселенцу из ссыльных. По тем временам это был героический поступок. Вчерашние подруги плевали ей вслед, норовили за волосы ухватить, оскорбляли, как могли… И моя сестра Ася – ей было лет пятнадцать – сказала маме: «Аннушка казалась хорошей, а поступила так, что прощения ей нет!» Мама помолчала немного, словно раздумывая, сможет ли дочь понять ее, и ответила: «А ты, Ася, не чужим словам доверяйся, а сама подумай. Ведь Аннушка, живя с Макаром, ходила ежедневно в синяках, кроме ругани, ничего не слышала. Не жизнь у нее была, а мука. Вот она и потянулась к совестливому человеку… Ты, Ася, подумай!» – «Я поняла, мама», – сказала Ася, опустив голову.
Позже, в 1919 году, хороший знакомый моей сестры попал в колчаковскую тюрьму. Мама напекла пирожков, положила еще кое-что из домашней снеди в корзинку и сказала расстроенной Асе: «Отнеси ему». Сестра, конечно, рада, но все ж говорит матери, как советуется: «Удобно ли? Ведь все будут знать: ходила в тюрьму на свидание с молодым человеком. Что скажут люди? Что он сам подумает?» – «Иди, – поторопила мать. – Лишь бы ты сама и я плохо не подумали. А он будет рад, что ты в беде навестила его, не боясь пересудов…»
Мать, с сочувствием и, как я сейчас могу судить, с большим пониманием относилась к политическим ссыльным, сознавая, что все их «преступления» – от стремления облегчить жизнь народа. Таких же взглядов, конечно, придерживался и отец. И нужно подчеркнуть, что политические, в основном незаурядные, интеллигентные люди, оказывали заметное влияние на местное население. Их внешне кажущаяся безобидной, не представляющей вреда существующему порядку просветительская деятельность (беседы по разным вопросам культуры и науки, организация драмкружка, занятия с малограмотными) носила ярко выраженный политический, революционный характер. Многие из них бывали в нашем доме. Я хорошо помню Филимонова, приходившего чаще других. Его разговоры с родителями – о сущности религии, классовом расслоении общества, происхождении человека и разных формах общественного устройства – усваивались нами, детьми, формировали мышление, и, вероятнее всего, такие разговоры, общение с ссыльными помогли нам еще в юном возрасте полностью освободиться от суеверно-церковных представлений, возбудили интерес к серьезным, а не только развлекательным книгам.
Хочется привести тут один случай, не очень значительный, но характерный для обрисовки личности политического ссыльного.
Мама и Ася были в лавке. Сестра примеряла суконную жакетку. Асе в ту пору исполнилось четырнадцать, и ей впервые покупали такую дорогую и красивую вещь. Жакетка так понравилась сестре, что она ни за что не хотела снимать ее. А у мамы при расчете, как на грех, не хватало на эту покупку двух рублей, – по тем временам деньги не маленькие. Она уговаривала Асю снять эту жакетку, примерить другую – подешевле, но Ася никак не соглашалась, слезы текли у нее по щекам. И вдруг один из покупателей подошел к приказчику и сказал: «Я доплачу недостающие…» Отдал деньги и поспешил уйти из лавки, так, что мама и поблагодарить его не успела. А приказчик заметил: «Это политический-с!..» И кто-то из покупателей добавил: «Они с себя последнюю рубаху снимут, а помогут…» Об этом случае не забывали в нашей семье. И мама, рассказывая о нем, давала нам понять: так должны поступать люди, вот вам пример для подражания…
И если тут уместно слово «везение», скажу: моим братьям, сестрам, мне крупно повезло, что наши родители ясно сознавали высокое значение образования, до нужды доходили, но нас, детей, учили, отдавая этому последние силы и заработанные в поте лица деньги. В редкой крестьянской или рабочей семье в те времена было такое. Считалось обычным: три-четыре зимы в школу побегал, писать, считать мало-мальски научился – чего же больше-то! Обувка дорогая, книжки дорогие, и в хозяйстве дел невпроворот. Девочек вообще в школу не пускали: вначале, подрастая, она по дому помогает, потом и вовсе к мужу уйдет, а чтобы стряпать да детей нянчить, грамота ни к чему… Подобным образом, например, рассуждали в семье наших ближайших родственников – у дяди Ефима, родного брата матери. И я снова сошлюсь на одно из писем Ольги Ефимовны.
«Я расскажу тебе, – писала она с неизбывной горечью, – как, крадучись, стоя за спиной брата Николая, узнала я название четырех букв. Затем он стал учить дальше, и я запоминала другие. А мама, которая категорически запрещала мне смотреть в книгу, видя, что я все-таки учу буквы, стала сажать меня в подпол. Я оттуда хорошо слышала «зубрежку» брата и так, на слух, выучила азбуку. А написания букв, конечно, не знала. Тайно охотилась за букварем, но мама и Николай прятали его. И особенно – отец. Он сказал маме, что если я, не дай бог, выучусь грамоте, он прибьет ее, а Кольку заберет из школы.
Если мне все ж удавалось на короткое время завладеть букварем, я сломя голову бежала с ним во двор. Во дворе лежала старая таратайка без колес. Я приподнимала ее и ныряла под нее. Сперва ничего не видно – облако пыли окутывало меня, и когда оно рассеивалось, я, скорчившись, жадно разглядывала буквы. К каждой букве была картинка: У («усы»), О («оса»)… Картинки выручали! Дошла, помню, до рисунка, на котором изображен горшок с идущим из него густым паром, и растерялась: что это? – Г («горшок») или П («пар»)?
Писать об этом неприятно, но меня сильно били, а после порки ставили в угол, заставляя при этом держать в руках ухват или веник. Брата выводили к гостям как будущего кормильца на старости лет и школьными успехами его хвалились, а меня держали в подполе. Мелькала мысль: бросить все и бежать за тридевять земель из дома. Но я пересиливала себя… Помогли мне ссыльнополитические, жившие в нашей деревне две зимы. В Великий пост родители на семь недель уезжали в село, где была церковь, и я в это время бегала к ссыльным, а они помогали мне усваивать грамоту…»
Даже сейчас, по прошествии длительного времени, это правдивое, выстраданное повествование о судьбе крестьянского ребенка в дореволюционной России оставляет чувство щемящей тоски и боли. Перечитывая письмо Ольги, я мысленно кладу его в томик Чехова, раскрытого на страницах известного всем рассказа про Ваньку Жукова…
К слову сказать, Ольга Ефимовна уже при Советской власти получила неплохое образование. Стала зубным врачом, а кроме того, в ней сказалась и способность к литературе. Она опубликовала несколько сборников народных сказок.
Хоть обещал когда-то Григорий Углов любимой золотые горы – жизнь определяла по-своему. Не помню своих родителей в праздном отдыхе. Главное, что осталось от раннего детства, – это дороги, дороги…
Летом, в навигацию, пока отец ходил на пароходе, мы жили в деревне у двоюродной сестры матери, Неонилы Осиповны. Поздней осенью мать обряжала нас в дальний путь, и мы всем выводком отправлялись к месту стоянки парохода. А зимовки каждый год были в разных местах – в Усть-Куте, Витиме, на речке Маме, в низовьях Лены, где-то близ Олекмы. Такой была жизнь семьи долгое время – с 1890 по 1915 год, пока отец не скопил денег на покупку домика в Киренске.
Нас было шестеро: три брата и три сестры. У матери, терпеливо следовавшей за отцом к очередному временному месту жительства, всегда был на руках малыш. А надо только представить осенние дороги тех лет, чтобы понять те испытания и лишения, которые ложились на плечи путешествующих, особенно из бедной семьи.
У нас еще имелось преимущество: отец был водником, и мы хоть с трудом, но все же могли попасть на пароход, проходящий мимо. Но для этого днями ждали на берегу, по-цыгански сидя на вещах, боясь далеко отлучиться.
Как сейчас вижу холодную, свинцового отлива круговерть речной воды, с неба сыплется снежная крупа, и вдруг – чей-то взволнованный голос: «Пароход иде-е-ет!» Мы со своим скарбом грузимся в большую лодку, выгребаем на фарватер реки. Пароход, опасно подбрасывая на волнах нашу лодку, быстро проплывает мимо, и мама жестами тщетно упрашивает капитана прихватить нас с собой… Озябшие, подавленные возвращаемся на опостылевший берег, не ведая, сколько дней и ночей ждать следующего судна. А где-то переживая, напрасно встречает пароходы отец…
Нередко, прождав несколько томительных дней на берегу, мы возвращались в деревню ни с чем – ни один из пароходов нас не взял, а больше уже не пойдут, река стала… Теперь нужно ждать, пока установится санный путь: поедем на лошадях. Мама вздыхает – дорого, и путешествие трудное, долгое, детей можно застудить, – с нашими морозами да метелями шутки плохи. Но мне да и братьям с сестренками интересно. Сколько деревень проедем, сколько ночлегов впереди, и всюду разные, похожие и непохожие люди – будет чему радоваться и удивляться!
Из-за частых переездов поначалу в школу я не ходил: занимался с братом и сестрой дома. И лишь когда семья осталась зимовать в Алексеевском затоне, приняли меня сразу во второй класс приходской школы деревни Алексеевки, это в четырех верстах от затона. Утром – мороз ли, пурга ли – мы, затонские, бежали учиться, а вечером, в сумерках, торопились обратно. Стужа стягивала лицо, через одежду добиралась до тела. Только бы не сбиться с дороги, не заплутать! Знали мы, как часто замерзают в наших местах заблудившиеся путники… Ласковыми и родными казались притягивающие к себе огоньки пяти затонских изб. Чуть поодаль от них стояли закопченные мастерские.
В самом лучшем доме жил капитан парохода по фамилии Мая, в семье у него было девять девочек и один мальчик. Другой дом занимал помощник капитана. Третий – машинист. В четвертом же половина (две комнаты) была отведена отцу – он тогда служил помощником машиниста; в другой половине жили масленщики, по двое в комнате. В пятом доме – чернорабочие. Тогда-то я и увидел, в каких тяжких условиях проходила жизнь этих бедолаг.
Работали они много, делали беспрекословно все, что прикажут, ходили в рванье, питались, как арестанты, из одного котла, спали на деревянных нарах, кое-как прикрытых тряпьем. Мало кто обращался к ним по фамилии, еще реже – по имени-отчеству. Звали или по прозвищу, или говорили: «Эй, ты!..» Был среди них пожилой человек с ввалившимися чахоточными щеками, которого называли Оська Трах-бах. Был Николай Голый, был Алешка Жижа – вялый, с развинченной походкой, неуверенными движениями рук. Может, тут вообще не знали их настоящих фамилий, их прошлого, – никому это и не нужно было. Спустя годы, читая «На дне» Горького, я мог себе сказать: такое я видел. И горьковские Васька Пепел, Клещ, все его босяки – это мои знакомые Оська Трах-бах, Голый, Жижа…
Кажется, единственный, кто в затоне говорил с ними, как с равными, не подчеркивая своего служебного и прочего превосходства, был наш отец.
Отца мы видели только по вечерам да в воскресенье. На работу он уходил чуть свет. Шаг у него был скорый, стремительный – редко кто поспевал за ним. И хорошо помню руки его: в затвердевших мозолях, шершавые, как рашпиль, но сколько в них было нежности, тепла, когда они прикасались к нам!.. Отец по натуре был мягким человеком, сердобольным, но характер имел сложный, переменчивый и лишь мамин такт смягчал его внезапную резкость. Случалось, выпивал, однако превыше всего ставил дело – не позволял себе из-за выпивки забыть про работу. При нас, детях, старался не курить, говорил нам: «Я курю с детства. Из-за невежества, что вокруг меня было. Никто не подсказал: брось, мол, не остановил… А вам курить не советую! Но если все ж потянетесь к табаку, дымите при мне, обещаю, что наказывать не стану. Накажу жестоко, если узнаю, что тайком папиросками балуетесь!»
Такой педагогический ход оказался разумным. Никто из детей в нашей семье не стал курильщиком – ни тогда, ни будучи взрослыми. К слову заметить, и сам отец позже нашел в себе силы расстаться с курением. А что курение – большое зло, наносящее непоправимый вред здоровью, я как врач убедился на множестве драматичных примеров. Об этом расскажу в одной из последующих глав.
Отец был, как уже можно, наверно, понять из всего рассказанного, примерным семьянином. Ценил семейный уют, любил что-нибудь мастерить, строить, красить, лепить сибирские пельмени… За такими занятиями шутил или песни потихоньку напевал, знал их много. Но если уж из-за какой-то помехи вспылит, взорвется – тогда держись! Иногда он в сердцах произносил бранные слова, не адресуя их кому-либо конкретно. Но при детях, особенно при девочках, никогда не позволял себе этого. Бывало, отец вспылит, а мама ему скажет: «Григорий – дети!» И он тотчас же умолкнет. Мама стыдилась дурной привычки отца и старалась перед нами его оправдать, говорила: «Это у него от тяжелого детства, от того, что гнали его по этапу, издевались над ним». Может быть, поэтому, что я тоже переживал за отца, я за всю жизнь свою не произнес бранного слова. И когда слышу, что кто-то ругается, у меня невольно появляется чувство неуважения к этому человеку.
…Время, время! Мы оглядываемся назад, на безвозвратно ушедшие годы, – и в наших воспоминаниях возникает самое светлое время – негаснущее детство. Впечатления детских лет самые яркие, глубокие, и они во многом определяют то, какими мы становимся позже, в зрелую пору нашей деятельной жизни… Пишу эти строки, и хоровод трогательных видений мальчишеской поры кружит меня.
Пожалуй, наиболее глубоко запали в сердце четырнадцатый – пятнадцатый годы, как бы слившиеся воедино.
Слепит глаза река, а по ней вверх, к Киренску, плывут пароходы, баржи, мелькают весла, а вдоль берега, по дороге, идут подводы. Великое множество людей! Пьяно, под рыдающие звуки гармоней, несется песня отчаяния: «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья, а завтра рано, чуть светочек, заплачет вся моя семья…» Объявлена мобилизация: война с Германией. И черные платки скорбных старух словно угрожающе напоминают: быть беде в каждом доме, быть беде…
А потом ранней весной – наводнение! Небывалое! Такого и самые древние старики припомнить не могли. Гигантский затор льда протяженностью в несколько километров перегородил русло Лены, и буйная паводковая вода, неся поверху громадные льдины, хлынула на деревни, сокрушая избы, вырывая с корнем вековые деревья, срезая, как ножом, возвышенности. Наши дома стояли на круче, и льдины толкались буквально о порог, кипящие брызги летели в окна. Алексеевцы срочно собирали вещи, увязывали в узлы. Гнали скотину в лес, в горы. Со страхом и одновременно с восторгом смотрел я на разбушевавшуюся стихию: какая силища, какой простор!
Вперемежку со льдинами неслись печальные останки смытых поселений: звенья срубов, обломки изгородей, вздутые туши коров, кухонная утварь. Проплыл чудом уцелевший сарай с живым петухом на крыше. И вдруг увидели мы: на очередной громадной льдине едет скособоченная изба, а возле нее в тоскливой обреченности стоят маленького роста человек и собака. Ближе они, ближе… И хотя это грозило великой опасностью, лодку могло опрокинуть, затереть льдами, ударить о бревно, залить студеной водой, наши мужчины решили помочь несчастной (уже видели, что это девочка лет двенадцати). Я в последний момент изловчился и прыгнул в отходящую лодку.
Мы боролись с течением, отпихивали от бортов ледяные глыбы, а они таранили нас. Было жутко, трое мужчин и мальчик могли надеяться лишь на себя. После, ночами, бессонно лежа с открытыми глазами, я восстанавливал подробности нашего поединка с бушующей стихией, и сладостное чувство победы, обретенной в суровой борьбе, впервые затронуло мое сердце…
Глава III
Фабрик и заводов, кроме царского водочного заводика, у нас не было. Крупные богатеи жили далеко, в Иркутске, а мелкие торговцы-лавочники благоразумно отсиживались за прикрытыми ставнями, по-обывательски выжидая, что же будет дальше.
Три торжественных слова громко звучали на киренских улицах: свобода, равенство, братство! Особенно радостно было слышать и повторять их еще и потому, что в памяти многих не затухало эхо недавнего кровавого события – Ленского расстрела. Ведь Бодайбинские золотые прииски находились всего в четырехстах километрах от нас, и среди раненых, убитых, среди тех, кого после бросили в тюрьму, были родные и знакомые киренцев.
Оказалось, что в нашем городке долгие годы подпольно действовала большевистская организация, в состав которой входили ссыльные и передовые рабочие, учителя и служащие. Многие из них были удивительно молоды, как, например, наш восемнадцатилетний секретарь райкома партии Иван Васильевич Соснин, в то время, пожалуй, самый авторитетный человек в Киренске. Он и поныне в моей памяти, порывистый в движениях и твердый в словах, умевший не только говорить, но и слушать. Из его уст на общегородском митинге я, тогда мальчишка, впервые услыхал имя – Ленин.
Время, что и говорить, было бурливое, волнующее и опасное, особенно в те годы, когда на вершинах сопок и у города замаячили казачьи кони колчаковских разъездов… В нашей семье не утихала тревога за отца и брата Ивана. Хотя официально они и не состояли в коммунистической партии, но их сочувственное отношение к большевикам было всем известно.
О политических настроениях отца говорят, в частности, следующие строки из письма двоюродного брата Коли Бабошина. Он пишет: «Я очень любил дядю Григория и тетю Анастасию. Дядю Григория видел в последний раз в Киренске в 1919 году летом. Тогда меня мобилизовали и везли колчаковцы. Я забежал к нему с парохода. Дядя Григорий взял меня за плечи и сказал: «Коля, убегай из этой гнусной армии при первой же возможности». Я ему обещал и, как только заехали за Кочуг, убежал в числе первых. Наказ дяди Григория выполнил».
Однажды брат Иван лишь по чистой случайности остался в живых.
… Тысяча девятьсот девятнадцатый год. Киренск занят белыми под командой полковника Еркамошвили. В городе введен комендантский час, по улицам ходят военные патрули, полевые орудия и пулеметы грозно нацелены на другой берег Лены – на ремонтные мастерские затона, на деревни Мельничная, Воронине, а также на деревню Бочкарево, расположенную вдоль реки Киренги. Там всюду большевики, их вооруженные отряды. Белые настроены нервозно, над каждым, кто кажется им подозрительным, вершится скорый суд и жестокая расправа…
В четырех километрах от города, в деревне Хабарово, тайно собрался крестьянский сход. Обсуждали один вопрос: как помочь красным? С деловыми предложениями выступил на сходе двадцатитрехлетний учитель Иван Григорьевич Углов… Разошлись, как и собирались, в полной темноте, а на рассвете в Хабарово ворвалась полурота белых. Потом узнали: на сходе незамеченным присутствовал переодетый офицер из семьи киренских мещан. Он немедленно доложил полковнику, что подстрекаемые учителем Иваном Угловым хабаровские мужики готовят лодки для красных.
Брат ночевал на сеновале. При аресте обнаружили у него браунинг, заставили одеться, и в сопровождении конвоя он был доставлен в штаб. Допрашивал его сам Еркамошвили. Полковник, как ни странно, был по образованию врач, но, видимо, забыл об этом – отличался жестокостью, кровь и страдания несли с собой его казачьи сотни. Он со своей частью уже однажды стоял в Киренске, потом ушел вниз по Лене, к Бодайбинским приискам, но, потрепанный в боях с красными партизанами, вновь вернулся сюда с надеждой пробиться в Иркутск. Полковник задал брату два-три малозначащих вопроса и сказал, что за сопротивление правительственным войскам, агитацию в пользу красных он приговаривается к расстрелу! Два казака-урядника тут же встали за спиной Ивана. Он мысленно простился с белым светом…
В этот момент в комнату вошла молодая женщина. Случайно взглянув на брата, она воскликнула: «Ваня, а ты что здесь делаешь?!» Обняла, стала расспрашивать… Это была близкая подруга сестры Аси Шурочка Попова, дочь местной жительницы и политического ссыльного-грузина, из соображений конспирации принявшего фамилию жены. Шурочка, оказывается, недавно вышла замуж за полковника Еркамошвили, чего брат еще не знал.
Перейдя на грузинский язык, она стала что-то объяснять мужу, но полковник сердито отвечал: «Нет, нет!..» В это время в штабе появились уважаемые в округе крестьяне: узнав, что учителю Углову грозит расстрел, они составили прошение о помиловании, от имени нескольких деревень поручились за него. Полковник, прочитав бумагу, стал кричать на них, но, опомнившись, быстро взял себя в руки: положение было такое, что с местными жителями, особенно деревенскими, приходилось считаться. И Шурочка продолжала настаивать…
– В сорочке родились, молодой человек, – раздраженно сказал брату Еркамошвили. – Из дома не выходить, по вечерам вас будет проверять патруль. А мы тут посоветуемся…
Еще два раза арестовывали в ту пору брата и при последнем аресте повезли его под стражей в Иркутск, но в дороге стало известно: Колчак разбит! Стражники из «добровольцев» разбежались по своим деревням, а брат и другие арестованные невредимыми вернулись домой.
На восемь лет был старше меня Ваня, мы, младшие, обязаны ему многим. Романтик по натуре, преданный революционным идеям, он всегда был для нас примером: вот как нужно жить и работать для общего народного счастья! Отказавшись от выгодных предложений, он поехал простым учителем в самое глухое, отрезанное бездорожьем место: учил грамоте крестьянских ребятишек, был пропагандистом народной власти. Сотни учеников Ивана Григорьевича, дети и внуки этих учеников трудятся сейчас в разных уголках страны, а сам он, после более чем полувекового учительствования, ушел на пенсию в семьдесят пять лет, отмеченный высокой наградой – орденом Ленина.
Он всем нам привил жажду знаний, а Советская власть дала возможность учиться. В результате все мы, дети малограмотного рабочего и неграмотной крестьянки, получили высшее образование, а сестра Таня стала профессором, заведующей кафедрой глазных болезней. Ей передались золотые руки отца. С редким искусством производит она сложнейшие операции на глазах. Отличается большой добротой души, завидной волей и самостоятельностью.
Именно пример брата, его влияние сыграли главную роль в судьбе моей старшей сестры Аси. Окончив гимназию в 1918 году, набрав чемодан книг, она бесстрашно поехала учительствовать в такое далекое село, где школьных учителей никогда и в глаза не видели, где вечерами еще сидели при лучинах и чужих людей встречали редко, при этом словно бы даже удивлялись, что где-то может быть совсем иная жизнь. Больше недели плыла она с провожатыми по несудоходной Киренге на узком неустойчивом стружке к месту назначения – в деревню Ключи (ныне Казачинско-Ленский район).
Рассказываю об этом, полагая, что хотя моя книга о труде хирурга, но хирург – человек со своим характером, взглядами, убеждениями, которые отражаются на его работе, и чтобы понять их, нелишни, по-моему, некоторые жизненные подробности, тем более что наше поколение, возмужавшее в революцию и в первые годы социалистического строительства, несет на себе как бы отблеск тех суровых незабываемых дней. По существу, тогда закладывался он, наш характер.
В четырнадцать лет я остался в семье старшим среди детей, и поскольку мать тяжело хворала, а отец с утра до вечера был на работе, нелегкие домашние заботы легли на мои плечи. Зимой в легком пальтишке, в ветхих солдатских ботинках, таких, что подошвы ног примерзали к подметкам, я колол дрова, топил печь, с тяжелыми санками, на которых стояла бочка, ездил на реку за водой, – туда под гору, а обратно наверх, по скользкому льду…
Перед мысленным взором проходят картины детства. В сорокаградусный мороз или пургу, по крутому взвозу, занесенному снегом, напрягая силы, тяну я обледенелые санки, на которых стоит тяжелая бочка с водой. Я тяну санки рывками, отчего вода все время расплескивается, делая дорогу еще более скользкой. В одном месте я не удерживаю санки, они катятся вниз, и бочка опрокидывается, превращая скат в сплошную ледяную гору. Закоченевшими руками водворяю бочку на место и вновь направляюсь к проруби.
Сколько раз падала, обдавая меня студеными брызгами, проклятая бочка! Подниматься же с ней от реки нужно было не раз и не два – вода требовалась для семьи да еще для коровы.
В то голодное время, когда лавки закрылись, когда паек отец получал скудный и нерегулярно, корова была нашей спасительницей. Трудно было содержать ее, но и без коровы, особенно с малышами в семье, хоть пропадай! А как переживали за нее! Грянут жестокие морозы: как она там в хлеву? Кончится сено: где взять, чем кормить? И постоянное опасение было: сколько лихих людей развелось – уведут буренку со двора… По ночам с фонарем выходили смотреть: цела ли? Летом ехали в какую-нибудь дальнюю деревню – зарабатывать сено. Изъеденный в кровь гнусом, который в наших краях не давал жизни ни животным, ни людям, я косил, сгребал сено, возил его и помогал метать зароды.
Помню, как отправился в одну из таких заготовительных экспедиций по горной, порожистой Киренге за двести верст от дома, в деревню Вилюево… Птицей летел по бурной реке наш стружок – лодка, выдолбленная из целого дерева, легкая, но вертлявая, такая, что гляди в оба. Стоишь в ней с шестом в руках, и одна забота: не перевернуться бы, на мель не наскочить, на камень не налететь. Это – когда вниз, по течению. Если же против течения, с грузом к тому ж, – тут семь потов с тебя сойдет, нужно в совершенстве владеть искусством, как говорили у нас, ходить на шестах.
Во время стоянки я взобрался по крутому берегу наверх и замер, пораженный увиденной картиной! Синяя тайга оставалась справа, а впереди, в ярких цветах расстилалась равнина, залитая солнцем, как сказочный ковер она была брошена к подножию седых гор, четко выделявшихся на фоне ясного неба. Казалось, побеги сейчас по этой цветущей равнине – мои спутники не успеют чай на костре вскипятить, как я буду у горного хребта…
– Байкальские горы, – выслушав мои восторженные слова, пояснил шедший с нами на стружке местный крестьянин. – Однако, паря, бежать до них утомительно: триста верст с гаком будет. Кое-кто из наших зимой туда за соболем ходит.
Позже пришлось мне уехать из сибирских мест навсегда, увидеть разные края – Юг и Север, наши советские республики и заморские страны, многое меня восхищало своей красотой и неповторимостью, но где бы ни был я, где бы ни жил – любой чарующий пейзаж невольно сравнивал с сибирским, людей – со своими земляками, и выходило так: у вас хорошо, спору нет, но вы у нас побывайте! А у нас – это в Сибири.
В 1923 году я закончил учительскую семинарию, что примерно соответствует нынешней десятилетке. К этому времени детская мечта стать врачом оформилась в твердое решение: другого пути быть не может.
В сумерках, не зажигая света, мы сидим с отцом за столом, его руки устало лежат на скатерти, тяжелые, широкие в ладони, с расплющенными работой пальцами, темные от въевшейся в них металлической пыли. Я смотрю на них, слушая глуховатый, раздумчивый голос:
– Мне все труднее кормить семью, Федя. Но если хочешь в университет – не препятствую. Одного боюсь: как учиться-то будешь, я помогать тебе не смогу. Был, Федя, конь, да, как молвится, изъездился. Рассчитывай только на себя.
– Папа, я справлюсь, – отвечаю ему, а горло сдавлено волнением и жалостью. – Справлюсь!
– Загадывал, что пойдешь ты работать, – говорит он. – Сразу бы нас двое, работников…
– Не могу без того, папа, чтоб врачом не стать…
– Тогда с Богом. – И его ладонь тихо ложится на мою руку. В этом жесте все – одобрение, понимание, прощение, отцовское благословение.
Через день, получив от отца бесплатный билет водника для проезда в Иркутск, с испеченными мамой подорожниками в котомке я отправился в путь. До Иркутска от нас насчитывалось тысяча сто километров. Сначала четверо суток на пароходе до Усть-Куты, затем столько же до Жигалово, а отсюда предстояло путешествие по Лене до Качуга на большой лодке, прозванной шитиком. Вверх по течению ее тащит идущая берегом пара сильных коней. Лошади перекладные – через каждые тридцать километров их меняют. Шесть суток потребовалось, чтобы наш шитик, одолев сто шестьдесят километров, причалил к качугской пристани. Хорошей была эта дорога для меня: новизна впечатлений, поразительная красота диких ленских берегов, ночевки у костра, разговоры со многими людьми и не покидающее ощущение, что с этого момента круто меняется вся моя жизнь.
Качуг встретил дождями, грязь здесь была такая густая, что того и гляди сапоги в ней потеряешь. До Иркутска от Качуга ходили обозы – иного транспорта не знали. Но мы, на наше счастье, застали тут грузовые автомобили – наверно, одни из самых первых в Сибири той поры. Сейчас новым космическим кораблям, пожалуй, не удивляются так, как дивились в сибирских деревнях этим грузовикам! Раскрытые рты, испуг, удивление на лицах людей. Коровы, заслышав рев моторов, очумело неслись от дворов куда попало, лошади рвались из оглобель, опрокидывали телеги. Все это я видел, сидя в кузове машины, радостный, несмотря на сумасшедшую тряску и то, что был весь заляпан дорожной грязью: то и дело приходилось соскакивать, подталкивать грузовик, подкладывать под его буксующие колеса жерди и доски.
На двадцать второй день пути я прибыл в Иркутск. Город поразил меня многоэтажными зданиями, широкими мощеными улицами, огромным количеством спешащих куда-то людей и множеством извозчичьих пролеток. «Ну, брат, – сказал я себе, – не пропасть бы!..»
Глава IV
На удивление мне председателем приемной комиссии оказался Иван Васильевич Соснин, бывший киренский партийный секретарь. Вряд ли он знал меня, но фамилия Угловых ему, конечно, была известна, и в том, что я сравнительно легко стал студентом, сыграло свою роль мое социальное происхождение. Вместе со мной на факультет пришли парни и девушки с заводов, фабрик, из деревень. Много было демобилизованных красноармейцев. Их потертые шинели, фуражки со звездочками, островерхие буденновки словно бы еще отдавали горьковатым пороховым дымом, напоминали о вчерашних смертельных боях на фронтах Гражданской войны.
Но вместе с ними в университет попадали и дети торговцев, мелких промышленников, а то и крупных богачей. Быстро ориентируясь в обстановке, они поступали куда-нибудь рабочими и через год-два шли в университет под именем «рабочие», хотя вся сущность их оставалась мелкобуржуазной. Подделываясь под рабочих, они сыпали грубостями, ругательскими словами, приводя в смущение не только девушек, но и мальчишек из подлинно рабочей среды. Они были все «сверхреволюционными». Вежливость, природную русскую застенчивость они высмеивали как пережиток старого, а хамство и ругань выдавали за «пролетарский дух». Мы их долго не могли раскусить.
А профессорско-преподавательский состав был, естественно, прежним. Большинство действительно хотело помочь нам приобрести знания, но все же мы, пролетарская молодежь, долго ощущали отчужденность многих из них, граничащую чуть ли не с брезгливостью. Привыкшие к прежней студенческой аудитории, близкой им по своему классовому сознанию, они иронично, а порой с нескрываемым презрением смотрели на нас, одетых в домотканые рубахи, гимнастерки и тяжелые сапоги, и конечно же, особенно на первых порах, речь наша была груба для их слуха, а манеры – неуклюжи и резки…
Вот почему, учитывая сложность университетской обстановки той поры, партия посылала сюда опытных коммунистов, таких, как Соснин. Отстаивая и проводя в жизнь партийную линию, они в своей работе опирались на авторитет и поддержку лучших представителей профессуры, которые без предубеждений отнеслись к новой власти, сочувствовали ее начинаниям и преобразованиям. На медицинском факультете, заинтересованно, уважительно относясь к нам, читали лекции и вели занятия крупные ученые того времени: анатом Бушмакин, знаменитый специалист в области эмбриологии и сравнительной анатомии Шевяков, блестящие хирурги Сапожков и Щипачев. У каждого из них был свой характер, свои особенности и даже свои профессорские причуды, но всех их роднила преданность науке, желание учить молодежь, стремление подготовить для России как можно больше высококвалифицированных врачей.
Казалось бы, скучная дисциплина – анатомия, а на лекции профессора Бушмакина, которые он читал для нас, приходили студенты выпускных курсов и даже врачи. Тесно становилось в аудитории, яблоку негде было упасть, локтями не двинешь, так сжимали со всех сторон. Особая привлекательность этих лекций была в том, что профессор приносил с собой остроумно изготовленные им самим наглядные пособия. Так, объясняя тему «Проводящие пути мозга», он пропускал тонкие бечевочки через нарисованные крупным планом срезы головного и спинного мозга на различных уровнях, указывая центры, через которые они проходят. Тут уж можно было уяснить и осмысленно запомнить, а не механически зазубрить, что такое, например, «трактус-кортико-понтикоце-ребелло-дентата-рубро-спиналис».
Он очень умело вел групповые занятия в анатомическом зале. Каждый студент должен был тщательно отпрепарировать какую-то одну часть тела, но обязан был хорошо знать и другие, которыми в этот момент были заняты товарищи по группе. Все вместе, помогая друг другу, мы вечерами подолгу задерживались в анатомичке, и когда учеба на трупах подходила к концу, экзамен был сдан, профессор Бушмакин обязательно фотографировался с каждой группой отдельно. Эти фотографии мы, его бывшие студенты, храним как реликвию.
Запомнился профессор Щипачев, его высокая требовательность к проведению асептики при операциях. Больного тщательно мыли, закутывали в стерильные простыни и в таком виде ввозили в операционную. Здесь начинался целый ритуал, разработанный в подробностях: скрупулезно подготавливалось операционное поле, целая система щеток и разные антисептики пускались в ход при мытье рук… Сам хирург был молчалив – ни единого лишнего слова! И если вдруг он начинал тихонько напевать, мы понимали: профессору трудно…
Профессор Топорков часто любил повторять: «Что на мне нет белого жилета, я могу сказать. Но что у меня нет наследственного сифилиса – этого сказать не могу». В своих увлекательных лекциях он доказывал, что врожденный или приобретенный сифилис лежит в основе многих нервных заболеваний. Его лекции были хороши тем, что в них выявлялись слабые и сильные стороны противоположных методов и направлений, – они будили мысль, звали к самостоятельному поиску правильного решения.
В клинике нам пока ничего не давали делать самим: смотрите, вникайте! А нам представлялось: возьмем нужный инструмент и пойдет дело… И когда выпадала такая возможность, откуда только брался страх, в мгновение забывались все наставления, руки не слушались, не хотели делать того, что приказывала им голова. Нужно было учиться, учиться, и каждый день, проведенный под руководством ассистентов в клинике, был желанным.
Мучила латынь. Почти никто из нас, поступивших на медицинский факультет с рабфаков или приехавших из глухой провинции, латинский язык до этого не изучал. Сколько упреков было услышано нами, когда начались занятия по фармакологии и рецептуре!
Но уже первые месяцы, проведенные в университете, сделали нас во многом другими: более собранными, уверенными. Мы поняли, что, учась на врача, нельзя разбазаривать дорогое время – только занятия, только книги… Не нужно, разумеется, думать, что не было у меня радостей, развлечений – все было! Однако в то горячее время, когда восстающему из разрухи молодому Советскому государству, как никогда, требовались свои надежные специалисты, мы сознавали: именно на нас очень надеются, нам строить социализм. Мы были чертовски боевыми, настырными ребятами: учиться – до темноты в глазах, спорить на диспутах – пока глотку не сорвешь, песни петь – пока все они не будут перепеты! Хотя и голодно жили, но без уныния – с комсомольским задором, как нынче пишут в газетах.
Стипендия была маленькая: на первом курсе – шесть рублей в месяц, на втором – восемь, а одни талоны на скудное месячное питание в студенческой столовой стоили четыре с полтиной. Повозишь ложкой в тарелке и вздохнешь тут же: то ли ел, то ли это показалось…
В Иркутске жила Ася, моя сестра, была она замужем за бывшим киренским фельдшером Алешей Шелаковским. Теперь Алеша тоже учился на медицинском факультете. Вместе кое-как перебивались.
Брат Иван, учительствовавший в деревне на Лене, раза два за зиму присылал немного денег. Голова от недоедания частенько кружилась, но все ж терпимо было.
Снимал я небольшую проходную комнатку у тихих, не мешающих моим занятиям людей, а соседом по квартире был работник милиции Гаврилов – человек начитанный, преданный своей опасной (особенно по тем временам) профессии. Бывал он в частых перестрелках с контрабандистами, проникавшими на советскую территорию через китайскую границу, бесстрашно ходил на обследование многочисленных в Иркутске той поры воровских и прочих притонов. Вспоминаю его потому, что однажды он предложил мне пойти вместе с ним к наркоманам.
– Тебе, Федор, как будущему медику, полезно на них посмотреть…
В ночной час мы свернули с широкой центральной улицы на узкую боковую, по ступенькам спустились к закрытой двери полуподвального помещения. На вопрос, кто стучит, заданный по-китайски, Гаврилов тоже по-китайски отозвался: Четырехглазый. Нас тут же впустили. Оказывается, за круглые очки обитатели притонов окрестили милиционера Гаврилова «четырехглазым».
В нос ударил тяжелый запах гнили и застоявшейся сырости. В огромной комнате плавал сине-желтый ядовитый дым; приглядевшись, я увидал много людей, в разных позах сидящих и лежащих на захламленном полу. Кое-кто из них спал, кое-кто бредил, бормоча непонятные фразы, другие с тупой полусонной отрешенностью смотрели перед собой и – было видно – ничего не замечали. Иные же с блаженным выражением на лице курили длинные глиняные трубочки, наполненные гашишем. Как после объяснил мне Гаврилов, за щепотку гашиша, вот за такой миг – посидеть с заветной трубкой во рту – тут готовы на любое самое тяжкое преступление. Порок затмевает разум.
Среди всех особенно жалкий вид имели женщины, опустившиеся вконец, утратившие человеческий облик… Хозяин притона – толстый, с длинной черной косой и заплывшими глазками китаец – подобострастно отвечал на вопросы моего спутника. Гаврилов подошел к одному из обитателей подвала и попросил снять рубаху. Тот хотя и неохотно, но снял ее. Страшное зрелище представляло собой его тело, сплошь покрытое гноящимися струпьями. Это был морфинист, сам себе делающий уколы морфия. Так как при уколе шприц и игла, руки и тело не дезинфицировались, тут же возникало нагноение. Нагноения захватили спину, грудь, плечи. Еще ужасней выглядели у него ноги от паха до лодыжек – на них были огромные, незаживающие язвы. Зачастую морфинисты, подгоняемые нетерпением, вводят себе морфий прямо через одежду, не выбирая, где на теле здоровое место, где рубцы и струпья…
Гаврилов попросил снять кофточку молодую, но изможденную, с потухшими равнодушными глазами женщину, и она безропотно, без признаков смущения обнажила тело. Та же мрачная картина – язвы, сочащийся из-под струпьев гной… Мы осмотрели еще несколько человек, и я подметил: Гаврилова здесь слушаются, даже уважают и боятся, и нет у них ни сил, ни желания к сопротивлению.
На улице я вдохнул полной грудью свежий воздух, дышал и не мог надышаться. Гаврилов сказал мне:
– Все они у нас на учете, мы прикроем эти притоны… Но… – Помолчав, добавил: – Наркоманию, конечно, так скоро не пресечем. Тяжелое наследие оставлено нам, и нужно лечить, лечить! Вы, врачи, должны многое сделать.
Потом спросил:
– Подгорную улицу знаешь?
– А что там?
– А частушку слыхал?
По Подгорной я иду, Сворочу налево, Ко милашечке зайду — Кому какое дело!..До революции на Подгорной чуть ли не у каждого дома красный фонарь висел.
– Вы меня извините, – сказал я, – у нас, в Киренске, красные фонари не горели, я не знаю, для чего их вешают…
– Святая наивность! – Гаврилов засмеялся. – Такой фонарь – знак публичного дома. И хоть сейчас фонарей не увидишь, публичные дома кое-где в городе содержатся. Опытные вербовщики ловят для них малолетних девушек, молодых женщин, попавших в беду… Удивлен? Вот и знай, какая громадная работа предстоит по оздоровлению общества. Уставать некогда, Федор! Зато завтрашний день будет светлым и чистым!
Мне неизвестно, как в дальнейшем сложилась судьба Гаврилова, но ярко запомнился он – один из энергичных тружеников первых лет Советской власти, посвятивший свою жизнь борьбе с самым темным и гнусным, что выплеснул на городские окраины, как накипь, погибающий капитализм.
Зима в Иркутске – лютая: трескучие морозы, затяжные метели. Пообносившийся, легко одетый, бегал я на занятия рысцой. В аудитории, когда занимал своё место, долго дул на пальцы, они не слушались, не могли карандаш держать, а ноги нестерпимо кололи тысячи острых холодных иголок… С Алешей Шелаковским решили: как только сдадим весенние экзамены, поедем на реку Лену зарабатывать деньги на одежду и обувь.
Так и сделали… После утомительного пути до Качуга, отдохнув ночь, пошли искать себе работу. Алеше повезло сразу: его приняли на должность приказчика на торговый паузок (особой постройки карбас с высокими бортами и крышей), он мог теперь спокойно и безбедно плыть до Киренска. Мы попрощались с ним, и я уже в одиночку продолжал толкаться среди пристанского люда, узнавая, где какие работники требуются. Выяснил, что самое подходящее для меня – наняться на сплав груженых карбасов.
Карбас – это нечто среднее между плотом и баржой. Квадратной формы, он сделан из толстых досок, ширина его семь-восемь метров, длина двенадцать-четырнадцать. Борта в нижней части обшиты толстыми бревнами, чтобы судно не боялось нечаянных ударов, а сбоку от карбаса, удерживаемая канатами, плывет по воде плица – полуметровой ширины доска в двенадцать метров длиной. Это – приспособление для снятия карбаса с мели. На таких карбасах в пору весеннего половодья сплавлялась основная масса грузов для снабжения населения Ленского бассейна. Работа на них под силу лишь крепким, выносливым людям.
Два карбаса связывают кормой к корме, чтобы носами они смотрели в противоположные стороны, а спереди и сзади устанавливают по огромному веслу из бревна средней толщины. На каждом весле, послушные командам лоцмана, стоят посменно по четыре рабочих. Лоцманами, как правило, плавали местные крестьяне, хорошо знавшие фарватер реки, все ее капризы. От них главным образом зависел успех сплава, от их опыта и умения. А попадется горе-лоцман – рабочим мучение! Если опытный заставляет грести, лишь когда требуется, только в нужном направлении, то от бестолковых команд плохого лоцмана связка карбасов мечется от берега к берегу, гребцам передохнуть некогда, и смотришь – вынесло карбасы на мель! Значит, лезь в холодную воду, налаживай плицу, сталкивай связку с опасного места…
Правда, в таком случае лоцман стремился первым прыгнуть за борт, пример показывал, ведь на сплав нанимались отчаянные ребята, много среди них было уголовников, неизвестно откуда попавших в Сибирь людей… Им ничего не стоило схватить лоцмана за руки-ноги и силой бросить в воду: взялся – гляди в оба, не зевай, не пропускай мели-перекаты!
Вот на такую связку из двух карбасов попал и я. За дорогу до Киренска платили сорок или пятьдесят рублей, а до Якутска – все сто.
Среди моих новых товарищей оказались два-три любителя острых приключений и бывшие заключенные, золотодобытчики-неудачники с Алдана и Витима и какие-то неопределенные личности, перед отплытием спустившие в кабаках последнюю одежонку… Густой мат летел с наших карбасов и уносился к берегам. Хорошо еще, что на Лене существовал железный закон – не брать в рот ни капли спиртного, пока связка не дойдет до места назначения. По стакану водки для согревания получали как исключение лишь те, кто в холодной воде сталкивал карбас с мели…
В первый же день за то, что не употреблял бранных слов и ко всем обращался предупредительно-вежливо, я был прозван «мазунчиком» и «салагой», надо мной стали издеваться и даже грозились, если уткнемся в мель, бросить вместе с лоцманом за борт! Так уж почему-то водится в компаниях: не похож на всех, белая ворона – значит, клюй его, ребята!.. Слава богу, до вечера на мель не сели, остался я сухим, хотя несколько злых тычков в спину мне досталось. Я, признаться, упал духом, и когда в сумерках причалили к берегу, развели костер, стали ужин готовить, нахохленно сидел в сторонке. Багровые отсветы огня, молчаливая тайга за спиной, темное серебро реки и звезды, отразившиеся в ней, грубая речь моих спутников… Что это напомнило мне? Пушкина!
Я подвинулся ближе к костру и твердо, с большой выразительностью и жаром стал читать вслух. И угас разговор, всякий шум, только слышался мой голос:
Не стая воронов слеталась На груды тлеющих костей, За Волгой, ночью, вкруг огней Удалых шайка собиралась. Какая смесь одежд и лиц, Племен, наречий, состояний! Из хат, из келий, из темниц Они стеклися для стяжаний!Много раз декламировал я «Братьев-разбойников» со школьной сцены, пользовался успехом, но, наверное, никогда не был в таком ударе, как в тот вечер. Видел блеск горящих глаз, улавливал взволнованное дыхание вокруг себя. Слабело пламя костра, и никто не пошевелился, чтобы подбросить хворосту. Костер вскоре загас совсем. В полном мраке, окутавшем нас, лишь зловеще светились затухающие угольки, а я читал и читал:
Не он ли сам от мирных пашен Меня в дремучий лес сманил, И ночью там, могущ и страшен, Убийству первый научил?О чем думали мои слушатели в этот момент? Скорее всего о своей бродяжьей судьбе, о той дикой силе, что подхватила их, заставила покинуть родной дом, очутиться среди глухой тайги. Куда дальше ведет дорога, куда? Пушкин волновал их так, словно бы не поэму они слушали, а искреннее признание одного из своих братьев по несчастью. И когда с неослабевающим напряжением, как перед самой взыскательной аудиторией, я прочитал последний абзац этой поэмы:
У каждого своя есть повесть, Всяк хвалит меткий свой кистень. Шум, крик. В их сердце дремлет совесть. Она проснется в черный день! —мои слушатели, как зачарованные, долгое время сидели неподвижно и молчали. Наконец старший из рабочих подошел ко мне и со словами: «Спасибо, друг! Вот ты, выходит, какой!» – крепко пожал мне руку. И другие тесно обступили, услышал я много добрых слов. Просили меня что-нибудь еще почитать… Снова вспыхнул костер, я запел песню, ее дружно подхватили:
Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, Над озером быстрая чайка летит…Стоит ли говорить, что с этого дня отношение ко мне резко изменилось… А главное: все с нетерпением ждали вечерней стоянки, мы были уже как одна дружная семья, и я с воодушевлением, при общем одобрении, читал стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, пересказывал удивительные истории из повестей Гоголя. Пели мы и старинные народные песни. И сколько раз после убеждался я в великой облагораживающей силе литературы: даже самые, казалось бы, черствые, загрубевшие сердца сдаются перед истинной поэзией!
– Ну, студент, – сказали мне при прощании мои товарищи по сплаву, – уважил ты все наше общество. Учись дальше, Федор, и людей хорошему учи!..
Расстались мы с сожалением и надеждой, что в будущих странствиях по Сибири когда-нибудь еще невзначай свидимся…
Отчий дом в Киренске после иркутской жизни показался мне маленьким, и я впервые подумал: к родителям старость подкрадывается, успеть бы сделать что-нибудь для них, не знавших никогда отдыха. И было так уютно, так славно сидеть за знакомым с детства обеденным столом, слушая неторопливые рассказы о киренских новостях…
И на следующий год, досрочно сдав экзамены, я так же, сплавным рабочим, добирался до родимого городка. А поскольку за спиной у меня было уже два университетских курса, киренский хирург Василий Дмитриевич Светлов охотно взял меня на лето дежурным фельдшером.
Ничего я еще толком не знал и не умел. Опытный фельдшер приободрил меня, дал некоторые советы. Да и сам я жадно присматривался, как он обращается с больными…
Однажды глубокой ночью во время моего дежурства привезли такого больного, что я не знал, чем помочь ему, а вызвать хирурга стеснялся: знал, что он поздно ушел из больницы, день у него был тяжелый. Родственники настаивали, чтобы я непременно пригласил Светлова, говорили, что больному час от часу хуже. Я это тоже видел и в конце концов, растерянный в своей беспомощности, сказал им: позвать доктора не могу, а если они хотят, пусть сами идут за ним…
Когда Василий Дмитриевич осмотрел пациента и сделал все, что требовалось, он, несмотря на поздний час, на то, что до крайности устал, посчитал нужным тут же побеседовать со мной. Он говорил, что мы – врачи, и этим уже все сказано. Я должен был не родственников посылать, а сам немедленно вызвать его, ибо промедление в помощи больному грозит непоправимым несчастьем… А что на свете невосполнимее человеческой жизни? Мне было стыдно, щеки мои пылали, и мудрые слова старого доктора памятны поныне…
Уверенность в себе появилась только после третьего года обучения, когда нас познакомили с клиникой некоторых заболеваний, прочитали нам курсы общей хирургии и терапии. И хотя слабой была эта уверенность, но крепло чувство: я – медик. Летом уже мог поступить на пассажирский пароход судовым врачом: снимал пробу кушаний на камбузе, следил за санитарным состоянием помещений, оказывал помощь при травмах, делал медицинский осмотр принимаемых на работу. И нравилось, когда ко мне обращались называя доктором.
На несколько дней заглянул я в Киренск и, возвращаясь обратно в Иркутск, пообещал родным, что снова увидимся скоро, на будущее лето обязательно приеду работать в киренскую больницу уже опытным фельдшером, почти врачом. Однако обстоятельства сложились так, что в Киренск я вернулся только через семь лет.
В основе своей обучение будущей профессии в университете тех лет строилось так же, как это делается сейчас в нынешних медицинских вузах. Разумеется, мы получали для себя меньше специальной информации, чем может взять ее у преподавателей современный студент, – медицина-то за эти годы шагнула далеко вперед! Разница была в одном: мы учились в двадцатые годы, первые годы жизни Советского государства, когда шла борьба за новые отношения, за новую социалистическую культуру. Яростный отпор получали у нас любые попытки пригладить или незаметно протащить в студенческой среде буржуазные тенденции. Наверно, в чем-то мы бывали излишне категоричны, однако чаще всего такой категоричности в решении вопросов требовало само время.
Некоторую растерянность почувствовали мы, когда крикуны из «сверхактивистов» начинали издеваться над тем, что всегда было дорого и свято истинно русскому человеку: над Пушкиным, Лермонтовым, Толстым. Называли их дворянами и буржуазией и под треск «пролетарских» лозунгов требовали вычеркнуть их из учебников русской литературы. Много позднее мы узнали, что меньшевики и троцкисты уже тогда взяли курс на выкорчевывание самобытной культуры русского народа. Между прочим, осознание истинных целей троцкистов приходило к нам по мере того, как они наглели, все громче заявляли о себе – все жарче в университете кипели споры, а в спорах рождалась и наша политическая бдительность. Прикрываясь звонкой левой фразой, последователи Троцкого требовали пересмотра всего и вся, ставили под сомнение правильность ленинской позиции. Их нападкам, неприкрытой травле подвергались те, кто не поддавался «перевоспитанию», не признавал путаных тезисов Троцкого. И поскольку я был в числе непримиримых, то вскоре испытал на себе холодную расчетливость ударов троцкистской группки, занявшей руководящие посты в нашей университетской комсомольской организации.
Однажды после бурного диспута, на котором четко выявились политические позиции каждого из участников, меня вызвали на заседание комитета комсомола. С удивлением узнал я, что будет разбираться мое персональное дело, а больше всего удивился тому, что вести заседание поручено одному из моих частых противников по дискуссиям. Это был крикливый рыжий парень по фамилии Гросс. В его выступлениях мелкобуржуазные взгляды ловко маскировались высокими и дорогими каждому из нас понятиями: «революция», «диктатура», «интернационал», «социализм», – произносимыми к месту и не к месту через два слова на третье.
– Всех заботит грядущая мировая революция, – сказал Гросс, – а Углова волнует личное благополучие. Его летние поездки на Лену за длинным рублем я квалифицирую как шкурничество.
– Тебе штиблеты и модные штаны папа, наверное, купил, – ответил я. – А мне только тяжелый физический труд на речном сплаве дает возможность учиться зимой. Кроме того, там, среди рабочих, я никогда не забываю, что я – комсомолец.
– Кто за то, чтобы исключить Углова из комсомола? – словно не слыша меня, сказал Гросс. – Мотивировка: за игнорирование святых требований мирового революционного движения.
Сейчас, читая про это, кто-нибудь, вероятно, улыбнется: за такое обвинение и сразу исключить? Мне же тогда было совсем не до смеха: можно было остаться за дверями университета, и понадобилось бы много времени, чтобы доказать свою правоту… Гросс со своими единомышленниками и рассчитывал на подобное. Лишь вмешательство партийного секретаря Ивана Васильевича Соснина помешало ретивым «активистам» расправиться со мною и другими комсомольцами. К слову сказать, впоследствии эти крикуны были решительно осуждены коммунистами и комсомольцами университета и изгнаны из вуза.
А на четвертом курсе произошло памятное до сих пор, приятное событие – поездка группы отличников учебы в Ленинград. Нас было тридцать человек, и целый месяц провели мы в путешествии: две недели ушло на дорогу, другие две были отданы знаменитому городу на Неве. Он восхитил нас своей красотой, строгостью, и уже тогда, еще не зная, что долгие годы буду жить здесь, я навсегда был покорен широкими проспектами, каменными набережными, удивительными мостами. Тут во всем ощущалась русская история! Сенатская площадь, Петропавловская крепость, Смольный, Зимний… Был январь, город как бы плавал в синей дымке, нежданная оттепель убрала с улиц весь снег – лужи, лужи! Мы прыгали через них в разбухших от сырости сибирских валенках, лишь развевались полы наших солдатских шинелей и овчинных полушубков, и было такое чувство, будто мы внезапно встретились с весной. Это весеннее настроение мы увозили с собой в заснеженный Иркутск. Уже тогда, еще бессознательно, я попытался породнить их в самом себе – мою Сибирь и Ленинград.
В поезде нам было не скучно: песни, шутки, забавные рассказы, споры, разраставшаяся день ото дня «Дорожная поэма» моего сокурсника и тезки Феди Талызина, в которой смешно изображался каждый из нас. Слушали Федю, хватаясь за животы, подсказывали ему удачные рифмы… В своей молодости, в светлых надеждах на будущее были мы пьяны без вина. Когда сейчас вижу, как порой студенты, хорошие, умные ребята, собравшись вместе, почему-то заводят разговор о покупке спиртного, словно бы без этого немыслим отдых, мне становится грустно. Тяга к бутылке, желание непременно иметь ее в походном рюкзаке прежде всего замечается у молодых людей, предрасположенных к преждевременному постарению, а также с неустойчивой нервной системой, приученной к постоянному взбадриванию. А это уже не врожденное, наследственное, это от безволия – да простится мне такое слово – от распущенности.
И вот мы в Иркутске. Днями позже я как ответственный за поездку делал о ней отчет на заседании университетского профкома. Во время выступления вдруг почувствовал, что смещаются лица, предметы, стены, сам я будто бы проваливаюсь куда-то… Еле-еле доплелся домой, рухнул в постель и… очнулся только через двадцать четыре дня. Сыпной тиф!
После болезни ходил как призрак: слабый, истощенный, ветер с ног валил, и не успел прийти в себя – новая напасть! Стали выявляться признаки пиемии, то есть заражения крови, в различных частях тела возникли гнойники, по нескольку дней кряду держалась высокая температура. Вскроют гнойник – температура выравнивается, но спустя какое-то время обнаруживается новый.
Опять операция, и после нее временное облегчение. При очередном высоком подъеме температуры, сопровождавшемся тягостными головными болями, профессор Николаева заподозрила воспаление среднего уха. Потребовался перевод в другую клинику, но никакого транспорта не было, и товарищи по факультету несли меня на носилках с одного конца города на другой…
Изможденный вконец, я приговаривался к страшному испытанию: нужно было долбить долотом мостовидный отросток моего черепа, искать там гной. По сей день не забыл чудовищную боль во время той операции. Когда хирург ударял по долоту, мне казалось, что он с размаху бьет молотком прямо по голове. Терпел на пределе, стиснув зубы и, продержавшись несколько минут, просил: «Дайте отдохнуть!..» А потом – снова удар, удар, удар… Операция была сделана вовремя. Запоздай она, мог бы случиться прорыв гноя в мозг. Но увы! – для меня тяжкие испытания на этом не кончились. Я должен был перенести еще две сложные операции и бесчисленное количество перевязок. И здесь мне хочется остановиться на важном вопросе хирургической практики, на необходимости щадящего отношения к больному.
Наверное, потому, что мне самому пришлось испытать сильнейшие боли, сам мучился, находясь на операционном столе, я всегда сочувствовал больным, переживал за них, всю свою хирургическую работу старался проводить так, чтобы до минимума свести её травматичность, болезненность. Совсем безболезненных операций почти не бывает, однако сделать их терпимыми, легче переносимыми – это в возможностях врача, это должно быть его обязанностью, долгом.
Я, например, делаю прокол грудной клетки иглой в пятнадцать – двадцать сантиметров ребенку пяти-шести лет, ослабленному затянувшимся недугом, ввожу ему в абсцесс легкого раствор антибиотика, и ребенок в этот момент сидит спокойно, разговаривает со мной, даже улыбается. На следующий день он не боится идти в перевязочную, без слез и страха садится на стол для очередной пункции… Рассказываю об этом, естественно, не хвастовства ради, а чтобы убедить: даже такую сравнительно травматичную манипуляцию, как прокол грудной клетки, можно проводить безболезненно. Было б лишь сострадание в тебе и умение, доведенное до совершенства.
А ведь часто бывает, что боязнь боли, однажды испытанной человеком при лечении, останавливает его в другой раз своевременно обратиться к врачу. «Как вы запустили свою болезнь, – нередко приходилось говорить мне, – почему не пришли раньше?» – и слышал в ответ: «Врач тогда сделал мне так больно, что я решил: лучше умру, чем снова сюда, в больницу…»
Больной всегда чувствует, понимает: вот без этой боли невозможно было обойтись, а это – от плохих, неумелых или недобрых рук врача… «Теперь терпите – будет больно!» – говорит врач больному, тем самым расписываясь в своем неумении работать. Ведь сейчас в нашем распоряжении богатейший комплекс различных обезболивающих средств.
«Подумаешь, потерпеть не можете – нежности какие!» – заявляет другой. Этот даже не стесняется своего неумения, он нападает на больного, ничуть не озабоченный своей слабой профессиональной подготовкой.
«Повышенная чувствительность», «истеричность», – так иногда врачи определяют состояние своих пациентов, которые не могут терпеть боли. Спрашивается: а почему они должны ее терпеть? Только потому, что врач не захотел потратить несколько минут на обезболивание? И когда мы говорим: «добрые, нежные руки» или, наоборот, «грубые руки», – мы понимаем, что дело тут вовсе не в самих руках – руки выполняют волю сердца! Грубые руки у врача – это прежде всего грубое, не знающее сострадания сердце.
Ко мне как-то пришла больная со слезами на глазах и сказала, что нет сил терпеть грубость лечащего врача. Проводя ей бронхографию, он кричал на нее, ругался, не выбирая выражений, заставлял как можно больше высунуть язык, а у нее это никак не получалось, и он схватил ее за язык своими жесткими сильными пальцами так, что поранил корень языка о зубы.
Я посмотрел – на нижней поверхности языка у женщины действительно зияла большая рана. Отпустив больную, вызвал врача и заявил ему, что работать с ним не смогу, пусть подает заявление об уходе… И всегда, когда становился свидетелем жестокого или равнодушного отношения к больным со стороны своих учеников или подчиненных, я был беспощаден к ним. И раздумывая над тем, почему же среди врачей (в частности, хирургов) встречаются люди с грубыми руками и холодным сердцем, я выделил три причины:
1. Врач может быть беззлобным по натуре, даже добрым в каких-то житейских ситуациях, но у него самого отменное здоровье, он никогда ничем серьезно не болел и попросту не знает, что такое боль. Но это не значит, что врачу обязательно нужно пострадать самому, чтобы понимать боль других. Тысячи гуманных врачей никогда не испытывали на себе печальной участи своих пациентов, однако бережно, с пониманием обращаются с больными.
2. Врач может быть хирургом с такими неподготовленными для профессии руками, про которые в народе говорят: «Руки как крюки!» Не умея делать все хорошо и легко, он мало заботится о состоянии больного во время операции. Хоть как-нибудь получилось бы – о безболезненности и думать не приходится! Такие врачи напрасно пошли в хирургию, им следует как можно скорее менять специальность.
3. Врачом оказался просто черствый и грубый по натуре человек, которому чуждо любое страдание, кроме собственного. Такой патологический тип попадает и во врачебную среду, а ему в ней не место!
Впрочем, на страницах книги еще будут затронуты подобные вопросы с примерами из практики, а пока вернемся к событиям студенческих лет…
Операция на черепе, как я уже говорил, не дала никаких осложнений, не сказалась на слухе, я быстро поправлялся.
И вдруг снова поднялась температура! Сначала думали, что это от какого-нибудь непредвиденного осложнения в ране: раскрывали ее, ковырялись в ней, причиняя мне сильную боль. Однако ничего подозрительного на месте операции не находили. А повышенная температура стойко держалась. Вызвали инфекциониста, и он признал: брюшной тиф!
Везти меня опять в тифозные бараки – слабого, не оправившегося от нескольких операций, нуждающегося в перевязках, значило обречь на верную гибель. И тогда студенты на носилках по требованию Веры перенесли меня к ней в комнату, которую она только что получила для себя и ребенка.
С Верой Михайловной, а тогда, конечно, Верочкой, мы учились на одном курсе, в одной группе, и я в первый же свой университетский год потянулся к этой развитой, начитанной, умной девушке. Была она из интеллигентной семьи: отец – нотариус, мать – учительница, умела быть внимательной к людям, отзывчивой, прилежно относилась к любому делу, особенно к студенческим занятиям. С ней было интересно говорить о прочитанных книгах, о жизни – отличала ее удивительная способность находить красивое, прекрасное в будничном и, казалось бы, примелькавшемся. К третьему курсу мы уже привыкли друг к другу и вскоре поженились.
Больным я пролежал около полугода, только к лету стал понемногу ходить. Из-за моей болезни мы безнадежно отстали в учебе, предстояло остаться на второй год на четвертом курсе. Мое здоровье было сильно подорвано. Последствия тифа выразились в виде глубоких изменений мышцы сердца, в отсутствии свободной соляной кислоты в желудке. Непереносимыми стали физические перенагрузки, нужно было соблюдать строгую диету. А у нас – две скромные студенческие стипендии и маленький ребенок в семье, да еще при продовольственных затруднениях той поры!
Врачи, которые лечили меня, удивлялись: как смог перенести я такие тяжелые болезни и множество всевозможных осложнений после них. «Железный организм», – говорили они. И это было правдой. Я действительно рос крепким, здоровым, привычным к любому труду, с детства любил снарядную гимнастику: у нас дома всегда был турник, висели кольца, стояли во дворе пудовые гири. Мы с братьями рано начинали и чуть ли не позже всех заканчивали купальный сезон в нашей холодной реке, зимой по утрам выбегали из дома на улицу обтираться снегом, увлекались французской борьбой. Благотворно влиял на здоровье правильный режим питания: мама научила нас вставать из-за обеденного стола немножечко голодными. Придерживаясь этого правила всю жизнь, я с юности и до нынешних лет сохраняю нормальный вес и нахожусь, как говорится, в спортивной форме.
Единственно, что могло отрицательно сказываться на организме, – это отсутствие передышек в работе. В школьные и студенческие каникулы, в первые десять лет после окончания вуза я обязательно в отпускное время ради заработка устраивался на какую-нибудь временную работу: требовались деньги на срочные, безотлагательные покупки, росли семейные расходы. Только позднее я понял, что труд без отдыха губителен для здоровья, один раз в неделю и три-четыре недели в году интенсивного отдыха – это необходимость, пренебрегать которой рискованно.
– Что будем делать? – спрашивала меня Вера. – Ты как тень, слабый, а впереди суровая зима. Может, переведемся в Саратовский университет: климат на Волге мягче, и опять же, мои родственники там… Как, Федя?
Саратов нам понравился: просторный зеленый город, манящая к себе красавица Волга и очень современные университетские клиники, которые в Иркутске мы не могли даже представить себе.
Саратовский университет в то время считался одним из крупнейших. Авторитет его медицинского факультета поддерживался известными на всю страну именами, среди которых были Спасокукоцкий, Миротворцев, Разумовский, Какушкин, Николаев. Правда, Спасокукоцкого мы с Верой уже не застали, а Разумовский по преклонности лет отошел от активной хирургической деятельности, но в клинику ходил аккуратно как консультант. И прекрасными были лекции по хирургии профессора Миротворцева! Любили мы практические занятия в его клинике, всегда хорошо организованные, поучительные, неожиданные по своей новизне и смелости, – велись они блестящими хирургами: Самсоновым, Захаровым, Шиловцевым, Угловым.
Со своим однофамильцем П. Т. Угловым мне пришлось познакомиться… на операционном столе. Во время его дежурства меня привезли в клинику с абсцессом – последствием брюшного тифа. Вскрывая его под местным наркозом, он спросил: «Как ваша фамилия?» – «Углов», – ответил я. «Шутите», – усмехнулся он. «Да нет, – говорю, – на самом деле Углов. Ваш студент к тому ж, перевелся из Иркутска…» И тут же, во время операции, стали выяснять: не родственники ли? Оказалось, нет.
Запомнились занятия под руководством Н. В. Захарова, Отличный педагог, он поражал нас своей глубокой эрудицией, обширностью разносторонних познаний, а проводимые им операции с точки зрения врачебного искусства были образцовыми. Много хороших отцовских качеств переняла его дочь, тоже ставшая впоследствии видным хирургом, получившая профессорское звание, Г. Н. Захарова.
Клиника была передовой во всех отношениях, и главное – в ее стенах работал дружный коллектив творческих, ищущих новое врачей. Здесь, например, они одними из первых стали применять переливание крови.
Однажды на лекции профессор, демонстрируя нам тяжелую обескровленную больную, объяснил, что при этом случае требуется операция, но при столь низком гемоглобине проводить ее рискованно: нужно перелить кровь. После его вопроса, кто из студентов согласится стать донором, я вышел вперед и предложил себя. Проверили мою кровь на группу и на совместимость – как раз то что надо…
В клинике это была одна из первых попыток перелить кровь, и брали ее у меня не иглой, а с помощью канюли, для чего вену пересекали и затем перевязывали. Так я лишился правой локтевой вены, навсегда остался у меня на руке след – воспоминание о больной, жизнь которой спасла моя кровь. И свою теперь единственную вену на левой руке я очень берегу, чтобы не оказаться без вены в случае экстренной необходимости сделать какое-то вливание мне самому.
Тогда же проходили у нас занятия по психиатрии. Преподаватель читал лекцию по гипнозу, сопровождая ее показом больных. Люди, которых он нам демонстрировал, после первых же его слов впадали в глубокий гипнотический сон. «Это явление, – пояснял преподаватель, – называется «санамбулизмус моментанус тоталис». Кто возьмется повторить мой эксперимент?» У большинства студентов ничего не получилось, мне же, точно воспроизводящему слова и движения преподавателя, удавалось усыплять больных так же быстро, как делал он сам. «Это оттого, наверно, что у нашего Феди темные глаза!» – крикнул кто-то из товарищей. «Посмотрите на меня, – преподаватель засмеялся, – у меня-то глаза голубые! Воля гипнотизера, переданная с соответствующей интонацией и с нужной решительностью, – вот что здесь основное…»
Позже я не раз пробовал гипнотизировать, и каждый раз больные у меня засыпали хорошо. Эта способность к гипнозу весьма пригодилась в будущей врачебной практике.
Учился я отлично, преподаватели ставили меня в пример другим, прочили мне твердое место в клинике, о котором мечтали многие выпускники, однако я всей душой стремился к работе где-нибудь на окраине, помня о том, что старший брат и сестра поступили таким же образом. Поеду туда, думал я, откуда до городских клиник далеко, где больные страдают без квалифицированной медицинской помощи, там я нужнее. Вера соглашалась со мной: только так! И в своем молодом порыве ехать в какое-нибудь богом забытое место и в глуши быть полезным страждущим сам для себя находил поддержку, раздумывая над судьбой отца.
Он умер в год нашего переезда в Саратов, безвременно, пятидесяти восьми лет, и мне представлялось, как ждал он меня, мечтая, что я вот-вот получу диплом врача, приеду, вылечу его… Суровую школу жизни прошел он, и никакие лишения не могли убить его врожденной жизнерадостности, не заставили его пойти против совести. Нас, своих детей, он учил быть справедливыми и непримиримыми в борьбе со злом.
Оканчивая медицинский факультет, я переживал, что безнадежно опоздал и уже ничем не помогу отцу.
Он был из крепкой породы рабочих людей, и характер у него был истинно русский. В основе такого характера – любовь к народу, которая одних заставляет идти в ссылку, других, к примеру, всю жизнь бессменно дежурить в операционной. Да мало ли на свете дел, занимаясь которыми можешь стать по-настоящему необходимым людям, в самоотверженном служении народу откроешь для себя душевную радость, найдешь смысл всей своей жизни!
Я счастлив, что в год столетия со дня рождения российского мастерового Григория Гавриловича Углова родился его внук – Григорий Углов, в первых самостоятельных проявлениях характера которого уже замечается сходство с дедом. Кем он станет, гадать преждевременно, однако я очень хотел бы, чтобы были у него, как когда-то у деда, золотые руки. Жизнь продолжается в поколениях, и они несут в себе и развивают лучшее из того, что оставляют им отцы и деды.
И тогда, в завершающий год учения в университете, я думал, что где-то сейчас находятся тяжелые больные – ждут, ждут. К отцу я опоздал, здесь уже ничего не поделаешь, но скольким людям я смогу помочь! Ревностно без устали готовил себя для самостоятельной работы, аккуратно посещал каждую лекцию, какой бы скучной и необязательной ни казалась она, и не упускал ни одного случая первым выйти к столу в тот момент, когда вызывали студента для производства той или иной медицинской манипуляции.
Именно в те дни я хорошо освоил внутривенные вливания больным, а уже работая врачом на участке, овладел этой процедурой в совершенстве. Позднее, будучи в клинике Н. Н. Петрова, я удивлял его безошибочным попаданием иглы в вену. Умение точно и незамедлительно справляться с этой манипуляцией – первостепенная необходимость для врача. Ведь часто от того, попали ли в вену и как быстро, может зависеть жизнь тяжелого больного. И важно, конечно, убрать неприятные для пациента болевые ощущения. Поэтому в случаях, когда требуется толстая игла – например, для взятия значительного количества крови или введения большого объема лекарства, – пункцию вены следует проводить под местной анестезией. Совсем не трудно при помощи раствора новокаина получить небольшой кожный желвачок, через который игла пройдет безболезненно. Владея этой методикой, я, например, при необходимости делаю венопункцию и внутривенные вливания себе, предварительно наложив жгут и сделав обезболивание.
Сдав государственные экзамены, получив звание врача-лечебника, я с невольным трепетом взял в руки квадратик шероховатой бумаги с указанием места моей будущей работы. Там значилось: «К 1 июля 1929 года прибыть в село Кисловку Николаевского района Камышинского округа Нижневолжского края в качестве заведующего врачебным участком».
Глава V
Село Кисловка оказалось крупным, жителей в нем было больше пяти тысяч, в основном выходцы с Украины. Говорили здесь на удивительном языке: малороссийские слова перемежались с мягко произносимыми русскими. Красили село сады, солнечно стояли в огородах желтые подсолнухи, и по вечерам весело звучали гармони парней, девушки пели задушевные украинские песни…
В день приезда в сельсовете меня встретил двадцатипятилетний председатель Иван Степанович Марченко, один из десяти активистов на все огромное село, пламенный энтузиаст, агитатор и организатор из тех, кто проводил декреты Советов в жизнь в невероятно трудных условиях. Недавно он прислал мне письмо. Вышел на пенсию. Живёт со своей Анной Власьевной, окруженный уважением людей. А Кисловка, пишет, сильно изменилась, теперь это совхоз сплошной мелиорации.
Мне указали дом, где была отведена для меня комната. Хозяева встретили радушно, тут же усадили за стол. А утром, когда я шел на участок, мужчины приветствовали меня поклонами, молча разглядывали, каков из себя присланный доктор. Из-за плетней наблюдали женщины. Я старался идти степенно, как и подобало мне по чину, успокаивая себя тем, что скоро многих буду звать по имени-отчеству, что везде хороших людей больше, чем плохих: приживусь, стану своим для кисловцев.
На участке, несмотря на ранний час, меня уже ждали. Крепко пожал руку фельдшер Павел Петрович, много лет до этого исполнявший обязанности заведующего. Он представил мне «персонал»: акушерку Веру Георгиевну и санитарку Нюру. Последняя тут же поспешила объяснить мне, что, по ее мнению, все болезни бывают от злости.
– Давайте тогда в работе не будем злиться друг на дружку, – шутливо сказал я, – чтобы самим не заболеть!
Мы посмеялись, и я понял: тут ко мне будут относиться доброжелательно. А это уже много значит!
Больница была на десять коек, имелось и родильное отделение, в нем ежедневно лежали одна-две роженицы. Поликлиника, в которой предстояло вести амбулаторный прием, состояла из четырех комнат: кабинета врача, зала для ожиданий, аптеки и процедурной. И мы сразу же распределили обязанности. Вера Георгиевна должна была регистрировать больных, а затем в процедурном кабинете проводить нуждающимся назначения врача. Ей в помощницы выделялась Нюра, которая за три года хорошо освоилась с перевязками, компрессами, ставила банки, следила за чистотой и порядком. А Павел Петрович должен был готовить в аптеке и отпускать лекарства по моим рецептам. В нужные, затруднительные моменты я всегда мог пригласить его помочь мне…
В первый же день, услышав о приезде «ученого» врача, на прием пришло столько больных, сколько я никогда больше на участке не видел. Небольшими группками ожидали они своей очереди на улице, на ветерке и каждого выходящего от меня встречали вопросом: «Ну как он – помог?»
Болезни были самые разнообразные, и я чувствовал себя в положении утопающего, брошенного в глубокий омут. Приходилось барахтаться! Тщательно расспросив пациента, я просил его выйти и подождать за дверью, сам же начинал лихорадочно листать привезенные с собой учебники и справочники, проверяя по ним точность своего диагноза, отыскивая, как правильно пишется обнаруженная болезнь по-латыни, какие и в каких дозах нужно назначить лекарства…
Впрочем, неуверенность прошла быстро. Прилежание и интерес к делу помогли обрести веру в свои силы.
Когда одолевали сомнения, так ли я определил болезнь, звал Павла Петровича. Моя откровенность, уважение к его опыту нравились старому фельдшеру, много дельного подсказывал он, и впоследствии я никогда не пренебрегал его советами, мы научились с полуслова понимать один другого. Когда рядом образованный опытный фельдшер – это сильно облегчает работу врача, особенно начинающего. Фельдшер может научить тому, что прошло мимо тебя в студенческие годы. В дальнейшей хирургической деятельности, например, меня часто выручали практические приемы, усвоенные от Павла Петровича или Алеши Шелаковского (Алексея Александровича!), тоже бывшего фельдшера. Часто лишь благодаря этим приемам, знанию фельдшерских секретов я не выбывал на несколько дней из строя, когда, казалось бы, иначе и быть не могло, они давали мне возможность не прекращать занятий, делать операции.
Однажды, забивая гвоздь в стену, я промахнулся и со всего маху ударил молотком по тыльной стороне кисти, от острой боли искры из глаз посыпались! Находившийся рядом Алеша Шелаковский ощупал руку, сказал, что перелома кости, слава богу, нет, только сильный ушиб. Я с грустью подумал, что завтра руку разнесет, и недели две работать не смогу… «Не дадим тебе от дела отлынивать», – засмеялся Алеша, принес банку с йодной настойкой и густо смазал ею всю мою руку – от кончиков пальцев и выше локтя… Проснувшись утром, я с удивлением обнаружил: ни боли, ни отека нет! И этот фельдшерский метод надежно помогал позже, я на себе убедился в его эффективности.
Когда у меня появляется какой-нибудь инфильтрат, гнойничок или фурункул, я, вспоминая добрым словом Павла Петровича, следую его давнему рецепту: прикладываю и больному месту ватку, смоченную чистым спиртом, и держу ее так минут сорок – шестьдесят, вечером и на следующий день повторяю эту процедуру. Процесс, как правило, приостанавливается, быстро купируется. Нельзя только на спиртовую вату накладывать вощанку или клеенку: это уже будет спиртовой компресс – возможен ожог.
Столь же успешно пресекаю в самом начале развитие панариция или флегмоны на руках, опять же используя совет из копилки фельдшерского опыта. Опускаю больную руку в такую горячую воду, как только можно терпеть, и по мере остывания воды добавляю в нее кипяток – в течение часа. После на больное место нужно наложить спиртовую высыхающую повязку на час-полтора, время от времени продолжая смачивать вату спиртом.
Конечно, любой практический совет необходимо всегда пропускать через призму собственных медицинских знаний. Как и врачи неодинаковы в своей профессиональной подготовленности, так и среди среднего медицинского персонала встречаются чудаки, чьи наставления нередко нельзя слушать без улыбки, и благо если такие советы безвредны… Думая о достойном во всех отношениях Павле Петровиче, не могу не вспомнить другого фельдшера той поры – из соседнего села Солодушино, что находилось от Кисловки в шести километрах. Сюда на должность заведующей амбулаторным участком получила назначение Вера Михайловна. В помощниках у нее состоял бывший ротный фельдшер, пожилой человек с унтер-офицерскими замашками и зычным командным голосом. Когда больные собирались, он приказывал тем, у кого болит голова, отойти вправо, а остальным – влево. Первым давал аспирин, другим, всем без исключения, – касторку.
Поэтому в дни, когда Вера Михайловна почему-либо не могла вести прием больных, я вечером приходил в Солодушино и подменял ее. Легко шагалось берегом Волги, далеко к горизонту убегали желто-зеленые поля, предвечерняя сиреневая дымка ложилась на них, от речной воды веяло прохладой, было ощущение покоя, прикосновения к вечной земной красоте, обступавшей меня… И все же какое-то неясное томление закрадывалось в сердце, тревожило, и на смену тому, что было здесь, приходили видения отчего края: более могучая и своенравная, чем Волга, наша Лена, ее дикие, подминаемые величественной тайгой берега, а видимые глазом далекие заснеженные горы, неоглядный простор и родной сибирский говор на улицах и улочках нашего Киренска… Крепко жили во мне видения родной стороны.
В тот первый в моей практике амбулаторный прием в кабинете у меня побывало более шестидесяти человек – мужчины, женщины, дети, – и у каждого своя боль, свои страхи, свои надежды… Я был измучен до крайности, хотелось немедленно, тут же помочь каждому, всем, но как – этого доктор Углов еще толком не представлял, путался, устанавливая диагноз, боялся ошибиться – столько похожих симптомов у совершенно разных болезней! Рябило в глазах от судорожно переворачиваемых страниц справочников… Как на грех, после обеда Павла Петровича увезли в ближайшую деревеньку к лежачему больному, неизвестно было, когда он вернется…
– Доктор, мальчишка кровью исходит!
– Давайте его сюда.
Какая глубокая, зияющая рана! Занимает больше половины лба. Оказывается, верблюжонок копытом ударил. Надо срочно швы накладывать. Сумею ли? И ведь чего только не пробовал на занятиях в университетской клинике, чему не учился, а вот такое не приходилось делать, инструмент для наложения скобок никогда в руках не держал… Сам упустил или упустили нам показать? И что сейчас гадать, нужно делать.
– Нюра, готовьте инструмент!
– Сейчас, Федор Григорьевич. А ты, мальчик, не реви. Доктор поможет, выправит, крепше прежнего лоб будет!..
Операционного стола мы не имели: мальчика уложили на кушетку, и я попросил родителей держать его за ручки и ножки. Собственные руки дрожали, никак не мог захватить края раны пинцетом… Возился долго, с большим трудом, но все же справился – рана была обработана, кровотечение остановилось. Родители и родственники мальчика одобрительно переглядывались, а Нюра тайком, по-свойски, подмигнула мне: все хорошо, а ты боялся! Она догадывалась, как переживал я…
Не обошлось в этот день и без курьеза.
В кабинет вошла молодая украинка и, озираясь на дверь, шепотом сказала: «Доктор, у меня низ болит…» – «Что ж, – отвечаю храбро, – раздевайтесь, ложитесь на кушетку, посмотрим, где там у вас внизу болит…» Она страшно смутилась, покраснела и показала пальцем на свой нос: «У меня, доктор, болит нис…» Тут-то я понял: нос!
Но так – суматошно, в растерянности – прошел именно первый день, а в последующие я быстро освоился с работой: не было нужды поминутно заглядывать в книги – ведь все в голове, нужно лишь сосредоточиться, вспомнить, я же это знаю!.. Стал быстрее и лучше понимать больных, как бы путано и нескладно они ни рассказывали о своих болезнях. Здесь, в Кисловке, сам себе говорил спасибо за то, что был прилежным и активным на факультетских занятиях, посещал все лекции, тщательно готовился к экзаменам! Приобретенные за годы учения знания оказались поистине бесценными. Однажды ко мне на квартиру – в комнату, где я только что сел за обед, – вбежал в испуге местный крестьянин со словами: «Помогите, жена умирает!» На его лошади быстро помчались на нужную улицу. В избе на полу в глубоком беспамятстве лежала женщина лет тридцати. Внезапная потеря сознания, тяжелое и прерывистое дыхание у больной заставили меня подумать об эмболии легочной артерии, тем более что ее муж объяснил: «Была хорошая, а тут грохнулась и лежит…»
По моему указанию женщину положили на телегу и осторожно повезли в больницу. Обеспокоенный, я сел рядом с нею и стал прощупывать пульс. Что это?! Состояние больной кажется опасным, а пульс – редкий, спокойный, хорошего наполнения. Может, это всего-навсего истерический припадок? Стал расспрашивать мужа о начале приступа, о том, что предшествовало ему, и он неохотно признался, что часом раньше больная поругалась со свекровью, была меж ними яростная перепалка, «как две гуски щипались…» Еще сказал, что жена после таких встрясок, случалось, падала, но быстро вставала, не как сейчас…
Мое предположение об истерическом заболевании вроде бы подкрепилось, однако я опасался: не ошибиться бы! Но пульс у женщины, когда приехали в больницу, по-прежнему оставался спокойным и редким. Тогда я решился применить гипноз. Положил руку на ее лицо, пальцами прикрыл веки, стал произносить обычные для гипноза фразы: «Ваши веки припечатаны… вы засыпаете… так… сон ровный, без памяти, без сновидения… так… вы спите хорошо, но слышите меня и выполняете мои приказы… чувствуете себя хорошо… У вас ничего не болит… вы дышите ровно, спокойно… так, хорошо…» Больная продолжала дышать прерывисто и глубоко, но я не отступал: «Вот вы уже дышите совсем ровно… еще ровнее дышите, еще спокойнее… так… все хорошо!»
К моей радости, после повторных внушений дыхание женщины действительно выровнялось, и я, продолжая сеанс, уже не сомневался в его хорошем результате.
«Вы спите спокойно, дышите ровно, у вас ничего не болит… Правда, у вас ничего не болит?.. Вот и хорошо, что у вас ничего не болит, вы поправились и чувствуете себя здоровой… Сейчас вы проснетесь совсем здоровой… Я сосчитаю до трех, и вы проснетесь. Раз… два… три!» Больная открыла глаза, увидела меня, ничего не могла понять в страхе и удивлении: куда это попала?!
– Вы кто, дядька? Это чего еще такое?
Я успокоил ее, объяснил, вывел на крыльцо больницы, теперь уже к удивлению мужа и прибежавшей сюда расстроенной свекрови. Никак не ждали они, что все так легко и благополучно кончится. Свекровь бросилась целовать невестку, они сели на телегу и помчались к дому. Я смотрел им вслед и улыбался.
А спустя какое-то время муж этой женщины снова подогнал своего резвого коня к больничному зданию, вошел ко мне с петухом под мышкой, очень красивым, золотистой расцветки. Я наотрез отказался принять от него «гостинец», он упрашивал, и дело кончилось тем, что крестьянин выпустил петуха на больничном дворе, а сам уехал. И этот красавец с огромными шпорами и факельно светящимся гребнем долго жил при больнице, постепенно превратившись в мелкого попрошайку – клянчил у посетителей хлебные крошки и все, что у тех могло быть. Больничного петуха знало все село.
Кроме Кисловки, я обслуживал село Раздолье, в восьми километрах ниже по Волге. Ездил туда, проводил осмотры, приемы, выступал на собраниях с беседами па медицинские темы и по текущему моменту. Работал увлеченно, без устали, и вдруг грянул гром! Произошло несчастье, стоившее мне ужасных переживаний.
В амбулаторию принесли ребенка в тяжелом состоянии. Диагноз не вызывал сомнений – крупозная пневмония. Выписав рецепт на лекарство, я послал мать с ребенком в процедурную, чтобы акушерка, Вера Георгиевна, поставила ему на грудь банки.
Как потом выяснилось, акушерка отлучилась по вызову роженицы, в процедурной оставалась за нее Нюра. Ставить банки она умела, делала это давно и, экономя скудные запасы спирта, использовала для этой процедуры… бензин. В тот день, занимаясь уже с другим больным, я вдруг услышал жуткие крики. Вбежал в перевязочную, увидел пламя на теле ребенка и на одежде Нюры. Схватив простыню со стола, быстро окутал ею малыша, погасил па нем пламя, помог Наре… Оказалось, она нечаянно пролила бензин на тельце ребенка и на свой халат. Ребенок и так был ослаблен болезнью, а тут ожоги второй степени на спине и бедре! Как ни старались вырвать его у смерти – не получилось. Я смотрел на него и ничего не видел и не слышал… Рыдала Нюра…
А вскоре по заявлению родителей меня вызвали в районный народный суд, который присудил врачу Углову шесть месяцев принудительных работ условно. «За что?» – спрашивал я себя. Было неимоверно жаль погибшего мальчика, и в то же время я не мог взять на себя вину за его гибель. Решение суда казалось мне несправедливым. Неужели носить эту судимость, как темное пятно, всю жизнь? Почему? Несмотря на уговоры окружавших, что, мол, судебный приговор мягкий, пустяковый, а может быть хуже, я подал кассацию в окружной суд. Много дней и ночей прошли в мучительных раздумьях, пока ожидал повестку из Камышина.
На заседании окружного суда при полном зале праздных любопытных судьи, как мне казалось, задавали провокационные вопросы: не хотели толком разобраться – перебивали, не слушали объяснений, не вдавались в подробности… В моей уставшей от переживаний голове билась теперь одна лишь мысль: здесь меня не хотят понять, срок и тяжесть наказания будут увеличены, судимость станет моим вечным спутником, больные откажут мне в доверии, передо мной навсегда закроются двери в большую медицину… И когда объявили, что суд удаляется на совещание, я, не имея сил спокойно ожидать решения, выскочил на улицу, долго бродил по городу, полный самых мрачных предположений. Шли и ехали на подводах навстречу люди, у колодца смеялись девушки, где-то весело играл струнный оркестр, – какое кому дело до меня!
Когда же я вернулся в здание суда, там уже никого не было. Побродив по комнатам, нашел хмурого пожилого человека, по-видимому, секретаря. Спросил его, какое решение было по делу Углова. Тот долго рылся в бумагах, затем недовольно сказал:
– Ходите тут, отвлекаете… Оправдали твоего Углова. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Я выскочил из душного помещения на улицу, под высокое ласковое солнце, и прохожие – чудилось мне, каждый из них! – смотрели теперь на кисловского врача приветливо. Домой летел как на крыльях. На смену многодневной апатии, угнетавшей меня, пришло хорошее настроение, желание работать, работать! Нужно расширить больницу, снабдить ее необходимым оборудованием, добиться увеличения персонала. Кроме журнала «Усовершенствование врачей» следует выписать другие периодические специальные издания, чтобы, живя в Кисловке, не отставать от нового, от всего, что волнует современную медицину… Роились в голове, обгоняя друг дружку, светлые мысли! Как давит на человека беда, и как обновленно возгораются в нем творческие силы, стремление трудиться, когда все черное остается позади.
По-прежнему, конечно, было жаль погибшего мальчика, его измученное личико то и дело виделось мне, и внезапное душевное облегчение вновь уступало место скорби и трезвому укору совести: пусть для тебя это будет уроком на будущее, ты ответствен за все, что происходит в доверенной тебе больнице…
Нужно сказать, что этот трагический эпизод был встречен кисловцами с пониманием, не подорвал хорошего отношения к нам: по-прежнему у меня было много пациентов, ежедневно я мотался по вызовам, с большой нагрузкой работал Павел Петрович. В эти же дни на участке был еще один случай смерти больного – и никто нас не упрекнул и не мог бы упрекнуть за него.
Умер секретарь сельского Совета. Он ездил по деревням, в дороге заболел, надеялся, что отлежится, недомогание пройдет само собой. К нам его привезли с большим аппендикулярным инфильтратом. Во всех медицинских наставлениях утверждалось, что в таком состоянии больного ни оперировать, ни эвакуировать нельзя – может быть только терапевтическое лечение. Долгие часы мы с Павлом Петровичем проводили у его постели. В моменты просветления больной со слезами на глазах умолял нас спасти его. «Окончательную победу социализма в деревне хочу увидеть, – шептал он воспаленными губами. – В меня враги стреляли – не убили, а неужто так умру?..» Было тяжело слышать его еле внятный голос. Мы применили все, что рекомендовалось в учебниках, но перебороть запущенную прогрессирующую болезнь не смогли… И родные покойного после похорон пришли ко мне с теплыми словами благодарности за те бессонные ночи, что мы с Павлом Петровичем провели у его изголовья, за наши врачебные старания.
– Что ж, батюшка, – сказала мне мать секретаря. – Ты с нашим горем сам исстрадался, лицом почернел. Значит, тому было быть, сильнее всех нас, значит, эта хворь оказалась. Что не оставил нашу семью в черный час – за это кланяемся…
Во время дальнейшей практики мне приходилось видеть различных людей, разное отношение с их стороны к нашему труду. Чаще всего человек понимает неоценимость усилий лечащего врача, направленных на сохранение здоровья, жизни, и сказанное им от всей души спасибо согревает уставшее докторское сердце… Однако я не раз сталкивался и с проявлениями самой черной неблагодарности, и она действовала удручающе: разве жестокостью отвечают на добро? Врач многие дни самоотверженно, бескорыстно находился у постели больного, переживал, старался помочь, облегчить боль, вылечить недуг, а ему после чуть ли не в лицо плевали! Бывало, повторяю, такое, причем от самых разных людей – от малокультурных и образованных, от рядовых и руководящих работников…
Не могу не вспомнить одну больную с митральным стенозом. Она приехала из Якутска в пятидесятые годы с парализованной правой половиной туловища (на почве перенесенной эмболии). Была у нее та стадия запущенности заболевания, которая относится к четвертой и даже пятой стадии: декомпенсация сердца, печень выступала из-под реберного края на семь-восемь сантиметров, синюшность, одышка, в легких, находящихся на грани отека, большие застойные явления… Ни в какой другой клинике ей не брались делать операцию. Но так как она приехала издалека и отправить ее назад – значило бы обречь на неизбежную гибель в дороге, мы, несмотря на отсутствие у больной необходимого вызова и разрешения нашего главврача, приняли ее.
Несколько месяцев с помощью всех доступных нам средств выводили женщину из состояния декомпенсации, готовили к операции. И эта операция была невероятно трудной, с последующими осложнениями, которые потребовали напряжения сил всего персонала клиники. Достаточно сказать, что больная из-за парализованных дыхательных мышц умирала от дыхательной недостаточности и застойной пневмонии – и мы вынуждены были наложить отверстие в трахее, через специальное устройство попеременно дышали за больную в течение двух недель, день и ночь, вручную – аппарата для автоматической подачи воздуха у нас тогда не было! Не было в ту пору и специалистов-реаниматоров. Так что контроль за дыханием оперированной осуществляли те же врачи и медицинские сестры, которые при этом обязаны были выполнять свою основную работу в клинике. То был поистине героический, самоотверженный труд всего медицинского коллектива! Ночь дыши за больную, а днем никто тебя не может освободить от прямых служебных обязанностей: ведь сколько еще критических пациентов в палатах!
И какой наградой всем нам были те дни, когда стало ясно: женщина поправляется, мы отвели от человека неминуемую, казалось бы, смерть. Через полтора месяца явления декомпенсации у нее исчезли полностью, ей было разрешено вставать и ходить. Но не тут-то было! Женщина, привыкшая к состоянию неподвижности, упрямо отказывалась подняться с постели. На наши уговоры, а затем категорические требования, чтобы она двигалась, в ответ нам в лицо вдруг полетели такая брань, такие оскорбления, что, признаться, мы растерялись. А дальше – больше: что ни день – слезы на глазах у нянечек и медсестер, их жалобы на то, что больная из Якутска не выполняет предписаний, интригует, перессорила всех в палате, грубит. Было больно и странно наблюдать такое… Однако мы еще не знали, что ждет нас впереди! Ко всеобщему изумлению коллектива клиники, эта женщина при выписке сочинила жалобу в восемь адресов – в министерство, редакции центральных газет, в самые высокие правительственные и партийные учреждения. В ней мы именовались «шайкой бездельников», «неучами», «врагами человечества». Сколько комиссий приезжало для проверки так называемого «заявления на врачей простой жительницы сурового Севера», сколько нервов было попорчено, сколько дорогого времени ушло на писание объяснений! И недоумение во взглядах моих подчиненных: почему?! Месть за доброту!
Давно это было, а помнится, как помнится любая незаслуженная, оскорбляющая лучшие твои чувства обида. Но конечно же, намного сильнее память о другом – о проявлениях человеческого благородства. Именно об этом вспоминаешь, когда наваливается усталость и чьи-то необоснованные упреки догоняют тебя, как бы толкают в спину, требуют оправданий, когда оправдываться-то не в чем… Тогда и говоришь себе: а все же Россия стоит на порядочных, разумных людях, их великое множество, а тех, других, – единицы. На каждый плохой пример – десять хороших, и в них находишь утешение для себя и поддержку для своей дальнейшей работы.
Невозможно забыть, как при драматичных обстоятельствах увидел я всю глубину истинного русского характера одного из любимейших ленинградцами художников сцены – Игоря Олеговича Горбачева, ныне народного артиста СССР. К нам в клинику в состоянии крайней тяжести привезли его мать. Сложно было установить, что в данном случае: сочетание катастрофы в брюшной полости с присоединившейся пневмонией или только пневмония, симулирующая острый живот? Если это пневмония – операция противопоказана; если же первый вариант, несмотря на пневмонию, потребуется операция. Тщательная проверка всех данных и состояния больной убедила нас: тут худшее, чего опасались. А проведенная операция подтвердила: при тяжелой пневмонии острое воспаление поджелудочной железы с омертвением.
После операции в течение нескольких дней мы упорно продолжали бороться за уже обреченную жизнь… У нас осталось болезненное чувство вины перед сыном, который ни на час не уходил из клиники, с глубокой надеждой смотрел на нас, чувство вины, очень знакомое, думаю, большинству врачей: почему же мы оказались бессильными, все ли необходимое сделали для того, чтобы отвести несчастье?!
Игорь Олегович, горячо любивший мать, убитый безутешным горем, нашел в себе силы прийти ко мне, подавленному случившимся, поцеловал меня со словами:
– Спасибо за все, что делали для мамы. Вы так помогали ей, как, не знаю, сумел бы я помочь ей сам, будучи врачом… Я это почувствовал, это останется во мне на всю жизнь…
А когда однажды в новом спектакле ему пришлось играть роль хирурга, он не один час провел в операционной за моей спиной, стремясь постичь особенности нашей работы.
Разумеется, затрагивая тему взаимоотношений врача с больным или его близкими, я предполагаю, что сам врач в своем поведении должен быть на высоте. Он ни при каких самых смягчающих обстоятельствах не имеет права на невнимание или резкость по отношению к больному или его родным. Ведь как бы родственники ни надоедали вопросами и «советами», как бы ни мешали они в самый ответственный час, следует помнить: они переживают за родного им человека. Вспомните свою боль, поставьте себя на их место!
Рассказывая о жизни и работе в Кисловке, и поныне живо, в подробностях помню деревню той бурной поры. Какие громкие и грозные голоса звучали тогда на ее улицах, какие страсти сталкивались, как мучительно зарождалась колхозная новь! Рушились вековые крестьянские представления, круто ломались прадедовские обычаи и традиции, и те, кем вчера помыкали, кого ни во что не ставили, твердо, властно заявляли свое право на землю, на свободный труд, в коллективном хозяйстве видели залог будущей справедливой, обеспеченной и культурной жизни. И конечно же, в Кисловке были свои Давыдовы и Нагульновы, происходили события, очень похожие на те, что талантливо описаны М. Шолоховым в «Поднятой целине», Л. Сейфуллиной в «Перегное», С. Залыгиным в повести «На Иртыше».
Даже у нас в больнице не было тихо. И я как врач оказывался втянутым в разговоры и споры, ко мне обращались за советом и чтобы я рассудил… На всю округу людей с высшим образованием было раз-два и обчелся. Пристально, с жестковатой требовательностью смотрели на нас и по-революционному настроенные массы, и богатеи: а вы с кем? У меня, выходца из трудовой рабочей семьи, колебаний не было: я отнес в сельскую ячейку заявление с просьбой принять меня в партию большевиков. В октябре 1929 года получил кандидатскую карточку и первое партийное задание: выявить излишки хлеба у кулаков.
Когда мы пришли к одному из справных хозяев, упорно отказывавшемуся продать государству зерно, спрятанное в тайник, он, увидев меня, махнул рукой:
– Раз сам доктор тут, забирайте хлебушек. Он мне сына вылечил, другого на ноги поставил… Знали кого послать, ему не откажешь. – И сам показал, где у него в сарае была зарыта пшеница…
Но это, естественно, случай из редких, или, как иначе любят говорить, не типичный. В классовых схватках никто не сдавал позиций добровольно – были поджоги и ночные выстрелы в активистов. Подметные письма с угрозами получал и я. Особенно обостренным было время выселения из деревни зажиточных хозяев, время, названное в нашей истории периодом ликвидации кулачества как класса. Кулаков отправляли в северные края, слёзы и проклятия встречали нас на пороге жилищ, мужчины нередко хватались за топор или вилы: «Не пущу!» Тяжелыми были разговоры.
– За что так? – угрюмо спрашивал тот самый хозяин, что из-за уважения ко мне днями раньше открыл тайник с зерном.
– Стоите на пути сплошной коллективизации.
– А мы в сторонке, сами по себе, мы тихо…
– Середины нет, вопрос поставлен таким образом: кто не с нами, тот против нас! В сторонке – это тоже против…
Однажды по заданию партийной организации я готовил одну такую семью к отъезду: указывал, какие вещи взять с собой в дорогу, заполнял необходимые бумаги. Собирались тут молча, покорившись участи.
Это была семья зажиточного крестьянина, пользовавшегося авторитетом в деревне, так как он сам и члены его семьи были всегда примером на любой работе. Может быть, поэтому за закрытыми воротами их двора собралась необычно большая толпа, в которой можно было видеть и бедно одетых крестьян. Толпа гудела, и я слышал бранные слова на свой счет. А когда вышел во двор, ворота под мощным нажимом растворились, и люди двинулись на меня.
Что было делать? Что мог я один против этой толпы, подогретой самогоном и злым шепотком: «Бить их, коммунистов!» Оружия у меня, конечно, не было, да и если было бы – не в нем сила.
Я медленно пошел навстречу толпе, засунув правую руку в карман. И видимо, поразившись моему решительному виду, люди остановились, а я все так же продолжал идти на них, как до этого они шли на меня. И толпа попятилась, отхлынула за забор! Я затворил ворота и вернулся в избу – сборы заканчивались…
Нельзя не отметить, что эта сцена оставила у меня тяжелый след. Я знал, что это трудовая русская семья, знал, что все, имеющееся в хозяйстве, она создала сама. И все же ее выселяли из родных мест. Люди, не совершившие никакого преступления перед своим народом и односельчанами, должны уезжать неизвестно куда. И зачем? Такие мысли возникали в голове молодого кандидата партии, но я не находил на них ответа.
Тогда же секретарь партийной организации Колтунов Павел Васильевич поручил мне съездить в деревню Александровку, что была в двадцати километрах от Кисловки. Там проводилось собрание, нужно было выступить в поддержку первых колхозников, дать отпор кулацким наскокам.
Когда я вошел в школьный класс, где проводилось собрание, долго не мог разобраться, что к чему. Удушливо плавал сизый табачный дым, в котором неясными пятнами проступали возбужденные лица, и такой галдеж стоял – слов не разобрать. Оказывается, кулаки взяли верх, было у них много подставных крикунов, и малочисленные голоса местных партийцев тонули в реве и гаме. Шум смолкал, как только начинал говорить кто-нибудь из подкулачников. Если же поднимался коммунист или кто-то из сочувствующих, тут же раздавались свист и грохот… Оценив обстановку, я выждал момент и громко сказал: «Товарищи, к вам обращается доктор!»
Слушали меня не перебивая, внимательно. А я говорил, что моя профессия – лечить людей, спасать их жизнь, но сейчас я приехал сюда, чтобы помочь правильно решить главный вопрос, тоже касающийся жизни людей: как жить завтра? Привел несколько примеров в поддержку линии деревенской партячейки. И я заметил, что настроение людей поднялось, сразу стало больше сторонников у бедняцкой части собрания. И хотя кулаки снова попытались испробовать прежний маневр – в беспорядочном шуме утопить принимаемую резолюцию, – этот маневр ничего уже изменить не мог… Необходимое решение приняли большинством поднятых рук.
Между тем на улице уже была глубокая ночь. Распрощавшись, я собрался в обратный путь.
– Мы вас не можем отпустить, – сказал мне встревоженный секретарь партийной ячейки, – только что узнали: кулаки готовятся отомстить вам, хотят встретить на выезде из деревни…
– Но мне нужно ехать, меня ждут в Кисловке…
– Не можем отпустить, – повторил секретарь и, обращаясь к членам ячейки, сказал: – Товарищи, кто за то, чтобы доктору Углову запретить отъезд из деревни по мотивам ненужности лишних партийных жертв? Прошу голосовать. Единогласно.
Мне оставалось только подчиниться…
Поныне не угасает в душе чистота и суровость партийных взаимоотношений тех лет. Зримо видится первый партийный секретарь Колтунов, беспощадный к врагам и внимательный к товарищам.
– Тебе, Федор Григорьевич, – говорил он мне, – нужно закаляться против излишней доверчивости, которой имеешь больше, чем следует. Товарищ – он всегда на равных с тобой, будет спокойно в глаза глядеть, а который вьется сбоку, беспричинно улыбается тебе, на его устах один мед и никакой критики и самокритики – ты такого научись распознавать!
Должен признаться, что в иные моменты я забывал напутствие Колтунова: не умел вовремя разглядеть зло, скрытое под маской доброты, жадность, выдаваемую за бережливость, подлость, замаскированную под благородство. После тяжело сыпались удары! Но один ли я такой? И не в нашем ли это национальном характере пытаться найти хорошее даже там, где никто другой его не видит?
Перенесенный мною три года назад тиф снова напомнил о себе. Я стал ощущать постоянное недомогание, меня знобило, было холодно даже сердцу. На врачебном консилиуме порекомендовали: поезжайте работать в южные районы страны. Была осень 1930 года.
Прощай, Кисловка! Прощай, моя первая «самостоятельная» больница! С грустью уезжал я отсюда, сознавая, что очень многое здесь мне дорого, и сам я стал тут своим, чуть не полсела пришли меня провожать, кто-то совал в телегу, к моим чемоданам, узелки с вареными яйцами и пышками; хмурился, покашливал, переживая по-своему, мой славный помощник Павел Петрович. Мы обнялись, расцеловались.
А потом была железная дорога, мимо пробежали просторы Украины с пышными садами и белыми хатами, и вот он, юг – высокое голубое небо, не виданные дотоле пальмы, завораживающая лазурь моря, гортанный говор на улицах… Я получил направление в село Отобая Гальского района Абхазии. Вручавший мне предписание веселый кавказец сказал:
– Будешь жить там, как князь, дорогой, обещаю. Сам бы туда поехал, но куда тебя дену?! Поезжай ты!
Не знаю, что имелось в виду под ожидавшей меня якобы в Отобае «княжеской жизнью». Наверно, лишь то, что под больницу выделили дом сбежавшего князя. Просторный, он был сколочен из досок, давно не ремонтировался: в стенах зияли изрядные щели, гуляли сквозняки, во время ливней с потолка струилась вода… Камин, заменявший в доме печь, грел лицо, руки, но спина нещадно мерзла… Возможно, вот из-за таких жилищ, из-за сырого климата я встретил здесь столько людей с пневмонией, сколько не приходилось видеть даже в Сибири. В нашей больнице, во всяком случае, больные могли лежать лишь в теплое, сухое время года. В другие же месяцы главной работой были выезды на дом к нуждавшимся в лечении или скорой медицинской помощи.
Эти поездки иногда ночью, в дождь, при сильном ветре были как опасные приключения. Конь под тобой осекается, с трудом преодолевает горные ручьи, кручи, непролазную грязь. Твой спутник, суровый незнакомый человек, не говорит за всю долгую дорогу ни единого слова, а кругом – ни огонька, никаких примет близкого человеческого жилья…
Как-то повезли меня к больному ребенку за много километров петлевыми каменистыми тропами. У мальчика оказалась запущенная дифтерия, он погибал не столько от затрудненного дыхания, сколько от сердечной недостаточности. Я делал все, что мог, чтобы вывести малыша из тяжелого состояния, и видел: поздно, уже не спасешь… Несколько часов самых напряженных моих усилий не дали никаких результатов. А в соседней комнате собралось человек пятьдесят родственников, и как я только выходил, чтобы помыть руки или еще за чем-нибудь, наталкивался на мрачные лица. Признаюсь, было жутко и тоскливо. А вскоре убедился: ничто уже не поможет, мальчик умирает. Дыхание у него стало тихим, поверхностным, хрипы исчезли, личико вытянулось, нос заострился. Я приподнял веко и коснулся роговицы – ребенок не реагировал… От давящего чувства собственного бессилия, от усталости, от того, что я не оправдал чьих-то надежд, что мне могут не поверить, – подкашивались ноги.
Когда я проходил через комнату, где по-прежнему молчаливо сидели родственники, снова ощутил спиной тяжесть их взглядов. Они еще не знали, что все кончено… Во дворе я нашел своего коня, вывел его за ворота, и в этот момент в доме раздался страшный, душераздирающий крик. Я вскочил в седло и погнал коня прочь. Мне казалось, что здесь не поймут, почему невозможно было помочь мальчику, меня догонят и растерзают. И действительно, вскоре я услышал перестук подков за своей спиной, спешился, готовый к худшему. Но подъехавший человек сказал мне, что я напрасно столь поспешно покинул печальный кров: меня там уважают, и разве не все в этой жизни смертно – даже железо, даже камни и горы. А что лица у близких мальчика были мрачные – это ведь тоже объяснимо: умирал общий любимец, своя, родовая кровь… Человек проводил меня до Отобая, на прощание почтительно пожал руку.
Этот случай лишний раз убедил меня, как авторитетно наше звание – врач. Везде, в любой обстановке.
Как и в Кисловке, в Отобае я был врачом по всем специальностям. Особенно много больных обращалось, повторяю, с пневмонией. Не знающие тогда про антибиотики и сульфаниламидные препараты, мы лечили их лишь тем, что было в нашем распоряжении. Назначалось камфарное масло под кожу, а при снижении температуры – отхаркивающее и банки… Возвращаясь мысленно к тем годам, я думаю, что опытом минувшего освещается настоящее и будущее. И медицина, чтобы достичь нынешнего уровня, должна была пройти через тот, кажущийся нам сейчас в чем-то примитивным, период.
Но основное заболевание, с которым приходили ко мне, была малярия, вековая спутница тех мест. Она страшно изматывала людей. Худые, желтые, с огромной селезенкой, занимающей весь живот, измученные приступами лихорадки, они страдали невыносимо. Лечение знали одно – хина внутрь и в виде уколов. Последние действовали лучше, но были болезненны.
Всю тяжесть заболевания малярией я испытал на себе. Прицепившись, трепала она меня беспощадно. Странное и гнетущее чувство испытываешь, когда вдруг в жаркий летний день или в натопленной комнате тебе становится невыносимо холодно. Что бы ни надел на себя, во что бы ни закутался – спасения нет: лихорадка начинает трясти так, что зуб на зуб не попадает. О стакан с горячим чаем зубы стучат так, что боишься его разбить… Но и чай не помогает! И так с полчаса или немногим больше. А потом дрожь внезапно прекращается, и сразу становится тепло. Еще немного, и уже жарко! Весь в испарине, не знаешь, куда деться от навалившегося на тебя зноя; он давит, давит, и ты обливаешься липким потом… А через несколько часов, когда приступ заканчивается, во всем теле ужасная слабость, с трудом заставляешь себя одеться, двигаться не хочется: в постель бы, и лежать, бездумно лежать до утра… У меня признали сразу две формы малярии, в том числе самую тяжелую – тропическую. От приема больших доз хины я совсем оглох… Вот тебе и лечение солнцем! Приехал на юг укрепить здоровье, а приходится уезжать отсюда еще более ослабленным, чем был до этого. А главное, обдумывая первые годы своей работы, я с ужасом видел: знания ничтожны, я слабо разбираюсь в болезнях, мало что знаю о современных методах лечения, я врач по диплому, но сам себя назвать настоящим врачом пока не могу – нет на то права, совесть не позволяет… Нужно продолжать учиться.
Глава VI
И опять дорога… Впереди ждал меня Ленинград – прекрасный город, запавший в сердце с первой поездки в студенческие годы. Под мерный стук вагонных колес думалось все о том же: как стать хорошим врачом, как стать умелым хирургом? Да что там умелым! Таким, как Щипачев, Миротворцев, Краузе, чьи смелые и блестящие по исполнению операции довелось мне видеть в университетской клинике. Или Разумовский… Он хотя и не оперировал тогда, но его присутствие на операциях, присутствие выдающегося хирурга, чувствовалось во всем… И как она ответственна, работа хирурга!
В общем, когда ехал из Сухуми в Ленинград, мысли мои были только о хирургах и хирургии. Я говорил себе: или сейчас, или никогда… Или сейчас я выберу врачебную специальность, стану совершенствоваться в ней, отдам ей всего себя, осуществлю золотую мечту детства, или останусь врачом вообще. Кое-чему, конечно, научусь, кое-чего достигну, вот только работа будет не по вдохновению, а так, как у многих, – исполнением обязанностей… Предстояло выбрать.
И в Ленинграде прямо с вокзала я пошел в горздравотдел, во многих кабинетах побывал, много слов выслушал, но своего добился: меня направили в больницу имени Мечникова – в клинику профессора Оппеля. До сих пор уверен, что это было самое ответственное решение из всех, когда-либо принятых мною в жизни. Этот августовский день 1931 года официально приобщил меня к хирургии. Теперь уж навсегда!
Вере Михайловне выписали направление на кафедру акушерства и гинекологии. Подняв на руки детей, мы пошли ленинградскими улицами. И солнце, чудилось, светило сильнее, чем когда-либо, приветливо сиял золотой шпиль Адмиралтейства, верилось только в хорошее, в то, что все прекрасное в жизни лишь начинается… Подмывало нетерпение работать засучив рукава! Ведь там, на периферии, самые большие операции, которые делал, – это вскрытие флегмоны да панариция. И делал-то их, признаться, так, как бог на душу положит, – чуть ли не в расчете на «авось». А теперь предстоит овладевать чудесами высокого хирургического искусства. И где? В клинике самого Владимира Андреевича Оппеля!
Профессор Оппель в то время был одним из наиболее популярных хирургов-экспериментаторов. Он смело брался за «операции отчаяния» – за такие, которые хотя и были единственной надеждой на спасение больного, но в то же время из-за тяжести считались сверхопасными, практически безнадежными. Брался, и очень часто ему сопутствовал успех!
Как ученый В. А. Оппель много писал по общим вопросам хирургии, по хирургии желудка, был ведущим специалистом в области военно-полевой хирургии. Его пытливый, беспокойный ум не мог мириться с простой констатацией фактов. Не разгадав сущности некоторых заболеваний, он привлек к себе в помощь эндокринологию, пытаясь – и во многих случаях не без успеха! – объяснить те или иные патологические расстройства в организме нарушением функции той или иной железы внутренней секреции. В частности, для объяснения сущности так называемой самопроизвольной гангрены, при которой наступает омертвение конечностей, нередко в самом молодом возрасте, он выдвинул теорию гиперфункции надпочечников. А для лечения такого заболевания предложил операцию удаления одного из надпочечников.
Эта теория вызвала бурные споры на страницах специальных медицинских изданий и на заседаниях Хирургического общества, на конференциях, где сам Владимир Андреевич Оппель демонстрировал во всем блеске свои богатейшие ораторские способности. Недаром на его лекции студенты, как говорится, валом валили, и многие опытные врачи считали за честь побывать на проводимых им практических занятиях. И ведь поныне теория гиперфункции надпочечников, предложенная В. А. Оппелем, имеет своих сторонников. Значит, с такой захватывающей убедительностью была она в свое время обоснована.
А эта теория, в которой В. А. Оппель выдвинул новый оригинальный взгляд на сущность заболевания, была не единственной у него. Так, например, возникновение анкилозирующего спондилоартроза, при котором происходит прогрессирующая неподвижность позвоночника, он объяснял нарушением функций некоторых эндокринных желез… И труды, написанные его рукой, читаешь с увлечением, поражаясь отточенности мысли и совершенству доказательств. Не удивительно, что под руководством такого большого ученого выросла плеяда крупных отечественных хирургов. В тот год, когда я робко вошел в двери клиники, здесь работали такие выдающиеся мастера скальпеля, как профессор Назаров, профессор Самарин, доктор Торкачева, доктор Бок…
– Ну, Федя, – подбадривал я сам себя, – нам подкачать никак нельзя. Мы, сибирские, – гордые и упрямые, давай держаться!
Поражала клиника – ее масштабность, размах, совершенное оборудование. И поначалу я все же терялся – из убогой сельской больнички и сразу сюда! Поражал и сам Оппель, неповторимы были его показательные операции. Демонстрируя свой точный глазомер и точность расчета руки, он одним движением скальпеля рассекал сразу все слои брюшной стенки до брюшины включительно. Правда, многие к этому относились неодобрительно. Николай Николаевич Петров, который был очень осторожным хирургом, внушал своим ученикам, что так делать не следует, здесь заложен ненужный риск для больного. И он рассказал, что однажды в его присутствии Оппель при большом разрезе, выполненном одним смелым движением руки, не только вскрыл брюшину, но и сделал надрез стенки тонкой кишки…
Удивляло меня, что, будучи в обычных условиях человеком, в общем-то, выдержанным, корректным, на операциях этот большой ученый мог накричать на ассистентов, отшвырнуть в сердцах инструмент… Молодые врачи боялись ему ассистировать, и я тоже избегал этого, опасаясь, что в ответ на резкость сам отвечу резкостью и, конечно, тут же буду изгнан из клиники.
Как интерн – врач для черновой повседневной работы – я был прикреплен к одному из ассистентов для обычного лечебного дела. До сих пор благодарю судьбу, что при таком случайном распределении попал не к кому-либо, а именно к Марии Ивановне Торкачевой – искусному хирургу и талантливому педагогу. Ее одухотворенное лицо обращало на себя внимание среди сотен других. Будучи человеком сильной воли, она исключительно заботливо относилась к слабым, и чем тяжелее, безнадежнее был больной, тем больше привязывалась к нему, тем одержимее стремилась помочь, делая буквально невозможное. Требовательная к себе, она была беспощадной к нам, своим помощникам, ее распоряжения отличались четкостью и краткостью. Единственно, с кем она бывала безукоризненно внимательной, ласковой, даже многословной, по-матерински заботливой, – это с больными.
Помню, как к ней в отделение попал юноша с тяжелым септическим остеомиелитом (воспаление костного мозга) нескольких трубчатых костей. Ему делали бесконечное количество разрезов, долбили кость, у него было много свищей, из которых сочился гной. Ослабленного, истощенного, его считали практически безнадежным: все врачи клиники отказались продолжать лечение. И Мария Ивановна, взяв этого несчастного к себе, ухаживала за ним, как за собственным ребенком. Сама с ложечки кормила, приносила из дома вкусные и питательные кушанья, безропотно выслушивала его капризы, настойчиво добиваясь главного – поднять силы этого парня, разуверившегося во всем, ставшего озлобленным, добиться перелома в его болезни. И добилась! Не только перелома, а в конечном счете полного излечения.
С восторгом, даже – точнее – с благоговением смотрел я на Марию Ивановну, удивлявшую своей самоотверженностью и самопожертвованием. В ее отношении к больным я видел идеал врача и сам старался всячески помогать ей, охотно выполняя любую черновую работу.
И сейчас, спустя многие годы, думаю: пусть не всегда у Марии Ивановны хватало выдержки и такта по отношению к нам, своим помощникам, в ее требовательности никогда не было мелочности, а за вспыльчивостью скрывалась заботливость. И она первая научила меня в сомнительных случаях ставить себя на место больного и тогда уж решать вопрос, как поступить… И хирургическая техника, которой я добился, была достигнута мною благодаря Марии Ивановне, вернее, тому, что с самого начала тщательно выполнял все ее указания и советы.
Не изгладится из памяти, как я под ее ассистенцией делал свою первую операцию – ампутацию по методу Шопара. Уже в ходе операции Мария Ивановна в строгой форме сделала мне несколько замечаний, говоривших о том, что она недовольна моей работой. А после операции мне был устроен лихой разнос: я, как выяснилось, не знаю анатомии. Я, оказывается, не умею держать в руках инструменты, не умею манипулировать, работать левой рукой, хорошо завязывать узлы – и вообще: хочу ли я быть хирургом?!
Я сидел красный, как после бани с парной, а Мария Ивановна продолжала обвинения – и все это громко, в сердцах, высоким голосом. А закончила угрозой: если я не приобрету навыки в хирургической технике, больше к операции допущен не буду. И практиковаться следует не на больных, а дома или в перевязочной. И должен избрать себе определенный метод завязывания узлов, освоить его в совершенстве, и так далее и тому подобное… Гнетущее чувство собственной неполноценности давило на меня, однако я сознавал: Мария Ивановна права. Обижайся не обижайся – права!
В своих требованиях к нам, особенно когда ей казалось, что мы недостаточно внимательны к больным, Мария Ивановна могла быть придирчиво-невыносимой. И однажды, выведенный из себя ее нападками, я в сердцах воскликнул:
– Что за скотское обращение!
– Вам не нравится? – тут же гневно ответила она. – Иначе не могу и не буду. Ради больных готова обращаться еще и не так. А если не хотите со мной работать – уходите! Скажу профессору – вас завтра же переведут к другому ассистенту.
Ничего страшного в том, что меня пошлют в другое отделение, не было: каждым отделением руководил опытный хирург – ассистент профессора, у которого тоже можно было многому научиться.
Как я должен был поступить?
Впрочем, для меня не было вопроса. А задал его сейчас, задним числом, лишь потому, что впоследствии сталкивался с удивительно странным (если не сказать сильнее!) отношением учеников к своим наставникам, таким отношением, что просто диву даешься. Для некоторых чуть ли не нормой стало: получил он замечание, сделан ему выговор за нерадивость или неумение, – ах, так, побегу с жалобой в верха! Меня обидели, но и я нервы попорчу! Мало ли что работать не умею, с обязанностями не справляюсь – ты меня вот такого уважай!.. И начинает крутиться колесо никому не нужных, мешающих делу разбирательств и объяснений. И не хочет понять человек, что уважение других заслуживают хорошими делами, порядочным поведением, а нет этого – уважать не прикажешь. Никакая административная инстанция не поможет.
К сожалению, не все понимают, что, поддерживая кляузника или жалобщика, мы тем самым обрекаем его на гибель как будущего специалиста. Сочувственно относясь к его необоснованным требованиям, мы как бы благословляем этого человека идти в науке легким путем, а разве легкий путь – особенно в хирургии – может быть? Невольно приходит на ум известное суворовское правило о том, что если в учении трудно – в походе будет легко. Но всегда ли следуем этому?
И тогда, молодой, неопытный специалист, я понимал, а вернее – чувствовал: Мария Ивановна желает мне только добра. В интересах достижения высокой цели я должен смирить гордыню, пусть мне говорится что-то в резкой форме, повышенным тоном: главное тут не форма, а содержание. И как мне ни было в тот день обидно, я подкараулил вечером Марию Ивановну и попросил у нее прощения за свою вспышку. И боже, какой радостью засветились ее глаза, как обрадовалась она! Как все сильные люди, она была проста и душевна. Наверное, с той поры мы стали друзьями.
Попросив у перевязочной сестры основные хирургические инструменты, я в течение нескольких месяцев ежедневно кропотливо работал с ними дома, имитируя различные операции, приучал к ним не только правую, но и левую руку. Действуя хирургической иглой и иглодержателем, штопал чулки, обязательно помещая чулок в ящик стола, возясь с ним вслепую, чтобы научиться владеть инструментами в трудных условиях. Выбрал наконец и понравившийся мне метод завязывания узлов, стал практиковаться быстро и точно завязывать их. На это, забегая вперед, скажу, ушло целых восемь лет, причем тренировался ежедневно! Зато мастерства достиг. Во всяком случае так отметил Н. Н. Петров. Учитель, помнится, делал резекцию желудка, а я ему ассистировал. Обычно он сам завязывал узлы. А тут, едва он успеет продернуть нитку и передать иглодержатель сестре, я уже мигом закончу узел. Он с удивлением посмотрел на мои руки и раз, и другой, а потом сказал: «Ну и зол ты, папенька, узлы завязывать!»
А Мария Ивановна после того памятного разноса доверила мне делать новую операцию при своей ассистенции ровно через три месяца. И на этот раз я уже не услышал от нее ни одного замечания. Бесценной наградой прозвучали для меня сказанные ею слова: «Совсем другое дело… Видно, что поработали над собой!»
Я не переставал тренироваться в освоении техники операций. Этому же позже настойчиво учил своих учеников. По одной операции, которую посмотрю, могу теперь безошибочно определить: тренируется ли этот хирург дома, совершенствуя свою профессиональную технику, или ограничивается лишь практикой на больных. Я знал студентов шестого курса, которые по умению, отработанному в домашних тренировках, стояли выше, чем хирурги с тремя годами практики. А чтобы в совершенстве отрепетировать тот или иной прием, его необходимо повторять тысячи и даже десятки тысяч раз. Дома у себя я могу это сделать за три-четыре месяца, если же буду осваивать его только на операциях, понадобятся годы.
Продолжая рассказ об уроках М. И. Торкачевой, хочу обратить внимание на то, чего уже касался в этой главе: на ее чрезвычайно бережное и уважительное отношение к больным. Мария Ивановна никого из больных, даже самых молодых, не позволяла себе звать на «ты». Не терпела, когда кто-либо обращался к пациенту развязно или со снисходительно-пренебрежительными нотками в голосе. Добивалась, чтобы мы, молодые врачи, разговаривали с любым больным как с самым уважаемым и дорогим человеком. Именно с тех пор я непреклонно следую этому хорошему завету и всегда пресекаю любую грубость или вульгарность в обращении с больными, если замечаю такое у своих подчиненных.
Как пошленько и жалко выглядит со стороны врач, позволяющий себе фамильярность с больными, граничащую с цинизмом. Недавно я с возмущением узнал, как вел себя во время обхода доктор Е. К. С-в. Обращаясь к пожилой женщине с заболеванием кишечника, он спросил ее: «Ну что, бабка, про …….?» Нецензурное, не употребляемое в обществе и литературе слово как бы повисло в тишине палаты. А «бабка» взглянула на С-ва испуганно-недоуменно и одновременно брезгливо и, ничего не ответив, отвернулась к стене. «Да, был стул», – поспешил сказать ординатор, готовый от стыда за своего старшего коллегу сквозь землю провалиться. Он-то знал, что «бабка» – видный ученый, профессор из Технологического института. И лишь на самодовольном лице С-ва не было и тени смущения…
Как самого молодого и самого безотказного, меня часто направляли в терапевтические и инфекционные клиники консультировать больных, когда оттуда приходило требование прислать хирурга. Сначала очень смущался, когда такие знаменитые терапевты, как, например, профессор Вышегородцева, спрашивали моего мнения, советовались со мной. И это, конечно, повышало чувство ответственности. Вечерами я уходил в читальный зал, долго сидел над книгами, конспектировал. Тут, под шелест переворачиваемых страниц, возникла у меня дерзкая мысль: сделать шажок в науку – описать несколько случаев гнойников прямых мышц живота при брюшном тифе.
Дело в том, что во время консультаций я встретил перенесших брюшной тиф больных, у которых образовался гнойник в стенке живота – у всех в одном и том же месте. В специальной литературе этот вопрос был освещен мало, можно сказать, поверхностно, и Мария Ивановна одобрила мое намерение: «Проблема в руки вам идет – углубляйте!»
Через несколько месяцев настойчивых занятий мой доклад был готов. Предложили заслушать его на заседании Оппелевского кружка. К тому времени Владимир Андреевич Оппель умер, и руководителем клиники стал Н. Н. Самарин.
Стоит ли объяснять, как волновался я в этот день, какие противоречивые чувства одолевали меня! Все ли согласятся со мной, что гнойники возникают вторично, а вначале имеет место гематома, которая, в свою очередь, образуется на месте перерождения мышц с последующим их разрывом и гематомией. Со всей тщательностью я приготовил препарат, где гематома прямой мышцы живота была показана как предстадия абсцесса.
Вопреки моим опасениям, доклад был встречен с интересом. Профессор Нечаев, крупный терапевт, сказал, что доклад доктора Углова относится к таким, после которых уходишь с ощущением приобретенной пользы, обогатившись какими-то новыми сведениями. И другие члены кружка сказали добрые слова в мой адрес. Все было как нельзя лучше, пока не заговорил профессор Самарин.
– Покажи препарат, – попросил он.
Я кинулся к тому месту, куда его положил, но его там не было. Выяснилось, что дежурный санитар выбросил его… в туалет. Я был подавлен.
– Даже одно это – отношение Углова к препарату – характеризует его как никудышного научного работника, – раздраженно заявил профессор Самарин. – И почему такое восхваление докладу? В нем, разобраться, нет ничего от науки, а из Углова, вижу, никогда толкового научного работника не получится. Крыльев для полета нет. Не получится!
Мария Ивановна пыталась меня утешить, говорила, что Самарин сегодня не в духе, от этого и его раздражение, на самом деле он так не думает. Я слушал и не слышал ее, ощущая, как от стыда, обиды, унижения горят мои щеки. Мнение руководителя клиники казалось мне убийственным и главное, где-то подспудно, глубоко в себе, я даже как бы соглашался с ним. И тут же решил: вернусь на периферию. Если не способен заниматься наукой, постараюсь быть хорошим хирургом. Просто хирургом.
Чуть ли не на другой день было объявлено, что горздравотдел проводит мобилизацию врачей-коммунистов для работы на Крайнем Севере. Я попросил записать меня добровольцем. Решил поехать на свою родину, в Восточную Сибирь, по условиям тоже приравненную к районам Крайнего Севера.
Так я поступил в распоряжение Ленводздравотдела, откуда тут же получил указание: до лета, пока не откроется водный путь, пройти курсы специализации по рентгенологии. Но занятия на этих курсах пришлось отложить: по приказу военкомата я был направлен на другие – хирургические. Это было как нельзя кстати! Я знал, что там, в Сибири, мне не с кем будет советоваться, должен буду решать все сам, операции предстоят разнообразные, самые ответственные, и я с жадностью слушал лекции, что нам читали, прикидывая при этом, как можно будет использовать полученные сведения при самостоятельной работе.
Хотя у нас читался курс военно-полевой хирургии, мы за три месяца прошли все основные разделы общей и специальной хирургии. Много внимания было уделено брюшной полости, а также травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии. Каждое занятие возбуждало неслабеющий интерес: а что еще узнаю? Помогало то, что кое с чем я уже сталкивался в своей небогатой врачебной практике, а мысль о том, что в районной больнице мне предстоит встретить подобных больных, заставляла вникать во все тонкости: как поставить диагноз, как лечить, как делать операцию, какой должен быть наркоз, какая анестезия?
С не меньшим интересом, не покидавшим меня в те дни душевным подъемом проходил я и курсы специализации по рентгенологии при кафедре профессора Самуила Ароновича Рейнберга. Здесь нас учили, что диагноз не может быть чисто рентгенологическим, он должен быть обязательно клинико-рентгенологическим: детально знакомили с клиникой того или иного заболевания, дополняя ее сразу же рентгенологической картиной. И тут, внимательный, активный на занятиях, много читавший дополнительной литературы, я обратил на себя внимание профессора. Он был очень удивлен, что я не рентгенолог и не собираюсь им быть. Вызвал к себе и долго убеждал «не бросать рентгенологические способности на ветер…»
– Вы рождены быть рентгенологом, – доказывал мне С. А. Рейнберг. – Способных хирургов много, и неизвестно еще, будете ли вы способным среди них… А рентгенолог вы уже состоявшийся, да еще с божьей искоркой.
Но мой выбор был сделан, и ничто – ни похвалы, ни первые неудачи и лишения – не могло заставить меня колебаться, скрупулезно взвешивать все «за» и «против»… А рентгенология – я уже тогда понял – всегда будет оказывать неоценимые услуги в моей хирургической деятельности. И особенно пригодилась она мне, когда я стал заниматься хирургией легких и сердца. Умея читать рентгеновский снимок, я мог самостоятельно принимать то или иное решение, опираясь при этом еще на знание клиники, и мнение специалиста-рентгенолога было для меня любопытным и важным, но, признаюсь, не обязательным.
Прохождением курсов по двум дисциплинам, по существу, закончилась моя подготовка к поездке в Сибирь. Вещи было собрать недолго: все наше семейное имущество той поры свободно умещалось в одном чемодане. Другие же были заняты книгами, и в дороге эти огромные чемоданы по своей тяжести могли вызвать соблазн у любого вора!
А нужные книги я искал по всем ленинградским магазинам и, кажется, своими настойчивыми расспросами и тем, как жадно рылся в кипах старых медицинских журналов, изрядно намозолил глаза букинистам. Искал я книги по хирургии, которые бы помогли понять больного и поставить точный диагноз. Искал и те, в которых подробно описывались методика и техника операций. Ведь большинство операций, что ждут меня, я не только не делал, но даже не видел, как их делают. Слишком мало времени было отпущено мне на подготовительный период перед такой большой, желанной и одновременно пугающей работой!
И снова под несмолкаемый стук вагонных колес, в поезде, увозящем меня в край детства, было время крепко подумать: с чем же как врач я еду? Готов ли я к тому, чтобы уверенно стоять у операционного стола? Понимал, что надеяться могу лишь на самого себя…
Два года работы на участке ничего не дали с точки зрения хирургических навыков. Из неполных двух лет пребывания в клинике В. А. Оппеля я шесть месяцев провел на курсах, итого в активе чуть больше года обучения хирургии. Причем как врач-интерн я видел сравнительно много больных, которых надо было выхаживать, и почти не видел больных, которых надо было оперировать. Сам же за этот срок сделал полтора-два десятка самых простых, маленьких операций. Конечно, не сбросишь со счетов те теоретические занятия, что проводили с нами ассистенты, те лекции, что читали В. А. Оппель, Н. Н. Самарин. В диагностике, в понимании больного они – надежное руководство, а вот вопросы показаний и методики операций придется выяснять по книгам, которые, надрываясь от тяжести, тащу с собой за тысячи верст…
На станциях скапливалось много людей, нельзя было достать никаких продуктов. Металось страшное слово: «голод». Говорили, что где-то гнили овощи, мокло на снегу зерно, а люди пухли от недоедания. Сознание, что и я буду делить с народом его нелегкую судьбу, порождало гордость за себя, хотелось быстрее приехать на место и начать работу в больнице, лечить пока незнакомых мне больных, несчастных людей, живущих вдали от шумных дорог, совершенно не знающих о той большой медицине, к которой их земляк только-только прикоснулся!
И я увижу после долгой разлуки маму…
Глава VII
«Милый мой Киренск, я за годы нашей разлуки стал старше, а ты помолодел!..» Так я думал, со счастливым удивлением и понятной грустью разглядывая не забытые и в чем-то уже другие улицы родного города. Где былая тишина и вековечная невозмутимость? Она взорвана строительным грохотом, испуганно дребезжат оконца темных от старости домишек: на месте бывшего затона пароходчика Глотова забивают сваи, сооружают судоремонтный завод, которому уже подобрано звонкое, в духе времени, имя – Красноармейский. А на площади вовсю гремит громкоговоритель, из его широкого раструба несутся бодрые марши и призывы и, конечно, новости со всей беспокойной планеты: с киренчанами говорит Москва. На здании клуба, который назван Народным домом, висит красочная афиша, приглашающая на встречу с ударниками производства.
И то, что Киренск всколыхнулся, как бы стряхнул с себя привычную дрему, и на его улицах стало много энергичных, очень деловых людей, и пионеры носят от дома к дому щит с надписью: «Пьянство – опиум для народа!», а девушки коротко подстрижены и ходят со стопками книг в руках, – это тоже социализм… Это новый день, и он тут, в маленьком городе, почти поселке, затерянном среди таежных массивов, особенно заметен и радостен.
Я был назначен главврачом и хирургом межрайонной больницы водников. Больница обслуживала рабочих и служащих водного транспорта: вверх по Лене до Качуга – это восемьсот пятьдесят километров, и вниз до Олекмы – тысяча пятьсот километров. Ближайшее подобное медицинское учреждение отстояло за две с половиной тысячи километров и находилось в Якутске, и наполовину меньше было до Иркутска. В общем, сибирские масштабы! И мы еще, помимо водников, принимали в больницу крестьян многочисленных прибрежных деревень. Так что скучать некогда было. Впрочем, я опережаю события…
В день приезда в райкоме партии, куда я пришел стать да партучет, мне сказали:
– Считайте, что лично для вас сейчас нет более важной партийной задачи, чем обеспечить надежную охрану здоровья людей. Приехали вы не на готовенькое, придется начинать чуть ли не с нуля, да еще многое исправлять понадобится…
Тут же я узнал, с каким нетерпением меня действительно ждали, и в особенности потому, что к моему приезду вовсю развернулись события, начавшиеся два года назад. А было так…
Заочно, по телеграфу, в Киренск пригласили, как сам он себя рекомендовал, «крупного хирурга» по фамилии Кемферт. Он дал согласие приехать и принять больницу при условии большого персонального оклада, что и было обещано ему Ленводздравотделом.
Путь из Иркутска в Киренск доктор Кемферт проделал с большой помпой. На все крупные промежуточные пристани посылал телеграммы, что едет знаменитый хирург. Его встречали, он походя давал консультации, лилось шампанское, и все увесистей от подношений становился багаж «знаменитости». И в Киренске он отрекомендовался как хирург с семнадцатилетним стажем, а еще и специалист по ухо-горло-носу, при этом мимоходом заметил, что широко известен в научных кругах. Стало ясно – киренчанам повезло так, как никогда до этого не везло, в самом Иркутске, пожалуй, будут завидовать: не у них Кемферт, а здесь!
В только что построенной больнице водников не было ни мебели, ни аппаратуры – одни кровати да кое-что из инструментария. Кемферта это не смутило, он не стал утруждать себя хлопотами по приобретению всего необходимого – сразу же приступил к операциям. Операционный стол заменяла ему обычная деревянная кушетка, а в ассистенты он назначил приглянувшуюся ему молоденькую девушку, работавшую до этого кастеляншей.
К «выдающемуся специалисту» шли вереницей. И сам он любил быть на людях: каждую неделю в Нардоме читал «научные доклады», в которых рассказывал об удивительных случаях излечения им, Кемфертом, безнадежных больных. Такая самореклама, разумеется, на первых порах срабатывала безошибочно, и к Кемферту было доверие не только как к врачу – каждый считал чуть ли не за честь принять его за хлебосольным столом. Кемферт не отказывался.
Однако когда феерический бум первых месяцев угас, Кемферт стал виден в деле, киренчане призадумались. И было от чего! Лечение, назначаемое новым врачом, не приносило облегчения, кое-кто при таких сравнительно небольших операциях, как удаление грыжи, аппендицит, скончался под его ножом. Вызывало недоумение, что в операционную он никого, кроме кастелянши, не пускает, дверь держит на засове, и еще одну девушку приблизил к себе: из простых санитарок перевел ее на должность операционной сестры, хотя она вряд ли могла отличить скальпель от зажима.
Несколько позднее, когда уже стала известной личность хирурга, этот факт был следующим образом отмечен в местной стенгазете. Перед кушеткой, на которой лежит человек с разрезанным животом, стоит кастелянша с большим кухонным ножом в руке. И внизу подпись: «Ничего не видно, братики, окромя сырых кишков!»
К этому времени на должность заведующего Ленводздравотделом назначили доктора Ивана Ивановича Исакова, человека умного, образованного, беспокойного и добросовестного в работе (позднее он стал профессором кафедры терапии Института усовершенствования врачей в Ленинграде). Он с тревогой прислушивался к тому, что говорили о Кемферте, и решил сам разобраться, в чем тут дело, и, главное, так, чтобы не обидеть Кемферта своей подозрительностью. Побаивался, что до хирурга дойдут слухи, он оскорбится не на шутку и уедет, а огромный район опять окажется без специалиста.
Поначалу Иван Иванович побывал на «научном докладе» Кемферта и сразу понял: доклад этот – не что иное, как набор громких случайных и заумных фраз, явно выписанных из разных книг: докладчик, видно, сам туманно представлял то, о чем говорит с трибуны. Тогда заведующий Ленводздравотделом познакомился с операционным журналом и обнаружил в нем такие записи, которые мог сделать лишь человек, знающий медицину понаслышке. Исаков немедленно послал официальный телеграфный запрос в один из городов Западной Сибири, где до этого, судя по документам, работал Кемферт: «Подтвердите» и прочее… Ответ пришел не из Отдела здравоохранения, а из… прокуратуры. Сообщали, что авантюрист Кемферт, выдававший себя за хирурга, объявлен во всесоюзном розыске – для привлечения к судебной ответственности.
И я, как говорится, попал с корабля на бал: толком не приступив к своим обязанностям, должен был участвовать в следствии по делу Кемферта в качестве эксперта. Оказалось, что этот проходимец уже неоднократно судился за подобные аферы – многих людей он лишил жизни, многим искалечил здоровье. Он не имел никакой медицинской подготовки и, если верить его «чистосердечному признанию», когда-то лишь состоял в помощниках у ротного фельдшера. В Киренске Кемферт «прооперировал» около ста человек, из них двенадцать сразу умерли, а у других возникло послеоперационное нагноение ран и остались свищи.
Натворил он бед и как «специалист» по ухо-горло-носу. Амбулаторно делал больным операцию, состоящую в следующем: ножницами надрезал одну из носовых раковин – оттуда начиналось кровотечение. Тогда он через нос вставлял зонд Блелока, привязывал к нему тампон и протаскивал его через ноздри из заднего носового входа к переднему. Кровотечение останавливалось. Через несколько дней он извлекал тампон, и на этом месте теперь образовывалось сращение носовой раковины с носовой перегородкой. Налицо были все «атрибуты» – кровь, боль, тампоны, перевязки, и все это подкреплялось «учеными» рассуждениями. И если больному не становилось лучше (а ему, понятно, не могло быть лучше) и он продолжал верить «врачу», Кемферт делал ему такую же операцию с другой стороны. Мне пришлось увидеть пациентов Кемферта, которые приобрели сращение носовой перегородки с носовыми раковинами с двух сторон, что очень затрудняло дыхание. В их числе были люди интеллигентные, разбирающиеся, казалось бы, в элементарных основах медицины. Один из них был учителем школы и свою доверчивость по отношению к Кемферту объяснял мне так:
– Он ведь, прохвост, чем нас брал? Красивой фразой! А сердце от красивой фразы сжимается, начинаешь сразу думать про иную жизнь, самому хочется говорить красиво, и вот таким манером, завороженный, плюхаешься в лужу. И лишь когда плюхнешься – тогда поймешь!
Трудно, особенно за давностью лет, оспаривать приговор суда, но и тогда, и сейчас этот приговор по делу Кемферта кажется мне неоправданно мягким. Дали ему, помнится, меньше пяти лет, а поскольку отбывал он наказание в Киренске, то мы узнали: «за примерное поведение» отпущен Кемферт досрочно, не отсидев и половины срока. Население было возмущено таким милосердием суда по отношению к человеку, на совести которого только в Киренске двенадцать погубленных жизней и большое число инвалидов. Для сравнения припоминали случай с юношей, укравшим тридцать семь рублей, – ему киренские судьи дали пять лет.
Нужно было бы на том заседании суда послушать женщин, которые стали вдовами из-за преступных действий этого лжехирурга! Их слезы, вероятно, явились бы тем важным в судебном разбирательстве, даже решающим «вещественным доказательством», которое усилило бы меру наказания… А то ведь опять «щуку бросили в реку»: новый заведующий Ленводздравотделом рассказывал мне, что вскоре после выхода Кемферта на волю в Киренск поступил запрос: «Подтвердите, что у вас хирургом работал Кемферт». Тот, значит, снова взялся за старое. И позже я сталкивался с фактами, когда неучи выдавали себя за врачей, даже за хирургов, а скальпель – тот же нож, и человек, не умеющий им владеть, но бессердечно пробующий его на теле другого, доверившегося ему человека, – потенциальный убийца. Так, по-моему, должен рассматривать самозванцев на медицинском поприще Закон.
Надеюсь, теперь понятно, какое наследие получил я, приняв под свое начало больницу водников. При первом же знакомстве с ней только-только после обхода присел отдохнуть в кабинете, который предстояло обживать, как на мой белый халат из щелей двинулись полчища клопов. Видя, что тут пахнет гигантским сражением, я временно оставил поле боя и уже на улице, примостившись на пенёчке, прикидывал: с чего начать… Знал: впрягся – отныне ни сна, ни отдыха не будет, пока больница не станет именно больницей! Необходимо добывать медицинские инструменты, операционный стол. Но что тревожило больше всего, – это отсутствие операционной сестры. Как без нее приступать к работе?
На другой день я и весь персонал больницы сменили белые халаты на рабочую одежду, вооружились вениками, ведрами, всем другим, чем можно было скоблить, чистить, уничтожать накопившуюся грязь. Провели полную дезинфекцию помещений, и тут же по моей просьбе из судоремонтных мастерских была прислана бригада маляров, штукатуров, слесарей-сантехников… Сделали реконструкцию операционного блока. Над потолком установили огромный бак, подсоединив его к «титану»: будет теперь у нас холодная и горячая вода! Из соседнего затона был подключен аварийный свет на случай выхода из строя основного. Наверное, и сейчас все такое в районных условиях дается нелегко, а тогда на дворе стоял, напомню, 1933 год, и любое незначительное техническое мероприятие вырастало в большую проблему.
Случайно узнал, что приехала в город и гостит у родных бывшая операционная сестра. Помчался в этот дом, отыскал ее, умолял прийти к нам хоть на три месяца, чтобы обучить профессии кого-либо из наших девушек, имевших за плечами лишь рокковские курсы. Дама оказалась строгой: при разговоре даже не предложила сесть, называла меня не по фамилии или по имени-отчеству, а молодым человеком, словно бы даже сомневалась, тому ли доверили работать главным врачом, да еще хирургом. Но что была она первоклассной операционной сестрой, в этом я убедился на первой же операции. От ее строгих внушений плакала Дуся Антипина, которой наша нежданная спасительница помогала осваивать необходимые навыки. Жаль только, что учение у Дуси продолжалось недолго – ее наставница вскоре уехала, и мне самому пришлось завершать обучение нашей доморощенной операционной сестры: учить наматывать и готовить шелк и кетгут, учить названию хирургических инструментов и приборов, правильному поведению во время операции.
Позже мы дослали Дусю Антипину в Ленинград, чтобы она поработала там в клинике под началом опытной операционной сестры, и вскоре я имел превосходную помощницу, с которой не знал забот все четыре моих киренских года. И правду говорят, что мир тесен. Уже после войны, сам укоренившийся житель Ленинграда, я вдруг нечаянно встретил Дусю на Невском проспекте. Оказывается, она давно живет здесь, по-прежнему операционная сестра в одной из городских клиник, и все у нее в жизни хорошо: любимая работа, любимый муж, умница дочь. Какими далекими, но славными всплыли в нашем разговоре киренские дни – вспоминались они с тем тихим сентиментальным чувством, которое не так уж часто приходит к нам и очистительно для сердца.
А тогда, в Киренске, было не до сантиментов. Даешь, помнится, инструкции старшей сестре, она кивает, а ты видишь: ведь половину не поняла, опять не будет сделано как нужно! И я следовал совету профессора Оппеля, который учил, что при обходе больницы надо мыслить вслух. Заметил, что требуется устранить, переделать – тут же говорю об этом, не упуская ни единой мелочи, не откладывая ничего на завтра… Ежедневно проводил я такие обходы, обращая при этом внимание на санитарное состояние помещений. На виду у сделавших приборку в операционной я, прикасаясь носовым платком к предметам, находил, казалось бы, невидимую пыль: разочарованные сестра и санитарка начинали наводить чистоту заново. На первых порах, пока каждый не научился без подсказок четко выполнять свое дело, такое было необходимо.
Своими силами посадили у больницы свыше трехсот саженцев, которые прижились и уже на будущий год дружно зазеленели. Мне недавно написали, что и поныне шумит возмужавшей листвой больничный парк, и я очень рад, что всюду, где бы ни жил, остаются посаженные мною деревья.
Чтобы обеспечить больных мясом и молоком, мы создали свое подсобное хозяйство. Никто из персонала не освобождался от работы па этом внештатном участке, и, конечно, хирург Углов в вечерние часы и в выходные дни, надев перчатки, чтобы не повредить руки, участвовал в заготовке сена. Потребовались лошади – завели их тоже. Одну – небольшую сибирскую лошадку – купили специально для разъездов: летом верхом, а зимой на санках. Выйдешь другой раз из операционной глубоким вечером, усталый, подавленный, скажешь кучеру: «Прохор, запрягите Малышку!» – и летишь по снежной дороге, под морозными звездами, в синюю даль.
Эх вы, сани! А кони, кони! Видно, черт их на землю принес! В залихватском степном разгоне Колокольчик хохочет до слез…Конечно, меня помнили, и я за несколько лет разлуки почти никого не забыл. И в новом свете теперь виделись мне судьбы земляков. Я уже для них был доктор, от меня ждали помощи, облегчения, сочувствия. «Ты же знаешь, Федор Григорьевич, как мы раньше жили, когда ты сам босиком бегал, шустрый такой был, в отца. Иль не поймешь нас?» И мне хотелось каждого понять, каждому быть полезным.
В один из первых дней пришли ко мне Степа Оконешников со своей матерью Иннокентьевной, и я с трудом узнал его: так он исхудал, такая печаль и мука были на когда-то веселом, пышущем здоровьем лице. В юности, несмотря на разницу в годах – он был старше меня, мы дружили, много песен вместе перепели. И я с завистью смотрел, как вились вокруг красивого, стройного Степы девушки, набиваясь на дружбу с ним. В шестнадцать-семнадцать лет почему-то было обидно, что самого природа высоким ростом не наделила.
А сейчас передо мной стоял больной человек, мало похожий на того, прежнего Степу. Вытирала концом платка слезы Иннокентьевна. И она – в тревоге за любимого сына – тоже сдала: не было прежней стати, дородности, румянца.
– Эх, Степа, – сказал я, чтобы как-то разрядить тягостную обстановку, – во сне, представляешь, снилось, как косили мы с тобой траву на монастырских лугах. Вот приехал – возьмешь снова в напарники?
Степа болезненно скривил губы и махнул рукой, ничего не ответив. За себя и за сына стала говорить Иннокентьевна. Печальный рассказ услышал я.
Как-то на Масленице Степа из Хабарово, где стоит их дом, поехал к приятелям в Киренск на паре резвых лошадей, чтобы повеселиться, покатать парней и девчат на расписных санках. В Хабарово он возвращался поздно ночью. Чтобы было легче управлять, выпряг молодую пристяжную и привязал к санкам сзади. Впереди бежал верный пес Полкан.
Вдруг коренная лошадь дико всхрапнула, с крупной рыси перешла на галоп, и Степа, обернувшись, увидел в ночной темноте злые, фосфоресцирующие огоньки. «Волки» – обожгла догадка. Ох, какая досада взяла: почему не прихватил с собой, не сунул под сено берданку! Теперь вся надежда на лошадей…
Несколько раз настигали волки, но бегущая сзади лошадь копытами отбрасывала их назад, а глубокий снег мешал стае забежать сбоку санок, навалиться на лошадей со стороны или спереди. А кони мчали подобно ветру. Бедный Полкан на какой-то миг поотстал – и тут же был разорван в клочья голодной волчьей стаей. Всего на две-три минуты задержала гибель Полкана серых хищников, но Степа уже успел подлететь к крайним хабаровским избам – и ожесточенный лай деревенских собак, и яркие в ночи огни заставили стаю круто повернуть прочь… Утром, прихватив ружье, Степа с товарищами сходил к месту гибели собаки: лишь следы крови да редкие шерстинки остались на этом месте. С ужасом подумал он, что, не задержи волков Полкан, не миновать бы, возможно, ему самому дикой смерти в поле. И хоть смелый он был человек, но, как признавался после, с этого случая что-то стронулось в нем.
Несколько дней Степа плохо спал, а через два месяца стал замечать тупые боли под ложечкой. Сначала не придавал им значения, но боли становились невыносимыми, особенно после еды. Чтобы пригасить их, вставал на колени, долго пребывал в таком положении, клал на живот чулок, набитый горячей золой и солью, начал пить соду. На какой-то момент отпускало, а потом – все сызнова. Не помогали полученные в больнице лекарства. Правда, врачи советовали ему бросить курить, но Степа считал, что курение тут ни при чем.
Неожиданно в Киренск приехал доктор Михаил Герасимович Ананьев, ученик профессора Мыша. Измученный страданиями, Степа Оконешников тут же пришел на прием.
– Ты язву желудка, голубчик, нажил, – сказал ему доктор. – Надо резать!
– Лишь бы потом не болело, – и со всей присущей ему решительностью Степа согласился на операцию.
Нужно заметить, что Ананьев, как и его учитель, в то время был принципиальным сторонником анастомоза [анастомоз – соустье] между желудком и кишкой как метода лечения язвы желудка. Тогда многие хирурги придерживались подобной точки зрения, хотя в медицинской литературе уже появлялись тревожные сигналы, что после таких операций, если у оперированного высокая кислотность желудочного сока, часто возникают так называемые пептические язвы анастомоза, то есть такая же язва, что была на желудке, появляется на месте, где к желудку пришивается тонкая кишка. Больной снова подвергается ужасным болям, даже в большей степени, чем испытывал до этого, так как язва анастомоза часто проедает не только тонкую, но и толстую кишку. Новые свищи – новые страдания.
После выступления в печати Сергея Сергеевича Юдина, прислушавшись к его авторитетному голосу, большинство хирургов отказывались от подобной операции, перешли на резекцию желудка – более трудную, более опасную, однако исключающую подобные осложнения. При резекции желудка кислотность снижается и условия для зарождения пептической язвы исчезают. Но все же многие хирурги, в том числе и из клиники профессора Мыша, упорно стояли на своем. И в Киренске Ананьев при операции у Степана Оконешникова наложил анастомоз между желудком и тонкой кишкой.
Степа, по словам его матери, снова ожил. Чуть ли не год чувствовал себя совершенно здоровым, наслаждаясь жизнью и радуясь, что теперь-то он возьмет свое: не соблюдая диету, жадно ел все, что было недоступно во время болезни. И – снова боли, иного, правда, характера, чем были раньше. Опять пришлось вспомнить про строгую диету, но боли, затихнув ненадолго, возобновлялись пуще прежнего. Ананьева уже в Киренске не было, а «доктор» Кемферт, с важным видом обещавший вылечить Степу, все оттягивал время, пока не стало известно, что он уже сидит за решеткой…
Сообщение, что в Киренск возвращается Федор Углов и будет работать хирургом, Степа встретил с радостью. Правда, его брало сомнение: у каких врачей ни был, куда только ни ездил – не сумели помочь, а Федор, что ж, сильнее всех других?!
И вот Степа передо мной. Что должен был я сказать ему? Операция, в которой он нуждался, неимоверно трудная и опасная. Ведь при пептической язве нужно сделать не только резекцию желудка, но вместе с желудком резецировать и подшитую к нему кишку. Удалив все это одним конгломератом, надо наложить новый анастомоз с оставшейся частью желудка. Некоторые хирурги решались на такую операцию, и у них она продолжалась по пять-шесть часов. При надежных ассистентах, в лучших клиниках страны! Мог ли я в Киренске дерзнуть на подобное?
Как только умел, утешал я Степу и Иннокентьевну. Назначил терапевтическое лечение: промывание желудка, строгую диету, грелки на живот, а главное – советовал запастись терпением. Я не отказал Степе в операции, но сказал, что для подготовки к ней требуются месяцы, нужно ждать. Степа протянул мне на прощание свою руку, и я почувствовал, какое у него безвольное рукопожатие, и некогда сильная, упругая ладонь сейчас была дряблой и потной. Всем своим видом он показывал, что разочарован нашей беседой, но твердо пообещал: мои предписания будут выполняться.
В последующие недели я прочитал всю доступную мне литературу по желудочным заболеваниям, проработал операцию резекции желудка на трупе, сделал несколько операций на собаках, хотя для этого в больнице не было никаких условий. Серьезным препятствием являлось то, что мы не имели наркотизатора и хорошего наркоза. Я знал, что операции на желудке следует делать под местной анестезией, и понимал в то же время: если при наложении анастомоза обычной местной анестезии достаточно, то при резекции желудка, которая продолжается несколько часов, ее необходимо дополнить анестезией солнечного сплетения. Значит, надо овладеть методикой такой анестезии!
В эти дни моих мучительных размышлений привезли одного больного, машиниста парохода, у которого я обнаружил опухоль желудка. Подозрение было на рак. Вот она, первая в моей жизни операция резекции желудка! И делал я ее, хотя и старался совладать с собой, как в тумане. А может, так казалось мне после. Пять часов лежал больной на операционном столе, и я, как на исповеди, могу сказать: поначалу не был уверен, что все исполнил правильно, что все сшил как нужно. Однако как потом выяснилось, не напортачил ни в чем, машинист поправился. Позже, встречаясь на улицах Киренска, он не раз уговаривал меня зайти к его теще отведать какой-то удивительной настойки, приготовленной на таежных травах, и, по-моему, так и не поверил, что хирург спиртного в рот не берет, посчитал, наверное, что я «побрезговал».
Следом за машинистом я оперировал больного с язвой желудка, и эту операцию, продолжавшуюся три с половиной часа, делал уже осознанно, продумав все до мелочей. А так как больных у нас было много, я иногда стал делать по две резекции желудка в день. Появилась уверенность, и, осмелев, я не отказывал в операции слабым больным, доведенным приступами язвенной болезни до последней стадии истощения и обезвоживания.
Вспоминаю одну женщину прямо-таки гренадерского роста, но весившую всего то ли тридцать шесть, то ли тридцать восемь килограммов. Она высохла как мумия. Не только оперировать – к ней прикоснуться-то было страшно! Но как откажешь в операции, когда буквально через неделю-другую она может погибнуть от истощения? Стали готовить ее к операции, стремясь вначале добиться некоторого улучшения физического состояния внутривенными вливаниями физиологического раствора и переливанием крови.
Операция стоила нервов. Рубцевой стеноз привратника делал крайне затруднительным подход к двенадцатиперстной кишке, а кишку нужно было освободить от спаек, не повредив при этом поджелудочной железы. Попытки же отделить желудок вызывали обильное кровотечение… Провозившись час, я все же отошел от поджелудочной железы, пересек и с гарантией ушил культю кишки тремя рядами. После этого резецировал желудок, подшив к его культе тонкую кишку точно так, как это рекомендовано в учебнике Верещинского – одного из учеников Н. Н. Петрова. На все понадобилось четыре часа. И уже через год эта, казалось бы безнадежная больная, придя на осмотр, с гордостью демонстрировала нам, как она выразилась, «свои округлости» – прибавила в весе на тридцать килограммов.
Мне было ясно: такого рода операции без переливания крови невозможны. Однако до этого в наших краях никто из врачей переливания крови в местных больницах не производил. А как делается оно – я знал детально: в клинике Оппеля и на курсах по специализации сам несколько раз переливал кровь тяжелым больным, научился определять, какой она группы. Лишь бы была сыворотка для такого определения да доноры бы имелись!
Смелость, говорят, города берет, и предприимчивость – не последнее дело в достижении цели. И я написал письмо в Ленинград, в Институт переливания крови, где когда-то учился на курсах, и попросил лично Антонина Николаевича Филатова прислать мне несколько ампул сыворотки для определения группы крови. Я видел уже тогда, что это умный, добросердечный человек, с великолепными задатками ученого, – неужели откажет он в просьбе своему недавнему курсанту?
Посылка с сыворотками и необходимыми инструкциями пришла быстро. Оставалось теперь организовать донорскую службу. И мы с Верой Михайловной направились на рабочие предприятия, в учреждения, провели беседы о необходимости переливания крови больным, о том, что быть донором почетно, причем это никоим образом не отразится на собственном здоровье. Добились разрешения вести оплату донорам из средств, вырученных нами за платные аборты, которые в ту пору были разрешены. В общем, дело сдвинулось! Создали донорский отряд, доноров вызывали в больницу по мере надобности, иногда даже в ночное время, в зависимости от того, какая у кого группа крови и в какой нужда была именно в этот день. Разумеется, это создало предпосылки для проведения более крупных операций, таких, как тотальная резекция желудка и резекция при пептической язве.
Однако Степу Оконешникова я продолжал держать на расстоянии, под различными предлогами тянул время, чтобы больше накопить опыта. Иннокентьевна даже попеняла моей матери: всех кого попало «режет» Федор, а вот про Степу забыл…
В наших местах была распространена зобная болезнь. Еще с детства пугающе запомнилась мне женщина, у которой зоб свисал едва ли не до середины груди. Естественно, ко мне в больницу потянулись больные с зобом. Пришлось опять призвать на помощь книги: в клинике Оппеля эти болезни встречались редко, и ни одной такой операции я не видел. Больные с небольшими зобами, которые я попытался удалить, излечивались. Самое трудное было в том, чтобы не повредить гортанный нерв, не лишить человека голоса. Но имеющий в руках нож когда-нибудь да обрежется!
Как-то поступил больной с большим зобом. Если ему приходилось ложиться на спину, он тут же начинал задыхаться: зоб давил на трахею и на сосуды шеи. Я сказал ему, что операция, безусловно, показана, так как зоб будет продолжать расти, но эта операция связана с риском для жизни. Больной, посоветовавшись с близкими, выразил согласие.
Сама по себе операция по удалению большого зоба сложна и требует исключительной точности: шея богато снабжена кровеносными сосудами, к щитовидной железе, которую предстояло удалить, подходят крупные артерии – их нужно осторожно обойти, перевязать и пересечь. Если произойдет ранение одного из сосудов или – тем более – отрыв его от крупного сосудистого ствола шеи, начнется обильное кровотечение, справиться с которым не так-то легко.
В данном случае зоб был, напоминаю, значительных размеров, сосуды крупные, и я, перевязав четыре сосуда, упустил из виду наличие пятой артерии, проходящей как раз в середине шеи к перешейку щитовидной железы. Да еще допустил неосторожность: когда пытался отделить среднюю часть железы, надорвал довольно крупный сосуд! Еле-еле остановил кровотечение.
Закончив наконец операцию, как обычно с введением в рану дренажа, я уложил больного в послеоперационную палату, а сам снова пошел к операционному столу. Не помню, сколько продолжалась очередная операция, знаю только, что когда я вернулся к первому больному, увиденная картина заставила меня похолодеть. Больной находился на кровати в полусидячем положении, обложенный подушками, с мертвенно-бледным лицом, но в сознании, из-под его шейной повязки на постель, а оттуда на пол обильными струйками стекала кровь. По обе стороны кровати уже образовались красные лужи…
Немедленно перенесли больного в операционную, я снова раскрыл рану, сильно кровоточащую в глубине, и поскольку все ткани уже были пропитаны кровью, немалых трудов стоило обнаружить, захватить и перевязать злополучный сосуд. Делалось все в спешном порядке, я нервничал… и опять допустил ошибку! Забыл про гортанный нерв, и когда останавливал кровотечение, он, по-видимому, попал в лигатуру. Наступил односторонний паралич его с потерей голоса. Больной стал быстро поправляться, рана затянулась гладко, однако теперь говорил он шепотом. Правда, со временем голос разработался, но навсегда остался слабым и хриплым, и я сильно мучился из-за своего промаха, доставившего такие неприятности человеку!
А жизнь продолжала ставить перед молодым хирургом все новые и новые сложные вопросы. Воссоздавая сейчас в памяти то время, снова и снова готов говорить похвальное, благодарственное слово книгам! Всегда они были моими первыми помощниками и советчиками, в них я черпал силу и уверенность в часы невольного отчаяния, при решении запутанных проблем, когда никто другой не мог мне помочь. Книги, которые я привез с собой, с такой тщательностью подобранные в Ленинграде, превратились в неоценимое богатство. Они стали моими советниками и консультантами, друзьями при успехе и судьями при ошибках…
Как изменилось мое отношение к книгам! Когда был студентом и даже в пору моих занятий в клинике под руководством наставников, я считал, что почти все авторы излишне многословны: все можно изложить короче, без повторения похожих подробностей. Теперь же, когда все вопросы приходилось решать без подсказки со стороны и на все неясности ответ искался только в книгах, я уже сетовал, что авторы склонны излагать все в общих чертах, скупы на детали, а как важны самые мельчайшие подробности!
При подготовке к типичным операциям незаменимыми были руководства по оперативной хирургии и топографической анатомии Шевкуненко, а также Вира, Брауна, Кюмеля. А для развития широкого кругозора и клинического мышления, для воспитания способности быстрой ориентировки, умения сопоставлять факты и строить убедительную теорию диагноза помогало чтение монографий самых различных авторов, их научных статей. Все это в сочетании с напряженной практической работой незаметно прививало то, что называют интуицией врача. И мне думается, что врачебная интуиция – это совокупность глубокой эрудиции, широкого кругозора, клинического мышления с индивидуальной способностью быстрого анализа наиболее важных решающих фактов. Я встречал немало хорошо образованных людей, способных до деталей проанализировать явления, но не обладающих даром синтеза. Они не умеют из груды фактов выделить наиболее важные, не могут второстепенные явления оторвать от первоочередных, и в результате, если они врачи, из бесчисленного множества симптомов различных заболеваний не в состоянии выделить те, по которым можно поставить правильный, во всем точный диагноз.
В Киренске мы с Верой Михайловной не могли себе позволить расслабиться, искать время для отдыха. Впервые я понял, какая громадная нагрузка и ответственность ложатся на специалиста, когда на сотни верст вокруг нет его коллег… Нередко приходилось не выходить из больницы с рассвета до рассвета, и не было сил дойти до дома: прикорнешь час-другой на казенной кушетке, ополоснешь лицо холодной водой и снова за дело…
Вера тоже много работала в больнице, а свободные часы отдавала детям. Хорошо, что с нами в то время жила мама. Она всю работу по дому и заботу о нас брала на себя, создавая тот уют, без которого невозможна плодотворная работа. Бывало, чуть занеможется или случатся неприятности, мама уже около меня, то грелочку даст, то посоветует больное место «денатуратиком» натереть – ее излюбленный метод лечения. А то станет приводить из жизни факты, где справедливость обязательно торжествует. Я любил мамины разговоры. Они всегда были проникнуты любовью к людям и верой в справедливость. «Ложь и зло на коротких ножках ходят, а добро живет долго», – говорила она. От таких ее слов легче становилось на душе, быстрее забывались невзгоды.
Нельзя сказать, что все шло благополучно, без душевных встрясок, без крупных ошибок с роковыми исходами, когда не всегда можно было понять, из-за недостатка знаний это произошло или из-за чрезвычайно запущенной болезни, при которой и правильная тактика врача не давала возможности спасти больного.
Однажды рано утром ко мне домой позвонила дежурная сестра и сказала тревожно: принесли задыхающегося ребенка. Когда я прибежал в больницу, то увидел на руках у матери посиневшего младенца нескольких месяцев от роду. Или дифтерит, или ложный круп… При подобных обстоятельствах спасти жизнь больного можно, если, не медля ни минуты, наложить трахеостомию. «Буду оперировать!» – сказал я родителям. Они согласились неохотно, но ребенка отдали. Конечно, нужно было потратить еще минуту-другую, чтобы объяснить родителям всю сложность и опасность ситуации, полную безнадежность состояния ребенка без операции и огромный риск ее. Но я этого не сделал. Для спасения ребенка важна была каждая минута. Скорее в операционную!
Тот, кто в своей жизни делал или видел, как делают трахеостомию задыхающемуся ребенку, поймет меня. Я вынужден был оперировать без ассистента, помогала лишь операционная сестра, и не было ни времени, ни возможности дать ребенку наркоз или сделать хорошую анестезию. В распоряжении хирурга были считаные минуты. Нужно было через разрез на шее обнажить трахею, вскрыть ее и в отверстие вставить специальную трубочку.
От того, что ребенок задыхался, трахея непрерывно двигалась вверх и вниз – удержать ее было почти невозможно. Рана кровоточила, затрудняя мои действия. Вдруг трахея вовсе перестала прощупываться, а идти скальпелем глубже было опасно: легко можно поранить крупные сосуды, и тогда – смерть. Кое-как обнажил трахею, но она из-за ее непрерывного движения выскальзывала из пальцев. Удалось, захватив ее на какой-то момент острыми крючками, сделать разрез, воздух с шумом вырвался наружу, выбрасывая слизь и засохшие корочки. Надо было вставить в разрез трубочку, однако трубочек нужного размера под рукой не имелось. Не было у нас и специального инструмента для расширения отверстия. Когда я применял усилие, чтобы трубочка вошла, начиналась отслойка слизистой трахеи, а я знал, чем это грозит… Состояние ребенка оставалось тяжелым.
Как только мне все же удалось вставить трубочку, у ребенка начало сдавать сердце. Сыграли свою роль токсические явления, сопутствующие запущенной дифтерии. Действие дифтерийных токсинов приводит к раннему развитию дифтерийного миокардита, который часто и является причиной гибели ребенка. А в этом случае нельзя было сбрасывать со счетов продолжительность операции, из-за которой происходило дополнительное кислородное голодание мышцы сердца.
Я вышел из операционной совершенно обессиленный, с ощущением громадной нервной перегрузки, хотя вся операция заняла, оказывается, около получаса. Но некогда было думать о себе: все внимание ребенку – поднять его сердечную деятельность! Как могли, что имелось в нашем распоряжении – немедленно применили, но спасти ребенка не удалось. И только когда убедился, что все кончено, вспомнил о родителях, ужаснулся, как скажу им, что их маленького уже нет в живых…
Родители реагировали бурно, чуть ли не за грудки меня хватали, и я не вправе был обижаться: ими двигало горе. Отец ребенка, не удовлетворившись моими объяснениями, кричал, что у него брат служит в милиции, они не простят мне «убийства», упекут под суд. И как я узнал позже, они действительно жаловались прокурору, но поскольку тот знал, как одержим я в работе, бережно относился ко мне. Настоящий партиец, он при подобных недоразумениях приглашал моего начальника, Ивана Ивановича Исакова.
Такое бывает не везде…
Увлеченный любимой специальностью, желанием помочь страдающим людям, я, если узнавал, что где-то живет больной, разуверившийся в медицине, просил обязательно показать его мне. Иногда, выяснив, где его дом, ехал туда сам, убеждал лечь в больницу. И не ради хвастовства замечу: мне порой удавалось излечить тех, кого другие врачи находили уже безнадежными.
Однажды мама сказала мне:
– Феденька, а ты помнишь Наташу Патрушеву? Степана Патрушева дочку?
– Как же, красавица, пела хорошо…
– Несчастье с ней большое, – вздохнула мама. – Бог весть во что превратилась ее былая красота. Встретишь – не узнаешь.
И я услышал драматичную историю Наташи, случившуюся с ней за время моего отсутствия в Киренске…
Высокая, стройная, с тяжелыми косами, перекинутыми на грудь, Наташа Патрушева была в Чугуево первой во всем – по красоте, в работе, когда выходили в поле или на сенокос, в хороводе, где ее высокий голос выделялся среди самых сильных и звонких. Когда я видел ее, невольно вспоминал некрасовские стихи:
Есть женщины в русских селеньях С спокойною важностью лиц, С красивою силой в движеньях, С походкой, со взглядом цариц…Вышла замуж она, к удивлению чугуевцев, за чужака, как было когда-то и с моей матерью, за Андрюшу Антипина, который после работы на Бодайских золотых приисках приехал в Чугуево погостить к приятелю. Сам он был из деревни Змеиново, что стояла в двенадцати верстах от Киренска. Он увез Наташу к себе, и скоро у нее родился сын, а через два года – дочь.
Счастливой была жизнь Наташи и Андрея. Они ходили всюду вместе, словно боялись расстаться хоть на час, не обращая внимания на чьи-то завистливые насмешки: уже детей народили, а держатся за руки, как парень с девушкой! Андрей был ниже ростом, но она с такой любовью и гордостью во взгляде шла, бывало, рядом с ним по улице, словно возле нее сам Бова Королевич… И в хозяйстве у них все ладилось. Свекровь – и та в невестке души не чаяла.
Была Наташа беременна третьим ребенком, когда, забывшись, подняла мешок с зерном. Заныла вдруг поясница, появились сильные боли со схватками внизу живота. Две недели пришлось пролежать в постели, и хотя боли прекратились, недомогание осталось. Да не было уж прежней силы и ловкости в работе. Чуть что возьмет потяжелее, боли снова, а то и кровотечение начнется. Сама-то крепится, виду не подает, а Андрей закручинился. Запряг лошадь и повез Наташу в Киренск, в городскую больницу. Дорога была мучительной для Наташи.
В то время в городской больнице работал хороший хирург – П. Г. Филатов. Посмотрел больную, определил, что носит она мертвого ребенка, назначил на экстренную операцию – кесарево сечение. Операция оказалась сложной для хирурга и тяжелой для Наташи: обнаружили приращение последа, пришлось его долго отделять. Это вызвало большую потерю крови у больной, и Филатов постарался скорее зашить рану, чтобы снять женщину со стола живой. Закончив операцию, начал бороться за ее жизнь. Несколько недель пролежала Наташа в больнице: было нагноение раны, разошлись швы. Хирург еле-еле предотвратил развитие перитонита. Ослабевшая, похудевшая, вернулась Наташа домой, и радостная, что опять все вместе – муж, дети, она!..
А вскоре у Наташи на месте разреза образовалась послеоперационная грыжа значительных размеров. Как ни перевязывала она себе живот, как ни бинтовала его, грыжа росла не по дням, а по часам. Вскоре Наташа уже ходила как беременная на последнем месяце, а выпавшие в грыжевой мешок петли кишок ущемлялись, вызывая непроходимость кишечника. Стала Наташа приглашать к себе бабку-знахарку: та помнет живот, погладит – вроде бы легче сделается. Но с каждым месяцем приступы становились затяжнее и невыносимее. А живот вырос так, что не только со стороны, самой смотреть на него было страшно. Словно огромный камышинский арбуз привязали ей внизу живота… Опять поехали они с Андреем к Филатову.
Посмотрел Филатов Наташу, задумчиво походил по кабинету и решительно сказал, чтоб возвращались в свою деревню, никакой операции делать нельзя, недопустимый риск: очень много внутренностей выпало в грыжевой мешок, вряд ли их вправишь на место. А если и удастся вправить, то где гарантия, что швы вновь не разойдутся? Филатов добавил как в утешение, что у него у самого печень болит, приходится тоже мучиться, а что поделаешь? Нужно терпеть и даже в страдании радоваться, что живешь на белом свете…
Но какое уж тут утешение! С ощущением безнадежности, безвозвратно пропащей жизни вернулась Наташа домой, и этот дом, некогда веселый, шумный, песенный, гостеприимный, теперь словно беспросветная тьма окутала. Наташа стала затворницей, на глаза людям не показывалась. Живот продолжал угрожающе расти, было уже тяжело ходить, никакую работу делать не могла. Появилась у нее раздражительность и плаксивость… Казалось, что муж из-за уродства больше ее не любит. И когда он по делам уходил из дома, ей чудилось, что он у соперницы. Андрей терпеливо сносил ее ревнивые придирки, утешал как мог, понимая, что прежний легкий, милый характер Наташи испортила злая болезнь.
Даст Бог, все хорошее еще вернется в семью – они молоды, не успели даже пожить…
Потом в Киренске появился доктор М. Г. Ананьев. Он больше часа внимательно осматривал Наташу и, вздохнув, сказал, что в здешних условиях такой операции не сделать, да вряд ли кто возьмется за нее даже в клинике. Слишком большой риск.
– Риск, риск! – вся в слезах воскликнула Наташа. – Я ведь согласна! Лучше умереть, чем жить в мучениях и на посмешище людям! Я расписку, доктор, дам, что если случится чего не так, вас никто винить не станет. Вот и муж здесь, он тоже подпишет. Правда, Андрюша?
Ананьев головой покачал: нет, нет и нет!
Была еще одна поездка к врачу – теперь уже не к простому, а, как говорили все, к «знаменитому», только что приехавшему в Киренск. То был, разумеется, Кемферт. Даже его нерусская фамилия внушала уважение: может, учился он за границей, где, пожалуй, учат лечить лучше, чем у нас? Но «доктор» Кемферт принял их холодно, был невнимателен, говорил туманно и высокомерно, а под конец, отказав в операции, отпустил в адрес Наташи плоскую, оскорбительную шутку. Наташа возненавидела и этого доктора, и всех других, уверилась, что спасенья ей нет, стала угрюмой, молчаливой, замкнулась в себе. И когда я прибыл в Киренск, она не стала обращаться ко мне, хотя и знала меня хорошо – наши семьи издавна были знакомы между собой.
Услышав грустное повествование о Наташиной судьбе, я, конечно, понял, чего мама хочет от меня. Всю жизнь с детства, я слышал от нее: «Федя, старайся делать людям добро. От этого им легче и сам делаешься чище. Да и такое оно, добро: сделал его в одном месте – оно возвращается к тебе в другом, когда и не ждешь совсем…» Милая моя мама, ты сама была воплощением доброты и долготерпения, как большинство простых русских женщин, чья душевная забота всегда согревала их детей. Это матери дают своим сыновьям силу и уверенность, это они стоят у начала любого человеческого подвига, их голоса навечно закрепляются в сыновних сердцах…
В Киренске мать видела, как я живу, как работаю, ее глаза ласково смотрели на меня, и было бы горько заметить в них печаль или грусть, вызванную мною… И теперь мама как бы говорила: протяни руку несчастному человеку!
На следующий день, после операций по поводу зоба и холецистита, убедившись, что больные чувствуют себя хорошо, я попросил Веру Михайловну подежурить возле них, а сам с мамой в санках, на Малышке, вечером выехал в Змеиново. Завернувшись в тулуп, я правил лошадью, с наслаждением вдыхая свежий морозный воздух, а мысли были об одном: почему отказываются оперировать Наташу? Неужели нож противопоказан, и я тоже вынужден буду отступиться?.. А как было бы хорошо вернуть ее к житейским радостям!
Двенадцать верст пролетели незаметно. Вначале погрелись за чаем у одних старых знакомых, а потом пошли к Антипиным. Они уже знали о нашем приезде в деревню, надеялись, конечно, что мы не обойдем их, ждали. Встретили степенно и уважительно, ни словом не обмолвились о своих бедах. Наташу действительно было не узнать: прекрасное лицо стало бесцветным, со страдальческими складками у горестно поджатого рта, и в глазах стыли невыплаканные слезы. Широкое, без пояса, платье скрывало ее фигуру, и все же живот, натягивая его, безобразно выступал далеко вперед.
На столе появились сибирские пельмени, и в разговорах за ними о том о сем незаметно пролетел час. Тут мама, ободряюще взглянув на Наташу, сказала:
– Я вчера своему Феде говорю: Наташа тебе хочет показаться, да плохо чувствует себя, не может приехать! А он мне в ответ: а у нас как раз лошадь застоялась, давай сами к Антипиным прокатимся, чай, не совсем чужой я для них… И впрямь: сколько лет-то дружили!
Наташа смутилась. Она понимала, что моя мама специально говорит так, чтобы облегчить возникшую неловкость, закрыть ей, Наташе, путь к отступлению. Ответила она тихо:
– Большое спасибо вам, да вряд ли нужно беспокоить Федю. Уже никто мне не поможет…
Губы ее задрожали, она, не совладав с собой, разрыдалась, уткнувшись лицом в мамино плечо. Мама гладила ее по волосам и тихо приговаривала:
– Ну что ты, Наташенька, не плачь. Федя поможет, он для тебя постарается. Ты же знаешь, как он любил твои песни слушать, влюбленными глазами на тебя смотрел… То-то молодой был, а так бы, смотришь, раньше Андрея к тебе посватался… Не плачь!
Я попросил разрешения осмотреть больную и, уйдя в другую комнату, тщательно обследовал ее. Не скажу, что без колебаний, но все же твердо решил: за операцию возьмусь! Наташа сначала не поверила, думая, что я говорю так, чтобы ее успокоить, а убедившись в серьезности моего заявления, снова разрыдалась… Условились, что она приедет в больницу и там будет определен срок операции.
После этого мы еще немного посидели за столом, затем мама, зная, что я беспокоюсь о своих больных, заторопилась в обратный путь. Малышка была накормлена, отдохнула, резво взяла с места. Антипины стояли на дороге и смотрели нам вслед. Я был в отличном настроении, вспоминая, какую радость смог вызвать в душе Наташи и Андрея, как светились этой радостью их глаза… И где-то далеко-далеко ворошилась тревога за исход намеченной операции: по силам ли ношу взвалил на себя?
А через три дня Наташа была уже в больнице, и мы с Верой Михайловной, неизменным моим ассистентом в тот период, стали готовить ее к операции. Приучивший себя с юности не тратить понапрасну время, я торопился: потерянные дни не возвращаются. Опять с головой ушел в книги, и чем больше читал, тем сильнее одолевали сомнения. Почти все авторы указывали на многочисленные осложнения при больших послеоперационных грыжах, которые не только сводили на нет весь труд хирурга, но нередко создавали угрозу для жизни больных.
Те из хирургов, кому попадутся на глаза эти строки, отнесутся, может быть, весьма скептически к моим переживаниям и сомнениям той поры. Мне и самому сейчас они кажутся чересчур преувеличенными. Однако необходимо сделать поправку на время: ведь в середине тридцатых годов любая резекция, даже ранение толстого кишечника, являли собой серьезную опасность для жизни человека, – подобные операции были в процессе освоения, поисков. У больной с огромной грыжей, когда в грыжевой мешок вместе с внутренностями попала значительная часть толстого кишечника, возможность его повреждения при операции была реальной, и хирургу было от чего поволноваться! По сей день к нам в клинику поступают больные, многие годы живущие с подобными и другими отравляющими их существование недугами, при которых хирурги лишь разводят руками… А тщательное исследование заболевания Наташи показало к тому же, что выпавшие петли кишок прочно припаяны к коже грыжевого мешка и отделить их будет не просто.
Опять же вопросы методики такой операции в литературе решались по-разному. Способов предлагалось много, но ни один из них не гарантировал как во всем надежный. Наоборот, подчеркивалось: процент неудач при каждом методе высок. А тут, принимая во внимание необычные размеры грыжевых ворот, успех казался менее возможен, чем неудача. Страшно было подумать о том, что операция не получится. Если не удастся избежать ранения толстого кишечника, может быть перитонит со смертельным исходом. Если операционное вмешательство не даст результатов, грыжа образуется снова, и Наташа еще сильнее будет мучиться сама и мучить близких… А тут еще пугают размеры грыжевого кольца: не меньше двенадцати сантиметров в диаметре! Как стянуть края такого отверстия? Какие швы способны выдержать натяжение, возникающее при сшивании раны?
Обдумав все имеющиеся «за» и «против», я решил, что лучше всего применить способ ушивания грыжевого отверстия по Напалкову. Его сущность в том, что после иссечения грыжевого мешка сшиваются внутренние листки прямой мышцы живота, вторым же слоем сшиваются наружные листки, и на месте грыжевого кольца остается заслон из мышц, а не из рубцовых тканей. Я старался в подробностях припомнить такую операцию: когда-то видел, как в клинике Оппеля проводил ее сам Павел Николаевич Напалков, правда, не при большой грыже…
Переживала, беспокоясь за Наташу, за нас с Верой Михайловной, мама. Советовала не спешить, следовать мудрому правилу: семь раз отмерь – один отрежь… Но я уже говорил: подготовка подготовкой, а впустую тратить время было не в моих правилах. Ведь кроме Наташи, в больнице находились другие тяжелые больные. И я назвал день операции.
– Наташа, – сказал я ей, – ты полежала, отдохнула, пора, что ли?
– А для меня, Федя, другого пути нет: или на тот свет, или здоровой домой вернуться, – твердо ответила она. – Я на тебя, как на брата, полагаюсь.
– Ладно, договорились, – старался я отвлечь ее от плохих мыслей. – Уж я к тебе потом снова на пельмени приеду, не поскупись, чтоб мне одному миска с верхом была!
– Федя, – вдруг тихо сказала она, – а ты ведь тоже боишься…
Хотел возразить, но вряд ли это получилось бы у меня, и я только положил свою руку на ее: не волнуйся, все будет как надо.
…Сделав хорошую местную анестезию, окаймляющем овальным разрезом обошел весь грыжевой мешок у основания, вскрыл его с великой осторожностью в свободном от спаек месте. Оказалось, как и предполагал: петли толстой и тонкой кишок прочно припаяны к старому операционному рубцу, а кроме того, из-за частых ущемлений припаяны к самому кольцу… Было от чего ощутить холодок в позвоночнике! Разделить все эти спайки, пересечь рубцы, не поранив рубцово-измененной стенки кишечника, – задача не из легких. Все внимание сосредоточил на том, чтобы не ошибиться в тканях, не сделать ненужного разреза или разреза недопустимой глубины. Ведь здесь расстояние измерялось миллиметрами, и малейшая ошибка могла стать роковой.
Наконец все петли кишок и сальник были освобождены и вправлены в брюшную полость. Я знал, что мне ни на секунду нельзя позволить себе расслабленности или даже мимолетного успокоения. Вновь провел дополнительную анестезию, чтобы предупредить невольное напряжение мышц живота. Случись это – и опять выпадение внутренностей, новые трудности в ушивании грыжевого кольца. Но пока все шло предусмотренным порядком, и где-то в глубине сознания далекой искоркой промелькнула даже такая мысль: «Сложно, конечно, однако вполне доступно, не часто ли отказывают больным, где не нужно отказывать?» Ушил грыжевое кольцо, создав на его месте двойную белую линию и напалковский заслон из прямых мышц живота, а в самом конце операции, продолжавшейся около двух часов, наложил больной аккуратную круговую повязку – для ослабления напряжения краев раны.
Наташа держалась превосходно: сказался характер. Не услышал от нее ни стона, ни жалоб на боли. А когда вышел из операционной, увидел устремленные на меня черные глаза Андрея Антипина, показавшиеся мне дикими, чуть ли не безумными. Он схватил меня за руку:
– Как?
– Нормально, успокойся…
Не выпуская моей руки, бормоча что-то под нос, он потащил меня за собой во двор. Там возле распряженной лошади стояли его сани. Он покопался в них и вытащил ружье:
– Вот…
Я ничего не понимал. Знобкий ветер охватывал мою мокрую от пота рубашку. Все, как бывает после огромного душевного напряжения, виделось контрастно: чистый снег, белесое небо, черные вороны на заборе, заиндевевшая лошадь изумляли своим спокойным видом, своей невозмутимостью.
– Вот, – бормотал Андрей, показывая на ружье, – с собой привозил…
– Ну и ну! – сказал я, и мне чуть ли не до слез стало обидно. – Это, значит, привез, чтобы меня пристрелить, да? Случилось бы что с Наташей, и ты бы меня!
– Нет! – крикнул Андрей, – нет, это я себя хотел… Один бы тогда конец – и ей, и мне!
– Все равно дурак, – сказал я ему и, ощутив озноб уже во всем теле, пошел со двора в тепло.
А спустя три месяца Наташа и Андрей приехали к нам домой. Наташу словно подменили, а вернее, возвратилось к ней все ее прежнее. Помолодевшая, стройная, она опять стала жизнерадостной, веселой, ее искристый смех звенел в комнатах серебряным колокольчиком… Она низко, в пояс поклонилась мне и, бросившись на грудь, стала покрывать меня поцелуями. Смущенный Андрей пожал мне руку со словами:
– Никогда наша семья не забудет про это…
Наташа стала рассказывать моей маме, что недавняя болезнь кажется ей теперь кошмарным сном. Сейчас она, как все, хоть работать, хоть плясать. Боли прекратились, пока опасается поднимать тяжелое, но чувствует себя способной горы своротить, соскучилась по настоящей жизни! А мама смотрела на меня и тихо улыбалась. Она считала, что я просто постарался для человека, как и должен всегда стараться.
Если при проведении плановых операций у меня все же было время подготовиться к ним, то несравненно больше волнений и забот доставляли операции экстренные. Тут каждая минута на счету, опоздание равносильно смерти больного, и при постановке диагноза в книгах рыться некогда!
Когда спешишь в больницу по срочному вызову, имеешь самое смутное представление о том, что тебя ждет. Дежурная сестра скажет, что привезли тяжелого больного с болями в животе или груди, что доставили раненого в голову, что у женщины или ребенка хлынула кровь из горла, и ты бежишь оказывать помощь, лихорадочно припоминая все возможные при этом варианты заболеваний и травм… Кроме того, ведь никогда не знаешь, когда именно понадобится твоя помощь! Ты всегда, в любой момент, днем или ночью должен быть готов к этому. И никого не интересует, здоров ли ты сам, сыт или голоден, хорошее у тебя настроение или плохое, рабочий у тебя день или заслуженный выходной, успел ли ты отдохнуть после утомительных операций или не было ни минуты для этого… Ты врач: иди и помогай больному!
В Киренске был в моей врачебной практике такой случай… Я лежал в постели с острыми, не отпускающими болями в животе. Такое бывало со мною время от времени как следствие перенесенного брюшного тифа. Вдруг звонок от дежурной сестры: привезли тяжелую больную, она почти без сознания, и тоже боли в животе! Я попросил Веру Михайловну срочно отправиться в больницу – она гинеколог, а также терапевта Ивана Ивановича, и буквально на подламывающихся ногах добрался туда сам. Диагноз был неясен: то ли перитонит, то ли внутреннее кровотечение. Все трое помылись, подготовились к операции. С большим трудом я сделал разрез. Внематочная беременность! Поручив гинекологу и терапевту закончить операцию, я, невыносимо страдая от боли, кое-как дотащился до кушетки и, рухнув на нее, потерял сознание. Естественно, врачи занялись мною лишь после того, как завершили операцию у женщины, убедившись, что опасность ей больше не грозит.
И сколько раз впоследствии мне приходилось стоять у операционного стола, когда сам сильно недомогал. Особенно давал о себе знать в работе (а ведь работа хирурга – это работа на ногах, да еще по нескольку часов кряду без отдыха) приобретенный мною в финскую войну анкилозирующий спондилоартроз, когда тяжкие боли не позволяют в момент приступа ни согнуться, ни разогнуться, сжимают тебя беспощадными железными клещами…
Рассуждая об этом, припоминаю еще один случай, не такой уж и давний, оставивший на душе горький осадок. Впервые, наверное, в жизни я вынужден был из-за болей в области сердца взять больничный лист. Боли одновременно терзали и плечо. Травматологи признавали, что это отложение солей кальция в суставной сумке. Я пришел в клинику для физиотерапевтической процедуры. В коридоре преградила мне дорогу заплаканная женщина:
– Профессор, сейчас оперируют моего мужа. Помогите его спасти!
Можно ли быть бесчувственным к горю?
Я прошел в операционную, и оказалось, как нельзя кстати. Доктора Богдан и Левашов никак не могли решить: продолжать операцию или зашить рану и снять больного со стола? Опухоль правого бронха представлялась им неоперабельной, они даже широко вскрыли перикард, чтобы убедиться в этом. Понятно, что мое неожиданное появление было встречено ими с радостью.
– Может быть, Федор Григорьевич, не откажетесь надеть перчатки и попробовать?..
Ясно, что я не мог отказать своим помощникам, да и судьба больного, когда увидел его со вскрытой грудной клеткой, уже не могла быть мне безразличной. Надел стерильный халат и перчатки – прямо на немытые руки, с единственной целью подсказать, определить возможность удаления опухоли. Но встав к операционному столу, я вынужден был отойти от него лишь тогда, когда убрал все легкое вместе с опухолью… А отсюда пошел в физиотерапевтический кабинет принимать процедуру. На минуту-другую после этого заскочил в свой кабинет за нужной книгой, раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал недовольный голос:
– Как же понимать, Федор Григорьевич? Вы больны, на бюллетене, а оперируете! Непорядок! Неудобно говорить, но мы так полагаем, что вы или не больны, или не бескорыстно это делаете. Просим вас, чтобы впредь этого не было…
Я даже не обиделся на говорившего. Таким людям не понять хирурга, тем более работающего по призванию. Я ответил:
– Хорошо. Если при подобной ситуации потребуется моя помощь лично вам или кому-либо из ваших близких, а я буду иметь больничный лист, в операционную не зайду. Во всех остальных случаях действовал и буду действовать так, как подсказывает мне моя совесть.
Здесь, вероятно, уместно сказать, что редко к какому другому специалисту предъявляются столь высокие требования, как к хирургу. Он получает, как все служащие, зарплату, на него распространяются государственные законы о труде и отдыхе, он, в конечном счете, такой же, как другие, со всеми семейными заботами, увлечениями, слабостями… И в то же время должен при первом же сигнале броситься на помощь тяжелому больному, по сути, ни на час не имеет права забыть, что он хирург – его оперативное вмешательство может понадобиться в любой миг, в самом неожиданном месте: на улице, в самолете, вагоне, на рыбалке, в кафе, на шумной автостраде…
На третьем году пребывания в Киренске мне пришлось срочно вылететь сначала в Иркутск, а затем в Ленинград. Единственным хирургом на всю округу остался мой ординатор – молодой, подававший надежды врач. За год работы в нашей больнице он неплохо освоил вопросы диагностики, стал делать довольно сложные операции до резекции желудка включительно, что по тому времени надо считать большим достижением. Я был доволен им и полагался на него.
В один из воскресных дней к нему издалека приехал товарищ, и они на радостях крепко выпили. А в этот момент позвонили из больницы: привезли женщину с «острым животом», состояние очень тяжелое, нужна немедленная операция. У ординатора хватило сил лишь на то, чтобы непослушным языком ответить: «Плохо себя чувствую, оперировать не смогу…» Встревоженный И. И. Исаков прибежал к нему на квартиру и, конечно, все понял. Пришлось ему вызвать гинеколога, Веру Михайловну, они вдвоем прооперировали женщину, у которой оказался гангренозный аппендицит. Операция спасла ее от смерти. Это был выходной день. Но хирург всегда на вахте: к нему могут обратиться если не из больницы, то соседи, знакомые.
Общественность города была возмущена отказом хирурга оперировать, посчитав причину неуважительной, и вскоре ему пришлось подать заявление об уходе.
Я жалел тогда, что потерял толкового помощника, и думаю, что случившееся оставило у него незабываемый след…
Общественность предъявляет самые высокие требования к хирургу. Это правильно, так как хирург ответственен за жизнь людей. Но хотелось бы, чтобы о нем тоже проявлялась забота: хирургу нужны условия, чтобы в свободное время он мог совершенствоваться в своей профессии, необходим и душевный покой.
Состояние его нервной системы не может не сказываться на больных: у взвинченного человека нет твердости в руках, а скальпель любит только твердые, спокойные руки! Еще гениальный Н. И. Пирогов предупреждал: «…если хирург чем-то взволнован, что не имеет отношения к операции, он должен ее отложить. Это будет лучше для больного, так как хирург своим мастерством намного владеть перестает…» Выходит, бережное отношение к хирургу – это забота не столько о нем, сколько о больных людях!
Бесспорно, ведя речь о врачебном долге, мы отдаем себе отчет в том, что при необходимости чуть ли не каждый человек, особенно воспитанный в духе нашей советской морали, не посчитается ни с чем, чтобы оказать помощь другому. Но ведь такая необходимость бывает не ежедневно, она как случай, в то время как настоящий врач сам по себе всегда «скорая помощь». Его из постели поднимают, и он бежит к больному, и неизвестно, когда теперь сам заснет… Правильно говорил В. В. Вересаев: «Для обычного среднего человека доброе дело есть нечто экстраординарное и очень редкое; для среднего врача оно совершенно обычно».
Особенно тяжел труд хирурга на периферии, где он – единственный специалист на целый населенный район, иногда слишком большой, по территории не уступающий какому-либо маленькому государству. Так в Киренске приходилось быть круглосуточным дежурным, даже круглогодовым! К нам редко обращались с незначительными травмами: если уж доставили, значит, серьезная опасность для жизни человека, нужно без промедления вступать в бой за него.
Вспоминаю Анкундинова Прохора, в те годы лучшего охотника-медвежатника в наших краях. Когда он из деревни приезжал в Киренск, шел улицами, громадный, сам как медведь, с лицом, обросшим густыми рыжими волосами, с рогатиной и ружьем за спиной да большим ножом на поясе, чуть ли не все выходили из домов смотреть на него, и лестно было тем, с кем он здоровался. Каждый – и стар, и млад – знали, что в свои сорок лет взял он в схватках тридцать девять медведей и искал встречи с сороковым. «Для ровного счету», – коротко пояснял Прохор.
Однажды он пошел на охоту, а за ним увязался Дмитрий Пушляков, болтливый, пустой мужичишка, который в деревне, или когда выезжал на базар, приставал ко всем с одной и той же похвальбой: «А давай на спор – четверть водки без закуски выпью!» И хотя сам Прохор временами лихо прикладывался к рюмке, но этого пустомелю не уважал и с собой в тайгу взял скрепя сердце, потому что у нас не принято отказывать кому-либо в компании.
Еще и тайга-то как следует не раскрылась перед ними, от деревни не успели отойти, шли, не осторожничая, Прохор впереди, Митяй за ним, как произошло то, что Анкундинов впоследствии даже объяснить толком не мог. Споткнулся он о корягу, упал, а когда попытался встать, на нем сидел уже матерый медведь. Вывернулся из-под него Прохор и увидел перед собой смрадную раскрытую пасть зверя, почувствовав, что сейчас рванет тот его за плечо, уловчился своей могучей рукой схватить хозяина тайги за ухо, оттянуть клыкастую морду от себя. Но на плече все же осталась кровавая отметина.
Огромной силой обладал Прохор, и, наверно, удесятерилась она в момент смертельной опасности. Железной хваткой держал он ухо медведя, отворачивая его косматую морду от своего лица, другой рукой защищался от когтистых лап. Все же медведю удалось зажать Прохора в объятиях, но тот по-прежнему оттягивал за ухо морду зверя, не давая себя укусить. Медленно двигались они, натыкаясь на пеньки, не желая в грозном единоборстве уступить один другому. Надеялся Прохор, что вот сейчас Митяй подскочит, всадит косолапому заряд – и дело будет кончено… Но Митяя след простыл: бросился он бежать в деревню и с криком: «Там! Там! Медведь!..» – нырнул в подполье. Ведром холодной воды окатили его мужики, чтобы привести в чувство, узнать, что с Прохором. Схватив ружье, помчались на лошадях к месту поединка, уже не рассчитывая застать охотника в живых.
Страшную картину увидели они. На тропе топтались большой лохматый медведь и окровавленный, в располосованной одежде Прохор, ощеренная в злобном оскале морда медведя была свернута Прохором набок – так и продолжал он ее удерживать. Племянник Прохора Егор подошел вплотную к ним и выстрелил в зверя. Тот, взревев, повалился на землю, увлекая за собой охотника, и судорожным движением лапы, впившись когтями в затылок Прохора, содрал ему всю кожу на голове, натянув ее, как чулок, на лицо.
Оба противника лежали на земле: медведь мертвый, а человек – неизвестно какой… Ничего не могли понять родные и земляки Прохора: вместо головы у него окровавленный шар, нет на нем ни лица, ни затылка – сплошная кровоточащая рана! Послушали – сердце бьется! Закутали истерзанную голову Прохора исподними рубахами и, не теряя времени, помчали его на лошадях в больницу, благо до Киренска от того места было верст семь-девять… Я вел амбулаторный прием больных, когда мне доложили, что привезли человека, которому «медведь голову откусил».
Размотав с головы Прохора рубахи, я содрогнулся: кожа, начиная с затылка, оторванная от спины, была вывернута на лицо, закрыла его до рта. Края раны были рваные, мятые, все в запекшейся крови, и хорошо еще, что кровотечение из крупных сосудов уже приостановилось. К счастью, медведь не нанес Прохору повреждений жизненно важных органов, но у него были тяжелый шок и огромная встряска всей нервной системы – на грани катастрофы. Он никак не приходил в сознание – пульс был нитевидный, и мы боялись худшего.
Несколько часов ушло на то, чтобы поддержать в Прохоре еле теплившуюся жизнь: вводили морфий, обезболивающий раствор в рану, противошоковый раствор, переливали кровь. Эффекта почти никакого! Узнав от родственников, что Прохор хотя пил редко, но крепко, хмель на него долго не действовал, я сказал Дусе Антипиной, чтобы она приготовила раствор сорокапроцентной глюкозы с десятипроцентным спиртом. Влили ему внутривенно пятьдесят кубиков, и тут же с облегчением заметили улучшение пульса. Вскоре поднялось кровяное давление. Снова стали переливать кровь, а через два часа опять ввели раствор глюкозы со спиртом – и медленно, постепенно давление стало выравниваться, появились рефлексы, первые признаки восстанавливающегося сознания.
Только после того как давление пришло в норму, мы осторожно, чтобы еще раз не вызвать шока, тщательно все обезболили, обработали и, вывернув обратно скальп, ушили рану. Теперь главной задачей было – справиться с нервным потрясением, вернуть Прохора к нормальным представлениям о жизни.
Несколько дней Прохор ничего не видел, но вскоре зрение восстановилось. Только был охотник все время мрачен и о чем-то часто задумывался… Через шесть недель мы его выписали. После мне рассказывали, что как только Прохор переступил порог своей избы, он снял со стены ружье и побежал к дому Дмитрия Пушлякова. Но тот уже знал, как трагично для него может окончиться встреча с тем, кого он бессовестно предал в минуту опасности, и заблаговременно скрылся куда-то, пропадал в бегах больше месяца. За это время родные того и другого уговорили Прохора не убивать Митяя, не сиротить его детей, не брать на душу грех. Отошло сердце у охотника, и ограничился он лишь тем, что в козырной праздник при всем честном народе набил Митяю морду и при всех заказал собственным детям никогда не водить дружбу ни с кем из рода Пушляковых…
Ко мне Прохор пришел через несколько месяцев. Ничего подозрительного в его состоянии я не обнаружил. Сказал ему на прощание:
– Ну что ж, крестник, возьмешь меня с собой на медведя? Никогда не ходил, хоть посмотрю!
Прохор поерзал на стуле, отвернулся, стал в окно смотреть и ответил – чувствовал я – с душевным волнением:
– Хоть обижайся, доктор, а такая теперь судьба у меня – ходить на зверя токмо в одиночку. Я тебе, если скажешь, живого его сюда приведу, но в тайгу, прости, не возьму…
Знаю, что Прохор Анкундинов жил долго, до последних дней охотился и с того памятного для него сорокового медведя увеличил их счет вдвое, но, говорили, оставался нелюдимым, в деревне его теперь видели лишь по престольным дням – не выходил из тайги…
Приблизительно в то же время был другой, закрепившийся в памяти случай с больным по фамилии Жиганов.
После нескольких трудных, затянувшихся операций я в три часа, не успев забежать домой пообедать, направился на другой конец города, в поликлинику, где вел консультативный прием хирургических больных. Их было очень много, я извинился за опоздание и, как только вошел первый пациент, с этого момента уже на целых четыре часа не знал передышки – осматривал, давал советы, писал назначения, делал амбулаторные операции… Когда же в семь вечера наконец карточки больных на моем столе иссякли, я снял халат и вышел в коридор с мыслью, что невыносимо хочется есть, нужно бежать домой. И вдруг увидел полулежащего на деревянном диванчике человека. Все мышцы его серого, без кровинки лица, казавшегося безжизненным, были напряжены, нос обострился. Я как взглянул на него, сразу же подумал: «Лицо Гиппократа!» Так называют своеобразное выражение лица у больных с воспалением брюшины. И хоть до этого мне не приходилось видеть такое маскообразное лицо, в учебниках оно очень хорошо описывалось: я не сомневался в диагнозе.
Осторожно ввел больного в кабинет, потрогал его живот – он был твердый, как доска. Разлитой перитонит.
Жиганов кратко, прерывающимся голосом рассказал историю своей болезни. В нем уже чувствовалось то безразличие, в которое впадают больные перед концом…
Он живет в деревне Подкаменке, что в сорока километрах от Киренска вниз по Лене. Давно страдает болями в верхней части живота, усиливающимися при приеме пищи. В последнюю неделю боли стали особенно резкими, что и заставило его поехать к врачу. Добрался до Киренска на попутной подводе, на санях, к вечеру, на прием к врачу уже опоздал и пошел ночевать к знакомым за два километра от города, в деревню Мельничная. Перед рассветом, часа в три, почувствовал резкую внезапную боль – «как ножом пырнули» (я про себя отметил: характерный симптом при прободной язве желудка – кинжальная боль). Знакомые сбегали за «знающим человеком»: тот поставил на живот горшок, мял и давил живот, с помощью других ставил больного вниз головой, ногами вверх и «потрясывал»… Ничего не помогло. Да и как могло помочь? Ведь делали все так, чтобы разнести инфекцию по всей брюшной полости. Слушая Жиганова, я не знал, чему больше удивляться: терпению этого человека, который все стоически переносил, или невежеству тех, кто брался его лечить, ничего не смысля в этом. А поведение больного, его поистине невероятная выдержка с медицинской точки зрения были трудно объяснимы. Вот что происходило дальше.
Утром Жиганов, испытывая сильную боль в животе, пешком направился в больницу. Отдыхал через каждые пять – десять шагов и пришел туда уже после трех часов. В больнице дежурная сестра, прошедшая подготовку лишь на трехмесячных рокковских курсах, даже не взглянула на него, бросила небрежно на ходу, что хирурга нет, он в амбулатории, и если больному нужно, пусть идет туда… И он опять пошел! Через весь город! Если бы я не видел перед собой Жиганова, навряд ли поверил бы в такое: как он мог идти с разлитым перитонитом?! Еще почти четыре часа на ногах, в ходьбе!
Операция благодаря срочно принятым мерам началась около девяти часов вечера, спустя восемнадцать часов после прободения. Известно, что при прободной язве желудка результаты операции находятся в прямой связи со временем, прошедшим после прободения. Если операция сделана в первые шесть часов, смертность колеблется в пределах десяти – двенадцати процентов. При операции в первые двенадцать часов – смертность около пятидесяти процентов. Если же операция производится через сутки – почти все больные погибают. Так что операция через восемнадцать часов – это на грани возможного. Тем более что больному, вместо того чтобы предоставить покой, делали всевозможные дикие манипуляции на животе, ему пришлось много ходить…
При вскрытии брюшной полости было обнаружено большое количество мутной жидкости. Диагноз подтверждался. Следовало уточнить его причину. Стали исследовать желудок и в пилорическом [пилорический – выходной отдел желудка] отделе сразу же натолкнулись на язву. Была она диаметром около сантиметра, из нее обильно выделялось желудочное содержимое.
Тщательно осушили всю брюшную полость, обложили салфетками, стали язву ушивать. Ассистировала, как обычно, Вера Михайловна. Края у язвы воспаленные, отечные, при затягивании швов легко прорываются, а язва, и так большая, от этого становится еще больше… Пришлось приложить к ней кусочек сальника на ножке и ушить матрасными швами. Но как ни старались, все же просвет желудка сузили. Когда стали проверять, увидели: проходимость из желудка плохая. Если оставить так, у больного со временем разовьется органический стеноз, начнутся рвоты, и они или погубят его, или заставят вскоре же ложиться на повторную операцию.
– Нужно накладывать анастомоз, – сказала Вера Михайловна.
– Но мы не знаем, какая у него кислотность желудочного сока. Если она высокая, разовьется пептическая язва, как у Степы Оконешникова. Все равно будет мучеником! Где выход? Без анастомоза он погибнет. А мы назначим ему диету, будем давать щелочи, пептическая язва, смотришь, не разовьется… Во всяком случае, будет ли язва – это ещё вопрос, а что он не перенесет операции без анастомоза – это почти точно…
Слова Веры Михайловны были убедительными, я и сам так думал, а наш диалог – это, как всегда, поиск лучшего варианта, желание проверить сомнения. Мы наложили больному анастомоз между желудком и тонкой кишкой, чтобы пища свободно проходила из желудка в кишечник, и через две недели Жиганов был уже выписан домой. Долго я наблюдал за ним, вызывая в больницу, опасаясь за него. Но несмотря на весь драматизм случившегося с ним – до операции и во время нее, все обошлось как нельзя лучше. А судьбе было угодно, чтобы через годы я снова в операционной встретился с Жигановым, но не с ним самим, а с его братом. Но об этом после.
Обостренное чувство ответственности перед больным человеком, уважение к своей профессии заставили меня уже в Киренске полностью отказаться от вина… И в дальнейшем, я уже говорил, никогда не употреблял спиртных напитков и не верю утверждениям, что, мол, опытный хирург, будучи под градусами, сделает операцию так же хорошо, как и трезвый. Да и кто из нас захочет лечь под нож пьяненького хирурга или даже тогда, когда он просто с похмелья – с замедленной реакцией во всем, с неуверенными движениями рук?
Многочисленные опыты на животных, проведенные Иваном Петровичем Павловым, показали, что после сравнительно небольших доз алкоголя у собаки гаснут выработанные условные рефлексы и восстанавливаются лишь через шесть дней. Опыты более поздних лет подтверждают отрицательное воздействие алкоголя на нервную систему. Машинистка, которой перед началом работы дали выпить двадцать пять граммов водки, делала ошибок на пятнадцать-двадцать процентов больше, чем всегда. Водители автомашин пропускали запрещающие знаки. Стрелок не мог точно поразить мишень… И это, замечу, особая тема, причем, считаю, государственной важности. Мне не раз приходилось выступать по данному вопросу со статьями в прессе, и в какой-то степени это найдет отражение на страницах книги…
Пока же опишу одну сцену, из той, киренской жизни.
…Был праздничный день, и у нас дома за щедро уставленным кушаньями столом собрались наши друзья. Всем хотелось повеселиться, встряхнуться: на смену надоевшим холодам пришла весна! Гости, разумеется, сразу же потребовали, чтобы я тоже пил. Я пробовал отшутиться, говорил, что и без вина в хорошей компании бываю как пьяный, но все были настойчивы, а некоторые с обидой отставили в сторону свои рюмки. Тогда я вынужден был перейти к серьезным объяснениям, стал ссылаться на то, что в любой момент может последовать звонок из больницы, и я всегда должен быть трезв. Кое-кто отстал от меня, а самые упорные продолжали свое: рюмка-другая не помешает, и в больнице авось сегодня пройдет все благополучно. И – как по заказу! – раздался телефонный звонок. Дежурная сестра просила прибыть как можно быстрее: привезли раненного в живот, он в тяжелом состоянии.
Тут же, распорядившись по телефону, чтобы вызвали операционную сестру, я стал спешно одеваться. Внезапная мысль озарила меня: пусть со мной пойдут те, кто уговаривал меня сейчас пить, пусть посмотрят, что там, в больнице, происходит! Может, это убедит их сильнее, чем все мои слова. Трое согласились пойти со мной.
…Я готовился к операции, а друзья, надев халаты, маски и шапки, чинно и тихо встали у стены. На операционном столе лежал молодой человек, осунувшийся, бледный, – на обнаженном животе темнела большая рваная рана с запекшейся по краям кровью.
Вскрыл брюшную полость, обнаружил ранение печени, желудка и в нескольких местах – тонкого кишечника. Было много крови, она затрудняла работу… Приступив к ушиванию печени, вспомнил о своих друзьях, взглянул на них и попросил санитарку немедленно дать им понюхать нашатырного спирта! Лица друзей не отличались от халатов и белых стен, а один на подгибающихся ногах опускался на пол. Санитарка вывела их из операционной на свежий ветерок, и, придя в себя, они пошли догуливать, а я еще часа три находился возле раненого: его жизнь всецело зависела от тщательности произведенной мною операции и от своевременности и полноты противошоковых мер.
С этого дня друзья не только не понуждали меня пить, а наоборот – взяли под защиту: всем другим доказывали, что хирург должен всегда находиться в «трезвом карауле».
Вспоминая сейчас те четыре года жизни в родном Киренске, могу сказать себе: для меня это было время накопления сил. Сын этой земли, я, вернувшись сюда, должен был многое как бы заново переосмыслить, многое для себя решить. По существу, впервые я так отчетливо понял, что есть просто работа, будничная, с похожими один на другой днями, и что эта же работа, если ты любишь ее и стремишься к большему, может быть пронизана ощущением твоей полезности народу, сознанием того, что можешь и обязан стать одним из тех, кто своими делами облегчит сотни и сотни человеческих судеб, поможет там, где до этого никто не мог оказать помощь.
Глава VIII
Хирург никогда не знает, какую задачу перед ним в любую минуту поставит жизнь. А если он к тому же один на большую округу, то вынужден оказывать неотложную помощь не только по своей прямой, но и по смежным специальностям. И для меня в этом отношении великим подспорьем были практические занятия, полученные когда-то на курсах по военно-полевой хирургии. Я скрупулезно изучал там дисциплины, в которых был менее подготовлен, но которые могли понадобиться, В частности, с увлечением практиковался в клинике нейрохирургии. Ведь открытые и закрытые повреждения черепа и головного мозга бывают не только в военное время, значит, я и с ними столкнусь…
Накануне Нового года в больнице было удивительно спокойно. Больные, которые чуть поправились, попросили их выписать, чтобы Новый год встретить в семейной обстановке. Те, кому предстояла плановая операция, решили поступить после праздника. Тяжелых больных не было.
Я сделал вечерний обход и с удовольствием подумал, что сегодня можно отдохнуть и повеселиться до утра.
Собралось много народу. По нашему сибирскому обычаю, гости пришли пораньше. Мужчины и женщины, вымыв руки, взялись за изготовление пельменей. Перемололи мясо, заправили нужным количеством перца, лука, соли и смешали с чистым снегом, чтобы пельмени были сочными. Женщины под маминым руководством готовили тесто. Это не простое дело. Надо замесить муку на определенном количестве яиц и воды и очень долго уминать тесто, от чего зависит тонкость и крепость сочня. Когда все было заготовлено, двое стали раскатывать сочни, а мы уселись стряпать пельмени. Я с детства любил их делать. Они получались у меня аппетитными, и лепил я их быстро.
И тут наступило самое интересное. Мы начали петь песни, как принято на посиделках. Люблю я наши русские песни, и всегда они меня волнуют. И не только слушать, но и петь люблю, хотя большим голосом не обладаю. Хорошо и задушевно пела мама; от нее, наверное, и у меня любовь к песне.
Так с песней, с веселыми рассказами, с шутками да прибаутками быстро справились с работой, не позабыв в некоторые сочни вместо мяса подложить уголек или хорошую кучку перца «на удачника».
К полуночи все пельменное хозяйство было убрано, столы накрыты. На плите кипел пахучий наварной бульон. В хорошем настроении поднимаем новогодние бокалы; я хоть и поднимаю бокал, но, как всегда «на всякий случай», не пью. Отодвинули столы, начались танцы.
В самый разгар веселья, в третьем часу ночи, раздался телефонный звонок. Тихо спрашиваю: «В чем дело?» Говорят: «В больницу привезли мальчика и девочку, у обоих разбиты головы. Дети без сознания». Даю команду: «Вызывайте старшую операционную сестру, разворачивайте операционную». Маме поручаю развлекать гостей, Веру прошу прийти через полчаса, когда все будет готово к операции. Не попрощавшись с гостями, чтобы их «не спугнуть», незаметно вышел в морозную ночь.
Мороз 40° – захватывает дух, а разгоряченному лицу приятно. В голове тревожные мысли: застану ли в живых детей и удастся ли их спасти? Ни тени сожаления, что оставил приятную компанию. Сколько раз в моей жизни прерывал я что-то приятное и бежал вот так же по вызову из больницы и никогда не жалел.
Глава IX
Плывет пароход, и все дальше, дальше убегают знакомые ленские берега. Притягательна сила живой, волнующей воды. Бурлящие волны, расходясь, стремительно откатываются назад, за ними не уследишь, и тут же идут новые, каждая из которых подобна предыдущей и в то же время неповторима… Движущаяся вода – как пылающий огонь: трудно бывает оторвать взгляд от бушующей стихии. В огне, в переливающейся воде что-то вечное, дающее отдых напряженному сердцу, заставляющее тебя забыть все мелкое, наносное.
Я прощаюсь с Сибирью.
Уходит от меня тайга, молчаливая, затаившаяся, холодком веет от ее дремучих, скрытых от любопытного взора лощин, которых так много в непроходимой чаще. И вдруг тайга, отступив от берега, широко расстилает просторный луг, весь в красных, белых и желтых цветах. Кажется, что на этот луг опускается отдыхать солнце – так оно золотисто и горячо искрится! И тут же фиолетовые блики ложатся на пароход. Подул внезапный ветер: оказывается, входим в скалистое ущелье. Высокие береговые камни поросли мхом, о них бьется прозрачная вода. А днем здесь, как вечером, сумеречно, прохладно. Выходим опять на простор. Машут нам руками деревенские мальчишки, близок душе вид обжитого человеком места, приятно смотреть на легкий курчавый дымок, струящийся из печных труб…
Долго это не уйдет из памяти, будет возрождаться в снах. И когда в газетах случайно наткнусь на знакомые сибирские названия, упомянут там какой-нибудь городок или нашу Лену – светло и с щемящей грустью отзовется это во мне.
…Когда после продолжительного путешествия прибыли в Москву, тут же пошли с Верой Михайловной разыскивать Водздравотдел – Управление Наркомздрава, которому подчинялись. Трое малышей находились при нас. Где их оставишь в незнакомом городе? Старшей дочери было девять лет, а младшей – всего два. Пришлось Вере Михайловне устроиться с ними на скамейке в скверике, а я вошел в здание, поднялся по лестнице на нужный этаж, разыскал необходимый кабинет.
Входил я в этот кабинет с чувством исполненного долга и, естественно, с надеждой, что буду тут понят. Ведь в свое время на работу в Сибирь мы с женой поехали добровольно, тогда как большинство отправлялись туда по мобилизации. Проработали на Крайнем Севере в два раза дольше, чем обязывал нас договор, и, наконец, у обоих имелись самые прекрасные характеристики, где, в частности, говорилось, что больница под моим руководством стала лучшей в крае… Значит, полагал я, не должно быть никаких препятствий для направления нас на учебу: ведь когда посылали в Сибирь, было обещано, даже закреплено в договоре, что по окончании срока каждому предоставят место в аспирантуре, на кафедру по его выбору… А мы по всем статьям это заслужили!
Однако по-другому думал начальник отдела т. Коган, с которым мне пришлось разговаривать. Выхоленный, надушенный, как женщина, он небрежно посмотрел на справки о проведенной в Киренске работе и, не стараясь скрыть зевоту, раздиравшую его скулы, спросил:
– Так чего же вы хотите?
Я объяснил, что согласно установленному порядку прошу дать путевки в аспирантуру: мне – в клинику Н. Н. Петрова Института усовершенствования врачей в Ленинграде, Вере Михайловне – в акушерско-гинекологическую клинику того же института.
Начальник постукивал короткими, поросшими черными волосами пальцами по столу и молчал. Потом, опять зевнув, сказал:
– Вы имеете желание, мы не имеем желания… А думаю я предложить вам, товарищ Углов, хорошенькое дельце. Назначим-ка вас на должность завводздравотделом в… – он сделал паузу, – …в Печоре!
Я не мог поначалу слова выговорить: я ему про необходимость учиться, он мне сквозь зевоту – о продолжении работы на Крайнем Севере, в еще большей глуши, да не хирургом, а администратором! Глупый он человек, не знающий жизни, или, наоборот, меня за дурачка принимает? Я пристально взглянул на него, увидел в его выпуклых глазах затаенную насмешку. Сдерживая себя, насколько мог спокойно, сказал:
– Мы с женой должны стать аспирантами, у нас для этого и так уже критический возраст. Напишите направления, как было обещано.
– Вы так, товарищ Углов, не разговаривайте, не советую. Сказано в Печору – поедете в Печору. А потом посмотрим насчет вашей аспирантуры. В аспирантуру идти не один вы имеете желание, находятся и другие, между прочим…
– Что ж, – сказал я, – если вы представите мне конкурента, который больше меня проработал на Крайнем Севере, заслужил право, я уступлю ему свою путевку. Есть такой человек?
– Я вас через ЦК заставлю поехать в Печору!
– А я, пожалуй, прямо отсюда сам пойду в ЦК. Там объективные люди, рассудят, нужно ли мне учиться или нет, и кто из нас прав – тоже рассудят.
– Какой у вас горячий темперамент, – натянуто засмеялся начальник. – Никуда не ходите, нам не нужно этого. Но до завтра хорошенечко обдумайте мое предложение.
Я вышел из кабинета в таком возмущении, что не заметил в дверях девушку, которая вносила сюда на подносике стакан чая и тарелочку с пирожками, нечаянно толкнул ее, и чай плеснулся на пол.
– Извините, – пробормотал я.
– Сибирский медведь, – раздраженно бросила она.
Это почему-то сразу развеселило меня. Я подумал: ну нет, будет как задумано!
И действительно, на следующее утро начальник отдела, не сказав ни единого слова и не посмотрев даже на меня, подписал нам направления в Ленинград.
На вокзал помчались в самом радужном настроении.
С трепетным чувством входил я в здание клиники Н. Н. Петрова. Может, покажется сентиментальным, но я уже любил своего учителя, еще не ведая, какой он человек. Мне было достаточно знать, что он мастер своего дела, великолепный хирург, многое давший людям и науке. А Николай Николаевич, разумеется, в то время не имел представления о новом аспиранте – провинциальном враче Углове.
Я сразу понял, что здесь, в клинике, все подчинено научной работе. Сам Петров не уставал повторять: для науки одинаково ценны как положительные, так и отрицательные данные. Лишь бы они были объективны, добыты честным путем, без натяжек и подтасовки фактов. И все в клинике – от руководителя до больничного ординатора – занимались разработкой научных вопросов. Хотел бы я этого или не хотел, но сама такая благоприятная атмосфера понуждала к занятию наукой, и в первые же недели в глубине души зародилось сомнение: а вдруг профессор Самарин ошибся?! Ведь тут, у Н. Н. Петрова, более молодые, чем я, и менее опытные как хирурги, ассистенты и ординаторы трудятся над кандидатскими диссертациями, успешно защищают их…
Быстро укреплялась во мне вера в себя, в свои способности к научной работе, и, право, чуть ли не наивными казались былые опасения, по-новому представлялся немалый практический опыт, накопленный в Киренске: сколько всего видел, сколько всего освоил! В клинике мне, как аспиранту, разрешалось оперировать при грыже или аппендиците. Я, имевший уже навыки в большой хирургии, в таких случаях охотно уступал свою очередь моим новым товарищам, тоже аспирантам, которые только и мечтали, как бы лишний разок постоять у операционного стола. Они верили и не верили, что я уже самостоятельно проводил десятки сложнейших операций, и боялся, что пока не продемонстрировал свои способности, считали, что привираю… А продемонстрировать их довелось лишь через полгода. Прослышав, что Углов отлынивает от легких операций, Николай Николаевич порекомендовал дать мне возможность показать умение на желудочной операции. Когда больной с неподвижной опухолью желудка, которого я вел как ординатор, был доставлен в операционную, заместитель Петрова профессор А. А. Немилов внезапно предложил мне стать на место хирурга, а сам приготовился ассистировать.
Ни неуверенности, ни растерянности я не ощущал, было лишь легкое волнение, как всегда при экзамене.
Когда вскрыл брюшную полость, стало ясно: большая опухоль тела желудка проросла в нижний край печени, что и делало желудок неподвижным. Я сказал профессору, что тут можно резецировать желудок вместе с краем печени. Александр Александрович согласно кивнул головой. При этом он думал, как рассказывал позже, что я, увидев сложность предстоящей операции, освобожу ему место, попрошу, чтобы он сам делал ее. Однако я без колебаний приступил к операции, успешно справился с ней, ни разу не обратившись к профессору за советом или специальной помощью.
Это было, конечно, не от чрезмерной самонадеянности, а от привычки, усвоенной на самостоятельной работе, где возле меня не имелось консультантов, советчиков, все приходилось решать самому. Я не брался за операцию, пока не продумал каждую ее деталь от начала до конца, не разработал тактику ассистента, которого затем подробно инструктировал, когда, что и как делать… Привыкнув брать всю ответственность на себя, я, естественно, научился обходиться без подсказки со стороны. Это сразу понял и одобрил Александр Александрович Немилов.
Тут я должен сказать о самом Александре Александровиче. Смелый хирург, отличный диагност, он ведал в клинике, по существу, всеми практическими вопросами, касающимися лечения больных, подготовки молодых аспирантов и ординаторов. Мы ценили его за справедливость: у него не было любимчиков и нелюбимчиков. Он с радостью отмечал наши успехи и вежливо, но твердо указывал на недостатки. Совершенно седой, хотя ему тогда едва перевалило за пятьдесят, с молодыми острыми глазами, он создавал вокруг себя обстановку жизнерадостности. Даже не очень-то прилежные при виде его невольно подтягивались, любое дело при нем шло споро и уверенно. С глубоким уважением относясь к Николаю Николаевичу, он всячески поддерживал его авторитет, и в то же время в нем не замечалось ни тени заискивания. Отношения Немилова и Петрова были теплыми, дружескими и одновременно чрезвычайно корректными, с соблюдением субординации…
В войну, в самое трудное время блокады, Александр Александрович ни на день не покинул клиники, да еще консультировал в больнице имени Софьи Перовской, в которой долго работал до прихода в клинику. В период всеобщего блокадного голода у него обострились приступы стенокардии, но, скромный и отважный по натуре, он в грозный час меньше всего думал о себе, о необходимости поберечься. Скончался внезапно, на работе, во время сердечного приступа. Его смерть мы все очень переживали… Об этом чудесном человеке у меня остались самые прекрасные воспоминания.
Тогда же, после первой моей операции в клинике, к концу которой, кстати, в операционную пришел Николай Николаевич и тоже наблюдал за моей работой, профессор Немилов заметил:
– На вас приятно было смотреть. Хорошие руки!
А Николай Николаевич, как позже узнал я от старшей операционной сестры Людмилы Николаевны Курчавовой, сказал ей:
– Как ты считаешь, Федя-то неплохой хирург? Дай-то Бог, дай-то Бог…
Вскоре после этого Николай Николаевич пригласил меня к себе в кабинет, стал подробно расспрашивать о работе в Сибири. А выслушав, предложил написать научную статью о деятельности врача на периферии.
– Не знал, не знал, что вы у нас, папенька, гигант, – пошутил он. – Такой опыт грешно за пазухой носить. Пусть читают, на ус мотают…
Предложение учителя обрадовало меня. Ведь и сам, разговаривая с аспирантами, а также с врачами-курсантами, приезжающими к нам из различных хирургических учреждений страны, я все больше убеждался: объем работы, проведенный мною в Киренске, необычен. И если рассказать о нем в печати, раскрыв условия жизни и те трудности, что встретит молодой врач, едущий на периферию, статья будет поучительной для многих. А все документы о проделанных мною операциях, весь фактический материал у меня с собой.
К тому времени, изрядно помучившись с жильем (не очень-то охотно пускали на квартиру с маленькими детьми), мы наконец получили комнату на Охте, в одном из бараков, построенных наспех для сезонных рабочих. Это было шаткое, сырое, полутемное сооружение. Но когда ничего другого не предвиделось, и такой дом почитался нами за счастье. Кстати, я прожил в нем до блокады, когда его разобрали на дрова.
…Дети, угомонившись, заснули, а я сел за статью. Через стенку было слышно, как шипел примус, кто-то громко играл на гармони, под окнами бранились подвыпившие соседи, а я увлеченно писал, заставив себя отключиться от всего другого. Наверно, с тех дней научился работать при любом шуме, приходилось порой писать выступления для научных конференций и статьи для журналов на каком-нибудь скучном, но обязательном собрании, под многоголосый говор, и сейчас уже настолько натренирован, что могу даже работать под грохот современного джаза… Эта привычка не обращать внимания на звуковые раздражители спасла мне в дальнейшем много дорогого времени.
Та статья – я ей посвятил несколько вечеров и ночей – получилась большой и, как мне думалось, очень убедительной. Подробно рассказав в ней об условиях, в которых довелось работать, об организационных мероприятиях, которые необходимо было осуществить до начала непосредственно хирургической деятельности, я наконец детально изложил вопрос желудочной хирургии… Николай Николаевич быстро прочел ее, вычеркнул все лишнее, сократив этим самым количество страниц чуть ли не вдвое, и сказал: «Хвалю, папенька!» – и порекомендовал послать статью в «Вестник хирургии им. Н. И. Грекова».
Вскоре меня пригласил к себе редактор этого журнала профессор Юстин Юлианович Джанелидзе.
– Мы послали вашу статью на рецензию профессору Заблудовскому. Он сомневается, чтобы в глуши, в Сибири, в районной больнице, смертность от резекции желудка была вдвое ниже, чем средняя по Ленинграду.
И добавил с легкой улыбкой:
– Профессор Заблудовский уверяет, что это выдумки барона Мюнхгаузена.
– Еще бы! – вскипел я. – Если б такую статью прислал вам профессорский сынок, сомнений не было б! А то какой-то Углов!
У Юстина Юлиановича от гнева лицо побагровело, и я уже был не рад, что сорвался.
– Вот что, молодой человек, – сказал он сердито, – за такие слова я должен был бы попросить вас из кабинета и в печатании статьи отказать… да-да! Но я хочу вам все же дать возможность доказать справедливость ваших данных. Пошлите свою статью по прежнему месту работы. Пусть там подтвердят или опровергнут ваши данные…
Несколько месяцев ходила моя статья в Киренск и обратно и на страницах журнала появилась лишь в 1938 году. Я смотрел на строгие печатные строчки, на свою фамилию, забранную полужирным шрифтом, и было тревожно-радостное ощущение, что сделан первый шажок в большой работе. Даже пожалел на миг, что «Вестник хирургии им. Н. И. Грекова» не продают в газетных киосках: сколько людей лишены удовольствия собственными глазами увидеть «великолепную» статью Федора Углова! Несправедливо!
И был уже окончательно убежден: даже кандидатскую диссертацию сумею написать не хуже других. Но Николай Николаевич почему-то не спешил дать мне тему для диссертационной работы, а когда я робко заикнулся об этом и раз, и другой, он не прореагировал. Опять пал я духом, замкнулся, решив, что учитель считает меня еще слишком зеленым. И вдруг однажды, когда я на обходе докладывал ему о больной с тератомой [тератома – врожденная опухоль сложного анатомического строения] крестцово-копчиковой области, он сказал:
– Вот она, папенька, тема. Опишите данный случай. Разовьете – будет диссертация.
Мне было достаточно этих, сказанных походя, слов учителя. Собственной энергии не занимать! В основу работы положил статью самого Николая Николаевича, который еще в 1899 году писал о тератоме крестцово-копчиковой области, но многие вопросы эмбриогенеза оставались невыясненными, и во всей отечественной литературе я не мог разыскать ответа на них. Николай Николаевич дал мне записку к профессору Хлопину. Тот долго беседовал со мной, я даже устал его слушать, но кроме уже известного мне ничего не вынес из этого посещения. Как в стену уперся!
Стал читать статьи в немецких медицинских журналах, и однажды попалась одна, как раз по моей проблеме, но я никак не мог ее перевести! День бился, другой – ни в какую. Не помогла и учительница немецкого языка. А я, можно сказать, интуитивно чувствовал, что в этой статье как раз необходимая мне разгадка… Кто-то подсказал, что на Фонтанке живет немец-лингвист, в совершенстве владеющий родной речью. Поехал к нему, нашел нужную квартиру. Немец в драном халате и ночном колпаке на седой голове варил на кухне кофе. Пробежав глазами статью, он поднял кверху желтый от курения палец и со значением в голосе сказал:
– Это отшень трудный текст. Чтобы я прочиталь, нужен бутылка русский шнапс!
Намек, как говорится, я понял – куда как прозрачный! И когда через три дня снова наведался к своему переводчику, он торжественно в обмен на бутылку протянул мне аккуратно переписанный перевод статьи: с грамматическими ошибками и стилистическими несуразицами, но в целом приемлемый. Прочитав, я возликовал: это действительно то, чего мне так недоставало. Теперь можно составить полное представление о сущности врожденной патологии – тератомы…
Отдавая много времени изучению медицинских источников., справочного материала, я стремился строить работу так, чтобы как можно активнее участвовать в жизни клиники и – лишь бы представлялась такая возможность – экспериментировать. С ассистентом А. Д. Картавовой вели опыты по клиническому и экспериментальному изучению внутривенного наркоза, испытывали и проверяли действие импортного и отечественного препаратов. Тут же, в экспериментальной лаборатории, я заинтересовался отравляющими веществами, действующими прижигающе и в то же время отравляюще на организм. Думал, что если при поражении конечности наложить жгут, то это, возможно, замедлит всасывание и человек не умрет… На кафедре токсикологии эта гипотеза показалась интересной, и в мое распоряжение предоставили токсический препарат. Вечера я проводил в лаборатории, а перед уходом домой успевал еще посидеть в читальном зале библиотеки, откуда, как правило, перед закрытием изгонялся уборщицей. «Сидит, сидит, – ворчала она, – а чего высидишь-то? Один вот так же сидел, теперь его поводырь водит. Иль глаз не жалко?»
Опубликованная в «Вестнике хирургии им. Н. И. Грекова» статья заставляла меня снова и снова возвращаться мыслями к своему злополучному докладу на Оппелевском кружке. Ведь тогда лишь один профессор Самарин отнесся беспощадно к нему, а другие – они напротив… Было искушение порыться в старых бумагах, отыскать те давние листки, перечитать их. Я так и сделал. И показалось, что написано убедительно, ничего лишнего нет, не нужно даже править. Отдал машинистке перепечатать, а потом понес на суд Николаю Николаевичу. Он возвратил мне материал уже на следующий день со словами:
– Я написал свое решение, рекомендую в печать. Посылайте в хирургический журнал.
Я будто внезапное помилование получил, вроде бы сняли с меня многолетний гнет, под которым ходил… Слово ранит и слово лечит!
Вскоре эта работа была напечатана в журнале, не устарела она нисколько, хотя писал ее шесть лет назад.
В клинике Н. Н. Петрова я с ненасытностью наголодавшегося интересовался всем. За четыре года работы, когда был оторван от большой медицины, накопилась уйма вопросов… И как мне повезло, что теперь я возле мудрого человека, который является учителем в самом глубоком и светлом значении этого слова! Я упорно следовал за ним, чуть ли не по пятам всюду ходил, боясь что-то пропустить, чего-то не услышать. И он однажды шутливо сказал мне: «Отчего это ты, папенька, бродишь за мной, словно тень отца Гамлета?» Я лишь растерянно пожал плечами: как объяснишь жадное стремление знать, знать и знать!..
За время учебы в аспирантуре не пропустил ни одной лекции Николая Николаевича, всегда присутствовал на обходах больных, которые он проводил.
Как он умел быть со всеми вежливым, внимательным, заботливым! Нет, не то слово «умел»… Это составляло сущность его характера. Я никогда не видел его в раздраженном состоянии. Он был удивительно терпелив, даже когда больной «капризничал». Если кто-нибудь упрямо отказывался от операции, а она была необходима, Николай Николаевич не жалел ни времени, ни слов, чтобы убедить такого маловера, и тот в конце концов соглашался с профессором. На вопрос больного: «Что мне сделали?» – ни себе, ни помощникам не позволял ответить так, как нередко можно услышать от невежественных, грубых врачей: «Сделали то, что нужно!» Николай Николаевич обязательно разъяснял человеку особенность его болезни, значение тех мероприятий, которые уже осуществлены или готовятся. Он внушал нам: «Добивайтесь того, чтобы больной верил и охотно помогал вам. Болезнь – общий враг, бороться против нее должны совместно, плечом к плечу, и врач, и больной. Если же они станут действовать врозь или – что вообще худо – будут противодействовать друг другу, то им болезни не победить».
Ясно, что такое доверие к больному, правдивость по отношению к нему, в ответ вызвала беззаветную любовь сотен излеченных людей: имя выдающегося русского врача Николая Николаевича Петрова с уважением произносилось в разных концах нашей необъятной страны.
А правдивость Николая Николаевича была поистине удивительной. В ней было что-то от благородного донкихотства и самой чистой веры во всесильность человеческой справедливости. Расскажу лишь об одном факте…
Однажды Николай Николаевич сделал операцию по поводу туберкулеза почки и удалил ее. Операция была тяжелая, больную после долго приводили в себя. А у самого профессора возникло неясное ощущение допущенного промаха: не оставил ли в операционном поле салфетку? Когда больная обрела ясное сознание, он пришел к ней и сказал:
– Вы знаете, мамаша, у меня такое впечатление, что у вас в ране мы забыли салфеточку. Забыли и зашили. А это нехорошо, даже очень плохо. Как вы смотрите, если снова дадим вам наркоз, раскроем рану и поищем эту салфеточку?
– Что ж, – ответила больная, – раз считаете нужным, я согласна.
Так и сделали. После наркоза распустили швы, раскрыли рану, но никакой салфетки не обнаружили!
Через несколько лет эту женщину привезли в клинику на машине «скорой помощи» с опухолью желудка, вызвавшей непроходимость. Николай Николаевич, как услышал об этом, сразу же воскликнул:
– Это моя салфетка!
Когда больной произвели резекцию желудка по поводу опухоли выходного отдела, вскрыли препарат, там и вправду была она, замурованная салфетка! Проникнув в забрюшинное пространство и в просвет желудка, она явилась причиной непроходимости.
Николай Николаевич сокрушенно руками развел, а потом задумчиво сказал:
– Разумеется, эта салфетка не могла исчезнуть. Только зачем она пряталась так долго?
А когда женщину выписывали из клиники, она, улыбаясь, спросила у Петрова:
– Может, Николай Николаевич, история со мной будет чем-то полезна науке?
– Разумеется, – согласился профессор. – Это наука. Мне!
Они расстались друзьями, у больной хватило воспитанности понять, что от оплошности никто не застрахован, а откровенность хирурга только укрепила и так высокое уважение ее к нему. Ведь в любой жизненной ситуации откровенность всегда требует ответной откровенности, и на этой основе вырабатывается доверие одного к другому…
И конечно, там, в клинике, с первых же дней впитывая все хорошее, я стремился освоить главное – методику операций, которые проводил сам Николай Николаевич и его ученики.
После памятных мне «шумных» операций В. А. Оппеля я прежде всего был очарован той тишиной, тем спокойствием, что царили в операционной у Николая Николаевича. Даже в самые ответственные моменты операции его голос бывал ровным, мягким, доброжелательным по отношению к помощникам. Можно лишь было услышать:
– Папенька, вытри тут хорошенько… молодец! Папенька, не тяни – порвешь… Не отвлекайся, папенька…
Я уже писал, что спокойная обстановка при операции куда эффективнее той, когда хирург бывает несдержанным, заставляет нервничать ассистентов.
Никогда не забывал я слов Николая Николаевича:
«За все, что происходит в операционной, отвечает хирург. Если чего-то нет, он виноват, что перед операцией не проверил. Если ассистент не знает хода операции, плохо ассистирует, тоже он, хирург, виноват: вовремя не научил… И так во всем!»
При операциях, которые проводил Николай Николаевич, поражали исключительная красота движений рук хирурга, четкость в работе, самое бережное, прямо-таки ласковое обращение его с тканями. Он брал в пальцы каждый орган, каждую петлю кишки так, будто они из самого тончайшего хрусталя. Никакого разминания, расковыривания тканей. Закончит, бывало, двухчасовую операцию, на органах никаких следов от его пальцев нет: все ткани нормального цвета, без кровоподтеков и измятин, как будто брюшная полость только что вскрыта… Он совершенно не переносил страданий людей, и его сердце, как самый чуткий барометр, моментально реагировало на чужую беду. Не мог терпеть, когда больной на операционном столе кричал. Немедленно отправлял кого-либо из нас узнать: «Кто это там оперирует по методу Малюты Скуратова? Попросите его прекратить безобразие!»
И когда Николай Николаевич оперировал, я, затаив дыхание, старался ничего из его действий не пропустить, запомнить каждую деталь. Большинство операций, наблюдаемых мною в тот период, я уже самостоятельно проделал в том же Киренске, учась, как известно, по книгам, в том числе и по написанным профессором Н. П. Петровым. И мысленно сравнивая технику и методику Николая Николаевича со своей, я давал себе жестокую оценку. Тогда еще подмастерью было далеко до мастера! Вот здесь, оказывается, нужно было делать так, а в этом месте тоже необходим был совсем другой подход… И какая точность рук при быстрых манипуляциях!
Когда же в редких случаях мне вдруг казалось, что какой-то момент техники у меня лучше отработан, я не стеснялся показать его Николаю Николаевичу, спросить его мнение, зная, что он никогда не покривит душой, оценит объективно. И если у меня что-то на самом деле было лучше, так и скажет. Вслух, при всех.
Чтобы не пропустить ни одной операции учителя, я взял за правило являться в клинику раньше всех. Проведя обход больных, сделав перевязки, записав данные в истории болезней, я к началу операции бывал уже свободен… Это во многом способствовало тому, что за два с половиной года узнал все основные установки и правила клиники Н. Н. Петрова не хуже, чем любой его ассистент, проработавший тут добрый десяток лет.
Вот почему, когда в конце аспирантуры меня мобилизовали в армию и пришлось стать полевым хирургом, я с гордостью говорил своим боевым товарищам-военврачам, что являюсь учеником Петрова и представляю его школу. А это значило – уметь оперировать по Петрову и жить по Петрову.
Для врача-хирурга, понимал я, это был самый правильный путь.
Потому-то когда еще в первый год моего пребывания в клинике профессор А. М. Заблудовский сделал мне заманчивое и в чем-то даже почетное предложение пойти к нему ассистентом, я ответил, что остаюсь простым аспирантом у Н. Н. Петрова.
Кому не известны они, суровые житейские заботы, когда в семье у тебя маленькие дети и при скудных деньгах любая, самая необходимая покупка оборачивается проблемой! Аспирантские стипендии не позволяли даже концы с концами сводить. Заботы наплывали одна за другой.
«Уже осень, дожди холодные, а у дочек ботиночек нет…» – думал я.
«У тебя такой пиджак – ходить в нем совестно…» – говорила жена.
А спустя несколько дней напоминала: «Три рубля всего… Как их растянуть до получки?»
И я при напряженных занятиях в клинике, трудясь в поте лица над диссертацией, вынужден был искать себе оплачиваемую работу на стороне, по совместительству. Это съедало уйму драгоценного времени, но другого выхода у меня не было.
Однако несмотря ни на что, кандидатскую диссертацию положил учителю на стол ранней весной 1938 года, через полтора года после того, как начал учиться в аспирантуре. Но у Николая Николаевича в то время оказались неотложные дела, и лишь осенью он одобрил мою работу, а позже, выступая на защите, дал ей самую высокую оценку, тепло отозвался о ее авторе. Ученый совет единогласно присудил сибиряку Федору Углову ученую степень кандидата медицинских наук. Поистине – терпенье и труд все перетрут!
Тут же, в пору летних каникул, мне предложили на два месяца занять место главного врача с совмещением обязанностей хирурга в больнице рабочего поселка Нива-II, что поблизости от Кандалакши. Я согласился на это с великой охотой и вдруг узнал: на имя директора Института усовершенствования врачей пришло указание откомандировать врача Ф. Г. Углова в распоряжение отдела руководящих кадров Наркомата здравоохранения. Я понял, какая опасность грозит мне: посадят в административное кресло, оторвав от больных и хирургии.
И не оставив никому своего адреса, я срочно выехал в поселок Нива-II.
Как волновалось сердце, когда делал первый обход больницы! Словно незабываемые киренские дни вернулись ко мне! Снова знакомая обстановка, по которой тосковал, – с полной самостоятельностью во всем, с обостренным чувством ответственности… И если в Киренске мне приходилось лечить рабочих затонов и судоремонтных мастерских, то здесь, на Ниве-II, тоже были рабочие – со строительства электростанции. Первые же успешные операции на желудке, на щитовидной железе заставили людей поверить в меня, и немалую роль, конечно, играло мое кандидатство. Так уж бывает: не на профессиональное умение порой смотрим, а на титулы! И слава богу, когда второе подтверждается первым…
Диапазон операций был самый широкий, даже больший, чем в Киренске: в больнице не было акушера. В Киренске гинекологические операции выполнялись Верой Михайловной, а тут пришлось их делать самому. Опять книги! В них, как прежде, искал ответ на то, чего не знал.
Как-то ночью меня вызвали в родильное отделение. Туда поступила роженица в состоянии тяжелой эклампсии – с высоким артериальным давлением, рвотой, почти полной потерей зрения. Беременность – девять месяцев. Операцию нужно было делать немедленно.
Приказав сестре и моему помощнику, студенту четвертого курса, приехавшему на летнюю практику, готовить больную, я раскрыл учебник, чтобы познакомиться с методикой предстоящей операции. Там подробно описывалось несколько способов, но в заключение было сказано: на современном этапе лучшим из них при «кесаревом сечении» признан шеечный, то есть такой, когда для извлечения ребенка матку рассекают не в области дна, а шейки. Этот метод надежнее других спасает матку от разрывов при последующих беременностях.
Операцию осуществил без труда. Когда раскрыл матку, увидел торчащие ножки. Вынул ребенка, передал его сестре. Господи, еще одна пара розовеньких ножек! Извлек другого малыша и с опаской уже посмотрел снова: все ли?
В вестибюле нервно мерил пол широкими шагами высокий худой мужчина в форме младшего командира Красной Армии.
– Поздравляю с двумя чудесными сыновьями, – сказал я.
– Она… она как?
– Вне опасности. Завтра сами поговорите с ней.
– Двое, доктор?
– Мальчики.
– Ух ты! Вот это да… Какой замечательный ты человек, доктор, сразу мне двух!
– Я, пожалуй, тут ни при чем…
– А все же! – засмеялся мужчина. С него сходило недавнее напряжение, мягко светились глаза. – Как звать-величать тебя, доктор?
– Федор Григорьевич.
– Будет тогда в самый раз! Одного сына, доктор, называю Ваней, чтоб не переводились на нашей Руси Иваны, а другого в твою честь – Федором. Пусть растут Иван Иваныч и Федор Иваныч Смирновы! На радостях нам, на страх врагам!
Он с чувством пожал мне руку.
А через восемь дней крепенькие, звонкоголосые Иван Иванович и Федор Иванович вместе со своей счастливой матерью были выписаны из больницы. Запомнилось, что отец приехал за ними на бронированной военной машине с охапкой синих васильков в руках, и это тоже осталось в памяти – синеглазые малыши, синие полевые цветы, высокое синее небо… Какой сокрушительный ураган прошумит чуть позже над ленинградской землей, надо всей страной! Трудно гадать, уцелел ли в огненных битвах защитник Родины Иван Смирнов, но мне хочется верить, что его сыновья живы-здоровы, творят полезные дела, именно так, как загадывалось их отцом: «На радость нам, на страх врагам!»
…Не без сожаления покидал я эту больницу. Неизвестность тревожила. Сотрудники наркомата все же разыскали меня и на Ниве-II: я получил телеграфное распоряжение оставить работу на участке и срочно выехать в Москву. Затем последовала еще одна бумага – опять на имя директора Института усовершенствования врачей: немедленно откомандировать врача Углова, с тем чтобы он прибыл в отдел руководящих кадров Наркомата здравоохранения точно 10 октября 1939 года.
А 9 октября я был мобилизован в армию.
Николай Николаевич Петров, написавший в наркомат ходатайство, чтобы меня оставили при клинике ассистентом, лишь сожалея руками развел… А мне тем более было тяжело расставаться с клиникой и со своим наставником, в котором я видел идеальный пример настоящего ученого, передового врача, великолепного человека. В известном руководстве о правилах поведения хирурга, написанном Николаем Николаевичем, есть слова, хорошо отражающие, по-моему, сущность характера самого профессора Петрова. Вот они:
«В хирургии, как и в жизни, имеются два способа возвыситься над окружающими. Один способ заключается в непрерывном росте, в совершенствовании своих знаний, опыта, гуманного отношения к больным, в совершенствовании хирургической техники. Другой способ заключается в том, чтобы унижать и оскорблять других с тем, чтобы этим возвысить себя. Однако только первый способ украшает человека и возвышает его над окружающими».
Тут, думаю, комментарии не требуются.
И люди, что окружали Николая Николаевича, в большинстве своем отличались именно стремлением к профессиональному совершенствованию и высокой добропорядочности. Выше я рассказывал о профессоре Немилове. Много хороших слов можно сказать о профессоре Топровер и профессоре Ковтуновиче. Первый успешно разрабатывал методику лечения рубцовых сужений пищевода, предложил оригинальный способ желудочной фистулы. Второму принадлежат труды по вопросам кишечной непроходимости и онкологии… Большие надежды подавал заведующий отделением А. С. Федореев, защитивший в 1939 году докторскую диссертацию на тему о превращении язвы в рак. И конечно же, его гибель на фронте в конце финской кампании была ощутимой потерей для отечественной хирургии.
Среди тех, кто, как и я, был предан врачебным идеям Н. Н. Петрова, кто любил его, снова должен быть назван А. С. Чечулин. О нем уже не раз упоминалось на страницах этой книги как о первоклассном враче и славном человеке. Что-то гусарское подмечалось в его облике, если, разумеется, этот эпитет применителен к особенной во всех отношениях профессии хирурга. Он был упорным, смелым, точным и бесстрашным в хирургической работе, и в то же время не мог представить себя без шумных компаний с веселым застольем, на сумасшедшей скорости гонял на мотоцикле, в штормовую погоду выходил в залив на парусной лодке, превосходно танцевал, пел под гитару и, что прискорбно, уже тогда мог позволить себе выпить когда угодно – был бы повод!
Я с болью сейчас пишу про это, с болью и, не скрою, в назидание тем, кто небрежно относится к своему таланту, своим способностям. Ведь Чечулин, не обременяй он свой мозг винными парами, не окажись, в конце концов, в тягостном алкогольном плену, наверняка бы стал видным ученым в области хирургии. Все данные для этого у него были. Водка, к которой, по его признанию, он окончательно пристрастился в войну, помешала защитить диссертацию, помешала по праву занять место своего учителя, чтобы продолжить завещанную им работу. Табак, а курил Александр Сергеевич тоже без меры, привел в сравнительно молодом возрасте к раку легкого… Так погиб для науки, а затем физически ушел из жизни, одаренный, чистой души человек. За свою многолетнюю врачебную деятельность я видел столько разбитых судеб, столько несчастий, виной которых были водка и никотин, что, поверьте, готов без устали кричать: опомнитесь, остановитесь, пока не поздно! Вы же не хотите, чтобы курил и пил ваш сын, почему же сами не откажетесь от этого? Безволие? Но где же ваш разум, голос рассудка?
Врач, поднимающий стакан с водкой или закуривающий папиросу, достоин осуждения вдвойне. Раз позволяет себе такое врач, на которого другие привыкли смотреть как на авторитет в вопросах профилактики здоровья, обесцениваются все призывы и предупреждения о вреде алкоголя и курения. Пример всегда сильнее слова.
Глава X
Повестка – срочно прибыть в военкомат, «имея при себе кружку, ложку, смену белья» – даже обрадовала меня. Теперь на законном основании я мог не появляться в наркомате, а в армии, думалось мне, продержат не больше двух-трех месяцев, как и бывает всегда на сборах. Опять же, надев военную форму, я останусь хирургом…
В военкомате оформили проездные документы до Пскова, и на другой день я уже докладывал о себе начальнику санитарной службы 25-й кавалерийской дивизии. А утром разбудила военная труба: построение… Начались армейские будни.
Оказалось, что в дивизию призвали «с гражданки» много врачей, фельдшеров и других медицинских специалистов. Нам поручалось организовать ДПМ – дивизионный пункт медицинской помощи. Его начальником был назначен доктор Лоцман, заместителем по политчасти – Алексеев, начальниками хирургических отделений стали Кодзаев и я.
Заместитель командира дивизии по строевой части приказал выбить из врачей «весь цивильный дух, научить их уважать армию» – и началась изнурительная маршировка по плацу. Часами мы ходили строем, отрабатывая строевой шаг, повороты, ружейные приемы, умение по-уставному отвечать на команды… И хоть на наших петлицах были командирские знаки отличия – «кубари» и «шпалы», гонял нас строем сержант. Его скрипучий голос: «Тяни носо-о-ок!», «Н-на-а-пррраво!» – рвал, казалось, ушные перепонки. После такой муштры мы обессиленно падали на холодную землю, и было не до медицины, лишь бы отдышаться!
Не знаю, сколько б продолжалось такое, не обрати внимания на врачей начальник штаба дивизии Индык. Он тут же распорядился составить программу занятий так, чтобы в их основу была положена подготовка по специальности. Сержанта от нас словно ветром сдуло. Все – врачи, фельдшеры, технический персонал – принялись за изучение необходимых основ военно-полевой медицины. А поскольку вскоре стало ясно, что одних теоретических знаний мало, нужна практика, а в дивизии ее быть не может – тут крепкий, здоровый, в основном молодой народ, мы стали ездить в псковскую областную больницу. Там только обрадовались этому, особенно нам, хирургам. Мы стали делать такие операции, на которые до этого больные нередко направлялись в Ленинград.
Узнав, что я из клиники Н. Н. Петрова, хорошо известного всем врачам – и военным, и гражданским, ко мне прислушивались с повышенным интересом, постоянно спрашивали об установках Николая Николаевича по тому или иному вопросу, просили делать показательные операции по методике Петрова. Ведь кроме всего другого, Николай Николаевич был одним из тех, кто закладывал основы русской военно-полевой хирургии. Его монография о лечении раненных на войне появилась в свет еще в 1915 году, и в 1939 году вышло несколько изданий ее – переработанных, дополненных новыми данными. Будучи в этой области признанным авторитетом, он и в мирное время часто читал лекции о лечении свежих и инфицированных ран, а также по другим вопросам военной хирургии.
Мне было поручено разработать расписание занятий с врачами и фельдшерами в полевых условиях. Оно было тут же утверждено в штабе дивизии. Чтобы приблизить нашу работу к боевой обстановке, мы выезжали в поле, ставили там палатки, имитировали действия не только эвакуационной группы, но и хирургического отделения. Для проверки наших возможностей в операционной медсанбата взяли больного с аппендицитом из больницы, доставили его на военной санитарной машине в развернутый по всем правилам в лесочке ДПМ и оперировали в палатке… Все прошло организованно, по плану, без суеты, и самим было приятно: не зря едим казенный паек!
Наш медсанбат, хотя и находился при кавалерийской дивизии, коней не имел: люди и все санитарное оборудование располагались на машинах. Я, вспоминая резвую сибирскую лошадку Малышку, иногда просил кого-нибудь из сговорчивых строевых командиров дать мне боевого коня и далеко уезжал на нем. О чем только не думалось под звонкий перестук подков на пустынной настывшей дороге! Возвращался мыслями в клинику, видел себя среди помощников Николая Николаевича и уже твердо знал: даже если снова уеду на периферию, буду продолжать начатую научную работу. Без этого теперь не могу. Беспокоила нынешняя армейская неопределенность: нет, не на сборы меня призвали, и никто не мог ответить, когда демобилизуют и демобилизуют ли вообще…
Однажды ночью мы были подняты по тревоге, раздалась команда: «По машинам!» – и наш санбат двинулся в путь. Стояла глубокая зимняя ночь с яркой луной, с морозцем, с той удивительной тишиной, при которой шум моторов и людские голоса казались чуть ли не противоестественными. Покачивались в седлах конники, тонко звякали удила, поблескивало оружие. Из уст в уста передавалось шепотом одно слово: «Учения…» Ехали неизвестно куда, очень долго. На коротких остановках спрыгивали с машины, чтобы размять затемнив ноги, разогреться в движениях.
Ночь сменялась серым рассветом. Несколько раз над нами пронеслись эскадрильи самолетов. На повороте одной из дорог осматривали проходящую колонну командир дивизии и его заместители. Я узнал среди других начальника штаба Индыка в перетянутой ремнями бекеше, с тяжелым маузером и шашкой у бедра… У всех были озабоченные и встревоженные лица.
Наконец получен приказ остановиться и невдалеке от шоссе, в лесу, развернуть дивизионный пункт медицинской помощи. Только-только справились с самой большой палаткой – нашей операционной, по уже пробитой колее подкатил автофургон с красным крестом. Стали спешно снимать носилки с ранеными, ставить их прямо на снег.
Стоны, ругань сквозь стиснутые зубы, алая кровь, проступающая через повязки… И – наша минутная растерянность: «Учения?! А вон еще машина с тяжелыми ранеными…»
– Этого на операционный стол! Этого – следующим… Живее!
Забегали санитары… Облаченный в стерильный халат, я натягивал резиновые перчатки. В палатке было холодно. Где-то далеко с протяжным вздохом рвались снаряды, а с неба падал на землю нарастающий рокот авиационных двигателей… В морозном воздухе повисло грозное слово: война. Война с финнами.
Впереди, за несколько километров от нас, шло жестокое сражение, и некогда было размышлять о внезапной перемене событий, о том, чем все это закончится. Мы, хирурги, работали не разгибая спины. Такое огромное количество раненых в первый фронтовой день! Пришлось установить три операционных стола: два хирурга оперировали, на третьем терапевт или стоматолог делали анестезию. И вскоре поняли: со все возрастающим потоком раненых самим не справиться – надо налаживать эвакуацию…. Несколько дней слились в один, бесконечный и тяжелый. Как в калейдоскопе мелькали искаженные страданием и болью человеческие лица, слышались крики. Эвакуировали в глубокий тыл всех, кто мог выдержать транспортировку. Оставляли у себя лишь таких, кому без экстренного хирургического вмешательства грозила быстрая смерть. В основном это были раненные в грудь с открытым пневмотораксом.
Страшные рваные раны были у бойцов от финских разрывных пуль! Такие пули вырывают значительные участки тела, крошат кости, и если выстрел пришелся в грудь, ребра переломаны, через огромную зияющую рану проходит воздух, и когда он, особенно холодный, достигает плевральной полости, сразу же наступает тяжелый шок от раздражения плевры. Его так и назвали: плевропульмональный шок. Крайне тяжелое состояние раненого усугублялось постоянным засасыванием и выхождением воздуха через рану…
Чтобы справиться с таким шоком, мы после введения раненому морфия и переливания крови герметично закрывали рану. А сама операция, поскольку приходилось ее делать под местной анестезией, была очень болезненной. Между тем на нашем участке боевых действий из-за разрывных пуль 80–90 процентов раненых с проникающими ранениями грудной клетки имели открытый пневмоторакс.
Однажды к нам в медсанбат по пути в штаб корпуса заехал начштадив Индык. Он часто бывал у нас, и его помощь врачам – в обеспечении ДПМ дополнительным транспортом, в решении сложных хозяйственно-бытовых вопросов – всегда была скорой и ощутимой. И в дивизии, надо сказать, его любили за личную отвагу, веселый нрав, за заботу о рядовых кавалеристах. Сотни людей были в полках, и чуть ли не каждого Индык знал по имени или по фамилии, откуда родом, чем «знаменит». Это был умный командир, получивший закалку еще на фронтах Гражданской войны, и хотя сейчас он являлся начальником штаба дивизии, к нему очень подходило утвердившееся в революцию звание комиссар.
– Тяжело, Федор Григорьевич? – спросил он меня.
– Привыкаем, товарищ начштадив.
– К войне нельзя привыкнуть. Поэтому и нужна как можно скорее победа.
И помолчав, сказал:
– Вас хвалят, и я поздравляю и благодарю от имени командования…
– Служу трудовому народу!
Он пожал мне руку, вытащил из-за отворота бекеши и дал сложенную вчетверо газету, затем своей легкой пританцовывающей походкой старого конника пошел к автомобилю.
Я развернул свежий номер дивизионки и сразу же наткнулся на крупный заголовок со своей фамилией. Пожалуй, это был самый первый печатный отзыв о моей хирургической работе. Снежинки падали на газетный лист, и я с волнением смотрел на заметку, в которой рассказывалось обо мне.
Все-таки, оказывается, приятно, когда о твоей работе пишут чуть ли не высоким «штилем»! Правда, автор почему-то назвал нашу операционную «комнатой». А ею была продуваемая насквозь палатка, та самая, которую поставили в сугробах в первый день. Круглосуточно горели дрова в железной печке, была она раскалена до светящейся красноты, но холод по углам и особенно на полу все равно держался стойко. Когда часами стоишь у операционного стола, коченеют ноги. Позже я почувствую, что сильно застудил позвоночник – анкилозирующий спондилоартроз! – и боли в нем, то затихая, то вновь усиливаясь, уже никогда не прекратятся, и по сей день они мучают меня…
Но вернемся к тому дню…
С газетой, аккуратно упрятанной в карман гимнастерки, я поспешил в палатку, к операционному столу. Минул час, другой, и вдруг вбежал санитар и сказал, что привезли начальника штаба дивизии Индыка, то ли раненого, то ли убитого.
Когда мы внесли начальника штаба в операционную, он был без сознания. Пульс едва определялся. На груди, в области третьего ребра, недалеко от средней линии, виднелось небольшое входное отверстие от пули. Выходного же не обнаружили. Значит, пуля застряла где-то в груди. Но где именно? Можно было лишь гадать, рентгеновского аппарата мы не имели.
Когда снимали с Индыка нижнюю рубаху, я случайно наткнулся пальцами на плотный узел под кожей. Осмотрел его, показал коллегам, и сошлись во мнении: пуля. Теперь направление пулевого канала известно.
Расстроенный шофер рассказал, как все произошло… Начальник штаба Индык попал под прицельный выстрел «кукушки» – финского снайпера, замаскировавшегося в чаще, на верхушке дерева. Тот пропустил несколько грузовых машин с рядовыми-водителями в кабинах, а как только на шоссе выскочила штабная «эмка», он выстрелил… Надо заметить, что «кукушки», в основном финские военнослужащие из фанатичных националистов, получившие превосходную снайперскую подготовку, доставляли нашим бойцам много хлопот. Но вскоре у нас появились отличные мастера по борьбе с ними – бывшие охотники, умевшие поражать белку и любого мелкого зверя в глаз, дабы не портить ценной шкурки. Были они, как правило, моими земляками – из сибирских мест.
…Пока начальнику штаба Индыку налаживали переливание крови, мы готовились к операции, обмениваясь суждениями.
– Следует торопиться, – говорил Кодзаев. – Судя по ходу пули, имеется сквозное ранение сердца или крупных сосудов, выходящих из него. В таком случае каждая минута на счету…
– Но раненый почти без пульса! – возражал доктор Будный, всегда крайне осторожно подходивший к каждой операции. – Он вряд ли выдержит… Нужно готовить. Тут спешка может привести к непоправимому. Как, Федор Григорьевич?
– Поддерживаю Кодзаева, – сказал я. – Плохой пульс может быть не только в результате шока, но и от внутреннего кровотечения. Пока не остановим кровотечение, вряд ли добьемся нормального давления. И ведь не исключено, что имеет место тампонада сердца [тампонада сердца нередко возникает при его ранении. Это сдавливание сердца кровью, скопившейся в перикарде] – тоны очень глухие…
– Пожалуй, – согласился Будный.
– Будем проводить противошоковые мероприятия во время и после операции… Есть другие соображения?
– Приступаем!
Откинулся полог палатки, и мы увидели каракулевую папаху и петлицы, шитые золотом. Приехал командир дивизии. На его осунувшемся, всегда волевом лице читались боль и тревога за жизнь боевого друга. Выслушав наш рапорт, он взял меня под локоть:
– Прошу лично вас делать операцию. Помните, взоры всей дивизии сейчас прикованы к вам…
Я, разумеется, понимал всю ответственность возложенного на меня дела, расценивал это как проявление самого высокого доверия… А ведь опыта в операциях на сердце у меня не было. И в учебниках по военно-полевой хирургии о таких ранениях написано мало, вскользь, поскольку подобные раненые в предыдущие войны считались безнадежными: или, обреченные, погибали сами по себе, или же, если ранение, на счастье, оказывалось не смертельным, в редких случаях поправлялись без хирургического вмешательства.
…После тщательной анестезии я сделал разрез параллельно третьему ребру с иссечением краев раны. Чтобы проникнуть в грудную клетку, ребро пришлось резецировать, причем его хрящевую часть. В современной грудной хирургии такое не допускается: сейчас уже известно, что хрящи ребер не восстанавливаются. Этот дефект остается у человека навсегда. Но тогда я этого не знал, да и не было ни времени, ни возможности думать над тем, что станется с ребром. Жизнь начальника штаба висела на волоске, все наши мысли и чувства были направлены на ее спасение. Однако, полагаю, для того времени и в той ситуации я поступил правильно. Именно благодаря иссечению ребра мы шли строго по ходу раны, практически внеплеврально, и опасность открытого пневмоторакса, при которой раненый с его слабым пульсом и состоянием шока наверняка бы погиб, исключалась.
При ревизии раны выяснилось, что пуля лишь на самую малость прошла выше сердца – через пучок крупных сосудов, пристеночно ранив один из них. Он кровоточил. Это было в полном смысле слова «счастливое ранение». На миллиметр в ту или другую сторону… и верная смерть. Будь не обычная пуля, а разрывная – тоже бы смерть.
В ту пору вскрытие грудной клетки представляло собой целое событие в медицинской практике, заключало в себе множество неизвестных, каждое из которых – реальная угроза для жизни больного. Ни у меня, ни у моих тогдашних ассистентов Кодзаева и Будного не было никаких навыков во внутригрудных операциях. Кроме того, приходилось учитывать, что я, молодой врач, имевший скромное воинское звание, оперировал начальника штаба дивизии, а командир дивизии терпеливо сидел в соседнем отсеке палатки, ожидая исхода операции. Не удивительно, что я сильно волновался.
Особенно напряженным моментом был тот, когда мы, следуя по ходу пулевого канала, вдруг увидели, что он идет около аорты, а из нее сочится кровь. А если тут рану сосуда всего-навсего прикрывает какой-нибудь сгусток, что нередко случается? Тогда как только я прикоснусь к нему, он отойдет, из аорты вырвется сильная струя крови… Попробуй тогда ее останови! Ведь аорта – самый крупный и самый мощный сосуд человеческого организма. А рядом с ним – легочная артерия. Тоже тончайшие стенки: малейшая неосторожность, и уже почти непоправимая беда… Затаив дыхание, слыша, кажется, не только как напряженно бьется собственное сердце, но и как тревожно стучат сердца стоящих возле помощников, я наложил на стенку сосуда два матрасных шва и осторожно затянул их. Кровотечение сразу остановилось.
Когда операция окончилась, я ощутил во всем теле такую слабость, что вынужден был сразу же попросить табуретку и сесть и какое-то время никого не замечал, ничего не слышал. Мне принесли стакан крепкого чая… А потом вошел комдив, я встал, он что-то говорил мне, но все слова прошли мимо сознания…
Две недели мы выхаживали начальника штаба в полевых условиях, а потом эвакуировали его в тыл, уже зная, что теперь-то он будет жить…
Через год я встретил Индыка, и был он в полном здравии, по-прежнему служил в армии. Попросив его показать мне след от операции, я увидел, что незащищенный край легкого при кашле заметно «толкается», как бы выпячивается между ребрами. Однако Индык ни единым словом или даже намеком не дал мне понять, что он сомневается, так ли все сделал хирург. Человек большой внутренней культуры, он понимал, что врачи добились главного – спасли ему жизнь, выражать сомнения в их действиях по крайней мере бестактно… Он очень тепло, искренне благодарил меня.
Вполне понятно, что на войне, где человек ежесекундно ходит под угрозой внезапной гибели, хирургу доверяют не меньше, чем тому же командиру дивизии.
Фронтовые будни продолжались. Морозы достигали сорока градусов. Руки от постоянного мытья, холодного воздуха и резиновых перчаток огрубели, и пальцы плохо сгибались… Двое, трое суток работаешь без сна и отдыха, пока не почувствуешь: уже предел, не только можешь задремать во время операции, но, что самое опасное, ошибиться, из-за крайне ослабленного внимания сделать что-то не так, раненый погибнет из-за тебя. Тогда идешь в свою палатку, падаешь как подкошенный на койку, а через час-другой уже будят: новая партия раненых! Вскочишь, не соображая, что сейчас – день или ночь, и хотя спал, не раздеваясь, в полушубке, все равно зуб на зуб не попадает…
Очень много поступало раненных в живот. После разрывных пуль при небольшом входном отверстии в брюшной полости было месиво из обрывков петель кишок, кусочков печени, крови, кишечного содержимого. Несмотря на то что большинство этих ранений были именно пулевые, мы редко наблюдали, чтобы кишечник имел какое-нибудь одиночное повреждение. Обыкновенно повреждений было множество, одно от другого располагалось на значительном расстоянии, и приходилось, как правило, проводить ревизию всего кишечника, что отнимало дорогое время и дополнительные силы. Из-за тяжести и множественности ранений процент смертности в этой группе раненых был удручающе высоким.
Другая категория – раненые с переломами костей. Тут мы первое время довольно широко применяли гипс. Однако вскоре убедились, что в зимних условиях в брезентовых палатках он плохо сохнет, ломается на месте суставов, крошится и практически своей функции – придать конечности полную неподвижность – не несет. Поэтому мы старались хорошо отработать технику наложения транспортной иммобилизации, то есть создать полную неподвижность во время транспортировки…
Большие переживания доставляли нам раненные в голову с черепно-мозговыми повреждениями. Сложнейшие многочасовые операции, на которые затрачивались громадные усилия, в наших примитивных палаточных условиях не давали желаемых результатов. Могли ли мы после трепанации обеспечить оперированным абсолютный покой и эффективный, продуманный до мелочей уход? В лесу, на морозе, среди стонов, криков, рева моторов, всей нервозной фронтовой обстановки? Конечно же нет… Поэтому обрадовало распоряжение, поступившее от главного хирурга армии: раненных в череп в медсанбате не оперировать, а срочно эвакуировать по назначению. Обрадовало тем, что отныне этой группе раненых будет оказываться стопроцентная квалифицированная помощь в стационарах.
Разрывные пули уродовали лица бойцов и командиров, тут тоже была для нас работа не из легких! Переломы челюстей, полное их размозжение, тяжкие повреждения мягких тканей. При этом очень часто – западение языка. Тогда только и гляди, как бы раненый не задохнулся. Приходилось изощряться, чтобы во время транспортировки как-то удерживать язык пострадавшего вплоть до того, что подшивали его к коже груди.
Трудно было бороться и с кровотечением из полости рта и корня языка. Остановка кровотечения в таких случаях имеет свои сложности, справиться с которыми в полевых условиях почти невозможно. Под местной анестезией это сделать весьма трудно, а дать наркоз не представлялось возможным. Подобные кровотечения чаще всего угрожают жизни раненого, и поэтому нам приходилось применять перевязку наружной сонной артерии на шее. Операция, конечно, несложная, но предполагающая твердые знания и умение свободно ориентироваться в тканях и сосудах.
На шее, непосредственно под ухом, общая сонная артерия разделяется на два сосуда: на наружную и внутреннюю сонные артерии. Первая снабжает кровью органы лица и шею, вторая – мозг. Если наружную сонную артерию можно перевязать безопасно, то перевязка внутренней приносит гибель больным в пятидесяти-семидесяти пяти случаях из ста. Таким образом, задача заключается в том, чтобы не ошибиться, не перепутать артерии. А они приблизительно одинаковы и, расходясь под острым углом, вместе направляются кверху: одна чуть вперед, другая чуть назад… Единственный отличительный признак – это то, что от наружной сонной артерии отходят ветви, а от внутренней нет, вплоть до ее вхождения в череп. Следовательно, прежде чем наложить лигатуру, необходимо обнажить артерию до места отхождения первой ветви и только после такого зримого подтверждения перевязать ее.
В клинике Н. Н. Петрова мне не раз приходилось видеть больных с опухолями корня языка и полости рта, у которых наблюдалось массивное, часто неудержимое кровотечение. Остановить его можно было, лишь перевязав наружную сонную артерию. Я делал это свободно. И все же была у меня одна больная, в случае с которой я снова убедился, как осторожно надо ставить диагноз при любой операции и как трудно заранее предвидеть ее исход, даже при всей безупречности исполнения.
Это была тучная женщина средних лет, страдавшая от рака полости рта и корня языка. У нее уже проявились метастазы в ребра и легкие и, кроме того, обильные кровотечения становились все чаще и все сильнее, Николай Николаевич попросил меня сделать ей операцию – перевязать наружную сонную артерию. Причем показательную операцию для большой группы курсантов и молодых врачей. Перед этим сам Николай Николаевич должен был прочитать лекцию, в которой обосновывал преимущества такой операции и ее относительную безопасность…
– Ты уж постарайся, папенька, – сказал он мне. – На днях наблюдал, проворно ты это сделал, чисто… А тут публика присутствовать будет!
…Была проведена тщательная местная анестезия, во время которой больная не только никак не реагировала на все наши манипуляции, но даже, в конце концов, без наркоза уснула. Тщательно отпрепарировав общую сонную артерию у места развилки, я продемонстрировал курсантам ту и другую артерии и место отхождения первой ветви наружной сонной артерии, выше которой по всем правилам наложил лигатуру. Операция прошла настолько гладко и четко, что я, обычно выискивающий в своих действиях шероховатости, на этот раз вслух сказал: «По-моему, лучше б я и не сумел!»
А больная после операции не проснулась… Это было настолько удручающим и непонятным, что все мы – и я в том числе – решили: в последний момент была перевязана все-таки не наружная, а внутренняя сонная артерия. Вскрыли: ничего подобного! Операция была произведена правильно, никаких нарушений в ее методике не имелось. А причины такой неожиданной смерти остались загадкой…
На Николая Николаевича эта смерть тоже подействовала сильно. Он хмурился, покашливал, в этот и последующие два-три дня был неразговорчивым, а на разборе операции сказал:
– Мы лишний раз убедились, как много неизвестного таит в себе каждая операция. И хирург обязан помнить, что в хирургии нет пустяков. Здесь все очень серьезно и всегда опасно. Помимо возможных ошибок и случайностей, от которых никто не застрахован, существует другое, о чем нельзя забывать: организм человека всегда индивидуален, изменчив, и процессам изменчивости человеческого организма нет предела. Поэтому самая высокая требовательность к себе, постоянное совершенствование и строгое отношение к каждой операции, как бы она ни была отработана и известна, должны быть для хирурга законом!
И вспоминая об этом здесь, в главе, посвященной дням финской кампании, я просто хочу подчеркнуть, что если неожиданностями и сложностями была наполнена работа в отличной, по-современному оборудованной и укомплектованной квалифицированными кадрами клинике, то можно представить, какие заботы ложились на плечи хирургов и младшего медперсонала в брезентовых палатках медсанбата, раскинувшихся под мглистым северным небом, утонувших в сугробах… Кроме огнестрельных повреждений, наблюдались самые разнообразные болезни, вызванные суровым фронтовым бытом, и, конечно, сотни тяжелых обморожений. Ведь при лютых морозах красноармейцы сутками находились в снегу, зачастую в непросыхающей одежде, с мокрыми ногами, не имея возможности разжечь костры… Впрочем, об этом много рассказано в книгах, повествующих о войне с белофиннами, а с чисто медицинской точки зрения этот вопрос освещается в специальных монографиях.
Однажды возле нашего палаточного городка раздалась сильная беспорядочная стрельба, и мы, хватаясь за пистолеты, выскочили наружу, думая, не окружены ли, не прорвался ли к нам неприятельский десант… Оказывается, из автоматов и винтовок, из чего только можно было, стреляли в небо бойцы комендантского взвода и оказавшиеся поблизости лыжники сибирского комсомольского батальона. Гремело ликующее «ура», летели в воздух ушанки, люди обнимались… Мир! Войне конец!
Известие об этом было неожиданным, и наша тогдашняя радость не поддается описанию. Каждый как бы с удивлением и даже недоверием осматривал себя: вот я, целый и невредимый, а побывал среди тысячи смертей, и хотя втайне надеялся, что вернусь домой, но слепой огонь косил всех не разбирая, и что ему было до чьих-то переживаний, ведь сколько их, товарищей, осталось тогда лежать на снегу…
А у нас в медсанбате долгожданный День Победы омрачился нелепой гибелью нашего товарища, штабного шофера Виктора. Это был шутник и храбрец, молодой симпатичный человек, в котором внутренняя, культура сочеталась с российской бесшабашностью и удалью. В каких только переделках не побывал он с машиной, участвовал даже в вылазках в тыл врага, ночами уходил с разведчиками за «языком», и ни одной царапины не было ни на машине, ни на нем самом.
И вот в первый день мира и тишины начальник нашего ДПМ решил проехать на передовую (отныне уже бывшую передовую!), посмотреть, где шли бои, откуда к нам поступали раненые. К начальнику присоединился замполит. Они оставили машину на дороге, а сами поднялись на пригорок, по которому пролегал рубеж нашей передовой линии. Все трое: Лоцман, Алексеев и Виктор – любовались прекрасным ландшафтом. Вдаль убегала лесистая равнина, припекало весеннее солнце, но деревья еще стояли под тяжелыми шапками снега, и на белом поле там и сям чернели выбросы земли – следы от разрывов… Вдруг что-то легонько треснуло, будто веточку переломили, и Виктор, вскрикнув, повалился наземь. Он прижимал руки к животу, а через них текла кровь.
Как выяснилось после, выстрел был сделан «кукушкой» – финном, который, еще никем не предупрежденный о конце военных действий, оставался в засаде, продолжал по своему усмотрению сеять смерть.
Пуля, поразившая Виктора, оказалась разрывной, и как во всех подобных случаях, при небольшой кожной ране в брюшной стенке были множественные ранения толстого и тонкого кишечника… Что только ни делали мы с доктором Кодзаевым, как ни старались вырвать Виктора у смерти – увы! На четвертый день он умер в страшных мучениях от острого перитонита.
Человеческая смерть по своей сути всегда бессмысленна, но погибнуть вот так, как Виктор, когда все радовались, что война позади, вдвойне обидно.
А от живых жизнь требовала дел. Всех раненых, которые могли выдержать дорогу, мы отправили в госпиталь. Около нескольких нетранспортабельных организовали постоянное дежурство.
Армейский быт с фронтового перестраивался на мирный лад: подтягивалась уставная дисциплина, снова вводились всевозможные занятия, строевая и прочие подготовки. Но мы теперь, после нескольких месяцев поистине нечеловеческого труда, могли хоть отоспаться, побыть на свежем воздухе, увидеть места, близ которых находились. Узнали, что в нескольких километрах поселок Питкерант, где небольшой лесопильный завод. Съездили туда, и меня поразил вид мертвого города: оставленные жителями пустые дома, хлопающие на ветру двери и оконные рамы, жуткое подвывание ветра в трубах промерзших печей… Ни в одно из помещений мы не заходили – тут еще не побывали саперы, и случалось, что излишнее любопытство или желание взять на память какую-либо вещичку оборачивалось трагедией. Финны искусно и хитро минировали все, вплоть до какой-нибудь красивой детской куклы…
И странное дело! После того как стало уходить огромное фронтовое перенапряжение, мы, в течение этих месяцев забывшие о своих собственных хворостях и недомоганиях, вдруг снова ощутили их… Расслабилась нервная система, возникла необходимость дать отдых телу, спасти себя от немыслимого, всюду преследующего холода, прислушаться к тому, что происходит в собственном организме. У меня скрутило поясницу – ни согнуться, ни разогнуться, появились периодические боли в животе, и я вынужден был отказаться от армейского котла, искал для своего желудка, лишенного кислотности, пищу на стороне, что было нелегко. Лицо у меня приобрело серый, землистый цвет, я походил на старика. Во всяком случае, когда удавалось выбраться в город, в трамвае молодые и даже не очень молодые люди уступали мне место.
Не давала покоя мысль о том, что мы за фронтовую кампанию накопили ценнейший фактический материал, который на многие годы вперед может быть полезным отечественной медицине, разделам военно-полевой хирургии. Но не будучи обработанным, систематизированным, он оставался мертвым капиталом. Несмотря на недомогание, я через своего непосредственного начальника, как и требовал устав, обратился к командиру дивизии с просьбой разрешить мне обработать данные, полученные за время боевых действий в нашем медсанбате. Разрешение последовало.
Вскоре я написал статью о работе хирургического отделения дивизионного пункта медицинской помощи, которую охотно опубликовал журнал «Военно-санитарное дело». С помощью фельдшеров своего отделения снял копии с трех тысяч карточек оперированных в медсанбате раненых. Изучал их всю весну и часть лета. Никогда с таким упоением не трудился для науки, как сейчас, по существу, не имея даже большого простора для самостоятельных занятий. Товарищи-военврачи добродушно подсмеивались надо мной, называя «Пименом-летописцем», но относились уважительно: воля и трудолюбие всегда привлекательны для других. Готовя монографию о хирургической деятельности ДПМ, старался дать полную картину объема хирургической работы в нашем медсанбате, затрагивал вопросы эвакуации, терапевтической службы, отчетности и высказывал соображения, основанные на врачебном опыте в боевых действиях.
Когда монография попала на отзыв профессору М. Н. Ахутину, в то время признанному специалисту по военно-полевой хирургии, он отозвался о ней в похвальных тонах, порекомендовал к опубликованию. Мне же посоветовал собрать отдаленные результаты операций, обобщить их и на основе уже написанной работы подготовить докторскую диссертацию.
Я чувствовал себя полководцем, который надежно взял в осаду неприступную крепость. Время и новые усилия – крепость падет!
У меня имелись адреса почти всех раненых, и я написал им, вложив в каждый конверт анкету с просьбой ответить на все ее вопросы.
И потянулись ко мне письма из разных концов страны… Бывшие бойцы охотно откликались на мой призыв, благодарили, что их помнят, интересуются состоянием их здоровья. Сотни судеб, сотни характеров, сотни почерков… Встречались и курьезные ответы. Вроде того, когда на вопрос «Была ли вам сделана операция?» следовало: «Я действительно принимал участие в операции по взятию высоты 321».
За сравнительно короткий срок поступило тысяча двести ответов. В абсолютных цифрах этого материала было достаточно, чтобы делать выводы по некоторым вопросам. С душевной приподнятостью взялся я за обработку полученных данных, понимая их уникальность: подобных данных о раненых из одного медсанбата с отдаленными результатами в литературе еще не было.
А кроме всего прочего, письма от демобилизованных красноармейцев, от незаметных героев зимних сражений, заставили меня как бы заново пережить недавнее: многое и многих я вспомнил, и, уже как бы со стороны, еще более ярко виделся особенный характер советского бойца. Даже у нас в медсанбате все, начиная от санитара и кончая пожилым военврачом, в самые черные часы опасности оставались твердыми, целеустремленными, предприимчивыми и до предела работоспособными. В грозную годину для Отечества русский человек преображается – приходят к нему собранность, дисциплинированность и, главное, высокое чувство личной ответственности за судьбу страны. Это подтвердили предыдущие войны, это ярко проявилось и здесь, в северных снегах, когда считавшийся несокрушимым финский железобетон дал трещины и развалился под напором красноармейских атак…
Как врач я считаю, что наибольший героизм, исключительную силу духа и великое терпение продемонстрировали во фронтовых условиях раненые. Мороз, который иностранцы, оправдывая свои стратегические неудачи, величают союзником русских, на самом деле не щадит никого. Но наши бойцы стойко, без нытья переносили все лишения. Нужно было видеть, как организованно, с пониманием ждали своей очереди занять место на операционном столе вышедшие из боя раненые красноармейцы. Стояли и лежали на снегу перед входом в палатку, поддерживали ослабших, пропускали вперед тех, для кого минутное промедление могло стать роковым… А ведь у каждого – собственное страдание, собственная боль, которая способна подавить рассудок!
Не грех повторить тут, к месту, хорошие слова, еще сто лет назад сказанные отважным офицером российского флота, первым исследователем Аральского моря А. И. Бутовым. Характеризуя деловые качества русского человека, моряк-ученый писал: «…он сметлив, расторопен, послушен, терпелив и любит приключения – мудрено обескуражить его, он смеется над лишениями, и опасности имеют в глазах его особую прелесть».
Воспитанный на интернациональных принципах, я с детства с глубоким уважением относился к людям всех национальностей: тот, кто любит свой народ, не может не уважать другие народы. Я всегда любил и преданно люблю свой русский народ. И это не слепая любовь. Чем больше я его узнаю, тем преданнее к нему отношусь. Благородные качества русских превосходно воспеты еще Державиным:
О Росс, о доблестный народ, Единственный, неповторимый, По мышцам ты неутомимый, По духу ты непобедимый, Ты сердцем прост. Душою добр. Ты в счастье тих, в несчастьи бодр.В сугубо научной докторской диссертации, которую я начинал готовить тогда, не допускаются лирические отступления. Наряду с производственными вопросами столько мыслей и пережитых чувств просилось на бумагу, что, вполне вероятно, именно в ту пору в какой-то мере зарождалось то, что нынче нашло развитие в этой книге…
Светлым событием тех же военных дней, оставившим теплые воспоминания на всю жизнь, была поездка в Москву, в Кремль в числе награжденных бойцов и командиров.
В июне 1940 года меня демобилизовали, и я с опасением – буду ли принят? – появился в клинике. Мои армейские сапоги издавали в тихих белых коридорах такой пронзительный скрип, что я пугливо оглядывался… Откуда-то выбежал Чечулин, обнял, повел показывать другим. Он тоже лишь недавно сменил военное обмундирование на штатский пиджачок, а воевал в самом пекле: на Карельском перешейке.
И я думал, волнуясь: что ждет меня? Фактически через день-другой заканчивается мой официальный срок пребывания в аспирантуре. Будет ли вакантное место ассистента? Захочет ли Николай Николаевич взять именно меня? Ведь есть ординаторы, которые работают с ним уже по нескольку лет, тоже надеются, и он каждого из них знает больше, лучше, чем Федора Углова…
Петров встретил приветливо, расспрашивал, чем мне приходилось заниматься в медсанбате, но когда я, в свою очередь, спросил его: оставят ли меня в клинике? – неопределенно пожал плечами и пошел посоветоваться к директору института.
Неопределенность всегда томит, и я направился вслед за Николаем Николаевичем, сел в директорской приемной, стал ждать… Вскоре он вышел и, увидев меня, удивился:
– Опять ты, Углов, ходишь за мной, как тень отца Гамлета! Узнаю, папенька, твою настойчивость…
– Места себе не нахожу, – признался я.
– Вот тебе подписанное ходатайство, поезжай с ним в Москву, к наркому. Будет у него хорошее настроение – даст разрешение, попадешь в неурочный час – ничего тогда, папенька, не поделаешь, все мы, понимаешь, под Богом ходим, – шутливо напутствовал Николай Николаевич.
И я привез из Москвы приказ о назначении Ф. Г. Углова на должность ассистента в клинику Н. Н. Петрова. Когда ехал из столицы в Ленинград, неподвластная воле улыбка блуждала на моем лице, удивляя, вероятно, попутчиков по купе: что это, мол, за блаженный едет?! Знали б они, что значит для меня работать рядом с любимым учителем. Да еще после того, когда так истосковался по большой хирургии, по мирной хирургии…
Глава XI
Что за прекрасные дни были! На дворе стояло лето 1941 года, и я с увлечением писал последний раздел монографии: отдаленные результаты хирургической работы дивизионного пункта медицинской помощи. Уже точно знал: подобного исследования до сих пор не было. А значит, опыт, оцененный с помощью отдаленных результатов, будет иметь большее значение для выработки показаний и противопоказаний к той или иной операции на ДПМ и вообще в полевых условиях.
В солнечном сиянии лета настоящее и будущее виделось только в радужных тонах. Я наконец имел то, о чем еще совсем недавно мог только робко мечтать: место ассистента у Н. Н. Петрова. Кроме того, теперь твердо живу в Ленинграде, в городе, который при первой же встрече пленил меня неповторимой красотой, дал ощущение сыновней причастности к великим деяниям предков, утвердил во мне стремление в собственных скромных делах быть полезным народу. И опять же: я пишу первую в своей жизни научную книгу, плод накопленных наблюдений, изысканий, раздумий… Что еще нужно для счастья? Во всяком случае, остальное или приложится со временем, или будет добыто трудом… В это верилось.
Заветным местом стала публичная библиотека. Приходил в ее высокие залы прямо-таки с трепетным чувством: торжественно-деловая тишина, склоненные головы возле зеленых абажуров, легкий шелест переворачиваемых страниц, и книги, книги! Они не переставали манить к себе, и я часами готов был рыться в старых, желтых от времени фолиантах или листать еще пахнущие свежей типографской краской новые номера журналов, и с радостью неизбалованного золотодобытчика находил драгоценные крупицы – материал по интересующему меня вопросу… Невольно припоминал детство, живо рисовались картины минувшего, особенно вот эта: в доме нет ни керосина, ни свечей, а уже темно, и я лежу на полу, у дверцы горячей печурки, при слабых, неравномерных бликах огня жадно вчитываюсь в строчки книги. Отсвет пламени такой, что не вся страница видна, приходится передвигать ее и так и сяк. За окном вой пурги, стонут сгибаемые в три погибели молодые деревья перед крыльцом, и нет ничего чудеснее на свете, чем вот так, до бесконечности, лежать на животе перед печкой и смотреть в багрово озаренную книжную страницу…
Теперь, став ассистентом, я получил еще одно преимущество, к которому спервоначалу не мог привыкнуть: возможность спокойно работать весь вечер, не боясь, что тебя оторвут от занятий, срочно вызовут к больному. В клинике оставался дежурный врач, и в случае нужды он посылал за кем-нибудь из заведующих отделениями… Такого счастья я раньше не знал – ни будучи участковым врачом, ни в Киренске, ни на военной службе.
Что омрачало мою нынешнюю жизнь – так это то и дело возникающие боли в застуженном позвоночнике. Состояние здоровья требовало хоть кратковременного отдыха, которого я, по существу, не имел с университетских лет. Поэтому по совету коллег-специалистов решил на месяц поехать в Крым, в Евпаторию, чтобы принимать там грязевые и рапные ванны. Железнодорожный билет приобрел на понедельник, 23 июня. А воскресенье было задумано провести с друзьями за городом.
Там, в зеленом окружении, в разгар веселья, и настигло, а вернее, с размаху ударило это слово: война! Показалось, что огромная скала, кренясь, валится на нас, закрывая солнце…
Люди бежали от реки, от леса к платформе, с трудом вталкивались в переполненные вагоны пригородных поездов, из уст в уста передавалось, что в 12 часов по радио будет транслироваться правительственное сообщение. И все было на лицах в тот миг: недоумение, растерянность, ожидание и решимость. Каждый знал, что война – это горе, но никто тогда, даже мы, недавние фронтовики, не могли предположить истинных размеров свалившегося бедствия… Пока же было ясно одно: все летит кувырком – заботы о лечении, мечты об отдыхе, спокойная работа, нормальная жизнь с ее будничными хлопотами и праздничными озарениями…
Нет, не было массовой паники первых дней, о которой, к своему удивлению, нет-нет да и прочитаешь сейчас в каком-нибудь литературном труде. Та растерянность, что пришла к людям в первые часы известия о нападении фашистской Германии, тут же сменилась напряженной собранностью, стремлением найти свое место в строю защитников Родины.
Даже у нас в клинике те больные, что еще вчера лежали в расслабленном состоянии, полные сомнений в своем будущем, стали требовать немедленной выписки. Они быстро одевались и уходили домой, а многие сразу же шли в военкоматы. Огромная нервная встряска, высокое чувство ответственности, коллективизма оттесняли на задний план все сугубо личное. Какие болезни, когда смертельная беда нависла над всем народом! Только очень немногих, совсем недавно перенесших операцию, мы переводили в больницы, предназначенные для гражданских лиц, остальные торопливо выписывались. В короткие часы клиника была превращена в госпиталь, готовый принять раненых бойцов.
Странное состояние, в котором человек находится в период тяжелых испытаний, пока еще толком не изучено. Он вдруг обнаруживает в себе удивительную способность работать дни и ночи, недели без сна и отдыха. Приходит «второе дыхание», исчезают боли, которые досаждали до этого. Полуголодный, плохо одетый, человек стойко переносит такие тяготы, какие при мирной сытой жизни свалили бы его с ног в короткий срок… Я видел тому множество примеров, испытал это на себе.
Меня, как уже говорили, тревожили сильные боли в позвоночнике. Кроме того, мучили гастрит и гепатит, оставшиеся после тифа со студенческой поры. И я раздумывал, что мне лечить сначала: спину или желудок? Однако едва началась война, я словно бы забыл про все свои в общем-то не пустячные недомогания и стал есть грубую пищу таких сомнительных качеств, что в иное время тут же обязательно бы слег. А теперь – куда что делось! И позвоночник не напоминал о себе до окончания войны.
О подобном же рассказывал мне инженер из Омска Борис Широков, с которым мы сразу после войны познакомились и подружились в южном санатории. Тогда еще совсем молодой человек, он приехал лечить ноги, суставы которых воспалялись при малейшем охлаждении. А на фронте он командовал ротой разведчиков, все четыре года редко когда ночевал под крышей, находился на передовой и в тылу врага и, по его словам, «хоть бы разочек насморк схватил!» После демобилизации, полгода не прошло, начал болеть. «От маленького сквознячка простужаюсь, – жаловался он мне, – кутаюсь так, что перед стариками стыдно. А до этого сколько осенних рек форсировал, и хоть бы хны!»
Позже из письма его матери я с грустью узнал, что капитан запаса Борис Широков умер от крупозного воспаления легких, подхватив простуду жарким летним днем…
Кстати, он, Борис Широков, со своими бойцами участвовал в работе по маскировке исторических памятников Ленинграда. На наших глазах красавец-город одевался, как воин, в маскхалат: погасло под брезентом золото шпилей Адмиралтейства и Петропавловской крепости, укрывались статуи, зеркальные витрины магазинов закладывались мешками с песком, а стекло оконных рам перечеркнули узкие полосы бумаги, чтобы оно выдерживало вибрацию, вызванную недальними взрывами… На окраинах вздыбились «ежи», появились глубокие рвы на пути возможного танкового прорыва немцев. Затаившись, город был готов к отпору.
Сводки с фронта при всей их сдержанности несли в себе тревогу, но мы надеялись на мощное контрнаступление, которое остановит зарвавшегося врага и уничтожит его. А затем, конечно, окончательный разгром фашизма в его собственном логове… Об этом говорилось упорно: на работе, в очередях, ставших теперь обычным явлением, в трамваях. Вспоминали Кутузова, который продуманным стратегическим маневром завлек французов в глубь России, а затем нанес им сокрушительный удар. Бежали они, теряя знамена, и черные вороны сторожили их гибель на долгих российских дорогах…
Однако долгожданного контрнаступления не было, и постепенно рушились наивные предположения о скорой победе. Становилось ясно: эта война не похожа на все предыдущие, она будет не на живот, а на смерть, до победного конца, и нам не на кого надеяться, кроме как на собственную силу и собственную сплоченность. Тут не на месяцы счет, а скорее всего на годы.
И ленинградцам, как никому другому, суждено было до конца испить горькую чашу войны, показав всему миру несгибаемость русского духа и крепость нашего патриотизма.
Враг стремительно приближался к городу. Зеленобрюхие самолеты с ненавистной свастикой на фюзеляже прорывались через заградительный заслон зенитного огня. Первые упавшие бомбы, их ужасающий свист, сизые султаны взрывов, разрушения, пожары, жертвы… Запылали Бадаевские склады – огромное зарево было в полнеба, в чадящем дыму гибли тысячи тонн продовольствия, предназначенного для снабжения ленинградцев.
На крышах госпиталей рисовали огромные красные кресты, надеясь, что это защитит от бомбовых ударов, – так рекомендовалось Женевской конвенцией! Но что было фашистам до международных договоров! Опознавательные знаки госпиталей, гражданских больниц, школ, наоборот, стали лакомой приманкой для воздушных пиратов: при поражении этих объектов они могли внести на свой личный счет наибольшее количество жертв.
В один из июльских дней я спешил на работу, когда вдруг завыли сирены и диктор объявил о воздушной тревоге. Послышались частые хлопки выстрелов зенитных орудий, а в небо словно бы ввинчивался нарастающий гул чужих самолетов. Стало видно, как несколько бомбардировщиков со свастикой на крыльях, прорвавшись через оборонительное кольцо, угрожающе идут к центру города. Милиционеры и дежурные торопили людей пройти в бомбоубежища, а я что было сил побежал к госпиталю, поскольку находился уже на улице Салтыкова-Щедрина, совсем близко… Тут же увидел, как из многоэтажного здания Текстильного института на Суворовском проспекте, в котором разместился другой госпиталь, поднялись две красные ракеты. Диверсант подавал сигнал! Текстильный институт располагался совсем рядом с Главным военным госпиталем, и наш был тоже близко, всего в каких-то двух кварталах. Вражеский корректировщик, по-видимому, рассчитывал на разрушение сразу трех лечебных учреждений, только их, – ведь в этом районе не имелось никаких промышленных предприятий и военных объектов. Удар предназначался беззащитным людям!
Вбежав к себе в кабинет, я позвонил в отделение милиции, сообщил о ракетах, и не успел положить трубку на рычаг, как два сильнейших взрыва, раздавшихся где-то неподалеку, встряхнули наше здание, треснули стекла в окнах, я едва устоял на ногах и, выглянув в окно, увидел смрадный столб огня как раз на Суворовском бульваре! Медленно оседали пыль и дым…
Позже я узнал о последствиях случившегося…
В этот час в вестибюле госпиталя собралось множество народу: пришли родственники и знакомые медперсонала, чтобы навестить в воскресный день своих близких, дежуривших тут круглосуточно. Находились здесь и ленинградцы, желавшие побывать в палатах у раненых бойцов, в том числе юные шефы – школьники. Ходячие раненые тоже спустились сюда, в просторный вестибюль, в надежде кого-нибудь встретить, послушать разговоры, узнать новости… Когда завыла сирена, все столпились у лестницы, ведущей в подвальное помещение – в бомбоубежище. Сюда же начали сводить и приносить на носилках раненых с верхних этажей. И мало кто успел спуститься в подвал, да и тем это не помогло. Огромного веса и огромной разрушительной силы бомба, пробив все этажи, разорвалась прямо под вестибюлем, и огонь поглотил всех, кто находился здесь. Центральный и некоторые запасные выходы были завалены рухнувшими перекрытиями. Оставшиеся в живых на верхних этажах бойцы и медицинские сотрудники оказались отрезанными полыхавшим внизу пожаром. Некоторые из них начали выпрыгивать из окон и разбивались. Под леденящие душу крики, под треск всепожирающего пламени быстро работали спасательные команды, но не многих удалось спасти.
А налеты участились, становились ежедневными, приблизившийся враг принялся методично обстреливать город из дальнобойных орудий. После уничтожения Бадаевских складов был резко сокращен паек, и уменьшался он еще несколько раз: голод тоже двинулся в наступление на ленинградцев. Затягивалась петля блокады: уже невозможной стала эвакуация, поступление продуктов в Ленинград прекратилось, вышли из строя водопровод, канализация. На истощенных людей навалилась зима…
Я пишу эти строки, и самые противоречивые мысли и воспоминания теснят мою грудь, мучаюсь оттого, что нет тех слов, которые были бы способны выразить во всем величии подвиг ленинградцев. Невыплаканные слезы до сих пор живы в каждом из нас, перенесшем блокаду, по тем, кто не дождался торжества Победы. А тихая гордость, что при невероятных лишениях и испытаниях ленинградцы не склонили головы, служит утешением и опорой…
По сей день на Невском проспекте и в других местах Ленинграда можно увидеть сохраненные для потомков надписи блокадной поры, свидетельства тех суровых дней: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
Сейчас, особенно для юных, – это уже история. Для нас же тогда это была сама жизнь: такие надписи-предупреждения давали возможность спешившим на работу или на боевое дежурство людям придерживаться той стороны, где прямое попадание менее вероятно.
Однажды воздушная тревога застала меня на улице Пестеля. Тень от внезапно вынырнувших из-за туч самолетов хищно прошлась по асфальту и зданиям. Послышался пронзительный вой несущихся к земле бомб, казалось, они падают на голову. Я метнулся под арку большого дома, прижался к стене. Неподалеку ухнуло несколько взрывов. Потом все смолкло, лишь лихорадочно били зенитки да кроваво-багровые отсветы близкого пожара взметнулись над крышами. Я, держась поближе к домам, побежал к госпиталю и не успел удалиться от арки на двести-двести пятьдесят метров, как услышал за собой почти слившиеся воедино два мощных взрыва. Упал, а когда, поднимаясь, оглянулся, здание, под аркой которого я минутами назад укрывался, лежало в развалинах, огонь пробивался сквозь пыльно-дымное облако…
В институт, где расположился наш госпиталь, за время блокады попало пять авиабомб и тринадцать снарядов. Пять раз в зимнее время все оконные стекла клиники вылетали полностью, многие вместе с рамами. Живописать, как это происходит, пожалуй, не нужно. Каждый даже при небогатой фантазии в состоянии представить… Могу только сказать, что, несмотря ни на что, работа не прерывалась ни на час, как, впрочем, и в любом ленинградском учреждении. Однажды в самый разгар операции раздался сигнал воздушной тревоги. Но разве отойдешь от раненого! И мы продолжали работать… Сначала послышался лихорадочный перестук зениток, затем нарастающий рев авиационных двигателей, вой крупных бомб и взрывы. Падают, проклятые, рядом и – все ближе! Вдруг одна взорвалась прямо на улице Салтыкова-Щедрина, метрах в двухстах от операционной: осколки стекол и щепки от рам со свистом полетели в нас и на лежащего на столе раненого. Мы невольно склонились над ним, закрывая операционное поле от смерча из дробленого стекла и кирпичной пыли. И тут же, через минуту, другой взрыв: комната закачалась, как корабль на волнах. Весь многоэтажный угол и вся наружная стена операционной кафедры неотложной хирургии, что находилась в соседнем крыле нашего здания, отвалились, и операционная предстала перед нашими пораженными взорами как бы в разрезе, с выходом прямо на улицу… А поблизости из воронки бил огромный, разбрасывающий брызги фонтан метра на три в высоту. Оказывается, бомба повредила трубопровод, снабжающий водой наш район. Стремительные потоки неслись по тротуару… И к слову заметить, долго нам после приходилось ходить с ведрами за водой в соседние здания, подземные коммуникации которых не пострадали.
…Но раненый требовал внимания, и мы, оправившись от потрясения, освободившись от осколков стекла и мусора, продолжали операцию.
Первое время раненые сами просились, чтобы при налетах их уносили в бомбоубежище, а кто мог, на костылях, поддерживая друг друга, спускались туда сами. Это была очень тяжелая работа для медперсонала: по нескольку раз в сутки перетаскивать лежачих раненых с этажей в подвальное помещение, а потом снова поднимать в палаты. Порой только доставят сотни носилок с бойцами наверх, как через минуту-другую новое объявление о воздушной тревоге. Начинай все сначала! Но никто не роптал: надо, так надо! А вскоре все и в госпиталях, и у себя дома устали бегать вверх-вниз. Даже смертельная опасность сделалась привычной, появился известный фатализм: если суждено погибнуть от бомбы, она достанет тебя всюду. Практически не существовало гарантированного, безопасного места. Кроме того, давала знать и самая обычная физическая усталость. Все были измотаны голодом.
Но об этом чуть позже. Главное же, примеры убеждали: крупная бомба, как правило, пробивает все этажные перекрытия и чаще всего взрывается на уровне подвального помещения, там, где от нее прячутся. Как в случае с госпиталем, расположенным в Текстильном институте. А многие ленинградцы, распределенные по отрядам самообороны, при звуках сирены обязаны были мчаться на боевой пост – на улицу, на чердак или на крышу. Какое уж тут убежище! И в большинстве своем это были подростки и женщины… С каким хладнокровием четырнадцати-пятнадцатилетние девочки и мальчики, а также пожилые женщины во время налетов врага, когда на город сбрасывались десятки тысяч зажигательных бомб одновременно, боролись с ними! На высоте – под тобой лишь ненадежная, мокрая или заледеневшая кровля, постоянно уплывающая из-под ног, – зажигалку, разбрасывающую ошметья жирного огня, оттаскивали с опасного места, тщательно засыпали песком, успевали загасить пораженные огнем участки. Бесстрашие ленинградцев спасало город от страшных пожаров – налеты не давали немцам желаемых результатов.
Еще более коварными были артобстрелы. Снаряды влетали в окна, ударялись о мостовую, сея смертоносные осколки, оставляли зияющие дыры и трещины в самых прочных зданиях. После каждого такого артобстрела к нам привозили людей с оторванными конечностями, с тяжелыми ранениями груди или живота. Как-то доставили женщину, в комнату которой снаряд влетел через форточку. Он угодил ей в живот. Спасти женщину не удалось.
Понятно, что мы в госпитале все время были в центре событий. Раненые, как военные, так и гражданские, поступали к нам зачастую, что называется, с улицы, порой в очень тяжелом состоянии. И сразу доставлялись в операционную…
Так было с Юрием Георгиевичем Смоленским.
В тот вечер мы задержались в операционной дольше обычного. За день перенесли три мощных налета. Не успевали справиться с одной партией пострадавших от бомбежки, как привозили новую… И когда я, вымотавшийся окончательно, собирался отдохнуть, меня вызвали в приемный покой. На столе экстренной операционной лежал человек с окровавленной головой.
Как потом рассказывал Юрий Георгиевич, он в качестве дежурного штаба местной противовоздушной обороны объезжал на велосипеде свой участок, и на улице Салтыкова-Щедрина его настиг сигнал воздушной тревоги. Он поднажал на педали, рассчитывая, что проскочит в свой подъезд, как вдруг что-то с визгом пронеслось мимо него, ахнул близкий взрыв… Очнулся он на тротуаре, с тупой болью в голове, липкая кровь заливала глаза.
Все же Юрий Георгиевич нашел в себе силы подняться и медленно пошел вперед, то и дело вытирая текущую с головы кровь. Попытался нащупать нестерпимо ноющую рану, но пальцы вдруг провалились в какую-то щель, и, казалось, нет у нее дна… Ему стало совсем плохо, стошнило, и он какое-то время стоял, прислонившись к решетке Таврического сада. Превозмогая боль, слабость, он заставил себя сдвинуться с места, пойти по направлению к Институту усовершенствования врачей, где был теперь госпиталь. Его увидели и помогли добраться до нас начальник районного штаба МПВО Сытинов и председатель райисполкома Шаханов…
Сняв с раненого пиджак и рубашку, мы промыли и очистили от кровавых сгустков его волосы, стали опасной бритвой снимать их вокруг раны. Волосы густые, жесткие, а бритва тупая, дерет нещадно, оставляет порезы, и из них тоже кровь…
– Братцы, нельзя ль потише? – мученически улыбаясь, просит раненый, и приходится удивляться, какое у него самообладание. – Ведь вы никак с корнем волосы выдергиваете?!
– Ничего, друг, терпи. Бритву не успеваем точить. Ты не первый…
– Вот когда встану, так и быть, наточу вам бритву.
– Другим, значит, легче будет. А ты пока терпи…
Едва успели обработать рану и я, надев перчатки, приготовился оперировать, где-то неподалеку под аккомпанемент зениток раздался сильный взрыв, и моментально погасло электричество. Вслед за этим последовало еще два или три взрыва… Похоже, что бомбы упали возле нашей электростанции. Мы стояли в кромешной темноте, боясь к чему-либо прикоснуться стерильными перчатками. Затем я распорядился, чтобы зажгли керосиновую лампу.
Свет от нее скудный, с трудом можно разглядеть след осколка – рваноушибленную рану, идущую вдоль теменной области длиной в пятнадцать сантиметров, шириной в четыре и глубиной – в три. Надкостница разорвана, а кость осталась целой. Если бы осколок отклонился всего на несколько градусов, быть бы непоправимому: оказались бы пораженными и кость и содержимое черепа. Ничего не скажешь, повезло!
Смазав все операционное поле йодом, обложив раненого простынями, провожу тщательную местную анестезию. И проклятие! – опять взрыв, опять рядом. И в этот же момент диктор сообщает об артобстреле города. Снаряды падают в нашем районе, мы слышим даже, с каким протяжным и противным свистом пролетают они над крышей, А раненый на столе, он теряет кровь…
– Скальпель, – говорю сестре.
Она протягивает нож, и в этот миг снаряд ударяет чуть ли не у стены: с треском разлетаются стекла в рамах, дрожит пол. Скальпель из рук сестры падает на пол. Она вскрикивает в отчаянии:
– Это же последний стерильный! Остальные в обработке…
– Тогда дайте лезвие для безопасной бритвы, – прошу я, – но скорее!
В финскую кампанию мы часто пользовались этими лезвиями для обработки ран, и теперь, выполняя мое указание, операционная сестра на всякий случай держала их в баночке со спиртом… Зажав лезвие в длинный зажим, я быстрым движением обрезал самый край ушибленной и загрязненной раны. Из разреза началось сильное кровотечение, остановить которое можно было, только наложив швы… Раненый держался выше всякой похвалы – с долготерпением, присущим лишь волевым натурам. Он понравился мне, захотелось узнать, кто он… К этому времени в приемный покой доставили еще несколько человек, ставших жертвами артобстрела, – раненных в грудь, живот, с раздробленными конечностями. Предстояла большая работа. И закончили мы ее лишь поздней ночью.
Уходить мне было некуда: дом, где я жил, разобрали на дрова, книги и вещи нашли приют у родственницы. Оставаясь ночевать в кабинете, я решил перед сном наведаться в палату к нашему новенькому, чью рану приводил в порядок бритвенным лезвием при скудном свете керосиновой лампы. Как-никак мой крестник при особых обстоятельствах! Уже знал, что это инженер Смоленский Юрий Георгиевич.
Он лежал спокойно, в полном сознании, с пульсом хорошего наполнения. Шока нет, и это главное.
– Вам крепко посчастливилось, – сказал я. – На сантиметр поглубже – был бы задет мозг. В сорочке родились!
– А мне еще бабушка об этом в детстве говорила.
– Как чувствуете себя?
– Хоть сейчас на крышу, зажигалки гасить. Иль дрова грузить, тоже можно.
– Совсем скоро у вас будет такая возможность…
– Завтра? Так тогда я пойду!
И он сделал движение, показывающее, что тут же, немедленно встанет с койки… Да, оптимизма и твердости духа Юрию Георгиевичу было не занимать!
После войны Юрий Георгиевич много лет возглавлял трест строительства зеленых насаждений Ленинграда, увлеченно работал над тем, чтобы в любимом городе было больше самых красивых парков, садов, скверов, шумящих листвой бульваров…
Как ни тяжелы и опасны были обстрелы и бомбежки, не в них заключалась главная причина страданий и смерти ленинградцев в затянувшиеся дни блокады. Самым страшным врагом был голод. По своей поражающей силе он оказался результативнее снарядов и бомб. Костлявая рука его беспощадно тянулась к каждому защитнику Ленинграда. Первыми жертвами стали мужчины, занятые на тяжелых работах, затем – служащие, получавшие меньший, чем рабочие, паек, и пожилые люди, особенно из интеллигенции, плохо приспособленные к лишениям. И наконец, так называемые иждивенцы, у которых паек был не просто маленьким, а крошечным… Каждое утро можно было видеть изможденных людей, везущих на саночках к кладбищу своих умерших родственников, зашитых в простыни. Вскоре все прикладбищенские улицы были завалены трупами, лежащими на земле или на саночках. А позднее, когда голод уже властвовал вовсю, покойников просто выносили ночью во двор или куда-нибудь поблизости, лишь бы в сторонке от проезжей дороги. Не было уже сил даже зашивать их в простыни.
Я рассказываю об этом, а перед глазами хмурое зимнее утро, фиолетовые снежные тучи на небе, заиндевевшие каменные дома и чье-то слабое с хрипотцой дыхание то ли рядом, то ли сзади меня. Обессиленные люди, как тени, выскальзывают из подъездов и идут… Куда? На работу. Отечные, бледные до синевы лица, угасшие или, наоборот, лихорадочно светящиеся глаза; сгибает тяжесть противогазных сумок…
Голод таил в себе ужас, не сравнимый ни с какой бомбежкой. Он был способен атрофировать рассудок, убить волю, нарушить реальные представления об окружающем. Многие голодавшие, находясь на краю гибели, утрачивали общечеловеческие понятия об отношении к близким, как бы нравственно слепли и глохли.
Тут вспоминается мой старый приятель, крупный ленинградский инженер довоенной поры Сергей Федорович С-в.
Когда ему предложили с семьей эвакуироваться, он отказался наотрез, заявив, что здесь похоронены его родители, он сам не мыслит себя без Ленинграда и будет делать все возможное, чтобы помочь родному городу. С ним остались жена-учительница и девятилетняя дочь Танюша. Она родилась, когда в семье уже потеряли надежду, что появится когда-нибудь ребенок, и потому отец и мать души в ней не чаяли.
Категорически отказываясь уехать на Большую землю, Сергей Федорович, разумеется, не мог даже предположить, какие трудности выпадут на долю семьи, никогда не имевшей никаких запасов впрок. И голод дал знать о себе тут же. Паек, получаемый по трем карточкам – рабочей, служащей и детской, – оказался более чем скудным. Первое время Сергей Федорович старался уменьшить собственную порцию и дать Танюше съестного хоть чуть-чуть побольше, однако вскоре стал страдать от дистрофии мучительнее, чем жена и дочь. У него появились отеки, слабость, боли в желудке, он едва мог встать на ноги, а спустя несколько недель уже не поднимался с постели…
Мне сообщили, что Сергей Федорович тяжело болен. Я понимал, что означает его болезнь и в каком лекарстве он нуждается. У меня не было возможности помочь ему чем-нибудь. Сам как хирург кроме рабочей карточки ничего не получал, военный паек мне не полагался, хирургическим отделением в военном госпитале я заведовал, оставаясь лицом гражданским, в звании доцента. Все же за три дня, отказывая себе, набрал литровую банку каши и пошел с ней к С-ым.
Сергей Федорович, высохший, как скелет, но с толстыми отечными ногами, лежал на кровати небритый, закутанный в тряпье, и почти не обратил на меня внимания, когда я поздоровался и стал осматривать его. Даже это было больно сознавать: такой контраст по сравнению с прежним Сергеем Федоровичем, внимательным, предупредительным, всегда безупречно одетым!..
Жена и дочь тоже находились в крайней степени истощения: с такими же отеками на ступнях ног, но сознание и реакция на окружающее были у них нормальными. Я сказал, что принес им немного каши. Мать с дочерью страшно обрадовались этому, в глазах появился тот блеск, который можно наблюдать лишь у наголодавшихся людей, вдруг увидевших еду, и они уже не отрывали взгляда от банки, которую я вытаскивал из портфеля. Тем не менее они решили в первую очередь покормить Сергея Федоровича. «Вот, Сережа, Федя принес тебе поесть…» Больной сразу же оживился, руки у него затряслись, оп замотал головой, во всем его облике появилось нетерпение, попытался подняться, но не смог, и попросил посадить его за стол… Одной рукой он крепко прижал банку к груди, другой схватил ложку и стал жадно, не пережевывая, глотать кашу.
Жена и дочь с болью и жалостью смотрели на него, на то, как исчезает каша… Он, раньше такой самоотверженный по отношению к ним, такой любящий, сейчас не думал о них, не желал понимать, что они так же голодны, им тоже нестерпимо хочется есть… А он даже вроде бы упивался возможностью в одиночку поесть сытно, как мечталось ему, наверно, уже давно…
– Сережа, ты бы Тане немного оставил, – робко сказала жена. – Кроме того, не ешь все сразу. Это вредно. Оставь половину, доешь потом.
– Нет! – каким-то изменившимся, резким голосом закричал больной, еще крепче прижимая банку к груди и стараясь трясущейся рукой захватить в ложку как можно больше каши. – Нет! Это мне принес Федя! Не трогайте! Мне!
Было ясно, что мы сделали большую глупость, отдав ему сразу всю кашу…
Доев до конца, он тщательно и очень долго осушал банку изнутри, засовывая в нее давно уже не мытые пальцы и облизывая их. Когда никаких следов от каши не осталось, он с сожалением повертел в руках уже сухую банку, и его интерес к окружающему моментально угас. Сонно пошатываясь, он от стола пошел к постели, с помощью Тани забрался на кровать, натянул одеяло на голову…
Я сидел молча, пораженный переменой, происшедшей с человеком. Если деликатнейший Сергей Федорович мог столь эгоистично поступить с женой и дочерью, которых очень любил и ради которых всегда был готов пожертвовать воем, – значит, наступила деградация психики, он находится на грани невменяемости.
К сожалению, я ничем больше не мог помочь ни Сергею Федоровичу, ни его семье, и ушел от них в гнетущем состоянии. Сцена, увиденная в этом доме, когда больной человек хищно поедал всю пищу на глазах у таких же голодных членов семьи, не уходила из сознания. Как я узнал позже, Сергей Федорович вскоре умер, а жена и дочь, перенеся тяжелейшую дистрофию, все же пережили блокаду и остались живы. Танюшу, окончившую педагогический институт, я встречал в шестидесятых годах с мужем – морским офицером и белокурыми дочками-близнецами. Ни я, ни она в разговоре не коснулись того памятного нам дня…
Запомнились мне еще несколько случаев, в какой-то мере характеризующих крайнюю степень физического и психического истощения, вызванного тяжелым, затяжным голоданием.
Женщина несет из столовой кастрюльку с супом. Скользко. Она падает, и чуть ли не весь суп выплескивается на дорогу. Сама женщина и бросившиеся к этому месту прохожие хватают грязный снег со следами супа на нем и с жадностью поедают его…
…Стою в очереди в булочной. Хоть сам мало чем отличаюсь от остальных, не могу без душевных мук видеть до крайности изможденные лица. Даже дети как скорбные старички, с глазами, все повидавшими и уставшими от жизни.
Очередь небольшая, все хорошо видно. К чести нашей городской администрации нужно сказать, что в Ленинграде не было изнурительных очередей с многочасовым стоянием в них. Получали мы мало, но то, что нам полагалось, выдавали в срок и организованно.
Около прилавка, чуть поодаль от общей очереди, стоит подросток лет шестнадцати. Он завороженно смотрит на руки продавца, отвешивающего хлеб. Вдруг, улучив момент, хватает с весов небольшой, граммов в сто, довесок и тут же на глазах у оцепеневшей очереди вонзает в него зубы. К нему бросаются. Паренек падает на пол и, закрывая лицо руками, защищает его не столько от возможных ударов, сколько оттого, чтобы не был отобран хлебный ломтик, который он продолжает откусывать и жевать… С большими усилиями отняли у подростка остатки довеска, а он отошел в сторонку и стал исподлобья смотреть на людей. Было видно, не потому досадовал, что досталось от продавца, а оттого, что не успел доесть кусочек хлеба…
Люди как-то быстро стали равнодушны к самому факту смерти. Она уже не казалась чем-то противоестественным в этой жизни, исчез известный мистический страх перед покойником. В некоторых семьях – я знал – делалось так. Когда кто-либо из членов семьи умирал в начале или середине месяца, родные старались скрыть это. Иначе, заявив о смерти, они обязаны были сдать продуктовые карточки скончавшегося. И чтобы сохранить их до нового месяца – до очередной выдачи карточек – мертвого держали в постели, закутав в одеяло. А чтобы не внушать подозрений, сами порой спали на той же кровати, под тем же одеялом.
Транспорт в блокадном городе не работал. Надев на себя все теплое, что только имелось, ленинградцы шли по улицам медленной, тяжелой походкой… Тот, кто споткнулся и упал, мог рассчитывать лишь на одно: его поднимут и поставят на ноги. Чем голодный поможет голодному? Нужна пища, а ее нет ни у кого. И если человек оказался не способным идти дальше, он сидел так, пока не подъезжала «скорая помощь», вызванная по телефону кем-либо из прохожих.
Бывало и так: человек падает посреди тротуара и тут же умирает. Проходящие мимо остановятся, убедятся, что никакой помощи уже не надо, и, обойдя упавшего, прежним медленным и усталым шагом бредут дальше.
Верную гибель сулила потеря продовольственных карточек. При них, обеспечивающих хоть какое-то питание, люди ежедневно умирали сотнями, а когда человек лишался этого единственного источника для поддержания жизни, его тем более ничто спасти не могло.
Я знаю несколько таких печальных случаев. И первый из них связан с именем нашей медсестры Анны Федоровны Бахон, уже немолодой женщины, которую все мы уважали за старательность в работе, за отзывчивый, покладистый характер. Однажды она со слезами на глазах сообщила, что у нее украли хлебные карточки, а была лишь середина месяца. Две недели и без того истощенному человеку жить без куска хлеба! Как мы ни старались помочь ей, отдавая то суп, то второе, она слабела и за несколько дней до конца месяца перестала ходить в клинику. К ней послали другую медсестру. Та, вернувшись, сообщила о кончине Анны Федоровны…
Вскоре подобное же несчастье произошло с нашей санитаркой Наташей: она потеряла карточки в самом начале месяца, причем не только хлебные, но и продуктовые. В клинику Наташа пришла с закаменевшим лицом, с погасшими глазами, в которых были покорность судьбе и ужас. «Вот она, моя смерть», – шептала она.
Один из раненых, случайно узнав о Наташиной беде, собрал всех ходячих больных в большой палате и сообщил им об этом. Все удрученно молчали, пока наконец один из них, горевший в танке башенный стрелок, не сказал: «Я так думаю, славяне… Нас пятьдесят раненых, и каждого Наташа таскала на себе, за каждым ухаживала как за братом. Возле тебя… и тебя!.. и меня тоже, ночи не спала! Так ведь?» – «Так», – ответили раненые. «А неужели, – продолжал танкист, – мы, фронтовики, не выручим ее в момент смертельной опасности? Предлагаю ежедневно каждому выделять по пять граммов хлеба. Мы от этого не умрем, а Наташу спасти можем. Кто за это, прошу поднять руки!» Проголосовали единогласно и тут же поручили пожилому старшине быть исполнителем всеобщей воли. Все тридцать дней он аккуратно отрезал от каждого пайка по пять граммов хлеба.
Наташа осталась жива и после войны еще около тридцати лет работала санитаркой в ленинградских больницах.
Конечно, такие проявления благородства, высокое сознание, присущие советским людям, помогали ленинградцам выстоять блокаду. Я сослался на один эпизод, но, понятно, их было сотни, тысячи. Не зафиксированные ни в каких документах, чудесные проявления человеческой души озаряли те невыразимо трудные дни, и как всегда, человек тянулся к человеку, находя сочувствие и поддержку. Жили и умирали с мыслью, что город не будет сдан проклятому врагу, святой час возмездия и Победы придет!
А кроме голода терзал еще один беспощадный внутренний враг – холод. Зима выдалась лютая, морозы начались рано и, почти не ослабевая, держались до весны. С одной стороны, в этом было свое преимущество: Ладожское озеро сковало льдом еще в ноябре, что позволило открыть по нему легендарную «дорогу жизни». С другой стороны, жестокие холода навалились на ленинградцев, когда те остались без парового отопления, без дров, при бездействующих водопроводе и канализации. Было где морозу разгуляться в настуженном городе!
Из окон домов, как жерла пушек, высунулись трубы железных печурок самых различных конструкций, установленные в каждой квартире. Дровяной запас, имевшийся в городе, разошелся стремительно, и на топливо пошли деревянные дома, затем мебель, книги, подчас уникальной ценности. Но не было срублено ни одно дерево в знаменитых ленинградских парках и садах: их, по поверью, помнящих Петра, знавших Пушкина, ленинградцы оберегали с трогательным самопожертвованием, предпочитая умереть от холода, чем поднять руку на национальную святыню. Разве это тоже не убедительный факт человеческого благородства в самую невыносимую для жизни пору? Народ, способный на такое, бессмертен.
А я как врач наблюдал людей, которые, находясь у себя в комнате, закутанные во все, что только имелось в доме, обмораживали себе ноги до полного омертвения. Мне показывали черные пальцы, соединенные со стопой обнаженными сухожилиями…
Естественно, голод в союзе с холодом быстрее приводил к истощению нервной системы. Вот какую картину удалось мне увидеть в один из дней.
Посреди большой пустой комнаты, перед слабо горящей печуркой сидела женщина, во что только не одетая и чем только не прикрытая! Все, что можно было сжечь – мебель, книги, доски пола, – уже вышло дымом, а холод донимал, не отпуская. Он мутил рассудок, и без того ослабленный длительным голодом.
Женщина жалобно сказала мужу:
– Ваня, мне холодно. У меня лед внутри. Подбрось дров в печку. Ты видишь, она гаснет…
Муж помутившимся взглядом осмотрел всю комнату, но не нашел ничего, что бы могло гореть.
– Лиза, потерпи. Мы все сожгли. Вечером выйду на улиц у, что-нибудь, может, найду…
– Я не доживу до вечера! Я говорю тебе, во мне лед! Ты эгоист, Ваня, ты меня не жалеешь…
Муж схватил топор и начал рубить на дрова входную дверь, единственное, что в этой комнате могло гореть… Через несколько дней они оба умерли от холода и голода. Это были мои знакомые, с которыми я когда-то вместе учился в клинике Оппеля у Марии Ивановны Торкачевой.
Холод усиливал голод. Чувство голода было мучительным и постоянным. Оно держалось удивительно долго, даже когда в снабжении продовольствием произошли коренные изменения… Людей, впавших в тяжелое состояние от длительного недоедания, помещали в лечебные учреждения и осторожно начинали кормить небольшими порциями калорийной пищи. У больных постепенно восстанавливались утраченные или ослабевшие функции органов пищеварения… Но это, само собой, будет позже, а в первую зиму блокады голод унес многие тысячи коренных ленинградцев.
Об ужасных размерах катастрофы, вызванной голодом, мы смогли составить некоторое представление лишь весной, когда с первыми лучами апрельского солнца все, кто мог стоять на ногах и держать лопату, вышли на очистку города.
Убирали снег, грязь, мусор, восстанавливали дороги для проезда транспорта и… хоронили трупы. Количество их угнетало, оно не укладывалось ни в какие представления о возможных жертвах. Все кладбища и улицы, прилегающие к ним, были завалены мертвыми телами. Оказалось, что в квартирах огромных многоэтажных домов тоже лежат давно умершие. А в некоторых из них вообще не осталось ни одного живого человека. Мертвецы, мертвецы… Всех возрастов, в разных позах, но похожие одним – умерли от голода… Пустые грузовые машины въезжали во двор и отправлялись отсюда доверху нагруженные окоченелыми телами героев.
Да-да, героев!
Сам перенесший блокаду, я могу свидетельствовать, что за все эти девятьсот жестоких дней ни разу ни от кого из ленинградцев не услышал, что лучше было бы сдать город, что это может принести облегчение… И ни один раненый или умирающий, к которым я по долгу врача приходил на помощь, не сомневался, что родной Ленинград выстоит.
Величественный подвиг ленинградцев, уже талантливо отображенный в десятках произведений, все же, на мой взгляд, еще ждет своего глубокого, самого полного и всестороннего раскрытия в той главной трагедийно-оптимистической книге о блокадном Ленинграде, которая будет написана с художественной силой и страстью.
В военном госпитале среди раненых я встречал множество великолепных людей. Очень памятна мне сестричка из батальона морской пехоты Оля Головачева.
Студентка кораблестроительного института, Оля в первые же дни войны ушла добровольцем на флот, стала санинструктором, причем таким, что с одинаковым успехом вытаскивала раненых из-под шквального огня и вместе с «братишками» ходила в штыковые атаки. Небольшого роста, стройная, хорошо сложенная, она была на удивление выносливой, отчаянной и одновременно удачливой. Много месяцев провела она на передовой, в самом пекле, но на Оле не было ни одной царапины. В батальоне отчаянных и дерзких в боевых делах моряков Оля пользовалась такой любовью, что обидь кто-нибудь «сестричку» – не сносить ему головы…
Однако везение везеньим, а заговоренных от пуль нет. И Оля однажды, вытягивая на плащ-палатке с поля боя контуженного командира, попала под немецкую автоматную очередь. Капитан-лейтенант был убит, а Оля получила сразу четыре раны. Две пули глубоко царапнули кожу на груди. Третья прошла по подошве левой ноги, чуть не пополам рассекла стопу. Четвертой пулей была перебита плечевая кость и вырван значительный кусок мягких тканей. По счастливой случайности остались неповрежденными сосуды и нервы плеча. Так что имелась надежда на полное восстановление функции руки. Это мы поняли сразу же, как только Олю в тяжелом шоковом состоянии привезли к нам в госпиталь.
Когда девушка пришла в себя, она обвела нас внимательным взглядом и твердо сказала, что валяться в госпитале не намерена и хочет знать, как скоро ей можно будет вернуться на фронт. Этот вопрос так не вязался с ее нынешним опасным положением, что мы невольно улыбнулись. Она поняла это по-своему: что мы, дескать, снисходительно относимся к ней как к женщине, и снова резко заявила, что ее место в батальоне, она требует лечить как можно скорее… На предложение эвакуироваться ответила категорическим отказом.
Так мы познакомились с Олей Головачевой, и вскоре все в госпитале знали ее, и не было, пожалуй, палаты, где бы не радовались, когда появлялась она, жизнерадостная, веселая, готовая прийти на помощь каждому, кто в ней нуждался. Свое ранение Оля переносила стойко: много ходила, несмотря на большой, сгибающий стопу рубец. Долго не срасталась у нее плечевая кость. Несколько месяцев Оля носила свою руку поднятой до уровня плеча, на специальной шине, прибинтованной к туловищу наподобие крыла самолета. Костная мозоль не образовывалась. В ту зиму, когда от дистрофии в той или иной степени страдал почти каждый боец Ленинградского фронта, раны вообще заживали медленно и плохо. У Оли лишь к лету стала определяться неподвижность отломков и возникла надежда на скорое выздоровление. Не переносившая бездействия, она помогала медсестрам в операционной и перевязочной, переписывала необходимые бумаги в госпитальной канцелярии.
Если в родном батальоне Олю ласково звали сестричкой, то у нас в госпитале за неунывающий и неугомонный характер, за морские словечки, которыми она пересыпала свою речь, за неизменную полосатую тельняшку ее прозвали «братишкой», чем Оля, кажется, втайне гордилась. Несколько раз с передовой к ней приезжали обвешанные оружием морские пехотинцы, и нужно было видеть Олю в эти минуты: таким восторгом и таким счастьем сияли ее глаза! Не было для нее ближе и роднее людей, чем они, окопные моряки, обветренные, суровые юноши. Это их немцы с невольной уважительностью и, конечно, со страхом величали «черными дьяволами», «черной смертью»…
Однажды теплым летним днем я приехал в госпиталь на велосипеде, и Оля попросила разрешения покататься на нем. Мне было приятно доставить ей хоть такое маленькое удовольствие, однако предупредил: будь осторожнее!
А вскоре Оля вошла в кабинет с серым, погасшим лицом, и я понял: что-то случилось!
– Говори, – тревожно заторопил ее.
– Штанина от брюк попала в цепь передачи, и я упала… прямо на больную руку… и что-то, Федор Григорьевич, хрустнуло. Боюсь, что это перелом на старом месте…
Ее побледневшие губы задрожали, можно было подумать, что она вот-вот заплачет… Но нет! Не из таких Оля, чтобы слезы показать.
– Вы простите меня, Федор Григорьевич, что я причинила вам неприятность…
Досадуя на себя, что так необдуманно позволил Оле сесть на велосипед, я пощупал пульс на ее здоровой руке, он был частый и малый. Значит, у нее от боли травматический шок, только силой воли она держится на ногах.
Обследование показало, что действительно при падении произошел повторный перелом на прежнем месте. При этом костной мозоли обычным путем получить уже не удастся. Выход один – помочь ее образованию при помощи жесткого медицинского способа… Дрелью просверлили несколько дырочек, идущих через толщу мозоли, и ни звука, ни стона не проронила Оля сквозь крепко стиснутые зубы…
За лето авитаминоз у Оли прошел, раны стали заживать быстрее, к осени она совсем поправилась, пролежав в госпитале почти десять месяцев. Мы расставались с грустью, как люди, которые стали друг для друга родными. Она попросилась в ту же часть, в которой воевала и в ожидании отправки, живя в городе, ежедневно приходила к нам в лихо сбитой набекрень бескозырке, в бушлате и флотских клешах. А потом она уехала на фронт, и мы стали получать ее письма, очень живые, подробные, с увлекательными рассказами о фронтовой жизни. Мы уже знали, что отныне наша Оля не санинструктор, а боец разведроты.
Вот кусочек из одного Олиного «треугольника», помеченного жирным штампом военной цензуры «Проверено»:
«…На днях нас шестнадцать человек послали в разведку, с заданием добыть «языка». Темной ночью мы ползли через минные поля, сначала свои, потом немецкие, делая для себя проход, обезвреживая мины. Неслышно подкрались к фашистским окопам, увидели долговязого часового, и двое наших матросов в один миг заткнули ему рот, связали руки и ноги. Затем восемь человек остались здесь, наверху, сторожить и, если понадобится, прикрыть, а другие восемь (я в том числе) поползли к блиндажу. Там послышался разговор, и один из немцев вышел из двери в темноту. Тут же ему зажали рот и заломили руки, потащили к своим, где уже лежал один связанный фриц. Так двух «языков», из которых один оказался офицером, мы приволокли в штаб, не сделав ни одного выстрела!»
В своих письмах Оля рассказывала об эпизодах боевой жизни, в них и намека не было на то, какие трудности она испытывала… Письма дышали ненавистью к врагу, в них с какой-то прямо-таки трепетной искренностью звучало огромное светлое чувство любви к родной стране. Я очень жалею, что не удалось сохранить их все: опубликованные, они могли бы стать интересным свидетельством минувших военных дней, показали бы бесстрашие и чистоту души одной из наших славных современниц, которая не мыслила своей судьбы в отрыве от судьбы Родины.
Мы настолько привыкли к Оле как к «братишке», что я, признаюсь, удивился, когда в очередном письме она вдруг сообщила, что полюбила «удивительного человека», он офицер и они собираются после войны пожениться. В ответном письме я пожелал Оле счастья, приписав, что наша общая просьба – беречь себя, не лезть безрассудно под пули… Неожиданно переписка оборвалась, и долгое время мы ничего не знали об Оле, пока однажды меня не вызвал из операционной фронтовой офицер, оказавшийся как раз тем самым человеком, о любви к которому писала Оля. Он сказал мне:
– Оля Головачева всегда говорила о вас с большой теплотой и благодарностью. Поэтому я посчитал своим долгом найти вас и сообщить, что она геройски погибла…
Как тягостно было услышать это! Никак не удавалось совместить в сознании смеющееся лицо Оли, ее задорный голос, ясную улыбку и вот это – весть о смерти… В голосе незнакомого мне старшего лейтенанта были печаль и глубокая тоска. Отвернувшись к окну, боясь, кажется, разрыдаться, он тихо проговорил:
– Как я боялся этого… Но разве она слушалась кого? Она сражалась за Ленинград.
Справившись со своим волнением, старший лейтенант рассказал о последнем дне Оли Головачевой.
В составе разведгруппы она была заброшена в ближайший тыл врага, и когда моряки, выполнив задание, двигались к своему переднему краю, у нейтральной полосы они неожиданно натолкнулись на немецкий заслон. Встретил их плотный автоматный огонь. Можно было прорваться лишь стремительным, отчаянным броском. И Оля вместе с боевыми товарищами пошла в рукопашную… Сраженную пистолетным выстрелом в упор, матросы все же вынесли ее из боя и похоронили флотского старшину Олю Головачеву как героя, с воинскими почестями. Тело девушки было прикрыто знаменем, и над земляным холмиком прозвучал прощальный салют…
В госпитале, нужно сказать, я не встречал таких, кто бы, получив ранения, умолял эвакуировать их из блокадного города или, поправившись, не просился бы снова на фронт, в свою часть. Многие попадали в госпиталь с тяжелыми ранениями по два-три раза и, встав на ноги, снова рвались на передовую… Только однажды я встретил симулянта, он ходил согнувшись и делал вид, что распрямиться не в силах.
Тщательно обследовав его с помощью различных приемов, мы убедились: отклонений от нормы нет, этот рыжий парень с выпуклыми глазами и покрасневшими краями век пытался нас обмануть. Сделав вид, что ему поверили, я попросил его лечь на живот. Ничего не подозревая, он совершенно свободно исполнил требуемое, тем самым полностью распрямив спину. Теперь-то уж не было никаких сомнений: сгибание и разгибание позвоночника у него хорошее.
– Встать на ноги! – сказал я.
Он встал с кряхтением, опять согнувшись.
– Разогнись!
– Не могу!
– Разогнись немедленно, – тихо, но грозно скомандовал я. – Иначе пойдешь под трибунал.
Он немного разогнулся.
– Еще! И еще… Вот так! Иди и доложи начальству, что здоров и просишь отправить тебя на фронт. Кругом, шагом марш!
И симулянт сразу стал прямым, стройным и зашагал в кабинет к начальнику госпиталя.
Это был совсем молодой, безусый парень, и я не оформил на него бумаги в военный суд, решив, что нашего урока будет достаточно…
Вот единственный случай за время моей госпитальной работы, за все четыре фронтовых года – единственный. А все другие ленинградцы, все бойцы, пришедшие издалека защищать наш город, которых я видел тогда, боролись и умирали как герои.
Таким, в частности, был Гриша Захаров из Батуми.
Бесстрашие и воинская смекалка позволили ему за год с небольшим пройти путь от взводного до командира стрелкового батальона. Он был прирожденный офицер, в котором бесстрашие, уже упомянутое мной, сочеталось с грамотностью, молниеносным умением ориентироваться в самой сложной обстановке и твердостью характера. Так писали о нем во фронтовой газете, которую мы читали в госпитале, когда он находился на излечении у нас.
При контратаке крупный осколок мины ударил его в левый бок, в нескольких сантиметрах от сердца, разорвав грудную мышцу, обнажив ребра и сосуды в подключичной области. Был он на волосок от смерти.
В медсанбате мышцу подшили к ребрам, но выздоровление раненого шло очень медленно, скорее всего из-за плохого питания на фронте в те месяцы. К нам в госпиталь его привезли с рубцующейся раной. Из-за боязни оторвать пришитую мышцу Гришину руку держали привязанной к туловищу. И рана рубцевалась так, что резко ограничивала движения руки.
А Гриша рвался на фронт.
Как сейчас вижу… Он сидит в кабинете напротив меня, в молодых, по-кавказски жгучих глазах огоньки нетерпения, и это же нетерпение во всем его облике, оно угадывается даже в нервном подрагивании тщательно выбритых щек.
– Когда же, Федор Григорьевич?
– Не скоро, Гриша.
– Убегу в свой полк… честное слово!
– Вернут. С такой же рукой не только воевать – работать хорошо не сможешь…
– Что же делать, Федор Григорьевич? – И уже мольба во взгляде. – Война-то идет, а я где?!
После тщательного обследования Захарова мы пришли к выводу, что при настойчивом желании и терпеливом отношении самого раненого руку можно попытаться разработать. А операция на этих рубцах грозит повреждением сосудов и тяжелыми нежелательными последствиями, риск почти без шанса на успех. Так что выхода два: или оставить все не трогая – Захаров будет демобилизован с инвалидностью, или же ему нужно, не щадя себя, разрабатывать руку – и это единственная надежда на возвращение в строй.
Так и объяснили Грише.
И он, усвоив приемы лечебной физкультуры, по многу раз в сутки, днем и ночью разрабатывал свою руку, до пота и крови, в полном смысле этого слова. От упражнений рубец лопался и рана кровоточила. Но Гриша, не давая заживать новой ране, настойчивыми тренировками разрывал рубец еще больше… Становясь к косяку двери, он, перебирая пальцами, тянул руку выше, выше. И вот уже она на уровне плеча, а через несколько дней он с восторгом показывал нам, что поднимает ее почти над головой. Но этого мало: руку нужно поднять выше головы без «почти» и – чтобы она встала вертикально!
Заходя в палату, мы видели, как Гриша, мокрый, с красным от напряжения лицом, старается распрямить руку так, чтобы поставить ее в вертикальное положение. Сколько упорства и какая выносливость! Он брал табуретку, с силой поднимал ее кверху, а затем рывком запрокидывал назад. От этих движений на расстоянии можно было слышать, как трещат рубцы его старых ран. А он не унимался… Кончив упражнения, от ужасных болей не знал куда деть себя, но, отдохнув немного, опять светлел лицом и вновь продолжал упражнения… «Железный старший лейтенант» – так звали Гришу в палатах.
За каких-нибудь два-три месяца Гриша полностью разработал руку! Ранки постепенно затянулись нежным эластичным рубцом, полностью восстановилась функция легких… Гриша сиял, пел песни, и не было, казалось, человека счастливее его! А мне извиняющимся тоном говорил:
– Очень привык к вам, скучать буду, но ехать-то надо, понимаете, надо! Фронт-то как гремит, а!
В день отъезда он зашел проститься возбужденный, в тщательно подогнанной форме, с привинченными к гимнастерке орденами.
– Разрешите, Федор Григорьевич, вас поцеловать…
Мы обнялись.
– Добился ты своего, Гриша…
– Я офицер.
– Теперь до победы!
– Оставляю вам адрес, чтоб встретились мы на Черном море…
– Приеду, спасибо.
– А я сегодня от мамы из Батуми письмо получил. Хожу и улыбаюсь.
– Письму?
– Ну да! Как взгляну на конверт – маминой рукой написано. Она писала. Вот и улыбаюсь…
Потом я смотрел в окно, как шел он двориком, стройный, перетянутый портупейными ремнями, легкий в походке… А вскоре мы получили от него весточку: сообщал, что уже воюет, но теперь не батальонным, а в должности помощника начальника штаба полка. Письмецо дышало молодостью, разговор о серьезном перемешивался остротами и шутками. Я сразу же ответил ему. Но отозвался не Гриша, а его фронтовой товарищ. Он писал:
«Ваше письмо, товарищ Углов, уже не застало ст. л-та Захарова в живых. Горячо любимый всеми в полку, мой друг Гриша погиб две недели назад, в момент, когда к нашему КП прорвались фашистские автоматчики. Гриша организовал оборону, обеспечил выигрышное положение, и в ту минуту, когда поднимал группу защитников в контратаку, вражеская пуля сразила его. Подоспевшие к месту боя наши бойцы полным уничтожением фашистского десанта отомстили за смерть ст. л-та Захарова.
Друг Гриши
Капитан Соловцов».С печалью и грустью читал я сообщение незнакомого мне капитана Соловцова, а виделся Гриша, настойчиво, с одержимостью, превозмогая жуткую боль, разрабатывающий руку, чтобы защитить город Ленина, свою страну, а затем работать на мирной, отдыхающей от взрывов и огня земле… Было родственное в судьбах Гриши и Оли Головачевой, жизнь которых оборвалась в самом расцвете. И я рад возможности хоть вкратце рассказать о них – они достойны нашей памяти, как любой из тех, кто пал в борьбе с фашизмом.
Мне, кстати, сразу же после победного сорок пятого года довелось побывать в Батуми. И я, признаться, долго колебался, идти ли к несчастной матери Гриши Захарова, потерявшей своего единственного сына. Что скажу ей в утешение? Но все же решился… Отыскал нужный дом, стены которого были увиты гибкими виноградными лозами. На мой стук вышла немолодая грузинка, одетая во все черное. Это и была мать Гриши. Я назвал себя и тут же понял, что она хорошо знает мое имя. Но не оживились подернутые скорбью материнские глаза… Молча, со строгим лицом выслушала она мой рассказ, как ее сын лежал у нас в госпитале, как ценой невероятных тренировок сумел добиться возвращения на фронт, как потом пришло к нам письмо от его сослуживца… Ни одного вопроса не было задано мне. Мать все хорошо знала, обо всем передумала, все было пережито ею… Некоторое время мы молчали. И в эти минуты очень уж громким и совершенно лишним казался шум улицы. Я, сославшись на занятость, сказал, что мне, к сожалению, нужно уходить, и тихо прикрыл за собой дверь…
Был жаркий южный день, когда в расплавленном небе плавало тоже расплавленное солнце, а синева у горизонта сливалась с лазурью моря, и белый пароход уходил вдаль. Белые аккуратные домики приморского города стояли в тени развесистых каштанов и густых акаций. Молодые, с загорелыми лицами моряки, позванивая медалями на ослепительных форменках, шли мне навстречу… И я думал, что совсем недавно здесь бегал черноволосый резвый мальчик по имени Гриша. А затем, уже юношей, он гулял тут под руку с любимой девушкой, и счастливая мать встречала его у калитки. Сын отвечал ей любовью, был светлым животворным лучиком в ее, в общем-то, нелегкой жизни: муж – заместитель начальника погранзаставы – погиб еще в двадцатые годы.
Бедная мать! При встрече со мной в ней боролись два противоречивых чувства: с одной стороны, природное гостеприимство требовало радушно принять меня, врача, который заботливо лечил ее сына; с другой – сердце говорило ей, что именно я своим лечением стал невольным виновником гибели Гриши. Зачем я старался? Чтобы вылечить и снова послать под пули?! Зачем же сам Гриша так изнурял себя, терпел боль и страдания? Чтобы никогда не вернуться в материнский дом?!
Я вышел к морю, сел на камень, смотрел на набегающие волны, слушал мерный шум прибоя… У моря чудный дар: возле него становишься собраннее и спокойнее; то, что до этого тревожило тебя, тут как бы становится яснее, недавняя тревога уступает место уверенности. Нет, думал я, Гриша Захаров иначе поступить не мог. Когда Отчизна в опасности, выгоды для себя не ищут! И не она ли сама научила его главному: благородству, чистоте, тому, что в своей сыновней любви он был одинаково предан – и матери. и Родине. И я как хирург по отношению к Грише и ко многим-многим другим всего-навсего лишь честно исполнял свой долг…
Глава XII
Сразу же после победы началась перестройка всей работы клиники на мирный лад. Приехали из-за Урала и из среднеазиатских республик профессора и доценты. Многие же, особенно кто помоложе, возвращались из армии. Госпиталь был закрыт, в коридорах института появились первые курсанты, прибывающие из разных городов страны для изучения вопросов мирной хирургии. Жизнь, как всегда, торопила: новые дни – новые насущные требования.
Именно к этому времени – в конце 1945 года – поступила в клинику Вера Игнатьева, которая нуждалась в большой и опасной операции – удалении части легкого. На первых страницах книги уже рассказывалось и про Веру Игнатьеву, и про то, как я решился приступить к операциям, которые у нас в стране если кто и пробовал делать, то результаты получал неутешительные… Кому-то нужно было начинать! Тем более, что проблема диктовалась самой жизнью. Ее ставили и продолжали ставить перед хирургом больные люди.
В течение многих десятилетий врачи были бессильны помочь таким больным, как Вера Игнатьева или Оля Виноградова, и люди обрекались на пожизненные страдания. Врачи сознавали, что только удаление пораженной доли или всего легкого может спасти больного. Но такие операции считались недоступными из-за их технической сложности и травматичности. Отпугивало то, что никто в этом деле не мог похвалиться удачами, хотя история легочной хирургии богата фактами исключительного упорства и настойчивости в поисках путей для решения этой проблемы. Тут прежде всего нужно назвать имя пионера этого раздела хирургии – профессора С. И. Спасокукоцкого, стремившегося раньше других овладеть методикой легочных операций. Он и его ученики Б. Э. Линберг и А. Н. Бакулев с упорством героев искали ключ к успеху, стойко перенося все невзгоды, что выпадают на долю первопроходцев, особенно когда не удается получить желаемого результата… Было ясно, что вопрос упирается в техническую сторону операции, в невероятную для того времени ее сложность.
Все это в полной мере пережито и мною. Когда после восьмимесячной подготовки я сделал удачно свою первую операцию Вере Игнатьевой, то считал, что этот успех – случайность. Еще четырнадцать месяцев я с упорством одержимого разрабатывал технику, прежде чем взял Олю Виноградову. Только после этой операции стало ясно, что в вопросах техники резекции легких мы стоим на правильном пути. Так в хирургии легких для нас отпал как доминирующий вопрос о технике операции. До этого вся проблема скованно стояла, как река в ожидании ледохода. Лед тронулся, забурлила вода, все оживилось, пришло в движение. Освоена методика резекции легких, значит, пора решать все другие вопросы легочной хирургии. А их набиралось множество! Кое-что можно было почерпнуть из разрозненных сообщений в мировой медицинской литературе, но главное, бесспорно, – данные собственного опыта.
Зарубежные ученые не очень-то любят делиться своими достижениями. Чтобы по тому или иному вопросу извлечь из иностранных печатных источников рациональное зерно, требуется прочесть горы книг и журналов. Может, покажутся интересными данные моей собственной практики, которые я сейчас приведу.
Начав разрабатывать проблему легочной хирургии в октябре 1945 года, я к тому же месяцу следующего года детально изучил 185 отечественных и 220 источников на английском языке. В дальнейшем, когда своя русская литература в силу ее доступности была прочитана во всем имеющемся объеме, я целиком занялся литературой зарубежных стран. Причем к этому времени уже научился читать по-английски, что называется, с листа, не пользуясь словарем. К декабрю 1947 года я прочитал 550 иностранных изданий, а к декабрю следующего года, как подтверждает запись на карточке, мною было освоено и зареферировано в общей сложности 290 наших и 950 зарубежных источников. Знания, почерпнутые в книгах и журналах, тут же проверялись нами в клинических условиях. Это давало возможность критически относиться к любым предложениям, отбирать для себя лучшее, а если же этого лучшего не оказывалось, создавать свое, такое, что наиболее полно отражало наши намерения…
Я работаю много и, чтобы дольше сохранить работоспособность, стараюсь придерживаться режима. Ночью не работаю, днем не нежусь. Аккуратно хожу в кино или театр. Это отвлекает от работы. И. П. Павлов писал, что нужен не полный отдых, а смена раздражителей.
Благодаря тому, что за короткий срок прочитал и осмыслил огромное количество литературы по малоизученной проблеме, я стал легче разбираться в вопросах диагностики, а несколько удачных операций закрепили мои практические навыки. После докладов и демонстраций на заседаниях Пироговского общества я получил определенную известность: теперь нарасхват приглашали на консультации к легочным больным как в терапевтические, так и в хирургические клиники. Очень часто после подобных консультаций просили принять того или иного больного на операцию, и более того – если это было в хирургической клинике, сделать показательную операцию у них. Такие операции я проводил в клиниках профессора Е. В. Смирнова, А. И. Ракова и других крупных специалистов Ленинграда.
В ту пору, надо сказать, и во многих других клиниках пытались освоить хирургию легких, были предприняты такие операции. К сожалению, почти везде они заканчивались плачевно, и после двух-трех неудачных попыток энтузиазм хирургов угасал, изучение особенностей легочной хирургии приостанавливалось. Только в клинике П. А. Куприянова в Ленинграде, А. Н. Бакулева и Б. Э. Лимберга – в Москве да в двух-трех клиниках страны работа по хирургии легких продолжалась. Операции закрепились в тех клиниках, где им предшествовала большая теоретическая и экспериментальная работа.
Мои товарищи-хирурги, приблизительно моих лет, говорили: «Тебе, Углов, повезло, что ты вовремя взялся за хирургию легких. Ты напал на «золотую жилу». Но я глубоко убежден, что «золотая жила» открылась мне только благодаря мучительным поискам многолетнего неустанного труда. Одновременно я освоил хирургию пищевода – тоже очень трудный раздел медицины. Позднее мне удалось освоить и другие важные разделы: цирроз печени, перикардит, хирургию сердца, гипотермию, искусственное сердце и др. И всегда освоению нового раздела предшествовала большая теоретическая работа с последующей проверкой в эксперименте и в анатомическом зале. Я специально подчеркиваю это, чтобы предупредить научную молодежь от попыток искать легкие пути в науке. Не ищите случая «напасть» на «золотую жилу», только упорный труд принесет вам успехи! И не надо бояться трудностей!
Меня всегда привлекали люди, страдавшие каким-то недугом, который излечить считалось невозможным. Мне хотелось вступить в борьбу с недугом и победить, увидеть улыбку тех, кто уже отвык улыбаться, у кого на лице уже давно только страдание и слезы. Не всегда я побеждал, но никогда и не отказывал в помощи, пока не испробовал все возможные методы и способы излечения. И в этой непрестанной борьбе со смертью, в борьбе со страданиями я находил смысл своей жизни.
Как только из моих сообщений на заседаниях Хирургического и Терапевтического обществ, а также из журнальных статей врачи узнали, что больные, десятилетиями считавшиеся неизлечимыми, получают полное выздоровление, к нам в клинику хлынул поток страдальцев со всех концов земли Русской с бумажками-направлениями и без оных! К счастью, благодаря авторитету Н. Н. Петрова и пониманию нашей работы в министерстве мы не были ограничены различными формальными рамками приема больных.
При наших расстояниях, когда до областного центра, а тем более до Министерства, надо добираться сотни и тысячи километров, тяжелые больные, которых мы принимали, едва добирались до клиники, а если бы им еще ехать за направлением, многие могли погибнуть по дороге. Мы в то время руководствовались исключительно медицинскими показаниями. Если при амбулаторном обследовании устанавливали, что человек может быть подвергнут лечению в нашей клинике, принимали, не обращая внимания на то, откуда он приехал, имеется ли у него рекомендация-направление соответствующего медицинского учреждения или нет. Готовы были помочь каждому! Уверившиеся в своих технических возможностях, мы начали оперировать широко и смело. Но до поры до времени…
Очень скоро мы вынуждены были признать: не всех больных, оказывается, можем оперировать с разумными шансами на успех. И дело не только в технике. Именно те больные, которые особенно нуждались в операции, для которых жизнь с их запущенной болезнью представляла муку, именно они из-за общей слабости организма не в состоянии были перенести хирургического вмешательства. Для нас поначалу было непонятно, почему человек погибает после операции, когда у него удален болезнетворный орган – источник его мучений? Ведь он удаляется под наркозом или под хорошей анестезией.
На самом же деле (это мы уяснили позже) операция требует от всего организма человека затраты сил, даже когда она сравнительно небольшая и сделана под безупречно проведенной анестезией. На вопрос: «Вам больно?» – пациент отвечает «Нисколько», – хотя весь мокрый от пота. Испарина крупными каплями не только на лбу, на лице, но и на всем теле. О чем свидетельствует она? О затрате колоссальной физической и нервной энергии, которая как бы опустошает организм: после нее наступает слабость на несколько дней. Отсюда те грозные осложнения после операции, которые нередко на нет сводят все усилия хирурга.
Вопрос об осложнениях как во время операции, так и после нее в литературе почти совсем не освещался. И до всего надо было доходить самим.
Тезка профессора Коля Петров попал к нам в клинику после следующих, тягостных для него обстоятельств…
В каникулы родители отправили его в деревню, и он был счастлив, что у него на этот раз такое чудесное лето: плавай, загорай, катайся на лошадях. Обещал новым товарищам – местным ребятам, что на будущий год снова приедет сюда. Накануне отъезда в город он после рыбалки возвращался с дружками межой пшеничного поля. Срывали колосья, разминали их в ладони, жевали мягкие, не успевшие затвердеть зерна. Небольшой колосок Коля зажал зубами, чтобы выбрать из него два-три оставшихся зернышка. В этот момент один из мальчиков, озоруя, сделал ему подножку, и Коля упал. Ничего страшного не было бы – он сам проделывал такие штучки с приятелями, но тут вдруг так сильно закашлялся, что не мог никак остановиться. Кашлял с надрывом, грудь, казалось, разламывало, а глаза, повлажневшие от невольных слез, готовы были лопнуть… Кашель сотрясал, скрючивал, бил его… Испуганные ребята подхватили Колю под руки и потащили к дому.
Вызвали фельдшера, он дал какое-то лекарство, но кашель, немного утихнув, не прекращался, а к вечеру поднялась температура. Срочно вызванные в деревню родители съездили в районный центр за врачом, тот определил у Коли правостороннюю нижнедолевую пневмонию.
Везти мальчика в город было нельзя. Мать и отец поочередно дежурили возле сына, и лишь через месяц температура стала снижаться, но все же оставалась в пределах 37,5–37,8°. Ребенок откашливал большое количество мокроты. Когда привезли его домой, самые авторитетные педиатры города в один голос подтвердили диагноз, поставленный районным врачом. Лишь через три месяца Коля смог выйти на улицу, а в середине учебного года появился в своем классе. Его едва узнавали, так он осунулся и побледнел. Коля с трудом дождался окончания уроков, а когда вернулся из школы, температура подпрыгнула к 38,3°. Почти месяц лежал он с обострением пневмонии…
Так началась для Коли Петрова жизнь с флакончиками лекарств на тумбочке, с лежанием в постели. И уже нельзя было лихо пробежать по ступеням лестницы, как когда-то бегал, только из окна или стоя в сторонке наблюдал за играми сверстников: он сильно уставал от уроков, от чтения книг, которые любил.
И лишь летняя поездка с мамой в Евпаторию, на море, приободрила, дала облегчение, температура там повышалась редко. Коля повеселел. А когда вернулся домой, сразу же началась очередная тяжелая вспышка пневмонии! За ней в течение года еще четыре обострения. Мальчик практически все время проводил в постели. В доме у всех опустились руки…
Три года без заметных сдвигов шло лечение Коли. Каким врачам его не показывали, куда не возили! А процесс прогрессировал: в моче появился белок, признак опасного осложнения – гнойной инфекции в организме. Кто-то подсказал родителям: ребенка может спасти лишь радикальная операция, попробуйте обратиться в клинику Петрова. И отец немедленно привез Колю к нам. Тогда-то мы и увидели его, исхудавшего до прозрачности мальчика, которому в четырнадцать лет можно было дать не больше десяти. Такая же, как у большинства маленьких больных, стыла в его карих глазах недетская печаль, смотрел он на нас строго и серьезно.
– Ну, папенька, на что жалуешься? – спросил его Николай Николаевич.
– Папенька – это вы будете, – ответил мальчик. – А жалуюсь на кашель и мокроту, которые мучат меня три года и два месяца…
– Долго, – сказал Николай Николаевич и ласково потрепал Колю по плечу. Мальчик, видно, понравился ему. Николай Николаевич попросил меня посмотреть ребенка, а потом рассказать ему, и вышел, оставив нас с Колей и его отцом. Говорил Колин отец глухо, с той скорбью, что давно поселилась в сердце и человек не видит возможности избавиться от нее…
– Пусть сам Коля расскажет, с чего началось…
Вот от Коли и услышали про колосок, который во время падения был зажат у него в губах.
– Ты выплюнул его?
– Н-не помню…
– Постарайся вспомнить. Это важно.
– По-моему, я вдохнул его… Да-да! Ведь кашель с того и начался, что я поперхнулся. Помню – так, так!
Почти не оставалось сомнений, что хлебный колосок, который Коля нечаянно вдохнул, застрял где-то в бронхах, явился причиной пневмонии и последующего нагноения в легком. И другое было ясно: если колосок не вышел в начале заболевания с кашлем, теперь он уже окружен соединительной тканью и сам никогда не отойдет. А пока он в бронхах, нагноение будет продолжаться.
Что можно было сказать отцу? Как объяснить всю безнадежность положения сына? Без операции он обречен. А такую травматичную операцию мальчику трудно выдержать…
Рентгеновское исследование установило у Коли уплотнение всей нижней правой доли легкого с наличием мелких полостей. Причем верхняя и средняя доли были воздушны, а нижняя сморщена, тесно примыкала к средостению. Увидев это, я невольно вспомнил недавно оперированного взрослого больного, те трудности, которые возникли при перевязке нижней легочной вены, и катастрофу, связанную с этим. Не хватит ли с меня? Здесь будет не легче. Это бесспорно. Ведь к тому же приходится учитывать, что общее обезболивание поставлено у нас из рук вон плохо. Подобные операции делаем под местной анестезией. Разве сможет выдержать это ослабленный ребенок, которому не решишься сделать лишний укол?
Попросив Колю подождать в коридоре, я, ничего не скрывая, не притушевывая, изложил все отцу. Тот ответил, что он понимает, но ведь и без операции выхода нет. Надо, надо же что-то делать, нельзя же смотреть, как ужасная болезнь съедает мальчика!
Он говорил по-прежнему глуховатым, ровным голосом, но сколько муки было в его словах!
Клиническое обследование подтверждало, что у мальчика поражена вся нижняя правая доля легкого, начался распад. Вряд ли удастся перевязать нижнюю легочную вену… Я мысленно видел ее перед собой – укороченную, плотную, с отечными стенками. Ведь на нее нужно будет наложить четыре лигатуры! Если бы можно было порекомендовать другого хирурга, который имел бы больший, нежели я, опыт в таких операциях, с радостью сделал бы это. Но кто возьмется? И как всегда, я согласился. Не знал, как отнесется к моему решению Николай Николаевич, но он сказал: правильно…
Первое время при подготовке Коли Петрова к операции нам ничего не удавалось сделать. Мальчика лихорадило, пульс у него частил, мокрота по-прежнему отделялась обильно. Не раз главный врач, выступая на производственных совещаниях и указывая на непомерно затянувшийся койко-день, ссылался на Колю… Мы же продолжали упорно лечить его терапевтически. А не добившись результатов обычными мерами, вынуждены были прибегнуть к введению антибиотиков прямо в гнойную полость легкого, делая укол в грудную клетку (как делали девочке Вале, о которой рассказывалось в первой главе). В ту пору мы считали это рискованной процедурой, поэтому предварительно заручились согласием родителей Коли. И – нам на радость – общее состояние и состав крови у мальчика стали лучше.
По моей просьбе Николай Николаевич назначил день операции.
Мы за эти месяцы так привязались к смышленому и рассудительному пареньку, так близок он стал всем нам, что я не представлял себе, как отнесутся ко мне в клинике, если не справлюсь… Да что я! Коля… Он должен жить…
– Федор Григорьевич, я жду операцию и, по-моему, не боюсь, – сказал мне Коля утром этого дня.
Конечно, он боялся, как боятся ножа хирурга все, даже взрослые, бывалые люди, но, измученный многомесячными болями и кашлем, мальчик подбадривал себя, мечтая о скором выздоровлении.
Как я ни старался, операция, проходившая под местной анестезией, оставалась очень болезненной. Мощные спайки между легким и плеврой, а также между легким и диафрагмой не давали возможности подойти к корню легкого. Эти же сращения препятствовали проведению должного обезболивания. Однако мальчик держался героически. Время от времени я спрашивал его: «Как дела, Коля?» – или что-нибудь в этом роде. «Порядок», – твердо отвечал он. Но чем дольше продолжалась операция, тем слабее становился его голос… А она затянулась. Я чувствовал, что сам от напряжения весь мокрый до ниточки, слышал взволнованное дыхание своих ассистентов.
Самый опасный момент наступил, когда при подходе к вене пришлось отодвигать рукой сердце мальчика. Оно не переносило таких насильственных действий, начинало работать с перебоями, а затем совсем прекращало биться… Сразу же останавливали операцию, давали сердцу отдых, заставляли его возобновить деятельность. И так несколько раз: начнем – остановимся, начнем – остановимся…
…Перечитав написанное, я закрываю глаза, и с сумасшедшей головокружительной быстротой проносятся в памяти мгновения той операции. Я даже в эти секунды ощущаю тяжесть в предплечьях, что накапливается, когда стоишь у операционного стола, и снова досадливое чувство: разве передашь все, что было в те часы, на бумаге?! Боль ребенка и свою собственную боль за него, колоссальную нагрузку, что висит в этот момент на тебе, и ту необъяснимую, близко присутствующую вину: а вдруг все кончится плохо – ведь работаем во многом пока вслепую, пока только ищем, надо б было подождать – а ждать нельзя!.. Подвластны ли перу все нюансы переживаний хирурга, занятого новой для него, неизученной в медицине операций?!
Операция у Коли Петрова закончилась благополучно. Мы следили за его судьбой долго, и мне было известно, что он, закончив школу, поступил в университет, на один из гуманитарных факультетов. А несколько лет назад на перроне вокзала, когда я уезжал в командировку, ко мне подошел Колин отец, уже пенсионер. В те несколько минут, что оставались до отхода «Стрелы», он успел сообщить, что его сын учительствует на Северном Кавказе, на родине жены, и у него уже свои дети…
Было приятно услышать об этом.
Лечение и операция у таких больных, как Коля Петров, требовали от медперсонала, особенно от хирурга, много сил и здоровья. А нас то и дело упрекали в том, что в клинике большой койко-день, что мы тратим много лекарств, что показатели по всем статьям неважные. Не все администраторы понимали, что мы прокладывали новые пути, что мы день и ночь, не зная покоя, трудились не ради своих интересов, а ради несчастных людей.
За многие годы работы врачом у меня сложилось убеждение, что в медицинском мире нелепо на административные должности ставить несостоятельных в научном отношении людей. Нельзя подчинять человека с серьезными знаниями дилетанту. К сожалению, у нас еще встречается такое явление. Хорошо, если дилетант, допущенный к власти, обладает тактом и порядочностью. Но нередко невежда в науке не в меру наделен амбицией, болезненно самолюбив и обидчив. Он только и смотрит за тем, чтобы никто не посягнул на его права, не затмил бы его авторитет. Подлинный ученый, попав под начало к такому человеку, испытывает немалые неудобства, а порой ему приходится тратить больше сил не на дело, а на защиту дела.
В свое время меня поразила судьба замечательного ученого В. Г. Старцева. Не зная его лично, но читая его теоретические работы, я испытывал чувство благодарности и восхищения перед человеком, который сумел многое сделать в развитии учения И. П. Павлова, создал методику экспериментального получения болезней. Он экспериментально получил желудочную ахилию, гастрит, полипы, обосновал возможность получения рака желудка, гипертонии, инфаркта миокарда. Написал несколько книг, часть из которых переведена за рубежом. Его работы я изучил и советовал своим сотрудникам знать труды В. Г. Старцева. И однажды, попав в город, где он работал, решил сходить к большому ученому, выразить ему благодарность от всех врачей, которым так нужны его статьи и книги. И каково же было мое удивление, когда я увидел его в роли заведующего лабораторией, в которой и всего-то, кроме него, один сотрудник. Много лет он трудится в одиночестве, организует и проводит сложнейшие опыты и эксперименты на животных, пишет книги, утверждает свою теорию.
А в том 1947 году операция у Коли Петрова лишний раз подтвердила, что мы на верной дороге и останавливаться нельзя. Хирург способен избавить больного с хроническим воспалением легких от его мучительного, ведущего к гибели недуга! И если у этого мальчика причиной заболевания стало инородное тело, то у других тяжелое поражение легких наступало чаще всего как следствие перенесенного в детстве воспаления, которое лечили кое-как, не доводили лечение до конца. После повторяющихся обострений процесс, как правило, захватывал все легкое.
И если мы, видя страдания больных с хроническими пневмониями, не могли отказать им и брали на операцию, то что же говорить о тех, у кого были хронические абсцессы! Если у первых болезнь протекает годами, то у больных с абсцессами она исчисляется месяцами: в полтора-два года сводит человека в могилу. Неспециалистам, пожалуй, не определить разницы между теми и другими. Тот же кашель с отделением мокроты, те же крайние слабость и истощение…
В том же 1947 году к нам каким-то чудом добрался – так он был изможден и слаб – иркутянин Виктор Васильев. Двадцативосьмилетний, он походил на старика – морщинистый, желтый. Военная, оставшаяся, наверно, с фронтовой поры, гимнастерка висела на нем мешком, и было удивительно видеть, сколько у него наград: чуть ли не полный набор всех имевшихся тогда боевых орденов! Хорошо воевал сибиряк.
Виктор рассказал, что в сорок пятом, когда их десантную часть перебрасывали с Запада на Дальний Восток, он вдруг в пути, в теплушке, почувствовал недомогание. Подумал, что продуло, и, выпив спирта, лег под ворох шинелей, надеясь отлежаться. Однако озноб и потливость не проходили, кружилась голова. На остановке товарищи под руки отвели его в санчасть. Там сделали рентгеновский снимок, и Виктор был спешно снят с поезда, уложен в военный госпиталь. Семь дней он находился между жизнью и смертью, а на восьмой отошло с кашлем около литра гнойной жидкости, и вроде бы немного полегчало, даже аппетит появился. Но повышенная температура держалась, остался изнуряющий кашель. Около двух месяцев пробыл он в госпитале и был отпущен домой с документами демобилизованного «по чистой»…
За полтора года у Виктора пять раз было обострение, и пять раз он лежал в больнице по четыре-шесть недель. Сам видел – не по месяцам, по дням покидают его силы… Нечего было думать о какой-либо работе, уставал даже при чтении книг после двух-трех прочитанных страниц. Слыша, как сын кашляет, мать уходила в соседнюю комнату и там плакала. Собственная беспомощность терзала Виктора так же, как болезнь. Оставила его, перестала появляться в их доме женщина, которая писала ему на фронт. Жизнь для него, обессиленного, теряла смысл. Вот тогда-то он нашел в газете короткое сообщение об успешных операциях на грудной клетке в клинике Петрова, узнал, что их делает доцент Углов, и… тихо ушел из дома. Последние резервы организма были затрачены на дорогу до Ленинграда. И я, осмотрев его, понял: еще всего одна вспышка, и Виктор Васильев погибнет от сердечной и легочной недостаточности.
– Пути назад, товарищ Углов, мне нет, – сказал Виктор. – Поверьте солдату: это мой последний рывок…
Как уж тут было не верить! Виктора немедленно уложили в палату. А мне предстояло размышлять, что же делать… Операция у такого больного – выше наших возможностей. При подобном физическом истощении вряд ли снимем его живым с операционного стола. Начали лечить. Переливали кровь, насыщали витаминами, выписали Виктору дополнительное белковое питание, давали лекарство для улучшения аппетита, даже достали специально для него редкий по тому времени пенициллин – вводили внутрилегочно. А через месяц больной заметно ожил: прибавил в весе, у него резко сократилось количество мокроты, улучшился состав крови. Момент для операции за все время болезни Виктора был наиболее благоприятный. И медлить было нельзя! Если начнется очередное обострение, оно моментально сведет на нет всю нашу подготовку.
Столько операций уже описано на предыдущих страницах, что боюсь, не утомил ли читателя. Но ведь операции – наш главный труд, и моя книга – именно о труде хирурга. Полководец в деталях рассказывает о памятных ему сражениях, писатель – об интересных встречах и событиях, рабочий в своих записках – о том, как шел от рекорда к рекорду. А врач, естественно, – о том, как спасал человека… Да еще когда это тоже не обычное, не будничное явление, а по своей сути рекорд, сражение! Так было с Виктором Васильевым.
Сращения легкого с грудной стенкой и средостением оказались у него настолько прочными, что ни на один сантиметр невозможно было продвинуться в грудь тупым путем – все приходилось резать ножницами. Мои настойчивые попытки разделить сращения между легким и грудной стенкой привели к такой большой кровопотере и резкому снижению давления, что пришлось делать перерыв в операции. Ввели новокаин… Новая попытка… Опять давление катастрофически падает! И раз так, и два, и на третий… Хоть прекращай операцию, ничего не сделав для человека, – лишь бы живым вернуть его в палату! Иначе если не от шока погибнет, то от кровопотери… Как быть? Вижу над масками тревожные глаза моих помощников. Санитарка без конца стирает с наших лиц пот. Волнуясь, то заходит в операционную, то выходит из нее Николай Николаевич. Изредка слышим его подбадривающие слова.
Очень неудобно лежит легочная артерия! Прямо под дугой аорты. Спайки между этими крупнейшими сосудами человеческого организма необычайно могучи: опять должны идти в ход ножницы! Но попробуй действовать ими почти вслепую, на глубине, через тесную щель… На миллиметр в одну сторону – поранишь стенку артерии, а в другую – аорту. Это для больного моментальная смерть. Никакого шва в такой глубине на аорту не наложишь, да и не успеешь. Самая крошечная ранка в ней – и струя крови в метр высотой в мгновение зальет твое лицо, глаза, все операционное поле… Собственное сердце при каждом движении ножниц замирает так, что физически ощущаешь его боль.
И какую выдержку проявляет Виктор! Ведь эта необыкновенно травматичная операция в то время осуществлялась под местной анестезией. Но при таких рубцах новокаин плохо проникает в глубину, мало действует… А больной молчит. Лишь раз я услышал, как он заскрипел зубами.
– Терпи, Виктор.
– Вы там вынимайте все. Ничего мне не оставляйте… кроме сердца!
Он еще пытается шутить!
Наверно, Виктор подсознательно понимает, что его самочувствие оказывает влияние на хирурга, и старается, чтобы в слабом голосе проявились нотки бодрости. Слышим:
– Все нормально, Федор Григорьевич, продолжайте…
И мы продолжаем… час… два… три…
Но когда боль длится долго, она становится непереносимой для организма. На этом основан опыт по получению экспериментального шока. Его добиваются у животного острой, резкой травмой: например, раздавливанием конечности. Сразу же артериальное давление падает до низких цифр, и если не принять соответствующих мер, животное погибает. Или же: вы слегка ударяете молоточком по животу лягушке, и какое-то время она не реагирует. Но если это поколачивание продолжать долго, кровяное давление начнет падать и достигнет тех же критических цифр, что и при острой травме. Значит, продолжительность…
И у Виктора какое-то время давление стабильно, он терпит боль, отвечает нам, но травма продолжается – и давление катится вниз.
– Сколько? – спрашиваю у Ваневского.
– Восемьдесят. Хватит…
Опять перерыв – новое усиленное переливание крови, вводим раствор глюкозы со спиртом, противошоковые растворы. Через пятнадцать-двадцать минут Ваневский сообщает:
– Сто десять на семьдесят!
Операция возобновляется… Замолчавший было Виктор снова подает голос. Говорю ему:
– Еще немного, Виктор…
– Мне-то что, знай полеживай… Вас жалко!
Милый человек! Его раскрытая грудная клетка передо мной, и знал бы он, что врач, склонившийся над ним, в какие-то секунды холодеет от ужаса, что вот-вот тончайшая нить жизни оборвется, ничего нельзя будет поправить.
Наконец перевязана легочная артерия. Это шаг вперед. А нижняя легочная вена скрывается за сердцем, за его левым желудочком. Чтобы подойти к ней, нужно, как было и у Коли Петрова, отодвинуть сердце вправо. Прошу Александра Сергеевича сделать это как можно деликатнее. Но сердце реагирует на смещение так бурно, что я не успел подобраться к сосуду, провести под него нитку, а уже необходим срочный перерыв! Новая попытка подобраться к намеченной цели – тот же результат. И так до ряби в глазах: начали – приостановили, снова начали. А когда удалось – не до передышки. Теперь надо пересечь и обработать бронх.
Позвоночник у меня будто окостенел: не могу распрямиться. А конца операции не видно… Уступить бы кому-нибудь место, пусть другой продолжает. А самому бы выйти из операционной, медленно пройти по длинному коридору, выбраться на улицу, вздохнуть там полной грудью, долго стоять, подставив лицо ветерку… Но не бывает чудес, или, во всяком случае, если и бывают – лишь за стенами операционной. А тут ты как раз тот самый, от кого все другие ждут чудес… Не отвлекайся, будь весь внимание!
Когда в конце концов все же удалось отделить легкое от грудной стенки и все вокруг облегченно вздохнули, еще рано было радоваться. Это стало понятно, когда я взялся отделять легкое от диафрагмы. Требуется легкое отсечь. Но где? Если разрез пройдет высоко, то оставишь много легочной ткани, пораженной гнойными абсцессами, – это наверняка тяжелейшая эмпиэма плевры в послеоперационном периоде. Если же разрез провести пониже, чтобы быть уверенным в удалении всего гнойного участка, можно рассечь диафрагму и вскрыть брюшную полость. Тогда совсем смертельное осложнение – перитонит! Как в былине: направо пойдешь… налево пойдешь… везде одинаково! А прямо пойти – в данном случае попасть в слой – невозможно.
Решаю, что оставить часть легкого на диафрагме – меньшее зло, нежели ранение ее и вскрытие брюшной полости. Отсекаю его, как задумал. Виктор уже не отвечает на вопросы, он тихо стонет… За время операции ему перелили три с половиной литра крови, не говоря уже о противошоковой жидкости, витаминах, глюкозе и тому подобном. И все же к концу артериальное давление опустилось до 40–50 миллиметров ртутного столба, – больной впал в глубокий шок! Больше пяти страшных часов шла операция. А закончили ее – новое испытание. 40–50 миллиметров – самый низкий порог жизни. За ним смерть. Такое давление, дай ему сколько-то продержаться, ведет к разрушению мозговых клеток, к гибели сердца, не получающих должного количества кислорода. Так что борьба за человека продолжалась с неослабным напряжением. Еще не скоро я смог позволить себе желанное – выйти на улицу вдохнуть в застоявшуюся грудную клетку добрую порцию свежего воздуха, а ведь она, грудная клетка, за эти часы не имела возможности ни разу расправиться. Ноющая тяжесть в позвоночнике, свинец в ногах.
То внутреннее напряжение, во власти которого пребываешь в момент операции, долго сохраняется в тебе и после. Иной раз в этот же день переключаешься на другое, консультируешь больных, участвуешь в каком-нибудь совещании, вечером идешь в театр или кино… И все равно, ложась спать, чувствуешь мелкую, не покидающую тебя дрожь, хотя ты всячески стремился отвлечься от тех кошмарных часов операции, на которой, кстати, всех поражало твое царское спокойствие… И это при условии, что операция закончилась благополучно, больной жив. Тут волнение в конечном счете преодолевается внутренним удовлетворением и радостью – человека спас!
Когда же из-за допущенного промаха или внезапного осложнения больной погибнет, волнение достигает предела, продолжается много дней. Как правило, в таком случае назавтра, а иногда и на большой срок хирург отказывается от операций, чтобы прийти в себя, настроиться на рабочий лад. Терзаясь, он ищет, ищет, стараясь уловить причину происшедшей катастрофы и обязательно отыскать повод для самообвинений… Поверьте мне: не только за ошибки, но и за те неудачи, в которых нет его прямой вины, хирург платит самой высокой душевной платой!
…Нет нужды, пожалуй, объяснять, как мучительно протекало выздоровление Виктора Васильева – мучительно для него и тревожно для нас. Чтобы предотвратить угрозу тяжелого нагноения плевральной полости, где осталась часть гнойного легкого, снова добыли правдами и неправдами большие дозы пенициллина, вводили ему с помощью пункции. Лечащий врач Лариса Степановна носила из дому кастрюльки с вкусной, питательной едой. Виктор смущался, но был счастлив.
Ровно через два месяца и восемь дней в хорошем состоянии мы выписали его домой.
Когда Виктор пришел ко мне прощаться, я заметил, что он чем-то смущен.
– Говори, Виктор, – ободрил я его.
– Не знаю уж, как сказать…
– По-военному: четко и ясно!
– Получается, Федор Григорьевич, я вам за все добро злом должен ответить…
– Это как же?
– Хочу увезти Ларису Степановну с собой. Благословляете?
– Ну, – я лишь головой от удивления покачал, – лихой ты десантник, Васильев! Недаром вся грудь в крестах…
– А теперь и в рубцах! – добавил Виктор. – Отпустите Ларису со мной?
– А не отпущу, разве послушаетесь? Но почему она с тобой не зашла?
– Боится, Федор Григорьевич…
Так увез от нас Виктор Васильев способного доктора, и оба они – хорошие люди, думаю, наверно, и сейчас живут в добром согласии. Сам Виктор приезжал в клинику по вызову через четыре с половиной года. Выглядел он превосходно, работал егерем в лесном хозяйстве. Ни кашля, ни мокроты, ни повышенной температуры за эти годы не было у него ни разу.
А операции в клинике, приостанавливаясь на какой-то незначительный срок, возобновлялись снова, и трагические ситуации при наплыве тяжелых и безнадежных больных при отсутствии хорошего наркоза возникали чуть ли не каждый операционный день.
Это надо было выдержать. И не выветрятся из сознания минуты и часы той страшной опустошенности, которая возникала в моменты собственного бессилия у операционного стола. Сколько раз хотелось бросить все, лишь бы так близко не соприкасаться с ужасами и кошмарами самого безысходного человеческого горя! Нет, не то слово «соприкасаться»… Хирург брал это горе на себя, вступая в суровый и травматичный для своего сердца поединок…
Вот больной лежит на операционном столе без пульса, с едва заметными признаками жизни. Твои помощники хлопочут возле него, стараясь поднять кровяное давление. И ты, зажав кровоточащий сосуд судорожно сведенными пальцами, стоишь и не можешь ничего предпринять… Отлично знаешь, что и как нужно сделать, но… скальпель отброшен! Ведь еще небольшая дополнительная травма – и давление крови у больного перейдет критический рубеж, за которым уже небытие. Так мало надо, чтобы перешагнуть эту границу…
Мысленно возвращаясь к тем годам, когда я не имел никакого опыта в производстве операций на грудной клетке, в выхаживании таких больных и только искал подходы к этому, должен сказать самые теплые слова благодарности в адрес своих помощников в клинике Н. Н. Петрова, где, как уже, наверно, ясно читателям, в числе первых в стране закладывались основы грудной хирургии, создавалось учение о резекции легких.
Тут, несколько отвлекаясь, я должен снова повторить: в клинике Петрова вообще был завидный во всех отношениях очень дружный коллектив, и все, от руководителя до рядовых ординаторов, отличались преданностью медицине, не за страх, а за совесть служили благородному делу лечения больных. Дух энтузиазма, творчества, большой уважительности друг к другу царил в то время здесь. Равнялись, разумеется, на Николая Николаевича, а он был к каждому из нас по-отцовски взыскателен и добр. Когда я прочитал у А. П. Чехова, что «профессия врача – это подвиг; она требует чистоты души и помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически», я прежде всего подумал о своем учителе. Всегда и во всем он был именно таким и того же требовал от нас. И я буду безмерно рад, если моя книга, помимо всего другого, станет служить доброй памяти Николая Николаевича Петрова – выдающегося русского хирурга, так много сделавшего для страдающих людей! Я оставляю за собой право еще – в каких-то других подробностях – рассказать об этом замечательном человеке. Ассистенты, медсестры, санитарки… Они, мои товарищи, совершенно добровольно и бескорыстно, во имя служения медицине, вместе со мной терпеливо несли тяжелый крест – вырывали у смерти давно обреченных людей…
Прежде всего надо назвать Александра Сергеевича Чечулина и Ираклия Сергеевича Мгалоблишвили. Кроме них – Нину Даниловну Перумову, Марию Владимировну Троицкую, Нину Ивановну Ракитину, уже не раз упоминавшегося на страницах книги Владимира Львовича Ваневского, еще Андрея Андреевича Колиниченко, и, конечно же, операционных сестер – Людмилу Николаевну Курчавову, безвременно ушедшую из жизни Анну Сергеевну Сергееву, палатных сестер Марию Александровну Афанасьеву, Веру Фалину, Наташу Алексееву…
Я склоняю голову перед ними.
Глава XIII
Приходилось ли вам попадать в морской шторм? Да еще когда требовалось протянуть руку помощи погибающим на волнах… У меня было это однажды. Навсегда осталось в памяти, как наше суденышко в пене и брызгах стремительно взлетает на гребень грохочущего водяного вала, мы на мгновение видим даже светлую полоску далекого горизонта, видим обращенные к нам с надеждой лица людей, терпящих бедствие, и вдруг палуба уходит из-под ног, судно с высоты летит в какую-то бездонную пропасть, ничего не различить, не понять, и лишь упорство в душе: снова наверх, чтобы была та, светлая линия горизонта, чтобы успеть спасти несчастных…
Я рассказываю это сейчас, вспоминая незабываемые годы тревог и волнений. Так же упрямо, наперекор преградам стремилось на помощь погибающим наше утлое, не оснащенное еще «навигационными» приборами медицинское суденышко. Мы то поднимались наверх, видели улыбки людей, то снова нас отбрасывало назад, в бездну человеческого горя и человеческих слез. Опять требовались месяцы настойчивого, казалось, беспросветного, труда, чтобы наконец проглянуло желанное солнце…
А люди шли искать у нас помощи. В обычной, мирной, счастливой, в общем-то, жизни, человек, заболев и ощутив близкую угрозу смерти, сразу же становится совершенно беспомощным, растерянным… Таким он появляется перед врачом. И от внимания врача, степени его гуманности и душевности, опыта, знаний, способностей зависит отныне судьба и жизнь заболевшего и, конечно, его семьи.
Для врача не важно (должно быть не важно!), что представляет собой человек, обратившийся за помощью: какого он роду-племени, кто по своему общественно-социальному положению, друг или недруг. Врач обязан встретить его одинаково приветливо и тепло. Перед ним больной, и этим все сказано. Необходимо как можно быстрее включиться в борьбу с недугом… Недаром же еще Гиппократ, указывая на качества, необходимые врачу, прежде всего выделял решительность и совестливость, склонность к суждению и изобилие мысли.
Кстати, в истории медицины немало примеров, когда врач оказывал срочную помощь своему врагу, или отвергнутому обществом преступнику, или попросту убийце. Это его профессиональный долг. Недаром же во время войны в медсанбатах раненый из рядов противника получал такую же помощь, как свой воин. Конечно, тут не приходится ссылаться на гитлеровцев, на их зверства по отношению к советским раненым бойцам. Это было попрание всех общечеловеческих норм, это был фашизм. Его отголоски, к общему возмущению всех честных людей, мы встречаем и в наши дни. Не раз газеты приносили нам известия о пытках и издевательствах агрессоров над ранеными защитниками Вьетнама, о фактах зверской жестокости на захваченных чужих территориях вооруженных молодчиков, одетых в португальскую и израильскую форму… Это позор цивилизованного мира…
Я же хочу сослаться на один эпизод из истории хирургии, показывающий, как истинный врач способен забыть всю свою неприязнь к человеку, причинившему ему большое зло, если тот вдруг оказывается перед угрозой смерти… Его наблюдал С. Р. Миротворцев, крупный хирург из Саратова, во время своей заграничной поездки, и связан эпизод с именами известных немецких хирургов Кохера и Ру.
Ру долгое время был учеником Кохера, и тот многое сделал для него. Однако когда Ру покинул своего учителя, он – скорее всего из-за зависти – стал говорить о нем гадости, всячески поносил его. Учитель и ученик не только прервали взаимоотношения друг с другом – превратились в непримиримых врагов.
Вдруг Ру заболел. Сам поставив себе диагноз – рак желудка, – он распорядился, чтобы его старший ассистент назавтра сделал ему операцию. Тот, испугавшись такой огромной ответственности и одновременно переживая за своего шефа, этим же вечером поехал в другой город… к профессору Кохеру! Сказал ему, что не надеется на себя и спасти его руководителя может лишь такой великолепный специалист, как он, профессор Кохер. Тот, не колеблясь, ответил: «Я не могу отказать больному в операции. Однако условие: то, что операцию делал именно я, больному не говорить!»
Когда профессору Ру дали наркоз, в операционную вошел поджидавший за дверью Кохер… А уехал он отсюда, пока больной еще не проснулся. И лишь через две недели тот узнал, кто же на самом деле оперировал. А узнав, тут же, как только позволили силы, поехал к Кохеру. В присутствии многих ученых Ру, обращаясь к своему бывшему наставнику, взволнованно сказал: «Вы всегда учили меня благородству, и в этот раз опять преподали новый урок. Я глубоко сожалею, что вел себя по отношению к вам недостойно, и всю жизнь буду прославлять вас…» Встав на колено, Ру поцеловал Кохеру руку.
…На страницах этой книги я уже не раз подчеркивал, что высоким принципам гуманизма, присущим нашей отечественной медицине, я на первых порах, когда это особенно нужно, учился у М. И. Торкачевой, а потом закрепил их под началом Н. Н. Петрова. И всю жизнь стараюсь следовать их заветам.
Чувство бережного отношения к больному у нас, врачей, должно быть, что называется, в крови.
И очень важно, чтобы врач всегда ощущал доверие больного, его уважение. Это, кажется, понимают все врачи, но по-разному стремятся завоевать расположение своих пациентов. Есть такие, что сразу начинают с грубоватого панибратства, невзирая на возраст человека, на то, по душе ли ему такое обращение или действует на него отталкивающе… Другие, наоборот, сюсюкают: речь их строится на снисходительно-ласковой интонации («миленький», «хорошенький», «ты у нас чудо»). Тут фальшь видна за версту.
Конечно же, доверительные взаимоотношения больного и врача могут держаться лишь на искренности, соблюдении такта и предельном внимании друг к другу.
Встречал я, к сожалению, и таких врачей, чья откровенность хуже зла. Больной слаб, организм его изношен, и врач, исследовав его, сочувственно вздыхая, говорит: «Да, укатали сивку крутые горки! Здесь уж ничего, брат, не поделаешь – годы и болезнь берут свое…» – или что-нибудь в таком духе. А то еще и добавит: «А вы что, надеялись вылечиться?» Больной подавлен, удручен, на самом деле начинает верить, что все его беды от старости, тут уж медицина не помощница, нужно смириться и обреченно ждать конца…
Следует ли объяснять, что такая позиция врача антигуманна, и к тому ж его «диагноз» по своей сути неправилен. Большинство людей, даже в весьма преклонном возрасте, умирают все же не от старости как таковой, а от болезни. Следовательно, каждый человек, который обращается в лечебное учреждение, может получить помощь, способную уменьшить его страдания и продлить жизнь.
Разумеется, другой крайностью может быть неоправданный оптимизм, когда врач, пытаясь утешить больного, уверяет, что болезнь его – пустяки, сделают операцию – как рукой все снимет. А у человека заболевание крайне опасное.
Всегда необходимо, по-моему, объяснить больному, что болезнь требует к себе серьезного отношения как со стороны его самого, так и врача. Они вместе, локоть к локтю, обязаны сделать все, чтобы по возможности быстро и успешно справиться с нею. При этом в суждениях врача должен чувствоваться обоснованный оптимизм: правильное и своевременное лечение способно устранить любой недуг… Причем необходимо утвердить больного во мнении, что хотя каждая операция таит в себе опасности, но эти опасности несравнимы с тем, что несет в себе болезнь. А существующее в быту выражение: «С операцией не спеши, успеется!..» – в корне ошибочно. С операцией очень часто безнадежно опаздывают… Больному надо знать это.
А врачу, помимо всего, необходимо учитывать обостренность психики больного человека: ведь у того все мысли подчинены страхам и надеждам, вызванным внезапным заболеванием. Он даже не представляет себе, что кто-то сейчас может быть равнодушен к его хвори, невнимателен к нему. Метко подмечено в народе: «У кого что болит, тот про то и говорит». Никогда больной не простит врачу невнимания, и в какой бы форме оно ни было выражено, он заметит его обязательно.
В решении же жизненно важного вопроса – делать ли операцию? – большое значение имеют авторитет хирурга и разумная поддержка окружающих больного людей. Ни один врач, понятно, не застрахован от возможных ошибок… Больной, прежде чем лечь на операционный стол, может, конечно, побывать у специалистов, послушать разных врачей, с чем-то согласиться, от чего-то отказаться… Однако советоваться нужно именно со специалистами! Ибо рекомендации профана могут привести к самым тяжелым последствиям. Пишу об этом сейчас, вспоминая, какие драмы разыгрывались на наших глазах, когда к нам в клинику поступали больные с диагнозом рака легкого, поступали большей частью тогда, когда мы были бессильны помочь им.
Здесь создаются сложные психологические ситуации. Когда удается распознать рак легкого в начальной стадии, больной в этот момент чувствует себя хорошо, операция его страшит, он неохотно соглашается на нее, всячески затягивает время. Особенно если поддерживают его близкие, тоже опасающиеся плохого исхода от вмешательства хирурга, или «доброжелатели», подсказывающие, как лечить себя самому или знахарскими способами. А какова польза от самолечения, люди понимали еще в старину, когда медицина как наука лишь создавалась. Недаром же В. И. Даль включил в «Пословицы русского народа» такую: «Самого себя лечить – только портить».
И человек, надеявшийся непонятно на какое чудо, избегавший хирурга, вскоре подходил к такому рубежу, когда из-за запущенности болезни операция становилась или крайне опасной, или вообще уже практически невозможной. В это время в психике больного происходит коренной перелом: сильно страдая от своего заболевания, он настойчиво просит сделать операцию, теперь точно зная, что без нее дни его сочтены. Так же прозревают и родственники, столь же настойчиво осаждают хирурга требованиями немедленно положить их близкого на операционный стол…
Как быть? Хирург в раздумьях… С одной стороны: разве устоишь перед слезами, когда сам к тому ж только и хочешь избавить человека от мук? С другой стороны, надежд на успех мало и опыта нет…
На память приходит сцена из тех, уже далеких дней. Я помню все так, словно это было вчера.
…Рабочий судостроительного завода Николаев мог похвастаться своей физической силой: дай ему подкову – разогнет. До пятидесяти пяти лет никаких больниц и поликлиник не признавал. Был он заядлым курильщиком, дымил с малолетства, и так, что порой двух пачек папирос в день не хватало. Посмеиваясь над теми, кто говорил о вреде курения, выпячивал могучую грудь, бил в нее ладонью: «Сколько дыму заглотала эта бочка, и хоть бы хны!» И в семье не перечили: что толку-то, ему скажи, а он обругает и по-прежнему будет коптить…
Но вот жена стала примечать, что муж худеет, осунулся, спит плохо и если раньше любил поесть, теперь к еде равнодушен. Настояла, чтобы он пошел к врачу. А тот, выслушав, направил в рентгеновский кабинет. Там отметили какое-то затемнение в нижней части легкого и послали в туберкулезный диспансер. Диагноз туберкулеза в диспансере отвергли, Николаев «по цепочке» был передан нам. При тщательном обследовании выявили: рак легкого! Причем нам было ясно: размеры опухоли таковы, что операцию, дабы не опоздать с ней, нужно делать немедленно. Об этом тут же сказали жене Николаева и его взрослой дочери.
Вышли они от нас, конечно, в смятении и первым делом поехали в заводскую поликлинику. Там врач – женщина добрая, отзывчивая, они знали ее давно, – внимательно прослушав Николаева, привычно похвалив его богатырское сложение, отнеслась к нашему диагнозу скептически. «Лечь под нож всегда время будет, – успокоила она. – Надо попробовать поколоться пенициллином, и главное, хорошее питание!»
Слова врача, которому в семье доверяли, сразу же погасили тревогу. Тут же Николаев стал ходить на уколы, и хотя после войны требовалось затратить немало усилий, чтоб иметь калорийное питание, отныне в доме всегда были на столе масло, сливки, мясо, белый хлеб… И Николаев быстро набрал утраченные было килограммы, заметно окреп, даже опять к папиросам потянулся. О нашем предостережении совсем забыли… До поры до времени, разумеется.
Месяца через два и Николаев сам почувствовал, что в легких неладно, не по каплям, а быстро утекает его завидная сила. По направлению поликлиники он попал к Александре Гавриловне Барановой, которая как раз в ту пору настойчиво создавала основы рентгенологической диагностики рака легких. Знаток своего дела, она, посылая больного в нашу клинику, вынуждена была с грустью признать: опухоль развилась до такой степени, что помочь человеку невозможно. Сама приехала к нам, и мы снова, теперь вместе, посмотрели Николаева в рентгенкабинете: да, поздно… Сказали, как водится, больному успокоительные слова. А без него все обстоятельно изложили жене и дочери. Их так потрясло наше сообщение, что мы и не знали, как их успокоить!..
Все же я нашел в себе силы решительно сказать, что болезнь запущена, таких операций я никогда не делал, больной вряд ли сможет перенести ее – нет-нет, не могу!
– Поверьте, – продолжал я, – это тот случай, когда мы, врачи, пока бессильны. Как можно рисковать, чуть ли не наперед зная, что мы не в состоянии дать жизнь человеку?
– Но делаются же у вас разные операции! – вся в слезах воскликнула дочь. – У отца такие боли, что он, таясь от нас, в подушку кричит. Что лучше: ждать в нечеловеческих муках собственной гибели или умереть… даже умереть, но с надеждой, что может быть… может быть!..
Она зарыдала.
Неожиданно вошедший в кабинет Николай Николаевич поначалу лишь слушал то меня, то Николаевых. И вдруг сказал:
– Что ж, папенька, они, может быть, правы… Я разрешаю. Что ответишь?
Это были первые недели 1947 года. В моем послужном списке, напомню, значились тогда лишь операция у Веры Игнатьевой, закончившаяся успехом, как я считал, по чистой случайности, и операция у Рыжкова, которому мы только перевязали легочную артерию. И хотя разум предостерегал: ты еще не готов, умение твое в легочной хирургии на уровне подготовишки, в глубине души вкрадчивый и настойчивый голос подталкивал меня: смелость города берет, необходимо пробовать, сколько будем топтаться на месте, а Николаев, пожалуй, человек сильной воли и большого терпения… а вдруг… а вдруг…
И я дал согласие на операцию, проводить которую, само собой, предстояло под местной анестезией (сейчас как об этом подумаю, в дрожь бросает!). День тоже запомнился навсегда – 28 января. Был он вьюжный, с унылым подвывающим ветром, на окна операционной густо лепились рыхлые хлопья влажного снега. Осталось ощущение зябкости и сумрака, подавить которое не могли ни тепло нагретых батарей, ни мощный свет наших светильников…
Эта операция по своей технике и тем трудностям, что мы встретили в первые же минуты, когда вскрыли грудную клетку, похожа на уже описанные мною (как у Веры Игнатьевой, например).
Самое страшное началось, когда я пересек нижнюю легочную вену. Нитки, наложенные на центральный отрезок, вдруг соскользнули, и вырвавшаяся наружу кровь в доли секунды заполнила все операционное поле. Вена из-за непомерно большой опухоли с кулак величиной, расположенной в нижней доле легкого, была натянута между сердцем и легким как струна, а после пересечения сразу же сократилась к сердцу. Ее культи с силой высвободились из ниток, завязанных со всем моим старанием и опытом! Смерть, все время витавшая над операционным столом, вдруг во всей своей обнаженности и неотвратимости встала между больным и мною… Надо быть хирургом, чтобы перечувствовать, испытать весь трагизм такого положения. Разве захватишь теперь сосуд, ушедший на заднюю поверхность сердца?! Послушные прежде руки будто одеревенели, и лишь колоссальным напряжением воли я заставил их снова подчиняться. Захватив пальцами кровоточащее место в сердце, я с помощью Чечулина пытался наложить кривой зажим прямо на его стенку, чтобы хотя так остановить кровотечение… Этого не удавалось сделать долго, но в конце концов зажим занял свое место, приток крови приостановился… я, наверно, заплакал бы, если бы никого не было рядом.
Сердце Николаева, остановившись, замолкло навсегда.
Мое собственное сердце словно положили в огонь, его беззвучный крик убивал меня.
Человек, доверившийся мне, погублен… Сколько бы утешительных причин ни находилось, чтобы оправдать себя, все оправдания шатки и сомнительны, когда ты виноват в смерти другого. Согласившись на операцию, ты уже этим самым что-то обещал больному, обещал и, выходит, обманул… Обманул, почти что предал… Зачем же мне все это, зачем?!
Как я сейчас выйду за дверь операционной, где в муках надежды ждут жена и дочь того, кто дорог им и любим ими?! Никто другой, а я должен буду сказать:
– Он умер…
…Часом позже я сидел в кабинете Николая Николаевича. Учитель, тревожно поглядывая на меня сквозь толстые стекла очков, убеждал:
– Николаев стоял у своей последней черты, ведь опухоль-то какая была! Он сам себе худо сделал: не пришел, когда звали, предупреждали… А сосуд, я видел же, никакие нитки не могли удержать…
– Не легче от этого, Николай Николаевич. Для меня, для всех нас, для нашей клиники важен был удачный исход. Иначе зачем было браться?
– Нет, папенька, неверно говоришь. – Николай Николаевич головой покачал. – Взялся – теперь тяни! Опустишь руки – найдутся, поверь, другие, кто настойчивее, крепче нервами будет. Должны же мы научиться… Но я уверен, ты сладишь с этим делом, вы, сибиряки, упрямые, и Бог тебе все, что нужно хирургу, дал… Иди, папенька, отдохни малость, впереди еще будет столько всего, что раскисать – непозволительная роскошь для нас. Сегодня, знаешь же, опять двое раковых больных поступили. Легочники… Ждут ведь, ждут!..
Я долго бродил по городу, даже зашел в кинотеатр. Менялись кадры, звучали голоса киногероев, вокруг меня перешептывались незнакомые люди, шуршали конфетными бумажками.
Свет в зале наконец зажегся, и я вышел в потоке зрителей на заснеженную улицу, только тут поняв, что смотрел на экран, а ничего, оказывается, не видел… Такое было знакомо, уже случалось. И дома, когда лег в постель, тоже повторилось знакомое – та самая нервная дрожь, о которой писал раньше. Избавлением от нее мог стать лишь сон, но он долго не приходил. Перед глазами стояли шагнувшие мне навстречу мать и дочь Николаевы, ужас и смятение на их лицах: они без слов в мгновение все поняли…
Этот случай, оставивший глубокий след во мне на многие годы, а может, и навсегда, происшедший в 1947 году, в начале наших поисковых операций, заставил меня быть осторожным в подобный момент операции. В дальнейшем и у Оли Виноградовой, и у Коли Петрова, и у Виктора Васильева, и у многих других я тщательной перевязкой вены добивался благоприятного исхода. А это, как читатель видел, было нелегко. Нам грозила остановка сердца, а мы все же шли на его повторное смещение, лишь бы быть уверенным, что сосуд перевязан надежно.
И все же при опухоли легкого, когда она соприкасается с веной, эта процедура и позднее иногда не удавалась. Лигатура соскальзывала, и начиналось кровотечение из сердца. Но мы, уже наученные горьким опытом, нередко справлялись даже с такими осложнениями.
Был и такой случай… Проводил показательную операцию на легких. Раковая опухоль располагалась в нижней доле и так близко примыкала к нижней легочной вене, что перевязать ее и наложить лигатуру – задача почти невыполнимая. Как я ни старался, не удавалось! Надо полагать, некоторую роль тут играло еще то, что на меня в это время смотрели двенадцать пар глаз крупнейших хирургов мира. Больной, по существу, был признан неоперабельным, но мне казалось неудобным, что зарубежным гостям ничего интересного не удастся показать в нашей клинике, поэтому и пошел на громадный риск…
В конце концов мне удалось перевязать и прошить вену, но, видимо, не очень точно, потому что когда пересек ее строго между лигатурами, одна из них соскользнула с сердечного конца сосуда, и началось кровотечение практически из самого сердца! Хуже нельзя было представить себе… Вот это отличился! Что же тут сделать – быстро и точно?! И я, вставив палец в сердце, тем самым остановив кровотечение, повернулся к гостям и сказал: «Господа, из-за технических осложнений мы на этом операцию закончим. Вы, пожалуйста, пройдите ко мне в кабинет, я минут через пятнадцать присоединюсь к вам, там продолжим дискуссию…»
Они ушли. Это было, конечно, сделано затем, чтобы они не увидели смерти на операционном столе, если нам не удастся справиться с кровотечением. Мне приходилось наблюдать такое у некоторых хирургов за рубежом, и я знал, какое тягостное впечатление выносишь из операционной, как трудно потом разговаривать хирургу с хирургом – гостю с хозяином…
Но у меня палец в сердце, и только благодаря этому нет кровотечения! Как только палец уберу, кровотечение огромной мощности в несколько минут приведет больного к печальному концу. Между тем мой голос и мое поведение были настолько внешне спокойными, что никто из гостей даже не заметил, что произошла катастрофа. Они вышли из операционной с некоторым недоумением. Я же, оставшись с больным, прежде всего присел на табурет и постарался привести себя в полное душевное равновесие. Затем незанятой рукой расширил рану, освободил все окружающее операционное поле от салфеток и инструментов, взял кривой зажим и, обойдя им свой палец, находившийся в сердце, стал накладывать зажим прямо на стенку сердца, постепенно при этом извлекая палец. Когда он был извлечен полностью, кровотечения не последовало! Осторожно прошил это место со стенкой сердца и тщательно перевязал его, после чего зажим был снят… Больной перенес операцию хорошо и выписался из клиники в удовлетворительном состоянии.
А тогда, ровно через пятнадцать минут, я был у себя в кабинете. На вопрос одного из гостей: «Что случилось?» – объяснил, что произошло кровотечение из нижней легочной вены и поэтому операцию пришлось прервать. «А что сейчас с больным?» – «Кровотечение остановлено. Операция окончена. Жизнь больного вне опасности. При желании можете его посмотреть…» Гости – все до одного – бурно реагировали на мои слова.
После неудачной операции в январе 1947 года только в апреле 1948 года мы повторили попытку удалить легкое при раке, расположенном на периферии.
К этому времени нами был уже накоплен значительный опыт подобных операций при гнойных легочных заболеваниях. И эта прошла совершенно гладко. Мы даже сумели снять ее на кинопленку, чтобы показать врачам-курсантам. А когда позже смотрели эти кинокадры иностранцы, они в удивлении лишь головами качали: их поражало, что такую сложную операцию русские проводили под местной анестезией!
Теперь-то мы и сами вспоминаем тот период как кошмарный, не зная, чему больше удивляться: терпению больных или выдержке хирурга, который, производя столь тяжелую в техническом отношении операцию, должен был в процессе ее впрыснуть больному в операционное поле до трех литров раствора новокаина!
После первой удачной операции при раке легкого я, окрыленный этим, стал их проводить систематически, получая, как правило, неплохие результаты, если только операция делалась больному своевременно.
До сих пор помню врача В. Н. Г-на, заядлого курильщика, который, проходя рентгеновское обследование, нужное для оформления санаторной карты, выявил у себя круглое затемнение в легком. Он немедленно приехал ко мне. «Это, наверно, рак. Я ведь курю более тридцати лет. Федор Григорьевич, сделайте мне операцию!» При проверке диагноз подтвердился. Я удалил ему опухоль вместе с легким. Он поправился и приезжал к нам в хорошем состоянии и через три года, и через десять лет, уже пройдя черту шестидесятилетия.
Нет, думаю, необходимости объяснять, что при раннем выявлении опухоли и хирургу проще оперировать, и больной легче, без осложнений переносит операцию. К сожалению, такие больные встречались редко. А потому, особенно на первых порах, именно из-за того, что больные поздно обращались за помощью, возникали очень сложные, почти неразрешимые трудности, вынуждавшие меня иногда прекращать операцию, так и не удалив опухоли, ибо не было надежды, что снимем человека со стола живым. Ведь кроме всего тогда мне не у кого было учиться, не у кого спросить, как избежать той или иной опасности или как справиться с ней, если она случилась. Как и раньше, приходилось искать выход самому… Те же немногие пионеры этого дела, которые одновременно со мной разрабатывали проблему излечения рака легкого, находились в таком же положении, как и я. Что же касается молодых хирургов, то начиная с 1950 года у них долгое время единственным руководством была моя книга «Резекция легких». Вопрос об осложнениях при операциях, об ошибках и опасностях, предостерегающих хирурга, освещался мною довольно подробно, и не только на основании собственного опыта, но и на основании опыта других ученых, изучавших этот вопрос как у нас в стране, так и за рубежом.
Тогда же, в 1948–1949 годах, из-за нашей малоопытности, а главное потому, что больные поступали в крайне запущенном состоянии, печальные исходы были не редкостью. И каждый из них на долгое время оставлял глубокий незаживающий след в душе хирурга. Я обязан был все перенести, выдержать, перестрадать в себе самом… И было ясно: многие из тех, что обращались к нам, приобретали болезнь из-за своего легкомыслия, из-за пристрастия к вреднейшей привычке – курению.
Увы, некоторые скептики, даже среди тех, кто имеет диплом врача, упрямо не соглашаются с научными доводами против курения, ссылаются на дедушку, который трубки изо рта не вынимал, а прожил семьдесят лет! Смешно даже опровергать наивность подобных утверждений. Мы, хирурги, знаем: каждый из курящих подвергается опасности получить рак легкого в двадцать раз больше, чем тот, кто не курит. И стоит подумать: не слишком ли высока цена этого удовольствия, если за него платят двадцатью, тридцатью годами жизни? Кроме того, неисправимые курильщики умирают в два-три раза чаще и от таких заболеваний, как инфаркт миокарда, язва желудка, бронхит…
Естественно, позднее обращение больного к хирургу, когда болезнь весьма запущена, а общее состояние организма от этого слабое, чаще влечет за собой различные осложнения во время операции, они тяжелее протекают и порой, несмотря на все усилия врачей, заканчиваются трагически… Вот почему много лет непрекращающихся поисков ушло у нас на то, чтобы научиться выявлять ранние признаки рака легкого, безошибочно ставить этот диагноз при самой ранней стадии заболевания.
В клинику между тем продолжали поступать не просто тяжелые больные, а к тому же длительно лихорадящие, у которых болезнь все время определяли как воспалительный процесс, а затем выяснялось, что в легких имеется раковая опухоль, воспаление же присоединилось позднее… И наоборот, встречались больные раком легкого, которые были в крайне опасном состоянии, но не из-за опухоли, а из-за гнойной инфекции, подключившейся к ней. И здесь механизм болезни сложен.
Много раз продумывал я создавшуюся ситуацию и, видя полную безнадежность больных, которые на наших глазах таяли как свечи, снова и снова мысленно представлял себе положение опухоли и место, где происходил гнойный процесс… А почему бы нам не применить пункции, не вводить антибиотики в ту часть легочной ткани, которая лежит от опухоли к периферии? Опухоль расположена глубоко, ее можно не тронуть! Выбора-то нет! Самочувствие больных ухудшается катастрофически быстро, и пройдет еще немного времени, им уже ничем не поможешь…
В это время в клинику к нам поступил больной Георгий Николаевич Трофимкин, крупный инженер ленинградского строительного треста.
Решительный, даже волевой человек в делах, Георгий Николаевич только в одном не мог перебороть себя: отказаться от папирос. А курил с детских лет. И успокаивало, конечно, то, что при частых рентгенологических осмотрах ему говорили: «Дай Бог всем иметь такие легкие, как у вас!»
В этот год рентгенолог осматривал его дольше обычного, а под конец вообще попросил задержаться – сделал снимки. Они выявили в нижней доле легкого какое-то уплотнение, про которое рентгенолог сказал, что оно ему не нравится. Георгий Николаевич обеспокоенно спросил: «Не рак ли?» – «Ну зачем же сразу о страшном думать», – ответил рентгенолог, и голос у него при этом был тусклый, взгляд тревожный. Так смотрят на безнадежно попавшего в беду, не зная, как ему помочь. Георгий Николаевич ощутил, как земля уходит из-под ног… Неужели?! Он теперь боялся даже произнести убийственное слово – рак. «Это конец», – сказал он себе. В пятьдесят шесть лет! За что такое наказание?! Он никогда ничем не болел! Неужели из-за папирос?!
Когда расстался с рентгенологом, шел бездумно, лишь бы куда-нибудь идти… И опомнился где-то далеко за городом. Было уже совсем темно. Вытащил спички, чтобы посмотреть, который час. Часы показывали десять, а у рентгенолога он был в четыре. Получается, что бродит шесть часов. Жена теперь беспокоится… Но что он скажет ей, детям?! Что же делать? Что ждет его?
Тихо побрел домой.
И вдруг яростно и бурно на смену прежним пришла другая мысль, и она показалась спасительной… А собственно, почему он себя хоронит? Можно же что-то предпринять. Наверно, с помощью операции избавляются и от этой страшной болезни? Пусть не надолго, на год, на два. Как хорошо прожить еще два года! А возможно, и больше! Если хирург искусен, он вылечит совсем! Не терять времени – вот что главное, и не раскисать. А вдруг у него никакой не рак… право, вдруг не рак?! Ведь рентгенолог ничего определенного не сказал, лишь стал очень озабоченным.
А когда Георгий Николаевич лег в терапевтическую клинику, там у него признали… воспаление легких! Это было так неожиданно и так ошеломляюще радостно, что он поначалу думал, что от него скрывают истинную болезнь. Но вскоре убедился, что никакого обмана нет. Стало смешно и неловко перед самим собой: как перепугался-то! Взрослый человек, руководитель большого коллектива, отец семейства…
И недели через две Георгий Николаевич уже был выписан домой. Уехал за город, на дачу. Отдыхалось хорошо и спокойно. И хоть дал жене слово, что с курением расстанется, выходил порой за калитку, «стрелял» у прохожих папиросы… Смущало лишь, что не покидала слабость, нет прежней бодрости в теле, и когда стал мерить температуру, оказалось, что вечерами она повышена. А буквально через полмесяца ему стало настолько плохо, что он снова был вынужден лечь в терапевтическую клинику. Тут опять начали лечить антибиотиками, и вроде бы наступило облегчение. Но все же была слабость и по вечерам держалась температура… Сделанные рентгеновские снимки выявили то же затемнение, с которым он поступил в клинику в первый раз. Уверенные в своем диагнозе, терапевты применяли все большие и большие дозы антибиотиков. И почти два месяца длилось так… Георгию Николаевичу было то лучше, то хуже, но наконец температура стала не только повышаться по вечерам, но и утром. День ото дня все выше. Тогда-то было решено показать больного опытному хирургу из соседней клиники, занимавшейся легочной хирургией. Тот сразу же заподозрил, что в легком опухоль, порекомендовал перевести больного в хирургическую клинику для дополнительного обследования и уточнения диагноза.
А Георгий Николаевич между тем стал совсем плох: даже перевод из одного медицинского учреждения в другое отнял, казалось, последние силы. В новой клинике он совсем перестал вставать с постели. Здесь видели, что больной не в состоянии будет перенести хирургического вмешательства. Поэтому когда диагноз – рак нижней доли левого легкого – был подтвержден, вопрос о назначении на операцию отпал сам по себе при одном взгляде на этого тяжелого больного… Все же созвали консилиум из представителей хирургической и терапевтической клиник, на котором единодушно признали, что, к сожалению, все сроки упущены, Георгий Николаевич Трофимкин – из неоперабельных…
Днями позже по просьбе городских властей осмотреть больного был приглашен я. Предполагалось, что если еще один специалист подтвердит невозможность операции в данном случае, тогда ничего не попишешь, придется смириться с тяжелым приговором…
Мне, признаться, было не совсем удобно идти на консультацию в клинику, которой руководил известный специалист в области торакальной хирургии, и не по его приглашению, а по подсказке начальства… Однако я встретил тут самый теплый прием, мне подробно изложили историю болезни, показали хорошо сделанные рентгеновские снимки легких, представили больного. Тот был до крайности изнурен тяжелым недугом, сопровождавшимся упорной лихорадкой. Но отдаленных метастазов выявлено не было. Рентгеновские снимки показывали, что опухоль, располагаясь в нижнедолевом бронхе, привела к его закупорке. Общее тяжелое состояние в первую очередь вызвано задержкой мокроты в периферических отделах этого бронха. Я сразу же подумал, что если попытаться пункциями удалить застоявшийся там гной и ввести туда антибиотики, больной, возможно, почувствует себя лучше, а это – путь к операции. Мало шансов, но все же имеются…
Высказанные мною соображения были встречены врачами клиники с вежливым скептицизмом. И в конце концов мне прямо сказали, что они не верят в успех подобных пункций, делать их не будут, считая, что это небезопасно в смысле разноса раковых клеток… Мне ничего не оставалось, как записать в карточку больного, что тот может быть переведен в нашу клинику.
Георгий Николаевич дал согласие на перевод в другое место с равнодушием обреченного, лишь попросил разрешения несколько дней побыть дома… Я откровенно объяснил ему всю серьезность положения, только не назвал точно диагноз. Сказал, что попытаемся поднять его силы, чтобы сделать операцию. Георгий Николаевич кивал головой, а думал, чувствовалось, о своем. На что надеяться, когда от него отказывается прославленная клиника, где операции на легких делаются очень часто! Вновь его отправляют в другое место, а оттуда, пожалуй, передадут еще куда-нибудь, если, конечно, он еще протянет какие-то недели…
Когда в отличной, известной на всю страну клинике ему не могут помочь, разве в другой что-то сделают? Ведь возможности этой, очередной клиники никак не больше, а, скорее, меньше, чем той, из которой его сейчас переводят. Значит, смирись, Георгий Николаевич, это судьба…
С такими мыслями он и попросил разрешения побыть в семье несколько дней, чтобы проститься с родными и близкими. Домой его внесли на носилках, подняться по лестнице он уже не мог.
Какое-то время он пролежал в постели с закрытыми глазами. Жена и дети подумали, что он уснул, оставили в кабинете одного. И когда Георгий Николаевич очнулся, то увидел около кушетки любимого пса Аскольда; лежит овчарка и не спускает с хозяина глаз… С трудом поднявшись, Георгий Николаевич подошел к креслу, опустился на него. Собака тут же легла у ног, преданно ловя его взгляд.
– Ну что, Аскольд, плохи наши дела, – тихо сказал Георгий Николаевич.
Услышав голос хозяина пес уткнул морду ему в колени. Хозяин погладил его, слегка потрепал по голове непослушной рукой.
– Да, не повезло мне. Останешься ты скоро один!.. Надежд, брат, никаких! – Георгий Николаевич высказывал своему бессловесному другу тягостные, не покидавшие его мысли. А потом сидел в кресле с закрытыми глазами, стараясь ни о чем не думать. Впереди было все мрачно и пусто. Пятьдесят шесть прожитых лет представлялись одним счастливым мгновением – было и не было; и как это несправедливо: ты готов жить, творить полезные дела на земле – но всё!..
В это время вошла жена и хотела подойти к Георгию Николаевичу. Аскольд приподнялся и загородил собой хозяина. Шерсть у него на спине вздыбилась, и он, оскалив зубы, сердито заворчал на хозяйку, по сути на свою верную кормилицу – она его выхаживала с месячного возраста. Сейчас пес инстинктом чувствовал, что с хозяином плохо, он беспомощен и беззащитен – его нужно охранять, никого не подпуская к нему… Даже ее, Ольгу! И понадобились уговоры, чтобы Аскольд успокоился, позволил Ольге дотронуться рукой до плеча Георгия Николаевича.
Позже, когда я уже познакомлюсь с семьей Трофимкиных, мне рассказали этот эпизод удивительной преданности собаки своему хозяину. Мне было интересно послушать такое потому, что я с детства держу и люблю собак и много раз убеждался не только в их преданности, но и в их понимании слов и дел своего хозяина.
У меня была очень хорошая овчарка, Акбар, которая, находясь около меня, всегда зорко следила за тем, чтобы меня никто не коснулся. Стоило моему знакомому, которого Акбар хорошо знал и уже к нему привык, положить руку мне на колени – он сейчас же вскакивал, брал зубами руку и не кусал, а только отводил в сторону, дескать, «не трогай моего хозяина». Как-то в мое отсутствие он приболел, жена покрыла его моим старым пальто. Он положил голову на него и никому не отдавал, пока я не пришел… Но еще удивительнее было доверие Акбара ко мне. Как-то он заболел и долго не мог поправиться. По совету ветеринарного врача мы стали ему делать уколы пенициллина. Акбар с первого же укола почувствовал улучшение. В последующие дни он сам по моему зову подходил и ложился, подставляя для укола заднюю часть. Когда надо было сделать ему переливание крови, т. е. взять у Акбара из вены и влить ему же внутримышечно, я это делал один без посторонней помощи, даже не надевая ему ни намордник, ни ошейник. А однажды, спустя какое-то время после болезни, уличный кот исцарапал ему всю морду в кровь. Акбар, загнав кота на дерево, подбежал ко мне, ткнул окровавленной мордой и тут же улегся, повернув ко мне спину: мол, давай делай мне укол!
Когда Георгия Николаевича через несколько дней доставили к нам на носилках, не было сомнения, что у него уже тяжелое хроническое заражение крови, вызванное нагноением в легких. И нагноительный процесс явился результатом закупорки бронха опухолью. У меня не было сомнений и в другом, что пока не удалим гной из легкого, состояние Трофимкина будет ухудшаться и ни о какой операции говорить не придется. Естественно, я ощущал большую тревогу и ответственность за больного, отлично понимая, что делать ему пункции, от которых категорически отказались в столь авторитетной клинике, большой риск. Поэтому, посоветовавшись, решили пригласить для обсуждения создавшегося положения видных терапевтов своего института в надежде получить у них поддержку в нашем начинании. Но мы, оказалось, напрасно ее искали… На консилиуме разгорелся жаркий спор между нами, хирургами и терапевтами, такой, когда обе спорящие стороны считают правыми лишь себя, не сомневаются лишь в себе, своем деле, своих рекомендациях.
– Мы настаиваем на операции, – после тщательного осмотра больного единодушно заявили терапевты. – Без операции он погибнет, и очень скоро.
– Но в таком состоянии больной не перенесет операции, – возразил я. – Сначала нужно уменьшить интоксикацию.
– Больной не поддается лечению антибиотиками. Здесь так: или оперировать сейчас же, немедленно, или уже считать его неоперабельным. Дальше ему будет еще хуже…
– А как вы смотрите, если станем вводить больному антибиотики внутрилегочно с помощью пункций?
– Как можно?! Пунктировать легкое, пораженное раком? Да что вы, не представляете, что ждет при этом?!
– Опухоль в центре и закупоривает главный бронх, – старался объяснить я. – К периферии от опухоли скапливается мокрота, нагнаивается и вызывает лихорадку. Если мы будем вводить антибиотики в периферический отдел легкого, то опухоль, уверен, совсем не заденем…
– Федор Григорьевич, это абсурд…
И хотя терапевты так и не согласились с нами, мы с предельной ясностью видели: терять нечего, больному с каждым днем становится все хуже, и ни сульфамидные препараты, ни примененный внутримышечно пенициллин не оказывают на него никакого воздействия. Опробуем свой новый метод.
С большой осторожностью начал я делать больному внутрилегочные пункции с введением больших доз пенициллина и стрептомицина. Переживал, мучился, ждал… Но день за днем – никакого результата! Я был подавлен, не зная, что и думать… Ведь были же блестящие результаты таких пункций при абсцессах легкого! Почему же, по сути, испытанный способ не срабатывал тут? До этого мы не сомневались, что успех будет. В какой-то степени выдали векселя… А теперь получается, что оплатить их не можем. Как довольны будут те, кто скептически относился к нашей новой затее!
Но и отступать, сдавать позиции без последнего, решительного боя также не в моих правилах.
Перебирал возможные варианты, сопоставлял, анализировал. Вспомнил девочку Валю, у которой также первое время не было никакого эффекта от этих пункций, и решил вводить больному внутривенно большие дозы однопроцентного хлористого кальция, хорошо зарекомендовавшего себя при других септических процессах. Это оказалось верным. После первого же вливания хлористого кальция температура у Георгия Николаевича упала и больше не поднималась… В это же время усиленно переливали больному кровь, вводили витамины, разработали улучшенное питание. И так – целый месяц, пока не стало видно, что больной окреп. Он прибавил в весе, стал самостоятельно ходить, у него исчезла одышка, улучшились кровь и все показатели деятельности сердца.
Несмотря на то что я имел уже большой опыт в хирургическом лечении рака легкого, все же на эту операцию шел с некоторым беспокойством. Тут помимо возраста больного имела немалое значение длительная лихорадка, долго мучившая его. И хоть сейчас ее не было, она не прошла бесследно для организма… Наконец, сам факт, что от лечения Трофимкина, по существу, отказались лучшие знатоки в этом вопросе, накладывал особую ответственность. Я, разумеется, не хотел делать никому никакого вызова. Просто желал помочь больному, спасти его от неминуемой гибели, и мне казалось, что это возможно. Но невольно возникла такая ситуация, что попытка успешно прооперировать Трофимкина расценивалась как вызов с моей стороны тем, кто не решился на это, и к операции – я знал – было приковано внимание многих людей. Понятно, что в случае неудачи меня могут справедливо упрекнуть, что я слишком самонадеян, что более благоразумные люди правильно решили, нужно уметь прислушиваться и так далее. А кроме всего прочего, если опытные специалисты той клиники не нашли возможным как-то облегчить участь Георгия Николаевича, даже не попытались вывести его из тяжелого состояния, значит, они предполагали в операции большие технические трудности…
К несчастью, так и оказалось: трудности дали о себе знать, едва вскрыли грудную клетку. Как бывает лишь в самых ответственных случаях, операцию я начал сам. Обычно же разрез грудной стенки делают ассистенты, чтобы тем самым сберечь силы хирурга: он приходит позднее, и в самый напряженный момент будет еще не так утомлен… Сразу же увидел: легкое припаяно к грудной стенке очень прочно, это следствие тяжелого воспалительного процесса в нем. Стал терпеливо разделять все спайки, подошел к корню легкого. Опухоль, закрыв нижнедолевой бронх, распространялась довольно глубоко по главному бронху и придавливала левую легочную артерию. Хуже того! – создалось впечатление, что опухоль прорастала в ее стенку. Явно встретим серьезное препятствие при выделении легочной артерии! А тут еще близкое соседство с аортой, с которой артерия тоже соединена прочными спайками.
Ассистировавшая мне Антонина Владимировна Афанасьева, увидев, что я долго и настойчиво ощупываю место соприкосновения опухоли с артерией, попросила разрешения проделать то же самое и, как опытный хирург, сразу оценив обстановку, встревоженно сказала:
– Федор Григорьевич, не лучше ли вовремя остановиться и признать больного неоперабельным, пока не случилась катастрофа? Она здесь неминуема! Артерии от опухоли нам не отделить!
– Ну, Антонина Владимировна, как можно! – тут же возразил второй ассистент, Валерий Николаевич Зубцовский. – Если мы на это пойдем, те, кто отказывал больному в операции, засмеют нас!
– Если кто-то будет смеяться, подумаешь, какой грех! – отозвался я. – Об этом ли надо заботиться? Отказаться от операции – обречь человека на верную и очень скорую гибель без борьбы за его жизнь… А мы будем бороться! Как думаете, Антонина Владимировна, если вскрыть перикард, нам не легче будет?
– Вскрыть перикард так или иначе придется, без этого совсем будет трудно. Но поможет ли это, не уверена.
Вскрытие перикарда позволило ощупать артерию несколько выше. Но и там опухоль очень тесно прилегала к ней. Меня сейчас волновало одно: проросла ли опухоль в сосуд или только близко к нему примыкает? В последнем случае нам удастся их разделить, не нарушив целости его стенки, а если же она проросла, прорыва артерии не избежать!
Осторожно, строго контролируя каждое движение их пальцев, стал подводить бранши зажима под артерию, стараясь провести их между нею и опухолью. Но как только раздвинул бранши, чтобы отделить их друг от друга, началось обильное кровотечение. Неужели это конец всему?!
Чтобы понять трагичность создавшейся ситуации, нужно иметь в виду, что диаметр этого сосуда равняется двум с половиной – трем сантиметрам. А чем ближе кровоточащий сосуд к сердцу, тем меньше требуется потери крови, чтобы наступила остановка сердца. Здесь же кровотечение, можно сказать, прямо из сердца!.. Промедление – это смерть! Левой рукой я схватил кровоточащий сосуд и, сдавив его, остановил кровотечение. Прикованный теперь к нему, с помощью Антонины Владимировны правой рукой высвободил со всех сторон верхнюю легочную вену, подвел лигатуры, перевязал, прошил и пересек ее. Доступ к легочной артерии стал удобнее, можно попробовать перевязать сосуд выше надрыва…
Взяв кривой зажим, я принялся подводить его под сосуд выше своих пальцев, чтобы там провести лигатуру, и в это время с ужасом почувствовал, а затем и увидел: надрыв в артерии увеличивается и вот-вот наступит ее полный поперечный разрыв! В силу эластичности стенок один отрезок, сократившись, немедленно уйдет глубоко под сердце, а другой – в ткань легкого, и из обоих отрезков начнется такое мощное кровотечение, которое не остановишь. Все будет залито кровью, и в ее быстро растущем потоке концов сосудов ни за что не найти и не зажать… Смерть больного – вот она, ближе быть не может!.. Ощутил, как противный холодок страха и какой-то еще непонятной, пока смутной вины тут же завладел сознанием и телом. А мозг все же, не поддаваясь, где-то глубоко, работает напряженно над тем, как же выйти из создавшегося положения, как спасти больного? На решение вопроса отводятся доли секунды…
И в самый последний миг, когда оба отрезка держались буквально на волоске, я чудом сумел подвести одну браншу зажима под сосуд и захватить его центральный отрезок. Периферический же придавил пальцами, а потом также перехватил зажимом…
Вот это и называется «на волоске от смерти»! В первое мгновение я сам никак не мог поверить, что удалось почти невероятное… Но раздумывать не приходилось, послабление себе давать было рано. Ведь больной, несмотря на то, что мне удалось пережать оба отрезка сосуда, все же успел потерять очень много крови. Давление упало. Вообще, у тех больных, которые до операции долго и упорно лихорадили, сердечно-сосудистая система неустойчива: достаточно небольшой дополнительной нагрузки – и она может сдать.
Так получилось и у Трофимкина…
Прекратили операцию. Начали усиленно переливать кровь. Появилась возможность хоть немного прийти в себя… Все же смертельная угроза, что внезапно нависла над больным, стоила нервов! Чувствую в руках мелкую дрожь. Нужно скорее унять ее, ведь дальше работать! Попросил принести крепкого сладкого чаю… Выпил, не отходя от стола.
– Как давление?
– Быстро выравнивается, сто на семьдесят. Операцию можно продолжать.
Операция у Трофимкина лишний раз подтвердила, что хирург обязан бороться за жизнь человека, даже когда все диагностические показатели восстают против этого.
Георгий Николаевич показался мне через год, затем через четыре. Был здоров и работоспособен. Последний раз он приезжал ко мне через семнадцать лет после операции, будучи, по его выражению, глубоким пенсионером. Он попрежнему чувствовал себя хорошо, на общественных началах возглавлял одну из комиссий райисполкома, гордился тем, что его сын стал кандидатом технических наук… Такой свет и такую жажду жизни видел я в его поблекших от возраста глазах, что не было мне большей награды, чем сознавать, что я причастен ко всему этому!
Наши работы по хирургии легких, публиковавшиеся в медицинской периодике, и наши операции у тяжелых, ослабленных больных, от которых зачастую отказывались другие хирурги, продолжали привлекать в клинику крупных специалистов из разных городов страны. Приезжали, чтобы посмотреть своими глазами, пощупать своими руками… Среди гостей был профессор Павел Иванович Страдынь – заведующий кафедрой хирургии медицинского института в Риге. Пытливо взглянув на меня при встрече, он сказал:
– Много читал написанного вами и не меньше слышал о вас. Теперь вот хочу самолично удостовериться!..
Невысокого роста, энергичный, с живым, цепким взглядом, Страдынь понравился мне. Облазил всю нашу клинику, всем интересовался, когда я делал операцию, смотрел, дотошно вникая во все ее детали. А уезжая, пригласил: ждем в Риге, просим прочитать лекции врачам Латвии и провести показательные операции.
Что ж, любая дорога – это хорошо. Она сулит открытия, неожиданные встречи, в дороге есть время осмыслить и пройденный путь, попытаться заглянуть в свое будущее. Под мерный стук колес легко, освобожденно думается, жизнь и события проходят перед мысленным взором ярко и впечатляюще. И я, когда ехал в Ригу, вспоминал, с каким душевным трепетом брался за проблему, которая в отечественной медицине еще никак не была решена. Причем брался, будучи лишь доцентом на кафедре, работая под началом руководителя, который при его громадном авторитете в науке сам с этой проблемой незнаком… Припомнил первые ощущения. С одной стороны, страх, что взваливаю на плечи непосильный груз, с другой – ободряющие мысли о том, что иные же добивались при упорстве и воле намеченных рубежей. В медицине примеров этому не счесть! И почему не быть тем, кто повторит путь многих своих предшественников – через дебри непознанного проложит первую тропинку… Дерзко, но есть в твоей жизни – цель, главное дело. Этому отныне ты подчиняешь всего себя. Радость и жажда поиска, терпение и терпение! Уже позже попадутся мне на глаза очень правильные слова академика И. Курчатова: «Делайте в своей работе, в жизни самое главное. Иначе второстепенное легко заполнит вашу жизнь, возьмет все силы, и до главного не дойдете».
Читая зарубежную медицинскую литературу, я видел, что кто-то уже имеет успехи в разделе грудной хирургии, и если такое удается за границей, почему не должно получиться у нас?!
И вот теперь меня уже приглашают, чтобы поделиться опытом с хирургами других городов. На конференции врачей Советской Латвии будет мой доклад о достижениях в легочной хирургии…
Конференция прошла очень живо, интерес к докладу был огромный, и в этот же день мне показали больных с заболеваниями легких. Одна больная с легочным нагноением подлежала операции – резекции доли легкого. Через два дня, в присутствии чуть ли не всех хирургов Латвии, я успешно провел эту операцию. Дал подробные указания, как вести больную в послеоперационном периоде. Сам навещал ее по нескольку раз в день… А Павел Иванович Страдынь тут же показал мне еще одну больную, которая жаловалась на то, что как только поест, у нее сейчас же начинаются перебои сердца, вплоть до кратковременных аритмий. Терапевты же никакой патологии в сердце не находят…
Я попросил разрешения посмотреть больную в рентгеновском кабинете, чтобы проверить, не связано ли это с какой-либо патологией пищевода. При первом же глотке бария был выявлен крупный дивертикул пищевода, то есть выпячивание его стенки в виде кармана. При глотании пища затекает в карман и начинает давить на заднюю стенку сердца. Вот она, причина аритмии! И чем дальше так будет продолжаться, тем сильнее дивертикул станет беспокоить женщину. Без операции не обойтись…
Павел Иванович согласился с моими соображениями. Больше того, попросил сделать и эту операцию. На следующий день операция подтвердила диагноз. Дивертикул был отсечен и ушит, больная поправилась, перебои сердца исчезли.
После этого мне не раз еще представлялась возможность посетить Ригу и клинику профессора Страдыня, и я рад, что ближе узнал одного из лучших хирургов нашей страны. Мне было понятно его стремление тут же, немедленно внедрять в практику новые достижения медицины, как только он убеждался, что за ними будущее…
А я в тот период, работая над проблемой рака легкого, нередко попадал в сложную ситуацию этического порядка, особенно когда дело касалось лечения коллег – врачей по профессии.
Уже был накоплен весомый опыт в операциях на легких, когда в руководимую мною клинику приехал директор провинциального онкологического института Е. Б. Б-ов, тот самый, что еще в 1949 году уговаривал меня перейти к нему в институт на должность заместителя директора по научной работе. Тогда я отказался от этого, но мы остались добрыми знакомыми. Б-ов нередко гостил у меня, мне тоже привелось бывать в его радушном доме. Веселый, жизнерадостный человек, он любил песню и шутки, умел рассказывать анекдоты, в компании с ним было весело! Но курил на редкость много и на все мои дружеские советы и укоры внимания не обращал, а однажды заявил, пожав плечами:
– И откуда вы, Федор Григорьевич, взяли, что от курения развивается рак легкого? Недавно я читал статью в зарубежном журнале, где говорится, что это еще никем не доказано!
– За рубежом статьи могут быть заказаны табачными монополиями, которые заинтересованы в сбыте своей продукции, в том, чтобы люди курили больше…
– Нет, Федор Григорьевич, вы меня не убеждайте! Сами не курите и не представляете, что это за удовольствие! Две-три затяжки хорошей папиросой, и настроение повышается!
Так было. А в этот раз он появился у меня расстроенный, отвечал на расспросы об институте и семье невпопад, рассеянно, затем решительно вытащил из портфеля рентгеновские снимки.
– Как думаете, что у меня? Не как товарищ товарищу ответьте, а как авторитетный специалист по легким – врачу…
– Более вероятным диагнозом является хроническая пневмония, – сказал я заведомо неправду, – но все же надо лечь в клинику для обследования.
При обследовании диагноз рака правого легкого уже не вызывал никакого сомнения. Но как уговорить Б-ова на операцию, не называя ему ужасной болезни? Долго ломал голову… Наконец сказал так:
– Диагноз не совсем ясен. Вероятнее всего, в легких воспалительный процесс. Но чтобы не прозевать что-нибудь страшное, нужно, думаю, обязательно сделать пробную операцию. В случае чего удалить одну верхнюю долю…
Б-ов, поразмыслив, согласился. На операции же обнаружилось, что опухоль перешла на главный бронх, нам ничего не оставалось, как убрать легкое целиком.
После операции – хочешь не хочешь – приходилось скрывать правду и дальше.
– По всем признакам мы думали, что у вас рак, поэтому решили убрать все легкое… Вы сами врач и, надеюсь, поймете нас: было подозрение, пошли на крайнюю меру, – говорил я Б-ву, мучительно переживая, что лгу, и утешаясь одним, что эта ложь – святая.
– Что же показала гистология? – спросил хмуро Б-ов.
Не мог же я ответить, что гистологическое исследование подтвердило: рак! Поэтому, переживая еще больше, сказал:
– На препарате рака не оказалось. Хронический воспалительный процесс! Вас можно поздравить, что наши подозрения гистологами опровергнуты окончательно…
Б-ов крепко задумался, а потом мрачно изрек:
– Как же, Федор Григорьевич? Рака нет, а вы удалили все легкое! Знал бы – лучше б к вам не приезжал!
Он уехал, не попрощавшись со мной, и после говорил про меня всякие неприятные вещи, где только и кому только мог. Между тем мы затратили на операцию много времени, сил!
Человек тучный, с превышением нормы веса больше чем на двадцать килограммов, он в послеоперационный период перенес тяжелую пневмонию (в оставшемся легком!), и наверно, ясно, сколько труда вложил весь наш коллектив, чтобы выходить этого больного! В награду же одни упреки! И все из-за того, что не могли сказать человеку правду…
Б-ов прожил после операции свыше пятнадцати лет. Оставаясь по-прежнему тучным, он, понятно, постоянно ощущал отсутствие одного легкого и, задыхаясь, каждый раз поминал меня недобрым словом. Умер же он от другого заболевания. И мне, разумеется, до конца его дней не удалось себя реабилитировать по соображениям той же этики…
Должен отметить, что проблемы хирургического лечения рака легкого в пятидесятые годы наряду с нами вели другие ведущие клиники страны. Так, в Москве, кроме А. Н. Бакулева и Б. Э. Лимберга, занялся вопросами легочной хирургии, много сделал и в лечении гнойных заболеваний и рака легкого Виктор Иванович Стручков, блестящий общий хирург, имевший несколько монографий. Серьезно и результативно работали А. И. Савицкий, Е. С. Лушников и другие. Я уже не говорю об А. А. Вишневском, который хотя и переключился на хирургию сердца, все же операции на легких никогда не оставлял. А в Ленинграде успешно стал оперировать больных раком легкого профессор П. А. Куприянов со своими талантливыми учениками И. С. Колесниковым и М. С. Григорьевым. Сначала в Брянске, а затем в Киеве добился благоприятных исходов при операциях на легких профессор Н. М. Амосов, в Горьком – Б. А. Королев.
Я, чувствуя, что уже достаточно подготовлен к этому, решился приступить к изложению накопленного опыта в печати в виде монографии, тем более, что подобных книг на русском языке еще не было. Писал эту книгу в течение всего 1957 года, хотел, чтобы она была доступным практическим руководством для врачей. Поэтому старался как можно подробнее рассмотреть особенности ранней диагностики, на живых примерах показывал разнообразие клинических признаков этого заболевания и в то же время их закономерность, которую можно и нужно учитывать…
В 1958 году моя монография под названием «Рак легкого» вышла в свет. А чуть раньше, когда она была еще в наборе, на прилавки магазинов поступила книга на эту же тему, написанная признанным авторитетом в вопросах грудной хирургии А. Н. Савицким.
Как ждали в медицинских кругах появления таких руководств, в какой-то мере, возможно, показало количество восторженных отзывов в прессе и поток писем, которые я как автор получал из разных уголков страны. Писали молодые и опытные хирурги, писали ученые, все единодушно отмечали, что подобные книги станут для врачей настольными, их нужно расценивать не только как научные исследования, но и как необходимые учебные пособия… Но оказалось, что медицинские книги читают не только врачи…
Меня окольным путем разыскало письмо некоей Анны Ивановны Косолаповой из Москвы. Она, купив мою книгу «Резекция легких», опубликованную в 1950 и 1954 годах, адресовала письмо в издательство с просьбой передать его профессору Углову. В аккуратно написанных строчках был крик о помощи: спасите моего мальчика! Косолапова спрашивала, можно ли ей с сыном приехать… Я как раз на несколько дней собирался в Москву, а поэтому послал Косолаповой открытку, что приблизительно в такой-то день и такие-то часы зайду к ним сам и посмотрю мальчика.
В прихожей меня встретили молодая женщина и высокий худенький подросток лет четырнадцати. От меня не ускользнуло явное недоумение, даже разочарование на их лицах. По-видимому, не такого профессора тут ждали! Ведь я выглядел намного моложе своих лет, а тут еще небольшой рост…
– Другим вас представляли у нас в семье, – смущенно и откровенно призналась Анна Ивановна. – Я, читая вашу книгу, пытаясь представить, какой же он, этот ученый, невольно думала…
– …что он обязательно старый, седой и борода у него или клинышком, или лопатой, во всю грудь, – шутливо докончил я.
– Именно так, – еще больше смутилась хозяйка.
Мне это было знакомо. Приезжает, бывало, какой-нибудь солидный врач с периферии, постучит в дверь кабинета, скажет: «Мне бы профессора Углова…» – а сам смотрит через мою голову: не сидит ли он в глубине комнаты?
– Пусть вас не смущает моя «молодость», – успокоил я Косолаповых. – Пятый десяток размениваю, а профессора в этом возрасте, честное слово, бывают!
Шутил, чтобы у хозяев скорее исчезла неловкость первых минут. Затем попросил мать рассказать, как началось заболевание сына, как проходило, где и как лечили его…
Алеша, оказалось, в восемь лет тяжело болел левосторонней пневмонией. Антибиотики только входили в практику, и мальчика вначале лечили по-старому: банки, горчичники… У смерти вырвали, но с тех пор температура стала упорно держаться на 37,3–37,6°. Не проходил кашель. Он был вял, апатичен, угас интерес к школьным занятиям, шумным играм. Мать – учительница – вынуждена была оставить работу, стала заниматься с сыном дома. Тянулся месяц за месяцем, год за годом, но улучшения не было.
Анна Ивановна старалась разыскать и прочитать все, что касалось легочных заболеваний. Но знакомство с медицинской литературой утешения не давало; терапевтическое лечение в данном случае малоэффективно, а операция, которая нужна Алеше, пока не делается… Анна Ивановна добилась, чтобы сына взяли в клинику. Там установили, что у мальчика полностью поражены нижняя доля и часть верхней левого легкого, и сказали матери:
– Вашему сыну предстоит большая операция – удаление легкого. Мы опасаемся, перенесет ли такой ослабленный мальчик эту операцию? И воздерживаться от операции не советую: у ребенка начинаются изменения в моче. Подумайте… Сейчас Алешу выписываем, а осенью приходите снова, поставим вас на очередь…
Анна Ивановна увела сына из клиники в полном отчаянии. То, что услышала, поразило ее своей неумолимой жестокостью. Убрать все легкое! Следовательно, сын на всю жизнь, еще не начав ее толком, будет инвалидом. Как же быть, кто подскажет?
В эти дни тягостных размышлений Анне Ивановне и попала в руки моя книга «Резекция легких». Я, слушая грустный рассказ, рассматривал рентгеновские снимки и бронхограммы, сделанные, чувствовалось, опытным специалистом. Картина вырисовывалась ясная. У мальчика типичное поражение нижней доли и одного сегмента верхней доли левого легкого. Ему предполагают удалить все легкое, потому что легочная ткань поражена в обеих долях. Однако когда в верхней доле затронут лишь один сегмент, а остальные три не задеты, можно применить сегментарную резекцию. Ведь сохранить три крупных сегмента верхней доли – значит оставить ребенку почти половину легкого! Левая половина грудной клетки будет развиваться, как и правая. Обдумав все, я сказал Анне Ивановне:
– Операция, конечно, неизбежна. Только она способна спасти мальчика. Может быть, удастся даже сохранить часть верхней доли легкого… Приезжайте в нашу клинику, там будем вместе решать.
Когда Анна Ивановна вместе с Алешей приехала в Ленинград, мы, обследовав мальчика, поняли, что к операции придется готовить его долго, и все равно угроза для жизни останется большой. А если делать сегментарную резекцию, то есть практически делать двойную операцию – риск, естественно, также будет двойной. Если мальчик не вынесет двойную операцию, мать может сказать: «Лучше б он жил инвалидом!» А не скажет, и без ее слов будешь мучиться. Так что, борясь за полное выздоровление Алеши, можно потерять… его жизнь.
И здесь необходимо быть правдивым и честным до конца. Хирург обязан спросить себя, как бы он поступил, если бы оперируемый был для него самым дорогим человеком. Использовал бы этот вариант или бы выбрал другой? Взвесь и обдумай! И если утвердишься в мысли, что для своего близкого сделал бы то же самое, – тогда имеешь моральное право идти на риск. Но не забудь объяснить родственникам больного, чего надеешься добиться и чего опасаешься; посоветуйся с ними и предупреди…
А риск – он есть всегда, как бы ни совершенствовали и ни углубляли технику той или иной операции, какие бы защитные средства ни вырабатывали для предотвращения осложнений.
Конечно, если операция удастся и Алеша станет здоровым человеком – он будет обязан этим не только искусству хирурга, но и матери, разрешившей врачу рискованную операцию. Она поступила разумно и ответственно, как вправе поступить лишь любящая мать… А если операция ускорит гибель Алеши? Простит ли мать хирургу? «Я полагаюсь на вас…» Как много стоит за этими словами для врача, для матери Алеши, для самого мальчика… Как тесно сейчас переплелись их судьбы! Мое волнение, естественно, усугублялось тем, что я уже хорошо знал этих людей, привязался к ним.
Один крупный хирург писал в своих записках, что он старается не сближаться с больными, не привыкать к ним: в случае несчастья не так переживаешь… Бесспорно, в этом заключен определенный смысл. Однако я сторонник противоположного взгляда. По-моему, если хирург ближе знает больного, если тот стал роднее и дороже за время их знакомства, он с большим вниманием отнесется ко всем мелочам предоперационной подготовки и послеоперационного ухода. И в ходе операции перед ним будет не человек «без имени», а хорошо известный ему человек, без которого уже трудно представить существующий мир.
Алеша Косолапов, повторяю, стал для меня родным и близким. И в этом случае – как в ряде предыдущих – я ставил себя в щекотливое положение. Мальчика до меня смотрели в Москве, в прославленной клинике страны, и там не посчитали возможным запланировать операцию, которую я сейчас готовился провести. А ведь в техническом отношении специалисты московской клиники стоят чуть ли не на первом месте в Советском Союзе. Значит, были у них свои немалые соображения, которые помешали осуществить данную операцию. А может, лишь потому это, что пока считают себя неподготовленными? Ведь в отечественной медицинской литературе еще никто не сообщал, что подобная операция где-то проводилась…
…Нет, по-моему, нужды подробно описывать операцию.
Это, по существу, были две тяжелые операции за один раз, да к тому ж проводимые впервые – и не у взрослого человека, а у ребенка.
Читателям, наверно, небезынтересно узнать, как в дальнейшем сложилась судьба Алеши Косолапова.
Мы по сей день с ним добрые друзья: изредка видимся, изредка обмениваемся открытками к праздникам и торжественным датам. Так что я в курсе семейных дел Косолаповых.
Алеша, закончив десятилетку, задумал поступить в физико-технический институт, однако боялся, что не пройдет медкомиссию. К его радости, при просвечивании в рентген-кабинете ничего не заметили (значит, так хорошо расправилась оставшаяся доля!). А когда терапевт обратил внимание на рубец на груди, юноша слукавил: «Это я в детстве, падая с дерева, напоролся на сучок…» И сейчас Алексей Иванович Косолапов – ведущий специалист одного из подмосковных заводов, отец двух детей. Анна Ивановна, разумеется, во внуках души не чает и при наших встречах нет-нет да и скажет, что тот незабываемый день был вторым рождением для каждого из их семьи.
Высокая оценка моего труда со стороны видных ученых заставляла думать о том, что отдыхать некогда, нужно работать с прежней неустанностью.
А вскоре я получил первые экземпляры своей книги в переводах на другие языки мира.
Все это и обязывало, и в то же время давало ощущение удовлетворения прожитыми в поисках годами… Они прошли не даром! В стране уже сотни людей, считавшихся обреченными, получили возможность жить без страха за завтрашний день. Операция на легких, по сути, уже не проблема, а работа врача. По книге теперь учится проводить такие операции хирургическая молодежь, она в состоянии продолжать и развивать это многотрудное и великое дело…
Так размышлял я во время первого моего гигантского воздушного скачка из России в Соединенные Штаты Америки, куда меня пригласили прочитать научные доклады и ознакомиться с работой ведущих американских хирургов. И здесь, в Бостоне, я получил телеграмму с сообщением, что за разработку вопросов легочной хирургии мне присуждена Ленинская премия.
Когда я приехал в клинику профессора Биичера, с которым познакомился еще во время его посещения Советского Союза, и показал ему телеграмму, он был очень удивлен, что в нашей стране так чтят ученых. И тут же послал за шампанским…
Глава XIV
Просматривая литературу по резекции легких, я невольно обратил внимание на несколько интересных статей и сообщений – особенно в американских медицинских журналах – по хирургии пищевода. Такие больные тоже приезжали к нам, и мы не знали, как радикально помочь им. Вставляли трубку для кормления в желудок и с чувством досадливой горечи на душе выписывали их из клиники… А люди готовы были на любую операцию – лишь бы маленький проблеск надежды!
Тяжкие мучения от голода плюс не покидающий страх, что предстоит умереть голодной смертью, – вот удел больных раком пищевода. По мере роста опухоли перестает проходить густая пища, а затем и жидкая… Что может быть ужаснее – при ясном сознании, при отчетливом понимании всей своей беды?
Однажды, когда я еще работал в Киренске, ко мне приехал из тайги, с охотничьего зимовья, седеющий, крайне истощенный мужчина и сказал, что несколько дней тому назад он проглотил кусок плохо пережеванного мяса и тот застрял у него в пищеводе. Он даже показал место, где чувствует его… «А теперь, – жаловался приезжий, – не только ничего глотать не могу, чай не проходит… Ослобони, доктор, – просил он, – век буду за тебя Бога молить!»
Но что я, врач на далекой периферии, мог сделать? В то время операции на пищеводе не проводились даже в столичных клиниках… И как, с другой стороны, отпустить больного ни с чем? Это равносильно тому, что прямо сказать: иди и умирай! Может, попытаться извлечь застрявший кусок с помощью специальных щипцов, которые неизвестно каким образом оказались в нашем хирургическом наборе? Но ими придется орудовать вслепую, на большой глубине, и если вместо кусочка мяса захватишь кусочек стенки пищевода – это вызовет кровотечение или гнойное воспаление средостения, что тоже приведет больного к гибели.
В подобных случаях хирург оказывается в сложном положении. Он хочет и должен помочь страдальцу. Однако операция таит в себе угрозу смерти, и если больной действительно умрет, врача, возможно, не будут судить, но осуждать станут обязательно: не берись, мол, за то, чего не умеешь! Так что отказать в этой ситуации легче. Хирург говорит, что техникой подобной операции не владеет, таких операций вообще не делают, а если делают, то лишь в специальных лечебных учреждениях, которые от нас за тридевять земель, и он, хирург, не может рисковать жизнью больного… Его поймут, с ним согласятся.
Когда же складывается ситуация, подобная той, о которой рассказываю, только собственная совесть да ответственность за судьбу больного толкают на поиски путей для спасения человека, заставляют идти на риск… И я тогда решился попытаться извлечь щипцами злосчастный кусочек мяса из пищевода, обрекавший таежного жителя на голодную смерть. При этом понимал, что если даже справлюсь с задуманным – для больного облегчение скорее всего будет временным. Если там в основе сужения пищевода образовалась опухоль, мы только отодвинем смерть, сделаем ее, может быть, не такой острой и жестокой.
В своих правилах хирургической деонтологии Н. Н. Петров писал, что вечной жизни мы дать больному не можем. «Наша задача заключается в том, чтобы продлить эту жизнь и сделать ее более приятной».
На сколько мы продлеваем жизнь – вопрос, конечно, очень важный. Но хоть на малый срок, как только позволяют наши врачебные возможности, пусть на год, на полтора, пусть даже на неделю – это всегда благо. Спросите любого человека, что он предпочтет: умереть сегодня или через неделю. Уверен, что любой выберет последнее. Этим и должен руководствоваться хирург в своих действиях у постели больного.
…Предупредив своего пациента-охотника и его родных о возможных осложнениях и опасности, получив от них согласие на операцию, я ввел длинные изогнутые щипцы в пищевод до того места, где конец щипцов уперся во что-то мягкое. Это мог быть кусочек мяса, но не исключалось, что это слизистая пищевода.
Щипцы шли назад вначале туго, но затем поддались, и когда я извлек их – о, радость! – на конце, между браншами, был зажат кусочек мяса величиной с небольшую сливу. Больной хриплым голосом попросил воды. Ему подали стакан. Он сделал вначале маленький глоточек, подождал… затем глоток побольше, совсем большой… Несколько мгновений прислушивался, видимо, к тому, как жидкость проходит по пищеводу, и вдруг бухнулся передо мной на колени! Я от неожиданности так растерялся, что громко закричал на него: «Встаньте немедленно, а то милиционера позову!»
Этого больного я наблюдал несколько месяцев: чувствовал себя он хорошо, затруднений при глотании не ощущал. «Доктор, – говорил он мне, – я однажды в буран заплутал, замерзал, думал, что крышка, погиб, и не было так страшно, как от голода умереть…»
История хирургии хранит немало примеров, когда больные соглашались на любую операцию, зная, что надежда на благоприятный исход ничтожна. Самый маленький, крошечный шанс на спасение – лучше, чем ничто… Серьезные же попытки избавить больных раком пищевода от страданий оперативным путем начались лишь в двадцатых годах нашего столетия. Однако все операции, как правило, кончались печально, и хирурги, предпринявшие их, после нескольких безуспешных попыток прекращали работу в этом направлении.
Наибольшее упорство в ту пору проявил известный немецкий хирург Зауербрух, руководивший клиникой в одном из городов Швейцарии. Он сделал сорок грудных операций на пищеводе, и все сорок его подопечных погибли. В швейцарский парламент поступил запрос: можно ли хирургу, в частности Зауербруху, разрешать проводить операции, от которых больные умирают? Парламент, обсудив этот вопрос, вынес решение в пользу врача… После этого Зауербрух осуществил еще несколько операций на пищеводе и… прежний скорбный итог. От него, не выдержав поголовной смерти всех больных и травли, поднятой бульварными газетами, ушли любимые ученики – его постоянные ассистенты. Подавленный, разуверившийся Зауербрух вынужден был прекратить операции, так и не добившись излечения ни в одном случае…
Столь же печально окончились попытки операций при раке нижних отделов пищевода со стороны брюшной полости у нашего соотечественника профессора Сапожкова. Приблизительно такое же, как у Зауербруха, количество проведенных операций, и ни одного успешного результата… Профессор Сапожков, отчаявшись, тоже опустил руки. А отчаяться было от чего. Столько тратится сил, энергии, нервов. За каждой операцией – живой человек со своей жизнью, надеждами, просьбами, с мольбой в измученных страданиями глазах, – и все, оказывается, зря!
Обращает на себя внимание тот факт, что больные, хорошо осведомленные о гибели тех, кого оперировали раньше, не только продолжали давать согласие на операцию, но и настойчиво просили об этом. Какая же сила физических и моральных мучений должна быть у этих людей, если они, имея лишь малейшую надежду на излечение, решались на операцию! Вот почему, зная все это, думая над этим, я не мог пройти мимо сообщений о первых успешных операциях на пищеводе, проведенных хирургами США.
У американцев уже тогда при внутригрудных операциях было хорошо налажено обезболивание, а мы продолжали их делать под местной анестезией, что, разумеется, затрудняло работу хирурга и создавало дополнительные опасности для больного. Я старался прочитать всю доступную литературу по этому вопросу, все, что касалось опыта в такого рода операциях, и чем больше узнавал об удачах и просчетах, имевших место в освоении проблем хирургии пищевода, тем сильнее крепла во мне уверенность: этим можно заниматься в нашей клинике, я обязан попробовать… Николай Николаевич Петров, можно сказать, благословил: действуй! Было это так…
Среди других больных поступил в клинику шестидесятитрехлетний инженер Н. И. Гущин, больной раком верхнего отдела желудка с переходом на пищевод. Причем захвачена была уже порядочная его часть. Обычно, если опухоль лишь достигала пищевода, мы удаляли желудок со стороны брюшной полости вместе с частью пищевода. Но при распространении опухоли высоко по пищеводу больные признавались неоперабельными и выписывались домой. Так хотели поступить и с инженером Гущиным…
Когда я сказал больному, что операция не показана и ему придется уехать из клиники, он заплакал, как ребенок, горько и безутешно.
– Я понимаю, что такое не показана, – говорил он сквозь слезы. – Вы не хотите рисковать, а я дома умру голодной смертью. Ведь так? Я много читал о своей болезни, прежде чем решился обратиться к вам, я знаю, что медицина еще не очень готова к лечению таких, как я… Но попробуйте! Может, что выйдет, а не получится – значит судьба у меня такая. Ведь без операции вообще конец близок. И не утешайте, нет-нет!..
Этот разговор с больным я передал учителю. Николай Николаевич пошел в палату сам.
– Вы настаиваете на операции? – спросил он.
– Да, – твердо ответил Гущин.
– А если мы вам поставим трубочку в желудок, чтобы вы могли питаться через нее? Это сравнительно безопасная операция, а от голода спасет…
– Нет, такое считаю для человека противоестественным, – с прежней твердостью ответил больной. – Хочу есть нормально! И как бы трудна и опасна операция ни была, я готов к ней, и вот вам письмо, которое написал. В нем мое согласие, в нем все мои размышления на этот счет… Я, Николай Николаевич, уже прожил немалую жизнь и твердо осознаю, на что иду…
Николай Николаевич после короткого раздумья, обращаясь ко мне, сказал:
– Н, что ж, папенька, не возражаю: оперируйте его!
Вместе с Александром Сергеевичем Чечулиным мы тщательно, в деталях, обсудили весь план предстоящей операции, и когда, казалось, предусмотрели все возможные варианты ее, все осложнения, которые нас поджидают, пошли к учителю. Внимательно, не перебивая, выслушав нас, он долго молчал. Видно было, что мысленным взором он как бы осматривал все операционное поле. Так командующий армией старается заранее предугадать исход небывалого доселе сражения…
– А что предпримете, если опухоль проросла в печень? – наконец спросил он.
– Если это только край левой доли, иссечем его вместе с опухолью. А если окажется, что захвачен большой участок печени, от радикальной операции придется отказаться…
– Почему вы хотите оставить часть желудка, а не удалить его весь? Ведь операция от этого будет и легче и короче?
Я разъяснил, что, судя по отдельным сообщениям зарубежных хирургов, сохранение даже небольшой части желудка облегчает соединение его с пищеводом…
– Что ж, дерзайте, – напутствовал Николай Николаевич, удовлетворенный, по-видимому, нашим рассказом и ответами. – Когда-нибудь надо осваивать то, чего пока не умеем… Ни на секунду не забывайте, какое значение будет иметь эта операция, если она удастся. Крайняя осторожность и одновременно уверенность должны быть сестрами в вашей работе. Теоретически, вижу, вы подготовлены, а уж что выйдет…
И он развел руками.
Остаток дня я посвятил разговору со старшей операционной сестрой Людмилой Николаевной Курчавовой. Блестящий специалист своего дела, она более двадцати лет работала с Николаем Николаевичем, понимала его не то что с полуслова – предугадывала каждое движение рук хирурга, безошибочно зная, какой инструмент подать в нужный момент… Она вместе с нами переживала за исход предстоящей операции, и сейчас мы советовались, что требуется подготовить к завтрашнему дню, стараясь не упустить ни большого, ни малого… Домой я уходил тоже, разумеется, захваченный думами о том же. Как тревожило оно, это слово: впервые… впервые!
Удаление части или всего желудка, как уже говорил, производилось в клинике нередко, и обязательно со стороны живота. В случае с Гущиным нам предстояло идти через грудную клетку, так как опухоль, распространившись на несколько сантиметров по пищеводу, уходила в грудную полость. Удалить опухоль и восстановить проходимость пищевода и желудка можно было, следовательно, только вскрыв плевральную полость. Мы сознательно шли на открытый пневмоторакс, которого все хирурги боялись во все века!.. К тому ж операцию предстояло провести без наркоза, без искусственной вентиляции легких, без всего, что имеем сейчас и что позволяет делать раскрытие грудной клетки практически безопасным.
И не забыть, как собственное сердце сжималось тогда от самого обыкновенного страха: сумеем ли?! Нужны были немалые усилия воли, чтобы подавить этот страх, чтобы начисто исчез он, когда вся операционная бригада плотным кольцом окружит лежащего на столе больного и тебе предстоит сделать первый разрез…
Наутро, как всегда при большой ответственной операции, собрались все врачи клиники. Скамьи в амфитеатре операционной были тесно заняты врачами-курсантами. На меня и моих помощников – Чечулина и Мгалоблишвили смотрели уважительно и… с сочувствием. Нашли вы, мол, для себя работенку, ребята, а вдруг да не по-вашему выйдет – на глазах у всех, а?! Даже Николай Николаевич то входил в операционную, то выходил из нее, что свидетельствовало о его самом сильном волнении. И как только начали, он встал рядом, чуть за мной, чтобы все хорошо видеть, и простоял так долгие часы…
Сделали боковой разрез по ходу девятого ребра, которое тут же поднадкостнично удалили, зная, что оно снова восстановится (позднее мы научимся обходиться без этого – не будем больше «ломать» ребра)… Вскрыли левую половину грудной клетки, и легкое, которое видим, сразу же перестало раздуваться: теперь больной дышит одним правым легким. И хотя мы старались впустить воздух в плевру медленно, через маленькое отверстие, тем не менее сердце, которое, тоже видим, начинает биться поверхностно и часто, трепыхается, а сидящий у изголовья больного доктор В. Л. Ваневский с тревогой сообщает: давление упало до шестидесяти миллиметров – крайний предел шока, за которым следуют необратимые изменения. Прошу другого доктора, М. В. Троицкую, с которой, кстати сказать, проработали вместе почти всю блокаду, усилить подачу крови, ввести оперируемому противошоковые растворы. Тут же провели анестезию внутриплевральной полости и сделали перерыв, чтобы давление постепенно выровнялось… Николай Николаевич, с беспокойством спрашивавший Ваневского о давлении, давал советы и все время внимательно смотрел то на операционное поле, то на нас. Вот он знаком подозвал санитарку: та взяла чистую салфетку и, подойдя ко мне сзади, попросила разрешения вытереть пот со лба. Лишь теперь я почувствовал, что весь покрыт испариной, у моих ассистентов на лицах тоже крупные капли пота. И много раз еще операционной санитарке Нюре приходилось с салфетками подходить к нам, сушить лица, но часто в ходе операции наступало такое напряжение, что нельзя было отвернуть лица от раны даже на две-три секунды…
Приподняв легкое кверху, подошли к средостению. Самый центр человеческого организма… Дальше – позвоночник. Это место всегда было недосягаемо. Оно богато снабжено нервами, прикосновение к нему сразу же вызывает падение кровяного давления. Снова тщательное обезболивание, и с великой предосторожностью продвигаемся вперед… Нужно проникнуть внутрь средостения, освободить пищевод от окружающих тканей. А он густо оплетен крупными нервными ветками. Если пересечем их – как это скажется на больном?!
Опухоль, оказывается, распространилась по пищеводу на пять-шесть сантиметров выше желудка, дальше он чист. Значит, с этой стороны операция возможна. А как желудок? Новая анестезия средостения и диафрагмы, рассекаем диафрагму, ощупываем по очереди опухоль. Ясно: она захватила самый верхний отдел желудка, с печенью не спаяна, метастазов не видно… Что ж, операции быть! Слышу, как Чечулин, облегченно вздохнув, прошептал: «Ну, братцы, хоть не зря старались!» Но самое сложное впереди.
Опять делаем перерыв в операции: давление у больного снова снизилось, хорошо еще, что не так катастрофически, как до этого. Прикрыв рану салфеткой, ослабив ранорасширитель, садимся на подставленные нам табуретки. Николай Николаевич распорядился, чтобы принесли крепкого сладкого чаю. Нюра осторожно приподняла наши маски: мы с жадностью выпили бодрящий напиток. И за работу! Теперь самая длительная и опасная часть операции: следует освободить желудок от всех связей, перевязать и пересечь идущие к нему сосуды, и все это в глубине, в тесной щели, где нет простора пальцам! А тут вновь тревожные сигналы от Ваневского: давление упало, зрачки расширились. Тяжелое кислородное голодание!
Разве передашь на словах все то, что чувствует хирург в такие моменты! Разве передашь степень его обостренного напряжения, напряжения мышц и нервов? Ни с какой другой не сравнима наша профессия. Недаром же во врачебной среде бытует вполне справедливая профессиональная поговорка: «Хирург умирает с каждым оперированным больным…»
Четыре часа оперировали мы Гущина, и я, вкратце рассказав о каких-то моментах этой уникальной по тому времени операции, действительно не в состоянии описать на бумаге всю ее необычайность и все те огромные затраты душевных и физических сил, что взяла она у всех участников операционной бригады. Но это скоро забылось! Навсегда осталось лишь ощущение радости: мы выиграли бой! То, что, по существу, еще никому ни разу не удавалось, нами наконец было достигнуто. Больной после тяжелых для него послеоперационных дней поправился, уже через неделю глотал сначала жидкую, а затем и густую пищу. Мы выступили на заседании Пироговского общества с сообщением и с демонстрацией больного, и наша информация была встречена аплодисментами. Сделан первый шаг в освоении трудного раздела хирургии! К этой поре, месяцами позже, сообщения о проведении подобных операций стали поступать и от других хирургов.
Нужно было видеть счастливое лицо Гущина, когда мы провожали инженера домой! Сердечно поблагодарив каждого из нас, он все же не преминул… упрекнуть меня. Я, дескать, хотел выписать его из клиники без операции, на верную смерть, и было бы так, не уговори он меня оперировать его!..
Несмотря на успех, полученный нами с таким огромным трудом, я отлично понимал, что в этой новой области хирургии сделан только первый робкий и, по существу, наиболее легкий шаг. Мы через грудную клетку добились того, что А. Г. Савиных из Томска добивался через брюшную полость. Конечно, прогресс несомненен. Внутригрудным подходом мы можем убрать не 2–3 сантиметра пищевода, а 5–6, что через живот никто не делал, кроме разве А. Г. Савиных с помощью каких-то особых инструментов.
Но я знал также, что часто встречаются опухоли в среднегрудном отделе пищевода, прикрытые дугой аорты. Как быть с такими больными? И я стал работать над этой проблемой по своей обычной методике: библиотека, эксперимент, анатомический зал. Сложность локализации опухоли заключалась в том, что в этом месте пищевод был прикрыт дугой аорты, правой плеврой и корнями легкого. Ни одно из этих образований поранить нельзя.
Но вот новость. Профессор В. И. Казанский из Москвы резецирует опухоль, а концы пищевода выводит один на шею, другой в брюшную стенку для кормления. Для восстановления нормального глотания нужна была еще вторая, такая же сложная операция.
Мы детально изучили сообщение, проверили в анатомическом зале и после тщательной подготовки себя и поступившего в это время больного Царькова выполнили подобную операцию. Первый этап. Это была очень трудная и изнурительная операция, которая у нас окончилась печально. Больной умер от эмпиэмы плевры через три месяца, так и не получив возможность нормально глотать пищу, как об этом мечтал, идя на операцию.
Переживая за больного и передумывая много раз всю эту проблему, мы пришли к заключению, что такие операции делать не надо. Я стал разрабатывать новую, более совершенную методику операции на пищеводе уже с учетом того, что она должна быть сделана обязательно в один этап.
Через несколько месяцев к нам поступил больной с точно такой же локализацией опухоли. Заручившись согласием самого больного и его близких, получив разрешение Николая Николаевича, мы в прежнем составе, той же бригадой, предприняли попытку одномоментной операции. Было невероятно затруднительно провести ее под местной анестезией: несколько раз кровяное давление у оперируемого падало до критической черты, мы вынуждены были делать длительные перерывы, повышая давление противошоковыми мерами; и в общей сложности операция заняла четыре часа. Завершив ее, буквально валились с ног от усталости. Но были удовлетворены: сделали все, что задумали. Удалили пораженную часть пищевода, вывели верхнюю его часть из-под дуги аорты, ввели желудок в плевральную полость и соединили его с пищеводом.
После операции, несмотря на то, что были до предела измотаны, мы ни на час не оставляли больного – дежурили возле него. Он был в плохом состоянии. И как ни старались разными средствами придать ему силы – не удалось. Скончался он на четвертый день… На вскрытии причину смерти установить не смогли. Операция была сделана правильно, все швы хорошо держали, пневмоторакса с другой стороны не обнаружили. Несчастный, видимо, умер от травматичности самой операции.
Очередная неудача к прежней горечи и прежним сомнениям добавила чувство уныния. Николай Николаевич тут же на следующий день распорядился выписать из клиники всех больных раком пищевода как неоперабельных.
Вечером мы вышли из клиники вместе с Чечулиным и долго шли молча, думая, наверно, об одном и том же.
– Как, Федя, не усомнился? – вдруг спросил он. – Не опустились руки?
– Как видишь, Саша, прежние они, – ответил я, показывая ладони.
– Выходит, повоюем?
– Иначе не мыслю.
– Тогда к твоим вот тебе моя рука! – Его рукопожатие было крепким, ободряющим, как обещание в трудностях находиться рядом.
А жизнь клиники шла своим чередом. Научные планы, обновляемые ежегодно, новые темы работ, новые поиски… Николай Николаевич, как всегда, строго требовал от нас лишь совершенно объективных данных, полученных на основе беспристрастного изучения фактов; не уставал повторять, что для науки одинаково важны как положительные данные, так и отрицательные – лишь бы они были точны и честны.
Он, всячески поддерживавший наши начинания в хирургии легких и пищевода, стремился, с одной стороны, оградить своих учеников от неудач, с другой, вместе с нами искал пути к новым попыткам… Вопрос ставился так: на первых порах не нужно брать на операцию очень тяжелых больных. Неуспех при операции у них надолго отодвинет возможность оперировать более крепких людей.
Но одно дело планировать, сидя в кабинете или в библиотеке за книгой, другое дело – шумно врывающаяся в двери клиники сама жизнь. Она заставляет оставить в стороне все холодные рассуждения, и мы поступаем так, как подсказывают нам чувства и совесть.
Так совершенно неожиданно нам пришлось принять в клинику больного в крайне тяжелом состоянии.
Михаил Иванович Тропин работал бухгалтером в леспромхозе карельского поселка Лахденпохья. В свои шестьдесят лет он не знал, что такое болезни, а если, случалось, подхватывал простуду, парился в собственной баньке и пил чай с малиновым вареньем, а потом укрывался медвежьей полостью… Наутро знакомой дорогой шел в контору. И когда подписывал документы на выплату кому-либо денег по медицинскому бюллетеню, качал головой, словно недоумевая, как это люди умудряются болеть. Казалось, что долгий и надежный век отпущен ему судьбой.
Но однажды, торопясь на службу, он проглотил кусок жесткого мяса, не разжевав его как следует. Проглотил и тут же почувствовал: кусок застрял в пищеводе. Стал пить воду, много пил, и в конце концов кусочек сдвинулся, прошел вниз, оставляя после себя след жгучей боли. Дня два после этого ощущалось жжение за грудиной. А потом все забылось, но, как оказалось, до поры до времени. Стал Михаил Иванович замечать, что боли, впервые возникшие в тот злополучный день, нет-нет да и появляются. Особенно если случалось глотать что-нибудь твердое…
Когда я увидел его перед собой, он не ел и не пил уже восьмые сутки. Худой, совершенно обессиленный, с черными провалами глаз, он сразу же напомнил мне того таежного охотника из Киренска, у которого я вытаскивал из пищевода застрявший кусочек мяса щипцами… Но тут было пострашнее.
Сам повел его в рентгеновский кабинет к нашему доброму товарищу во всех начинаниях Андрею Андреевичу Колиниченко. Если того требовали интересы больного, интересы дела, Андрей Андреевич никогда не считался со временем, мог трудиться над рентгеновскими снимками и бронхограммами до поздней ночи. Они получались безупречными. А ведь как много значит хороший снимок для правильного диагноза!
В рентгеновском кабинете Андрей Андреевич, дав больному небольшой глоток жидкого бария, показал мне, что барий остановился в средней трети пищевода. Ни одной капли не прошло в желудок! Опухоль располагалась в самом опасном, в самом неблагоприятном для операции месте. Вместе с Колиниченко и подошедшим сюда же Чечулиным мы долго сидели перед снимком пищевода. Было о чем поразмышлять… Ведь после двух неудач нам так хотелось подобрать для операции «удобного» больного! Случись вслед за теми двумя третья неудача – надолго, может навсегда, отодвинется разрешение этой задачи, которая пока еще была со столькими неизвестными!
Однако когда я пришел к поджидавшему меня в кабинете Тропину, чтобы отказать ему в операции, увидел, что безысходность в его глазах при виде меня вдруг сменилась такой надеждой, что язык не повернулся передать ему наше решение. Сел напротив него и сказал:
– Михаил Иванович, операция на пищеводе сверхопасная. Она еще в хирургии не отработана. Ни у кого нет опыта. Вряд ли следует идти на такой риск.
– Хуже не будет, – ответил Тропин. – Если умру, мучениям конец. А так чего ждать?
– Я обязан сказать: почти никакой надежды, что удастся сохранить вам жизнь, – произнес я страшные по своей сути слова, давшиеся мне нелегко. Надеялся, что, может быть, они заставят больного отказаться от операции.
– Пусть, – отозвался он. – Вы сказали: «почти»… Есть хоть один процент из ста в мою пользу. Делайте!..
– Подумайте…
– А что мне думать? Даже если нет никакого «почти», все равно согласен. Буду надеяться на чудо. А без операции мрак впереди. Пустота. Муки. Сколько-то дней и… вечная тебе память, Михаил Иваныч… Не так ли, доктор?
Что я еще мог ему сказать? Он не хочет мириться с болезнью, а кто из нас поступил бы иначе? Разве я не просил бы хирурга вырезать опухоль, появись она у меня? Мы дорожим жизнью, потому что другой нам не дано…
Я отдал приказание в срочном порядке принять больного Тропина в клинику, с тем чтобы в самые ближайшие дни сделать ему операцию. Оттягивать было нельзя. Он и так истощен и обезвожен до предела.
Операция состоялась 3 июня 1947 года.
Каждый в клинике, и в первую очередь Николай Николаевич, знал о больном все: кто он, откуда, какова степень его заболевания. И каждый понимал: неудача надолго отодвинет разработку в нашей клинике вопросов хирургического лечения рака пищевода. Учитель, когда я передал ему содержание своего разговора с больным, сказал мне:
– Ты поступил как надлежит врачу.
Это было похвалой.
На операцию пришли все. Чувствовалось, что за меня переживают, я как бы держал экзамен и за себя, и за всех сразу. Чечулин и Мгалоблишвили подготавливали больного…
Операцию приходилось вести под местной анестезией, но на всякий случай подготовили наркоз, чтобы хоть на короткое время раздуть легкие, если вдруг случайно порвем правую плевру… Ах, нам бы интратрахеальный наркоз с повышенным давлением, под которым оперируют американцы! Но об этом можно было лишь мечтать…
Опухоль у Тропина оказалась подвижной.
– И то хорошо, – проговорил Александр Сергеевич Чечулин. – Значит, расположена в стенке пищевода, не вышла за его пределы. Еще бы правая плевра была незадетой!
Осторожно освободив пищевод в нижней здоровой части, мы обхватили его тесемкой, пересекли все нервные и сосудистые ветви, ограничивающие подвижность, и, подтягивая за тесемку, стали освобождать пищевод в той части, где крылась опухоль. С особой тщательностью отделили весь пищевод от правой плевры и от всех других органов, в том числе и от дуги аорты. Первую часть операции, как молвится, «слава богу!», провели благополучно. И главное: выделили опухоль, не поранив правой плевры, чего так боялись! Теперь маленький перерыв, нужный для отдыха, не столько бригаде, сколько больному, чтобы поднять снизившееся давление… Нам же по стакану крепкого чая.
Во втором периоде операции следовало освободить желудок ото всех спаек и поднять в грудную клетку. Не работа – мытарство! Двое погибших от подобной операции больных стоят перед глазами! Не повторилось бы… Те погибли уже спустя какое-то время, в палате, а этот лежит сейчас на операционном столе, и одно плохо рассчитанное или неуверенное движение, какая-нибудь внезапная ошибка – быть беде.
Нужно перевязать левую желудочную артерию, а к ее основанию никак не подберешься. Дело в том, что, оперируя Гущина, я вскрыл грудную клетку в девятом междуреберье. Здесь же, зная, что опухоль расположена высоко, пошли через шестое. Это и затрудняло подход к брюшной полости.
Разъединив ткани, отодвинув печень и желудок, я прощупал короткий, но широкий сосуд. Работая в глубине, как в воронке, не имея возможности видеть этот сосуд, я наложил на него две лигатуры с расстоянием меж ними около сантиметра. Следовало рассечь его точно посредине. Взял длинные ножницы, примерился, нажал, и сильная, показавшаяся мне жгучей, струя крови ударила в лицо, залепила глаза. Ничего не видя, я просунул руку к артерии и, придавив ее к позвоночнику, остановил кровотечение. Повернул лицо к санитарке, продолжая сдавливать кровоточащий сосуд, выждал, когда мне вытрут глаза и я снова смогу видеть… Как теперь наложить зажим на короткую культю сосуда, сократившуюся и ушедшую куда-то в глубь забрюшинного пространства? Медлить нельзя. А в это время В. Л. Ваневский тихо сообщает: «Давление упало, нужен перерыв!»
Я по-прежнему держу рукой сосуд, чтобы не было кровотечения. Мария Владимировна Троицкая принимает меры, чтобы упорядочить давление, Ваневский вводит сердечные и противошоковые растворы, а Александр Сергеевич – новокаин, чтобы уменьшить болевой рефлекс… Появляется отлучившийся Николай Николаевич, подходит к операционному столу, смотрит на рану, говорит мне:
– Здесь очень опасно повторное кровотечение. Нужно постараться захватить сосуд под твоими пальцами, не отрывая их. Лучше всего, папенька, подойдет для этого кривой почечный зажим Федорова. Как я сам не додумался!
Когда после определенных усилий удалось защелкнуть сосуд браншами зажима и я отнял свою руку, она словно закостенела от длительного, судорожного сжимания. Впервые за много минут нечеловеческого напряжения можно было хоть немного расслабиться… Я сел на табуретку, стоящую у стола, чувствуя невероятную усталость. Все эти долгие минуты тревожно жила во мне, пугающе давила одна и та же мысль: если больной погибнет на операционном столе, с какими глазами выйду из операционной?! Слышу мягкий голос Николая Николаевича:
– Отдохни, папенька, отдохни. С кровотечением справились, страшное позади.
После перевязки этой доставившей столько хлопот артерии желудок можно было ввести в плевральную полость без труда. Трудно другое – наложить соустье между культей пищевода и дном желудка. Самый ответственный этап операции! Вся эта работа проводится высоко в плевральной полости, выше дуги аорты, то есть почти у самой шеи. Неудобно манипулировать, а тут еще то иглы в иглодержателе вертятся, то нитка рвется, и начинай все сначала!.. Чувствую, как закипает раздражение, приходится мобилизовать всю волю, чтобы не сорваться. Это раздражение – результат только что перенесенного страха, вызванного недавним кровотечением у больного. Спокойнее, спокойнее… Заставляю себя терпеливо и тщательно проводить один этап за другим – до наложения последнего шва…
Всё!..
Больного повезли в палату, а я шел рядом, поддерживая капельницу – продолжали переливать кровь… Нагнал Николай Николаевич, внимательно посмотрел на меня, потом на больного, затем снова на меня и сказал:
– Досталась тебе эта операция, папенька. Вот гляжу и не могу определить, кто хуже выглядит: больной или хирург!
Между прочим, позже мне не раз приходилось слышать подобное от своих коллег. Говорили, что после тяжелой, многочасовой операции я – бледный, изнуренный – сам становлюсь похожим на больного. И я, наблюдая за работой многих хирургов, замечал такое же. Как-то мы с товарищем взвесились до операции и после нее. Потеря веса составила семьсот пятьдесят граммов, а это, по свидетельству специалистов, больше, чем теряет в горячем цеху литейщик за весь рабочий день.
К концу первых суток – после непрекращающегося переливания крови – давление у Михаила Ивановича Тропина держалось уже на нормальных цифрах. На четвертый день разрешили ему проглотить чайную ложку воды. С трепетом следили за тем, как она пройдет и что почувствует сам больной… Ведь если шов наложен плохо, жидкость вместо желудка попадет в плевральную полость, а это очень опасно. Нет, обошлось!
Через неделю Михаил Иванович начал глотать небольшими порциями жидкую пищу, через две – стал есть полужидкую, а вскоре – любую, не ощущая при этом никаких помех и болезненных явлений. Рентгеновское исследование показало, что барий свободно проходит по верхней части пищевода и впадает в желудок, целиком расположенный в грудной клетке. Однако в каком теперь месте находится его желудок, больной не ощущал. Тот, поместившись между сердцем и легкими, хорошо уживался с соседями, не причиняя им никаких неприятностей.
Когда мы через месяц выписывали Михаила Ивановича домой, он сказал мне:
– На чудо рассчитывал, а выходит, это чудо вы для меня про запас держали. Что же вам такое в ответ сделать?
– Уже сделали, Михаил Иванович!
– Не мог успеть… Что же?
– То, что живой, в добром здравии передо мной стоите!
Не скрою, прямо-таки с любовью смотрели мы друг на друга – исцеленный больной и врач. Для нас операция у шестидесятилетнего бухгалтера послужила началом плановой хирургии пищевода и плановой торакальной хирургии. Эта операция, как уже указывал, была осуществлена 3 июня 1947 года, а двумя днями спустя мы удалили левое легкое у Оли Виноградовой (операция, о которой рассказано в первой главе) и в эти же дни, 7 июня, успешно удалили нижнюю долю легкого Антонине Токмаковой… Таким образом, в начале лета этого года мы как бы завершили первый подготовительный период в развитии грудной хирургии.
Возвращаясь к Михаилу Ивановичу Тропину, должен сообщить, что через несколько месяцев мы пригласили его приехать, показали на заседании Пироговского общества, чем он был очень горд, говорил мне: «Вот, Федор Григорьевич, и я науке послужил!..» Аккуратно, в течение семнадцати лет, он сообщал о своем здоровье, присылал мне поздравительные открытки к праздникам. Скончался же в семьдесят восемь лет.
Глава XV
Снова, как обещал, возвращаюсь к дорогому для меня образу… Все, что достигнуто мною в хирургии, я связываю с именем Николая Николаевича Петрова. Он закрепил и развил мои представления о назначении и долге врача, он отечески благословил на большие дела.
Надеюсь, что многими строками предыдущих глав уже как-то очерчен портрет этого замечательного сына России, и здесь я постараюсь дополнить и завершить его… Начну, пожалуй, с некоторых биографических данных.
Его отец был крупный ученый, генерал-полковник инженерной службы, руководил строительством Транссибирской железной дороги. Он дал своему сыну блестящее образование. Николай Николаевич с детства прекрасно знал несколько иностранных языков, в том числе классические – латинский и греческий. А позже, будучи избранным на кафедру Варшавского университета, изучил еще польский, да так, что свободно читал на нем лекции.
Военно-медицинскую академию он окончил с золотой медалью, а выполненная им к этому времени научная работа получила на конкурсе первую премию, что давало ее автору право на трехгодичную заграничную командировку для совершенствования знаний в лучших клиниках Европы. Естественно, что на родину Николай Николаевич вернулся, обогащенный опытом передовых ученых. Причем за границей он делал для медицинских журналов обзоры работ русских медиков, так что все лучшее из достижений отечественных хирургов ему тоже было известно. Возможно, именно с тех пор, когда Петров только-только перешел порог юности, уже мало было ему равных по эрудиции, знанию мировой медицинской литературы… Недаром же одним из первых в России он стал разрабатывать вопросы раковых заболеваний, и в 1910 году, совсем молодым человеком, издал монографию «Учение об опухолях» – книгу, подобно которой по самой теме и глубине исследования проблемы еще не знали… Эта книга, выдержав десятки изданий, превратится в незаменимое многотомное руководство для первых поколений русских онкологов. А Николай Николаевич, безоговорочно приняв революцию, уже в 1927 году создаст в нашей стране онкологический институт, работой которого будет руководить всю жизнь.
Он был рожден для медицины, и тут талант его не знал границ. Чем бы ни заинтересовался, что бы ни стал изучать, обязательно создавал фундаментальное учение. В 1915 году, сразу же после начала мировой войны, он выпускает капитальный труд о лечении раненых на войне, первое в России всеобъемлющее руководство для врачей по военно-полевой хирургии. Эту книгу, как и «Учение об опухолях», впоследствии неоднократно переиздавали. На моей полке стоит экземпляр, помеченный 1945 годом. Его монография по хирургическому лечению язвы желудка была удостоена Государственной премии… Полвека возглавлял он кафедру хирургии в Институте усовершенствования врачей, подготовив десятки крупных специалистов – кандидатов и докторов наук.
Я, когда был принят в клинику, смотрел на Николая Николаевича как на какое-то высшее существо – не видел похожих на него! Им же, крупнейшим ученым, занятым тысячью важных дел, мое появление, само собой, никак не было замечено. Возможно, его потом забавляло, что я «тенью отца Гамлета» ходил за ним, с жадностью ловя каждое произнесенное слово. Но скорее всего, на первых порах он с трудом мог выделить для себя из большого отряда ординаторов, ассистентов, других сотрудников клиники новенького по фамилии Углов… И много месяцев пройдет, прежде чем я с волнением в сердце услышу от него похвальные слова, вроде этих: «Ну и зол ты, Углов, узлы завязывать!» Или же, увидев, как я справляюсь с осложненной резекцией желудка, которая предназначалась для профессорских рук, скажет операционной сестре Людмиле Николаевне: «А Федя-то действительно неплохой хирург…» После этого снова на долгие недели и месяцы я будто бы не существую для него в клинике. И даже на четвертом году моей работы здесь, под его началом, он, похоже, долго колебался: кого же взять на вакантное место ассистента – меня или одного из тех ординаторов, которые уже имели кандидатскую степень…
Начало нашего общего сближения относится к блокадным дням, когда Николай Николаевич еще не был эвакуирован на Большую землю, и с тех пор год от года наши отношения становились все теплее, все доверительнее. А тогда, в войну, Николай Николаевич часто болел: то у него была пневмония, то долгое время его мучили приступы бронхиальной астмы. И он, видимо, окончательно уверовав в мягкость моих рук и в мои знания, стал просить меня сделать ему вливания, провести ту или иную ответственную процедуру. Я начал бывать в доме Петровых. И каждый раз воспринимал такое приглашение как награду за безупречную работу, за строгое соблюдение и проведение в жизнь принципов своего учителя. И как бы часто ни приходил сюда, никогда не покидало чувство скованности даже робости. Вход в квартиру наставника был для меня, как вход в святилище… Это на самом деле так, не преувеличиваю.
Однажды мне позвонила дочь Николая Николаевича Анна Николаевна. Голос тревожный, срывающийся. Сказала, что уролог сделал отцу операцию, и он бредит, у него жар.
Немедленно помчался к Петровым и нашел, что у Николая Николаевича все симптомы общего заражения крови. Сразу же провел ему внутривенное вливание однопроцентного хлористого кальция, – эффективный метод борьбы с сепсисом, разработанный, кстати, самим Николаем Николаевичем. А кроме того, сделал перевязку, обеспечил лучшее опорожнение раны.
То были для семьи и для меня часы больших переживаний, пока Николай Николаевич на наших глазах не пошел на поправку… Потом шутливо он скажет мне:
– Отпугнул ты, папенька, белых ангелов от меня. А я уже видел их. Летают, такие маленькие, с недоразвитыми крылышками…
В глаза он называл меня «папенькой», «папашей», а иногда – «Углёв», копируя мое мягкое произношение буквы «л». В разговоре же с кем-нибудь обо мне называл неизменно-ласково «наш Федя», даже тогда, когда Феде перевалило за пятьдесят!
На мои первые операции на легких, на пищеводе, на средостении он смотрел с каким-то удивлением и восторгом, не скупясь на бесценные советы, стараясь в трудные минуты жизни ободрить и успокоить. Он чутко улавливал душевное настроение окружавших его людей. Сам же по натуре был исключительно скромный, не любил обращать на себя чье-то внимание…
И как-то заметна стала его беспризорность, даже какая-то неприкаянность, когда умерла жена – верный друг, милая, обаятельная женщина. Николаю Николаевичу тогда было уже семьдесят пять. Близкие ему люди настойчиво советовали покончить с одиночеством…
Прошло шесть лет. Однажды он объявил нам, что женится на матери ординатора клиники – Анне Ивановне. Остроумный, любивший веселое слово, он не преминул сказать: «Вряд ли в загсе был еще такой случай, чтоб жениху и невесте насчитывалось сто пятьдесят лет!»
Он прожил, окруженный вниманием и заботой, еще шесть лет, а после его смерти Анна Ивановна уже одна устраивала ставшие традицией в их доме встречи лучших учеников Николая Николаевича в день его рождения…
Я любил его с той застенчивой нежностью и преданностью, что бывает, наверно, лишь при сыновней любви. Мало кто из учеников Николая Николаевича был так часто и так подолгу с ним, не уставая по многу раз слушать его лекции и беседы, сопровождать при палатных обходах, как я. И чем больше узнавал учителя, тем сильнее крепла моя привязанность к нему, тем ближе моему сердцу становился он.
…Вот Николай Николаевич заходит в отделение. Одно его появление само по себе уже радостно тут. Он за руку здоровается со старой няней, которая работает в клинике без малого четверть века: спрашивает медсестру о здоровье родственницы, которую та когда-то приводила к нему на консультацию; подходит к врачу, склонившемуся над больным, и они уже вместе решают, как лучше поступить в данном случае…
Он выходит в поздний час из своего кабинета, видит у дверей робко приподнявшегося со стула человека. «Вы ко мне?» И обязательно снова, уже с этим больным, вернется в кабинет, чтобы выслушать того… Сколько бы людей и откуда бы ни приезжали, никому он не отказывал в консультации. Часто можно было видеть, как, взяв под руку кого-нибудь из таких пациентов, он ведет его в лабораторию или рентгеновский кабинет и просит сейчас же сделать анализы или снимки.
Однажды, спустившись по лестнице в вестибюль, вижу: Николай Николаевич возвращается с улицы и обычным своим манером – под руку – ведет в клинику какого-то больного.
– Человек хочет попасть на прием к Петрову, а его не пускают, – пояснил он мне. – Что за глупости!
У себя наверху подробно расспросил приезжего, кто он и откуда, внимательно посмотрел результаты анализов и тут же сказал мне:
– Папенька, его надо поместить…
И сам впереди меня пошел в отделение.
– Кто сегодня дежурный врач? Вы? Примите этого больного…
– Но, Николай Николаевич, у него же нет никакого направления!
– Зато у него есть болезнь, которую мы должны лечить…
Было обычным: выходишь с Николаем Николаевичем из кабинета, несколько человек кидаются ему навстречу… Они ищут его помощи, и он тут же, как я уже говорил, делает все возможное. Причем решит так, чтобы больному не приходилось снова «дежурить» у дверей… Нам же, бывало, в шутку скажет:
– Как всегда: я из кабинета, а они как львы на меня набрасываются!
И порой, задерживаясь в операционной, в палате, в перевязочной, просил:
– Подойди-ка, папенька, к кабинету, посмотри: наверное, «львы» уже сидят там, ждут меня. Успокой, что я через полчасика буду…
Как и к пациентам, он был добр к подчиненным. Но если замечал с их стороны небрежное отношение к больным, не прощал. А когда из-за такой небрежности больному причинялся вред, был суров, даже беспощаден к любому, кто это допустил. Пух и перья летели с провинившегося, хотя разговаривал с ним Николай Николаевич не повышая голоса! И тому, если он все же не изгонялся из клиники, ничего не оставалось, как беззаветным трудом и заботой о больных добиться окончательного помилования… Интересы больного превыше всего! Так требовал Николай Николаевич от всех нас.
Ему совершенно чуждо было профессиональное самолюбие, вернее, то мелкое самолюбие, при котором многие ради «чести мундира» готовы пожертвовать интересами дела. И он, крупный ученый, родоначальник многих направлений в медицине, без колебаний обращался за консультацией к какому-нибудь совсем молодому специалисту, если узнавал, что тот хорошо разбирается в том или ином вопросе. И нам говорил: «Больному важно, чтоб его вылечили. А то, что сами это сделаете или пригласите сто человек для совета-помощи, ему все равно. Только вылечите!»
Конечно, во имя этого принципа он изменил свое решение, дал согласие ученику сделать ту операцию, которую до этого отказался провести сам, считая больного неоперабельным.
Такое произошло в случае с больным из Омска Георгием Васильевичем Алексеевым, врачом по профессии. И я расскажу об этом поподробнее…
Алексеев еще в юности приметил, что при неудачном повороте ноги у него возникала резкая боль и появлялось ощущение «ползания мурашек». Было это, правда, редко, да и боль тут же исчезала… Но шли годы, и наступило время, когда боль стала все чаще причинять страдания. Сам врач, Алексеев решил, что у него запущенный ишиас, предпринял лечение. Стало еще хуже… Тогда только Георгий Васильевич пошел к своему коллеге – терапевту, а тот, осмотрев его, показал невропатологу. Последний, узнав про «ползанье мурашек», про то, что Алексеев долго принимал физиотерапию и это не дало облегчения, пригласил для обследования хирурга, первым вопросом которого был такой:
– А вы рентгеновский снимок ноги и таза когда-нибудь делали?
– К стыду своему, я как-то об этом не подумал, – признался Алексеев.
– А без этого все наши рассуждения будут беспочвенны. Пройдите в рентгенкабинет…
Даже при беглом взгляде на снимок было понятно, откуда у Алексеева нарастание болей и усиливающееся ощущение «мурашек»: на задневнутренней поверхности бедренной кости, в области шейки бедра, сидела на широком основании крупная костная опухоль. Связь с бедренной костью была у нее глубокая, подход к ней – затруднителен, а близость опухоли к нервам, соседство с сосудами заставляли опасаться их повреждения при операции… Кроме того, неясен был прогноз: одно дело, если опухоль (костный экзостоз) не растет, тогда ее можно не трогать; другое дело, если она увеличивается – тут требуется быстрое хирургическое вмешательство; И наконец, следует определить: может ли эта костная опухоль, которая в настоящее время по всем признакам является доброкачественной, «озлокачествиться», и когда нужно ждать этой катастрофы?
Вот такие вопросы стояли перед консилиумом профессоров Омска, собравшимся обсудить способы лечения доктора Алексеева. Так как проблема костного экзостоза в ту пору в специальной литературе была со многими неизвестными, на консилиуме не пришли к какому-нибудь определенному заключению, постановив: ввиду трудности болезни Г. В. Алексеева и невозможности оказать ему помощь на месте направить больного в Ленинград, к профессору Петрову, чья эрудиция и диагностический талант хорошо известны в стране. И донельзя встревоженный Георгий Васильевич в этот же день отправился в далекую знаменитую клинику…
Я тогда не присутствовал на осмотре Алексеева, но по словам больного Николай Николаевич сказал в момент их первой встречи так: «Опухоль доброкачественная, медленно растущая. Скорее всего может превратиться в злокачественную, а когда – не установишь. Учитывая, что расположение опухоли таково, что операция грозит ампутацией конечности и вообще сама по себе таит большую опасность для жизни, а состояние у больного в целом хорошее, он полностью работоспособен, от операции пока лучше воздержаться…»
Георгию Васильевичу было рекомендовано один раз в полгода делать снимки и замечать, нет ли изменений в величине и форме опухоли; кроме того, следить за состоянием ноги и интенсивностью болей. Если появятся существенные изменения, боли станут очень сильными, он должен будет приехать сюда, в клинику, на операцию.
Алексеев вернулся домой, а вскоре разразилась война…
В 1944 году при очередном рентгеновском обследовании, проведенном после обострения болей, сомнений не оставалось: опухоль увеличивается! Несмотря на трудности дороги военной поры, Георгий Васильевич едет в Москву, чтобы оттуда добраться до Ленинграда. Но в Москве ему сказали, что в Ленинград гражданскому лицу пока не попасть, да вроде бы и Петрова там сейчас нет, эвакуирован. Алексеев обратился к нескольким авторитетным хирургам Москвы. Те смотрели, качали головами и… советовали снова встретиться с Петровым.
В Омск Алексеев вернулся ни с чем, подавленный и растерянный. Продолжал ходить на работу, но постоянным его спутником стала хромота. А боли не отпускали, и опухоль была уже заметна на глаз…
Когда же война кончилась и дорога в Ленинград была открыта, он еще раз сделал снимок и сам с ужасом понял: теперь уже никакого выхода нет, как только лишиться ноги! Стало не по себе… Он, можно сказать, в расцвете сил, все земные радости тревожат его, впереди долгожданные мирные дни – и нате вам: сам должен положить на стол ногу, чтобы ее отрезали! Свою, собственную! Страшно подумать: как можно жить без ноги?! Другие, конечно, живут, но ведь они не по своей воле лишились конечности – война или несчастный случай… А у него отнимут ногу целиком, не оставив даже культи, протез, следовательно, будет очень неудобен, придется ходить как на ходулях… Может, опухоль прекратит свой рост?! Он готов мучиться, мирясь с болями, хромотой, лишь бы уцелела нога! Терзался, не знал куда себя деть, с головой уходил в работу, старался все время быть на людях, но мысль, что ампутации не избежать, скоро опухоль, видно по снимку, перекинется на кости таза, оттуда может перейти на туловище и постепенно задавит его, не давала покоя. Плакала жена, настаивая, чтобы он немедленно ехал в клинику Петрова, а Георгий Васильевич никак не мог решиться. И дотянул до 1947 года.
К этому времени опухоль, захватив кости таза, слившись с ними, представляла собой единое огромное образование, из которого как бы торчала высохшая и согнутая в коленном суставе нога. Георгий Васильевич уже не мог ходить. Лежа в постели, с горечью думал о том, что ему не повезло и скоро придется проститься с жизнью. А ведь еще пятидесяти нет, и жизнь – это особенно чувствуется в обреченном состоянии – так желанна! Может, попытаться? Ну, отнимут ногу, а он останется жив. Ведь останется! На лыжах он бегать не собирается, велосипед – тоже не главное, танцевать – так он никогда не танцевал. А на работу ходить и домой возвращаться, к жене, к детям, можно и на костылях. Не он первый, не он последний. Зато будет жить! Вон еще детей нужно на ноги поднимать, только-только на самостоятельную дорогу собираются выходить. Что же он натворил, чего ждал?!
И когда сослуживцы в который уже раз пришли к Алексееву по просьбе его жены, чтобы уговорить на поездку в Ленинград, он, к их удивлению, ответил, что готов ехать немедленно…
В вагон его вносили на носилках, а к приходу поезда в Ленинград была подана по телеграмме машина «скорой помощи». Худой и бледный, небольшого роста, он казался совсем невесомым. Однако когда санитары подняли носилки, то удивленно переглянулись: можно было подумать, что под одеяло к больному положили добрый десяток кирпичей…
В нашей клинике к Алексееву как к врачу, к собрату, понимая тяжесть его положения, все старались проявить максимум внимания. Сильно переживала за него заведующая мужским отделением Нина Даниловна Перумова – человек большой отзывчивости и доброты… После того как Георгию Васильевичу сделали рентгеновские снимки, все анализы его долго смотрел во время своего очередного обхода Николай Николаевич: сравнивал прежние и новые снимки, ощупывал опухоль, ногу, кости таза, расспрашивал… И ничего не сказав, в мрачном настроении вышел из палаты.
Нина Даниловна спросила его:
– Что же будем делать с больным Алексеевым?
– К сожалению, придется выписать. Пусть возвращается домой. Запустил! Поздно!
– Но это значит, что отправляем домой умирать!
– Мы ему уже не помощники, – с грустью сказал Петров, и было понятно, как тяжко ему дались такие слова.
Обход продолжался… Все были мрачны, рассеянны, часто отвечали невпопад: думали о докторе Алексееве, о том, что от него ничего не скроешь, придется говорить жестокую правду. И о том думали, как несовершенна медицина, слаба хирургия – и они, врачи, острее других чувствуют это! Ведь тот же Алексеев лежит в полном сознании, с ясной головой, с желанием и дальше быть полезным обществу. Известно, что он отличный педиатр, стольких детишек вылечил, вернул к жизни… А ему самому сейчас, по существу, подписали смертный приговор: опухоль – и они бессильны перед ней! Уходят, уходят от него, скорее, скорее… А как завтра будут смотреть ему в глаза?
После обхода, через час-полтора, Нина Даниловна, которая, видно было, никак не могла успокоиться, зашла ко мне в кабинет, спросила:
– Федор Григорьевич, а вы смотрели Алексеева?
– Нет, – ответил я. – Но Николай Николаевич так тщательно его обследовал, что вряд ли мой осмотр повлияет на его решение…
– А все же посмотрели б! Такой камень на душе…
Мы пошли в палату. Алексееву еще не сказали о решении профессора, но он, кажется, догадывался: был в глубоком унынии.
Больше часа провел я у его постели. В диагнозе сомневаться не приходилось: костная опухоль переродилась в злокачественную, начала бурно расти, захватив не только всю бедренную кость, но и половину тазового пояса. Значит, речь могла идти не просто об удалении ноги, а вместе с половиной таза. Кости таза вместе с бедром удалялись бы таким образом, что от содержимого брюшной полости нож хирурга отделяла бы лишь тонкая брюшина, то есть разрез должен идти между подвздошной костью и брюшиной. В медицинской литературе эту операцию именуют так: ампутация интерилио-абдоминалис. Невероятно тяжелая, травматичная и сложная, она делалась очень редко. Известно было не так уж много случаев благополучного исхода при ней, причем только у самых видных хирургов мира.
А у Алексеева, помимо всего, дело осложнялось небывало огромными размерами самой опухоли. Она так разрослась, что уверенности не было: удалишь ли ее даже с помощью такой травматичной операции? Но, пожалуй, если очень продумать все, тщательно подготовиться, можно пойти на риск, зная, что в этом единственный шанс больного остаться в живых… Когда мы вышли из палаты, провожаемые тоскливым взглядом Алексеева, я так и сказал Нине Даниловне. А она тут же, что называется, ухватилась за это:
– Значит, можете взяться?
Я отвечал ей, а видел перед собой глаза больного:
– Если учитель доверит мне такую операцию, скажет, чтобы сделал ее, я согласен.
А у самого от собственных слов заныло под ложечкой. За что берусь?! Ведь до приезда в нашу клинику Алексеева смотрели многие крупные специалисты Москвы – хирурги и онкологи – и все дружно отказались делать операцию, посоветовали больному обратиться к Петрову, за окончательным, так сказать, решением. Николай Николаевич – хирург смелый и искусный, не любивший отказывать в операции, если имелась хоть маленькая надежда на спасение человека, категорически потребовал выписки больного домой… Выходит, он не видит разумного риска в этом случае. И как сказать ему, что я решился? Не оскорблю ли его этим? Не обидится ли он? Ведь несмотря на свои семьдесят лет, он полон сил, энергии, находится в хорошей хирургической форме. И сказать ему, что его ученик берется провести операцию, от которой он сам решительно отказался и считает, что никто другой не сможет ее сделать, – не будет ли это неслыханной дерзостью или даже наглостью с моей стороны?!
Этими сомнениями я тоже поделился с Ниной Даниловной. Она успокоила, заметив, что мы привыкли слышать от Николая Николаевича лишь строго объективные суждения, на первом плане у него всегда интересы больного. Учитель должен понять. Нужно сейчас же, не откладывая ни на час, пойти и нему домой…
Квартира Николая Николаевича находилась в здании клиники. Он встретил нас в коридоре и спросил, не случилось ли чего… Ведь обычно мы старались не беспокоить его подобными вторжениями, позволяли себе это лишь при чрезвычайных обстоятельствах.
– Николай Николаевич, – сказал я, – мы к вам из-за больного Алексеева… Почему бы не сделать ему ампутацию интерилио-абдоминалис? Ведь технически выполнить ее возможно!
– Нет, папенька, не тот случай… Больной из-за непосильной травматичной нагрузки погибнет на столе от шока.
– Но, Николай Николаевич, совсем не обязательно, что шок разовьется, – настаивал я. – Мы теперь научились его предупреждать, успешно боремся с ним при больших операциях в грудной клетке. Там ведь травматичность не меньшая, однако от шока в последнее время никто у нас почти не погибал…
Учитель задумался, какое-то время все мы молчали. Наконец он сказал:
– А кто же будет делать эту операцию? Ведь я же заявил, что отказываюсь…
– Если, Николай Николаевич, доверите и поручите мне, я готов.
Опять Николай Николаевич долго молчал, словно что-то взвешивал, проверял и ответил так:
– Хорошо. Я скажу больному, что отказываюсь от операции, а он как знает – согласится или нет!
– Зачем же, Николай Николаевич, так говорить больному? – возразила Нина Даниловна. – Это его расстроит… Может, скажете ему как-нибудь так… неважно себя чувствую, поэтому за операцию не берусь, но ее сделает мой ученик, который вполне подготовлен к этому… Так, по-моему, будет лучше, Николай Николаевич!
– Хорошо, – задумчиво проговорил он. – Я пойду поговорю с больным. Вы со мной не ходите.
Он спустился вниз, тоже, наверно, не меньше часа провел у постели Алексеева, один на один с ним, а вернувшись, коротко объявил:
– Больной согласен. Когда подготовитесь, скажете мне.
И ушел к себе в кабинет.
А я тут же поехал в Публичную библиотеку, выписал все книги и журналы на русском и английском языках, в которых предполагал хоть что-нибудь найти по методике предстоящей операции… И знакомство с литературой еще в большей степени подтвердило, какую нелегкую ответственную ношу я добровольно принял на себя. Сравнивая известные у нас данные с теми, что почерпнул в зарубежных изданиях, окончательно убедился: этот вопрос нигде не считается решенным, такие операции единичны и смертность при них высокая, в основном от шока. Поэтому, вчитываясь в описание техники этих операций, воссоздавая ее мысленно, старался открыть для себя те моменты в ней, которые прежде других способствуют возникновению шока. Обратил внимание, что все хирурги пользуются при пересечении тазового кольца долотом. Удары молотка по долоту и… по кости. Удары… удары… А ведь это сотрясение, высокая степень травматичности… Не тут ли кроется один из основных шокогенных моментов? Надо подумать, нельзя ли обойтись без таких ударов? Например, пустить в ход проволочную пилу или коленчатую? Нужно проверить!
Поехал в анатомический зал, постарался на трупе осуществить всю операцию, не прибегая к долоту и молотку. Оказалось, можно! Коленчатая пила, проведенная через анатомические отверстия в кости, легко и быстро делает то, что достигается долотом с немалыми усилиями. Сама операция при этом, уже моем методе легче и проще. Чтобы совсем увериться, провел на трупах еще несколько операций. Сомнений не оставалось…
Анатомический зал, библиотека… Две недели понадобилось мне провести в них (конечно, не в рабочее время), чтобы наконец мог сказать себе: теперь пора! Уже представлял всю операцию от начала до конца.
А где-то глубоко, как на дне узкого и длинного колодца, нет-нет да и возникали тревожащие душу всплески… Это во мне. В моем сознании. Ведь в самом деле, почему это я вообразил, что смогу сделать операцию, которую фактически признал бесполезной мой учитель?! И что будет, если окажется, что я не рассчитал сил больного и своих возможностей? Больной погибнет на операционном столе…
Когда я поставил Николая Николаевича в известность, что могу провести операцию в любой день, он не стал задавать мне никаких вопросов. Уже на примере предыдущих операций убедился, что я готовлюсь к каждой из них основательно и со всей ответственностью.
В предоперационном заключении хирурга, которое зачитывалось на утренней конференции перед всеми врачами, я подробно объяснил показания и методику операции, те меры, что будут предприняты по обезболиванию, и коснулся возможных осложнений… Курсанты задали вопросы, на которые я ответил. Николай Николаевич сказал после этого, что операция поручена им Углову, что тот уже не раз проводил в клинике оригинальные операции самой высокой сложности, подтвердил на них свое мастерство… После этих слов учителя я вдруг почувствовал, какое облегченье принесли они мне.
После конференции, уединившись с Чучелиным, Мгалоблишвили и анестезиологом Ваневским, снова вкратце повторил предполагаемый ход операции, способы профилактики и борьбы с шоком. Потом пошли переодеваться и мыться… В это время в предоперационную, где мы готовились, зашел Николай Николаевич и тоже стал стягивать с себя рубашку. Выходит, решил мне ассистировать!
Наступил довольно неловкий момент. Я с периферийных дней привык оперировать самостоятельно, без подсказок, по заранее продуманному до мелочей плану. А когда тебе ассистирует старший, он обязательно будет довлеть, его суждения могут не совпадать с твоими, тебе придется работать по его указке, то есть в нарушение собственного плана, или вступать с ним в спор, что во время операции бестактно, недопустимо, вредно для дела… И я сказал учителю:
– Николай Николаевич, поймите меня правильно… Операция предстоит долгая и, боюсь, окажется утомительной для вас. Мы постараемся с ней справиться. Нам будет лучше, если вы, стоя за нашими спинами, поддержите советами…
Николай Николаевич взглянул на меня с недоумением, не сразу, кажется поняв, что такое я ему говорю. Кто при трудной операции отказывается от ассистенции профессора! Обычно к этому стремятся, просят… Ведь ассистирующий профессор в значительной мере снимает ответственность с хирурга, перекладывает ее на свои профессорские плечи… Николай Николаевич продолжал смотреть на меня, а я ждал, что он ответит.
– Ты что ж, папаша, боишься, что я стану инициативу из твоих рук вырывать? – Он прошелся по комнате от стены к стене, постоял у окна, потом сказал: – А наверно, ты прав…
Я не уловил в его голосе и тени обиды. Надев снова рубашку, халат, он проследовал в операционную. И надо ж было случиться по горячим следам еще одной неловкой заминке: уже здесь, в операционной.
Шла подготовка больного на операционном столе. Нужно было наладить капельное переливание крови, и я еще до этого распорядился, чтобы переливали в руку. Николай Николаевич, не зная о моем распоряжении, сказал Ваневскому:
– Переливайте в ногу…
Как можно мягче, переживая, что вот опять приходится идти наперекор учителю, я сказал:
– Николай Николаевич, разрешите, чтоб в руку…
– Да? – Он вскинул седые брови и тут же, после небольшой паузы, успев, видимо, обдумать, почему я настаиваю на своем, обратился к курсантам:
– С хирургом не спорят! Ему можно давать совет, но решает он, и никто не должен ослушаться или оскорбиться… Он отвечает за жизнь больного, вот откуда необходимость полной самостоятельности. Так что хирург волен послушать или не послушать нашего совета. А в данном случае Углов совершенно прав, что переливает кровь в руку. Ведь ногу придется ворочать, и система будет мешать в проведении операции…
И тут, как всегда, мой учитель на глазах у курсантов и многочисленных врачей, пришедших из других хирургических клиник посмотреть необыкновенную операцию, продемонстрировал величие и благородство истинного ученого. В нем никогда не было ни досады, вызванной ревностью к успехам других, ни зависти, ни, повторяю, ложного самолюбия. Большой хирург, он понимал любого хирурга с полуслова и, когда требовалось, охотно шел ему навстречу…
Больной уже спал. Владимир Львович Ваневский несколько дней затратил на добывание различных препаратов, способных усилить действие наркоза: ведь наркоз в ту пору был у нас очень несовершенным и сам по себе таил угрозу для больного. Если дать его недостаточно, разовьется шок; если с избытком – может быть интоксикация и наркозная смерть. Поэтому, чтобы уменьшить количество наркоза, договорились все время добавлять новокаин.
Накануне я тщательно разрисовал линии разреза с учетом того, чтобы хватило кожного лоскута для полного прикрытия той огромной раны, что образуется после ампутации ноги вместе с опухолью… И сделав разрез, вначале небольшой, по намеченной линии, убедился, какую осторожность придется соблюдать. Сосуды, сдавленные опухолью у основания, были переполнены кровью. Разумеется, если бы я сразу осуществил большой, смелый разрез, окаймивший бы половину туловища, это было бы эффектно! Но пока возились бы с зажимами, больной потерял бы много крови. А впереди и так это ждало… Вот почему я начал с разреза небольшого, который, после того как останавливал кровотечение, тут же продолжал. И услышал за собой знакомый глуховатый голос:
– Правильно, папенька. И дальше так, шаг за шагом. Не на зрителей работай, а чтоб меньше крови…
Сантиметр за сантиметром уходя в глубь раны, достиг сосудисто-нервного пучка. Осторожно отодвинул вену и нерв, опасаясь при этом поранить тонкую стенку вены, подвел две нитки под артерию, крепко, но так, чтобы случайно не перерезать ниткой, перевязал ее и пересек между лигатурами. Ход моих мыслей не остался незамеченным, учитель сразу же прокомментировал:
– Обратите внимание, что хотя хирургу было очень неудобно действовать, рискованно даже, он все же сначала перевязал артерию, а не вену.
– Мы удивились этому, – ответил один из врачей-курсантов. – Зачем так осложнять для себя операцию? Перевязать сначала вену легче, проще и, наверно, тот же результат…
– Вы ошибаетесь, – разъяснил Николай Николаевич. – Хирург поступил как нельзя лучше. Вы видите, как спались сосуды на конечности? Это потому, что, перевязав артерию, хирург прекратил приток крови и, оставив пока в неприкосновенности вену, сохранил отток… Таким образом, застоявшаяся в ноге кровь уйдет к туловищу, и хирург, перевязав вену и удалив конечность, может быть уверен, что больной потеряет минимальное количество крови.
Когда была пересечена и вена, а за ней нерв, в толщу которого я предварительно ввел новокаин, Ваневский, поймав мой вопросительный взгляд, успокоил:
– Все ваши манипуляции пока никак на давлении больного не сказываются. Оно стабильно, на нормальных цифрах.
А Николай Николаевич продолжал комментировать:
– Можете воочию убедиться, как важны при операции нежность в обращении с тканями и забота о сохранении крови в организме. Закончена очень травматичная часть операции, а больной, по существу, не почувствовал этого…
Не дыша, подошел я ножом к тонкой оболочке брюшины, за которой был кишечник. Чуть не рассчитай, и брюшная полость будет вскрыта, а это выпадение внутренностей и возможность перитонита… Нащупал крестец и то место, по которому должно произойти пересечение кости. Бережно закрыв рану, повернули больного сильно на бок, и я начал новый разрез, постепенно подводя его к первому. Тут огромная опухоль, возвышаясь над тазовыми костями, затрудняла подход к тазовому кольцу. Не спеша, но в то же время не тратя даром ни одной секунды, обнажил заднюю поверхность крестца и переднюю поверхность тазовой кости. Сестра от волнения, видимо, забыв мое предупреждение, подает долото и молоток.
– Коленчатую пилу, – говорю ей.
Заметив удивление на лицах хирургов, Николай Николаевич пояснил:
– Хирург решил не прибегать к долоту и молотку из-за их травматичности. Он убежден, что лучше воспользоваться пилой. И сейчас это впервые проверяется на практике. Будем внимательны! Прав ли хирург?
Николай Николаевич, сам делая такие операции, тоже всегда пользовался традиционным инструментом. Но сейчас, хоть и доверял мне, все же не спешил с оценкой моего способа, ждал, как и остальные, что же будет… Повозившись некоторое время, я провел тонкую гибкую пилу через естественные отверстия в кости, осторожно перепилил нужное место, где подвздошная кость крепится к крестцу. Затем с той же осторожностью перепилил ветви лобковой кости.
– Давление нормальное, – доложил Ваневский. И тут учитель сразу же сказал:
– При пользовании долотом и молотком, нужно признать, этого бы не было. Давление обязательно упало бы до самых низких цифр. Можно поздравить Углова, что он нашел более щадящий и перспективный прием…
Несколько изменив положение больного на столе, я обнажил крупный седалищный нерв, обработал его и пересек, как и предыдущий до этого, лезвием безопасной бритвы… Теперь весь огромный, если не сказать, чудовищный, опухолевый препарат держался лишь на мягких тканях. Следя за тем, чтобы как-нибудь концом перепиленной кости не поранить брюшину или крупный сосуд, я подсекал каждый участок, который был еще связан с туловищем. В этот момент двое врачей, помогая мне, приподняли опухолевое сращение, и оно оказалось как бы на весу, пока полностью не было закончено отсечение… Громадная опухоль вместе с костями таза и ногой лежала перед нами, пугая своими размерами. Николай Николаевич тут же вызвал муляжиста, чтобы запечатлеть эту редкость. Как мы узнали после, опухолевое сращение весило 29,3 килограмма. Почти два пуда!
Но нам – операционной бригаде – было не до муляжа.
Как и любая из ряда вон выходящая операция, эта тоже вымотала до конца: чуть ли не пар от нас шел – такие мокрые были, и ноги гудели, как после многокилометрового марша или восхождения на горный пик… Но в глазах у каждого из своих помощников видел я не утомление, а ту высшую радость, что бывает у победителей. Ведь главное – весьма травматичная операция прошла без шока у больного! Как же, значит, мы старались, как слаженно и безошибочно действовали… Теперь все силы на предотвращение внезапных послеоперационных осложнений!..
Нет нужды тратить время и бумагу на описание тех чувств, что бурлили тогда во мне. Поединок выигран, и было такое ощущение, что словно бы раздались шире плечи, тверже стала рука, закалилась сильнее прежняя моя воля…
Уже через две недели все раны у Алексеева зажили, как мы, медики, выражаемся, первичным натяжением. Больной стал учиться ходить на костылях. К нему пригласили опытного специалиста с протезного завода. Несколько недель ушло на изготовление специального протеза, и за этот срок Алексеев полностью поправился, окреп и порой горько шутил: «Еще бы ноге вырасти, тогда хоть в футбол играй!» Иногда, дольше обычного задержавшись в кабинете, я слышал приближающееся постукивание его костылей, он просил разрешения войти, и мы разговаривали с ним. Георгий Васильевич признался, что слова Петрова о том, что сам он операцию делать не сможет и поручает ее Углову, были для него ударом. «Под ваш нож, поверьте, шел как ягненок на заклание… С такой, знаете, библейской покорностью!..» Говорил это и, покачивая головой, смотрел на мои руки. «Да что это вы?» – спросил я. «Удивляюсь», – ответил он и не стал ничего больше объяснять.
Перед тем как выписать Георгия Васильевича Алексеева из клиники, мы продемонстрировали его на заседании Хирургического общества имени Пирогова. После моего сообщения об истории болезни этого больного и о проведенной операции Николай Николаевич поднялся с места и сбросил с муляжа простыню, которой тот был прикрыт. В зале при виде гигантской опухоли раздались возгласы удивления. Как мог человек носить ее?! И тут же мы показали больного. Он вышел к присутствующим уже на протезе.
Было много вопросов. Среди них такой: кто сделал эту блестящую операцию? Задал его профессор Созон-Ярошевич. Пока я собирался отвечать, Александр Сергеевич шепнул мне на ухо: Созон-Ярошевичу отвечай в последнюю очередь. Я понял ценность дружеского совета и принял его. Когда на все вопросы были даны исчерпывающие ответы, я зачитал вопрос Созон-Ярошевича и ответил: «Оперировал Углов, ассистировал Чечулин, консультант Николай Николаевич Петров…» Раздались дружные и долгие аплодисменты. А тут еще Николай Николаевич подлил масла в огонь: в своем выступлении во всеуслышание заявил, что лично он отказался делать операцию, а вот Углов взялся, и получилось хорошо. Закончил же так: «Будем помнить, товарищи, что в мировой сокровищнице науки второго подобного факта нет. Человеку отняли сорок процентов веса тела, а он остался жив!»
Алексеев уезжал домой с просветленным лицом, полный надежд жить и работать. А мы сильно переживали за него. Дело в том, что при тщательном гистологическом исследовании опухоли в ее глубоких отделах были выявлены участки злокачественного превращения костной опухоли. Больному, понятно, об этом не сказали, и потому каждое письмо от него – он нам периодически сообщал о своем хорошем самочувствии – нас радовало. В глубине души надеялись, что его минует чаша сия…
Успех же этой операции, естественно, еще больше содействовал укреплению нашего авторитета. То и дело нас приглашали в другие больницы… А сами мы, несмотря на заметные достижения в овладении новыми разделами хирургии, продолжали испытывать трудности с обезболиванием, могли лишь мечтать о интратрахеальном наркозе, который в те годы уже получил самое широкое распространение на Западе. По-прежнему брали за основу местную анестезию, отнимавшую уйму времени и сил хирурга, всей операционной бригады, и все же не обеспечивающей надежной безболезненности. Считали, что нам повезло, когда удалось ввести в штатное расписание должность врача-наркотизатора, который с увлечением взялся за разработку вопросов анестезиологии.
В клинику, как уже говорил, шли и ехали отовсюду врачи, желающие учиться необыкновенным операциям, больные, которые уже отчаялись найти где-либо спасение для себя…
Многие из больных поступали в клинику в таком состоянии, что с первого взгляда было ясно: операции не перенесет… Но сказать человеку: иди и умирай, поскольку тебе не показана операция, – я не мог. И сам собой требовательно встал вопрос: а нельзя ли улучшить состояние больного, чтобы он выдержал операционное вмешательство, а дальше сама операция принесет ему облегчение?
Это оказалось сложным и трудным делом. Но первый же начальный опыт подтвердил: предоперационная подготовка имеет громадное, иногда решающее значение для исхода операции. Мы увидели, что больные, которые считались абсолютно неоперабельными и которым до нас отказывали во всех клиниках, куда бы ни обращались они, после упорной, длительной, продуманной в деталях подготовки обретали силы, позволявшие им благополучно перейти с операционного стола в палату выздоравливающих… Я писал об этом в диссертации, в нескольких опубликованных журнальных статьях, хотя некоторые врачи, тоже занимавшиеся проблемами легочной хирургии, весьма критически, иногда и пренебрежительно относились к моим высказываниям по этому поводу.
А мы продолжали совершенствовать процессы подготовки больных к операции, добиваясь ее полной эффективности. Затрачивали на это много энергии, совершали ошибки, тут же, на ходу, исправляли их и в конце концов создали стройную систему такой подготовки, обеспечивая отныне более гладкое течение операции, охраняя больных от многих осложнений.
А вопрос об осложнениях при внутригрудных операциях и, в частности, при операциях на легком тоже совершенно не раскрывался в медицинской литературе, ни у нас, ни за рубежом. Это в то время, когда про осложнения при операциях на брюшной полости имелись, например, целые тома! Поэтому, сам работая без подсказок, пережив не одну трагедию, совершив не одну ошибку, я стремился дать в своей диссертации практические советы хирургам, обращая их внимание на наиболее опасные ситуации. А ведь когда они возникают, время измеряется секундами, нужно сделать единственно верный ход…
К середине 1948 года я успел уже осуществить двадцать восемь резекций. Эти операции в некотором роде были уникальными. Вряд ли в то время какая другая клиника страны могла представить подобное количество наблюдений.
К этой поре мне уже можно было начать писать основные главы диссертации, но… не хватало времени! Продолжал много оперировать, а каждая операция и выхаживание больного после нее заставляли проводить в клинике сутки напролет. А тут еще напасть: стало сдавать собственное здоровье, не давали покоя боли в спине. Профессор Н. А. Новожилов, к которому обратился, снова подтвердил диагноз хронического заболевания позвоночника, постепенно ведущего к сращению позвонков между собой. Суровое эхо финской кампании! Профессор порекомендовал мне срочно ехать в Саки, куда я и отправился с тяжелым чемоданом, набитым книгами и тетрадями. В тетрадях были рефераты прочитанных работ и истории болезней оперированных мною людей.
С этим чемоданом, между прочим, связан любопытный эпизод… Трое попутчиков, что ехали со мною в купе, сошли глубокой ночью на какой-то станции. А под утро я Услышал в купе какую-то возню, затем увидел, как молодой человек, тужась от тяжести моего чемодана, стаскивает его с верхней полки. Спустил чемодан на пол, покосился на меня: сплю ли?
– Поставь на место, – спокойно, но властно сказал я. – Сам снял – сам поставь!
– Хорошо, – отозвался молодой человек. – Если просите – я готов.
Через минуту мы сидели друг против друга. Молодой человек нервничал, но старался держаться с достоинством. Было ему не больше двадцати трех лет, одет прилично, лицом не глуп…
– Это что ж… профессия ваша? – спросил я. Он пожал плечами: понимай, мол, как хочешь.
– Надо бы сдать вас в милицию, – сказал я. – Но не верится, что вы… профессионал.
– Я?! – Молодой человек, по-моему, даже обиделся. – Я вор в законе. «Мойщик» со стажем… «Мойщик» на нашем языке – специалист по поездам, у спящих, так сказать…
– У вас тоже специализация?
– Еще бы!
На необщительность моего нового знакомого жаловаться не приходилось. Наоборот!.. «Освоившись», он говорил со мной уже на равных, без тени смущения. Поинтересовался – так, между прочим:
– А в чемодане у вас что? Тяжел, черт!
– Книги.
Он в досаде хлопнул себя по коленям:
– Вот не повезло бы! Я уж раз обжегся на таком чемодане – в Рязани. Вскрыл, а там одни Библии. Поп вез. А вы кто – по культуре служите?
– Хирург.
– Это хорошо, – одобрил молодой человек. – Ваш брат и нас спасает. – Подумал-подумал и вдруг сказал:
– Я тоже знаком с одним хирургом. Он из Ленинграда. Углов фамилия.
– Как интересно! – ответил я. – Я тоже немного слышал об Углове.
Молодого человека звали Анатолий Ч-н, и он рассказал про своего отца. Отец умирал. Уже не было надежды – и жена, мать Анатолия, повезла его из Мурманска в Ленинград. Доктор Углов удалил отцу часть легкого – отец теперь жив-здоров, по-прежнему работает военруком в школе, а в доме Ч-ных имя доктора Углова часто вспоминают…
Я вспомнил и больного Ч-на, и, как всегда у меня бывает, тут же мысленно «воспроизвел» весь ход операции у него, нелегкий и опасный, как все подобные. Анатолий признался: дома, конечно, не знают о его преступном занятии, думают, что сын плавает матросом в Черноморском пароходстве. Он старается поддерживать эту родительскую веру в него: из портовых городов шлет открытки с красочным описанием своей «моряцкой» жизни.
Еще часа два разговаривали мы. Я назвал свое имя и старался убедить парня, чтобы он порвал с воровским миром, перешагнул со скользкой дорожки на прямой путь честной жизни: за плечами у него десять классов, он молод, силен, достаточно развит, – нужно учиться! Сколько хорошего, светлого вокруг нас, и одновременно сколько человеческой энергии, ума, самоотверженности необходимо, чтобы успешно преодолеть все то, что мешает людям в жизни. Например, болезни… По-моему, я тогда прочитал Анатолию целую лекцию о том, как хирурги ведут бой за излечение безнадежных больных, какие трудности встречают на пути. Он слушал внимательно, если было что непонятно – переспрашивал; и я, признаться, был в затруднении: что же мне делать с ним? Но Анатолий «распорядился» сам: извинившись, вышел покурить и больше не вернулся. Честно говоря, мне даже стало обидно, подумалось: сколько волка ни корми – он все равно в лес смотрит! К чему этому «профессионалу» все мои «добропорядочные» слова? И другое подумалось: как легкомысленно я поступил – везти с собой весь материал диссертации, подлинники этого материала! Не поймай я вора за руку – мне понадобилось бы два-три года, чтобы только восстановить утерянное!.. От одной этой мысли холодок прошел по спине. Да еще хотел убедить в чем-то жулика! Не наивно ли?..
Но я ошибался! Добрые семена, брошенные даже на ходу, без длительной обработки почвы тоже могут принести плоды. Лет семь спустя после этой истории Анатолий Ч-н прислал мне письмо. Сообщал, что отсидел три года, и там, в заключении, не раз возвращался в мыслях к нашей беседе, постепенно приходя к твердому решению «завязать» с прошлым. А теперь, окончив училище, приехал по распределению в Карагандинскую область, будет работать и готовиться в институт.
Как было мне не порадоваться! И могу сообщить, что нынче Анатолий Владимирович имеет высшее образование и живет с семьей в полюбившемся ему Казахстане.
Вот этим незабываема для меня та давняя дорога в Саки. Там я принимал грязи с солнечным нагревом на весь позвоночник. Сами по себе грязи горячие да еще солнце жарит, препротивнейшая, утомительная процедура! Во время лежания под грязевым одеялом спустишь с себя ведро пота, выходишь из грязелечебницы совершенно усталый, а работа ждет. Предстояло написать решающий раздел диссертации: клиническую часть, состоящую из шести глав. Времени на отдых не выкраивалось. Утешал себя одним: не привыкать!
Когда вернулся в Ленинград, оставалось сделать лишь последнюю главу, составить подробное заключение, написать краткие выводы и готовить оформление (рисунки, фото, таблицы). Этим занимался уже урывками: всецело находился в плену клинической работы, размах которой ширился месяц от месяца. Достаточно будет сказать, если с 1946 по конец 1948 года мы прооперировали 28 легочных больных, то за 1949 и начало 1950 года – уже 106.
В декабре 1948 года – точно в срок – я сдал свою докторскую диссертацию в Ученый совет, проработав над нею три года. Ее передали официальным оппонентам – профессорам Ю. Ю. Джанелидзе, В. Н. Шамову и И. Г. Шулутко. Двое первых были крупнейшими учеными и специалистами в области грудной хирургии. И. Г. Шулутко заведовал клиникой терапии ГИДУВа: на его глазах проходило все обследование и лечение легочных больных. Надо заметить, что В. Н. Шамов одним из первых в стране сделал операцию удаления легкого при бронхоэктазах, а Ю. Ю. Джанелидзе к тому времени оперировал и на перикарде, и на сердце при врожденных пороках. Так что они не только теоретически были знакомы с операциями, подобными тем, что разрабатывал я.
Все три отзыва оказались написанными так, что лучшего желать было бы грешно…
Во время защиты я решил продемонстрировать больных, которым делал операции резекции легких. Часть их уже в состоянии выздоровления находилась в клинике, другие охотно приехали по моему вызову. Все они, понимая торжественность момента и его значение для меня, явились по-праздничному одетыми, подтянутыми, смотрелись со стороны как нельзя лучше… Когда я после доклада попросил ввести их в зал и они все двадцать – по мере того, как называл фамилию каждого, возраст, болезнь и что сделано, – прошли перед взорами присутствующих, раздались аплодисменты. Выступившие же затем оппоненты характеризовали мою докторскую лишь в превосходных степенях…
А потом слово взял Николай Николаевич Петров. Его выступление растрогало меня и удивило. Учитель говорил обо мне так, что дай бог услышать подобное любому ученику от своего учителя, требовательного в деле и скупого на похвалу. Мне очень дорога эта коротенькая речь Николая Николаевича, и я осмелюсь привести ее здесь полностью. Вот она:
– Глубокоуважаемый председатель собрания, глубокоуважаемые члены Ученого совета, дорогой Федор Григорьевич! Моя роль в сегодняшнем выступлении состоит в том, чтобы дать общее суждение о диссертанте как о хирурге и человеке. Для суждения об этом в моем распоряжении имеется двенадцать лет наблюдений, так как Федор Григорьевич появился в ГИДУВе в 1937 году, после полутора лет работы в клинике профессора Оппеля и шести лет самостоятельной работы на периферии.
Когда вы, Федор Григорьевич, только что появились в Ленинграде и начали выступать в Хирургическом обществе, среди скептиков, которых всегда имеется немало, раздавались голоса сомнений: действительно ли результаты, о которых вы сообщаете, могут быть такими у молодого, начинающего хирурга? И вот результаты оказались неприятным образом (неприятным для скептиков) лучше, чем они предполагали. Теперь мы видим, что перед нами был не фантазер, не втиратель очков, а один из наиболее одаренных представителей молодого поколения нашей хирургической школы.
Появившись в Ленинграде, в моей клинике, и заинтересовавшись болезнью легких, вы, конечно, сразу убедились, что лечение этих болезней, сравнительно редко встречающихся (главным образом это были нагноительные процессы), ведется попросту плохо, а лечение рака совершенно отсутствует. Для того чтобы с успехом решить проблему этого тяжелого заболевания, нужна была инициатива, нужен был талант. То и другое вы проявили и начали действовать в этой области отнюдь не как ученик, руководимый каким-то учителем, специалистом в этой области. Такого учителя при вас не было. При вас был лишь человек, который мог только давать вам советы, указания в области общей хирургии, но по легочной хирургии авторитета и компетентности не имевшего. Тем не менее это вам не помешало достигнуть тех результатов, о которых мы здесь слышали сегодня.
Поэтому я должен выразить вам русское спасибо от кафедры, которой я более тридцати пяти лет заведую и которая за это время еще не была прославлена ни одним из своих сотрудников в такой степени, как она оказалась прославленной вами.
Спасибо вам от клиники, спасибо и от института, куда вы стали привлекать слушателей и больных.
Должен закончить свое выступление пожеланием вам дальнейших успехов, в которых, я думаю, теперь никакие скептики уже не могут сомневаться, и пожеланием, чтобы вы всегда оставались тем же простым, доброжелательным товарищем, каким вы были все это время!
…Слушая, что говорил обо мне учитель, я думал: пусть у меня, как и прежде, будут силы, я все их без остатка отдам медицине, больным людям. Я должен оправдать эти святые для меня слова Учителя.
Глава XVI
Январь 1950 года опечалил нас, ленинградских врачей, известием о внезапной кончине Юстина Юлиановича Джанелидзе. Ушел из жизни крупный ученый, превосходный хирург, очень одаренный педагог, прирожденный организатор.
Как хирург он прославился еще в молодости своей операцией ушивания раны сердца человеку, который прожил после этого много лет. Позднее вышла в свет его монография о ранениях сердца, долгое время остававшаяся единственным руководством по этой проблеме. Затем последовали другие монографии, в том числе монография по лечению бронхиальных свищей, уже посмертно отмеченная Государственной премией. Чуть ли не самым первым в стране он стал делать операции по поводу слипчивого перикардита, а также при незаращении баталового протока.
Будучи одним из руководителей Института скорой помощи в Ленинграде, Ю. Ю. Джанелидзе провел немало всесоюзных конференций по узловым вопросам неотложной хирургии брюшной полости. Они привлекли внимание всей медицинской общественности, оказали благотворное влияние на развитие этого раздела отечественной хирургии…
Неоднократно он выезжал за границу с научными докладами. Последняя его поездка была в Соединенные Штаты Америки. Оттуда Юстин Юлианович вернулся, полный впечатлений от прогресса мирной хирургии, которого добились американские хирурги в послевоенные годы. Как позже рассказывала мне его ученица – Зинаида Васильевна Оглоблина, он выражал свой восторг, забывая порой оттенить те благоприятные условия, которые хирурги США имели в годы войны. И на одном из заседаний, где Юстин Юлианович делился своими впечатлениями, вдруг поднялся молодой подполковник медслужбы С. и во всеуслышание обвинил Джанелидзе «в преклонении перед Западом». Не сделавший для хирургии и тысячной доли того, что сделал известный профессор, он резко, в патетической форме поучал Юстина Юлиановича «с должным уважением относиться к нашим выдающимся достижениям», «не позорить безответственными заявлениями форму, которую мы носим» и т. п.
Ю. Ю. Джанелидзе почти четверть века заведовал кафедрой госпитальной хирургии 1-го Ленинградского медицинского института. До него этой кафедрой шесть лет руководили Н. Н. Петров, а еще раньше – А. А. Кадьян. Все – выдающиеся хирурги, лидеры русской хирургической школы!
Естественно, что вокруг кандидатуры на эту должность начались большие споры. Но ни у кого не было сомнения, что возглавить ее должен хирург с именем, известным всей стране. Хирургическая молодежь, особенно работающая на этой кафедре, хотела иметь такого руководителя, который бы сам деятельно занимался новыми проблемами медицины и поддерживал бы начинания молодых ученых… И поэтому ко мне пришли представители общественных организаций медицинского института и, сославшись на то, что директор института обещает поддержку, посоветовали подать на конкурс.
В родной клинике мне было хорошо, я не хотел уходить отсюда, хотя приглашения перейти в то или иное место поступали постоянно, и Николай Николаевич советовал приглядеть самостоятельную работу, чтобы у меня как у ученого был больший размах… «Ты уже подготовлен к такому, – говорил он мне. – Отпускать жалко, а не отпускать – делу вредить!»
И теперь, переговорив с представителями 1-го Медицинского института, я пошел со своими сомнениями к Николаю Николаевичу. Учитель сказал, что уже думал над этим и сам хотел посоветовать мне то же самое…
Избрание на ту или иную научную должность в нашей стране всегда считалось делом исключительной важности, и здесь часто скрещивались шпаги добра и зла. Еще Ломоносов, боровшийся со всякого рода авантюристами, приезжавшими за легкой добычей в нашу страну и так и не научившимися ее уважать, писал: «Вы, сидящие на шее приютившего вас народа! Почему вы относитесь без должного уважения к нашим правилам и обычаям?»
Находясь в академии и ведя беспощадную борьбу с такими «иноверцами», он в конце концов добился очень многого в смысле объективной оценки соискателя на научную должность. И тот факт, что наши научные учреждения, как правило, возглавляли крупнейшие представители русской науки, являлся выражением объективного отношения к выбору руководителя и залогом большой творческой работы того или иного учреждения. Достаточно указать на то, что директором Института физиологии в Ленинграде был И. П. Павлов, Института экспериментальной медицины – П. М. Быков, Института онкологии в Ленинграде Н. П. Петров, Института нейрохирургии в Ленинграде А. Л. Поленов, Института нейрохирургии в Москве – Н. Н. Бурденко, Института скорой помощи в Ленинграде – Ю. Ю. Джанелидзе, а в Москве – С. С. Юдин и т. д. Этим и обусловливались высокий авторитет и передовая наука. И до сих пор там, где в руководстве научным учреждением стоит крупный ученый, там заметен прогресс этого раздела науки.
При избрании профессоров в вузы соблюдались принципы, по которым на эту должность выдвигались наиболее достойные. Во всяком случае я никаких шагов не предпринимал, ни с кем не разговаривал и решил все пустить на самостоятельное течение. Слышал, что некоторые из конкурентов предпринимают энергичные меры в свою пользу. Я же не знал тогда, что надо делать, да и не хотел ничего предпринимать, тем более, что в то время плохо представлял весь процесс избрания профессора и был глубоко убежден, что ученые изберут, несомненно, наиболее достойного.
А споры о том, кому возглавить эту кафедру, не затихали среди видных хирургов Ленинграда и Москвы. Мне о них рассказали много лет спустя, на съезде хирургов, – так памятны были те споры! Съезд состоялся в Ленинграде уже в конце пятидесятых годов. Тогда на одну мою показательную операцию пришли знаменитые хирурги из разных городов Союза, и среди них профессор Валерий Иванович Казанский. Когда вышли из операционной, я пригласил гостей в кабинет на чашку чая. Казанский, дав высокую оценку только что состоявшейся операции, сказал:
– Прошло достаточно времени, и мы видим: на место Джанелидзе был избран достойный кандидат. Между тем, признаюсь откровенно, мало кто из нас питал такие надежды при избрании Федора Григорьевича Углова… Я помню, собрались мы, человек десять хирургов, и стали между собой обсуждать кандидатов. Решение по конкурсу еще не было принято… При таком – в тесном кругу – обсуждении кандидатуры Углова лишь один Николай Николаевич Петров был за него, а остальные – дружно против. А нынче мы видим, что Николай Николаевич был прав. И я рад, что мы тогда ошиблись, что вы, – Валерий Иванович обратился ко мне, – …что вы оказались лучше, чем все мы о вас думали в то время… Но это будет позже.
Подав заявление, я совсем не переживал – изберут или нет. Было, скорее, любопытно… К тому же я не имел ясного представления, что меня ждет. Четырнадцать лет работы с врачами-курсантами – разумеется, не то же самое, что занятия со студентами, да еще руководство кафедрой при этом! Но тактичный и мудрый Николай Николаевич, думая, что я очень переживаю, зная закулисные разговоры недоброжелателей обо мне, начал на всякий случай готовить меня к худшему. Он боялся, что провал будет воспринят мною слишком удручающе, выбьет из колеи, и говорил:
– Конкурировать надо смело, не боясь провала. Что такое провал? Это значит, что всем сразу не может повезти: везет кому-то одному. Я, например, проваливался не раз и не стал, по-моему, от этого хуже. В первом случае мы конкурировали с Владимиром Андреевичем Оппелем. Кафедру занял Владимир Андреевич, я пошел к нему старшим ассистентом и проработал у него пять лет.
В конце июня 1950 года мне сообщили, что я избран на должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии 1-го ЛМИ. Было радостно. Было грустно и страшновато… Радостно, что считают достойным.
Грустно – что отныне прощай клиника, нужно уходить из-под крыла учителя.
Страшновато – ведь эта кафедра одна из ведущих в стране, к ней приковано внимание хирургической общественности. Справлюсь ли?
И это – справлюсь ли? – не давало теперь покоя. Необходимо направлять деятельность целого коллектива, подбирать темы научных работ, контролировать их, готовить к защите… И если молодежь не будет расти, цена тебе как руководителю ломаный грош, и те, кто ратовал за тебя, разочаруются… Именно в научном росте сотрудников видится лицо ученого. Как бы сам много ни работал, возможности одного резко ограничены по сравнению с возможностями коллектива. Рост самого ученого – в росте его учеников. Не так ли?
А чтение лекций? В клинике их читал сам Николай Николаевич или его заместитель, доценты лишь иногда. Здесь же заведующий кафедрой должен вести весь основной курс лекций, устраивать показательные занятия с группой, проводить разбор историй болезней и так далее и тому подобное. Ко всему прочему придется читать лекции после Джанелидзе – прекрасного оратора.
Прежде всего нужно подготовиться к первой, вступительной лекции, которой по традиции открывается лекционный курс профессора, впервые вступающего на кафедру. Обычно на эту лекцию, кроме студентов, приходят представители других кафедр, деканата, дирекции, партийного бюро… Похоже все это на своеобразный экзамен. По первой лекции будут судить о возможностях, культуре и подготовленности нового профессора.
Я понимал, что лекция должна быть глубокой по содержанию, правильно выдержанной в идеологическом и педагогическом смыслах и, главное, доходчивой и интересной. Прочитать ее нужно без шпаргалок, умело пользуясь фактами и чутко улавливая настроение аудитории. Лишь в этом случае признают эрудицию лектора…
Оставалось около двух месяцев… Я решил приятное совместить с полезным. Нагрузившись необходимой литературой, отправился в Анапу, чтобы там готовиться к лекции и перед началом учебного года отдохнуть у моря. А когда вернулся, сразу же поехал на дачу к Николаю Николаевичу, с душевным трепетом передал ему написанные листки. Он при мне прочитал их, одобрил, сказал, чтоб я не трусил: не боги горшки обжигают… «Действительно, – соглашаясь, подумал я. – Не боги!»
Сильно волновало еще одно – контингент больных. В клинике Петрова они были плановые, по «скорой помощи» не поступали. Теперь же придется три-четыре дня в неделю дежурить по «скорой». Тут нужно чуть ли не молниеносно поставить правильно диагноз, сразу наметить действия по спасению человека. А я уже со времени блокады отвык от этого. Значит, необходимо настроиться на экстренную диагностику. Не теряя дни даром, стал читать книги, в которых рассказывалось об ошибках и опасностях при постановке диагноза, исследования по «острому животу» и другие.
Новая работа представлялась мне ответственным этапом в жизни, к тому же я ждал выхода в свет монографии по резекции легких, сделанной на основе докторской диссертации. Ведь она была первым крупным исследованием в стране, освещающим эту проблему с самых разных сторон…
Первого сентября я взошел на кафедру, имея монографию в руках. Вступительную лекцию читал, видя перед собой сотни белых халатов и устремленных ко мне внимательных глаз… В ней я прежде всего говорил о бережном отношении к больному как о святой обязанности врача.
Лекция, как видел сам и как мне после сказали, всем понравилась. А я, когда читал ее, имел дальний прицел, чтобы мои установки о бережном подходе к больному услышали не только студенты, но и присутствующие здесь же врачи клиники – не худо им сразу же знать мои требования…
Следовало мне вникнуть и в педагогический процесс, во все его тонкости. Молодые хирурги жаловались, что не имеют тем научных работ. Сразу же бросилось в глаза, что никто не производил должного отбора больных, много лежало таких, которые не требовали хирургического лечения, и в результате у хирургов не чувствовалось интереса к работе…
За полтора-два месяца, разобравшись в особенностях учебного процесса и в работе клиники, присмотревшись к сотрудникам, я решил перестроить всю деятельность кафедры. Прежде всего поставил на заведование отделениями энергичных людей, способных живо, творчески решать вопросы: доцентов С. П. Иванова и А. В. Афанасьеву.
Сергей Павлович Иванов был исключительно обаятельной личностью. Скромный, спокойный, деловой, умелый хирург, имел большой педагогический опыт. Старый член партии, он не выносил никакой фальши, сам отличался кристальной честностью, пользовался доверием и авторитетом не только в клинике, но и в институте в целом. Вскоре он защитил докторскую диссертацию и стал вторым профессором. Но к сожалению, заядлый курильщик, он через несколько лет умер от рака легкого.
Антонина Владимировна Афанасьева начинала свой путь в медицине с должности операционной сестры в клинике Петрова. Неутомимая, с твердым характером, она быстро прошла нелегкую дистанцию от медсестры до хирурга, успешно оперировала на брюшной полости, а затем овладела методикой внутригрудных операций. В шестидесятые годы, защитив под моим руководством диссертацию, она получила профессорское звание…
Сергей Павлович и Антонина Владимировна были надежными помощниками, поддерживали меня во всех начинаниях. А одной из первых задач была необходимость оживить хирургическую деятельность клиники. От этого, по существу, зависел уровень педагогической и научной работ.
Узаконили: в клинику принимать по строгим показаниям, только тех, кто нуждается в хирургическом лечении. Понятно, что тут же появились пациенты со сложными хирургическими заболеваниями. Они уже сами по себе заставляли наших врачей как можно больше читать, думать, советоваться, дискутировать.
Как и предполагал, на первых порах мне было очень трудно устанавливать правильный диагноз и находить правильную тактику при острых заболеваниях брюшной полости. Ведь видишь больного всего несколько минут, а высказать твердое суждение обязан! И через час-другой твои слова, твой диагноз будут проверены в ходе операции. Ошибешься раз, второй – и непоправимо упадет твой авторитет во мнении сотрудников… Врач клиники, порой наблюдая больного несколько часов кряду, не может поставить диагноз. Что же тут скажешь, если наблюдаешь больного каких-то несколько минут?!
Однако должен сказать!
Для примера сошлюсь на историю, связанную с одним больным, которого дежурный хирург и заведующий отделением показали мне в поздний час, во время моего ночного посещения клиники.
– Больной доставлен «скорой помощью» с диагнозом «острый живот» прямо с производства, – доложила мне Антонина Владимировна. – Собрались оперировать, но вот в сомнениях… Не все ложится в этот диагноз…
Смотрю больного: бледен, дышит прерывисто, тоны глуховатые, пульс частит, мягкий, в легких чисто, а живот напряжен настолько, что сразу же возникает подозрение на перитонит. Не прободная ли язва желудка?! Если так, немедленно оперировать. Напомню, что когда операция при прободной язве желудка делается в первые шесть часов, смертность составляет десять-пятнадцать процентов, после двадцати часов она приближается к ста процентам.
Нужно торопиться не спеша. При ошибочной операции смертельный исход не исключается. Ведь больного не первый час наблюдают такие опытные клиницисты, как Антонина Владимировна Афанасьева и Ирина Игнатьевна Рупеко. Они, взвесив все «за» и «против», не могут пока утвердительно ответить, что у больного, а я возле него пять минут. Но я – арбитр, должен решить вопрос с исчерпывающей полнотой. На меня смотрят, от меня ждут…
Я сел на край кровати и положил больному на живот руку. Отвлекая вопросами, начал плавно и нежно, однако настойчиво надавливать на живот. Рука тут же встретила резкое соприкосновение: живот напрягся, как доска. По-прежнему отвлекаю больного, что-то говорю ему, он отвечает мне, и чувствую, постепенно моя рука уходит в брюшную полость глубже. Еще и еще… Такого при прободной язве не бывает – как ни отвлекай, живот остается в стойком напряжении. Значит, что-то другое! Но что же?!
Более подробно расспрашиваю больного. Он рассказывает, что по профессии инженер, сегодня вечером у него был неприятный разговор с директором, по сути директор оскорбил его… А он, вдруг ощутив резкую боль в животе, не мог уже ничего ответить, сел в кресло, откинул голову на спинку и, чувствуя, что боль не проходит, попросил сослуживцев вызвать такси. Перепуганный директор тут же предоставил свою машину. По дороге домой ему стало так плохо, что пришлось доставить в больницу…
– А было у вас подобное раньше?
– Не такое, но было. Обычно, когда понервничаю, боли в сердце.
Что же делать? Оперировать?
А вдруг обнаружится, что никакой катастрофы в животе нет?! Отложить операцию? К завтрашнему дню разовьется перитонит, если это все же прободная язва… Но вряд ли!
– Как быть, Федор Григорьевич?
– А ваше мнение?
В ответ пожимают плечами.
– Делали больному электрокардиограмму?
– Но у нас же не было подозрения на болезнь сердца…
– А обратили внимание, что если больного отвлечь, он дает прощупать живот довольно глубоко? Следовательно, можем предположить, что причина напряжения мышцы брюшной стенки зависит от легких или сердца. Легкие при прослушивании чистые. Надо проверить сердце…
Немедленно сделали электрокардиограмму. Мелкоочаговый инфаркт! Если бы взяли на операцию, больной бы не выжил.
Такие истории в хирургической, клинике, которую отныне возглавляю, чуть ли не ежедневно. Тут уж основная забота не об авторитете, профессорском престиже – как бы человека под удар не поставить, неприятностей для себя и своих сотрудников не нажить!
Поэтому в подобных ситуациях работа хирурга отчасти напоминает работу следователя-детектива… В описанном эпизоде все как будто было в пользу «острого живота» – призывало к срочной операции. Все, кроме одного симптома, не подходящего под общую картину. А что такое один симптом, когда десятки других подтверждают несомненность первого диагноза?! Пренебречь им? Но пренебрегли бы – прощай, человек!
Так и у следователя. Бывает, что все факты, казалось бы, изобличают человека в преступлении. Есть только маленькое, крошечное «но». И опытный следственный работник не отмахнется от этого противоречия, как бы незначительно оно ни было. Все заново пересмотрит, переосмыслит, сопоставит, и смотришь, ниточка, потянувшаяся от этого «но», приведет к совершенно иному результату, чем предполагалось раньше. А в клинике нужно было не только учиться самому, но и учить сотрудников. И я вскоре выступил с большой статьей в «Вестнике хирургии им. Н. И. Грекова», в которой обращал внимание практических врачей на симптомы, симулирующие «острый живот», но вызванные совершенно другими причинами. Статью встретили с большим интересом в разных городах страны. Мне пришли письма с благодарностями, а из Донецка приехала доктор Подоненко за советом. Она сказала, что наблюдала много подобных больных. Нельзя ли на имеющемся материале написать кандидатскую диссертацию?
Я помог ей составить план диссертации. И Анна Павловна успешно защитила кандидатскую, затем при моем содействии увидела свет ее монография, а позже под моим же руководством она защитила и докторскую на аналогичную тему. Сейчас она профессор, и я рад, что помог одаренному человеку войти в науку.
Кстати замечу, что среди моих учеников немало таких, которые шли к ученым степеням, начиная рядовыми врачами. Помня, какой дорогой к науке двигался сам, я всячески стремился разжечь искорку интереса к тому или иному вопросу, если замечал ее у кого-либо из молодых. Если врач проявлял настойчивость, дело всегда заканчивалось успехом.
…А примеров, когда хирург оказывается в крайне сложном положении, повторяю, бездна. Предельно выразительна в этом отношении старая латинская пословица: «Не тот хирург, кто сделал блестящую операцию, а тот, кто воздержался от ненужной операции!»
Приблизительно через полгода я окончательно уверился, что все направления деятельности кафедры мною полностью освоены. Больше того, я вижу их в перспективном развитии. И отныне можно смело внедрять в работу клиники новые разделы хирургии. К этому, кроме всего прочего, принуждали, как всегда, больные! Многие из них, узнав, что я уже не работаю в Институте усовершенствования врачей, отыскивали меня в 1-м Медицинском. Поэтому с первых же операционных дней у нас пошли на стол больные с заболеваниями пищевода, с гнойными процессами и раком легкого. Эти операции привлекали внимание не только всех врачей нашей клиники, но и соседних клиник. Приезжали энтузиасты из других городов. С особым вниманием относились к таким операциям студенты.
Вполне понятно, что за состоянием работы в клинике, которой до этого многие годы руководил прославленный хирург страны Ю. Ю. Джанелидзе, ревниво следили в Ленинграде и Москве. Ревность эта была оправданной: не сданы ли прежние позиции? По-видимому, оснований для опасений мы не давали. Это в какой-то степени подтверждается письмом, полученным мною в ту пору от Бориса Александровича Петрова – широко известного в медицинских кругах хирурга, автора многих оригинальных работ по вопросам медицины. Он писал:
«…Очень рад, что удалось побывать у вас в клинике, известной мне по прежним визитам. Ныне я с большим удовлетворением почувствовал в ней хороший, рабочий, полнокровный дух и понял, что она попала в руки настоящего хирурга. Как и говорил Вам, и сейчас повторяю, что Ваша работа у операционного стола производит цельное впечатление. Я радовался за русскую хирургию, которая цветет и развивается, находясь в твердых руках…
С уважением
профессор Б. Петров
Москва, 22 января 1951 года».
С трогательной отеческой заботой следил за моими делами Николай Николаевич Петров. Радовался успехам, печалился при неудачах. Он высоко ценил мои хирургические способности, считал своим долгом направлять их по единственно правильному руслу – на благо отечественной медицины. Это ярко проявилось в следующей истории…
Года через полтора после избрания меня заведующим кафедрой я получил лестное предложение занять должность, которую тоже на протяжении десятилетий занимал Ю. Ю. Джанелидзе: заместителя директора Института скорой помощи по науке. И как только я согласился на это, от Николая Николаевича мне принесли письмо следующего содержания:
«Дорогой Федор Григорьевич!
Вы достигли многого.
Идите дальше вперед теми же темпами, а если можете – еще больше усиливайте их.
Однако задумайтесь над тем, что распространение работы на два учреждения вредно для обоих этих учреждений и особенно вредно для самого совместителя.
Не берите совместительства с активной работой, а если уж взяли, то бросьте и сосредоточьтесь в одном месте, иначе Вы расколетесь и снизите уровень своей работы, а это будет очень жалко, потому что людей с такими способностями, как у Вас, очень мало, и они обязаны развивать и еще раз развивать, но не распылять свои силы!
Ваш доброжелатель,
гордящийся Вашими успехами
Н. Петров
1/Х-1952 г.»
Я принял совет-предостережение учителя и оставил совместительство, сосредоточив все внимание на делах клиники.
Широким был диапазон вопросов, которые приходилось разрабатывать в клинике.
Много внимания мы уделяли хирургическому лечению зоба: прооперировали более полутора тысяч больных, в том числе с внутригрудным зобом, при котором встречались все сложности и неожиданности, присущие операциям на грудной клетке.
Проявили себя в лечении некоторых эндокринных заболеваний, ставивших перед нами запутанные диагностические и тактические задачи. Особенно памятные волнения и трудности связаны с больными, у которых находили аденому паращитовидных желез. Ведь тут как: появится у человека опухоль с горошину, а таких дел натворит, разобраться, что к чему, невозможно…
Так, поступила в нашу клинику сравнительно молодая женщина с сильнейшими болями в ногах и во всем теле. Врачи, до этого неоднократно обследовавшие ее, не находили ничего патологического, считали, что она «типичная тяжелая истеричка». А когда она попала в больницу с переломом бодра, оказалось, что у нее многочисленные следы старых переломов ребер и других костей, и к тому ж камни в почках. Внимательное изучение рентгеновских снимков костей этой женщины и общее обследование у нас в клинике показали, что у нее крайне мало кальция в костях, отчего они и хрупкие. Следовательно, в организме нарушен минеральный обмен, в частности – обмен солей кальция и фосфора. Постепенно мы пришли к заключению, что это заболевание паращитовидных желез – маленьких, с чечевичное зернышко железок, расположенных на шее ниже щитовидной железы. Не опухоль ли? Сделали операцию. Да, опухоль, чуть меньше горошины. И как только убрали ее, больная тут же, на операционном столе, заявила, что боли и скованность во всем теле, которые мучили ее много лет, совершенно исчезли!
Я поручил заняться этой проблемой высокообразованному, инициативному хирургу Александру Львовичу Стуккей. И он, заинтересовавшись такими больными, бог весть где их находил. Вылечит одного, на его месте лежит уже другой. Этот уйдет – третий на очереди… В то время как большинство хирургов в лучшем случае имеют опыт трех – пяти подобных операций, у Александра Львовича их было более сотни. Почему-то он не захотел оформлять свой опыт в виде специальной монографии и, человек щедрый, передал весь материал ассистенту Игнатьеву, чтобы тот сделал на этой основе свою докторскую.
Еще больше сложностей и, казалось, неразрешимых задач возникало у нас при диагностике и лечении больных аденомой поджелудочной железы. Известно, что последняя выделяет сок, необходимый для пищеварения. Но в толще этой железы расположена группа клеток (островки клеток), вырабатывающих инсулин, столь важный для углеводного обмена. Инсулин поступает непосредственно в кровь. Поэтому такие группы клеток и носят название желез внутренней секреции. Когда они работают нормально, организм снабжается инсулином в том строгом количестве, которое отвечает его жизнедеятельности. Но вот из этих клеток выросла маленькая опухоль, всего-то с горошину! И человек в беде… У него теперь вырабатывается в организме громадное количество инсулина, и он вызывает быстрое сгорание сахара в крови, нарушается углеводный обмен. Что болезнь эта страшная, можно показать на примере одной больной с ленинградской фабрики «Красное Знамя». Назовем ее Сметаниной. Было ей в ту пору пятьдесят пять лет.
Началось все у Сметаниной с внезапных приступов слабости и головокружения, которые порой заканчивались тем, что она теряла сознание. Обычно происходило это утром или, наоборот, в конце рабочего дня. Сначала изредка, затем чаще и чаще… В поликлинике при осмотрах и обследованиях ничего серьезного не находили. А приступы становились все более сильными и продолжительными. Нередко они были как припадки эпилепсии – с судорогами. После одного из таких, протекавших особенно бурно, Сметанину увезли в психиатрическую больницу. Там она пробыла несколько месяцев, и приступы по-прежнему мучили ее. Однажды, упав, она сломала себе ногу, и с этим переломом ее доставили к нам в клинику.
При обследовании больной был отмечен очень низкий процент сахара в крови. Когда же провели биохимические исследования с сахарной нагрузкой, выявили в крови высокое содержание инсулина. Это могло вызываться аденомой поджелудочной железы и другими причинами, определить которые весьма сложно. Практически нет таких данных, по которым можно было бы с исчерпывающей полнотой решить природу гиперинсулинизма. И все же после всестороннего обследования Сметаниной и неоднократных консультаций с крупнейшим эндокринологом страны Василием Гавриловичем Барановым мы убедились, что все беды больной происходят именно от опухоли поджелудочной железы. Следовало сделать операцию: поискать опухоль и, если удастся найти, удалить. А это – задача не из простых! Больная, заметив, что, поев сахару или чего-нибудь сладкого, чувствует себя несколько лучше, неприятные ощущения, досаждавшие ей, притихают, стала употреблять сахар без меры, по полкилограмма и больше в сутки. Естественно располнела от этого выше всякой нормы. Полнота и постоянные эпилептические припадки у Сметаниной страшили нас. Вдруг мы не найдем опухоль или, что не исключается, причина кроется не в ней, тогда оперативное вмешательство, несомненно, ухудшит состояние больной и может повлечь за собой смерть. А тут еще неясен вопрос, как поступить с опухолью. Если удалить только саму опухоль, можно повредить протоки поджелудочной железы и вызвать расплавление окружающих тканей ее соком. Резекция же самой поджелудочной железы вместе с опухолью не всегда возможна, так как при расположении опухоли в головке надо удалить железу всю, что почти невыполнимо… Сто препятствий на пути!
Все же, учитывая полную безнадежность положения больной, бесперспективность любого терапевтического лечения, мы решили пойти на операцию. Это была единственная возможность, дающая хоть какие-то шансы на спасение Сметаниной от неминуемой гибели, избавление от тяжкого недуга, приведшего ее, по сути дела, к деградации… И дочь больной, которой мы объяснили ситуацию, согласилась с нами.
На операционном столе, дав наркоз, мы все время внутривенно вводили больной глюкозу, чтобы предотвратить возможность припадка эпилепсии. Большое количество жира мешало мне подойти ко всем отделам поджелудочной железы, детально обследовать ее. При общупывании попадались плотные участки, похожие на опухоль. Я вырезал их, посылал на срочное гистологическое исследование. Ответ всякий раз был отрицательный. Наконец в хвостовой части железы удалось обнаружить опухоль с небольшую фасолинку: она по цвету и по плотности отличалась от вещества самой железы. Я ее иссек и так же, в срочном порядке, отправил в гистологическую лабораторию. Оттуда сообщили: инсулома, то есть опухоль, вырабатывающая инсулин, причина всех несчастий этой женщины! Немедленно прекратили вводить глюкозу. Тут же проведенное исследование сахара крови показало, что он с сорока единиц, бывших до операции, подскочил сразу до двухсот восьмидесяти (вместо 80–100 по норме). Сомнений не оставалось: причина заболевания ликвидирована. Теперь, пока в организм инсулина поступает мало, а клетки лишь приспосабливаются, нужно временно вводить его под кожу…
На наших глазах человек переродился! Все неприятные ощущения у Сметаниной исчезли, судороги и приступы потери сознания остались в прошлом, не было уже чувства неполноценности, болезненности, приходила в норму психика… Женщина стала прежней Ольгой Кузьминичной, какой знали ее когда-то все на фабрике. Через месяц при выписке она обошла все наши кабинеты. Широко расставив руки, заключала каждого в свои объятия и троекратно целовала. «Я уж вас по-свойски, – говорила она, – как родственников. Пошли мои старые мучения вашим врагам, а вам – одну только сладкую жизнь!»
Кто-то из врачей тут же шутливо заметил: «Сладкую? Нет уж, Кузьминична, ни нам, ни вам избыток сахара ни к чему. Мало – плохо, сверх меры – тоже худо…» – «Само собой, само собой, – торопливо отозвалась Сметанина, – пусть тогда и сладкую жизнь враги себе возьмут! А мы лучше так останемся, что имеем!..» Все рассмеялись…
Десятки людей с такой болезнью обязаны операции своей жизнью. И хотя после истории со Сметаниной мы уже смелее шли на операции, трудностей хватало. То вовсе невозможно было отыскать опухоль, и мы зашивали рану, а потом через какое-то время, ввиду тяжелого состояния больного, снова предпринимали операционное вмешательство; то опухоль, к нашему удивлению, обнаруживалась где-то в стороне от поджелудочной железы; то она находилась в головке и не поддавалась удалению… Что ни больной – уникальный случай. Однако мы упрямо, снова и снова вели поиски… Так закладывался опыт.
Но основную проблему – операции на легких – я по-прежнему держал в центре всей работы клиники. За три года мы прооперировали больше двухсот пятидесяти легочных больных. Успех сопутствовал нам. К этому времени уже невозможно было приобрести где-либо мою книгу «Резекция легких», и издательство, учитывая настойчивые пожелания врачей и студентов медвузов, предложило мне подготовить переработанное и дополненное новыми разделами переиздание монографии. Оно увидело свет в 1954 году и было встречено самыми добрыми печатными откликами крупнейших наших хирургов Б. Э. Линберга и Е. В. Смирнова.
Я в это время при всей занятости организационными и общехирургическими вопросами в клинике уже искал подходы к разработке новых задач, что выдвигало перед нами время.
Глава XVII
Каждая операция сопряжена с риском для больного, и разница только в степени его. Что к любой, самой незначительной по объему и характеру операции надо относиться со всей серьезностью, не забывая, что в хирургии нет мелочей, нет пустяков, усвоено мною еще «с хирургических пеленок» и закреплено собственным опытом. Это положение старался никогда не нарушать. За свою многолетнюю хирургическую деятельность я, несомненно, ошибался и в объеме операции, и в показаниях к ней, мог недооценить свои силы или силы больного и тем причинить ему непоправимый вред. Но никогда не смотрел на операцию легкомысленно, всегда считал, что это – вещь серьезная и опасная вне зависимости от ее объема.
Среди хирургов существует такой афоризм: «Большая подготовка – малая операция, малая подготовка – большая операция». Это значит, что если ты хорошо подготовился к операции, прочитал нужную литературу, продумал возможные отклонения и осложнения и подготовил для этого необходимый инструментарий, пригласил – на всякий случай – наркотизатора, сделал точно в нужном месте и нужной величины разрез, – ты провел всю операцию так, она прошла совершенно гладко, как «малая операция».
Но вот хирург решает, что операция для него пустяк, готовиться к ней не надо, что он из небольшого разреза моментально «выковырнет» то, что полагается, и быстро кончит операцию, «которую он уже делал много раз»… Но операция оказывается значительно сложнее, а хирург и вся бригада к этому не готовы – над больным нависает смертельная опасность…
У меня перед глазами стоит хирург, с которым мне пришлось не однажды сталкиваться. Он был в молодости высокомерен, но с возрастом его высокомерие стало принимать уродливые формы, накладывало отпечаток на все его поступки, в том числе и на хирургическую деятельность. У больных он не вызывал доверия: надменный вид, закинутая вверх голова, важная походка. Ему пели дифирамбы лавным образом те, кто стоял по служебной лестнице ниже его и положение которых от него зависело. Товарищи, равные с ним по хирургическому рангу, относились к нему сдержанно, а подчиненные боялись его мстительной натуры. В нем не было того внутреннего благородства, которое всегда встретишь у людей, сознающих собственное достоинство и уважающих других. Его высокомерие было ничем иным, как внутренней потребностью возвысить себя путем унижения другого. В одном он был искусный мастер: как-то удивительно ловко умел приспосабливаться к обстоятельствам, направляя их на службу своему благополучию.
Основу культуры человека, как известно, составляет вера в человека, в самого себя. В мире науки, и даже в гуманнейшей из научных сфер – медицине, порой встречаешь человека без идеала, не верящего ни в себя, ни в других. Относясь к окружающим людям, к их делам скептически, с иронией, такие люди всегда выступают не как критики, а как критиканы. Личное благополучие для них превыше всего, и ради достижения оного они подчас не брезгуют ничем.
К категории таких людей относится и мой коллега. Но в нашей профессии такие лихачи вынуждены сталкиваться с судьбами людей. Трудно всегда рассчитывать на удачный случай и постоянное везение. Хирургу требуются большие знания, большое искусство.
Вот как однажды случай наказал гордеца. Придя на работу, он увидел в своей приемной человека, перед которым в обычной обстановке заискивал, дружбы с которым добивался.
– Я к вам, – поднялся навстречу доктору пациент.
– Проходите в кабинет, я к вашим услугам.
Возраст пациента близился к шестидесяти, но этого не замечалось: столько силы, энергии, боевитости было в его коренастой, подвижной фигуре! Широкий в плечах, с борцовской грудью, он имел излишний вес, но полным не выглядел. Красиво посаженная голова на короткой шее, шапка густых волос с небольшой проседью подчеркивали волевой характер. Высокий лоб, выразительные глаза, решительные жесты – все говорило о недюжинном уме и большой культуре. Началась беседа.
– Уже давно у меня выделяется кровь, – начал больной. – Я не обращал внимания. Думал – геморрой. Много приходится сидеть. Пешком почти не хожу. Все на машине. Мой врач посылает меня к специалисту. Вот и пришел к вам посоветоваться.
– Ну и правильно сделали. Пройдите в соседнюю комнату и разденьтесь. Я вас посмотрю. – Осмотрев пациента, сказал: – Вам надо сделать небольшую операцию.
– Вот это новость! Что же у меня?
– Небольшой полип. Его надо удалить.
– Но я сейчас не могу лечь на операцию. У меня самый ответственный момент в работе. Откладывать дела нельзя.
– А вам и не придется этого делать. Это лишь звучит громко: операция. А на самом деле – пустяки! Мы сейчас же – в амбулаторном порядке.
– Ну, если так…
Из кабинета врача пациент позвонил на работу, сказал, чтобы дело без него не приостанавливалось, пусть только помощники будут внимательны. И даже домашним решил ничего не говорить, чтобы не волновать «по пустякам» жену и престарелую мать.
Поскольку операция предполагалась амбулаторной, то ни особых исследований, никакой подготовки к ней не проводилось. У пациента заныло в груди: спешка. Все ли будет благополучно?
– А наркоз тут не понадобится? – спросил ассистент.
– Зачем? Убрать полип – всего-то! Сделаем под местной анестезией.
Сделав местную анестезию, хирург, как принято у нас говорить, подошел к полипу. И сразу же увидел, что картина более серьезная, чем он предполагал. Полип оказался не на узкой ножке, которую прошить легко, а на широком основании. Он выглядел, как сосок, в его широкое основание глубоко уходило в подслизистый слой. Стенка полипа сильно кровоточила. И чем больше вытирали кровь, тем больше травмировали его поверхность.
Сомневаться не приходилось: при таком строении полипа прошивать его у основания бесполезно! Операция не принесет больному облегчения, наоборот – может спровоцировать превращение полипа в рак. Но в то же время убрать его вместе с основанием со стороны кишки будет, по-видимому, очень трудно. Неизвестно, на какую глубину он распространяется – ведь рентгеновского исследования не провели, а пальцем – из-за мягкости стенки – ничего прощупать не удалось.
Хирург забеспокоился. Больной потерял уже порядочно крови: к тому же он заметно выражал беспокойство, постанывал, жаловался на боль – ведь местная анестезия не рассчитана на столь травматичные манипуляции.
– Обеспечьте больному переливание крови и дайте наркоз! – распорядился врач.
– Ответственного наркотизатора в больнице сегодня нет, – подавленно ответил ассистент. – У него грипп. Имеется только практикант…
– Хорошо, зовите его!
А пациент стонал уже громко, в какие-то моменты от нестерпимой боли и потери крови терял сознание. Скоро началось падение давления.
– Перенесите больного в операционную! И поскорее наркоз!
Практикант-наркотизатор стал готовить аппаратуру к наркозу… Бежало дорогое время.
Чтобы как-то выйти из положения, хирург решил ограничиться полумерой: прошить и отсечь сам полип, а основание оставить – с тем, чтобы удалить его уже при другой операции, через новый разрез – сверху. Однако как только он прошил полип и попытался его перевязать у основания, рыхлая ткань разорвалась, и полип здесь же, у основания, был срезан ниткой, как бритвой. Кровотечение – неудержимое! Попытки захватить кровоточащие места зажимами ничего не давали – ткань угрожающе расползалась.
Хирург растерялся. А тут еще практикант не справляется со своей задачей.
– Когда же, наконец, дадите наркоз?
– Не можем вставить трубку в трахею. Шея у больного толстая, короткая, голова совсем не запрокидывается назад. При таком положении ничего не удается сделать…
– Попробуйте через маску!
– Язык западает и закрывает гортань. Как только начинаем давать масочный наркоз – больной синеет…
Конечно же, врача спросят: почему так произошло? И главное: кто делал операцию?
Из величественного, недоступного для окружающих, каким его все знали, он в считаные минуты превратился в жалкого, подавленного, несчастного… Склонившись над больным, как слепой котенок, тыкался зажимом то в одно, то в другое место раны, не зная, что предпринять…
– Постарайтесь закончить операцию скорее, – робко заметил ассистент. – Трубку ввести никак не удается, а через маску давать наркоз трудно. И у больного совсем слабый пульс…
– Я не могу быстро кончить операцию! Она продлится долго.
Конечно, этот случай исключительный, и вряд ли он еще где-либо повторялся, но мы должны делать все от нас зависящее, чтобы такие случаи никогда не имели места.
Мы ставили перед собой какую-нибудь большую проблему, бились над ней месяцами, годами. А новые проблемы всегда предполагают новые знания. Значит, опять книги, библиотека… И конечно, разработка новых технических приемов для не изученных пока, таящих много неизвестного операций. Отсюда вновь занятия в анатомическом зале, в экспериментальной лаборатории и, главное, тренировка… Без нее новая сложная операция может пойти с частыми ошибками. А это – дополнительные жертвы, а может быть, и провал новой проблемы. Я много раз убеждался в обязательности тренировок для хирурга. Кроме всего прочего, хирургия – не только наука, но и искусство. А в искусстве, мы знаем, тренировкам придается решающее значение. По существу, без тренировки, без постоянной шлифовки своих способностей не могут рассчитывать на успех певцы и музыканты, актеры и художники, писатели…
Мы поражаемся, как много и упорно работает музыкант, прежде чем его допустят к самостоятельному концерту. Помимо теории музыки, он должен превосходно освоить элементы игры, а освоив, долго и неустанно тренироваться. Ни одному исполнителю не придет в голову, изучив ноты, выступать с концертом, не проиграв вещь десятки раз. Но у хирурга операция – это нечто неизмеримо большее, чем у музыканта. А потому и тренироваться перед ней он обязан не меньше, чем музыкант перед выступлением. Тем более что в нашем деле что ни больной – то своя особенность в операции. И необходимо предвидеть любое отклонение от типичного хода ее, подготовиться к борьбе с любым осложнением…
Мой добрый знакомый, народный артист СССР Борис Тимофеевич Штоколов рассказал о том, как он «жестоко» тренируется на протяжении почти двух десятилетий.
– Когда я поступил в консерваторию, – говорил он мне, – за пение имел пятерку. Через три года получал уже тройки. Я понял, что учат меня неверно, что надо работать над собой. Но как?
Он перечитал литературу по технике пения, познакомился со всеми методами и способами обучения и тренировки певцов. Больше всего импонировала ему система развития голоса Карузо. Последний полагал, что для сохранения и постановки голоса следует изменить положение отдельных органов глотки. В частности, нужно осадить корень языка, чтобы тот не стоял на пути звука, и ротовая полость вместе с гортанью составляла бы единую трубу. Штоколов с упрямством одержимого надавливал на корень языка различными предметами, иногда травмируя себе эту область до крови – и пел! Через десять лет такого потрясающего труда он добился того, что смог увидеть в зеркало свой надгортанник, уже не надавливая на корень языка. Еще пять лет тренировки – и увидел свои голосовые связки! Он показал мне их. Действительно: язык уходит куда-то глубоко на дно ротовой полости и голосовые связки хорошо различимы. Невообразимо!
А Борис Тимофеевич, улыбаясь, говорит:
– Еще лет пять мне надо работать над собой. Только после этого могу считать, что тренировка в основном будет закончена – начнется истинное искусство…
Но уже теперь он добился того, что на сцене не думает о технике пения. Его мысли лишь о том, как глубже, сильнее передать чувства своего оперного героя. Его голос послушен ему, как скрипка хорошему музыканту. Когда он поет – у него нет ни напряжения, ни усталости. Но народный артист, достигший больших высот в вокальном искусстве и доставляющий слушателям истинное наслаждение, считает, что он еще не достиг совершенства и продолжает каждодневные изнурительные тренировки. Я спросил опытного специалиста по ухо-горло-носу:
– Видели ли вы когда-нибудь человека, который бы, открыв рот, показал вам свои голосовые связи – без всяких зеркал?
– Нет, таких людей я не видел, – ответил врач, наблюдавший на своем веку тысячи гортаней.
Пример Бориса Тимофеевича Штоколова мне импонирует, я люблю таких людей, ценю их за упорство, за вечное стремление к высотам, которые может и должен достичь человек.
Коллектив нашей клиники, занимаясь вопросами легочной, а позже и сердечной хирургии, ни на один день не отвлекался и от большой работы по лечению общехирургических, то есть обычных, не торакальных больных. Особое же место в сложной и напряженной деятельности хирургической клиники – снова возвращаюсь к этому – занимали дежурства по «скорой помощи»… Врачи, и в частности хирурги, хорошо знают, что это за работа! И можно лишь удивляться, что она в здравоохранении никак не выделена, не регламентирована, а считается рядовой, что называется, повседневной… Между тем каждое дежурство по «скорой» – это огромное истощение физических и душевных сил врача. Взгляните на хирурга (а я включаю сюда и акушера-гинеколога) в дни его занятости по «скорой» после суточного или даже двенадцатичасового дежурства. На кого он похож? Его работа не сравнима ни с какой самой изнурительной работой!
Прежде всего здесь огромная моральная и юридическая ответственность, а условий для работы в том объеме, который предъявляет хирургу жизнь, у него нет.
В самом деле. Одновременно поступает несколько больных, требующих неотложного хирургического вмешательства. Но ведь каждая операция по «скорой помощи» – это нечто непредвиденное, не предполагаемое заранее, и никогда нельзя сказать, сколько времени она займет. А другие больные – на очереди. И они такие, что промедление, затяжка грозят серьезными осложнениями…
Утром же администратор, сам ни разу в жизни не испытавший, что значит дежурство хирурга по «скорой помощи», будет по записям в истории болезни проверять, сколько времени прошло от поступления больного в приемный покой до операции, и ровным, бесстрастным голосом давать хирургу наставления. При этом никому, в том числе и этому администратору, нет дела до того, что дежурному врачу не создано элементарных условий для работы. Аптека в это время не работает, а иных лекарств оставляют на дежурство так мало, что не знаешь, как их поделить между больными. Врач не обладает способностями Иисуса Христа, который мог кормить массу людей семью хлебами. Но это еще не самое высшее проявление бюрократизма…
Несколько лет назад чьим-то приказом было запрещено дежурному врачу отделения, в том числе и хирургу, во время дежурства питаться в больнице. Замечу, что питание дежурного врача в больнице – традиция русской медицины. Она была продиктована – если подойти к ней с самых высоких позиций – гуманизмом, ибо направлена для пользы больного, для пользы дела. Все те, кто дежурил но «скорой», знают, что день врача бывает так насыщен, настолько напряжен, что он чаще всего не может выкроить десяти минут, чтобы съесть готовый обед. Где уж там отлучиться в столовую или домой!
И вот этот приказ! Фактически во время дежурства врач обрекается на голодание, так как у него нет ни времени, ни возможности, ни морального права, чтобы покинуть тяжелого больного…
Отменив существующую традицию, забыли о том ущербе, который наносится здоровью врача или здоровью того же больного, которого врачу придется покинуть, чтобы где-то, может, далеко от больницы, отыскать столовую и съесть там тарелку супа. А если дежурит женщина-хирург, как она пойдет вечером искать себе ужин? Кстати, о женщинах-хирургах.
Тот, кому приходилось лежать в больнице, знает, как благотворно влияет на суровую атмосферу больничного уклада присутствие в палатах женщин-врачей. Однако мало кто знает, какую тяжесть несут они на своих хрупких плечах.
Хирургия – и это бесспорно – слишком тяжелый труд для женского организма. Изнурительные операции, не покидающая тревога за судьбу того или иного больного, необходимость все свободное время отдавать клинике, беречь руки, больше того, тренировать их… Легко ли женщине подчинить себя такому ритму? А если подчинит, великой силой воли добьется крупных успехов на хирургическом поприще и получит известность – это чаще всего значит, что принесена в жертву семья. Ведь воспитывать детей – это тоже огромный и, сказал бы, всеобъемлющий труд, который с полным правом можно сравнить с таким же ответственным трудом хирурга. И попробуйте без ущерба для них – обоих – совместить эти два самоотверженных занятия!
Известно, что беременность, роды и кормление ребенка – сложный физиологический процесс, который отражается на психике женщины и приводит к глубоким физиологическим изменениям в ее организме. Природа так заботлива по отношению к потомству, это если у матери не хватает нужного для ребенка питания, получаемого из пищи, она отдает ему все необходимое из своих тканей. Поэтому если женщина во время беременности ведет напряженную умственную работу, если она врач и занимается операциями, дежурит, то есть тратит очень много энергии, которую не в состоянии пополнить достаточно калорийной едой и продолжительным отдыхом, она безвозвратно теряет множество клеток и тканей своего организма, которые, разрушаясь, идут на пополнение организма плода. А это, особенно при разрушении мозговых клеток, предполагает сильное истощение нервной системы.
При поступлении «срочного» больного счет времени идет на минуты. Ведь среди поступивших много таких, которых «с улицы» немедленно отправляют на операционный стол. К примеру, больных с желудочно-кишечным кровотечением.
Ночью звонит мне Антонина Владимировна Афанасьева:
– Федор Григорьевич, поступил студент с тяжелым желудочным кровотечением. Что ни делаем, кровотечение продолжается. Он обескровлен, может погибнуть.
– Сейчас приеду!
В клинике, несмотря на ночное время, больным заняты не меньше десятка врачей. Пока готовились к операции, попытался расспросить больного о его жизни. Но он настолько слаб, что добиться чего-нибудь невозможно. Язву желудка отрицает. На вопрос: пил ли он? – качнул головой: «Нет»…
На операции при ревизии желудка явных указаний на язву не получили. Вскрыли просвет желудка, там язвы нет. Но вся слизистая – розовая. Во всех складках – кровь… Был заподозрен геморрагический гастрит, и больному резецировали желудок. Оперировала Татьяна Оскаровна Корякина, ассистировала Антонина Владимировна. К концу операции захожу в операционную.
– А вы печень смотрели? – спрашиваю.
– Нет, специально не обследовали.
– Посмотрите внимательно.
Широко раскрыли рану, подняли край печени. Ясно видна рубцово измененная ткань. Цирроз печени! Вот в чем причина кровотечения!
После операции кровотечение остановилось. Побеседовав с больным подробнее, мы установили следующее.
Леонид С, оставшись без отца с раннего детства, а без матери, когда ему не исполнилось шестнадцати, был прибран к рукам уличной компанией. Пить начал подростком, и пил много. Как бы продолжалось дальше, неизвестно, не повстречай он Анну Изотовну – учительницу, самую близкую подругу матери, которую в детстве очень любил. Она привела его, опустившегося, перебивающегося случайными заработками, в свой дом. Надо думать, великих усилий стоило ей заставить Леонида отказаться от пагубной страсти… Но это факт: он не только порвал с прошлым, но и нашел в себе силы повторить учебные дисциплины школьного курса, поступил в институт.
Однако впереди, оказывается, поджидала расплата за бездумно проведенные годы… В его печени развились глубокие, необратимые изменения в виде рубцового сдавливания сосудов. В результате этого создался застой крови в брюшной полости…
При циррозах печени, которые могут быть в результате хронического отравления алкоголем или как следствие перенесенного воспаления печени (болезнь Боткина), возникает затруднение в прохождении крови через печеночный барьер: она застаивается в воротной вене и ее ветвях. Давление в этих сосудах, естественно, повышается, возникает гипертония или гипертензия, что получило название портальной гипертензии. Понятно, что скапливающаяся и застаивающаяся в сосудах брюшной полости кровь принуждает их расширяться и часто не равномерно, а в виде узлов, наподобие варикозных узлов на ногах у некоторых людей. Стенки сосуда при этом истончаются, напрягаются, и достаточно небольшой травмы, а иногда это случается и без неё, происходит прорыв вены. Вот оно, кровотечение! И больше всего такому опасному расширению подвержены вены стенки пищевода… А так как давление в этих сосудах поднимается иногда в пять-шесть раз выше нормального, можно представить, какое тут обильное и неудержимое кровотечение!
На пятый день после операции у Леонида вновь возникло обильное кровотечение из вен пищевода. Справиться с ним не могли несколько дней. А когда кое-как остановили, через неделю оно вновь возобновилось. Так в течение месяца повторялось шесть раз и, несмотря на непрерывные переливания крови, привело больного к тяжелому обескровливанию. Количество гемоглобина упало до семнадцати процентов, нарастал асцит. Леонид, видели мы, на краю могилы, а остановить кровотечение никак не удавалось! Места себе не находили… Тщательно взвесив все «за» и «против», пошли на другую операцию: удалили Леониду селезенку. Этим самым, перевязав селезеночную артерию, уменьшили приток крови к пищеводу, снизили, следовательно, давление в венах воротной системы, и кровотечение наконец остановилось…
Трудно поправлялся Леонид после операции, медленно восстанавливались его силы. Больше двух месяцев пролежал он у нас в клинике. Анна Изотовна ухаживала за ним, как за сыном. И когда пришло время выписываться, взяла его опять к себе. В течение двух лет кровотечение у него не повторялось. И мы надеялись, что, может быть, ему повезло, операция предупредила дальнейшие осложнения. Но к несчастью, чуда не произошло…
С дипломом молодого специалиста Леонид уехал в Карелию, женился там и понемногу начал забывать о своей болезни… Однако вскоре она дала о себе знать с новой силой: началось небывало мощное кровотечение. Леонида привезли в Петрозаводск, и там много дней и ночей врачи не отходили от него, а когда кровотечение приостановили, доставили его к нам в клинику.
Но чем мы могли ему помочь? Все виды операций, которые в таких случаях применялись хирургами, были уже сделаны: и резекция желудка, и удаление селезенки. На этом наши возможности кончились… А болезнь печени прогрессировала. Через некоторое время после поступления Леонида в клинику, когда мы еще не успели восстановить предыдущую кровопотерю, у него началась новая, и что мы ни применяли, ничего не помогало.
Леонид погиб.
Стояли перед ним, чувствуя себя, как всегда, виноватыми оттого, что не в силах были предупредить печальный исход, и в то же время испытывали гнетущее чувство разочарования и горечи: более чем двухлетний наш труд, затраченный на восстановление здоровья этого еще совсем молодого человека, оказался бесполезным! Значит, это лишнее подтверждение, что для подобных больных применяемые до сих пор операции малоэффективны, здесь нужен принципиально новый подход к лечению таких заболеваний. Если мы не разработаем и не применим метод новой, радикальной операции, больные будут погибать и дальше. Чтобы помочь этим мученикам, дать им твердую надежду на выздоровление, выход один: отвести застоявшуюся кровь в полую вену, минуя печень, только в этом случае давление крови снизится и кровотечение не повторится.
Эта идея – улучшение оттока крови из вен портальной системы созданием венозного свища между воротной и нижней полой венами – принадлежит русскому хирургу Н. Н. Экку, который высказал ее в 1877 году. Но от идеи до ее воплощения в жизнь дистанция огромного размера. Все попытки самого Экка и других врачей того времени оканчивались печально, больные погибали.
Но в 1913 году Н. А. Богораз опубликовал сообщение об успешных результатах трех операций, предпринятых им по поводу асцита и заключавшихся в анастомозировании верхней брыжеечной (ветвь воротной вены) и нижней полой вены. Лед тронулся! В 1925 году В. В. Крестовский, а в 1931 году Н. Н. Назаров повторили опыт Богораза.
Однако в полном объеме осуществить идею Н. Н. Экка удалось лишь в 1945 году хирургам США Уипплю и Блейкмеру. Им помогли блестящие достижения в области анестезии, которым мы, советские врачи, тогда могли только завидовать… Ведь и время-то для нас какое было: война, послевоенные трудности, не до мирной хирургии!
Но известие о том, что кое-кто в США уже делает подобные операции, подталкивало: если есть успехи у зарубежных коллег, можем сами овладеть техникой таких операций. Причем действительность, как и прежде, диктует: обреченные ждут, торопитесь! Они настойчиво стучатся в двери клиники…
И когда я вплотную занялся изучением этого вопроса, увидел, что вся его сложность именно в технике самой операции, ибо она таит в себе тысячу непредвиденных случайностей, каждая из которых может свести на нет труд хирурга. Вот почему эта операция не получила развития, вот почему так мало хирургов, которые рискуют делать ее…
Ведь прежде всего нужно обнажить два крупных сосуда – воротную и полую вены. Оба диаметром в два-три сантиметра, с тончайшими стенками. Они все в спайках и даже при осторожном прикосновении кровоточат. А их следует приблизить друг к другу и сшить так, чтобы между ними образовалось отверстие. Но стенки вен, как уже отметил, очень тонкие: чуть натянул – рвутся. А если как следует не натянуть, они не прижмутся надежно друг к другу и кровь между ними будет протекать наружу… И здесь, в труднодоступной хирургу области, при постоянной опасности, что вот-вот начнется кровотечение, предстоит наложить особой сложности сосудистый шов. И наложить не только точно, но по существу в считаные минуты!
И я при своем профессорском звании, когда умелость моих рук уже признана в хирургическом мире, решаю вернуться к старому – к методичным тренировкам, чтобы до тонкости отработать наложение сосудистого соустья на сходных тканях. Снова, как десять лет назад, беру домой весь набор инструментов, игл и ниток и, уединившись в кабинете, создавая заведомо затрудненные ситуации, имитируя обстановку операции, терпеливо накладываю анастомозы, используя для этого тонкие резиновые перчатки. Каждый вечер, проверяя, сколько это отнимает времени, отмечая каждую ошибку, каждую свою неточность и исправляя ее тут же, накладываю один анастомоз за другим. Это для меня правило: чтобы не ошибиться на операции, в эксперименте техника должна быть отработана в совершенстве, ибо во время операции работает напряженно мозг, а руки лишь исполняют его волю. Поток информации идет от мозга с невероятной быстротой, и руки должны успевать отвечать на распоряжения мозга. Их можно натренировать до такой степени, что у них не будет ни одного лишнего движения, и они, механически выполняя приказы мозга, станут даже сами экономить время на эти движения. Такое достигается многолетней тренировкой. Не работой, а тренировкой – дома и всюду, где есть хоть малейшая возможность!
И так продолжалось долгое время. Поужинав, я обычно говорил домашним: «Ну, я пойду пошью немного!» И однажды жившая у нас родственница, услышав, что я опять удаляюсь в кабинет шить, сказала мне с некоторой обидой в голосе:
– Что вы, Федор Григорьевич, каждый вечер что-то шьете и шьете… Неужели на работе не устали? Ученый, а чем занимаетесь! Я ведь неплохая портниха, и вкус у меня, говорят, есть, давайте сошью что нужно…
– Спасибо, – как можно вежливее ответил я. – Но знаете, я как-то привык сам…
И настойчиво продолжал добиваться быстрого и безошибочного выполнения всей этой процедуры. Десять, двадцать, пятьдесят, сто анастомозов… Они уже получаются хорошо. Но все же нет-нет да и возникнет какая-то заминка! То нитка запуталась, то стенки «сосуда» не очень тесно соприкоснулись, то края сосуда оказались не совсем точно вывернуты, не так, как это полагается, то зажим расслабился, то нитка порвалась, то край стенки надорвался… А ведь за каждой такой неточностью при настоящей операции таится катастрофа! Там достаточно малейшего отклонения, чтобы началось кровотечение, с которым можно не справиться. Только представьте себе, что сшивается стенка сосуда, которая рассчитана на давление в 100 миллиметров водного столба, а в нем давление 500 в даже 600 миллиметров! Она напряжена, раздута, истончена… Неправильно сделанный укол тонкой иглой может привести к полному надрыву стенки, и из сосуда начнется кровотечение под давлением, в пять-шесть раз превышающим обычное… Вот почему я не переставал ежедневно, по нескольку часов в день, совершенствовать технику предстоящей операции…
Двести анастомозов… Как будто все уже идет гладко. Но рано ликовать. Десять анастомозов подряд прошли после этого без запинки, а на одиннадцатом нитка запуталась… Выходит, не заслужил отдыха, надо продолжать… Триста анастомозов! Теперь уже идет отработка на скорость. Надо выполнить всю манипуляцию не только точно, но и стремительно. Новые, затраченные на это вечера, и новые рекорды!
А в то время как я тренировался, готовясь к операции, которую в нашей стране никто до этого не проводил в таком виде и которая одна только может избавить больного от кровотечения, в клинике уже шла отчаянная борьба за жизнь такого же, как и Леонид С, поклонника зеленого змия…
Это был больной Ш., тоже начавший пить с юношеской поры и не бросавший своей привычки до тридцати семи лет, пока не раздался грозный звонок – началось кровотечение.
Состояние, в котором находился Ш., было критическим. Гемоглобин спустился до самых низких показателей. Больному кровь переливалась и капельно, и струйно, а улучшения не наступало. И лишь после прямого переливания, повторенного несколько раз, кровотечение остановилось… Медленно приходило выздоровление. Но главное, надолго ли? До очередного обострения?.. И как только анализ крови показал приближение к норме, мы провели самое тщательное обследование, чтобы установить диагноз, уточнить: что же вызвало кровотечение?
При рентгеновском просвечивании, когда больному был дан глоток бария, диагноз уже не вызывал сомнений: крупные, варикозно расширенные вены пищевода свидетельствовали о застое в системе воротной вены. Портальная гипертензия!
Однако чтобы решить вопрос об операции, одного этого диагноза недостаточно. Необходимо еще знать, в каком месте препятствие: в самой печени или в одном из крупных сосудов воротной системы? Без того на операцию не возьмешь. А чтобы уточнить это, надо ввести контрастное вещество прямо в сосуды брюшной полости! Но как?! Вскрывать брюшную полость?! Лишь в отдельных, самых крайних случаях хирург вынужден идти на такое. Если бы обойтись без ножа! И долго ломали голову – как. Наконец сошлись во мнениях: вводить в селезенку – это все равно что в вену воротной системы! Остается лишь освоить методику пункции селезенки и введения туда контрастного вещества. Всего лишь!.. А ушли на это недели.
В итоге же на овладение всеми приемами исследования, на обработку техники операции, на эксперименты и на тренировку понадобилось целых восемь месяцев!
После всех уточнений диагноз больного Ш. был такой: цирроз печени алкогольного происхождения. Застой крови в системе воротной вены.
За эти восемь месяцев кровотечения у больного повторялись четыре раза, причем с такой силой, что для восстановления переливали ему кровь сорок семь раз, влив в него в общей сложности двадцать два литра!
После последнего кровотечения прошли два месяца. Был июнь. Ш. чувствовал себя хорошо. Мы решили выписать его на все лето, сознавая, что еще не готовы к операции. Но когда заговорили о выписке, он вдруг взмолился:
– Очень прошу, Федор Григорьевич, оставьте меня тут. Тошно иногда от палатных стен, но покидать их страшно. Если выпишете – умру. Я уже снова угадываю в себе прежние ощущения, те же, что возникали каждый раз перед кровотечением. Не откладывайте, Федор Григорьевич, операцию. Погибну же без нее!
К этому времени я в деталях отработал весь ход операции в анатомическом зале. Потренировались на собаках. У себя дома я наложил анастомозов на перчатках более четырехсот раз… Но все казалось мало, еще мало! Планировал поработать над техникой операции все летние месяцы… Но больной в предчувствии очередного приступа. И он, конечно, прав: или надо ему делать операцию теперь, или она уже ему никогда больше не понадобится…
Собрали еще раз консилиум, чтобы обсудить ситуацию.
Антонина Владимировна Афанасьева, знающая хорошо, какие последствия может иметь такая операция, настаивала на том, чтобы отложить ее до осени:
– Время сейчас не подходящее! Скоро все врачи разъедутся в отпуска… Останется одна молодежь. И сейчас уже дежурить некому, не знаешь, кого ответственным назначить… А тут возле Ш. нужно будет целую бригаду дни и ночи держать!
– Медлить с операцией нельзя, нового приступа он не выдержит! – горячо возражала Татьяна Оскаровна Корякина. Она по моему поручению специально занималась такими больными, много экспериментировала. Взявшись за изучение этого раздела хирургии, впоследствии добилась завидного мастерства в проведении подобных операций. Вначале делала их под моим руководством, позднее стала успешно оперировать самостоятельно…
Высказались и другие. Мнения были самые противоречивые. Ждали, что скажу я.
– У больного признаки приближающегося кровотечения, выхода у нас нет. С завтрашнего дня готовим к операции!
Но сам я даже не мог представить, что ожидает нас впереди…
Отдельные сообщения по этому вопросу в американских журналах не давали никакого представления о методике. А об опасностях и возможных осложнениях во время такой операции почти ничего не говорилось. Однако между строк проскальзывало, что их немало. Да и не зря наши хирурги не берутся за эту операцию! Ведь среди них немало таких, которые обладают выдающимися техническими данными, работают в отлично оборудованных клиниках. Видимо, в операции заключены еще почти непреодолимые трудности… Но их по-настоящему нельзя понять, не столкнувшись с ними вплотную, в процессе операции. Что-то можно предвидеть, что-то до поры до времени скрыто…
Ясно, что трудности начинаются в самом начале операции. Воротная и полая вены расположены приблизительно по средней линии живота, в самом верхнем отделе его, под печенью. Со стороны брюшной стенки к ним не подойдешь… Тоже требуется подумать!
И в назначенный день и час, внутренне волнуясь, я вошел в операционную, где решалась судьба Ш.
Чтобы обеспечить себе доступ к воротной и полой венам, вскрыл плевральную полость по десятому межреберью. Затем пересек диафрагму и подошел к печени, которую, насколько можно было, поднял вверх, и только тогда достиг пучка сосудов, в которых, тесно примыкая, спаянные друг с другом, расположились воротная вена, общий желчный проток и печеночная артерия. Тут – не ошибись! Случайное ранение печеночной артерии неизбежно приведет к омертвению печени и, как правило, к гибели больного. Повреждение желчного протока вызовет истечение желчи, а это – желчный перитонит и, как правило, тоже смерть. Воротная вена, напряженная до предела, лежит где-то под ними… Не повредив ни ее, ни соседей, надо освободить эту вену и от них и ото всех спаек да еще подтянуть к себе – для длительной опасной манипуляции на ней!
Однако приблизиться к воротной вене – задача не из легких. Брюшная полость вся в спайках. Припаян сальник, закрывающий подход к печени. Припаяна сама печень к диафрагме и к передней брюшной стенке. Вокруг – целая сеть мелких спаек. Все они пронизаны сосудами, под большим давлением наполненными кровью… Если только порвется даже самый маленький сосуд, начнется сильное кровотечение. А попробуй их не поранить, когда они окружают все как паутиной, нет из-за них никакого доступа к месту операции, пока не захватишь каждый зажимами, не пересечешь и не перевяжешь. Адова работенка! Стенки сосуда хрупкие: чуть подтянул его, он уже, смотришь, оторвался. И вот мучаешься, чтобы как-нибудь остановить кровотечение… Раз, другой, третий… Да будет ли когда-нибудь конец этому?! И семь потов сошло, пока приблизились к связке, где заложена воротная вена. Но как ее найти, чтобы не поранить капризное окружение?
Обнажаем крупный сосуд или не сосуд?.. Она – вена? Однако что-то не очень напряжена. Как узнать?.. Ничего другого не остается, пунктирую самой тонкой иглой… Прокол – и получаю желчь! Хорошо, что мы этот «сосуд» не сшили с полой веной!
Но где же воротная вена? По всем признакам должна быть здесь. Где же? Отодвигаем желчный проток резко влево, и под ним, тесно к нему прилегая и интимно с ним спаянная, лежит она – толстая, переполненная кровью… Я физически, всем телом, ощутил – чуть ли не с содроганием! – как она напряжена, к ней страшно прикоснуться! А ее ведь следует отделять от спаек, затем подтягивать вправо, для того чтобы вывести из-под желчного протока. И к тому ж надо будет наложить пристеночный зажим! А для этого потребуется полностью освободить даже концы ее, которые так прочно замурованы – один в ткани печени, другой в поджелудочной железе…
Мы все напряжены до предела. Затаили дыхание. Тишина такая, что на уши давит. Работаем в молчании. Лишь инструменты изредка позвякивают. Из мелких ветвей вены сочится кровь. Терпеливо останавливаем ее. Само время как бы спрессовалось и стало недвижным…
Наконец под воротную вену подведены тесемки, которые удерживают ее от выскальзывания в глубину. Предстоит еще один крупный этап в подготовке к самому сложному моменту: нужно отыскать, освободить от спаек и подвести к воротной вене мощный сосуд, расположенный где-то рядом, но в забрюшинном пространстве. Для этого следует рассечь задний листок брюшины, а он весь пронизан сосудами. Снова борьба с кровотечением… Осторожно обнажаю переднюю стенку полой вены, затем ее боковую поверхность… правую, левую… Теперь тупо, кривым зажимом, освободил заднюю поверхность вены и, пользуясь зажимом, подвел под нее одну тесемку… вторую. Потянул за них, чтобы приблизить ее к воротной вене… И вдруг все операционное поле залила темная кровь! Моментально перестаю натягивать тесемки, прикладываю салфетки, чтобы остановить кровотечение, жду… Пять, десять минут… Снимаю салфетки. Кровотечение, слава богу, незначительное. Стараюсь определить причину и вижу, что при подтягивании я, что называется, с основанием оторвал довольно крупную ветвь, впадающую в полую вену. Зажим положить не на что! Прошу у операционной сестры Полины атравматическую иглу и стараюсь бережно наложить пристеночный шов… Это в глубине, а потому очень сложно. Но необходимо. Без этого продолжать операцию нельзя… Затрачено лишнее дорогое время. Когда же справились с кровотечением, сделали главное: подвели полую вену к воротной… Натяжение обеих вен значительное. Удержат ли их наши швы в таком положении? Не оторвутся ли?.. Операция в чудовищном напряжении нервов и сил продолжается уже около двух часов.
Смотрю на своих ассистентов… Антонина Владимировна, Татьяна Оскаровна и Инна Евгеньевна Депп. Все в нашем дело испытанные бойцы. Но и они уже устали от этой постоянной игры со смертью! А самое трудное еще впереди… Как хорошо, когда у тебя надежные помощники, понимающие твои устремления, готовые жертвенно работать ради того, чтобы завтра другие люди были бы ограждены, защищены от подобной опасности! Ведь эти операции своей основной тяжестью ложатся на них, моих помощников. А они порой сами уговаривают меня, чтобы я брался за них. Почему?! Я часто задумывался над этим. И твердо знаю главное: конечно же, в первую очередь всеми их действиями руководит любовь к больному человеку, сострадание к нему. То, без чего не мыслю своей работы сам. А во-вторых, каждый из них врач, так сказать, Божьей милостью, с природным дарованием, а отсюда эту неутомимость, стремление в своей профессии идти вперед, не успокаиваться на достигнутом… Сколько им, помимо всего прочего, достается из-за моего неуемного характера, а от них – ни упрека, ни жалобы, ни просьбы об отдыхе.
И где бы ни наблюдал я работу хирургов, будь то крупная клиника или сельская больница с одним-единственным хирургом, находящимся на постоянном дежурстве, меня всегда дивило и трогало это беззаветное служение больному человеку, опирающееся на преданность своей специальности. Когда бы ни пришел в хирургическое отделение, ты обязательно найдешь там не только дежурных врачей, но и тех, кто, отстояв вахту, никак не может покинуть своего больного, потому что ему вдруг стало хуже. Хирург никогда не уйдет от его постели, пока не убедится, что опасность миновала…
Вот и эти мои трое ассистентов… У них вчера был свой, установленный графиком, операционный день. После проведенных операций они задержались возле подопечных допоздна. А утром пришли в клинику рано в тревоге за прооперированных вчера больных и чтобы все приготовить вот к этой, небывалой для всех нас операции.
И сегодня, если все пройдет благополучно, вернутся домой к ночи. Уже видно, что больной, если он вообще перенесет операцию, будет настолько тяжел, что от него не отойдешь! А завтра у каждой из них – новые больные, новые операции, которые потребуют опять крайнего напряжения сил. Не знаю, как они выкраивают время, чтобы сбегать домой, чтобы тихо, спокойно, по-домашнему посидеть за обеденным столом. Ведь у каждой, естественно, семья с ее требовательными запросами, хлопотами, тысячью не кончающихся мелких, но обязательных дел.
Вот почему на страницах этой книги я не раз уже подчеркивал, что профессия хирурга предполагает в самом своем содержании героику. И эти героические дела он совершает не в какой-то звездный момент своей жизни, а повседневно. Никто из людей не творит героические поступки каждый день. Никто, кроме хирургов!
Короткий перерыв в операции… Выпили принесенный крепкий чай и как будто немного отдохнули… А затем – самое ответственное: наложение соустья между сосудами. Все, что было до сих пор, – это только подготовка… Мысленно говорю себе: «Час пробил!»
За тесемки подтягивая воротную вену, накладываю пристеночный мягкий зажим так, чтобы часть стенки была отжата. Мягкие зажимы в то время не были еще сделаны специально для сосудистой стенки, сами приспосабливали их для такой цели и, чтобы они не соскальзывали, обматывали тонким слоем ваты… Второй пристеночный зажим положили на полую вену. Начинаем приближать их друг к другу. Натяжение большое! Нитки могут расползтись или порвут всю стенку сосуда. Пожалуй, следует фиксировать их так, чтобы во все время работы они, плотно прижатые друг к другу, были неподвижны. Руками тут не удержишь, и при малейшем смещении наш анастомоз разлетится. Поэтому концы зажимов скрепляем прочным резиновым кольцом, а бранши связываем толстыми нитками… Теперь, надеемся, наша система крепления выдержит, можно накладывать анастомоз.
Иссекаю небольшой участок стенки того и другого сосуда с расчетом, чтобы соустье было около двух сантиметров в диаметре. Сконцентрировав внимание до предела, начинаю накладывать сосудистый шов, тот самый, над которым трудился при долгих домашних тренировках. Они не прошли даром: шов идет гладко! Стежки ложатся в точном расстоянии друг от друга так, что внутренняя поверхность сосуда выворачивается. Однако, наложив шов на заднюю стенку, я заметил, что отжатая часть сосуда уменьшается. Она постепенно выскальзывает из мягкого зажима и, того и гляди, выскользнет совсем! Одна мысль об этом приводит в трепет. Ведь если отщепы придется снимать и перекладывать вновь, то наложенный край наверняка оторвется, а в сосудах образуется такой величины отверстие, что его зажимом не прикроешь. Начнемся мощное кровотечение из двух огромных сосудов… Опять оно, теперь уже совсем близкое дыхание смерти!
Об этом, конечно, долго рассказывается, но в те мгновения все решалось в секунды. Я видел: пока стенка не выскользнула, необходимо быстрей быстрого наложить второй ряд швов…
– Придавите зажим как можно сильнее, – говорю Антонине Владимировне, – и не отпускайте! Продержите хоть несколько минут! А вы, Татьяна Оскаровна, внимательно следите за мною, чтоб нитки не запутались…
Вот где сказалась тренировка на скорость! Буквально в две-три минуты я закончил наложение непрерывного шва на переднюю стенку сосудов… И несмотря на то что очень торопился, а Антонина Владимировна сжимала бранши до боли в суставах пальцев, стенка сосуда выскользнула из зажима – и последние стежки пришлось накладывать у самых бранш. Но все же шов был закончен! Наложив еще по два узловатых шва по краям, чтобы удержать анастомоз, я снял оба зажима… Началось обильное кровотечение… Мягко прижав к месту анастомоза марлевую салфетку, я упорно держал ее, хотя она моментально пропиталась кровью и кровь текла уже через край раны… Было ясно, что шов негерметичен. Но надо как можно дольше держать салфетку, чтобы остановить кровотечение! А когда минут через пять приподнял ее, анастомоз еще обильно кровоточил… Неужели все придется перекладывать?! Больной не выдержит столь продолжительной операции, которая тянется и так более трех часов!
Держу салфетку еще пять минут. Снимаю. Кровотечение меньше, но в одном месте, где мы накладывали швы уже вплотную у бранша, имеется небольшое отверстие. Вот в чем дело! Прижимаю его пальцем… В остальных местах анастомоз герметичен. Беру атравматичную иглу и осторожно, под пальцем прошиваю обе стенки матрасным швом. Затягиваю. Кровотечения нет…
Перед нами миниатюрный сосудистый шов, который во всем надежен. Это видно по тому, что все сосуды брюшной полости на наших глазах спались. А селезенка, которая была огромной величины и ее край заходил за среднюю линию и выступал в рану, исчезла из поля зрения. Я засунул руку и нащупал ее в левом подреберье. Она сократилась почти до нормы. Значит, анастомоз свою роль выполняет превосходно. Давление в сосудах брюшной полости снизилось до нормы. Кровотечения больше не должно быть!
Правда, не должно быть – это еще не значит, что его не будет! А вдруг соустье закроется тромбом?! Как нам предупредить это возможное осложнение? Давать противосвертывающее лекарство? Но тогда может возникнуть кровотечение. Не давать лекарства – случайный тромб может свести на нет всю нашу работу! Некому подсказать, некому посоветовать. Эта операция долгое время будет не только первой, но и единственной в нашей стране.
Опять как былинный витязь на распутье…
Неясно нам и многое другое. Как вести больного в послеоперационном периоде? Какое лекарство давать? Как поведет себя печень?
На операции я видел, что печень резко изменена, склерозирована, функция ее, наверно, предельно снижена. Как бы не развилась печеночная недостаточность. Что надо делать, чтобы печень справилась с этой травмой?
И наши опасения оказались не напрасными.
На другой же день больной стал заговариваться, а затем впал в бессознательное состояние… Наступила печеночная кома… Две недели был он без сознания. Мы, признаться, никакой надежды на его выздоровление уже не питали. Однако делали все для его спасения с упорством несдающихся. И Ш. не только пришел в сознание, но начал быстро поправляться. Через два месяца мы выписали его в хорошем состоянии. Он ежегодно являлся к нам на проверку. Чувствовал себя удовлетворительно, кровотечение больше не повторялось.
В последний раз мы осмотрели Ш. через пять лет после операции. Он ни на что не жаловался. Однако через два года узнали, что у него, после того как он выпил водки, случился приступ печеночной комы, приведший к смерти. Как часто бывает такое, когда ничем не оправданное легкомыслие или вредные привычки уничтожают то, чего с величайшим трудом добились мы, чтобы человек жил, творил на земле доброе, полезное, радовался этой жизни!.. Занимаясь проблемой циррозов печени, а также постоянно встречаясь с тяжелыми травмами по «скорой помощи», мы убеждались, что вред, приносимый пьянством народу и государству в целом, колоссален. Было бы неправильно считать, что эта пагубная привычка касается лишь самого пьющего человека. Пьет, мол, – сам себе хуже делает! Нет, пьянство, как сильнейший бациллоноситель, тянет свои щупальца к нашей юной смене. Из-за него происходят трагедии в семье, на производстве… Это – социальное зло, с которым жестко и последовательно должны бороться общественные организации, каждый из нас.
Дарвин, учитывая все тяжкие последствия пьянства и особенно принимая во внимание его губительное действие на потомство, вынужден был громко заявить, что «привычка к алкоголю является бо́льшим злом для человечества, чем война, голод и чума вместе взятые».
Теперь врачам известно, что если зачатие произошло в период, когда зародышевая клетка находилась в состоянии «опьянения», то дети очень часто рождаются умственно или физически дефективными. В Швейцарии было обследовано девять тысяч идиотов. Оказалось, что все они были зачаты или на Масленице, или в период сбора винограда, когда люди особенно много пьют. Именно охрана будущего ребенка лежит в нашей славной русской традиции, когда на свадьбе не принято жениху и невесте пить вино. В этом обычае сказалась мудрость народа, охранявшего себя от вырождения. И ради наших будущих поколений эту традицию и ныне следовало бы строго соблюдать.
Дарвин и его последователи в своих трудах высмеивали экономистов, которые готовы видеть в продуктах производства спирта источник народного благосостояния. Он писал:
«Сколько затрачивается энергии, земли и сил на добывание этого губительного продукта, не дающего никакого питания, не представляющего пользы, если не считать аптекарского и промышленного применения, но имеющего главной своей целью телесную и духовную порчу человеческого организма. Было бы смешно, если бы не было так грустно, следить за сосредоточенностью, с какой чиновники высшего ранга определяют доходы со спирта. Бюджет государства, как это ни необъяснимо со стороны, регулируется при содействии отравления народа алкоголем. Фактически соки и здоровье народа повергаются на алтарь Молоха, который взамен полученного разрешения питаться мозгами масс охотно предоставляет в распоряжение казны легко доставшиеся средства. Такой вид политической экономии заслуживает лишь названия «лжи и надувательства»…»
Известно, что Владимир Ильич Ленин призывал к беспощадному пресечению всех проявлений пьянства, учитывая, что оно несовместимо со светлыми идеалами революции и прогрессом, теми высокими задачами, которые стоят перед рабочим классом, перед трудящимися всей нашей страны. Ему принадлежат слова: «Я думаю, что в отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что как бы они ни были выгодны для торговли, но они поведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму» [Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 43, с. 326].
А в новой Программе РКП (большевиков), принятой на VIII съезде партии в 1919 году, задача борьбы с алкоголизмом была поставлена наравне с борьбой против таких социальных болезней, как туберкулез и венерические заболевания.
И у нас в стране, где действуют благородные нормы социалистического общежития, где небывало высока роль коллектива, а здоровье человека охраняется законами государства, проведена огромная профилактическая работа, направленная против алкоголизма. Но успокаиваться на достигнутом рано! И прежде всего не должны успокаиваться врачи, которые видят на каждом шагу тяжелые последствия пьянства, и если уж не ведут противоалкогольной пропаганды, то хотя бы косвенно не оказывают разлагающего действия своим примером и своими неосторожными высказываниями.
В книге одного известного и талантливого хирурга без конца упоминается, что он перед операцией и после нее то пьет коньяк, то закуривает папиросу… Не боясь ошибиться, скажу, что немногие из молодых врачей будут такими талантливыми и работоспособными, как этот хирург, но легко могут перенять то, что он пишет насчет курения и выпивки… В этом случае, как и в других, хирургу всегда надо помнить об ответственности своих слов и личного примера!
Как-то во время одной из поездок я был приглашен в гости к видному пятигорскому хирургу. Среди других находился там наш молодой московский коллега. Сев за стол, он развязно стал похваляться своими способностями «не косеть» и начал пить водку чуть ли не стаканами. С удивлением посмотрев на него, я спросил:
– Послушайте, зачем вы так много пьете?
– А что тут такого? – вызывающе ответил молодой хирург. – Федоров тоже много пил! Не знаете этого?
– Знаю, – ответил я. – Только Федоров начал пить, когда он уже был Федоровым! А вы, простите, пока никто, а пьете, как Федоров. Кроме того, известно ли вам, что Федоров, начав злоупотреблять спиртным, умер в состоянии, близком к деградации, когда даже не узнавал своего лечащего врача. А ему было всего шестьдесят семь лет. Академик Павлов же умер в восемьдесят шесть от пневмонии. До самой смерти не утратил он ясный ум и прекрасную память. Он не пил! То же можно сказать и о многих наших крупных хирургах…
Молодой врач усмехнулся и продолжал пить… Как я с грустью узнал позже, хороший хирург из него так и не получился, хотя работал он в такой клинике, где не стать хирургом было просто грешно…
Наши первые операции наложения сосудистого соустья (эту операцию называют «порто-кавальный анастомоз» – от латинского названия двух вен: воротная – «порта» и полая – «кава») произвели сильное впечатление на медицинскую общественность страны. Демонстрации больных на заседаниях научных обществ и статьи, рассказывающие о методике этой операции, встречались с большим интересом. И конечно, после известия об успешных операциях при таком тяжелейшем заболевании в нашу клинику хлынул огромный поток больных людей. Они прибывали из ближайших районов, с Дальнего Востока и Севера, ища спасения от нависшей над ними смертельной угрозы…
Многие хирурги страны, воодушевленные нашим примером, начали овладевать методикой операции. К нам приезжали за опытом из других городов. А однажды мне позвонили из министерства и сказали, что через два дня нужно встречать крупного хирурга из Индии. Он хочет своими глазами увидеть операцию порто-кавального анастомоза. И поскольку в то время подобных больных у нас было много и такие операции мы уже делали часто, нам не составило труда назначить новую операцию.
Индийский хирург был с длинной седой бородой, в его словах и коротких суждениях чувствовались немалый опыт и большая культура. Он сносно говорил по-русски, и я был приятно поражен, увидев в его руках мою книгу «Резекция легких». Он пояснил мне, что русские книги читает без словаря и, кроме операции порто-кавального анастомоза, с удовольствием посмотрел бы и операцию на легких, если ее любезно согласится показать «в своем исполнении» автор понравившейся ему монографии… Просьба сопровождалась почтительными наклонами головы, приложением руки к сердцу. Я, естественно, мог ответить лишь согласием!
Первой операцией седобородый хирург из Кашмира остался очень доволен, сказав: «У нас в Индии это называют «золотой шов»!» После второй – на легком – попросил сделать на книге «Резекция легких» памятную надпись, которая удостоверила бы, что он в такой-то день и год присутствовал на операции «русского мастера» и видел его «поразительное искусство»…
Тогда я еще не знал, что придется и мне побывать на земле Древней Индии.
А пока, несмотря на хорошие результаты при такого рода операциях, мы не могли еще считать эту проблему целиком решенной. Тем более что из разных клиник приходили сообщения: хирурги, начавшие, как и мы, лечение циррозов печени, встречаются с большими техническими трудностями. Смертность при этих операциях оказалась очень высокой, и большинство хирургов тут же отказались от их дальнейшего проведения… Лишь несколько энтузиастов продолжали следовать нашему примеру. Мы же, вплотную занятые такими проблемами, как хирургия легких и сердца, сами хотели бы отказаться от этих операций, ибо они требовали громадной затраты сил и времени, по существу отвлекали нас от того, что мы считали в своей работе главным направлением. Однако больные, несмотря на отказы, продолжали к нам поступать, и мы вынуждены были лечить их.
Нас ободряло, что несмотря на все трудности, которые мы испытывали, операции анастомоза приносят большинству больных явное облегчение. Люди, годами истекавшие кровью, забывали, что это такое. У нас среди многих других был, например, больной, у которого кровотечение за десять лет повторялось четырнадцать раз. Перед тем как поступить в клинику, он уже не вставал с постели. И операция поставила его на ноги… Свой многолетний опыт в изучении этой проблемы мы с Т. О. Корякиной обобщили в совместной книге под названием «Хирургическое лечение портальной гипертензии». Она была первой монографией в Советском Союзе, посвященной хирургическому лечению этого заболевания.
Вполне понятно, жизнь на кафедре протекала разнообразно и многосторонне, и как бы много времени ни отнимали у нас операции и разработка той или иной проблемы, мы не забывали вести учебно-воспитательную работу среди сотрудников и студентов. И скажу, что мне всегда хотелось показать пример того, каким должен быть истинный хирург. Поэтому во время операции, какой бы тяжелой она ни была, у нас всегда поддерживались полная тишина и спокойствие. Сам проявляя образец выдержки, я требовал того же от помощников: чтобы хирург не кричал на ассистентов и сестер, не ругался, а если была нужда в замечании, делал бы его в вежливой форме. Это, конечно, избавляло операционную бригаду от излишней напряженности. Замечал, что собственное умение быть выдержанным не раз выручало меня в трудные минуты жизни.
Приходилось наблюдать, как при кровотечении, угрожающем жизни больного, хирург нередко теряется, начинает спешить, пытается захватить кровоточащий сосуд, а тот не поддается… В спешке и волнении повреждает соседний сосуд – кровотечение еще сильнее! Ассистенты в панике, суетятся, бестолково стремятся помочь хирургу, и вместо пользы от их действий неразбериха еще больше. Ясно, что в такой обстановке с кровотечением справиться не только трудно, но почти невозможно. Именно в этот момент необходимо сохранять полное спокойствие и выдержку.
Помню свою показательную операцию в Тарту, когда по просьбе тамошних хирургов я оперировал шестилетнего ребенка с опухолью переднего средостения, которая была интимно припаяна к верхней полой вене. В одном месте ассистент, с которым мне до этого не приходилось вместе работать, подтянул к себе опухоль больше, чем это требовалось, а я не обратил внимания. И при ее отсечении ножницы прошли на какой-то миллиметр ниже дозволенного уровня, стенка верхней полой вены была поранена. Сразу же началось обильное кровотечение. Мои ассистенты лихорадочно бросились останавливать его, я же пальцем прижал кровоточащее место, спокойно сел на стул и отвел от раны их руки… Когда они, после некоторого удивления, успокоились, я освободил все окружающие ткани от салфеток, сгустков крови, раскрыл рану и взял в свободную руку наиболее удобный для захвата стенки сосуда инструмент. Все это сделал, не отпуская пальца. Затем, заняв наиболее удобное для себя положение, быстро оторвал палец и в тот же миг наложил на кровоточащее место зажим. А остальное было делом техники: завязал лигатуру и снял зажим. Кровотечение остановилось, и дальше операция уже шла без осложнений, окончилась как нельзя лучше.
Между тем растеряйся хирург даже на какой-то миг, справиться с кровотечением было бы невероятно трудно или вовсе невозможно. Ведь подверглась непредвиденному ранению крупная вена в двух-трех сантиметрах от сердца. Стенка тонкая, при неправильном захвате она может легко разорваться. Пережимать ее, чтобы кровь не заливала операционное поле, слишком опасно. В нее же собирается кровь из мозга, и пережми ее даже на две-три минуты, венозное давление в мозгу увеличится в два-три раза. А это приведет к точечным кровоизлияниям в мозг. Так что поторопись хирург, не рассчитай своих действий – беды не миновать бы.
Когда мы вышли из операционной, нас встретили измученные неизвестностью родители. Первый вопрос: «Как наш мальчик?» Мы ответили, что оснований для беспокойства нет, все прошло благополучно… А сам тут же невольно представил, что было бы, не сумей я справиться с кровотечением! Как бы мы сейчас смотрели в глаза отца и матери, потерявших сына из-за случайности в ходе операции – ошибки в расчете на один миллиметр!
Врачи, ассистировавшие мне и наблюдавшие за операцией, после говорили комплименты по поводу моей выдержки и полного спокойствия. Но второго, я уже раньше объяснял, не может быть. И на этот раз, приняв ванну и ложась в постель, я невольно отметил легкий тремор рук, говоривший о волнении, которое не прошло за много часов и которое никто из присутствующих не заметил.
Помню и другое… Как-то прибегает ко мне в кабинет врач и просит срочно подняться в операционную. Я тут же иду туда… У операционного стола стоят бледные и испуганные две наших очень опытных женщины-хирурга, делающие самостоятельно все виды операций. «В чем дело?» – спрашиваю. «Сильное кровотечение, Федор Григорьевич, не удается остановить. Боимся потерять больного…»
Надев стерильные перчатки и стерильный халат, подхожу к больному, у которого раскрыта брюшная полость. В ране четыре руки лежат на целом ворохе марлевых салфеток, пропитанных кровью. «Где кровоточащее место?» Указывают. Придавив его пальцем, прошу врачей убрать руки. Сел удобнее и некоторое время так сидел, стараясь успокоить хирургов отвлеченным разговором… Убедившись, что мои коллеги несколько пришли в себя, начал одну за другой убирать салфетки. Затем взял хороший зажим и, быстро сняв последнюю салфетку, в мгновение захватил зажимом сосуд и остановил кровотечение. Наложив лигатуру и убрав руки, показал, что ничего опасного больше нет. Спросил:
– Можно ли мне уходить?
– Да, – несколько смущенно ответили обе, – дальше мы сами…
Сильное кровотечение вызвало у весьма опытных хирургов растерянность потому, что они поддались панике, оказались во власти сомнения и в какой-то мере самого обычного испуга.
Каждый из моих учеников, я уверен, никогда не забывает, помимо всего другого, о чувстве величайшей ответственности перед больным и перед своей совестью за установление правильного диагноза, ибо он – основная и самая первая необходимость в борьбе с любым недугом. Я всегда обращал внимание своих питомцев на то, что большинство трагедий, которые происходят у хирурга на операционном столе, связано, как и у любого врача при лечении больного, с ошибкой в диагностике.
Конечно, наша медицинская наука пока не столь совершенна, мы далеко не во всех случаях можем вылечить заболевшего человека. И добросовестный врач, если он вынужден говорить родственникам, что недуг их близкого неизлечим, помочь ему уже ничем нельзя, делает это с ощущением своей невольной вины перед больным… Но как же должен чувствовать себя врач, в особенности хирург, если он много лет отказывал человеку в операции, считая его неоперабельным, обрекая на страдания и муки, и все только потому, что не потрудился внимательно обследовать больного, не поставил ему правильного диагноза?! Особенно недопустимо решать судьбу больного по присланным с ним бумагам, всецело доверяя тем, кто направил его на консультацию. Если вдруг окажется, что предыдущий врач не разобрался в диагнозе или, что, к сожалению, бывает, просто недобросовестно обследовал больного, ты, слепо согласившись с его мнением, не посчитав нужным осмотреть больного, не только подтверждаешь эту ошибку, но и усугубляешь ее!
Иногда, ограниченный во времени, читая присланные вместе с больным документы, думаешь, что ничего уже сделать нельзя. Нужно, пожалуй, сказать, что его принимать в клинику не следует, все равно вскоре выпишем ни с чем… Но вовремя подавив в себе эту мысль, все же просишь прежде чем сказать суровое «нет», показать больного. И очень часто вместо этого «нет» с облегчением на душе говоришь «да»… Сколько людского горя видел я из-за того, что врачи, прочитав диагноз на бумажке, приклеивали его к больному, как ярлык. И никто уже не считал нужным его проверить! И если этот диагноз был неправильным, он нередко совершенно безосновательно лишал человека возможности излечиться, обрекал его на пожизненное страдание.
Расскажу об одной из таких больных.
…Ольга Петровна П-о из станицы Вешенской Ростовской области стала замечать, что у нее угрожающе растет живот, становится больше, чем у беременной. Обратилась к доктору одному, другому, те давали лекарство, но пользы не было, наоборот, от непомерно раздувшегося живота уже и дышать ей стало трудно.
Тогда Ольга Петровна поехала в областной центр, где её положили в больницу. Тут заведующая терапевтическим отделением, не проведя никакого обследования, а поставив диагноз только по внешнему виду, недовольно сказала:
– Зачем положили к нам больную с таким асцитом? У нее ж атрофический цирроз печени. Здесь лечение невозможно!
– Кровотечения у больной не было ни разу, – неуверенно возразил молодой ординатор, расспрашивавший до этого Ольгу Петровну.
– Цирроз печени может проявиться кровотечением или асцитом. У нее явно чисто асцитическая форма. Раз уж посвоевольничали, положили, надо будет выпустить жидкость из живота и больную выписать!
– Может быть, направить в центр на операцию? – опять попытался робко подсказать ординатор.
– Разве таких больных оперируют? У нее же огромный, чудовищный асцит. Неужели это не убеждает вас в том, что печень совсем пришла в негодность? – Заведующая говорила укоризненно. – При такой печени вы надеетесь на возможность операции?! Это у вас, конечно, от недостатка опыта… В общем, переведите больную в хирургическое отделение, пусть там сделают ей прокол и завтра же выпишут. Можно дать справку, что операции не подлежит…
Прокол делал хирург Андрей Иванович при хорошем обезболивании. Из живота выпустили большее количество жидкости, и Ольга Петровна через день была действительно выписана. Диагноз же и здесь не уточнили, в справке был оставлен тот, что поставила заведующая терапевтическим отделением… С того времени, в какое бы лечебное учреждение Ольга Петровна ни обращалась, врачи, взглянув на ее документы, сразу же находили, что больной ничем помочь нельзя.
А жидкость постепенно снова накапливалась, и вскоре живот достиг прежних размеров. Для Ольги Петровны наступили невыносимые дни… И хоть мучительно теперь переносилась ею дорога, нужда заставляла опять и опять выезжать в Ростов. Ляжет там на два-три дня в больницу, освободят ей живот от жидкости, и снова домой. Делал проколы тот же врач: тщательно обезболивал, и она их легко переносила. Но лечения никакого ей не назначали, и Ольга Петровна уже стала свыкаться с мыслью, что так отныне будет до конца дней, ничем, кроме проколов, помочь ее болезни невозможно.
Однажды, в очередной приезд в областную больницу, доктора Андрея Ивановича, что каждый раз приветливо принимал ее и откачивал жидкость, не оказалось на месте. Вместо него был другой врач, молодой, самоуверенный, с таким выражением на сытом лице, словно каждое его слово и каждый жест – это щедрая не по заслугам милость для окружающих.
– Зачем таких больных кладут в хирургическое отделение? – сердито спросил он, ни к кому не обращаясь.
– Эта больная поступает к нам часто. Ее вел Андрей Иванович. Он обычно выпустит жидкость, и она уезжает с облегчением, – разъяснила старшая сестра.
– Зря только койку занимает, – проворчал врач. – Распорядитесь, чтобы приготовили троакар для прокола. Да поскорее! Я спешу.
Ольга Петровна, слышавшая разговор, внутренне напряглась. От этого сердитого человека не жди сочувствия!
И на самом деле врач, не проведя обезболивания, стал протыкать ее живот толстым, как большой гвоздь, инструментом. Ольге Петровне было так больно, что она в какой-то миг невольно вскрикнула и резко отодвинулась от врача, оттолкнув его руку.
– Что вы делаете! – закричал он. – Сидите смирно. Иначе я могу проткнуть вам кишку!
– Очень больно, доктор! В те разы ничего, а сейчас не могу… Вы ж совсем не заморозили то место, протыкаете живое тело…
– Не вам меня учить, – обрезал врач. – Я знаю, что и как надо делать. И вы обязаны терпеть. А не хотите, можете домой отправляться!
И он с прежней силой стал протыкать живот. Боль была нестерпимой, и как ни крепилась Ольга Петровна, все же невольно отстранялась от врача… У того ничего не получалось. Он злился, с еще большей настойчивостью старался получить жидкость. Измучился сам и совершенно измучил больную, которая была вся в слезах и тихо стонала. (Позже Ольга Петровна сама расскажет нам в клинике про это!)
– Вы что же, делаете прокол без обезболивания? – спросил врача заведующий хирургическим отделением, случайно вошедший в палату во время процедуры. И хотя говорил он тихо, отведя своего коллегу в сторонку, она слышала их разговор.
– Это же простой укол, – оправдывался врач, – просто капризная больная!
– А лично вам делали когда-нибудь подобный укол?
– При чем здесь мне?..
– При том, что если вам, да-да, лично вам, кто-нибудь вставит такую штуку в живот без обезболивания, всю жизнь, уверяю, будете помнить, каково это! А не поленились бы, ввели пять кубиков новокаина, больная сидела б спокойно, и вы давно уже были бы свободны…
Через некоторое время заведующий отделением сам тонкой иглой сделал обезболивание и свободно ввел троакар так, что больная почти не почувствовала… Но манипуляции молодого врача уже сделали свое дело… В животе у Ольги Петровны начались сильные боли, из-за чего пришлось пролежать в больнице около месяца. Подозревали повреждение кишечника. Сильно волновались за нее заведующий хирургическим отделением и вернувшийся из отпуска Андрей Иванович. Постепенно боли прекратились, но страх перед уколом остался. А через несколько месяцев живот вырос больше прежнего. Нужно было снова ехать в ростовскую больницу, но лишь подумает Ольга Петровна об уколе, о том, что, может быть, снова попадется ей тот доктор, как сразу появляется жгучая боязнь, отнимает силы и желание ехать. Ведь и так всякий интерес к жизни стал гаснуть. Была она высокого роста и широка в плечах, и тем не менее живот раздулся до таких пределов, что как бы занимал основное место в ней, вернее сказать, все остальное казалось подчиненным ему. Ребра от постоянного давления жидкости раздвинулись широко в сторону, живот возвышался горой. Растянув до предела брюшную стенку, он вниз опускался почти до колен. Ольга Петровна с трудом могла сесть, потому что сразу усиливалась одышка. Ограничивала себя в питье, еде, не могла ничем заниматься – существовала как придаток к своему гигантскому животу… И так длилось целых тринадцать лет.
Однажды в станицу приехала погостить женщина из соседнего района, которая сказала, что у нее также был асцит, но ей сделали операцию, она поправилась, и теперь нет ни живота, ни болей. И назвала адрес нашей клиники. Впервые ожила надежда в Ольге Петровне: она немедленно поехала в областную больницу, стала просить там направление в Ленинград. Заведующая терапевтическим отделением отказала наотрез.
– При вашей болезни операция невозможна, – сказала она, – И не настаивайте: мы не можем послать вас!
– Но я мучаюсь столько лет! И вы ничем не можете помочь. А там, говорят, помогают таким, как я…
– Вы верьте тому, что я говорю!.. Дам вам направление – получишь замечание. А зачем мне это нужно? И хватит, разговор будем считать законченным…
Сколько Ольга Петровна ни упрашивала, как ни молила, заведующая была непреклонна.
И Ольга Петровна решилась отправиться в тяжелое для нее путешествие на свой страх и риск без направления, рассудив, что если и в Ленинграде откажут в операции или лечении, тому, выходит, быть. А вдруг повезет: за что ей такие муки-то?! Даже в вагоне весь долгий путь она вынуждена была провести сидя: если пыталась прилечь, не хватало дыхания… Добравшись до никогда не виданного ею города на Неве, попросила постового милиционера объяснить, как найти нужную клинику, а когда тот посоветовал вначале устроиться в какой-нибудь гостинице, ответила ему: «Мне уж теперь, милок, ничего другого не осталось, как в этой самой больнице у входа поперек лечь, не перешагнут, пожалуй, заметят, возьмут… Мне лучше, чем больница, гостиницы нет!»
Про это тоже Ольга Петровна расскажет мне после, и про все другое, что было с ней дальше, до первой нашей встречи.
В клинике ей сказали, что профессор будет консультировать через три дня, тогда и приходите… А у нее уже не было сил ни отвечать, ни спорить, ни что-то доказывать, сидела на стуле и тяжело дышала. Час, другой… Пока не обратила на нее внимание наша перевязочная сестра Анна Александровна. Разыскала меня, сказала, что в вестибюле сидит больная с таким невиданным животом, что вряд ли ее можно оперировать, но хоть утешить нужно. «Глаза у нее, Федор Григорьевич, такие, как с иконы снятые, одна мука в них. Взгляните, пожалуйста!..»
Когда больную привели ко мне в кабинет, я поразился: подобного живота я не видывал! Достаточно, наверно, сказать, что при операции, после уже сделанного прокола, у нее откачали еще более пяти ведер жидкости! И все тринадцать лет она носила в себе и на себе такую тяжесть… Врачи читали в справке диагноз цирроза печени и, естественно, находили, что операция тут невозможна, и никто из них не помыслил усомниться в правильности этого врачебного приговора! Но даже при беглом осмотре было видно, что далеко не все признаки подходят под указанный диагноз.
Я подробно расспросил Ольгу Петровну про ее болезнь, как она началась, как протекала, в чем, кроме внешних, видимых глазу проявлений, еще выражена… Рассказ женщины прерывался слезами… И все больше казалось мне, что здесь не цирроз печени. Когда же внимательно осмотрел больную, вообще не нашел ярко выраженных симптомов, способных убедить в этом диагнозе. Тут же, не откладывая, пошел с больной в рентгеновский кабинет, где подтвердилось, что у нее нет даже самого частого и самого главного симптома цирроза печени – расширения вен пищевода.
Но если не цирроз печени, тогда что? Слипчивый перикардит?
Однако рентгеновские снимки сразу же настроили против этого диагноза. При слипчивом перикардите всегда высоко венозное давление. Измерили его в лаборатории, и оно оказалось нормальным. Таким образом, отпал и второй возможный диагноз. Оставалось узнать, не туберкулезный ли это перитонит или какая-то киста брюшной полости, достигшая громадных размеров? Впрочем, возраст, при котором началось заболевание, а также отсутствие каких-либо признаков туберкулеза не подтверждают первого предположения. Если же это киста, то вопрос – откуда она исходит? Из яичника? Но яичники располагаются внизу живота, а здесь жидкость занимает всю брюшную полость. Мы положили больную на спину и приподняли ее таз, в результате чего вся жидкость должна была спуститься к диафрагме. Однако этого не произошло! Жидкость по-прежнему занимала равномерно всю брюшную полость, что-то ее удерживало. Вероятнее всего, она находится в каком-то резервуаре, который и не позволяет ей свободно разлиться, не отпускает ее из нижних отделов живота. А если так, наиболее приемлем диагноз кисты яичника огромных размеров, то есть заболевание, которое подлежит хирургическому лечению, и операцию может осуществить хирург или гинеколог даже средней квалификации…
Все исследования, которые мы сделали в течение получаса амбулаторно, можно было бы провести в любом лечебном учреждении, если бы только врачи захотели этого, а не находились бы в плену у ложной справки, выданной невнимательным и самоуверенным доктором.
Операцию Ольга Петровна перенесла легко и выписалась донельзя счастливой от сознания, что ей уже не надо носить на себе многопудовый груз, она может свободно ходить и работать, ей не надо больше ездить в больницу, чтобы выпустить проклятую жидкость из живота… Однако у меня и моих товарищей по работе при виде этой женщины невольно возникало чувство неловкости и стыда за наших коллег, которые из-за невнимания и врачебной небрежности отравили этому человеку тринадцать лет жизни. Подумать только – целых тринадцать лет!..
И пусть читатель не подумает, что повествованием об этом самом эпизоде профессор Углов как-то пытается подчеркнуть свою исключительность: вот, мол, многие годы женщина страдала, никто из врачей не мог ей помочь, пока судьба не столкнула ее с ним! Как можно понять, в этом случае не было нужды в высоком хирургическом мастерстве, надо было всего-навсего усомниться и проверить. И рассказ о судьбе Ольги Петровны П-о лишь дополнительное подтверждение, как чужды (и опасны!) в нашей особенной работе небрежность и спешка, равнодушие и скоропалительность заключений…
А от Ольги Петровны стали аккуратно приходить в адрес клиники письма вот с такой, не меняющейся припиской: «Ростовская область, станица Вешенская, Мостовой переулок, дом 3а, от исцеленной мученицы тринадцати беспросветных лет…»
Глава XVIII
…Уже несколько месяцев прикован к постели Павел Патранин и так ослаб, что даже приподняться, взять со стола стакан с водой сил нет. А жажда мучает его невыносимо. Во сне, бывает, видит, что стоит он по колено в прозрачной воде и, зачерпывая ее пригоршнями, пьет-пьет и никак не напьется! А проснется – лишь маленькими глотками может пить ее… Желанная вода стала для него врагом: он и без нее весь отекает. У него скапливается жидкость в животе, в пояснице, в ногах. Откуда только берется?! Посоветовали ему не пить, и он почти не пьет, хотя хочется нестерпимо. Иногда приходит мысль: плюнуть на все, припасть к ведру, не отрываться от него, пока не покажется донышко, залить горящее нутро, а после умереть. Он уже делал так, но смерти не наступало, зато ноги отекали, становились словно колоды, а живот раздувался, начинал давить, как неподъемный груз, дышать было невозможно… Стоит ли говорить, что после этого приходилось ограничивать себя в питье еще строже.
Однако самое ужасное в том, что усиливается одышка, накапливается жидкость, и он все слабее ощущает биение сердца. Приложит руку к груди, а там тихо, никаких толчков, лишь что-то давит, давит… И одышка уже не только при ходьбе, но даже и в покое, вот как сейчас, когда он лежит на кровати.
Тихо в деревне в рабочий дневной час, и дома, кроме кошки, никого… Эх, встать бы, пойти на улицу, удивить отца и мать! Он так давно болеет, что уже забыл, когда был здоров. Что за жизнь, да в молодые годы! Все сверстники ребята хоть куда: шустрые, бойкие, скорые на дело и на забаву, как он сам когда-то был… Когда-то… Ведь с чего началось? Простудился. Такая простуда привязалась: дома лечили – не вылечили, потом в районный центр Бугульму возили, и там он пролежал несколько месяцев. И все равно года два покашливал, временами слабое стеснение в груди ощущал, но ничего – бегал! Считалось, выздоровел, колхоз послал на лесозаготовки… Тяжела зимняя лесная работа. Он все время потел и сильно задыхался, а мужики подсмеивались: молодой, живее пошевеливайся! Совестился показать свою слабость: тянулся вровень со всеми. Ночью же в землянке прохладно, стужа под тулупом достает. И однажды поутру такая слабость навалилась, что ни в этот день, ни на другой встать не смог… Снарядили лошадь, отвезли его в больницу и держали там целых три месяца. Однако улучшения не наступало, больше того – здесь впервые врачи заметили у него жидкость в животе. И что только они ни предпринимали, но жидкости накапливалось все больше. Тогда и отправили его в областной центр, в Ровно, где сделали прокол живота… Павлу в тот день сразу же легче стало: дышать посвободнее, и пить он уже мог не очень остерегаясь. Но слабость не уходила, и домой вернулся с виноватым досадливым чувством, что не работник, не помощник отцу и матери… А вскоре навсегда, кажется, привязала к себе кровать. Третий год так. Родители снова возили в Бугульму. Там главный врач объявил им, что болезнь у Павла не поддается лечению – ни они, никто другой ничего тут не сделают.
Однажды к Павлу заскочили дружки, колхозные комсомольцы, возбужденные, радостные – страда, косовица хлебов! Каждый час на счету, ведь летний день год кормит. С завистью смотрел Павел на их разгоряченные лица, слушал их веселую речь. С ними бы сейчас в поле, возить на машине зерно, работать на току!
– Ну, Павлуха, не годится так недвижным лесным пнем валяться, – сказал ему секретарь комсомольской организации, товарищ еще с детских лет. – Так ты ничего не вылежишь. Надо действовать. Завтра отвезем тебя в Бугульму!
– Точно, Павлуха!.. Поедем!.. Больница – она на то и есть, чтоб лечить!.. – дружно поддержали остальные ребята.
Павел слез не мог сдержать, растрогали и обрадовали слова друзей, но ответил с сомнением:
– Бесполезно это… Мне сказали, что помочь не могут…
– Да когда это было?! Больше года назад! – возразили ребята. – А ты знаешь, как наука движется вперед? Семимильными шагами! Газеты читать надо! Теперь, может, что нашли против твоей болезни…
Утром, по холодку, подогнали телегу, устланную соломой, к избе Патраниных, перенесли в нее на руках Павла и выехали на большак… Совсем на немного хватило Павлу сил, чтобы полюбоваться простором, золотым разливом хлебов, высоким безмятежным небом. От тряски и толчков одышка стала мучительнее, злее. Как тряхнет, так, кажется, последний дух из тебя вышибает… Хочется спать, но никак не заснешь. Словно чугунная плита на груди. Зря, наверно, согласился поехать – одно мучение. Ни с чем возвращаться назад… Как давит тяжесть на грудь, как давит! А может, это его последняя дорога в жизни?! Пусть… Устал. Очень устал. Обидно лишь, что толком не пожил, не порадовался, не узнал ничего, не сделал заметного, отцу и матери не помог. Даже про любовь – какая она – слышал только, а сам ни с одной девушкой не дружил, не танцевал ни разу… Болел, болел. А до этого работал, и конца работе не было – с детских лет! Мужиков-то в деревне не осталось, на фронт их забрали, и держался колхоз на женщинах и подростках… Отец с войны пришел без руки, с покалеченной ногой. Если бы он, Павел, был здоров, отец хоть отдохнул бы немного. Да где уж!.. И как подбрасывает телегу на ухабах – не вытерпеть. Дышать совсем нечем…
В Бугульме, в районной больнице, Павла сняли с подводы чуть живого. И поскольку он нуждался в постоянном врачебном наблюдении и уходе, его вскоре на санитарной машине перевезли в ровненскую областную больницу. А состояние Павла ухудшалось. Отеки увеличивались, отечная жидкость скапливалась уже не только в брюшной, но и в плевральных полостях с обеих сторон. Он не мог лежать: как только прикладывал голову к подушке, начинался приступ удушья, кашель. Измученный от страданий, бессонных ночей, отечный, синюшный, Павел тупо сидел на своей койке, безразличный и безучастный ко всему… Ему регулярно делали пункции плевры и живота, давали мочегонные лекарства. Откачают несколько литров жидкости, освободят органы и ткани от затопления и сдавливания, и Павел может дышать несколько дней чуть свободней. Затем жидкость в полостях снова продолжает исподволь накапливаться, опять угрожая сдавить легкие, задушить больного. Тогда заново повторяли пунктирование, и организм Павла получал возможность какое-то время отдохнуть…
Так боролись врачи. Но по существу, не за жизнь и даже не за ее продление, а за краткосрочное облегчение его страданий. Как могли, как умели. На последнем обходе заведующий отделением, осмотрев Патранина, выходя из палаты, сказал помощникам: «Здесь, скорее всего, цирроз печени неясной этиологии. Больной погибает. Можно, пока еще не поздно, запросить Ленинград, договориться с профессором Угловым о переводе больного к нему. Он занимается сейчас лечением циррозов печени…»
Так появился в нашей клинике с подозрением на цирроз печени двадцатидвухлетний Павел Патранин. На вид ему было много меньше. Ни юноша, ни мальчик: небольшого росточка, без растительности на лице, одутловатый, с большим животом. Дышал он часто и поверхностно. При дыхании напрягались у него шейные и грудные мышцы – верный признак тяжелой дыхательной недостаточности. И главное, даже при беглом осмотре больного можно было безошибочно сказать, что цирроза печени у него нет. При циррозе печень маленькая и не прощупывается, а у Патранина она большая, достигала пупка, легко прощупывалась, несмотря на жидкость. Тоны же сердца глухие, едва слышные: сердечный толчок не определялся. А венозное давление высокое, в четыре раза выше нормы. Рентгеновские снимки сердца показали, что оно плохо пульсирует; в некоторых участках пульсация совсем отсутствует; по бокам сердца видны отложения солей кальция… Картина сдавливания сердца! Диагноз не вызывал сомнения. У Павла Патранина – панцирный или, как еще его называют, слипчивый перикардит.
Сущность болезни сводится к следующему. Из-за травмы, инфекции или туберкулезного процесса развивается перикардит – воспаление оболочки сердца (перикарда). Если у больного туберкулезный процесс – заболевание протекает не так бурно; если гнойный – более остро. При этом возникают известковые отложения в перикарде толщиной в несколько миллиметров, которые, как панцирем, покрывают все сердце, сдавливая его со всех сторон. Стиснутое сердце уже не может нормально выполнять свою работу. Оно теперь способно производить лишь небольшое сокращение и легкое расслабление, ни с какой нагрузкой не в состоянии справиться. Чуть что – одышка. Пошел быстрее – одышка, занялся какой-нибудь работой – тоже… И конечно, сердечная недостаточность начинает вызывать застой крови в печени, в нижних конечностях. В результате увеличивается печень, отекают ноги, начинает скапливаться жидкость в брюшной полости. Как самая крайняя степень сердечной недостаточности – та же жидкость уже и в плевральных полостях…
Лечение слипчивого перикардита – только оперативное. Никакими лекарствами не удается размягчить или добиться рассасывания панциря. Однако иссечение перикарда – большая, сложная операция, и перенести ее в состоянии больной, у которого имеются хотя бы минимальные резервы сердца. Ибо чем операция тяжелее, тем нагрузка на сердце больше. А если операция вообще протекает не совсем гладко или после нее появятся осложнения?! Это ведь сильно увеличит нагрузку, потребует дополнительных резервных сил сердца. А откуда их взять, когда оно работает на самом крайнем пределе? Даже при полном покое не выполняет своей задачи, и где уж ему справиться с операцией!
Наши попытки улучшить деятельность сердца Патранина не увенчались успехом. Перевели его в терапевтическую клинику, специально занимавшуюся вопросами сердечной недостаточности в надежде, что там хоть немного подлечат больного, создадут кое-какие условия для операции… Больше двух месяцев пролежал в этой клинике Павел, и все мы видели: состояние его от недели к неделе хуже, ничего ему не помогает. Сидя в кровати, ухватившись за ее края, он тяжело и часто дышал. Жидкость в животе и в плевральных полостях накапливалась катастрофически быстро, ее приходилось откачивать теперь уже два раза в неделю. Вместе с жидкостью больной терял большое количество белка, солей, витаминов. У него, следовательно, резко нарушался белковый, минеральный, витаминный и водный балансы, ему надо было переливать кровь, белковые препараты. А это увеличивало нагрузку на ослабленное сердце и тем самым декомпенсацию! Получался заколдованный круг, из которого, казалось, нет выхода.
Операция невозможна, а без операции никакие терапевтические средства не оказывали эффекта и не улучшали сердечной деятельности. Сердце, зажатое со всех сторон толстой броней, не могло увеличить свою работу, какие бы сердечные лекарства тут ни применяли! Находясь в жестоком плену, оно не способно было расправиться…
И в еще более худшем положении, чем был вначале, Павла Патранина перевели снова к нам, в хирургическое отделение. Мы знали: если выпишем больного домой или оставим здесь, в клинике, без срочной помощи, он умрет в самое ближайшее время. Как же быть?
После долгих размышлений, обсуждений, даже споров решили: придется все же пойти на риск, попытаться сделать операцию! Колебания лишь затягивают время…
Это был 1952 год. Тогда уже имелся некоторый, хотя весьма скромный, опыт хирургического лечения слипчивого перикардита в наших, советских клиниках. Были опубликованы статьи А. Н. Бакулева, Ю. Ю. Джанелидзе, в которых описывались клиническая картина, показания и методика операции. И я, как всегда внимательно, изучил всю доступную отечественную и зарубежную литературу по этому вопросу: вместе с помощниками провел много операций в анатомическом зале, где мы воспроизводили тот метод, который применяли наши хирурги. Он заключался в том, что все ребра вместе с их хрящами над областью сердца иссекались, и сердце таким образом обнажалось… После этого иссекали сам перикард.
Перенесет ли такое наш больной? Как его готовить к операции? Как выхаживать после нее?.. Десятки вопросов! А больной угасал на наших глазах, следовало торопиться. И мы назначили день…
Операция по своей драматичности представляла волнующее зрелище даже в самом начале.
Накануне Павлу была тщательно откачана жидкость из брюшной и из плевральных полостей, однако он продолжал дышать часто и прерывисто, как после тяжелого бега, и совершенно не мог лежать. Когда пытались придать ему хотя бы полугоризонтальное положение на операционном столе, он сразу же, пробыв так одну-две минуты, начинал задыхаться. Пришлось оставить его в неудобном для нас сидячем положении, лишь слегка отклонив назад его голову. Конечно же, о наркозе и думать было нечего. Больной тут же бы задохнулся! Да и наркоз в то время, напомню, был у нас не совершенен. Поэтому вся операция проходила под местной анестезией…
За день до нее я долго сидел у постели Павла Патранина. Противоречивые мысли не давали покоя. Браться за операцию у такого критического больного – не безумие ли?! Ведь подобную операцию делаю впервые в жизни, с нее мы начинаем разработку новой для нас проблемы. И тут, как и при раке легкого, случись неудача – она надолго отодвинет проведение таких операций у нас в клинике. А Павел – он из безнадежных, силы организма истощены до крайности, сердце может сдать в первые же минуты… Операция же на несколько часов, да еще под местной анестезией!
По-другому подумаешь: что ждет его, если не будет операции? Самое большое он проживет еще несколько месяцев. Разумеется, при условии, что будет находиться у нас в клинике, станем выпускать ему жидкость почти ежедневно! А если выпишется, умрет через считаные дни. Да и сейчас – не жизнь, а мука для него. Вот он передо мною. Хватает воздух ртом, как рыба, губы, кончик носа, круги вокруг глаз, пальцы рук и ног – все синюшно! Тяжелое кислородное голодание!.. Сидит, полузакрыв глаза. Ему, видно, смертельно хочется спать, но уснуть не может. Во сне вспомогательная мышца расслабляется, а дыхательных, которые работают и во время сна, недостаточно, он сразу же, задыхаясь, просыпается… Перевести бы Павла в другую клинику, но куда? Эти операции в Ленинграде никто не делает. В Москву, к Бакулеву?! Павел же не доедет туда. Да и кто возьмет больного в таком состоянии?!..
Возле меня в палате стоят и сидят врачи, мои помощники, которые отлично понимают всю ситуацию и также переживают за больного.
– Так что же? – спрашиваю. – Да или нет?
– Да, Федор Григорьевич! Надо оперировать! – в один голос заявляют и Антонина Владимировна, и Нина Евгеньевна, и другие.
Кроме моих непосредственных помощников, в палате в этот час много молодых врачей, которые приняты в аспирантуру, в клиническую ординатуру. Они с жаром включились в наши хирургические заботы, как и мы, находятся в клинике чуть ли не круглосуточно, безропотно выполняя всю работу, в том числе и ту, которой обычно занимаются санитарки и уборщицы. Их, санитарок и уборщиц, постоянно не хватает.
Сотни молодых врачей работали со мной, обучаясь искусству хирурга. Некоторых имен я уже и не помню. Но забыть их благородный труд невозможно. Это в основном энтузиасты, из которых многие позже стали известными учеными, профессорами, крупными хирургами… Сейчас же молодые врачи вместе с нами, старшими наставниками, в мучительном ожидании: с каким общим решением выйдем из палаты? Они понимают, что если такой больной перенесет операцию, их ждут бессонные ночи и трудные дни возле его кровати. Понадобится огромнейшая затрата нервов, силы, воли, знаний, чтобы этот неизвестный им парень вернулся к жизни. Они готовы к такой борьбе…
– Завтра, – говорю я.
Мы стремились, чтоб Павел перед операцией хоть немного поспал. Поэтому, усадив его как можно удобнее и подведя к его ноздрям резиновую трубочку, через которую непрерывно подавали увлажненный кислород, сделали ему укол с двойной дозой морфия. Вообще-то мы неохотно прибегали к такому. Ведь больной может уснуть крепко и резко ослабить дыхание, а от этого кислородное голодание становится резче…
Но надо же человеку перед операцией поспать! И перед введением морфия приставили к Павлуше санитарку, чтобы не спускала с него глаз.
Хотя подобных операций я не только никогда не делал, но и не видел, как их делают другие, вся она от начала до конца стояла перед моим мысленным взором. Когда вошел в операционную, Патранин уже сидел на столе, слегка откинувшись назад и склонив голову набок. Бочкообразная, раздутая грудь его была обнажена и обработана. Он дышал подведенным к нему кислородом…
Начали.
Кровь у больного темная, густая. Это тоже признак тяжелого кислородного голодания тканей… Когда обнажили и удалили хрящи ребер и перед нами предстало сердце, мы поразились: оно было намертво замуровано в известковый панцирь! При постукивании по нему инструментом раздавался звук, как от удара по булыжнику. И не было заметно, чтоб сердце билось. Лишь в одном месте его верхушка, высовываясь из панциря, слабо трепетала…
Как отделить этот панцирь от живой ткани сердца, чтобы не повредить ее, не поранить? Нож скользит по перикарду, как по камню… Выбрал одно место, где нет кальциноза, тонкой иглой ввел новокаин, стараясь попасть точно в слой между сердцем и перикардом. Этим самым отделил один слой от другого, а затем осторожно рассек толстую стенку оболочки сердца. Под ней показалась белесоватая ткань мышцы. Тупо стал отделять перикард и рассекать его… Местами известковые бляшки буквально вросли в мышцу сердца… Оставлять ли их? И как глубоко они уходят в толщу сердечной мышцы? Иные поддаются, другие же, видно, только тронь – заденешь полость сердца, вскроешь ее. Поэтому кое-где пришлось оставить эти известковые пластинки.
Подошли к правому ушку… Стенка у него тончайшая, а к перикарду приросла так, что ничем не оторвать. Как ни старался, все же не рассчитал и надсек стенку предсердия. Сразу же по всему операционному полю – темная кровь!
Нежно прижал пальцем кровоточащее место так, чтобы случайно не расширить полученную рану. Я понимал, что значит для такого больного дополнительная потеря крови. Наложил шов и, пришив стенку предсердия к перикарду, тем самым закрыл источник кровотечения. С этим справился… Но основная задача – отделить перикард – не стала легче. В напряженном волнении, все время боясь, как бы не нанести сердцу новую рану, я методично шел к цели.
Когда отсек лоскуты перикарда, сердце на наших главах расправилось, забилось. Годами зажатое в каменном мешке, оно вдруг почувствовало свободу, налилось кровью, стало биться энергично и во всю силу!
Около трех часов прошло уже с начала операции. Несколько раз прерывали ее, чтобы поднять у больного давление. Он уже не отвечал нам – сидел в забытьи; ему переливали кровь, вводили сердечные и противоболевые растворы… Потерпи, Павлуша, выдержи, дорогой! Только выдержи! Твое сердце получило то, в чем оно так нуждалось!.. Но вот что плохо: оно долго бездействовало, и мышца его истончена до предела, видно, как на наших глазах сердце расширяется… Оно растягивается под напором хлынувшей в него крови, которая до этого застаивалась в таких резервуарах, как печень! Теперь сердце перегоняет кровь через освобожденные от сдавливания сосуды, оно работает ритмично и свободно. Однако справится ли с такой нарастающей нагрузкой? Не наступит ли перерастяжение полостей сердца? Чем и как помочь ему?
Многое было для нас неясным. Вот и это: следует ли переливать больному кровь? Казалось бы, нужно – для борьбы с шоком. Но вливая кровь в сосудистое русло, и без того переполненное кровью, мы увеличиваем ее застой и дополнительно перегружаем сердце! Но как бороться с шоком, если нельзя переливать кровь? На этот вопрос ответа в медицинской литературе не было.
Все мы – ассистенты Лидия Ивановна Краснощекова, Лидия Антоновна Самойлова и я – буквально на ходу искали решение. Сошлись во мнении, что кровь все же переливать надо, но очень малыми дозами, медленно, капельно, чтобы этим самым свести перегрузку сердца на нет…
Павла Патранина сняли с операционного стола в полубессознательном состоянии, с частым нитевидным пульсом и низким давлением. Не позволяя себе ни минуты отдохнуть, мы упрямо продолжали борьбу за его жизнь… Дни и ночи буквально не отходили от него. До этого нам представлялось, что стоит лишь освободить сердце от сдавливания, оно, расправившись, работая свободно, быстро справится с декомпенсацией. Жидкость в животе и в плевральных полостях рассосется, печень сократится. Однако предполагаешь одно, а получается другое… Ничего подобного не произошло! Наоборот, жидкости стало накапливаться еще больше, у Павла увеличились отеки на ногах, печень раздулась. Больной буквально плавал в собственной жидкости, вместе с которой он терял белки, витамины, соли, содержащиеся в крови и тканях! Было от чего пребывать в тревоге, над чем поломать голову.
В этот ответственный для больного (и для клиники) момент меня срочно вызвали в Москву – предстояла заграничная командировка. Ох, как некстати это было! Подробно проинструктировав сотрудников, как продолжать лечение Павла, я уехал из Ленинграда с беспокойством на сердце. А вернулся из командировки… лишь через два месяца. Сразу же, как только очутился в родном городе, поспешил в клинику. Был вечер.
Захожу в палату, где лежал Патранин. Там, на его койке, уже другой больной. С внутренним страхом, боясь услышать тяжелую весть, спрашиваю дежурного врача:
– А где же Патранин?
– Больной выписался и уехал домой, – бесстрастно и сухо, как и бывает при докладе, ответил врач.
– Как это выписался? Он – что, был совершенно в безнадежном состоянии?
Мы иногда выписываем больного по просьбе родственников, если видим, что все наши средства лечения бесполезны и ему лучше последние дни провести в семье.
– Нет, он вроде бы хорошо себя чувствовал. Но, впрочем, Федор Григорьевич, это не мой больной, и я точно сказать не могу…
Наутро мне сообщили, что Павел Патранин за полтора месяца окреп, ни на что не жаловался и был выписан домой по его настойчивой просьбе. Я очень был недоволен самостоятельностью своих помощников, считая, что отпустить из клиники такого тяжелого больного было легкомысленно; тревожась за его судьбу, тут же написал ему открытку с просьбой сообщить, как себя чувствует, и если плохо, пусть приезжает в клинику немедленно.
Ждал два месяца – никакого ответа! Вновь, в еще большей тревоге, запросил больного. И опять молчание. Для меня стало совершенно ясно, что Павла выпустили недопустимо рано и он погиб от сердечной недостаточности. И вдруг получаем письмо из Бугульмы. На конверте адрес Павла Патранина! Он писал: «Вы извините, Федор Григорьевич, что я не сразу ответил на Ваши письма. Дело в том, что меня дома не было, а мать неграмотная, не поняла, что к чему. Я два месяца работал на лесоповале, валил деревья, а потом еще неделю задержался, получив разрешение изготовить сруб для собственной избы. Наша старая обветшала. Сообщаю, что чувствую себя хорошо, отеков нет, одышки как не бывало. Я теперь свободно могу не только ходить, но и бегать так, что меня на машине не догонишь!..»
Через год Павел уже сообщал нам, что переменил профессию – теперь он каменщик! А еще через полгода: что «заимел себе молодую веселую жену», выучился играть на баяне, танцует, работает на стройке, ни на что не жалуется. Затем Павел приехал в клинику показаться. Это был совершенно другой человек, непохожий на прежнего Патранина! Бодрый, жизнерадостный, он все время шутил, рассказывал нам смешные истории, и чувствовалось, какая у него неуемная жадность к жизни…
Способ операции, который мы применили у Патранина и которым в то время пользовались почти все хирурги, делавшие подобные операции, нас не удовлетворял. Иссеченные хрящи ребер не вырастали, а сердце оказывалось прикрытым только кожей. Нечаянный удар в грудь, и может наступить остановка сердца. Больные устраивали себе прикрытие из металлического или пластмассового каркасов, но все же это их тяготило и хирургов, понятно, не удовлетворяло. Вот почему после первых же удачных операций при слипчивом перикардите я стал думать о том, как бы сохранить грудную клетку. Как всегда, много читал, работал в анатомичке. Долго не получалось: или травма была очень большой, или неудобный подход, или операция выходила не радикально. Наконец мне удалось отработать оригинальный разрез, при котором образовывалась как бы форточка из ребер. На время операции форточку открывали, а затем ставили створку на место и подшивали. Все в эксперименте получалось хорошо. Но как будет в жизни?
Только через полгода после Патранина, 12 июня 1953 года я взял на операцию Мишу Скоробогатова с таким же заболеванием и осуществил первую операцию по своей методике. Было немало волнений и сомнений. Но все кончилось хорошо. Миша поправился, у него над сердцем никакого дефекта не стало. Хорошее впечатление об этой операции было позднее подкреплено отдаленными результатами, которые оказались лучше, чем при другом методе. Широко применяя свой способ доступа к сердцу, преимущественно у самых тяжелых больных, и сравнивая его с другими разрезами, я окончательно убедился, что он выгодно отличается от прочих еще и тем, что менее травматичен, больные переносят его легче, смертность при нем меньше. Об этом свидетельствовали и отдаленные результаты.
Получив приглашение поехать в Индию, на Объединенный Всеиндийский конгресс хирургов и анестезиологов, я решил выступить там с докладом на эту тему. Ведь в Индии слипчивый перикардит наблюдается чаще, чем у нас, особенно туберкулезного происхождения.
В то же время анестезиологическая служба и операционная техника там не везде достаточно хорошие, поэтому вопрос о щадящей методике операции должен вызвать интерес…
Индия встретила синим-синим небом, удивительным многоцветьем красок и голосов, тем ярким сплавом восточной экзотики, которая мыслима только здесь, где тесно переплелись нестареющая древность и неоновые огни, и скорости нынешнего века… Впрочем, если писать о природных, исторических и социально-экономических контрастах этой страны или более или менее подробно рассказывать о всех заморских землях, где довелось побывать, понадобится отдельный том. Возможно, такая книга получится интересной (ведь каждый из нас видит мир по-своему!) и я когда-нибудь ее напишу, но сейчас вынужден остановиться лишь на деловой части поездки.
Мой доклад, как и ожидалось, вызвал оживленный обмен мнениями. Давая в своих выступлениях высокую оценку нашему методу, многие хирурги выражали желание посмотреть его в ходе операции.
Из Джайпура, где проходил конгресс, мы приехали в Дели. Здесь по предложению президента конгресса профессора С.-К. Сена смогли осмотреть госпиталь для бедных, имеющий большое хирургическое отделение. В госпитале, показывая больных, профессор Сен обратил мое внимание на подростка лет пятнадцати по имени Келаш, у которого была типичная картина слипчивого перикардита.
Этот мальчик был сыном строительного рабочего. Большая семья, в которой, кроме него, старшего, имелось еще шестеро детей мал мала меньше, жила впроголодь. У них не было не только своей хижины, но даже какого-то определенного места жительства. Жили там, где отцу удавалось наняться на работу, ночуя то под открытым небом, то в какой-нибудь времянке, сооруженной из кусков фанеры, картона и кусочков жести от консервных банок. В лучшие времена отец зарабатывал по сорок-пятьдесят рупий в месяц. Это мизерные деньги. Достаточно сказать, что номер в гостинице стоит сорок-пятьдесят рупий в день! Отец же Келаша в иные дни совсем не находил работы, и тогда у семьи подолгу не бывало даже горстки риса. В перенаселенной Индии найти себе постоянно оплачиваемое занятие, когда не имеешь твердой профессии, задача нелегкая…
Как-то, когда ему было лет двенадцать, Келаш сильно продрог в дождливую ночь и наутро не смог подняться с земли, на которой спал. Несколько недель с высокой температурой, впадая в бессознательное состояние, провел он на мостовой. Отец и мать были в отчаянии: ни работы, ни еды, ни теплой одежды, ни крова над головой… Все же мальчик пришел в себя, но у него болело в груди, была страшная слабость, он не в силах был ходить. Мать дежурила у дверей госпиталя для бедных, умоляя докторов принять сына, однако госпиталь был переполнен до отказа, и больные дожидались своей очереди по нескольку месяцев. В конце концов его приняли в терапевтическое отделение, стали обследовать и лечить. Диагноз для врачей был неясен. У мальчика, кроме всего другого, нарастала одышка при малейшей физической нагрузке… Но как только Келашу стало чуть лучше, он окреп немного, его срочно выписали из госпиталя. Койка нужна была другому, более тяжелому больному. И мальчик снова пришел под фанерный навес на окраине Дели… Родители тяжело переживали его болезнь: их старший сын, на близкую помощь которого надеялись, стал обузой. Он теперь не мог даже бегать по городу в поисках какого-нибудь приработка, не в состоянии был за мелкую монету поднести чей-нибудь чемодан, корзину с рыночными покупками или выполнять обязанности быстрого курьера. Келаш задыхался, ноги переставлял так, словно на них висели пудовые вериги…
А болезнь месяц от месяца прогрессировала. Стал увеличиваться живот, в нем скапливалась жидкость, затрудняя и без того тяжелое дыхание больного. Несколько раз, когда мальчик буквально погибал от удушья, мать подводила его к госпиталю, и они сидели у ворот многие часы, а иногда и дни, пока врач, который уже знал Келаша, сжалившись над ним, не брал подростка на несколько дней в отделение. Здесь ему откачивали жидкость, лечили, как могли, подкармливали… И так прошло четыре года, мучительных для самого Келаша и для его семьи.
И вот этого мальчика, который и двух шагов не мог пройти, хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, я должен был оперировать.
Когда я, посмотрев снимки, согласился с диагнозом слипчивого перикардита, профессор Сен, обращаясь ко мне, сказал:
– Мы в восхищении от вашего доклада на конгрессе и были бы очень признательны, если бы вы оказали нам честь продемонстрировать в нашем госпитале свой метод операции при слипчивом перикардите. Мы сознаем, что болезнь мальчика запущена, тяжела для хирурга, но в своем докладе вы специально подчеркивали, что свой метод применяли именно у таких, трудных больных… Нам было бы очень полезно поучиться вашей методике, вашей технике, про которую знаем из прессы, из медицинских журналов. Поучившись у вас, мы, возможно, повторим эту операцию самостоятельно, она положит начало новому направлению в работе госпиталя…
Я понимал, что, соглашаясь на операцию, которую хотят видеть крупнейшие хирурги Индии, беру на себя громадную ответственность: ведь этим самым буду бороться не только за личный престиж, но и за престиж всей отечественной хирургии. Тут, в Индии, профессор Углов прежде всего представитель советской медицины. Вольно-невольно по моему умению станут судить, на что она способна… А условия, в которых предстоит работать, сплошная загадка. Мне не знаком ни один из здешних хирургов. Не знаю, как они оперируют и как будут ассистировать. Не знаю операционной сестры: как она подает инструмент, понимает ли по-английски? Да и вообще, каков здесь инструментарий, наркоз и так далее; наконец, достаточно ли надежно организован в этом госпитале послеоперационный уход за тяжелыми больными, сумеют ли они выходить этого мальчика после такой травматичной операции?
А отказаться от операции, поддавшись своим сомнениям, было бы, по крайней мере, странно, произвело бы, разумеется, плохое впечатление. Ведь многие известные хирурги, в частности Де Бэки из США, уже проводили тут показательные операции… Так что взялся за гуж – не говори, что не дюж…
После обхода госпиталя меня отвезли в гостиницу, где на какое-то время можно было остаться одному и продумать предстоящую операцию. Она не смущала меня, я их уже делал немало. Не смущало и то, что за моими действиями будут наблюдать индийские коллеги. Не раз приходилось демонстрировать те или иные операции перед лучшими хирургами зарубежных государств. Накануне отъезда в Индию смотрели, как я работаю в операционной, гости нашего Всесоюзного съезда хирургов, и в их числе югославский академик Костич, профессор Хусфельд из Дании, виднейшие американские хирурги Свен и Де Бэки, канадец Бигелоу, профессор Балиго из Бомбейского университета и профессор Давидар из Александрийского… Об этом писали наши газеты, и одна из статей, помню, называлась «Аплодисменты в операционной» – о том, как «двенадцать американцев, датчанин, югослав, индус», лучшие хирурги мира, не выдержав, нарушили священную тишину операционной аплодисментами, восхищенные тем, как я провел операцию на сердце.
Я вышел побродить по улицам. Гостиница находилась в Новом Дели, где каждый дом представлял собой как бы небольшое поместье, защищенное от любопытных взглядов живой изгородью из деревьев. Живописные, причудливой архитектуры особняки… В этой части города, которая по площади занимает приблизительно его половину, проживает только двести тысяч состоятельных людей, в то время как в Старом Дели – не один миллион жителей разных сословий.
И когда я достиг районов Старого Дели, меня поразила страшная скученность жилищ и теснота на улицах. По обеим сторонам главных из них – торговых – шли сплошными рядами мелкие магазины и лавочки, в которых чем только не торговали, начиная от золототканой парчи и кончая ржавыми гвоздями! От большой улицы разбегались то вниз, то в гору улочки мелкие, узкие, такие, что по ним не только на автомобиле – на тележке рикши не проедешь. А вдоль домов тянулась канавка с грязной и смрадной водой – в нее сливали отбросы прямо из дверей и окон… Сновали люди, меж ними спокойно бродили коровы, собаки, кошки. Душно, много нищих, на всем печать бедности и нужды. Невольно думалось, какие громадные усилия понадобятся этому трудолюбивому народу и правительству Индии, чтобы поднять в стране уровень жизни, дать всем трудящимся вдоволь хлеба, обеспечить каждого надежной работой, предоставить молодежи возможность учиться… А пока чуть ли не у половины населения такая же горькая или чуть получше судьба, как у подростка Келаша, которого мне предстоит завтра оперировать.
Завтра, завтра…
Наутро за мной заехал ассистент профессора Сена и привез в госпиталь. Здесь провели в большую комнату, где находилось много народу. В основном это были, наверно, врачи, но сновали люди и без халатов, похоже, не из врачебного персонала. Причем комната выходила прямо в длинный коридор, где тоже прохаживались и стояли группками многочисленные люди – больные, родственники, служители. К моему удивлению, переодеваться в больничное белье пришлось прямо в этой комнате.
Готовясь сейчас к операции, я мысленно представлял себе весь ее ход и возможные осложнения. Для опытного хирурга операция не страшна. Страшны они, осложнения!
И по тому, как он справится с ними, можно определить уровень хирургического мастерства. Ясно, что для оперирующего любое осложнение как экзамен, а держать его, когда на тебя смотрят тридцать пар глаз, отлично понимающих каждое твое движение, вдвойне ответственно.
Стараясь отвлечься от этих дум, я прислушался к разговорам вокруг.
– Русский у нас, этого еще не бывало! – говорил бородатый хирург в чалме и с плотно прижатой к лицу повязкой, указывающими на принадлежность к какой-то религиозной общине. – Я впервые вижу русского…
– А слышал его доклад на конгрессе? – спросил другой, одетый в европейское платье.
– Нет. Я не был в Джайпуре, выезжал в свою деревню, к больному отцу. О докладе читал в газете…
– Этот русский профессор предложил любопытную методику операции при слипчивом перикардите. Главное, что он сохраняет ненарушенной грудную стенку. Доклад докладом, но посмотрим!
– О русских пишут разное, – пробормотал тот, что был в чалме. – Однако они большой народ…
Он, кажется, понял, что я слышу и понимаю их английскую речь. Легким наклоном головы как бы поприветствовал меня и, увлекая за собой собеседника, прошел в операционную. И она, когда я появился там, была заполнена до предела: хирурги стояли вокруг стола в четыре-пять рядов. Кое-кто взобрался на скамьи и табуреты.
Операционная бригада, состоявшая из двух хирургов, операционной сестры и наркотизатора, напряженно ожидала начала…
Больной был усыплен, операционное поле подготовлено. Через слой нанесенного антисептического раствора проглядывал рисунок предстоящего разреза, намеченный мною в госпитале при первом знакомстве с Келашем.
Все почтительно расступились, и я занял свое место у операционного стола. Осмотрел инструментальный столик: инструменты, отобранные мною накануне, лежали в нужном порядке. Обменялся первыми фразами с хирургами. Они и наркотизатор говорили по-английски, сестра только на языке хинди. Чтобы дать ей распоряжение, я должен был говорить по-английски, а один из врачей тут же переводил. И наоборот, когда ей необходимо было что-нибудь сказать мне… Положение затруднялось тем, что названия далеко не всех инструментов я знал по-английски. К счастью, скоро почувствовал, что мои ассистенты были опытными специалистами: они с полуслова понимали меня и тут же дублировали мои распоряжения на хинди. Сестра выполняла все быстро и точно.
…Сделал кожный надрез. Брызнула темноватая кровь, обычная при плохом кислородном снабжении организма… Кровотечение следовало остановить тут же быстро и тщательно: еще до начала операции меня вежливо предупредили, что госпиталь не обладает большим запасом крови, желательно, чтобы операция проходила с ее минимальной потерей. Понятно, от этого и эффективность метода будет оцениваться выше…
Откинув кожно-мышечный лоскут, обнажил ребра и грудину слева. Предстояло выкроить из них створку… Сердце, открывшееся нашим взглядам, казалось неподвижным – его биение совершенно не замечалось. Захватив стенку перикарда двумя крепкими зажимами, я начал его рассекать. Легкими скользящими движениями проникал все глубже и глубже… 3… 5… 7 миллиметров толщины – и как будто нет этому конца…
– Я думаю, что это уже мышца сердца, – неуверенно и со страхом сказал первый ассистент.
– Нет. Еще не мышца, – ответил я и продолжал идти ножом вглубь.
Вот наконец показался тонкий слой клетчатки… А за ней и мышца сердца. Ввожу шприцем под перикард новокаин. Этим достигается его лучшая отслойка…
Ощущение такое, что весь стиснут чужими взглядами и чужим дыханием вокруг себя. Жарко… Внимание напряжено, как тугая звонкая струна, не оборваться бы ей внутри меня!.. Подхожу к крупным сосудам. Они сдавлены плотным фиброзным кольцом, словно удавкой. Показав его наблюдавшим врачам, пересекаю. Края кольца тут же расходятся в стороны, освобождая сосуды, и те, наполняясь кровью, начинают свободно пульсировать.
– Если вы удалите большую часть перикарда, но не освободите сосуды, вы не получите хороших результатов! – пояснил я наблюдавшим врачам. И добавил: – Это очень важная часть операции!
Хирурги проявили к этому моменту живейший интерес: заглядывали в рану и тихо, но возбужденно переговаривались между собой. Сердце теперь лежало полностью освобожденным от своих оков. Оно билось ровно и спокойно. Видно было, как хорошо сокращается его мускулатура.
– Как венозное давление? – спросил я наркотизатора.
– Оно все время медленно снижалось, – ответил тот. – Но как только вы пересекли фиброзное кольцо, спустилось до нормы. Сейчас оно – сто двадцать. А было более четырехсот.
– Не всегда мы получаем такой результат немедленно. Но этого пугаться не надо, – объяснил я. – Если вы освободите все части сердца, как это только что сделал я, давление снизится обязательно. Если не сразу, то постепенно. Но результат в любом случае будет хороший.
Взяв откинутую реберно-хрящевую створку, я закрыл ею обнаженное сердце, аккуратно прикрепив на своем месте отсеченные и временно откинутые ткани.
С неослабной сосредоточенностью следили индийские хирурги за каждым моим движением. Много раз, помимо меня, спрашивали они наркотизатора о состоянии больного. Оно оставалось стабильным, что красноречиво доказывало: операция не травматична и больной ее переносит нормально…
Когда она закончилась, хирурги подходили ко мне, пожимали руки, выражали удовлетворение виденным. Теплые слова, сердечные улыбки!
А на следующий день ассистент профессора Сена снова появился у меня в номере, и мы поехали в госпиталь, чтобы навестить Келаша. Он чувствовал себя хорошо, и как сказал мне ассистент, говоривший с мальчиком на хинди, тот уже замечает, что дышать ему стало легче… Откуда-то прибежали бойкие, как и в любой другой стране, корреспонденты индийских газет и стали настойчиво требовать, чтобы я дал интервью. Я ответил, что смогу поговорить с ними только через несколько дней, когда пройдет первый период выздоровления и мальчик будет вне опасности.
Через день мы выехали в Бомбей, куда меня пригласил профессор Балиго – крупный индийский хирург, председатель Общества индийско-советской дружбы. Там по просьбе хозяина я провел еще две операции: одну сделал девушке семнадцати лет при слипчивом перикардите туберкулезной этиологии, другую – удаление двух долей правого легкого при бронхоэктазах – молодому индусу.
В Бомбее, к нашей общей радости, встретились с профессором Де Бэки, который также провел тут показательную операцию – на аорте…
Я вернулся в Дели через восемь дней. К этому времени Келаш совсем поправился и свободно, без одышки, уже ходил по палате и коридорам госпиталя. Рана зажила первичным натяжением, асцит исчез, общее состояние улучшилось настолько, что мальчик считал себя совсем здоровым – улыбка не сходила с его лица.
Снова дежурившие в госпитале репортеры поймали меня, пришлось отвечать на их вопросы. Получилось что-то вроде пресс-конференции. После моего короткого сообщения по существу сделанной операции, о ее показаниях и особенностях мне было задано много вопросов, на которые я постарался ответить исчерпывающе. А на следующий день улетел на родину.
В Москве представитель МИДа, разыскав меня, вручил многочисленные вырезки из индийских газет – больше десятка, в которых рассказывалось о проведенной операции и о том, какое впечатление произвел на индийских врачей и журналистов русский хирург…
Газета «Статсман» под заголовком «Безопасные операции на сердце. Демонстрация техники советского хирурга» сообщала своим читателям, что новая техника операции при сдавливающем перикардите, разработанная профессором из России, «…уменьшает смертность в четыре раза по сравнению с другими радикальными методами…» А «Дели Индустан стандарт» озаглавила свой материал тоже подобным образом: «Операция на сердце – без риска». В «Таймс оф Индия» была помещена статья «Советский доктор разработал новый метод сердечной хирургии». В статье из газеты «Индиан экспресс» под названием «Русский эксперт объясняет новый метод сердечной хирургии», в частности, говорилось: «На вопрос, могут ли индийские хирурги применить этот метод при операции на сердце, профессор Углов сказал, что госпитали Индии имеют для этою все необходимое и хурурги могут легко предпринять подобные операции без какого-нибудь специального оборудования. Метод может стать популярным в Индии, так как это заболевание широко распространено в стране…» Большой обзор «О слипчивом перикардите» с моим портретом поместил журнал «Линк», подчеркнувший громадную пользу для индийской медицины «метода, предложенного русскими»…
Нужно, наверно, сказать, что снова в Индии я побывал уже в 1968 году, когда выдвинутый мною метод хирургического лечения слипчивого перикардита прошел долголетнее испытание временем, заслужил всеобщее признание. Собственный полученный опыт нашел отражение еще в 1962 году в специальной монографии, написанной в соавторстве с М. А. Самойловой.
И конечно, как только я опять ступил на землю Индии, тут же спросил профессора Сена: знает ли он что-нибудь о судьбе Келаша?
Профессор ответил, что молодой человек (восемь лет минуло!) чувствует себя хорошо, работает с отцом на стройке где-то в окрестностях Дели, его постараются разыскать.
Келаша нашли, и я увидел рослого, мускулистого парня с тяжелыми, рабочими руками и открытым, приветливым лицом. Лишь след от операции на груди – единственное, что напоминало ему о мучительных днях детства… При прощании он долго не выпускал моей ладони из своей, взволнованно говорил трудно дающиеся ему английские фразы, и не было сомнения, что он старается вложить в них самые глубокие чувства своего освобожденного сердца…
Глава XIX
Человеческое сердце… Его воспевали с древнейших времен лучшие поэты мира, оно стало символом неувядающей жизни, ее радостей и тревог.
На память приходят строки:
Ты острый нож безжалостно вонзал В открытое для счастья сердце.«В открытое для счастья…» И если даже отвлечься от символики искусства, профессионально, по-врачебному взглянуть на сердце как на важнейший орган человеческого организма, бесспорность этой фразы не нужно будет доказывать. Сердце у нас для счастья, именно благодаря ему мы – это мы: ходим, дышим, мыслим, существуем в конечном счете! Как это здорово – жить на белом свете! Стоит сердцу нашему нарушить четкую работу, и мир для нас опрокинут и смят…
Сердце определяет активность человека. Ему, маленькому, неутомимому и чуткому труженику, до всего есть дело.
Знаток наших языковых богатств Владимир Иванович Даль в своем «Толковом словаре» объясняет, что сердце – «представитель любви, воли, страсти, нравственного, духовного начала…».
Недаром же про отзывчивого, внимательного человека говорят: «Доброе сердце!» А про бесчувственного – «жестокосердый». При страхе – «сердце сжалось, екнуло»; справилось со страхом – «от сердца отлегло»; грустно – «сердце ноет»; взяли верх страсти – «сердце не стерпело»; нас растрогали – «сердце растаяло»…
Наш язык этим самым отразил и закрепил великую деятельность и великое значение сердца в человеческой жизни. Ничто – ни события, ни сказанное слово – не проходит мимо него!
И как же невыносимо тягостно становится человеку, когда он вдруг ощущает: его сердце отказывается работать. Тут физические страдания безмерно утяжеляются угнетенностью, если допустимо так сказать, души… Прикованность к постели, страх перед будущим – и так месяцы, годы… А сознание ясное, желания те же – жить, как все, работать, радоваться, быть полезным своим близким, обществу.
Лежишь, а впереди никакого просвета… Операция? Врачи отказываются. Если бы они согласились!
И это – «если бы…» – я читаю в глазах тех, кто лежит сейчас в палате, тревожно и выжидательно смотрит на меня. Палата женская, на восемнадцать коек. Восемнадцать страдалиц, которые уже разуверились в том, что им могут помочь. Всюду – в больницах больших городов, в известных клиниках, на которые они надеялись, был один и тот же ответ: возвращайтесь домой, берегите себя, операция не показана…
Идет обход. Вот на койке больная из Ленинграда. У нее большая печень, асцит, синие губы. Разве можно такую оперировать?! Ординатор докладывает данные анализов. Слушаю. Сомневаться не приходится: чистый митральный стеноз. Операция как таковая возможна, однако ее не проведешь из-за крайне слабого общего состояния больной. Говорю:
– Вам надо еще полечиться, окрепнуть. А главное, спокойно полежать… Долго… Несколько месяцев.
– Но если я выполню все ваши предписания, сделаете мне операцию? Вы не откажетесь от меня?!
Голос вот-вот сорвется на рыдающий крик…
– Нет, не откажусь. Как только исчезнет жидкость в животе, уменьшится печень, приходите. Будем оперировать.
Больная из Иркутска. Она лежит у нас уже месяца два. Условно готовится нами к операции. Если выйдет, конечно, из тяжелого состояния… Впервые сегодня с удовлетворением отмечаю, что ей лучше. Асцит уменьшился, синюшность тоже. Однако она еще тяжела.
Но все ж, пожалуй, можно рискнуть. Говорю Лидии Ивановне: «Готовьте к операции! Через неделю будем оперировать».
У женщины на бледном лице такое счастье, будто ее одарили чем-то необыкновенным. Радуются за нее другие женщины в палате – тут все давно перезнакомились, знают друг о друге все… А я в тысячный, наверно, раз думаю, как желанна и неистребима тяга к выздоровлению: сказал, что станем оперировать, и это воспринимается больной как счастье. А ведь она приговорена моим решением к огромному риску. По существу, подвергается смертельной опасности! И ликует. Много лет пребывавшая вот в таком ужасном для нее положении, она надеется, что операция возвратит ей все, что было отнято болезнью. О том, что во время операции может случиться трагичное, она не хочет думать. Человек жив надеждой…
Подходим к больной из Риги. Эта у нас полтора месяца, и сдвигов в лучшую сторону нет. Асцит небольшой, но одышка, синюшность. Стараюсь говорить как можно мягче:
– Мы решили, что операция вам не показана. Полечим еще терапевтически, а потом поедете к себе в Ригу, продолжите лечение.
В палате тишина, которая вот-вот взорвется… И горькие рыдания больной, всхлипывания уткнувшейся в подушку ее соседки.
Сажусь на край кровати. Начинаю уговаривать. Женщина перестает плакать, отвечает мне прерывающимся голосом, и я слышу то, что приходится выслушивать чуть ли не от каждого безнадежного больного: «Лучше смерть, чем такая жизнь, как у меня сейчас… Я так жить не хочу… И не могу… Я не поеду домой… Если вы меня выпишете, брошусь из окна вашей клиники… Нет, это не угроза!»
Конечно, я отлично понимаю, что значат слова: «лучше смерть»… Это прием (часто даже бессознательно) используют, чтобы получить согласие хирурга на операцию. На самом деле смерть всегда страшит человека в любом состоянии. И больные, говоря так хирургу, не думают о смерти. Жить, только жить! А хирург, соглашаясь оперировать, тоже думает, что ему удастся сохранить человеку жизнь. Лишь так… Весь вопрос в том, обоснована ли эта надежда?!
Хирург, который больше знает и больше видел, всегда ближе к истине, чем больной, у которого только личные эмоциональные переживания и надежда, зачастую призрачная… Конечно, мы знаем, что бывали и случаи самоубийств безнадежных больных. Но чаще всего кончали жизнь самоубийством люди, страдающие невыносимыми, доводящими до безумия болями и, главное, потерявшие всякую веру в свое излечение… Поэтому мы всегда стараемся сохранить у заболевшего человека луч надежды на будущее, даже когда отказываем в операции, как сейчас.
Тем не менее, как бы больная ни питала надежду на хороший исход при операции, она все равно понимает, что если категорически отказываются ее оперировать, значит, тут действительно риск огромный. И – уже знаю это наверняка – даже сознание такого риска, угроза плохого исхода не отпугивает больных! Потому что на самом деле в теперешнем состоянии жизнь их невыносима, каждый новый день приближает мучительную гибель…
Вот и эта женщина из Риги… Посидел около нее, подумал… Ведь правда, выпишешь, уже ничего не останется для нее в этом мире. А может, и исполнит свою угрозу… Еще раз просматриваю все анализы. Операция, разумеется, если предпринять ее, на грани невозможного. Разум подсказывает: «Нельзя…» – а сердце заставляет: «Соглашайся…»
– Хорошо, – говорю, – будем оперировать.
И в палате – улыбки. Словно солнце заглянуло сюда…
Кстати, с этой больной через год у нас произошла такая встреча: по просьбе профессора П. И. Страдыня я ехал в Ригу делать доклад о хирургическом лечении пороков сердца. Дело это новое, мало кто к тому времени проводил подобные операции. Результат не во всех случаях блестящий, и терапевты, которые также были приглашены на доклад, я знал, выражали довольно упорный скептицизм. Поэтому я решил на докладе продемонстрировать эту больную, прооперированную за год до того, и которая к этому времени должна была уже окрепнуть.
Я написал ей письмо и попросил перед докладом показаться мне. Устроившись в гостинице, я вышел в вестибюль, и вдруг молодая, интересная, красиво одетая женщина бросилась ко мне и на глазах у всех обняла, обливаясь слезами радости. Оказалось, что это моя больная.
На конференции врачей она рассказала, что до операции в течение пяти лет не могла от кровати до кухни дойти без длительного отдыха. А сейчас может бегать, танцевать, выполнять любую работу…
Я иду к себе в кабинет. Здесь на столе – утренняя почта, и среди других писем такие, что словно бы продолжают только что закончившийся разговор в палате.
«…Очень прошу сделать мне операцию на сердце. Я обращалась во многие клиники, но мне везде было отказано по тем причинам, что они такой операции не делали. Пусть это Вас не останавливает. Не важно, что Вы тоже такой операции не делали. Сделайте ее первый раз на мне. Пусть будет неблагоприятный исход, но Вы на мне научитесь и сможете оказать помощь другому, такому же, как я, несчастному человеку!» (Г. К. Ж-ва, г. Черемхово).
«Вы не представляете себе, как это мучительно всегда чувствовать, что ты задыхаешься… Что все время нарастает ощущение, как будто петля сжимается на шее… Медленно, но упорно… Все туже и туже… И нет никакого спасения… Впереди только смерть…» (С. К-ян, г. Сухуми).
«…Я понимаю, что Вы не можете гарантировать мне жизнь. Но я умоляю: оперируйте! Еще полгода-год, и я перестану бороться. Сил никаких нет» (3. Б-н, г. Чехов, Московская обл.).
Из болезней сердца митральный стеноз особенно мучителен. При нем получается срастание створок клапана и сужение отверстия между левым предсердием и желудочком. Из-за этого кровь застаивается в легких, а в левый желудочек и в аорту ее поступает меньше, чем нужно. Одышка давит человека даже в покое, а при малейшем напряжении она уже непереносима, быстро появляются отеки, жидкость в животе… Больные оказываются прикованными к постели на месяцы и годы.
Приведу письмо, которое прокомментирую позже, М. Г. Дукач из г. Марганца. Майя Григорьевна и поныне живет там на улице Кутузова, работает в домоуправлении горкомхоза.
Это письмо она прислала в клинику нашей операционной сестре, и я ссылаюсь на него здесь с согласия обеих женщин.
«…Мне вернули жизнь, на которую я уже не рассчитывала, дали возможность ходить, свободно дышать и радоваться. А какое это счастье свободно дышать! Я не в силах высказать всей своей благодарности, всех чувств, владеющих сейчас мною. Ведь слова очень бедны по сравнению с тем, что чувствуешь душой! Очень благодарю за возвращение меня в семью.
Коротко напишу о себе и о своей болезни. Быть может, Вы прочитаете это мое письмо в палате для таких же больных, какой была я, и оно настроит их на надежду…
Выросла я в семье рабочего. В 1941 году отец ушел на фронт и не вернулся. Мать осталась с пятью детьми и всех воспитала. В 17 лет, в год окончания 10-го класса, я заболела вирусным гриппом. С этого и начались мои страдания.
Когда через три года вышла замуж и у меня была беременность в 4,5 месяца, я попала в инфекционное отделение с гриппом, так как он принял хроническое течение (у больной, возможно, был ревматизм, но его трактовали как грипп), и врач в первый раз сказал мне: «Когда это вы успели получить такой порок?» Я была очень расстроена. Мне запретили рожать, но я врачей не послушала: очень хотела ребенка и была еще глупа, не знала той опасности, которая ждет меня. Вернее, я знала, но не хотела о ней думать. В 1958 году родился сын – 4 кг 100 г. Я лежала в больнице почти два месяца. После родов у меня приключилось воспаление легких с экссудативным плевритом. И только благодаря врачам Максимович Г. Б., Билюнасу В. И., Соловьевой В. В. я осталась жива. Эти люди в городской больнице прилагали все свое умение и душу, чтобы спасти меня, и это им удалось. Я им тоже обязана своей жизнью.
В 1960 году, после пребывания в Одессе на курорте, мне стало немного лучше. В то время я уже знала, что делают операции на сердце, и спрашивала врачей, но мне говорили, что операции еще только начали делать, и мне не советовали. А состояние все ухудшалось.
В июле 1962 года у меня был приступ отека легких. Это случилось дома, и мгновенно. У меня появилась рвота, и сразу начали деревенеть руки и ноги! «Скорая помощь» приехала сразу, но ни кислород, ни уколы – ничего не помогало… Меня привезли в больницу, и я пролежала тут два месяца. Состояние здоровья оставалось очень тяжелым, и моя сестра дала телеграмму в Киев. Ей ответили, что больную можно привезти на консультацию, и были указаны дни консультаций. Но сразу я не поехала, потому что не могла, а когда немного поправилась, меня повезли на консультацию. Профессора мы не видели, а его сотрудники в операции отказали, говоря, что операции я не подлежу, что у меня недостаточность кровообращения III степени. В медицине я ничего не понимала, но знаю, что тогда у меня не было асцита и отеков. Именно после Киева я потеряла надежду на свое выздоровление и перестала лечиться. Вот тут и появились сильные отеки. Брат мой заставил меня отослать документы в институт Вишневского, но оттуда я получила ответ, что операции такие только начали делать и результаты мало удовлетворяют наших хирургов. Меня снова отвезли в горбольницу, где я пролежала в очень тяжелом состоянии. Все же доктора Литвинок В. П. и Соловьева В. В. снова приложили все свое умение для того, чтобы выходить меня, и они снова спасли меня от смерти. Но я чувствовала, что это ненадолго.
Вот здесь я и решила написать письмо Федору Григорьевичу Углову. Это была моя последняя надежда. Адреса я не знала и написала просто: Ленинград, исследовательский институт, профессору Углову. Про него я много читала в газетах и журналах, но что попаду в Ленинград, признаюсь, не думала. Ведь мне везде отказывали, и я просто написала, чтобы у меня была какая-нибудь надежда. Но ответ я получила: потребовали выписку, снимки и ЭКГ. А через 20 дней мне пришло письмо, что я подлежу госпитализации и могу приехать. Вы не можете себе представить, какая для меня была это радость! Я считала себя снова спасенной от смерти.
Я обратилась к моему лечащему врачу по месту жительства за направлением, но мне категорически отказали. «Мы ведь вас не посылали туда и направления давать не будем, – сказала врач. – Если вы сами добились, то поезжайте без направления. Мы вас в Киев возили, там вам отказали в операции. В Москву вы посылали свои документы, тоже отказали. А сейчас в Ленинград! Вы, наверное, хотите, чтобы нас сняли с работы?..» Вот такой был неприятный разговор, кончившийся моими слезами.
Направление мне дала в городской больнице врач Соловьева. Ведь только она не соглашалась с диагнозом из Киева и говорила, что у меня стеноз.
И вот мы с мужем поехали в Ленинград. В вагон поезда муж вносил меня на руках, идти я не могла, задыхалась.
В клинике нас в этот же день приняли на консультацию, но в госпитализации отказали. Я ведь за дорогу очень отекла, была страшной, раздувшейся и как старуха лицом. Здесь мне тоже сказали, что «вам операция не показана, у вас асцит».
И снова почва, на которой я держалась, полетела у меня из-под ног. Ведь это была моя последняя надежда, и вдруг и ее потерять! Вот тогда мы с мужем решили во что бы то ни стало увидеть самого Федора Григорьевича, и если он скажет, что мне не показана операция, я поеду домой и буду спокойно ждать смерти. Но у него приемные дни по средам, а мы приехали в пятницу, да к тому же Федор Григорьевич должен был лететь в Москву. Так мне сказали. Я очень опечалилась. Я была почему-то уверена, что мне должны сделать операцию. И нам повезло! Один мужчина, он, по-моему, работал в гардеробе, выдавал одежду, посоветовал мужу, что как Федор Григорьевич будет спускаться по лестнице, пойдет домой, подойти к нему и спросить его…
Так и сделали. Он меня выслушал и сказал, чтобы завтра я пришла к нему в кабинет и он сам меня послушает. Назавтра он принял нас, выслушал внимательно и сказал, что сейчас мне помочь нельзя ничем, потому что у меня асцит, что я должна ехать домой и лечиться. А потом, месяца через три, меня вызовут и сделают операцию. Я спросила: а показана ли мне операция? Он ответил, что мне обязательно надо делать операцию, но сначала надо подлечиться. Этими словами он как будто вылечил меня сразу. На его вопрос, почему раньше не лечилась, я рассказала, куда ездила и что мне везде отказывали.
Тут я стала очень просить, чтобы меня сразу положили в клинику, а потом прооперировали, а то я не доеду домой, такая беспомощная, и профессор согласился. Так я попала в клинику Федора Григорьевича Углова. Меня начали обследовать и лечить, но через 18 дней у меня начался смертельный приступ отека легких, и только благодаря тому, что я была здесь, в клинике, меня спасли. Уехала б отсюда, этого б письма сейчас не писала. Вы, конечно, помните все это. Сначала дежурный врач, а потом срочно приехавший мой лечащий врач, Егиазарян В. Ф., чудом вернули меня уже с того света… И какое-то странное спокойное чувство было у меня: знала, что здесь я не умру. Я очень верила людям Федора Григорьевича, и моя вера не прошла мимо. Через три дня меня взяли на операцию, которая была трудной, но прошла хорошо. Как только я открыла глаза и увидела Федора Григорьевича, я очень обрадовалась. Я знала, что уже буду жить. После операции, конечно, в самом начале было тяжело, но потом все легче и легче. А через год я уже чувствовала себя совсем хорошо. У меня были, правда, обострения, но после лечения опять становилось хорошо.
Снова открыв для себя жизнь, какой она должна быть для человека, я поступила заочно учиться на бухгалтера. Сын мой учится во втором классе. Муж работает шофером и тоже учится. Я так рада, что уже не лежу в больнице по три месяца, как это было до операции! А Федору Григорьевичу, сколько буду жить, столько буду благодарна. Ведь я после того, как должна была умереть, прожила вот уже три года так, как мне хотелось, и надеюсь жить дальше. А мне хотелось, чтобы сын мой подрос и чтобы я смогла свободно дышать и ходить так, как ходят люди, а не ползать. И все мои желания сбылись!»
Я привел это письмо полностью, опустив лишь два-три абзаца, в которых Майя Григорьевна слишком уж восторженно написала обо мне. Привел его, как человеческий документ, искренности и суровой правде которого можно доверять. И еще потому, что оно во многих отношениях поучительно, перекликается с большинством других писем от больных, которые мы получаем сотнями.
Тут в строчках М. Г. Дукач наглядно вырисовывается отношение больной к операции. Ей отвечают из самых авторитетных клиник страны, что «операция не показана», не берутся ее проводить потому, что «результаты мало удовлетворяют… хирургов» (а это значит – очень высокая смертность), однако больная продолжает настойчиво искать того, кто все же согласился бы сделать ей эту операцию! И когда я сказал, что буду ее оперировать, она так обрадовалась, что, по ее признанию, хирург «как будто бы вылечил меня сразу…». Вот она, всесильность надежды у сердечных больных! Можно себе представить, как они страдают, если идут на смертельный риск с такой охотой!
Это письмо характерно и в другом отношении.
Женщина тяжело больна, по существу обречена. И она всюду ищет спасения. Слабо замерцала вера в избавление от недуга: приглашают в далекую клинику. Она хочет ехать туда… Но нет! Ей не дают направления, и кто? Лечащий врач! Идет вопрос о ее жизни, но больная должна выполнять волю того, кто далек от настоящего участия и заботы о ее судьбе! Не чудовищно ли?
У нас в клинике, как, впрочем, я думаю, и в других, существует неписаный закон: всех тяжелых больных, когда они на той самой грани – «или… или…» – полагается показать профессору.
К сожалению, по некоторым причинам, которые порой и объяснить-то невозможно, это правило иногда нарушается. То ли врачи очень уверены в себе, считают, что они не могут ошибаться, и поэтому берутся решать за профессора; то ли они делают это по небрежности, пребывая в каком-то минутном равнодушии.
В письме М. Г. Дукач сжато изложена чуть ли не повесть о печальной судьбе больной женщины… Сколько мытарств, переживаний, слез, отчаяния, пока случайно больная не попала туда, где к ней более внимательно отнеслись и постарались сделать все возможное. И сразу судьба ее резко меняется! И это, конечно, не потому, что она попала именно ко мне, что я лучше других. Нет! Наверно, и у нас в клинике на каком-то этапе изучения подобных больных бывали случаи, когда поспешный отказ убийственно действовал на больного, он шел от нас еще куда-то на поиски другого, более сердобольного, по его мнению, профессора…
А молодые помощники обязаны не ограждать профессора от больных, чья жизнь находится в опасности, а при каждом случае отказа консультироваться со своим наставником. Ведь там, где ассистент видит всю тщетность хирургического вмешательства, опытный хирург может отыскать потаенный, скрытый резерв для проведения опасной, но все же дающей шансы на спасение человека операции…
Но вернемся к разговору о митральном стенозе. Сущность операции при нем заключается в том, что хирург, вырезая отверстие в ушке левого предсердия, вводит в него палец и, нащупав там суженное митральное отверстие, разрывает сращения между створками. Затем он зашивает отверстие в ушке левого предсердия. Кажется, все ясно и просто… Кажется!
К первой такой операции я начал себя готовить задолго до того, как к нам в клинику поступила больная с этим недугом. Читал, ходил в прозекторскую, работал в эксперименте… И все же никак не мог до конца отчетливо представить, как пойдет операция… Больные, которых я видел в терапевтических клиниках, были в крайне тяжелом состоянии. Как можно делать им какую-нибудь операцию? Как вообще можно сердце держать в руке, надрезать его, вводить в него палец и оно не должно остановиться?!
Установили контакты с терапевтической и кардиологической клиниками, чтобы совместно выработать показания к операции. Но пользы это не принесло. Там так же, как и у нас, не знали, каких больных можно оперировать, а каких нельзя. Терапевты советовали нам брать на операцию обреченных больных, тех, у кого уже не оставалось никаких резервов не то что для операции – для жизни. Но мы понимали: это грозит нам поражением.
И все же не устояли, согласились… В клинику была принята женщина лет тридцати пяти с одышкой, синюшностью, большой печенью, водянкой живота. Все свидетельствовало о последней стадии сердечной недостаточности… Забегая вперед, скажу, что таких больных мы не могли оперировать даже позднее, когда кое-чему уже научились и у нас был налажен хороший наркоз. А в то время наркоз у нас никуда не годился, и я думал, что, может быть, под местной анестезией операция будет для больной более безопасной. Так же, как при перикардите…
И сейчас, лишь вспомню ту, нашу самую первую операцию, мне становится стыдно за мои наивные суждения по поводу обезболивания… А готовился к ней, как и обычно, тщательно. Но судя по тому, какую явно неоперабельную больную взялся оперировать, можно понять, что многое в этой операции казалось мне проще, чем предстало на самом деле! Возможно, виною тому два обстоятельства. Первое – мне удалось с успехом прооперировать несколько столь же тяжелых больных при перикардите и я был более самоуверен, чем следовало бы. Второе – в литературе совсем не освещались вопросы показаний, противопоказаний и осложнений во время таких операций…
Короче, взял я больную с митральным стенозом и стал делать ей местную анестезию, а женщина так плоха, что лежать не может – задыхается… Мне бы вовремя одуматься и отложить операцию, а я, придав больной полусидячее положение, продолжал начатое… Вскрыл грудную клетку и подошел к сердцу. Оно большое, но биение его слабое, еле заметное… Врач, сидящий у изголовья больной, с тревогой сообщил: «Давление резко упало, пульс почти не определяется!»
А я и сам по сердцу больной вижу, что у него затухающие сокращения… И как только вскрыл перикард и захватил в отщип ушко, сердце остановилось! Сразу же начал его массировать, хотя сознавал, что при суженном отверстии массаж цели не достигнет… Одной рукой массирую, другой отсекаю верхушку ушка и ввожу палец в предсердие! Впервые мой палец оказался в сердце! Как ориентироваться там, в глубине?! Предсердие большое, палец едва достигает его стенок. Нащупал какое-то отверстие, решил: вот то, что мне надо… Начинаю надавливать на край и понимаю: не то! Это устье одной из легочных вен. Палец продолжает искать митральное отверстие… Вот оно, наконец-то! Диаметром не больше, чем в полсантиметра! А ведь при норме должно быть около четырех сантиметров! Пробую разорвать комиссуры. Оказывается, это нелегко, следует употребить большое усилие, чтобы они поддались. Вот разорвал одну, вторую… Чувствую, что отверстие расширено достаточно…
И в то время, когда палец правой руки работал в сердце, левая продолжала массировать его. А наложив зажим на ушко, я делал массаж уже двумя руками, энергично, упорно, без устали. Сердце молчит! Пропускаем электрический ток. Безрезультатно. Снова, опять ничего…
Более часа оживляли больную, однако работу сердца восстановить не удалось…
Все мы были потрясены этим, и целый год прошел, прежде чем оправились от переживаний того дня, стали думать о новой операции. За этот год я подробно изучил всю доступную литературу по митральному пороку и подверг тщательному анализу свою собственную ошибку. Мне стало ясно, что печальный исход был здесь почти неизбежен, если учесть уровень знаний, с которыми шел на операцию. Тут я, несомненно, находился в плену иллюзий, полагая, что эта операция во многом сходна с теми, что уже делал. Однако в данном случае исключительно трудной была диагностика. И особенно сложно было отличить стеноз от недостаточности митрального клапана!
Когда же встает вопрос о хирургическом лечении, нужно твердо установить, что же тут преобладает? Это весьма важно. Если стеноз, надо делать операцию и рассекать комиссуру. Если недостаточность, больные подлежат терапевтическому лечению, так как в ту пору операции при этом пороке еще не делались…
Но чем больной тяжелее, чем болезнь у него более запущена, тем труднее поставить правильный диагноз! Это стало для нас вскоре проблемой номер один, над которой мы работали очень долго и в решение которой вложили немало усилий, энергии и нервов!
Чтобы точно определить, имеется ли преобладание стеноза, требовалось проникнуть в левое предсердие: измерить там давление и записать кривую его колебаний… Лишь такая запись покажет с большой точностью: надо ли брать больного на операцию? Но как проникнуть?! Таких путей нет. Некоторые хирурги за рубежом и у нас пробовали попасть в просвет левого предсердия длинной иглой через грудную стенку и плевральную полость, минуя легкое, пищевод и нижнюю полую вену. Но этот способ, как постепенно выяснилось, давал очень много осложнений. А вскоре мы узнали, что в некоторых клиниках США испытывается трансбронхиальный метод пункции левого предсердия. У нас в стране его никто не применял.
Сущность его заключалась в том, что больному под местной анестезией или под наркозом вводился бронхоскоп в трахею, и там, у места его отхождения, стенка левого бронха протыкалась, и игла попадала в левое предсердие. Через полую иглу вводился тонкий катетер и с его помощью записывалось и измерялось давление…
Разумеется, это было крупным шагом и большим достижением в вопросах диагностики пороков сердца. Овладев этим методом, совершенствуя его, чтобы был еще безопаснее для больных, мы стали применять его широко. Однако и при нем случались серьезные осложнения.
Однажды вызывают меня в лабораторию. Один из врачей при проведении такого исследования, стараясь попасть в аорту, ввел тонкий катетер слишком глубоко, и катетер внутри сердца завернулся в виде петли, а при подтягивании образовал узел, который никак нельзя было извлечь из сердца!
– Попробуйте подтянуть иглу и катетер вытянуть через стенку бронха без иглы, – охваченный тревогой, посоветовал я.
– Пробовал, но узел не выходит!
Что делать? Идти на операцию и извлекать катетер, специально для этого вскрывая сердце?! Но ведь по данным исследования эта больная операции не подлежит, а любое вскрытие грудной клетки и сердца в то время представляло большую опасность!
Врач еще раз подтянул… и вдруг катетер надорвался, да так, что небольшой его отрезок остался в сердце! Мы похолодели…
Несколько дней были начеку, готовые в любую минуту сделать женщине экстренную операцию… Однако, к нашему удивлению, больная никак не реагировала на это осложнение. А в литературе мы нашли подтверждение, что такие осложнения уже наблюдались и тяжелых последствий не было. Это подействовало успокаивающе.
Продержав больную несколько недель в клинике, проведя ей курс терапевтического лечения, мы выписали ее домой… Врачу же было дано указание все время вести за нею наблюдение. Однако он, получив два раза сообщение, что больная чувствует себя хорошо, перестал интересоваться ее судьбой. А через полтора года мы получили печальное сообщение, что женщина умерла, и патологоанатом, производя вскрытие, обнаружил в предсердии небольшой кусочек катетера…
Больная скончалась от ревматического процесса, но полностью исключить влияние катетера мы не могли. Это стало для нас грозным предостережением: видели, что нужно искать способы, исключающие повторение подобных трагических неожиданностей… Тем не менее, учитывая большое значение внутрисердечных исследований, этот метод не оставили, лишь продолжали его улучшать.
Бывают такие случаи, когда нужно измерить давление как в правом, так и в левом предсердии…
Некоторые хирурги учатся проникать в левое предсердие через правое! Мы принялись сами изучать этот вопрос экспериментально и анатомически.
А сущность его в том, что хирург берет углу длиной шестьдесят один сантиметр со слегка изогнутым краем, одетую в тонкую резиновую трубку, и она вводится через правую бедренную вену до правого предсердия… Там резиновая трубка слегка подтягивается, конец иглы, следовательно, обнажается, и им осторожно нащупывают овальную ямку – самую тонкую часть межпредсердной перегородки. Легкое надавливание на иглу, и она протыкает перегородку, попадает в левое предсердие. Тогда-то по игле вводится катетер в предсердие, а оттуда – в желудочек, и так производятся все необходимые записи. Если надо, то через катетер можно ввести и контрастное вещество.
Сложно? Конечно. Зато все эти методы в сочетании с обычным выслушиванием тонов сердца (чему я вынужден был специально учиться) позволили нам поставить дело точного диагноза на довольно высокую ступень. Известно: кто хорошо диагностирует, тот хорошо и лечит!
В это время к нам в клинику поступила больная Татьяна Градусова двадцати лет. Общее состояние Тани было очень тяжелое. Поэтому мнение было одно: делать ей операцию на сердце ни в коем случае нельзя.
Таня рассказала, что давно чувствовала большую одышку, из-за нее оставила работу и редко выходила из дому. А в этот выходной, поехав с родителями на дачу, она решила немного покопать огород, но сразу же почувствовала себя плохо… Начался неудержимый кашель, появилась пенистая мокрота, которая через некоторое время перешла в кровохарканье.
Назначив ей сердечные, а также кровоостанавливающие, мы лечили ее два месяца, все время строго выдерживая в постели. Самочувствие Тани постепенно улучшалось, появилась возможность обследовать ее более детально и глубоко. Выявили у нее резкий митральный стеноз. Излечение без операции невозможно. Отсрочка же приведет к тому, что бессилен окажется и хирург… Впрочем, даже теперь операция настолько опасна, что мы не решались за нее браться, не забывая про недавний печальный случай. Таня же и ее родители настаивали на операции, тем более что им и раньше говорили, что только она способна излечить… Однако я колебался, боясь повторения трагедии.
Между тем длительный постельный режим (уже шел четвертый месяц пребывания Тани в клинике) удивительным образом и, главное, неожиданно для нас сказался на девушке очень хорошо: у нее в покое исчезла одышка, не было уже жидкости в животе, резко сократилась печень, уменьшился отек легкого.
Мы были поражены таким действием постельного режима, потому что – по всем терапевтическим правилам – подобных больных следует, наоборот, быстро поднимать с постели, прописывая им активный режим. Терапевты так и поступают всегда. Здесь же только длительный покой буквально изменил больную.
И опять не без колебаний я все же поддался на уговоры близких Тани и ее самой…
Никогда, кажется, не волновался так – места себе не находил. Порой ловил себя на том, что отвечаю кому-то, даю распоряжения, а в сознании, заслоняя все другое, она, предстоящая операция, – первая внутрисердечная да еще после неудачной попытки!
…Легкое оказалось резко переполненным кровью. Плотное, как печень, маловоздушное. При попытке сдавить его почти не уменьшалось в объеме, а это затрудняло подход к сердцу! Само сердце увеличено, но сокращения у него хорошие. Спрашиваю у наркотизатора:
– Как давление?
– В пределах нормы. Снижение небольшое.
Это обнадеживает: само вскрытие обошлось без падения кровяного давления! Чтобы уменьшить реакцию сердца на прикосновение, ввожу раствор новокаина в перикард и некоторое время выжидаю… Затем вскрываю перикард. В разрезе показывается большое, напряженное ушко. Захватываю его зажимом за край, а на его основание кладу мягкий отщеп. Отсекаю край ушка… Каждое прикосновение к сердцу Тани вызывает во мне волну напряженного ожидания: а вдруг оно остановится?!
Все подготовлено к основной части операции – расширению отверстия… Снова спрашиваю:
– Как больная?
– У больной пульс частит! Давление снижается!
«Вот оно, думаю, началось!..»
Симптомы грозные, но остановить операцию нельзя. Пока отверстие не расширено, все наши мероприятия по поднятию сердечной деятельности будут бесполезны… Обрабатываю палец, смазываю его сначала йодом, а затем вазелиновым маслом, чтобы на пальце не образовались тромбы, вставляю его в предсердие… Никак не могу нащупать отверстие! И волнуюсь, и опыта еще нет… Вот, кажется, оно! Какое маленькое, даже кончик пальца не входит, не больше шести-семи миллиметров в диаметре!.. С силой надавливаю на его край, рву комиссуру… палец свободно проходит в отверстие… Может быть, надо расширить его побольше?! Но нет! Наркотизатор подает тревожные сигналы: давление упало совсем резко! Я и сам вижу, что сердцебиение очень частое, того и гляди перейдет в фибрилляцию, а за ней – остановка сердца… Извлекаю палец из предсердия, на ушко накладываю зажим и решаю сделать легкий массаж. Однако едва прикоснулся к сердцу, оно сразу же остановилось! Мелкие подергивания мышцы… Это смерть!
По-моему, кто-то из помощников даже вскрикнул. Мне не до эмоций. Что-то надо делать! Приступаю к массажу сердца. Дать питание мозгу, иначе через три минуты умрет кора, и тогда что бы ни делали, все будет бесполезно!
– Усильте подачу кислорода! Адреналин в сердце! (Это наше последнее средство!) Переливайте кровь сильнее! В две вены! Приготовьте введение крови внутриартериально!
Массирую пять… семь минут… Неужели и на этот раз смерть на операционном столе?! Теряем человека и – такой, значит, по только начинающемуся делу удар, что оправиться после него будет нелегко. Но главное, человек и жизнь, жизнь и человек… Таня Градусова! Еще секунды ее жизни. Уже секунды. Если не сделаю сейчас чего-то особенного, она умрет! Массаж не помогает. В подобных случаях некоторые хирурги применяют электрический разряд с помощью специального аппарата – дефибриллятора. Но у нас его еще нет… Что же делать? Что! И мгновенная, как озарение, мысль: а если применить прямой электрический удар без аппарата? Такого никто еще не делал, невозможно предугадать, что из этого получится, но это лучше, чем просто смириться… Практически Таня уже несколько минут мертва, жизнь поддерживается только массажем!
Говорю наркотизатору:
– Срочно принесите электрические провода, зачистите их на концах… Заверните весь провод в стерильное полотенце, дайте мне!
Тот, кажется, понял, на что я иду, выполнил быстро и точно… Беру один конец провода с обнаженными усиками в руку, второй конец прошу вставить в розетку. Напряжение в электросети 127 вольт… Физиологическим раствором смачиваю салфетки и накладываю их на сердце Тани с двух сторон. К салфеткам прижимаю обнаженные провода.
– Со счетом три, – говорю наркотизатору, – включите рубильник и выключите как можно быстрее, через долю секунды! Поняли? Итак… приготовились… раз… два… три!
Электрический удар! Вспышка, ослепительные искры! Фибрилляции нет… А если сердце не фибриллирует, его уже никак не заставишь работать! Но что это? Легкое сокращение сердца! Второе… Через секунды – третье… И… сердце забилось! Бурно… весело (начал действовать адреналин)!
В операционной – тоже бурное оживление. Приведя свои нервы в порядок, тут же попросил всех успокоиться… Ничего не предпринимая, даю сердцу возможность поработать несколько минут вот так, в открытом виде. Что за чудесные мгновения в моей жизни!.. Очень нежно прикасаясь, ушил рану ушка, перикарда и рану грудной клетки… Сердце Тани бьется без перебоев. Давление тоже держится. Усиленно подаем кислород, вводим обезболивающие, сердечные, кровь… Сокращения сердца полные, давление нормальное!
Когда состояние больной уже не внушало опасения, вышел из операционной, оставив там помощников и наркотизатора. Сил хватило на несколько шагов – до подоконника… Присел на него выжатый до предела и… такой счастливый, каким, наверно, давно не был.
Санитарка прямо сюда приносит мне чай.
– Шампанское не предусмотрели, – говорю ей. – Не чай, шампанское!
– Ой, Федор Григорьевич, вы ж не выпиваете! – смеется она.
– Мало ли что! Человек родился… Заново… во второй раз! Как же без шампанского?
– Ну да, – машет рукой пожилая санитарка, – они у вас тут каждый раз по новой рождаются… сколько!
– Нет, Васильевна, это не то, как всегда… это…
Как объяснишь?! На это ведь тоже силы нужны. Возвращаюсь в операционную…
А наутро у больной внезапно выявляется картина послеоперационной пневмонии! Дополнительная нагрузка на больное сердце, еще не оправившееся после операции и такого тяжелого испытания!
Много нелегких дней и ночей провели мы возле Тани, пока постепенно – очень медленно – она не стала поправляться. Через месяц уже понемногу ходила, а еще через полтора мы смогли выписать ее из клиники.
Как и другие – вышла от нас и… затерялась в оживленной людской толпе! Жизнь звала ее…
Правда, эту больную, Татьяну Градусову, мы не хотели терять из вида, и по нашим вызовам она много раз бывала у нас. Последний осмотр провели через шестнадцать лет с момента операции, день в день. Когда-то почти полный инвалид, нынче она в добром здравии, имеет мужа и детей, работает в одном из учреждений Ленинграда…
Когда осенью 1954 года я был на Международном конгрессе анестезиологов в Гааге и выступал с докладом об обезболивании при митральной комиссуротомии, то рассказал об операции у Татьяны Градусовой, сославшись на то, что аппарат испортился. Совершенно неожиданно для меня сообщение вызвало оживление в зале. Меня буквально забросали вопросами, а в конце дискуссии председательствующий, парижский профессор Югенар, сказал, что это – единственный случай, ничего подобного в мировой медицинской литературе еще не было описано. Он дал высокую оценку находчивости хирурга и тепло поблагодарил меня за несомненную полезность сообщения…
После первой успешной операции нам в клинике удалось провести еще несколько похожих – у очень тяжелых больных. И все с благоприятным исходом! В газетах «Известия», «Советская Россия», «Ленинградская правда» и других тут же появились репортажи о том, что мы оперируем тех, кого хирурги других медицинских учреждений признавали неоперабельными… Эти статьи с громкими названиями, вроде таких: «Возвращение к жизни», «Сердцу дали свободу», а также наши научные статьи, попадавшие к врачам далеких городов и окраин, создали нам большую популярность. Сразу же в клинику хлынул поток отчаявшихся в своем исцелении больных, как было до этого с легочниками. Кроме того, почта приносила сотни, тысячи писем с просьбами разрешить приехать на операцию! Каждый больной, как правило, о своей болезни писал подробно, поражая нас медицинскими познаниями. И поскольку у нас в штате не было секретаря, переписка с больными выросла в целую проблему. А не отвечать нельзя. Мы же понимали, с каким нетерпением ждали нашего ответа, выкраивали на это ночные часы да те редкие свободные минуты, что выпадали нам…
Конечно, тяжелые больные требовали к себе внимания в десять раз больше, чем обычные больные, и уход за ними должен был быть особенный, а штат оставался тем же самым! Когда в клинике один-два таких – это еще ничего. Но если тяжелых половина из общего числа больных, персонал сбивается с ног, на плечи каждого ложится столько дел и обязанностей, что работай по двадцать четыре часа в сутки – со всем не справишься. По этой причине, разумеется, кое-кто из медсестер и нянечек уходил от нас, искали для себя место поспокойнее. Оставались те, кто понимал большие задачи клиники и дорожил коллективом.
И мы теперь знали: чтобы вывести больных из тяжелого состояния, решающее значение имеет строгий постельный режим, причем такой, который проводится несколько месяцев, порой даже полгода и больше. Столь длительного режима нигде до нас не применяли, и вероятно, кое-кто вообще относился к нему скептически. Мы же находили в нем спасение для больных и какой-то выход для себя…
И наша методика – а мы упорно и настойчиво применяли ее к тем больным, от которых отказались в других клиниках, – не только давала нам возможность брать их на операцию, но, что важно, позволила резко снизить смертность у этой группы. Достаточно сказать, что при четвертой-пятой стадиях заболевания мы снизили смертность уже к началу шестидесятых годов до тех цифр, которые обычно имели для больных второй и третьей стадии, то есть в три – пять раз!
Но чего все это стоило!
«Борьба с сердечной недостаточностью – это не для хирургов. Наше дело лечить хирургическими методами. Если может больной вынести операцию, брать его в клинику, не подходит – выписывать!» – так рассуждали многие хирурги. Так с упреком в голосе говорили мне даже некоторые из моих помощников, измученные некончающимися заботами по выхаживанию больных, когда, по существу, никаких особых условий для этого у нас не было. Большинство же отлично сознавало, что делаем, и лучшей наградой нам было то, что сотни людей, казалось бы совершенно безнадежных, мы возвращали к нормальной жизни!
Многих хирургов отпугивали больные четвертой и особенно пятой стадии, поскольку при операции у них поджидали самые разнообразные осложнения.
Особенно опасны эмболии сосудов головного мозга. У больных, длительно и тяжело болеющих, часто образуются сгустки или тромбы внутри предсердия и ушка. А эти тромбы во время операции могут отскочить от стенки и, попав в сосуды головного мозга, привести к параличам, а то и к смерти больного! Такие осложнения, кстати, наблюдаются у больных и без операции. Но во время операции опасность неизмеримо возрастает… Причем это страшное осложнение обрекает человека если не на смерть, то на пожизненную инвалидность!
Понятно, при первых же наших операциях эта проблема встала в полный рост – приходилось искать пути для ее решения. Поэтому испытывали и проверяли самые различные способы предупреждения, пока в конце концов не добились хороших результатов… Подготавливая больных к операции по определенной схеме, давали им лекарства, снижающие свертываемость крови. Этим мы уменьшили количество эмболий в двадцать раз, что практически совершенно устраняло возможность такого рода неприятностей!
Когда меня пригласили участвовать в научной конференции торакальных хирургов в Филадельфии (1961 год), я прочитал там доклад на эту тему и поделился нашим опытом. Тут же доклад был напечатан в одном из ведущих американских журналов, и, возвратившись в Ленинград, я стал получать сотни писем от хирургов всех стран с просьбой выслать оттиски данной работы. Чувствовался огромный интерес к этой серьезной проблеме.
В нашей клинике свыше тысячи человек подверглись операции при четвертой и пятой стадиях заболевания. Домой они вернулись полноценными людьми.
Глава XX
Не только у взрослых мы наблюдаем болезни сердца. Они встречаются и у детей.
И нет ничего страшнее, когда человек в первые же свои дни на этой земле приходит в жизнь с сердцем, обрекающим его на страдания. Я имею в виду врожденный порок сердца.
Тут уж действительно жестокая судьба наносит удар, как бытует выражение, в самое сердце! Причем не только ребенка, но и в не меньшей мере в сердце родителей.
Можно ли помочь таким несчастным? Этот вопрос занимал умы хирургов чуть ли не на всем протяжении становления медицины как науки. Но сделано было мало. Мы почувствовали нетронутость этой проблемы, лишь только попробовали подступиться к ней в своей клинике.
Что такое врожденный порок сердца? Он возникает на самой ранней стадии развития человека, еще во чреве матери, при оформлении плода и его отдельных органов. Под влиянием тех или иных причин происходит недостаточное или неправильное формирование некоторых отделов сердца.
В результате этого кровь или не поступает туда, куда нужно, или, наоборот, поступает туда, куда не нужно, и тому подобное. И если дефект не исправить, неизбежна ранняя смерть ребенка. Так было десятилетия, столетия…
Лекарствами, конечно, порок не исправишь. А как оперировать на сердце? Разве можно прикасаться к нему? Врачей, наших предшественников, страшила, кажется, сама эта мысль. Страшила и представлялась дикой.
Хорошо известно изречение Бильрота: «Хирург, который зашьет рану сердца, потеряет уважение своих товарищей…» То есть коллеги сочтут его чуть ли не безумцем. И долгое-долгое время сердце оставалось единственным органом, которого боялся нож хирурга.
Но время шло. И постепенно, преодолев робость, хирург подобрался к сердцу. Сначала он зашил рану в нем. Затем иссек утолщенный перикард и освободил его… Стремясь укрепить границы завоеванного, он стал устранять пороки сердца, находящиеся сразу же за его пределами, такие, как незаращение боталлова протока (соустье между аортой и легочной артерией) или сужение аорты. А позднее научился производить обходные шунты для исправления дефекта, заключенного в самом сердце! И наконец, он проник в самое сердце!
Правда, легко об этом говорится, а на самом деле каждый этап отделен друг от друга многими годами, за ними подвижнический труд не только хирурга, но и экспериментатора, и физиолога, и инженера. Невозможно даже представить себе, сколько человеческой энергии, мыслительных и физических затрат вложено в эту новую область хирургии – хирургии сердца. Здесь все было неизведанным, все предстояло создавать, что называется, на голом месте…
Мы начали разработку вопроса хирургического лечения врожденных пороков сердца еще в начале пятидесятых годов. Как и при решении других проблем, обратились к книгам. Мы узнали, что это – далеко не редкое заболевание, но лечение его находится в стадии экспериментальной разработки. Лишь немногие хирурги делают попытки исправить порок хирургическим путем. Мы всем коллективом с головой ушли в разрешение этой сложной проблемы, проводя всю работу параллельно с лечением приобретенных пороков. Оказалось, что существует много форм врожденных пороков. Например: незаращение боталлова протока, каорктация аорты, дефекты межпредсердной или межжелудочковой перегородки, сочетание нескольких пороков одновременно и т. д. Десятки врожденных пороков, большинство из которых для их ликвидации требуют самостоятельной методики, своей аппаратуры и инструментов.
Вся работа хирурга проходит или внутри сердца, или на крупных сосудах, у места их выхода из сердца. В считаные секунды можно потерять ребенка.
Можно себе представить волнение, с которым мы делали первую такую операцию, и не только первую. И десятую и двадцатую операцию я делал, чувствуя такое напряжение во всем теле, от которого усталость остается на много дней.
Наиболее сложны для лечения комбинированные пороки, то есть когда у человека в сердце сразу несколько пороков. Примером может служить очень частое и, пожалуй, одно из самых тяжелых заболеваний сердца – тетрада Фалло (тетрада по-латыни четыре, Фалло – врач, описавший это заболевание). Наверно, уже понятно, что в данном случае – четыре порока в сердце одновременно!
При этом заболевании кровь почти не поступает в легочную артерию, где должна обогатиться кислородом, а венозная кровь, «перепутав» направление, поступает в аорту, отчего дети становятся пугающе синими, с тяжелой одышкой, очень скоро погибают от сердечной недостаточности.
Опускались руки, приходило отчаяние – нет, напрасно стараемся, ничем здесь не поможешь! И все же искали, экспериментировали, опять шажок за шажком приближались к цели… Зайдешь в палату, увидишь детей с темно-синими, почти черными губами и ногтями, задыхающихся, не знающих, что такое смех, беззаботная детская игра, и снова возрождается яростное желание помочь вернуть им улыбки, украденное болезнью детство! Слезы навертывались, когда видел, как какая-нибудь кроха, вся синяя, садится на корточки, долго сидит так, боясь сменить позу. Оказывается, если так сесть, то бедренные сосуды передавливаются и тогда больше крови идет к мозгу и сердцу – легче дышать. Или такая же маленькая девочка с темно-синими губами, страдая от одышки даже в покое, перед зеркалом мажет себе губы сметаной, чтобы они не были такими черными, стали бы «как у всех»…
С годами организм растет, но легочная артерия у таких детей остается неизменной – по-прежнему узкой. Следовательно, кислородное голодание увеличивается. Дети начинают страдать от приступов нарушения мозгового кровообращения – с потерей сознания. Все чаще и чаще. И наступает трагическая развязка.
Сложность же проблемы в том, что для радикального излечения больного ребенка надо осуществить внутрисердечную операцию, то есть такую, когда требуется не только открыть сердце, но выключить его из кровообращения и остановить. Однако в начале пятидесятых годов это было мечтой, той манящей и пока недоступной вершиной, которую мы видели, но не знали, как подступиться к ней. Тогда мы умели проводить лишь такие операции, которые могли в какой-то мере уменьшить кислородное голодание. Это, конечно, уже было благом для страдающего маленького человека: после удавшейся хирургу операции у ребенка исчезали одышка и приступы, он получал возможность жить хотя бы без больших мучений и угрозы скорой гибели. Но даже такие операции, осваиваемые нами, были технически трудны, представляли немалую опасность… И вполне понятно, высокая смертность при этих операциях пугала хирургов, и они неохотно шли на них. Зато родители, видя муки своих детей, понимая их полную обреченность, надеясь на чудо (как все мы всегда надеемся на лучшее), просили хирургов, настаивали: делайте! Или вы возьметесь, или наш ребенок погибнет…
Нам пришлось оперировать одного мальчика – Витю Горского. Витя родился совершенно синим. Родители первое время еще надеялись, что синюшность пройдет, она из-за того, наверно, что ребенок, когда появился на свет, долго не дышал… Однако время шло – синюшность оставалась. Стало ясно: у мальчика врожденный порок синего типа.
После отец Вити расскажет мне, что мысли о болезни сына, о том, что ждет малыша впереди, не отпускали ни на минуту. Он чувствовал, что перестал быть хорошим работником, состояние удрученности, уныния не проходило. Ни он, ни его жена уже не могли освободиться от невеселых дум. А Витя к тому же в моменты обострения болезни то и дело бывал на волосок от смерти. Рос медленно, развивался плохо, ходить начал только в два года, и то с большим трудом. Стоило ему сделать несколько шагов, как уже начиналась одышка! Мальчик, не понимая, отчего это, не хотел идти к матери, бежал от нее и… задыхался еще больше, падал, теряя сознание.
С кем только из врачей не советовались родители Вити, каким специалистам не показывали сына! Перечитали много медицинских книг по этому вопросу. И отлично понимали, что лишь хирург в состоянии помочь мальчику, такой хирург, который решится… Кто-то из врачей Калуги, из бывших моих студентов, посоветовал обратиться ко мне. И они, письменно испросив разрешение, приехали в клинику.
На Витю невозможно было смотреть без душевной боли. Шестилетний, он выглядел не старше трех-четырех лет. С синими, почти черными губами, с синими «барабанными» пальцами, словно бы расплющенными у кончика, как на руках, так и на ногах, такой слабый, что, кажется, подуй ветерок, он упадет… Постояв некоторое время, мальчик сразу же сел на корточки…
Мы немедленно приняли его в клинику и начали готовиться к операции, к той самой, которая хотя порок не устраняла, но обещала ребенку лучшее снабжение организма кислородом. Короче, нам предстояло увеличить приток крови в легкие, пустив ее из аорты прямо в легочную артерию, минуя сердце. Значит, надо накладывать соустье между этими двумя сосудами! Давление в аорте большое – вот кровь из нее и нагнетается в легочную артерию…
Операция эта из разряда сверхсложных. Если отверстие сделать крупным, крови из аорты в легкие будет поступать очень много, и тогда там, в сосудах, разовьется высокое давление, ребенок через несколько лет погибнет от склероза легочных сосудов. Если отверстие сделать маленьким, оно легко затромбируется или зарастет, и операция окажется бесполезной и даже вредной… Как показал наш опыт, отверстие должно быть не больше не меньше пяти-шести миллиметров в диаметре. Здесь уж хирургу нельзя ошибиться. Ни здесь, ни в чем другом. Кроме всего, «синие дети» с их плохим кислородным снабжением вообще с трудом переносят эти травматичные операционные часы. Недаром тут смертность была устрашающе высокой.
Надо заметить, что, принимая в клинику таких больных детей, как Витя Горский, мы сразу же ощутили нехватку необходимой аппаратуры. И хотя трудно было, все же раздобывали ее: я ездил в Москву, обращался к ленинградским инженерам, и находились истинные мастера, подобные легендарному Левше, способные выполнить наши сложные заказы.
Но сам по себе аппарат без человека, умеющего владеть им, еще ничто. А где взять такого специалиста, если в то время никаким штатным расписанием он не был предусмотрен?
Приходилось выкручиваться, идти на жертвы… На ставку врача-клинициста или даже ассистента брали медика, разбирающегося в аппаратуре, и, понятно, на плечи врачей-клиницистов тут же ощутимо ложилась дополнительная нагрузка. Однако никто не роптал, все понимали: это временно, при успешном разрешении проблемы нам будут созданы лучшие условия…
…Вскрыв левую плевральную полость у Вити Горского, я обнаружил большое количество спаек между легким и грудной стенкой. Эти спайки очень важны, они необходимы ребенку. В них проходят сосуды, которые частично переносят недостающую легкому кровь из тканей. Но хирургу во время операции они мешают. Не разделив их, нельзя подойти ни к легочной артерии, ни к аорте. А как только начинаешь эти спайки рассекать, из них обильно течет черная, густая, как сливки, кровь. Иногда остановить такое кровотечение почти невозможно: кровь льет, как вода из мокрой губки, которую сжимаешь в руке… Поэтому приходится тратить очень много бесценного времени на то, чтобы шаг за шагом пересекать спайки между зажимами и при этом осторожно прижигать их электроножом.
Легочная артерия совсем узкая – меньше одного сантиметра в диаметре, хотя должна быть, по крайней мере, в два раза шире… На нее нужно наложить зажим пристеночно, то есть так, чтобы, отключив часть просвета сосуда, сохранить в нем достаточной величины отверстие. Иначе мы полностью нарушим кислородный обмен через левое легкое. Но если отжать очень малую часть стенки сосуда, соустье наложить невозможно… Закрепив пристеночно кривой зажим-отщеп, мы больше чем вдвое закрыли просвет легочной артерии. Вся надежда на то, что быстро наложим соустье и тем уменьшим время кислородного голодания мозга! Но легко сказать «быстро»… А как это сделать, когда вся работа идет в глубине, чуть ли не на ощупь. А стенка легочной артерии тонка, как папиросная бумага, прокол ее самой маленькой иглой оставляет после себя большое отверстие, и ты каждую минуту боишься: чуть-чуть подтянешь ее сильнее, она расползется… А ведь еще предстоит стягивать этот непрерывно наложенный шов!
Когда наложил только половину швов, я вдруг заметил, что стенка аорты начинает выскальзывать из зажима. Если срочно не исправить положения, оба сосуда, в которых сделаны отверстия, вот-вот освободятся от зажима, и тогда начнется из них кровотечение…
– Полина, вы какой мне отщеп дали?
– Новый, что вы сами отобрали…
– Почему же не подали мне тот, что я всегда употребляю?
– Вы же сами оба испробовали и сказали, что новый держит лучше.
– Но теперь видите, как он держит?
– Вижу, – отвечает она, а в глазах – обида и близкие слезы…
Великолепная операционная сестра, она без слов понимает каждое мое движение, каждый жест. Ее за работой часто снимали на кинопленку иностранцы. Но она совершенно не выносит замечаний, сделанных даже в мягкой форме. Она не возражает, не входит в пререкания с хирургом, нет. Она сразу же краснеет, как маков цвет, и глаза ее наполняются слезами. А тут и вовсе она ни в чем не виновата: это я, под влиянием внезапной тревоги, начал брюзжать…
– Что будем делать? – спрашиваю ассистирующую мне Лидию Ивановну.
Она отлично понимает надвигающуюся катастрофу.
– Надо переложить отщеп.
– Как просто!.. А вы знаете, чем это грозит?
– Знаю, – тихо отвечает она.
Каждому члену операционной бригады понятна та угроза, что нависла над ребенком. Из-за плохого качества инструментов, которые к этому времени наша промышленность еще не научилась делать надежно, вся операция и жизнь мальчика поставлены под удар. Предстоит наложить новый зажим, а старый снять. И все это делается на крошечных сосудах, в глубине, где ты работаешь вблизи сердца, легких… При снятии зажима можно нечаянно разорвать линию разреза, можно нечаянно дернуть за ниточку – и весь шов превратится в рваную рану… Но не заменить зажим нельзя. Бранши его находятся у самых краев разреза, и дальше уже нет места, куда вкалывать иглу. Все ушло под них, под зажимы! Новый следует осторожно наложить ниже первого. Чуть что не так, и начнется мощное кровотечение сразу из двух сосудов: из аорты и неточной артерии! С этим уже не справишься. Эх, Витя, Витя! Как же нам быть с тобой, дружок?! В мозгу лихорадочная работа: как избежать катастрофы?!
Сконцентрировав все внимание – упаси бог в чем-то ошибиться! – я быстро и точно наложил ниже основного зажима другой, очень бережно снял первый. Ассистенты и сестра замерли: будет ли кровотечение?
Обошлось! Вздох всеобщего облегчения пронесся но операционной.
Мы потеряли время… Спешно продолжаю накладывать непрерывный шов на переднюю поверхность анастомоза… Закончил наконец все швы. Осталось завязать последний вдел и – бывает же, что не заладится, – нитка шва, с таким невероятным трудом наложенная, вдруг лопнула!
– Что же вы, Полина, даете такие нитки на такой ответственный шов? Ведь теперь этот шов снимать и накладывать заново!
Полина молчит. Что может мне ответить? Не ее вина, что нитки плохого качества. Она дала лучшую.
– К счастью, Федор Григорьевич, нитка с переднего шва. Задняя же стенка ушита!
– Плохое утешение, Лидия Ивановна! У нас время на пределе. Мы давно уже должны освободить легочную артерию…
Слова произносятся, а руки работают, чтобы быстрее исправить дефект…
И вот все сделано как требуется. Снимаю зажим, и сразу же сильное кровотечение между швами… Это пока ничего не значит. Необходимо выждать несколько минут, и только тогда поймем: удался или не удался анастомоз? Положив на кровоточащее место сухую салфетку, твердо, но нежно прижимаю ее к месту анастомоза. Удручающе медленно тянется время, необходимое для остановки капиллярного кровотечения… Минута… Две… Три… Пять… Семь… Так хочется посмотреть, остановилось ли кровотечение? Но снимать салфетку нельзя. Нужна выдержка… Восемь… девять… десять!.. Можно, пожалуй, снять салфетку… И… перед нами миниатюрный, в несколько миллиметров длины шов! Но полной герметичности нет. Новая забота!
Несколько раз промокнув тампоном это место, я убедился, что кровоточит из стенки рядом со швом, где она прорвалась от укола иглы. О том, что отверстие закроется само по себе, и думать не приходится. Опять, значит, шов… Опять кропотливая, требующая идеального терпения и полной выдержки работа…
И этот шов наложен, затянут, как будто все в порядке… Кровотечение приостановлено. Собственные руки у предплечий отяжелели, гудят ноги, неприятное покалывание в пояснице. Выйдешь из операционной, и – по меткому народному выражению – словно на тебе черти воду возили. Да всё в гору, бегом!
Производим туалет раны. Убираем все салфетки, чтобы случайно не оставить какую-нибудь из них в плевральной полости! Такое тоже случается. Борясь за жизнь больного в осложненных обстоятельствах, не всегда проследишь, куда делась снятая с кровоточащего места салфетка. А она, возможно, забытая лежит где-нибудь между грудной стенкой и диафрагмой, в виде небольшого комочка, похожего на кровяной сгусток. А потом будет одной из причин печального исхода…
У некоторых хирургов (как у нас, так и за рубежом) заведен следующий порядок… Салфетки распаковываются десятками. Перед операционным столом стоит доска, на ней десять гвоздей в ряд острием вверх. Как только салфетка выбрасывается, санитарка сразу же нанизывает ее на гвоздь. Если все десять гвоздей заняты, значит, все салфетки собраны.
Но если все же тампон останется в ране, кто тогда отвечает перед законом?
На моей памяти произошел неприятный случай с опытнейшим хирургом одной из ленинградских клиник. Тампон, оставленный в брюшной полости прооперированной женщины, был обнаружен там после ее смерти. Вполне допустимо, что больная погибла по другой причине, но может быть, и тампон сыграл здесь свою отрицательную роль… Родственники женщины подали на хирурга в суд. На суде присутствовала вся операционная бригада.
Когда судья спросил, кто виноват в том, что салфетка осталась в операционной ране, встал хирург и заявил:
– Виноват в этом я. Как хирург отвечаю за жизнь больного, за все течение операции, и если случилось такое несчастье, виноват только я!
Попросил слова первый ассистент и сказал:
– Хирург не виноват в том, что салфетка осталась в брюшной полости. У него была трудная и сложная операция, он с огромным напряжением делал ее, борясь за жизнь больной. Во время операции началось массивное кровотечение, от которого больная могла погибнуть в несколько минут. Он должен остановить кровотечение. Ему было не до салфеток. В том, что салфетка осталась в брюшной полости, виновным можно признать меня. Это я должен был следить за тем, что делается в операционном поле…
Но тут раздался голос операционной сестры:
– Хирург и его ассистент были заняты операцией! Когда она кончилась, врачи от усталости едва стояли на ногах. Напряженно и самоотверженно борясь за жизнь больной, они, конечно, могли недоглядеть за салфеткой. А я как операционная сестра должна была следить за этим, должна была вести салфеткам строгий счет. А поскольку этого мною не сделано и салфетка оказалась в ране, то виновата только я! Так и прошу суд считать…
Суд, как мне известно, прекратил дело за отсутствием состава преступления. Было лишь вынесено частное определение, которое призывало всех врачей «к большей профессиональной внимательности, которая обеспечивала бы предотвращение подобного впредь…».
Но вернемся к Вите Горскому.
В послеоперационном периоде мы справились со всеми осложнениями, и в конце концов мальчик поправился.
Уже в первые часы после операции губы у него стали не такими синими, на них местами обозначилась краснота. Когда же состояние Вити ухудшалось, губы снова синели, мы со страхом думали, что анастомоз закупорился, вся операция окажется бесполезной…
Но с каждым днем с Витиного лица, с кончиков пальцев синева заметно сходила и вскоре исчезла совсем. Надо ли говорить, что родители от счастья были на седьмом небе, хотя, конечно, и понимали, что основное заболевание у ребенка все же не ликвидировано. Однако они, как и мы, надеялись, что сейчас, пока он маленький, хорошее снабжение организма кислородом поможет ему нормально развиваться, а там, надо надеяться, наука позволит исправить дефекты сердца более радикально…
Кстати, мы сами в ту пору если еще не были готовы к проведению той или иной операции и знали, что никто в стране ее не делает, говорили больным: «Пока мы не можем вам помочь, но это только пока… Берегите себя, соблюдайте наши предписания и запросите нас через один-два года. Скорее всего к тому времени мы уже освоим эту операцию. Хирургия сейчас развивается быстрыми темпами…»
И было не один раз, когда мы вначале вынужденно отказывали кому-нибудь в операции, а спустя некоторое время приглашали этого человека в клинику и благополучно излечивали от заболевания, которое несколько лет назад считалось вообще неизлечимым. Так и в этом случае. Твердо верили, что пока Витя будет расти уже в относительно нормальных условиях, в недалекие годы техника радикальной операции станет доступной, и он будет излечен окончательно.
Прощаясь со мной, отец Вити Горского говорил:
– Да, Федор Григорьевич, в повседневности дел мы порой не замечаем, что имеем. Даже как-то перестаем понимать, что принесла нам Советская власть. Мой дед, по рассказам отца, надорвался и умер от непосильной работы на шахте капиталиста. Мой отец был матросом и получал тычки в зубы от владельца парохода. Лишь после революции он почувствовал себя человеком… И все равно был бы жив, удивлялся бы и радовался: его внука приняли в одну из лучших клиник страны, его обследовал, лечил и оперировал профессор… И все это бесплатно! Где еще такое возможно?!
Он произнес эти слова с таким искренним, почти детским восторгом, что я, взглянув на него, невольно подумал: «И впрямь невероятное становится у нас привычным. Не грех всем нам почаще задумываться над этим…»
Мне, к месту упомянуть, часто приходится бывать за рубежом. И я видел там, как болезнь лишь одного члена семьи приводила к полному ее обнищанию…
Огромная плата за каждый день пребывания в больнице, за обследование и услуги. Особенно дорого стоит сама операция: отдельно оплачивается работа хирурга, ассистента, наркотизатора, операционной сестры…
Мне привелось побывать во многих странах, я наблюдал и изучал разные системы здравоохранения. Среди многих зарубежных коллег есть хирурги, которыми я восхищаюсь; встречается немало образцовых медицинских учреждений. И все-таки я могу с радостью и с чистой совестью заявить, что наша советская система здравоохранения – самая гуманная и человечная в мире. В частности, у нас нет и не может быть в сфере медицины крупных афер, повсеместного надувательства, финансовых махинаций за спиной больных. В мире, где царит капитал, подчас и страдания людские служат ареной жульничества и авантюр.
Мы нередко читаем в газетах о финансовых злоупотреблениях, крупных аферах высших государственных чинов капиталистического мира. Случается, что в таких аферах бывают замешаны даже министры. В нашем сознании невольно возникает вопрос: как бесчестный человек мог достичь такого высокого положения в обществе? Ведь у нас, прежде чем человека выдвинут на такой пост, он проходит тщательную проверку на других, значительно меньших постах. Его изучают, к нему присматриваются. И если уж человек проявил себя хорошим организатором, большим специалистом – тогда только ему доверяют дело большой государственной важности.
Много внимания в те годы было уделено мною лечению дефектов перегородок. Известно, что четыре камеры сердца – два предсердия и два желудочка – разделены на правую и левую половины так, что они между собой не сообщаются. В них разное давление. И если в перегородке имеется врожденный дефект (отверстие), возникает ненормальный сброс крови, перегрузка некоторых отделов сердца, что приводит к сердечной недостаточности и, как правило, к гибели больного.
А диагноз дефекта перегородок поставить весьма сложно. Для этого надо ввести во все полости сердца катетер и всюду исследовать давление и насыщение крови кислородом. Кроме того, как и при других пороках, здесь следует вводить контрастное вещество и делать серии снимков. Чтобы овладеть такой методикой исследования, потребовалась не только уйма времени, пришлось одного из врачей освободить ото всех других дел, поручив ему лишь заниматься такими больными… Им был Сергей Сергеевич Соколов, который с первых же лет своей работы ассистентом заинтересовался этой проблемой, попросил у меня разрешения более подробно изучить вопрос о дефектах междупредсердной перегородки. Обладая хорошими задатками ученого, он, не давая себе отдыха, повел теоретическое и экспериментальное исследование этого трудного раздела хирургии, постепенно подготавливая почву для операции на человеке, в частности, по закрытой методике, поскольку аппарата искусственного кровообращения у нас еще не было. Вскоре ему удалось разработать спиралеобразную иглу, которую мы несколько раз использовали на операции, однако у нас, как и у других хирургов, ободряющих результатов все же не получалось… Но серьезные наблюдения Сергея Сергеевича давали немалую пользу для понимания загадок проблемы.
…Надо научиться открывать сердце! Это стало задачей номер один. Над ней бились хирурги всего мира. Ведь чтобы открыть сердце, необходимо пережать все сосуды. Это значит, что к мозгу перестанет поступать кровь и через три минуты смерть! А что можно успеть за три минуты?! Иметь хотя бы минут десять – пятнадцать!
Появились сведения о том, что если животное охладить, то мозг легче перенесет длительное кислородное голодание… Однако так ли поведет себя человеческий организм, можно ли его охлаждать? Если да, то до какой температуры и на какой срок?
Появилась надежда…
Было установлено, что если охладить тело человека до +29–30°, то при такой температуре сердце может быть безопасно выключено из кровообращения на пять-шесть минут. Это уже был бросок вперед! И с этого момента операции по ушиванию дефектов сердца стали производиться многими хирургами, в том числе и у нас в клинике. В некоторых случаях они заканчивались успешно. Однако смертность оставалась высокой, а хирурги за эти несколько минут испытывали нечеловеческое напряжение, которое, поверьте мне, представить даже нельзя…
В ходе такой операции дорога каждая секунда! А тут то игла вертится в иглодержателе и ты не можешь в глубине захватить нужной толщины край, то ассистент от волнения случайно захлестнул нитку и она не затягивается… Или он, а может, ты сам сильно натянул нитку, и край надорвался, надо накладывать новый шов… А в это время, как удары молота по голове, отсчет анестезиолога: одна минута… две… три… четыре… Уже предел, нужно заканчивать, нужно оставить время на закрытие раны сердца… Пять!.. Все! Ты использовал время полностью! А ведь еще требуется наложить один шов и завязать нитки… Что делать?! Рискнуть растянуть операцию еще на одну минуту или на этом прервать ее и затем снова начать выключение?
После подобной пятиминутной операции выходишь из операционной, словно после пытки раскаленным железом…
Конечно, такая методика не удовлетворяла хирургов, поиски новых способов выключения сердца из кровообращения велись не ослабевая. Некоторые при этом направили свои исследования в сторону охлаждения организма до более низких границ, однако вскоре убедились, что сердце переносит это мучительно. Вот почему большинство ученых пошло по линии совершенствования аппарата искусственного кровообращения, который впервые – еще до войны – создал наш соотечественник С. С. Брюхоненко. Разработка и усовершенствование его модели позволили изготовить такой аппарат, который известен нынче под названием «искусственное сердце»… Он дал возможность отключать человеческое сердце и оперировать на нем практически без строгого лимита времени.
Одним из пионеров исследований по охлаждению был канадский хирург и экспериментатор Бигелоу, который бывал в нашей клинике, и я с ним не раз встречался во время зарубежных поездок. Он начал проводить свои опыты с молодняком животных, которые подвержены зимней спячке. Оказалось, что такие щенки могут быть охлаждены до температуры, близкой к нулю, с полным восстановлением всех жизненных функций после! И в таком охлажденном состоянии они переносят операцию вскрытия сердца безо всякой аппаратуры. По мере же согревания организма его нормальные функции восстанавливаются… Надо ли объяснять, какую шумную сенсацию вызвали сообщения о результатах этих опытов! Казалось, что найден путь к разрешению вопросов хирургического лечения многих заболеваний, и особенно болезней сердца. Но к сожалению, как показало продолжение исследований взрослых животных, а тем более человека, до таких низких температур охлаждать нельзя. Это равносильно гибели. Однако сама идея защитных функций охлаждения, поднятая на высоту Бигелоу, не утратила своего значения: хирурги стали стремиться использовать ее при операциях с искусственным кровообращением, где оба эти фактора, соединенные вместе, оказались более эффективными, чем каждый из них в отдельности.
И у нас в клинике, как и в других, лишь после того, как мы освоили аппарат искусственного кровообращения, проблема лечения дефектов перегородок сердца и иных сложных пороков встала на прочную основу. На это ушло несколько лет. Я не хотел бы повторить их снова: боюсь, что вторая такая же нагрузка на собственное сердце вряд ли переносима. Впрочем, это, наверно, лишь кажется. Легких дней не было раньше, не будет их и позже…
Утром по вторникам я всегда делаю обходы с врачами и студентами. Здание нашей клиники старое, трехэтажное, и палат не хватает. Хорошо еще, что они большие, вмещают по восемнадцать коек. Из-за их перегруженности больные лежат даже в коридорах, как в госпитале фронтовой поры, и можно лишь радоваться, что коридоры широкие, светлые, с высокими потолками, надежным отоплением.
Две палаты, что поменьше других, – детские. Здесь лежат только детишки с врожденными пороками сердца.
Дети даже при своем жестоком заболевании остаются сами собой… Носятся по палате, выскакивают в коридор, запускают бумажного змея… Шум, крик, смех… И – слезы. Многие после вспышки «забывчивости» расплачиваются за нее болью. Другие, почувствовав одышку, садятся на какое-то время, затихают, а потом все сначала! Заметив в коридоре лечащего врача, они с ликующими возгласами бросаются к нему, что-то спрашивают, наперебой рассказывают… Детвора любит «своего» врача, ему даже прощаются все уколы и болезненные процедуры, вплоть до катетеризации. И он любит детей так, как может любить их добрый, открытый, доверчивый человек.
– Дядя доктор, уколы сегодня будут делать?
– А мне?
– А мне уже их отменили, правда? – спрашивает шестилетний Дима, перенесший операцию, один из долгожителей палаты.
– Нет, Димуша, еще не отменили. Три дня, а потом уже все! – говорит доктор и треплет малыша по волосам.
– А почему еще три дня?
– Потому, Димуша, что через неделю отправим тебя к маме с папой. Ты уже здоров, но надо долечиться…
Другие смотрят на Диму с завистью: и операцию ему уже сделали, и домой вот-вот поедет: счастливчик!
Один из тех, кто сейчас страстно, до слез, завидует Диме, – тоже шестилетний Гена Жиганов. Он лежит на койке в углу, у окна, знает, что скоро ему сделают операцию, и это будет очень больно, и неизвестно, когда еще он уедет домой, а дом его – далеко-далеко отсюда… Последнее время Гена почти не встает с кровати, ему день ото дня труднее дышать. Я задерживаюсь у его постели.
Гену я уже знаю, и что с ним – тоже. Больше того, он мой земляк, из моего родного Киренского района. И это еще не все… Давайте вспомним фамилию Жиганов…
Тут нужно мысленно вернуться к одной из ранних глав книги.
В ней, помимо всего прочего, я рассказывал о том, как на заре своей хирургической деятельности оперировал удивительного больного, поведение которого с медицинской точки зрения было трудно объяснимо. Он одолел большое расстояние пешком в тот момент, когда после прободной язвы у него образовался разлитый перитонит, и сама операция состоялась лишь спустя восемнадцать часов после прободения!
Этот больной, оставшийся, к счастью, в живых, носил фамилию Жиганов… Конечно, я запомнил его на всю жизнь!
И вот спустя два десятилетия ко мне в ленинградскую клинику приезжает могучий бородатый человек с мальчиком, говорит, что киренчанин, и… называется Жигановым! Стал расспрашивать. Выяснилось, что он родной брат моего «крестника», а мальчик – его внук.
– Мы, Федор Григорьевич, – говорил он, – когда нас беда коснулась, порешили, что нужно тебя разыскать. Ты нашу фамилию уже спасал, послужи, родимый, еще, просим… С Генкой-то три дня по Ленинграду ходили, пока твою больницу нашли. Да вечером было, не пущают… «Мне, объясняю, доктора Углова…» А они отвечают: «Профессор завтра будет!» Перепугался прямо, нашенский ты, а высоко взобрался, признаешь ли? Но Геннадий совсем у меня сомлел, еле пекает. Стали, однако, дожидаться тебя…
– Что же брат, как он? – спросил я.
– Брат, однако, жил бы поныне. – Жиганов вздохнул. – Да прошлую осень угорел в баньке и решил искупаться, чтобы угарную дурь согнать. А уже ледок закраины припаял, холодно… Искупался брат и в простуде умер…
Так я узнал про судьбу того памятного мне больного тридцатых годов Жиганова и познакомился с маленьким Геной Жигановым.
Когда я осмотрел Гену, то сразу же подумал об аортальном стенозе. Но подумать – не установить!
– Гену готовьте к пункции левого желудочка, – говорю лечащему врачу. А у мальчика спрашиваю:
– Соскучился по своей Подкаменке?
Мальчик кивает в ответ, говорит тихо:
– Дядь Федь, лечи скорей.
– Скоро, Гена, нельзя. Зато когда вылечишься, вот будешь с обрыва на санках кататься! Я ж знаю, где у вас ребята на санках катаются… Хо-орошее место!
– А мамка отпустит?
– Будешь здоровый – отпустит. Я ей письмо тогда напишу, чтоб отпустила.
– Напиши, дядь Федь!
В глазах у мальчика огоньки нетерпения… Сейчас бы ему туда, в свою Подкаменку, и бегом, как умеют без одышки бегать все остальные подкаменские ребята!
– Федор Григорьевич, – говорит лечащий врач. – Поступил Глебушка, о котором вы запрашивали. Как его обследовать и к какой операции готовить?
Врач зовет нас к постели малыша приблизительно такого же возраста, что Дима и Гена, с синими губами и синими кончиками пальцев.
– Расскажите, что вам удалось узнать о ребенке?
– Основные жалобы на одышку. Он с трудом ходит, часто приседает.
– Покажи, Глебушка, – обращается врач к малышу, – как ты садишься?
Мальчик покорно поднялся на ноги, а затем присел на корточки.
– Эритроцитов восемь миллионов, – продолжает врач. – Гемоглобин – сто пятнадцать процентов…
– Что ж, как и предполагали раньше, тяжелая форма тетрады Фалло. Операция предстоит сложная. Пусть родители зайдут ко мне. Надо объяснить им, заручиться их разрешением на радикальную операцию.
Обход окончен. Даны последние указания, кому какие дополнительные исследования провести, кого и как готовить к операции…
Говорю, как в обычае у меня, твердо, уверенно, спокойно. Но в самом себе сейчас ничего подобного нет. Операции такого рода только начинаем осваивать. Они пока почти что шаг в неведомое… Полученный недавно аппарат искусственного кровообращения опробован в лаборатории, вроде бы неплохо показал себя и при первых операциях. Однако стопроцентной гарантии не дает, и, главное, еще не чувствуем, что полностью освоили и этот аппарат, и методику операций… А больные прибывают. Сколько же можно ждать им!
Иду к себе в кабинет. Стрелки на двенадцати. Традиционный для клиники час второго завтрака. И мне кажется, что это хорошая традиция. Второй завтрак придает силы, закрепляет режим четырехразового питания, самый разумный изо всех, позволяющий избегать переедания и держать вес на одном уровне. А этим сохраняется и работоспособность…
За завтраком, конечно, мысли о проведенном обходе, о том, чтобы не упустить при подготовке к операциям какие-нибудь мелочи, которые вдруг окажутся чуть ли не решающими. Все будет зависеть от четкой работы аппарата, от нашего умения быстро прооперировать, чтобы кровь в аппарате не очень долго циркулировала, иначе гемолиз и тяжелые последствия!
Вот Гена Жиганов… У него стеноз аортального клапана. Это значит, что створки его срослись, оставив лишь маленькое отверстие. И наша задача – рассечь эти сращения, или комиссуры, как их называют. Тут предполагается точность самого высокого класса. Если ошибешься даже на миллиметр и вместо комиссуры рассечешь саму створку клапана, получишь несмыкание створки, то есть недостаточность клапана… А ведь предстоит вскрыть аорту и делать все не торопясь, рассчитывая каждое движение. Но когда вскрываешь аорту, отключаешь питание самого сердца, так как коронарные артерии, то есть артерии, снабжающие сердце кровью, отходят от аорты около самого клапана! И если кровь по этим сосудам не будет поступать в мышцу сердца долгое время, в ней произойдут большие изменения, сердце может не возобновить свою деятельность самостоятельно… Поэтому придется вводить в коронарные артерии канюли, а через них нагнетать кровь, богато насыщенную кислородом… Но канюли надо достать! Надо их где-то изготовить. Надо их приспособить к аппарату и так далее. Что ни операция – десятки самых неожиданных «но»!
После завтрака приглашаю Сергея Сергеевича Соколова.
– Нам нужно у Жиганова Гены измерить давление в левом желудочке, ввести туда контрастное вещество и сделать снимки. Вы уверенно себя чувствуете?
– Да. При первых исследованиях у больных осложнений не было. Но ведь, Федор Григорьевич, только осваиваем…
– А какая методика вами применяется?
– Наиболее безопасным считаю укол иглы под мечевидным отростком. Делается прокол стенки правого желудочка, затем протыкается межжелудочковая перегородка, и игла попадает в полость левого желудочка…
– А почему не пунктируется сразу левый желудочек? – спрашиваю для того, чтобы лишний раз убедиться в теоретических познаниях своего помощника.
– Пункция левого желудочка дает довольно большое кровотечение в перикард, что может кончиться тампонадой сердца.
– Когда сможете заняться Геной Жигановым? Его готовим к операции.
– Тогда послезавтра…
Соколов ушел, но у меня успокоения нет. Очень травматичное исследование. Оно само по себе представляет угрозу для жизни. Думаю, что суждено перетерпеть моему юному земляку. Протыкать сердце толстой иглой! Но другого выхода нет… Иначе диагноза не поставишь.
От мыслей о Гене отвлекли родители Глебушки. У молодой женщины измученное, со скорбными складками у кончиков рта лицо; у отца во взгляде неуверенность и тоска… Прошу коротко рассказать о ребенке.
– Он родился синим, рос плохо, болел, – начала мать.
– У вас еще дети есть?
– У нас, если считать с Глебушкой, трое. Он последний. Мы не хотели больше иметь детей… Еще Аркадий последнее время стал крепко выпивать. – Женщина кивнула на мужа и, уловив его протестующее движение, сердито прикрикнула: – Да, да! И не смотри на меня так. Я должна рассказать профессору всю правду. Думаю, что из-за этой проклятой выпивки и сын-то такой болезненный родился! Почему же остальные дети, когда ты еще не пил, нормальные?
– Вы о Глебушке, как рос он, – мягко попросил я.
– Простите, сейчас… Наболело все это! Поймите меня, профессор. А Глебушка, что ж, начал ходить поздно, после полутора лет. Повезли мы его в Камышин, там в больнице посмотрели и сказали, что у нашего сына порок сердца, очень сложный, и оперировать нельзя… Спасибо, что вы ответили нам на письмо, согласились принять…
– Он часто присаживается на корточки?
– Очень часто! Особенно в последний год. И сознание теряет тоже часто.
Мне пришлось объяснять родителям Глебушки, какое это тяжкое и плохо поддающееся хирургическому вмешательству заболевание. И мои откровенные слова подействовали на них удручающе, особенно расстроилась мать, которая, получив наш вызов, воспылала большой надеждой на скорое и «простое» выздоровление сына. Все же не Камышин – Ленинград, и письмо с приглашением подписывал профессор… А оказывается, не исключено самое плохое, о чем и думать-то страшно…
Я попросил их прийти с ответом на следующий день.
И после того, как принципиальное согласие родителей на операцию было получено, нам следовало провести специальные внутрисердечные исследования, чтобы окончательно уточнить диагноз, характер поражения, местоположение наиболее грубых изменений. Опыт показал, что наибольшее количество неблагоприятных результатов падает именно на тех больных, которые брались на стол с неуточненным или неправильным диагнозом. Поэтому самый точный дооперационный диагноз был для нас правилом. Для этого мы и разрабатывали сложнейшие способы диагностики, многие из которых сами по себе уже представляют сложную операцию, зачастую несущую в себе элементы опасности. И делаем мы эти сложные внутрисердечные исследования только после получения согласия на операцию, чтобы зря не рисковать.
Глебушке тонкий резиновый катетер был введен в вену бедра, а затем по нижней полой вене – в сердце. Там из различных отделов его были взяты порции крови и посланы в лабораторию для определения количества кислорода в них… Затем ввели в соответствующий отдел сердца контрастное вещество и сделали серию снимков из расчета шесть – десять в секунду. Тем самым мы сняли весь цикл циркуляции крови внутри сердца и выявили порок. Он оказался, как и думали, очень сложным; сужение легочной артерии, отверстие в межжелудочковой перегородке и отхождение аорты от двух желудочков.
На подготовку к этой операции ушло много дней. А клиника, естественно, продолжала жить напряженной жизнью. Три-четыре раза в неделю были плановые операции, не считая тех, что проводились экстренно – по «скорой помощи». И каждый операционный день – это две-три операции на сердце или на легком!
Пока готовили Глебушку к ответственному, решающему для него дню, пока сами приготовились к нему, подоспело время оперировать Гену Жиганова.
Когда я вошел в операционную, Гена уже спал. Ассистенты тщательно вымыли операционное поле щетками с мылом и только после этого осушили и смазали его йодом. Такое делалось Гене не первый раз. За три дня до назначенного срока мы тщательно моем подобным образом кожу в области операции, дезинфицируем спиртом и обвязываем стерильными простынями… И не зря. Операция продолжается пять-шесть часов. Все это время рана открыта, и микробы с кожи могут попасть в нее. Одноразовая обработка тут недостаточна. Убедились в этом после того, как стали изучать, откуда же у оперированных появляются нагноения раны, остеомиелит пересеченной грудины и даже гнойное воспаление средостения… Выяснилось: от недостаточной чистоты операционного поля!
Проволочной пилой была перепилена грудина, вскрыли перикард и, подтягивая за края разреза, приподняли сердце ближе к поверхности. В предсердие ввели трубочки из плотной резины диаметром около сантиметра, а оттуда в обе полые вены, которые после этого перетянули тесемками. Теперь вся кровь, предназначенная для сердца, с помощью этих трубочек пойдет в аппарат искусственного кровообращения…
В рассеченную же бедренную артерию ввели металлическую канюлю, которая с помощью специального отвода соединена с аппаратом, в нее будет нагнетаться кровь, предварительно насыщенная кислородом. Все трубки подключены к аппарату с величайшей осторожностью, чтобы, упаси боже, не попал в них воздух! Команда: «Приготовиться к пуску аппарата! Все зажимы в руки!» Три… Два… Один!.. Аппарат пущен. С этого мгновения работают два сердца. Второе, механическое, помогает больному, оно как бы «на страховке»… А через минуту полностью переключим организм ребенка на искусственное кровообращение.
Теперь нужно подойти к клапанам. Значит, прекратить к ним доступ крови. А добиться этого можно, лишь пережав аорту… После наложения зажима вскрываю ее продольным разрезом, с небольшим загибом в виде клюшки. Передо мной в глубине белеют створки клапана. Они сращены так, что осталось совсем небольшое отверстие – четыре-пять миллиметров в диаметре. И эти спайки между створками требуется рассечь, не допустив самой малейшей неточности! Она приведет к непоправимому…
Прошу ассистентов раздвинуть края разреза на аорте. Все равно увидеть что-либо невозможно! Где они, отверстия сосудов? Тем более что это только говорится – «сухое сердце»! На самом деле кровь из сердца поступает в таком количестве, что нужно все время отсасывать ее, а отсос тоже мешает хирургу…
Как ни стараюсь увидеть устья артерий, – не удается! А время идет, и вместе с ним нарастает кислородное голодание сердца. Говорю ассистентам, чтобы раздвинули стенки аорты как можно шире. Однако как только они попытались сделать это, края аорты надорвались, и еще, и в новом месте… Нет, так не годится! Сшить их будет очень трудно… Лихорадочно веду поиск, а в самом уже противный холодок: снимем ли Гену Жиганова с операционного стола живым? Что же скажут тогда обо мне мои киренчане?
И когда наконец-то мне удается обнаружить устье левой коронарной артерии и ввести туда канюлю – гора с плеч! И сил словно прибавилось! Теперь начинаем, как мы говорим, коронарную перфузию, то есть вводим кровь в артерии, питающие сердце.
Предстоит рассечь спайки, связывающие лепестки клапана друг с другом. И снова замирает собственное сердце: только бы не ошибиться в направлении разреза и не отвернуть в сторону! Промахнулся – возникнет недостаточность клапана, а это столь же тяжелый порок, что и стеноз! Цвет же этих спаек почти не отличается от цвета створок, и вся работа идет где-то в глубине, в очень неудобных условиях – через трубку аорты!
Минута за минутой… Вот и створки освобождены. Ввожу туда палец. Он проходит совершенно свободно, а до этого и тонкий карандаш не прошел бы! Можно заканчивать операцию… Мальчик пока в терпимом состоянии.
Тщательно сшиваю рану аорты – два ряда швов! Перед тем как наложить последний из них, извлекаю канюлю и герметично ушиваю рану. Впрочем, герметично ли – это будет видно, когда откроем зажим… Открываем… По всей линии шва – профузное кровотечение! Прикладываю салфетки к месту разреза, затем начинаем отсасывать насосом – все равно упорно кровоточит!.. Герметичности не получилось. Досада на себя, усталость и увеличивающаяся тревога за судьбу ребенка. Хочешь не хочешь, снова придется пережать аорту и накладывать новый шов – уже П-образный! Причем делать это нужно быстро: коронарной перфузии нет, и время строго лимитировано! Становится понятной причина такого кровотечения: аорта, несмотря на то, что принадлежит малышу, очень склерозирована (ведь ей приходится выдерживать давление в двести миллиметров ртутного столба!), и от каждого прикосновения иглой на ней сразу же образуется отверстие…
С трудом провел третий ряд швов, и снова, сняв зажим, держу салфетки, теперь десять минут. Непосредственно на край раны положил еще кровоостанавливающую губку… Кровотечение уже не такое сильное, но все же в двух местах шва кровоточит сильно. Если накладывать еще раз зажим – можно повредить мышцу сердца. Так что? Ушивать на переполненной кровью аорте? Придерживая кровоточащее место пальцем левой руки, правой под ним накладываю матрасный шов. Один… Второй… У моих помощников над масками лица потные и серые. Такое же лицо, наверно, и у меня. Так измучились, что не только шутки – лишнего словечка никто не произнесет…
И когда все показатели деятельности сердца стали нормальными, отключили аппарат. Все в напряженном внимании. Каков будет результат нашей работы? А вдруг неудовлетворительный?!
Измеряем давление в левом желудочке. Нормальное! Первые оживленные фразы, чей-то негромкий смех… Это разрядка. И при взгляде даже на выносливого Егиазаряна подмечаю, что нет в его облике прежней порывистости, измотан вконец. Что уж тут говорить о Лидии Ивановне Краснощековой – одни потемневшие глаза на бледном, обострившемся лице…
Пошел к себе в кабинет выпить стакан чаю. Только расположился, бегут за мной из операционной. Сколько раз повторялось такое! Снова в операционную, тоже бегом.
Гена бледен – ни кровиночки.
– Давление?
– Шестьдесят!
– Введите внутриартериально кровь.
Владимир Фадеевич объясняет:
– После отключения аппарата сердце неплохо удерживало давление. И неожиданно без всяких причин давление резко упало!
– Не совсем без всяких причин, – говорю ему. – Левый желудочек привык работать при давлении в двести, и вдруг оно сократилось в два раза. Нет уже того раздражителя, понимаете?
После ста кубиков давление у Гены выровнялось.
Снова пошел в кабинет, допивать свой чай…
Дома появился где-то в десятом часу вечера. Лидия Ивановна и Егиазарян остались в клинике. Пожалуй, они не отойдут от больного всю ночь, дома их сегодня не дождаться.
И я, ложась спать, бессонно думал о прошедшем дне, о Гене Жиганове, о том, что если все будет хорошо, мальчик уедет в наши сибирские края, станет бегать по той земле, по которой бегал когда-то мальчиком я сам, и впереди ждет его большая, огромная жизнь. Невозможно даже представить, как она сложится у него, чему он научится, какую пользу, в конце концов, принесет людям… Светлых дней тебе, Гена Жиганов!
А утром я с облегчением узнал: давление у мальчика стало более устойчивым, все подтверждает, что состояние Гены улучшается.
И мы решаем уже вопрос о другом больном. Сейчас это десятилетняя Нина Смирнова из-под Астрахани.
Лидия Ивановна докладывает:
– Судя по газам крови в правом желудочке, по прохождению катетера и контрастного вещества, у девочки большой дефект межжелудочковой перегородки и одновременно незаращение боталлового протока.
– Давление в правом желудочке и в легочной артерии сто десять при давлении в аорте сто двадцать, – сообщает свои данные Соколов.
Сомневаться не приходится: у девочки высокая степень легочной гипертензии (повышенного давления в легочной артерии). Это значит, что в легкие кровь поступает под давлением не в двадцать пять миллиметров, как при норме, а в сто десять. Сосуды легкого от этого склерозируются, и любая операция, по существу, оказывается уже бесполезной.
Все некоторое время сидим молча. Нину, которую отказались лечить местные врачи как безнадежную, привезла мать. Нина – ее единственный ребенок. Болезнь девочки запустили: навряд ли мы что сумеем тут…
– Может, рискнем, Федор Григорьевич? – говорит Егиазарян и с надеждой смотрит на меня: он, успев привязаться к девочке, переживает за нее как за родную.
Потом приходит мать. Плачет… Просит: «Ведь другого-то выхода нет, профессор!..» И мы, видя чуть ли не полную безнадежность операции, все же решаемся сделать ее, разбив на два этапа: в первом – перевязать артериальный проток, а после некоторого перерыва – попытаться закрыть дефект межжелудочковой перегородки. Обе эти попытки, разумеется, «операции отчаяния».
Мать горячо благодарит нас… За что?!
…Первую операцию Нина перенесла очень тяжело, но все же поправилась. Предстоял второй этап, который мы отложили на осень.
Однако – вспоминаю это сейчас с горечью – в назначенное время женщина с девочкой не приехала. А спустя несколько месяцев мы получили от нее письмо, где в оскорбительных тонах она упрекала нас в том, что мы на первой операции «допустили грубую ошибку», «перевязали не то, что надо»… Об этом, оказывается, ей «доверительно» сказал хирург В., к которому она обратилась, чтобы тот сделал ребенку вторую операцию. Нина ее не выдержала, умерла, и хирург, судя по письму убитой горем матери, не нашел ничего лучшего, как в своей неудаче… обвинить предыдущего хирурга! Он сказал, что мы якобы вместо протока перевязали легочную артерию!
Хотелось бы посмотреть этому негодяю прямо в глаза, сказать ему, что не ту профессию он избрал себе: у хирурга, как ни у кого, должны быть чистыми и руки, и совесть. Ведь и так не было почти никаких шансов на спасение девочки. Но матери хоть слабым утешением могло служить сознание того, что она все сделала для спасения дочери. Своим же подлым поступком хирург лишил женщину последнего для нее утешения: не тем, дескать, врачам в самом начале доверила ребенка!
К счастью, такие хирурги встречаются не часто.
Высокое благородство, честность, правдивость, бескорыстие, гуманность, бережное отношение к больному, душевная красота – неотъемлемые качества русских хирургов. Важная привлекательная черта характера хирурга: чувство локтя, взаимопонимание и уважение к товарищу по работе. Хирург не может работать один… Результат его труда складывается из усилий нескольких человек, без которых он почти беспомощен… Это – ассистент, операционная сестра, наркотизатор, второй ассистент и другие не менее важные помощники. И от их умения, настроения, отношения к хирург, как к человеку зависит не только слаженность действий самого хирурга, но нередко и жизнь больного… Кроме того, сам испив чашу горького труда и переживаний, отлично понимая, какие трудности испытывает любой другой его коллега у постели больного (решая вопрос о показаниях к операции) или у операционного стола (решая вопрос о жизни больного), хирург прекрасно понимает товарища по профессии и горячо сочувствует ему, если тот преданно и честно исполняет свой долг…
Ведь сколько пишут на нас различных заявлений и жалоб! И все потому, что хирург стоит в центре при решении наиважнейшего вопроса: или… или… жить или умереть! Кому-то всегда кажется, что при печальном исходе у больного виноваты лишь мы, врачи. И если бы не глубокое понимание дел и устремлений одних хирургов другими – наша страна могла бы преждевременно лишиться многих способных мастеров скальпеля, их незаслуженно отстранили бы от занятий. Поэтому хирург, выступающий в роли арбитра при разборе жалобы, обязан идти не на поводу измышлений и ошибочных суждений, а строго следовать истине!
Помню, в пятидесятых годах мне принесли на заключение несколько историй болезни умерших после операции у Ильи Израилевича Ташинского. В чрезвычайно трудных условиях пятигорской больницы он начал разрабатывать сложнейший раздел хирургии – резекцию пищевода при раке, и это в то время, когда такая операция делалась лишь в немногих клиниках страны. И вот на Ташинского поступило заявление, что он «необоснованно губит людей»… Написали его невежественные люди или те, кто хотел свести с хирургом личные счеты.
Рассмотрев документы, я дал заключение, что хирург серьезно и на научной основе подходит к операции, а несчастные случаи, которых в хирургии, особенно при освоении нового раздела, не избежать, зависят от тяжести состояния больных, от травматичности самой операции и в какой-то степени от несовершенства обезболивания… И – как вывод: не только привлекать Ташинского к ответственности, но даже чинить препятствий ему в продолжении таких операций ни в коем случае нельзя!
В ту пору с И. И. Ташинским лично знаком я не был, впервые увидел его много лет спустя… Время подтвердило, что мое заключение было совершенно правильным и полезным для нашего здравоохранения. Ташинский продолжал и дальше развивать хирургию, организовал у себя хирургическое лечение больных не только с заболеваниями пищевода, но и легких и даже сердца! А дай я отрицательное заключение, пойди на поводу у кого-то, сколько больных лишилось бы квалифицированной помощи этого хирурга!
Разумеется, такая взаимоподдержка хирургов ничего общего не имеет ни с так называемой «кастовостью», ни с «защитой чести мундира». Хирург, давая объективное заключение о работе своего коллеги, как никто другой понимает все особенности и тонкости ее, все, что было на пути товарища по профессии, когда он стремился к успеху… Ведь согласитесь, навряд ли поймет, как тяжела для хирурга четырехчасовая операция, человек, не стоявший у операционного стола и десяти минут!
Кстати, часто бывая за границей и встречаясь с учеными-хирургами разных стран, я убеждался в их глубоком уважении к хирургам других континентов, а значит, в их товарищеской солидарности… Об этом образно сказал знаменитый Де Бэки: «Для меня хирург России или даже Китая ближе, чем терапевт Хьюстона!» (Город, в котором он работает.)
Вот почему, наблюдая и постоянно ощущая высокое благородство огромного большинства хирургов нашей страны, особенно болезненно переживаешь отдельные проявления авантюризма, а иногда и подлости со стороны некоторых представителей нашей профессии.
Два известных мне хирурга находились, казалось бы, в дружеских отношениях, даже бывали друг у друга в доме. Когда же один из них сделался начальником, он, воспользовавшись незначительным поводом, создал коллеге такие условия, при которых тот уже не мог работать в прежнем объеме, почувствовал, что ему отрезаны все пути для какой-либо инициативы…
Оказалось, что первый, несмотря на свой новый высокий пост, был просто-напросто завистником. Сам, оторвавшись от активной хирургической практики, он не хотел, чтобы и другие успешно ею занимались. Грустно? Скорее прискорбно.
…Как только сердце стало «подчиняться» нам, мы, разгадав его первые тайны, решили разгадывать и другие. Мы хотели, чтобы оно лежало перед нами, «на хирургической ладони», доступное, покорившееся!
Подобно другим хирургам мира, мы искали эффективные методы остановки сердца. Провели сотни экспериментов…
Я уже говорил, что было установлено: наиболее успешный и удобный метод – общее глубокое охлаждение с применением искусственного кровообращения.
Надеялись, что такой метод поможет нам в борьбе за спасение жизни Глебушки. Как подсказывали результаты экспериментов на животных, чтобы остановить сердце, организм нужно охладить в пределах +10–12°.
Сейчас, задним числом, пишу об этом уже спокойно. А в те недели, когда завершалась подготовка к такой небывалой операции, ходил сам не свой. Рой сомнений преследовал неотступно, порождая страхи, которые в обычном состоянии и выдумать трудно! Снова и снова проверял, все ли учли мои помощники, хорошо ли отрегулирована аппаратура, ясны ли каждому предельно точно его обязанности в операционной…
И день настал!
К аппарату искусственного кровообращения был подключен специальный теплообменник с жидкостью, способной охладить кровь ребенка.
Под влиянием охлаждения сердце мальчика начало сокращаться реже, реже, и вот оно уже просто фибриллирует, то есть дрожит мелкой дрожью, которая с каждой минутой все слабее… При температуре в 10° сердце стало холодным и неподвижным…. Электрокардиограмма и энцефалограмма показывали прямую линию: никаких признаков жизни!
Это надо было видеть! Холодное, неподвижное сердце готово к операции… Оно не бьется!.. Разве это еще не смерть?! Сердце, всегда горячее, сейчас охвачено холодом. В него не поступает кровь, оно не гонит ее во все уголки человеческого тела! Если это не смерть, что же тогда смерть?! Мозг?! Но он тоже сейчас холодный и недеятельный?! На аппарате прямая линия: биотоки мозга отсутствуют, никаких процессов в нем не происходит!
Со сложным чувством прикасаюсь к замершему сердцу ребенка, а сам ни жив ни мертв, в жутком напряжении: возвратим ли Глебушке остановленную нами же его жизнь? А если не сумеем? Ведь тут опять для нас все впервые…
Рассекаю стенку правого желудочка у места выхода из него легочной артерии. Она невероятной толщины. Мышца сердца образовала здесь как бы большой вал, затрудняющий проход крови и суживающий просвет легочной артерии! Его нужно иссечь… Да с такой высокой точностью, которой вообще требуют все сердечные операции. Здесь недопустимы никакие «чуть» (чуть в сторону, чуть глубже, чуть выше)! Если иссечь мало, сужение не будет устранено; если же много – поранишь аорту у места выхода из левого желудочка, поскольку валик располагается на межжелудочковой перегородке.
Справился. Однако не передохнешь! Впереди еще более трудная и более ответственная часть работы: устранить дефект – отверстие в межжелудочковой перегородке. Оно располагается глубоко под тем самым мышечным валиком, который хотя теперь и иссечен, однако представляет собой серьезное препятствие, как бугор на ровном месте! И чтобы обнаружить отверстие, надо с силой оттягивать этот вал крючками…
Отверстие оказалось большим: 2 × 3 сантиметра. Здесь нужна заплатка. Без этого его края стянуть невозможно. Но сердце уже давно не получает крови. Хотя оно и охлаждено, все же сердечная мышца страдает от кислородного голодания, тем более что температура тела несколько поднялась. Даю указание вновь подключить аппарат и продолжить охлаждение…
Как ни растягивай края раны, все равно получается узкая трубка, в глубине которой не только нужно отыскать края дефекта, но и прошить их. Я должен буду наложить десять– двенадцать швов, каждый из которых сам по себе проблема. Ведь там, в глубине, так легко прошить совсем не то, что нужно! А если ты, допустим, ошибся и прошил нервные центры, нормальный ритм работы сердца будет нарушен. Придется все расшивать, удалять все нитки, так как трудно определить, который из швов прошел по нервным волокнам…
Но вот концы ниток с иголками выведены наружу и уложены в строгом порядке. Теперь выкраиваю заплатку из прочного и не дающего вокруг себя воспаления материала, в данном случае – дакрона. Через ее край прошиваются все двенадцать нитей… Теперь начинаем погружать заплату на место и один за одним завязываем узлы – в той самой, пугающей глубине. Завязать надо прочно, чтобы между стенкой и заплаткой не было зазора. А натягивать нитку особенно сильно нельзя, можешь прорезать мышцу сердца или порвать нитку. Замени-ка ее тогда попробуй! Намучаешься и время потеряешь…
Наконец и это преодолели… Опять запускаем систему искусственного кровообращения, проверяем герметичность заплаты. Все хорошо. Поступления крови из левого желудочка в правый нет! Порок устранен! Теперь – ушивать рану сердца… Но не тут-то было! После иссечения мышечного валика попытки стянуть края раны приводят опять к сужению легочной артерии. Если сшить так, снова воссоздадим порок!
Как быть? Наверно, единственный выход – заплата. Выкраиваю ее опять из дакроновой ткани, вшиваю в край разреза мышцы сердца. Две заплаты в одном сердце! Но благодаря этому сужения нет.
В теплообменник вместо холодной была налита теплая жидкость +40°. Кровь, проходя через этот аппарат, нагревалась и, поступая в организм ребенка, согревала и его. Датчики стали показывать повышение температуры во всем теле. И тут же откликнулось сердце! Дернулось, задрожало, стало биться бурно, но не в ритме, а беспорядочно…
Один электрод аппарата в виде лопасти – прямо на сердце, второй подложен под спину мальчика… Электрический удар… Еще один! Не только сердце, но и все тело ребенка подпрыгнуло и раз, и два… Сердце перестало так бурно и неравномерно сокращаться. Оно остановилось и как будто бы на минуту задумалось: что же делать?.. Затем последовало небольшое, но правильное сокращение… еще… еще… и сердце энергично заработало, сохраняя свой нормальный ритм!
Если было б можно – наверно, ликуя, мы закричали бы «ура!» Ведь могло быть и по-другому. На операции у прославленного хирурга из Бостона профессора Харкена я видел, как после внутрисердечной операции с охлаждением сердцебиение у больного никак не хотело восстанавливаться. Харкен раз десять применял электрический удар: он делал его двойным и даже тройным, и лишь после такой усиленной бомбардировки, когда хирург уже был в отчаянии, сердце все же заработало и сохранило нормальный ритм…
Мы не спешим отключать второе, «искусственное сердце». Требуется убедиться, нет ли каких дефектов, которые надо исправить… Мышца сердца Глебушки расправилась и действует хорошо, но кое-где нитки все же прорезались, так как она, мышца, от длительного кислородного голодания стала дряблой. Приходится наложить дополнительные швы… Вынужден взять капроновую ткань и, прошивая ее матрасным швом, заштопать кровоточащие места…
И не скоро еще будет окончена эта операция!
Аппарат отключен полностью, отсоединены все шланги, соединяющие его с ребенком. Зашиваем рану грудной стенки… К сердцу подведена трубка для контроля – не будет ли кровотечения? Прекратили наркоз и – ребенок проснулся. Он узнал нас! Мы это поняли по его глазам… Значит, со стороны коры головного мозга осложнений у Глебушки нет.
Работа по усовершенствованию методов операции продолжалась не ослабевая. Оперировали мы теперь надежно, научились справляться с любыми осложнениями… А по мере того, как расширяли диапазон операций на сердце, к нам все чаще стали поступать или приходить на консультацию. Среди других появились больные с инфарктом или с сердцем в предынфарктном состоянии. И поскольку последних было особенно много, а лечить их и предупредить инфаркт почти никто не умел, нам пришлось изучить и этот вопрос. Мы стали применять загрудинные блокады, и у многих сотен людей предупредили развитие этого грозного заболевания, каким является инфаркт миокарда. Впрочем, подробнее об этом позже…
Успехи в лечении подобных больных еще больше усилили поток желающих побывать в нашей клинике, сердце болело у многих, а участковые врачи не всегда могли поставить правильный диагноз. Вот и искали люди помощи у хирурга, полагая, что тот, кто может разрезать грудь и пощупать сердце рукой, легче определит болезнь, чем тот, кто просто слушает трубочкой… Порой один только спазм сосудов ставит человека на край могилы.
А видеть такую смерть при хорошо проходимых, целых сосудах от спазма, после снятия которого сердце может быть вновь совершенно здоровым, обидно. И примириться с подобной смертью трудно.
Поэтому хирургов давно привлекала эта проблема, и они пытались по-разному воздействовать на нервные сплетения сердца с тем, чтобы прекратить поток раздражителей, идущих к мозгу.
Существует теория, что повторно возникающий раздражитель создает рефлекторную дугу: раздражитель – мозг – сердце. Эта дуга имеет ту особенность, что нередко самого раздражителя может уже не быть, а патологическая связь сохраняется. И если тут применить новокаиновую блокаду, она прервет эту дугу, что даст человеку стойкое излечение… Основываясь на таком понимании сущности патологического процесса, хирурги решили вводить новокаин в околосердечную клетчатку, в которой заложены крупные нервные центры. Опыт показал, что новокаин действительно при этом блокирует нервные центры, которые заведуют сосудистым тонусом, и надолго снимает сосудистый спазм.
Методика введения новокаина подвергалась значительным изменениям и усовершенствованию. Первое время это делалось с помощью операции: производился разрез кожи над грудиной, в кости просверливалась дырка и через нее иглой новокаин подводился непосредственно к сердцу. Эффект, как правило, получался хороший, но сама методика была слишком сложна. Поэтому врачи стали высказывать многочисленные предложения подводить новокаин к сердцу с помощью лишь одной иглы…
Заинтересовавшись этим вопросом у себя в клинике, мы проверили все известные способы и нашли, что наиболее эффективен и сравнительно безопасен (при правильном проведении!) тот, при котором новокаин вводится через надгрудинную ямку с помощью длинной иглы, изогнутой под тупым углом. В это же время мы установили результативность различных доз и концентраций новокаина для больных с различной степенью спазма. Убедились, что для получения стойкого эффекта нужна большая доза – от шестидесяти до ста двадцати миллилитров полпроцентного, а при хорошей переносимости и при тяжелой форме спазма – до восьмидесяти миллилитров однопроцентного новокаина.
Ликвидируя спазм, мы тем самым в значительной мере предупреждали возникновение инфаркта у больного и, снимая боли в сердце, восстанавливали трудоспособность, давали возможность человеку чувствовать себя здоровым.
Как-то ко мне обратился один старый партийный работник Константин Ионович Ф. с жалобами на то, что боли в сердце стали непереносимыми, он боится, что не сегодня завтра случится инфаркт. Дело было в санатории, где мы оба лечились.
Посмотрев Константина Ионовича, серию его электрокардиограмм, я без труда установил, что боли в сердце у него – результат спазма, что инфаркта еще нет, но изменения уже значительные и их можно трактовать как предынфарктное состояние.
Я предложил ему сделать загрудинную блокаду. Он согласился без колебаний. Обычно в клинике мы проводим такие блокады несколько раз, с промежутками в четыре-пять дней. Начинаем с более слабой концентрации и переходим к большим. Но тут мне уже предстояло уезжать из санатория, имелся в распоряжении всего один день… А помочь человеку хотелось!
Получив согласие местной больницы, уложил туда Константина Ионовича и сделал ему загрудинную блокаду однопроцентным растворам новокаина, сразу введя максимальную дозу – восемьдесят миллилитров.
Больной перенес ее очень тяжело! Субъективно было ощущение сдавливания сердца, тяжести, головокружения. Объективно – у него была высокая температура, редкий пульс, рвота, то есть те явления, которые мы при обычной методике почти никогда не наблюдали. Кое-кто из персонала больницы поглядывал на меня чуть ли не с подозрением: положил профессор в палату здорового человека, а после укола вон что с ним происходит!
Но уже на другой день Константину Ионовичу стало лучше, а к вечеру боли, которые много месяцев не покидали его, исчезли совсем… Через год он сообщил в письме, что ничто его не тревожит, и он вновь, охотно распрощавшись с пенсионным положением, пошел на ответственную работу. Совсем недавно, а после той новокаиновой блокады минуло десять лет, Константин Ионович приезжал в Ленинград, разыскал меня, и я узнал, что он перенес серьезную операцию, и сердце вело себя безупречно. Обследовав его, я тоже установил, что никаких явлений коронарной недостаточности и спазма нет. Он и поныне в семьдесят один год чувствует себя здоровым человеком. Подобные примеры многочисленны. И главное, все достигается простой и сравнительно безопасной манипуляцией, когда нет нужды в скальпеле.
А вопрос о хирургическом лечении коронарной недостаточности уже много лет не сходит с повестки дня. Многочисленные способы операций были предложены и испытаны врачами всех стран. В последнее время хирурги стали применять большую и технически сложную операцию, создавая шунт между аортой и коронарной артерией сердца с помощью вены, взятой из ноги больного. Накоплен уже значительный опыт, имеются хорошие отдаленные результаты. Де Бэки на недавнем Международном съезде кардиологов сделал блестящий доклад на эту тему, вызвав у делегатов восхищение смелостью человеческой мысли и безграничностью возможностей постоянно совершенствующейся хирургии.
Однако решить вопрос о показаниях к подобным операциям можно только после проведения контрастного исследования сосудов сердца. Следовательно, такие операции должны производиться лишь в специализированных медицинских учреждениях, занимающихся проблемами заболеваний коронарных сосудов, поскольку сама методика операции требует узкой специализации… А новокаиновая блокада, которая в огромном большинстве случаев дает положительные результаты на несколько лет, технически очень проста, ее можно делать людям даже преклонного возраста, причем при соответствующей подготовке врачей в любой клинике! К нам такие больные в поисках защиты от опасности, нависшей над их сердцем, идут один за одним, и мы никому не отказываем в помощи…
Склеротические изменения в сосудах, в частности, в аорте, предрасполагают к местному расширению. Возникает аневризма аорты. Серьезное заболевание, которое нередко заканчивается разрывом сосуда. Лечение только оперативное. И как во все годы, мы одни из первых в нашей стране включились в разрешение этой проблемы…
Нет необходимости подробно описывать борьбу за решение всех проблем, которые ставили перед нами больные и которые мы в меру сил старались разрешить… Позволю только кратко представить наши усилия по спасению больных с поражением сосудов, питающих мозг. Дело в том, что от тех же самых причин, что приводят к преждевременному износу сосудов сердца, страдают и другие сосуды – в первую очередь мозга. Это не менее губительно для человека! Мне часто приходилось наблюдать больных, которые в молодом возрасте погибали или становились тяжелыми инвалидами от паралича… Установлено, что это заболевание возникает из-за тромбоза или поражения сосудов, питающих мозг.
Однажды ко мне пришел крупнейший наш терапевт и прекрасной души человек Пантелеймон Константинович Булатов и сказал:
– Посмотри, пожалуйста, сына моего старинного приятеля. У него нарастают явления паралича. Ты ведь этим вопросом занимаешься…
Так оказался в нашей клинике молодой ученый-физик Юрий Рылевский. Не буду рассказывать о причинах, заставивших его на каком-то жизненном этапе сильно нервничать, переживать, испытывать глубокие нравственные страдания, обращаю лишь внимание, что это было.
Первые неприятные симптомы обозначались тем, что Юрий вдруг стал плохо спать, приметил возникновение провалов в памяти, у него участились головные боли. Врачи объяснили, что это начало гипертонической болезни, посоветовали меньше работать, больше отдыхать, бросить курить. Он и сам чувствовал, что это необходимо делать, но все откладывал на завтра… А голова уже болела чаще и сильнее, он поймал себя на том, что порой не может сосредоточиться, появляется туман в глазах. Были даже моменты кратковременной потери сознания. А однажды, в самый обычный день, когда ничто не предвещало, что может быть хуже, он неожиданно упал, потеряв сознание, а когда очнулся, правая половина тела оказалась парализованной. Инсульт.
Через некоторое время появилась слабая чувствительность в непослушных теперь руке и ноге, можно было чуть-чуть пошевелить ими. Хуже обстояло дело с речью. Вначале не говорил совсем, затем еле ворочал языком: многие слова произнести ему не удавалось. Вызванный врач установил правосторонний гемипарез (неполный паралич) и порекомендовал дня три-четыре соблюдать строгий постельный режим, а затем лечь в больницу.
Однако за четыре дня пребывания дома Юрию лучше не стало. Наоборот, грозные явления нарастали: боль в голове не проходила, он часто терял сознание, язык ему не повиновался…
Мы в клинике сразу поняли, что у Юрия – картина прогрессирующей закупорки внутренней сонной артерии. Было решено провести специальное исследование, чтобы проверить наше предположение, и если все было так, как думали, то уточнить место и распространенность блокирования артерии.
Больному через бедренную артерию ввели тонкий катетер в аорту, а с его помощью – контрастное вещество. Получили серию снимков. Оказалось, что заполнение левой общей сонной артерии запаздывает, а левая внутренняя сонная артерия, идущая в мозг, закупорена полностью. Это значит, что гемипарез будет прогрессировать и в любой момент может наступить полный паралич! Посоветовавшись с родителями Юрия и с его женой, мы решили рискнуть и сделать операцию, которая сама по себе представляла большую опасность для больного.
Мы принимали все меры к тому, чтобы остановить дальнейшее развитие процесса, но удастся ли дать больному полное излечение?.. Что закрывает внутреннюю сонную артерию? Тромб или облитерирующий процесс, т. е. утолщение стенки сосуда, которое закрывает артерию на всем протяжении. Подозревали и другое: у просвета внутренней сонной артерии возникла артериосклеротическая бляшка, которая и прикрывает его, приводя к ишемии [ишемия – местное малокровие, вызываемое закупоркой или сужением питающей артерии] мозга с соответствующими последствиями…
Такие больные уже поступали к нам: у них постепенно нарастали изменения в мозгу, и мы видели их страдания. Мы уже давно начали изучать эту проблему. Осваивали методику контрастного обследования сосудов, которые питают мозг. Ее надо проводить так, чтобы установить полную картину состояния сосудов и не нанести мозгу вред контрастным веществом, вводимым через эти сосуды. Терапевтическое лечение в таких случаях мало что дает. Только операция, сделанная вовремя, может принести реальную пользу. Но операция сложна, опасна для мозга, может причинить непоправимый ущерб. Ведь придется не только вскрывать сосуд, питающий мозг, и удалять причину, создавшую угрозу, но после этого нужно будет восстанавливать целостность сосуда. Здесь много серьезных помех, и малейшая ошибка может кончиться гибелью больного на столе. А кроме того, чтобы при реконструкции сосуда не сузить его, надо вшить в разрез небольшую заплату. Но из какого материала? Лучшие результаты – при применении заплатки из вены, взятой у того же больного… Так и поступили при оперировании Юрия Рылевского.
…Сделав разрез на шее, обнажаю сосуд, питающий голову и мозг. Освобождаю его выше и подхожу к тому месту, где сосуд разветвляется на два: один для лица, другой для мозга. Этот, последний, и надо проверить. Все манипуляции требуют особых предосторожностей. Чтобы вскрыть сосуд, нужно его пережать: иначе кровь все зальет, и оперировать будет невозможно. Но пережимать сосуд нельзя даже на две-три минуты – наступит омертвение мозга, и тогда – смерть… Подвел под сосуд тесемочки. Подготовил полиэтиленовую трубочку, чтобы ввести ее в просвет сосуда и пережать его над ней – появится возможность работать, а питание мозга не нарушится…
Вскрываю сосуд. Он на самом деле закупорен тромбом, который образовался на небольшой артериосклеротической бляшке. От нее тромб потянулся в глубь сосуда по направлению к мозгу. Бляшка вместе е тромбом была отделена от стенки сосуда и захвачена пинцетом. Осторожно потянул ее. За нею вытягивается сгусток крови (это и есть тромб!), уходящий далеко в полость черепа. Медленно и осторожно, затаив дыхание, продолжаю тянуть, боясь неосторожным движением оторвать тромб. Оторвешь – и захватить этот рыхлый, мягкий ком из крови будет уже невозможно! Он станет разваливаться и рваться от соприкосновения с любым инструментом…
Вытянул 3… 4… 5… 8… 10… 12 сантиметров! Тромб вышел полностью, не разорвавшись!
А как только удалил его, из просвета сосуда показалась алая артериальная кровь… Значит, теперь сосуд проходим на всем протяжении! Позволил току крови смыть возможные мелкие тромбы, затем вставил в просвет сосуда тонкую полиэтиленовую трубку и зашил рану с помощью той самой заплатки из вены. Этим окончательно восстановил нормальный ток крови по внутренней сонной артерии, то есть обеспечил питание мозга.
…Когда Юрий после операции пришел в себя, он обратил наше внимание на отсутствие головной боли, которая мучила его в течение последних недель и даже месяцев. Речь у него стала значительно свободней и внятней, прояснилось сознание, постоянный туман и завеса, мешавшие зрению, исчезли… Через десять дней мы разрешили ему ходить, а через три недели выписали из клиники. Отдохнув несколько недель дома, а затем в санатории, Юрий Рылевский вернулся в свой НИИ полноценным человеком, таким, каким он был до болезни. Этому в немалой степени способствовало и то, что Юрий бросил курить.
В нашей клинике курение строго запрещено всем без исключения, и за нарушение этого правила больной выписывается тут же, никакие просьбы и ходатайства не в состоянии нас разжалобить. И это правило, кстати, способствовало тому, что многие больные, пролежав в клинике месяц-полтора и вернувшись домой, не возобновляли дурную привычку, расставались с курением навсегда.
Сейчас, когда прошло уже несколько лет, Юрий Рылевский чувствует себя совсем здоровым, уже, вероятно, понемногу забывает о той катастрофе, которая когда-то чуть не погубила его в тридцать шесть лет… Его научные работы по одному из узких разделов физики известны тем, кто занимается в науке подобными проблемами.
Таких операций – по защите мозга – мы проделали свыше пятидесяти. Были и блестящие результаты, как у Юрия, и даже лучше, но были и такие, где наша операция оказывалась бесполезной. Это случалось главным образом когда у больных процесс закрытия просвета сосуда шел по линии утолщения стенки не местно, а продолжался вглубь, до разделения сосуда на его мелкие ветви. Встречали и таких больных, у которых процесс захватывал почти все крупные сосуды, идущие к мозгу с обеих сторон, и где восстановить кровоток невозможно было ни путем удаления тромбов из просвета сосуда, ни путем обходных анастомозов. Самое большое, что мы могли тут сделать, – это провести операцию на симпатических нервных узлах шеи, что давало местное расширение сосудов в этой области и тем самым некоторое улучшение состояния человека… Но если тяжелое состояние и нависшая катастрофа зависели от какой-нибудь небольшой артериосклеротической бляшки, сидящей в просвете сосуда, мы с помощью деликатной операции возвращали больному потерянное было здоровье…
В течение семнадцати лет вся наша работа проходила в здании госпитальной хирургической клиники, выстроенной сто двадцать пять лет назад, когда хирургия не имела ни тех задач, ни тех возможностей, что нынче. В 1960 году, будучи на приеме у первого секретаря Ленинградского обкома партии Ивана Васильевича Спиридонова, я пригласил его приехать в клинику и посмотреть операцию. Он принял приглашение и через несколько дней, посмотрев операцию на сердце, сказал: «Ваше большое дело находится в вопиющем противоречии с той обстановкой, в которой работаете. Вам необходимо построить новую, современную хирургическую клинику…» А буквально на следующий день мне позвонили из Совета Министров РСФСР с просьбой представить свои соображения о проекте здания хирургической клиники… Так началось это строительство, которое в течение пяти лет потребовало от меня и всего коллектива громадного напряжения. Кто сам строил когда-либо, знает, что это за хлопотное дело! Мы вынуждены были даже пойти на недозволенное: одного из ассистентов обязали осуществлять неослабный контроль за качеством и сроками строительства. Остальные безропотно взяли всю его работу на себя, лишь бы скорее иметь хорошее здание для клиники! Часто устраивали воскресники и субботники, и по существу каждый рабочий день начинался у нас с обсуждения тех трудностей, которые встретились при строительстве вчера… Зато получили такое здание хирургической клиники, которым восхищались не только свои, но и зарубежные хирурги.
После организации при нашей кафедре уже в новом здании института пульманологии мы всерьез занялись изучением хронической пневмонии, которая по своей значимости выходила на одно из первых мест среди других заболеваний человека. Были открыты лаборатории по изучению патологии дыхания, и коллектив был нацелен на быстрейшее изучение этой важнейшей проблемы.
Изучая хроническую пневмонию, мы одновременно включились в исследование причин и сущности бронхиальной астмы; овладели методикой лечения острых абсцессов легкого путем введения лекарств непосредственно в легочную артерию и добились полного излечения у сотен больных, в то время как некоторые хирурги при этом удаляют все легкое.
В последние годы хирургическая и научная деятельность руководимого мною коллектива была особенно продуктивной. Мы очень близко подошли к разрешению ключевых вопросов легочной патологии. Наши сообщения привлекали внимание зарубежных ученых…
Президент секции США Международной корпорации хирургов Гарольд Холстранд, побывав в клинике и институте, рассказал об этом в бюллетене «International Surgery 54», № 2 1970 года, где, в частности, писал:
«12 мая посетил 1-й Ленинградский медицинский институт и был приглашен на первое научное заседание, которое было открыто докладом профессора Углова Ф. Г. об оригинальных работах по пневмонии…
На следующий день мы опять посетили этот институт. В этот раз мы имели честь наблюдать, как проф. Углов резецировал аневризму левого желудочка под искусственным кровообращением. Техника и оборудование были высшего калибра, а руки проф. Углова были сказочно мягки…»
Вскоре я получил от него письмо, в котором были такие строки: «Как президент секции Соединенных Штатов Международной корпорации хирургов и от имени всех наших членов я хотел бы пригласить Вас участвовать в нашем очередном большом конгрессе, который состоится 20–25 ноября сего года в Лас-Вегасе, штат Невада… Гонорар, ассигнуемый каждому приглашенному из-за границы, составляет 1000 долларов в валюте США… Для нас было бы большой честью, если бы Вы приняли наше приглашение…»
В начале 70-х годов крупный перуанский хирург Эстбан Рокка как президент XIX Международного конгресса хирургов от имени правления прислал мне приглашение на конгресс в Перу в качестве личного гостя президента, и заочно я был избран почетным членом конгресса.
Когда-то, в сороковых годах, по статьям и книгам профессора Оверхольта я заочно учился методике операций на легких, они были первыми моими наставниками в новом, пугающе трудном и необходимом деле. И вот этот всемирно известный ученый в Ленинграде. Он сразу же отказывается от поездки в другие города, каждый день с утра до вечера в нашей клинике! Внимательно, пристрастно наблюдает за моими операциями, что-то, не уставая, записывает в блокнот, не стесняется спрашивать, когда тот или иной момент в работе хирурга и его ассистентов кажется ему непонятным…
Сердечно прощаясь с нами перед отъездом из СССР, Ричард Оверхольт скажет во всеуслышание, что за время, проведенное у нас, он многому научился. И повторит: многому! Важное признание. Для нас это признание особенно ценно еще и потому, что сделано оно звездой хирургического мира первой величины.
Глава XXI
Многие годы больные с митральным пороком сердца, причем в четвертой или пятой стадии, были в центре внимания нашей клиники.
Подготовка таких больных к операции, как уже рассказывалось, требовала долгих месяцев самого тщательного ухода и квалифицированного лечения. А после операции, в силу разных осложнений, забот с ними было не меньше. Чтобы твердо поставить подобного больного на ноги, дать ему жизнь и освободить от страдания, нужно иметь громадное терпение и время.
Однако не каждый хирург может позволить себе такое – держать больных, не выписывая из клиники и не оперируя, по нескольку месяцев. Ведь он находится под неослабным контролем медицинских администраторов, которые, к горькому сожалению, за цифрами отчета порой перестают видеть людей и их нужды. Они начинают нажимать на хирурга, обвинять его в своеволии, требовать выполнения среднего койко-дня… Хирургу и так тяжко, он в постоянном нервном напряжении – ведь у этих больных в любой час дня и ночи могут возникнуть осложнения, которые потребуют немедленной операции или многочасовой борьбы за жизнь, а тут эти нападки! Как будто бы не несчастный, по сути обреченный человек, занимает койку в палате, а он сам, хирург! Упрекают его.
Кроме того, сама хирургическая работа с этими больными часто не дает врачу удовлетворения из-за слабых результатов… У такого больного после длительного кислородного голодания наступают изменения в мышце сердца и в некоторых других органах. Операция сделана, с невероятными трудностями отверстие расширено, но у человека остаются почти те же явления сердечной недостаточности, что и до операции! И все потому, что сама мышца сердца пришла в негодность…
Можно было понять, почему большинство хирургов, которые занимались проблемой оперативного лечения митрального стеноза, отказывались от тяжелых больных. Работа затрачивалась огромная, применялись героические усилия, чтобы человека вылечить, а в итоге удавалось спасти лишь небольшой процент таких больных, да и то часть их ненадолго. А тут к тому же отсутствие понимания и поддержки со стороны администрации!
Хорошо еще, что союзным и республиканским министерствами руководили люди с государственным умом, такие, как Е. И. Смирнов, С. В. Курашов, Н. А. Виноградов, В. В. Трофимов, которые шли навстречу новаторам, поддерживали наши начинания. Ни один из них, кстати заметить, не использовал своего служебного положения, чтобы в ущерб другим оборудовать как нельзя лучше свою клинику, чтобы самому объездить весь мир… Они прежде всего стремились создать благоприятные условия каждому из активно работающих специалистов – всем нам! Они заботились о развитии научного обмена между учеными разных стран, и это в немалой степени способствовало тому, что в сравнительно короткий срок успехи нашей торакальной хирургии получили широкую известность.
Характерной особенностью русских ученых, поставленных на высшую административную должность, всегда являлась их скромность, глубокая внутренняя культура. Чем большими правами наделен такой ученый, тем скромнее он себя ведет. Это настолько вошло в традиции русской медицины, что всякого рода отклонения вызывают недоумение медиков.
К счастью для нашей хирургии, в руководстве здравоохранением страны у нас долгое время стояли настоящие ученые, скромные люди с умом и сердцем государственных мужей.
1950 год… Меня несколько месяцев назад избрали заведующим кафедрой 1-го Ленинградского медицинского института. Звонок из министерства: просят приехать, имея на руках доклад по хирургии легких.
Только появился в знакомом здании, министр Ефим Иванович Смирнов принял сразу же. Приятно было слышать, с каким знанием министр говорил о моей работе, подчеркивая при этом, как она важна и какие надежды возлагаются на меня как на ученого… Я узнал, что должен поехать в Италию для ознакомления с тем хорошим и новым, что достигнуто в развитии грудной хирургии итальянскими специалистами, в частности профессорами Долиотти и Вальдони. Вместе со мной поедет профессор Павел Евгеньевич Лукомский.
Напутствуя, Ефим Иванович давал полезные советы, говорил, что если в ходе поездки возникнут какие-либо затруднения, нужно, не стесняясь, звонить сюда, в министерство. Поддержка будет оказана. Всю заботу о нашем путешествии он возлагал на своего первого заместителя Александра Николаевича Шабанова…
И действительно, Александр Николаевич сделал все, чтобы наша научная поездка за границу прошла как нельзя лучше, принесла пользу делу.
Конечно же, это памятно, и можно лишь желать, чтобы всегда был такой стиль работы с научными кадрами, чтобы в министерстве умели видеть далеко и были бы осведомлены о том, кто что делает, чем кому можно помочь…
Мы, хирурги того времени, нередко спорили между собой: не лучше было бы, если бы руководителем Министерства здравоохранения был тот или иной узкий специалист? Скажем, крупный ученый-терапевт, хирург или представитель другой специальности? Спорить спорили, однако на этот вопрос, по-видимому, нельзя дать определенного ответа. Все зависит от личности, от масштаба мышления человека. Если он мудрого незаурядного ума и совестлив (в большом значении этого слова!), при нем гармонично будут развиваться все разделы. Ведь мы знали, как тягостно бывает, когда администратором даже среднего звена становится специалист, влюбленный в себя, который хочет быть первым или, что еще хуже, единственным в какой-то области знания. Под руководством такого человека будет процветать в основном лишь подведомственное ему лично учреждение. А чтобы кто-то, не дай бог, не превзошел его, он, не будучи в состоянии сам подняться до высокого уровня, станет глушить и угнетать каждого соперника, лишь бы действительно выглядеть первым!
Так же удручающе действует на медиков и на развитие науки в целом тот факт, если во главе учреждений становятся безграмотные в медицинском отношении администраторы, без которых, к сожалению, мы почему-то еще не научились обходиться…
Советская медицина может гордиться, что сам социалистический строй, мудрые мероприятия партии и правительства создали все условия для ее развития и процветания. Наши достижения тут общеизвестны, признаны всем миром.
В работе хирурга трудности заложены не только в сложности самой операции, но и в том еще, что лечение больных требует больших затрат на дорогостоящие лекарства, Когда больных один-два на хирургическое отделение – это не так заметно. Но если их много – половина или даже больше, как бывало у нас в клинике, затраты ложатся тяжелым бременем и на отделение, и на всю больницу в целом. Сразу же назревает конфликт между хирургом и главным врачом.
Если в лечебном учреждении главным врачом работает, как подразумевает само название должности, наиболее образованный, знающий и авторитетный клиницист, разбирающийся в вопросах лечения не только не хуже, но и лучше многих специалистов, он, конечно, найдет возможность и изыщет средства, чтобы помочь развитию нового, прогрессивного начинания. И мы помним немало таких главных врачей, чью подвижническую деятельность можно назвать образцовой. Такими в свое время были Г. Ф. Ланг, Ю. Ю. Джанелидзе, А. А. Нечаев. По стилю работы, по эрудиции и клиническому подходу к решению административных вопросов близко к ним стоял П. К. Булатов, много лет работавший главным врачом больницы имени Эрисмана. Много и сейчас подобных энтузиастов. Однако порой можно видеть и другое, когда эту должность занимают лица, которые сами давно перестали быть врачами. Освободив себя от прямой ответственности за судьбу больных, они волей-неволей теряют ту мягкость, гуманность и бережное отношение к заболевшему человеку, без чего врач становится просто чиновником, для которого главное – бумажки, цифры, проценты, бесстрастные показатели разграфленных ведомостей… И если чиновник-бюрократ нежелателен и даже опасен на любом месте, в медицине он нетерпим совершенно!
Хирургу, которому доверяют жизнь сотен людей, почему-то не могут доверить разумного права принимать тех больных, которых ему же предстоит спасать. Тут – принять или не принять – решает тот, кто порой ничего не понимает в болезни пациента, не знает, как делать операцию, руководствуется лишь инструкцией, да еще по-своему, по-бюрократически читает ее.
В одной крупной больнице был хороший главный врач-клиницист, понимавший нужды клиники, ставивший интересы больных, как и положено, на первое место. Внезапно сорокапятилетним он скончался. Это была большая потеря и для коллектива больницы, и для медицины вообще… Год там жили без главного врача, полагая, что если долго подбирают человека на эту должность, то хотят найти достойную замену. И каково же было удивление всех, когда в качестве главного появился Владимир Абрамович Крамолов, человек малой квалификации, с невысокими моральными устоями, не имеющий понятия о благородстве – столь важном свойстве врача. Он не был хорошим специалистом ни в одной области: немного занимался хирургией, немного – лечением ожогов, любил бывать на подхвате у какого-либо крупного администратора. И вдруг стал главным врачом большой больницы!
Поскольку он не обладал достаточной клинической подготовкой, высокой внутренней культурой, беспокойство врачей, их переживания за тяжелых больных ему были чужды и непонятны. На просьбу хирурга заменить оборудование для разработки новой проблемы, на одного-двух человек увеличить штат он ответил: «Вы не можете без этого делать больших операций? А зачем их делать? И койко-день будет хороший, и экономия по всем статьям!» Тогда хирург спросил: «А что же будут делать больные с болезнями сердца и легких? Их куда?!» На это Крамолов во всеуслышание заявил: «За всех больных я не собираюсь сам болеть. Здоровья не хватит!»
Когда же днями позже хирург заметил ему, что в нынешних условиях вообще оперировать невозможно, Крамолов предостерег: «Если еще раз так скажете, мы совсем запретим вам оперировать тяжелых больных, пока не будут созданы соответствующие условия. Раз нет условий – не оперируйте! Я не настаиваю, между прочим… Ждите, когда эти условия у вас будут!»
Не подумайте, что здесь автор в плену художественной фантазии. Нет, Крамолов, к сожалению, не литературный образ, а реальный, живой субъект.
Только фамилия несколько видоизменена.
К счастью, крамоловы – не везде! Даже можно сказать – они редки. Но там, где они есть, неуютно чувствуют себя и врачи и больные…
В той же клинике особенно не повезло уже немолодому, опытному хирургу. Хорошие хирургические способности сочетались в нем с огромной любовью к своему делу, и поэтому у него сразу же начались стычки с новым главврачом: ведь так много нужно было для больных, а попробуй добейся чего-нибудь у Крамолова!
Тот же, почувствовав неприязнь к хирургу, старался теперь возбудить ее в других, не стеснялся в присутствии остальных врачей, но, конечно, за спиной самого хирурга, говорить о нем таким примерно образом: «А что, он уйдет из клиники, так всем легче будет! На этом месте какой-нибудь безграмотный, бездарный фельдшер лучше, чем капризный талант!» Ему робко возражали: «Кто же тогда будет делать сложные операции, учить других?» Крамолов пожимал плечами: «А зачем нам это? Вам-то лично лауреатской медали все равно не дадут, чего переживаете? Не о чужом дяде думайте, о себе!» Когда же ему сказали, что хирург настойчив, не отступится, добьется, чтобы хирургическое отделение привели в надлежащий вид, главврач нашел «соломоново решение»: «А мы, пожалуй, препятствовать этому не станем. Поставим отделение на ремонт и будем ремонтировать четыре года! И договоримся с кем надо: пусть он даже все это время зарплату получает, а оперировать не дадим…»
И понятно, что крамоловы особенно резко нападают на тех, в ком заметны проявления способностей и самостоятельности. Вспомним хотя бы нашего гениального Пирогова Николая Ивановича. В каких только грехах его не обвиняли, чего ему не приписывали!
Гонение на талантливых людей, к сожалению, было во все века и во всех странах, но почему-то история этих трагедий ничему не учит людей. Говоря о драме Галена, Юрий Герман пишет в книге «Я отвечаю за все»: «Разумеется, если бы он был на две трети менее даровит, то жизнь его сложилась бы куда благополучнее для него самого… Но именно его гений объединил против него всех бездарных сукиных сынов той эпохи. Ничто так не объединяет сволочь, как появление истинного таланта, грозящего своим существованием их благополучию…»
И дальше:
«Ведь завистники и клеветники, подхалимы и бездарности добились-таки изгнания Галена из Рима… А историки талдычат… что у него был «строптивый и тяжелый характер»…
…Те же самые объединенные бездарности добились того, что Гарвея объявили сумасшедшим…
…А Пастер? Банда карикатуристов и журналистов долгое время кормилась, глумясь над микробами Пастера! А он ведь читал газеты каждый день. И, конечно, Пастер сделал бы куда больше, сохрани он ту энергию, которая требовалась на борьбу с современными ему мракобесами, для дела…»
Правда, настоящего хирурга, даже когда его лишают привычных рабочих условий, невозможно оторвать от дела, без которого он не мыслит жизни. Он все равно найдет возможность в скромной обстановке работать с прежним упорством, отдавая знания, талант и любовь народу. Это, например, убедительно и наглядно доказал великий хирург нашего времени Сергей Сергеевич Юдин. Поставленный в невероятно трудные условия, лишенный, по сути, всего, что имел до этого, он продолжал упорно трудиться, создал творения, которые восхищают нас, хирургов, и которые стали ему долговечным памятником…
Огромного нервного напряжения стоит хирургу каждая операция, особенно сложная. У меня и, как видно, у других хирургов нередко случавшиеся во время операции осложнения зависели от неблагоприятных воздействий внешних факторов… Нервы хирурга надо щадить! Это в интересах больного человека.
По-разному хирурги подходят к операции. Это зависит от того, какой он специалист и какой он человек…
Одни резко суживают показания к операции, применяя их только в наиболее благоприятных условиях, когда риск минимален, успех очевиден. Другие же, наоборот, превращают порой операции в мало обоснованный эксперимент на человеке, полагая, что без этого невозможен прогресс в хирургии. Я же считаю, что ни первое, ни второе неприемлемо. Но вначале один известный в истории медицины факт…
Когда у Н. И. Пирогова был поставлен диагноз рака верхней челюсти, лечивший его доктор Выводцев попросил сделать операцию знаменитого Бильрота… Тот, ознакомившись с состоянием больного, не решился на это. «Я теперь уже не тот бесстрашный и смелый оператор, каким Вы меня знали в Цюрихе, – писал он Выводцеву. – Теперь при показании к операции я всегда ставлю себе вопрос: допущу ли я на себе сделать операцию, которую хочу сделать на больном…»
Сообщая об этом, В. В. Вересаев спрашивает: «Значит, раньше Бильрот делал на больных операции, которых на себе не позволил бы сделать?» И добавляет: «Конечно, иначе мы не имели бы ряда тех новых блестящих операций, которым мы обязаны Бильроту».
Действительно ли прогресс хирургии невозможен, если придерживаться основного принципа гуманной медицины – не рекомендовать больному того, что мы, при соответствующей ситуации, не применили бы к себе?
Мне, считаю, очень повезло в жизни в том смысле, что принцип, к которому Бильрот подошел на закате своей хирургической деятельности, мною, благодаря моим учителям был усвоен как непреложный закон на заре моей хирургической юности. Всю свою жизнь я старался не нарушать этот святой закон: не предлагать больному такой операции, которую бы себе не стал рекомендовать. И тем не менее это не мешало мне разработать или применить операции в неизведанных разделах хирургии!
Как же совместить стремление к прогрессу со строгим соблюдением принципов гуманизма?
Любая новая, не применяемая ранее операция должна рекомендоваться больному только по жизненным показаниям и при условии ее всестороннего испытания в эксперименте. Сам хирург обязан хорошо знать не только методику операции, но и те возможные осложнения, которые здесь могут встретиться, и уметь с ними бороться. Ему следует глубоко и всесторонне изучить всю эту проблему теоретически и надежно освоить операцию практически как в анатомическом зале, так и в лаборатории. При такой подготовке и при условии, что без операции гибель больного неизбежна или излечение невозможно, любой, в том числе и сам хирург при соответствующих условиях согласится на риск, связанный с нею. И следовательно, указанный принцип гуманизма не будет нарушен.
При лечении больных митральным стенозом благодаря продуманной системе их подготовки мы часто добивались того, что больные, считавшиеся совершенно безнадежными, переносили тяжелую операцию и возвращались к нормальной жизни. При этом в ряде случаев мы получали такие разительные, неожиданные даже для нас самих результаты, которые не только больными, но и врачами других учреждений рассматривались чуть ли не как чудо!
Но на все это ушло почти двадцать лет. Да каких!..
Учитывая, что подобный опыт был в какой-то мере успешен, мы решили обобщить его в монографии, посвященной осложнениям при внутригрудных операциях, опубликованной в соавторстве с моими многолетними сотрудниками В. П. Пуглеевой и А. М. Яковлевой в 1967 г.
Опубликованием этой книги мы делились опытом своей работы над труднейшими разделами современной медицины и хирургии.
И хирурги встретили монографию как книгу не только желанную, но и долгожданную, так как подобных монографий не было ни у нас, ни за рубежом…
А мы в клинике уже находились в новом, очередном поиске. Начали работу по изучению недостаточности митрального и аортального клапанов. Здесь тоже таилось немало загадок, уже давно волновавших хирургов, и меня в том числе.
В чем тут дело, какова сущность заболевания?
Оно возникает, когда под влиянием инфекции происходит не срастание, как при стенозе, а разрушение створок клапана. Клапан не закрывается, когда нужно, что и приводит к недостаточности сердечной деятельности.
Исправить недостаточность клапана много труднее, чем стеноз. Здесь необходима операция «на открытом сердце». Для этого надо иметь безукоризненное искусственное кровообращение в течение часа и даже больше. Но и этого мало. Вопрос о том, как исправить клапан, чтобы створки нормально смыкались, занимал умы хирургов и экспериментаторов многие годы. Был пройден большой и тяжелый путь от реконструктивных операций на самих створках посредством клапанов, взятых у свиньи, и клапанов сердца умершего человека, до современных искусственных.
Вместе с немногими хирургами нашей страны и зарубежными коллегами мы проделали этот тяжелый путь борьбы и исканий. Первую реконструктивную операцию на клапанах провели студентке Текстильного института Нине Калиничевой, перенесшей два года назад острый ревматический процесс.
Через месяц после операции все явления сердечной недостаточности у Нины исчезли, шум в сердце не определялся. Мы выписали девушку из клиники в хорошем состоянии. Володя, ее жених, объявил нам, что приглашает всю операционную бригаду на свадьбу, которая состоится не позже чем через месяц. Нина сияла…
Однако мы предупредили ее, что у нее может быть рецидив болезни и чтобы некоторое время она воздержалась от материнства, избегала излишних физических напряжений.
Наши опасения оправдались. Через год счастливой семейной жизни, когда Володя готовился поступить в аспирантуру, а Нина заканчивала институт, она опять стала замечать одышку и усталость. Снова появились отеки на ногах, затем начал расти живот за счёт водянки и увеличения печени. Признак сердечной недостаточности!
Едва сдав государственные экзамены, Нина приехала к нам на консультацию. В глазах уже таилось предчувствие горя. Я постарался ее успокоить, но понимал: положение серьезное! При исследовании и катетеризации был установлен выраженный стеноз с большой недостаточностью клапанов. Крайне неблагоприятное сочетание пороков!
Но что могли мы сделать? Вставить новый клапан? Эта операция еще хорошо не освоена, не приносит желаемого эффекта, поскольку нет клапана надежной конструкции. Требовалось время, и неизвестно, сколько его пройдет…
К счастью, общими усилиями сотен хирургов дело пошло скорее, чем можно было предполагать… Понадобились годы, но не десятилетия.
В конце концов наибольшее признание и распространение получил самый простой по форме и конструкции клапан из специального синтетического материала – протез в форме шарика. Мы также остановились на нем. Когда большая экспериментальная и клиническая работа в клинике по изучению вопросов охлаждения, остановки сердца и искусственных клапанов подходила к завершению, мы решились взять Нину на повторную операцию…
Всестороннее обследование больной показало, что клапан ее уже исправить нельзя, его надо иссечь и заменить искусственным – шариковым. Все это мы сказали Нине и Володе, и они на этот раз восприняли весть о необходимости операции очень тяжело. Мы дали им на размышление несколько дней. Они пришли с выражением согласия, но вид имели весьма удрученный… Да и как их было не понять: снова по канату над пропастью, снова рядом дыхание смерти… Мы и сами переживали как никогда: дважды вскрывать сердце для работы на клапанах – далеко не обычное дело. У нас такое было впервые. Вшивание искусственного клапана сердца – это вершина хирургических возможностей. За ней идет уже пересадка сердца, о которой в то время можно было мечтать лишь в экспериментальной лаборатории!
Помимо того, что такую операцию предстояло делать впервые, она будет производиться в неблагоприятных осложненных условиях. Ведь сердце, на котором я собираюсь работать, уже один раз подвергалось операции! Каждый хирург знает, что вторично делать операцию на одном и том же органе несравненно сложнее, чем в первый раз. Здесь и образование спаек и рубцов, здесь и дополнительное кровотечение из этих же спаек; здесь и сращение с соседними органами и с грудной стенкой.
Тем не менее отступить, отказаться от операции я не мог. Прошло пять лет после той, первой. Если один год Нина чувствовала себя совсем здоровой, два года недомогала, то последние два была настоящей мученицей, страдала больше, чем перед первой операцией…
Как и в первый раз, осуществили тот же разрез и прежним способом подключили аппарат искусственного кровообращения. Затем, включив термостат, охладили тело больной до 22°. Тут нужно заметить, что после нескольких операций при глубокой гипотермии – с охлаждением до 10° – мы убедились, что всякого рода осложнения при этом встречаются значительно чаще, чем при умеренной гипотермии.
Сердце Нины, хотя и не совсем правильно, продолжало работать, что мешало нам… Решили остановить его с помощью электрического тока.
Этому тоже предшествовала большая работа многих хирургов мира, искавших наиболее простые, эффективные и безопасные методы остановки сердца! Было установлено, что если к нему присоединить электроды от слабого электрического тока, оно сразу же перестанет сокращаться и вместо этого возникает мелкое и легкое дрожание отдельных мышечных волокон – фибрилл, отчего и само такое дрожание сердца называется фибрилляция. В функциональном отношении оно соответствует полной остановке сердца. Где фибрилляция – там смерть.
В данном случае мы так и поступили: присоединили элементы к левому предсердию и к левому желудочку и пустили ток. В эту же секунду, не запоздав ни на миг, начал работать подключенный аппарат. Он как бы подхватил работу сердца и стал ритмично, как и оно, нагнетать кровь по всем органам!
В аппарате пять-шесть литров. От многих доноров. Эта кровь должна быть совершенно тождественной той, что у больной. Ее взяли от двадцати человек, а проверили и испытали для этого не менее пятидесяти! Тоже большая работа, которая проводится целой группой врачей… Работа на первый взгляд незаметная, вроде бы и не имеющая прямого отношения к операции. И на самом деле – одна из самых важных, без которой ничего не сделаешь…
Холодное, неподвижное сердце безмолвно! Наверно, – подумалось невольно, – в этот момент оно лишено тех эмоций, которые движут человеком… Оно беспомощно лежит в руках хирурга и ждет своей участи!
Широко раскрыв левое предсердие, я увидел, что весь клапан пронизан известковыми отложениями. Створки его неподвижны. Они срослись между собой и пропускают только небольшую струю крови диаметром менее полсантиметра… Вот он, источник мучений Нины! Клапан нужно иссечь весь, но так, чтобы небольшой ободок от него вокруг отверстия остался. Иначе не к чему будет пришивать искусственный… А известковые отложения мешают. Они то и дело переходят на стенку предсердия. Не удалять их нельзя, а удалять – значит никакого края не оставить. Вот и лавируй тут, когда подобраться к отверстию и увидеть его можно лишь если вывернуть сердце. Однако такая травма для него не безразлична, оно может не заработать вновь… Но вот створки клапана иссечены.
Впереди – самая ответственная часть операции: вшивание клапана…
На большой глубине, когда с трудом видишь край отверстия, на него нужно наложить матрасный шов, причем не очень глубоко, иначе захватишь нервные пучки сердца, и оно после не заработает, и так, чтоб шов был не очень поверхностным, иначе порвется… Точно на одном расстоянии друг от друга, по окружности, должно разместиться шестнадцать швов! Концами ниток каждого шва клапан пришивается за ободок, тоже на одинаковом расстоянии. Пока клапан в ране. Но когда будут прошиты все швы, поставим его туда, где ему надлежит быть, и нитки завяжем. Так что главное – не перепутать ни одну нитку!
– Валерий Николаевич, фиксируйте клапан, но только одним пальцем, чтобы не загораживать мне доступ…
Почему-то одна нитка не тянется… Никак!
– Откройте операционное поле… Отодвиньте все кверху! Направьте свет точно на это место!
Ничего не видно! Нитка зацепилась, а за что – не могу увидеть. А увидеть надо, иначе шва не завязать…
– Валерий Николаевич, уберите свой палец па секунду… Хорошо… Теперь вижу! Дайте длинный пинцет…
Оказывается, одна нитка шва захлестнулась за продольную металлическую балочку клапана. Не распутай её – остался бы дефект в шве, что в будущем привело бы к отрыву клапана…
Каждый узел затягиваю со страхом: вдруг порвется?! Так и есть. Нитка лопнула. Сердито гляжу на Полину.
– Почему не проверяете нитку, прежде чем подать ее? Вы видите, как мне трудно…
Полина молчит знает, что в это время хирургу возражать не следует.
Что делать? Один узел остался незавязанным. Отсюда может начаться разбалтывание клапана… И когда все швы наложены, возвращаюсь к этой злополучной нитке. Лишние минуты!
…И вот наступает момент, когда снова накладываем на сердце электрод от тока высокого напряжения. Включаем рубильник. Удар! Сердце вздрогнуло и… заработало: сначала неохотно и как-то неуверенно, а затем все энергичнее, так, как нужно! Честное слово, невозможно привыкнуть к этому, хотя применяем такое уже много раз! То, чего люди боялись во все века – остановки сердца, – хирург сейчас осуществляет по собственному желанию для блага больного. Сердце, остановись! Прекрати работу! Ты мешаешь хирургу исправить тебя, спасти твоего хозяина! И сердце послушно останавливается… Оно не бьется пять, десять минут… Полчаса, час… А если надо, то и больше… В этой операции оно было неподвижным сто минут. Но вот хирург закончил самую трудную, внутрисердечную часть операции, зашил его и сказал: бейся, сердце! И оно послушно начинает свой нормальный рабочий ритм… Волшебная сказка наяву. А если без эмоций – это огромное достижение медицины, хирургии, большая победа ума и воли многих сотен и тысяч энтузиастов – хирургов, экспериментаторов, инженеров.
…Операция закончена. Извлечены все трубки, отключен аппарат… Но как всегда, нам не до отдыха. Он будет еще не скоро. В самом сердце, внутри его, находится посторонний предмет. Как оно его воспримет?! На нем, как на всяком инородном теле, могут оседать сгустки крови, и не исключено, что они в виде тромбов попадут в сосуды, в мозговой, например. И тогда вся работа хирурга пойдет насмарку – больная погибнет. Выходит, надо давать противосвертывающие средства… Но они способствуют сильному кровотечению, и это тоже угроза для жизни! Так что – десятки подводных камней, которые надо предвидеть и вовремя обойти!
На этой операции, кстати, присутствовал наш мэр – председатель Ленсовета Александр Александрович Сизов. Он строил нашу клинику как начальник Главленстроя, а затем доводил строительство до конца уже в должности председателя горисполкома. Много сил вложил он в то, чтобы клиника была построена на современном уровне, чтобы врачи имели все возможности для развертывания большой хирургии сердца… Чтобы я имел удобное место для работы и приема многочисленных делегаций, он по своему проекту прекрасно отделал мне кабинет, и когда тот был готов, сказал: «Это лично вам подарок от города за ваш самоотверженный труд!..»
Что и говорить, очень редкое и приятное понимание заслуг хирурга!
Александр Александрович простоял за нашими спинами два с половиной часа и вышел пораженный. Спросил: «Неужели эта женщина будет жить после того, что вы делали с ее сердцем?» Я ответил: «Мы постараемся, чтобы она была жива…»
И поздно вечером этого же дня и много дней спустя он звонил нам, спрашивая: «Как больная?» И было радостно сообщать ему, что женщина поправляется, дело идет к выздоровлению…
Когда Володя увозил жену из клиники, все – и врачи, и больные – смотрели из окон им вслед. Шагайте веселее, дорогие люди, и… не возвращайся, Нина, сюда никогда! Я немного побаивался, как бы у Нины не приключилась эмболия, так как около клапана часто образуются тромбы. Поэтому назначили ей лечение на дому…
Через год, убедившись, что сердце Нины работает хорошо, лучше желать не приходится, уступили настойчивым просьбам обоих супругов, разрешили ей иметь ребенка. Через год она родила мальчика нормального веса. Сердце с новым клапаном прошло через новое большое испытание и выдержало его с честью!
Нина показалась через пять лет. По-прежнему чувствовала себя хорошо, сердце при прослушивании почти невозможно было отличить от других, обычных сердец. И только если приложить трубку и послушать очень внимательно, уловишь несколько необычный сердечный перестук: более грубый, более требовательный!
Пересадка искусственного клапана, которую стали делать во многих клиниках страны, позволяла надеяться, что это лишь начало… И вскоре появились сообщения о пересадке одновременно двух и даже трех клапанов!
А хирурги мечтали о возможности пересадки сердца! Ведь не всегда замена клапанов способна восстановить его деятельность…
Но дальше смелых экспериментов на собаках эти мечты не шли. Собакам же сердце пересаживали и в грудную клетку, и в область паха, и на место удаленной почки… и в качестве единственного, после удаления основного, и в помощь ему!..
И пересаженное сердце собаки жило, работало… Сначала несколько минут… потом час… два… затем сутки… месяц!.. Причем пересаживали и одно сердце и вместе с легкими! Можно себе представить, сколько человеческого долготерпения было потрачено, чтобы добиться успеха даже в эксперименте! И технически операции удавались все лучше и лучше, однако по прошествии определенного времени сердце неизменно отторгалось… как бы отмирало в результате биологической несовместимости тканей.
Казалось, надежда на пересадку сердца у человека закрыта за семью замками… И вдруг ярко блеснул луч этой надежды! Где-то в Африке почти неизвестный молодой профессор Бернард, который приезжал в Москву учиться пересадке сердца у нашего ученого – одного из неистовых медиков-экспериментаторов – профессора Демихова, с успехом пересадил сердце человеку от другого, погибающего от травмы… Больной умер через две недели… Тогда профессор предпринял вторую попытку – и… второй его пациент прожил более полутора лет!
Это событие огромного биологического и медицинского значения вызвало живейший интерес во всем мире и, более того, во многих странах – нездоровый ажиотаж… Стали пересаживать сердце часто. Были случаи, когда один хирург делал по две такие операции в день… Но больные – в массе – после пересадки погибали очень быстро. Некоторые же жили по шесть – двенадцать месяцев, а в единичных случаях даже больше.
Однако из-за высокой смертности после операций, малой продолжительности жизни большинства больных с пересаженным сердцем, а главное, биологической несовместимости, для подавления которой требовалось или мощное рентгеновское облучение или прием специальных лекарств, которые в то же время делали человека беззащитным перед инфекцией, постепенно наступало охлаждение к такого рода попыткам… Но значительное отрезвление пришло после смерти человека, за жизнью которого с неослабевающим интересом следил весь мир!
Именно после кончины Блайберга, прожившего с чужим сердцем более полутора лет, выяснились интересные факты. Большую часть времени из прожитого после операции Блайберг тяжело болел, фактически находясь все время между жизнью и смертью. Но поразительное заключалось в другом: сердце молодого негра, пересаженное больному, страдавшему тяжелым склерозом венечных сосудов, через полтора года оказалось… склеротически измененным больше, чем сердце самого Блайберга перед пересадкой! Это убедительно подтвердило, что стареет не только сердце, но и человек, что сосуды сердца изменяются и стареют одновременно со всеми другими тканями и органами! Поэтому больших надежд на замену старого сердца новым возлагать не приходится… Во всяком случае, до тех пор, пока мы не научимся менять внутренний состав тканей организма. Но при этом условии и сердце не будет стариться раньше времени!
Так что основную ставку надо делать на сохранение своего собственного сердца. Беречь, что имеем… А оно ведь страдает не только от пороков, которые мы научились лечить хирургически. Большинство людей болеют и умирают от поражения сосудов, питающих сердце. На это питание – сердца и мозга – идет до тридцати пяти процентов от общего количества всей крови в человеческом организме. Малейшие затруднения в кровоснабжении сердечной мышцы приводят к ее кислородному голоданию, отсюда боли в области сердца, грудная жаба, коронарная недостаточность. А затрудненное поступление крови к сердцу может быть вследствие артериосклероза с образованием бляшек, закрывающих проходимость сосуда, и в результате спазма сосудов. Чаще же всего оба эти фактора бывают неотделимыми.
И если обидно терять человека при наличии у него глубоких изменений в сердце, то несравненно тяжелее переживается потеря, когда оказывается, что был только спазм сосудов, а он обычно возникает в ответ на отрицательный психологический раздражитель.
Клевета, склока, несправедливая обида, черствость, нечуткость, а особенно грубость, хамство – все это вызывает те самые отрицательные эмоции, что губительно действуют на сердце человека.
И колоссален ущерб, что наносят отрицательные эмоции людям и государству в целом. Многие тяжелейшие заболевания, нередко заканчивающиеся инвалидностью, а то и смертью больного, возникают или развиваются только как следствие постоянных или очень тяжелых отрицательных эмоций. Им обязаны своим происхождением гипертоническая болезнь, грудная жаба, инфаркт миокарда и даже артериосклероз… Крупнейший кардиолог Г. Ф. Ланг писал: «Фактором, вызывающим гипертоническую болезнь, является перенапряжение и психическая травматизация эмоциональной сферы». В 1965 году сессия Академии медицинских наук, посвященная сердечнососудистым заболеваниям, полностью подтвердила мнение Г. Ф. Ланга, что перенапряжение нервной системы и отрицательный психологический раздражитель – ведущие факторы в развитии многих сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь, на сессии, были приведены, в частности, такие данные: инфаркту миокарда предшествуют – острая психическая травма в 20 процентах, хроническая психическая травма – в 35 процентах, перенапряжение в работе – в 30 процентах случаев. Таким образом, более чем в половине случаев возникновению инфаркта содействовал отрицательный психический раздражитель.
При этом не надо думать, что любое перенапряжение нервной системы, любые отрицательные раздражители предрасполагают к развитию тяжелых сердечных заболеваний. Вспомним блокаду, когда мы голодали, все время была угроза гибели если не от голода, то от пуль и снарядов, а инфарктов тогда было не так много, меньше, во всяком случае, чем в мирные дни. Это подтверждают и сведения, которые я получил во время поездки во Вьетнам, охваченный войной. В ту пору вся страна подвергалась воздушным бомбардировкам, днем и ночью то и дело объявлялась тревога, всякое движение по дорогам возможно было только в ночные часы, смерть дежурила всюду, сея горе и страдания, а в госпитале больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями было всего 5 процентов, больных с гипертонией – 1,9 процента, а больных с инфарктом миокарда зарегистрировано всего восемь за шесть лет!
Выходит, не всякий отрицательный раздражитель является причиной тяжких сердечных заболеваний! Губительно на сердце действуют, повторяю снова, грубость, хамство, недостойное поведение человека, низость, подлость и другие действия, которые ты чувствуешь себя бессильным остановить, а они возмущают все твое существо. Немалую роль также играет чувство страха. Но не страха перед смертью или страданием за правое и благородное дело, который порой может даже укрепить человека. А того страха за себя, за своих родных, когда сознаешь, что какой-то грубый и невежественный человек грозит тебе, может действительно сделать что-то плохое, хотя ты такого отношения к себе не заслужил, что этот человек несправедлив, но, пользуясь своим правом сильного, не только незаслуженно оскорбляет тебя, но может унизить и своими действиями причинить тебе и семье большой, непоправимый вред…
На административном совещании отчитывался ученый о работе коллектива. Разрабатывалась новая проблема, имевшая большое значение для медицинской науки и практики. Руководил совещанием администратор, который не любил, чтобы говорили о чьих-то достижениях. Поэтому он требовал от ученого, чтобы тот не излагал существа дела, а ограничился чисто административным отчетом.
Несмотря на то что ученый не выходил из лимита отведенного времени, администратор четыре раза его перебивал, так и не дав изложить перед аудиторией научную значимость вопроса. И как переживал этот ученый, для которого его работа была целью жизни?
Директор одного предприятия часто устраивал так называемые хозяйственные совещания, каждое из которых превращалось в день разноса… Директор, не стесняясь женщин, сыпал нецензурными словами, метал громы и молнии. Презрительные прозвища и оскорбления раздавались им направо и налево. Инженеры в конструкторы, начальники отделов шли на совещание как на заклание, и многие уходили с него, держась рукой за сердце.
Разве могут такие мероприятия и вообще работа с таким руководителем пройти бесследно, не разрушить сосуды, не измотать сердце в самое короткое время? Люди в подобной обстановке преждевременно делаются стариками… Именно с этого предприятия после директорского разноса привезли в нашу клинику женщину – молодого инженера М. Я вынужден был обратить внимание партийной организации на недопустимость травмирования людей директором-самодуром, видя в этом свой долг врача.
Действие же отрицательных эмоциональных факторов не исчезает по окончании грубого разговора. Оно продолжается долгое время спустя, а утомленная переживаниями нервная система к тому же гиперболизирует все эти отрицательные эмоции, аккумулирует их, и если на такую болезненную нервную систему оказать новое отрицательное воздействие, оно уже будет воспринято человеком значительно серьезнее, чем, может быть, стоит того. В таких случаях при сравнительно небольшом раздражителе может возникнуть тяжелый приступ сердечной болезни, способный привести к гибели.
Подобных примеров, причем из жизни, можно привести множество. Но неизмеримо больше случаев, когда грубость и незаслуженное оскорбление не приводят к смертельному исходу или инфаркту, но все же не остаются без последствий. Каждое оскорбление, пережитый страх или унижение, неуверенность в завтрашнем дне порождают перемежающийся спазм сосудов, который в конечном счете создает условия для хронической коронарной недостаточности, близкого инфаркта миокарда. В других же случаях подобные отрицательные психологические раздражители вызывают общий спазм сосудов, который при длительном существовании или частом повторении выливается в гипертоническую болезнь, а она сама по себе уже серьезная угроза для жизни человека.
Мне как врачу часто приходилось видеть людей, на многие месяцы прикованных к постели тяжелым недугом, причиной которого была чья-то грубость…
Многочисленные эксперименты показывают, что отрицательный психологический раздражитель оказывает свое вредное влияние даже на животных… Группе крыс вводился под кожу никотин. Под его влиянием и вызванным им спазмом сосудов наступали глубокие изменения в конечностях: зверьки начинали хромать, а затем и совсем теряли способность передвигаться. У них появлялись отечность и изъязвления на кончиках лап… И когда крысам время от времени показывали кошку, то есть добавляли отрицательный психологический раздражитель (страх), у них наступал такой тяжелый спазм сосудов, что у большинства тут же образовывалось омертвление лапок, хвоста…
А мы говорим о человеке с его высокоразвитой и высокочувствительной нервной системой! Homo sapiens!
Очень сильно травмирует психику людей грубость, сказанная, что называется, мимоходом.
Вот почему, видя проявление всяких оскорбляющих человеческое достоинство действий, мы, врачи, предупреждаем: «Осторожно, сердце в опасности!»
А если сердце подготовлено предыдущими отрицательными раздражителями, если у человека уже замечаются частые спазмы коронарных сосудов, роковым может стать для него любой новый сильный раздражитель! В этом случае при больном сердце лучше слушать музыку, чем, например, смотреть футбольный матч, ярым болельщикам в особенности. По статистике не было случаев смерти в филармонии во время концерта классической музыки, в то время как на стадионе, в момент футбольных страстей это бывает. И не так уж редко.
Один из таких эпизодов связан со знакомым мне человеком – врачом по профессии.
Это был мой бывший больной: когда-то я удалял ему нижнюю долю правого легкого по поводу рака. Приблизительно через три года после операции он почувствовал сильные боли в левой руке. Подумал о возможности метастаза и написал мне встревоженное письмо, прося разрешение приехать к нам в клинику из Ессентуков.
В Ленинград он прибыл в субботу утром. Я его посмотрел, ничего подозрительного не обнаружил и порекомендовал тут же лечь в клинику для всестороннего обследования. Место в палате для него уже было. Он согласился, но, помявшись, попросил отложить госпитализацию до понедельника. Оказалось, что в воскресенье футбольный матч, играет его любимая команда. Быть в Ленинграде – и пропустить такой случай!
А в воскресенье, в ночь на понедельник, он вдруг позвонил мне по домашнему телефону и сказал, что очень плохо себя чувствует, а в гостиничном номере один. Я ответил, что вызываю «скорую помощь» и сейчас же позвоню в клинику. Надо ложиться туда немедленно! «Скорая помощь» тут же выехала, но в живых его уже не застала…
При обследовании никаких метастазов! Нет и инфаркта. Был тяжелый спазм коронарных сосудов, который все это время вызывал отраженные боли в руке, а после волнения на стадионе усилился и привел к печальному концу…
Знаю, что кое-кто готов мне возразить, но я уверен в правоте своего суждения: ажиотаж, который мы нередко наблюдаем вокруг футбола, нельзя назвать здоровым и тем более полезным. Футбол в смысле физического развития, что он может дать человеку, не отличается выгодно от других видов спорта, а в смысле красоты и эстетики явно уступает таким играм, как волейбол, баскетбол, теннис. И право, приходится лишь удивляться, что футболу уделяет так много внимания и печать, и радио, и телевидение. Вот, скажем, о состоявшейся сложной операции, которая, как чудо, вернула человеку жизнь и здоровье, газета не считает нужным дать три-четыре строчки, а о том, что одиннадцать молодых здоровых ребят из одного города закатили мяч в ворота других, почему-то извещается весь Советский Союз, даже весь мир, и каждый из молодцов бывает назван поименно!
Мне думается, что поднимать ажиотаж по поводу и любого другого вида спорта вряд ли следует. Да и какой вид спорта, в том числе и футбол, нуждается в ажиотаже? Чтобы внести окончательную ясность, скажу: лично я за футбол, но против футболомании!
Кстати, если бы наша пресса, телевидение и радио хотя бы часть того времени и тех сил, что ежедневно отдаются ими футбольно-хоккейной теме, переключились на пропаганду медицинских знаний и борьбе с вредными привычками: пьянством, курением, грубостью и тому подобному, – пользы для народа было бы во сто крат больше! Поверьте, что даже пятиминутная беседа, допустим, о насморке, говоря спортивным языком, результативнее двухчасового ажиотажа вокруг того, куда загнали шайбу…
То же самое скажу и о шахматах. Это, несомненно, интересная и полезная игра. Но шахматы заслуживают столько же внимания, сколько и любая другая умная игра, предназначенная, в итоге, для препровождения времени. Не больше! Те же, кто инспирирует повышенное внимание именно к этой игре, знаю, указывают на то, что она якобы развивает математические способности. Пусть даже в какой-то степени так. Но постараемся вспомнить: кто из наших чемпионов, то есть наиболее выдающихся шахматистов, развил в себе математические способности настолько, что стал известным математиком? Мне такие шахматисты неизвестны. Да их и не может быть. Игра есть игра. И не надо из нее делать что-то сверхсерьезное… Как бы ни убеждали столбцы газетных корреспонденций, что в такой-то момент взоры всех тружеников мира прикованы к шахматной доске в ожидании, какой ход изберет тот или иной гроссмейстер, этому не веришь. Мир занят настоящей работой – производством хлеба и машин, лечением недугов и воспитанием детей, борьбой с нищетой и стихийными бедствиями. Именно этим он занят и на этом держится. Людям остается время и для игры, конечно, но возводить ее в ранг первейших наших забот нельзя.
И хочется предостеречь: берегите сердце, берегите мозг! Не засоряйте его! Пощадите ваши нервы! Не изнашивайте преждевременно! Помните, что это иногда может стоить вам жизни!
Вся жизнь хирурга заполнена тяжелыми переживаниями, и бывает, что по нескольку раз в день сердце его испытывает сильные волнения… Он переживает, когда назначает больного на операцию, сознавая, что она может кончиться печально. Его нервы до предела напряжены в течение многих часов в ходе операции. Несколько дней после нее он тоже в неуходящем беспокойстве. А ведь такой больной у него не один! И всегда бывает печальная возможность несчастного случая не только во время операции, но и при различных обследованиях, возможность диагностической или тактической ошибки – собственной или помощников… Поэтому надо быть постоянно начеку! Кроме того, надо учитывать атмосферу сострадания и горя, которую приносят с собой в хирургическое отделение больные… Все это держит и твое сердце в состоянии смутной тревоги. И не день, не два, а многие годы.
Редко бывает, когда все спокойно и ни за кого не болит душа. Чаще же одно тяжелое переживание наслаивается на другое, они не дают расслабиться. Если же напряжение усугубляют семейные неприятности, хирургу негде искать успокоения и сил для дальнейшей борьбы и труда. Работа и атмосфера, в которой он живет и трудится, создают богатые возможности для предъявления ему тех или иных обвинений. Было бы желание. Вот несколько возможных конфликтных ситуаций.
Молодую женщину с тяжелым митральным стенозом готовили к операции; в разгар подготовки, когда хирург считал, что оперировать еще рано, у нее начался отек легкого с инфарктом и пневмонией. Что делать? Брать в таком состоянии на операцию – подвергать больную очень большому риску. А не делать ее – женщина умрет от отека легкого.
Если хирург решился больную оперировать, а она умерла, те, кто не видел ее, но имеют должностное право судить хирурга, подчас поучают: «Кто же берет больных на операцию в таком тяжелом состоянии?! Зачем рисковать?» А если хирург все же стал рисковать, попытался вывести больную из тяжелого состояния консервативными мерами, но больная умерла, те же люди снова воспитывают хирурга: «В случае отека легких, раз создалась угроза, надо немедленно брать больного на операцию! В этом единственное спасение. Не сделали этого и допустили грубейшую ошибку».
А ведь врач боролся за то, чтобы человек жил. Кто, кроме близких скончавшегося, пережил столько же?! Не зря в некоторых странах существует закон, по которому действия и ошибки врача не подведомственны гражданскому суду. И ясно, что любые, даже мелкие придирки не могут не отражаться на психике хирурга, а следовательно, и на его работе. Бывает так, что перед тем как тебе идти в операционную, кто-то позвонит и скажет что-то неприятное. И вот уже в какой-то миг мысли твои далеки от операции, и лишь силой воли заставляешь себя думать о необходимом. Обычно это удается, и, хоть на время операции, восстанавливаешь душевное равновесие, без которого нельзя ходить к операционному столу. Но если неприятные разговоры повторяются часто, помимо воли владеют тобой, может случиться, что в процессе работы они вдруг напомнят о себе, ты на секунду-другую отвлечешься – и произойдет непоправимое…
На операционном столе – больной. Когда вскрыли ему грудную клетку, обнаружили: опухоль левого главного бронха проросла нижнюю легочную вену, доходит до левого предсердия… Есть от чего вздрогнуть! Чтобы удалить опухоль, надо отсечь и стенку сердца! Выдержит ли больной такую операцию?.. Возможно ли вообще технически осуществить ее?.. Чувствую, что не только удалить опухоль будет трудно, у больного не хватит сил вынести это… Однако если признать его неоперабельным и зашить рану, опухоль, конечно, очень быстро совершит свое злое дело – человек погибнет. Но все же это будет позже… Не на операционном столе!
О, эти мучительные мгновения, когда надо решать: да или нет? Шансы на спасение – ничтожные. Изменяю ход операции, оставив самую опасную ее часть на заключительный этап, когда легкое – кроме вены – будет отдалено от сердца… Мелькнула мысль, что предсердие тут можно прошить механическим ушивателем, которым обычно прошивают корень легкого. Это, наверно, будет спасением для больного…
После, анализируя течение операции и свои действия, я мог восстановить, почему же великолепная, чудесная догадка не была мною реализована… В тот самый миг – рождения идеи – я, подняв на секунду глаза, вдруг увидел в операционной человека, который на днях совершил по отношению ко мне низкий поступок. В сознании пронеслось: «Зачем он сейчас здесь?»
Переключившись на какой-то момент с больного на другой предмет, я… забыл о механическом сшивателе! Стал, как обычно, накладывать лигатуру на вену, фактически на стенку предсердия. Тщательно перевязал, прошил, еще раз перевязал… Сделал все, казалось, как надо. И вдруг, когда пересек вену, лигатура со стенки предсердия соскользнула, началось кровотечение прямо из полости сердца! Тот, кто хоть раз пережил нечто подобное во время операции, может себе представить положение хирурга в такие минуты!
Мощное кровотечение идет с задней поверхности сердца, подобраться к которому невозможно, зажима тут не наложишь! Сделал попытку рукой захватить стенку предсердия, чтобы так остановить кровотечение. Но оно в считаные секунды достигло таких размеров, что сердце на наших глазах опустело и – остановилось! Сокращения его прекратились. Через три минуты выйдет из строя и мозг!
Зажав одной рукой рану сердца, другой начинаю его массировать, чтобы поддержать питание мозга. Одновременно в три вены вливается кровь струйно. Сердце и аорта постепенно наполняются кровью. Массирую три… пять… восемь… десять минут… Появились первые неуверенные сокращения сердца… Еще несколько массажных движений – и оно заработало!
Но рану сердца по-прежнему зажимаю рукой. Как только отпущу, опять возникнет кровотечение, и тогда вряд ли удастся восстановить работу сердца снова: после столь долгой остановки второй раз оно может не запуститься. Как же быть?.. Главное: к ране сердца не подберешься никаким инструментом… Поэтому иду на расширение разреза грудной клетки. Пересек грудину, с помощью ассистентов вставил второй ранорасширитель. Другая рука, которая на сердце, от неудобного положения онемела. Но разжать пальцы не могу!.. Повернули больного сильно на правый бок и дополнительно вывернули сердце вправо, обеспечив тем самым более удобный подход к ране. Прошу дать мне специальный кривой зажим, который осторожно подвел под свои занемевшие пальцы, наложил на стенку предсердия… Угроза кровотечения ликвидирована!
Семь потов сошло, ощущение такое, что собственное сердце умирало, когда остановилось оно у больного! Теперь все позади. Будем выхаживать…
Через год, осматривая этого больного, увидев след необычного разреза с пересечением грудины, я вспомнил весь ход операции до мельчайших подробностей. И как бы снова пережил весь ужас своего тогдашнего состояния, когда держал в руках опустевшее сердце, не веря, что смогу вернуть его к жизни… Но почему в тот день соскользнула лигатура? Ведь техника легочных операций так отработана мною, что подобные осложнения – редкость. Ах, да!.. И я не только восстановил в памяти причину этого осложнения, то, что отвлекло от операции, но даже про механический ушиватель вспомнил и как забыл им воспользоваться…
Хорошо понявший сущность нашей хирургической работы С. А. Борзенко написал в одном из очерков так: «Сердце, спасшее около трех тысяч сердец, должно быть неприкосновенным и охраняться законом…» Такому пожеланию можно только порадоваться!
Очень сложный и ответственный момент – назначение на операцию. Часто для больного это – вопрос жизни и смерти. И решение его в значительной мере зависит оттого, насколько эрудирован, смел, активен, решителен и в то же время осторожен хирург, какова его техника?
Немало хирургов, даже способных, берут на операцию только больных с незапущенными болезнями. Операция здесь не очень технически сложна и, как правило, заканчивается благополучно. Следовательно, процент смертности небольшой, а отдаленные результаты хорошие.
Я понимаю коллег, которые не берутся за новые и сложные операции, зная, что условий для этого пока нет. Ведь штаты, снабжение не рассчитаешь на обслуживание подобных больных. А на одном энтузиазме, без реальной поддержки воз в гору тащить тяжело. Но когда мы получали отличный результат – это было нам вознаграждением за все переживания и часто нечеловеческий труд!..
За свою многолетнюю врачебную деятельность я, несомненно, ошибался и в объеме операции, и в показаниях к ней. Мог переоценить и свои силы, и силы больного и тем причинить ему непоправимый вред. Одно несомненно, что к любой, самой незначительной по объему и характеру операции относился со всей серьезностью, не забывая правила, что в хирургии нет мелочей, пустяков. К каждой операции надо готовиться со всей тщательностью, помня, что «большая подготовка – малая операция; малая подготовка – большая операция». Эти положения усвоены мною в самом начале хирургической учебы, закреплены собственным опытом, и я никогда их не нарушаю.
Работа хирурга такова, что даже при строгом соблюдении всех правил, добросовестном и даже самозабвенном отношении к делу могут быть несчастья, за которые хирург расплачивается дорогой ценой тяжелых переживаний, бессонных ночей и в конечном итоге глубоких рубцов на собственном сердце.
Я удалял больному легкое, пораженное раковой опухолью. Были большие технические трудности, и когда я обвел лигатуру вокруг легочной артерии, не мог ее завязать сам, так как одна моя рука была занята. Попросил сделать это своего ассистента – опытного хирурга. После прошивания второй лигатуры он опять завязал нитку.
Завязывание нитки на крупном сосуде – один из самых ответственных моментов операции, и как правило, я завязываю сам, доверяя лишь в исключительных случаях очень опытным ассистентам. Обычно после того, как ассистент завяжет первый узел, я беру у него концы нитей и, проверив прочность узла, затягиваю его до нужной крепости. Так делаю потому, что при перевязке крупного сосуда можно или несколько не дотянуть узел, тогда лигатура соскользнет, или перетянуть и тем самым перерезать стенку сосуда. В том и другом случае исход один: мощное кровотечение и нередко печальный исход. Но здесь, подчеркиваю, у меня рука была занята, и кроме того, я надеялся на опытность ассистента…
Операцию закончили, удалив все легкое и произведя обработку бронха. Когда рана грудной клетки была уже зашита и я, сняв перчатки, выходил из операционной, наркотизатор вдруг заметил, что больной побледнел, зрачки его расширились и пульс перестал определяться.
Кровотечение в плевральную полость! Раскрыли рану. А там уже все заполнено кровью! Оказалось, соскользнула лигатура, завязанная ассистентом. Сердце и сосуды в короткий срок были обескровлены. Наступила остановка сердца. Нам с большим трудом удалось восстановить его работу.
Была допущена, казалось бы, небольшая ошибка: ассистент не дотянул нитку, может быть, на один-два миллиметра. Для близких умершего, для меня, моего помощника это чуть не стало трагедией.
Возможность тяжелых последствий любой, самой «мелкой» операции наблюдательный хирург может видеть на каждом шагу. Кажется, чего проще удалить бородавку! Есть ли еще операция более пустячная, чем эта? Однако если к ней отнестись несерьезно, поддаться самонадеянности или нарушить правило иссечения, то один шаг до катастрофы.
…У Нади Н. с детства на коже под правой лопаткой была довольно крупная бородавка, которая часто травмировалась, воспалялась, иногда кровоточила. Она пошла в поликлинику. Там молодой самоуверенный врач, осмотрев девушку, сказал, что операцию надо делать не откладывая. «Две-три минуты, и не будет вашей бородавки».
При этой «простой» операции хирург допустил грубую ошибку. Он сделал разрез так, что его нож прошел совсем рядом с бородавкой, и тем самым нарушил так называемую ростковую зону. Операция как будто была сделана хорошо, и рана через неделю зажила. А еще через три недели вокруг разреза появилось несколько бородавок, а под мышкой образовался целый конгломерат увеличенных лимфатических узлов…
Надю Н. показали мне. При исследовании выяснилось, что эти лимфатические узлы содержат метастазы опухоли. Значит, в момент амбулаторного иссечения бородавка была уже раковой опухолью, и неправильным разрезом хирург спровоцировал ее бурный рост и метастазирование. Я предпринял расширенную операцию, удалив все вновь появившиеся опухоли и метастазы под мышкой одним блоком. Но вскоре они появились в других местах. И менее чем через год Надя умерла от метастазов в мозг…
История хирургии содержит немало трагических ошибок при выполнении таких «обычных» и «простых» операций, как аппендэктомия и грыжесечение. Я однажды разбирал дело хирурга, который при операции по поводу аппендицита поранил подвздошную артерию, в результате чего больной чуть не погиб от кровотечения и потерял ногу. Известна и трагическая ошибка, которую допустил хирург, оперируя ребенка по поводу грыжи.
Конечно, далеко не всегда подобные ошибки – результат невежества или легкомысленного отношения к делу. Они могут быть из-за сложности анатомических взаимоотношений тканей, изменившихся под влиянием патологического процесса. И чем в большем душевном равновесии находится хирург, тем меньше ошибок. Однако редко какой хирург живет спокойно и без трудностей – слишком беспокойна и ответственна его профессия!
Но все эти трудности увеличиваются, когда люди с недобрым сердцем, нередко его коллеги или даже ученики, пишут на него клеветнические письма, от которых ему приходится отбиваться.
Было такое и со мной. Одно утешает, что подобное не миновало выдающихся людей. Даже И. П. Павлов не был обойден клеветниками. Но к чести руководителей, они не стали звонить Ивану Петровичу и создавать комиссий, а послали клеветническое заявление ему самому с просьбой принять меры. Иван Петрович на одной из «сред» зачитал письмо, назвал фамилию клеветника и, обращаясь к нему, сказал: «КАК ЖЕ ЭТО ВЫ?!» И больше к этому вопросу не возвращался.
Операция – благо, поскольку она избавляет человека от мук или дарует ему жизнь. Однако при операциях почти неизбежен какой-то процент смертности. Пусть он небольшой. Но он есть! И чем хирург опытнее и внимательнее, тем этот процент будет меньше.
Вопрос вопросов – правильный диагноз. Чем сложнее, опаснее заболевание, тем труднее поставить его точно. А он жизненно необходим! Вот почему врачи применяют самые различные, иногда очень сложные методы диагностики, лишь бы иметь перед операцией наиболее совершенный, твердый диагноз.
Многие наши сложные хирургические методы исследования несут в себе какую-то долю опасности. В их разработке и развитии – много славных страниц самопожертвования со стороны пионеров этого дела. Так, чтобы добиться тех успехов, что мы сейчас имеем при катетеризации сердца, врачи-экспериментаторы вначале испробовали этот метод на себе, доказывая его эффективность… Постепенно, совершенствуясь, он действительно стал почти безопасным. Однако опять же «почти»! И задача каждого исследователя – исключить это «почти».
Один хирург, потеряв ребенка при катетеризации, спокойно сказал:
– Неприятно… Однако на столько-то исследований мы потеряли столько-то больных. Законный процент!
Я взорвался… Меня всегда глубоко возмущает такая философия. Этакий взгляд со стороны!
– Если бы в результате исследования погиб ваш собственный ребенок, считали бы, что тут законный процент?! – сказал я тому хирургу. – Остались бы так чудовищно спокойны? Сомневаюсь!..
Это тот самый случай, когда хирург относится к больному как к материалу. Душевная черствость, скудость чувств…
Хирургическая профессия исключительно сложна и специфична. Она требует от хирурга высокого гуманизма и чуткости не только в делах, но и в словах. Поэтому, обращаясь к молодым людям, раздумывающим о профессии для себя, я говорю: «Если у вас жестокое сердце, если не чувствуете сострадания к больным – не идите в хирургию! Ибо здесь должны работать люди с повышенной отзывчивостью на человеческое горе!»
Но люди с жестоким сердцем не должны работать не только хирургом, но и врачом вообще, ибо гуманизм – первая заповедь врача. Жестокосердные люди не должны быть учителями, они не могут занимать руководящих должностей, ибо от них будут страдать их подчиненные. По существу, люди с жестоким сердцем не должны работать ни в одном учреждении, где приходится иметь дело с людьми! Ни продавцом, ни кондуктором, ни – тем более – работником искусства, где вся работа с людьми и для людей.
У хирурга много обязанностей, больше, пожалуй, чем прав. И тем не менее в хирургию непрерывным потоком идет молодежь. Почему? Да потому, разумеется, что молодость с ее энтузиазмом, с ее стремлением ко всему честному и справедливому, с ее желанием содействовать всяческому оздоровлению мира – одна из величайших сил прогресса. И в хирургии всегда можно найти место для претворения в жизнь стремлений к добру и правде, даже фантастических, на первый взгляд, замыслов исцеления человека.
Хотя и жизнь, и труд хирурга тяжелы, усыпаны шипами, все же, по-моему, никакая другая профессия не может приносить столько душевного удовлетворения, как профессия хирурга! Что может сравниться со счастьем, которое испытываешь, победив в поединке смерть? Но я глубоко убеждён, что подлинным хирургом может стать только человек с благородным и добрым сердцем.




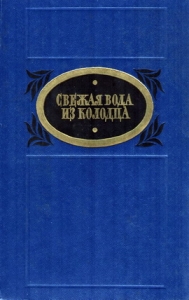
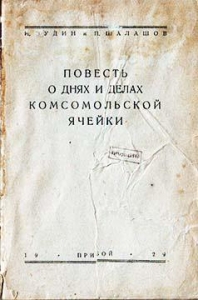
Комментарии к книге «Сердце хирурга», Фёдор Григорьевич Углов
Всего 0 комментариев