Арнольд КАШТАНОВ
КОРОБЕЙНИКИ
Повесть
Глава первая
Блондинка в красном дождевике села около телефона: «Можно от вас позвонить?» Сидела, скрестив полные ноги, крупная, ухоженная, такие в толпе первыми бросаются в глаза. Звонила по разным номерам: «Да! Я здесь! Сегодня приехала!»—нежно улыбалась, уверенная, что сообщает людям радость. Она просила помаду и крем, японский зонтик, растворимый кофе, какие-то билеты. Договорившись с одним, прощалась и набирала следующий номер. Каждое слово предназначалось не только собеседнику, но и работающим в комнате женщинам и заодно Юшкову и Радевичу. Этим уже просто автоматически, как зрителям мужского пола, прочим же для пользы дела демонстрировались связи. Женщины, копавшиеся в своих бумагах, скорее всего не замечали снабженческую ее удаль: мало ли приезжих изо дня в день трется в их кабинете и все пытаются произвести впечатление в надежде получить запчасти. Радевич старался не смотреть на блондинку, ерзал на стуле, вытащил пачку «Примы» из пиджака, и его тут же выгнали курить в коридор.
Юшков вышел следом. Они с Радевичем уже получили все запчасти на заводе, и осталось только здесь, в отделе кооперации, раздобыть резиновые сальники. Блондинка тоже приехала за сальниками, и Юшков ревниво следил, дадут ей или тоже откажут.
Радевич курил около сварной железной лестницы. «Ну и баба! Скажи, а?»—«Что ж теряешься?» — «Куда мне! Это уж тебе вот...» Блондинка вышла вместе с кладовщицей, обе в черных халатах. Одарила мужчин коротким взглядом и стала спускаться вниз, осторожно нащупывая ногой ступеньки, словно шла в темноте. Кладовщица тяжело переваливалась на отечных ногах. Юшков подождал, пока перестала греметь под ними лестница. «Похоже, дали ей сальники». «Она свое возьмет!» Хорошо Радевичу было восхищаться этим, понадеявшись, что Юшков все для него сделает.
Сюда всегда посылали Юшкова. Сколько он работал на автобазе, все эти пять лет посылали на завод только его. Он всю жизнь прожил в этом городе, институт окончил, здесь его знали и он всех знал, кому ж было ехать, как не ему. С пустыми руками не возвращался, привозил любой дефицит. И уговаривать его не приходилось: сам рад был вырваться на несколько дней, повидаться с матерью и друзьями.
Теперь автобазе придется обходиться без него. За запчастями будет ездить Радевич. Сальники — последнее, что Юшков делал для них. В кармане у него со вчерашнего дня лежала трудовая книжкас записью: «Уволен по собственному желанию». Его ждали в институте, через несколько часов он должен был стать научным сотрудником. Он вернулся домой.
Женский голос из невидимого динамика назвал номер машины Радевича, приказал убрать ее с погрузочной площадки. Радевич не услышал. Ему в голову не пришло, что по здешнему радио могут обращаться к нему. Юшков сказал: «Тебя зовут».— «Чего?» — «Украли твою колымагу. Разберут на запчасти и тебе же их сдадут». Голос в динамике повторил свое. Радевич засуетился, побежал вниз.
Юшков спустился следом. Моросил дождь, мокли контейнеры вдоль железнодорожной ветки, стояли на платформах готовые к отправке автомобили. Десятки путей, переплетаясь, уходили под мост и дальше, к литейным цехам, невидимым отсюда. Завод был большой. Юшков и сам не знал, сколько его приятелей, школьных и институтских, работало здесь.
Он прошел по эстакаде вдоль складов, толкнул стальную дверь склада резины. Так и есть. В проходе между стеллажами кладовщица держала перед собой на вытянутых руках холщовый мешок, блондинка бросала в него черные кольца сальников. Губы шевелились: считала. «Молодцы»,— сказал Юшков. Она сбилась со счета, сморщила лоб и тут же улыбнулась с той же, что и у телефона, нежностью: «Уметь надо».
Радевич отогнал в сторону свой тягач с прицепом, заглушил двигатель. «Пойдем, познакомлю с начальством»,— сказал ему Юшков.
Заместителем начальника отдела был его институтский приятель Саня Чеблаков. Он сидел в кабинете спиной к мутному от дождя и пыли окну. Юшков и Радевич уже были у него сегодня, но попали за минуту до оперативки и, кроме дела, ни о чем еще не поговорили. Юшков сел за стол. «Что ж делать с сальниками, Саня? Нам ни одного не дали».— «Сальников нет».— «А если я найду?» — «Неужели я тебе не дал бы, если бы были?» — «Ну а если я найду?» — «Найди, спасибо скажу. Директор их найти не может».— «Что директор, тут такие блондинки ходят».— «Какие блондинки?» — «Из Клецка. Из Клецка она, кажется, а, Степаныч?» — «Из Клецка»,— подтвердил Радевич, приподнимаясь. Он сидел на стуле у двери. «Ей дали? — нахмурился Чеблаков.— Я их за такие дела накажу.— Он щелкнул тумблером на своем пульте, снял трубку, продолжая оправдываться перед Юшковым.— Я их накажу... Алло! Почему выдали сальники Клецку?! Ну так я последний раз предупреждаю!.. Только по моему указанию! — Бросил трубку, сказал Юшкову: — Охламоны. Завтра будут тебе сальники. Сегодня никак».
Юшков, обернувшись, тронул Радевича за локоть. «Теперь к вам будет ездить вот этот товарищ. Прошу любить и жаловать». «Сфотографировал»,— заверил Чеблаков и показал на свой лоб: мол, не беспокойтесь, образ запечатлен навечно.
Странно было видеть его хозяином такого кабинета. В институте он вроде бы ничем не отличался. Отличался Юшков. Юшков подрабатывал на такси в ночную смену и стал самостоятельным тогда, когда друзья, Валера Филин и Саня Чеблаков, еще зависели полностью от родителей. И позже, когда Юшков приезжал к ним уже начальником автоколонны, холостым парнем с деньгами, не растраченными в маленьком районном городке, а они, Чеблаков и Филин, были здесь начинающими инженерами, молодыми отцами, с превеликим трудом выкраивающими ради встречи час-другой от домашних хлопот, оба привыкли, что именно Юшков из троих, как говорится, заказывал музыку.
«Значит, ты уже насовсем, старик? — сказал Чеблаков.— Ну, давно пора... Валеру видел?» — «Когда? Мы только матери чемоданы закинули и носимся с утра за запчастями. Человек вот к ночи хотел дома быть».— «Ничего, по магазинам походит.— Чеблаков подмигнул Радевичу, и тот вежливо поерзал на стуле.— В институт звонил?» — «Никак вот не выберусь. Позвони». Юшков сказал номер телефона. Чеблаков опять щелкнул тумблером, покрутил диск и сунул трубку Юшкову. «Сейчас заседание кафедры»,—сказал строгий женский голос. «Когда оно кончится?» — «Через час».
«Ты, старик, везучий,— сказал Чеблаков.— Годика через три — кандидат, там, глядишь, здороваться с нами перестанешь. Мы тут будем тупеть, ты будешь умнеть».— «Вот и сравняемся».— «Скромность всегда украшала наши лучшие научные кадры.— Чеблаков загрустил. Открывающаяся перед Юшковым перспектива расстроила его.— Когда меня отсюда попрут за сальники, возьмешь к себе аспирантом. Буду твой портфель носить».
Он знал, что его не попрут. Юшков тоже это знал: «Пока не поперли, просьба к тебе...»
Чеблаков нацелил ручку на перекидной календарь, приготовился записывать. Юшков усмехнулся. Чеблаков убрал ручку. «Надо до завтра куда-нибудь поставить машину». Радевич оживился, закивал. Чеблаков сказал: «Ставьте куда хотите. Скажете: Чеблаков разрешил. Вон новый склад шин пустует».
Простились. «Надо бы, старик, отметить твое возвращение». «Когда на работу устроюсь»,— сказал Юшков.
Дождь все моросил. Радевич поднял воротник пиджака. Плащ его был в кабине, но он не шел за ним, ждал, что скажет Юшков. Тот спросил: «Ты куда сейчас?» — «Гостиницу перво-наперво забить бы».— «Брось, переночуешь у меня».— «Чего стеснять, все одно не за свой счет».— «Вольному воля. Не устроишься — ждем с матерью в гости. Раскладушка тебе гарантирована. А то давай сразу».— «Не, я попытаюсь... Дома когда будешь? Я в смысле моего чемоданчика».— «Вечером буду...» — «Ага. Ну, значит, пока». По тому, как мешкал Радевич, тянул, а потом внезапно заторопился и исчез, Юшков понял, что Радевич надеялся провести день вместе и, может быть, не очень и стремился в гостиницу, а ждал, что его уговорят.
До института надо было добираться двумя автобусами. Заседание кафедры еще не кончилось. В пустой аудитории напротив сидел парень в тяжелых очках, вытянул длинные ноги в проход между столами. Юшков кивнул ему и тоже сел — так, чтобы видеть, когда начнут выходить из двери. Он помнил парня. Тот окончил институт двумя-тремя годами раньше, фамилия его была Буряк. Парень, похоже, не узнал Юшкова или же не захотел узнать, и Юшков не стал напоминать. Из-за стеклянной двери через коридор слабо доносились голоса. Изнутри стекло было закрыто калькой.
Юшков был здесь три недели назад. Тогда он тоже приезжал на завод по делам автобазы, и кто-то из однокурсников в одном механическом цехе сказал, что в институте срочно ищут человека. «А ты что ж не идешь?» — спросил Юшков. Однокурсник работал мастером. Он сказал: «Меня не возьмут».
На кафедре тогда разговаривал с Юшковым Шумский. Юшкова он помнил студентом и даже сделал вид, будто припоминает его дипломную работу. Он сказал: «Только учтите, нам нужен не просто человек с вашим практическим опытом, а ученый с вашим практическим опытом. Мы заинтересованы, чтобы вы быстро сделали диссертацию. Это обязательно. Условия мы создадим, но и от вас будем требовать. Не спешить у нас нельзя». Шумский, разумеется, знал, что каждый, кто приходит сюда, надеется на диссертацию, ради нее идет на невысокий оклад; прощальная фраза была попыткой заинтересовать, соблазнить Юшкова, и потому Юшков понял, что он здесь нужен. Прощаясь, Шумский спросил: «Сколько вам надо, чтобы уволиться с автобазы?.. Почему три недели? По закону — не больше двух... Ну хорошо. Если передумаете — дайте знать сразу, а то потеряем три недели, а время не терпит, С пропиской у вас как?» «У меня мать пенсионерка, она здесь живет»,— сказал Юшков. «Ну тогда все в порядке».
Ждать оставалось недолго. Буряк шумно переменил позу и спросил неожиданно: «Тебя, я слышал, куда-то в районную автобазу направляли?» Открытие, что его неузнавание было нарочитым, не расположило Юшкова к откровенности. «Было дело».— «А сейчас где?» — «Сейчас нигде».— «Сюда устраиваешься?».
Юшков нехотя кивнул. «А я на рессорном,— сказал Буряк.— Три года подряд невыполнение плана. Завод рассчитан на двести тысяч, даем триста пятьдесят. А план растет...» То, что казалось угрюмостью, было у него, видимо, простой усталостью. «Расширяться заводу некуда. Надеялись на одну институтскую разработку — ничего у них не выходит. И, наверное, никогда не выйдет. В прошлом году одного директора сняли, сейчас снимают второго. Начальника техотдела сняли, главного сняли. Остальные сами бегут: фонд зарплаты зарезан, премий нет, сидеть же на голых окладах неуютно и неприлично. А новых людей, понятно, не заманишь. Кто на такое пойдет? Вот ты уволился, свободен сейчас. Пойдешь ты к нам?» Спросил как бы между прочим, но ждал ответа. Юшков пожал плечами, усмехнулся. «Между прочим, зря смеешься,— сказал Буряк.— Уговаривать не хочу. Сам понимаю: умный человек не пойдет. А тут умные как раз не нужны. Тут нужны другие».
За стеклянной дщерью появилась тень человека. Кто-то, взявшись за ручку и приоткрыв дверь, продолжал говорить. Прибавились еще тени, дверь распахнулась, и стали выходить люди. Разговаривая друг с другом, они прошли мимо. Буряка окликнули, и он исчез. Юшков заглянул в дверь. Шумский разговаривал с худой женщиной в брючном костюме, недовольно оглянулся, когда она уставилась через его плечо на Юшкова. Наверно, разговор был не для посторонних.
«Здравствуйте»,— сказал Юшков. Шумский, собираясь с мыслями и словно бы с трудом узнавая, протянул: «А-а... Подождите меня в аудитории напротив. Я скоро».
Юшков вернулся в аудиторию.
Прошло полчаса. Наконец дверь хлопнула. «Черт-те чем приходится заниматься,— сказал Шумский.— Какая-то мышиная возня... Извините уж». Подошел к окну, постоял, сел за один из столов не слишком близко к Юшкову. «Да... Вам разве ничего не говорили?»
Юшков покачал головой. Сразу стало горько во рту.
«Я не очень в курсе... черт, день сегодня какой-то неудачный,— пожаловался Шумский и вздохнул.— Тут у нас черт-те что... Вроде и работать некому и лишних много... Вы, надеюсь, на автобазе не уволились?» — «Уволился».— «Это хуже». Шумский потеребил ухо, потер ладонью щеку. В дверь заглянул румяный, с седым пушком вокруг розовой лысины преподаватель гидравлики, увидел Юшкова, заулыбался: «А-а, молодой человек, с приездом! Рад за вас, рад за вас!» Натолкнулся на взгляд Шумского, смешался, помахал рукой и исчез.
«Короче, такое дело, брат,— решился Шумский.— Ничего у нас с тобой не получается. Я сдаюсь. Я тут ничего больше не могу. Остается только извиниться. Ну, извини, брат».— «Так,— сказал Юшков.— А дальше что?» — «Ничего, брат, может, тебе и лучше,— махнул рукой Шумский.— Такого, как ты, всюду с руками оторвут!» — «Где?» — «Да хоть где! — Шумский оживился, обрадованный, что самое неприятное для него кончилось.— Тут у меня в кемпинге приятель работает. Знаешь, сколько там на станции техобслуживания имеют? Ни одному профессору столько не снится! Туда еще потруднее устроиться, чем к нам! Где-то у меня его телефон...» — «Что тут случилось?— спросил Юшков. — Кого-то взяли вместо меня?» — «Да кого брать... Отняли единицу, и дело с концом... Пробивали, пробивали единицу... Знаешь, как у нас делается... Лаборантом ты ведь не пойдешь?»— «Лаборантом?» — «Числиться лаборантом, а работать научным сотрудником».— «Пойду».— «Э-э... Я тебе по-дружески не советую... Оклад для молодой девчонки...» — «Берите лаборантом».
Шумский шарил по карманам пиджака, нашел записную книжку, полистал ее и сунул на место.
«Все это очень непросто, брат... Боюсь, ничего не выйдет... Знаешь что? Поговори с завкафедрой. Даже не надо упоминать, что уволился с автобазы. Ему до этого нет дела. Просто приди и спроси: «Нет ли у вас работы?» На меня, разумеется, ссылаться не нужно, он таких советчиков, как я, не любит. Просто приди и спроси.— Шумский поднялся.— Ну, брат, еще раз извини». Потом Юшков видел его в вестибюле около длинного гардеробного прилавка. Тот надевал плащ и старательно отворачивался, боясь, что Юшков опять подойдет к нему.
Юшков медленно прошел две автобусные остановки, решил было позвонить Сане Чеблакову или Валере Филину, но тут остановился автобус, он вскочил в него и поехал домой.
У них был Радевич. Они с матерью сидели рядышком на диване, смотрели телевизор. На журнальном столике стояли чайные чашки. Мать обрадованно подхватилась, заспешила на кухню: «Какой ты молодец! Никак не заставлю Николая Степановича пообедать! Сейчас будем все вместе... Слышишь? Это «Анна Каренина», старая запись! Я сейчас рассказывала Николаю Степановичу, какой это был спектакль до войны! В записи, по-моему, не самый удачный...»
Радевич затравленно смотрел на Юшкова. Порцию духовной пищи, которую он получил сегодня, ему было не переварить. Юшков спросил: «Ты давно здесь?» «Да все время... Как зашел за чемоданчиком...»
Их квартира называлась полуторкой. Название сохранилось с тех послевоенных времен, когда поставили у заводской стены несколько маленьких двухэтажных домов, положивших начало заводскому поселку, который потом слился с городом и стал Заводским районом. Дома были добротные, даже с кое-какой простенькой лепкой над дверьми. Стены в три кирпича, высокие потолки — долгое время эти квартиры считались роскошными. В комнате был темный тупичок, отделенный занавеской от остального пространства. В этом тупичке стояли кровать матери и тумбочка с книгами и лекарствами. Ночью занавеску раздвигали, чтобы матери было легче дышать.
Она ничего не спросила про институт, это ей было неинтересно. Главное, что сын наконец будет рядом. Принесла и поставила три рюмки и начатую бутылку водки из холодильника. Радевич смерил молниеносным взглядом, там было граммов сто пятьдесят. Видимо, это облегчило ему задачу, над которой он бился последние часы. Шмыгнул в прихожую к своей авоське, зашуршал газетой, вытаскивая бутылки. Юшков удержал его руку: «Не надо».— «А как же...» — «Обойдешься».
Мать внесла супницу (последний сохранившийся предмет сервиза, подаренного ей на свадьбу), выключила телевизор, позвала за стол: «Наливай, Юрочка. Мне каплю».
Радевич взял рюмку, удивился: «Она холодная! Горло простудить можно.— Грел в ладони.— Ну за хозяюшку...» «За вас обоих,— благодушествовала мать.— Юрочка ведь вполне мог остаться в городе. В том же институте. Сколько вон ребят из деревень в городе остались, а ему всегда нужно где потруднее».
Для кого она это говорила? Для Радевича? Чтобы он посочувствовал ее Юрочке, прожившему пять лет там, где Радевич и все его близкие живут всю жизнь? Забытое раздражение на материнскую болтовню поднималось, как поднимается температура.
В окно были видны окна бесконечного — вверх, вправо и влево — двенадцатиэтажного дома. Они уже зажигались в сером сыром воздухе. После ужина Радевич засобирался. Мать уговаривала его остаться: «Зачем в гостиницу, когда у нас диван пустует!» «Ну так ведь там уже деньги плачены...» Юшков пошел провожать.
Дождь кончился. Соседний дом двенадцатью своими этажами придавил их узкую двухэтажную улицу, выводящую на широкий проспект. «Мать у тебя культурная женщина, ничего не скажешь».— «Завтра помогу тебе с сальниками. Да и потом будешь приезжать — всегда звони... Начальником автоколонны теперь, наверно, Сергея сделают».— «Раньше думали Тимошенко».
Тимошенко уволился полгода назад. Неприятно задетый Юшков возразил: «Как? Когда это — раньше? Я сам месяц назад не знал, что уволюсь».— «Ну...» — «Я не знал, а вы знали?» — «Так ведь уволился же вот». Возразить было нечего.
Утром Юшков разыскал Радевича на заводе. Тот, оказывается, обманул: никакого номера в гостинице не достал, спал в кабине своего тягача, укрывшись тряпьем. «Ты зачем это из меня скота делаешь?» — оскорбился Юшков. Радевич молча улыбался. Они получили сальники, простились, и Радевич уехал. Его машина с автобазовским номером развернулась среди контейнеров, разминулась с сорокатонным «БелАЗом» и свернула на заводскую аллею. Юшков помнил наизусть все автобазовские номера, и теперь их следовало забыть.
Было неожиданное и непривычное чувство свободы. Впервые в жизни он не знал, что ему делать, и оттого казалось, что может случиться все, даже самое невероятное. Шла мимо блондинка из Клецка, лукаво и нежно улыбнулась: «Получили сальники?» «Получил»,— сказал он. Она сказала: «Вот видите, а вы волновались. Никогда не надо волноваться». Глаза ее смеялись, ноздри и полные губы дрожали от избытка жизни. Чувствовать себя жертвой и бередить обиду не хотелось. Сидя в кабинете Чеблакова, о вчерашней встрече с Шумским он рассказывал как о забавном анекдоте. «Ну деятели,— сказал Чеблаков.— И куда ты теперь?» Юшков ответил: «Все к лучшему, Саня». «Не пойму, чему ты радуешься»,— подозрительно сказал Чеблаков. Позвонили Валере Филину, чтобы вместе пообедать. Чеблаков вспомнил: «Да, имей в виду: Валера бороду отпустил. А то скажут потом, что не предупредил человека...»
Борода очень изменила Валеру. Стоял около столовой невысокий ладный мужичок из детской сказки, широколицый, с русой, почти рыжей шелковистой бородой, щурил глаза, и этот прищур и всегдашняя простецкая улыбка стали из-за бороды по-мужицки лукавыми. Юшков пощупал. «Где такую отхватил? Ни в чем себе не отказываешь».— «Сама выросла,— оправдался Валера.— Бесплатно».— «Как работка?» — «Собакам сено косим». Юшков спросил: «Жена, детишки?» — «Заимей — узнаешь». Филин ухмылялся. Иначе разговаривать друг с другом они не умели. Пробовали — не получалось. Без ухмылочек все выходило фальшиво и неловко. Они выстояли очередь, получили обеды, и за столиком Юшков поинтересовался: «Возьмете к себе конструктором?» Филин работал в конструкторском отделе. Он сказал: «А что? Иди к нам».— «Коса у вас лишняя появилась?» — «Какая коса?» — «Которой сено собакам косите». Филин ухмыльнулся, прищурившись. Чеблаков крякнул: «Ну, старик, у тебя все в бороду ушло, как в ботву. Поздно ему с ноля начинать конструктором». «Вообще-то,— легко согласился Филин,— это верно». Многого ждать от него не приходилось. И все же хорошо было сидеть с друзьями. «В автобазу какую-нибудь не хочешь?» — спросил Чеблаков. Юшков отмахнулся: хватит с него автобазы. Рассказал: Буряк зовет на рессорный. Чеблаков удивился: «Ну и наглец! Они сейчас, конечно, кого угодно возьмут. Вот пусть кто угодно и идет. Нет, старик, завод не лучше автобазы, а уж рессорный... Одну глупость ты в жизни сделал, и хватит. Спешить не надо. Что-нибудь придумаем, старик». «Ты считаешь, я со сберкнижкой приехал? — усмехнулся Юшков.— У меня только трудовая, других пока нет». Настроение у него испортилось.
Он проводил Филина к конструкторскому корпусу. Семиэтажная стеклянная коробка стояла в конце главной заводской аллеи. Небрежно спросил: «Как там у вас Хохлова?» — «Вроде ничего».— «Замуж снова не вышла?» — «Да нет вроде». Филин не скрытничал. Просто не соображал, что кого-то может интересовать то, что неинтересно ему. Доска его стояла в длинном, во всю длину здания, конструкторском зале. Впереди за белыми досками виднелся черный свитер Ляли Хохловой. Ляля сидела на стуле перед своим чертежом, и было похоже, она знает, что Юшков за ее спиной, и ждет, когда он подойдет. Закинув ногу на ногу, покачивала белое сабо, удерживая его на кончике пальца. Юшков подошел вместе с Филиным. Ляля смотрела, задумавшись, на свой чертеж, подняла глаза и посмотрела так же, как только что на чертеж, будто не видя. Юшков поздоровался, она молча кивнула. Лицо у нее было невыразительное, малоподвижное, но приятное и спокойное. Спросила, когда он приехал, и тут же отвела глаза, опасаясь выразить слишком большой интерес. Сказала, что пора бы уже быть теплу. Говорила она медленно.
Помолчав, Юшков спросил: «Телефон у тебя не изменился?» Она кивнула. Раскачала ногой сабо, оно слетело, она нащупала и снова поддела его. У нее были красивые ноги, и ей часто говорили об этом.
Юшков поехал в институт. Знал, что только потеряет там время, но именно время ему сейчас некуда было девать. Заведующий кафедрой посочувствовал, даже записал номер телефона на настольном календаре и обещал позвонить, если появится место.
Дома пришлось съесть второй обед — мать расстаралась. Сел около телефона, полистал записную книжку, но звонить никому не стал: не то было настроение. Прилег на тахту и заснул. Проснулся поздним вечером. Мать сидела в темноте, боялась разбудить его светом или звуком телевизора. Он сказал, что прогуляется, и вышел на улицу. Не задумываясь о цели, он шел туда, где было светлее — сначала к проспекту, а потом к светящемуся брусу гостиницы. Огни двух проспектов сливались перед ней. Из ресторана на первом этаже слышалась музыка. На ступенях под бетонным козырьком стояли девушки, некоторые поглядывали на Юшкова. Перед витринами закрытого универмага гуляли молодые парочки. Проспект от автозавода, пересекаюсь с другим проспектом, уходил под мост. Юшков постоял на мосту, глядел на летящие под ноги фары. Единственное, что он мог придумать сейчас, это пойти к Ляле. Она жила неподалеку в пятиэтажном панельном доме. Тут за мостом все улицы были из таких одинаковых, цементного цвета домов, целый район.
Увидев Юшкова перед дверью, Ляля сказала шепотом:. «Ты с ума сошел. У нас все спят. Подожди, я выйду». Она вышла в светлом пальто, села на скамейку у подъезда. Ни удивления, ни радости Юшков не заметил. Не увидел удивления и когда рассказал о разговоре с Шумским. Ляля держала руки в карманах пальто, ногу закинула на ногу и — видимо, это было ее привычкой — покачивала сабо одним пальцем. Повернувшись к Юшкову, слушала сосредоточенно и серьезно и вдруг перебила: «Ой, прости, я немного прослушала». Оказалось, не слышала почти ничего.
«И что же ты собираешься делать?» — спросила и осторожно поглядела: может быть, он уже говорил, а она и это прослушала? «Пойду конструктором,— сказал он.— К вам с Валерой». «Только не конструктором». Она приняла его слова всерьез. Он спросил: «Почему?» Объяснять она не любила. Считала, что ее и без объяснений должны понимать. Подумала, робко сказала: «Поздно тебе уже к нам».
Он понимал: у конструкторов категории, они присваиваются от стажа, как звания военным за выслугу лет. Начинать ему сейчас сначала— значит, сразу записаться в недоросли. «Мы с Валерой сейчас получаем по сто двадцать пять, меньше почти любого рабочего, а ты даже это только через пять лет получишь»,— сказала Ляля. Он спросил: «Советуешь мастером в цех?»,— «Нет, только не в цех».— «Куда ж тогда?» — «Конечно, в науку».
Он усмехнулся. Она покраснела, сообразив, что сказала не то, и рассердилась: «Они же тебе обещали, должны же они что-то сделать, ты же уволился из-за них!» Рядом с ее серьезностью обычное человеческое чувство юмора выглядело неприличной, чуть ли не порочной привычкой. «Тебе не холодно?» — спросил Юшков.
Подозрительно покосилась на него: не понимать ли это в том смысле, что пора расходиться? На всякий случай сказала: «Прохладно... Как узнаю, что в институте, позвоню тебе». Поднялась. Непохоже было, что она позвонит. Помедлили. Каждый ждал, что скажет другой. Юшков простился.
На третьем курсе была какая-то вечеринка, сидели за столом, кто-то рассмешил Лялю, и Юшков, разговаривавший с ее соседом, в какое-то мгновение ее не узнал. Увлеченный разговором, он видел ее боковым зрением, не думал о ней в ту минуту и вдруг заметил, какая красивая девушка сидит близко, и как хорошо смеется, и как блестят ее глаза, и какое лицо живое, необычное, и тут же с удивлением сообразил: это же Ляля Хохлова! Ту незнакомую Лялю Хохлову, которая, может быть, жила всего мгновение, созданная игрой света и тени, может быть, даже привиделась,— эту Лялю с тех пор он видел всегда. Какое бы ни было выражение лица у Хохловой, для Юшкова в нем навсегда осталось от того мгновения что-то, что видел он один и не видели другие. И странно, в тот же вечер Ляля это почувствовала. Внимательно присматривалась к Юшкову, когда их глаза встречались, взглядом спрашивала: что? Они оба уже чувствовали присутствие и внимание друг друга, понимание этого связывало их, создавало напряжение, которое усиливалось с каждой встречей. В молчаливости и медлительности Ляли Юшков стал видеть особую глубину. Он недоумевал: как же другие этого не замечают? Один парень как-то сказал: «Лялька Хохлова? Она же дура несусветная!»
То, что возникло между ними, осталось невысказанным и вместе с тем как бы уже прожитым, но особая неловкость сохранилась и в компаниях странным образом продолжала связывать их. Потом Ляля вышла замуж и разошлась через месяц после свадьбы.
Прошло несколько дней, и погода изменилась. По утрам было тепло, днем припекало. Раскручивались, выпрямлялись листья деревьев, теряли младенческую нежную клейкость. Юшков выходил из дома рано, когда еще чувствовалась бодрящая свежесть. Он стоял в учрежденческих очередях, объяснялся в кабинетах, ждал кого-то перед дверьми с табличками, кого-то ловил в коридорах («Не вы ли товарищ Смирновский, мне сказали обратиться к Смирновскому, я прописываюсь к матери, она пенсионер...»). Он находил старых приятелей в заводских цехах, на станциях техобслуживания, в конструкторских бюро и автобусных парках, с одним обедал в механизированной столовой, где на хромированных стойках грелись подносы с едой, с другим пил пиво в дощатом павильончике у автобазы, курил в прохладных полутемных холлах с мягкими креслами и на ошкуренном бревне возле врытой в землю бочки из-под солидола и вросшего в хлам ржавого автомобильного кузова («Тут тебе, старик, любую тачку сделают не хуже новой, но они гребут, старик, ох как они гребут, а ты за сто двадцать начальник над ними, а у них прямой контакт с частничками...»); залезал на галереи прославленного сборочного цеха, видел, как плывут под ним автомобильные двигатели и кабины, выстраиваясь, как корабли на рейде, у портов и причалов главного конвейера («Приписок и фиктивных нарядов у нас нет, это верно, но если я рабочему двести пятьдесят не обеспечу, он от меня уйдет, так что смотри сам, что лучше...»), бродил по улицам, приторно пахла в скверах сирень, насыщалась зеленью, теряла солнечные, желтые оттенки листва, молодой, яркой травой затягивало рассыпанный по газонам черный торф, в автобусном парке старый приятель в конторке с автомобильными сиденьями вместо кресел сказал ему: «Работать всюду можно», но ни одна работа ему не нравилась. Чем ближе узнавал он, тем труднее было выбрать и решиться.
Пришло время, он уже готов был согласиться на что угодно, лишь бы кончилась неопределенность. Однако, как нарочно, стоило ему согласиться, тут же оказывалось, что работы нет: либо вчера место заняли, либо только через месяц оно освободится, либо оно есть, но с зарплатой перерасход. Был Юшков у заместителя директора завода, тот долго уговаривал мастером в цех, видимо, нужны были ему мастера, а прощаясь, сказал: «Жаль вас отпускать, зайдите через недельку, что-нибудь еще подберу. Есть у меня для вас место, но там живой человек сидит». Словно люди на заводе делились для него на живых и неживых.
Чеблаков сказал, что ходить к кадровикам не надо, если будет что-нибудь стоящее, он, Чеблаков, узнает об этом раньше кадровиков. На следующее утро позвонил Юшкову: «Знаешь, где Комитет стандартов? В десять моя Валентина ждет тебя.— И назвал номер комнаты и этаж.— Фирма неплохая и Валька там не последний человек».
За год или два, что Юшков ее не видел, жена Чеблакова Валя располнела и превратилась в солидную тетку. Она привела его в просторную и почти пустую комнату, одна стена которой была из сплошного стекла. За стеклом с высоты птичьего полета открывался новый микрорайон, белым клином врезающийся в зеленую округлость холма. Кроме Вали, в комнате был моложавый мужчина лет пятидесяти, с очень яркими, будто накрашенными губами. Все сели в кресла. Валя откинулась назад, положив руки на подлокотники и поджав под сиденье полные ноги, отчего они казались еще полнее. Оставалось двадцать минут до какого-то совещания. Коротая время, говорили о солении грибов, о маринадах, мужчина оказался сведущим, знал, сколько чего надо добавлять в рассол, а Валя говорила, что она все делает иначе, и спорила. Чувствовалось, что мужчина побаивается ее и заискивает. Звонил телефон. Валя отвечала резко и коротко: «Есть стандарт, читайте... Значит, не умеете читать... Не знаю. Научитесь читать. Все». Потом позвонил, видимо, большой начальник. Она подобралась, слушала, порываясь возразить — очевидно, ее в чем-то упрекали,— и, сникнув, пообещала: «Хорошо, Виктор Сергеевич, я разберусь. Сфотографировала». Они с мужем пользовались одним словарем. Положив трубку, Валя сказала: «На рессорном совсем обнаглели. Чуть что — звонят председателю. Минуя всех. Скоро прямо в Москву будут звонить». Юшков вспомнил Буряка. Мужчина продолжал спорить о маринаде. Вале надоело, и, сердито отвернувшись от него, она сказала: «Ну, не знаю». Они ждали начальника. Он не пришел на совещание, и Валя сказала, что вечером позвонит Юшкову домой.
Этот кабинет со стеклянной стеной, это новое здание в шестнадцать этажей, фотографии которого печатались на почтовых конвертах и появлялись в сводках погоды телепрограммы «Время», огромный лифт с зеркальными стенами, стайки хорошо одетых девушек, которые входили и выходили из этого лифта, не прерывая разговора, но успевая, однако, оглядеть себя в зеркалах,— все это Юшков примерял к себе, как примерял бы, сбросив автобазовскую замасленную спецовку, модный и красивый костюм. В этой новой одежде он нравился себе, пожалуй, больше, чем в аспирантском синем халате, в полутемных лабораториях института, среди потенциометров и осциллографов, вытащенных из гнезд и поставленных на ободранные письменные столы в путанице электропроводов. В коврах и полированном дереве, поглощающих звуки, в красивых светильниках, смягчающих свет, была та продуманность, пожалуй, даже уважение к человеку, которые всегда подкупают людей.
«Работа здесь неплохая,— сказала однокурсница, которая столкнулась с Юшковым в коридоре и притащила завтракать в кафе для сотрудников.— Но платят мало. Мне все обещают добавить десятку и никак не добавят. Вот и сейчас наметилось было, затеяли пару перестановочек, да Валька Чеблакова опять кого-то берет». «Она меня берет»,— сказал Юшков. Однокурсница засмеялась: «Ну, если тебя, так пускай уж. Вальку вообще здесь терпеть не могут. Баба темная, а рука у нее где-то есть большая. Ты меня не выдавай ей, Юра. Кстати, выглядишь ты неплохо, я бы даже сказала, в тебе что-то такое появилось».
Она была первой красавицей в институте, да и здесь, наверно, тоже и, чувствовалось, привыкла, что ее оценками мужчины дорожат. Поддаваясь ее доброжелательности, Юшков сказал: «Я, кажется, не пойду сюда». «Это из-за моей десятки? Глупости,— сказала она.— Долго же тебе придется работу искать, если будешь таким щепетильным. При чем тут ты? Захотят добавить — всегда найдут возможность, не захотят — ничего не поможет. Только вот для тебя ли это? Контора — она контора и есть, а тебе, по-моему, надо живое дело искать, где можно как-то проявить себя. Сюда надо перебираться поближе к пенсии». Он подумал, что она права.
Валя позвонила вечером, как и обещала, и сказала, что надо потерпеть день-два. Она считала, все будет в порядке. Начальника сегодня не было, но решает не начальник, а моложавый губастый мужчина, которому Юшков понравился. «Как я мог понравиться, когда рта не раскрыл, а вы говорили только о грибах?» — спросил Юшков. Валя сказала: «Человек сразу виден. Да и мое слово ведь тоже что-нибудь значит здесь, правда? Ну ладно, Юшков, пока. Будут новости, я тебе позвоню». Покровительственный ее тон покоробил, но это была плата за ее труд.
Два дня Юшков ждал, на третий позвонил Чеблакову на работу. «Я как раз хотел тебе звонить,— сказал тот. Он говорил медленно, то ли собираясь с мыслями, то ли решаясь на что-то, и наконец решился.— Можешь сейчас ко мне прийти? Чем скорее... Я тогда заказываю пропуск для тебя.— Он снова как бы поколебался и добавил: — Если я тут при тебе буду одному человеку глупости говорить, не слишком удивляйся и не спеши поправлять. Ну жду, старик».
В кабинете Чеблакова стоял, уже взявшись за ручку двери и собираясь выходить, невзрачный сутулый человек в мятом костюме, лицо на заводе известное, начальник отдела снабжения Лебедев. Выпустив ручку двери, чтобы пропустить Юшкова, он продолжал разговор, в котором что-то просил для кого-то, а Чеблаков отказывал. «Слушай, старик, подтверди.— Чеблаков ловко включил в разговор Юшкова.— Есть у меня сальники? Если даже Юшков не нашел — значит, действительно нет! Он из меня душу вытащил за сальники! Вот это снабженец, не то что ваши! Слушай, Юшков, вот человек ищет себе заместителя. Бросай все к черту, вдвоем вы горы свернете! Петр Никодимыч, хватайте его, такой случай раз в жизни бывает, век будете меня благодарить!» Он продолжал в том же духе. Юшков и Лебедев переглянулись, и Юшков не заметил в коротком взгляде Лебедева ни особого интереса к себе, ни даже обычной любознательности. Лебедев ушел, и он спросил: «Как я понял, с Комитетом стандартов ничего не вышло?» — «Да черта лысого тебе стандарты, что тебе там светит, старик? А тут реальный шанс».— «И чем занимается заместитель?». Чеблаков запнулся. «Заместителем, старик... не пойми превратно... тебя не возьмут. Не потому что ты там, скажем, хуже, чем какой-нибудь Чеблаков, но тебя еще должны узнать. Я ему толкую про заместителя, чтобы он тебя взял начальником сектора, но при этом считал бы себя в долгу перед тобой. Начальник сектора — это, поверь, неплохо для начала. Дальше все будет зависеть от тебя».
Они пообедали вместе, вернулись в кабинет, и Чеблаков продолжал уговаривать, а когда Юшков спросил прямо: «Ты советуешь?» — смешался, ушел от ответа и в конце концов сказал: «Ну, знаешь, я вовсе не хочу сказать, старик, что лучше этого нет ничего на свете. Но я лично тебе ничего лучшего предложить не могу». «Звони Лебедеву»,— согласился Юшков. Чеблаков возразил: «А уж это нет, старик. Теперь следующее слово за ним. Разговор должен начать он сам».— «А если он не начнет?» — «Тогда поищем еще что-нибудь. Лебедев человек умный, но ум у него крестьянский. Если ему что-нибудь предлагают, он первым делом ищет подвоха. Знаешь мудрость: от добра добра не ищут. А человечек ему нужен. Вот если бы ему тебя сосватал Хохлов...» — «Лялькин отец?» — «Лялькин отец ни много ни мало заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению. Это бог. Ему подчиняется мой начальник, ему подчиняется Лебедев, и я тебе скажу: если есть на заводе человек на своем месте, то это Хохлов. Он знает все. Я не удивлюсь, если он знает, сколько денег в моем кармане. И Лебедев не удивится, если Хохлов позвонит ему и спросит: «Нашел себе человека? Почему Юшкова не взял? Ну смотри, теперь за помощью не обращайся». И можешь не сомневаться, Лебедев кинется ко мне со всех ног за твоим телефоном, хоть я еще не слыхал, чтобы на заводе, где работает тридцать тысяч человек, кого-то приглашали на работу по домашнему телефону. Кстати, как ты с Лялькой?» Юшков пожал плечами: «Никак».— «Мне кажется, было время, ты с ней...» — «Нет».
Чеблаков накрутил телефонный диск и сказал в трубку: «Филина мне, пожалуйста... Ну как, старик? Собакам сено косим? Неплохо ты, я тебе скажу, устроился!».
Глаза щурились. Разговоры с Филиным и у него всегда начинались повторением одних и тех же шуток, как шахматная партия, даже самая сложная, начинается с традиционных ходов. Это было и настраиванием на нужный тон, и чем-то вроде пароля: отзыв принят — значит, дружеская связь по-прежнему надежна. Посмеиваясь, Чеблаков разрабатывал постоянную тему, что Филин всегда устраивается лучше всех, и в том же тоне незаметно перешел к делу: «Тут у меня Юрка сидит. Есть для него отличная работа: начальником сектора качественных сталей... Тебе это не понять, ты запоминай, что старшие говорят... Это у Лебедева в отделе снабжения. Чем вы там с Лялькой Хохловой занимаетесь? Может она через своего отца это дело пробить? Пошевели своей бородой у нее над ухом. А то, понимаешь,— Чеблаков покосился на недовольного Юшкова, успокаивающе помахал рукой,— Юшков готов мастером или технологом в цех идти. Вытаскивай его потом всем миром оттуда. Вот пусть она бросает все и летит к отцу, пока Лебедев кого-нибудь не взял».
«Понимаешь, старик,— сказал он потом Юшкову, подумав,— на этой должности ты все-таки будешь виден. Это важно. Снабжение — это, конечно, не мозг промышленности, но это ее нервы».
Вечером позвонила Ляля. Трубку подняла мать. Она позвала Юшкова и ушла в кухню, прикрыв за собой дверь, показывая, что уважает его право на секреты. Ляля поздоровалась и притихла, ожидая, узнает он ее голос или не узнает. Он сказал: «Здравствуй, Ляля».— «Я хотела разузнать об институте, что там случилось,— сказала она, чуть запинаясь.— И все никак не могу».— «Да ничего,— сказал он.— Дело прошлое. Не стоит».— «Ну почему... Интересно же...— Она помолчала и спросила: — Ты хочешь работать в отделе снабжения?»— «А где еще?» — спросил он. «Мне Валера говорил»,— сказала она. Он сказал: «Да, хочу... Как ты живешь?» «Ничего». Она пыталась понять, знает ли он, что ее за него просили. Его тон сбил ее с толку. В конце концов он должен был сам просить за себя, а не действовать через Валеру. Понимая это, он все же не мог отделаться от тона ничего не подозревающего человека: «Как Валера?» «Что ему сделается?» Она не сумела скрыть досаду: при чем тут Валера? Юшков сказал: «Привет ему. На днях заскочу к вам».
Он чувствовал себя скверно. Подавая ему ужин, мать небрежно поинтересовалась: «Ляля — это не та ли симпатичная девушка, на японку чуть-чуть похожа, с правильной такой формой головы?» То ли своими литературными способностями щеголяла, то ли еще чем-то. В детстве он слышал, как она похвасталась подруге: «Мне мой сын всегда все сам рассказывает, от меня у него секретов нет», «...кажется, Хохлова ее фамилия, я не путаю?» — «Да,— сказал он.— Не путаешь».— «Она не замужем?» — «Нет».— «И не была?» — «Не знаю». Мать заметила раздражение и обиделась.
Утром позвонил Чеблаков. «Только что звонил Лебедев,— сказал он.— Спрашивал про тебя. Сам понимаешь, говорит: сразу замом я его не могу взять, нужно время. А в деньгах, говорит, он почти не потеряет. Он — это, значит, ты. Так что иди к нему и меньше чем на максимальный оклад не соглашайся. И вообще держи себя так, будто тебе пообещали должность зама. Согласись на начсектора, но изобрази разочарование. С таким хитрецом, как Лебедев, нужно только так. А нам с Хохловой по бутылке коньяка поставишь».
При второй встрече Лебедев уже не казался мешковатым, сутулым и робким человеком. Может быть, дело было в том, что сидел он за своим столом и на своем месте. Вопросы задал только самые необходимые, а о будущей работе Юшкова не захотел говорить: «В курс дела успеете войти. У нас надо только одно — умение находить общий язык с людьми». Отдел снабжения занимал половину первого этажа в заводоуправлении. В коридор выходило несколько дверей, некоторые из них были раскрыты, за ними толпились снабженцы и беспрерывно звонили телефоны, На одной двери висела табличка «Сектор качественных сталей». Юшков заглянул туда. Полная брюнетка кричала в телефонную трубку, придерживая ее плечом: «Подождите! У вас еще двадцать тонн есть! Подождите!» Она яростно листала пухлую конторскую книгу. В комнате было четыре письменных стола и шкафы, набитые папками. Юшков так и не узнал, в чем будет заключаться его работа.
Спустя два дня он получил паспорт с городской пропиской и постоянный автозаводской пропуск. Это было в пятницу. С того дня, как он приехал домой на машине Радевича, прошло чуть больше двух недель.
То, что Чеблаков называл «Юшков ставит по бутылке коньяка мне и Ляле», решили провести на даче, которая, опять же, была не дачей, а домом Валиных родителей в получасе езды от города. За маленькой деревенькой начиналось проточное озеро, крытая толем банька стояла на его берегу, и Юшков с Филиным не раз приезжали париться в ней. И вот в субботу они приехали с Лялей и женой Валеры, Наташей. За ночь нагнало тучи, и с утра шел холодный дождь. Во дворе Валя в пластиковой накидке полоскала в корыте детское. Под накидкой было выцветшее ситцевое платье, лопнувшее под мышками, а голову с накрученными на бигуди волосами прикрывал полиэтиленовый мешок. Чеблаков уже затопил баньку и позвал парней туда: «Бабы без нас обойдутся». Они таскали воду, резали веники в березовой роще, промокли и продрогли, и оттого предвкушение бани становилось еще сладостней. Было хорошо втроем заниматься делом, словно бы вернулись времена студенческой холостой жизни. Прибегала Валя, звала помогать по дому, сердилась — работы у нее было много. Чеблаков возражал, подмигивая друзьям: «У нас тоже много работы, мы же не зовем вас помогать. Небось как париться, сами прибежите». Посовещавшись — надо, мол, помочь, все равно не отвяжутся,— послали к женщинам Юшкова как человека независимого, которого меньше будут пилить. И посоветовали: «Ты там разбей пару тарелок, они тебя сами прогонят». Сопротивление женщинам было необходимой частью ритуала, без которого удовольствие было бы неполным.
И вот они, продрогшие и перемазанные сажей, парились. Жар окутывал их, заполняя легкие, обжигал изнутри нос, как горячие лучи проходил сквозь тела. Плясали веники, гнали раскаленный воздух, и так же, как жжет сильный мороз, непривычный жар воспринимался телом как холод, будто в ознобе становилась гусиной кожа.
Чувствуя одурь, близкую к беспамятству, к обмороку, слыша только тяжелое буханье сердца, они выбрались под дождь и бросились в холодное озеро. Словно бы сквозь огонь упали в темную прохладу воды, едва успев ощутить ожог.
Вышли из воды малиново-красные, ступая по холодной траве непослушными ногами. И началось все сначала: опять блаженная истома, жар и березовый дух, потом одурь и оглушительный стук в висках, и снова холодное озеро, уже не обжигающее — кожа перестала чувствовать. Опять шипела вода на камнях. Пили в предбаннике сладкий чай из термоса, и возвращались силы.
Пришел тесть Чеблакова, худой молчаливый человек со страдальческими складками у губ. Язва желудка не позволяла ему париться, и ему приятно было посидеть рядом в прокопченном предбаннике, радуясь наслаждению других. Чеблаков открыл дверь, выпуская последний жар. Тесть вымылся вместе с ними. Пока он одевался в предбаннике, они сидели на крыльце оглушенные, безразличные ко всему, ничего не чувствуя. Дождь кончился. Над озером появилась полоска чистого неба, расширилась, ее сносило к западу. Покой уставшего тела казался душевным покоем: что есть, то и ладно, как ни будет, все будет хорошо.
Их ждали. Женщины отказались от бани. Хозяйки уже приготовили обед, накрыли стол, и теперь все их помыслы были о том, чтобы ничего не остыло и ничего не подгорело. Наташа и Ляля скучали, но не подавали виду. Они возились с малышом, а он, неблагодарно отвергая всякие заискивания и заигрывания, рвался к матери. Был он толстый и гладкий. Мать Вали возилась у печи, прогнала дочь: «Садись со всеми, я сама подам». Валя плюхнулась на стул, сказала: «Ну, умотали меня. С места не встану.— Отпихнула от колен малыша.— Иди к отцу, надоел».
Она переоделась в вязаную красную кофту и черные штаны в обтяжку, а бигуди забыла снять. Сидела, подпирая голову полной рукой, и мечтательно смотрела на сына. Чеблаков держал его на колене, кормил кашей из своей тарелки и приговаривал: «Не смотри на тетю Наташу, а то подавишься, дядя Валера вот не слушал, смотрел...»
Банная краснота еще не сошла с Филина, борода на красном лице казалась белой. Он ждал, что скажут о нем. «...дядя Валера вот... Мама! — крикнул Чеблаков в кухню.— Идите же за стол! Мы не пьем без вас!» Она, польщенная, появилась с миской вареной курятины: «Вот еще куру... куда ее тут...» — «Садитесь, садитесь, мама. Видим куру. Сфотографировали» — «Садись, старуха»,— подтолкнул к ней табурет муж. Она села, застенчиво держала рюмку, пока он наливал ей. Юшков сидел рядом с Лялей. Она старалась всем улыбаться. «...дядя Валера вот не слушал, смотрел...» «Не томи, — сказала Наташа.— Что там дальше-то было?» Ей не нравилось, что друзья всегда потешаются над ее мужем, а он лишь ухмыляется и щурится в ответ. Она сидела между ним и хозяином, выше их ростом, худая, настороженно повернув голову к Чеблакову. Острый нос торчал из-за свесившихся на лицо прямых волос. Чеблаков сказал: «Спроси у Валеры, что дальше было».— «Не поняла, что я должна спросить у Валеры?»— «Ну что, гости дорогие,— решился хозяин.— Как говорится, дай бог не последнюю».
Ляля храбро выпила и оцепенела: в рюмке был крепкий самогон. «Ешьте скорее»,— сказала ей хозяйка. Хозяин, гордый своим самогоном, окинул всех коротким лукавым взглядом, привычно ожидая почтительного изумления.
«Теперь давайте Юркин коньяк,— сказал Чеблаков.— То есть не Юркин, а мой и Лялин. Да, Ляля? Где наш с тобой коньяк?» — «Всякие шампанские и коньяки,— Валя взяла с тарелки соленый огурец, откусила половину,— это все муть. Пить так пить».— «Ладно работать под простую,— сказал Чеблаков.— Ты и есть простая».— «Да».— «Сними бигуди».
Она потрогала голову, засмеялась: «Господи, я и забыла». «Только не за столом»,— сказал Чеблаков. Юшков заметил, что Валя побаивается мужа. «Ешьте еще,— шепнула ему хозяйка.— Вот кура». Она поглядывала на Лялю, робея перед ней меньше, чем перед другими, «А Леночка что же не ест? Не нравится?» «Все очень вкусно, я ем»,— бормотала Ляля, краснея.
Чем больше пили, тем откровеннее поглядывали на нее и Юшкова. Пошли тосты с намеками, что вот пора бы Юшкову взять пример с друзей, неужели ж девушек нет хороших, да что тут далеко ходить... или он никому не нравится?.. Наташа вступилась: «Оставьте Юшкова в покое. Вы ему уже сосватали работку, так хоть тут не мешайтесь». «Чем тебе его работа не нравится?» — спросил Чеблаков. Она сказала: «Оставь. Уж я-то знаю, что говорю». Она работала у Лебедева. Посмотрела на часы: «Валера, нам пора». Филин глянул тоскливо. Он надеялся ночевать здесь. Собственно, все на это рассчитывали. Чеблаков взмолился: «Не дури, Наталья».— «Тебе хорошо,— заметила она, поднимаясь.— А нам еще электричкой и автобусом».— «Почему тебе всегда хуже всех?» — в сердцах развел руками Чеблаков. Она передразнила, тоже развела руками: мол, самой хотелось бы это узнать. Юшков хмыкнул. Она ему нравилась. Поднялись все. Досадуя на Наташу, каждый старался сказать что-нибудь хорошее Ляле. Валя чмокнула ее в щеку.
В город они вернулись в двенадцатом часу ночи. Юшков провожал Лялю. Она молчала дорогой, что-то решая про себя. Не останавливаясь, чтобы проститься, вошла в свой подъезд. Юшков вошел следом. Она поднялась по лестнице, сказала шепотом: «Тихо, у нас уже спят».
Открыв дверь в темную прихожую, пошла вперед. Юшков прикрыл за собой дверь и оказался в полной темноте. Услышал шепот, сделал шаг и споткнулся о туфли Ляли. Сделал еще два шага.
Свет уличных огней обозначил окно. Ляля включила торшер. Она ходила по комнате в чулках. Туфли остались в прихожей. Комната была маленькая. Тахта, книжная полка с проигрывателем и кресло занимали все ее пространство. Ляля села на тахту под лампу торшера. Каштановые ее разлетающиеся волосы блестели около самой лампы, казались золотистыми. Лицо в тени едва виднелось. Юшков сел рядом, обнял. Ляля отворачивалась. Руки ее лежали на коленях, и она не знала, куда их девать. Они ей мешали. Она сделала попытку высвободиться, умоляюще посмотрела, пытаясь подсказать взглядом что-то очень для нее важное. Он погасил свет и по ее движению почувствовал, что мешающее ей препятствие исчезло...Был час ночи — время позднее для заводского района. Стекло книжной полки слабо поблескивало, отражая свет на лицо Ляли. Это лицо стало скорбным и задумчивым. Вот глаза оживились мыслью, встретились с глазами Юшкова, и тут же Ляля отвернулась. И опять как будто забыла о нем. Потом дотронулась до его руки, шепнула: «Тебе надо уходить?» Он замялся, и она сказала: «Еще три минутки».
В прихожей ощупью отыскала туфли, вышла в чулках на лестничную клетку, всунула в туфли ноги. Вышли на улицу. Палисадник перед домом, разросшийся в человеческий рост, шумел на ветру. Пахло литейной гарью. Ляля обняла Юшкова, сказала: «Холодно», прижалась и застыла. Ему было неудобно так стоять. Она заметила это, фыркнула, оттолкнула его и ушла в подъезд
Воскресенье они провели вместе. Хохловы уехали на дачу, квартира осталась пустой. Окна ее выходили на юг. Ляля затянула их шторами. Солнечные лучи пробивались в щель между шторой и рамой и отражались от стекол книжной полки.
Она могла замереть, прижавшись к Юшкову, и молчать часами. Или же, боясь, что наскучила ему, принималась развлекать. Вытащила фотоальбом. Мама, папа, сестренка Татка... Ему не было смешно. Видимо, у нее был сложившийся за многие годы свой собственный сценарий счастья, который она торопилась осуществить. Сценарий этот составлялся не в расчете на Юшкова, и некоторые его детали Юшкову мало соответствовали. Обнаруживая это, она, такая обычно невозмутимая и спокойная, пугалась и сердилась на Юшкова. Поставив на проигрыватель пластинку и увидев, что Юшкова музыка не взволновала, она настораживалась. Когда Юшков купил бутылку вина и нес ее в руке, не сообразив спрятать в сумку Ляли, она вдруг рассердилась: «Так и будешь нести как флаг?»
Наверно, при каждом отступлении она пугалась, не угрожает ли оно всему сценарию, а убедившись, что не угрожает, смирялась с ним и переставала замечать. Мелочей для нее не существовало, все было одинаково важно.
Иногда, впрочем очень редко, она ошибалась и читала не свой, а чей-то другой сценарий. Тогда она спрашивала: «Ты меня любишь?» — или: «О чем ты сейчас думаешь?» — пыталась быть непохожей на себя, но это она не умела.
Когда она спросила Юшкова, о чем он сейчас думает, он, к удивлению своему, заметил, что думает в эту минуту о толстой брюнетке, которая лихорадочно листала двумя руками пухлую конторскую книгу, прижимая плечом к уху телефонную трубку. С понедельника эта брюнетка становилась его подчиненной. Незнание предстоящего дела его не пугало. Он был уверен, что справится с ним, и ждал его. Без дела его настроение зависело от любой мелочи, было изменчиво и неуправляемо. Цепочка неудач, мелких неприятностей и ошибок теперь должна была кончиться, поскольку кончилось положение, которое их вызывало.
Оказалось, его на заводе ждали. Едва он появился в понедельник утром, Лебедев повел его к Хохлову. За большим столом сидел крепкий, полнокровный человек. Густые брови срослись, как у Ляли. Заместитель директора не выказал особого любопытства к человеку, которому помог по просьбе дочери. Спросил, чем Юшков занимался прежде, и сказал Лебедеву: «Опыта снабженческого, конечно, мало. Не знаю, Петр Никодимович, решайте сами». Металлургический комбинат задолжал им десять вагонов хромистой стали. Юшков должен был поехать на комбинат и привезти эти вагоны. Лебедев сказал: «Мне рекомендовали Юрия Михайловича как опытного человека. Больше посылать некого». Он явно давал понять, что Юшкова ему навязали. Хохлов промолчал, и Лебедеву пришлось все-таки взять на себя часть ответственности: «Конечно, мы ему немножко поможем».
В кассе завода, кроме обычных командировочных денег, Юшков долучил двести рублей по разным ведомостям. В одной из них была директорская премия за хорошую работу, в другой — шестьдесят рублей единовременной помощи. Просьбу об этой помощи продиктовала секретарша Хохлова, это и имел в виду Лебедев, обещая помочь. Прежде чем подписать просьбу, оторопевший Юшков помедлил: «Я обойдусь без этого». «Тогда идите объясняйтесь к Хохлову»,— рассердилась секретарша. Он подписал. Она позвонила какому-то Сергею Ивановичу, сказала, что сейчас, к нему придет новый заводской работник Юшков, и объяснила Юшкову: «Это продуктовый возле аптеки. Я договорилась. Скажете там, что вы от Лебедева, и сделаете заказ».— «Какой заказ?» — «Кофе растворимый, я не знаю, какой там будет сегодня дефицит».— «Ого,— сказал он.— Дело у вас тут поставлено четко».
Она не поняла, что он просто пытается как-то бодриться. Увидела вместо этого насмешку и снова рассердилась: «Я, между прочим, для себя лично в этом магазине не могу попросить ничего».
Юшков решил было позвонить Чеблакову, а потом раздумал. Чеблаков сказал бы: «Ну, старик, это ведь все-таки не институт». Юшков знал, что нельзя начинать новую жизнь с поражения, и дал себе слово приехать из командировки победителем.
В магазине его провели в кабинет директора. Холеный крупный парень в замшевой куртке без лишних слов протянул написанный от руки список. «Что у вас обычно заказывают?» — спросил Юшков. Парень рассмеялся, развел руками: «Каждый заказывает, что ему нужно. Что нужно вам, я никак не могу знать». Поскольку повода для смеха Юшков не увидел, он понял, что молодой директор не любит заводских снабженцев и смотрит на них как на обирал. Он заказал банки растворимого кофе, наборы конфет и копченую колбасу. Сверток получился объемистый, зато от части денег он освободился. Заметив в списке боржом, воспользовался случаем и купил десять бутылок для матери.
Мать растрогалась. Мужу ее приятельницы сделали операцию на желудке, и врач посоветовал ему пить боржом. Мать тут же позвонила приятельнице, похвастала, что ее Юрочка достал. Всю жизнь она гордилась и немного кокетничала своей непрактичностью и неумением «добывать» и вот точно так же готова была гордиться теперь практичностью сына. Он объяснил: «Случайно в магазине нарвался». Покупки заняли половину чемодана. Пришлось обманывать мать, будто все это кто-то просил его передать кому-то в Черепановске, куда он летел за сталью. Ничего другого мать не сумела бы понять, только бы испугалась. Чтобы порадовать ее, Юшков рассказал, что летит по системе «Сирена», вот, мол, какая у него теперь ответственная работа: по этой системе Аэрофлот оставляет броню на любой рейс.
Ляле он позвонил из автомата, и она поехала провожать его. Они нашли пустую скамейку у задней стены аэровокзала, слушали объявления о полетах и видели, как садится солнце за летным полем, от которого тянуло озерной свежестью. Розовые сумерки, красные сигнальные огни на фиолетовых тучах, разбегающиеся для взлета ревущие самолеты — все это не действовало на Лялю. Она сидела, покачивая, как обычно, сабо на кончике пальца, молчала, будто бы забыв, что Юшков рядом, но стоило ему повернуть к ней голову, и она мгновенно поднимала глаза, пытаясь то ли спросить, то ли подсказать что-то взглядом. Он даже не знал, надолго ли уезжает. Ему самому Лебедев объяснил так: «Последняя сталь должна уйти из Черепановска не позднее двадцатого июня. Сегодня четвертое. Справишься быстрее — тем лучше».
Ночь Юшков провел в Быкове и в полдень вылетел в Горск. От Горска до Черепановского металлургического комбината ходил рейсовый автобус. Зной уже отпустил, но пока автобус стоял на остановке, все пассажиры в его раскаленном салоне пропотели, как в парной бане. При движении в открытые окна задул ветерок. Донесло гарь мартеновских печей. По обе стороны дороги была степь, белый песок чередовался с солончаками, до самого горизонта не видно было ни одной трубы. Просто, наверное, гарью пропахла обивка автобусных сидений.
Глава вторая
Черепановск не отличался бы от других районных городков, если бы не гостиница. В пять этажей, с тремя фасадами на три улицы, с пилястрами и лепным карнизом под крышей, она поднималась над городом, как собор. Вертикальная вывеска «Металлург», нависающая над бульваром, относилась не к гостинице, а к ресторану на ее первом этаже. В холле было прохладно, тихо и чисто, в длинных коридорах лежали ковровые дорожки.
Место оказалось только в номере на четверых. Когда Юшков вошел туда, трое его соседей, сидя на двух кроватях, ужинали. Разложили на газете ломти хлеба, плавленые сырки и зеленый лук, а бутылку на всякий случай держали под кроватью.
Это была случайная компания. Один, в майке, мускулистый, крупный, ругал кого-то. Двое других вынужденно сочувствовали. Увидев Юшкова, ражий обвинитель досадливо замолчал. Зато один из сочувствующих, худой, юркий, в рубашке, которая вылезала из брюк, выскочил навстречу, словно старого знакомого увидел. Ему хотелось умиляться и плакать от радости, а приходилось сочувствовать утомительному чужому гневу. Появление Юшкова давало повод излить наконец избыток восторга, и худой обнимал и тащил нового соседа к кровати с закуской. Кроме того, он не был уверен, что пить в гостинице разрешается, испугался, когда Юшков открыл дверь, и возликовал, убедившись, что опасности нет. Третий, пухлый блондин, слегка осовел. Под серым пиджаком были желтая рубашка и красный галстук. Худой засуетился, отыскивая посуду для Юшкова. Блондин вытащил из-под кровати бутылку, долил свой стакан и протянул Юшкову — воспользовался случаем, чтобы не выпить свою долю. Юшков отвел стакан рукой: «Нет, ребята. Вы как хотите, а я не пью».
Ражий дядька в майке опустил кучерявую потную голову, ждал, пока затихнет суета. Он решил перетерпеть ее, не распылять свой гнев. «Я ему кажу, ты сколько тут днив? Я все разумию, тебе бильш надо, таким, як ты, всегда бильш других надо, ты только одно скажи: ты скильки тут днив?»
Они все приехали за сталью. Блондин прилетел утром из Горького. «Обвинитель» был из Киева и сидел тут уже несколько дней. Он жаловался, что получил резолюцию замдиректора, но появился какой-то гусь из Нижнего Тагила, и все пошло прахом. Худой, уже не улавливая смысл слов, а одну только интонацию, безнадежно махнул рукой: мол, что еще можно ждать от нижнетагильца? Киевлянин криво усмехнулся: «Разумна людына... шо й казаты, разумна людына... Кто дурнейший, пусть месяцами сидит, а он одному дал, другому дал, с третьим выпил — и два вагона хрома в кишени. Разумна...» — «Надо уметь,— щурился по-бабьи блондин,— а мы не умеем».— «От том и справа, что мы того не умиемо...» Блондин скучно кивал, осторожно взял с газеты хлебную корочку и стал жевать. Чувствовалось, киевлянин ему неинтересен, сам он гораздо опытнее и знает хорошо, что ему нужно здесь делать. «Люди сейчас стали не те»,— сощурился он и глянул на Юшкова: трезвый слушатель мешал ему. Юшков переоделся в тренировочный костюм, взял полотенце. Худой проводил его тоскующим взглядом. Вместе с Юшковым исчезала его надежда предаться умилению. Он уже утомился сочувствовать чужой обиде.
В душевой Юшков остывал под прохладными водяными струями. Его соседей по номеру, конечно, нельзя было назвать деловыми людьми, и все же он уже чувствовал какое-то их преимущество и начинал понимать, что взялся не за свое дело. Он взбодрил себя душем и спустился на первый этаж в ресторан.
Там сидели три или четыре человека. Гудели вентиляторы в кухне, пахло щами и жареным мясом. Коренастый, низенький дядька вошел вместе с ним, посоветовал: «У двери не садись, сквознячком тянет». Сели за один столик, и коренастый спросил без особого, впрочем, интереса: «Издалека?» Юшков ответил и спросил: «А вы?» «Из Нижнего Тагила»,— сказал коренастый. Соперник киевлянина выглядел скромно. Только вот большой и толстый нос в лиловых прожилках нарушал гармонию. Нижнетагилец разговаривал с Юшковым, а нос принюхивался, поворачивался к буфету: кажется, пиво привезли. Нос мешал принимать его обладателя всерьез. Собеседник Юшкова не подозревал, что стал в некотором роде легендарным и молодой человек за его столиком, приехавший час назад, уже наслышан о нем как о самой знаменитой здесь фигуре. Спросил как равный равного: «За чем ты здесь?» — «За хромистой сталью».— «Хрома нет. Был один вагон, я его сегодня забрал... У меня сосед месяц и десять дней из-за хрома тут просидел. Херсонец. И впустую».— «Так и уехал ни с чем?»—не поверил Юшков. Нижнетагилец повторил: «Месяц и десять дней впустую. Хромистую сталь они не умеют делать. Что ни плавка, то брак. Министерство навязало им заказы, а они к этому не готовы».— «Но вы вот получили вагон?»— «Я другое дело».— «Почему?» — «Каждая фирма имеет свои секреты».
Подошла официантка: «Обеды кончились. Есть яичница и гуляш». «Может быть, водку?» — предложил Юшков. Нижнетагилец усомнился: «Не жарко ли?» — «А мы немного,— сказал Юшков и попросил официантку: — Триста грамм».— «И пива две бутылочки»,— сказал нижнетагилец и подмигнул официантке. Юшков вернулся к теме. «Значит, секреты?» — «Ты с чем приехал?»— «В смысле?» — «Ну не с пустыми же руками?» — «Ну есть кое-что...» — «Что у вас там может быть для них на автозаводе. Ничего у вас для них нет. Небось выписали шестьдесят рублей через завком, и считаешь, что хром у тебя в кармане».— «Какие шестьдесят рублей?» — будто бы не понял Юшков.
Нижнетагилец успел заметить смущение, понял, что угадал, усмехнулся. Официантка принесла ужин. Ресторан постепенно заполнялся людьми. Нижнетагилец сказал: «Коробейники».— «Почему коробейники?» — «Историю надо знать. Были такие. Осуществляли снабжение населения». Юшков ждал, когда сосед вернется к главной теме, но тот почувствовал его интерес и, набивая себе цену, важно молчал, хотя, наверно, это ему было нелегко. Юшков понимал, что торопиться нельзя.
Расплатились и вышли в холл.
В углу его стояло перед телевизором несколько кресел. Немолодые мужчина и женщина смотрели документальную передачу. Женщина была хорошо одета и казалась много интересней своего невзрачного соседа. Она вязала. Нижнетагилец показал на нее глазами и подмигнул Юшкову. Женщина, деля внимание между телевизором и вязанием, все же заметила подмигивание. Попавшись, нижнетагилец смутился и спросил: «Что будет? Свитер?» «Сыну свитер»,— спокойно кивнула женщина. Мужчина, упираясь руками в подлокотники, а плешивой макушкой в спинку кресла, почти лежал в нем. «Что, Григорьевич,— сказал он нижнетагильцу,— я слышал, ты вагон хрома урвал?» — «Я же не сижу все дни перед телевизором,— сказал нижнетагилец.— Я на комбинате околачиваюсь».— «Что без толку оплачиваться. Тебе легче прожить»,— сказал мужчина. Женщина тихо приказала: «Сядь. Ты совсем уже сполз». Он подтянулся, сел повыше и потрогал рукой ослабевший узел галстука. «Значит, домой теперь?»—спросила женщина нижнетагильца. «Не знаю,—сказал он.— Я скажу «домой», когда у меня будут номера вагонов. Когда я вот по этому телефону, — потрогал он красный аппарат на столике перед телевизором,— сообщу на завод номера вагонов, тогда я смогу сказать «домой».— «А я, наверно, как раз успею свитер довязать,— вздохнула женщина.— Пока свое получу».— «Не пойму вообще, зачем тебя посылают,— обидно засмеялся нижнетагилец.— Что ты здесь есть, что тебя нет».— «Это вы начальству моему подскажите»,— улыбнулась женщина, подняла на нижнетагильца глаза и, к удивлению Юшкова, покраснела. Нижнетагилец подмигнул: «Надо будет подсказать».
Он пошел к лестнице. Мужчина в кресле крикнул ему: «Сейчас начнется футбол!» — «Посмотрю, как мой херсонец,— ответил нижнетагилец.— Не уехал ли. Обещал коньяк поставить, если хоть что-то получит. Месяц и десять дней впустую просидел».— «Я думаю, он уже уехал,— сказал мужчина в кресле.— Он тут звонил утром в Херсон. Отзывают».— «Значит, сегодня уедет»,— засмеялся нижнетагилец и ушел.
«Вы садитесь»,— сказала женщина Юшкову. Идти в номер не хотелось. Юшков сел. У женщины был мягкий южный выговор. «Я из Одессы. Дважды в год здесь по месяцу торчу,— сказала она и кивнула в сторону мужчины.— Вот Аркадий Семенович тоже каждый конец полугодия тут. Мы уже здесь как свои стали. В первый раз вам, конечно, будет трудно. Пока связи наладятся».— «Если вас тут за своих считают,— сказал Юшков,— что же вы так долго без стали сидите?»— «Не получается у них пока хромистая сталь. Как плавка, так брак. А на нет и суда нет».— «Но вот этому товарищу из Нижнего Тагила удалось?» — «Еще бы,— ревниво вмешался мужчина.— Он с нарядом на дефицитные электродвигатели. Он им электродвигатели, они ему сталь. Да и то один вагон получил, а ему надо два».
Похоже было, мужчина не столько Юшкову, сколько женщине хотел объяснить, что подвиги нижнетагильца преувеличены. Женщина возразила: «И с электродвигателями не у всякого получится». Она хотела защитить нижнетагильца, а получился как бы упрек Аркадию Семеновичу. Она поправилась: «Что говорить, если у нас их все равно нет.— И, недовольная собой, сказала, на мгновение став похожей на Лялю: — Все. Тихо. Сейчас не мешайте мне. Мне надо сосчитать петли». Юшков попытался понять, в чем тут было сходство с Лялей, но не смог. Женщина считала петли на связанном, а Аркадий Семенович стал произносить другие цифры в том же ритме: «Двенадцать, тринадцать, четырнадцать...» — сбил ее со счета, и они рассмеялись. Она сказала: «Аркадий, перестань», и он повеселел.
Спустился по лестнице нижнетагилец. Спросил, кто играет, и важно сказал, усаживаясь в кресло: «Посмотрим, чем они нас сегодня порадуют».— «Как сосед? — спросила женщина.— Уехал?» — «Уехал!» — захохотал нижнетагилец. Теперь, когда Юшков знал, что сила того в электродвигателях, нижнетагилец перестал его интересовать. Они все здесь были соперниками, и в самом худшем положении был он, Юшков.
У барьера с табличкой «Администратор гостиницы» стояла стройная женщина в золотистом парике и в строгом синем костюме. Она разговаривала с администраторшей и отстранилась, давая Юшкову возможность подойти к барьеру. «Тут у вас товарищ из Херсона освободил койку в двухместном номере,— сказал Юшков.— Я хочу на его место». «А больше вы ничего не хотите?» — спросила администраторша. Юшков оскорбился: «Это вы у меня спрашиваете?» — «Я уже выписала вам место. Что же, вам дважды в день постель будут менять?» — «Поля,— вмешалась женщина в парике,— удовлетвори просьбу товарища».— «Я еще не трогал вашей постели»,— по инерции спорил Юшков, хоть видел, что администраторша переписывает его бланк. Женщина в парике прошла к кабинету около лестницы. Ее синий костюм был похож на форму стюардессы. У нее был вид школьной учительницы, которая идет между парт, поглядывая на шалунов. Аркадий Семенович, снова сползший в кресле так, что брюки задрались и оголились молочно-белые икры, мгновенно подобрался. И впрямь как ученик перед учительницей. На двери кабинета висела табличка «Директор».
«Что не смотришь футбол? — крикнул нижнетагилец Юшкову.— Садись сюда».— «Вы как? — спросил Юшков.— Не боитесь спать один в комнате?» — «Да знаешь, последние пять десятков лет как-то... А что?» — «Да решил вот составить вам компанию». Нижнетагилец хмыкнул и сказал: «Молодец. Остроумно пошутил. Молодец».
Дверь в кабинет директрисы оставалась открытой. Она сидела за столом и позвала Юшкова: «Ну как, Юрий Михайлович, все в порядке? Заходите, пожалуйста, садитесь». Он сел в кресло. Свет в кабинете был ярче, чем в холле, проявилась сетка морщинок вокруг глаз и стало видно, что директрисе не меньше пятидесяти. Вздернутый носик и полные губы сохранили какую-то долю то ли детской капризности, то ли детской беспомощности. «Вы меня, конечно, извините, Юрий Михайлович, но в вашем городе живут не очень хорошие люди».
Этнографическое это наблюдение претендовало всего лишь на то, чтобы быть немедленно опровергнутым, и явно исключало самого Юшкова из числа не очень хороших людей. Поэтому он развел руками и улыбнулся. «Нет, я серьезно, Юрий Михайлович.— Она по-детски надула губы.— Месяц назад тут был ваш земляк, я просила его прислать мне пятнадцать баночек женьшеневого крема. Говорит, у вас в городе он свободно на прилавках лежит. Вроде интеллигентный мужчина был, клялся, что вышлет, как только домой вернется, и вот по сей день мне этот крем шлет». «Может быть, он умер?» — предположил Юшков. Она сказала: «Вы не похожи на толкача».— «Это моя первая командировка,— сказал Юшков.— Не знаю даже, с чего надо начинать».— «Да, люди тут по месяцу сидят. Скажите, ну разве это не безобразие?» — «Что же делать?» — в тон ей глубокомысленно сказал Юшков, Она вздохнула: «Да, от нас с вами это не зависит».
«От вас кое-что зависит,— осторожно сказал он.— Вы директор единственной в городе гостиницы. Наверняка руководство комбината идет к вам на поклон, когда хочет устроить получше какого-нибудь заслуженного гостя. Разве не так? Значит, и они вам не откажут в случае чего». «Вы преувеличиваете мои возможности, Юрий Михайлович. Многие так считают. Норовят подарок какой-нибудь сунуть... Я, конечно, человек грешный, но в этом чиста: не беру».
Лет десять назад она, наверно, еще пользовалась успехом. Поднялась, взяла сумочку, погасила в кабинете свет. Юшков проводил ее до выхода. Напротив было почтовое отделение. Он заказал там разговор с домом и попросил мать завтра же купить и выслать ему пятнадцать баночек женьшеневого крема.
Рядом с почтой был магазин. Водку в нем по вечерам не продавали, и Юшков купил бутылку вина. Эта покупка пришлась нижнетагильцу под настроение. «Херсонец много о себе мнил, Юра. Если бы он не был, между нами говоря, таким-эдаким,— нижнетагилец, сидя на своей кровати со стаканом в руке, сказал, каким именно был херсонец,— если бы он не был таким-эдаким, я бы ему, как нечего делать, помог. Я сюда как-никак кое-что привез. И пили бы мы сейчас с ним коньяк. Но он хотел права качать. Он по инстанциям ходил. Ну и выходил».Он оказался разговорчивым, продолжал рассуждать уже лежа в темноте. Юшков спросил: «Директор гостиницы может что-нибудь сделать?» «Все может,— убежденно сказал нижнетагилец и тут же честно поправил себя: — Хотя... Вообще-то... ничего она не может. В хороший номер с телефоном тебя устроить в следующий раз — это да, а в смысле заказа... Она имеет дело с крупным начальством, а нашему брату лучше иметь дело с человеком поменьше. Начальство что-нибудь решит, а какой-нибудь бригадир на отгрузке Володя возьмет да перерешит...»
Он не подозревал, что предсказывает свою завтрашнюю судьбу.
«С Володей я тебя завтра познакомлю. Но договориться с ним не пытайся. Будет клясться, что лучший твой друг, а завтра появится кто-нибудь еще — и он продаст тебя со всеми твоими инсинуациями».— «С чем?!» — «Со всеми потрохами продаст. Спи».
Утром они отправились на комбинат. Прошли квартал по трехэтажной улице Ленина, вышли к железнодорожному вокзалу и позавтракали в маленькой темной столовой, набитой галдящими мальчишками в форме ГПТУ. За привокзальной площадью поднялись на железный мост, прошли по нему над путями и увидели комбинат. До горизонта стояли цехи маленькие и большие, длинные и квадратные, соединенные трубопроводами и асфальтовыми дорогами. Вокруг них шли цепочки деревьев, бетонные эстакады и изгороди из низкого кустарника. К каждому цеху, подходили железнодорожные ветки, именно они да торчащие в разных местах то гроздьями, то поодиночке трубы и создавали основной рисунок открывшейся с моста картины. Спустившись вниз, Юшков и его сосед оказались на территории комбината.
Нижнетагилец с утра был вялым и неразговорчивым. Он подошел к длинному белому цеху, в торец которого упирались два железнодорожных пути. Толкнул калитку с надписью «Посторонним вход воспрещен». Здесь был конец производственной цепочки. Мостовые краны грузили в вагоны стальные листы, рельсы и штанги. Все это катилось сюда с другого конца цеха по дорожкам из стальных трубок. Солнечные лучи, падая сверху, казались балками стальной конструкции. В глубине сыпали искрами газовые резаки.
Бригадир Володя, черный и худой, в брезентовой куртке, надетой на майку, руководил погрузкой. Заметив нижнетагильца, он занервничал и попытался улизнуть, а когда увидел, что скрыться не удастся, набросился с руганью на крановщицу. В кабине крана под самой крышей она едва ли могла его слышать, а он стоял у штабеля штанг, задрав голову, и потрясал кулаком.
Нижнетагилец, оживившись, поймал его руку, заглядывая в глаза: «Что новенького?» Бригадир бдительно зыркнул по белой рубашке, галстуку и отутюженному костюму Юшкова: не проверяющий ли какой? Юшков предложил сигарету. Купленная в Быкове пачка «Столичных» усилила подозрения бригадира: «Из Москвы будем?» «За хромом приехал, как и я»,— отрекомендовал нижнетагилец. «Хрома нет и не будет»,— сказал бригадир, теряя интерес к Юшкову.
Он все порывался уйти. Взгляд нижнетагильца стал беспокойным. «Номер вагона ты мне скажешь?» — «Какого вагона? — недовольно спросил бригадир.— Чего ты сюда ходишь? Ты в производственный отдел ходи».— «Постой, постой,— нижнетагилец всерьез встревожился.— Мой вагон вчера отправили?» — «А откуда я знаю? Помню я вас всех, что ли?»
Бригадир пошел вдоль стены к своей будке, маленький нижнетагилец засеменил рядом. «Ты шутки со мной шутишь? Отправили или нет?» — «А я говорю: не ходите здесь! Сюда посторонним вход запрещен! Ходите, работать мешаете, поэтому и чехарда получается».— Какая чехарда?!» — «Я делаю то, что мне велит производственный отдел. Идите туда». Бригадир скрылся в свою стеклянную будку. Нижнетагилец посмотрел на Юшкова, словно тот мог что-нибудь объяснить ему. «Понял?.. Кажется, увели мой вагон».
От отгрузки до производственного отдела было километра три по асфальтированным аллеям между корпусами. Нижнетагилец то срывался на бег, то, выдыхаясь, едва плелся. С седых волос лился пот. «Катали сталь на мой заказ, круг сто тридцать, рядом же стоял, ну что за народ...» — бормотал себе под нос, будто молился.
В комнатах производственного отдела мужчины обступали работающих за столами женщин, нависали над ними, и каждый пытался так или иначе втолковать свое. Женщинам приходилось не только отбиваться от мужчин, но и отвечать на телефонные звонки, они балдели в этом шуме и духоте, одна из них, полная и распаренная, кричала: «Товарищи, вам нечего тут делать, подождите в коридоре! Товарищи, имейте совесть, тут же нечем дышать! Лишние выйдите, товарищи!» Ее никто не слушал, и она сказала второй: «Сумасшедший дом какой-то».
Ту, вторую, Юшков, едва заглянув в комнату, заметил сразу, поскольку молодых женщин всегда замечал в толпе прежде других людей. Он не слышал ее голоса, но по лицу видел, что она терпеливо повторяет одно и то же мужчине, упирающемуся руками в ее стол, и одновременно слушает телефонную трубку. Прежде чем положить трубку, она убрала ею со лба светлую прядку и в это время встретилась взглядом с Юшковым. На секунду задержала взгляд, что-то мелькнуло в ее лице, словно бы искорка узнавания, которая всегда доказывала Юшкову, что этой женщине он может быть интересен. Он загадал, что если заказы автозавода ведет она, то у него все получится.
Нижнетагилец промчался к столу полной женщины: «Я не мальчик, понимаете! Что у вас тут делается?! Я же не могу сторожить всю ночь свою сталь!» «Товарищ, произошла ошибка...» Юшков показал светловолосой свои бумаги: «Это к вам?» «Да»,— подняла она глаза от бумаги, задержала узнающий взгляд. Юшков встал в очередь к ее столу. Полная промакнула подбородок носовым платком, сказала: «Когда он уже кончится, этот день?» — и стала ругаться в трубку. Светловолосая вытянула шею в ее сторону, слушая разговор. «Тут человек у меня стоит, что я ему скажу? — объясняла в трубку полная.— Нет, уж лучше я его к вам пошлю. В конце концов нельзя так распускать бригадиров.— Положив трубку, сказала нижнетагильцу: — Идите к заместителю сортопрокатного». «Что вы меня гоняете?» — заревел он. Она пожала плечами. Взъерошенный нижнетагилец выскочил из комнаты, бормоча угрозы. Светловолосая спросила: «Опять Володя там коники выбрасывает?» — «Откатали Нижнему Тагилу круг сто тридцать, нужно было резать на шесть, он порезал на четыре».— «Кому?»— «Говорит, по ошибке. Вагон этот забрал москвич».— «Такой кот с усиками?» — «Ну. Ясное дело. За такие «ошибки»...» — «Ай, опять ему это сойдет».
Юшкову казалось, что, разговаривая, светловолосая краем глаза не упускает его из виду и некоторые ее слова и жесты, рассчитаны на него. Перед ним еще оставался пухлый блондин в сером костюме и ярком галстуке, один из вчерашних его соседей. Тот держал в руке сверток и, когда подошла его очередь, положил сверток на бумаги и уперся двумя руками в стол, приблизив лицо к лицу светловолосой. «Еще раз здравствуйте, Ирина Сергеевна. Как поживаете?» «Спасибо»,— сказала она. Он вытащил из пиджака шоколадку. «Это дочке».— «Это уже ни к чему,— нахмурилась Ирина Сергеевна, быстро взглянув на Юшкова.— Дочка уже большая».— «Уже в четвертом?» — «Пятый кончила». Ирина Сергеевна протянула руку за бумагами, торопила. Блондин приехал за простым углеродистым листом, она пообещала ему выдать лист через три-четыре дня. «Целую ручки»,— сказал он на прощание. «Погодите,— окликнула она.— Заберите свой сверток».— «Ирина Сергеевна, как вам не стыдно...» — «Заберите немедленно сверток».— «Но вы меня обижаете...» — «Я вас не обижаю,— сказала она, покраснев,— но сейчас обижу». Он крякнул и, взяв сверток, покачал головой: «Ох, Ирина Сергеевна, что вы со мной делаете».
Рассерженная блондином, она протянула руку за бумагами Юшкова, сверила их со своими и сказала: «Да, задолжали мы вам ужасно. Шестьсот тонн. Просто ужасно». Взглянула на него, уже не узнавая. Юшков молчал. Она вздохнула: «Хромистой стали у нас нет. Будут делать плавку после двадцатого». «После двадцатого?» Этого Юшков не ожидал. До сих пор он представлял себе, что будет какая-то конкуренция между ним, нижнетагильцем, другими, он не знал, каким образом сможет победить, но надежда была. Двадцатое — это был тот крайний срок, который назвал Лебедев. После двадцатого он уже выбывал из игры. Он стал объяснять, почему ему нужно раньше, забыв, что все в очереди перед ним пускались в такие же объяснения к досаде всех остальных. Ирина Сергеевна вздохнула: «У нас очень плохо с хромом. Посмотрите вот». Разворачивала перед Юшковым разграфленный лист, словно секретную карту. «График составляет заместитель начальника производства. Вот видите — только после двадцатого. Я постараюсь, чтобы первый металл дали вам».
Разговор был окончен. Юшков сказал: «Я буду заходить к вам за новостями». «Конечно,— сказала Ирина Сергеевна, утешая.— Мало ли что бывает».
Он потолкался в коридоре, прислушиваясь к разговорам, и побрел на отгрузку.
Над комбинатом уже повис тяжелый зной, едкий от дыма цеховых труб, а в цехе гудели вентиляторы и было даже прохладно. Там, где грузились вагоны, нижнетагилец ругался с бригадиром. Изможденное лицо бригадира выражало страдание. Нижнетагилец матерился, а бригадир то трогал его за рукав, то бил себя в грудь: «Григорьич... Ты веришь, что это нарочно? Да чтоб я сдох. Чтобы мои дети света не видели. Резчик перепутал! Да неужели ж я тебя бы обманывал? Да уж если на то пошло, мне вообще до фени, кому что достанется. Я делаю, что мне велят. Ну бывает же всякое! Резчика я накажу. Клянусь, накажу...»
Кто бы ни был виноват, нижнетагилец лишился вагона, который считал своим. Он брюзжал, пока они с Юшковым шли к мосту через железную дорогу. Покосился: «А у тебя что слышно?» — «Ничего не будет».— «Надо дать»,— веско сказал нижнетагилец. Юшков рассказал про сверток блондина. «Конечно, это непросто,— согласился нижнетагилец.— Надо уметь. Она тебе так даст, что останется только вещички в руки и домой: посылайте кого-нибудь другого». Сменяя только что высказанное мнение на прямо противоположное, он никогда не терял безапелляционности.
Они пообедали в той же столовой с мальчишками из ГПТУ, купили в ларьке стиральный порошок и вернулись в гостиницу. «С рубашками ты промахнулся,— сказал нижнетагилец.— Опытный человек никогда сюда светлые рубашки не берет. Не настираешься». В номере повалился на кровать, хохотнул озорно: «Херсонец небось сейчас докладывает начальству о поездке. Или жене объясняет, что такое рентабельность. Очень хорошо эти вопросы сек».
Юшков пошел в умывальную стирать рубашки. Какой-то скуластый парень с узенькими черными усиками покуривал, сидя на подоконнике, и посоветовал: «Для таких мероприятий надо старушенцию какую-нибудь завести». Даже в расслабленной, небрежной позе его тело не теряло стройности и кошачьей хищной грации. «Это не ты вагон хромистой стали увел?» — спросил Юшков. Парень хмыкнул: «Мой сосед. Он уже сегодня смотался. Как там твой дед? Лежит с инфарктом?» — «Близко к тому».— «Гениальная операция, а? Красиво задумано и чисто сработано. И всего-то мы влили в этого Володю один стакан коньяка. И сказали: на сегодня хватит, остальное получишь в Москве».— «Это может ему дорого стоить».— «Вывернется. И в конце концов с умными людьми за бутылкой сидел, новые анекдоты послушал».
Прошел в туалет тот мужчина, который вчера сидел перед телевизором, Аркадий Семенович. «Вот кто хорошо устроился,— сказал ему в спину парень.— Ему о рубашках думать не надо». Юшков прополоскал рубашку и ушел в номер. Сосед спал. Нужно было что-то делать. Преодолевая безразличие, Юшков пошел в душ. Постоял под горячей струей, под ледяной, снова под горячей и снова под ледяной. Растерся. Стало веселее. У него начал складываться план: изучить комбинат с самого начала, с того места, где получается брак, с мартенов. Сойтись поближе с людьми, стать здесь своим человеком. Вдруг что-нибудь да откроется? Уехать он всегда успеет, а других идей у него нет.
В восемь сосед проснулся, и они пошли ужинать. Нижнетагилец взял инициативу в свои руки: «Кто сегодня заказывает, я или ты?» — «Давай я».— «Ладно. В другой раз я».
Около эстрады сидели принаряженный Аркадий Семенович и женщина из Одессы, которая вчера вязала в холле перед телевизором. Она была в шелковом платье с большой брошью на груди. Знакомый усатый парень сел за их столик. Ухмыляясь, наклонился к женщине, зашептал на ухо. Она сначала придвинула к нему голову, потом отстранилась и покраснела. Наверно, он рассказывал анекдоты. Аркадий Семенович стал смотреть в сторону, заинтересовавшись вдруг лепкой вокруг плафонов. Парень поманил рукой официантку, что-то заказал. Прыгнул на эстраду, поставил на радиолу пластинку, отрегулировал звук погромче. Пока он возился, Аркадий Семенович и одесситка сердито перешептывались между собой. И тут нижнетагилец сказал: «Хром есть». Юшков решил, что ослышался. «Где?!» — «Хром есть. Четыре вагона. Но мне он не годится. Я его не беру».— «Почему?» — «Он не по ГОСТу. Завышен марганец».
Стараясь оставаться спокойным, Юшков спросил: «На много завышен?» «На двенадцать соток».
Тыча вилкой в бруски жареного картофеля, важно сопел: он, мол, не берет что попало. Снабженец, наверно, он был хороший, но металловедению его никто не научил. Лишние двенадцать соток марганца в этой стали, хоть и были отступлением от ГОСТа, ее не портили. Юшков боялся выдать себя. «Что ж этот бригадир не пытался всучить никому?» — «Что он пытался и что не пытался, мы с тобой знать не можем».— «А ты сам,— спросил Юшков, не заметив, что перешел на «ты»,— так и будешь сидеть до конца месяца, пока хром не пойдет?» — «Против лома нет приема. У меня, кроме хрома, полно дел. Я тут еще только неделю, а уже две позиции сверх фондов выбил. У меня тут два десятка позиций».
Усатый парень около эстрады пригласил танцевать одесситку. Она отказалась. Он топтался перед ней, теряя апломб, а она мотала головой. Аркадий Семенович шлифовал пальцами свою рюмку. Теперь, когда появилась надежда и Юшков знал, что ему нужно будет делать завтра, все вокруг получило смысл. Он начинал действовать, а действие, как ток в проводнике, создавало вокруг себя поле с силами притяжения и отталкивания. И Юшкову азартно хотелось, чтобы женщина отказала нагловатому парню и чтобы парень почувствовал себя побежденным.
Утром он вышел из гостиницы, когда его сосед еще спал. Если они, эти четыре вагона, существовали в действительности, то никто теперь не должен был его опередить. В пустом коридоре заводоуправления уборщица таскала из двери в дверь швабру и ведра, позвякивала связкой ключей. Юшков встал около двери производственного отдела. Час спустя появилась полная женщина. Она распарилась уже с утра, тяжело дышала, льняное желтое платье потемнело под мышками. Следом сунулся было в комнату узбек из Ташкента. Она, обмахиваясь за своим столом веером из бланков, сказала ему: «На двери же написано! С восьми часов! Читать не умеете?» Было без пяти восемь. Юшков боялся, что эти четыре вагона может отдать кому-нибудь полная женщина. Ровно в восемь появилась Ирина Сергеевна. Она сразу почувствовала волнение Юшкова. Пропустила в комнату, подала стул, попросила: «Подождите, пожалуйста, я сейчас». Расположилась за своим столом, вытащила зеркальце, причесалась. Делала это так, словно причесывается по просьбе Юшкова и для его удовольствия. Таращась исподлобья в зеркальце, спросила по-приятельски: «Что у вас новенького?» «Посмотрите, пожалуйста,— попросил он.— У вас должна быть плавка с марганцем не по ГОСТу». Удивленно взглянула. Спрятала зеркальце, продвинула к себе аппарат. Набрала номер. «Слушай, Володя! У тебя есть четыре вагона хрома? Есть или нет?.. Ты на меня не ори! — Лицо ее вдруг стало некрасивым и грубым.— Ишь ты! Я тебе так поору, что больше не захочется! Мы документы на эти четыре вагона не оформляли!»
Документы не составляли — значит, металл еще никто не взял. «У меня с собой фирменные бланки,— сказал Юшков.— Я пишу расписку, что претензий по марганцу к вам не будет. Дайте нам в счет заказа».
«Выдай все на тридцать шестой заказ!» — крикнула Ирина Сергеевна в трубку. Это был заказ Юшкова. Положила трубку. Посмотрела с уважением: «Как вы узнали про эти вагоны?» — «Каждая фирма,— повторил Юшков мудрость нижнетагильца,— имеет свои секреты».— «Вам повезло»,— улыбнулась поощрительно она. Юшков спросил: «Куда мне теперь?» «Вы в гостинице? — спросила она.— Родственниками еще не обзавелись? Позвоните мне из гостиницы утром, скажу вам номера вагонов».
Юшков помнил урок соседа. Из производственного отдела он побежал на отгрузку. Володя заполнял ведомость в своей будке. Он заметил Юшкова издали, когда тот пробирался к нему, балансируя на штабелях стали, но опустил голову к бумагам, словно бы не видел его. «Как тридцать шестой заказ?» — спросил Юшков. Пришлось повторить это трижды. Володя поднял голову: «Что тебе надо здесь? Видишь, я работаю?» «Вижу, как ты работаешь. Запомни, Володя,— сказал он,— эти четыре вагона — мои. С ними мудрить не пытайся. Так, как с Нижним Тагилом, второй раз не получится. Запомни: тридцать шестой заказ для тебя табу. Знаешь, что такое табу? Приходи завтра в триста двадцатый номер гостиницы, попробуем друг друга понять». Володя молчал, отводил глаза, будто не слышал. Может быть, испугался, а может быть, посмеивался, как это Юшков, начав с угроз, кончил приглашением.
Нижнетагилец лежал на кровати в тренировочном эластичном костюме. Животик его в этом костюме обрисовался так, словно под тканью был спрятан футбольный мяч. «Заболел, что ли?» — спросил Юшков.
«Так и разэдак, этого я боялся»,— сказал нижнетагилец. Медленно попробовал сесть, прислушиваясь к ощущениям, чтобы поймать боль раньше, чем она начнется. Это ему, естественно, не удалось, и, снова ругнувшись, он повалился на кровать. «Радикулит?» — «Миозит,— ответил нижнетагилец.— Хрен редьки не слаще».— «Знаешь,— сказал Юшков,— я все-таки взял тот хром».— «Но там же марганец завышен».— «Рискнул. На поворотный кулак автомобиля сгодится».— «Ну раз подошло, так хорошо,— сказал нижнетагилец.— Мне не подошло». По чувству облегчения, которое Юшков испытал, он понял, что это его все-таки мучило. Все-таки эти четыре вагона он словно из кармана у соседа вытянул.
«Вот когда лежу — ничего,— удивился нижнетагилец коварству болезни.— Вроде и здоров. А с тебя, конечно, причитается. Я один про эти вагоны знал».— «В другой раз отметим,— пообещал Юшков.— Я не забуду».— «Зачем откладывать? Жрать-то мне сегодня надо. Вот и сбегал бы в магазин. Что нам ресторан? Музыки мы ихней не слыхали?» Нижнетагилец взволновал себя этими рассуждениями.
Пока Юшкова не было, он, однако же, остыл и успел осознать, что четыре вагона хрома упустил зря. Лежал мрачный, не глядел на Юшкова. «А ты, брат, на ходу подметки рвешь. Не мог мне подсказать, что двенадцать соток марганца сталь не портят?» — «Я думал, тебе не годится. Я же не знаю, для чего тебе».— «На такую ответственную деталь, как автомобильный поворотный кулак, годится, а мне не годится?» — «А бог тебя знает, может, вы там, в Нижнем Тагиле, спутники делаете».— «Спутники,— буркнул нижнетагилец.— Сидел бы я тут с тобой». После ужина он подобрел и сказал почти умиротворенно: «А теперь это дело надо переспать». Ночью он постанывал и ругался, не давая Юшкову заснуть, а утром ушел на комбинат. Юшков спустился в холл и позвонил Ирине Сергеевне. Она продиктовала номера четырех вагонов. Пошутила: «Не знаю, как вы будете со мной рассчитываться». «Что-нибудь придумаем»,— сказал он. Она тихонько рассмеялась, отчего его слова стали казаться двусмысленными ему самому. Эти четыре вагона явно прибавили ему весу в ее глазах. Он тут же заказал по междугородному автозавод, Лебедева.
Ожидая разговора, видел сквозь стекло, как появилась на улице директриса, толкнула дверь и пошла по ковровой дорожке походкой учительницы, входящей в класс. Около администраторши томилась маленькая очередь с чемоданами и портфелями. Директриса кивком головы в золотистом парике поставила всем «примерно» по поведению, подошла к Юшкову: «Утро доброе, Юрий Михайлович, разговор ждете? Все дела, дела? Вы уже четвертый день у нас живете и даже родственницу себе не завели». «Может быть, я как раз жене звоню»,— попытался он попасть ей в тон, несколько озадаченный им. Она шутливо возмутилась: «Какие могут быть жены? У нас в гостинице все холостяки. Дома вы все женатые, в командировке все холостые!»
Звякнул аппарат. Междугородная соединила с Лебедевым. Юшков прочитал номера вагонов. Лебедев записал, сказал: «Что ж, Михалыч, начало есть. Когда остальные шесть будут?» Юшков помялся. Теперь эти вагоны не казались ему такой уж большой удачей и он не знал, как Лебедев отнесется к нарушению ГОСТа. «Петр Никодимович, в плавке завышен марганец».— «На сколько?» — «На двенадцать соток».— «Ну, ничего,— подумав, сказал Лебедев.— Кашу маслом не испортишь.— И повторил: — Последний вагон должен уйти от них не позже двадцатого. Действуй, Михалыч».
Директриса, проходя к своему кабинету, заметила: «Между прочим, ваша землячка, Юрий Михайлович, приехала».— «С автозавода?» — «Нет, с какого-то другого».— «Молодая?» — «Девочка. Хороша, Юрий Михайлович, хороша...» Замолчала, потому что «землячка» прошла мимо них к лестнице. Она была в трикотажной безрукавке и американских джинсах, вместо чемодана волокла сумку из джинсовой ткани с латинскими белыми буквами «Sport».
Следом за ней Юшков поднялся на третий этаж. Дверь 305-го номера была распахнута. Там лежал на кровати поверх покрывала усатый парень в брюках и свитере. Когда девушка проходила мимо, он присвистнул. Она от неожиданности остановилась и уставилась на него. «Извините, девушка — сказал он.-— Совершенно не могу управлять эмоциями». Она хмыкнула и пошла дальше. Парень позвал Юшкова: «Юра, как дела?» Услышал где-то имя. Все ему было просто.
Он был из московского НИИ, внедрял в мартеновском цехе новые приборы. Установка, на которую ставились приборы, часто выходила из строя, и пока цех ее ремонтировал, парень валялся на гостиничной койке. «Наша система не терпит волюнтаризма. Если цех не торопится внедрять новое — значит, бесполезно стараться. Все должно идти как идет. А мне командировочные идут два шестьдесят в день, комната отдельная— в Москве живу в одной комнатухе с тещей, женой и пацаном, да и мамочка какая-нибудь нет-нет да и скрасит существование!»
Землячка прошла мимо двери с полотенцем через плечо. «Девушка! — остановил ее парень.— Женские душевые на четных этажах! Значит, надо либо подняться, либо опуститься». «Спасибо»,— сказала она. Парень пояснил: «А то я первый раз ошибся, попал в женскую. Вы, кажется, из Москвы?» «Нет»,—ответила девушка и, решив, что на первый раз информации довольно, ушла.
«Впервые слышу, что душевые здесь делятся по этажам»,— сказал Юшков. Парень рассмеялся: «Я тоже. Какая разница? С ними надо по законам золотоискателей. Застолбить, как в Клондайке. Я на всякий случай ее застолбил. Теперь она положила на меня глаз. Ты заметил? У них очень инерционная психика, они долго движутся в направлении первоначального толчка... А чем еще здесь заниматься?» — «Диссертацию не пишешь? — спросил Юшков.— Как там у вас в НИИ с наукой?» — «Полгода назад минимум сдал. Думал, помру».— «Зачем же так — жизнью рисковать?» — «Все она же, наверно. Инерция».
Он получал удовольствие от своей ироничности. Для чего-то она была ему нужна. «Но, с другой стороны, нормальному человеку, кроме науки, другой дороги нет. Ситуация без выбора. Тебя-то как в снабженцы угораздило?» — «Хрустальная мечта детства,— сказал Юшков.— Влияние прессы, литературы и киноискусства».— «Понятно. Оно, наверно, лучше, чем цеховым инженером. Не работал?» — «Пять лет на автобазе».— «Чего ж тебя, родимого, туда потянуло?» — «Распределение».— «Кто это сегодня ездит по распределению?» — «Кое-кто,— сказал Юшков,— оказывается, ездит».— «Ну, хорошо, два года, а ты — пять».— «Некого было вместо меня ставить».— «Ах, так ты автобазу спасал? — Тоненькие усики парня вздрогнули.— Молодец». «Это да,—ответил Юшков.— Что есть, то есть. Ты в мартеновской плавке не разбираешься?» — «Зачем тебе?» — «Хочу изучить комбинат. Чтобы знать, что отвечать, когда говорят «нет»...» «Ты, наверно, все-таки немножко инициативный, да?» — спросил парень.
Юшков ушел на комбинат. Он впервые в жизни увидел мартеновский цех. Блуждал по темным и дымным закоулкам, сторонился вагонеток и электрокаров, шарахался от плывущих над головой ковшей с жидким металлом. Напряженное гудение вентиляторов передавалось поручням металлических лестниц. Он оказался в мире незнакомом, с запахом горящей серы, с лязгом и громыханием, и все же было что-то похожее на возвращение в родные места, вспоминалось, казалось бы, безнадежно забытое из институтских конспектов и «Технологии металлов», то особое студенческое знание, которое за ночь надо было вставить в свой мозг, как кассету в магнитофон, и выбросить после экзамена, освобождая место для следующего. В этом чужом мирю он не знал языка, но знал его грамматику. Тут не могло быть ничего лишнего, случайного и необязательного, и Юшков, продвигаясь среди незнакомой техники, помимо воли по форме предметов и сочленений определял их назначение, по другим признакам получал представление о действующих силах, по третьим угадывал возраст и происхождение механизмов, уже и предвидел: вот тут должно быть то, а где-то там — то, и когда не совпадало, настораживался, останавливался, как зверь в лесу, почуявший незнакомый запах, а потом находил объяснение и двигался дальше. Это был его мир — мир металла. Он забрался на какую-то галерею и остановился: внизу под ним шла заливка. Мчался белый поток, ослепительный пар роился над желобом, и когда поплыл вмещающий в себя четыре вагона двухсотсорокатонный ковш, Юшков заулыбался, так это было красиво. Люди, работающие с огненным материалом, казались сверху маленькими и именно поэтому бесстрашными. Около Юшкова, не обращая на него внимания, остановились два высоких парня в сатиновых халатах поверх костюмов, в светлых рубашках с галстуками. Они рассуждали о какой-то машине, что-то у них «не вписывалось», что-то они собирались монтировать, и слушать их разговор было приятно. Один из них все же заметил Юшкова и, уходя, подмигнул: «Красиво?»
Вернувшись вечером в свой номер, Юшков увидел худую сутулую фигуру и только тогда вспомнил, что пригласил к себе бригадира Володю. Тот неспешно беседовал с нижнетагильцем. Нижнетагилец лежал животом вверх и рассказывал, как вылечил вчера свой миозит. Володя с достоинством кивал: мол, водка — первое лекарство, ему всегда было это известно. После мартеновского цеха Юшкову пришлось чистить костюм и вымыть изнутри туфли. Он переоделся, натянул кеды и сказал: «Пошли, ребята». Нижнетагилец стал приподниматься, и тут его схватило. Прикусив губу, он все-таки поднялся и пошел, стараясь не ругаться и не стонать, чтобы не скомпрометировать рассказ о своем чудесном исцелении. Кое-как он уселся за столик мрачный и злой, выключившись из разговора,— седая нахохлившаяся птица. Володя держался так, как и положено держаться скромному виновнику торжества. Не забывал, что главная фигура за столом — это он, и когда Юшков вслед за первой хотел налить ему вторую рюмку, прикрыл ее ладонью: «Не торопись. Не на поезд опаздываем». Но как он ни медлил, роковая концентрация все же накопилась в нем, и тогда он начал ругать всех подряд со странной страстностью. Однако, охаивая всех, льстил Сидящим рядом: «Михалыч, Григорьич, вы — люди. У меня весь Союз...»
«У тебя весь Союз,— сказал Юшков.— Я в твои дела не лезу. Но тридцать шестой заказ ты не трогай». «Табу»,— сказал Володя, «Знаешь, что такое табу?» — спросил Юшков. Володя ответил: «Отче наш, иже еси на небеси».— «Чего дурачка строишь? — прицепился вдруг к нему нижнетагилец. В нем давно колобродило.— Люди бога боялись. А ты чего боишься?» — «Я ничего не боюсь»,— выставил грудь Володя. Нижнетагилец сказал: «Вот и я про то».— «Ладно уж,— сказал Юшков.— Что было, то было» — «Чего ты вдруг на меня? — выяснял Володя отношения с нижнетагильцем.— Чего ты на меня?» — «Иди ты,— буркнул нижнетагилец, неосторожно повернувшись и дернувшись от боли.— 3-зараза».
«Юра! Я только тебе скажу! Потому что ты человек! Юра, она водит вас всех за нос! Ирина — она кого хочешь проведет, ей не верь!» — «Вот же гад,— изумился нижнетагилец.— Уже к ней прицепился».— «Да ладно,— сказал Володя.— Мне до нее дела нет. Я другое знаю. Я знаю, что быть этого не может, чтобы до двадцатого мы не делали хром. Хром — это копейка для комбината, это премия, а Ирина, между прочим, такая...» Нижнетагилец мотнул головой, опять дернувшись: «Рассчитывайся, Юра. С него хватит». «Я закажу»,— хорохорился Володя. «Хватит»,— трезво повторил нижнетагилец.
В номере он, кряхтя, улегся на кровать. Помолчали в темноте. Страдания настроили нижнетагильца на философский лад, и он осмысливал свою жизнь: «Я еще ни разу с пустыми руками не возвращался. С пережогом — бывало, а с пустыми — никогда». «С каким пережогом?» Юшкову тоже не хотелось спать. «Тебе вот выписали, скажем, твои шесть червонцев, а ты в них не уложился, свои добавил. Это и называется с пережогом съездил. Херсонец за полтора месяца все просадил, жене телеграмму давал, она что-то ему сюда посылала. И что? С чем приехал, с тем уехал. У него подхода к людям не было. А каждый человек уважение любит. Ты его озолоти — он завтра тебя узнавать не захочет, но ты вечер с ним посиди — он в лепешку ради тебя расшибется. Херсонец за полтора месяца и не понюхал. Язва, говорит».
Помолчали. «Я бы на твоем месте Сергеевной бы подзанялся,— посоветовал нижнетагилец.— Женщина, можно сказать, в полном порядке. Когда бог ее создавал, дизайнеры, как говорится, в отпуске не были». «Она разведенная?» — осторожно спросил Юшков. «Говорят, вроде того. А насчет хрома, что он раньше пойдет, я и сам подумывал. Все ж таки это для них хорошая копейка».— «И что ты собираешься делать?» — «Посмотрим. Завтра к начальству пойду. У меня тут двадцать позиций».
К начальству он назавтра не пошел: не сумел встать с кровати. Принял таблетку анальгина и снова заснул. Стараясь не шуметь, Юшков вытащил из чемодана две банки растворимого кофе и два шоколадных набора и завернул все в газету. С этим свертком он появился в производственном отделе перед самым обеденным перерывом. Около Ирины Сергеевны стояли несколько человек. Юшков оказался за киевлянином. Тот только что побывал у начальства, получил ничего не значащую резолюцию и успел уверовать, что с ней добьется всего. Услышав, что металла нет, раскричался: «Я в райком пиду! Я в обком буду звоныть! Це ж завод остановится! Пять тысяч людын!» Ирина Сергеевна отвечала тихо и вежливо, но лицо ее пошло красными пятнами. Она едва сдерживалась, волосы и брови стали светлее лица, как у Валеры Филина после бани. Киевлянин наконец с криком: «Дэ тут у вас телефон?» — выскочил из комнаты.
Ирина Сергеевна тяжело дышала. Сказала полной: «Посылают таких уж дебилов». «Очень, видно, им это нужно,— ответила полная.— Было б нужно, дебила бы не прислали». Ирина Сергеевна рассмеялась и успокоилась. Узнавание снова мелькнуло в ее глазах. Пожаловалась Юшкову как старому знакомому: «Вот видите, как у нас тут... Полина, уже обед?» «Ой, бегу». Полная подхватилась, засобиралась. «Ничего нового у вас нет?» — спросил Юшков. Ирина Сергеевна покачала головой. Он сказал: «Мне кажется, не может быть, чтобы не было плавки раньше двадцатого». «Мне ничего не известно, честное слово,— сказала она. Вытащила из стола бутерброды.— Угощайтесь».
Полина вышла. Сверток теперь казался Юшкову пудовым. Он вспотел и, проклиная себя, замямлил: «Ирина Сергеевна, надеюсь, вы поймете это как надо... Вы меня чрезвычайно выручили с четырьмя вагонами... Я понимаю, это выглядит ужасно...» «Что у вас там?» — деловито спросила она.
Юшков опешил. Протянул сверток. В правой руке Ирины Сергеевны был надкусанный бутерброд с сыром. Она положила его на стол, развернула сверток. «Ох, вы великий искуситель. Против икры устояла бы... Теперь перейду с чая на кофе. А то от чая, говорят, портится цвет лица».
Он был благодарен ей за то, что все так получилось. Начал льстить. Сначала осторожно, потом, все больше и больше поощряемый ею, приободрился. Ему казалось странным, что можно получать удовольствие от лести, в которую не веришь, зная, что она лесть, и зная, что она корыстна. Однако Ирина Сергеевна раскраснелась и похорошела. Вернулась с обеда Полина. «Ох, насмешили вы меня,— сказала Ирина Сергеевна.— Заходите к нам почаще. С вами не соскучишься». Полина посмотрела с любопытством. «Куда ж я от вас, интересно, денусь?» — сказал Юшков к удовольствию обеих женщин.
Пошел в мартеновский. Ему нравился этот цех. Толкнул калитку, оказался в прохладной полутьме. Вибрация гудящих вентиляторов передавалась стальным колоннам, а от них — бетонным стенам и чугунному полу. Напряженно вибрировало само здание, даже прохладный, с сернистым привкусом воздух внутри него дрожал. Это напряжение передавалось каждой клеточке Юшкова. Варился жидкий металл в печах, малиново светились щели вокруг заслонок. Гудело голубое пламя газовых горелок. С треском, будто сыпали горох или рвали шелк, падали белые потоки металла в огромный ковш, красными бликами отражались на кабинке крановщицы. Движения людей в брезентовых робах были медлительны, и Юшкову казалось, что здесь никогда не делают и не говорят ничего лишнего и необязательного. Не делать и не говорить необязательное — это казалось ему в ту минуту высшей мудростью и счастьем. Он увидел двух высоких инженеров в халатах, которых видел в прошлый раз. Один из них тоже запомнил его, кивнул: «Интересуетесь?» — «Ребята,— сказал он.— Я уже взял у вас сталь с высоким марганцем. Если не попадете в анализ по хрому, я тоже возьму. Прокаливаемость меня не волнует. Мне лишь бы твердость была».— «Если прокаливаемость не волнует, зачем тебе хромистая? Бери углеродистую...» Разговорились. Парень, часа полтора таскал Юшкова с участка на участок, показывал что к чему, оправдывался, почему не получается хром. Как бы между прочим Юшков спросил: «Так когда у вас хром пойдет?» «Это не из-за тебя Ирина мне звонила?»—подозрительно спросил парень. «Когда?» «Да вот сразу после обеда».
Значит, все-таки позвонила узнать, когда будет плавка. Что-то толкнуло Юшкова не признаваться. «Нет, не из-за меня. А что?» «Ничего,— сказал парень.— Как она тебе?» Вопрос был не праздный. Парень смотрел подозрительно. «Симпатичная, по-моему»,— осторожно сказал Юшков. Парень кивнул. Заметил удивление Юшкова, объяснил: «Мы с ней в институте вместе учились».
К концу смены Юшков вернулся в производственный отдел. Женщины собирались домой. Что-то их рассмешило, и, когда он вошел, обе пытались сдержать смех, раскраснелись от усилия, но не выдерживали, прыскали, отворачивались друг от друга. «Ой-ой- ой,— замахала руками Ирина Сергеевна.— Мы уже кончили работать.— И тут же сунула Юшкову сумочку.— Лучше сумку мою подержите». Полина улыбалась Юшкову лукаво, как сообщница, празднично возбужденная тем возбуждением, которое предполагала в нем. Ирина Сергеевна бегала по комнате, рассовывала по шкафам книги. Полина села к телефону, набирала номер, а Ирина Сергеевна, пробегая мимо («Ой, мы цветы сегодня не полили, завянут за воскресенье!»), каждый раз нажимала на рычаг. Полина притворно сердилась: «Ирка, перестань дурачиться». Ирина Сергеевна низким от сдерживаемого смеха голосом отвечала: «Сколько же можно звонить? — И, внезапно хлопнув стопкой бумаг по столу, крикнула: — Ты идешь или остаешься?» Полине стало неловко от такого взрыва чувств, она стыдливо стрельнула взглядом в Юшкова и сказала: «Совсем рехнулась девка».
Они прошли втроем до автобусной остановки. Полина попрощалась и свернула в сторону. Кренясь набок, подкатил переполненный автобус, задняя дверь его не открывалась, между створками торчала пола мужского пиджака. «Пойдемте лучше пешком»,— сказала Ирина Сергеевна.
Вдоль тротуаров тянулись низкие заборы, в палисадниках отцветали яблони. Стояли у калиток скамеечки. На перекрестке торчала из асфальта водопроводная колонка. Навалившись животом на ее рычаг, голый загорелый мальчишка пускал воду. Тугая струя разбивалась на бетонном желобе, и в брызгах вспыхивала радуга.
«Понимаете, Юра, горящие заказы не только у меня, но и у Полины. У нее даже подруга из Одессы никак металл не получит. Хоть Полина ей обещала. Полина на все просто смотрит. А я так не могу. Понимаю ведь, что человек не свои деньги тратит, что завод по той или другой статье ему худо-бедно сотню выделяет. Но не могу. Неприятно. Да и не у всякого можно: возьмешь конфеты, а он потом шум поднимет. Или вдруг сорвется что-нибудь! Вон как по заказу Нижнего Тагила. А сейчас горящих заказов у Полины собралось больше, чем у меня. У меня три, включая ваш, у нее семь или восемь. Так что хромистая сталь, когда пойдет, может попасть к ней. Вы меня понимаете?»
Улица кончилась. Впереди росли кучкой несколько высоких берез. К одной из них была привязана белая коза. Вплотную за деревьями начинался обрыв к старице реки. За ним на другой стороне белели пятиэтажные дома микрорайона. «Там я живу»,— сказала Ирина Сергеевна. Она подошла к березам. «Устала чего-то сегодня. Давайте посидим». Сели на траву против солнца. Правее, в квартале от них был бетонный мост через старицу.
«Десять минут посидим, хорошо? Вы ведь не спешите? У меня гости сегодня. У дочери день рождения. Одиннадцать лет.— Покосилась, проверяя впечатление.— Вот я какая старая. Одиннадцать лет! Одна тяну, никто не помогает...» Обхватила колени руками, придерживая юбку. Отворачивалась от солнца. «...демобилизовали за пьянство. Устроился на комбинат, две недели поработал, бросил. Привык командовать... А деньги на одежду требует, одеваться хорошо любит, да еще чтоб бутылка каждый день была... Я его прогоню — через неделю назад... Сейчас он у матери в Свердловске... Почему я вам все рассказываю? — Она немножко играла, но не ему было ее в этом упрекать.— Может быть, потому, что вы первый человек, который захотел меня слушать...— Повернулась к нему.— Или вам тоже это все скучно, а?» Ждала ответа. Губы были очень близко. Поднялась. «Ох, пойдемте, Юра».
Молча дошли до моста. Остановились. Облокотясь о перила, смотрели вниз. В луже плескались мальчишки. Наверно, там был ключ, мальчишки быстро замерзали в воде.
«...особенно вечером. Кажется, что внизу река. Как красиво...» Отсюда микрорайон был близко. Дома его стояли свободно, обдуваемые свежим степным ветром.
«Дайте мне сумку, Юра».— «Я донесу до дома».— «Ой, о чем вы говорите! Чтобы завтра все сплетничали? В нашем городе шагу нельзя ступить, чтобы не начались разговоры!»
Она взяла свою сумочку, но не уходила, стояла, загадочно поглядывала на него. «Какой вы, Юра, смешной. Сердитесь на меня?» Он сказал: «Нет». «Если бы вы знали, как мне надоело здесь...» Он молчал. «Надо бежать,— шепнула она.— Дочка ждет. Купила ей туфли — недовольна. Хотела ракетки для бадминтона. Туфли, говорит, ты мне и так бы купила. Ребенок... Так я пойду?» Он видел: она ждала чего-то. Но не догадывался чего. Спросил: «Значит, до понедельника?»— «Приходите, Юра, вечером. Или вы заняты?» — «Чем?!» — «Значит, часов в семь». Ирина Сергеевна назвала адрес, улыбнулась на прощание и пошла, помахивая сумочкой.В холле гостиницы, как обычно, сидели перед телевизором одесситка и Аркадий Семенович. Одесситка вязала. Она была в легкой кофточке и удлиненной юбке. Она каждый день меняла наряды. Аркадий Семенович дремал. В почтовой ячейке лежало извещение: пришла бандероль от матери. Юшков тут же цолучил ее на почте. Кроме пятнадцати баночек крема, в ней оказалось письмо. Мать передавала привет тем его новым знакомым, которым понадобился крем. Юшков усмехнулся. Он подумал, что ему не хватает юмора, и от этой мысли стало спокойнее.
Директриса была одна в кабинете. «Юрий Михайлович, вы такой деловой и грустный, это никуда не годится. У нас так не положено». Он положил сверток на стол: «Это вам». Она, недоумевая, дотронулась до бумаги и, начиная догадываться, побледнела. Развернула. Ахнула. Рассматривала белые пластмассовые баночки с коричневыми ободками потерянная и жалкая. Оказалось, она много слышала о женьшеневом креме, но никогда его не видела. Наверно, считала, что он возвращает молодость. Слишком сильные ее эмоции сдвинули смысл его поступка, и Юшкову стало стыдно. Она уже не была похожа ни на школьную учительницу, ни на стюардессу, а просто на пятидесятилетнюю усталую женщину в нелепом парике. Достала деньги. Юшков отказался: «Мне это ничего не стоило». «Как это?» Он черпал все из того же кладезя премудрости: «Каждая фирма имеет свои секреты». Но и директриса не могла взять крем, не зная, какой услугой ей придется платить за него. Взмолилась: «Юрий Михайлович, в какое положение вы меня ставите? Вернуть вам крем я не в силах, а взять просто так не могу». Он пожаловался: ему бы ее заботы. А что заботит его? Может быть, она поможет? Да нет... от нее это не зависит... он здесь пятый день и до сих пор не завел на комбинате ни одного полезного знакомства... «Прямых связей, Юрий Михайлович, у меня с комбинатом нет, кроме директора и главного инженера. Иногда, когда нужно кого-нибудь устроить получше, они обращаются ко мне с просьбами... Не скажу, что уверена в успехе, но могу попробовать...» Нижнетагилец уже объяснил ему, что директор и главный инженер заниматься простым снабженцем не будут. «Если вы, Юрий Михайлович, захотите перебраться в отдельный номер с телефоном и ванной, то, разумеется, в любой день...» В кабинет вошла какая-то женщина, и Юшков простился. Отдельный номер был ему не нужен.
Только у своей двери он вспомнил, что оставил соседа больным. Тот лежал на спине с закрытыми глазами. «Живой?» — тихо спросил Юшков. «Нет»,— сказал нижнетагилец. «Может, «скорую помощь» вызвать?» «Еще чего. В магазин пойдешь? Купи мне чего-нибудь. И хорошо бы анальгин и горчичники. Потом рассчитаемся. Если не подохну».
Юшков посмотрел на часы и заторопился. В холле по-прежнему сидела неразлучная пара. Одесситка вязала, доглядывая на экран телевизора. «Вашего соседа не видно, Юра. Не заболел ли?» Юшков объяснил. Она посоветовала: «Надо горячим утюгом погладить».— «Это из-за того вагона, который у него перехватили,— предположил Аркадий Семенович.— На нервной почве».— «Миозит — болезнь простудного характера,-— возразила одесситка.— Бегал где-то и вспотел. Все-таки возраст».— «Или выпил где-то и вспотел»,— фыркнул Аркадий Семенович. «Не ехидничай»,— спокойно сказала одесситка, и Аркадий Семенович замолчал.
В магазине Юшков раздобыл только хлеб и сыр, зато при нем привезли несколько ящиков пива, и он рассовал по карманам четыре бутылки. Пиво, нижнетагилец оценил: «Лучше нет, чем запивать анальгин».— «Ухожу,— сказал Юшков. Приглашен на день рождения».— «Молодец,- сказал нижнетагилец уважительно.— Придешь — расскажешь».
В начале восьмого Юшков позвонил у двери. Ирина Сергеевна была в нарядном платье. Успела сделать себе высокую, сложную прическу. Именинница с двумя подружками смотрели в спальне телефильм. Ее вызвали, чтобы поздравить, и Юшков подарил ей конфеты и ракетки для бадминтона. Она посмотрела на мать: можно ли открыть коробку? Ирина Сергеевна кивнула: «Угости девочек».
Во второй комнате за накрытым столом сидели мужчина и женщина, оба крупные, она — вялая и некрасивая, он — живой, громкоголосый, даже с претензией на ухарство. Ирина Сергеевна познакомила. Мужчина назвался по фамилии: «Борзунов».
Что-то было в лице неудовлетворенное, истеричное, что вызывало опаску. «Автозавод? Знаю такую фирму. Собираюсь к вам в город на станкостроительный. Пригласит автозавод, буду и у вас». Барственный тон подсказал, откуда эта фамилия знакома. Юшков видел ее на документах. Борзунов был начальником производственного отдела. От него зависела судьба заказов.
Ирина Сергеевна командовала. Видно было, что она не привыкла полагаться на инициативу мужчин. Подкладывая закуску на тарелку Борзунова, говорила: «Это тебе можно» — или: «Это немножко тебе можно» — или: «Это тебе полезно»; он молодцевато отвечал: «А-а, все можно». Жена Борзунова весь вечер молчала, но никого это не тяготило. Когда Юшков предлагал ей блюдо, она близоруко присматривалась, что там такое, и ни от чего не отказывалась. Пробовала, добросовестно прислушиваясь к своим ощущениям, словно ей предстояло официально все оценивать. Съели утку. Жена Борзунова поднялась. У нее болела голова. Ирина Сергеевна затащила ее на кухню, совала в пакетик пирог для сына. Та отказывалась, но Ирина Сергеевна не отпустила, пока не настояла на своем. Они жили в одном подъезде.
Юшков сел за пианино. За двенадцать лет после музыкальной школы он не играл и десяти раз. Пальцы что-то помнили, нащупали одну мелодию, другую, что-то простое из Генделя, что-то из Грига. Борзунов перебрался со стула на диван, сидел, раскинув руки. Усмешка на мужественном его лице оставалась неудовлетвореннонасмешливой, но это уж от него не зависело. Ирина Сергеевна освободила стол для кофе и присела. «Из-под палки Светка занимается. Просто не знаю, что с ней делать». «Полонез Огинского можешь?— просил Борзунов.— Та, та-ра-та, та-та, та-та.» С грехом пополам Юшков сыграл полонез и вальс из «Маскарада», начал подбирать мелодию новой песенки, Ирина Сергеевна тихонько запела, к ней громко присоединился Борзунов, и остаток вечера они пели. Юшков слышал в голосе Ирины Сергеевны нежность и благодарность. За весь вечер она ни разу не взглянула на него. После кофе он помог ей отнести на кухню посуду. В кухне было много разных крючков и полочек, все здесь было продумано. Юшкову казалось, что он любит Ирину Сергеевну. Он обнял ее. Она выскользнула, шепнула: «Ты с ума сошел» — и ушла в комнату. «Надо тебе еще одну дочку, Ириша,— сказал Борзунов.— Почаще сможем вот так за столом встречаться». «Ага. Дюжину еще,— кивнула Ирина Сергеевна и вздохнула, показывая, что и с одной ей тяжело. Прислушалась к звукам из спальни.— Что это? «Время» кончилось? Ох, надо уже ей спать. Мы с ней полночи возились».
Борзунов не пошевелился. Юшков решил, что ему пора уходить. Ирина Сергеевна проводила до лестницы. «Ох, утром отправлю Светку и целый день буду спать». И снова показалось: ждала чего-то. «До понедельника, Юра».
Он вошел в холл гостиницы в ту минуту, когда худой дядька, один из трех его бывших соседей, прощался с директрисой, умильно тряс ее руку. Как будто тот избыток восторга, который он в первый день пытался излить на Юшкова, он так и не сумел израсходовать и вот напоследок тратил его на директрису. «Большое вам спасибо, хозяюшка... От всей души... Вы хороший человек... Как говорится, дай вам бог...» Он и Юшкову пожал руку: «Счастливо оставаться. Не бери до головы... Главное — здоровье... Уезжаю вот... Извини....» Помахал рукой из двери, увозя свой восторг нерастраченным. Юшков знал, что худому удалось получить пятую часть того, за чем его посылали.
«Юрий Михайлович, кажется, отступил сегодня от своего железного правила»,— приятно удивилась директриса. Юшков начинал побаиваться ее. Кивнул: «Исправляюсь».
Нижнетагилец лежал. За день одиночества он истосковался. «А я уж думал, ты до утра наладился. Не вышло?» — «Я у Ирины был,— сказал Юшков.— Чудно. Наверно, всю ночь закуски готовила, а гостей — сосед с женой и я».— «Значит, из-за тебя старалась».— «Странный ты все-таки человек. Говорю же тебе, что нет».— «Ну не знаю.— Нижнетагильца это не волновало.— В конце концов тебе-то какая разница, что ей нужно? Пригласили тебя как люди. Видно же, культурный человек. Их ведь тоже можно понять. Работа у них какая? Цифры и цифры. Всю жизнь бумаги и цифры, мыслимо ли? Мозги на голой цифре пробуксовывают, сам знаешь. Совсем другое дела, когда живой человек к ним приходит. Тут уж тебе не цифра. Тут ты можешь осчастливить, а можешь и погубить, тут ты и свою власть чувствуешь и живой интерес имеешь... ч-черт». Он шевельнулся и замычал от боли.
Юшков вспомнил совет одесситки. «Может быть, утюгом тебя погладить?» — «Утюг — это в принципе неплохо. Ты хоть умеешь гладить?» — «Умею брюки и рубашку. Тебя, наверно, не труднее?»— «Надо через тряпку какую-нибудь».— «Ну, значит, как брюки».
В бытовке утюга не оказалось. Юшков постучал в 305-й номер. Усатый парень открыл. «Утюг не брал?» — спросил Юшков. Он видел за спиной парня край журнального столика. Тонкая женская рука с сигаретой потянулась к пепельнице на столике, забрала ее и исчезла. «Нет,— сказал парень и спросил женщину в комнате: — Утюг не у тебя? — Посоветовал Юшкову: — К одесситке загляни на четвертый. Кажется, она в четыреста втором. У нее должен быть». Все он знал. Полюбопытствовал: «Родственницу ждешь?» — «Соседа прихватило,— объяснил Юшков.— Надо поясницу погладить».— «Другое ему надо,— сказал парень.— Испытанное народное средство. А утюг — это уже почти химия. Антибиотик». В комнате прыснули.
Юшков поднялся на четвертый этаж и постучал в 402-й номер. Открыла одесситка в длинном шелковом халате, заколотом на груди стеклянной брошью. «Я кричу «открыто», вы не слышите. Проходите, Юра, садитесь чай с нами пить. У меня Аркадий Семенович в гостях».
Номер был одноместный. На столике стоял алюминиевый чайник с кипятильником, на тарелках лежали вареные сосиски. «Видите, как мы тут устроились». Постоянный спутник одесситки сидел на стуле, возвышаясь коленями над столиком. Здесь он казался значительнее, чем в холле или ресторане. Кивнул Юшкову. Рот его был занят сосиской. Прожевал, проглотил и сказал хозяйке: «Ты знаешь, я тебе скажу... совсем неплохие сосиски. Совсем неплохие. Честное слово. Жаль, мало взял». Юшков объяснил, что пришел за утюгом. «А вы сумеете погладить? — спросила она.— Может быть, мне?» — «Пойди к ним,— кивнул, словно бы отпуская, Аркадий Семенович и поделился с Юшковым: — Их хлебом не корми, дай за кем-нибудь поухаживать».— «Ну уж так уж я всегда рвусь,— сказала одесситка.— Ты уж меня перед Юрой выставишь».
Юшков получил утюг и вернулся в номер. Сосед дремал, открыл один глаз. «Готовься,— сказал Юшков.— Сейчас придет тебя гладить красивая женщина». «Землячка твоя?»—оживился нижнетагилец. «Не совсем,— Юшков раздумывал, как ему повернуть соседа на живот, вытащил из-под его головы подушку.— Тут вот проблема, как тебя кантовать».— «Я сам,— отстранил рукой нижнетагилец.— Так кто придет?» — «Красивая женщина придет».— «Одесситка? На холеру она мне!— встревожился нижнетагилец.— Пусть своего Аркадия Семеновича гладит. Я ей не дамся».— «Поворачивайся давай».— «Только не лезь. Я сам.— Нижнетагилец, кряхтя, начал поворачиваться к стене. Вскрикнул и замер.— Э, подсунь подушку под поясницу. Та-ак...»
Стукнул в дверь и вошел парень из 305-го. «Ну как, еще дышишь?» Нижнетагилец рассвирепел: «Что вам тут, цирк?» Парень подошел к нему, уперся в плечо и ягодицу. «Спокойненько... Раз, два... главное, не волнова...» — «Отойди! — заорал нижнетагилец.— Михалыч! Убери его! Я сейчас... Нет, дальше не пойдет».— «Ну что ж,— сказал парень.— Если целиком не получится, придется разбирать его на части». Нижнетагилец лежал теперь лицом к стене и чередовал кряхтение с ругательствами. В дверь снова стукнули. Вошла землячка. В безрукавке и джинсах, высокая, узкая и плоская, она походила на нескладного школьника. «Я не помешаю?» «Ты опоздала»,— сказал парень. Кончики его усов трагически опустились. Девушка остолбенела: «Как опоздала?» — «Как опоздала... Не знаешь, как опаздывают? Опоздала. Все уже».— «Что... все?» — «Все. Отмучился».— «Вытащи подушку,— велел нижнетагилец Юшкову. Незаметно для всех он повернулся на живот.— Слушайте, братцы, проваливайте-ка вы уже по домам. На вечерние сеансы дети не допускаются».— «Мне кажется,— парень ничуть не смутился,— нас здесь не любят».— «Извините,— сказала землячка.— Выздоравливайте». Вышла, не показав, что оскорблена. Парень подмигнул и скрылся следом.
Однако успокоиться нижнетагильцу не дали. Едва Юшков включил утюг, появились одесситка и Аркадий Семенович. Нижнетагилец отвернулся к стене. Шея его и щека стали красными. А тут еще Юшков пошутил некстати: «Григорьич, регулятор ставить на шерсть?» Нижнетагилец взорвался: «Ты это, понимаешь, кончай!» — «Зачем же нервничать,— ласково сказала одесситка.— Сейчас мы вас полечим».— «Вы что, доктор?» — «Да, я доктор. Для вас я доктор». На это нижнетагилец не нашел что возразить. Аркадий Семенович вмешался в разговор: «Я по себе знаю, Грирорьич...» Все, чего нижнетагилец не мог высказать женщине, он в полный голос выложил Аркадию Семеновичу. Лицо одесситки сразу стало брезгливо-холодным. Юшков сказал: «Товарищ, сами понимаете, за свои слова не отвечает. Ну а с утюгом я уж тут справлюсь».
Гости ушли. «Наряды каждый день меняет,— сказал нижнетагилец. Он чувствовал себя виноватым.— Дети взрослые, а она...» «Лежи тихо! — прикрикнул Юшков, массируя его утюгом.— Надоело». Нижнетагилец замолчал, не шевелился, только иногда, заводя руку за спину, показывал, куда направлять утюг. Потом кое-как повернулся на спину и замер. Юшков разделся и лег. Не спалось. Сосед тоже не мог заснуть, все вздыхал и тихонько ругался под нос. «Когда в следующий раз нарвешься на пиво, хватай, сколько сможешь унести,— подвел он наконец итог своим грустным размышлениям.— Оно мне как снотворное. Причем без рецепта».
Следующий день был выходным. Юшков несколько раз просыпался утром и, пугаясь предстоящей скуки, снова засыпал. Наконец в десять часов он сел в кровати. Сосед ожил. Сновал по комнате в таинственной важности, молчаливый и сосредоточенный. Видимо, ему приснилось, что он стал деловым человеком. Гладил рубашку, сорвал утюгом пуговицу. Пуговица покатилась по полу. Юшков подобрал ее и спросил: «Далеко собрался?» «В Горск»,— бросил нижнетагилец все c той же таинственной важностью и сел пришивать пуговицу к рубашке.
Он выглядел таким деловым и трезвым, что Юшков фыркнул. Натянул брюки, вышел на балкон. Прошли внизу одесситка в широкополой шляпе и Аркадий Семенович. Появились усатый из 305-го номера и землячка в джинсах. Усатый увидел Юшкова и помахал ему. Девушка тоже заулыбалась и помахала. У нее были тонкие руки с большими кистями. «Искупаться не хотите?» Оказывается, где-то здесь было озерцо.
Нижнетагилец драил туфли. Юшков спросил: «Ну а в Горске что?» — «Посмотрю».— «Что там смотреть?» — «Рынок посмотрю». Оставаться одному не хотелось. Они долго ждали автобуса, едва забрались в него и ехали в давке и духоте. Все полчаса дороги нижнетагилец ворчал на какого-то мальчишку, а когда за того вступились, переругался со всеми вокруг.
В Горске ничего интересного не увидели. Забрели в промтоварный ларек на окраине, нижнетагилец сказал: «Смотри, какие туфли. В таких вот дырах иногда можно нарваться на отличные вещи. Покажите, девушка».
Сонная тетка за прилавком, нисколько не обманутая его уверенным тоном, швырнула мятую коробку с женскими туфлями, а один из покупателей, глазевший на полки в мучительном раздумье, протиснулся поближе и стал наготове: может быть, и ему надо хватать, пока не поздно. Юшков увидел, что товар залежалый, и сказал об этом. Нижнетагилец криво усмехнулся: «Много ты понимаешь... Девушка! Тридцать седьмой есть?»
Тридцать седьмой был. Нижнетагилец подумал и отступил с честью: «Черт, не помню точно размера, а так бы взял». Потолкались на рынке, заходили во все магазинчики, которые попадались на глаза, и ничего не купили. Пообедать тоже не смогли: в столовой нижнетагилец поскандалил из-за грязных вилок, потащил Юшкова в другую, но другая оказалась закрыта. Вернулись в Черепановск раздраженные, устали, а тут еще обнаружилось, что в гостинице нет холодной воды. Юшков повалился на кровать и сказал: «Зря я тебя вылечил. Лучше бы ты пластом лежал». «Да,— согласился нижнетагилец.— Тут ты не подумал».
Он вскоре захрапел. Юшков старался не раздражаться, но не мог. Поднялся и вышел на балкон. Внизу прошли поливочные машины, и запахло свежестью. То ли облака, то ли клочья мартеновского дыма тянулись с запада. Быстро темнело. Новый микрорайон, в котором жила Ирина Сергеевна, уже плохо различался в сумерках.
Он вспомнил, как она стояла у лестницы, загадочно поглядывая на него, ждала от него чего-то, а он молчал. Он опять, наверно, совершил глупость. Одну из тех, которые делает всю жизнь и при этом каждый раз говорит себе, что ошибся случайно, что ему не хватило опыта, чтобы поступить правильно, но, мол, теперь он уже научен и больше подобной ошибки не сделает. Однако ошибки повторяются, и постепенно становится ясно, что это не ошибки вовсе, а что-то неотделимое от него, Юшкова, присущее ему, от чего он никогда не сможет избавиться и что всегда будет определять его судьбу. Так что если не можешь сломать себя до конца, то лучше, наверно, и не пробовать, чтобы не терзаться одновременно и томлением по упущенному и виной.
Лучше признаться честно, что занялся не своим делом, и уйти. Есть рессорный завод, куда его звал Буряк. Может быть, туда еще не поздно. Командировку он доведет до конца и вернется победителем, однако впредь Лебедеву в таких делах придется обходиться без него. Ирину Сергеевну ему видеть не надо; ничего хорошего из этого получиться не может.Знакомый его в мартеновском цехе, высокий однокурсник Ирины Сергеевны, был заместителем начальника цеха. Звали его Игорем. В понедельник Юшков принес ему в кабинет завернутые в газету две банки растворимого кофе и положил на стол. «Что это?» — не понял Игорь. «Взятка». «Между прочим, мне ни разу в жизни еще не давали взяток». «Мне тоже»,— сказал Юшков. Игорь полюбопытствовал, что в свертке, пожал плечами: «А за что?» «Ты что, кофе не любишь? Мне нужно знать, когда пойдет хромистая сталь».— «Понимаю. Побеждает тот, у кого лучше информация. Так это я тебе и без взятки сделаю».— «А вдруг забудешь?» Однокурсник Ирины Сергеевны небрежно поинтересовался: «Что ж ты с Ириной контакта не заведешь?» «Так не заводится». «Не заводится, говоришь? — Игорь не сумел скрыть своего удовольствия.— Со всеми она так сурово или только с тобой?» «Да что-то я не замечал особого к себе отношения». Юшков уже знал, чем он может порадовать Игоря.
Тот все-таки отстранил сверток: «Спрячь назад, пока никто не видел. Я против тебя ничего не имею, но вообще за такие номера...» — «А ты научись варить сталь,— сказал Юшков.— Тогда мне не придется ездить с подарками».— «Так, выходит, я виноват?» — «А кто, я?» — «Черт,— Игорь хмыкнул.— Не хотел бы я быть на твоем месте. Сколько тут банок, две? Беру с условием — за деньги».— «А вот это условие мне не подходит. Я за них не платил».— «На улице нашел?» Юшков рассказал, как его снаряжали на заводе. Игорь изумился: «Скажи, как это делается!.. Но я беру только за деньги».
Он позвонил на следующий день вечером: в три часа утра ожидается первый ковш хромистой стали. Однако ни эта, ни две следующие плавки не получились. Прошла неделя. Наконец экспресс-анализ оказался в норме. Стоя на галерее, Юшков видел, как внизу под его ногами наполнялся ковш, вмещающий в себя четыре вагона стали. Теперь нельзя было терять ни минуты. Он побежал в производственный отдел.
Перед столом Ирины Сергеевны было несколько человек. Юшков встал в хвост очереди. Ирина Сергеевна разбиралась с пенсионного возраста человеком, какие-то цифры в их бумагах не сходились.
Нацепив очки, человек тыкал дрожащим пальцем в свои бумаги, пытался говорить, когда надо было слушать, и не понимал ничего, хоть вся очередь уже поняла и раздражалась оттого, что старик задерживает всех. «Товарищ,— сказал Юшков,— вы задерживаете. Там сейчас сталь разливают». Сказал он это, чтобы слышала Ирина Сергеевна. Она не повернула головы. Юшков топтался, поглядывая на часы. Из мартеновского цеха слитки попадут в блюминг, их откатают на другой профиль, и тогда уж ничего не сделаешь. «Тридцать шестой заказ, что вы нервничаете? — взглянула на него Ирина Сергеевна.— Вам откатают два вагона».— «Как два? В ковше четыре вагона!» — «Не могу я вам дать все».— «Но вы должны нам шесть вагонов до двадцатого! Сегодня уже восемнадцатое!» — «Я вам ничего не должна»,— холодно сказала Ирина Сергеевна.
Зазвонил телефон, и она сняла трубку. Звонил Игорь. У него получился второй ковш. Среди разговора Ирина Сергеевна быстро взглянула на Юшкова и сказала: «Нет, не появлялся». Юшков даже не догадался, а почувствовал, что говорят о нем. «Да что уж ты так для него стараешься? — удивилась она, нажала на рычаг и, по-прежнему не поднимая головы, сказала: — Ты, я вижу, всюду успел». В очереди не поняли, к кому это относится. Набрала новый номер: «Сергей Митрофанович, можно зайти к вам с одним товарищем?» Вышла из-за стола, велела Юшкову: «Идите со мной».
Очередь покорно осталась ждать ее возвращения.
«Куда мы идем?» — спросил Юшков в коридоре. Она сказала: «Вам же нужно четыре вагона».
Перед кабинетом Борзунова стояла очередь. Замыкал ее громкоголосый киевлянин. Он уже не разглагольствовал, а жадно прислушивался к разговорам. Ирина Сергеевна провела Юшкова мимо очереди. Борзунов сказал: «А-а, кого я вижу!» Лицо против его воли оставалось насмешливым, и получалось, будто бы он произносил приветливые слова не всерьез, а лишь изображая человека, который произносил бы их всерьез. Однако был рад, усадил, болтал о пустяках. Ирина Сергеевна потрогала землю в цветочных горшках на подоконнике, упрекнула начальника: «Кто тут у тебя за цветами смотрит, скоро завянут». Занялась ими.
Приведя Юшкова, она тем самым сделала для него все, что было нужно. Больше от нее ничего не требовалось. «Что, Ириша,— сказал наконец Борзунов,— два вагона ему сделаем?»
Юшков стал объяснять про свои шесть вагонов. Борзунов заскучал. Он ждал благодарности, а его опять уговаривали. Ирина Сергеевна обрывала желтые листья на цветах. Сказала, не оборачиваясь: «Я в цех звонила. У них второй ковш получился. Закладывают третий», «Четыре вагона сделаем, — решил Борзунов.— Остальное — как получится». Ирина Сергеевна тут же позвонила диспетчеру блюминга: «Один ковш на тридцать шестой заказ».
В коридоре Юшков сказал: «Осталось еще два вагона».— «Больше он не мог вам дать,— холодно ответила Ирина Сергеевна.— Если получится третий ковш, тогда видно будет».— «Я не понимаю этой арифметики,— сказал он.— Почему четыре, а не три и не пять?» «А почему вы капризничаете? — рассердилась она.— Я вам чем-нибудь обязана?» Он запнулся: «Простите. Спасибо вам».— «Игоря благодарите. Я не повела бы вас, если бы он не просил. Он бы первый попрекнул меня любимчиком».— «Когда будет известно о третьем ковше?» — «Звоните в конце дня».
Шагая под белым, как огнеупорный свод печи, обжигающим небом к сортопрокатному, Юшков вспоминал свой заискивающий голос и морщился. Вошел через стальную калитку в цех, в прохладу. Вентиляторы гнали освежающий воздух. В застекленной конторке Володя подписывал мятые, захватанные грязными руками сертификаты. «Пошел тридцать шестой заказ,— предупредил Юшков.— Давай, Володя, обойдемся на этот раз без неприятностей». Тот поднял голову как человек, которого вывели из глубокой сосредоточенности. Изможденное лицо изображало достоинство: «Если Володя сказал, он своему слову хозяин». Юшков едва удержался, чтобы не извиниться.
Рабочий день в производственном отделе кончался в четыре. Юшков пришел на несколько минут раньше. Перед столом Ирины Сергеевны стояли люди. Было несколько новых, приехавших после воскресенья. Ирина Сергеевна быстро взглянула, и он понял, что она ждала его и случилось что-то неожиданное и неприятное. В очереди тоже заметили, что она не в духе, никто не спорил с ней, и вскоре не осталось никого. Ирина Сергеевна подхватила сумочку и сказала: «Третий ковш не получился, но вас это пусть не волнует. Борзунов распорядился, чтобы вам выдали шесть вагонов». А он уже решил было, что отобрали его сталь. «Требуй у меня все что хочешь»,— сказал он.
Она молчала. Вышли на улицу. «Только что дочка звонила. Просила скорее прийти. Муж приехал. Скандалит в квартире, крушит там все. Дочка к соседям убежала». «Может быть, мне поехать с тобой?» — предложил он. Она усмехнулась. Он попросил: «Дай мне твой телефон». Опять усмехнулась. Автобуса не было. Юшков остановил такси. Когда проезжали через мост, Ирина Сергеевна сказала: «Долго же ты собирался попросить телефон».
Она вышла около дома, а он вернулся в гостиницу.
Он выполнил задание. Кончались вынужденное безделье и порочная гостиничная скука, вместе с ними кончалось непонятное томление, которое всегда тревожит оседлых людей вне дома. Через день-два отправят его вагоны, он запишет их номера и уедет отсюда. Оставалось только ждать.
Гостиница опостылела, но, кроме нее, деться было некуда. Сосед лежал на кровати, спросил: «Сколько ковшей получилось, два или три?» — «Я слышал, три».— «Полтора, значит, тебе...» — «Почему мне?» — «Разве нет?» — удивился нижнетагилец. Юшков промолчал. «Мне какая разница? — сказал нижнетагилец.— Я не завистливый».
Утром Юшков проснулся с мыслями о доме и, удивившись им, вспомнил: последний день! Дежурная администраторша принесла телеграмму с завода: срочно требовался еще один заказ, углеродистый лист. Юшков отнес эту телеграмму Ирине Сергеевне. Она прочла, тут же позвонила диспетчеру, и дело было сделано. Киевлянин, которому только что отказали и который крутился в комнате между столами, не зная, что предпринять, кинулся к ней: «Вы ж мэнэ казалы, шо этого листа нет! Почему мэнэ нет, а ему есть?» «Идите жаловаться,— отрезала Ирина Сергеевна.— У вас это хорошо получается». Он подвигал челюстями и ушел. «Правдоискатель»,— сказал кто-то в очереди, подлаживаясь к Ирине Сергеевне.
Она спросила: «Когда едешь?» — «Когда будут номера вагонов».— «Значит, завтра. А я своих в Свердловск отправила».— «Значит, обошлось?» — «В общем».— «Буду сегодня следить за погрузкой,— сказал он.— Чтобы не получилось, как с Нижним Тагилом». Посмотрела, кивнула: «Так надежнее». Все было понятно.
В шесть утра кончилась погрузка. Юшков записал номера своих вагонов и вернулся в гостиницу.
Только начали просыпаться. Хлопали двери. Полуодетые люди сновали по коридорам с полотенцами. Нижнетагилец тоже уже проснулся, одевался. «Все,— сказал Юшков.— Вот вагоны. Сейчас закажу разговор с заводом». «Тут, кстати, тоже было не скучно,— отозвался нижнетагилец,— землячка твоя отличилась. Я, собственно, не видел. Вдруг среди ночи крик. Кроет этого усатого на чем свет стоит. Культурно кроет. Вроде «охламона», но культурно. Все спят уже, повскакали... Не «охламон», а... не «паразит»... красиво, в общем, как-то. Дежурная акт составила. Теперь на работу сообщат. Заимеет неприятностей по самую макушку».
Он ушел, а Юшков спустился в холл и заказал разговор с Лебедевым. Из кабинета директрисы слышался ее голос. Нотки были незнакомые, митинговые: «...если бы моя дочь, позабыв девичью скромность... моя обязанность как директора советской гостиницы...» Дверь кабинета распахнулась, землячка выскочила из нее и побежала вверх по лестнице. Вышла директриса. Лицо, блестящее от крема, пошло пятнами. Хотела крикнуть что-то вслед девушке, но увидела Юшкова и сдержалась. Села рядом в кресло, подобрала ноги, и лицо из гневного стало жалобным. «Видите, как у нас, Юрий Михайлович. Вот ваша землячка. Что она от меня плохого видела? Мне, между прочим, жалобы давно поступали...» — «Какие жалобы?» — «На соседа вашего из триста пятого. После двенадцати ночи включает свой транзистор, мешает людям спать. Танцевали они вдвоем, что ли. Я вчера заглянула просто предупредить. Очень корректно, вы ведь меня знаете, очень корректно попросила вечерами не шуметь. А вам, говорю, молодой девушке, надо не давать повода к ненужным разговорам. Ведь правда, я корректно сказала? А она мне, знаете, что в ответ? Вы, говорит...» Директриса дословно передала, что сказала о ней девушка, и всхлипнула. «Ну, я, конечно, вышла из себя. Если со мной так, то и я так. Я говорю этому Маркушеву: все, терпение мое кончилось. Я вынуждена сообщить, на вашу работу о вашем аморальном поведении. Маркушев, вы знаете его, брюнет с усами,— он человек неглупый. Он сразу попытался уладить. А эта разошлась. Я в жизни своей столько грубостей в свой адрес не слышала...» Директриса перевела дыхание, успокаивая себя.
«Даже он и то был возмущен. Он говорит: я ее не звал, она сама пришла. Это я, говорит, могу на вас жалобу послать куда надо, что у вас тут такое творится. Можете себе представить, что это за девчонка, Юрий Михайлович, если уж Маркушев так о ней говорит. Вы бы видели, что с ней стало, когда он это сказал! Подонок! — кричит. Подонок! Люди сбежались... Я просто обязана сообщить обо всем ей на работу. Утром одумалась, как собачка ждала под моей дверью, пока я приду. Плачет, кается, только бы из гостиницы не выселили и на работу не сообщили. И тут же продолжает грубить!..»
Междугородная дала Лебедева. Директриса вздохнула и ушла к себе. Рассказав все Юшкову, она успокоилась. Юшков продиктовал Лебедеву номера вагонов. «Сегодня выезжаешь?» — спросил Лебедев. «Как билеты достану». «Ну ждем. Тут тебе еще одна командировка наклевывается». Юшков ожидал больше эмоций.
В холл спустились Аркадий Семенович и одесситка. «Как? — сказала она спутнику.— Ты шляпу не взял? Сейчас же вернись. Напечет». Он возражал, она настаивала: «Опять давление поднимется. Смотри, какие глаза красные». Стесняясь, он подмигнул Юшкову: мол, с женщинами лучше не спорить. Пошел за шляпой. Она присела в кресло, сказала, не глядя на Юшкова: «Господи, как надоело здесь. Вам долго еще?» — «Сегодня уезжаю».— «Вы молодец. Здесь все говорят об этом. И родственников себе не завели...— Она запнулась и, понизив голос, сказала: — Тут про меня, наверно, всякие гадости говорят. Это все глупость. Аркадий Семенович больной человек, за ним следить надо. Ему диета нужна, покой, ведь почти шестьдесят человеку... А такого ничего нет. У меня дети взрослые». Аркадий Семенович спускался по лестнице со шляпой в руке. «Успеха вам»,— пожелал ей Юшков. Он поднялся на свой этаж. Однажды видел, как землячка открывала свой номер, и теперь постучался к ней. Никто не ответил. Толкнул — заперто. Он забарабанил сильнее. Она внезапно распахнула дверь, увидела его лицо и усмехнулась: «Чего вы испугались? Думали, повесилась?»
Она укладывала чемодан. «Куда это ты?» — спросил Юшков. «Ну их всех к черту. Домой».— «А командировка?» — «Гори она огнем. Все равно уйду с завода. Не по мне эта работа. Я тут всего насмотрелась». Она заплакала.
Директриса еще была у себя. «Как там землячки моей дела, Ольга Тимофеевна? — спросил Юшков. — Очень уж она переживает, что вас обидела. Я, говорит, всю жизнь ее благодарить буду».— «Обойдусь без ее благодарности».— «Вы в самом деле собираетесь писать на ее работу?» — «Обязана».— «Ольга Тимофеевна, вы же добрый человек». — «Да, но у моей доброты есть предел. Кроме того, я ничего не могу изменить. У меня есть докладная дежурной, я обязана отреагировать».— «Даже если я вас попрошу?» — «Докладная уже существует, что же я могу сделать, Юрий Михайлович?» — «Порвать ее».— «И совершить преступление? Вы зря защищаете эту девушку, Юрий Михайлович. Не знаю, какие чувства вами руководят, но вы... я уж буду откровенна с вами до конца... вы просто роняете себя в моих глазах».— «Как-то вы спрашивали меня, что можете для меня сделать. Сделайте это». Она пронзительно посмотрела, опустила глаза. «Хорошо. Только ради вас». Юшков понял, что теперь они квиты.
У него оставалось мало времени. По дороге на комбинат купил около вокзала букет тюльпанов. В комнате производственного отдела все уставились на букет. Ирина Сергеевна покраснела и засуетилась, отыскивая банку. От неловкости она снова перешла на «вы»: «Приезжайте к нам еще, всегда вам будем рады... Извините, если что не так...» И он тоже говорил ей «вы» и бормотал бессмыслицу. Когда потный и красный выскочил на крыльцо заводоуправления, освобожденно вздохнул.
Остатки привезенных припасов завернул в газету, положил на кровать соседа и сел писать ему записку. Не успел кончить, как тот появился. Развернул сверток. «Зачем дефицитом бросаешься? Бутылку мы с тобой сейчас разопьем, а колбасу вези домой, она не портится».— «Пусть на память тебе будет».— «Так ее не есть, а на стену повесить?» — «Ты же говоришь, не портится?»
Открыли бутылку. «Это не простая,— объяснил Юшков.— Сувенирная. С какой-то травинкой внутри». Нижнетагилец поискал на этикетке цену, присвистнул: «Ничего себе травка. Наверно, очень полезная. Может, от сердца? Тогда мне как раз».— «От сердца тебе меньше пить надо».— «Ты думаешь, я любитель? Работа такая. На пенсию пойду, в рот не возьму».— «Бросай работу, другую ищи».— «А это уже не государственный подход. Кто-то должен. Работа у нас с тобой скромная, но людям необходимая». Он проводил Юшкова до аэропорта в Горск, и, пролетая над Волгой, Юшков еще думал о том, что нижнетагилец либо ждет сейчас автобус до Черепановска, либо трясется в нем, навязываясь с разговорами случайным попутчикам.
Глава третья
Двадцатого августа была свадьба. С ней задержались, потому что Лялина сестренка поступала в институт. По этой причине Хохловы все лето провели в городе и дача пустовала. Ляля и Юшков потихоньку обжили ее и после свадьбы перебрались туда совсем, уже привыкнув считать ее своим домом. Сухое и жаркое лето задержалось и в сентябре. Одно из окон оставляли на ночь открытым, листва старой яблони касалась рамы. Они все устроили по-своему, разобрали и вытащили в сад остовы кроватей, пружинные матрацы положили на пол и накрыли их ворсистым ковром. Засыпали сразу и одновременно, усталость мгновенно разъединяла их. На рассвете Юшков просыпался то ли от слабого течения прохлады, то ли от света, то ли от птичьего свиста. Пахло флоксами и яблоками. Перед глазами колыхалась зелено-голубая пена, в ней плыли желтые пятаки. Взгляд фокусировался, зеленое и голубое оказывались листвой и небом в просветах между ветками, а пятаки становились солнечными бликами в стекле.
Створка окна едва заметно качалась, и блики вспыхивали.
Никогда прежде Юшкову не требовалось для бодрости так мало сна. Он выходил в сад. До электрички оставалось полтора часа. Он ставил чайник на газовую плитку, вытаскивал из-под крыльца шланг и, направляя холодную струю под кусты жасмина и роз, смотрел, как темнела, напитывалась влагой земля, как появлялись на ней лужицы. Он двигался дальше. Границей между двумя дачными участками была узкая полоса малинника. Пальцы на стальном наконечнике шланга белели от холода. Он бросал шланг под какое-нибудь дерево и шел будить Лялю. В комнате казалось темно, и шум воды из шланга был похож на шум дождя. Как-то он застал Лялю лежащей на спине с открытыми глазами, натянувшей простыню до подбородка. Она сосредоточенно думала о чем-то. Он спросил о чем, и она сказала: «Я думаю, дождь идет или мне кажется?» И не поняла, отчего он рассмеялся.
С работы она шла к матери, набивала там сумку всякой едой, а он в это время был еще на заводе, и они встречались на вокзале. Когда он ездил в командировки, она ночевала у родителей.
Все командировки были похожи одна на другую: вначале он оказывался чужаком и дело представлялось безнадежным, его гоняли по цепочке от одного человека к другому, а потом Юшков внедрялся в цепочку, и она уже работала на него. Связи закреплялись, позднее он научился приводить их в движение, не выезжая с завода.
С Хохловым он разговаривал по-настоящему только однажды, после первой командировки. Заместитель директора сам захотел тогда выслушать новичка. Если и рассердился, то не подал виду. «Вам такие дела не нравятся? Мне тоже не нравятся. Но что вы предлагаете конкретно? Самый идеальный план не может предусмотреть все. Из-за чего у нас так с поворотным кулаком? В чертежах его заложили из простой углеродистой стали. Во всех нормативах стояла сталь сорок. А потом потребовалось уменьшить износ и пришлось перейти на хромистую сталь. Можно было это знать наперед? Виноват кто-нибудь? Да будь все точно по плану, мы с вами были бы не нужны. Работала бы вместо нас ЭВМ. И на будущее мой вам совет: деловой человек не о том должен думать, хороши или плохи обстоятельства, а о том, как эти обстоятельства использовать самым выгодным образом. И если вам что-то не нравится, что ж, ищите, предлагайте, пробуйте — не возбраняется. Сумеете без командировок обойтись — вам только спасибо скажут». — «Мы умасливаем виноватых,— сказал Юшков.— А должны бы применять санкции через Госарбитраж». — «Вы месяц работаете? — спросил Хохлов.— Даже меньше? Мой вам второй совет: присмотритесь пока». Он был прав. Прежде чем пробовать что-то, надо было лучше узнать дело.
Юшков собирался менять систему хранения сталей и после рабочего дня, когда оставалось время до электрички, бродил по заводской окраине, где около высокой кирпичной стены лежали штабеля штанг, тронутых ржавчиной, нагретых солнечными лучами. Тут было безлюдно и тихо. С белесого неба сыпалась гарь близкого литейного цеха. Над головой лениво дергался мостовой кран. Железнодорожная ветка кончалась тупиком, среди шпал и у стены кое-где торчали кустики полыни. Гарь покрывала их ржавым слоем, но стоило, сорвав бархатистый, с бурыми головками стебелек, растереть его между ладонями, возникал горький запах степи и вспоминался обрыв над старицей в Черепановске.
Однажды в конце сентября Хохлов вызвал его к себе в кабинет. Юшков вошел и увидел Ирину Сергеевну. Около стола снисходительно улыбался Борзунов, как человек, знающий, что ему тут не могут не быть рады, и, как и прежде, после мгновенного удивления, какой тот высокий и красивый, возникло настороженное чувство: откуда в этом красивом лице неудовлетворенность и истеричность, удастся ли ему их сдержать? Ирина Сергеевна тоже улыбалась. Она сидела достаточно далеко от мужчин, как подчиненная, допущенная к разговору старших.
Они приехали на соседний завод решать свои вопросы, там что-то им нужно было для комбината, какие-то приборы, и Хохлов тут же взялся устроить все их дела. На некоторое время улыбка Борзунова даже стала смущенной: уже одно то, что приехали сюда они с Ириной Сергеевной, а не те, кто занимался по должности приборами, говорило, что на помощь автозавода они рассчитывали заранее и, кроме того, смотрели на командировку свою как на маленький отдых. Им ничего не пришлось объяснять Хохлову, не пришлось просить, он сам все понимал. Тут же заказал два номера в гостинице, гостей увезли устраиваться, а все остальное он поручил Юшкову, велев принять гостей по высшему разряду. В помощь он отрядил свою служебную машину с водителем, средних лет женщиной Антониной Григорьевной, и, поскольку дело для Юшкова было новое, отрядил еще одного человека, в таких случаях, как он сказал, незаменимого. Человек этот, Анатолий Витольдович Белан, был, как и Саня Чеблаков, заместителем начальника в отделе кооперации. Юшков его знал мало. Они сговорились по телефону, что им следует делать. Втайне гордясь своей незаменимостью и доверием начальства, Белан счел приличным пожаловаться: «Вот же жизнь, Юшков! Уже с кем пить вечером, и то начальство решает. Денег сколько у тебя?» «Сколько надо?» — спросил Юшков. Белан прикинул: «Четверо в «Туристе»... сотню готовь». Гости были не его, а Юшкова, стало быть, деньги должен был готовить Юшков, а от Белана требовался лишь талант потратить их как можно приятнее для гостей.
Прежде всего Юшков отправился искать Тамару. Так звали землячку, которая как-то забрела сюда в поисках работы. Это было в день свадьбы Юшкова. Тогда она повстречалась в коридоре и обрадовалась старому знакомому: «Мне просто не везет, Юрий Михайлович. Всюду требуются, требуются и требуются, а как я появляюсь, так никому ничего не надо». Она умудрилась уволиться со своего завода, не подыскав предварительно другой работы. Ее выселяли из прежнего общежития, и она теряла городскую прописку, но выглядела бодрой, не хуже, чем в Черепановске. Но и не лучше. Юшков представил ее длинную плоскую фигуру в отделе кадров, представил себя на месте кадровика и — все же это был день его свадьбы — сказал: «Иди к нам».
Он нашел ее у окна в конце коридора. Она курила вместе с Наташей Филиной. Спросила: «Гости из Черепановска пожаловали? Кто?» Он ответил. Она промолчала, только посмотрела вопросительно. Послушно поплелась за ним в комнату, села писать заявление на материальную помощь: «...в связи... в связи... в связи с чем, Юрий Михайлович? Я напишу: в связи с тем, что мне не везет в жизни». «Пиши: в связи с переездом на новую квартиру»,— подсказал он. Написала, выразительно вздохнула и побежала собирать подписи на заявлении. Она ни в чем не отказывала, безропотно ездила в командировки и терпеливо сносила неприязнь женщин в секторе, потому что знала: Лебедев не хотел ее сюда брать и Юшкову пришлось уговаривать начальника.
Юшков позвонил Ляле, чтобы она не ждала его скоро и ночевала у родителей. Без четверти четыре он сидел в светлой служебной «Волге» рядом с Антониной Григорьевной. Она читала затрепанную библиотечную книгу, беспрестанно поправляя волосы на затылке, а он всматривался в людской поток, текущий из всех четырех дверей центральной проходной.
Влез в машину Белан. «Ну, рассказывай, Юра, подробно, с кем сегодня гуляем». Выслушал, спросил: «Эта Ирина Сергеевна — хорошенькая?» «Ничего»,— сказал Юшков. Антонина Григорьевна не отрывалась от книги. Белан деловито поинтересовался: «Так ее функция чисто эстетическая? Или, может быть, взрыв безумной страсти, римские каникулы вдвоем?» — «Думаю, просто упросила взять с собой,— ответил Юшков. — Они дружат семьями».— «Допустим. В любом случае ее интересуют только магазины,— решил Белан.— Вот и пусть в них пасется, пока мы куда-нибудь съездим».
Они позвонили гостям из вестибюля гостиницы. Ожидая их, Юшков сидел на кожаном диванчике. Две сухощавые женщины рядом рассматривали замысловатые бронзовые барельефы на стенах и разговаривали по-немецки. Створки дверей, ведущих в ресторан, тоже были покрыты чеканной бронзой с ромбами рубинового стекла, вправленного в бронзовую решетку. Белан уточнил в ресторане, какой столик им оставлен, и прогуливался по ковровой дорожке, поглядывая на себя в зеркала. Светлые его волосы, прямые и длинные, за ушами и на висках седели: лет ему было около сорока.
Вышли из лифта Борзунов и Ирина Сергеевна в платье с яркими цветами по черному полю. Юшков помнил ее в этом платье на дне рождения. Он знакомил гостей с Беланом. Они стояли посреди вестибюля, Борзунов, возвышаясь над всеми, говорил и смеялся громче, чем было необходимо, и немки посмотрели на него с затаенным женским любопытством; одна что-то уважительно сказала другой. Борзунов, как это и с Юшковым не раз случалось, видимо, примерил к себе бронзово-кожаный вестибюль и весь брус гостиницы как приятную обновку. Белан же, увидев нервозную приподнятость гостя, был в затруднении. Его план — повезти того в директорскую сауну — проваливался. Сауна хороша была для компании спокойных мужиков, равных друг другу по положению и возрасту, чтобы, попарившись и поплавав в озере, выйти из холодной воды обновленными, как язычники после крещения, посидеть на берегу на траве, попить пива, посмеяться анекдотам, поспорить о футболе, отходя душой от всех забот.
Борзунову требовалось что-нибудь другое, театральная премьера с генералами в четвертом ряду партера, декада какого-нибудь национального искусства с ансамблем на сцене и банкетом за полночь, на худой конец гастроли Ленинградского мюзик-холла, а где их было взять Белану? Если б хоть Хохлова заманить в сауну, но ради одного Борзунова тот бы не поехал. Белан предложил для начала показать из машины город, рассчитывая в крайнем случае и в сауну заглянуть: она топилась, вдруг да завяжется дружба, интересные разговоры и появится вдохновение испытать себя стоградусным жаром и вольным духом. Ирина Сергеевна пожаловалась: ее, мол, в самолете так укачало, что машину она не вынесет. Белан широким жестом подарил ей четырехэтажное здание универмага тут же на площади за стеклянной стеной, отсчитал по своим часам: «Сейчас половина пятого, в восемь встречаемся на этом самом месте, у вас три с половиной часа. Юра будет таскать ваши свертки». Так все устроилось.
Толпа в дверях универмага прижала их друг к другу. Ирина Сергеевна схватила руку Юшкова, но эта же толпа и разъединила их, растекаясь вдоль прилавков. Вначале Ирина Сергеевна оглядывалась, проверяя, не потерялся ли Юшков, а потом ей уже некогда было оглядываться. Сосредоточенная, отрешенная от всего задумчивость появилась на лице, когда она трогала вещи и ярлыки с ценами, мысленно произносила приговор то оправдательный, то обвинительный и переключала внимание на следующую вещь. Были вещи, которые отвергались с первого взгляда как недостойные размышлений; были вещи, которые заслуживали уважения, хоть она и не покупала их; были вещи сомнительные, к которым она потом возвращалась. Иногда Ирина Сергеевна совещалась с другими покупательницами, иногда у нее спрашивали совета, иногда она терпеливо ожидала, пока продавщица освободится и можно будет задать вопрос.
За отделами посуды, кухонных и прочих хозяйственных вещей шли отделы галантереи и парфюмерии, целый этаж женской одежды и обуви, белье, трикотаж, головные уборы, мужские и детские отделы — все было в этом универмаге, и ничего Ирина Сергеевна не миновала, иногда останавливалась задумчиво, решая, куда ей повернуть, иногда нечаянно попадала в поток людей и выбиралась из него, работая локтями. Пыталась пробиваться сквозь очереди, поднималась на носки, наваливаясь на чьи-нибудь плечи, чтобы разглядеть прилавки из-за множества голов, уже начиная уставать, уже плохо соображая, потная, мокрой ладошкой отбрасывая светлые прядки с блестящего лба, водя глазами по сторонам, решая, стоять в этой очереди или спешить в следующую, куда только что привезли что-то, и вдруг вспоминала о Юшкове, испуганно озиралась и, обнаружив его, нагруженного свертками, неподалеку, виновато округляла глаза: еще немножко потерпи, я сейчас; но ему не скучно было следить за ее лицом, остающимся один на один с вещью, которую надо было оценить, признать своей или отвергнуть. Нужно было выполнить поручения жены Борзунова, задания подруг, а времени на все не хватало, и Ющков послушно становился в очередь или узнавал у продавщиц то, что интересовало Ирину Сергеевну. Наконец с верхнего этажа они снова спустились на нижний, и поток людей выволок их на площадь. Вечерний ветерок охладил и осушил кожу. Ирина Сергеевна пришла в себя и сказала: «Уф, с ума сойти. Я, наверно, на ведьму похожа». Он понял, что не забывал ее ни на день.
Они поднялись в лифте на четвертый этаж, втащили свертки в ее номер. Все в нем было отделано полированным деревом, кумачовая штора закрывала окно, слабо колыхалась. Ирина Сергеевна опустилась на кровать, скинула туфли, вздохнула и удивленно сказала: «Давно уже я столько не ходила... Неужели еще придется выйти сегодня отсюда? — Посмотрела на Юшкова, поправила прядку.— Садись, Юра...»
Он не понял ее движения, сел рядом, обнял. Она, упираясь руками в покрывало, повернула к нему голову, хотела что-то сказать и тут же увернулась от его губ. Он почувствовал сопротивление и неожиданную злость в ее голосе: «Пусти. Сейчас же пусти». Оба сели на кровати, молчали. Положение становилось глупым. «Нельзя же так,— наконец сказала Ирина Сергеевна, и неожиданными были ее злость и досада.— Ты... ты что же... ты думаешь, я в тебя влюблена?» Он молчал. Она сказала: «Видно, тебя еще жизнь не била». «Мне уйти?» — спросил он. Осеклась. Долгим движением провела ладонью по пурпурному покрывалу, разгоняя складки. «Нам же скоро в ресторан. Сейчас сколько? Семь уже есть?» «Без четверти». Он следил, как ее ладонь утюжком двигалась по складкам.
«Ты думаешь, я почему сюда приехала?.. Борзунов ведь не хотел меня брать. Жена его ревнует ко мне».— «Есть за что?» — «Ты спятил? Неужели я ему что-нибудь позволю? В нашем городишке-то!» Спохватилась — не про то говорит,— робко взглянула, не рассердился ли он. Спустила ноги с кровати. «Дурачок ты...»
В дверь постучали. Оба замерли, не шевелились, пока стук не прекратился. В половине восьмого Ирина Сергеевна, выглянув в коридор, убедилась, что он пуст, и Юшков спустился по лестнице вниз и разыскал Белана.
Тот свозил-таки Борзунова в сауну и был доволен. «И пар и погода — лучше не надо. Они там в песках, бедолаги, истосковались по нашей природе. Да я и сам чуть ли не это самое — утратив совесть, осовевши в доску. Лежишь в траве, тишина, вода у коряги плещется, облака над головой, сеном пахнет... Антонина чуть не силком вытащила нас оттуда. Он, правда, тип занудливый. Уже всю жизнь свою мне рассказал. Мы теперь лучшие друзья. Будет в гости ездить. А к спутнице своей он, точно, имеет соответствующую возрасту и положению платоническую любовь.— Белан покосился.— Замучила она тебя в универмаге? Я б на твоем месте на нее слишком много сил не тратил. Решает там все Борзунов. Она, правда, симпатичная, но симпатичных можно и поближе найти, а гостей мы с тобой должны довести до такой кондиции, чтобы больше тебе в Черепановск не ездить». Юшков следил за лифтом. Он хотел увидеть Ирину Сергеевну, когда она выйдет из лифта, обведет глазами вестибюль и заметит его. Он и увидел это — так, как хотел. Борзунов вел ее под руку, и она сказала: «До того в магазине набегалась, что, думала, подняться со стула не смогу».
Гостиничный ресторан считался лучшим в районе. Не из-за кухни, которой вообще не придавали значения, а потому, что горожане находили шикарными яркие, красные тона отделки и полумрак в зале. Маленький оркестр играл не слишком громко, и все-таки из-за него разговаривать за столиками было трудно. Начали с шампанского. Борзунов скоро захмелел. Он и Белан рассказывали анекдоты, наваливаясь на стол, чтобы слышала вся компания. Белан, казалось, развлекал гостей не по долгу, а потому что сам получал удовольствие от вечера, потому что ему нравилось тут и он нравился себе, и это и было в нем хорошо. Усталость Ирины Сергеевны куда только девалась. В рискованных местах она говорила: «Ну вас! Вы просто невозможны!» Борзунов тотчас же сжимал ее руку: «Извини, Ириша». Она не следила, как дома, за его тарелкой: «Это тебе можно» — или: «Это тебе нельзя»,— а позволяла ухаживать за собой и просила: «Немножко еще шампанского» — или: «Воды самую капельку», спрашивала, что означают незнакомые названия блюд в карте, и Борзунову лестно было показать себя знатоком. Белан тоже порывался объяснять, но на него Ирина Сергеевна внимания не обращала, а Борзунова слушала очень серьезно, смущая его немигающим взглядом широко открытых светлых глаз, а то вдруг медленно скашивала их на Юшкова, будто хотела что-то сказать ему. Улучив минуту — Борзунов хохотал над неприличным анекдотом Белана, тот скромно щурился, довольный эффектом,— Ирина Сергеевна легонько хлопнула по руке начальника и поднялась: «Ну вас. Юрий Михайлович, потанцуйте со мной, пусть они себе говорят что хотят».
Танцуя, она время от времени сжимала его руку. Он понимал и видел все. Понимал, как трудно ей делить внимание между ним и Борзуновым, дозировать свои взгляды и улыбки так, чтобы не вышло ни больше и ни меньше, чтобы Борзунов не получил бы права на надежду, но и не был бы обижен, чтобы не выглядеть ни слишком польщенной и счастливой, но и не слишком скучающей и неблагодарной. Понимал, что ей для самоуважения необходимо верить в его, Юшкова, чувства, потому что иначе превратится в муку этот, может быть, самый радостный за многие годы вечер. Он знал по себе, как нелегко сохранить эту способность радоваться. Поскольку сам он радоваться почти не умел, ничто не вызывало у него большего сочувствия, чем мужество этого рода, даже если оно и держалось на самообмане и позе, даже если оно и не мужеством было, а чем-то другим, о чем не хотелось догадываться. Поддерживая ее игру, он сказал: «Давай уйдем отсюда» — и она повела взглядом в сторону их столика: мол, хорошо бы, но как?..
Потом она танцевала с Борзуновым. Потом отказывалась танцевать, жаловалась, что очень устала. Борзунову показалось, что Юшков обойден его вниманием и обижен, и он, сгибаясь над столом, лил в бокалы водку и кричал, перекрывая оркестр: «Михалыч, давай с тобой!» «Э-э, без меня?!» — кричал Белан, а Борзунов отмахивался: «Без тебя! Я вот с Михалычем...» «Не выйдет без меня!» Ирина Сергеевна смеялась: разошлись мужики. Ресторан закрывался, Белан уговаривал еще куда-то ехать, что-то обещал Борзунову: «...сейчас возьмем такси и вчетвером... гитара... ну что мы, только раздразнились здесь... в дороге отоспитесь...» Борзунов размахивал руками и порывался кого-нибудь обнять, хотел бежать за такси, это уже было в вестибюле, и зеленые огоньки свободных машин горели совсем рядом за стеклянной стеной. Но тут Ирина Сергеевна заявила, что идет спать, и потянула Борзунова за рукав к лифту. Юшков знал заранее, что никуда они не поедут и так все и кончится. Они с Беланом тоже поднялись в лифте, проводили гостей в номера, попрощались, и Белан сказал: «Ну, Юра, теперь ты можешь забыть про Черепановск. Весь Союз оставят без стали, а тебя обеспечат».
В середине следующего дня Борзунов и Ирина Сергеевна улетели в Москву, так и не повидавшись с Юшковым.
Вечером Юшков и Ляля пошли смотреть свое будущее жилье. В кооперативе неподалеку умерла одинокая женщина, освободилась однокомнатная квартира, и Лялина мать устроила так, что квартира досталась им. Ляля позвала с собой и Аллу Александровну.
Дом был панельный, пятиэтажный, как и все вокруг. У подъезда сидели бабки, проводили их взглядами. Бабки знали, что это идут смотреть квартиру умершей соседки. Женщина, у которой по должности хранились ключи, открыла дверь на пятом этаже. В пустой чистой комнате стояли две табуретки, оставленные наследниками за ненадобностью, да торчал у подоконника наконечник телевизионной антенны. Тот, кто вынес вещи, видимо, прибрал всюду и вымыл полы, квартира казалась новой. И тем заметнее был каждый отпечаток чужой жизни: гвозди вместо крючков, заглушка вместо одного из кранов. Полки в стенном шкафу были устланы номерами «Автозаводца» и чистыми бланками техдокументации. Вот и все. Да две табуретки посреди комнаты, на которые, видимо, ставили гроб. «Тут ей все брат делал,— сказала женщина с ключами, заметив, что Юшков смотрит на заглушку.— Такой уж человек хороший. У нее за свет было недоплачено, так он доплатил». Алла Александровна вздыхала, говорила, как страшно, наверно, остаться вот так одной, и зачем, мол, тогда жить, и никто не вспомнит, кто-то даже порадуется, что освободилась площадь... При ней можно было жить только ее эмоциями.
Она, конечно, увлеклась: тут хорошо бы это поставить, здесь это... Спохватывалась: «Лялечка, вы не обижаетесь? Я ведь просто фантазирую. Все будет, как вы захотите...» Но стоило Ляле предложить что-нибудь, доказывала, что так будет плохо, и предлагала свое. И Ляля тотчас соглашалась.
Ужинали у тещи. Сидели все на кухне. Теща радовалась: устроила без очереди квартиру, внесла за нее деньги, договорилась о мебельном гарнитуре. Алла Александровна заметила: «Тяжело им будет отдавать такой долг». Теща смутилась: «Никто же не торопит, когда смогут, тогда отдадут, а нет, так и без них разберемся». «Конечно, они отдадут»,— сказала Алла Александровна, словно успокаивая сватью, и всем стало неловко. Она все говорила правильно, и тягостное чувство, которое возникало от ее слов, никто, кроме сына, не ставил в вину ей. Все знали, что сама она отдает последнее, тратит на сына и невестку все, что может выкроить из учительской пенсии. Теща, уже чувствуя себя виноватой, сказала: «Ну, слава богу, что хоть своя крыша есть. В очереди-то лет пять можно было прождать». «Кто-то и ждет»,— ответила Алла Александровна.
Ее в этом доме побаивались. Когда обсуждалось, где устраивать свадьбу — гостей набиралось все-таки полсотни,— она сказала: «Может быть, не стоит так пышно? Соберемся, может быть, в семейном кругу?» «Почему же?» — насторожилась теща. Алла Александровна тонко улыбнулась: «Ну, все-таки... им уже по тридцать лет». Теща ей этого, конечно, не простила, а Ляля сказала: «Ты что же, мама, думаешь, Алла Александровна меня уколоть хотела? Просто не подумала, что мы можем обидеться».
И вот когда пили на кухне чай и Алла Александровна нахваливала варенье, спохватившись, что ни за что ни про что наговорила хозяйке неприятностей, и стараясь сгладить это неумеренными похвалами, когда все радовались квартире, Ляля решила: «А мы обменяем две на одну и будем жить вместе с Аллой Александровной». Теща и Юшков переглянулись ошеломленные. Алла Александровна великодушно сказала: «Нет, дети мои. Когда вам будет нужно, я буду приходить, но родители и дети должны жить отдельно». «Правильно»,— поторопилась теща. Юшков сказал: «Да это, наверно, и трудно — обмен». «Почему же,— возразила Алла Александровна.— Две на одну всегда легче обменять, но родители и дети должны жить отдельно. Особенно с таким характером, как у меня». И посмотрела на сына. Она знала, что сегодня он сердит на нее, и знала отчего, и ему стало жалко ее.
Он думал о заглушке вместо крана и гвоздях вместо крючков в оставленной для них квартире и о том, что брат умершей заплатил за свет. Было в этой свободе от долгов что-то дразнящее его.
Позже, когда все разошлись, Ляля, стянув платье, посмотрела на отражение в стеклах книжной полки: «Почему все говорят, что у меня красивые ноги? Разве они не худые?» Им было все лучше и лучше друг с другим, Казалось, что лучше уже нельзя, но таяли еще какие-то тончайшие льдинки, прибавлялось доверия и внимания друг к другу, прибавлялось и опыта, и становилось еще лучше. Ирина Сергеевна что-то отняла... или же прибавила что-то, чего не должно было быть.
В новой квартире сделали ремонт и недели через три переселились. Саня Чеблаков дал для этого одну из машин отдела кооперации, а грузили и таскали мебель они вместе с Валерой Филиным. Пришли помогать и жены. Вселение в новую квартиру привлекает людей в городе почти так же, как в деревне строительство дома. Даже Белан хотел помогать, но его не взяли, зная, что он начнет командовать и подавит всех своей инициативой. Пока мужчины собирали и расставляли мебель и делали другую мужскую работу, Ляля и Алла Александровна готовили на кухне угощение, а Валя и Наташа отыскивали себе работу сами, помогая то тем, то другим. Все меньше становилось у них случаев, собравшись вместе, почувствовать себя прежними, и ничто не могло, наверное, быть более подходящим для этого, чем такое вот дело, нужное, приятное и несложное одновременно.
Как и прежде, Чеблаков и Юшков, дурачась, редко посмеивались друг над другом, а всегда над Валерой. Работая, они разыгрывали маленький спектакль, будто бы завидуя Валере, который, дескать, отлынивает от работы, выбирает самую легкую, а если делает что-то, то жизнь окружающих оказывается в опасности: «Осторожно, Валера собирается гвоздь забить» или что-нибудь в этом роде. Валера на шутки не отвечал, только хмыкал и ухмылялся в бороду. Валя и Ляля подначивали: «Валера, дай им как следует», а Наташа сердилась. Она и пришла не в духе, объявила: «Хочу подлизаться к будущему своему начальнику». Юшков, переводя все в шутку, будто бы не понял: «К будущему директору». «Ну, не директору,— сказала она,— а хотя бы к начальнику отдела. Кончай придуриваться, ты ж у нас как сын главы фирмы, проходящий стажировку».
Уже в сумерках повесили люстру, зажгли свет и расселись за столом на чем попало, среди чемоданов и узлов. И засиделись. Вдруг хватились, что нет Наташи. Юшков нашел ее на балконе. Облокотилась о перила, смотрела на дом напротив. Только что кончились телепередачи, и всюду укладывались спать, окна гасли одно за другим. Начинался октябрь, ветер дул западный, сырой, на балконе прохватывало. «Простудиться захотела?» — спросил Юшков. Она сказала: «Хорошо ты устроился. Молодец». Тон ему не понравился. Она жила с Валерой у своей матери, там их было человек семь в двух комнатушках. «Как черепановцы? — спросила она.— Довольны остались?» - «Вполне»,— осторожно ответил он, догадываясь, что Тамара рассказала ей про Черепановск. Наташа снова сказала: «Ты молодец. Раньше во всем отделе только и стону было что о качественных сталях, а теперь вроде и нет их. Ты всюду через женщин действуешь?» «Что значит всюду?» — насторожился он. «Всюду — значит всюду»,— ответила она. Перегнувшись через перила, смотрела вниз, в темноту. Прямые, волосок к волоску, волосы свесились, закрывая лицо. «Почему ты все стараешься задеть меня?» — спросил он. «Что ты выдумал? — Она все-таки смутилась. Откинув волосы на плечо, посмотрела на него.— Ты обиделся? Я вовсе не хотела. Настроение у меня паршивое, Юрка. Только и всего».
Через балконное окно все в комнате казалось неестественно ярким и плоским. Алла Александровна завладела Валерой, что-то рассказывала, а он, подпирая голову рукой, кивал. «Что ты там за систему выдумал? — спросила Наташа.— Томка говорила». «Я вижу, вы с ней обо веем успели поговорить»,— сказал Юшков.
Система, о которой спрашивала Наташа, была всего-навсего простым порядком, о котором забыли в суете авралов, когда жили минутой: нет стали — хватали заменитель, другую сталь, а, поскольку другая сталь нужна для другой детали, возникал дефицит там. Целый месяц Юшков и три подчиненные ему женщины составляли таблицы заменителей и получили картину, как выгоднее эти заменители использовать. Дефицит уменьшился. Саня Чеблаков на совещании у Хохлова заявил при многочисленном начальстве: «Мы собираемся внедрить у себя систему Юшкова». Кое-кто усмехнулся, но, в общем, это прозвучало как надо.
В тот день впервые Юшков ощутил недоброжелательство своего начальника. Придравшись к какой-то мелочи в бумагах Юшкова, Лебедев дал волю своему раздражению: «У нас ведь не академия. У нас одна система — обеспечить план». Чеблаков, конечно, переусердствовал: не нужно было доводить до этого. Лебедев тут же спохватился, вернул голосу прежнюю задушевность, с которой человек пожилой и опытный наставляет симпатичного ему парня, однако Юшков понял, что у него есть враг.
Лебедев был тем, чем и казался с первого взгляда,— невзрачным, не очень грамотным мужичком, тихим, осторожным и хитрым. Он даже любил показать свою хитрость особой улыбочкой: мол, мы с тобой понимаем, что это хитрость, но что поделаешь, надо хитрить. Или же, прежде чем солгать, показывал другой улыбкой, что сейчас будет лгать: а давай-ка я схитрю для смеха. Эта манера никого не обманывала и все же придавала ему в глазах собеседника некоторую безвредность: человек хитрый, не хитрить не умеет, но для меня готов сделать исключение. Хохлов покрикивал на него больше, чем на других своих подчиненных, а молодые парни, такие, как Чеблаков, перед совещанием у начальства пугали: «Ох и достанется же вам, Петр Никодимович, сегодня! Опять чуть завод не остановили!» Он хитро улыбался в ответ: «Пусть бьют, главное, чтобы не по карману». В конце каждого почти полугодия он получал выговоры, однако держался на заводе, потому что заменить его было некем: новому человеку понадобились бы месяцы и месяцы, чтобы наладить с поставщиками личные связи. Лебедев начинал тут с простого снабженца, заочный институт осилил, уже будучи начальником, и пробился благодаря своей удивительной осторожности, которая даже в походке его чувствовалась и казалась чем-то врожденным, наследственным, накопившимся за века естественного отбора.
Если не считать сказанного в сердцах словца, то неприязнь его к Юшкову проявлялась разве что в его отношении к Тамаре: «Да, Михалыч... И как нас угораздило ее взять... тут мы с тобой дали маху...» Он упорно называл Тамару в разговорах с Юшковым «твоя приятельница».
Конечно, у нее был дар возбуждать недобрые чувства. Когда по телефону требовали металл и она кричала в трубку: «Что я вам, рожу его?» — женщины в секторе ахали. Наверно, были и другие причины для неприязни. Чувствуя себя в секторе чужой, она сдружилась с Наташей Филиной. Та работала в соседней комнате. Чуть ли не каждый час просовывала в дверь голову, звала: «Томка, пошли курить». Они устраивались вдвоем у окна в коридоре, и две их долговязые фигуры на подоконнике раздражали Лебедева. Он сказал Юшкову: «Ты, Михалыч, эту свою приятельницу приструни. Все же неудобно, понимаешь, Посторонние люди ходят, а тут торчат целыми днями у всех на виду с дымовыми шашками в зубах. Когда же она у тебя работает?» Юшков пропустил мимо ушей «приятельницу», возразил: «С работой она справляется, а запретить ей курение я не имею права».— «Вот видишь,— сказал Лебедев, как бы сочувствуя,— промахнулся ты с ней крупно. Но теперь уж, раз уж взял к себе, что-то давай делай. Она мне людей разлагает».— «Я все-таки не понял, в чем она виновата,— настаивал Юшков.— В курении?» — «Она у тебя недостаточно загружена».— «Значит, я недостаточно загрузил ее работой. Учту. Но к ней у вас претензий нет?» — «Зря ты ее защищаешь,— увернулся Лебедев от ответа.— Попомни мое слово, мы еще хлебнем с ней».
Однажды Юшков отпустил Тамару на три дня. Эти три дня она заслужила. Вообще все начальники секторов давали отгулы своим подчиненным и к этому привыкли, но формально такое право было только у Лебедева. Он вызвал Юшкова к себе и полчаса объяснял, какое тот совершил преступление: «Я хочу, чтобы ты понял. Ты парень перспективный. Ты еще сам будешь на моем месте. В какое положение ты меня поставил? Табельщица подает мне докладную о прогулах, я обязан реагировать...» Юшкову надоело, он сказал: «Петр Никодимович, учту. Виноват, так наказывайте». В конце концов ему грозил всего лишь выговор. У самого Лебедева было полно выговоров, что не мешало ему считаться хорошим работником.
Тесть, однако, смотрел иначе. «Ты себя с Лебедевым не равняй,— сказал он.— Ему уже расти не надо, а тебе необходимо. Он согласен еще десяток выговоров схлопотать, лишь бы тебя своим заместителем не делать. Потому что проявишь ты себя хорошим замом — его песенка спета».
Они сидели в его кабинете, он вызвал туда Юшкова в конце дня. «Ты не должен был допустить выговор. Стоило даже на скандал пойти, заявление на стол бросить, обострить все, напугать, Лебедев не решился бы против идти. Раз и навсегда была бы ему наука. Он тебя прощупывал: снесешь ты это или не снесешь. И ты показал ему, что тебя можно бить. А раз можно, то почему же не бить? Значит, он еще раз постарается ударить».— «А как же это: за одного битого двух небитых дают?» — «Формулировка устарела. Не для наших условий. А у нас так: или ты перспективный, или нет. Перспективному должно удаваться все. В любой мелочи. У него на лбу должно быть клеймо — победитель. И с деньгами, и с бабами, и на рыбалке... и в спортлото ему должно везти!.. Ну, допустим, разве что в спортлото можешь позволить себе рубль проиграть. Люди должны быть уверены, что тебе все удается, что ты неуязвим. Вот так. Замом мы тебя, конечно, сделаем, но теперь из-за выговора придется подождать с этим. Плохо, Юра. Время терять нельзя, я не знаю, что завтра может случиться».
Хохлов не поднимался из-за стола по десять—двенадцать часов в сутки. Загорелое лицо рыбака и короткие толстые, руки создавали ощущение здоровья, но уже дважды его увозила из кабинета инфарктная бригада.
Приказы по отделу вывешивались на специальной доске в коридоре. Над выговорами обычно пошучивали: одним больше, одним меньше, это, слава богу, не лишение премии. Бумажки желтели на стене, не привлекая внимания. А тут читали, перешептывались, а то и подходили с сочувствием, которое предсказывал тесть: «Что это Лебедев? Сдурел? На какую ногу ты ему наступил, Михалыч?» Табельщица затащила в угол, шепотом оправдывалась: «Я не хотела писать докладную. Петр Никодимович мне велел».
Наташа Филина сказала: «Ты странно себя ведешь. Что ты торчишь в отделе допоздна? Лучше бы Лялю в кино сводил. Зачем в командировках из кожи лезешь? Ты вообще не должен ездить в командировки. Не умею, мол, я этого — и все. От тебя одно требуется: рассказывать Лебедеву, как ты с тестем в выходной на рыбалку ездишь. Лебедев тебе про командировку, а ты ему про рыбалку с тестем. И больше ни-че-го. Я, мол, дурачок. У тебя с юмором как?»— «Как с рыбалкой,— ответил Юшков.— Не любитель. Я уж как-нибудь без него».— «Ишь ты,— сказала она.— Шикарно хочешь жить. Ну смотри».— «У меня к тебе просьба,— воспользовался он случаем.— Ты не могла бы бросить курить?»
Она поняла, усмехнулась: «Начальство недовольно? Пусть терпит. Мы с Томой на самых маленьких должностях, платят нам слезы, работаем мы хорошо — что он нам сделает?» — «Ты права,— пришлось согласиться Юшкову.— Я это так. Курите себе на здоровье».— «Тамару совесть мучает», — неожиданно сказала Наташа. Увольняться хотела из-за твоего выговора. Еле я отговорила. Дело ведь вовсе не в ней, правда? Скорее наоборот, ей из-за тебя достается». Все она понимала. Юшков спросил: «Тогда зачем ты ее отговариваешь?»
После ноябрьских праздников его послали на Орско-Халиловский комбинат. Командировка была безнадежной. Лебедев сказал: «Все пять вагонов тебе не дадут, но хоть два привези». Юшков достал три вагона. Потом Чеблаков рассказывал ему про совещание у Хохлова: «Лебедев говорит: мол, нет у него людей. Я говорю: а Юшков? Юшков, говорит, еще только через год-другой станет снабженцем, я вот его послал на Орско-Халиловский комбинат, так он только три вагона привез из пяти... Что у вас тут делается, старик?»
Он и Белан появлялись у Юшкова после четырех, когда расходились по домам женщины. Все трое привыкли пропадать на заводе допоздна и, прежде чем заняться делами второй смены, любили посидеть в комнате Юшкова. В эти полчаса-час с ними что-то случалось, будто возвращались студенческие времена. Казались смешными такие анекдоты, которые потом, пересказанные другим, вызывали лишь неловкую улыбку. Заражались шахматной горячкой, пятиминутными «блицами», ловили друг друга на зевках, спорили, «взялся» или не «взялся», и терзались проигрышами. К ним повадились другие парни из отдела, двое-трое всегда торчали, болели за Юшкова как за своего и хлопали себя восторженно по коленкам, когда острил Белан. Иногда заглядывали Наташа и Тамара. Белан окрылялся. Сострив, поглядывал на них. Рассмешить Тамару ему не удавалось. Она знала, что он старается ради нее, и знала, что, когда задерживает на нем немигающий взгляд, он конфузится. Он дерзил, за глаза говорил о ней скверно, но зависел от нее, и это все чувствовали. Рядом с высокой девушкой он всегда помнил о своем маленьком росте и ничего не мог с собой поделать.
Изредка захаживал Лебедев. Склонялся над шахматной доской, подсказывал Юшкову и покрикивал: «Дави его, Юра! Так его!» В этот час и он позволял себе как бы оказаться вне заводских забот и рангов, за чертой, где нет уже начальников и подчиненных. Чеблаков пользовался этим: «Никодимыч, скоро будем замачивать нового зама?» Лебедев отгораживался своей непробиваемой улыбочкой, мол, дай-ка я схитрю: «Вот иди ко мне на место Михалыча начсектором, тогда я сделаю его замом».
Юшков и Чеблаков все ближе сходились друг с другом. Работа давала им теперь достаточно для общения, которое прежде было пресным без шуточек над Валерой. Жизнь Валеры в конструкторском отделе, где мало зарабатывали, по всякому поводу разыгрывали друг друга, ценили острое слово и хороший характер, дружно объединялись против начальства,— вся эта жизнь во многом походила на студенческую, да и сама работа за чертежной доской была как бы продолжением студенческой работы, и Филин сохранил свои студенческие привычки и понятия, а Чеблаков и Юшков уже жили другой жизнью и с Валерой у них понимание терялось.
Неожиданно он стал начальником. Ушел на пенсию главный конструктор, пошли по ступенькам перемещения, и Валера оказался начальником бюро. Чеблаков дурачился, приставал к Наташе, чтобы Филин отметил событие в ресторане. Она удивила приятелей, рассердившись: «А ты свои повышения отмечал? Почему мы должны?»
Теперь Юшкову приходилось вечерами слушать про Лялины страхи. Прежний ее начальник казался незаменимым. Ему пообедать некогда было, торопливо жевал принесенные из дома бутерброды, не замечая, что ест, впившись глазами в какой-нибудь чертеж и дергая движок логарифмической линейки. Влезал в каждую мелочь, проверял каждый лист, оставался в отделе после рабочего дня, жена звонила ему из дома, а он не поднимал трубку. И что же? Пришел вместо него Валера и ничего не делал. Ляля притащила ему лист на проверку, он прищурился: «Что я буду портить глаза над твоими листами? Я тебе доверяю». «Ты все ж посмотри,— упрашивала она.— Я так не привыкла». Он отодвинул ее листы со стола: «Сама грамотная».
Она ждала беды, но все шло не хуже, чем раньше.
А в отделе снабжения появились слухи, что скоро будет новое начальство. То ли Лебедева снимут, то ли дадут ему заместителя. Случилось же вот что: освободили от высокой должности человека пожилого и болезненного, искали ему местечко, где он мог бы спокойно тянуть до пенсии, и тут-то Лебедев вовремя напомнил директору, что такое место у него пустует. Хохлов ничего не мог сделать: его мнения не спрашивали.
Юшков ничего не знал. С какими-то бумагами вошел к начальнику, а тот усадил его и стал жаловаться: «Заместителя мне дали. Человек неплохой, но помощи, честно говоря, я от него особо не жду. А я ведь надеялся тебя замом сделать... Хотя ты бы, наверно, не задержался тут долго». «Куда же я делся бы?» — спросил Юшков, «В науку тебе надо. Где перспективы. Системы придумывать. Тебя тянет на это дело». Юшков усмехнулся. «А у нас тебе что? — сказал Лебедев.— Особенно теперь. Заместитель новый до пенсии сидеть намерен, все десять лет, да и я помирать вроде не собираюсь». «Предлагаете уходить?» — не поверил Юшков. Лебедев обиделся: «Разве ты так понял, что я тебя гоню? Где я такого начсектора найду? Нигде не найду. Но ведь и тебе расти надо. Я ж могу понять по-человечески. Рыба ищет, где глубже. Так что препятствий, если что найдешь себе, чинить не буду».
А ночью странная мысль поразила его: Валера Филин на его месте давно бы уже стал заместителем.
Он хорошо представлял Валеру в отделе: ухмыляется в бороду и ничего не делает. Все его любят. В Черепановске ничего бы не добился, вернулся бы пустым, и больше бы его в командировки не посылали. Лебедев поторопился бы найти пронырливого парня на его место, а Валеру в угоду Хохлову тут же двинул бы в свои заместители. Вот уж был бы безопасный для него заместитель. Наташа была права: только разговоры о рыбалке с тестем, больше ничего.
Он подумал, что этому не так уж трудно научиться. Главное, что теперь он все понимает и, значит, все теперь пойдет иначе.
Утром же звонил телефон, мужские голоса в трубке требовали металл, надо было разбираться, громоздились на столе папки, завязанные тесемочками, в скоросшивателях прилипали друг к другу листки папиросной бумаги с едва различимым слепым-текстом, взволнованная и потная Марья Григорьевна роняла карандаши, писались письма, заказывались междугородные разговоры, и не помнилось, не мыслилось понятное ночью, будто бы можно все это не делать. Требовался начальник автоколонны в автобусный парк номер два, требовались мастера в цехах, СКБ-3 приглашало на работу инженеров-конструкторов всех категорий, но жизнь уже определилась в чем-то основном. Уже поздно было начинать сначала, уже существовал долг за квартиру и уже не работала беременная Ляля; уже не тянуло ехать куда-нибудь далеко, где никогда не бывал; и пять лет спустя он работал на том же месте.
Глава четвертая
Сашкино четырехлетие решили отметить на даче. Закуски готовили дома. Белан взялся отвезти их на машине. С пяти утра Ляля, повязавшись передником поверх ночной рубашки, смолила кур на газовой плите, варила овощи и яйца, и квартиру заволокло чадом. В комнате Юшков втискивал в баулы и рюкзак бутылки, консервы, буханки хлеба и трехлитровые бутыли с соленьями. Вот-вот должен был приехать Белан, куры только начали подрумяниваться в духовке, в баулы ничего уже не лезло, и тут еще явился Игорь Кацнельсон. Ляля, натянув халатик, выскочила из кухни, ошалело улыбаясь: «Игорь, давно вас не видно было».
Год или больше она вынуждена была терпеть Кацнельсона, а так как душевной раздвоенности не переносила, то и старалась полюбить того, с кем приходилось смиряться. Юшков уже знал: чем меньше ей нравится человек, которого она должна привечать, тем приветливее будет она улыбаться, внушая себе приязнь. Он сказал: «У тебя что-то горит». Убежала, еще раз улыбнувшись гостю. Переигрывала.
Игорь Кацнельсон работал мастером на сборке задних мостов. Мастеру нужна луженая глотка, а он был тихим и болезненным. В институте отличался как аналитик и эрудит. Юшков бывал по делам снабжения на его участке и однажды увидел там на обкаточном стенде задний мост, облепленный пьезодатчиками. Тонкие проводки тянулись в конторку мастера, к осциллографу. «Шумомер?» — спросил Юшков и угадал. Обкатчик, заправляя мост маслом, ухмылялся. Они, обкатчики, о работе шестерен судили на слух, по шуму: стучат, не стучат,— и не ошибались. С идеей шумомера Кацнельсон носился давно и наконец сумел заинтересовать ею кандидата наук из Политехнического, того самого Шумского, который так подвел Юшкова. Шумскому прибор мог пригодиться для докторской диссертации. Однако тратить на него время Шумский не собирался. Он достал Кацнельсону осциллограф и пообещал, если прибор получится, поговорить о заочной аспирантуре на кафедре. Кацнельсону этого было достаточно, чтобы начать работу. Понадобилось для прибора — взялся изучать электронику. Юшков в электронике не разбирался, а ухо у него оказалось не хуже, чем у старого обкатчика, диагноз по шуму он ставил безошибочно. У него тут же появились свои идеи по диагностике, выложил их однокурснику и не заметил, как втянулся.
Ляля не могла этого понять: ну сделают они с Кациельсоном прибор — и что будет? Он сказал: «Считай, что я езжу на рыбалку». Казалось, что самое главное у них с Кацнельсоном есть: они нашли человека, которому нужна настоящая работа. А уж работать-то они оба могут сутками. Изредка Шумский появлялся на участке и торопил: «Давайте, ребята. Вы попали в струю, сейчас всюду занялись шумомерами, сейчас самое время». А потом охладевал, начинал избегать их и, бывая на заводе, не появлялся на сборке задних мостов. А потом снова начинал торопить.
Шумомер откликался на все шумы, даже подшипники стенда он «слышал», а до диагностики и через год было так же далеко, как вначале. Потому что каждый их шаг вперед приносил лишь новые вопросы, и, отвечая на них, приходилось уходить от главной задачи в сторону, строить новые приборы для побочных исследований, а те в свою очередь рождали новые вопросы, и дело начинало казаться безнадежным. Будь они институтскими работниками, все это имело бы ценность исследования, но им нужен был только окончательный результат. Несколько раз они упирались в тупик и начинали все сызнова, и наконец Кацнельсон сказал: «Тут лабораторное оборудование нужно, вдвоем кустарно это не осилить, надо кончать». Они сидели в его конторке, был обеденный перерыв второй смены, за стальной стенкой «забивали козла», последний вариант их прибора лежал в углу среди масленой ветоши, болтов и гаек, развороченные его внутренности торчали в разные стороны — трубки, панели, проводки с датчиками,— Юшкову был противен высокий, бабий голос Кацнельсона, но тот был прав. «Ну и черт с ним»,— согласился Юшков, удивляясь своей способности всю жизнь делать одну и ту же ошибку — увлекаться работой. С тех пор они с Кацнельсоном не виделись.
Кацнельсон, озадаченный улыбками Ляли, топтался у порога. Все, что не поместилось в баулы и рюкзак, громоздилось посреди комнаты. Влезая в джинсы, Юшков сказал: «Вот тебе инженерная задача — куда рассовать все это добро». Он понимал, что гость пришел по делу и, наверно, их прибор срочно понадобился Шумскому.
Он угадал: у кандидата теперь свет клином сошелся на их работе. Два дня тот просидел в конторке Кацнельсона, понял, что без лаборатории им не обойтись, и предлагал теперь Юшкову место то ли лаборанта, то ли рабочего на сто рублей.
«Ты бы согласился?»— спросил Юшков. Кацнельсон сказал: «Он говорит, ты когда-то хотел». Ляля притихла на кухне, слушала. «Главное — зацепиться»,— заметил Кацнельсон. «Тогда у меня не было семьи,— сказал Юшков.— А теперь долг за квартиру». Он старался не смотреть в кухню. «О деньгах не беспокойся,— подала голос Ляля.— С долгом нас не торопят». «Советуешь соглашаться?» — усмехнулся Юшков. Она погромыхала кастрюлями. «Конечно. Ты всегда этого хотел».
Кацнельсон чувствовал неприязнь хозяйки и понимал ее. Он знал, как живут на сто рублей. Не хуже Юшкова он знал, что от этого места — то ли лаборанта, то ли подсобника — к самостоятельной работе пути нет. Почти наверняка. Но у него были идеи, они не давали ему покоя, и отказаться от них было трудно. «В конце концов,— честно признался он,— Шумский мог бы и получше что-нибудь придумать». «Зачем ему думать, если на него бесплатно работают?» — сорвалось у Ляли. Мужчины промолчали. Она поправилась: «Дело не в деньгах. Неприятно, когда вас считают дураками». «Ты права»,— сказал Юшков. Ляля расстроиларь: «В чем права? Всегда ты так. Я тебе советую соглашаться. Конечно, тебе надо идти в институт».
Кацнельсон наконец сообразил, что накалил обстановку. «Я бы не согласился»,— соврал он. Юшков зло рассмеялся. Он сам не знал, на кого сейчас злится. «Брось, Игорь. Конечно, нас считают дураками. Нужно быть идиотами, чтобы клюнуть на это. Но ты бы клюнул. И не потому, что здесь можно использовать данные богом извилины и все, что нанизал на них институт. А потому, что без дела у тебя начинает дергаться глаз». «У меня никогда не дергался глаз»,— сказал Кацнельсон. «Разве? — Юшков пожал плечами.— Мне все же кажется, что-то у тебя дергается. Но у меня-то точно ничего не дергается. И я на хлебный мякиш не клюю».
Ляля вышла из кухни. Глаза были красные — она резала лук. «Я же знаю, потом ты будешь считать, что я виновата. Ты сам отлично понимаешь, что тебя эксплуатируют, а потом выбросят, ты вовсе не из-за денег отказываешься, но тебе обязательно надо, чтобы я оказалась виновата. Обязательно же на меня свалишь!» Высказалась и закрыла за собой дверь. Он знал, что не на него она досадует, а на себя, и все же не мог не раздражаться. Это был заколдованный круг. Каждый досадовал сам на себя, и каждый говорил другому правду о нем. И оба из-за этого раздражались.
Кацнельсон заторопился, стал прощаться. Ляля выскочила к нему, наверстывая упущенное гостеприимство: «Игорь, ты уже уходишь? Как же так! Расскажи хоть, как дочка!..» Разогнавшись, уже не могла остановиться: «Сашке сегодня четыре года, может быть, заглянешь к нам на дачу с Надей, а? Как было бы хорошо!» Кацнельсон горбился, бормотал про дела, она сокрушалась: «Вот жалость... Всегда у тебя так... Ну, может, как-нибудь все-таки постараешься, Игорь?..» Столько от нее и не требовалось. Закрыв дверь, она сказала: «Рубашку наконец надень. И... ты брился?» — «Брился».— «Что-то не видно».— «Что ж поделаешь»,— сказал он.
Тут и вправду ничего нельзя было поделать. Потому что шло — он заранее это знал — сравнение. Она ждала Белана и уже сравнивала их. Вдумчивый взгляд в зеркало мимоходом, взмах рук, поправляющих волосы, были для Белана. Как и салат с орехами, который она затеяла в последнюю минуту. Как и желание помириться: «Игорь очень похудел, правда? Он, наверно, болеет». Кацнельсону перепало сочувствия, а ему, Юшкову, великодушия — все из одного источника: она готовилась быть приветливой и приятной, ссора с мужем помешала бы этому.
Когда Белан впервые пришел к ним, Ляля бранилась: трепло, фанфарон, где Юшков только выкопал такого! Возмущение ее и выдало. Если с Кацнельсоном она внушала себе приязнь, то тут наоборот — убеждала себя, что Белан ей отвратителен. Юшков возразил тогда: «Что-то в нем есть». «Да,— тотчас согласилась она.— Он знает, чего хочет». Это для нее было очень много: знает, чего хочет. Все из-за того же прибора, с которым муж возился, как ребенок с игрушкой. Это шло сравнение. Потом оно все время чувствовалось. «Конечно, он умеет себя подать» значило «ты не умеешь». «Умеет жить весело» значило, что они жили тоскливо. А потом и ревность появилась: «У него, конечно, полно женщин». Это нельзя было назвать любовью. Шел простодушный баланс в графе «убытки».
Услышав звонок Белана, она юркнула в ванную. Мужчины долго ждали ее. Белан на кухне удивлялся салату, Юшков сказал: «У нее проснулось честолюбие». Она вышла, готовая к дороге, пряча руки за спину, потому что они были красные от воды. Перетащили припасы в машину и поехали. Становилось жарко. Пока выбрались из города на шоссе, кузов «Жигулей» нагрелся. Ляля беспокоилась, что прокиснут в кастрюлях салаты. Юшков снова — привязалась фраза — сказал: «Проснулось честолюбие». Белан сосредоточился на дороге: «О, женщины... они такие...» Ляля сказала: «Кто-то в семье должен быть честолюбивым». «Ну, Юра как раз...» — возразил Белан. Она нехорошо засмеялась: «Юра-то?» Белан кивнул: «Мужчины... они...» Дорога поглощала его целиком. Ляля не понимала этого: «Что мужчины?» «Не отвлекай его»,— сказал Юшков. Она обиделась. Откинулась на сиденье, затихла.
Дача изменилась с тех пор, как в ней поселились Сашка и Алла Александровна. Алла Александровна не уставала подчеркивать, что она тут гостья, искренне считала, что всего лишь улучшает то одно, то другое, всего лишь делает то, чего нельзя не делать, чтобы внучек не простудился, и не напоролся бы на гвоздь, и не посадил бы занозу, и не отравился бы химикатами, и приучался бы класть свои вещи на место, и еще что-то, и еще... И в результате все переделывалось по вкусу и желанию Аллы Александровны. Дорожка от калитки к веранде была выровнена и посыпана песком, на крыльце лежали тряпочки для ног, веранда, на которой прежде валялись ржавые банки из-под краски, мешки и садовый инструмент, теперь превратилась в комнатку, а в самой комнате вся мебель была переставлена. Доски, прежде лежавшие под яблоней у стены, лежали в сарае, который был выкрашен теперь в зеленый цвет. На месте досок принялись молоденькие кустики жасмина.
Все стало лучше, но прежние хозяева уже не чувствовали себя хозяевами и слушались во всем Аллу Александровну. Они стыдились своей лени, из-за которой пожилая и больная женщина вынуждена была столько работать, и спрашивали ее, что надо делать. «Ничего не надо,— говорила Алла Александровна.— Я ведь просто от скуки, пока Сашенька спит... Я вот хотела еще кафель отнести в сарай, а то он побьет». «Да пусть его бьет!»—смеялась теща. «Да, но он потом порежется осколками...»
Юшкову и Белану поручили убрать в сарай ящики с кафелем. Сашка вырывался из рук бабушки и терся около отца. Из комнаты слышалось мяуканье. Это в коробке из-под телевизора мяукал подарок бабушки Аллы. Бабушка считала, что пора уже прививать внуку любовь к животным. Сашка позорно боялся котенка. Его заставили подойти к коробке и погладить подарок. Но стоило котенку разинуть пасть, Сашка отскочил. «Что он тебе сделает?»— спросил Юшков. Сашка сказал: «Он хочет меня съесть». «Думаешь, он такой глупый? Ты вон какой большой, а пасть у него вон какая маленькая». Сашка умоляюще взглянул: и возразить нельзя было, и согласиться не мог. «Он привыкнет,— сказала Алла Александровна, торопливо закрывая от сквозняков окна.— Надо оставить их вдвоем и выпустить Трошку из коробки, чтобы не мяукал». Bсe послушно пошли к двери. Юшков остался из чувства протеста. Деятельная натура матери воспринималась им как семейная беда. Он старался убедить себя, что сам не такой.
Котенок лакал молоко из блюдца. Сашка сидел в углу в обнимку с подарками и смотрел на него. Котенок облизнулся, сделал несколько шажков в сторону Сашки и зевнул. Сашка оцепенел. Юшков лежал на тахте. Он притворился спящим и затаил дыхание: что будет?
Сашка улыбался, как улыбалась Ляля тем, кто ей не нравился. Он старался внушить себе любовь к котенку. Это была его защита. Может быть, он верил, что любовь, зародившись в нем, перейдет к котенку. Он задабривал котенка и для этого задабривал сам себя. Как будто чувства заразительны. А ведь они заразительны, подумал Юшков, и Ляля, внушая себе люббвь ко всем без разбора, поступает правильно, и ее все любят. А Аллу Александровну уважают, но не любят.
Котенок услышал жужжание мухи, подобрался. И сразу агрессивность его передалась Сашке. Улыбка исчезла. Но Сашка продолжал защищаться. Любовь не помогла, он строил новую оборону. Теперь он притворился, что забыл про котенка. Упорно рассматривал подаренный Беланом автомат с мигалкой. Это тоже был способ спастись. И у Ляли так бывало: забыть, не думать о неприятном, как будто его и нет. Он, Юшков, этого не умел. Он, как Алла Александровна, думал о неприятном раньше, чем оно начинало угрожать: разобьется кафель, поранит Сашку, кафель надо убрать...
А Сашка, притворясь, что не думает о страшном звере, следил за ним боковым зрением. Котенок поднял голову, отыскивая муху. Она полетела к окну. Он устремился туда, пригнув голову, вытянув морду, прижимая к полу хвост. Так ей и надо, чтоб не жужжала, когда следует затаиться. Сашка теперь наблюдал за охотой как зритель, находящийся в безопасности. Кажется, он уже болел за котенка. Конечно. Кто же играет в жертву, каждый играет в охотника. Юшков схватил победившего сына на руки и вынес из комнаты на солнце.
Ляля показывала Белану новые туфли. Поворачивалась то одним боком, то другим. Белан перевел взгляд с ее ног на Юшкова. «Да,— сказал солидно, как бесстрастный судья.— У нас таких не купишь». Безразличная ленца в голосе не обманула Юшкова. «Юра ничего в этом не понимает»,— сказала Ляля, целуя Сашку. Жар, с которым она целовала тугие и красные щеки, тоже показался преувеличенным. «Что я не понимаю?» — спросил Юшков. Белан ответил: «Женскую красоту».— Ляля воркующе рассмеялась. «Это ей Татка подарила»,— объяснила теща. Таткой звали Лялину сестру. Муж ее приехал из заграничной командировки. Алла Александровна сказала: «Дети, идите купайтесь. Мы тут без вас справимся».
Сразу за дачей начинался лес. Осины и орешник мешались со старыми елями, голубые темные лапы которых то тут, то там прорезали сплошную светло-зеленую стену. Здесь жужжали шмели и кисло пахло травой, а дальше тропка шла через редкий сосновый лес по сухой хвое, мимо зарослей черники и папоротника. Перевалило за полдень. «Сколько стоят туфли?»— спросил Юшков. Ляля ответила: «Это подарок».— «Разве у тебя день рождения?» — «Сестра сделала подарок, что тут такого? — Она старалась не рассердиться.— Ей малы. Почему тебе это не нравится?» «Потому что ты ей таких подарков не можешь делать». Она посмотрела и промолчала.
Тропка кончалась обрывом. Потянуло свежестью. Прямо под ногами, метрах в десяти внизу, среди осоки, камыша и лилий блестела зеленая вода. Тут была вытянутая рукавом бухточка. Заросшие березняком острова отделяли ее от озера, закрывали его, но близость холодной водной массы чувствовалась в воздухе.
Мелкий песок, обнажая корни крайних сосен, белой полосой сполз в воду и белел на дне, образуя коридор чистой воды. Белан, Ляля и Юшков спустились вниз, цепляясь за корни и обломанные кусты и увязая в песке. Полоска его между обрывом и водой была горячей, ветер не проникал к ней. Сюда можно было попасть только с обрыва, и другие дачники сюда не ходили, а параллельной тропкой шли дальше, где и пляж был большим, и водная гладь расстилалась на сотни метров, где скользили катера и торчали в лодках неподвижные рыбаки. Тесть тоже сидел сейчас где-то там с удочкой, поскольку далеко удаляться от дома ему сегодня не разрешили.
Однако на этот раз их бухточка была занята. Хмурые полуголые парни затаптывали костер, сворачивали палатку вялые, раздраженные: не вышла, видимо, у них ночевка, может быть, девушки бросили их — ни одной не было видно; может быть, перессорились друг с другом. Белан заговорил с ними. Отвечали ему нехотя, мол, что, дядя, остановился, не до тебя, иди своей дорогой, а он вытащил из кучи штормовок и рюкзаков гитару, потрогал струны. Кто-то буркнул: «Не балуйтесь с инструментом, товарищ». Белан сказал: «Сейчас я вам, Ляля, спою, даже если это будет стоить мне жизни». Песня была надрывной, под цыганский романс. «Четвертые сутки пылает станица, потеет дождями донская весна, содвиньте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина». Белан пел хорошо. Он слегка показывал голосом, что дурачится, и все же, видно, казался себе забубенным поручиком из, тех, которые стрелялись, проигрывая жизнь в карты, красивых и неприкаянных, он и был красив, с крупной, не по маленькому его росту, лохматой головой, с тяжелым подбородком и горбатым носом,— он любил щегольнуть иногда: «Я ведь немного еще и поляк, прошу пане». Он был сыном известного в свое время пианиста. Алла Александровна еще помнила афиши «Витольд Белан».
Юшков разделся, по горячему песку вошел в воду. Она оказалась ледяной. Он забредал все глубже и глубже. Песок под ногами кончился. Ступни погружались в мягкий, податливый ил, икры сводило от холода. Противоположный, островной берег, до которого с обрыва было рукой подать, отодвинулся далеко, заросли камыша и осоки остались позади, а вместо них открылась чистая протока. Юшков оттолкнулся и нырнул. Перехватило дыхание. Он открыл под водой глаза. Вода цвела, по всей ее толще колебалась, плясала зеленая, желтая, коричневая муть, сверкали пузырьки воздуха. Разгоняя озноб, отчаянно заработали руки и ноги. Юшков вдоль берега поплыл к озеру. Холод отпустил, словно бы свалилась с тела обжигающая скорлупа. Попадались под руки, обвиваясь вокруг них, рвались гибкие стебли лилий. Глаза стали зоркими. Берег уходил назад. Прямые полные стебли торчали прямо из воды, желтые чашки лилий колыхались на плоских, как столы, сердцевидных листьях, белый обрыв нависал над головой, над ним плыли в небе кроны сосен. Обострились запахи, напоминая о детстве, когда он также плыл в болотной свежести. Установился ритм, руки и ноги работали мерно, сами собой, и это было счастьем. Он плавал, пока не замерз.
Белан и Ляля лежали ничком на песке. Головы их почти прикасались друг к другу. Купальники были сухие. Туристы, навьюченные рюкзаками, карабкались на обрыв, поглядывали на Лялю. Рядом с коренастым Беланом она казалась совсем тоненькой. Юшков повалился на песок около жены. С него стекала вода. Ляля отстранилась. Разговор прервался. Белан посмотрел: «Ничего водичка?» Гости, наверно, уже приехали: Чеблаковы, Филины и Тамара. Ему все труднее становилось с друзьями. Год назад Чеблакова сделали начальником вместо Лебедева. Лебедев провинился не больше обычного, но директор был не в духе, а Хохлов не захотел вступиться. С Чеблаковым он ничем не рисковал. На освободившееся место тесть метил Юшкова, но тому опять не повезло: в самом разгаре была кампания по сокращению и место это сократили. И новая ступенька лестницы отделила друга. Теперь между ним и Юшковым был заместитель.
Этот компанейский дядька в прошлом занимал заметные посты и общался с заметными людьми, мог и любил порассказать о них, и единственной его целью было спокойно досидеть до пенсии. Он оказался заядлым рыбаком, это сдружило его с Хохловым, и где-нибудь на берегу Вилейки или Сожа, пристраиваясь около костерка с котелком ухи, Хохлов почтительно слушал рассказы о больших людях, которых сам видел только издали, из толпы. В общем, заместитель освоился в отделе быстро и устраивал всех. Лишнего он не требовал, и его любили. Над прибором Юшкова он посмеивался осторожно и необидно. А Чеблаков о приборе сказал: «Время одиночек, конечно, прошло, но трудовой энтузиазм у нас ненаказуем. Это, старик, лучше, чем менять в доме полы». Валя настилала ясеневый паркет поверх старого пола, и Чеблакову осточертело жить среди разора и спать на кухне.
Сопротивляясь одури, Юшков поднялся. Белан посапывал, уткнувшись в песок. Тень обрыва надвинулась на его лохматую голову. Ляля, подхватив платье, пошла к кустам. Юшков забрел в озеро, ополоснул лицо и сел у самой воды. Было тихо. Ляля стягивала купальник и пугливо озиралась. Он пытался вспомнить, какой она представлялась ему прежде. В детстве он завидовал малоподвижным и немногословным людям, в каждом из них предполагал мудрость.
У Ляли это оказалось робостью. Юшков смотрел, как она торопливо натягивает платье, и думал, что в стыдливости есть своя чудесная тайна. Такое иногда находило на него — всюду виделась тайна. Дрожал знойный воздух над камышами. За головой Ляли на белом песке обрыва, как в искусственном археологическом срезе, торчал огромный темный камень. Вода и ветер (так знал Юшков) придали ему форму человека или чудища. Может быть, это случилось очень давно, и когда-нибудь камень служил языческим идолом. Тайна языческих страхов жила в Ляле, вот что. Как-то это вошло в сознание целиком, неделимое: Ляля одергивает на себе платье, испуганно озирается, и каменный идол — то ли человек, то ли Сашкин котенок.
Юшкову сейчас казалось, что такая жизнь — робкая, медлительная, без лишних движений — единственно правильная.
Однажды у них с Кацнельсоном не ладился какой-то клапан. Тогда они считали: получится клапан — все получится. И вот ночью пришло решение. Он думал в это время о чем-то другом и вдруг увидел перед собой внутренность клапана. Отчетливо и ярко представился глухой цилиндрический тоннель, медленное и тяжелое вращение стального шара в густом темном масле, слабые блики, мягкое просвечивание в полумраке, песчинка и забоина на шлифованной поверхности, застывшая капля. Картина продолжалась мгновение и исчезла. Еще ничего не прояснилось, но он уже знал, что решение существует в нем. Он замер, усилием воли не допуская в себя новые мысли и впечатления, чтобы они не стерли ускользающую мысль. Осторожно, боясь спугнуть, вернулся назад, снова попал в то мгновение, в котором увидел клапан, и тут же вспыхнула вся цепочка ассоциаций, а с нею и решение. Каким богатством это казалось, когда утром затарахтел будильник! Как спешил рассказать это Кацнельсону! Тот умел смаковать удачную мысль, но тогда никак не мог понять. Морщил лоб, переспрашивал. Юшков горячился, объясняя, запутался и неожиданно понял, что ошибся — решения-то не было. Оно пришло через несколько дней. Он помнит, как этот клапан наконец заработал, и они сидели в пустой конторке, смотрели, кончалась вторая смена, и он выкладывал приятелю самое заветное про Лялю, про мать, про себя, в чем и себе не признавался, утром стыдно было вспомнить, несколько дней потом прятался от Игоря. Что это, безумие было? Порча?
Ляля повесила купальник на куст, а он упал в желтую ряску у кромки берега. Чертыхнулась, вытащила и, зайдя поглубже в озеро, стала полоскать в чистой воде. Не поднимая глаз, сказала: «Буди уже его. Приехали, бросили все...» Он не удержался: «Я думал, ты останешься с Сашкой».— «Могу я один раз за лето искупаться?» — «Ты купалась?» — преувеличенно удивился Юшков. Ляля бросила купальник в воду, разогнулась. «Что ты хочешь от меня?» Он хотел ей сказать, что Белан приехал к ним из-за Тамары. Не сказал. Подошел к Белану. Веснушчатая спина и ноги в рыжих волосах стали малиновыми. Дотронулся до горячего плеча. «Сгоришь».
Ждали, пока Белан приходил в себя и потом плескался на мелководье. Вскарабкались на обрыв. Почувствовали ветер и прохладу. И снова вошли в разряженный, настоенный на хвое зной.
Белан держался рукой за сердце и страдальчески морщился. «Юра, пока мы еще не пьяные, у меня к тебе разговор... последнее дело — спать на солнце, совсем одурел... так вот... как тебе с Саней работается?» — «Нормально. А что?» — «Иди ко мне заместителем». Юшков встряхнулся. Недоверчиво спросил: «Разве ты уже начальник отдела?» «Считай, что так. Вопрос согласован. Так что подумай. Тебе предлагаю первому». Наконец-то появилось что-то, подумал Юшков, самое время. Белан мог бы и не предлагать, не от него это зависело, предложил бы тесть. Главное, что-то наконец появилось.
Гости уже приехали. На скамейке перед домом сидели тесть и Валера Филин, а Саня Чеблаков рядом с ними тыкал котенка в блюдце с мелкой плотвой. «Ну вот,— сказала теща, наблюдая за ним из окна.— Будет, куда теперь улов сплавлять». «Слишком крупная рыба,— покачал головой Чеблаков и самой мелкой рыбешкой, как аршином, стал измерять длину котенка.— Три штуки — и те не влезут». «Ты хвост-то не меряй! Без хвоста!» — хохотал тесть. «Тогда и плотву будем считать без хвоста»,— строго сказал Чеблаков. Он мог позволить себе шуточки с начальством, потому что умел шутить необидно.
Валя вышла на крыльцо в переднике поверх шелкового платья, уперла в бока полные голые руки: «Ты Филину живот измерь. Бороду отпустил, теперь начал живот отпускать. Скоро меня догонит». Филин щурился и усмехался в бороду. Белан сказал: «Живот не борода, он ухода не требует». «Если бы,— сказал Валера.— Ему только давай». Все смеялись, а Белан обводил глазами сад. Искал. За вишневыми деревьями по тропке между садовыми участками прохаживались, о чем-то толкуя, Тамара и Наташа. Тамара вытащила из сумочки сигареты, протянула подруге. Валя насмешливо посмотрела: «Филин, чего жена от тебя сбежала?» «Им твои глупые разговоры неинтересны»,— сказал Чеблаков. Валя повела плечами, очевидно, изображая Наташу: «А я могу помолчать, пусть они поговорят».— «Им твои глупые молчания тоже неинтересны». Валера ухмылялся.
Хохлов пошел к вишням: «Молодежь, почему уединяетесь?» Женщины остановились. «Как жизнь молодая?»— спросил он Тамару. Смущаясь перед заместителем генерального директора, она махнула рукой: мол, не о чем говорить. Вышло резче, чем она хотела. «Что так?»— не отставал Хохлов. Она ответила: «Да все хорошо, Федор Тимофеевич». «Вот это правильный ответ,— сказал он.— Выше голову, молодежь!» Теща снова выглянула в окно: «Ну что, оголодали? Ладно уж, садитесь за стол». Белан приставил кулаки к губам, затрубил туш...
Выбрались из-за стола к вечеру. Устали, отяжелели. Кто-то предложил пойти к озеру, и потянулись по тропке по двое, по трое, вяло перекликались друг с другом. Тесть и теща позади всех вели Сашку за руки, дошли до кромки леса и сели на траву под орешником: «Нам и здесь хорошо». «Алла Александровна осталась убирать,— уныло сказала теща.— Надо бы помочь ей». Сватья становилась ее больной совестью. Юшков вернулся в дом, увел мать оттуда. «Я люблю мыть посуду — упиралась она.— Я никого не заставляю помогать мне». Но пошла с сыном. Тесть показал место рядом с собой: «Садись, Юра». Юшков сел. Голоса в лесу затихли. Куковала кукушка. «Скучно тебе в отделе?» «Ничего,— осторожно сказал Юшков.— Но все-таки пять лет на одном месте».— «А двадцать лет на одном месте?» — «У вас работа другая».— «То же самое,— сказал тесть,— все то же, под копирку, только у меня цифры больше, а у тебя меньше». «Главное,— сказала Алла Александровна,— как человек относится к своей работе. Да, Саша?» «Алла Александровна права»,— серьезно сказал тесть и незаметно для женщин показал глазами: уйдем-ка отсюда.
Они поднялись и пошли вдвоем по тропке. Внизу начинало темнеть, а наверху еще был солнечный день. «Я тебе честно скажу, что меня смущает».— «Смущает?» — «Ну не то чтобы... Я думаю, может, ты неправильно работу выбрал».— «Я не выбирал»,— сказал Юшков. На это тесть не ответил. «Все, что надо, у тебя есть... Я даже не сразу понял, в чем дело... В тебе лишнее что-то. Ты увлекаешься. Вот опять с этим прибором...» — «Почему опять?» — «Пусть не опять. Увлекающийся человек для дела не годится, блондинки ли его увлекают, приборы, системы или что другое. Завод — это машина. Тут эмоций не нужно. Увлечешься — и ты уже не работник. Одно из двух: или ты думаешь о деле, или ты думаешь об удовольствии».— «Похоже, что я думаю об удовольствии?» — «Иногда похоже».
Юшков молчал. Не бить же себя в грудь. «Хочу поставить тебя заместителем в отделе кооперации,— сказал тесть.— Белана делаем начальником».— «Это вроде не тот случай, когда можно увлечься». Тесть хмыкнул: «Ну, свинья везде грязь найдет. Это я в хорошем смысле. Все-таки замначотдела — это место, с которого человек виден». Когда-то так уже говорил Чеблаков. О теперешнем его месте. Тесте посмотрел, усмехнулся: «Все это у тебя от молодости. Я просто хотел узнать, что ты там за науку затеял». «С этим кончено,— сказал Юшков.— Да и какая там была наука. Художественная самодеятельность в клубе швейников».— «И хорошо, что кончено. Какое-то, извини, было не то впечатление. Совсем не то. Ну ладно. Я дальше не пойду.Там и без меня не скучно. А то заругается старуха, скажет: к молодым потянуло». Он пошел обратно.
За соснами открылось закатное небо. В зарослях черники двигалась, согнувшись, Валя. Собирала ягоды в пластиковый мешочек. «Пасешься?» — кивнул ей Юшков. Она сказала: «Сколько добра пропадает. Совсем все зажирели».— «Разве обязательно есть все, что съедобно?» — «А что, ногами топтать?» Отвечая Юшкову и ловко обирая кустики, она медленно продвигалась по поляне, как стрено-. женный конь.
Близко слышались голоса. Над обрывом, подобрав под себя ноги, сидела Наташа. Юшков сел рядом. Внизу он увидел Лялю. Там дурачились, стоя по щиколотки в воде, Чеблаков и Филин. Штанины у обоих были завернуты до колен. Филин что-то пытался поймать под водой, наверно, рыбьего малька. Чеблаков подталкивал его поглубже. Филин отбрыкивался. Белана там не было. Тамары тоже. «Валера,— невесело сказала Ляля,— дай ему как следует». Медленно оглядела обрыв, встретилась взглядом с мужем, и лицо стало безразличным. «Валера, не слушай ее,— сказал Чеблаков.— Ты добрый».
«Какое там,— тихо сказала Наташа.— Думаешь, ему в самом деле смешно? Он ухмыляется, потому что ответить не может».— «Что это ты? — опешил Юшков.— Шуток не понимаешь?» — «Что-то вы с Чеблаковым друг над другом никогда не шутите. Только над ним можно. Вы с Лялей пять лет женаты, вы даже не были у нас ни разу».— «Ты куда-то не туда поехала,— пожал плечами Юшков.— Просто случая не было».— «Случай бы нашелся. Но все знают, что Валера не обижается. А он не обижается, потому что трус и лентяй. Чтобы обидеться, какая-то душевная сила нужна, что-то в себе затратить надо».— «Ну, Наталья, ты зато истратила весь семейный запас».— «Живет чужой энергией. Присосется и заряжается. Нет никого рядом — сразу садятся аккумуляторы. Может сутками лежать животом вверх. Ты хоть задавись на его глазах — ему хоть бы хны».— «На тебя плохо действует алкоголь»,— постарался Юшков замять разговор. Она не слушала. «Он же и начальником бюро не хотел идти. Я заставила».— «Зачем?» — «Что зачем?» — «Зачем заставляла?» — «Тебе почему-то надо, а ему не надо?»
Нервно тряхнула головой, откидывая за плечо гладкие, прямые волосы. В красных лучах они казались почти черными. «Мне, Наташа, ничего не надо»,— сказал он. Она отмахнулась: «Оставь».— «Это в детстве бегают, высунув язык, лепят бабы из песка, мастерят, изобретают и ломают...» — «У тебя нет возможности активно жить, вот ты и прикидываешься философом. Когда у человека все идет нормально, он не философствует». Волосы не слушались. Она откинула их рукой. «Прикидываться философом — это уже кое-что»,— сказал он.
«Все друг другом довольны, никому ничего не надо. И ты туда же. Работаешь под своего. Иди еще с Валькой чернику собирай. Грибы маринуй. Уже и кабинет у нее свой, инженерами командует, а психология все та же, мелкого хозяйчика: всякую веревочку в дом тащить на черный день, будем сыты — не помрем... Чего ей, казалось бы, бояться? Стол у нее, что ли, отберут? Не отберут! В институте тройки выклянчивала, а теперь людей на работу принимает! Кует кадры! По своему образу и подобию!».— «Злая ты баба, Наталья».— «Ты даже не представляешь, какая я злая. Я никого не люблю...Томку люблю,— сказала она.— Потому что ей плохо. Я завистливая, а ей не позавидуешь».— «Может быть, сейчас ей как раз и не плохо». — «Оставь. Белан ей нужен, как рыбе зонтик». — «Тебе виднее».— «Оставь».— «Зачем же она сюда поехала?» Наташа, придерживая рукой волосы, взглянула через плечо. «Ну и ну... ты даешь».— «Не понял».— «А тебе и не надо понимать».
Он растерялся, замолчал. Она повторила: «Ты даже не представляешь, какая я злая».
Снизу к ним вскарабкалась Ляля. Юшков протянул руку, втащил жену наверх. «Секретничаете?»— вяло спросила она. Опираясь о ствол сосны, вытряхнула песок из одной туфли, потом из другой. И — не удержалась — мельком оглядела лес. В нем густели сумерки. Валя обирала кустики совсем рядом. «Чеблаков, как всегда, устроился лучше всех,— сказала Наташа.— Жена работает, а он развлекается». «Лентяи вы»,— откликнулась Валя. Наташа потянулась: «Хорошо-то как, господи». Наконец-то заметила.
Юшков поймал убегающий взгляд Ляли, сказал: «Садись». Она села. Рука упиралась в траву. Другой рукой потянула подол на колени. Отворачивалась. Она похорошела в последний год. Она это знала — пришло лучшее ее время, а было уже тридцать два, сколько осталось этого лучшего? «Ну что?» — сказал Юшков. Не поворачиваясь к нему, Ляля спросила: «Успокоился?» Ей казалось, все дело в нем. Наверно, так и было. Он подумал, что ему повезло с женой. С ней у него все получилось само собой, он ее не добивался, и повезло. Так же, как сегодня с работой, которой он тоже не добивался. Ему везет только тогда, когда он не прилагает никаких усилий для этого.
Нашел руку Ляли. Ляля моргнула. Выкатилась слезинка. Валя сказала рядом: «Однако надо бы покричать. Может, заблудились?» Губы и зубы ее почернели от ягод. Наташа истошно закричала: «О-го-го!!»
Чеблаков и Филин задрали головы. «Это ты так, Наталья? Не может быть».— «Попросите как следует, еще крикну». Ей хотелось кричать и двигаться. Чеблаков и Филин, пихая друг друга, вылезли наверх. Тоже кричали. Вышли из ельника Белан и Тамара. Тамара несла несколько маленьких боровиков. Чеблаков с преувеличенным умилением рассматривал их, и все за его спиной улыбались, ожидая его шутки. Он сказал наконец: «Ой, какие махонькие, как ты их рассмотрела, на землю, наверно, ложилась?» — и все захохотали. Потом уже любое слово и любой жест вызывали общий смех. Болели скулы, устали от смеха и, устав, наконец притихли.
Шли к даче, едва различая в темноте тропинку. Белан, отставая от всех, придержал Юшкова за локоть. «Что-то вы развеселились?» — «Психоз».— «Я думал, насчет нас что».— «Нет».— «Ты не знаешь, у нее есть кто-нибудь?» — «У Тамары? Не знаю».— «По-моему, у нее кто-то есть».
Не получилось ничего у Белана. Это было приятно. Чеблаков присоединился к ним, спросил: «Как, Толя?» «Я, ребята, кажется, до точки дошел,— удивился себе Белан.— Не поверите, готов жениться». Замолчал, ожидая, что они начнут отговаривать. «Что тебе сказать,— усмехнулся Чеблаков.— Скажу, что дурак, а ты потом женишься и ей передашь».— «Ей-богу женюсь!» Белан восторженно хватал приятелей за руки. Оба они почувствовали зависть.
На даче зажгли свет. Снова пили и ели. Гостям пора было к последней электричке. Белан неожиданно закапризничал: он поедет в город на машине. Его отговаривали, вразумляли, тянули к станции, уговаривали ночевать, а он залез в машину, включил зажигание — кому какое дело до него, он правами не дорожит, жизнью тем более. Лишь Тамара не участвовала в суматохе, спокойно ожидала, чем все кончится.
Ляля побежала в комнату за отцом, и Хохлов, оттолкнув всех от машины, выволок из нее на землю упирающегося Белана. Руки у него были сильные: на бицепсах Белана ниже короткого рукава остались синяки. Хохлов вынул ключ зажигания и ушел в дом. Белан поднялся, сказал: «Гады вы»— и побрел к станции. Гости потянулись следом. Ляля и Юшков уезжали в город вместе с ними. Ляля торопила всех: мол, надо бы догнать Белана, не выкинул бы что-нибудь еще, а Тамара сказала: «Ничего с ним не случится, не так уж он пьян». Ляля замолчала. Вскоре они увидели на перроне лохматую голову и коренастую фигуру в белой тенниске, и Валя презрительно фыркнула: «Вон... корнет Оболенский».
Глава пятая
Кабинеты Юшкова и Белана отделялись друг от друга маленькой приемной. В ней сердито скучала, размышляя о своей тридцатилетней жизни, долговязая, густо накрашенная секретарша Белана, глядела в мутное окно на железнодорожную ветку, но стоило открыться двери, начинала барабанить по клавишам «Оптимы» яростно и безграмотно. Здесь подкараулила Юшкова блондинка из Клецка: «Юрий Михайлович! Вас не узнать!» Она-то не изменилась за пять лет в своем Клецке.
Ей нужен был двигатель. Юшков только руками развел и пошел в свой кабинет к трезвонящему телефону. Звонок был междугородный. Как и в отделе снабжения, Юшков просил дефицит, только там требовалась сталь, а здесь, в отделе кооперации,— двигатели, подшипники, сальники, стекла, кожаные сиденья — все, что устанавливалось на автомобиль, но делалось не на заводе, а смежниками. И еще было одно отличие от прежней работы: за всем этим добром приезжали из автобаз, как эта вот блондинка из Клецка, как он сам приезжал, когда за теперешним его столом сидел Саня Чеблаков. Автобазам отдавали излишки, если, конечно, они бывали.
Стекла дребезжали от северного ледяного ветра. Разговаривая по телефону, Юшков смотрел в окно. Мокли в косом дожде деревянные ящики, рябило на лужах радужную пленку солярки, бетон эстакады почернел и покрылся разводами.
Пополз, выбрасывая синий дым, мазовский тягач с прицепом, остановился среди контейнеров. Соскочил в лужу дядька в плаще и мягкой шляпе. Тягач с прицепом подался назад, развернулся.
Блондинка из Клецка заглянула в кабинет, осторожно вошла. Юшков, прижимая трубку к уху, показал на стул. Села, положила ногу на ногу. Кончив разговор, он посмотрел на часы. Было пять. «Как вам здесь работается, Юрий Михайлович? — спросила блондинка.— Хоть бы меня к себе взяли». Словно бы и забыла про двигатель, увлеклась беседой с приятным человеком. Жаловалась на жизнь, открывала душу... и как-то незаметно протянула руку к своей сумке на соседнем стуле: «Да, кстати, Юрий Михайлович, мне тут подруга подарила, а домой я везти не могу: муж у меня слабовольный, ему это...» Вытащила глиняную бутылку рижского бальзама. Юшков рассердился на себя: а он-то, слушая, размяк. «Уберите, пожалуйста...— посмотрел в бумагу, которую она успела ему подсунуть,— Лидия Григорьевна». Она изобразила волнение: она от чистого сердца! И, поддаваясь ее тону, чувствуя себя чуть ли не виноватым перед ней, он лгал, что у него больной желудок и только поэтому он не может взять подарок, а она участливо спрашивала, что и как у него болит, советовала обязательно лечиться маслом облепихи и взялась достать это масло, которое нельзя купить в аптеках и которое ей присылают друзья из Алма-Аты. Обезоруживающе рассмеялась: «Не за двигатель. Просто так».
Просунул в дверь голову дядька в плаще и шляпе. Ему нужен был «лично Анатолий Витольдович». Наконец Лидия Григорьевна ушла. Дядька опять заглянул, спросил: «Будет Анатолий Витольдович?» «Обещал»,— сказал Юшков. Он собирался звонить в Бобруйск, Киржач и Подольск — по списку срочного дефицита. Между двумя звонками вклинился Белан: «Еле к тебе прорвался. Срочно вылетаю на АМЗ». «Тебя тут ждет человек,— сказал Юшков.— Говорит, нужен лично ты».— «Не из-под Полтавы?» — «Может быть. Номер украинский».— «Давай его сюда».— «Кстати,— сделал попытку Юшков.— У меня из Клецка очень просят один двигатель».— «Что значит очень просят?» — «От одного двигателя мы, я думаю, не обеднеем?» — «Юра, давай будем людьми принципиальными,— терпеливо сказал Белан.— У меня принцип: двигатели — это мой золотой запас, за них я что угодно могу получить, значит, зазря я их не даю. Если тебя этот принцип не устраивает, предлагай свой. Но не нужно беспринципности».— «Понял — засмеялся Юшков.— Даю тебе просителя».
Дядька дремал на стуле в прихожей. «Вы из-под Полтавы?— разбудил его Юшков.— Белан звонит». Тот кинулся к аппарату: «Витольдович?.. Это Пащенко, Витольдович, Пащенко!..— Поговорив, протянул трубку: — Вас просят». «Юра,— сказал Белан.— Дай этому Пащенко два двигателя. Я ему обещал. Попытается просить больше — не давай. И он мне должен кое-какие деньги, я сказал, чтобы через тебя отдал. Триста рублей».— «Когда приедешь?» — спросил Юшков. «Не знаю. Странный какой-то вызов. Еще одна просьба, Юра: по пути домой занеси деньги бывшей моей благоверной. Половину. Это значит, сто пятьдесят. Адрес знаешь? В доме, где почта, квартира девять. Света Бутова».— «Ладно»,— сказал Юшков.
Поручение еще и потому было неприятным, что семейная жизнь Белана оставалась для всех загадочной. Несколько лет назад он развелся. Однако его часто видели с бывшей женой. На расспросы о ней отвечал шуточками. И теперь тоже засмеялся: «Смотрите не увлекайтесь воспоминаниями. Школьные годы летят, их не воротишь назад». Юшков когда-то учился с Бутовой в одном классе.
Пащенко вопросительно поглядывал. «Сегодня день кончился,— сказал ему Юшков.— Двигатели получите завтра».— «Можно и так».— «Вы где остановились?» Он не знал, нужно ли помогать с устройством. Не похоже было, что Пащенко и вправду друг Белана. «Да есть тут вариант...» Связал тесемочки своей папки, сунул ее под мышку, чего-то ждал. О долге своем не заговаривал. «Документы можете здесь оставить»,— предложил Юшков. «Э?.. Можно...» Положил папку на стол, странно улыбался. На гладких, упитанных щечках потерялся крошечный носик-пуговка. Юшков, распахнув дверь, ждал, пока Пащенко выйдет, а тот моргал, переминаясь с ноги на ногу, маялся: «Я, может, папочку свою все же возьму,— забрал ее, заглянул в глаза.— Может, заскочим вместе кое-куда? По двести грамм и закусочка?» — «В другой раз. Вы ничего не хотели передать Анатолию Витольдовичу? Он мне сказал».
Пащенко развязал тесемочки папки. Среди бумаг там лежала пачка пятидесятирублевок. Юшкову словно обожгло лицо. Однако рассмеялся, небрежно сказал: «Странное же место вы нашли для денег».— «Вы их, значит, передадите Анатолию Витольдовичу?» Юшков не стал успокаивать. Пересчитал — бумажек было шесть,— спрятал в карман и распрощался. «Значит, до завтра?» — спросил Пащенко несчастным голосом. Клятвы он, что ли, ждал от Юшкова?
Дом Светы Бутовой, кирпичный, трехэтажный, старой постройки, стоял в двух кварталах от завода.
Юшков долго звонил, и никто не ответил. Он спустился во двор. Несмотря на ветер со снегом, у подъездов гуляли молодые мамы с колясками. Из подъезда вышел мужчина, постоял, поднимая воротник пальто, сутулясь от холода, и зябко крякнул. Косил глазом на Юшкова и вдруг сказал: «Юшков, что ли? Не узнаешь старых друзей? Загордился?» Голос был с той особой хрипотцой, которую издают обожженные спиртом голосовые связки. Славка еще в школе, в классе пятом или шестом, хватанул неразбавленного спирта. Он тогда водился с призывного возраста шпаной, был у них на побегушках и пил с ними, эта связь давала ему особый авторитет в школе, не говоря уж о танцплощадке и ее окрестностях.
Юшков пожал руку. Разговор начался обычный: сколько Юшков получает, какие бывают премии, как с жильем. Славка посочувствовал: «Слушай, я бы не сказал, что у тебя очень уж. У меня триста выходит, триста десять иногда, так ведь я ж уже дома порубать успел и покемарить часок, а ты только с работы идешь. Неужели за сто восемьдесят в месяц?» — «Что же мне делать? — усмехнулся Юшков.— К вам в модельный учеником?» — «Учеником больше семидесяти не выработаешь,— сказал Славка и утешил.— Зато у тебя работа живая, не соскучишься». «Это точно»,— согласился Юшков. Рядом у входа стояла телефонная будка. Юшков отделался от Славки, позвонил Чеблакову: «Можно к тебе сейчас заглянуть?» «Давай, старик,— сказал Чеблаков.— У нас тут пельмени, ждем тебя, так что не задерживайся». Юшков повесил трубку, и монета вернулась к нему. Он забросил ее снова в щель, и высыпалась целая пригоршня монет. Сколько ни пытался загнать их назад в автомат, они возвращались. «День шальных денег»,— подумал он.
Чеблаков первым делом глянул на туфли Юшкова. Хоть и побаивалась его Валя, а кое в чем выдрессировала. Пробормотал про чертов паркет, скинул с ног шлепанцы, заставил Юшкова влезть в них, а сам натянул кеды. Белые шнурки волочились по паркету. На кухне он снял крышку с кастрюли, бросил в кипящую воду пельмени. Вошла Валя в длинном халате и косынке, закрывающей бигуди. В деревне она не стеснялась, а в городе старалась выглядеть под стать своей зализанной до блеска квартире. «Юрка, тебя совсем не видно. Свинья ты». Чем старше она становилась, тем приветливее делалась с друзьями мужа. Либо он ее обтесал, либо смирилась наконец с тем, что они — сила, с которой надо считаться. Похвастала: «Я, Юрочка, на диету села. Хочу Наташу Филину догнать. Так что прошу мужчин за столом за мной не ухаживать». «Сделаем,— пообещал муж и свеликодушничал: — Только вот пельмени под водочку тебе порекомендуем».
Юшков почувствовал, что голоден. Пить не хотелось, и бутылку к общему удовлетворению отставили в сторону. «Мы вот с Саней к драконовской диете готовимся. Первая неделя — только овощи, но сколько угодно. Вторая неделя — то же, но без супов. Третья — вообще ничего. Сладкий чай по утрам. Четвертая — снова овощи, а пятая — все что душе угодно».— «Мы, пожалуй, начнем с пятой»,— сказал Чеблаков. «Ничего, что я столько ем? — спросил Юшков.— Я, собственно, шел не есть, а разговаривать, но так, пожалуй, лучше». Чеблаков посмотрел внимательно, потом со значением на жену. Она заварила чай и ушла в комнату: «„Спокойной ночи, малыши” начинается. Моя передача».
«Как тебе с Беланом работалось?»— спросил Юшков. Чеблаков отвел глаза, сказал осторожно: «Он ведь не был моим начальником. Мы были на равных». «Он берет взятки». Они кончили есть. Чеблаков свалил посуду в мойку, поставил на стол сервизные чашки и разлил чай. Сказал неохотно: «Это в каком смысле? Систематически?» — «Вот именно. То самое слово».— «Я догадывался»,— сказал Чеблаков. Теперь посмотрел Юшков: «Догадывался или знал?» — «Ну... за руку я его не схватил».— «Я хочу уйти,— сказал Юшков.— У тебя нет места?»
Чеблаков открыл холодильник. Наверно, искал молоко. Закрыл. «Не спеши, старик. Заместитель, сам знаешь, мне не нужен».— «Необязательно заместитель».— «Старик, Белан — это не самый плохой вариант. Я бы тебе уходить не советовал. Не торопись пока»,— сказал Чеблаков.
Блондинка из Клецка, Лидия Григорьевна, пришла и на следующий день. Села на стул, откинула с колена полу плаща, улыбалась загадочно: «Ну?.. Что же мы будем делать?» Сказала это очень тихо. Мол, хочешь — считай, что речь о двигателе, хочешь, — о чем-то другом. «Поздно вы встаете»,— сказал Юшков. Она поняла это как признание, что он скучал без нее. Рассмеялась воркующе, объяснила: «Я утром успела в цехах задние мосты и переднюю ось получить. Только вы вот меня не отпускаете». Вчера ее фамилия — Заяц — показалась ему неудобной для женщины, а теперь подумалось: как мило и как ей идет. Она открыла сумочку, вытащила флакончик с темно-красной вязкой жидкостью. «Облепиховое масло». «Как же вы так быстро это достали?» — «Уметь надо»,— сказала она.
Юшков выписал ей двигатель. Она сразу заторопилась. Он заставил забрать флакончик, а потом все же обнаружил его на полочке у двери.
А вот Пащенко не появился. Это было очень странно. Вечером Юшков понес его деньги Свете.
Открыл парень лет тридцати, в тяжелых очках, в замшевой куртке. Придерживая дверь, загораживал вход. «Мне Светлану Николаевну»,— сказал Юшков. Парене помедлил, пропустил.
В комнате горел верхний свет. Света сидела на низком диванчике справа. Она даже не посмотрела, кто вошел. За пустым столом деревянно застыли женщина в теплом байковом халате, худая, с темными глазными впадинами, и Славка. Оба подняли и тут же опустили глаза, словно боялись подсмотреть что-то такое, что им не полагалось видеть. За их спинами ходил невысокий лохматый крепыш, его Юшков не сразу заметил, отвлеченный поднявшимся с места молоденьким милиционером в сапогах и шинели. Милиционер прошел к окну, заглянул на улицу, и все для Юшкова стало нереальным. «Светлана Николаевна, к вам пришли»,— сказал парень за спиной. Он остановился у двери, как будто сторожил всех в комнате, чтобы не сбежали.
Света блеснула очками. Безумная мысль мелькнула у Юшкова: Белан и Пащенко заманили его в ловушку. Как в кино. Света медленно узнавала: «Юшков?» «Я, кажется, не вовремя,— сказал он, с трудом избавляясь от своей фантазии.— Толя просил передать, тебе кое-что». Она побледнела, расширила глаза, и только тогда он понял, что происходит. Света беспомощно посмотрела на парня. «Наоборот,— сказал тот.— Вы вовремя». Он, похоже, единственный тут получал удовольствие.
Лохматый крепыш остановился за Славкиной спиной, посмотрел на парня укоризненно. Он был удивительно похож на знакомого нижнетагильца, мешковатый и в то же время подвижный невысокий пожилой человек. «Забежал по пути,— объяснил Юшков Свете.— Хотел вчера и не застал. Толя просил передать, что задержится в командировке». Что-то толкнуло его промолчать о деньгах. Увидел, как Света расслабилась, обмякла. Благодарно шепнула: «Спасибо». Опять он перехватил укор «нижнетагильца» парню: вот видишь, мол, чего ты добился. «Нижнетагилец» заметил, что взгляд его обнаружили, нахмурился. Он явно был старший и по должности. «Садитесь»,— недовольно сказал парень. Юшков усмехнулся. «Спасибо, я спешу. Тут, по- моему, обыск?» Славка поднял глаза и еле заметно кивнул. «Вам уже приходилось бывать при обыске?» — спросил старший. «Нет как-то»,— сказал Юшков. «Почему же вы решили, что здесь обыск?» — «Тысячу раз в кино видел»,— объяснил Юшков. Следователь напомнил: «Вы хотели передать что-то Светлане Николаевне».— «Я уже передал...» — «И больше ничего?» — «Нет».— «Странно,— сказал парень за спиной.— Такие вещи можно передать по телефону». «Я могу идти?» — спросил Юшков. «Конечно,— усмехнулся старший.— Вы не арестованы». «Света, я тебе не нужен?» «Если не трудно, Юра,— сказала она,— побудь еще. Это можно?» «Можно»,— небрежно ответил старший, рассердившись, кажется, что Юшков занял у них много времени. Он обошел стол и оказался перед Светой. «Видите, как у нас получается: вы сказали, что никаких отношений с бывшим мужем не поддерживаете, и в ту же минуту звонят, входит человек и передает, что бывший муж задержится. Как же это?» — «Я объясню...» Света покраснела. Следователь перебил: «Ради бога. Это ведь не допрос. Может быть, вы и правы. Но как образованный и умный человек вы должны понимать, что всякая ложь может быть только во вред вам и вашему... бывшему мужу. Поэтому я вам искренне советую не мешать нам, а помогать и прошу добровольно показывать все, что нас интересует: деньги, сберегательные книжки, облигации, драгоценности, вообще ценности. Вы говорите, у вас ничего нет. Мы обязаны произвести обыск на основании этого вот ордера. Обыск — вещь неприятная, а мне не хотелось бы доставлять вам лишние неприятности. Не думайте, что для нас удовольствие рыться в чужих вещах».— «Да? — сказала она.— А я думала: удовольствие». Поднялась, подошла к секретеру за спиной женщины и капризно сказала ей: «Подвиньтесь, мне надо открыть». Женщина и Славка выбрались из-за стола. Юшков уже понял, что они тут в качестве понятых. Из секретера Света вытащила плоскую сумочку, из нее — три сберкнижки: «Кому это... передать?» «Посмотрите, пожалуйста»,— предложил понятым следователь. Они неохотно взяли книжки. Славка, не открывая, передал их женщине. «Я прошу вас ознакомиться добросовестно»,— сказал ему следователь строго. Света вернулась на диван. «Дальше»,— сказал парень. «В пальто,— вспомнила она,— кошелек с деньгами».— «Принесите, пожалуйста».— «Подайте пальто». Парень с места не сдвинулся, и старший чуть усмехнулся, бегло взглянув на Юшкова, способного, по его мнению, оценить юмор ситуации, и спросил: «Много в кошельке денег?» «Много»,— сказала Света. «Владимир Васильевич, будьте добры, подайте женщине ее пальто».
Следователь сел к столу, раскрыл кожаную папку, вытащил из футляра и надел очки, от которых всякое сходство с нижнетагильцем исчезло. Вытащив бумагу, он стал писать, по ходу дела уточняя фамилии понятых и участкового. Парень принес не пальто, а кошелек. Положил на стол. «Надо было показать понятым, где он лежал,— невыразительно сказал старший. Заглянул в кошелек.— Действительно много. Двенадцать рублей. Шутите все, Светлана Николаевна». «Завтра получка»,— сказала она. «Письма мужа последних лет у вас есть?»— «Мы не переписывались».—«Корешки телефонных счетов вы храните?» Свете снова пришлось идти к серванту. Вытащила и положила на стол пачку квитанций на скрепке. Старший показал понятым: не спите, мол, просматривайте, просматривайте. «Золото, драгоценности?» Света повернулась — очки в очки. «Все, что на мне». Все в комнате посмотрели на ее уши и руки, и она опять покраснела. «Обручальное кольцо мне не надо, а сережки покажите, пожалуйста». Она сняла сережки. «Когда я их покупала, они стоили сорок рублей».— «Оставьте их.— Следователь не притронулся к ним.— Все? Больше ничего нет?» — «Ничего». Следователь с неохотой поднялся. Открыл секретер, порылся в нем словно бы приличия ради, закрыл. Посмотрел на гэдээровский столовый сервиз за стеклом в серванте, махнул рукой: мол, бог с ним. Остановился у книжных полок. «„Всемирная библиотека", полностью все двести томов?» — «Я их не считала».— «У спекулянтов покупали?» «Это мой папа подписывался»,— сказала Света. «Папа,— повторил рассеянно следователь.— Папа...» Вернулся к столу, снова писал. Описывая сберкнижки, открывал их одну за другой, без всякого выражения отставляя подальше от глаз и глядя поверх очков. Так, наверно, писал, когда приходилось, и нижнетагилец. «Мне можно воды?» — спросил Юшков. Света посмотрела на парня. «Идите»,— сказал тот, рукой показав, что относится это только к Юшкову. «Открой сушилку, там сверху чашки»,— сказала она. «Что ж,— поднялся старший,— посмотрим спальню. Прошу». Пропустил впереди себя хозяйку и понятых.
Из кухни через две раскрытые двери Юшков видел, как следователь открыл полированную дверцу бельевого шкафа, уверенно поднял стопку простыней, словно все знал заранее, позвал: «Товарищи понятые, подойдите ближе». Вытащил толстую пачку облигаций. Света заплакала, ушла в гостиную, забилась в угол дивана, всхлипывала. Следователь посуровел. Наигранная ленца исчезла. Он закончил в гостиной свой акт, пригласил всех расписаться и отпустил понятых. Выходя, они старались встретиться со Светой взглядом, но она отвернулась.
Юшков посмотрел на часы. Была половина восьмого. «Торопитесь?»— спросил следователь. «Не очень»,— сказал Юшков. «Вы работаете вместе с Анатолием Витольдовичем Беланом?» — «Я его заместитель».— «Давно?» — «Два месяца. Это допрос?» — «Конечно, нет, вы сами это прекрасно знаете,— сказал следователь, — Тем более что так хорошо знакомы с кинематографией. Как я понял, в этом доме вы впервые». Юшков кивнул. «Но со Светланой Николаевной вас знакомить не надо».— «Мы учились в одном классе».— «Простите, ваше имя-отчество?» Юшков назвался. Следователь снова открыл свою папку, сел к столу, надел очки и записал. «Прошу вас завтра прийти в прокуратуру Заводского района в комнату восемь в два часа. Знаете это где?» — «Найду,— пообещал Юшков.— Белан, значит, арестован? Почему?» — «Вас это удивляет?» Следователь снял очки. Юшков покосился на Свету. «Мне кажется, это недоразумение». «А мне кажется, вам так не кажется»,— заметил, поднимаясь, следователь. Он пошел в прихожую. Молодой парень и милиционер вышли следом. Света покосилась недобро и осталась сидеть. В прихожей зашуршали плащи, послышался смешок молоденького милиционера и потом голоса: «До свидания» — «Не дай бог»,— тихо, чтобы не услышали там, сказала Света. Хлопнула дверь.
«Господи, какое счастье, что сына дома не было.— Света протирала очки.— Кажется, столько мы с ним горя хлебнули из-за его папочки, конца нет!» — «Зачем ты не сказала про облигации?» — спросил Юшков. «Но ведь это же все конфискуют! Ты ребенок, Юра! У меня зарплата сто двадцать рублей, ясно же, что это не мое!» Он промолчал. «Какое счастье, что Вовки не было, какое счастье,— повторяла она, потому что в чем-то должна была видеть оправдание неожиданному чувству облегчения, которое испытывала, не понимала его и отыскивала все новые причины, его объясняющие: — Может быть, и к лучшему, что уже наконец позади...»
К лучшему, что муж ее арестован? Что-то похожее на сочувствие Белану шевельнулось в Юшкове.
«...платил мне алименты с двухсот, а сам хватал сотни, и я же должна была их хранить... Ой, как ты думаешь, нас сейчас не подслушивают?» — «Кто?!» — «Ну есть же какие-то аппараты».— «Не беспокойся, для тебя таких аппаратов нет».— «Откуда ты знаешь?.. Он женился на мне из-за папы. Папа его всегда не переносил, но молчал, я же с ума сходила. Конечно, я знаю, что я некрасивая и характер у меня не очень, но пока я была ему нужна, он меня терпел. Он использовал меня и выбросил, как выжатый лимон...»
Он пытался вспомнить ее школьницей. Она и тогда любила дешевые фразы. Тогда казалось, что ее пристрастие к кукольному сделает ее жизнь очень трудной, она была тоненькой беленькой девочкой в очках. Любовь к кукольному законсервировалась в ней, но под этим обнаружилось железо.«Видел, как эта баба в сберкнижки заглядывала и облигации считала? Теперь по всему дому разнесут. Ах, мол, а когда мы у нее пятерку до получки просили, отказывала, бедной прикидывалась... Теперь у них праздник будет, что ты, такое развлечение! Они сюда как в музей сейчас бегать начнут!.. Между прочим, этот лохматый спрашивал про тебя».— «Следователь?» — «Не приходил ли ты вчера».— «Как он спросил?» — «Так и спросил: Юшков вчера к вам не приходил? Я сказала: я Юшкова десять лет не видела. В самом деле, живем в двух шагах... С тех пор как я узнала, что ты с Толей работаешь, все хотела встретиться. Вот и встретились»,— не удержалась она от фразы. «Почему они решили, что я должен прийти?» — спросил Юшков. «Не знаю. Ой, как я испугалась, когда ты вошел! Толя звонил мне перед отлетом, сказал, что ты принесешь деньги. Я думала, ты их сразу вытащишь, обомлела... Хорошо, что ты сообразил».— «Очень хорошо я сообразил,— с чувством сказал Юшков.— He знаю, откуда и взялось». «А что?» — испугалась она. Он спросил: «На что ты рассчитываешь?» — «Ну, знаешь, мы с ним в разводе. Пусть докажут, что его деньги. Я так легко не сдамся».— «Я в самом деле принес тебе сто пятьдесят рублей»,— сказал он. Она попросила: «Пусть пока будут у тебя». «Не хочу»,— сказал он. Она удивилась. Тонкие губы сжались. «Может быть, зря я тебе все рассказываю?» — «Теперь ты принимаешь меня за тот самый аппарат,— усмехнулся он,— которых здесь нет». Она вздохнула: «Нет, это какой-то кошмар».
Позвонили. Света вздрогнула. «Господи, не хватало мне стать психом». Пошла открывать. Юшков услышал женский всхлипывающий голос: «Ох, Светочка, что ж это делается! Я готова была сквозь землю провалиться! Все этот прохвост! Сколько ты из-за него вынесла!..» Юшков оставил на столе деньги и вышел в прихожую. Женщина в байковом халате прижимала носовой платок к глазам, но блестели они не от слез, а от любопытства. Света холодно смотрела сквозь очки, молчанием давая понять, что ей не до гостей, а гостья порывалась заглянуть в комнату. «Ты уж теперь не исчезай, Юра»,— сказала Света.
Промозглый северный ветер не утихал. Странно было думать, что Белан сейчас в тюремной камере, обживается там и, наверно, пытается расположить к себе соседей по нарам. Он бы очень удивился, узнав, что Юшков сегодня сделал для него. «Государство не любит, когда добры за его счет»,— сказал он Леночке с АМЗ. Ее вместе с двумя другими командированными с АМЗ Белан и Юшков пригласили в «Турист». От нее зависело, сколько АМЗ даст заводу двигателей. Ради этого вечера в ресторане секретарша Белана и еще кто-то писали заявления на материальную помощь. Леночка ластилась за столиком: «Вас, наверно, все очень любят, Толя, у вас натура доброго человека». Тогда он и ответил ей: «Все — преувеличение. Государство не любит, когда добры за его счет». Может быть, Леночка и не была глупа, просто хотелось ей сказать приятное Белану... «Юра,— говорил он,— никогда не впутывай в деловые отношения женщин. Мы с тобой не Потемкины». Отыскав две копейки, Юшков позвонил из автомата у входа в продовольственный магазин. Трубку поднял тесть. «Вы знаете, что Белан...» — начал было Юшков. Тесть перебил: «Ты из дому?» — «Из автомата».— «Утром приходи прямо ко мне в кабинет». Повесил трубку. Юшков попробовал позвонить Чеблакову, но автомат одну за другой проглотил две монеты и не соединил. Наверстывал, видимо, вчерашнее.
Не дозвонившись, поехал на авось. Застал хозяев за ужином на кухне. «Что-то случилось?» — спросила Валя. А он-то думал, что на его лице нельзя ничего увидеть. Чеблаков вытащил из холодильника вчерашнюю бутылку, взглядом спросил: будешь? Юшков отказался. Чеблаков сунул ее назад. Кончив ужин, Валя ушла из кухни. Это у них было правило: в мужнины дела она не вмешивалась. «Ну что там?» — спросил Чеблаков. «Белан арестован».— «Черт,— опешил Чеблаков.— Не может быть!» — «Как сказал мне следователь, мне кажется, вам так не должно казаться». — «Значит, точно?» — «Я сейчас от его бывшей жены. Так сказать, лично присутствовал при обыске».— «Чего тебя туда понесло?» — спросил Чеблаков. Юшков ответил: «Надо было». Чеблаков не обратил внимания. Он думал о Белане. «Отыгрался Толя... Ты знаешь, я ему завидовал. Талантов у него тьма, но он зарывался. Он всегда зарывался и играл на публику. Мы с ним недавно ехали вместе в поезде. Случайно получилось. Я — в Люберцы, он — в Подольск. Так, знаешь, ему удовольствие было — вытащить пачку денег, чтоб я видел. Поразить. Вот, мол, как его в командировку отправляют. Мол, дирекция доверяет важные дела. Двадцатку шоферу выписать через секретаря за экстренный рейс — он из этого спектакль устраивал». Юшков кивнул: «Видел».— «У меня всегда было чувство, что он рано или поздно влипнет. Хохлов знает?» — «Похоже на то. Я пробовал ему позвонить, он прервал разговор». «Струсил»,— сказал Чеблаков. «А он-то при чем?» — «Ну, старик, теперь все будем при чем... Тебя, между прочим, можно поздравить с новой должностью. Ты теперь начальник отдела». «А знаешь,— сказал Юшков.— Мне не хочется. С меня уже хватит. Встретил я вчера одноклассника. Модельщик седьмого разряда. Триста рублей. Вечерами не знает, куда себя девать».— «Ну-ну, старик. Рано ты сдаешься».— «Я здорово в эту историю влип»,— сказал Юшков.
Он не собирался говорить. Сорвалось само, потому что все время думал об этом. «Не чуди,— сказал Чеблаков.— Как ты мог влипнуть?» «Скучно рассказывать. Я им соврал, и они это понимают». Чеблаков покосился на дверь. Она была приоткрыта, он захлопнул ее и сам на себя рассердился за этот жест. «Какого же ты лешего врал?» — «Не знаю. Там было два следователя. Один здорово меня раздражал. Мне все время хотелось его злить».— «Ну, знаешь... это уж... Да ты как Белан!» — «Избыток инициативы. Самая глупая штука. Белан, мне кажется, не ради денег рисковал. Он рисковал ради риска».— «Давай, старик, без самокопания. Это у тебя, может быть, такая психология, а у него именно ради денег». - «Может быть,— сказал Юшков.— Может быть».
Утром тесть сказал: «Ты приказом назначаешься исполняющим обязанности... Хлебнем мы еще полной ложкой». В отделе никто не работал. На первом этаже, там, где было окошко табельной и висели на стенах щиты наглядной агитации, толпились кладовщицы и водители. Шумели, обсуждая новость. Все уже знали об аресте начальника. Рослый дядька, водитель Качан, втолковывал женщинам в телогрейках: «...да хоть кто! Умный, дурень — хоть кто! Один он никак не мог!» Увидел Юшкова, осекся.
Пришли следователи. Старший был из Москвы, следователь по особо важным делам, фамилия его была Шкирич. Парень в замшевой куртке и очках, Поздеев, был местным инспектором ОБХСС. Им отвели комнатку на складе резины, туда таскали скоросшиватели, там отвечали на их вопросы. Секретаршу продержали в этой комнатке час. Юшков вызвал ее потом к себе с бумагами, ждал, что она все ему перескажет, но она молчала. Ему позвонили, когда завсектором двигателей Фаина отказалась дать свои ведомости: мол, без начальника не имеет права. Юшков сказал: «Фаина, показывай все и на все вопросы отвечай как на духу». «Когда же мне работать? — в сердцах сказала она.— Меня на конвейер вызывают. Там что-то с фильтрами». «Фильтрами я сам займусь»,— сказал он и проторчал на конвейере до часа, не успел пообедать. А повестка была на два часа.
Он никак не мог вспомнить, где прокуратура заводского района. Оказалось, сотни раз проходил мимо и сотни раз видел золотые буквы на черной доске у двери, всегда закрытой. Она и на этот раз была закрыта, а входили в прокуратуру с торца дома. В комнате номер восемь, холодной и пустой, сидел в замшевой куртке Поздеев. Держался он так, словно видел Юшкова впервые и разговаривает с ним, лишь уступая его, Юшкова, желанию. «Значит, с подследственным Беланом вы знакомы давно. Как давно? Попрошу точно. Точно не помните? Странно... Что вы думаете о нем?» «Это не имеет отношения к делу»,— сказал Юшков. Поздеев одернул: «Тут, простите, я решаю, что имеет, а что не имеет отношения».— «Ничего я о нем не думаю».— «То есть как? Мне так и писать в протоколе: ничего не думаю?» — «Что писать, вы решаете».— «Послушайте.— Поздеев всерьез рассердился.— Ваш прямой начальник обвиняется во взятках и спекулянтских махинациях, и вы ничего по этому поводу не думаете? Почему в вас такая поза, понимаете, что мы, мол, тут чуть ли не виноваты? Или вы считаете, что взятки — это нормально, а мы, следователи, мешаем вам нормально жить? Может быть, Белан, по-вашему, не виновен? Тогда помогите нам установить это! Я второй день смотрю на вас и не могу понять этой вашей позы! Вы свидетель, а не обвиняемый, поймите вы! Либо вы честный свидетель, тогда вы должны помогать нам, либо вы сообщник подследственного, но тогда вы ведете себя просто глупо! Знаете ли вы Пащенко Николая Евдокимовича?» Юшков помедлил. «Пащенко... Толкач из-под Полтавы?» — «Завгар, если вы это имеете в виду. Он приезжал за двигателями?» — «Да».— «Получил их?» — «Нет».— «Почему?» — «Сказал, что придет за ними на следующий день, и не пришел».— «А если бы пришел, получил бы их?» — «Не знаю».— «Кто же это решает?» — «В отсутствие Белана — я. Но конъюнктура с запчастями меняется ежедневно. Вчера я выдал двигатель представителю из Клецка. Он мог бы достаться и Пащенко».— «Но Пащенко был уверен, что получит двигатель, иначе он не сказал бы, что придет завтра».— «Этого я не знаю».— «Он вам не давал деньги?» — «Нет».— «Не понимать ли ваш ответ как цитату из анекдота?» — «Какого анекдота?» — «Есть такой. Денег он мне не давал, потому что триста рублей, мол, не деньги. Смешной анекдот?»
Юшков растерялся. Он перестал понимать Поздеева. Зачем волынку тянуть, если тот и так все знает? Дураком же он выглядел, наверно, в глазах этого парня. Тот невинно улыбался: «Такой, видите ли, у нас, так сказать, ведомственный фольклор. Так же как «толкач»— слово из вашего ведомственного фольклора, а вы полагаете, что оно всем понятно так же, как вам...»
На следующий день следователи исчезли. Дверь на складе резины была заперта, проход к ней загромождали мешки с уплотнителями. Ключ же оставался у следователей.
За час до обеда ушла секретарша, и Юшкову пришлось самому отвечать на все звонки. Вернулась она в два, и пока он не спросил, где была, не подумала оправдываться. Показала в ответ повестку: ее вызывали в прокуратуру. И вообще держалась так, будто ей доверили важнейшую государственную тайну. Юшков не стал расспрашивать. Остаток дня она проглядела в мутное окно, даже не хваталась за клавиши, когда открывалась дверь. У пишущей машинки скопилась стопка бумаг. Юшков спросил: «Плохо себя чувствуешь?» «Нормально»,— мотнула она головой и недовольно нахмурилась, нарочито неторопливо стала заправлять в машинку бумагу с копиркбй. Он сказал: «Пока все не напечатаешь, домой не уходи». «Еще чего»,— пробурчала она. Он вышел из себя: «Не нравится тебе работа — увольняйся! Не увольняешься — работай!» «А я что делаю?» — окрысилась она. Ровно в четыре ушла, так и не допечатав бумаги.
Фаина прибегала поплакаться: «Ой, что же это делается, Юрий Михайлович!» — «Фаина, между нами. Ты знала, что Белан брал?» — спросил он, «Что вы такое говорите, Юрий Михайлович! — ужаснулась она.— Это они так могут, но вы?! Мы с вами старые снабженцы, мы-то знаем, что так любого посадить можно!» — «Но ты сама ведь не брала, правда?» Она уставилась на него, заморгала. Ушла, а ему не хотелось остаться одному. Вышел следом. Кончилась смена. Из раздевалки вывалились на лестничную клетку грузчики и водители, затеяли дурашливую возню в дверях, закупорив их пробкой мнущих друг друга тел. Истошно орали, сдирали друг с друга шапки и пытались зашвырнуть их подальше. Кто-то увидел Юшкова, и улыбка застыла. Скис, отвел глаза.
Юшков прошел по складам. Он всюду встречал такие вот убегающие глаза и пытался угадать, что каждый из этих людей мог рассказать о нем следователям.
Он провел ежедневную оперативку, потом по междугородному час звонил поставщикам и после этого позвонил Чеблакову: «Новостей у тебя нет?» «Да у меня, старик, все нормально, откуда новости?» — удивился Чеблаков. Юшков почувствовал преувеличенность этого удивления и спросил: «У тебя люди в кабинете?» — «Ушли уже все. Я сам уже в дверях был...» — «Торопишься домой?» — «Вовка,негодяй, что-то решил прихворнуть».— «Тебя никуда не вызывали?» — «Это, старик, не телефонный разговор». «Ну ладно,— сказал Юшков,— Не буду тебя задерживать». «Как-нибудь потолкуем,— голос Чеблакова потеплел,— я тебе позвоню, старик. Расхлебаюсь со своими делишками и позвоню». «Ладно,— сказал Юшков,— звони».
В пятницу утром следователи сами пришли в его кабинет. «Мы не помешаем? — спросил Шкирич.— У нас тут вопросики к вам». Они как раз мешали. В это время у Юшкова сидел завсектором электрооборудования. Он нервничал уже второй день: на конвейере кончались фары, нужно было срочно посылать человека в Киржач.
Коренастый Шкирич, одутловатый и медлительный, садился по-стариковски осторожно. Может быть, у него болело сердце и он прислушивался к нему, потому и говорил мало и движения делал лишь самые необходимые. Поздееву приходилось приноравливаться и обуздывать свою энергию, она прорывалась в нетерпении.
«Мы у вас много времени... э-э... не отнимем,— сказал Шкирич.— Нас тут заинтересовало... почему несколько человек часто обращаются за материальной помощью. Ваша секретарша, например». «Помощь оказывает завком,— сказал Юшков.— Вам надо туда обратиться». Шкирич скучно кивнул: «Мы обращались. Завком — это... э-э... особый разговор. Но вот люди, получавшие деньги, говорят, что этого требовал от них Белан и эти деньги они потом отдавали ему. Вам это известно?» — «Да».
Поздеев то ли кашлянул, то ли хмыкнул. Завсектором, который сидел, опустив голову, точно под стол собирался лезть, испуганно покосился на него. «Значит, этот факт вы подтверждаете»,— сказал Шкирич. Юшков попытался им объяснить: иначе работать он не может. Поставщики нарушают обязательства. Конечно, за это их можно штрафовать, но ссориться с ними себе дороже. Существует дефицит. Сегодня, например, в дефиците фары, их осталось на пять дней, Не достанет Юшков фары — и остановится завод. Не фары, так двигатели, не двигатели, так сальники. Вот и приходится посылать людей, гонять машины к смежникам ради какого-нибудь мешка уплотнительных колец. А значит, надо платить за сверхурочную работу, нужны деньги, а где их взять? Не всегда можно действовать по закону. Но что такое двадцать рублей, выписанных через секретаршу, по сравнению с тысячами, которые потеряло бы государство, остановись завод? Он обращался к Шкиричу. Ему казалось, что Шкирич хочет во всем разобраться, а Поздееву это неинтересно, у него одна цель — вывести всех на чистую воду. Он добавил: «Все так делают». «Ну, как все делают, мы говорить не будем,— заметил Шкирич.— А что до государственной пользы, то она не рублями измеряется. Тут счет сложнее». «Конечно, конечно,— кивнул Юшков.— Только у меня сейчас фар нет, и надо человека в Киржач посылать. Вы не подскажете мне, как это надо делать?» «Это ваша работа,— сухо сказал Шкирич.— Мне это неинтересно». «Вот я ее и делаю. И не всегда могу выбирать средства».— «А это уже цинизм».— «А мне кажется, ваш цинизм — «неинтересно» — не лучше моего. Мне даже кажется, мой лучше».— «Лучше тот, который не нарушает законов». Шкирич поднялся. Следователи ушли.
«Что же нам, без фар из-за них сидеть?» — спросил завсектором сердито.— Зря вы, между прочим, все им выложили. Все так делают, а отвечать придется нам». «С фарами решим,— пообещал Юшков.— Я пойду к Хохлову».
По телефону он у тестя ничего не мог добиться,
Да и увидев Юшкова у себя в кабинете, Хохлов посмотрел недовольно. Похоже, он вообще был не прочь забыть, что существует отдел кооперации. «У нас нет фар,— сказал Юшков.— Надо посылать кого-то в Киржач. Я ничего не могу делать, пока у нас сидят следователи. Выписать ему материальную помощь? Они как раз спрашивали меня только что, почему мы это делаем». «Они завком должны спрашивать. Помощь завком выписывает».
Юшков удивился. Боится Хохлов, это понятно, но с ним-то, Юшковым, зачем ему в жмурки играть? «Так как быть с фарами?» — «Если ты считаешь, что нужно посылать человека,— посылай. Я подпишу командировку».— «А денежную помощь ему?» — «Юра, ты начальник отдела. Ты можешь решить этот вопрос сам?..— «Нет, не могу».— «Ну, знаешь... Тогда я уж не знаю...» — «Я не просился на эту должность». «Вот что,— рассердился Хохлов,— сейчас не время для паники. Я понимаю, тебя там здорово дергают, но меня дергают не меньше. С такими вопросами ко мне не обращайся. Решай сам».
Юшков тут же из кабинета позвонил заведующему сектором: «Я от Хохлова. Выписываем тебе командировку в Киржач. Извини, помочь тебе ничем не можем, но будем живы, в долгу не останемся». «Я не могу ехать,— сказал тот.— Тут следователи назначили мне разговор». — «Когда?» — «Сегодня».— «А выезжать тебе в воскресенье».— «У меня ребенок больной».— «Слушай,— сказал Юшков.— Сколько твоему ребенку?» — «Какая разница?» — «Ты двадцать лет работаешь, ты хоть раз отказывался от командировки из-за ребенка?» — «Юрий Михайлович,— сказал завсектором.— А почему мне больше всех нужно? Никому ничего не нужно, а я должен наизнанку выворачиваться, да еще за свои деньги».— «Деньги я...» — «Не только в них дело, Юрий Михайлович. В конце концов, мне просто все надоело. Я не поеду в Киржач. У меня честно ребенок больной, Не поеду. Хотите — увольняйте».— «Черт с тобой». Юшков положил трубку, посмотрел на Хохлова: «Остается давать телеграммы. Мы уже кучу отправили». Хохлов вызвал секретаршу, велел соединить его с директором в Киржаче и предупредил: «О фарах я попробую договориться, но больше с такими вопросами ко мне не ходи».
В приемной сидел Чеблаков. Юшкову показалось, что, увидев его, друг смутился. «Хохлов у себя? Один? Тогда бегу к нему. Как у тебя, старик? — спросил скороговоркой и, не давая ответить, пообещал:— Разгружусь — позвоню тебе, потолкуем». Ясно было, что позвонит он не скоро.
На улице посветлело. Под деревьями лежал снег. Было голо, как в комнате, когда снимают для стирки шторы. Он впервые заметил, какой уныло-скучный вид был у пакгауза. Если он останется начальником, весной перекрасит все здание.
Секретарша нехотя и с опозданием забарабанила по «Оптиме»: «Вас просили позвонить».
Номер был незнакомый. Юшков набрал его и услышал щелчок: секретарша подключилась к разговору. «Вам кого?» — спросили в трубке. Он сказал: «Меня просили позвонить по вашему номеру. Это Юшков».— «Ой, Юра! Что у тебя слышно?» — «Простите,— не понял он,— с кем я разговариваю?» — «Бутова Света! Ты что, Юра! Что же ты не заходишь?» — спросила она. Он обещал. Она сказала: «Меня спрашивали про тебя».— «Кто?» — «Ну ясно, кто,— зашипела она.— Я рассказала им, что ты приносил мне деньги... Так вышло... Алло, алло, ты слышишь меня?» «Конечно, слышу»,— сказал он. «Юра, тут какие-то щелчки».— «Это секретарша на параллельном аппарате».— «Да? — сказала Света осевшим голосом.— Ну ладно, Юра. Не исчезай».
Не ждал главный конвейер. Он требовал фары, шины, двигатели, сальники. Триста семьдесят два завода делали сотни деталей для автомобиля, и достаточно было исчезнуть какой-нибудь одной, чтобы конвейер остановился. Звонил телефон, входили в кабинет люди. Кончались сальники, пришлось звонить в Бобруйск, клянчить, пока там не сказали: «Добро. Поищем. Транспорта нет, так что присылайте машину и забирайте». Секретарша бубнила по селектору: «Водитель Качан, вас вызывает Юшков, водитель Качан, пройдите к Юшкову...»
Ворвалась Фаина. Запыхалась. «Арестовали начальника сбыта на АМЗ. Я сейчас звонила туда...» — «Зачем звонила?» — «Так двигатели... Такой дядечка представительный, в орденах... Я звоню, отвечает кто-то незнакомый, я говорю, где Виктор Афанасьевич, мне говорят, я за него, я говорю, а он где, заболел, что ли? Его, говорят, не будет. А когда будет? Не будет, и все. Сердятся. Ясно, арестовали...» — «Зачем ты звонила туда?» — «Как зачем? Двигателей за ту неделю пришло только тысяча триста! Михайлыч, надо вам ехать, все связи заново налаживать».— «Я не могу сейчас ехать»,— сказал он. Она заморгала: «Так как же? Я звоню, они говорить не хотят!» — «Больше не звони. Готовь бумаги, пусть платят штраф».— «Вы что, Юрий Михайлович! — всполошилась Фаина.— Если мы так начнем, вообще без двигателей останемся. Мы когда по-хорошему, и то на голодном пайке сидим, а уж если конфликтовать!» — «Я отвечаю,— сказал он.— Будем, как положено. Готовь бумагу».
Пришел Качан, рослый мешковатый дядька в нейлоновой курточке, водитель бортового МАЗа. Ехать в Бобруйск за сальниками отказался: смена кончается в четыре, с какой стати ему возвращаться из этого Бобруйска к утру? Чего ради? За такие поездки Белан умел хорошо платить. Юшков ничего не мог обещать. «Что ж,— сказал он.— Иди. Попрошу кого-нибудь другого. Только и ты ко мне впредь с просьбами не приходи». «Зря ты так, Михалыч.— Качан расстроился.— Я против тебя ничего не имею. Но чего это я должен за других работать?» — «За кого за других?» — «А я знаю, из-за кого? Кто-то не сработал, а Качан должен спасать? Если б ты за себя просил...» — «Ты мог бы лично мне двадцатку одолжить на месяц-другой?» — спросил Юшков. Качан вытаращил глаза, суетливо полез за отворот курточки. «О чем речь, Михалыч!» — «Возьми ее себе и привези эти чертовы сальники». Качан рассмеялся: «Ловко ты... Я с Витольдовичем всегда общий язык находил. Потому что ничего плохого, кроме хорошего, от него не видел. Теперь все на него валят, а разве он один, ну скажи...» «Ни к чему этот разговор». Юшков поднялся. Пора было обедать. Качан сказал: «Привезу я тебе эти сальники, чтоб они сгорели».
В столовую пошли вместе. Решившись на доброе дело, Качан был доволен собой, откровенничал: «Раньше так не было, Михалыч. Был порядок. А теперь каждому надо дать. Теперь никто за так ничего не сделает. Он только из армии, салага, а ты ему дай, иначе шиш поедет. А я, когда из армии пришел, за восемьдесят уродовался и междугородный рейс за особое счастье почитал. Подвезу кого-нибудь за рубль — уже князь. Разбаловали народ, теперь виновных ищут. А чего искать? Каждый рвет себе сколько может. Витольдович урвал — ну и молодец. Эти мне говорят: он мне фиктивные наряды подписывал. Мы, говорят, знаем. А меня не запугаешь. У меня первый класс, я себе работу везде найду. Опять на такси пойду». «Что же не идешь?» — спросил Юшков. «И пойду. Если здесь заработать не дадут, пойду. Я думал, на заводе порядок. А тут так же, как везде».
Основной поток в столовой уже схлынул, очередь была небольшой, и за ними никто не становился. Взяли по тарелке перлового супа, биточки с макаронами и компот. Биточки эти давно уже лежали, никого не соблазнив, на хромированной стойке, остыли. «Курносая,— позвал Качан раздатчицу,— что это такое? Я ведь не в конторе сижу, я с такими харчами богу душу отдам». Молоденькая раздатчица повела глазами. «Надо было раньше приходить. Ничего уже не осталось».—«Поищи, девонька».—«Вам выбивать или нет?»—спросила кассирша. «Я вот это сейчас Дулеву понесу»,— сказал Качан, свирепея. Кассирша, седая и внушительная, посмотрела на него и крикнула раздатчице: «Галя, посмотри там две порции натуральных!» Раздатчица надулась, ушла, ворча под нос. Юшков отставил свои биточки в сторону, рядом с тарелкой Качана. Качан высыпал из кошелька на ладонь монеты, считал. «Наготовили лишнее, в выходные постоит, в понедельник сами ведь не захотите есть, верно? — сказала кассирша.— Мы же не можем рассчитывать тютелька в тютельку». «Можете,— сказал Качан.— Когда вам надо — все можете. Раньше я на рубль мог нарубаться так, что еле пузо таскал». «Раньше вы ели, что давали,— возразила кассирша.— В тарелку не смотрели». Вернулась раздатчица, швырнула на стойку две тарелки с отбивными. Столовая опустела. Девушка в белой наколке вытирала столики.
Юшков вернулся в кабинет и не выдержал, позвонил в прокуратуру. Ответил Поздеев. Юшков назвался. «Да, я узнал»,— холодно сказал Поздеев. Юшков откашлялся и сказал: «Мне хотелось бы... дело в том, что когда мы разговаривали у вас... я не все сказал». Поздеев молчал, не помогал.
Вошла Фаина. За ней другие. Начали собираться на оперативку.
«Алло, вы слышите меня?.. Я не все сказал. Я имею в виду Пащенко». Поздеев еще помолчал, не дождался продолжения и ответил: «Я знаю. Кажется, мы совершенно ясно дали вам это понять».— «Вот я и звоню вам. Надо выяснить это недоразумение».— «Я тоже так думаю,— сказал Поздеев.— Мы все выясним. До свидания». Юшков еще подержал трубку у уха, собираясь с мыслями, зная, что стоит ее положить — и оперативка начнется.
Отчитались по дефициту. Список его получился длиннее обычного. Он рос теперь изо дня в день. «Значит, так,— сказал Юшков.— Анатолий Витольдович сюда вряд ли вернется». Разговоры оборвались. Все насторожились. «Я знаю не больше вашего. Но это ясно. Значит, работать нам с вами. Сегодня фарами пришлось заниматься заместителю генерального директора. Больше такого не должно быть».
Завсектором электрооборудования молчал, словно речь была не о нем. Фаина сказала за всех: «Да тут идешь на работу и не знаешь, вернешься домой или в «черном вороне» увезут». Зашумели. Юшков дождался тишины. «Сегодня я просил одного человека поехать в командировку без дополнительных средств. Он отказался».— «Что ж мне, свои выкладывать было? — буркнул завсектором электродвигателей.— Это из каких же шишей?» — «Я вовсе не посылал вас давать взятки. Обеспечить завод фарами — ваша обязанность. Как вы это сделаете, меня не касается». «Как же не касается? — вскинулся завсектором.— Вы начальник отдела!» — «Вот именно, я начальник отдела. О незаконных действиях слышать не хочу. Если вы с работой не справляетесь, можете подавать заявление. Это относится ко всем».— «А как же работать?» — спросила Фаина. Юшков сказал: «Все. Оперативка окончена».
Поднимались, выходили молча. Были недовольны. Он и сам был недоволен собой. Сказал секретарше, где его искать, и ушел в механический цех.
Видимо, на сборке задних мостов не хватало рабочих. Кацнельсон сам закреплял крышки на колесных передачах. Маленький, худой, он едва не висел на ручках гайковерта, упирался в него плечом, и, конечно, толку от этого было немного.
С подъехавшего кара соскочил молодой парень, сгрузил ящики с болтами и сменил Кацнельсона. «Студенты помогают,— объяснил тот, вытирая руки ветошью.— А ты чего здесь гуляешь?» — «Воздухом дышу».— «У тебя какая-то идея?» — «Идей-то как раз нет».— «В общем,— медленно сказал Кацнельсон,— в сегодняшнем хаосе, когда следователи все вверх дном переворачивают, к тебе бы и прислушались, будь у тебя идея. Если бы нахватать себе запасы, набить склады дефицитом, чтобы не зависеть от поставщиков... можно было бы и иначе с ними говорить...»
Юшков только подивился такому оптимизму. Так же было и с прибором. Кацнельсон первый предвидел трудности, казалось бы неразрешимые, начинал терзаться ими тогда, когда Юшков еще полон был азарта, но живой и предприимчивый его ум начинал одновременно строить и планы преодоления этих трудностей, начинал выдавать новые идеи и увлекаться ими, хоть время для них еще не пришло. Кацнельсон перескакивал из настоящего времени сразу в проблемы будущего и жил ими так, словно в настоящем все уже было решено и сделано.
В отдел Юшков так и не вернулся и пришел домой раньше Ляли. Разогревая ужин, стоял у кухонного окна. С высоты пятого этажа он видел двор между одинаковыми панельными домами. На балконах мокло белье. Со стороны детского сада шли Ляля и Сашка. Ляля тащила сумку с продуктами. Сашка зазевался, поглядывая на мальчишек. Вот он побежал к ним, а Ляля скрылась за углом, огибая дом.
Мальчишки были старше Сашки, лет десяти. Стояли группкой у песочницы. Один был в очках, на полголовы выше других, в коротком узком пальто. Малец в зеленой куртке замахнулся на него ногой, и очкарик сделал шаг в сторону. Это была ошибка. «Зеленый» воодушевился, замахнулся второй раз. Очкарик сделал еще шаг назад. И оказался территориально вне компании. Тогда и малец в красной куртке, слепив снежок, неуверенно и легонько бросил его в ноги очкарика. Тот стал неохотно отходить к подъезду. Компания медленно потянулась за ним, лепили снежки и бросали в отступающего. Иногда только замахивались, пугая. Тот каждый раз пригибался, словно снежки летели в голову. «Зеленый» был в этой компании самый подвижный. Он вдруг схватил Сашку за плечи, раздумывая, что с ним делать, повертел его и отпустил. С Сашкой ему было неинтересно. Сорвался с места, побежал к очкарику. Тот, косясь, убыстрял шаг. «Зеленый» хотел пнуть сзади. Очкарик обернулся. Тогда «зеленый» замахнулся рукой. Очкарик увернулся и тут длинной своей ногой сам замахнулся на «зеленого». Тот отскочил и замер, готовый удирать. Секунду они стояли неподвижно. У Юшкова появилась надежда, что очкарик осмелеет, но тот, испугавшись сделанного, помчался в подъезд. И тогда все кинулись за ним. Сашка летел сзади всех. Юшков не мог видеть его лица, наверно, Сашке было и страшно и любопытно, и сердечко его замирало от радостного ужаса.
Юшков досадовал. «Зеленый» был низкорослым. Ловким, но не сильным. А могло все кончиться иначе, если бы не трусил так позорно очкарик. Таким Юшков помнил себя. Лишь много лет спустя, когда уже кончалась юность, и было третье место среди боксеров города в среднем весе, и стычки в парке со шпаной, и многое другое, лишь тогда ему удалось отделаться от страшного подозрения, разъедавшего его детство, что он трус.
Очкарик снова выглянул из подъезда. Наверно, родители заставляли беднягу гулять. Курточки заметили и снова ринулись к нему, и он тут же юркнул назад. Конечно, он с самого начала сделал ошибку. Он был сильнее «зеленого». Он должен был драться. Юшков сердился на него, хоть понимал, что драться очкарик не мог. Он не был воспитан для драки. Независимо от исхода она внушала ему ужас. Ну а если бы он победил даже? Ему бы пришлось либо командовать, либо драться всегда. Едва ли он отдавал себе в этом отчет, но победа слишком много потребовала бы от него и была ему невыгодна. Наверно, он как-то чувствовал это и потому убегал. Он хотел бы играть иначе, тихо и мирно, давая волю фантазии и воображению, которые делали его таким неловким в жизни. Ему достаточно было просто постоять рядом с мальчишками, пока родители не позволят вернуться домой к книгам...
В двери заскрежетал ключ. Юшков отошел от окна. Что может определиться в десять лет? Чепуха. Ничего не может. «Юра дома»,— услышал он голос Ляли из прихожей. Она пришла вместе с Аллой Александровной. Потому и задержалась внизу. Рассказывала, что воспитательница в саду жаловалась: Юшков самый разболтанный во всей группе. Дня нет, чтобы не подрался. Мать считала, что Сашка продукт ее педагогической деятельности, и всякий упрек ему принимала на свой счет. «Не замечала, что он разболтанный. Он просто держит себя естественно...»
Сели ужинать. Мать все рассуждала о воспитании. «Ты сам, Юрочка, между прочим, никогда не дрался». «Завтра возьму Сашку на рыбалку»,— сказал он. Мать замерла: «Ты с ума сошел?» Ляля ответила: «А вы разве не знали?» — «Нет, он шутит! В такую погоду увезти ребенка на целый день! Я просто не пущу!» Дернул черт заговорить при ней, увез бы завтра тихонько... Пришлось поклясться, что поедет без сына.
Воскресенья существовали для рыбалки, иначе Хохлов не мыслил. Были у него и друзья на эти часы, он возил их в своей машине: два отставника и молодой парень из автобусного парка. С рассветом поднялся ветер, на пологом берегу продувало насквозь, у всех не клевало. Постояли с удочками часа два, замерзли. Развели костер, варили похлебку из консервов. Хохлов, раскрыв рот, внимал рыбацким байкам отставников, плакал от смеха, слушая древние анекдоты про попадью и анекдотики парня из автопарка, вся соль которых была в том, что действующие в них заяц, лиса и медведь умели материться не хуже автопарковских водителей.
У воды тесть становился сентиментальным и, поймав по транзистору «Маяк», заставлял всех молчать: «Тише, Толкунова поет». Задумывался, иголкой хвои играя с муравьем, заползшим на прорезиненную ткань плащ-палатки. Помогал ему выбраться, рот его забавно открывался при этом и лицо становилось детским. Юшков подумал, что тут-то они поговорят начистоту. «Федор Тимофеевич,— сказал он.— Работать так, как Белан, я не могу. Сейчас это невозможно. У меня есть мысль...» «Опять идеи? — Хохлов тоскливо поглядел.— Юра, дай хоть здесь-то пожить спокойно. Не время сейчас для идей. Не дергайся ты так, перемелется — мука будет».
Конечно, он заслужил отдых в выходной. Каждый день в половине восьмого он уже сидел за письменным столом в своем кабинете и поднимался из-за него в половине восьмого вечера. Несколько шагов по коридору к директорскому кабинету, несколько шагов от машины к подъезду дома да вверх по лестнице — этим его передвижения и ограничивались. В молодости он играл в футбол, расширенное сердце футболиста ослабло и подводило его, когда случались неприятности. Подчиненные узнавали это по голосу, становившемуся глухим и еле слышным. Он мог в любое время сказать, какие материалы, машины, вагоны пришли или ушли с завода, мог сказать, что лежит, на каждом складе, никогда не видя это своими глазами. Он помнил наизусть огромные перечни, каталоги и сборники стандартов. Поражая всех своей памятью, он зато не мог вместить в нее ничего кроме этих тысяч цифр, лишенных вещественности, и потому для других неразличимых. Груз этих тысяч давил. Он уставал, если газетная статья была написана непривычным языком. Непредвиденная семейная забота или разговор, в котором он сталкивался с неожиданным фактом или неожиданным мнением, были ему непосильны, он раздражался, и это раздражение было его единственной реакцией. Он давно убедил себя, что самое мудрое — не вмешиваться ни во что и пусть все идет, как идет. Что он мог сказать кроме этого «перемелется»?
Теперь каждый день, принимая у секретарши бумаги или вытаскивая в своем подъезде газеты из почтового ящика, Юшков ждал повестки. Иногда ему казалось, что ему безразлично, чем все кончится, лишь бы кончилось скорей. Никак не удавалось забыть голос Поздеева: «Мы все выясним». С нажимом на «все». Однажды в столовой он услышал разговор о себе. В очереди, не видя его, разговаривали две кладовщицы. Одна говорила, что нужно съездить в деревню к матери, другая посоветовала: «Попросись у Юшкова, он отпустит». «Думаешь?» — сомневалась первая. Вторая ответила: «Кажись, он невредный». О Белане постепенно забывали. Еще не все на заводе знали, что он арестован, еще только начинали бродить слухи, а в отделе уже привыкли к новому начальнику и с каждым днем все меньше присматривались к нему, уже составив какое-то мнение, уже принимая его как данность, к которой надо приспосабливаться. Конвейер требовал детали. Склады пустели. Снабженцы отказывались от командировок, а водители — от сверхурочных рейсов. Надо было что-то делать.
Юшков позвонил в прокуратуру. Может быть, и собственная неопределенйость подгоняла его, но было и оправдание: следователи могли помочь заводу. Оказалось, что Шкирич уехал в Москву. Пришлось опять говорить с Поздеевым. «Помочь заводу?» — Поздеев помедлил, подумал и назначил время.
Заговорив, Юшков уже видел себя глазами Поздеева: пришел жулик и пытается изображать честнягу, для которого интересы производства превыше всего. От этого все, что он собирается сказать, ему самому стало казаться ненужным и нелепым. Он объяснил: раньше работа держалась на толкачах, фиктивных нарядах и других незаконных делах. Так работать теперь мешают следователи. Тут Поздеев скромно улыбнулся. Юшков продолжал: «Но раз вы уже изменили нашу жизнь, доводите это до конца. Чтобы работать по-иному, нам нужна независимость от поставщиков на какое-то время. Нужен запас. Его можно создать с вашей помощью. У нас скопилась некондиция— брак, который мы не ставим на машины. Потребуйте у завода справку о ее количестве. С этой справкой как с официальным документом я поступлю как новое правительство, которое не признает долгов старого. Я добьюсь, чтобы этот брак нам заменили на годное в счет прошлых поставок. У меня будет запас, я встану на ноги».— «Вам нужно, чтобы я потребовал у вас же справку?» — «Не могу же я написать ее сам для себя, это не будет тогда документом».— «Это ваша личная просьба?» — спросил Поздеев. Юшков кивнул. Поздеев подумал. Странно улыбнулся. Юшков тоже улыбнулся. «Какие у вас были отношения с Беланом?» — «Хорошие отношения».— «Почему же вы его сейчас топите?» — «Я?» — «Ну не совсем же вы несведущий в наших делах человек. Вы хотите теперь всю недостачу свалить на Белана. На старое правительство, как вы говорите. Вы же не можете не знать, что его наказание будет зависеть от размеров материального ущерба, который мы установим». Юшков вспотел. «Я думаю только о своей работе. Наказание — это ваша работа. А я хочу начинать чистый. Мы всегда стоим на коленях перед поставщиками. Будет запас — мы встанем с колен...» «В общем, дружба дружбой,— сказал, нехорошо улыбаясь, Поздеев,— а служба службой. Не повезло Белану с друзьями... Сколько вы получили от Пащенко?» «Триста рублей»,— сказал Юшков. Голос его осел. Что он ни делает теперь, все выходит мерзко. Когда он успел так запутаться? «За два двигателя?» — «Наверно».— «Почему наверно, а не точно?» — нахмурился Поздеев. Юшков сказал: «Откуда же я могу знать точно?» — «Вы ведь собирались дать ему два?» — «Так мне велел Белан. Он сказал: ни в коем случае не давай больше».— «Принимая деньги, вы считали, что вам платят за два двигателя?» — «Нет».
Поздеев поправил очки. Мол, ну и надоел ты мне со своими увертками, братец. Юшков пытался представить его без очков. Внушительный подбородок, волосы до плеч... Тоже было бы неплохо.
«Белан сказал мне, что Пащенко должен ему триста рублей и что эти деньги Пащенко передаст ему через меня». «Ловко,— сказал Поздеев.— Ловко, да не сходится. Значит, принимая деньги, вы ничего противозаконного в этом не видели. Почему же вы скрыли их, когда пришли к Бутовой? Взяли бы да передали».— «Мне показалось, момент для этого не подходящий».— «Почему?» — «Вы бы восприняли это... Мне тогда показалось, что это вызовет много ненужных подозрений и вопросов».— «Потому что вы знали, что эти деньги — взятка».— «Все не так просто...» — «Но как же! Не могу же я всерьез поверить после всего, что вы сами мне рассказали, что, принимая деньги у Пащенко, вы считали, что он отдает долг. Какой долг? Вы считали его старым другом Белана?» — «Нет».— «И у вас даже мысли не появилось, что это взятка? С вашим-то опытом!» — «Я догадывался, что это взятка... Когда Белан позвонил и попросил взять деньги, я не придал значения... Но потом, когда Пащенко достал их... Дело в том, что они лежали, заранее приготовленные, в папке среди бумаг...»
Поздеев захохотал: «Ну, тут уж действительно трудно не понять. Удивляюсь вам. Сами такие вещи рассказываете и сами продолжаете запираться. Значит, тогда вы поняли, что это взятка?» — «Да».— «Ловко»,— сказал Поздеев. Юшков запнулся. «Почему ловко? Я рассказываю как было».— «Ну-ну».— «В общем, когда я пришел к Бутовой, я был уже уверен, что это взятка. Почему тогда пытался скрыть?.. Это была, конечно, глупость. Но ведь у нас с Беланом были, в общем, неплохие отношения, как мой начальник он мне нравился... ну, какая-то инерция отношений сработала...» «Психология, значит,— сказал Поздеев, взглянув на часы.— Хорошо. Вы хотите психологию — давайте психологию. Белан вам нравился, и вы вдруг, внезапно, увидев деньги в папке, узнали, что он взяточник. Да вы должны были бы... ну я не знаю что, не с ума, конечно, сойти, но возмутиться, опешить... Какая тут, к черту, инерция!» «Вы серьезно считаете, что я должен был возмутиться?» — сказал Юшков. «Вас это не возмутило?» — заинтересовался Поздеев. «Конечно, нет».— «Интересное признание».— «Скажите,— спросил Юшков,— у вас замшевая курточка. Откуда она?» — «Мы закончим этот... разговор и поговорим про мою курточку».— «Они не продавались в магазине. Это дефицит. Их можно достать только по знакомству. Вас это не волнует? Может быть, вам подарили ее. Тогда кто-то другой доставал ее по знакомству. Это вас возмущает? Нисколько. Про себя я вам все рассказал. Больше пяти лет сам дарил конфеты, поил нужных людей водкой. И вы считаете, что меня могут вывести из себя эти триста рублей. Да я тогда давно бы уже, как вы говорите, с ума сошел!» — «И если бы у Бутовой не оказались в тот момент мы, вы спокойно отдали бы деньги и все продолжалось бы? Белан брал бы взятки, а вы бы видели и молчали?» — «Я постарался бы уйти... если бы смог».— «Выходит, в укрывательстве преступления вы уже сознались».— «Да. Сознаюсь. За это положена тюрьма?» — «Может быть, может быть.— Поздеев был озадачен.— Вы, во всяком случае, упрямее, чем я думал...» — «Да уж тут-то в чем упрямство?» — «А ведь вы могли бы уже убедиться, Юшков, что запирательство не приводит ни к чему хорошему. У нас уже протокол с вашими ложными показаниями. Многовато всего набирается. Нужен ли нам с вами еще один такой протокол?» «Если бы вы спрашивали прямо,— сказал Юшков, помолчав,— мне было бы легче отвечать». «Времени у меня мало,— зло ответил Поздеев.— У меня сроки. А вы на прямые вопросы не отвечаете. Ну спрошу я вас сейчас про сто пятьдесят рублей, так я заранее знаю, что вы мне ответите. Вы скажете, что Белан был их вам должен». «Какие сто пятьдесят рублей?» — «Пащенко дал вам триста. Бутовой вы передали сто пятьдесят».— «Белан так просил».— «Я и говорил».— «Но это-то легко проверить! Вы у него спросите!» «Проверим»,— скучно сказал Поздеев.
Он вытащил из стола бланк, стал писать. Юшков ждал. «Поедете в Москву,— сказал Поздеев.— Вот вам повестка. В понедельник в тринадцать часов должны явиться в прокуратуру Союза. Распишитесь, что получили». После этого он вернулся к протоколу, быстро его закончил и дал подписать Юшкову.
Юшков еще успел вернуться на завод, объяснить Хохлову по телефону, почему его в понедельник не будет, и ввел в курс самых срочных дел Фаину, которую оставил вместо себя.
Провожала его Ляля, Алле Александровне, чтобы ее не волновать, сказали, что он едет в командировку. Ляля сердилась. Все воскресенье с утра до самого отъезда она постоянно обнаруживала, что Юшков в чем-нибудь виноват. И белье в прачечной он забыл получить, и о свежей рубашке не побеспокоился заранее, пришлось стирать в последнюю минуту, и с сыном был невнимателен, а по пути на вокзал забыл пробить в троллейбусе талоны, вспомнил о них только когда вошел контролер, и тогда Ляля сказала: «С тобой действительно в тюрьму угодишь». «А это уже обычная женская подлость»,— сказал Юшков, и они перестали друг с другом разговаривать. Как на грех, встретили на перроне Валеру Филина вместе с новенькой девушкой из его бюро. Они ехали тем же поездом на ВДНХ с чертежами заводского стенда, уже поставили в вагон свои вещи и вышли прогуляться.
Утром поезд пришел в Москву. Ровно в час Юшков постучал в дверь, номер которой был указан в повестке. Шкирич был в форме с майорскими звездочками, и в первое мгновение Юшков его не узнал.
«Поздеев вам ничего не объяснил?» — спросил Шкирич. Юшков покачал головой. Шкирич рассмеялся: «Рассердили вы его. А чего вы хотели? Пащенко нам уже все рассказал, мы вам намеки делаем, а вы уперлись на своем: не было никаких денег! Думаете, это облегчает работу?» «Я потом сам ему позвонил»,— сказал Юшков. Шкирич кивнул: «Знаю. А теперь мы с вами поедем в тюрьму. Навестим вашего бывшего начальника, поговорим втроем...» — «Очная ставка».— «Точно.— Шкирич улыбнулся.— Снова сведения из кино?» Помнил.
Они ехали в «Волге», вошли в проходную, миновали стеклянную стойку с окошком, дежурный милиционер пропустил их на лестничную площадку, поднялись на второй этаж и шли по коридору, пока Шкирич не открыл одну из дверей. Там было два стола и несколько стульев. Предложив один из них, Шкирич сел за стол, разложил бумаги, начал писать. «Вы не волнуйтесь, Юрий Михайлович, расслабьтесь. Никаких неожиданностей не будет. Поговорим о старом, о чем уже говорили, чтобы уж окончательно...»
Постучали. Сержант ввел Белана. Юшков ждал полосатую куртку, а Белан вошел в своем сером костюме и красной рубашке, как в тот день, когда уезжал на АМЗ. Улыбнулся Юшкову, изображая приятное удивление: «Юра, и ты тут? Как в том анекдоте: а кто же в лавке остался?» Он и здесь играл. Оба не знали, можно ли поздороваться за руку. Шкирич показал Белану на стул — подальше от Юшкова.
«Ну что ж, Анатолий Витольдович,— сказал он, вздохнув оттого, как много ему еще писать и как мало у него на это времени.— Вы все хотели, чтобы я поговорил с вашим заместителем. Вот... я его и пригласил».— «Естественно,— сказал Белан, как бы оправдываясь в том, что заставил человека хлопотать.— Вы спрашиваете такие вещи, что я могу и ошибиться. Всего не упомнишь». Он очень переигрывал в непринужденности. «Так.— Шкирич листал бумаги.— Тридцатого сентября с новых двигателей были сняты вентиляторы. Кто дал это указание?» «Последний день квартала.— Белан изобразил попытку вспомнить.— Я занимался нарядами. На конвейере был Юра. Наверно, он дал это указание. Мог бы и я: на конвейере всякое бывает, поломается или пропадет деталь — снимаем с новых двигателей, лишь бы конвейер не стоял».— «Могли бы вы, но не вы?» — «Нет, не я».— «А вот Юрий Михайлович говорит, что вы».
Такой разговор был мельком, когда в отделе объясняли Шкиричу, откуда получается некондиция. Случай был обычный, и объяснял его Белан правильно, только занимался нарядами в тот день не Белан, а Юшков, а вот команду дал Белан. Иначе и быть не могло: с первого дня Белан предупредил, что такие команды мог давать только он. «Конечно, это бесхозяйственность,— сказал Юшков,— но такие вещи нам приходится делать часто». «Так чье же это было указание? — спросил Шкирич.— Ваше или Белана?» — «Мне кажется, Белана».— «А точнее, без «кажется»,— не могли бы вспомнить?» — «Белана. Разве это имеет значение?» — «Ты вспомни, Юра,— попросил Белан, волнуясь.— Тридцатое сентября. Конец квартала. Аврал. Я тебе сказал: Юра, конвейером занимаешься сегодня ты. Все вопросы решаешь без меня».— «Не помню». Юшков понимал, что Белан просит его изменить показания, но и тот должен был понимать, что это уже поздно делать. Странно было, что он упорствует в таком пустяке. Впрочем, оказалось, что именно этот пустяк интересовал Шкирича. Он еще долго мусолил его, потом спросил: «Кстати, Анатолий Витольдович, вам кто-нибудь должен деньги?» Белан удивился: «Не помню... может быть...» — «Пащенко вы не знаете?» — «Пащенко...» Видно было, что Белан пытался вспомнить и не мог. Шкирич сказал: «А вот Юрий Михайлович говорит, что Пащенко должен был вам». Белан вспомнил. Покраснел от досады. Трудно ему теперь будет объяснить, как он одолжил деньги человеку, фамилию которого плохо помнит. «Сколько?» — спросил Шкирич. Белан рассмеялся, пытаясь войти в прежнюю роль: «Кому я должен, всем прощаю».— «А все-таки?» — «Ну... кажется, рублей сто пятьдесят».— «А Юрий Михайлович говорит, что триста».
Белан посмотрел на Юшкова и вдруг сообразил, что тот тоже подозревается. Может быть, он даже решил, что Юшков арестован. Заволновался: «Правильно, триста. Сто пятьдесят рублей я просил Юрия Михайловича отнести моей бывшей жене... Между прочим, Юшков в нашем деле человек новый. Все вопросы я решал сам, без него. Теперь припоминаю: и команду снять вентиляторы давал я». Шкирич писал. «Юрий Михайлович, расскажите про встречу с Пащенко». Юшков рассказал. Белан опустил голову. Больше он уже ничего не говорил, только кивал, соглашаясь, и ни на кого не смотрел. Лишь когда его уводили, взглянул пронзительно: «Юра, а ты помнишь, как мы на даче?..»
В машине на обратном пути Шкирич сказал: «Вот видите, эту некондицию делали умышленно: ведь каждый двигатель — сто пятьдесят рублей, а вы не догадывались. И ваш бывший начальник еще пытался все свалить на вас». «Ничего он не пытался,— возразил Юшков.— Это наша обычная бесхозяйственность, он знал, что мне за это ничего не будет. Он выгораживал меня и еще будет выгораживать». «Почему еще будет? — благодушно поинтересовался Шкирич.— Разве есть за что?» — «Вас бы на его место».— «В тюрьму?» — «Нет, на место снабженца».— «В каждой работе свои трудности, Юрий Михайлович». Шкирич посматривал на улицы за стеклом. Туман разошелся, и снова вспомнилась Юшкову комната, в которой сняты для стирки шторы, голая и посветлевшая. «Плохо вы делаете ее,— сказал он.— Я вам сколько наговорил, а вас только одно интересует: брал я взятки или нет». «Ну вот,—сказал Шкирич.— Все у вас кончилось благополучно, а вы нервничаете».
В прокуратуре Шкирич выписал командировочное удостоверение, сказал Юшкову, где тому выплатят деньги за проезд, и попрощался с ним.
Утром Юшков приехал на завод и узнал, что кончились двигатели. Правда, уже пришла по железной дороге новая партия с АМЗ. Грузовики и электрокары везли ее с платформ прямо на сборку. Там были и Хохлов и директор завода Дулев, Фаина и кладовщица тоже были там. Всполошенный присутствием высокого начальства, замотанный и обалдевший мастер сборки сказал Фаине: «Это не работа. Какой он ни был, Белан, пусть он себе карманы набивал, но нас он всегда обеспечивал».
Хохлов отвел Юшкова в сторону, к стеллажам, где плыли по воздуху, спускаясь вниз, автомобильные кабины и топливные баки. Они сели на деревянные ящики. Голубые кабины, проплывая мимо, почти касались головы Хохлова. Юшков сказал: «У нас пустые склады. Завтра все здесь может остановиться».— «Рассказывай, что в Москве»,— попросил тесть. Выслушал, помолчал. «Говоришь, Белан испугался, что тебя подозревают? М-м-да. Он такой. И не жадный как будто. Но зарвался. Наделал он нам делов».— «Да как будто пронесло уже»,— сказал Юшков. Тесть невесело усмехнулся: «Только начинается, Юра. С тебя, конечно, взятки гладки».— «Разве вам что-нибудь грозит?» — «Ты думаешь, меня не тягают? За халатность. Видел, как Дулев сегодня со мной?» «Нет... — Юшков удивился.— Ничего не заметил».— «Я для него конченый человек. Ему уже пора реагировать. Я не в претензии. Его ведь тоже спрашивают: а что вы сделали со своей стороны? С какой стати он станет меня собой прикрывать?» — «Что же он будет делать?» Юшков впервые подумал, что тесть не все рассказывал ему и, наверно, последние недели дались и ему нелегко. Наверно, и тогда, на рыбалке, он многое уже знал и все понимал. «Что Дулев будет делать? Найдет мне какое-нибудь спокойное местечко до пенсии... — Хохлов посмотрел на Юшкова, хмыкнул, хлопнул по плечу.— Ничего, Юра. Авось пронесет. Пока будем работать, Тут, кстати, следователи тебе работенку подбросили: справку о некондиции им дай». Значит, не забыл-таки Поздеев. Юшков повторил: «У нас пустые склады. Надо что-то делать. Я не могу ни людей посылать, ни сверхурочные оплачивать. Остается штрафовать поставщиков, обострять отношения. Как и положено, кстати, по инструкции». «Валяй,— махнул рукой тесть.— Только не зарывайся». Он не помнил, что Юшков предлагал ему это пять или шесть лет назад.
Несколько дней спустя в кабинет Юшкова вошел Чеблаков. Три последних недели они почти не разговаривали друг с другом, и Юшков удивился. Чеблаков держался так, словно этих трех недель не было. «Как жизнь, старик?» — «Кручусь».— «Старик,— Чеблаков скромно потупился,— был разговор с Дулевым. Мне предлагают место Федора Тимофеевича. Вот так». Юшков не сразу нашелся. «Поздравляю... С тебя бутылка... Да что бутылка — банкет с тебя».— «В тридцать шесть лет заместитель генерального директора — страшновато, старик. Это я только тебе. Но ничего. Вдвоем с тобой мы как-нибудь, а?» — «Не знаю,— сказал Юшков.— Я сейчас действую по инструкции, без толкачей, без кумовства...» — «Старик, теперь только так. Ты просто повторяешь слова Дулева».— «Ну-ну».— «Что тебе надо?» — «Запас на складах. Будет запас — будем думать».— «Где же его взять, запас?»
Юшков рассказал то, что пытался объяснить Поздееву. Показал справку. Чеблаков оценил. «Это уже разговор, старик. Это хороший разговор. По рукам».— «И еще одна просьба. Дай мне зама»,— «Найдем».— «Дай мне Игоря Кацнельсона».— «А от Валеры Филина ты откажешься?» — «Он не пойдет».— «Я его уговорю. Все же будет свой парень». «Нет уж,— усмехнулся Юшков. — Если б у тебя в баньке париться, тогда конечно. А так... Ты уж мне дай Игоря». «Игорь — теоретик.— Чеблаков пожал плечами.— Ему в НИИ место. Зачем он тебе?» — «Он больше десяти лет на производстве. Он будет приходить сюда по утрам первым и уходить последним».— «Смотри, старик,— неохотно сказал Чеблаков.— Тебе виднее. Если он тебе нужен — пробьем».— «Фу ты черт!— вдруг удивился Юшков.— До чего ж ты вовремя пришел. С тестем я бы не сладил. А с тобой у нас, может быть, и получится».— «Я всегда прихожу вовремя, старик»,— сказал Чеблаков.
Кацнельсон был в отпуске. Жил он в однокомнатной квартирке у тещи, неподалеку от завода. Юшков хорошо знал и этот дом и тещу. Он у нее учился, а последние годы видел иногда у матери. Звали ее Надежда Ивановна. Она оказалась дома одна. Когда он понял, что попал в ловушку, было уже поздно. Надежда Ивановна принесла из кухни чай. На столе среди вороха тряпок стояла швейная машина, старинный ручной «Зингер». Юшкову пришлось торопливо снимать ее и сгребать тряпки, пока хозяйка ждала с горячей чашкой и вазочкой с вареньем в руках.
«...Лидию Макаровну встретила. У нее муж болен и сама она что-то сегодня...» Их было пять или шесть пенсионерок, все прежде работали вместе, у всех у них он учился. Звонили друг другу, бегали друг к другу, особенно к тем, кто жил без семьи. Всегда кто-нибудь из них болел, и всем хватало хлопот. Больше других доставалось матери как самой молодой и Надежде Ивановне, потому что ее Надюша работала врачом.
«...уже два часа, как Надюша должна быть дома. Игорь пошел к ней в клинику и тоже пропал, наверно, чинит там что-нибудь, теперь они бог знает когда могут заявиться, хорошо, я дома, Анечку из сада забрала, она уж последней осталась, плакала, и так каждый день, Юра, каждый день, как будто, кроме работы, у них нет других дел. Разве все теперь так? Еще чаю? Чтобы варенье доесть, а? Нет, нет, обязательно, у нас не принято, чтобы пропадало. Игорь может две розеточки за ужином съесть».— «Я пойду к ним в клинику». Юшкову удалось выбраться из-за стола. Он поставил машину на место. «Раз уж ты идешь, Юра, скажи Надюше, чтоб заглянула к Наталье Ильиничне, давление ей померила, это почти по пути. И к мужу Лидии Макаровны надо бы... Найдешь их там? Они, наверно, в гастроэнтерологии, это на третьем этаже...»
Кацнельсон в белом халате, с паяльником в руке сидел над каким-то прибором спиной к двери и не слышал, когда вошел Юшков. Тот окликнул его, Кацнельсон обернулся, не удивился. «Я сейчас. Уже кончаю». Юшков сел рядом. «Опять диссертацию кому-то делаешь?» — «Это они делают диссертацию. Я делаю прибор».— «По совместительству, что ли?» Кацнельсон не сразу понял, удивился такой мысли, хмыкнул, предложил: «Посоветуй вот, как туда паяльником добраться».— «Я в электронике не разбираюсь,— отмахнулся Юшков.— Кончай скорей, уже девятый час».— «Кончаю». Кацнельсон с сожалением отложил паяльник. Он увлекся. Поглядывая на прибор и все еще думая о нем, медленно стягивал халат, надевал пальто. Заглянула из коридора Надя. «Привет, Надя»,— сказал Юшков. Она насторожилась: «Юра? С Аллой Александровной что-нибудь?» — «Пришел мужа твоего проведать».— «Я уж испугалась,— сказала она.— Иду, Игорь, иду. Только Поздееву во второй палате гляну».— «Поздееву?» — переспросил Юшков. Надя пожаловалась: «Такая тяжелая... Ждите меня внизу... Сумасшедший день сегодня». У нее было круглое детское лицо. Наверно, больным оно не внушало доверия. «Каждый день у тебя сумасшедший»,— проворчал Игорь.
«Сестер у них не хватает,— продолжал он ворчать, спускаясь с Юшковым по лестнице.— Так она должна за сестер тут сидеть. Есть же, в конце концов, дежурный врач...» — «А ты-то что сидишь? Механик по приборам тоже, наверно, есть».— «А куда мне деваться? Отпуск...» Больной в пижаме курил на лестничной клетке. Кацнельсон пригрозил: «Я вот расскажу Надежде Федоровне». Тот торопливо бросил окурок в урну. «Угостили. Я не курю...» Кацнельсон важно читал ему нотацию. Юшков спустился в темный вестибюль.
Из угла в угол ходил Поздеев. Узнал, хмуро кивнул и отвернулся. В руке у него был сверток. Юшков определил наметанным глазом: подарочный шоколадный набор. Вышла, шаркая тапочками, старая нянечка. Поздеев кинулся к ней. «Там у нее Надежда Федоровна,— сказала нянечка.— Сейчас спустится».
Юшков сел на стул около запертой двери. Из нее дуло, за стеклом в свете фонаря качались голые ветки. На освещенной площадке около лестницы застыл Поздеев. Появились Кацнельсон и больной в пижаме. Больной разговорился, хватая Кацнельсона за пуговицы пальто. Потом он ушел. Кацнельсон огляделся, не видя Юшкова в полумраке. Шагнул к двери, но тут его перехватил Поздеев, что-то зашептал. Кацнельсон рассердился: «С ума сошли?» — отстранил и тут увидел Юшкова. Подошел, сел рядом. «Посоветоваться со мной захотел, удобно ли сунуть Надьке конфеты». Он не понял, что рассмешило Юшкова. На лестнице послышался голос Нади. Выговаривала кому-то сердито. Поздеев нерешительно двинулся к ней. Шаркая разношенными тапочками, бренча ключами, нянечка подошла к двери, открыла. «Ей он точно сунул,— сказал Юшков.— Иначе она не пустила бы его в вестибюль так поздно».
Кацнельсон зябко вбирал голову в воротник. «Ты, между прочим, наверно, по делу?» — «Меня Саня Чеблаков послал,— схитрил Юшков.— Он теперь будет заместителем генерального директора и хочет, чтобы ты был моим заместителем».— «Саня хочет? Врешь».— «А если не вру?» — «Снабженцем я не пойду,— сказал Кацнельсон.— Пить с поставщиками у меня здоровья нет, заводить всюду своих людей нет обаяния».— «Если б мне нужен был человек для этого,— сказал Юшков,— я бы не к тебе пришел». Кацнельсон посмотрел внимательно: что- то в словах Юшкова было. «Один чудак назвал нас коробейниками,— сказал Юшков.— Старый российский промысел. А ты говоришь».
«Ребята, просто ужас, какой сумасшедший день.— Надя подхватила их сзади под руки.— Везут и везут, везут и везут, и все тяжелые». «Надежда Ивановна просила тебе сказать,— вспомнил Юшков,— чтобы вы к кому-то зашли». «К Наталье Ильиничне.— Надя вздохнула.— Игорь, я тебя сколько раз просила: сделай ей ключ. Сейчас приедем, будем звонить, стучать, а она из-за телевизора не услышит. И с кровати ей подниматься лишний раз...»
Они вышли на проспект. Шум машин на мокром асфальте заглушил отдаленный гул завода за их спинами. «Набегалась я сегодня. Давай проедем остановку на автобусе». «Погоди»,— сказал Кацнельсон. Он вошел в булочную. «Как там Поздеева?» — спросил Юшков. Надя вздохнула: «Ужасное давление... Сын у нее хороший. Видел?»— «Видел».— «Она говорит, он очень много работает».— «Все мы много работаем»,— сказал Юшков. Надя возразила: «Это вы-то? У нас по-настоящему работают только врачи и учителя».
Кацнельсон вернулся к ним с тремя бубликами в руке. «Вот молодец,— похвалила Надя.— С утра не ела». Тут же откусила. Один бублик предназначался Юшкову. Есть ему не хотелось, но взял. «Предлагаю твоему мужу работу, а он отказывается,— сказал он.— Или лишние пятьдесят рублей вам помешают?» «Пятьдесят рублей?» — изумилась Надя. Игорь рассердился: «Запрещенный прием, Юра».— «Я еще и не так буду,— пообещал Юшков,— но своего добьюсь. Ну ладно, ребята. Привет Лидии Макаровне». «Она тебя помнит,— сказала Надя.— Говорит, у тебя были математические способности».— «Были, да сплыли».— «Алле Александровне привет».
Подошел автобус, Надя и Игорь вскочили в него. Юшкову было неловко идти по улице с бубликом. Он втиснул его в карман мокрого плаща. Вдали огни проспекта сливались в зарево, там угадывалась гостиница. Нужно было бы пройти туда, свернуть влево на темную улочку, подняться на пятый этаж и посидеть с тестем. Должен же был тот с кем-нибудь отвести душу. Юшков решил, что время для этого уже позднее.
Через несколько дней Хохлов уволился. Он не захотел идти на приготовленное для него местечко. Бывший главный инженер, Светкин отец, взял его к себе в НИИ. Хохлов бодрился, говорил Юшкову: «Ничего, Юра, я там осмотрюсь и тебя перетяну, будем вместе науку двигать». Однако он похудел и постарел, сказались последние недели, и теща это понимала. Когда сидели в воскресенье всей семьей за столом, она, как обычно, посмеивалась: «Теперь вот будешь как человек приходить, пора уж и для себя пожить, пусть молодые себя покажут. Вот Бутову шестьдесят три, а он с пацанами в бассейн ходит».
Глава шестая
Еще только рассветало. Морозная мгла, жесткая, как наждак, царапала щеки и горло. Над фонарями дальних литейных цехов начинало розоветь. В холодных пролетах огромного склада висели над головой, уходили под крышу, петляли там и снова спускались черные цепочки автомобильных шин. Они словно бы замерзли на неподвижном конвейере. Грузчики и кладовщики попрятались по теплым комнатушкам, обогревались перед сменой. Однако неподвижность и пустота на складе были обманчивыми. Тут все было в порядке. О шинах думать не приходилось.
Напротив заиндевели ребристые алюминиевые стены нового склада, а дальше на деревянных козлах вдоль железнодорожной ветки лежали серебристые тела дизелей. Юшкову не нужно было считать их, чтобы понять, что двигателей за ночь не прибавилось. Их оставалось на неполные сутки работы.
Лестница и коридор испятнались белыми следами: он затеял ремонт. Побелили потолки в кабинете Игоря. Дверь туда была распахнута, в пустой комнате Кацнельсон в пальто и шапке звонил по телефону. Аппарат стоял на полу возле стремянки. Юшков прислушался: все то же, двигатели. На эти дни Кацнельсон переселился к нему и, чтобы не занимать телефон, звонить бегал к себе. Он уже с утра наволок меловую дорожку между кабинетами.
У Юшкова сидели четверо, ждали оперативки. Следом за ним влетела Фаина.
На столе стояло сразу три перекидных календаря: один новый, семьдесят пятого года, второй, старый, был открыт на последней странице. Год кончался. Третий календарь притащил с собой Игорь.
Люди все подходили. Лениво болтали, сидя на стульях вдоль стен. Позвонили из Бобруйска, из сбыта: их оштрафовали за резину, опоздавшую на двое суток. Юшков передал трубку заведующему сектором: разбирайся сам. Он на расстоянии слышал резкий женский голос в трубке: «Вы с ума там посходили?» Завсектором, высокий парень в джинсах, веско сказал: «Есть договор, надо его соблюдать».— «А наши поставщики соблюдают? Или вы думаете, мы резину из воздуха делаем?» — «Это меня не касается. Наказывайте и вы своих».
«Зарвешься, парень»,— неожиданно сказала женщина. Он рассмеялся: «С наступающим вас Новым годом». Трубка запищала в его руках.
Фаина недовольно глянула: легко хорохориться, если у тебя недельный запас, а ей что делать, когда двигатели кончатся? Парень смотрел победно: это, мол, работа, не то что раньше — унижаться из-за каждого сальника. «Позови Игоря Львовича,— сказал ему Юшков.— Начинаем». Он услышал, как лысеющий завсектором электрооборудования сказал Фаине как бы шутливо: «Эх, хорошо бы проехаться куда-нибудь в Киржач через Москву или Ленинград, там уж меня и забыли, наверно. Посидеть в ресторане с мужичками, пошутить с бабоньками... Сидячая жизнь не по мне».— «А к Белану ты не хочешь проехаться?» — спросила Фаина. Завсектором электрооборудования ответил: «Это нам с тобой не грозит, мы начальники небольшие».
Вошел Чеблаков, стянул шапку-пирожок, потер уши. «С наступающим вас... Э, оперативка?» Словно не знал, что она всегда в десять. По заводу он ходил не в шикарной своей дубленке, а в скромном сером пальто с воротником под каракуль. Чувствовал стиль. Фаина поторопилась заверить: «Еще не начинали. Посидите с нами, Александр Павлович». Сегодняшний дефицит двигателей сделал ее льстивой.
Чеблаков сел на место Кацнельсона. Тот, появившись, остался стоять в дверях, чуть приоткрыв их: ждал звонка в своем кабинете. Увидел Чеблакова, вытаращил глаза: тот приехал с технической конференции, с того самого моторного завода, куда Кацнельсон пытался сейчас дозвониться. «Александр Павлович, что там на АМЗ?» — «Очень дяди на вас сердиты,— сказал Чеблаков. Он не собирался начинать разговор при подчиненных Юшкова, а теперь, начав, пробовал шутливый тон, чтобы не затеять при них спора.— Оченно сердиты. Их там всех премии лишили. Угрожают. Может быть, пожалеть их немного? Все-таки плевать против ветра...» — «Как же пожалеть? — удивился Игорь.— Тут или штрафовать, или водку с ними пить! Или и то и другое вместе?» — «Ну уж,— сказал Чеблаков.— Там водку не пьют. А штрафовать проще всего. Гибче надо, ребята. В каждом конкретном случае надо такт проявлять».
Игорь развел руками. Что Чеблакову объяснять... Тот и сам все понимает, и раз говорит так — значит, больше ему нечего сказать. Не просто было им остановить инерцию прежнего, но остановили, повернули, теперь маховик раскручивается в другую сторону, набирает скорость. Его не удержишь, даже если видишь, что неприятности приближаются.
Юшков рассердился. Не хватало еще, чтобы ему людей расхолаживали. Спросил прямо: «Ты посидишь у нас?» Чеблаков понял, поднялся: «Нет, я мимоходом заскочил». Вовсе не мимоходом. Предупреждал. Волновался. Ему первому достанется от директора, если из-за двигателей остановится конвейер. В кабинете Игоря затрещал междугородный звонок, и Чеблаков с Игорем вышли вместе.
Юшков начал оперативку, прислушиваясь к телефонному разговору за дверью. Связь была плохая, Кацнельсон кричал. Сглаживая впечатление от слов Чеблакова, Юшков повторил: «У нас только один путь — штрафовать поставщиков немилосердно за каждое нарушение договора. Не прощать ни суток опоздания. Они должны нас бояться».
Игорь медленно стягивал пальто и шарф, ожидая, пока все выйдут. «Не докричался. Новый год уже празднуют, что ли? Вроде бы, говорят, выслали двигатели».— «Кто говорит?» — «Не понял. Закажи еще раз по срочному начальника сбыта».
Новый начальник сбыта АМЗ боялся штрафов больше, чем другие поставщики. Когда его оштрафовали впервые, он позвонил Юшкову: «Совести у вас нет? И так стараемся для вас как не знаю для кого!» И вот он подводил.
Кацнельсон развернул на столе совещаний просторную, как простыня, таблицу на миллиметровке, карандашом отмечал на ней сегодняшние поступления. Юшков взялся за бумаги. Сверху лежало заявление. Увольнялся водитель Качан. Юшков велел секретарше вызвать его.
Тот и в морозы ходил в синенькой болоньевой курточке. Усаживаясь, распустил «молнию», и толстый шарф вылез из ворота. Качан конфузился. «Ты ж все время порядка хотел,— сказал Юшков.— Теперь как будто порядок. Так что ж ты?» «Вроде бы больше порядка.— Качан виновато улыбался.— Но это ведь разве порядок, с другой стороны?» — «А что не нравится? Новый начальник?» — «Та нет, у нас с Игорем Львовичем,— покосился Качан на Кацнельсона,— претензий друг к другу вроде нет. Он с человеком свое «я» не ставит...» «Так в чем же дело?» — спросил Юшков. Качан решился: «Раньше я в Бобруйск съезжу, так и леваки в оба конца будут и какую-нибудь десятку Витольдович выпишет, тоже на дороге не валяется. Меня назад на такси зовут. Теперь не то что раньше, но свое я там иметь буду». Юшков подписал заявление.
Соединили с АМЗ. Кацнельсон схватил вторую трубку. На этот раз у телефона оказался начальник сбыта: «Ну что вы там опять, товарищи? Мы же вам все дали». «Как все дали?! — Схватили, сминая, простыню из миллиметровки, считали, сверялись.— А сотня сверхплановых?» «Какие еще сверхплановые? — злорадно сказали на АМЗ.— Мало ли какие вы себе обязательства берете. Это мы не обязаны давать. Вы, товарищи, извините, совсем это самое... У нас тут в приемной сидят, ждут, понимаешь, а вы, извините, уж совсем... Сверхплановые...»
Юшков и Кацнельсон переглянулись. К концу года завод должен был дать сто сверхплановых машин. Они разослали всем поставщикам телеграммы об этом. Конечно, по договорам им не обязаны были давать сверх плана. Начальник сбыта теперь отыгрывался. «Дайте мне телефон секретаря парткома,— сказал Юшков.— Я передам ему ваши слова. Если вы считаете это необязательным для себя... Вы знаете, куда идет сто сверхплановых машин?» По тишине в трубке он понял: собеседник испугался. Уже другим тоном ответил: «Что ж я сделаю, если нету?.. Между прочим, кое-что мы вам вчера отгрузили, ловите там у себя».— «Быстро он разбаловался,— сказал Игорь.— Теперь его на испуг не возьмешь».— «Сбегай посчитай, сколько все же на заводе двигателей,— попросил Юшков.— Только бы до конца дня дотянуть, а там новые придут». Фаина тем временем звонила на железнодорожный узел, на сортировочную, искала отправленную платформу. В половине третьего Юшков отпустил ее домой: был короткий день.
Вернулся Кацнельсон: контролеры забраковали четырнадцать дизелей — где тонко, там и рвется. На вторую смену, если не придет что-нибудь по железной дороге, не хватит. Оставалось сидеть и ждать. Первая смена ушла, в отделе стало тихо. За морозным окном под ярким небом повис до самых крыш колючий туман. Из тонкой трубки, торчащей над вторым этажом, вырывался горячий пар, тут же оборачивался плотным, тугим, крученым облаком. Оно вытягивалось к востоку, белое на голубом. Юшков вытащил шахматы, но Кацнельсон отказался: не то настроение. Снова разложил таблицу, мудрил над ней, словно из разрисованных клеточек в результате его вычислений могли выскочить «живые» дизели.
Приоткрылась дверь — дед Мороз! Белая от инея борода, красный нос — ввалился Валера Филин: «Что вы? Я своих уже в двенадцать отпустил! Давайте собирайтесь!» Юшков усадил его за шахматы, но играть с ним было неинтересно: он разве что не поддавался, проигрыш его не беспокоил. «Слушай, старик, давно мы у заместителя генерального директора не парились. Махнуть бы туда с лыжами, а? Бросочек километров десять, а потом по-черному из баньки да на снег... Ты как?» — «А меня не приглашали»,— сказал Юшков. Валера удивился: «С каких пор ты особое приглашение требуешь?» — «А тебя приглашали?» — «Был неопределенный разговор, что в принципе не худо бы... Мне кажется, ты, старик, что-то слишком щепетильный стал. Не к добру это. Я подумал, давно мы вместе не собирались».
Вошел Чеблаков. «Легок на помине,— сказал Валера.— Я говорю: Саня, давно мы в баньке не парились». Чеблаков сел к столу, брезгливо отодвинул табличку. Она раздражала его, и он старался на нее не смотреть. «Я сказал директору, что вторую смену мы можем сорвать». Замолчал. Валера ухмыльнулся: «Зря, Саня. Кто так делает? Может, еще обойдется, а ты уже гнев на себя навлек. Когда сорвешь смену, директор сам узнает». «Ты не работал с Дулевым,— сказал Чеблаков.— Ты его не знаешь. Два раза он ошибаться не дает». Он все ждал, что Юшков что-нибудь ему скажет. Не дождался, спросил: «Какие есть идеи, ребята?»
Юшков был готов к этому разговору: «Один раз, Саня, такое должно было случиться. Они заплатят нам за простой, останутся без штанов, но это их научит. Больше такого не будет». «Все это хорошо,— сказал Чеблаков,— но почему мы должны их учить? Что здесь, институт народного хозяйства? Чем они нам заплатят?» — «Советскими рублями».— «Да нам-то что эти рубли, если плана не будет?» На это нечего было ответить. Все, что они могли ему сказать, он сам наверняка говорил директору, выгораживая их. «Надо разобрать этот случай на коллегии министерства,— сказал Игорь.— Снять кого-нибудь с работы и разослать циркуляр по всем заводам, чтобы для всех была наука». Чеблаков странно посмотрел, поднялся: «Учить министров, как надо работать,— это мы умеем. Это, ребята, легче, чем работать самим. Еще эти ваши таблицы... Будут новости — звоните мне домой». Ушел, уведя с собой Валеру. В последнее время у него исчезло словечко «старик». Вместо него появилось «ребята». «На что же он рассчитывал?» — удивился Игорь. Юшков сказал: «На нас с тобой».— «Знаешь, почему я пошел сюда из цеха?» Зазвонил телефон, он схватил трубку и, послушав, разочарованно передал ее Юшкову. «Юра, у тебя люди? — Наташа говорила торопливо, не давая ответить.— Говори только «да» или «нет». Никто не должен знать, что я тебе звонила. Валера был у тебя?.. Когда?.. Долго? Что он хотел? К Чеблаковым ехать? Почему? — Выяснила все и сказала:— Мне очень нужно с тобой поговорить. Я тебе позвоню. Но ты мне обещал: никому ни слова, что я звонила. Пока».
«...мне не так уж было плохо в цехе,— говорил Кацнельсон.— Но я понял, что начал загнивать. Человеку обязательно нужны в жизни перемены и риск. Можно, конечно, жить без них. Можно без многого прожить и не почувствовать, что чего-то не хватает. У человека сами собой отмирают желания».— «Так это хорошо,— усмехнулся Юшков.— Мечта всех мудрецов востока».— «Может быть, для йогов это хорошо. Они впадают в нирвану. А на Западе начинают горькую пить или заболевают каким-нибудь раком. В языке нет слова, обозначающего отсутствие желаний. Будь оно, мы, может быть, жили бы иначе. Всякими оговорками мы так усложнили себе работу принятия решений, что на нее уходит вся энергия. И не остается на то, чтобы желать. Мой брат рабочим пошел. А я не могу. Недавно показывали мне одну книжку. Там есть, так сказать, мыслишка: люди учились, мол, на врачей и адвокатов, потому что это легче, чем пахать землю и доить коров. Мерзкая книжка. Быть врачом не легче, чем крестьянином, и инженером не легче, чем рабочим. Просто есть разные натуры. Один, совершая изо дня в день одно и то же, может быть в гармонии с собой, а другому постоянно нужны новизна и риск. У каждого свой порог реактивности, свой оптикум раздражителей...»
Юшков был не в том настроении, чтобы следить за мыслью Игоря, который, как обычно, оторвался от сегодняшних забот, словно они уже решились все, и решал какие-то одному ему видимые вопросы. Он позвонил дежурному по отделу: если двигатели все же придут сегодня, пусть звонят ему по такому-то телефону. «Собирайся, Игорь».
Было пять часов. Мороз ослабевал, но поднялся ветер. Труба над стальцехом розовела, а вокруг все было голубым — снег, тени, алюминиевые стены нового склада, электровоз, который медленно выплывал из-под моста, вытягивая за собой платформу. Кацнельсон и Юшков остановились, пытаясь разглядеть, что на ней. Электровоз приближался, задержался у стрелки, повернул, и они увидели двигатели. Бросились назад, к пульту, и через несколько минут загудели динамики, вызывая к платформе электрокары и грузовики. С платформы двигатели везли прямо на сборку.
Открыл дверь — крик, визг, Сашка и Таткина дочка очумело несутся из кухни в комнату, орет электрофон, Татка отплясывает с блюдом в руках, хохочет тесть,— встретил настороженные взгляды Ляли и матери, словно бы те ждали, вдруг не он войдет, а кто-то другой, угрожающий их веселью, и тут Сашка в заячьей маске бросился к нему, он подхватил сына, и мать заулыбалась, а Ляля фыркнула что-то приветливое, и он забыл про их взгляды, а потом, уже сидя за столом, отвечая тестю (тот кричал: «Юра, мы с тобой тут два мужика!.. Да и Сашок, и Сашок, конечно же, и Сашок, три мужика! Юра, за женщин!» — тесть в последнее время считал обязательным быть бодрым и говорить громко), Юшков вспомнил те взгляды матери и Ляли и понял — и на мгновение нехорошо стало,— что они всматривались, какой он пришел: в настроении или же опять киснет...
Ему было хорошо. Словно бы воздух комнаты внезапно приобрел свойство передавать чувства, и они перетекали к нему от близких людей. Самыми мощными генераторами были дети, и он жил чувствами Сашки и его сестренки и нетерпеливо ждал вместе с ними подарков, волновался, пока развязывали мешок, и вот — визг, восторг, и он вместе со всеми заразился детским восторгом, и еще материнской растроганностью, и Таткиным весельем, и когда Ляля только взглянула на сестру, он уже наперед знал, что сейчас она поднимется и будет танцевать, расшалится, завертит бедрами, что-то изображая, как будто так все уже бывало с ней, хоть никогда так не было и не похоже на нее это было вовсе. Он угадывал наперед ее движения, словно бы он внушал ей их. У нее блестели глаза, а он чувствовал в своих горячее жжение, и как когда-то в студенческие годы Ляля удивила незнакомой красотой и необычностью, так теперь она удивляла сходством с той, привидевшейся однажды. В движениях необычные смелость и пластика появились, и тесть, гордый дочерью, заплясал рядом с ней. Он, тесть, много выпил, а Юшков был трезвым и свежим, как давно уже не был, и понимал теперь то, что пытался объяснить ему Игорь, когда толковал про желания, которые появляются, если человеку хорошо. Мать робко придвинулась к нему, дотронулась до его руки, и он чувствовал ее одиночество, чувствовал вокруг нее плотный прозрачный панцирь из мыслей, воспоминаний и чувств, который давил ее все последние годы, отделяя от людей, и преодолеть который она могла лишь с помощью других, сквозь этот панцирь прорубающихся к ней извне. Чувствуя вину перед ней за то, что никогда не помогал ей этим, он принимал ее жажду общения, как принимал сейчас все человеческие жажды и желания.
Он вспомнил, что должен позвонить Чеблакову, и, набирая номер, думал о друзьях, о странном звонке Наташи, вспомнил обрыв над озером и слова, что он философствует оттого, что лишен возможности жить активно, подумал растроганно: умная она все-таки девка и никакого ей нет в этом проку. «С Новым годом! — крикнул он в трубку.— Разрешите доложить, товарищ начальник, что конвейер мы не держали!»— «Ты бы еще в семьдесят шестом году мне это сообщил,— отозвался Чеблаков.— Семь часов назад платформа прибыла». Это показалось смешным. «Ничего, Саня! Хорошо, что хорошо кончается». «По-моему, все только начинается,— сказал Чеблаков.— Ну, тебе, Ляльке, тестю, всем — самые сердечные».
Январь прошел хорошо, начался февраль. Завод готовился к своему юбилею. Люди ждали наград, премий и новых квартир. Монетный двор изготовил специальные значки. Красились фасады корпусов. На предзаводской площади и над центральной проходной устанавливали яркие огромные панно и тянули гирлянды иллюминации. К юбилею приняли обязательство выпустить двести машин сверх плана.
Юшков запасся нужными письмами и поехал на АМЗ. Начальник сбыта, желчный, раздражительный капитан в отставке, которому по болезни пришлось уйти из армии, рад был случаю отыграться: «Штрафовать проще всего. Много ума не надо. Даже бланк претензии — и тот в типографии отпечатан, только распишись... А теперь что я могу вам сделать? Ничего не могу. Зря государственные деньги на проезд потратили, езжайте назад. И скажите вашему Дулеву, что у нас плановое хозяйство и я знать не хочу про ваши двести машин».
Юшков встречался с директором и секретарем парткома. Сочувствовали, кивали и показывали графики: «Вот наши возможности. У нас свои поставки. Постараемся, но обещать ничего не можем».
Вернувшись, он пошел к Чеблакову. У того только что закончилось совещание, вокруг стола толпились со срочными бумагами, входили и выходили люди. Юшков сел в дальнем углу, листал проспекты иностранных фирм. Наконец Чеблаков освободился. Выбрался из-за своего стола, сел рядом. «Ну, что привез?» Юшков рассказал. Ему показалось, что Чеблаков прячет глаза. «С двигателями, Юра, ладно...» — «То есть как ладно?!» — «Со сталью хуже. Черепановск опять не дает сорок-ха на поворотный кулак. Там сидит Тамара, но это пустой номер. Съезди. У тебя там контакт». Юшков не сразу нашелся. «Что же, выходит, все, что мы с тобой затевали, насмарку? Опять с подарками?» — «А что бы ты делал на моем месте? Тридцать тысяч человек приняли обязательство, и вот я должен объявить, что мы это обязательство сорвем».— «С нами не советовались».— «Я тебе, Юра, никогда не отказывал. Мы с тобой должны держаться друг друга. Не будет меня — и у тебя ничего не получится». «А если я откажусь?» — спросил Юшков. Чеблаков потрогал красивые глянцевые листки. «Незаменимых людей нет, Юра. Мы с тобой оба заменимы. Может быть, это и есть идеальная организация — не зависеть от субъективных факторов? Крутится себе машина, нигде не скрипит, вроде бы хорошо. Незаменимых нет — это факт. Надо ехать».
Юшков пошел в отдел. Секретарша передала бумаги на подпись, сказала: «В четыре совещание у главного конструктора». Юшков спросил: «Где Игорь Львович?»—«На рессорном». Он прошел в кабинет, сел за стол. Вскоре появился Кацнельсон. Замерзший, в пальто и шапке. «К конструкторам пойдешь ты или я?» — «Иди ты»,— сказал Юшков.
Игорь рассказывал: «Слышал, что на рессорном делается? Там новый директор. Слушай, интересно, откуда он? Буряк Петр Сергеевич... или Семенович. Не слыхал?» — «Бог с ним»,— сказал Юшков. Игорь не останавливался: «Взялся за отдел снабжения. Я, говорит, слово «толкач» не понимаю и не объясняйте мне, все равно не пойму. Ему все же попытались объяснить. Тогда он снял трубку и директорам: «Мне вот докладывают, что к вам надо ехать с подарками». И начался детский крик на лужайке. Просто? Погоди, не отмахивайся. Я сейчас оттуда. Он половину своих снабженцев разогнал».— «Они-то в чем виноваты?» — «Ему нужны другие люди. С другой психологией».— «Бог с ним». Кацнельсон посмотрел на часы: «Бегу». «Кому-то и удается,— сказал Юшков.— За счет других. Потому что раз существует дефицит, то всегда кто-то останется с носом. Все не могут действовать, как твой Буряк». «Зачем сразу думать о всех? — сказал Кацнельсон.— Для начала можно только о себе подумать».
Он терпеливо ждал, пока Кацнельсон уйдет, и говорил себе, что еще ничего не решил. Однако, когда остался один, лучше не стало. Позвонил Валера Филин, позвал обедать, и Юшков обрадовался, что можно еще не решать. Трепались о пустяках. По привычке, от которой трудно уже избавиться, Юшков подтрунивал над приятелем. Тот ухмылялся в бороду добродушнее обычного. Юшков начал догадываться, что на этот раз у Валеры есть какая-то цель. В конце обеда тот признался: «Санька мне место предлагает. Начальником отдела снабжения. Ты как?» Юшков скрыл удивление. «Что — как? Работаю же я начальником отдела».— «Да, но... черт его знает...» «С ума вы с Чеблаковым сошли, не справишься же»,— хотел сказать Юшков и подумал: а почему, собственно, не справится? Валера не пропадет. Возьмет себе заместителя-трудягу, будет ездить по поставщикам, возить женщинам конфеты, щуриться и ухмыляться в бороду с мужиками за ресторанными столиками — и дело будет делаться, и всем будет с ним хорошо.
Глава седьмая
Очередь у барьера администраторши чего-то ждала. Отогревались после автобуса. Расстегивали пальто, устраивались в креслах у телевизора. Деваться им все равно было некуда.
Вошла с улицы директриса. Стряхнула с шубки снег. Обвела всех взглядом, Юшкова не выделила. Пошла через холл к своему кабинету походкой школьной учительницы, проходящей между партами. Юшков выждал несколько минут и постучал в ее дверь. Она сразу его узнала: «Юрий Михайлович! Сколько же вы у нас не были! Года три?»— «Шесть».— «Ой-ой-ой!» Он сказал, что крем женьшеневый в этот раз не сумел достать, но вот кое-что из польской косметики: румяна, помада... Все было как тогда. Взяла его документы: «Посидите здесь, Юрий Михайлович, я все устрою». Устроила в номер с ванной и телефоном. Даже телевизор там стоял. Чтобы не встречаться лишний раз с очередью и не слышать ропота, Юшков позвонил администраторше по телефону и узнал, где остановилась Тамара.
Комната ее оказалась рядом. Тамара открыла и, увидев Юшкова, вытаращила глаза: «Вы откуда здесь?» Она стояла в халатике — выскочила прямо из постели. На двух других кроватях спали женщины. Юшков спросил: «Ты еще не вставала сегодня или уже легла?» Был седьмой час вечера. «А что еще здесь делать? — хмуро ответила Тамара.— Так меня что, отзывают?» В дверь тянуло сквозняком. Две женские головы приподнялись над подушками, повернулись к Юшкову. «Сначала ты мне все расскажи»,— сказал он.
Они пошли в его номер. Нового Тамара ничего не рассказала. Она тут десять дней. Стали нет. Хром будут варить через две недели, и то неизвестно, кому он достанется. Юшков передал слова Чеблакова: если не отправят сталь через неделю — завод остановится. Тамара покачала головой: «Если б хоть варили, а то вообще не варят... Впрочем, вы-то, может, и достанете...» — «Ты к Борзунову ходила?» — «И к Борзунову и Ирине Сергеевне вашей надоедала — что я им? Тут и не такие, как я, ходят... Однако номер у вас — ополоуметь... Курить здесь нельзя?» — «Кури.— Юшков придвинул пепельницу.— И все десять дней, что ты здесь, хром не варили?» — «Я ж говорю. Значит, мне домой?» — «Не вдвоем же тут сидеть,— сказал Юшков.— Да и тебе, наверно, надоело».— «Мне и дома надоело,— сказала она.— Что ж, завтра утром полечу».— «И чем же ты тут занимаешься?» — «Спим целыми днями с девочками». На ее щеке еще не разошлись наспанные рубцы от подушки. Она выжидающе посматривала. Юшков спросил: «Ужинаешь в ресторане?» - «Откуда? — сказала она.— Денег нет. Мы с девочками в номере. У нас чайник. Хотите с нами?» «Пойдем в ресторан. Я приглашаю». «Ладно,— охотно согласилась Тамара.— Только девочек предупрежу».
Она переоделась и подкрасила губы. Он подумал, что у некрасивых людей все перемены ведут к худшему. Потому что приходится привыкать заново. Уж очень она была худая. Он спросил: «А девочки твои не идут с нами?» — «Что вы! Не так воспитаны»,— хмыкнула Тамара. В холле по-прежнему томилась очередь. Кое-кто перекусывал, сидя на чемодане. «На ночь всем поставят раскладушки,— сказала Тамара.— С каждым годом все больше и больше приезжих». У дверей ресторана Юшков взял ее под руку.
Играла радиола. Шумели за столиками. Один столик оказался свободным. Тамара села спиной к залу. Это Юшкову понравилось. Они заказали салаты и шашлыки. «Тут мы с тобой познакомились,— вспомнил Юшков.— Хорошее было время». «Разве? — Тамара удивилась.— Не помню ничего хорошего. Всем почему-то прошлое хорошо».— «А тебе?» — «Мне нет... Я думала, вы поторопитесь звонить Ирине Сергеевне. Или уже звонили?» — «Нет, не звонил. Лучше я с тобой побуду».— «Ну-ну,— сказала она.— Ирину Сергеевну не узнаете».— «Поправилась?» — «Не то слово».— «Завидуешь небось»,— безразлично сказал он, хоть и неприятно стало от ее слов.
Он высмотрел в зале знакомую худую фигуру. У эстрады боком к нему сидел бригадир Володя. Уже захмелел, но до роковой дозы, с которой начиналась его агрессивность, было далеко. Рыхлый блондин, собеседник Володи, рассказывал что-то, наваливался на стол, а Володя опустил острый подбородок на грудь и думал о своем или же ждал своей очереди рассказывать. Давняя неприязнь к нему проснулась в Юшкове.
Тамара поглядела через плечо, что его заинтересовало. «Кто это?» — «Что ж ты тут делала десять дней? Самого нужного человека не знаешь».— «Я ж сказала: спала. Почему вы так интересуетесь, что я тут делала?» — «Потому что ты пробыла десять дней, а мне осталась неделя».— «Вы-то при чем? Какое отношение отдел кооперации имеет к Черепановску?» Заказ все не несли. Юшков открыл воду, налил в бокалы, Тамара вспомнила: «Содвиньте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина». Это была песня Белана. «Ему дали десять лет,— сказал Юшков.— Ты в курсе?» — «Нет». Ничего не появилось на ее лице, только плотнее сжался рот и резче обозначились скулы. «Он хотел жениться на тебе». Она ждала продолжения. «Помнишь, на даче? Он сам не свой был. Говорил, что женится, если ты согласишься».— «Конечно,— сказала она.— Если у него что не получалось, он всегда на стенку лез».— «Он тебе не предлагал?» — «Жениться? Нет, как-то удержался».— «А если бы предложил?» — «Юрий Михайлович,— сказала Тамара.— Что мы все обо мне да обо мне? Со мной все ясно».— «Мне кажется, если бы ты захотела, ты бы могла выйти за него замуж».— «Как же я могла бы, когда у него есть жена?» — «Он же развелся». Она странно посмотрела, замолчала.
Принесли салаты и водку. Тамара выпила одним духом, Потянулась к сумочке, «Тут курить нельзя»,— предупредил Юшков. Она сказала: «Если б я очень хотела, я как-нибудь устроила бы свою судьбу». «Конечно,— поторопился кивнуть Юшков.— Куда тебе спешить».
Володя смотрел на него, силясь вспомнить. Узнал. Опустил голову да грудь, решая, заметить или не заметить. Решил заметить. Поднялся, шатаясь, пошел между столиками: «Юра? Юра, друг...» Тряс руку. Сел рядом. «Юра, скажи, что тебе надо. Володя все для тебя сделает. Помнишь, как мы...— Он явно не знал сам, что надо помнить, но ему казалось, что помнить есть что.— Анекдот про апельсины, помнишь, ты мне рассказывал?» «Отличный анекдот»,— улыбаясь, кивнул Юшков. Никогда он не рассказывал Володе анекдоты. Тот путал его с кем-то. «Отличный, Юра, анекдот».— «Выпей с нами». Юшков поискал глазами официантку, чтобы заказать для Володи. Тот прижал руку к впалой груди: «Извини, Юра. Не могу. Полная кондиция. Будет перебор. Не могу».— «Обижаешь».—«Я? Тебя? Юра! Если что надо...» Поднялся, пятился. Блондин за его столиком ревниво поглядывал. Володя вернулся к нему.
«Старый друг»,— усмехнувшись, объяснил Юшков Тамаре. Она поникла отчего-то. «Как мне это все надоело, Юрий Михайлович». Он удивился, что она не ждет продолжения о Белане. Неужели и для нее тот перестал существовать? Спросил: «Что тебе надоело?» — «Все. Смертельно».— «Ребенка заведи».— «Не заводится,— усмехнулась сердито.— Я могла выйти за Толю. Но у него ж сын маленький! А выйти за него было — раз плюнуть! Он самолюбивый! Поэтому и меня добивался. Я таких не люблю... Вы, между прочим, такой же, как он. Живете только для самолюбия».— «Значит, и меня ты не любишь?» — «Не люблю»,— сказала она просто. А ему-то казалось, что-то было. И Наташа так думала. «Раньше вы мне нравились,— сказала Тамара.— А потом я вас поняла... А может, вы изменились». «Может быть,— сказал он.— Я не заспиртованный». Тамара смотрела в глаза, а слов его не слышала. «Я вам признаюсь. Борзунов дал мне сталь. Один вагон. Я его от дала».— «Как отдала?!» — не понял Юшков. Она посмотрела. «Только вы меня не выдавайте. А впрочем, как хотите. Ну их к черту. Так получилось. Девочке одной отдала. Она вчера уехала. Ей очень нужно было». «Ну-у,— протянул Юшков,— ты сама себя переплюнула. Такое я впервые слышу. Что это, твоя собственная сталь?» — «Я вас очень подвела, да?» — «Может, и подвела».— «Хорошая такая девчонка оказалась. И чуть не спуталась с подонком. Ей нельзя было тут оставаться».
Принесли шашлыки. «Ладно,— сказал Юшков.— Что было, то было. Забудем об этом». Подумал: не такой уж он самолюбивый, нисколько не сердится на нее за все ее признания. Не более самолюбивый, чем она. «Заказать еще что-нибудь?» «Нет»,— сказала она. Он тянул время. Выйдут они из ресторана; что ему делать? И ей, видимо, осточертело убивать время с «девочками», с ним все же было веселее. Они потанцевали, вернулись за столик, заказали вино. Она раскраснелась. «Вы не сердитесь на меня? Я вам лишнего наговорила. Не про сталь...» — «Что ж сердиться, ты права».— «А почему вы женились на дочке Хохлова?» — «Не потому, что она его дочь».— «Честно?»— «Слушай,— сказал он.— Я ведь, в конце концов, умею обижаться».— «Вы любите жену?» — «Ну, знаешь, ты... Да».
Тамара посмотрела недоверчиво. «Неужели она права?» — подумал он. Хорошо хоть промолчала. Теперь она села так, чтобы видеть танцующих. Глаза ожили, заблестели, часто останавливались на нем. «Хочешь танцевать?» — спросил Юшков. Обрадованно кивнула: «Ужасно люблю танцевать». Он позавидовал. Для него ценным бывало лишь то, что каким-нибудь образом обеспечивало будущее, а ей хватало минутного, в сущности — чепухи. «Потанцуем?» Их столик был у самого окна. На стеклах намерз лед, свисал на раму сосульками. За ним слегка подсвечивала темноту красная неоновая вывеска «Металлург».
Когда вышли из ресторана, очередь к администраторше исчезла. В креслах перед телевизором сидели несколько человек. Две женщины воровато разглядывали Юшкова. Это были «девочки» Тамары. Одна в тусклой красной кофте, краснолицая, некрасивая и немолодая, а другая лет тридцати, в белом платочке поверх теплого платья. Спокойное ее лицо понравилось Юшкову. Тамара подсела к ней на краешек кресла, а Юшков ушел спать. Прошлую ночь он не спал и потому заснул сразу.
Тамара сказала правду: Ирина Сергеевна располнела, лицо стало одутловатым и казалось незнакомым. «Вот неожиданность! — сказала она.— Юра, откуда вы?» Юшков рассказал, за чем приехал. По его рассказу вышло, что он решил воспользоваться случаем, чтобы повидаться. «Вы совсем не изменились, Юра. А я ужасно»,— жалобно сказала Ирина Сергеевна и взглянула: а вдруг Юшкову так не показалось, вдруг не ужасно? Он солгал: «Вам идет».— «Ох, что вы,— вздохнула она.— Это у меня после родов. У меня сын родился, да».— «Поздравляю,— промямлил Юшков.— Сколько ему?» — «Год уже».— «Поздравляю». Он не решился продолжать вопросы, боялся попасть впросак. Ирина Сергеевна поторопилась заговорить о деле: хром должны варить через две недели. «Это для меня гибель»,— сказал Юшков. Ирина Сергеевна посочувствовала, подумала и решила: «Знаете что? Пойдемте к Борзунову». В коридоре Юшков спросил о сыне. Она оживилась, увлеклась рассказом, какой у нее забавный малыш, и обоим стало легче друг с другом, оба успокоились оттого, что прошлое ничего не потребовало от них, что хорошо вот так рассказывать друг другу о семейных заботах.
Борзунов обрадовался Юшкову. Неудовлетворенное и опасное, проглядывающее на его лице, вначале мешало поверить в его радость, но через несколько минут уже не замечалось. Он усадил Юшкова, вспомнил о вечере в «Туристе», загрустил от воспоминаний, расспрашивал о Белане. Ирина Сергеевна осудила Белана: «Сколько человек ни имеет, все ему мало». «Да,— согласился Борзунов.— Жадность губит людей. Иногда подумаешь: ну что нам всем не хватает? Жить бы и жить...» За годы работы у него и Ирины Сергеевны выработалась общая философия: все есть, жить бы и жить, а люди все чего-то хотят, и в этом корень всех бед. Судьба Белана как-то касалась их — как возможный вариант их судеб. Оба чувствовали удовлетворение оттого, что их вариант выиграл у варианта Белана.
Юшкову оба хотели помочь. Развернули график, прикидывали так и эдак. «Когда тебе надо?» — переспросил Борзунов. Юшков на всякий случай оставил в запасе день. «Через шесть дней, не позднее». Посмотрели по календарю, решили: «Будем варить через четыре дня». Борзунов спросил про Хохлова, узнал, что того сняли, и снова порадовался: еще у одного варианта выиграл. «Кстати, Михалыч,— вспомнил он,— что там у вас за Буряк такой объявился на рессорном? Слышал о таком?» «Слышал кое-что»,— сказал Юшков. Ему второй раз говорили о Буряке, и почему-то это опять было ему неприятно. «Серьезный дядька,— сказал Борзунов.— Ты, Ириша, поосторожней с заказами рессорного. С ним лучше не связываться». Юшков проводил Ирину Сергеевну до отдела. Теперь, когда она стала ему не нужна, она еще больше робела. «Надо посмотреть твоего малыша»,— сказал он. Обрадовалась:«Обязательно, Юра! Позвони мне в эти дни, ладно?»— «Значит, дома у тебя все в порядке?»—спросил он. «Ах, Юра... Я, наверно, привыкла». Он видел: все у нее в порядке.
Не то снег, не то замерзающий дождь летел навстречу вдоль улиц. Два дня назад здесь была оттепель, ноги скользили по наледи. Администраторша вместе с ключом вручила телеграмму: «Немедленно звони заводскому или домой Чеблаков». Он тут же заказал заводской номер.
«Старик, дело такое! — закричал Чеблаков.— Ты слышишь меня? Как у тебя там? Порядок? Дело такое: подводят нас на АМЗ! Закругляйся и прямо из Черепановска давай туда! Двести дизелей хоть кровь из носу! Деньги нужны—вышлю туда телеграфом!»—«Погоди,— сказал Юшков, собираясь с мыслями. Он понимал, что спорить сейчас бесполезно.— Кацнельсон в курсе?»—«При чем здесь Игорь?— запнувшись, сказал Чеблаков.— Ехать надо тебе... Ну, если хочешь, звони ему, попробуй уговорить, меня он, честно скажу, не слушает! Старик, пойми, я бы не звонил без крайности! Вернешься — обсудим! К старому возврата все равно нет!» — «До следующего юбилея? Да как же я их уговорю на АМЗ? Только пообещав, что никогда больше судиться не будем».— «Старик, повторяю, я бы не звонил без крайности! Будь здоров!» Юшков продолжал держать трубку. «Гостиница! — окликнула телефонистка.— Разговор кончен?» — «Подождите». Он продиктовал ей номер Кацнельсона.
Его дали сразу. «Я знаю,— сказал Игорь.— Мне говорил Чеблаков. Я не сумею. Никогда этим не занимался».— «Когда-то надо начинать».—«Юра,— сказал Игорь.— Извини, пожалуйста. Я не поеду».— «Черт возьми! — Юшков усмехнулся.— При чем тут извинения? Ты обязан ехать. Это твоя работа».— «Я не поеду».— «Странный разговор».— «Если нужно, я напишу заявление».— «Извинения, заявления... Что мне с твоего заявления? — Он понял, что Игоря не переубедишь.— Черт с тобой. Пока!»
У себя в номере он постоял у окна. Оно выходило на бульвар. Напротив были почта и магазин. Через четыре дня будут варить сталь. Потом прокатают ее на блюминге, нарубят, и Володя погрузит ее в вагоны. Шесть дней. И неизвестно было, чем эти шесть дней занять. Он вышел в коридор, постучал в номер Тамары. Открыла одна из «девочек», молодая, в белом пуховом платке. Она собиралась уходить. Сказала, что Тамара выписалась и уехала. Лицо женщины опять показалось приятным. Нижняя губа чуть-чуть оттопыривалась, как у детей. Он подумал, что женщина эта, наверно, избалована в детстве, росла в спокойной интеллигентной семье — заласканный ребенок, которому хорошо только дома. Поэтому у нее такое лицо, спокойное неробкое одновременно.
Он пообедал в ресторане, лег в номере на кровать и проспал до вечера. Проснулся в темноте. От окна тянуло холодом, а он был в испарине и давило сердце. Наверно, заснул в неудобной позе и мешала одежда или, может быть, уже и началось с сердцем что-нибудь. Привиделись какие-то кошмары, будто случилась непоправимая беда, как в романе, прочитанном в детстве: полетела вниз кровать, полетел и он вместе с ней, как в кабинке лифта, и очутился в темном подземелье в железной маске. Он осознал, что лежит в брюках и смятой, пропотевшей под мышками рубашке, а кровать его стоит неподвижно в номере, но ощущение жуткой ошибки осталось, будто он должен был быть не здесь и нельзя, недопустимо было оказаться ему здесь, и если не железная маска, то что-то иное давит на лицо, меняя его как ускорение реактивного самолета искажает лица летчиков.
Ну, не поедет он, подумал он, поедет Саня. «Не в последний раз с вами встречаемся, нам ссориться нельзя, ребята мои перегнули палку, но впредь...» И все пойдет по-прежнему, будто и не было этой зимы...
Заявление написать проще всего. Устроиться на спокойное местечко, киснуть... Вечерами развлекаешься тем, что чинишь приборы в клинике у Надьки, философствуешь: «В языке нет слова, означающего отсутствие желаний...» А требуют такие вот, без желаний, всегда больше, чем другие... «Вы же не пойдете лаборантом»,— до чего ж тогда легко было!.. Он поедет на АМЗ, за двести дизелей откажется от всех претензий, но это будет последняя его уступка, и больше он никогда...
Но он уже не верил себе и знал, что, согласившись теперь, будет соглашаться еще и еще.
Мысль снова возвращалась к Игорю, не помогала ирония. «Уж не завидую ли я ему?» — подумал он и рассердился на себя. В конце концов, он никому ничего не обещал и никого не обманывает. Лучше честно сказать себе, что способен на немногое, чем выбрать не по силам и потом уйти налегке. Конечно, это большое удовольствие — быть выше обстоятельств. Но он в праведники не набивался.
Он дотянулся до выключателя, зажег лампу. Сел в кровати. Его ждут на заводе со сталью и двигателями. Никого так не ждут, как его. И он привезет все. Эх, полным-полна коробочка, есть и ситец к парча... Умылся, переменил рубашку и вышел из номера. Когда он проходил мимо комнаты, из которой уехала Тамара, дверь отворилась, вышла из нее пожилая краснощекая женщина и заперла за собой. В холле сидели перед телевизором люди. Краснолицая женщина села в свободное кресло. Ее молодой соседки не было. Юшков пожалел об этом: она понравилась, можно было бы поговорить с ней, да если и не подойти и не заговорить, все равно, когда есть поблизости женщина, на которую приятно смотреть, жить еще можно. Он подумал, не в ресторане ли она, но и там ее не оказалось. Видимо» и она уехала.
В ресторане за его столиком два командированных, оба приземистые, мешковатые, стеснительные, похожие друг на друга, потихоньку налаживали дружбу. Разговор, как водится при случайном знакомстве, шел об окладах и ценах, о мясе и урожаях, и в частых паузах то один, то другой, пытаясь выглядеть разбитным и видавшим виды, подмигивая, подливал в рюмки. Короткие, неповоротливые шеи быстро багровели, глаза начинали блестеть, на лбах выступал пот, и мужики освобождались от скованности, пытались втянуть в разговор Юшкова. Он не стал пить с ними. Вернулся в номер и смотрел там телевизор, пока не кончилась программа.
Утром Юшков спустился в холл, не зная, что будет делать. В коридоре гудел пылесос. В креслах перед выключенным телевизором сидели несколько человек, один из них, бритоголовый, был в пижаме. Зазвонил на столике телефон, кто-то поднял трубку, послушал и крикнул: «Нижний Тагил! Кто заказывал Нижний Тагил?» Юшков вздрогнул: неужели его нижнетагилец здесь? Но трубку взял бритоголовый в пижаме. Юшков дождался, пока тот поговорил, и спросил: «А где Василий Григорьевич, который раньше сюда ездил?» Бритоголовый не знал никакого Василия Григорьевича, спросил фамилию, а фамилию Юшков не помнил. «Невысокий, лохматый, большой красный нос... ну, очень большой нос». Бритоголовый тут же сообразил: «Кантин. Ну конечно.— И посуровел, как подобало случаю: — Он умер. С сердцем что-то было. Год, по-моему, тому... Или нет, два». Директриса прошла мимо в мокрой от стаявшего снега шубке, распахивая ее на ходу. «Как вам номер, Юрий Михайлович? Угодила я вам?» Он поблагодарил и поспешил наверх, чтобы она не затеяла разговора. На лестнице столкнулся с молодой «девочкой» Тамары. Она была в пальто, пуховый платок завязала вокруг головы. Юшков обрадовался: «А я думал, вы уехали».— «Нет»,— простодушно ответила она и покраснела. В платке ее лицо показалось совсем детским. Из-за оттопыренной нижней губы. Юшков сказал: «Вчера вечером вас здесь не было» — и она все так же простодушно стала объяснять, где она была вечером: у нее тут отец и мать живут неподалеку, ездила к ним.
Она подождала, пока Юшков сбегал в номер за пальто. Все тот же мокрый снег летел навстречу, ветер задувал за ворот и рукава, шли, подставляя ему лбы. Женщину звали Сашей. Приехала она из-под Воркуты, там работала в НИИ техником и никогда не занималась снабжением, но вот понадобилась для чего-то сталь, а тут ее родители, отец на комбинате работает, и согласилась поехать, чтобы повидаться со своими. Сталь отец для нее достанет, он даже к директору ходил, с директором он работал в молодости на одной печи.
Все оказалось не таким, как представлял Юшков. Никакой не было чистенькой квартирки в Ленинграде или Москве, не было девочки с оттопыренной губкой и нотной папкой на шнурке, которую мама водила за ручку в музыкальную школу, как водила Алла Александровна своего сына, не было оранжерейного одиночества воспитанного ребенка, сторонящегося разбитных одноклассников. На Саше в детстве были огород и восемь соток картошки, кабан в сарайчике и три младших брата. В девятнадцать она вышла замуж за Сережу, сразу пошли дети. Илюше, ее уже десять, Танечке семь и всегда болеет, а Альбине два года, еще ходить не начала и почему-то не говорит, но врач сказал, что немой она не будет. Сережа — шофер, работает много, иной раз по пятьсот в аванс приносит, и ей тоже идут северные, но, наверно, хозяйка она плохая, деньги не держатся... Все это Юшков узнал, пока шли они к стальной калитке с белой трафареткой «Посторонним вход воспрещен». Он откатил ее, и они с Сашей оказались в отделочном цехе, в серебряном свете, где сизые стальные штанги двигались бесконечной чередой по стальным роликам, как сплотки бревен по холодной, осенней воде. Мимо вагонов, посматривая на связки металла, плывущие над головой, они прошли к конторке Володи.
Там уже был Сашин отец, маленький, сморщенный, в распахнутой телогрейке и валенках. Он потрясал перед Володей бумагой, силясь вразумить человека, который не хотел понимать очевидное: «Директор тебе не указ? Свою власть тут показываешь? Кто тебе указ, если директор не указ? — Увидел дочь и совсем разошелся.— Дай сюда телефон, я ему позвоню, он сам тебе скажет!» «Некогда мне с директором разговаривать»,— буркнул Володя. Сняв трубку, он вызвал железнодорожную станцию, кричал про порожняк, двухосные и четырехосные и, бросив трубку, вышел из конторки, зашагал мимо Юшкова к вагонам.
Саша обеспокоилась: не вышло? Отец ее делился с Юшковым: что за люди, директор сам дал команду, сам звонил, а они... Юшков объяснил: идти с бумагами следует не сюда, к Володе, а в производственный отдел к Борзунову, тот даст указание Ирине Сергеевне или Полине Андреевне, они — начальнику цеха, тот дальше, пока не дойдет до Володи. Сашин отец притих. Он-то думал, что, побывав у директора, все сделал, а оказалось — столько еще начальства. А он в первой смене, отпросился у мастера сбегать на минуту...
Они пошли к Борзунову втроем. Тот взглянул на бумаги и как будто обрадовался им: «Куда ж вы делись, я вас ждал, Семен Захарович звонил мне, сейчас хрома нет, но через шесть дней будет, это такой пустяк, стоило ли ради этого беспокоить Семена Захаровича...» «Дак я думал... дак ведь не знал...» — оправдывался Сашин отец и виновато переминался с ноги на ногу, теребил в руках ушанку.
Саша и Юшков пообедали в привокзальной столовой. Саша волновалась, не обманет ли Борзунов: «Я ничего не понимаю в этом». Она уже потеряла веру в отца и надеялась теперь только на Юшкова.
«Почему вы в гостинице, а не у родителей?» — спросил он. «Куда мне там! Брат с женой, дочка их»,— начала она перечислять и рассказывала, как болеет жена брата, и как устает мать, и как там тесно и трудно, и как она расстраивается из-за всего этого и, побывав у родителей, всегда возвращается в гостиницу в плохом настроении, а Юшков думал: простуды, усталость — разве из-за этого расстраиваются? Рассказы Саши быстро прискучили ему, особенно надоел Сережа, который умел подбирать на аккордеоне любую мелодию, мог бы стать инженером, если бы захотел, и был на базе членом месткома. Они с Сашей вернулись в гостиницу, и, прежде чем заснуть, Юшков отметил, что полдня прошло, осталось три с половиной, а там пойдет сталь и у него будет дело. С Сашей он сходит в кино и потанцует в ресторане и все, потому что при всей неприязни к музыкальному Сереже он не сможет быть непочтительным с матерью троих детей.
Он увидел Сашу после ужина. Она смотрела в холле телевизор, и снова, как в первый вечер, показалось, что сидит заласканный ребенок, которому холодно и страшновато среди незнакомых людей, и, чтобы его не трогали, старается выглядеть независимым и смелым. Юшков подошел к ней. Саша покраснела. Соседка ее в тускло-красной кофте навострила уши. Юшков предложил пойти в кино. Саша сказала: «Пойдемте».
Они не успели на последний сеанс и гуляли по улицам. Юшков никогда не гулял по улицам и чувствовал себя неловко. Саша рассказывала про детей и Сережу, все ее воспоминания были связаны с детскими болезнями, а Юшков недоумевал, зачем он пошел с ней, и думал, что Саша в пальто и платке, разговаривающая с ним,— это один человек, а Саша, сидящая в холле,—другой, и тут уж ничего не поделаешь, ему нравится одна и скучна другая, а поменять их местами невозможно. Он пытался шутить, но быстро оставил это: юмор Саша не воспринимала. Наконец она заметила, что он молчит, и тоже замолчала. Они дошли до городского парка и повернули назад. Идти молча было совсем неловко. Саша заговорила о своей младшей, Альбине, все про ту же немоту, и Юшков, успокаивая, вспомнил, что у его Сашки было так же. Помолчав, Саша спросила: «А ваш сын с вами живет или с женой?» — «Мы все вместе живем»,— ответил Юшков, недоумевая, отчего она предположила иное.
Весь следующий день он провел в номере. Нужно было позвонить Ирине Сергеевне, и не мог заставить себя. Встречаться с Сашей тоже не хотелось. Все же вечером он спустился в холл. Саша смотрела телевизор, и он заговорил с ней. Она отвечала холодно. Он понимал, что холодность ее намеренная, и понимал, откуда она. Предложил пойти куда-нибудь. Саша покачала головой и сказала почти торжественно: «Нам не нужно больше встречаться». Он спросил: «Почему?»— «Потому что зачем вам это нужно? — Саша внимательно посмотрела.— К чему это?» — «Так ведь интереснее, чем сидеть перед телевизором».— «Нет»,— снова замотала она головой. «Жаль»,— сказал Юшков и ушел. Ему и вправду стало досадно. Кроме того, ему предпочли телевизор,— это уж было слишком. Сидел у себя в номере, смотрел подряд все передачи и злился на Сашу.
Он удивился, увидев ее утром в холле. Она ждала его. Поднялась, храбро улыбаясь, Покраснела. «Вы идете сегодня на комбинат?.. Я хотела с вами пойти...» Улыбка стала жалкой, поскольку Юшков молчал, не помогал ей. А у него злое любопытство было: из-за чего она унижается? Сталь ей нужна? Отомстив ей за вчерашнее долгим молчанием, он спросил: «А что вам нужно на комбинате?» — «Я не знаю,— сказала она.— Что-то же нужно делать».— «Ничего не нужно делать. Ждите».
Он шел завтракать, и она попросила подождать, убежала к себе и вернулась в пальто и платке. Завтракали они около вокзала. «Вы вчера так неожиданно пригласили меня... Вы не сердитесь? — Она видела, что он отчужден.— Я вам потом объясню... Я не могу относиться к этому так, как вы...» — «К чему относиться?» — «Я потом объясню...» Он не спросил, когда это — потом. Она сама заговорила: «Невестка моя как-то пошла в кино с одноклассником. Брат ничего такого и не видел, а папа так рассердился... Такую женщину, говорит, повесить надо... Я не могу с этим не считаться...»
Они вернулись в гостиницу. Поколебавшись, Саша вошла в номер Юшкова. Потом она, расстегнув пальто, сидела в кресле, а он целовал ее, гладил волосы, и снова целовал, и говорил, что любит, и высвобождал от рукавов пальто ее руки, обнимал, а она время от времени говорила: «Ужас, что я вам позволяю... Ох, до чего мы дошли...— Потом вырвалась и сказала решительно:— Я сейчас же от вас уйду». Он уговорил ее сесть. «А вы сядьте на кровать»,— приказала она.
Он сидел и думал, что же ей надо и почему она не уходит. Наконец она заговорила. В голосе появилась назидательность: «Я вот у мужа всегда спрашиваю. Он вот говорит, люблю. А я говорю: за что? Если любишь, ты же можешь объяснить, за что. Я ведь всегда могу объяснить!» Ждала ответа. Юшкову не хотелось смеяться. Он одно лишь отметил: она уже не произносит «Сережа», только «муж». Спросил: «Ну и что он отвечает?» — «Он говорит, я не могу объяснить»,— «Мне плохо без вас»,— сказал Юшков. «Вы вчера днем что делали?» — спросила Саша. Вчера днем он лежал на кровати и никого не хотел видеть. Наверно, в это время она ждала его, была уверена, что он будет ее искать, и его отсутствие показалось ей чуть ли не предательством. «Не помню»,— сказал он. Она сказала: «Вы вчера показались мне таким равнодушным...»
Вот отчего она решила войти к нему. Надела пальто, поправила волосы, подошла к двери и прислушалась. Постояла, собираясь с духом, возвращая на лицо выражение холодной отстраненности, то единственное, которое Юшкову нравилось в ней. Решилась, повернула ручку и осторожно вышла в пустой коридор.
Юшков лег на кровать, обдумывая, не вел ли он себя слишком глупо и не выглядел ли смешно. Успокоив себя на этот счет, он стал думать о Саше. Думалось о ней с улыбкой и тепло.
Перед обедом постучали в дверь, и не успел Юшков ответить и спустить ноги с кровати, как вошла Саша. Села в кресло. Теребила на груди концы пухового платка. «Мы с девочками собираемся сегодня в кино, я зашла вас пригласить. Вот... На восемь часов». Юшков согласился, а она не торопилась уходить. Она больше не называла мужа по имени. В кино они никогда не ходят — он говорит, зачем же телевизор покупали, если в кино ходить. Приезжали к ним артисты, тоже не пошла — болел Илюша. Предложили как-то путевку в Крым, уже и купальник купила, так тут Танька заболела. «Он из троих только Таньку любит».— «Пьет?» — спросил Юшков. Саша подумала, ответила: «Нет, он не пьет. Не больше других. Ему совсем нельзя пить».— «Болеет?» — «Ну что вы, он очень здоровый!» Перед ним сидел ребенок. Именно та девочка, которую он увидел впервые в холле, когда они с Тамарой подошли к ней. Трое детей, тридцать лет — это ничего не значило. Тридцать лет заполнились возней с детьми. Сначала с братьями, потом с сыном и дочерьми. Кроме этого, у нее ничего не было.
«...он жадный. Я, говорит, столько приношу, куда ты все деваешь? Конечно, у нас есть немного на книжке... Однажды я поехала в Воркуту, попросила снять двести пятьдесят рублей, пальто мне надо было и сапоги. Ничего не достала, и... не знаю, может, вытащили, может, выронила в автобусе... Прихожу, а он... Ты, говорит, их прогуляла... и...» Замолчала.
Глаза были сухими. Их высушил давний гнев, которому она не позволяла никогда завладеть собой, не давала ходу, и вот спустя годы он вырвался наружу. Она смотрела мимо Юшкова в стену, где над кроватью висел под стеклом эстамп, березки и речка под облачным небом. «...мама и папа не знают ничего, я им не рассказывала... И еще раз было...» Юшков гладил ее руки. Они были красные, с короткими пальцами, с очень маленькими некрасивыми ногтями. Саша спохватилась: «У него есть и другие качества: когда я болею, он меня жалеет. А я, когда он болеет, всегда злюсь: тут эти трое, так еще он».— «Сил не хватает»,— сказал Юшков. Она кивнула: «Да, наверно». Помолчали. «Все в жизни бывает»,— сказал Юшков. Саша кивнула. Что-то еще хотела рассказать и раздумала. Виновато посмотрела: наскучила ему? «А ваша жена... кем работает?» — «Она инженер»,— сказал Юшков. «Я пойду»,— сказала Саша, высвобождая руки, уязвленная тем его семейным благополучием, которое представилось ей. И вдруг вздохнула, махнула безнадежно рукой: «Я теперь буду вас сравнивать...»
Ей нужно было к родителям, и она ушла, оставив у Юшкова смутное чувство, что он вел себя не так предприимчиво, как надо бы мужчине под сорок лет. В ресторане он сел за свободный столик. Крупная блондинка села напротив, все пыталась завязать разговор: то в меню ей что-то непонятно было, то интересовалась, долго ли тут принято ждать заказанное. С ней было бы просто поладить, и Юшков упрекал себя в том, что его тянет не к ней, а к Саше. Неужели потому, что в Саше привиделось неблагополучие? Именно эту тягу к тем, кто нуждался в покровительстве, он не любил в матери. Но у матери было другое. Она жила, переполненная собой, своими мыслями, чувствами и воспоминаниями, все это плотным прозрачным панцирем отделяло ее от мира, панцирь твердел с годами, сжимался вокруг нее, и она старалась высвободиться, разрушить плотный купол общением с людьми. Она была молодец, и жить ей было интересно.
Он не забыл, что приглашен в кино, но идти с тремя женщинами и развлекать их не хотелось, и он остался в номере. Лежал на кровати, смотрел телевизор. Не поднялся и ради ужина. Часов в десять Саша пришла. Вгляделась, спросила: «Вы не заболели? Я должна извиниться. Мы собирались с вами в кино, а я задержалась у мамы... Вы меня ждали?» Видно было, что она лжет. Нигде она не задерживалась, ждала его, а теперь, растерянная, выясняет, что же с ним случилось такое, отчего он не пришел, и надеется, что причины для этого были веские. Юшков запер дверь и погасил свет. Мертвенный блеск экрана освещал кровать. Выступали фигуристы, звучала музыка, диктор объявлял оценки. «Юра, что вы делаете, я не для этого пришла»,— бормотала Саша, и он любил ее и не помнил себя... Наверно, ей не было хорошо так, как ему. Притихла, смотрела в стену. «Я люблю тебя»,— сказал Юшков. Саша натянула платье и легла щекой на подушку, закрыв глаза. Юшков гладил ее волосы. «Я немного полежу так». «Тебе плохо?» — спросил он. Она сказала: «Нет». «Нам будет лучше,— говорил он,— я знаю. Мы привыкнем друг к другу. Мы оба слишком нервные. Нам будет очень хорошо». «Мне хорошо с вами,— сказала она. Открыла глаза.— А вы не ждали меня внизу полвосьмого?» «Я ждал тебя здесь»,— солгал он. Она удивилась: «Здесь?.. А-а...» «Ты не веришь, что я тебя люблю?» «Не знаю. Наверно, если бы я сама...» «Да, если бы ты любила, ты бы верила». «Нет, почему же... я...» — недоговорила. Подошла к двери, прислушалась. Юшков стоял рядом. Обнял ее. Она возмутилась: «Юра, что же вы! Мне сейчас выходить!» Он не сразу понял, в чем дело: она была уверена, что все ее чувства заметны на ее лице. Она выходила к людям, как актриса на сцену — собрав всю свою волю, контролируя мышцы лица.
«Мы не должны больше видеться». Вот о чем она думала, когда лежала щекой на подушке.
Проснулся он с мыслями о ней и ужаснулся, как мало у них времени. Завтра пойдет сталь, еще два дня — и разъедутся. Гостиница спала. Он открыл дверь в коридор и, сидя в кресле, ждал, когда начнут подниматься. В семь часов захлопали двери, застучали женские каблуки, зашаркали тапочки. Он ждал до восьми и постучал в дверь Саши. Открыла растрепанная незнакомая женщина. Сказала, что Саша ушла. Наверно, на комбинат. Он обиделся: могла бы и подождать его.
Ее не было ни у Ирины Сергеевны, ни у Володи. Значит, поехала к родителям. Юшков забежал в мартеновский цех. Шихтовщики готовили хром, все шло нормально. Возвращался в гостиницу бегом. Ключ от номера Саши висел на доске за плечом администраторши. На всякий случай Юшков все же постучал в дверь. Никто не отозвался. Он пообедал в ресторане. Ключ висел на прежнем месте. Юшков сел в холле и стал ждать. Прошла из кабинета директриса, поздоровалась, собралась заговорить и, увидев его лицо, не решилась. Он рассердился на себя и ушел в номер. Вспоминал слова Саши, ее лицо и говорил себе, что она его любит. Но если бы она любила, то искала бы его, ценила оставшееся им время. Прошло уже полдня, сколько осталось? Он решил, что ей просто-напросто нужна была его помощь, чтобы получить сталь, все у нее было нацелено на это, а вчера вечером по неопытности она попала в ловушку, запуталась и теперь избегает его... А ему это зачем? Может быть, это и есть плата за то, чему, как говорил Игорь, нет слова в языке...
Он задремал, и стук в дверь разбудил его. Саша вошла в комнату. Села в кресло. «Я все рассказала папе. Он сказал, что такую женщину надо повесить... Вот в чем дело». «Саша,— сказал Юшков, обнимая ее,— я весь день ищу тебя». «Я глупая,— сказала она.— У меня всегда так». «Что всегда так?» «Не так,— поправилась она, испугавшись того, что он мог подумать.— Так у меня не было. Не знаю, почему я такая глупая». «Ты умная,— сказал он.— Я тебя люблю. Ты только не исчезай. Иди сюда». «Нет,— отстранилась она.— Я буду в кресле». «Саша... В жизни так мало хорошего... У нас с тобой что-то может получиться, у нас так мало времени...» Она не слушала. Не до рассуждений ей было, не до хорошего, о котором он говорил, не до него. «Я сейчас с племянниками... Я не могла с ними говорить! Господи, думаю, они же все видят! И дети мои все сразу заметят!» «Что заметят?!» «А что ты скажешь жене?» — спросила она. Юшков опешил. Она ждала. «Зачем сейчас об этом думать? — нашелся Юшков.— Может быть, мой самолет разобьется». «Вот! — Она всплеснула руками.— Вот и муж мой такой! А я не могу так, я всегда думаю и всегда боюсь». «Иди сюда»,— снова позвал Юшков. «Юра, перестаньте. Я сейчас же уйду... Может быть, если бы мои смотрели на это так, как вы... Я должна считаться с их мнением...» Он перестал надеяться, что сможет ее понять. Казалось, она заговаривается. «Как я смотрю? Я смотрю так же, как ты, Саша». Он повторял, что искал ее весь день, говорил, как плохо ему было, но она не верила, что ему плохо, и не слушала. Высвободила руки, надавливала пальцами уголки глаз, растягивала кожу, чтобы удержать слезы, но они выкатились, поползли. Виновато взглянула. «Я теперь все время реву». Он гладил ее, успокаивал. «Мне надо идти,—сказала она.— Еще только немного посижу. Говорите что-нибудь. Расскажите про вашу жену». «Говори мне «ты»...» «Я не могу... Я... я уступила вам, потому что не хотела, чтобы вы унижались». Уязвленный, он отстранился. Замолчали. «Я хочу пить»,— сказала Саша. Стакан был грязный. Юшков вымыл его в ванной зубной пастой, принес воды. Саша отпила глоток. Стакан она держала, оттопырив мизинец. «Ваша жена красивая?» «Красивая»,— сказал Юшков. Саша заплакала. «Красивая... и тут я подлая». Это тоже было вне логики, но он понял. «Ты ни перед кем не виновата. И перед мужем не виновата». «Ну да, не виновата.— Она подняла заплаканное лицо.— Как же!» «Ты только передо мной виновата». Она ему не верила. Но успокоилась, поднялась. Пошла к двери. Ему стало страшно. «Вечером ты придешь?» «Нет». «Саша! — взмолился он.— Ты со своим мужем пятьдесят лет будешь жить, дай же мне один вечер, один час!» «Не унижайся так, Юра,— строго сказала она.— Тебе нельзя так унижаться». «Я вообще в счет не иду,— сказал он.— Со мной можно поступать как угодно. Я же тут с ума сегодня сойду!» «Я не приду!» «Глупо,— сказал он.— Все так плохо, и ты еще». «Что плохо?» «Останься».
Она стояла у двери, подготавливая свое лицо к коридору. Это было смешно. Лицо ее ничего не выражало, ей нечего было бояться. «Я не знаю, что у тебя плохо, Юра. Но я запомнила, как один человек сказал в кино: как бы ни было плохо, никогда человек не должен падать духом». Юшков невольно усмехнулся: «Вот видишь, какая ты умная. А говоришь — глупая». «Мысли,— она дотронулась пальцем до своего лба,— у меня иногда бывают умные, а поступки я совершаю такие глупые...» Он обнял ее и поцеловал. Она рассердилась: «Мне же выходить сейчас, как ты можешь! Прощай!» Он сделал последнюю попытку: «Так не прощаются». Она послушно подставила лицо для поцелуя. «Все-таки я буду ждать тебя весь вечер».— «Не надо ждать,— взмолилась она.— Так я тоже не могу, когда ты ждешь». Выглянула в коридор и вышла, сосредоточенная на том, чтобы лицо ее не подвело.
Юшков был уверен, что она придет. Он купил в магазине вино, сыр и печенье. Убрал номер. Переставил кресло ближе к кровати. В девять он начал сердиться: два—три вечера у них, и один уже пропадает. Несколько раз спускался в холл. Саши там не было. В одиннадцать он еще надеялся. Потом сказал себе, что обязательно ее проучит.
Утром ушел в мартеновский цех. Если она решила видеть его днем, у нее ничего не выйдет. Днем он не покажется в гостинице. Тогда к ночи она прибежит.
Получился первый ковш хрома, получился второй, закладывали третий. Третий его уже не интересовал. Он побывал на блюминге, в отделочном поговорил с Володей. Володе он не доверял. Толкачи кружили вокруг, караулили бригадира, шептали на ухо. Юшков позвонил на железнодорожную станцию, узнал, сколько заказано порожняка и когда формируется состав. Он отсек Володе все пути для обмана. Вернулся в гостиницу вечером. Он был доволен собой: день прошел и Саша, конечно, уже прибегала днем к его номеру и, не застав, ждет его теперь так, как он ждал ее вчера. У них получится очень хороший вечер.
В холле Саши не было. Он разделся в номере. Ждать не мог. Вышел в коридор, постучал в дверь. Она была заперта. Он снова спустился в холл. Ключ висел на месте. Он сел в кресло так, чтобы видеть этот ключ. В девятом часу пришла одна из соседок Саши, взяла ключ, стала подниматься по лестнице. Юшков нагнал ее, поздоровался. «Саша уехала»,— сказала она.
«Когда?» — «Вот сейчас проводила». Тетка отводила глаза. Лицо ее, иссеченное холодным ветром, было красное, как обваренное. Он спросил: «Почему она уехала?» «Не знаю.— Тетка открыла дверь и норовила проскользнуть в нее.— Она была очень расстроена». «Плакала?» — зачем-то спросил Юшков. «Плакала».
В номере он сел в кресло. Говорил себе: днем раньше, днем позже, какая разница. Теперь пошел хром, у него есть дело, только успевай поворачиваться. Однако тяжесть давила и не хватало дыхания. Проходить по коридору, спускаться в холл, идти на комбинат, зная, что нигде не встретит ее,— это казалось невозможным. «Черт знает что,— говорил он себе,— неужели это я? Неужели со мной возможно такое?» Он позвонил в аэропорт Горска. Самолет улетел в пять часов, завтра будет рейс в двенадцать. Значит, она еще в Черепановске. «Конечно— подумал он,— перебралась к родным и утром будет на комбинате». И тут же понял, что не для того она от него сбежала, чтобы встретиться завтра. Потом мелькнула мысль, что она оставила ему записку, хоть два слова. Он побежал в холл к почтовым ячейкам. Записки не было. Он вернулся в номер. Все пытался понять, что же с ним. Ведь всего только один день потерял, что мог дать ему этот один день? Отчего же жить невозможно? Отчего он не борется с тоской, как привык бороться, а охотно ей поддается, даже боится, что она отступит? Уж не с ума ли он сходит? Он включил телевизор. Звука не было, он не стал поворачивать рукоятку громкости. На экране в три ряда сидели оркестранты, махал палочкой дирижер, скрипачи беззвучно водили по струнам смычками. Он стал вспоминать. Склеивал бережно по кусочкам минуты, боялся упустить любую мелочь, все надеялся что- нибудь понять. Но вспомнить лицо не удавалось. Лишь какие-то отдельные движения, поворот головы: «Ну да, не виновата, как же!»— а вместо лица пятно. Он удивился: чем тешится! Ну а чего другого набралось за тридцать пять лет? Были какие-то мелочи в море житейской мути, и всегда оставалась пустота, а сейчас не пустота, что-то другое, давит, дышать не дает, тошнотой подступает, но не пустота, и ничего он сейчас не боится, даже заплакать может и не будет стыдиться себя, потому что себя он ощущает всегда как некую форму и заботится всегда об этой форме, а сейчас какая к черту форма?
Утром самые простейшие движения требовали всей его воли, а днем — как с мышцами усталыми бывает от движения — разошлось. Саша на комбинате не появлялась. В конторке Володи Юшков нашел копию ее заказа и следил за ним вместе со своим заказом. Он теперь проверял каждый шаг Володи. Если в первую командировку его сталь могли завалить сверху другой и тем задержать отправку на сутки, то теперь такого уже быть не могло. Володя ворчал: «Надоел ты мне, парень, других забот у тебя нет?» Юшков спросил, где работает тот маленький дядька, который ссылался на директора. «Тут их тридцать тысяч работает,— сказал Володя.— Поди сыщи. Тут и с фамилией не всегда найдешь. Дочь его приглянулась?»
Сталь погрузили в вагоны. Юшков позвонил на завод и продиктовал их номера. Ирине Сергеевне и Полине он подарил коробку конфет и цветы. В гости к Ирине Сергеевне так и не попал. В семь вечера он ждал посадки в аэропорту.
В городе в это время было пять часов. Кончилось совещание в горкоме, и Чеблаков вышел на площадь. Вдоль всего квартала стояли у тротуара «Волги», за два часа, пока длилось совещание, ветровые стекла и капоты занесло мокрым снегом. Некоторые машины уже отъезжали. Чеблаков подождал Буряка. Они были на совещании самыми молодыми, как-то заметно молодыми, и Чеблаков намеренно сохранял с директором рессорного прежний, институтский тон, говорил ему «старик» и старался сблизиться. По многим признакам он замечал в Буряке то, что он называл «человек приобретает вес» и «человек растет» и что не просто соответствовало должности директора, а было чем-то большим, человеческим состоянием. Однако в этот раз ему показалось, что Буряк совершил ошибку. На совещании тот заговорил о толкачах. Мол, рессорный завод от такой практики отказался, а другие заводы шлют толкачей по-прежнему и снабженцам Буряка из-за этого трудно работать. Совещание проводил первый секретарь. Он спросил: «Какой завод вы имеете в виду?» «Многие»,— сказал Буряк. Первый возразил: «Это не ответ. Назовите конкретно». «Автозавод хотя бы». Пришлось Чеблакову оправдываться: нельзя же останавливать производство, что еще ему остается делать? Он ждал выговора: мол, рессорный может, а вы на поводу у обстоятельств идете, за трудности прячетесь и прочее в том же духе, что он сам умел говорить своим подчиненным. Однако первый выслушал его не перебивая и обернулся к завотделом промышленности: «Что толку его ругать? Давайте ставить этот вопрос отдельно». «Вопрос снабжения?» — переспросил тот, и первый продиктовал: «Повышение ответственности за соблюдение договорной дисциплины. И по срокам и по номенклатуре.— И добавил: — Пусть для начала заводы дадут свои соображения». Чеблаков счел это своей победой: его не наказали и даже приняли его объяснения к сведению. Буряк же, полагал он, затронув неприятную тему, чисто по-человечески должен был потерять часть симпатии к нему независимо от исхода дела, Поэтому, дождавшись его, Чеблаков посоветовал: «Старик, на старте не делают такие рывки. Можно дыхалку сорвать». «Разве это старт? — усмехнулся Буряк в тон.— Нет, старик, это уже не старт. Отстаешь». Улыбаясь, пожали друг другу руки и разошлись по машинам. Антонина Григорьевна читала толстую книгу, пристроив ее на баранке и беспрестанно поправляя волосы на затылке. Чеблаков сел рядом и, справляясь с непонятной тревогой, сказал себе, что Буряку, видимо, не хватает чувства юмора.
Минск.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

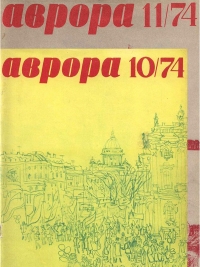
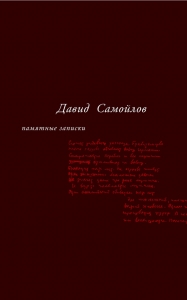




Комментарии к книге «Коробейники», Арнольд Львович Каштанов
Всего 0 комментариев