Сито жизни
СИТО ЖИЗНИ
Часть первая ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ
Сегодня у Серкебая с утра звенело в ушах. Наверное, кто-то плохо говорит о нем, где-то собрались и сплетничают, хотя где, кто? Что и кому он сделал плохого? Чью душу ранил? Ведь с детьми он ребенок, с мужчиной — мужчина, с колхозником — колхозник, с шофером — шофер. И одет небогато: старая соломенная шляпа, стоптанные сапоги, выгоревшие солдатские брюки-галифе, — кто сейчас носит такие? Белейшая борода его пребывает в некотором беспорядке — к чему скрывать, у него даже и гребешка нет. Поднявшись спозаранку вместе с птицами и умывшись, расчесывает ее Серкебай пятерней, потом собирает в горсть — со стороны кажется, будто взвешивает, — и снова разглаживает, словно благодаря бога за то, что дал время дожить до седых волос, обзавестись этакой красотой. Да, очень высоко ценит Серкебай свою бороду, почитает ее. Встречаются ведь и такие, что, отрастив себе солидную бороду, оскверняют ее водкой, а подобное Серкебай ненавидит. «Не отращивай бороды, но коль уж отрастил — уважай ее», — вот что говорит он недостойным. Правда, в своем колхозе «Красный мак», где он председателем уже больше тридцати лет, некого поучать Серкебаю, ибо каждый оказывает внимание белой бороде аксакала, а бороде председателя — в особенности. И правда, трудно услышать в колхозе разговор, где не повторялось бы несколько раз «белобородый Серкебай»; мало того, многие старики аила, подражая председателю, как и он, отпустили бороды и вслед за Серкебаем повторяют: «Достоинство аксакала — в его бороде».
Вот ведь как получается — скромен этот человек и видом, и в поведении, и в быту, и в еде. Но все ж недаром сложил народ поговорку: «На чужой роток не накинешь платок!» Были, были люди, говорившие Серкебаю: «Аксакал, сколько лет вы уже председатель, почему не пользуетесь достигнутым, — неужели вам мало еще, чего не хватает?» Серкебай только поглядывал загадочно, не отвечал и уходил прочь от такого человека. Шагая по дороге, разговаривал сам с собой, в душе своей искал ответа на заданные ему вопросы. Почему — не хватает? Разве я плохо живу? Что такое пользоваться достигнутым? Это значит без разбору наедаться и напиваться, не отличая дня от ночи; значит, подальше от дома водить шашни с женщинами? Не для меня это, я так не могу, жизнь вокруг и проста и сложна, и если я выращен этой жизнью, я должен быть таким, как она. Еда, одежда — на один день, а честь — на тысячу. Нет, не знают добрые мои советчики, о чем думаю, почему не пользуюсь достигнутым, как они говорят. Чтобы знать — пришлось бы им прожить мою жизнь. Я председатель в моем колхозе? Скорее — отец. Ребенок растет и подражает отцу. Птенец беркута, становясь взрослой птицей, знает то, что видел в своем гнезде. Ну-ка посчитаем, добрый мой советчик, в чем я выиграл, в чем проиграл? Одним костюмом меньше сносил, чем соседний председатель, на кусок меньше съел мяса? Вместо этого — слышал теплые слова, видел человеческую благодарность. Хоть проста моя одежда, да чиста. По мне, простая и чистая одежда лучше богатой, но замаранной. Широко, далеко протянулись мои корни. Разве не корни, — в далеких городах, получив специальность, честно работают парни и девушки из нашего аила. Каждому из них — своя доля, свое счастье, а слава — мне. В этом моя сила. Каждый, кто знает меня, — знает меня таким. А не верите людям — спросите у этих деревьев, у поля, у арыка, у пасущейся скотины. Мое отражение осталось в глазах овец, коров и кобылиц. Где та трава, что я не топтал, где та песня, которую не пел! Я растворен здесь и в почве, и в траве, в каждом зернышке, мысли мои и надежды слились с этой землей. Никогда не старался я брать, а старался давать, никогда не говорил «мое» — только «твое», не тащил из колхоза домой, а тащил из дома на общее благо. Что пожелал бы себе, то прежде всего желал народу. И чего не вытерпел я для своего народа! Помню начало тридцатых годов. Кулаки преследовали, точно гончие псы. Пырнули ножом в бедро — вылечился, прикладывая листья подорожника… Конечно, теперешние молодые, видевшие человека на Луне, только усмехаются, когда рассказываешь им о том, как мы кетменями копали землю; о волах и лошадях, запряженных в плуг; о том, как ходили с миской по домам, собирая зерно на посев — то уговорами, а то и силой. Да, молодые глядят на тебя с удивлением — что это, мол, старик бормочет? Может, они и правы — кому интересно в наше время слушать о шелудивой лошади, запряженной в соху… Все это пережил я, пережил народ. Обновлялся народ, обновлялась земля. Летело, уходило время, но не только забирало свою долю, вознаграждало тоже. Сейчас мне кажется — все вокруг сделано моими руками, потому что на мои плечи пришлась главная ноша. Если бы я жил лишь интересами моей семьи, сейчас не состарился бы так. Говоря о главной ноше, думаю об ответственности за судьбу людей. Оправдал я ее? Не знаю. Прежде были богатые… Одни — вкусно и сытно ели, одевались в дорогое сукно, седлали лучших иноходцев, забирали в свои юрты приглянувшихся девушек. Эти знали вкус жизни, не прятались в тень — подставляли лицо солнцу. Но были и такие, что оставались рабами своего скота. На голое тело надевали грязную шубейку, почесывались, отыскивая вшей; босые, напоминали ворон. Вспоминаю своего земляка Чилапчина-ходжу, — паслось у него десять тысяч овец, да у самого кожа висела на костях: отпущенный ему век прожил впроголодь, не зарезав для себя и захудалого козленка, разве что павшего от болезни. Но ведь и его, Чилапчина, мы тоже называем богачом. А взять могучего Карабаша, что прожил жизнь, не поклонившись хану… Что стало с его богатством? Разлетелось, не досталось никому… Привелось — видел я конец Карабаша. За тысячу баранов и резвого иноходца купил он гончую по прозвищу Чачикулак. И зимой, и летом, и весной, и осенью возвращалась гончая с добычей. А Карабаш по ночам не закрывал ни дверь, ни тундук[1] в юрте. Каждую ночь охотился Чачикулак и, бывало, натащит полную юрту лисиц. Теперь уж и не поверят такому. Зубы его, как лезвие, перерезали сухожилие волка, в воде хватал лебедей и гусей, загонял архаров, что пасутся на горных склонах… И если набрасывался, то не давал спуска и медведю, а волки боялись показаться там, где охотился Чачикулак. Да, настоящее сокровище досталось Карабашу. Сколько барсовых шкур добыл он с помощью гончей! Но никакие богатства не могли насытить Карабаша, аппетит его разгорался. Как сейчас вижу — весна, юрта Карабаша, полная гостей, и сам он, разгоряченный рассказом о своей гончей. Вдруг зашумели аильские собаки — зарычали, заскулили. «Ох, дьявол! — испугался Карабаш. — Наверно, тот самый взбесившийся волк…» Не успел Карабаш договорить, Чачикулак выскочил из юрты. «Ой-ей, — завопил богач растерянно, — этот бешеный покусает мою гончую!» И сам кинулся из юрты наружу. Такова, видно, была его участь, — взбесившийся волк тут же вонзил клыки в лицо грозного бая. Прошло сорок дней, и богач помешался. К голове ему прикладывали желудок только что зарезанной овцы, наполненный горячей водой, и лечением этим загнали его на тот свет. Один жил так, другой иначе, а чем кончилось? Вот я считаю себя честным. Жалел для себя хорошую одежду. Не съел лишнего куска. А председатель соседнего колхоза… И он умрет, старавшийся больше прибрать к рукам, и я умру, справедливый, деливший все с людьми. Однако вот что я все же скажу: я доволен своей судьбой. Что стало с богатством Карабаша? Растащили после смерти бая в сорок разных сторон. Богатство же, накопленное мной, останется у народа…
Я стар и потому рассчитываю каждый свой шаг — не в мои годы шагать впустую. Оттого часто сворачиваю с дороги и иду напрямик. Можно ли осуждать меня за это? Каждый человек по-своему отдается избранному пути. Я председатель. Значит, должен экономить. Экономить во всем. Экономить рабочую силу, скот, машины и даже поля. Я желаю с меньших полей получить большой урожай, а не наоборот. Что мне делать, если расчетливость уже вошла мне в кровь, крепко засела в мозгах? Вы говорите: я бедно одет? Не так бедно, как скромно, а точнее — удобно. Чем плох вельвет? Раньше его доставали с трудом. Не упрекайте, что не покупаю плаща-болоньи или другого модного, не ношу безразмерных носков. Стоит мне их натянуть — ломит ноги. Не переделаешь старого человека — поэтому не осуждайте меня… Да не только в одежде — и в пище отличаю, что нравится; а что не нравится, то и в рот не возьму.
Вчера приезжий начальник, угощая меня коньяком, убеждал: «Выпейте со мной, почтенный аксакал, сейчас все его пьют. А что делают все, то не грешно одному». Мой ответ показался начальнику грубым: «Пусть все пьют, я один не стану!» Знакомые улыбнулись, незнакомый обиделся. Пусть обижается… Исполняя все, о чем просят, потеряешь лицо… Сколько людей, не смеющих отказать, превратились в пьяниц. Есть и такие, что путают слова «достаток» и «водка». Одно для них означает и другое. Жизнь пьющих хуже собачьей. По мне, лучше глядеть на могилу, чем на пьяного человека. А второй гость вчера, выручая начальника, упрекал меня: «Хоть и рискуя жизнью, аксакал, одну-то рюмку могли бы выпить, раз просит уважаемый человек». Если действительно уважаемый, зачем заставляешь пить? С выпивкой связываешь авторитет? Надо быть пьяным, чтоб стать веселым? Потому и ценю многие наши прежние народные игры, народные праздники.
Есть люди: прошлое для них — сплошная тьма. Не существовали разве в прошлом и наша земля, и вода, и горы? Разве отказываемся от них? Кровавые стычки, набеги, тьма угнетенья — да, прошлое! Но борьба с угнетеньем, песни, девичьи игры?.. Прошлое — это ведь и «Манас»[2], разлившийся полноводной рекой, — в нем вековые мечты народа, прошлое — это и Кара Молдо[3], заключивший в три струны своего комуза[4] судьбу всех бедных киргизов… Куда понятнее мне прежние девичьи игры, чем теперешние застолья. Пили водку на девичьих играх? Бывали скандалы? Нет, молодые состязались в ловкости, разнообразных уменьях — вот что было хорошо! И это — прошлое? Нет, это народное…
Помню, игры не загоняли людей в тесноту помещений. Чистый воздух, чудесная поляна, лунная ночь, белые юрты… Мир виделся обновленным, доброжелательным, точно характеры пришедших сюда. Танцевали, пели — состязались голоса и песни. Одни восхищали своим красноречием, другие — переливающимися голосами. Выигравший, отличившийся в чем-то целовал приглянувшуюся девушку, молодайку. Талант покорял людей, молодость покоряла… Если парень, утвердивший перед людьми свой талант, целовал чужую девушку или кто-то целовал в игре чужую жену, не осуждали его. Не только не осуждали, но славили. Люди указывали на него своим детям: «Будьте такими же, как тот достойный джигит!» Выпивка даже не снилась. Это что? Плохо? Не-ет, хорошо. Разве прошлое? Нет — народное! Если хотите — народное творчество. Недавно на свадьбе видел, как пили родители жениха. Что это? Это позор. Как хотите судите, — недавно устроил я девичьи игры. Правильно сделал! Не скажу, как другим, — мне понравилось. Сам спел перед всеми:
Горный, горный, горный перевал, На этом перевале живут горные ветры.Спел, будто в юности, — пел для своей старухи. Смеясь, все потребовали, чтоб мы обнялись и поцеловались. Что тут особенного — и поцеловался!..
Да, этот вот самый председатель Серкебай и шел сейчас по дороге — шел запыленный, усталый. Может, сегодня пришла к нему старость? Спорил с собой, старался увидеть себя, со стороны оценить. Посмотреть — так плечи уже опустились, ссутулились. Отчего-то печален? Глаза не блестят — затуманились. Звон в ушах — почему? Ведь не держит зла Серкебай в душе, голоса не повысил, никого не обидел… Да, он верит, вспоминает народную примету: если звон в ушах — значит, сплетничают. Может, он хочет с кем-то поспорить, доказать свою правоту? А с кем? О чем? Серкебай и сам не знает. Смотрит грустно. Как будто бы расстроен… Или, может, пришло уже время, пора отдать председательство молодому? Стар Серкебай — нет в округе председателя, равного ему годами. Думает Серкебай — повторяет в уме завтрашние свои слова. Да, не хочется оставлять пост… Вслух сказал: «Кто заменит меня… распадется колхоз», — послушал, как звучит такое… А ведь хвастал недавно в споре: мол, каждого приучил к своим порядкам, умрет он — любой колхозник справится на его посту… Вспомнив и сопоставив, Серкебай покачал головой. Плохо, что стар, выбывает из строя, хорошо, что уходит с почетом…
Опять зазвенело в ушах — разгорелись, заполыхали уши у Серкебая. Он не выдержал, пожаловался: «Чем же я насолил и кому? Отчего так звенит?..»
— Звенит? У тебя? — чей-то знакомый голос.
«Чей же? Где я слышал его? Когда? Подожди-ка, надо подумать…»
Пока Серкебай рассуждал, послышалось снова:
— Не раздумывай, Серкебай, бесполезно — ты в последние годы перестал признавать меня. Я — это ты, хотя ты теперь уже не я… Я — Прошлое в тебе, Серкебай, но ты, сам ты уже другой, не могу слиться с тобою в одно. Раскрой-ка пошире глаза, посмотри, Серкебай: там, вдали, на склоне, — видишь? — там три пастуха…
— Где, где?
— Не смотри на аил, не смотри в настоящее, обратись к прошлому, давнему, дальнему… Не видишь? Постараюсь приблизить, гляди в свое прошлое, Серкебай… Вот я — рядом с тобой… Смотри, замечай, узнавай!
Наконец различили глаза Серкебая и вправду трех пастухов на каменном пригорке… Одеты все трое бедно: в дерюгу, на голове малахаи. Все трое молоды, все без усов. Один глядел пристально сюда, на старого Серкебая, — у Серкебая екнуло сердце.
— Ой-ей! Ведь это же я!
— Нет, не ты. Твое Прошлое. Прошлое — это я.
— Не обманывай, один из тех троих — я! Помню, помню, был тогда пастухом. Пастухом в аиле Батыркула…
— Время идет быстро, я с трудом разыскало тебя, Серкебай.
— С трудом? Разыскало? Разве я убегал? Думай, что говоришь, Прошлое!
— Теперь гляди внимательней, слушай лучше…
Серкебай присмотрелся — и понял…
— Так это… я говорю?
Не ты — твое Прошлое. Узнаешь ли ты пастухов?
— Джигита с родинкой на щеке?..
Серкебай замялся. Лицо знакомо, но имя успел забыть.
— Не узнаешь? Ведь это он, видя твою нищету и голод, точно волк накидывался на хозяйского ягненка, жалуясь затем, будто камнем придавило его, — и кормил тебя. Тебе доставалось мясо, а ему доставались еще и побои. Если забыл самого, как мог забыть его голос? Помнишь, ведь это он пронзительно кричал, будто комолая коза? А-а, вижу, начал вспоминать! Все случилось за год до встречи с Аруке, ты тогда превосходил всех пастухов Батыркула и хвастовством и песнями.
— Бекжан это, что ли? Разве он был такой?.. Прости, Прошлое, не узнал…
— Не прощу. Не знаю прощения. Не только его забыл, но и Аруке. Скажи правду, любил ты ее?
— Аруке? Любил…
— Ложь! Пусть сгорит твоя борода, как можешь лгать себе?!
— Не трогай мою бороду! Люди уважают ее — весь аил, вся округа!.. Самое дорогое…
— Приглядись хорошенько! А бывшее — разве не дорого?
Снова перед глазами Серкебая байские пастухи, он сам, молодой…
— Вижу, вижу себя…
— А это разве не свято — молодость, твое Прошлое?.. Разве счастье в председательстве, в спокойной сытости? Или накрепко забыл давнюю свою нужду? Уже много лет не слышал едких слов, уши твои заросли мхом, дай-ка прочищу их!.. Слушай хорошенько, Серкебай! Где Аруке, что с ней?
— Откуда мне знать?
— Не знаешь и не знал…
— Знал… Я любил ее…
— Оставь, посмотри сюда!
Серкебай вновь увидел трех байских пастухов.
— Послушай теперь, что расскажет Прошлое. Вспомни все до единого слова. Думаешь, что не нужно? Вслушайся — и поймешь, нужно тебе вспоминать или нет…
Старый Серкебай смотрел прищурившись. А там, в дальней дали, говорил пастух Серкебай, молодой Серкебай. Вот он рассказывает что-то друзьям, вскинув руки высоко над головой. Удивляется себе самому Серкебай. Все интересно ему в молодом: и движение губ, и поза, и одежда, и даже голос:
— Слушайте, расскажу вам, что слышал сам, ровесники… В далекие-предалекие времена у киргизов и казахов были два сокольника. — Увлекаясь, он подается вперед, темные брови его, точно птицы, разлетаются в стороны. — Да, киргиза звали Сарысултан, а казаха — Карасултан. Говорят также, что Карасултан был уже старым, а Сарысултан — еще молодым. Слава о них разошлась далеко среди этих народов. А народ-то ведь каков: рассказывая об их искусстве, преувеличивал в тысячу, в десять тысяч раз. Говорят, что убили они несметное количество животных, ни в чем не уступая друг другу. Они перебили всех куликов на солнечных склонах и на теневых склонах, они преследовали и свирепых кабанов, и трусливых зайцев, и ядовитых драконов, и быстроногих джейранов. Не было такой птицы, которую не стреляли бы, не ловили они… Такие это были охотники: владели отменными гончими, приручали лучших беркутов, дружили вечной дружбой с испытанными кречетами, братались с настоящими ястребами… Казахи и киргизы испокон века жили дружно, точно братья, вместе пасли овец, кобылиц, вместе состязались в козлодранье и в скачках, роднились, выдавая замуж дочерей, перемешивались, будто муравьи, — мог ли один не услышать славы другого. Знали сокольники друг о друге, и каждый восхищался соперником. Но сколько они ни старались — много лет не могли встретиться, хотя обменивались в знак дружбы подарками. И вот, рассказывают, однажды зимой Карасултан прислал Сарысултану весть.
«Подо мной добрый конь, на мне теплая шуба, на руке моей верный Куучегир, — передавал старый охотник, — лишь одного не хватает мне сейчас — силы. Десять лет уже прошло, как сила оставила меня. Если проделаю однодневный путь, сил убывает на целый месяц. Старость сковала мою поясницу, наложила путы на мои ноги, иначе добрался бы до такого друга, как ты, не щадя коня. Если, случится, умру, мечта моя уйдет вместе со мной. Неужели не увижу своего друга Сарысултана? Ты молод, силы не покинули тебя, приезжай. Если суждено, отпробуем пищи с одной скатерти, заведем бесконечную беседу, наговоримся вдосталь, продлим свою жизнь, вспоминая былое, передадим народу накопленное искусство обращения с беркутами. Пусть потомки наши знают о нашей дружбе, пусть рассказывают о ней. Приезжай, — если не приедешь, не исполнятся мои желания ни на этом, ни на том свете».
Разве стерпит подобное Сарысултан? Вскочил он на лучшего коня, надел самую теплую шубу и пустился в дорогу, не прихватив даже и пол-лепешки. На руку посадил своего Байчегира. Отправился в дальний путь великий охотник — один, без провожатых. Говорят, щедро одаривал он те юрты, где останавливался на ночь, отдавая дневную добычу, будь то лиса, или волк, или косуля. Слухи о славных делах Сарысултана обгоняли его на много дней пути, и каждый переиначивал их по-своему… Сколько встретившихся на пути благодарили его, сколько обрадованных джигитов надевали на свои головы тебетеи[5] из переливающихся лисьих шкур. Все больше возрастало искусство верного Байчегира, с каждым днем становился он сильнее, и стоило ему подняться в воздух — добыча была его, будь он неладен!
Прошли дни, прошли ночи, и достиг Сарысултан обширной казахской земли, распространяя славу охотника среди многочисленного казахского народа.
Путь в восемнадцать дней показался ему длиной в восемнадцать часов. Казахские аилы провожали его, указывая дорогу к стойбищу Карасултана, и весть о его приезде крылатым конем летела впереди.
Карасултан, понимая значение дружбы, в честь Сарысултана поставил чистую юрту. Говорят, что он заколол жеребенка-сосунка и сварил сразу все мясо. Говорят, он опалил трехлетнего валуха, у которого от чрезмерного жира курдюк разделился надвое. Говорят, что он устроил настоящий пир, угостив изысканнейшими яствами всю округу, Несколько дней продолжалось пиршество, лучшие певцы, побеждая друг друга, восхваляли искусство хозяина и его гостя. Говорят, что собиравшийся утром народ расходился поздней ночью, что хвала, воздаваемая друзьям, была заслуженной, что над тундуком Карасултана светило солнце, а в двери заглядывал месяц и кругом звучали песни и музыка. Молва о празднике летела из аила в аил, те, что были поближе, радовались, довольные, а те, что были подальше, ждали вестей…
Рассеялась печаль двух друзей, обо всем поговорили они, все услышали, все поняли. С разных сторон прибыли сокольники со своими птицами: беркутами, кречетами и другими. Многие предстали на суд двух друзей. Некоторые, считавшиеся до того знатоками, сняв колпачки со своих беркутов, разочарованные, отпускали их на волю Другие беркуты, признававшиеся никчемными, получили наконец хорошую оценку. Люди, точно муравьи, тянулись по дороге к аилу Карасултана, поднялись даже те, кто никуда не собирался. Прежде незнакомые — познакомились, не встречавшиеся — повстречались. Отсюда разошлись на четыре стороны света имена лучших беркутов, глубоко засевшие и в ушах, и в душах знатоков. И однажды, когда друзья уже насытились разговорами, выпала пороша.
Съехались со всех аилов знаменитости. Говорят, что друзья решили наутро начать охоту с беркутами; определили загонщиков, выделили сопровождающих, запасных лошадей, одним приказали вести гончих, другим быть в засаде. Говорят, что всю ночь до утра тянулся поток людей в сторону Калтар-Жайыка: кто имел коня, торопился верхом, кто не имел коня, поспевал пешком. Там несметные стада сайгаков, там норы несравненных по красоте черно-бурых лисиц. Велика слава искусного охотника: и дети, и взрослые, и женщины, и больные собрались поглядеть на потеху. Гончие, натягивая ремни, рвутся вперед, рычат, утыкают морды в снег, глотают не жуя… Но вот наконец неспешно, точно капризная красавица, начало пробуждаться утро, безмятежно спавшая широкая равнина посветлела, заснеженные пригорки выступили точно белые зубы, тьма ушла в низины и растворилась там. Говорят, что земля была покрыта бесчисленными следами, начало и конец которых терялись в ночи, — настоящий нераспутанный узел. Собравшиеся замолкли, не то что сказать — даже чихнуть никто не осмеливался. Карасултан и Сарысултан поднялись на небольшой холм и остановились там, держа на руках своих беркутов. Каждое их движение — загадка для присутствующих, все хотят держаться поближе, подгоняют коней, если оказались в стороне. Загонщики к тому времени уже тронулись издалека, похлопывая плетью-камчой полы своей одежды. Подобно перекати-полю пошли убегать лисицы, помахивая пышными хвостами. Желая угодить хозяевам, стремглав пустились гончие. Нетерпеливые уже срывали колпачки со своих беркутов и подбрасывали птиц в воздух. Повсюду чудеса, повсюду развлечения, один хвалит свою гончую за хватку, другой ругает своего беркута: мол, не смог настичь добычу. Радуется собравшийся народ — не бывало еще такой охоты! Когда же случалось, что два беркута, захватив одну лисицу, не могли ее поделить, люди возбужденно кричали. Карасултан и Сарысултан пока еще не сняли колпачков со своих беркутов; казалось, они ждали насыщения алчных, потому и не спешили. Наконец выглянуло солнце, коснулось ресницами лучей холодного снега и говорят, что растаяло лицо степи, засверкало разлитым счастьем. Спустя небольшое время загонщики выгнали из расщелины дивную огненно-рыжую лисицу. Говорят, что глаза видевших чуть не выпрыгнули из орбит, пораженные ее великолепием; будто земля горела по две сажени с каждой стороны, когда она убегала, вытянувшись, словно язык живого пламени. Чудо разбудило зависть охотников. Каждый сдернул колпачок с головы своего беркута и выпустил его. Кто теперь скажет, отчего это случилось, но не сумели беркуты настичь добычу, то ли замешкались, то ли струсили, словно малые коршуны. А огненная лисица, говорят, в одно мгновенье исчезла живая-невредимая, сверкнула хвостатой кометой — и нет ее. Все разговоры в степи — только об этой огненной красавице, все глаза смотрят ей вслед. Но Карасултан и Сарысултан и тут не вступили в борьбу, не выказали беспокойства. Охотники пытались разгадать их поведение, пытались спрашивать, но ответа не было. Старейшие посоветовались и наконец решили предоставить очередь друзьям. Говорят, что в это время загонщики снова выгнали ту самую великолепную огненную лисицу. И тогда сказал Карасултан:
— Настало время состязаться. Друг мой, Сарысултан, выпускай своего Байчегира. Хоть ты и молод, но ты гость, значит, быть тебе первым. Испытай своего беркута, а после тебя я.
Однако Сарысултан, уважая почтенный возраст друга, не мог согласиться.
— Я приехал не в гости — повидать друга. Перейти дорогу старшему — хуже смерти, — ответил он.
Мудрые не повторяют дважды. Если дважды умыться, лицо теряет свой цвет; если дважды повторить одно слово, оно теряет свою ценность. Карасултан выехал вперед. Говорят, когда он снял колпачок с Куучегира, отпустил — тот взмыл стрелой, поднялся в небо — и не ударил огненную лисицу, мирно опустился рядом с ней, чуть правее.
— Теперь твоя очередь, друг Сарысултан.
Сарысултан сдернул колпачок с Байчегира — беркут вскинулся свирепо. Отпустил — стрелой взмыл вверх отважный Байчегир, настиг огненную лисицу и — что за чудо! — тоже мирно опустился рядом, слева от нее. Знатоки качали головами, не решаясь судить более опытных. В народе же много разных слов было сказано о друзьях, кто-то даже пустил слух, будто слава их — лишь обман. Карасултан и Сарысултан после случившегося уже не охотились. Накинули на головы своих беркутов колпачки, безмолвные вернулись в аил.
И за едой, и за чаем ни один из них не проронил ни слова, а собравшиеся не осмеливались спросить. Лишь после чаепития Карасултан обратился к другу:
— Ты, Сарысултан, приехавший издалека, одолевший многие реки и перевалы, — слава твоя достигла пределов нашей земли, — ты, конечно, без труда разгадаешь эту тайну. Пусть твоя мудрость и твое искусство останутся в памяти народа. Скажи свое слово.
Сарысултан обвел взглядом сидящих:
— Есть ли в вашем аиле слабый, никчемный беркут?
— Ой, у нашего Кожообая беркут, который ничего не ест, кроме легкого или мышей. За год если возьмет одну лисицу — и то хорошо… Сидит на привязи возле юрты, на посмешище детям, — зашумели присутствующие.
— Принесите его, — попросил Сарысултан.
Принесли беркута, и гость несколько дней тренировал его.
Снова выпал снег.
— Завтра отправимся, друг Сарысултан?
— Пора, друг Карасултан.
Наутро еще больше собралось народу, съехалось, сбежалось к местности Калтар-Жайык. И снова, когда лучи солнца ровно легли на землю, выгнали загонщики к охотникам сказочную лисицу, — сверкая огнем, стремительно летела, спасая себя… Сарысултан снял колпачок с обученного им беркута… На этот раз охота была удачной — беркут пустился вдогонку и камнем упал на спину огненной красавицы. Вот и разгадка тайны. Или, может, новая тайна?
Еще больше разгорелись споры. А когда вернулись охотники в аил, снова были поданы угощенья. После чая гости расположились к разговору, но ждали снова хозяина.
— Ну, друг мой Сарысултан, скажи нам теперь, в чем же разгадка тайны. Почему в прошлый раз ни твой, ни мой беркут не смогли взять лису? Почему взяла ее никчемная птица? — спросил наконец Карасултан.
Сарысултан показал взглядом на лисью шкуру, украшавшую стену юрты: красноватый блеск говорил скорее о жизни, а не о смерти.
— Оказывается, мы, люди, некоторые наши свойства переняли у животных и птиц. Гнев, ревность, скрытность — разве человеческое? Хочу сказать этим, что животные тоже чувствуют, они ценят то, что редко встречается в жизни. И животные могут любить. Если это правда, раскрою вам секрет и сегодняшней охоты. Почему в прошлый раз не смог взять лисицу Куучегир моего друга Карасултана и почему не взял мой Байчегир? Нам известно — вам загадка. Слушайте: вначале расскажу о наших двух беркутах, это тоже интересно. Не моя выдумка — взято из жизни. Есть на свете беркут Куучегир. Если обучит искусный охотник, все, что увидит, захватит беркут, отдаст хозяину. Но если не обучит — останется никчемной птицей. Есть на свете беркут Байчегир. И он тоже, если обучат его, возьмет любого зверя, которого увидит, а нет — и он останется никчемным. И человек таков. Нет ничего легче, чем умного сделать дураком, и нет ничего труднее — из дурака сделать умного… У Куучегира один недостаток: он мстителен. Найдешь к нему подход — станет для тебя скатертью-самобранкой, но если обидишь — жди беды: в гневе может заклевать своего хозяина. Заслуживает и ждет доброго отношения. Да разве только он один? Все на свете — живое и неживое, каждый человек ждет добра.
А вот Байчегир — он другой, доброта заключена у него внутри, это главное в нем, потому к нему не пристает плохое. Скажу о нем больше: это настоящий клад мудрости, человек может учиться у него. Он умеет простить любые обиды. Думаю, воспринимает их как ошибку хозяина, а возможно, поступает так, просто ценя человека, не умею иначе объяснить истоки его благородства. Чем воспитывать взбалмошного, непослушного ребенка, лучше иметь скатерть-самобранку Байчегира — так говорят старики в нашем аиле. Байчегир и Куучегир разные, как бывают разные только люди, но дела их одинаковы. Счастлив человек, повстречавшийся с одним из них. Э-э, если не умеешь оценить совершенство, вся жизнь будет казаться тиной, но понимающий — он и в тине увидит чудесное. Это правда.
Беркуты, о которых говорю, — они храбрейшие из беркутов, бесстрашнейшие из пернатых. Добыть такого — удача для охотника. А лисица — она тоже лучшая из лисиц. И если эти лучшие встречаются друг с другом, то берегут, нежат, ценят, чтут… они различают подобных себе, знают, как мало их на свете. Поэтому не могут посягнуть на жизнь совершенного существа, понимают, что украшают собой природу. Вот разница между хорошим и плохим. Хорошее нежит, сберегает, ценит совершенство — ведь его встретишь не часто. А плохого на свете достаточно. Плохое губит хорошее. Видите — лучшие из беркутов не тронули лучшую из лисиц. А тот, никчемный, понимает ее как добычу, нуждается лишь в еде… Одинаково губит и хорошее и плохое, лишь бы наполнить желудок. Разве не знаем такого в людях? Вот почему я сказал, что человек многое перенял от зверей и пернатых, — закончил Сарысултан.
* * *
Ну как, слышал, Серкебай? Узнал свой голос? Нет? Где тебе узнать! Все позабыл!
Серкебай действительно не помнил, рассказывал подобное или нет. Мало того, не признал голос Прошлого, не узнал, не вспомнил его. Отнесся безразлично. Потому и рассердилось Прошлое, заговорило громче, с неприязнью:
— Слушай, Серкебай, я — Прошлое, я — это ты в прошлом! Я заставлю признать себя, даже если глаза твои заплыли жиром! Самые ловкие, самые храбрые, самые сильные — никто не смел отвернуться от меня. Хочешь сказать, что уже прошел один раз этим путем, оставил меня за спиной? Не знаешь моей силы, — если захочу, хоть тысячу лет убегай от меня по жизненной дороге — буду встречаться на каждом шагу, буду препятствовать тебе во всем… Или, может быть, скажешь, что ты уже не тот Серкебай, не тот батрак, что когда-то, бледный, голодный, скакал с одной скалы на другую, оседлав прутик вместо лошади, разговаривал с ним, прижимал его к лицу, будто возлюбленную? Может быть, ты скажешь, что ныне ты уважаемый председатель, пользующийся авторитетом у многих, а у иных вызывающий зависть; что голова твоя побелела, а зубы поредели, и если уж приходит старость, то она должна быть подобна твоей? Но я не спорю с тобой в этом, пусть… Хоть девяносто девять раз меняй свой облик, да не забывай, что не только ты, но и я меняюсь, я — Прошлое. Помни, если даже ускользнешь от меня, найти тебя поможет Настоящее. Ведь Настоящее — мое продолжение. Когда я было отброшено назад и осталось в тех, прежних временах, ты ушел от меня, зацепившись за Будущее. Однако мы — и Прошлое, и Будущее — происходим от одного начала. Мы напоминаем друг другу забытое, мы указываем одно другому на тех, что не хотят быть узнанными, заметают следы и прячутся.
У подобных тебе, пожелавших забыть прошлое, давших глазам своим заплыть жиром, мы сдираем эту пелену, мы широко открываем вам глаза и, если захотим, можем вереницей провести перед человеком каждый миг жизни, начиная с седьмого колена его предков. Мы не даем забыть пережитое, будь оно хорошее или плохое. Пусть только скажет, что забыл, пусть введет в заблуждение ложью! В минуты счастья и покоя, за богатым столом, даже в момент восхождения на высшую ступень мы точно кость застрянем у него в горле, станем на пути, подобно дракону, превратившись в дубину, ударим по коленям. Мы скажем: за содеянное руками отвечай головой. Ты, Серкебай, многое сотворил руками, но головой еще не отвечал; боясь возмездия, ты скрылся, спасая свою душу. Ты человек, осужденный на всю жизнь, навечно. Осуждение твое в том, что сколько бы ты ни старался не думать, иногда что-то заставит вздрогнуть твое сердце — разве нет? В такие минуты не кажется, что сердце твое что-то ужалило, а? Хоть на мгновение душа твоя приходит в смятение, в растерянность? И тогда лицо твое каменеет в злобе, брови хмурятся. Сам себе кажешься ничтожным, недостойным тех людей, что сидят рядом с тобой, уважая, возвеличивая тебя? Испуганно оглядываясь по сторонам, желаешь скрыться, тебе кажется, что сидящие рядом все понимают в тебе, что сейчас кто-то из них проникнет в твое прошлое, — и тогда заговорят со всех сторон… Затем… постепенно, не слыша слов обвинения, ты приходишь в себя… И все-таки, вспоминая проступки, совершенные в прошлом, ты не можешь сидеть за столом, пища не идет тебе в горло… И тогда, низко опустив голову, ты выходишь из дому. Ничего не видишь вокруг, тучи закрывают от тебя солнце, не узнаешь встречных, машинально киваешь в ответ. И все это мои проделки — Прошлого. Да, я мстительно. За малейший проступок преследую и мщу всю жизнь. Когда костью встану у тебя поперек горла — это равносильно смерти. Виновных я вот так убиваю тысячу раз, зато невиновный умирает лишь однажды, каждый в свой час… Не думай, что я забыло о тебе! Вижу, знаю, что стараешься жить праведно и тем избавиться от своей вины. Отгородившись от прошлого честным трудом для людей, уверился в собственной безупречности, особенно в последние годы, когда смерть уже сдружилась с тобой, свободно проникая в твое окно и выходя из двери. Не-ет, я вижу, понимаю тебя, — не берешь в пример некоторых старцев твоего аила… Ведь говорят же муллы, что отпустятся грехи на том свете раскаявшимся, даже и тем, которые раньше пили водку, играли на деньги, воровали, но успели проклясть все это, посещают мечеть, пять раз в день совершают молитву — намаз, а в остальное время сидят дома, сохраняя важное безмолвие и поглаживая бороды либо через слово повторяя: «Да ниспошлет нам аллах!» — и таким образом очистили свой последний путь перед вратами вечности… Значит, можно, оказывается, шестьдесят — семьдесят лет творить безобразия, а когда настанут последние мгновения жизни, прикинуться овечкой, да? Пусть так поступают другие. Если желаешь, попробуй и ты — однако знаю: не захочешь обманывать себя. Религия и твой аил — на противоположных сторонах… Я тебя не отношу к слабым… Вину ты старался искупить трудом. Полжизни проработав председателем, ни разу не позарился на общественную копейку. Недаром даже домашнюю утварь изготовил собственноручно. Сам водишь председательскую машину, не желая иметь слугу-шофера…
Теперь ты, Серкебай, иди домой. Да не пугайся, что ты озираешься? Даже на старуху свою смотришь с подозрением. Все та же она, прежняя. Или хочешь сказать, что за твое отсутствие подменили ее? Ну-ну, садись же, садись смелее на стул, ты сам его сделал. Думай, — разве я могу запретить тебе думать? — смотри, пожалуйста, на вещи, сделанные твоими руками. Ну-ну, вижу — глядишь на деревянную кровать, ту, что стоит в углу? Сам смастерил ее в годы войны. Хоть был председателем, поехал в горы на ишаке, жалея лошадь, ходившую в плуге. Сам выбрал арчу[6], сам привез в аил. Тем, кто спрашивал, похвалялся, будто сделаешь точно такую же, как у городских… Знаю, знаю, хотя ты и желал иметь деревянную кровать, еще больше хотел, чтобы в доме всегда пахло хвоей, чтобы запах этот как бы окуривал дом, не подпуская прошлое и защищая новое, — вот о чем думал тогда… На словах отвергаешь бога, но твои суеверия сильнее тебя, а это значит, что боишься и желаешь защитить себя, что не забыл ничего, что жива еще в тебе память того твоего преступления, что всю жизнь не можешь простить себе вину… Все это знаю и помню, — вдумайся в слова Прошлого. Да-да, Серкебай, вдумайся, осмотрись, огляди-ка хорошенько свой дом.
Серкебай обводит взглядом комнату. У стены шкаф, который сделал он сам. И вот эти грубые стулья — работа его рук, и круглый стол для еды… И рамка к портрету Ленина в переднем углу — тоже его работы. Он посмотрел на каждую вещь будто с ожиданием. Затем взгляд его дрогнул — возле кухни стояла неподвижно и смотрела на него жена. Серкебай опустил голову, на лбу выступила испарина.
— Что же ты, ведь это твоя байбиче[7], твоя жена? — с насмешкой говорило Прошлое. — А теперь оглянись-ка!.. Вон там, вдали, — видишь? Посмотри-ка на прошедшее, что тянется по нескончаемым дорогам и успело уже покрыться пылью!
Посмотрел. Увидел изодранное в клочья ситцевое платье, красные штанины — и как они цеплялись за кусты, увидел толстые черные косы — одна уже расплелась, увидел… белые девичьи ноги, в кровь израненные колючками…
Сердце чуть не выскочило из груди, в голове загудело, казалось, кто-то ударил по затылку дубиной. Он глянул на ноги жены — вошла с улицы, стоит в сапогах.
— Что так смотришь, будто впервые меня увидел?
— Смотрю не на тебя…
— С ума, что ли, сошел?.. На кого же тогда?
— Сказал — не на тебя!
— Да что случилось с тобой?
— Плохо было мне.
— Когда, родимый?
— Прежде… давно…
— О аллах, что это с ним — совсем потерялся!
— Не потерялся — напротив, пришел.
Старуха всматривалась в мужа и думала с испугом, что у безумных, говорят, глаза наливаются кровью. Взгляд Серкебая прежний. Длинные с проседью брови насуплены, когда же смотрит прямо, то приподнимаются. Однако весь его сегодняшний вид казался старухе подозрительным. Ей, женщине, никогда не пререкавшейся с мужем, была обидна грубость, ей, как ребенку, хотелось плакать. В душе у нее кипело и бурлило; казалось, еще немного — и все выплеснется наружу. Губы у нее побелели, пальцы дрожали. Но Серкебай не замечал ее боли.
— Ну что, видел? — послышался ему голос Прошлого.
— Видел, — ответил Серкебай.
— Родимый, что ты видел, а? С кем разговариваешь?
Оказывается, старая все еще здесь, поглядывает на него искоса.
— Тебя видел. Разговариваю — с Прошлым.
— Что это за прошлое такое, что значит — видел меня? Отчего сердитый, в чем я провинилась перед тобой? Сердце горит от обиды.
— Не я — ты сжигаешь меня!
— Ох, что же это, родимый? Разве я способна сжечь тебя? Здоров ли ты? Слова твои — будто речь безумного…
— Мое безумие от здорового…
— Зачем обвиняешь меня без причины? Зачем придираешься? А сам — что хорошего ты сделал для меня? Я — дура, пошла за тобой, принимая тебя за человека, а получила на всю жизнь — лед да камень! В несчастный, должно быть, день встретилась я с тобой! Да что уж делать, раз предначертал мне подобное сам великий аллах! Скажи, скажи, разве ты был достоин меня? — Старуха, выплеснув горечь, говорила уже спокойнее, а последние слова — с улыбкой. Слез как не бывало. Села поближе к своему старику, попросила присесть и его. Серкебай выполнил просьбу жены. Послушно сел рядом. Но взгляд его по-прежнему искал минувшее, он внимал голосу Прошлого.
— Ты слышал, что сказала тебе твоя старуха?
Голос Прошлого прозвучал на этот раз очень сильно.
— Слышал, — подавленно ответил Серкебай.
Старая испугалась:
— Чего еще слышал, а?
Серкебай увидел, что жена сидит рядом с ним.
— Говори, выкладывай все! Если пропустишь хоть малость, не пожалею тебя!
Это опять голос Прошлого.
— Что слышал? Сказал бы уж, родимый…
— Не скажу!
Старуха, почувствовав неладное, поднялась, грузными шагами прошлась по комнате. Значит, рассердилась по-настоящему:
— Скажешь! Заставлю сказать! Если не заставлю — пусть я буду женой своего отца!
— Что за чушь ты городишь, старая? Что я тебе должен сказать?
— Как это — что должен? Не увиливай. Я всю жизнь откладывала разговор с тобой, теперь я хочу поговорить!
— Эх, оставь меня!
— Уйти мне, да? Уйти? Могу отправиться к своим родным?
— Что ты говоришь? Зачем к родным? Я разве сказал, чтобы ты ушла?
— Если не сказал, все равно уйду.
— Почему? Что я сделал тебе?
— Сам не знаешь? Или, думаешь, я не знаю? Все знаю. Может, мне рассказать от начала до конца? Ты, видно, этого желаешь? Выслушаешь меня спокойно? Терпеливо будешь слушать?
Старуха грузно ходила по комнате, сердитая. Серкебай растерянно вытаращил глаза. Ему уже казалось, что не Прошлое, а старуха говорила с ним сейчас. Он испытующе посмотрел на нее — молчит — и стал ждать, чем же все это кончится. Старуха открыла сундук. Казалось, что она вот-вот достанет оттуда какое-то доказательство, чтобы бросить его в лицо Серкебаю.
— Эй, байбиче, женушка, женщина, отдай мне свой гнев. Я ошибся!
— Не простит.
Опять голос Прошлого.
— Что я сделал ей, чтобы она не простила меня?
Серкебай закрыл глаза. Он боялся, что опять перед ним возникнет Прошлое. И хотя сидел зажмурившись, он увидел… белая юрта… лающие собаки… Ему послышался пронзительный девичий крик. Все на свете смешалось. Все его тело будто обожгло крапивой. В мыслях он шел по болоту… Еще раз послышался пронзительный девичий крик. Душа Серкебая разрывалась на части…
Снова открыл глаза… Кругом — привычные вещи, сделанные его же руками.
— В чем я провинился? Все выстроил сам, не взял ничего чужого…
Прошлое угадало мысли Серкебая:
— Я не обвиняю тебя ни в чем таком… Знаю, все делаешь своими руками, не желая использовать чужой труд. Понял, прочувствовал унижение, еще когда служил у бая Батыркула. Знаю, минувшее оставило в твоей душе глубокий след. Сам несвободный, ты был плеткой, гончей, палачом в руках угнетателя. За это ненавижу тебя. Почему не можешь смотреть в глаза своей старухе?
— Ложь!
— Если ложь, так взгляни!
— Ну что ж такого — вот сейчас…
Он хотел взглянуть на свою старуху, но ресницы невольно смежились, и он опустил голову.
— Вот твоя цена, вот за что ненавижу тебя. Мне нет дела до того, что ты праведник сейчас, я сужу за свое время. Ты, может, думаешь, что, мол, не записано на бумаге, что нет доказательств, но я Прошлое, я свидетель всему. Помнишь ли свои молодые годы? Тогда ты был пастухом, был просто слугой, держался гордо. А почему сейчас сник? Почему ходишь понурив голову, хотя пользуешься авторитетом, имеешь власть над людьми? Почему становишься все более жалким? Почему хмуришься, когда входишь в дом? Почему не хочешь смотреть на свою старуху, отворачиваешься? Все это случайность? Внешне ровен, не подаешь вида, но в душе ведь ненавидишь ее? У тебя нет любви. Ты не знаешь, что такое любовь. Ты невольно морщишь нос, когда слышишь слово «любовь». Ты не ругаешь свою старуху непотребными словами, как в других недружных семьях, наоборот, вроде бы заботишься о ней, хлопочешь возле, готовый вынуть, отдать сердце; если она заболеет, бегаешь не чуя ног. Но это все внешнее, а на душе у тебя лед, камень на твоей душе. За последние несколько лет я не слышало, чтобы ты громко смеялся. Почему? Ответь сам.
Серкебай возразил, стиснув зубы:
— Смеюсь…
Байбиче вздрогнула. Где ей понять, что муж отвечает Прошлому. Снова испугалась, вгляделась в лицо своего старика. Что это — никак борода у него сбилась набок? А глаза совсем провалились? Щеки подергиваются? И как будто приземистый стал? Неужели он и вправду постарел? Или, может, болен? Да, в лице ни кровинки. А почему губы вздрагивают? Никак левый ус короче правого… Почему кадык выступает?
Беспокойные вопросы одолевали старуху, начали жалить, бередить сознание. Что бы все это значило?
Серкебай опять закрыл глаза…
— Открой, говорю, открой глаза! Боишься, что ли, спустя столько лет еще раз взглянуть, да, взглянуть на содеянное гобой? А мне-то что — хоть закрой глаза, хоть открой, все равно покажу, заставлю увидеть… Почему скрываешь до сих пор свою вину от человека, которому можешь доверить тайну? Вижу, ты задыхаешься, ты боишься. Ты признаешь мою силу — оттого и твоя боязнь, и твой испуганный взгляд. Если бы, не страшась, высказал все, решился — не мучился бы так. Давно бы уже все позабыл. А раз молчишь — мучайся, пусть гнетет тебя твоя совесть. Пусть все кипит в тебе. Но смотри не дай прорваться наболевшему, не проговорись, — насмешничало и издевалось Прошлое.
— Что же мне делать теперь?
— А ничего не делай. Открой пошире глаза, хорошенько оглядись.
Серкебай растерялся. Все его тело дрожало. Борода и усы ощетинились, торчали, будто иглы у ежа, на лбу выступил пот, губы потемнели. Светлые глаза его замерли, как у кошки, завидевшей собаку, похолодел от страха. Он чувствовал себя загнанным между узкими скалами, подобно дикому коню, которого хотят заарканить. «Я его считал давно исчезнувшим, ушедшим из памяти… а он все такой же, нисколько не изменившийся… Не-ет, это не он. Каким образом прошедшие пятьдесят лет… пятьдесят ли, может, больше? Не помню. Мне кажется, целый век. Подожди-ка. Открою пошире глаза. Может, вспомнится совсем иное…» Серкебай боялся верить себе, спорил сам с собой. Воровски открыл свои светлые глаза, глянул из-под мохнатых бровей. Перед ним во весь рост встал Батыркул. Глядел — и будто яд капал из глаз, капли разбивались на брызги и отравляли все вокруг. Страшен был Батыркул, страшен не по-человечески: непомерно толстые губы, нос точно кулак, черное засаленное лицо. Усмехнулся. И усмешка его тоже была — яд. Губы его, казалось, вот-вот дрогнут. Такое бывало неспроста. Любое его движение всегда приводило к беде. А вот послышался и голос Батыркула. Не голос — приказ. Серкебай чувствовал удушье от его слов — бай изрыгал злобу, ехидство, насмешку, издевку:
— Ты от кого слышал, раб, что Батыркул дважды повторяет одно слово, а? Слова, произнесенные мной, не погибают, скорее погибают подобные тебе бестолковые рабы. Мне не нужны работники, способные лишь вылизывать миски с едой, — для этого предпочитаю держать собак. Мне нужен раб, который беспрекословно выполняет мои приказания. Если у тебя в голове мозги, а не похлебка-жарма, время идет — беги!.. Помни: если рассердишь меня, то вечером, подобно остаткам пищи, будешь выброшен в золу. Отправляйся! Хе, хе, хе! А знаешь ли, что когда я смеюсь, то это значит — ругаюсь! Если еще раз огрызнешься… Представляешь, как бывает, когда туловище лишается головы? Умной голове достаточно слова, бестолковой нужна дубина. Не мое дело учить тебя, как исполнять. Пусть дела биев[8] знает бий, дела рабов знает раб. Я сказал — ты сделал! Мое недовольство равно смерти, моя благодарность равна жизни. Все. Отправляйся. Бай Кулменде любит поспать; хоть волоки его за ногу — не выйдет, захочет остаться дома. А жену его, белую и пышную, подобную топленым сливкам, и вовсе не сдвинешь с места. Собаки его тебя знают. Если узнают и назавтра, полают и перестанут, что тебе с этого, будь ниже травы тише воды. Выполнишь все как нужно, на три дня освобождаю тебя от овец, — мое слово. Как сказал, так и будет. Через год оценю твой труд, дам тебе в руки палку-укрюк — выловишь из табуна любого коня, который приглянется. Мечта слепого — иметь два глаза, не так ли? А твоя мечта — иметь скот, а? Хе, хе, хе… Глаза имеешь. А скот получишь у меня. Все будет в порядке. Отправляйся. Я доверил тебе это дело, считая тебя за близкого. А скажи я кому-нибудь другому, так у того только пятки засверкали бы! На, сшей себе из этого рубаху, штаны. Это чтобы ты молчал. И еще кое-что перепадет. Иди, собака! — С этими словами Батыркул швырнул свернутую ткань. Серкебай подхватил ее…
Бай замолчал — дальше речь держит та самая ткань:
— Вспомнил ли, Серкебай? Ведь ты из этой ткани сшил себе одежду… Где уж дождаться тебе коня… даже речи не может быть… Сам скажи, что ты совершил той ночью. Не заставляй меня напоминать…
Серкебай продолжает боязливо поглядывать на руки своей байбиче. С нетерпением ждет, что она вытащит из сундука.
— Не скажу.
— Не скажешь?
Жена вытащила из сундука белый головной платок. Серкебай затаил дыхание. Белый платок… Который год уже хранится в сундуке. Жена надевала его по выздоровлении или на какой-нибудь радостный праздник. Этот платок много лет назад кто-то повесил на ручку их двери… Было Восьмое марта. В платке оказалась записка: «Я вас жалею. Я жалею вас потому, что вы всегда ходите невеселая. Белый платок поднимает настроение у женщин. Вы будете здоровой, когда наденете его. Беды минуют вашу голову». Байбиче не была удивлена, увидев этот платок, взяла его с безразличием и спрятала в сундук.
И опять голос Прошлого:
— Говорю тебе, расскажи все! А, ты, должно быть, хочешь избавиться от меня, дав уклончивый ответ? Ну хорошо, не говори. Но я отомщу — я снова все покажу тебе! Смотри!
Голос Прошлого гремел, точно гром, у самых ушей Серкебая.
— Не буду смотреть!
— А, не хочешь? Но моя память не притупится. Хоть век живи, все равно не отстану от тебя!
Разве Серкебай не посмотрит!
— Видишь, вот он, Сон-Куль. Слышишь, как пыхтит, гудит, грохочет Святое озеро, разрывая тишину темной ночи. А вот та мелькающая черная тень, — только очень зоркий, привычный глаз способен различить ее, — эта тень — ты. Взгляни-ка — ты торопишься, прыгаешь по кочкам. Это — ты, это — я, это — Прошлое, — сказало Прошлое дрожащим голосом.
Серкебай вгляделся — и увидел: прыгает, пробирается по кочкам через болото вдоль Сон-Куля какая-то женщина, одетая в черное платье до пят; иногда падает, путаясь в полах, снова поднимается… Хотя платье женское — это Серкебай, одет женщиной. То приближается к озеру, то удаляется от него. Когда приближается — озеро в ярости отшвыривает его волной. Одна волна догоняет, надвигается на другую, с каждым разом они все крупнее, все выше, яростнее. Сердитые темные хребты словно пытаются задержать черное платье, когда оно приближается к озеру, разбиваются с силой и шумом, теребят подол, кажется, что еще немного — и разорвут его. Черное платье боится волн. Опасливо озирается, будто преследует его живая сила, пугает его, сулит возмездие. А дальше, обручем охватывая озеро, дыбятся горы. О-о, эти горы — как волны, они словно бы тоже движутся, когда катятся волны, — кажется, что вот сейчас перемахнут через озеро… Над водой слышится жалобный крик. Что это за голос? Кого проклинает, на кого злится? Почему звучит, презирая ночной сон? Может, это утка, а может, какое-то чудище, подстерегающее в образе утки? Почему она кричит прямо над ним? Почему совершенно одинока? Нет, это, должно быть, не утка, что-то другое. Уж не хозяин ли озера? Ведь озеро — святое, оно всегда чисто. К нему не пристает грязь. Если днем и запачкает его кто, то ночью, говорят, оно очищается. Говорят, что ночью оно крепко наказывает того, кто дерзнул опоганить его воды. Есть даже поверье: если случайно попадет в волны озера такой человек, его тотчас утянет на дно. Поэтому купаться здесь может лишь хороший человек — с добрыми намерениями. Издревле повторяют в народе, что озеро накладывает путы на ноги злоумышленников. Но неужели тот, в черном платье, — добрый, хочет добра? Почему крадется вдоль озера? Следы его заносит песком. Видно, боится преследования? Вот побежал. Почему? Почему он торопится? Ах, вон оно что, его подгоняет крик. Но ведь это голос Батыркула… Оказывается, голос заставил его бежать. Или послышалось? А гора, то ли и вправду услышав, то ли рассердившись, — гора ответила эхом. Ответила эхом или закричала сама? Казалось, гора что-то сказала, будто бы назвала чье-то имя. Да не одна гора, а все горы закричали, зашумели, побежали. С вершин низверглись тучи, ринулись друг на друга, начали драться, пинаться, бодаться. Некоторые взвились ввысь, некоторые, устремившись к земле, казалось, погибли. Грохот сотрясал небо. Что-то разорвалось? То ли небо, то ли скала? Почему начали стрелять горы? Друг в друга они стреляют или же в кого-то другого? Что все это — ночь или черные думы вот этого черного платья? Может быть, у него нет черных мыслей? А если так, зачем надел черное платье и крадется в ночи? Это черное платье или черный умысел? Это человек или дьявол, надевший черное платье? Зачем дьяволу идти берегом черного озера?
Еще вчера озеро было другим. Озеро слилось с небом, небо — со скалой. Звезды, точно роса, падали на горы. Да, звезды плавали в озере, резвились, точно маленькие ребятишки. Как жаль, что в озере нет рыбок, а то они играли бы в звезды! Выдры, плавая в озере, раскалывали звезды своими мордочками, отбирали по душе, перекатывали лапками, взваливали себе на спины, превращались на какое-то мгновение в звезды, в настоящие. Они ели эти звезды, пили звезды, перекатывали их вместо мяча. Ах, как красиво было небо в эти минуты — сплошь усеяно звездами! Они не умещались в небе и падали на горы, на равнины, точно спелый виноград. Звезды покрыли рога горных козочек. Луна озарила скалы. Все сияет — весь мир, казалось, смеется.
А сегодня — сегодня все в мире нахмурилось.
Еще вчера в это время, хотя уже стемнело, белые юрты украшали берега Сон-Куля и подножья великих гор, обрамлявших озеро. Поющие голоса девушек и парней удивительно сочетались с этой ночью. Табунщики пели свою песню — «Шарылдан», а девушки и молодые жены — свою, «Бекбеке», ту, что заводят обычно, охраняя летней ночью овец. Пели в несколько голосов, голоса долетали из одного аила в другой, сближались, сливались:
Бекбеке перевалил через перевал, перевалил, ой, На его талии ладно сидит пояс, ой! Зорко стереги, идут многочисленные стада. На его бедре ладно примостился лук, эй!Вот это и есть «Бекбеке». Песня заканчивалась окриками: «У-уйт! Айда-ак! Уйду-уйт!» Но разве они только охраняли стадо от волка? Нет. В песне жили и молодость, и кокетство, и знак, подаваемый возлюбленному. Их чистые, ясные, ласковые голоса сладко усыпляли в юртах не только взрослых, но и детей. А их смех! В ясную лунную ночь ясны и голоса, и желания, и смех.
Кто только не побывал у берегов Святого озера! И богач, отрастивший брюхо, и вечно хмурый судья-бий, и волостной, который не насытится, если и проглотит округу, и бай, привыкший точно костью-альчиком играть жизнью своих рабов, и вор, подобный волку, и двоедушный святоша, насмехающийся исподтишка не только над взрослыми, но и над детьми. Не говоря уже о рабе, что сам себе не хозяин, и о вдове, что днем прячет лицо от солнца, а к ночи падает от усталости, тая́ свою печаль; не говоря уже об этих горемычных, здесь побывали певцы, самые сладкоголосые и красноречивые в мире, и красавицы, подобные сказочной Акмоор, во лбу которой играли лучи солнца, и борцы, состязавшиеся на свадьбах и поминках, и молодые джигиты, в скачках защищавшие честь своего рода; не только толстопузые баи, но и вечно тощая голь перекатная насытилась видом Сон-Куля. Справлялись поминки, где разыгрывались рабы и девушки-рабыни, отменные скакуны, белые ястребы-тетеревятники и другие птицы; на эти поминки сзывали весь уезд, к ним готовили лучших скакунов. Не только шумная толпа, не только свистящий ветер — само озеро кричало яростно, когда скакуны рвались к славе, — сколько коней сбили копыта, глаза устали глядеть на них! Группами гуляли девушки, одетые в шелка и ситцы, парни засматривались на них… От озера этого несет запахом молока, запахом ребенка, вскормленного материнской грудью… Это пристанище батраков, у которых колени покрыты болячками, а кожа на пятках потрескалась, это пристанище нечестивцев, опьяневших от кумыса, от сна, не различавших явь и сон, способных обругать утку, что с криком проносится над головой, принимая ее за человека. Это край, о котором не расскажешь и за месяц; это место, где гости получали большее удовольствие, чем на пиру. Это край зажиточности, где голодные насыщаются; это край бедности, где сколько ни таскай в юрту, все равно не будет достатка. Знахари-бакши, подобные отъевшимся к осени козлам, захватили эти места; певцы, песни которых сыплются, будто песок, захватили эти места; знатоки, что с решительностью расскажут не только о прошедшем и настоящем, но и о будущем, захватили эти места. Украшали его собою старцы с развевающимися белыми бородами, ополоснувшие свой рот кумысом; украшали его собою и безбородые, мудрые и наблюдательные, хотя и забитые, подобные петухам с выщипанными хвостами; украшали его собой и бурдюки, где пенится кумыс, насыщающие даже самых ненасытных. Это край, где столько холостых джигитов, у которых только-только начали пробиваться усы, сделались главами семейств; это край, где столько молоденьких девушек двенадцати-тринадцати лет, у которых еще не просохло на губах материнское молоко, повыходили замуж. Это место, где было объедено и выкинуто бессчетное множество голов — ягнят, овец, лошадей и коров; где устраивали поминки, свадьбы и угощения, принимая невесток, провожая дочерей, а также и при обрезании; там в честь одного человека резали овцу, а расщедрившись, и одичавшего жеребенка; там играли в кости-альчики, там козлодрание, там погоня за девушками, там дневные посиделки и девушек и молодок — вот что такое Сон-Куль. Обрамляют озеро пестрые горы, и трава на их склонах как шкурки у выдры; кажется, что природа из всего мира выбрала Сон-Куль, чтобы явить здесь человеку свою совершенную красоту.
А десятью днями раньше приехал на Сон-Куль знаменитый сказитель «Манаса» Сагымбай. Вздремнув немного днем, вечером, у костра, принимался он бурлить, словно горная река, затопляя слушателей неисчислимыми богатствами поэзии, а если входил в раж, перед глазами его по-настоящему скакали кони сорока чоро — отважных сподвижников Манаса, и все собравшиеся — и молодые жены, и девушки, и высокомерные искусницы-байбиче, и убеленные сединами старцы — все с восхищением ободряли его. Сагымбай — это народное сокровище; если запоет, о камне, мог расплавить его; сила его была безгранична; казалось, поэтическую неутомимость свою черпает он из моря… Приехав однажды к перекочевавшим на летние пастбища, пробыл с ними до осени и каждый день, каждую ночь пел им сказания «Манаса», изливаясь подобно дождю, и ни разу не повторился, — сколько слышавших его получили истинное удовольствие! Украшая южный берег Сон-Куля, стоит каменный очаг Манаса, о нем сложены предания, и посейчас они на устах старцев… Матери приводят к озеру детей и в миг, когда солнце озаряет землю первым своим лучом, умывают их лица водой Сон-Куля, приговаривая, чтобы были щеки румяными, а глаза черными. И правда, то ли от воды Святого озера, то ли от воздуха, не оскверняющего души, то ли от рвущегося из бурдюка кумыса, пьянящий запах которого слышен за версту, отчего-то живущие у этого озера — и девушки, и юноши, и даже сгорбленные старики и старухи — все здоровые, краснощекие. И для чего же тогда ковыляет это черное платье вдоль святых чистых вод озера, в эту черную, неспокойную ночь? Куда торопится? О чем думает озеро, видя его?
С гор спускается, налетает холодный ветер, будто иголками пронизывает ребра легко одетого человека. Пахнет цветами, пахнет летом, пахнет топленым маслом, кумысом, грибами. Утки и гуси с шумом и гамом плещутся обычно в воде, но сейчас их не слышно — ушли, видать, к середине озера. Возле юрт лают собаки, где-то слышен плач ребенка. Человек в черном платье пробирается-крадется, боится не только заговорить или запеть, но даже и чихнуть, боязливо переступает, затаив дыхание.
— Вглядись хорошенько. Посмотри, как ты идешь-крадешься, словно хищник. Смог бы сейчас, пошел бы сейчас по этой дороге?
Прошлое говорило, стараясь испугать. Серкебай покорился. Теперь он слушался беспрекословно: открывал глаза, когда приказывало Прошлое, закрывал их, вставал, садился, закусывал губу, схватившись за голову, ладонями закрывал уши, произносил какие-то загадочные слова, задавал вопросы, с кем-то спорил, потом соглашался…
Сидящая рядом жена смотрела удивленно и испуганно. Серкебай и не слышал, не чувствовал, как она дергала его за руку, спрашивала о чем-то… Откуда она могла знать, что ее старик встретился с Прошлым…
— Пошел бы я теперь этой дорогой?
Серкебай спрашивал, советуясь сам с собою. Жена поняла по-своему. Скривив губы, поднялась, грузно зашагала по комнате, остановилась возле мужа:
— Что еще за дорога, а?..
— Та дорога…
— Ой-ей! Совсем рехнулся, старый! Что все это значит?
— Этой дорогой… этой дорогой… Что ты знаешь? Сиди себе, не мешай. Или иди лучше — видишь, корова еще во дворе. Подои ее.
Серкебай, кажется, и вправду забыл… «Почему рассказывает мне о черном платье? Что за платье? Если это действительно я, почему тащусь вдоль берега глубокой ночью? Отчего так хмурится озеро, все черно вокруг… В темную ночь, одетый в черное платье… нет, это не я! Чье это платье? Я не надевал… Наговаривает Прошлое. Я чист. Не склонюсь перед наговором…» Серкебай пробовал протестовать. Он действительно не мог припомнить. Не мог представить себя… Перед глазами его опять возник тот, в черном платье. Прошлое приблизило его, показало лучше. Глаза точно у вороватой кошки!..
— Должно быть, ты забыл, Серкебай. Посмотри внимательно. Или лучше покажу-ка я тебе, с чего началось… Ты, должно быть, раздумываешь, откуда взял черное платье? Сейчас увидишь, узнаешь, все прояснится…
Теперь перед глазами Серкебая — новая картина. Дикий, нечеловеческий крик женщины, доившей косяк кобылиц возле двух или трех юрт… Собрался народ. Мужчины несут Бообека, — голова его окровавлена, — несут в крайнюю юрту. Еще через небольшое время возле юрт слышится плач — женские, мужские, детские пронзительные вопли. Бообек был другом отца Серкебая. В юрте Бообека подолгу жил Серкебай. Услышав крики, живо примчался. Бедный Бообек последний раз дернулся, последний раз издал хрип… Лягнула кобылица, когда доил ее. Значит, уготована была ему такая смерть. Жена его, Калыча, целый месяц ходила в черном. Все та же юрта, все та же Калыча; когда ни взглянешь — сидит, бедняжка, в углу, возле изображения мужа, накинув черный платок на распущенные волосы, причитает. Девочки, дочки, прижавшись друг к дружке, затихли возле кухни. В очаге теплится огонь, кизяк дымит, плохо разгораясь. Едкий дым щиплет глаза. Все в юрте кажется черным. Главное в ней сейчас — изображение покойника.
Серкебай видит повешенную на шест черную одежду, — похоже, будто черный человек поселился в юрте… Его пугается не только увидевший впервые ребенок, даже и взрослый почувствует тяжесть на сердце. Оттого все в юрте кажется черным: и кошмы, покрывающие юрту, и постель, сложенная на доске, и войлочный ковер-ширдак на полу, и подстилка из шкур у порога, и плетка Бообека, висящая на крючке, и засохший бурдюк, в который не налили надоенное молоко, и подставка, где колют дрова, лежащие у двери, и чурбак, и даже молоко, разлитое в чашки… Да, правда: горе и слезы даже и белое могут превратить в черное… Девочки уже давно выплакались. Слышен один только голос — голос самой Калычи. Она должна плакать целый год. Весь год в юрте будет стоять изображение умершего — будет говорить о Бообеке, напоминать о нем, если дети, вдова, соседи станут забывать… Здесь поселилось горе, здесь ютятся несбывшиеся мечты, и пища, которую ты принял здесь, оборачивается слезой…
Серкебай узнал все до малейшей подробности — да, так и было. У него заболела, заныла душа, рассердился на себя. «Ох, пропащая моя голова, так это я, одетый в черное по примеру страдалицы Калычи, это я шел исполнять приказ Батыркула? Вышло так, что надел черное на всю жизнь… Надел черное… Правду говорит Прошлое, не имею права открыто смотреть, открыто разговаривать… Трусливо озираюсь, если при мне говорят: «Кто скрывает одиночество, не умножит свой род; кто скрывает бедность, не разбогатеет». И почему я скрыл тогда?.. Должен, должен был сказать…»
Опять перед его глазами промелькнул тот, в черном платье. Вид его был несуразно-растерянный, точно у змеи, что в град заблудилась и не найдет свою нору… Серкебай вскипел досадой. «Черт возьми, хуже всего… Неужели я, приняв образ матери, осквернил ее дочь? Нет, я ничего не видел, меня ничто не касается. Свидетелей нет, никто не может опорочить меня. И Прошлое не может меня обвинить…»
Однако Прошлое тут же возникло.
Человек в черном платье, то припадая к земле, то поднимаясь, осторожно приближается к юрте — она уже совсем близко, возле нее лает собака.
Серкебай смотрел со страхом. Ему казалось, будто не в памяти, будто наяву совершается преступление. Весь покрылся холодным потом.
Старухе его меж тем надоело задавать ему вопросы и не получать ответа — ушла во двор, занялась коровой.
Теперь Серкебай начал советоваться сам с собою. «Ладно, скажем, я когда-то совершил проступок. У каждого времени свои законы… Неужели нет мне прощения? Не оправдывайся! Ведь и сейчас возвращаются, отбыв свой срок, осужденные за убийство, — разве это их оправдание? Да, но я ведь никого не убивал… И сколько хорошего сделал с тех пор людям… Разве это не считается? Нет, пожалуй, нет… А что касается Бурмакан, то я взял ее… Нет, мы стали жить вместе и стали вести хозяйство. Что это значит? Прежде было так. Мужчина предлагал свободной женщине соединить головы и вместе вести хозяйство. Соединить головы — просто быть мужем и женой, — это все внешнее, а в душе? Бывает ведь и так — один другого не согревает. Такой ли я? За столько лет ни разу обида не разделила нас с Бурмакан. Обида… но ведь и чужие люди, живущие рядом, соседи, тоже, бывает, не обижают. Мы уважаем друг друга? Или мы чужие? А дочери? Если бы мы с Бурмакан не любили, не знали любви, как же они появились бы на свет? Прекрасно появляются. Это закон природы. И чему здесь удивляться? Дорога Прошлого жестока. Дорога Прошлого или проступок, совершенный мной? Так в чем моя вина? Пусть не я — любой, кто попался бы на глаза Батыркулу и получил его приказ, любой побежал бы, наступая на свои полы. Значит, я не виновен? Значит, виновен Батыркул? Батыркула нет в живых. Я жив. Кто должен держать ответ? Какой ответ? Все это чепуха. Ходят же, задрав голову, виновные куда больше меня. Я был всегда лишь слугой, не имел своей воли. Тогда я был готов на все — и на убийство, и на воровство — стоило приказать Батыркулу. Случись на моем месте любой другой, поступил бы так же. А может быть, нет, а? Может, я — трус? Нет, если бы я был трусом, то разве ходил бы вот так ночью? Разве я был бы способен на такое молодчество? Молодчество? Это не молодчество, это преступление… Что ты размахиваешь кулаками после драки? Бурмакан поймет…»
— Ну, Серкебай, так кто же виноват? Я слышу все, что ты говоришь в душе. Подумай, пошевели как следует мозгами. Я не буду тебя торопить, — заупрямилось Прошлое.
Серкебай повесил голову. Закаменело в ней прошлое, нисколько не хочет оттаять. Если бы мог предвидеть такое, ни за что не пошел бы на черное дело, пусть бы снял голову Батыркул… «Вру я. Все так поступают, все говорят: мол, откуда мне было знать, что получится… А почему не думают до преступления?»
Он опять услышал голос Прошлого. Увидел, что все еще идет вдоль озера в черном платье. В ту ночь надевая его, он и не заметил, что оно черным-черно…
Тут Серкебай попробовал отвлечь свое внимание. Представил себя в поле. Шел полив, и он работал — пускал в канавки воду, время от времени наотмашь ударяя кетменем. Это правда — хотя он и был председателем, однако работал в поле вместе со всеми. Куда бы ни приезжал в своем колхозе, всегда включался в работу, не выделял себя среди колхозников. Это прославило его в народе. Трудились на совесть, поэтому сейчас в каждом доме имеется газ. Его ровесники давно уже на пенсии или отстали, цепляясь за Прошлое, не в силах идти в ногу с новым. Но он не таков. Несмотря на старость, не отставал от молодых специалистов. «Почему не подумал об этом раньше? Искал своих земляков, приглашал в учителя. Каждому из них создал условия. Наделил скотом тех, у кого не было своего… Теперь учительницы доят коров. Заняты хозяйством… Скот мешает учению. Оказывается, нехорошо. А настоящее зло в том, что, если дети получат плохую оценку, родители начинают обхаживать учителей, подсылают кого-нибудь из знакомых и таким образом добиваются пятерки или четверки, хотя на самом деле знаний нет… Окончившие нашу школу, даже те, у которых одни пятерки, не могут поступить в высшие учебные заведения. Теперь уж ничего не переменишь: учителя выстроили себе дома, завели скот… Скажешь, чтоб уехали — не захотят…»
В это время вошла в дом жена — решила, что пора накормить старого обедом. Над блюдом с бараниной поднимался пар…
* * *
Поел Серкебай или нет? Это неважно, это где-то в другом мире… Сейчас он спит, но продолжает думать во сне.
А куда пропала Бурмакан, ведь они собирались идти вместе, что с ней сегодня? Что сказали недавно по колхозному радио? А, да, сказали что из Фрунзе приехал какой-то человек. Пусть приходят представители от каждой бригады, желающие — вход свободный. Будет собрание, сказали, будет рассматриваться дело председателя колхоза Серкебая. Интересно, если будут рассматривать дело председателя, если это партийное собрание, то почему оно должно быть открытым? Что случилось? Почему о собрании объявили по колхозному радио — всем?.. Обычно о таком собрании объявляли, посоветовавшись с председателем… Сейчас не сказали, кто приехал. Может быть, опять приехал секретарь Центрального Комитета? Кто же все-таки? Почему так поспешно? Ну-ка, подожди. Обдумай-ка колхозные дела, Серкебай. План по мясу, молоку выполнен, подал рапорт за десять дней до конца квартала. Что касается свеклы, так уже закончен ее полив. Скот в порядке. Да, на днях из Анархая… А-а, так, может, это о тех семнадцати овцах, которых запорол волк? Говорили, что как раз в это время приезжал человек из Фрунзе. Видимо, этот человек и созывает собрание. Почему председатель не навестил пастухов, почему не интересуется вашим положением? Почему до сих пор не задан корм? Оказывается, есть сломанные кормушки, почему их не ремонтируют? Сколько всего бань? Как пастухи могут жить без бани? Почему не приехали в интернат дети некоторых чабанов? По какой причине задержали на семь дней рапорт по чаю? Почему председатель не следит за магазином, за торговлей? У одного пастуха испортился телевизор, почему за целый месяц не послали человека отремонтировать его? Не знает, что ли, председатель, что такое Анархай? Значит, если сам наслаждается уютом теплого дома, то этого достаточно? А что, если бы этот самый Серкебай приехал и пас здесь, в Анархае, овец, хотя бы два месяца? О, так он, оказывается, и сам в прежние времена был пастухом, — не знает он, что ли, какой тяжелый труд в Анархае?.. Почему он во время стрижки уезжает на курорт?
«За всю жизнь первый раз поехал на курорт, и тем уже попрекаете!»
«Другого времени нет, что ли, а? Нельзя поехать зимой? Как он мог уехать в такой ответственный момент, доверив дела заместителю?..»
Видимо, много таких вопросов задал приезжий… Теперь Серкебай оказался на улице — шел без шапки, его круглая седая голова с коротко остриженными волосами серебрилась под ярким электрическим светом. Торопится Серкебай — то широкие-широкие шаги делает, а то и вприпрыжку пускается, вспотел даже. Зарычала собака — оглянулся и увидел желтого соседского кобеля. Что это с ним? Взбесился? Тот самый пес, что из-за лени не поднимал головы, если даже наступали ему на хвост! Чего он крадется? Все кажется сейчас Серкебаю подозрительным. Прошли мимо два старика — не поздоровались. Что за люди? Пока пользуешься авторитетом, имеешь значение, относятся подобострастно, а когда счастье изменит тебе, все отворачиваются от тебя. Очень редко ценят человека, забыв о его должности. Навстречу ему вышла старуха Шуру; муж ее не вернулся с войны. Несчастная, каждый день стоит, ожидая, когда пройдет мимо Серкебай. Вон, выглядывает из ворот:
— Это ты, Серкебай? Я — Шуру. Тот проклятый опять испортился. Из Москвы смотрела хорошую передачу, надо же было ему погаснуть. Танцуют кавказцы. К кому, как не к тебе, идти мне теперь за помощью, — сказала она и направилась прямо к дому. — Пошли скорее.
— О, почтенная, сходили бы лучше к монтеру. Вы, должно быть, думаете, что я хорошо разбираюсь… — пробурчал себе под нос Серкебай, но последовал за ней. — Будет собрание. Не пойдете? Не собираетесь ли вы снять меня с председательства?
— Вроде бы шумели, что снимут. Нашлись такие, которые кричали, что подадут в суд. Ой, я сказала им: «Если его засудят, кто же тогда будет чинить мне радио-телевизор!» Ну, уж кто-нибудь да починит. Ах, Серкебай! Что ты горюешь? Ты и съел, и выпил свою долю, крыша есть над головой, баба твоя рядом. Не горюй. Вот ты взгляни на меня, молодой осталась без мужа. В девятнадцать лет, когда была в полном соку, ушел от меня мой хозяин. Да ты и сам знаешь, ведь Сарыгул был лучшим из джигитов. Не успела насытиться его объятиями, бедненький мой. Пропал без вести. Люди обращаются туда-сюда, пишут заявления, находят живого или мертвого. Я не стала… Какая мне прибыль, если получу бумагу о его смерти. Я — женщина, которая тянется к надежде, которая любит не только живого, но и мертвого. Давно слышала сказку о том, как возвращались на свои поминки те, кого считали умершими… Не верю ей, но и не теряю надежды. Так легче… Кажется, что когда-нибудь вернется мой Сарыгул, явится как божий день… О-о, желанный день, если и наступит — когда? Сколько мне подобных обрекла на одиночество прошедшая война…
Бормоча как обычно что-то себе под нос, завела Серкебая в гостевую комнату. Сразу подошла к телевизору, запустила руку в нутро…
До того неприятной показалась высохшая старушечья рука Серкебаю — даже рассердился:
— Убери-ка руки — ишь растопырила, точно лапы у паука… Да никак и нос твой покосился набок? — Серкебай, конечно, больше был обеспокоен и рассержен услышанной новостью, чем видом чужого носа.
— Какой уж есть он, мой нос, не покосился, на месте. Если тебе кажется плохим, то мужу моему казался хорошим. Кроме носа имеется и другое, тоже неплохое, — засмеявшись, ответила Шуру, зубы ее засверкали. Серкебай не замечал прежде, что у нее такие зубы. Нужно сказать правду, сердце его смягчилось. Ни у одной женщины ее возраста нет таких зубов.
Чиня телевизор, Серкебай окинул хозяйку взглядом. Да разве только зубы, и фигура у нее не изменилась. Если кто-нибудь увидит ее сзади, по ошибке примет за девушку. В груди у него заныло. На мгновение представилась пора войны. Правда, заглядывались на него и молодки, подобные быстроногим кобылицам, и девушки, красота которых едва успела расцвести… Ни одной не поддался Серкебай. Говорил, что иначе не сможет руководить людьми, перестанут верить ему…
Когда заканчивал чинить телевизор, по радио еще раз объявили о собрании — добавили, чтобы немедленно явился председатель Серкебай, где бы ни находился. Бросил инструмент, устремился было к двери, — так надо же, Шуру схватила его за руку, держит, не отпускает.
— Куда торопишься, Серкеш? Не оставляй меня одну. Посмотри-ка, и фигура у меня прежняя, — она пружинистым шагом прошлась, показывая себя.
Серкебай рассердился. Закричал:
— У меня есть жена! Не прикасайся! Если еще раз попытаешься провоцировать, поставлю вопрос на колхозном собрании, исключим тебя из колхоза! Разве не знаешь моего характера?
Смахнул Серкебай ее руку, бросился к двери. Шуру опередила, стоит, загораживая выход. Надо же, как по-особенному сверкают зубы у неладной! И глаза, оказывается, до сих пор молодые. Зачем, улыбаясь, подходит, зачем гладит по волосам? Это задело больше всего.
— Как говорят, за вину верблюда отвечает мост, — ты меня хочешь наказать, что ли?
— И накажу! За все… Не могу больше терпеть!
— Я уже устала. Я ведь человек. Несчастная моя голова, не знала я… Впустую прожила свою жизнь. Почему? Спрашивается, почему? Ты, ты во всем виноват! Если б не ты, давно бы вышла замуж! Надеялась на тебя, Серкебай!..
Шуру охватила его за шею, целуя.
— Что говорит эта женщина! Я женат. Не подходи, не прикасайся, не целуй, заслюнявила все лицо! Нападение на председателя колхоза! Провокация!
— Эх, бедняжка, что ж это он убегает, когда его целует женщина? Что такое «провокация»? Дура я, что люблю такого, как ты. Не приходи больше. А я-то каждый день ломаю свой телевизор-радио, чтобы видеть твое лицо. А оказывается, вон ты каков. Руки-ноги не свои. Бедняга, точно вязанка камыша! Вот дверь. Уходи. Не возвращайся больше. Если придешь, переломаю ноги!
Шуру распахнула дверь, вытолкала Серкебая. О-о, будь она неладна, — обида, полученная от Шуру, оказывалась равной той обиде, которую нанесла ему Аруке во время бегства в шестнадцатом году.
Дверь за его спиной с силой захлопнулась. А не получится ли так, что все двери окажутся закрытыми для Серкебая? Почему? Какая вина тяготит его?
Серкебай оглянулся — увидел, что в окно Шуру совсем по-девичьи кокетливо смотрит на него. И нос вовсе не на боку… Серкебай остановился. Ему захотелось вернуться. Может быть, здесь то, что он ищет? А что он искал? Ведь он уверял, будто доволен своей судьбой… Откуда появилось это чувство?.. Разве его любовь к Бурмакан — ложь? Когда он говорил, что любит Бурмакан? Еще тогда, когда в первый раз заговорил с ней? Нет. Должно быть, в какой-то другой раз… Тогда он сидел, опустив голову, не смея поднять глаз, сидел краснея, стыдясь и робея… А после этого — когда же он сказал? Разве обязательно говорить, что любишь? А что, если не говорить, если хранить любовь в душе? Выражать свою любовь отношением? Любить… Любить человека по имени Серкебай… Интересно. Вообще любил ли этот человек какую-нибудь женщину? А Шуру? Может быть, и любил. Хотя разве это любовь? Всякий раз, когда у нее в доме что-нибудь ломалось, получал возможность краешком глаза поглядеть на нее, а потом вздыхал про себя. Да, вздыхал. На глаза навертывались слезы. При чем тут глаза? В сердце… в сердце рождалось сладкое ощущение. Он и сам не знал, что это такое… Когда Шуру отворачивалась, ласково глядел на нее, но стоило ей обернуться — напускал неприступный вид, хмурился… Не хотел обнажить скрытое в сердце. Ему казалось, что если она заметит — ничего доброго все равно не выйдет. Были такие дни, когда Шуру не звала его к себе. Тогда он сам проходил мимо ее окон, поглядывал вопрошающе, не выйдет ли она, проходил, кашлем или разговором давая знать о себе. Бурмакан все видела, при случае повторяла язвительно: «Сходил бы починить у Шуру…» Серкебай, слыша такое, подпрыгивал, точно блоха. Правда, хотя внешне возмущался, в душе даже ждал, чтобы жена говорила ему о ней… И жена сердилась, чувствуя его ожидание. И это вошло в привычку в отношениях между ними. Случалось, они пререкались на глазах у других, однако никто не придавал их ссорам значения. И вот теперь всплыло, сказало о себе чувство, которое столько лет таилось в его душе, так было запрятано… Серкебай боязливо следил за окном. Несчастная Шуру… посягнувшая на чужое счастье, будь она неладна… Ну как ей быть, женщине, у которой желания перелились через край души… Смотри-ка, даже не принимает в расчет то, что ему уже семьдесят, все глядит на него с ожиданием. Должно быть, это настоящая любовь. Это не шутка.
Вернуться или нет? И горькое, и сладкое на сердце, мысль мечется в растерянности. Глаза Шуру не отпускают…
Он не решается отворить ту самую дверь, куда мог входить не таясь, когда хотел, хоть днем, хоть ночью? Что же это? Гнев Шуру сильнее его власти? Разве Шуру умеет сердиться? Неужели это настоящее чувство? Оказывается, чувство рано или поздно выходит наружу. Ну и пусть выходит — какая разница? Одно дело, если бы случилось в молодые годы, а теперь, когда старость сковала поясницу, стать посмешищем среди людей, добычей сплетников!
Серкебай сильно дернул дверь, крючок сломался. Шуру стояла в углу и плакала. Он подбежал к ней и обнял. Другой бы поцеловал в лицо, а он — в спину. Может быть, думал, что если сделает так, то понравится ей. Но Шуру оттолкнула Серкебая локтем.
— Уходи и не показывайся мне на глаза. Подумаешь, сам точно перевязанный сноп, иди к своей Бурмакан. У меня нос кривой! Иди к той, с прямым носом!
Изо рта Шуру вылетело пламя, сразу перекинулось на крышу дома. Начали гореть небольшие доски. Он хотел было погасить, но Шуру не дала:
— Пусть горит! Это не дом горит, я сама. Ты — жестокий, снимем тебя с поста. Я скажу, что ты поджег мой дом. Я первая выступлю. Сгинь! Ты — безупречный!.. Моего мужа проглотила война, ты проглотил. Из мести послал его на фронт. Найди моего мужа! — Шуру, взбешенная, трижды перевернула все в доме, пыль поднялась столбом. Она била Серкебая всем, что ни попадется под руку. Подушки и одеяла, задевая, гасили огонь, ласкавший крышу. Не только огонь, все погасло. В доме стало холодно.
— Когда я мстил твоему мужу? Эх, Шуру, не дури, и без того тяжелы мои дни. Разве я тебе враг? — спрашивал Серкебай, целуя ее.
— Был врагом. Ты навсегда теперь в ответе за мое несчастье. Что бы ты потерял, если б один раз сделал меня, несчастную, счастливой. Пусть сгорит твоя борода, не мужчина ты, не человек! Уходи!
Серкебай идет по улице. Дорогу красиво освещают лампы, подвешенные на столбах, по сторонам — просторные каменные дома. Все это создано его руками. Это он закладывал первый кирпич каждого дома здесь, в большом поселке, раскинувшемся у подножья горы. А когда начинали класть фундамент, он писал записку, — да, его, Серкебая, каждый звал, желая выказать уважение, — не торопясь, он писал записку и вкладывал ее в бутылку. О чем он писал, никто не знал… И когда ставили дом Шуру, он тоже написал записку — теперь он вспомнил, что там было сказано. Хотя одиннадцать лет уже минуло с того дня, он увидел записку, будто держал ее перед глазами. Он писал тогда, одиннадцать лет назад: «Шуру, прости меня, сердце мое просит — прости. Ты оказала мне честь как отцу колхоза, — доверяя мне, согласно нашему обычаю, просишь, чтобы я написал пожелание… Я напишу тебе о том, чего ты не можешь знать… Я хочу оставить на этом листке слова своей любви к тебе. Скажу правду, я не посмел открыто сказать тебе о ней — я устыдился людского суда. И потому я молчу, будто рот мой забило песком. Но душа моя томится и ищет слова. Выходит, любовь не всегда проявляется внешне, она живет в душе, она не на лице — в сердце. Ты не из первых красавиц у нас, но душа твоя — нет прекрасней ее. Хотя я живу в своем председательском доме, в мечтах живу возле тебя. Пусть моя любовь останется под землей, пусть останется под твоим домом, кладу ее под твой порог, ходи по ней, топчи ее. Пусть она согревает твой дом. Мое сердце чисто перед тобой, Шуру. Не обижайся на меня, лучше прокляни мою несчастную долю. Да, я несчастный человек. Я достиг почтенного возраста, но не достиг смелости, я озираюсь боязливо, опасаясь сплетен… И я умру, не улыбнувшийся никому из женщин, кроме жены, и Шайкымбай умрет, всю жизнь неравнодушный к женщинам… Да, это я пишу не для тебя. Не станешь же ты ломать свой дом, чтобы прочитать мою записку. Придет пора, мы умрем. После нас останутся потомки. И этот дом когда-нибудь разрушится. Земля станет тесной, людей станет больше. Тогда на этом месте построят дом в четыре, в пять этажей. Станут класть новый фундамент, кто-нибудь найдет, прочитает и узнает о моем несчастном сердце… Знаю, ты тоже любишь меня. Ты ждала меня и провела свою жизнь в одиночестве, подобная молодой быстроногой кобылице. Ты думала, что я мужчина. Но я не оправдал твоих надежд. Теперь ты меня не позовешь. Кто-нибудь другой будет чинить твои вещи. И тебе не нужно будет провожать его и долго глядеть ему вслед. Из-за меня ты возненавидела весь мужской род. Я виноват перед тобой».
Вдруг на всей улице погас свет. Что случилось? Такой темной она была тридцать лет назад. Но ведь время было другое… Может, кто-то погасил из умысла, чтобы Серкебай намучился в потемках, не находя дороги?
Кто это сел в «Волгу» Серкебая и проехал туда-сюда? Не успели еще снять, а уже унижают. Неужели так легко создаются и почет, и унижение?
Интересно. Лампочки на столбах погасли, когда проходил Серкебай, а за спиной его вновь ярко засветились. Никогда, кажется, не сердился так Серкебай.
«Два старика даже не смотрят на меня, будто незнакомые. И еще, не посмотрев, прошли люди, обогнали. Плохая примета. Чем же все это кончится? Ну вот и контора. Люди ждут. А может быть… Нет, никто не может снять меня с председательства в мое отсутствие. Будет большая драка, просто так я не сдамся. Серкебай не соломинка, которую легко можно переломить, я знаю, как защищать свои права. Какую же найдут вину? Какой повод найдут, если я родных не поднимаю в должностях, если не присваиваю общественного добра, если у меня неплохо идут колхозные дела… Может, просто скажут, что состарился? Пусть снимают. Пусть поставят молодого, знающего дело, пусть испытают его. Но ни один из них не станет Серкебаем. Серкебай на свете один. Пусть снимут меня — вот тогда и откроются глаза у тех, что не ценят золото, пока оно в руках. То, что сколачивал тридцать лет, не разрушится ли за год? Черт возьми, все сам, своими руками собирал, и, если на глазах будет рушится, разве не заболит душа? Ладно, пусть разрушится то, что отдадут другому, перестав доверять мне. Тогда и узнают, что это за сила — Серкебай. Пойду на собрание. Если скажут сдать дела, отдам ключи и уйду. Устал я. Что я видел? И правда, что я видел? Ничего. Даже дома богатого не поставил, не то что некоторые другие председатели… Почему? И в том доме, что есть, — все обветшавшее, старое. Всегда говорил, что довольно и этого, что не должен выделяться среди людей, — оказалось, отстал от людей. Строю дома рядовым колхозникам, деньги у них есть. Взять дом сына Сакена… Шесть комнат. Стены из жженого кирпича. И вода, и все другое в доме. Сам пасет овец в Анархае, приедет в один прекрасный день и возьмет ключ в руки. Можно сказать, что все уже живут в просторных, добротных домах. Только я не построился. И поделом мне. Разве не хватило бы моего заработка на хороший дом? Трус я. Боялся, чтобы зря не болтали, не говорили, будто выстроил себе дом за счет общественных доходов. При чем тут общественный доход? Есть ведь бухгалтер, который все держит на учете. Пусть хоть из Москвы приехала бы комиссия, что она сделает со мной? Ну вот, и дождался наконец. Полеживай теперь в двух маленьких покосившихся комнатах — простор, будто верхом на ишаке едешь…
Когда он приблизился к конторе, навстречу ему вышли три девушки.
— Серкебай! Серкеш! — начала одна из них, покачивая бедрами. — Я полюбила тебя. Если женишься на мне, согласна стать твоей женой. Ты не знаешь, что такое любовь, несчастный. Обжигает, обдает пламенем, заставляет дрожать — вот что такое любовь. Учись различать ее вкус. Хочешь, крепко тебя поцелую? — и звонко рассмеялась. Платье ее, едва прикрывавшее бедра, лопнуло, когда она нагнулась. — Вот видишь, как бывает? Ой, Серкеш, где нее твоя борода? Да никак выдрана она, проклятая! Ох, люди, смотрите, у Серкеша выдрана борода. Какой смешной, точно комолая корова. Хотя для меня удобней, не будет мешать целоваться. Любит или не любит меня мой Серкеш? — Девушка повертела-повертела указательными пальцами и ткнула ими друг в друга. Кончики пальцев сошлись. — Вот, правду говорит гадание. Мой Серкеш полюбил меня. Поэтому борода его выщипана. Ох-ох, ну хорошо, борода, но на твоем вороте грязи на палец толщиной, милый. Почему не выстирает тебе твоя неуклюжая жена? Вот погоди, вот стану твоей токол, твоей младшей женой, заткну обе ее ноги в одно голенище Поцелуешь, Серкеш? Целовал когда-нибудь девушку? Обнимал? А тебя обнимали? Горячо?
Она не давала проходу Серкебаю, прицепилась, хватала за руку, тянула в тень деревьев. Серкебай перестал сердиться. Красивая девушка. Такой девушки не было у них в аиле. Если бы не выпирал один из передних зубов… такая, которую можно бы сделать возлюбленной.
Серкебай усмехнулся. Что с ним приключилось? Вот нечистая, растаял лед, улыбнулся камень.
— Ты чья будешь, дочка?
— Твоя дочь.
— Ну, не скалься без толку.
— А почему же тогда всех девушек в аиле зовешь дочками? Я спросила у матери, она мне сказала, что я дочь Серкебая.
— Сгинь с моих глаз! Если уж совсем совести нет, седины моей постыдилась бы!
Серкебай оттолкнул девушку, та отлетела к дереву, опрокинулась на спину. И все же:
— Серкеш, дай поцелую!
Не увидел ли кто? Слава богу, никого нет. Уходить надо. Как бы это не записали в дело. О, чтоб ей сгинуть!
— Серкеш, слушай, что говорю тебе! Не опоздай домой. Прогоню твою старуху, будешь мой!
Посмотрел, а она зацепилась за ветку, на дереве висит.
— Не ходи ко мне домой! Ты не сто́ишь моей старухи.
— Еще увидишь, кто кого не стоит! Погоди, сдеру с тебя шкуру!
Девушка спрыгнула на землю, бросилась догонять, — Серкебай, спотыкаясь, едва добежал до конторы. Странно, там ни души. Стол его перевернут. Повсюду накиданы окурки, надымлено — нечем дышать. И телевизор, что обычно в углу, перевернут. Стулья сдвинуты в беспорядке. Серкебай, несмотря на небрежность в одежде, в делах всегда дисциплинирован, выходит из себя, если не то что в работе, а просто даже в кабинете увидит малейший непорядок. Однако сейчас он растерялся. Огляделся настороженно, затем с напускной беззаботностью замурлыкал что-то под нос. В это время дверь с шумом распахнулась, влетела та самая девушка.
— Приди, мой любимый, приди, любимый мой, приди, время проходит! — запела она и еще подмигнула, бесстыжая!
— Вон! — Серкебай схватил стул, замахнулся, да ей хоть бы что! Пальцем провела по щеке, пристыдила взглядом, подошла ближе. Серкебай замер без сил, не может вымолвить слова. Никак эта бесстыжая заклинание какое знает.
— Вот как принимаешь любовные слова! Но, когда ругаешься, ты совсем ребенок, несчастный! Дай-ка поцелую тебя за это!
Девушка поцеловала Серкебая в кончик носа.
— Почему не можешь избавиться от Бурмакан? Почему боишься? — А сама грудью придавила Серкебая к стене. Фигура у проклятой без единого изъяна, юбка разорвана выше бедер… Дико на первый взгляд. Но когда присмотришься…
«Зря я осуждал. Каждому времени — свои одежды, своя еда, свои песни. Это и есть мода — сама приходит, сама уходит, так что напрасны слова, потраченные в гневе… Девушка полонила меня. А что, если, как говорится, тряхнуть стариной, вспомнить молодость?.. Не-ет, на такое дело… Не дай бог оступиться. Честно шел по жизни, честным и умру».
Девушка снова приблизилась, что-то сказала, Серкебай видел — шевелятся полные красивые губы. Только дай ей заговорить…
— Эх, Серкеш, женщина — что ведьма. Троих родила твоя Бурмакан. Что поделаешь, хоть ты ее и ненавидишь, а покрутишься-покрутишься — и домой пойдешь. Уничтожить бы жен, а? С тех пор как помню себя, еще не слышала, чтобы мужчина похвалил свою жену, только и раздаются стоны. Не от одних мужей — и от женщин плачут женщины. Только и слышишь разговоры: жена такого-то что за человек, неопрятна, а жена такого-то слишком сурова. Мужчины до этого еще не дошли… Сейчас все женщины красивы. При хорошей жизни все становятся красивыми. А сойдутся две красавицы — не смотрят друг на друга, морщат носы, но уж если одна разглядит в другой недостаток — боже, как радуется, торжествуя победу! Плохо, когда все красивы. Я не красивая. На меня никто не смотрит. Ты будешь доволен, Серкеш, — как говорится «жена слепа, душа моя спокойна». Прогоним твою Бурмакан на все четыре стороны. Столько лет прожила бок о бок с тобою, достаточно с нее; мы умереть, что ли, должны, ожидая, когда она закроет глаза. Присмотрись хорошенько, послушай, как жалуется она, способна оговорить тебя, — дескать, боится своего Серкеша, он, мол, когда-нибудь убьет ее в запальчивости… Эта женщина себе на уме. Договорились, ты женишься на мне. Я выхожу за тебя замуж, — говорит, разрумянившись, девушка.
— Не женюсь я на тебе!
— Тогда я женюсь на тебе.
— Как?
— Ты выйдешь за меня, я женюсь. За такого, что ни рыба ни мясо, девушки не выходят замуж, сами женятся. Знаешь мое имя? Не знаешь. Меня зовут Балта[9]. Если понадобится — зарублю. Нет — омоложу тебя! Ты иди на собрание, я — домой. К твоему приходу отправлю старуху на тот свет, — пообещала и вылетела, приплясывая. На ходу выпускала клубы дыма — через правое плечо, через левое…
Серкебай бегом пустился к Дворцу культуры. Собрание началось давно, многие из ораторов уже выступили. Ох-хо, что это за чудо? В президиуме сидит еще один Серкебай, низко опустил голову. «Этот — кто, я — кто? Он моложе меня или я моложе его? Черт возьми, никак на одной стороне лица у него борода и усы, а на другой — нет? Погоди, надо рассмотреть хорошенько… Да, он наполовину молод, наполовину стар. Разделили двух Серкебаев пополам и сложили вместе. А если так, значит, нет моей второй половины? Погляжу-ка. Вот шайтан, как же стою на одной ноге? Хорошо, что сердце цело. А кишки… хватит и того, что осталось… сейчас мне и еды много не надо. Но единственная нога? А, привыкну и к этому. Чего не пришлось пережить… А это кто? Подожди, послушаю, что он говорит…»
Серкебай, расталкивая людей, прошел вперед. Теперь он хорошо слышал слова выступавшего, очень густой бас:
— Ты, должно быть, не стыдясь, повторишь, что если причинил горе одному человеку, то пожалел тысячу, что вину одного дня перевешивают заслуги тысячи дней… Действительно ли ты человек? Можешь утверждать без колебаний? Если это так, иди по жизни прямо, не сворачивая. Того, кто строит новое, я называю человеком, того, кто рушит созданное, называю хищником! Зачем похваляешься сделанным за годы? Не будь тебя, другой выстроил бы не хуже! А что перетянет, если положить на чашу весов сделанное тобой, а на другую — горе Бурмакан? Хоть и стараешься забыть, но ни та ночь, ни скулящий, точно у щенка, жалобный голос молоденькой девушки, ни горе ее не дадут отдыха памяти… Голоса того времени звучат в моих ушах. Слышу их — вспоминаю тебя. Потому и преследую, не отставая… Но есть еще и другое — твои черные мысли и намерения против Аруке, Жайнака, затем Токтора… Если перечислять — слишком многое… Сейчас хочу сказать о Бурмакан. Твоя вина возрастает с каждым днем. Почему? Потому что скрываешь. До сих пор не сказал о ней ни душе, знают лишь одна ночь, один день. Ты думаешь так. А Батыркул, а волостной? А я? Нет, сколько ни порывался сказать, всякий раз зубы твои прикусывали язык… Ты — трус! А трусость — это тоже вина. Предпочитаешь жить задыхаясь, держать в себе, но не признать все как есть перед народом!
Серкебай не вытерпел. Он понял, что тот человек не уполномоченный, приехавший из города, а Прошлое. Вскипел от досады. Однако старался не наговорить лишнего. Направился прямо к трибуне, оттолкнул стоявшего там Серкебая, встал на его место и начал говорить:
— Где заведующая читальней? Опять не явилась? Ведь сельсовет решил временно закрыть!.. Что же это за человек, который не подчиняется? Эй, бригадир, почему не привел? Разве не дошло до сознания некоторых, что нужно за три дня закончить прореживание свеклы? Или у них притупились мозги? Я сам взял на себя пятьдесят соток. И детей у этой женщины нет. Что с ней станется, если три дня поработает вместе с другими? Пришла или нет? — рассердился Серкебай. Никогда председатель не повышал голоса, сидящие в зале посмотрели удивленно. — Когда строилась, была хорошей, старалась во всем угодить мне, выбирала самый лучший участок… а когда надо помочь колхозу — найди ее… А еще ест наш хлеб… Где, спрашиваю, эта самая молодка?
Из середины зала выплыла, будто пава, молодая женщина. Медленно направилась к трибуне. Не доходя до Серкебая, остановилась. Округлила губки.
— Я — избалованная…
— Пусть балуют тебя мать и отец. Колхоз не любит баловства.
Исчезла, словно пар.
— Здесь не производственное собрание. Серкебай, рассматривается твое дело. Оставь в покое молодку. Отвечай на мои вопросы, — заговорило Прошлое, размахивая рукой и указывая пальцем на Серкебая. Серкебай задохнулся. Он посмотрел в зал и увидел, что все хлопают в ладоши. Не понял, что случилось, растерялся…
— Батыркул виноват… Я не имел воли. Сильная кувалда и войлочный гвоздь в землю загонит… Что я мог сделать, привык подчиняться… Моя жизнь висела тогда на кончике его плетки, — стал оправдываться Серкебай.
Но Прошлое не приняло его слова:
— Ты был волен, твое звание — человек, и пел ты, оглушая горы… Умел петь, умел обмануть Аруке, умел похваляться, темной ночью с другими джигитами умел угнать из спящего аила табун кобылиц, — тогда сам черт был тебе не брат… А теперь, оставшись с Бурмакан, сделался безвольным? Кто была Бурмакан? Почему опускаешь голову? Эй, я спрашиваю тебя о Бурмакан! Пусть не дрожит твоя рука. Почему не дрожала тогда? Меня называют Прошлым, называют историей, потому что я не забываю и не прощаю. Попробуй только исказить меня, все равно тайное выплывет, люди узнают обман!
Прошлое говорило, не останавливаясь. У Серкебая, отравленного его речами, голова пошла кругом. В ушах зазвенело, глаза посоловели, похоже, не способен был ответить… Голос Прошлого становился все громче, яростнее, грознее, страшнее; не только у Серкебая — у всех сидящих в зале волосы поднялись дыбом. Закончило так:
— Пусть освободит место председателя! Найдутся другие — будут работать лучше. Как это вы с ним не можете распрощаться? Посмотрите, каким он стал!
Серкебай, тот самый, что многое пережил и перевидал на своем веку, что был покладист во всем, не ждал для себя слишком многого, никогда не привередничал, тот, что был молодцом, не однажды прошедшим в жизни сквозь частое сито, теперь, точно сухая былинка, бессильно колыхался на месте. Закружился в круговороте, запутался в сите жизни. И действительно, жизнь как сито: кружит человека, пропускает сквозь себя и хорошее, и плохое, просеивает, оценивает, отделяет… Проходит, проходит человек, но настанет время — и зацепится в одном каком-то глазке… Значит, запутался, ошибся. Значит, запетляла дорога жизни…
Сито жизни — суровое испытание. Никто и ничто не минует его — каждого заставит жизнь покрутиться в сите, да не каждого сито пропустит… Все живое на свете — от травы и букашек и до самого человека, — все живое, если в силах пройти, то проходит сквозь сито… Да, и трава борется за жизнь, стремится к свету, солнцу, просит влаги и пищи. Сильные, жизнеспособные, здоровые растения проходят сито, расцветают, разбрасывают семена, ожидают потомства…
Сито жизни — это борьба… каждую минуту, каждый час, каждый день — всю жизнь, до последнего дыхания, до последнего биения сердца… Само существование — это сито жизни. Через него проходят одиночки и целые семьи, обширные роды…
Сито жизни — это проверка силы и способностей, добра и зла, мечты и стремлений… Да, и мечту испытывает сито жизни. Значит, и мечта — это борьба, без мечты невозможна жизнь.
Иной человек и после смерти проходит еще через сито жизни, тайное, нераскрытое прежде вдруг выходит наружу, когда самого человека уже нет, и оживает в устах потомков…
Есть судьбы короткие, мимолетные; есть судьбы вечные. О мимолетных забывают скоро, о вечных каждое время судит по-своему. Однако сейчас — не о вечном, о Настоящем, в котором кроется Будущее, обо мне, о тебе, о Серкебае, о его днях, уже минувших и еще ожидающих его впереди.
Даже Прошлое проходит в Настоящем через сито жизни. Уже много лет Серкебай не встречался с Прошлым. Избегал этой встречи. Отрастил белейшую бороду, опасаясь столкнуться с ним. И вот разыскало… И даже во сне не отпускает…
Глаза Серкебая закрылись — и вновь открылись. Увидел, что в зале не осталось ни души, сцена превратилась в озеро. Озеро покрылось рябью, пошли белые барашки, а потом почернело, сделалось чернее угля. Казалось, что сразу тысяча драконов, извиваясь, устремились вверх, взвились, засвистели на разные голоса, брызнули ядом. Казалось, что горы становятся на дыбы, толкают друг друга и приходят в веселое возбуждение, слыша собственный грохот; казалось, что их унесет, смоет сейчас бешеный поток, искрошит в мелкие кусочки… Из-за взлохмаченных волн выглянуло то самое черное платье, его то заглатывало, рвало на части, то опять оно всплывало наверх, в одну минуту девятью девять раз падало, уходило, возвращалось, поднималось, скатывалось… Выползло на берег, превратилось в черную змею, слепленную из копоти, пошло извиваться по кочкам болота…
Пробираясь вдоль озера, он споткнулся обо что-то, выброшенное волной на берег, и полетел кувырком. Страшная черная ночь, и что-то будто хватает за ноги, сбивает на землю… Поднял, чтобы швырнуть обратно в озеро, — оказалось, таган-треножник… Да, много лет, а может, и веков пролежал он на дне озера, покрылся ржавчиной, превратился в камень, время изъело прежде гладкие бока… Таганы… котлы… глиняная посуда… много чего выбрасывало волной на берег… Кто не задумывался, взяв в руки осколок минувшей жизни? Благодаря таким находкам возрождались легенды прошедших веков, оживали вновь и вновь. Истории, которые рассказывают о Сон-Куле, тоже свидетельства ушедших времен… О-о, говорят, что в давнюю пору здесь не было никакого озера, а простиралась безмятежная, гладкая равнина, где ковыль поднимался выше пояса, а скот, пасшийся пять дней, уже чуть не лопался от жира. В летние месяцы сходилось сюда множество людей и пригоняли стада. Там, где сейчас середина озера, был, оказывается, родник. Из поколения в поколение, от отца к сыну, от матери к дочери передавались предания о нем. Люди считали родник святым. Вода в нем была безмерно прозрачной. Говорят, если девушки приходили сюда каждое утро и гляделись в зеркало родника, глаза их делались удивительно глубоки и прозрачны; у тех, кто мыл голову этой водой, волосы становились длинными и шелковистыми; жизнь человека, который трижды протирал глаза водой святого родника, продлевалась на три года, а если кто протирал свои глаза сто раз, то жизнь его удлинялась на сто лет. Родник снимал тяжелую ношу с горевавших, подбадривал их, слушал их песни; отведавшему его воды он прибавлял жизненных сил и изгонял болезни. Если к нему приходила излить свои мечты девушка, давал совет, очищал ее душу; если же приходили старики и пили чай, заваренный на его воде, то распрямлял их согнутые спины. Издалека прилетели к роднику лебеди, чтобы показать ему свою красу; проснувшись на рассвете, прибегали косули; приходили сюда волки, выплакивая себе прощение; переливаясь, будто ртуть, прибегали по камням, по пескам куницы, чтобы показать свое великолепие; говорят, появлялись и архары, подставляя свои засыхающие рога влажному дуновению, чтобы омолодить их; прилетал беркут окунуть плечо, чтобы летать как можно выше; наведывались барсы, подставляя струе родника пасть, чтобы еще крепче сделались их пылающие клыки. Тело того, кто купался в воде святого родника, лоснилось точно шелковое: сердце того, кто выпьет его воды, избавлялось от недугов. Если кто-нибудь из людей случайно засорял родник, то плакал, словно мать над больным ребенком; из засоренного родника поднималось длинное черное облако, достигало седьмого неба, а затем постепенно распространялось до горизонта. Становилось так темно, хоть глаз выколи, и два дня над людьми бушевала стихия. Поэтому каждый, кто говорил об озере, повторял одно и то же: держится родник в чистоте. Эти слова звучали как заклинание в каждом аиле, в каждой юрте.
Родник не любил злонамеренных, ленивых, неряшливых. Если приближался грязный человек, родник волновался, зеркало его мутилось… Но защитить себя родник не мог, а ведь каких только нет людей… Говорят, одна заносчивая молодка, которая и весной и летом жила здесь, на теперешнем берегу, однажды ранним ясным утром, поленившись налить воды в таз, постирала пеленки своего шестимесячного ребенка прямо в роднике, осквернила родник, попрала его святость. И тогда родник разверзся и выпустил из себя необозримо большую полноводную реку… Она затопила все окрест и, превратившись в озеро, оставила под водой множество юрт, огромное количество скота и всех пастухов. Кто не слышал о том, что и посейчас волны выбрасывают на берег предметы, потонувшие тогда? С тех самых пор озеро Сон-Куль считают священным, как и родник, исторгнувший его. И живет поверье, что с тем, кто приходит к его водам с черным умыслом, обязательно случится нехорошее…
Серкебаю казалось, что Сон-Куль лишь сейчас на его глазах стал озером, лишь сейчас разверзся священный родник и выпустил фонтаны воды, в лицо его ударяло дыхание волн, желающих унести его, сила их и ярость напугали его.
«Действительно ли это я — в черном платье? Я, превратившийся в черную змею?.. Но ведь я сделал доброе многим… Моя прошлая вина давно уже смыта. Я чист, я честен. Прошлое должно было меня простить, оно должно было взвесить, велика ли моя вина. Почему оно так памятливо, почему не прощает? Бедная Бурмакан, как я очутился тогда там, на берегу… Всю жизнь вина перед тобой не давала мне уснуть спокойно, не дает и сейчас… Минувшее стоит перед глазами. Голос несчастной насквозь пронзает меня… Почему я пошел туда, почему, почему?» Серкебай устремил свой взгляд вдаль. Черное платье продолжало идти, оно то ударялось обо что-то, то его поглощала ночная темень, опять оно возникало, ковыляло, двигалось то ползком, то раскачиваясь. Это Серкебай или же Прошлое, принявшее вид Серкебая?
А-а, видишь? Не ты ли это, Серкебай? А там — не юрта ли бая по имени Кулменде, это к ней ты подбирался, извиваясь, точно змея? Ведь это Кулменде владел белой юртой, вмещавшей сто человек гостей? А Бообек, тот, что умер от удара копытом, — он ведь закадычный друг твоего отца? И Бурмакан была его средней дочерью? Тебе известно, Серкебай, что Кулменде приходился ей далеким дядей по матери, что несчастный Бообек, желая, чтобы дочь ходила сытой, сам привел ее к юрте Кулменде и просил взять в услужение — чтобы она хоть посуду мыла? Помнишь, Бурмакан пошел тогда четырнадцатый год, она могла выжить в байской юрте лишь по природной своей выносливости? С утра до вечера не отходила от котла и от посуды; едва забрезжит рассвет, уже возится с очагом, выгребает золу; вечерами стелила постели хозяевам и гостям; по правде говоря, трудилась и за невесток богача; трижды в день ходила с ведрами по воду, — неокрепшей, хрупкой девочке это было куда тяжелее, чем верблюду тащить его поклажу. Когда еще живы были ваши отцы, разве не сделали они все, чтоб подружились их дети? Да, ты, Серкебай, не выполнил заветов отца. Твой отец не брался за такие дела. Подобно тебе, он тоже был единственным сыном у родителей. Однако если желал, мог защитить весь аил. Неспроста его звали батыр Сарман — богатырь Сарман. Он был из тех молодцов, что не вздрогнут, если мимо проползет дракон, — не знаю, в кого ты уродился, сын своего отца? Слушай и правым и левым ухом, расскажу тебе, Серкебай, об одном лишь геройстве, совершенном твоим отцом. Случилось это за шесть лет до твоего преступления, в тысяча девятьсот восьмом, в тот год, когда умер твой отец… Он умер от тифа и вместе с собой увел и твою мать Бюбю. Он смеялся над теми, кто печалился, что у них всего один сын. «Самка черноухих пантер родит лишь одного, храбрые рождаются единицами, — любил повторять он. — Пусть сын один, но если хорош, то заменит целый город, а вот тридцать сыновей, но плохих, не достойны рукояти одной плетки. Пусть мой сын живет счастливым, пусть знающие его говорят — вот идет сын Сармана. Ох-хо, если от меня и будет тридцать сыновей, ни один из них не будет похож на меня. В жизни я — один, и если хоть кто-то из сыновей повторит меня, я перестану быть собой. Хорошо, что сын мой не похож на меня!» Вот таким был твой отец. Ни слова не вымолвит, случись хоть кровавое побоище; не вздрогнет, если у него отвалится полживота. В тебе нет ни одной отцовской черты. Напомню, расскажу о храбрости твоего отца, ты забыл о ней… но лучше… лучше поспеши домой. Беги домой! Все, кроме тебя, уж давно собрались. Сидящие в зале давно ушли к ней. Твоя старуха упала с кровати и скончалась.
— Типун тебе на язык!
— Зачем типун, иди домой.
— О-о, моя душа с тобой! Бурмакан, забери меня с собой!
Серкебай закричал что есть силы. Старуха, лежавшая рядом с ним, в испуге скатилась с постели. Спросонок Серкебаю показалось, что она действительно свалилась на пол и умерла. Потянулся к жене:
— Бурмакан, забери с собой!
— Эх, да вставай же и перестань орать!
— Ой, ой! Ты… не умерла? Но ты ведь умерла? Приснилось, что ли?..
— Оставь мою смерть, лучше подумай о своей жизни! Вставай же, чего разлеживаться!
Было пять утра — время, когда Серкебай поднимался. Он вскочил, вышел во двор к крану. Снял рубашку и вымылся до пояса. Однако в ушах звучал голос Прошлого, говорил в тон струи, с шумом бежавшей из крана:
— Сыновья не должны забывать дела отцов. Богатырь Сарман — храбрейший из героев. Разве не геройство — слушай, что он пережил… Когда один род готовил набег на другой, прежде чем угнать косяк, угоняли выдающихся скакунов. Джигит без коня что птица без крыльев. Значит, в первую очередь отнимали крылья… И твой бай, Батыркул, так поступал, и Кашкоро, волостные и бии, словом, все богатые, все знатные люди того времени. Тогда легче расставались с красивой девушкой, чем с быстроногим скакуном.
Батыров накануне похода откармливали пшеницей, замоченной в масле. Откормив, прибавив силы, отправляли в набег. Кто теперь расскажет, как уходили в набег другие батыры, — отец твой Сарман уходил пешком. Однажды спросили его, почему не на коне, и он, приподняв брови, долго смотрел на глупца свирепыми глазами, затем все ж ответил: «Дураку пристало отправиться верхом, а вернуться без коня, батыру подобает уйти пешком, а вернуться на коне, пища батыра — в дороге, дело его — у врага. Конь — мои ноги, а ружье — руки. Надо видеть не уход, а возвращение, не говорить, а сражаться; надо подойти без звука, а уйти с шумом, не по мне подойти с шумом, а уйти беззвучно. Чем потерять доброго коня, лучше похоронить хорошего человека. Будет народ — можно найти достойного, останется лишь скот — не всегда выберешь нужное…» Так говаривал батыр Сарман. От хорошего отца рождается хороший сын, от плохого — плохой, ты, видно, родился от хорошего отца. Говоря так, имею в виду знание, — не приравниваю тебя к богачам, у которых всегда лоснился от жира котел, никогда не потухал огонь в очаге, к которым счастье само идет, которые верховодят над народом, наследство одного аила проглатывают в одиночку. Если говорить правду, и твой отец был слугой. Не простым слугой. Его звали батыром, ночи проводил в набегах, шел на смерть и мучения, но добытое им захватывал бай, а слава, черная слава оставалась твоему отцу. Ночное бодрствование, бесшумный набег и шумное возвращение он почитал геройством. Лишь бы сказали вслух — да, совершил геройство батыр Сарман! Знающий себе цену, подобно другим не ходил на разные сборища, на поминки и свадьбы, а если и шел — лишь после долгих приглашений; когда же не хотел идти, то, ленясь отвечать отказом, лежал отвернувшись, и это сделалось одной из примет его храбрости. Случалось, что не вставал и не смотрел, если даже приходил волостной. Делал он так вовсе не потому, что волостной не был способен повредить или боялся его, а потому, что тот пришел, чтобы послать его на другой день в набег. Этот самый волостной и рассказывал людям, что Сарман опять не принял его приглашение, он уверял, что к Сарману никто не может подступиться, он делает что хочет, а если разозлится, то не только волостному, но даже самому создателю не ответит на салам; воистину нашим народом верховодит батыр Сарман, говорил волостной; возвеличивая батыра, он тем самым запугивал других, давая понять, что, мол, у него под рукой есть такие львы, которые не поздороваются с самим царем. И правда, в этих словах была доля истины. Случалось, в припадке ярости Сарман прямехонько направлялся к косяку Батыркула и, выбрав, закалывал жеребенка или ягненка, такого, что от жира не мог уже ходить. Способен был съесть одного или двух, если ходил в набег, пригонял целый табун… Понимая свою выгоду, Батыркул нарочно поднимался на холм и распоряжался громко, чтобы услышал Сарман: «Никак проснулся батыр Сарман, не ходите в ту сторону, куда он пошел, не трогайте то, что взял, не открывайте рот, не говорите, — если рассердится вдруг, разобьет очаг, поднимет в небо золу…» — Сарман доволен был, ему только этого и нужно… За похвальные слова, уважительное отношение готов был поймать язык пламени, броситься в пропасть, готов, точно ловчий беркут, лететь туда, куда пошлет его Батыркул. Прикажет тот снести кому-нибудь голову — и снимет; велит притащить кого, — словно тушу козла при козлодрании, живьем схватив, прижмет к своему седлу батыр Сарман, а отпустит лишь у самой юрты Батыркула.
Вот таков был Сарман. Хоть служил одним только богатым — Батыркулу, бию, волостному, понимал себя так, будто содержит свой народ — народ своего аила, думает о судьбе народа, посвятил себя народу… И народ аила был согласен с ним, и надеялся на него, и повторял, что с батыром Сарманом не пропадешь… Да ведь и правда была в таких словах тоже, действительно так: если батыры других аилов совершали набег, угоняли скот, батыр Сарман, не разбирая бедных и богатых, пускался вдогонку, хлестал плетью всех, кто попадется под руку… Ведь напавшие уводят и единственную клячу несчастного, и единственную дойную корову, и откормленную кобылу бая, и паршивую лошаденку нищего пастуха. Таков был твой отец Сарман… Уйдет, бывало, из аила, пропадает десять дней, месяц, возвращается и отлеживается в юрте, не показываясь никому. Не всякий человек осмеливался зайти к нему запросто. Случалось, по два дня не открывался тундук его юрты, и заметившие это шептались, поглядывая издалека: «Должно быть, вернулся из набега… устал, видно, батыр…» Батыр — это было нечто вроде дракона, людям к нему подступиться не просто. Неразговорчив был он, Сарман. Когда просили рассказать о себе, отказывал, не соглашался: на того, кто настаивал, глядел грозно, и потому мало кто осмеливался заговорить с ним. В доме у него, кроме лошади, способной умчать от любой погони, не было даже собаки, которую можно было бы выгнать пинком. Ни в чем не нуждался; кроме лошади, батыр Сарман и не держал скота. Для сына не копил — считал, что потомок Сармана всегда способен добыть пропитание и скот — хотя бы набегом… Даже когда не спал, а бодрствовал батыр, люди аила редко могли его увидеть. Способен был днями лежать на одном месте неподвижно, ни с кем не разговаривая, никого не видя. Если в юрту к нему заходил кто-нибудь из сверстников и заводил разговор о прошлых его геройствах, жена его Бюбю, зная сдержанность мужа в речах, степенно повествовала о подвигах батыра, однако рассказ допускался недолгий, — если Бюбю продолжала говорить, лицо батыра хмурилось.
— Четыре вещи могут уронить честь мужчины. Во-первых, глупая и нерожающая жена; во-вторых, плохой конь, взятый в поход; в-третьих, отказ выслушать совет мудрого; в-четвертых, неуважение к знанию. Слова женщины хорошо выслушать лишь однажды, — говорил батыр Сарман.
Сидящие возле него не смели кричать, не смеялись громко, не сплетничали ни о ком. Если случалось, кто-нибудь хохотал несдержанно, Сарман взглядывал грозно:
— Смеешься на свою погибель! Беззаботный хохотун, ленивый соня! Испугается счастье твоего каркающего голоса! — при этом он щипал свое бедро.
И чтобы после этого кто-нибудь дерзнул нарушить его спокойствие! Заглянувшие за полог юрты могли видеть, как иногда часами сидят возле Сармана люди, неподвижно, будто обиженные. Дважды в год, на два праздника Айта, он сам выходил из юрты. Подзывал проходящего мимо юношу и говорил:
Мой отец сказал: «Айт», Сказал, чтобы я сел на пегого жеребенка, Сказал, чтобы я поскакал по горам, Сказал, чтобы я заехал в дом, где есть девушка. Сказал, чтобы я выпил кумыса, Если не принесут кумыса, Чтоб умыкнул их дочь, — так сказал отец.Таков наш Айт. Зайди в дом, где есть дочь, выпей кумыса; если не угостят кумысом, умыкни их дочь, будет расти киргизский род, женись пораньше. — С этими словами батыр вручал свою плетку встречному юноше.
Так и повелось, что знаменитый шорник аила Шапак на другой день после Айта приносил Сарману новую плетку. Если нет в доме плетки, — значит, батыр сошел с коня; нет охотничьей птицы — состарился сокольник. Джигит, получивший плетку от Сармана, ходил гордый, в тот же день о нем узнавала округа, завидовала удаче. Старики, веря в хорошую примету, рассуждали: мол, даст аллах, будет этот юноша счастливым, он получил плетку батыра, это ему аллах посылает. Обрадованные отец и мать юноши приглашали в дом гостей, резали жертвенную овцу, получали благословение старцев. И девушки бывали неравнодушны к такому джигиту. За него выходила замуж та, что прежде вертела носом, не уделяла ему внимания. Вот поэтому в день Айта с раннего утра прохаживались возле юрты батыра юноши, некоторые приезжали верхом. Случалось и такое — в праздник Айт батыр не показывался народу. И тогда разбегались волнами тревожные толки: «Вот беда, каким-то выдастся нынешний год, не вышел батыр, хоть бы все обошлось спокойно…» Когда же батыр снисходил и показывался людям, все повторяли в радости: «Жив-здоров наш батыр». Сарман понимал: аил видит в нем опору. Одолеваемый тяжелыми думами или накануне большого набега он не выходил из юрты, не смотрел не только на других, но и на собственную жену. И в такое время каждый приносил для батыра отборную пищу — масло, сливки, мясо, лучших ягнят, но все оставалось без внимания, все прокисало, а ягнята блеяли, живые. Если батыр ложился спать, спал несколько дней подряд, если бодрствовал — тоже несколько дней. И Чубарый, конь Сармана, был под стать ездоку. Только этот Чубарый мог нести батыра, не было другого такого на Сыртах[10]… Видевшие его бег люди рассказывали, что на спине коня вырастали крылья… Когда батыр Сарман, подхватив копье с бунчуком, не седлая, вскакивал на Чубарого, тот вытягивался в струнку, наливался силой и, словно пушинку, нес огромного Сармана, только комья земли величиной с котел летели из-под копыт. Когда показывался батыр верхом на Чубаром, горы склонялись, благословляя его, реки уповали на него, небо опускалось и целовало его, разглаживались морщины земли. Каждый раз перед набегом Сармана в небе появлялся беркут, кружил над головой батыра, издавая призывный клекот. Птицу видел не только один Сарман, все люди находили ее взглядом, слышали победный зов, радовались, предсказывая батыру удачную дорогу. На Чубарого батыр Сарман садился, ожидая нападения врага, однако не брал его в набеги. До сих пор рассказывают о геройстве батыра, защитившего аил от набега враждебного рода. Надев на голое тело панцирь, летел батыр навстречу схватке; он свел оба свои плеча и, кусая, изодрал их в кровь… Он прогнал врага далеко за пределы аильских пастбищ и вернулся домой. Он остановился у собственной юрты и встряхнулся — из панциря его с шумом посыпались на землю пули. В этом бою погиб его родственник по отцу батыр Тельтай, и, выражая свою скорбь, батыр Сарман целый год просидел, не раздеваясь, возле очага. За год дважды перенес чесотку, но не тронул больного места. Лишь отомстив, захватив в плен убийцу, разрешил себе раздеться Сарман. Редко встречается подобный характер, поэтому и называют джигита батыром, поэтому и называют мужественным… А плененный батыр, он взмолился — пусть покажут ему человека сильнее его; если суждено погибнуть, так увидев лицо победителя. Говорят, услышав о просьбе, Сарман поставил на землю пиалу, что держал в руке, и застыл точно каменный великан. Спустя долгое время ответил:
— Вы разве не знаете обычая, оставшегося от предков? Одного смелого не показывают другому, показать — значит дать пощаду. Чем сказать — он увидел мое лицо, лучше скажите — он вернулся домой. Не показывайте его мне…
Да, был такой обычай. Нельзя приводить врага в юрту победителя — иначе придется исполнить его просьбу… Вот таким был твой отец… Расскажу о происшедшем в его молодые годы, чтоб ты мог иногда вспоминать. Как-то, оставив народ и землю в полном благополучии, три батыра: старший — Тельтай, средний — Онко и младший — твой отец Сарман, просто бахвалясь, отправились в набег в дальние края. Много дней и ночей ехали батыры, была осень, выпала пороша, и однажды достигли они незнакомой холмистой местности. Видят — аил на зимовке, два десятка юрт поставлены в круг, от юрты к юрте протянута коновязь, а в середине собраны лошади всего аила. Три десятка джигитов окриком еле сдерживали, успокаивали коней, а те пугливо рвались с еще не обжитого места… И ровно в полночь наши батыры угнали их. Тельтай взялся выгнать табун из аила и напугать охранявших, а Онко и Сарман — угнать табун подальше. Как условились, Онко и Сарман далеко угнали табун и тут спохватились, что нет с ними их старшего батыра Тельтая. «Аллах послал наказание, видно, в плен попался Тельтай. Что скажем народу? Я пойду и освобожу его!» — так сказал Сарман и вернулся. Увидел Тельтая пешим, двадцать человек вели его под ударами плетки, однако не могли справиться с ним и связать его. Оказалось, в темноте Тельтай не разглядел и налетел на коновязь, подпруга у седла ослабла — он съехал на землю. Сарман пришел в ярость — раскидал врагов, одних в одну сторону, других в другую, отбил старшего батыра Тельтая. Ухватив его за спину, бросил поперек своего седла — лука продавила Тельтаю одну сторону ребер, но Сарман проскакал без остановки сорок верст. Онко один не мог совладать с угнанным табуном; упустив его, ждал товарищей на дороге. С тех пор народ не может решить, кто же из них герой: то ли батыр Сарман, который подхватил одной рукой и бросил на седло такого великана, как Тельтай, то ли сам Тельтай, не заметивший, что около сорока верст пролежал ребрами на луке седла и не издал ни одного звука, то ли Чубарый, который вынес на себе, словно пушинки, обоих великанов. Аксакалы, правда, говорили меж собой, что из всех троих герой все-таки Чубарый…
Расскажу тебе еще об одном из набегов твоего отца. Бай Батыркул, собрав почтенных аксакалов своего аила, приходит с ними к батыру Сарману и зовет его к с себе в юрту, желая почтить его батырство. Он закалывает жеребенка в честь Сармана, одаривает батыра чапаном и новым панцирем, затем рассказывает ему о своей заветной мечте. Незадолго перед тем джигиты бая Кашкоро украли его любимого коня по кличке Гнедой, так вот он просит батыра привести этого коня обратно. А Сарману что — ему нужны подвиги.
— Опять придется мучиться, опять отправляться пешком, бай. Не стоило бы приходить к тебе в гости, да раз пришел, не следует отказывать хозяину в просьбе. Хорошо, я пойду. Ждите меня через три дня, а не вернусь в срок, считайте, со мной случилось неладное. Если погибну, возьми под свою защиту, бай, моего единственного сына Серкебая, чтобы не испытывал он нужды, чтоб не называли его люди сиротой. Пусть народ не забудет мое имя, пусть считает Серкебая ветвью, оставшейся от батыра. Говорю не из страха, а толкуя свой сон. Прошлой ночью приснилось — не пережевывая, проглотил змею… — С этими словами Сарман отряхнул подол, рукава и ушел, не оглядываясь, даже не завернув в собственную юрту. Бедняга обладал чертами истинного батыра…
Было с ним и такое: нападающие кольцом окружили аил, а Сарман в это время пил чай. Батыру раз напомнили, что враг близок, — не слышит, еще напомнили — не слышит, а когда пришли в третий раз — тут батыр ответил, что враг всегда найдется, а чай хороший — не всегда, сначала — чай, враг — потом.
Сарман, знавший в аиле Кашкоро все — от юрты бая до мест лежки зайцев, днем прятался в ложбинах, во впадинах, в овраге, в кустах, по ночам же высматривал иноходца; не трое суток минуло — все десять, но так и не увидел Сарман байского Гнедого. И все же напал он на след… Гнедого зорко охраняли. И вот однажды кто-то ушел на нем в набег, вернулся поздно ночью и накрепко привязал к коновязи. Несколько джигитов сидели возле, не спуская с Гнедого глаз. В темноте, под шум налетевшего дождя батыр Сарман, крадучись, приблизился, уже разрезал было привязь, но разве не могут справиться и с батыром джигиты, когда их десять, двадцать на одного! Обступили, схватили, на руки, на ноги набили колодки, измывались, как над собакой. Мучили батыра, но не сказал он ни слова. Тогда закатали его в войлок, сверху зашили… Бросили посреди овечьего загона — подыхай как собака! Каждый проходящий мимо пинал батыра, каждый, издеваясь, повторял: «Вору нет погибели! Придешь в другой раз — еще хуже будет! Помни — не забывай об этом!» Еды не дают, лишь раз в день чашку разбавленного кислого молока. Девушки, молодки, охраняя ночью загон, катают, будто играя, войлок с батыром, а то становятся на него в ряд и прыгают. Иногда, переваливаясь, подходит к батыру бай Кашкоро, начинает выпытывать. Но скорее камень проронит слово — будто песком набит рот славного Сармана. Кашкоро, досадуя, жалуется своему батыру Делденкулаку, и тот отвечает:
— Вели принести Сармана, заставлю говорить!
Приносят. В котле варится мясо. Батыр Делденкулак — на почетном месте. Видит колодки на руках, на ногах батыра Сармана, просит снять их:
— Не показывайте мне связанного, иначе потеряю достоинство батыра.
Сбивают колодки. Делденкулак велит бросить в огонь большой кусок железа, ждет Делденкулак. Железо пламенеет — Сарман будто не видит, не слышит ничего Сарман.
Раскаляется как огонь железо, брызжет по сторонам искрами. Делденкулак велит обмотать край раскалившегося куска войлоком, берет его в руки, встает со своего места, подходит к Сарману.
— Не будешь говорить? Не скажешь? Я заставлю! — И подносит железо к глазам Сармана. Вспыхнули ресницы, сгорели с треском… О жизнь, и тогда не моргнул батыр! По-настоящему рассердился Делденкулак: — Да у него нет души! — и бросил железо на землю…
Опять ведут Сармана в овечий загон, опять хотят зашить в тот же войлок. Тут сказал батыр:
— Дайте отдышаться, пора сходить до ветру… Хотите убить — убивайте, не издеваясь долго.
Дают батыру время. Он делает вид, что ищет подходящее место, и находит половину лучевой кости барана. Подходит осторожно, зажимает ее пальцами ног.
— Ну, теперь связывайте, — говорит Сарман, неуклюже переступая.
Случился в ту ночь ливень. Батыр Сарман рванул руками, ногами — размокший войлок пополз…
Той самой припасенной костью мгновенно размыкает батыр колодки на руках и ногах, вбегает в ближнюю юрту, нашарив котел, съедает всю пищу…
Хозяева были, оказывается, больны тифом. Слышали, что входил кто-то, но не в силах были предупредить…
А в аиле уже шумят, крик стоит в аиле:
— Вор сбежал! Лови! Держи!
Поднимается переполох.
Насытившись, Сарман подходит к коновязи, а там стоит конь. Батыр вскакивает на него.
— Где же, где вор? Лови! Держи! — кричит он и отправляется восвояси.
Едет батыр, радуясь освобождению, и видит он на высоком берегу две юрты, поставленные рядом. Угоняет Сарман двух коров, три десятка овец — и вдруг слышит: «Чу, чу!» Отпускает батыр скот вперед, а сам прячется, выжидая, и, когда оба пастуха подходят близко, хватает одного из них, а второй пускается наутек. По рукам, по ногам связывает пойманного батыр.
— Если пикнешь, умрешь! — говорит ему Сарман и, забрав его коня, возвращается домой, погоняя овец и коров. Приезжает в аил, привязывает коней у юрты. Сбежавшиеся наутро люди видят — байский Гнедой на привязи, с победой вернулся батыр Сарман! Надо ж такому случиться, чтоб попался в потемках Гнедой спасавшему свою жизнь батыру!.. Вот какой был твой отец, ты же — взгляни на себя… Он совершал геройства, а ты… Смотри, на какое дело решился.
Когда черное платье, как тень, бесшумно ступая по земле босыми ногами, остановилось у большой байской юрты, залаяла собака. Тень бросила ей мясо. Довольная подачкой, та вмиг проглотила и села, склонив голову набок, облизываясь и повизгивая, в надежде получить еще… Не раз бывал Серкебай в этой юрте, — признав его, байские псы не лаяли больше. Скользя рукой по веревке, которой была опоясана юрта, черная тень двинулась к входному пологу…
В этот миг в юрте проснулась девушка.
Бурмакан всегда просыпалась в это время. Осторожно, точно волосок из теста, выскальзывала из своей постели, — спала она в изголовье хозяев. Никто из домашних не слышал, как вставала, как ходила по юрте Бурмакан. Все еще сладко спали, а она уже тщательно подметала пол, выносила золу, в чайник наливала воду для утреннего омовения, чисто вымытый котел уже висел над огнем, самовар стоял, готовый для кипячения. Человек, увидевший ее за утренней работой, не спрашивая ни у кого, не выжидая, когда скажут, без сомнений утверждал бы, что она не приходится дочерью хозяевам юрты. Хотя близка уже осень и на Сон-Куле похолодало, девушка ходила в одном платье. Не для нее прохлада ночи, от которой ежатся другие, ей нипочем труд, от которого устают другие, к ней не идет сон, одолевавший других. Тысячу раз на день входила и выходила из юрты Бурмакан, куда только не вели ее следы… Тоненькая фигурка девушки, легкой, как тростинка, летала по юрте, сгибалась и разгибалась в работе — казалось, она не работает, а, услаждая внимание собравшихся в юрте, изящно танцует, танцует всю жизнь, словно добрый дух очага. Издалека доносился голос озера. Озеро — сама музыка, а она — танцовщица, озеро и сердце девушки — едины; казалось, их нельзя отделить друг от друга, казалось, ритм работы девушки идет от озера, а мелодия озера рождена ее танцем.
Иногда девушка останавливалась задумчиво, тогда и озеро замирало, прислушиваясь к голосу девушки. Сердце озера билось с плеском, сердце девушки — легче легкого дуновения… Лишь в этом была их разница — оба чисты и прозрачны. Не только гости, проведшие ночь в байской юрте, и сами хозяева не видели этих чудных мгновений, этого танца, этих легких шагов, подобных шагам куницы, — кто бы мог догадаться, что какое-то чудо под утро наполняет дом счастьем. Девушка то заходила в чыгдан[11] и вскоре выскальзывала оттуда, то снимала с шеста мясо, то выносила во двор чугунок, то опускала руку в аяккап[12], то, легко подхватив самовар, возвращалась во двор. Ни один искушенный акын не смог бы воспеть, ни один знаменитый комузист не смог бы передать в мелодии этот ритм, эти мгновения утра. Эта песня, эта мелодия убаюкивала всех в юрте. Девушка, словно существо из недосягаемого счастливого мира, услаждала, смягчала, украшала, возвеличивала, превращала на рассвете в чудо юрту Кулменде.
Джигиты, помнившие сказанное предками: «Ударь ее тебетеем, — если устоит, то бери ее в жены», складывали о Бурмакан песни. Когда они распевали, зная, что слышит Бурмакан, лицо девушки делалось пунцовым. Однако понимала, что украшает собою аил. Не только люди смотрели почтительно, даже собаки не лаяли вслед Бурмакан. Видевшие, как несет воду эта невесомая девушка, не могли пройти мимо не оглянувшись… Ее босые ноги ступали по мягкой траве, словно в танце, все в ней было под стать этому шуршащему волной озеру, этой земле в траве и цветах среди белоснежных вершин… Казалось, если исчезнет, уйдет в другие края, солнце над Сон-Кулем померкнет, горы нахмурятся, озеро обмелеет, травы поникнут. Казалось, она и ковыльная степь — близнецы. Земля, по которой она ступала, пела; ветер плясал; горы смотрели на нее, склоняясь, готовые обнять и поцеловать ее; утки и гуси слетали с насиженных мест, чтобы с высоты неба лучше разглядеть ее красоту. Веселый жаворонок трелью сопровождал пение девушки.
Кто, как не эта девушка, создал красоту гор, озера, травы, земли — ради нее они были красивы!
Руки ее — они знали секрет волшебства: пиалы, что она подавала гостям, хранили нежность ее пальцев, чай был горяч, пища, приготовленная ею, вкусна, дом, где она живет, прекрасен… И вот к этому прекрасному, святому миру, к которому не приставала никакая грязь, который, как озеро, берег свою чистоту, — к этой девушке в темную ночь направлялась черная тень, затаив черную думу, желая покрыть ее лицо позором. Это Серкебай, забывший рассказанную им повесть о Карасултане и Сарысултане, забывший, что плохое убивает хорошее, забывший даже отца…
Ведь беркут, настигший и ударивший прекраснейшую из лисиц, был последним, никчемным из беркутов. Да, это Серкебай, не понимавший красоты, не знавший, что Бурмакан — совершенство, не видевший, как она идет за водой, как возвращается, как вносит с собой счастье в юрту Кулменде. Быть может, он не крался бы сейчас черной тенью, сливаясь с ночью, если б хоть раз видел ее в эти мгновенья… Шелест травы мешается с шелестом платья девушки, гибкость стана ее — как гибкость волны, красота ее — как у озера, никогда не устанешь смотреть… Целый мир в одном ее взгляде, когда, проходя, поднимала голову и широко открывала глаза. Казалось, она прислушивалась к себе… Нет, она слушала голос, летевший от дальней черной скалы. Это был голос плачущей матери. Мать оплакивала кончину отца Бурмакан. Каждый день, едва забрезжит рассвет, Калыча, отвернувшись от света, садилась в углу постели. Накинув платок на распущенные волосы, начинала причитать. Вместе с несчастной, годы которой едва перевалили за сорок, плачут, изливая свою душу, ее волосы, не только платок, но и ситцевый чапан, накинутый на плечи… она высказывает свои несбывшиеся мечты богу, вселенной, земле, рекам, детям, себе… Ей безразлично, слышит ли кто-нибудь ее плач, спросит ли кто-нибудь — жива ли она в этом мире. Есть обычай, завещанный предками, — обычай ведет ее за собой… Она не думает, как звучит ее голос, охрипший от долгого плача, — лишь бы только еще говорить, лишь бы только еще причитать. Она не вдохновляется в плаче, как те настоящие прославившиеся плакальщицы, не выговаривает каждое слово, чтоб запомнили другие, она повторяет то, что слышала когда-то и от кого-то, и лишь прибавляет немного своего, вызванного горечью потери. В причитаниях женщины — жизнь ее мужа, достоинства и заслуги Бообека и собственная сжигающая душу тоска. В плаче — повесть о завтрашнем дне: как придется жить дальше — чьей женой быть, чью дверь открывать, в чьи глаза смотреть… Для женщины, лишившейся мужа, будущее — загадка, разгадать ее нелегко. Это дыхание ада, ставшее голосом женщины, выходит из ее души. С плачем встречает рассвет Калыча, на душе у нее черно даже в солнечный полдень. Плачет, когда ест-пьет, когда видит что-нибудь, когда думает думу, наяву и во сне. Жизнь ее стала плачем, кроме плача, нет иной жизни… Все части дома покрыты слезами: узнук, туурдук, веревки, кереге, уук[13], тундук, через который выходит дым. Плачет зажженный огонь, плачет кипящий котел… Если вдруг остановится плач, если хоть раз за день собьется с плача вдова, если не увидит плача рассвет, не заполнит слезами полдень, не встретит плачем ветер, если без плача уйдет спать — осудят в аиле. Лицо ее, изодранное не только своими ногтями, но и шилом, специально отточенным, покроется позором, не сможет она взглянуть в глаза сородичам.
Плач матери, тоскливый и горький, родной плачущий голос, переворачивает душу девушки. Слезы сыплются из глаз Бурмакан, точно пшено, травинки ковыля жадно их ловят, хотят нанизать на себя каждую каплю… Смятенье в душе Бурмакан… Носит воду, живет у чужих людей, не может вернуться домой, но ей кажется, она рядом с матерью, она плачет, деля горе матери. Нельзя причитать в чужой юрте, но на ее сердце, в ее душе — плач.
Плач матери, плач дочери одинаково достигают свежей могилы у подножья горы.
Этот плач родился не вчера, он был здесь всегда; жизнь такова: один умирает, другой рождается, один смеется, другой плачет… Сила плача, сила песни собирает тучи к вершине горы, их все больше, хмурится небо, и святое озеро временами хмурится и чернеет, отвечая печальной песне женщины, — будто сердясь, бьется о берега, с грохотом вздымает белопенные волны. А там, на восточном берегу Сон-Куля, стоят рядами красные камни, словно постель, сложенная на сундуке. Испокон веков зовут киргизы это место Сандык-Таш[14]. Подойдешь — похоже, будто лицо причитающей женщины; оплакивая мужа, она разодрала щеки, по которым струится кровь. Случилось когда-то: на голову одной несчастной опустились черные дни, она потеряла рассудок, ожидая возвращения мужа; шли дни, ночи, месяцы, годы, века — хозяин так и не вернулся, и все вещи и сундуки превратились тогда в камень, и оттого Сандык-Таш — место грозное, страшное и таинственное… Оно само стало легендой. И люди берут свои песни, надежды и думы отсюда, берут у земли. На каждом шагу напоминает, учит земля; мать человечества, она — сама мудрость.
В Сандык-Таш приходили играть дети, особенно девочки. Кукол тогда находили просто — на земле. На подходящий камень повязывали кусочек тряпочки — платок, затем, сшив платье, надевали на камень — получалась каменная кукла. Девочки, пришедшие из юрт богачей, надевали на каменных кукол платья из бархата, шелка, плюша, атласа, отороченные куницей, а дочери бедняков — из обрывков старой одежды, из остатков закоптелого войлока, что стелили вместо ковра на землю. Слова «богатый» и «бедный» жили уже в играх детей, начинались с их кукол. Играя в куклы с дочерью богатого, дочь бедняка была рабыней или батрачкой. Так их учила жизнь, так просеивало сито жизни… Подрастая, думая о замужестве, наблюдая, как выходят замуж дочери баев, присутствуя на их девичьих играх, видя их приданое, которое навьючивали на верблюдов и на быков, уже тогда мечтали дочери бедных юрт, мечтали, затаив дыхание… тогда особенно чувствовали, что у них нет ничего. В такие минуты они приходили сюда, в Сандык-Таш, играли, превращая эти камни в свой дом, в свое приданое, — от души наслаждались, считая себя богатыми. Казалось, их мечты становились былью. Земля как добрая мать. Будешь к ней близко — она твоя родина, а если ляжешь — твоя постель, если хочешь есть — твоя пища, если будешь играть — твоя игрушка, если оседлаешь — твой конь, если наденешь — твоя одежда, словом, все, что ты пожелаешь… Это киргизская земля — земля песен, плача, смеха, стона…
Все желания, свершения — все в жизни киргизов связано с песней. Рождается ребенок — отец выходит во двор и, призывая всех, поет, нарекая новорожденного:
Пусть богатство не покинет его, Пусть смерть оставит его, Пусть жизнь его будет долгой. Пусть его пастбища будут обширными, Пусть ему будет дано вечное счастье.Прийти на смотрины ребенка — давний обычай. Для каждого дверь открыта, скатерть постлана, котел на огне. Смотрят не просто — кто смотрит, тот платит за смотрины. Переступая порог, желают лучшего дому, благословляют. Приходят веселые, жизнерадостные, — говорят, если хмуришься, из дома уйдет счастье, повредишь счастью новорожденного… Когда рождается ребенок — радуется весь аил, пирует весь аил. Радуются старики и старухи, радуются молодки и парни, закалывают скот, несут угощения, затевают игры, дети седлают жеребенка; кому не достался жеребенок, тот седлает бычка; кому не досталось и этого, тот пешком участвует в козлодрании, — у юрты, где спит новый ребенок, шум, гвалт, толпится весь аил. С песней начинают резать скот в честь ребенка, с песней кончают.
Давайте будем здоровы месяц, Давайте будем здоровы год, Я посвятил ягненка новорожденному, Я заколол с посвящением, —пробубнит какой-нибудь старик, а то и старуха. Лай собак, блеяние овец, ржание лошадей, мычание коров — все это звучит точно песня. На пиру в честь ребенка, на пиру в честь новой жизни не остается невысказанных слов, неспетых песен, каждый чувствует себя ханом. Рекой разливается кумыс. Начинается сармерден[15], все пьют. По кругу ходит чаша; и кто не сможет спеть, или сыграть на комузе, или рассмешить народ, тот остается опозоренным, — еще долго будут говорить о нем в народе, усмехаясь. Поют и на девичьих играх, в ночь, когда провожают девушку. Там состязаются джигиты. Победивший выбирает — целует девушку, любую молодку. Когда провожают девушку, мать поет прощальную песню:
Я носила тебя в тени, Я надевала на тебя красивую одежду, Я водила тебя там, куда не проникает лунный свет, Я одевала, я ласкала тебя.Поет, желая оказать почет гостю. С песней молотят зерно; есть песня «Шырылдан» — ее поют табунщики, охраняя лошадей; есть песня «Бекбей» — ее поют девушки и молодки, ночью сторожа овец; если у кого заболят зубы, и тогда что-то бубнит, напевает лечащий знахарь; даже если умирает человек, и тогда приходят к нему с плачем:
Бедный мой брат, Где теперь мне увидеть тебя!Завидя молодой месяц, люди останавливаются и поют:
Увидел я месяц, увидел здоровым, Увидел великодушие светлее молока.Весной, когда гремит гром, видишь бегающих вокруг дома, громыхающих тазиками и напевающих:
Расступись, земля, выгляни, травка! Переполнись, вымя, покажись, молоко!Поют, провожая в дорогу:
Пусть путь твой будет гладок, Пусть спутником твоим будет Кыдыр![16]Разве это все? Перед сном, положив голову на подушку, еле слышно поют:
Лег я спокойно, Все мое богатство в подушке.И благословляя друга, и проклиная врага, начинают песней и кончают песней. И рождение, и смерть встречают с песней, провожают с песней. Таков киргизский народ, все у него песня: радость и плач, явь и сон, жизнь и воспоминание. Киргизы утоляют свою страсть песней, выплакивают свою тоску песней. И потому мать Бурмакан Калыча причитает, оплакивая мужа. О, презренная смерть, ты не можешь удовлетворить любовь женщины, ты забираешь у нее ее дом, забираешь очаг, забираешь надежду, убиваешь ее любовь, делаешь рабой своей мечты…
Вот таков Сон-Куль: в одной юрте многие дни, не уставая, поет Сагымбай, из другой беспрерывно тянется плач…
Бурмакан поднялась — утренние заботы торопили ее. Ни одна душа не услыхала, как она вынырнула из постели, — услышал один Серкебай; припав к юрте, полз черной тенью. Платье на голом теле; безмолвная, словно облачко, Бурмакан выскочила во двор. Чья-то холодная жесткая рука, точно когти беркута, вцепилась в ее плечо, другая прилипла ко рту…
— Если крикнешь — умрешь, — прохрипел чей-то голос.
Девушка приняла черную тень за джинна, за пери, за смерть, — их встретишь на рассвете или в сумерках, так рассказывают муллы… Испуг унес речь; если б и не был зажат ее рот, все равно бы не крикнула… Была точно тесто — куда потяни, туда и пойдет.
Что весит девушка — легка, как пучок травы. Подхватил ее Серкебай; отдалившись от юрты, убрал руку, зажимавшую рот девушки, — Бурмакан молчала, голова поникла, руки висели без жизни — она потеряла сознание. Серкебай остановился, прислушался — еле бьется сердце девушки. Бурмакан вздыхает, она приходит в себя. Она не знает, куда ее несут… темно, кругом темно. Небо еще не тронуто рассветом. Девушка боится, Она что есть силы кричит: «Мама!» Голос ее чуть слышен лишь ей одной…
Озеро бушует в ярости. С грохотом вздымаются к небу волны, на берег летит пена, корни, камни… Что это — грохочет в юрте голос поющего «Манас» Сагымбая? Или волнуются горы? Или озеро выходит из берегов? Что это гудит? Содрогается земля? Тучи поползли по небу, вывернулись наизнанку, небо внизу, перевернулось небо…
Тучи рождают новые тучи, чернота завладела небом. Это тучи или же мысли девушки? А вон и звезда в разрыве мелькнула — сверкнула и тут же погасла. Это звезда мелькнула или же Бурмакан открыла и закрыла глаза? В юрте у черной скалы заплакала женщина, не ребенок, а женщина. Неужели рассвело? Может быть, мать Бурмакан принялась оплакивать мужа? Нет, она плачет во сне, она вздрогнула от испуга… И почему не лают собаки? Или Бурмакан перестала слышать? Озеро замолкло или иссякло?
Девушка приоткрыла глаза, на мгновение прояснилась мысль. Она не понимала, что происходит. Жива ли, мертва ли, стоит ли на месте, идет — неизвестно. «Темно… куда я иду? Волк унес? Для чего? Чтобы съесть? Но ведь волк носит в зубах, ведь у него нет рук? А-а, так этот волк с руками…» — она не могла продолжить свою мысль, у нее не хватило сил думать, ее уносили бессильную… Ее уши не слышали ни грохота озера, ни шума ветра, ни плача матери, ни поэмы, которую рассказывал Сагымбай. Она поняла, что покорилась. Хотя тело ее казалось мертвым, сердце чувствовало все.
Вдруг она скользнула в воду — Серкебай выпустил ее из рук. Волна подхватила девушку точно ребенка, запеленала, как своего новорожденного, обняла. За то небольшое время, что она побывала в объятиях волны, девушка очнулась, ожила, пробудилась. Озеро вдохнуло в девушку жизнь. Оказывается, жизнь девушки — в озере, потому прибегала так часто на берег, гуляла, иногда напевала, — видно, знает язык озера…
Серкебай подхватил из воды невесомую, точно шелковое платье, легкую, точно прутик, Бурмакан, выскользнувшую из его рук, и отправился дальше. Чуть успокоившаяся ее душа, чуть приоткрывшиеся глаза опять померкли, опять ее продолжали нести… Несли на руках или это ей кажется? Кто ее нес: человек или джинн, жива она или нет, — все для нее тонет в тумане, в черноте…
Залаяла собака. Полаяла и замолчала. Откинутый полог юрты… Как будто бы засветился и снова погас фитилек. Негромкий разговор. Кто-то кого-то хвалил… или проклинал? Чья-то холодная рука, чьи-то холодные губы коснулись лица девушки. Поцеловал мертвец? Разве мертвецы целуют? Кто этот мертвец? Откуда он пришел? Почему он поцеловал девушку? Если он действительно мертв, то почему он воскрес, как он воскрес? Или он пришел, чтобы поцеловать девушку? Поцеловал, чтобы убить ее?
Еще раз поцеловал, теперь прижал к груди. Видно, самое холодное на свете — объятия мертвеца. Он заговорил. Как смог заговорить мертвый человек? Что он сказал?
— Разве я велел принести мертвую девушку? Ты, видно, хотел посмеяться надо мной? Я покажу тебе, как смеяться над волостным!
Так это не мертвец, это голос волостного Кылжыра… Уже с год, как стал он волостным, этот полный румяный джигит, лицо — кровь с молоком… Еще вчера он принимал почести, облокотившись на две подушки, в юрте, где жила Бурмакан. Не сводил глаз с Бурмакан, временами усмехаясь в усы. Сколько ни старалась Бурмакан отвести глаза, взглядом неотступно преследовал ее.
С тех пор как приехал волостной Кылжыр, аил Батыркула не знал покоя. Батыркул поставил для волостного гостевую юрту, встретил почестями, первым ввел в новую юрту, — от волостного для бая зависело многое.
Волостной держался надменно. Не отвечал на приветствия входивших и выходивших, даже тех, что явились почтить его, — делал вид, что не слышит слов, обращенных к нему. Были дни, когда волостной за весь день не молвил единого слова, несмотря на все почести, которые оказывал ему Батыркул. Не замечал стараний бая, а тем из аильчан, что заговаривали с ним, желая устроить свои дела, он отвечал одно: «Об этом — после», каждого оставляя в недоумении. А уж на тех, кто чем-то не угодил ему, волостной и совсем не глядел; если кто-то из них обращался с просьбой, Кылжыр поднимал голову и сплевывал сквозь зубы в сторону очага. Тогда неугодный тихонько выскальзывал из юрты, стараясь не разгневать высокого гостя; если же такой человек засиживался, или не замечал презрительного отношения волостного, или замечал, но делал вид, что не замечает, тот поднимался с места со словами:
— Видно, нам уже пора в путь? Кто остается, пусть сидит; кто хочет говорить, пусть говорит…
После такого не только не сумевший угодить — все выскальзывали неслышно из юрты, приговаривая тихонько:
— Утомили мы волостного, столько дел сразу… Пусть отдохнет волостной.
Батыркул из кожи вон готов был лезть, лишь бы угодить волостному; земля, скот, родовые распри, налоги и поставки, начинавшаяся торговля — во всем было не обойтись без волостного. И когда тот намекнул насчет девчонки, Батыркул понял его с полуслова. Он знал, что теперь делать…
Когда в юрту вошел Серкебай с девушкой на руках, волостной точно голодный волк впился взглядом в лицо Бурмакан, тут же поцеловал ее раз, другой, однако, видя безжизненно повисшие руки, запрокинутое лицо, подался в испуге назад.
Серкебай виновато опустил голову и удрученно что-то сказал. Волостной не стал слушать его. Обругав, спросил:
— Живая или мертвая?
Ледяные слова ударили по сердцу девушки. Тело ее дрогнуло, она открыла глаза и снова закрыла их. Услышанное заставило ее пошевелиться. Она оставалась между жизнью и смертью. В мыслях повторяла: «Не умру. Почему я должна умереть? Я провинилась? Кто убьет? Волостной? Что ему даст моя смерть?» Она попыталась встать и не смогла, руки и ноги не слушались ее, язык не повиновался.
— Я тебя спрашиваю: мертвая она или живая? — повторил волостной.
— Живая…
— Чего ж ты тогда стоишь, если живая?
Черное платье метнулось из юрты…
Еле мерцавший огонек погас, когда девушка была брошена на постель. Погас огонек или погасло сознание девушки? На нее навалился тяжелый груз. Груз или земля? Девушка закричала. Но голос ее не слышал никто. Она еще раз крикнула что было сил, как из могилы, — крик застрял в горле. Она пыталась сбросить с себя тяжелый груз — и не могла пошевелить рукой… Из глаз ее брызнули слезы:
— Мама… — еще раз позвала она и сама не услышала своего голоса. Кричала ее душа…
Казалось, она умерла, но в то же мгновенье ожила снова. Теперь было не так, как прежде. Казалось, ее разодрал волк. Только трепыхалось сердце, словно догорающий огонек. Сердце — ему пришлось трудно. Лишь оно боролось — если смерть тянула к себе, то сердце тянуло к жизни. На лоб ее упали капли пота. Чей же это пот? Ее? А-а, тот самый мертвец подал голос… Почему потеет мертвец?..
В лицо ударил чистый холодный ветер. Застучал по земле дождь, черные крылья несли ее.
Мертвец шел по воде, держа ее на руках. Он не дал чистой озерной воде коснуться девушки, бросил ее в чавкающую болотную жижу. Девушка лежала в болоте, вытянувшись, как в могиле. А затем и мертвец, и озеро, и болото — все исчезло.
* * *
Серкебай спозаранку ушел из дома, однако где бы ни находился — на свекловичном поле или в своей конторе, с кем бы ни говорил, все равно звучал для него голос Прошлого, перед глазами стояла та далекая ночь. Не было ему покоя. Дела валились из рук… Поехал он на свекловичное поле — там показалось, что все люди смотрят на него недобрыми, подозрительными глазами, словно знают о его жизни что-то особенное… На обратной дороге у него сломалась машина. Что происходит — никогда ведь не ломалась?
Остановился, пришлось заняться ремонтом. Закручивал гайку — сорвал… Руки привычно возились с мотором, а голова занята была совсем другим…
Тронулся дальше — на обочине женщина с ребенком. Не успела поднять руку, Серкебай остановился рядом:
— Почему опоздала? Должна была вернуться вчера. Одно дело базар, другое — свекла. Садись. Вижу — без толку ездила. Говорил ведь, сиди дома. Разве за девушкой уследишь сейчас, разве остановишь… Куда денется, небось к подружке на именины сбежала… — Женщина, усевшись в машину, усталая и вспотевшая, прежде всего распеленала ребенка. На слова Серкебая не ответила. — Все, кроме тебя, закончили свои участки. Позавчера сель прошел — такого наделал, посмотришь — сердце болит. Яму размыло на поле в рост человека… намучились, пока засыпали. В космос летаем — сель остановить не можем… Так нет ее до сих пор, исчезла твоя дочь? Еще бы: как пора на свекольное поле — черта с два удержишь их дома! В прежние времена парень женился на девушке, теперь девушки женятся на парне. Слышала, недавно три девицы посадили в машину парня, увезли, сделали мужем одной из них?.. Так и надо, а что, девушки глядеть будут, пока парни умыкают?.. Кстати, Айнаш, получили газ. Шофер завозил баллоны к тебе домой, да никого не было. Ребятишки, должно быть, убежали играть.
Услышав добрые слова, Айнаш оживилась:
— Не позорь меня, председатель, не устраивай собрание по радио. Больше такого не допущу. — Она говорила, вытирая уголком платка вспотевшее лицо. — Пойми, дочка моя убежала. Встретила ее подругу, учится вместе с ней… Провожала, что ли, мою дочь… Будь она неладна — улыбается только, ничего не говорит…
— Путь пшеницы — на мельницу, путь девушки — замуж. Не жалей, что заимела зятя, хуже, когда остаются совсем без зятя. Видела, как некоторые девушки перед самыми родами насильно входят в дом парня?.. Говорят, сын Сулаймана сегодня снова привел невестку.
— Ах! Ведь говорили, он только вчера привел!
— Та, должно быть, ушла утром. Теперь привел другую.
— Не успеют привести, уже уходят; не успеют проводить, уже приводят!..
— Завтра вечером приходи на радиоузел.
— Ну уж прости на первый раз, председатель. Раньше ведь не нарушала дисциплины…
— Не прощу и половины раза! Потому и говорю твердо, что до сих пор не нарушала… Сама знаешь, провинившемуся в первый раз ставим на вид; второй раз — нет пощады, наказываем, нарушившему в третий раз — от ворот поворот. Мы ведь государству сдавать будем не твою дочь — свеклу. Не станешь ухаживать, откуда возьмется свекла? Отдам твою свеклу другой… Ведь не враг захватил твою дочь, — что бы случилось, если бы поехала искать двумя днями позже? Разве сейчас девушки пропадают? Недавно одна, как и ты, искала дочь, а та просто уехала в Нарын, подругу замуж провожала…
— Оставь, моя бы так не сделала… Хотя кто их, молодых, разберет… Прошу тебя, не сердись на этот раз, председатель. Больше не подведу тебя!
— Не проси. Порядок для всех один. Можешь называть меня каменным председателем. Завтра решим: или у тебя останется свекла, или…
— Не наказывай на этот раз!..
— Не только слово — пуля меня не пробьет. Нервы мои — из железа! Раз каменный председатель — значит, каменный, раз железный — значит, железный.
— Я так не говорила, аксакал. Сплетня это… Куклюкан болтала, невестка моего дяди…
— Можешь говорить, разрешаю. Я действительно камень, железо. Не только ты — на районном собрании актива сказали так. Разве плохо, если в районе найдется один каменный председатель? Дисциплина для всех одинакова. Если каждый не закончит участок, который обрабатывает, оттого лишь, что сбежала дочь, сбежал сын, если будем работать кое-как, не станем считаться с завтрашним днем… Отдали мы твой участок другой… Прощу я — не простит земля, сорняк на полях не станет ждать, солнце не будет стоять на месте… Вот так. Не верю человеку, не знающему дисциплины. Не боюсь смерти, боюсь нарушителей дисциплины. Все.
— Серкеш, не делай этого. У меня дети, как буду зимовать?
— Называй меня Серкебаем. Зачем изменять мое имя?.. Всю жизнь ненавижу, когда изменяют имя. Серкеш… Козел… Так переиначиваете — коверкаете не только имя человека — его образ. Ладно — исковеркаете имя, пусть… плохо, если исковеркаете землю. Характер земли потверже моего. Не говори, не хочу слушать. Вылезай, уже доехали.
Он остановил машину. Айнаш сладко улыбнулась на прощанье — может, думала, что пожалеет ее все-таки Серкебай.
— Аксакал… Прости, пожалуйста… Простишь?
— Завтра приходи на радиоузел. Будем рассматривать твой вопрос. Половину твоего участка мы уже отдали. Вот.
Машина тронулась, Айнаш осталась на дороге. Глаза ее полны были слез, с трудом сдерживала их. Не видела, как выбежала встречать хозяйку собака, завиляла хвостом.
«Да, знаешь, как нарушать порядок, знай, как давать ответ. Не я жесток, а работа. Если каждая женщина, у которой сбежала с парнем дочь, будет умильно глядеть на меня, стараясь задобрить… Не могу поддаваться. Эта вот земля, ухоженная и плодоносящая, стала такой благодаря моему жестокосердию. Два умения нужны председателю: быть твердым, как камень, быть мягким, как шелк. Там, где бессовестно подымает голову беспорядок, до́лжно бить, разрушать его. Не сделаешь этого, он будет бить тебя…
Опять мотор барахлит… Хоть шофера заводи. Был бы я шофером — то-то блаженство! Закончил дело — наслаждайся себе дома. Жизнь лучше, чем у хана. Дом, на участке яблони… Хлеба вдоволь. Води хорошо машину — и достаточно, никаких тебе больше забот. А председатель — отвечай за все. Умрет кто, или разводится, или выпадет много дождей — за все ответствен председатель, нет такого, что не входит в его обязанности. Всему дай должный ход.
Вот так. Я не могу жалеть эту женщину. Стоит мне немного нарушить устав, и она не пожалеет меня. Но я не нарушу. Пусть и она не нарушает…»
Лента дороги убегала под колеса, а Серкебай снова видел Прошлое.
Гневен был голос Калычи — матери Бурмакан:
— Что он говорит! Типун тебе на язык! Говорит, что нет Бурмакан!
Запыхавшийся человек, прибежавший от юрты Кулменде, сообщил Калыче о пропаже. Зверем зарычала, застонала, завопила несчастная мать. Вскочила, бросилась, побежала, забыв собрать распущенные волосы, забыв надеть чапан, без калош, в одних сапожках — махсы. Ее собственная собака, не узнав, залаяла на хозяйку, погналась за ней, но, услышав знакомый запах и устыдившись, отбежала в сторону, делая вид, что лает на кого-то другого.
Старый бай Кулменде, разбуженный утром вестью о пропаже Бурмакан, в растерянности громко причитал, не подымаясь с постели. «Лучше бы это я пропал, а не Бурмакан, лучше бы я умер, а не Бурмакан», — плачущим голосом повторял бай, похлопывая ладонями об пол вокруг себя и дергая себя за бороду; байские жены голосили в растерянности. Весь аил — кто на коне, кто пешком — бросился искать Бурмакан, и тут один из джигитов завернул к Калыче…
Когда она ворвалась в юрту Кулменде, там были два-три аксакала и мулла Болчур, приглашенные лечить заговором душевнобольного. Узнав о пропаже, он открыл гадальную книгу, закатывая глаза, прочел предсказание: «Ищите здесь, вокруг, по кочкам, по рытвинам, по болотистым местам, на берегу, в промоинах, размытых водой, среди могил, вдоль берега озера». Закрыв книгу, мулла стал заворачивать ее в белую тряпку, и в это время в юрту ворвалась, точно буря, обезумевшая Калыча. Она не слушала уговоров. Огненным взглядом она обвела юрту. Убедившись, что дочери действительно нет, закричала:
— Где моя дочь?! Золотая моя дочь, серебряная моя дочь! Дочь, оставшаяся после покойника, свет мой, оставшийся после угасшего мужа, свет мой во тьме, моя бьющаяся жилка! Где Бурмакан, где, я спрашиваю вас?! О Кулменде, пропади ты, Кулменде, разве ждала от тебя такого?! Как посмел ты подло убить мою дочь?!
Потеряв рассудок, Калыча перевернула в юрте сундуки и посуду, разворотила постель — была подобна взбесившемуся быку. Она не видела сидящих — где то почтение к аксакалам, к баю, что оказывала обычно, — носилась, не разбирая пути, толкая стариков; со двора вошел Кулменде; схватив его в бешенстве, опрокинула навзничь. Бай, маленький и щупленький, захрипел, задыхаясь, глаза выкатились предсмертно. Если б джигиты не спасли старика, быть бы неладному. Оторвавшись от бая, Калыча обратила свой взгляд на муллу. Мулла в страхе подался назад, подбирая рукава и подол.
— Ты сотворил все это! К шайтану молитвы таких, как ты! И аллах, и загробный твой мир, и ад — все соберитесь вместе и зажарьте, съешьте меня. Вот тебе!
Калыча плюнула в лицо муллы.
— В ней поселился шайтан, помутил ее разум, уберите ее! — Мулла в страхе вытер лицо, закрыл руками голову.
— Шайтан? Разум? В тебе нет шайтана? Ну-ка, дай сюда твою книгу предсказаний! Где же те самые слова? Я отрекаюсь от всего — от твоего бога, от твоего корана, от твоего бая, от твоего бия, отрекаюсь от такого дня! Где твоя прозорливая книга? Где, говорю? Дай мне в руки, чтобы вытекли твои глаза! Дай сюда!
Вид взбеленившейся Калычи был страшен, мулла молча вручил ей книгу и осторожно поднялся с места, отошел к краю постели, готовясь бежать, но женщина заступила ему дорогу.
— Через это, что ли, разговариваешь ты с аллахом? Сколько я перевидела через него, через бога! Что мне еще предстоит? Забрал мужа, кормившего нас, забрал у меня дочь, красавицу на выданье, что осталось у меня? В чем я провинилась перед небом? О аллах, если ты существуешь, яви свою милость — измучена я! Яви же свою доброту! — С этим Калыча разорвала книгу предсказаний, бросила в дымящийся очаг. В священном ужасе аксакалы, мулла и сам старый бай Кулменде с домашними бросились из юрты на улицу. Ногами Калыча раскидала золу, тлеющие угли, в юрте сделалось черно от дыма. Горящие листки книги прилипли к постели. Раскидав домашнюю утварь, Калыча изрубила топором посуду, стоявшую в кухне, расколола котел. Обломки крашеных деревянных чашек усеяли пол, постель задымилась. Шумел и галдел собравшийся перед юртой народ, — к тому времени огонь уже охватил ее деревянный остов. В неутоленном гневе Калыча продолжала крушить что попадалось под руки. Храбрейший из храбрых, по правде, не осмелился подойти тогда к горемычной женщине, у которой помутился рассудок… В руках ее был топор… Кто-то бросился тушить пожар… Калыча выскочила из юрты… Глаза ее блуждали, она не видела никого… Зовя дочь, она с криком бросилась к озеру… Женщины аила сопровождали ее, но боялись приблизиться. Лишь одна собака Калычи, будто понимая ее состояние, лаяла на подходивших к хозяйке, защищая ее.
Наконец-то рассвело. Засветились белым недоступные вершины, однако озеро мрачно хмурилось, небо затянули облака. Бесчисленные стада тянутся к пастбищам, шум стоит, гвалт… Калыча летит, не задевая земли, не слышит звуков проснувшегося аила…
У юрты, поставленной Батыркулом в честь волостного, — привязанный конь. Рядом — ни живой души, будто вымерло все.
Калыча подбежала, вскочила на коня. Тронула поводья, конь помчался… Казалось, она собралась куда-то далеко, казалось, больше не вернется сюда… Так она скакала в девичестве… Конь стал ее крыльями, она обрела крылья, она воспряла духом. Горе ее будто рассеялось… Она забыла о плаче по мужу, она забыла о муже; казалось, весь мир для нее сейчас — крылья, созданные из коня. Она забыла даже о дочери… Вырвавшись на мгновенье на волю, она поднялась в небо, высоко-высоко — крылья несли ее… Ветер бил ей в лицо, все ее тело, вся одежда стали крыльями, — казалось, она родилась заново. Никто не погнался за ней — весь аил признал ее волю. Даже волостной смолчал.
Конь, земля и ветер разогнали гнев Калычи. Что накопилось в душе — нашло выход. Траурный платок слетел с головы — горе сняло с нее траур. Горы смотрели на нее с восхищением, озеро махнуло ей белым платком, довольное ею.
Конь перенес ее через речку к болоту — поняла по чавкающим звукам — и вдруг стал, захрапел испуганно. Калыча едва удержалась…
Что там краснеет? Не лоскут ли от платья? Сердце Калычи рвалось из груди, но она все же спрыгнула с коня на землю. Подбежала в страхе…
Бурмакан лежала — белело лицо средь болотной жижи. Калыча не вскрикнула. Подняла на руки дочь — тело без жизни. Вся измятая — волк так не разорвет…
— Дочка моя! Золотая моя дочка, я отвечаю перед тобой!
Дочь не слышала. Она отдыхала, ничего не слышала, не видела. Избавившись от мученья, лежала себе безмятежно. Конь, наступая на поводья, со ржанием бросился в сторону гор. Лучи солнца упали на землю, вселенная очнулась в добром сиянье. Залаяла собака. Неуклюже бежал Серкебай. Приблизился, хотел взять Бурмакан из рук Калычи. Мать не отдала. Захотела нести сама. Дочь казалась ей совсем легкой — словно несла в чреве ее.
Серкебай не мог поднять головы. Тихо шел рядом с собакой. Калыча казалась сейчас выше всех, грознее, мужественнее… Не проронила ни единой слезинки. Нашла тело дочери и, похоже, была довольна. Взглянула на восходящее солнце. Не сморщилась, не ослепла от яркого света. Там, у горы, могила мужа. Перед ней возник образ ее Бообека, будто бы вел в поводу коня, затем он исчез. Услышала говор людей — не посмотрела. Люди толпились вокруг. Калыче нет дела до них, в мире были сейчас она и дочь. Затряслись бороды, люди в испуге разводили руками. Калыча шла улыбаясь. Прибежала младшая дочь Калычи — Бермет, поцеловала сестру; Бурмакан шевельнула рукой. Мать не заметила…
— Дайте понесу я, ваши руки устали…
Серкебай хотел взять Бурмакан, Калыча не слышала его. Руки ее не устали. Шла бы всю жизнь с Бурмакан на руках, исходила бы землю — и тогда она не устала бы. Она теперь вышла на волю. Теперь Калыча не та, сидевшая в трауре на постели, поклоняясь обычаям плача, теперь она не вдова, но хозяйка дома, мать и отец для детей; батыр, если нужно сразиться, мудрец, если нужно спорить. Закаленная, сильная, способная выдержать все. И почтенные старцы обращаются к ней, склонив уважительно убеленные сединами головы.
Старики, молодые джигиты и девушки — весь аил, все от мала до велика собрались — а впереди Калыча. Красное платье Бурмакан шевельнулось и снова замерло. Лицо ее поцеловал луч солнца. Озеро занялось огнем… Да, исходило пламенем озеро… Гуси, селезни, утки поднимались, спускались над валами огня… Но что это, гром среди ясного дня? Отвалилась верхушка скалы, камни с шумом посыпались вниз. То ли солнце громыхнуло, то ли слышится все это Калыче — кто знает… Что значат падающие камни?
Калыча принесла свою дочь, положила на зеленый лужок у юрты, покрыла лицо поцелуями…
— Прости, дочка, мою вину… Не должна была отдавать тебя, прости… Не должна была доверять тебя ни единой душе, прости… — Еще раз поцеловала ее — щеки совсем ледяные.
— Сес-тра-а-а!
Это Бермет кричит что есть мочи, лишь теперь поняла случившееся. Упав на колени, обняла сестру, заставив заплакать аил. Старухи, дергая носами, вытирали глаза уголками платков, старики, боясь взглянуть на них, отвернулись.
Кто же остался в юртах? Больные, что не могли подняться с постели, да старики, ноги которых уже не могли носить их… Остался волостной Кылжыр… Глядел свирепо на двух джигитов, долго ловивших коня, — только сейчас привели…
— Кто садился на моего коня? — спросил волостной.
— Калыча.
— Кто такая Калыча? Баба?
— У нее умер муж… Мать Бурмакан…
— Кто такая Бурмакан?
— Девушка, которая умерла ночью. Кто-то убил ее.
— Девушка? Кто-то убил? Волостной не сядет на коня, на которого садилась баба! Отведите — отдайте той бабе!
Ни на кого не глядя, ушел волостной в юрту. Смятение охватило Батыркула, наблюдавшего в стороне.
Слово волостного — закон, джигиты отвели коня, привязали возле юрты Калычи:
— Волостной не садится на коня, на которого садилась женщина, — отдал его Калыче.
— Разве не садится? Оказывается, не садится на коня, на которого садилась женщина? Веди сюда этого коня!
Люди, понимавшие гнев Калычи, зашумели.
— Невестка… — Навстречу ей вышел седобородый старик. — Гнев — это шайтан, а ум — друг. Если в гневе поднялась твоя правая рука, удержи ее левой. Отдай мне твой гнев.
— Гневу не одолеть Калычу, но если уж одолеет, никому не отдам!
Собрала, стянула волосы, крепко подпоясалась веревкой, по-мужски вскочила на коня.
— Бермет, дай-ка отцовскую плетку — там, на крючке! Разве в аиле есть девушки, за которых не расплачиваются? Принеси плетку!
Бермет, дрожа, побежала, принесла витую камчу. Сложив плеть вдвое, покрутив ею над головой, так сказала Калыча:
— Раньше волки нападали на овец, теперь стали нападать на людей! Дай сюда тело этой девушки! Отвезу ее волостному, пусть набьет свое ненасытное брюхо!
Люди останавливали ее, хватались за повод, уздечку… Но Калыча, не слушая никого, горячила коня, поднимала его на дыбы, даже придавила кого-то. Наконец вырвалась из толпы, обступившей ее, — двинулась к волостному. Люди зашумели, весь аил бросился вслед…
Возле юрты осталась одна Бермет — плакала над Бурмакан…
— Выходи, волостной!
Калыча, не слезая с коня, била сложенной плеткой по остову юрты.
— Кто там взбесился?
— Я!
— Джигиты!
Подлетел один, с маху вытянул женщину плеткой. Душа Калычи горела, хлестнула коня, быстро нагнала обидчика:
— Не так хлещут — вот так!
Стегнула его по колену, тот замахал руками, слетел с коня…
Опять Калыча поскакала к юрте, второй джигит убоялся напасть.
— Что там за человек — не подчиняется моему слову?
Волостной поднялся, кряхтя, вышел из юрты. Увидев Калычу на своем коне, вздрогнул.
— Прежние волостные ели ягнят, нынешние стали есть людей! Чтоб человека сделать человеком, нужно время; чтоб человека сделать волком — мгновенье! Я превратилась в волчицу, я съем тебя! Такого зверя, как ты, который опозорил дочь вдовы… Получай по заслугам! Нет человека, который помог бы мне. Получай возмездие!
Дважды — р-раз! р-раз! — свистнула ее камча, на голове волостного проступила кровь…
Молча отбросила Калыча плеть, соскочила с коня, пешком направилась к дому.
Волостной убежал в юрту, Батыркул распорядился властно:
— Держи! Убей собаку! Что за бесстыдство — подымать руку на волостного!
Волостной, услышав, вышел к народу:
— Не трогать! Нельзя равняться с бабой — потеряешь честь. Поймайте моего коня, верните этой бабе…
Увидев мать, Бермет закричала:
— Мама, сестра ожила!
— Мама! — прошептала Бурмакан.
— Он не знал характера Калычи, теперь запомнит… Прости меня, дочка…
Бурмакан вздохнула, тихонько повернула голову к матери. Узнала коня, на котором подъехала Калыча. Руки ее задрожали, глаза помертвели, опять впала в забытье. Смерть тянула ее к себе, жизнь — к себе.
Калыча обнимала дочь, целовала — разве ее Бурмакан виновата, — вся вина только в ней самой! «Послушавшись людей, отдала Бурмакан в юрту Кулменде, — разве не хватило бы дома еды для родной дочери?» — проклинала, ругала себя Калыча. Бурмакан бессильно пошевелила рукой, потом все же с трудом подняла ее, обвила шею матери. Как давно она не обнимала вот так свою мать. Калыча увидела, что из глаз дочери бусинками посыпались слезы. Каждая слезинка — частица сердца: сердца дочери и сердца матери. Это были не слезы — та самая черная ночь, что растворилась, пропала и больше никогда не вернется, это была улетевшая жизнь отца, потемневшее от горя, исцарапанное лицо матери.
— Идем, моя радость, уйдем отсюда… Не печалься… Будем обижаться на судьбу. Что делать, раз нам послана такая участь, такие дни… Я отомстила за тебя. Я разбила голову волостному. Бог дал жизнь, бог и заберет ее; если он подпирает небо, пусть бросит его… У перепелки нет дома; куда полетит, там и кричит… так же и мы: захотим — уйдем… Не печалься, дочка, что не сижу в углу, накинув черное. Из дома меня выгнало бесчестье. Кому могу довериться, продолжая соблюдать траур? Кто нас накормит, кто будет заботиться о нас? Нет родного брата, а друзья — на один день. Вон каков и Серкебай, ведь ему Сарман перед смертью поручил нас… Не пришлось что по нраву — отворачивается и уходит, а если в настроении, либо воды принесет, либо овец стережет. Чужой — он и есть чужой. Как увидел, что я бью волостного, только и замелькал верх его шапки. Сарман был другим. Разве могу обижаться на Серкебая — не имею права. Не хочу оговаривать. Да по мне, пусть хоть проглотят, не пережевывая, — все равно разбила бы голову волостного!
Бурмакан слова матери то слышала, то нет. Опять помутнело сознание, охватил жар, не могла понять — жива или мертва, что с ней, где она… Ей казалось, чья-то жесткая рука схватила ее, потом бросила в болото. Чей-то голос злобно спрашивал: «Разве я тебе сказал — принести мертвую девушку?» Она закричала: «Мама!» — но Калыча увидела только, как шевельнулись губы… «Почему она не слышит? Почему мама не спасает меня? Почему она не видит, как меня убивают? Куда исчезла мама? Ушла домой? Разве у нас есть дом? К отцу ушла? Разве отец вернулся из могилы? А-а, ведь он же отправился хоронить покойника… Кого хоронить? Меня? Где я? Черным-черно. Значит, так бывает в могиле? Не-ет, я не умру, я не хочу умирать… Я еще ничего не видела. Я только теперь стала различать белое и черное. Кто меня убил? Я скажу маме, она пойдет и разобьет ему голову. Мама! Мама, меня убили! Мама!»
Калыча смотрела на шею дочери — там едва билась жилка, смотрела на ее слезы. Слезы казались ей черными… Она дала Бурмакан воды из коокора[17] — воды горного родника. Эту воду под утро принесла для нее Бермет, эту воду пила несчастная Калыча, причитавшая день и ночь, эта вода смягчала ей горло. Не кумыс, не айран, не молоко — родниковая вода была лекарством. Мягкую, чистую, прохладную, люди называли ее «унимающая боль». Она врачевала сердце, перенесшее горе. Ее пили девушки, сгоравшие от любви, пили разлученные с близкими, пили охотники, задыхающиеся на подъеме в горах… Эту воду хранили не в ведрах, не в чайнике — в коокоре. Только в коокоре сохранялись ее прохлада, ее вкус, ее цвет. Живут такие слова: «Пусть у меня не будет коня, но пусть будет муж; пусть у меня не будет кумыса, но пусть будет коокор». Из этого коокора Калыча и дала воды Бурмакан. Один лишь глоток вдохнул в девушку жизнь. Открыла глаза, вздохнула, поднялась и опустилась грудь. Душу, которую волостной толкнул в могилу, родник вернул к жизни…
Мать-земля, береги рожденных тобою детей!..
Бурмакан открыла глаза и увидела Калычу. «Отчего тоска в глазах? Почему слезы? Где мой отец? Я… А-а, значит, я ожила. Ведь я была в могиле. Что я видела: рай или ад? Почему меня вынули из могилы? Кто вынул? Мама? Серкебай?»
Во дворе заржал конь.
Конь волостного!.. Казалось, тяжелый кулак опустился на голову Бурмакан. Еле слышно шептала девушка: «Волостной… волк рвет меня. Мама, помоги!» Мать осторожно брызнула из коокора на лицо Бурмакан. Вода капала с лица девушки, точно слезы. Вода или слезы?
От юрты Батыркула доносятся голоса. Волостной Кылжыр бушует метелью, бушует вьюгой. Он и в летний день способен был исторгать снег, волостной Кылжыр. Вся аильная знать, предводительствуемая Батыркулом, собралась перед ним, почтительно называя его «аке»[18]. Засылая посредниками старейших, самых уважаемых, выпрашивали у волостного прощение аилу. Волостной закаменел, молчал. Лишь после многих уговоров сказал свое слово:
— Ты пригласил меня, Батыркул, говоря, что угостишь меня, ты встретил меня, Батыркул, поставил юрту, ты подверг меня избиению какой-то женщиной, Батыркул. Пусть исчезнет мое имя Кылжыр, если я не вгоню тебя в землю, точно колышек. С тех пор как ношу имя Кылжыр, не видал такого позора. Оказывается, ты хотел мстить мне, Батыркул, — ты отомстил. Джигиты, ведите коня!
Земля вздрогнула, когда волостной поднялся, отряхивая плеткой свой подол. Старики испугались, захватив в горсть свои бороды, повалились перед ним. Батыркул, подбежав к Кылжыру, поцеловал его подол.
— Если я в чем-то провинился, прости меня, волостной! Хотя не сам, но сука нашего аила укусила тебя, потому приношу тебе свою голову, свой скот, волостной! Не уезжай; если уедешь, отвернувшись от меня, повергнешь меня в горе, лучше тогда ты прикажи зарезать меня… Эй, джигиты! Чтоб искупить вину Калычи, поднесите волостному моего чубарого коня со всем снаряжением! Кому говорю, ступайте! — приказал бай, обернувшись к людям, ожидавшим его приказаний. Но волостной, не обращая внимания на подарок, зашагал прочь — ему подвели уже коня. Что-то оборвалось внутри у Батыркула. Невозможно отпустить волостного, невозможно, чтоб узнал о позоре соседний аил Кашкоро. — Ведь я сам помогал тебе, волостной, прости мне одну подлость, если б не я, ничего бы и не случилось…
— Срыгнуть выпитое — дело слабого, забрать подаренное — дело глупого. Пусть дело твое не попадет к плохому, пусть птица твоя не попадет в лес. Если ты уважаешь своего старшего брата, будешь уважать и старшего брата твоей жены, если ты уважаешь своего младшего брата, будешь уважать младшего брата своей жены. Что еще говорить об этом? Не будь ты, нашелся бы другой… Будто сам ты все сделал… Будто б ты избрал волостного… что стоишь, надув губы?
— А-а, я просто так… моя вина, волостной! Я просто ласкаюсь к тебе. «Я ласкаюсь, как к своему близкому человеку».
— Ты мне младшая жена, что ли, чтобы ласкаться?
— Ты прав, прости меня, волостной, я склоняюсь перед тобою.
Ноздри волостного сжались, правая его щека дернулась. Круглое красное лицо посинело, он задохнулся. Его вздернутая бородка, подстриженная подобно хвосту перепелки в зимнее время, его жиденькие усы, торчащие клочьями, его узкие глазки, в которых закипал яд, были страшны. У человека, видевшего, как он шел, поплевывая через левое плечо, кровь стыла в жилах.
Валом валил народ. Когда аксакалы остались ни с чем, показалась почтеннейшая из байбиче — старая Бирмыскал. Одинаково понимала обязанности и мужчин и женщин, перед всякими сборищами старики обращались к ней за советом, без нее не решались большие споры. И до нее дошла весть о позоре. Бирмыскал, всю жизнь говорившая лишь у себя в доме, шла теперь, уподобившись леопарду, что пролежал в норе сорок лет. На голове огромный, с котел, белый тюрбан. Красивая старуха: в косы вплетены серебряные подвески, сверкающие, точно круп кобылицы: подол и край юбки переливаются, отороченные куньим мехом; несмотря на свои девяносто два года, байбиче держалась прямо. Вышла из крайней юрты, накинув на плечи парчовый чапан. Сопровождают ее пятнадцать женщин аила. Когда приблизилась к поданной волостному лошади, до ушей его долетел говор: «Идет Бирмыскал! Идет байбиче», — и как ни стремился волостной сесть на коня и скорее уехать, не посмел. Уступая дорогу Бирмыскал, и старики, и молодые отходили в сторону.
Приподняв подбородок, с видом, подобающим почтенному человеку, привыкшему к вниманию и повиновению, байбиче подошла к волостному. Красивые, не погасшие, несмотря на старость, глаза ее излучали ласковый блеск. Все старцы в знак приветствия почтительно поклонились байбиче, уважительно поглаживая свои бороды. Волостной, почитая преклонные годы, склонился вместе со всеми. Некоторое время все молчали. Затем, приподняв правую бровь, байбиче Бирмыскал заговорила звучным, приятным голосом:
— Издавна принято: за то, что совершил один, отвечает другой. После сегодняшнего не только Батыркул — и я чувствую себя виновной. Унижено и мое достоинство, — не усидев дома, я пришла сюда. Не только гостю почет в аиле, — даже если заползет змея, киргизы наливают ей молока, чтобы ушла добром. Случилось плохое. Но убежать — значит уподобиться женщине, сынок. Нужно поговорить сейчас, не откладывая. О-о, я слышала, будто сам Батыркул приложил руки, но я не поверила… Если он виноват, то достоин кары, однако если кто-то унизил другого, то и ему нет прощения. Говорят, сынки, если состаришься, как я, уподобишься черной земле. Не легкое дело для человека — пройти девяносто два… Если вытянуть, соединив все дороги, что исходила я за девяносто два года, то этот путь такой волостной, как ты, проделает хоть верхом, хоть пешим за девяносто два года. Я родила семнадцать сыновей, подобных тебе, и всех предала земле, и теперь обо мне пекутся дети моих детей. Я уже давно потеряла, что должна была потерять, осталось у меня в жизни одно — справедливость. Сын мой, волостной, когда-то я разлучилась со своим мужем; выйдя замуж, я разлучилась со своими родными, я разлучилась со своими сыновьями, которых носила в своем чреве. Есть женщины — когда умирает муж, они раздирают лицо ногтями, мало того, берут острое шило, чтоб еще больше разодрать щеки. Я не раздирала свое лицо не только тогда, когда умер муж, даже и хороня детей. Хотя не скрываю — не могла сдержать слез, потеряв мужа. Бог дал, бог и взял. Чем помогут человечьи слезы? Разлучилась со всем, что было мне дорого, но не разлучилась со справедливостью. Она со мной навечно. Я слышала два разных мнения. Я пришла сюда, чтобы узнать — которое правда. Кто же тебя ударил, волостной, Калыча или Батыркул? Подумай и ответь — остальное я скажу тебе, услышав твои слова.
Байбиче, опираясь на палку, прошла, села на зеленом лужке против юрты волостного.
Волостной, опустив голову, задумался, лицо его почернело больше прежнего. Следом за байбиче и он опустился на траву, ковырял рукоятью плетки в земле, думал, снова ковырял, выкорчевал с корнем ковыль… Байбиче следила за каждым его движением. Когда опускалась на траву, придавила серебряную подвеску, вплетенную в косу, сердито ее отбросила. Батыркул испугался: хорошо знал характер байбиче, недаром отбросила украшение — понял, дело принимает плохой оборот, не поздоровится сейчас волостному Кылжыру.
— Матушка Бирмыскал, род волостного славится мудростью своих сыновей, он не будет с нами жесток… — Тоном сказанного Батыркул умолял волостного: вникни в слова байбиче, не позорь себя, волостной, не позорь аил, склонись перед мудростью старости.
— Сынок волостной, ты хватил через край. До тебя были волостные, будут и после тебя, род наш известен и стар, мы не позорили твою сестру, чтобы вырвать нас с корнем, словно ковыль-траву. Что здесь случилось недавно? Накинулась на тебя обиженная — мать опозоренной девушки? С молодых лет защищаю женщин, когда они правы! Я слышала, ночью в юрте, поставленной для тебя, выл волк. Ты правильно сделал, сынок волостной, что не сел на коня, на которого села женщина, ты правильно определил долю, причитающуюся этой женщине. Нельзя одобрить унижение вдовы — она и без того унижена самой природой… — Байбиче замолчала, давая понять: ожидает ответного мудрого слова — слова мужчины. Не дождавшись, сказала: — Ты, волостной, не рви вместе с корнем ковыль-траву, не для того пришла я сюда… Многое видела в жизни — захотела встретить невиданное: волостного, как ты. Получив побои от вдовы, запугиваешь весь народ! Скатертью дорога — отрекись от мужского рода, волостной Кылжыр! — С этими словами поднялась байбиче, показала волостному спину — за ней отправились все, кто сопровождал ее.
Волостной, хватая ртом воздух, вскочил на чубарого коня Батыркула, тотчас пустился вскачь. Вдогонку побежали собаки. Ни волостной, ни его джигиты — никто не оглянулся назад.
У Бирмыскал такая привычка: пока не войдет в свою юрту, не станет говорить с человеком. Так и сейчас — никуда не сворачивая, вернулась в юрту, сбросила с плеч парчовый чапан, тогда лишь заговорила:
— Мало того, что наказал ее бог, забрав мужа, теперь еще наказал волостной… Эх, дай вам счастья, родившим дочерей, защити вашу честь аллах… Эй, молодухи, вскипятите, поставьте самовар, чай снимет усталость. Что-то сдала я, трудно дышать… Девяносто два года — как девяносто два перевала. Для тех, кто понимает, — ежедневный мой путь — в девяносто два перевала, для непонимающего — просто старуха, сидящая дома. Позовите того Батыркула, у мерзавца от страха глаза чуть не выскочили. Что сказал бы его отец! Еще нет дождя, а он уже мокрый, не смеет поднять головы! Пусть с меня начинает свою расправу волостной, сын Кулчыгана, мне ближе до могилы, чем до почетного угла. А уж после меня пусть расправляется с остальными. Повторяйте — не Калыча, я ударила его. В свое время избила палкой самого волостного Тарпана — не чета сегодняшнему полудурку. Убежал от меня, закрывая руками голову, призывая на помощь мать. Его назову умным: не то чтоб жаловаться на меня… Ох-хо, наоборот, подарил мне чапан, получил мое благословение, принеся мне чай, сахар. От этого он не унизился, нет, — еще выше поднялось его достоинство. Он говорил мне, посмеиваясь: «Такая мать, как вы, осмелившаяся побить волостного, заслуживает высших почестей». И я отвечала ему при народе: «И тебя родила такая же, как я, киргизка, что особенного, что побила тебя». А теперь трусливый Батыркул пусть уплатит за обиду волостного, осквернившего чистосердечный прием и белую скатерть… Эх, мне б сейчас мои молодые годы, побила бы я его, погоняла по всему аилу. Калыча еще пожалела его, оказывается. Эй, молодухи, ставьте самовар!
В юрту вошел Батыркул, — обычно глядевший на всех свысока, был сегодня затравленным. Оказывая почтение, женщины пропустили его, сел на почетном месте рядом с байбиче Бирмыскал. Как ни старался сохранить важность, в голосе звучала растерянность. Байбиче не вымолвила ни слова, пока не вскипел самовар, не был подан чай. Взяв пиалу, сказала, по привычке подняв правую бровь:
— Вспоминать старое равносильно вскрытию старой раны. Не хочется говорить, но как вспомню, досада берет меня. Ты тогда пожалел скот — сегодня это отозвалось несчастьем. Оказывается, у нас нет мужчины, способного зычным голосом прогнать волка, напавшего на аил. Скажи еще спасибо женщине. Не будь Калычи — что б ты делал? Обратили бы тебя в подстилку, играли бы как хотели… Калыча отстояла честь твоего аила. Ну, что надумал, что скажешь?
Батыркул еще не придумал, как быть. Сонно прикрыв глаза, будто подремывая, вертел в руках маленькую пиалу, забыв о чае. Не нашел еще выхода бай — видит его насквозь мудрая байбиче.
— Опускать голову — удел бедного, что уж так маешься, Батыркул. Пусть заберет девятку верблюдиц с верблюдом, если мало, пусть заберет весь косяк кобылиц. Эх, отхлестав его, согнала ведь Калыча почет с головы волостного. Это равно десяти косякам кобылиц. Храбрый из храбрых мужчина не посмел этого сделать. Я довольна местью женщины этому замухрышке. На прошлых выборах, не поскупись ты скотом, я б добилась, чтоб тебя избрали волостным, не его; хоть я женщина, взяла бы в руки весь уезд, точно стадо овец. Знай, Батыркул: если ты в тридцать лет не перейдешь ров, то в сорок не одолеешь хребта. Ты всегда был осторожным, сейчас послушай, что скажу тебе: не таи мести против Калычи. Если б даже она убила мужчину, все равно достойна прощения храбрая женщина.
Есть пословица: заболели глаза — сдержи свои руки, заболел живот — сдержи аппетит. Волостной не унял своей жадности. Куда бы ни ехал, везде притесняет. Хоть я и женщина, удивляюсь в досаде вам, мужчинам, сколько можно терпеть унижение? Если бывает невеста без калыма, не бывает без уважения к обычаям. И Калычу родила мать, и тебя родила женщина. Такова судьба: захочет — укладывает человека спать, будто кошку; захочет — заставит играть, будто обезьяну. Калыча не стала обезьяной, что же теперь будешь делать с ней? Ты скор на расправу, и она точно затравленная тигрица… Боюсь, как бы не уехала, обиженная… Ты был бы ровесником моему среднему сыну, будь он жив, — таковы мои материнские слова. Это все, что хотела сказать тебе. Посоветуйся сам с собой. Плохое не лежит на дороге, по аилу пошли разговоры. Эти разговоры не принесут тебе хорошей славы, Батыркул. Как ты решился стать женщиной?
Батыркул вздрогнул. Всяких слов ожидал, но не этих. Побелели губы. Дернулся было вверх — не смог подняться, — сила сверлящих глаз старухи придавила к земле. Не замечая, растер в пальцах боорсак[19], уронил на скатерть. Перед глазами его возникла Калыча, — привиделось, будто держит в зубах нож…
— Зачем таить месть, я не ребенок, матушка Бирмыскал. Слушал тебя правым и левым ухом — пришло время задуматься, — сказал бай, поднимаясь с почетного места.
Калыча в это самое время приподняла голову дочери, давая глотнуть родниковой воды из коокора. Держала в руке коокор, смотрела, как пьет Бурмакан исцеляющую сердечную боль воду, но мысли ее унеслись далеко. Думала Калыча о родных, с кем распрощалась при замужестве, о своем роде солто, обитавшем в Чуйской долине. Беззащитной, одинокой в аиле Батыркула, беспомощной сиротой показалась себе Калыча. Захотелось уехать: звали места, где жила в девичестве, Чуйская долина потянула ее к себе. «И вправду уехать? Кому доверюсь в одиночестве? Пусть сгинут дни, что проводишь, угождая другим. К кому же уеду? Были бы живы отец и мать… Но остался ведь народ моего аила — не зря у киргизов есть пословица: если умрет твой отец, пусть не умрет человек, видевший твоего отца! Разве не примет меня аил с двумя юными дочерьми? Примет, желая сохранить доброе имя… Так и сделай, Калыча. Хочешь увидеть завтрашний день — беги, вернись в родной аил. Родные могут обидеться друг на друга — не могут отказаться. Будь ты неладна, среди родичей разве ни один не помнит имя Калычи? Бог послал мне коня — пора оседлать его, нужно уехать. Муж мой не поднимется из могилы, даже не услышит мой плач, хоть и буду с утра до вечера громко причитать, в кровь раздирая себе лицо… Да, лучше всего уехать. А то еще станет преследовать Батыркул! Захочет — сдерет с меня кожу, вывернув наизнанку! Нужно уезжать. Лишь бы перевалить через горы… Пусть попробуют послать погоню — живой не дамся им в руки. Возьму панцирь Сармана, возьму в руки его копье… Хорошо, что припрятала их… Так и сделаю… Подожди, еще увидят меня…» — так думала Калыча.
Бурмакан только к вечеру поднялась на ноги. Целый день у юрты толокся народ: приходили, уходили, не давая покоя. Когда наконец показались звезды, стало тихо в аиле Батыркула. «Если останусь до завтра, будет поздно, нужно бежать сегодня… С одной стороны — волостной, с другой — Батыркул… Не оставят меня в живых…» Думая так, Калыча потихоньку стала собираться. Дождавшись, когда аил заснул, она связала все самое необходимое в узлы, навьючила двух кобылиц и коня, остальное бросила. Надела панцирь Сармана, взяла в руки его копье, посадила обеих дочерей на кобылиц и двинулась в путь. Их побег никто не заметил — не только Батыркул, но даже и Серкебай.
— Так все это было, припомни-ка, Серкебай! Ты знал, где жили родичи Калычи, ты ездил туда вместе с мужем Калычи, который назвал тебя сыном друга. Твоя старуха — та самая юная Бурмакан… Расскажи-ка сейчас сам, как это вышло, что женился на ней! Не утруждай меня больше — я буду слушать, лишь напоминая тебе о забытом, но ты постарайся вспомнить, Серкебай. Ну, начинай, рассказывай, Серкебай. День ли, ночь ли, не давай себе передышки, куда бы ни шел, что бы ни делал, — не забывай, рассказывай. Расскажи, ничего не утаивая… Тебе станет хорошо, с твоих плеч свалится груз. Твоя очередь рассказывать! Послушаем твою повесть, черное платье, Серкебай!
Часть вторая УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ
Да, начну рассказывать отсюда. Дам ответ Прошлому. Сегодня специально сказал людям, что буду отдыхать, чтоб не искали меня. День отдыха… Как прекрасно звучит, а? Если бы и вправду день отдыха! Когда я отдыхал? Не знаю. В праздник ли? Нет. В выходной, когда отдыхают все люди? Нет. Во время отпуска? Нет. Отпуск… Как хорошо звучит! Есть люди, умеющие использовать его с толком, едут на курорты, отдыхают, лечатся, радуются жизни, путешествуют, знакомясь с новыми местами. А что видел я? Знаю земли, относящиеся к колхозу «Красный мак», знаю его народ… Много это или мало? А то, что я дважды был в Кремле?.. О, уже прошло много лет. Тогда был жив Калинин. Он вручил мне орден Трудового Красного Знамени. Тогда я по-новому понял свое человеческое достоинство. Помню… Из глаз моих брызнули слезы… Странно… Почему от радости способен заплакать скорее, чем от горя?..
Плакал ли я тогда?
В шестнадцатом году, да, вдвоем с Аруке… Вдвоем ли? Нет. Бесчисленное множество людей… киргизы… да, киргизы, оставившие родные места, несчастные, незадачливые… да, горестная пора, и мы идем вместе со всеми…
Но это потом, а раньше?
Аруке, Жайнак… Когда слышу их имена, сердце, вздрагивает. Почему я убил Жайнака?.. Назову ли это убийством? Нужно ли было убить его?..
Когда видел его — отворачивался брезгливо… Эх, черт возьми, ходил неряхой, неуклюже торчал на коне. На голове носил тебетей, отороченный куницей, говорил как мужчина… имел жену, — однако кто бы назвал мужчиной? Скорее — бабой. Нет, где уж ему до женщины — оказался тварью… Была женщина Бирмыскал, достойная управлять людьми, не уступавшая никому в слове, ум ее признавал народ… Была Калыча, — защищая достоинство женщины, разбила голову волостному. Жайнака не назову человеком… Нужно ли было убивать тварь? За это убил? Нет. Это ведь случилось до Аруке?.. Раньше или… нет, знал уже Аруке. Помню… Ходила к ручью, слушала мои песни… Заглядывался на нее. Уже после услышал — живет в юрте Кашкоро, молодая невестка бая… Жена Жайнака… Как же все началось?.. Скрылась, исчезла Калыча… Волостной перешел на сторону Кашкоро, стал поддерживать врага Батыркула… Батыркул начал покрикивать, вымещать на мне неудачу… из-за меня, мол, обжегся на Бурмакан. На ком было выместить мне?.. Но не только, не только это… Издали любовался молодкой — да, заглядывался на нее… А потом уж не только издали… Правда, из-за этого и убил. Должен был убить. Убийство байского сынка, молодого зверя, можно считать виной? Если бы Жайнак воскрес, показался мне на глаза, — кажется, и сейчас бы убил его… Ох, а каким был баловнем, собака! Чапан из белого шелка — у кого еще был такой? Насытившись, пообедав, ленясь подняться, вытирал руки об этот самый шелк, потом капризничал, требуя новую одежду. Человек ли он? Лучше бы не родился. Чтобы ему воскреснуть свиньей! Так скажу — был из тех, которые пачкают имя киргизов. Разве достоин был Аруке? Лучшей из женщин? Быть достойным ее… Да, убив Жайнака, я бежал с Аруке в горы, там нас приютил и спас Токтор… Был знаменитый охотник… Пока жили мы с Аруке в его доме, был для нас как отец… Потом, в шестнадцатом, началось восстание против царя… Токтор погиб. Аруке заняла его место — смело говорила с народом, призывала к борьбе за свободу… Но я сам-то? Нет, нужно говорить правду, какой я был муж! Мог спать в объятиях жены, с утра до вечера кстати и некстати покрикивать: «Эй, сделай так, а вот это — вот так!» — но быть ей мужем, отцом, советчиком, головою, глазами, защитой, помощником? Не было во мне ничего такого… Хотя разве я виноват? Что к тому времени видел в жизни? Родители умерли, оставив меня ребенком, не успев обучить уму-разуму. Могу сказать — человеком стал позже, увидев горе народа…
Ну вот, теперь принялся оправдывать себя! Горемыка Серкебай, не хочешь посадить на себя ни пятнышка, а? Нет, ты скажи правду.
Интересно, разве говорю не то? Помню и недостатки, и достоинства, разве мало этого? Разве правда в том, чтобы только себя охаивать? Нет. Если бы и смолчал, не хвалил себя — все равно сделал многое. Всю жизнь не знал отдыха. Брал отпуск — и оставался в аиле, не мог усидеть и часу в доме, опять ходил по полям, покрывшись пылью…
Остановись, Серкебай! Разве кто-нибудь просил, чтобы ты работал? Говоришь, что особенный, поступаешь по-своему, не как все, — что ж, поступай, но не ставь в заслугу… Упустил время, не использовал право на отдых — ты сам виноват.
Да, правильно, сам виноват. Потому и пришел сегодня — разве мне кто-то сказал? Нет. Сел в машину, поехал. Крикнул своим: «Меня не ищите, сегодня хочу отдыхать…»
Серкебай-жар, Красный яр… Бедный ров, давно же не видел тебя, где ты был до сих пор, милый?.. Я в долгу перед тобой, да разве только перед тобой, — я в долгу перед всеми горами, землей, водой, лесом, камнем — всем. Потому и приехал — получить благословенье, просить у тебя прощенья. Ты мне отдал все — что отдал тебе я? Мало, слишком мало — все, что смог…
Сказал — приехал получить благословенье? В таких случаях киргизы приезжают иначе — кладут в машину ягненка, берут угощение. Я, значит, приехал отдыхать?
В машине ни горсточки боорсаков, ни одного мосла́. Не представляя, как ездят отдыхать, — не позаботился ни о чем… И это мой отдых? Что буду есть, а? Ведь решил пробыть здесь до вечера, вытряхнуть всю усталость, накопившуюся за многие годы. Оказалось, даже не знаю, как отдыхают! Погоди — разве отдохнуть приехал?
Кто ответит голосу Прошлого?
Значит, не отдохну. И пусть… Привык, что не знаю покоя. Покой — значит смерть. Какой же отдых, если просто так будет биться сердце? Хоть и стараешься отдохнуть, жизнь не дает отдыха… Некоторые рассказывают, как ездили на машине, что пили, что ели, — разве это отдых? Нет, наивысшая усталость. Одно время водка применялась, оказывается, как лекарство. А после ее стали пить. Это плохо… Нет на свете лекарства лучше еды. То, что еда проходит через глотку, ее принимает желудок, — само уже счастье. Неголодавший не знает, что за блаженство — сытость… Какое прекрасное счастье — видеть солнце и жить, нет большого счастья — трудиться…
Милые горы, милая земля, милый Серкебай-жар… Помню, все помню. Проезжаю мимо — встаешь перед взором памяти… Красный яр… Сердце вздрагивает, сердце разрывается от жалости… Был бы свободен — приезжал бы поклониться тебе каждый месяц, да и чаще, Серкебай-жар. Я помню, все помню. Вижу тебя — вижу все происшедшее тут. Ты мне кажешься то горьким, то сладким, то мягким, то жестким, то теплым, то холодным… Когда, нищий, голодный, потеряв надежду… потеряв все… с опущенной головой, я приплелся сюда… да, ты казался тогда другим. Ведь была весна. Земля покрылась зеленью, корни налились жизнью. Вот тогда я наелся корений, а, помнишь? Весною семнадцатого года…
Голод хватал за шиворот, жить приходилось милостыней, вот тогда я прибился к тебе, к твоей земле, где росли эти дикие яблони. После скитаний, зимы, холодов — каким близким, каким приветливым казался ты мне, Красный яр. Мы пришли к тебе вдвоем с Кырбашем, — с ним пасли когда-то овец Батыркула.
Голод тех лет… Разве мог заботиться человек о человеке… Сколько нищих, голодных, а еще больше покойников на дорогах. Двигающийся поток людей — точно загнанные, гонимые, потерявшие дом собаки. О, пусть сгинет память о голоде семнадцатого, восемнадцатого годов! Мало тех, что погибли во время бегства, погибли в Турфане, — сколько гибло, возвращаясь, сколько погибло от тифа! Повсюду видны трупы: на берегу реки, в кустарнике, на горных дорогах, на хребтах, на перевалах, на каменистых склонах гор, в зияющих ямах, в крутобоких рвах остались тела киргизов, исхудалые, потерявшие человеческий облик. Нет счету умершим в голод, нет счету слезам…
Вдвоем с Кырбашем мы обходили аилы, прося подаянье. Бывали удачные дни, когда мы получали чашку с толокном или отрубями, а бывали дни неудачные, — вечерами, голодные, были заняты тем, чтобы унять кровь на ноге, прокушенной собакой. К вечеру лучше не показываться возле аила. Вдруг кто увидит? Натравит собак, а уж они пригонят под дубинку хозяина. Стоит пройти ближе к ночи мимо аила — ты уже вор. Вор или не вор — все равно вор. Напрасны слова, ими не убедишь хозяев…
Чего только нам тогда не приходилось есть! Мы ели все, что принимал желудок, — растения, травы. Одни вызывали болезнь, другие были лекарством, одни одурманивали, от других безмятежно спали. Когда в глазах мутнело от голода, подобно барсукам, мы отрывали корни. Да, самые настоящие корни… Помню, есть один корень — запах у него ароматный, а переломишь, выступает белое молочко — вот это настоящая еда, самая настоящая еда! Варили и ели, желая заморить голод. Все испытали…
Больше ходишь — больше теряешь силы. Чтобы ходить, нужно питаться. Как сохранить силы? Когда, побираясь, получим немного еды, тихонько приходим домой, — зовем теперь нашим домом шалаш над оврагом, сложили вдвоем с Кырбашем. Стоит среди вишняка. Здесь… Нет, вон там… Там он стоял… Оттуда мы видим овраг, видим небо, скалу… Все сурово, красиво, ко всему безразлично. Что за дело природе до голода, до нужды, до смерти человека? Скалы стоят, как и прежде, хоть не блеют, как прежде, овцы, не ржут лошади, не кричат пастухи, не слышно песен, веселого смеха. Песни и смех украшали землю. Теперь же все нам кажется мрачным, бесцветным и злым. Крадучись, близко проходят лисицы, тоже голодные, хмурые, — неужели лисица способна понять человеческий голод?
Иногда мы разводим костер, варим похлебку. Дым, как и прежде, имеет особенный запах и цвет. Запах дыма мы чувствуем. Но где запах, прежде мешавшийся с запахом дыма? Где запах наваристого бульона, запах мяса? Запах одного только дыма? Оказалось, дым очень плохо пахнет. Как любил я запах горящего можжевельника, перемешанный с ароматным запахом бульона! Теперь же лишь щиплет в глазах, мы плачем, в нас рождается отвращение к дыму. Правда, плачем не только от дыма… Слезы не только в глазах, слезы переполнили сердце, плачу нужен лишь повод… Мы с Кырбашем сидим у огня, оба вытираем слезы. Глядим на ведро — там похлебка из толокна, на огонь, а слезы текут и текут. Сколько можно их вытирать? Не унимаются слезы — и пусть… Ведь нужны силы на то, чтобы двигать рукой, вытирая глаза. Однако чтоб плакать, тоже нужны силы. Плач забирает наши силы, истощает наши слова… Мы молчим… с нами плачут и гора, и овраг, и деревья, вот эти вишни, яблони, плачут шумные толпы галок. А кто же сейчас не плачет? Стервятники, грифы? Плачут даже беркуты на вершинах скал, чувствуем, видим их поблескивающий взгляд. Мы боимся подать голос. Нужны силы, чтобы позвать… Мы экономим все: голос, слово, ходьбу, толокно, отруби, которые мы раздобыли… да, все.
Богатый и в такое время богат, но несчастным беднякам — как им выжить, не умереть в голод? Вспоминая сейчас шестнадцатый год, вижу его как несчастье, павшее на голову прежде всего бедняков. Так и было.
После еды Кырбаш сидит, прислонясь спиной к дереву, уставился поблескивающими глазами куда-то… Или никуда?.. Бормочет что-то себе под нос. О чем он? Не знаю. Я смотрю на обрыв над оврагом, там гнезда птиц… Мысли мои перескакивают с одного на другое. Прошлая осень, шестнадцатый год. Аруке осталась там, а я… Она не знает, жив ли я, я не знаю о ней… Жива ли дочка, маленькая Буюркан?.. Волосы становятся дыбом, когда вспоминаю сейчас о горе, о плаче на дороге, о разлуке друг с другом, о грабежах, бестолковой суете, о полных отчаяния голосах, о словах проклятий, о сопящих быках, о блеющих овцах, козах, о ржущих кобылицах, о плачущих детях… Ох, если перечислять… Я потерял в бегстве все: Аруке, Буюркан, родных и даже надежду когда-нибудь встретить их… Люди уходили, бежали на юг, через горы; я, оставшись один, без Аруке, повернул обратно. Я шел ночами… Я шел просто так, шел, не зная, куда иду. Не-ет, у меня была цель: я вспомнил о Калыче, бежавшей к своим родным. Куда мне еще податься? Она может стать опорой… Просто помнит меня — больше мне не надо. Я слышал, что род их никуда не двинулся с места. Куда, зачем, от чего мне было бежать?.. Сознание мое притупилось. Постепенно я даже отрешился от суеты и страданий уходящих[20]… Подо мной конь, перед собой гоню свыше тысячи овец. Да, я собрал оставшихся овец и погнал их. Куда? Не знаю. Жалко бросить скот. Кажется, думал еще, смогу откупиться от смерти, отдав их, если встречу вооруженных людей. Не нашлось ни одного человека, который спросил бы: «Интересно, куда ты идешь? Народ бежит туда, а почему ты бежишь обратно?» Ночь. Овцы разбредаются, вожак сворачивает с пути, однако я не сдаюсь. Я доволен, что сижу на коне, оставшемся без хозяина. Подобрал и навьючил было даже ковер, однако вскоре бросил. То ли ребячество, то ли жадность — не знаю, почему взял, почему бросил?.. Помню, на рассвете одолел перевал. Сокращая путь, двигался без дороги, через холмы. Где остались овцы, когда я их бросил? Не знаю. Оказалось, еду один по склону. Один. Только тогда я понял себя. Да, я был таким, был одиноким тогда, ни с кем не сближался, никому не подчинялся, ни с кем не ладил. Люди бежали дальше, я бежал в противоположную сторону. Это действие достойно Серкебая, поэтому я и Серкебай. Я не мог делать то, что делали остальные. Если бы подался со всеми, не ужился бы там, в Турфане, — где мне ужиться, раз не ладил и здесь, на родине, при сытой жизни…
Что было потом? Пришел в Кочкорку… Первое, что увидел — раскиданное богатство. О, куда ни пойди — всюду раскиданное богатство. Брошенные дома, брошенные поля, скот. Некоторые закрыли, подперли снаружи двери, другие разобрали юрты, спрятали во дворе. Спрятали, закрыли… Замков ведь в те времена не было… Смотрел, думал… Догадался: все это богатство — чужое, не мое. Да, вот так я подумал. Тогда я и стал другим, будто родился наново. Или родился заново, или сделал шаг к человечности? Не знаю. Жалость охватила меня. Слезы, плач, печаль, тоска, мученье — ведь сам же видел все… Если б не видел, может, и брал бы… не знаю. В общем, рука моя не поднялась захватить чужое добро. Понял, что должен сам все это заработать, заработать своим трудом. Чем посягать на чужой хлеб… Разве я гриф, чтоб высматривать падаль? А это брошенное богатство не падаль разве? Понял себя: не гриф, оказывается, я — человек… Несчастье порой открывает нам глаза: потерявших человеческое обличье делает людьми. Я… тогда ли стал человеком? Так быстро? Если не тронуть чужое добро, чужой урожай, станешь ли человеком? Не знаю. Одно помню: становиться человеком я начал тогда. Помню, казалось, стоит мне протянуть руку к чужому, оставленному на стойбище, и руки мои сгорят. Вот когда стало недоставать мне людей, вот когда сделались мне нужны, — там лишь, в Кочкорке, почувствовал свое одиночество. Никогда больше не испытывал страха, который узнал тогда. Один — без народа, без родных, без семьи… Голова моя шла кругом. Сунулся туда, сюда, растерялся. Хотел бы заняться хозяйством, хотел бы начать все заново. Один, без людей?
Тут меня осенило — я вспомнил о соли. Почему забыл, не вспоминал раньше — не знаю. Как мучились мы без соли во время побега. Возможна ли жизнь без соли? Видел — в хаосе бегства снаряжали человека ночью специально за солью. Видел — делили горстями одну половину курджуна:[21] это — нашему аилу, то — вашему… Оказывается, в то время у киргизского народа не было соли не только в пищу — соль исчезла из жизни. Жизнь ли без соли? Или только существованье, попытка выжить? Соль жизни… Ты и горькая, ты и сладкая. Я вспомнил копи в Кочкорке, где добывали соль, тогда и вздохнул свободней. Казалось, уже дал себе отпробовать соли. Народное горе дало мне отпробовать соли… Как жил раньше? Могу ли сказать — жил?..
Подобрал на дороге курджун. Много их там валялось — курджунов, мешков, веревок, ковров. Еду — конь все еще подо мной, расстаться с ним невозможно.
Я и прежде бывал в Кочкорке, брал соль для Батыркула, для его скота. Место знакомое, и знаю, где взять… Старик и юноша, приехавшие до меня, уже собрались уезжать. Будто обиженные на что-то, не поздоровались, я тоже. Поглядели друг на друга исподлобья, молча. Они уехали, я принялся нагружать курджун. Соль, настоящая соль! Брал я теперь не такую соль, что раньше давали скоту, брал белую, чистую. Ох и вкусная! Сила, здоровье, жизнь! В бедности, в голоде все, что находишь, кажется вкусным, все кажется лекарством. Да, не узнавши лишений, не поймешь вкуса жизни, не отпробуешь ее соли…
Что ж теперь? Со мной в курджуне соль, я богат, я всесильный. Можно сказать, несет меня теперь не конь, несет соль. Но куда? Не знаю. Где захочу, там остановлюсь, нужен всякому, кто без соли. Без соли — не жизнь. А еще без чего? Разве лишь соль дорога? Ценно, дорого все, чего нет… Чего нет у меня? Еду к людям. К каким людям? Сам не знаю. Но — к людям. Не в родной свой аил, конечно, дорога туда мне закрыта, — с какими глазами туда возвращусь и к кому? Где семья, Аруке? Где родные? Беспомощен человек без родных, без поддержки. Сейчас для меня поддержка — одна только соль: она моя родня, мое дыхание. Пока она со мной — не пропаду.
Горы, деревья, камни, трава — все встречное, все смотрит на меня. Кажется, все без соли. Кажется, все смотрит с завистью.
Почему? Может быть, что-то понял, узнал, стал думать, первый раз в жизни думаю самостоятельно, делаю самостоятельные шаги? Прежде не делал? Прикажут пасти овец — пасешь, прикажут полить ячмень — поливаешь… Прикажут: на это пастбище — идешь сюда, прикажут: на то пастбище — идешь туда. Пасешь скот, оберегаешь его — и все. А сейчас я сам по себе. Сейчас я начал борьбу за жизнь. Бороться — одно из свойств человека. Значит, становлюсь человеком? Увидела б меня сейчас Аруке! Хочу, чтоб увидела меня! Была бы довольна мной? Заметит ли перемену? Не знаю. Человеком делаются разве для того, чтобы кто-то заметил? Голова моя идет кругом, мысли, мысли, снова мысли. Начал думать.
Ложбиной поднимаюсь к Джумгалу. Достиг узкого места; из-за камня навстречу — человек… Огромный, в молодецки надвинутой шапке ощетинил страшные усы.
— Постой-ка! — оглушил меня басом, преградил мне дорогу. В руках держит винтовку, щелкнул затвором, давая увидеть ее. Оказывается, в такие минуты храбрость покидает меня. — Кто разрешил брать соль? Расстрелять тебя, что ли, укравшего соль, а? — Живо стащил с коня и крепко потряс за плечи.
Я взмолился. Я оправдывался. Взял соль просто так, ничуть не воровал… Тот, огромный, не согласился, взял под уздцы моего коня, повернул. Повел в поводу. Он впереди, я за ним на коне. Оборачивается, крепко ругает меня. Я боюсь. Мог бы схватить железное стремя, ударить его по затылку, однако боюсь. Уж больно громаден…
Еду за ним. Постепенно поднимаемся в гору. Уперлись в ложбину, заросшую кустарником. Остановились.
— Слезай! Побыстрее! Курджун сними! Много я видел таких, как ты, соль ворующих исподтишка!
Я снял курджун, и седло, и сбрую — все, как сказал человек. Тот обернулся — не желает видеть меня. Убьет?
— Садись на коня. Поезжай, куда ехал. Я — Акжака[22]. Расскажи не слышавшим обо мне. У того, кто приезжает сюда, забираю коня, если не коня — снимаю голову. Ты не сопротивлялся. Ладно. Конь пусть остается у тебя, а седло мое. Что ты смотришь? Хочешь запомнить меня? На затылке моем — шрам. Жеребец укусил в детстве. Вот так и сделай — рассказывай встречным: есть такой сердобольный Акжака в этой ложбине. Что ж не бежал ты со всеми? Бежал или нет? Лучше у камня спросить, скорее ответит. Уходи!
Я тихонько пустился в путь. Больно, обидно, досадно — не плачу. О чем буду плакать? Перед кем, кто услышит? Все вокруг кажется бледным, бесцветным. Бесцветны и камни, и небо. Земля и та — словно перенесший желтуху. Да, теперь я спускаюсь вниз. Еду обратно — за солью. Однако же этот огромный что сделал — оставил меня без соли! Я ведь добыл соль жизни… Теперь же после встречи с Акжакой опять остался без соли. Не соль потерял — надежду… Акжака. Воротник-то у него совсем черный, почему же прозвали Акжакой? Видно, когда-то и впрямь носил белый ворот. Какая разница, думаю, не он, так другой бы взял мою соль, не белый ворот, так черный. Куда же я еду? У кого я найду защиту? Просто чужой человек ведь не будет опорой в жизни — разве станет заботиться?..
Конь сам выбирал дорогу, спускался, не торопясь пощипывал траву… Вот кому хорошо — хрупай себе, ни о чем не думая! Почему человек не ест травы? Ведь ест же чеснок, щавель, купырь, козелец, лук и другое полезное? Если есть и траву… если есть все подряд — не превратишься ли в лошадь… в животное?..
Акжака… Что это за человек? Почему он здесь, почему один? Разве один? Почему испугался его, чего боюсь сейчас? Все равно куда ехать, черт возьми…
Да, я повернул назад. Еду искать Акжаку. Вижу следы своего коня, они ведут в горы.
Гора, за горой снова гора, гора сидит на горе, впереди сидит и сзади. Чем дальше, тем горы грознее, страшнее, загадочней. Кажутся совсем незнакомыми. На пути овраги, ложбины, проеду одну — кажется, из другой выскочит кто-то, кажется, грянет выстрел винтовки, кажется, много, много Акжак укрылись в них. Сурки убегают, дразнят взгляд. Поймал бы и съел. От голода темнеет в глазах. За пазухой у меня немного толокна в мешочке, однако не хочу его трогать, жалею, берегу на самый крайний случай. Достаю, открываю мешочек — и останавливаюсь, понюхаю только. Прекрасен запах толокна, а? Как прибавляет силы! Пусть это толокно никогда не кончается, пусть придает мне силы каждый раз, как услышу его запах, — чтобы я достиг наконец тех мест, куда стремлюсь. Но куда я стремлюсь, куда направляюсь? Неужели к смерти?
Еду и еду. В небе я вижу грифов, их полет необычен, замедлен — некоторые будто застыли в небе… Опускаются в ложбину — вижу, совсем недалеко. Что там — зверь, человек ли? Все смешалось на этой земле… Людей не хоронят. Разорение — куда ни пойдешь, грабеж. И все породило бегство. Разве можно уходить со своей земли? Бедная земля оплакивает погибших, наблюдательный человек увидит, как на камнях выступают слезы. Снова стал мучить голод. Как вспоминал я добро, лежавшее брошенным на дороге! Почему не взял ничего, хоть немного зерна, не голодал бы сейчас…
На память приходит Аруке — вот кто выдерживал все. Я бил ее. Почему у меня не переломилась рука? Да, женщина, как Аруке, способна выдержать все. Родит детей, воспитывает их. Она — мать, она — жена, товарищ, друг, она — советчик! Это для тех, кто знает… А для меня, незнающего, она — слуга…
Мой конь захрапел, испуганно дернулся, чуть не свалил меня. Я услышал голос Акжаки:
— А-а, ты вернулся, гонимый смертью? Ты первый, вернувшийся за своей смертью. Удивляюсь. Что ж, если хочешь — убью! — Он стоял прямо передо мной, направив на меня винтовку. Я не испугался. Мне все сделалось безразлично. Ощущения жизни нет, значит, если умру — не страшно. Я засмеялся. Акжака глядел удивленно. Я опять засмеялся, посмотрел на него без страха. Он засмеялся тоже. Затем засмеялись мы оба, оглушая окрестные горы. Засмеялись деревья и небо. Мы подарили смех земле — ведь она забыла его. Оказывается, смех — основа жизни. Мы пожали друг другу руки. Я пожаловался:
— Убей меня, братец. Устал я. Моя голова ближе к смерти, чем к жизни. Кто знает, какие смерти поджидают меня впереди и сколько их, лучше уж сейчас умереть от пули батыра-киргиза!
Смеющееся лицо Акжаки превратилось в лед, продолговатые светлые глаза сощурились. Поднял винтовку. Я спрыгнул с коня. Протянул ему повод — он не взял. Прицелился — выстрелил. Осечка.
Отбросил Акжака винтовку, приблизился, крепко обнял меня и заплакал. Но в глазах его не было слез. А плачущий голос Акжаки не заставил заплакать меня, скорей напугал. Казалось, он плачет притворно, испытывает меня!
— Вижу, ты киргиз, настоящий киргиз, не испугался. Я доволен тобой. Забери свою соль. Оседлай коня своим седлом, поезжай куда хочешь!
Уж лучше б он убил меня.
— Застрели, братец. Ничего у меня не осталось, всего лишился, бродяжничаю, а ты отобрал соль жизни. Лучше уж мне умереть. Не мучь, застрели!
Акжака засмеялся прежним смехом. Я разозлился. Как я жалел, что он не стреляет! Видно, ему надоело мое упорство.
— Как я могу убить, когда у меня нет патронов! Смешной ты, глупый, предпочитающий жизни смерть! Уходи. Седлай своего коня. Соль жизни… Соль для овец для тебя стала солью жизни, так ли? Что ты бормочешь? Кырбаш, эй, Кырбаш!
На его голос показался человек, вышел из пещеры у подножья горы. Лицо знакомо. Да это Кырбаш — пастух, с которым я прежде пас овец Батыркула! Увидев меня, закричал от радости. Не знаю, для чего позвал его Акжака, однако встретились мы с Кырбашем по-родственному.
Акжака нахмурился, указал рукой на тропу.
— Убирайтесь отсюда оба! — приказал он.
Мы с Кырбашем сели на моего коня, взяли тот самый курджун с солью и тронулись в путь.
Как говорится, у каждого собственный нрав — кто же тот нрав уймет? Почему Акжака отобрал у меня соль, почему вернул? Почему отпустил Кырбаша со мной? Кырбаш мне ничего не объяснил, не сказал мне и о пещере, кто там и что… Я спросил, но потом замолчал. Раз не желает говорить, зачем принуждать…
Я сижу как раз там, где стоял наш с Кырбашем шалаш. Сказать правду, это не родина мне, не здесь я родился, но это место стало мне родиной, Красный яр… Все, что поддерживало в трудную пору жизни, в голод, в нищету — все кажется близким.
За Красным яром, выше деревьев, — белела цепочка вершин. Горы глядели на меня, обнадеживали, звали, тянули к себе…
Я смотрел, я ждал, я задавал вопросы, вопросы мои переходили в жалобы. Я спрашивал, я умолял горы, реки, землю, людей… Почему погибаю с голоду на родной, на такой прекрасной земле? Неужели кончилась вода, назначенная мне судьбой? Неужели так мало мне ее суждено? Почему создала ты меня подобным свече, — быстро вспыхивает, быстро гаснет? Земля моя — это ты создала меня! Ты подарила мне воздух, подарила хлеб, одежду и воду. Ты научила меня ценить жизнь, подарила вкус к жизни, к свободе. Ты дала мне язык — говорить, дала песню, чтоб петь. Без тебя я не знал бы цену песни. Вся твоя красота для меня воплотилась в песне. С песней я шел за овцами с пастушеской палкой в руках, с песней возвращался. Пели твои реки, пели высокие ели, можжевельник, боярышник, рябина и жимолость, таволга и смородина — все они подобно матери наставляли меня. Если б не твои горы, я никогда бы не научился ходить прямо. Подошвы мои затвердели от камня, я ко всему притерпелся… Почему же теперь я должен попрошайничать? Нет ничего худшего, чем просить милостыню на родной земле, нет большего унижения. На нищего даже собака смотрит с недоверием, брезгливо, сердито, опасаясь заразы. И собака узнает нищего. Если других кусает с жалостью, то нищего кусает изо всей силы, вкладывая всю свою ярость.
Этот Красный яр оставили тогда без имени и мы с Кырбашем, и люди, побывавшие здесь до нас. Называли только по цвету. Теперь каждый зовет Серкебай-жар. Отчего, не знаю, может, видят мою любовь к этим местам…
Помню, когда пришли мы с Кырбашем сюда, я заметил ласточек, галок, голубей — прилетели к оврагу неизвестно откуда. Я смотрел на них и отдыхал от страданий голода, силы мои прибавлялись. Крики пернатых звали меня к сытости, к жизни, к борьбе. Песня их, ни с чем не сравнимая прекрасная песня, пробуждала мечты о будущем, о какой-то прекрасной жизни, где нет горя и мучений. Казалось, они уносят меня на крыльях, донесут до любой моей мечты, они для этого только созданы и нарочно окликают меня, зовут, увлекают. Жизнь бурлила в этом овраге. Птицы казались счастливыми. Я молил о счастье не знаю кого: то ли горы, то ли овраг, то ли этих самых пернатых — казалось, они полетят далеко-далеко и принесут — вернутся со счастьем на крыльях. Я сохранял достоинство и бодрость, я питался их энергией в дни, когда возвращался голодный. После этого как могу не любить пернатых; делят свою жизнь и счастье с людьми. С той поры нет для меня места ближе, роднее, понятней, чем вот этот самый Красный яр…
Серкебай-жар…
Сначала я смотрел равнодушно, не обращал внимания, какие именно пернатые здесь живут, а потом стал присматриваться. В каменистой расщелине жили особенные птицы. Не ласточки, не галки, не голуби — другие. Днем они почти никогда не попадались на глаза, но ведь я просыпался рано, вместе с птицами, какой там сон на голодный желудок; и вот, едва забрезжит рассвет, я видел: проворные, красивые, сильные птицы стремительно вылетают из каменистой расщелины. Некоторые садятся на каменистом склоне оврага, отряхиваются, прихорашиваются, затем улетают. Большей частью устремляются вниз, в долину. Есть и такие, что улетают, не садясь в овраге. Вечером, с сумерками все они всегда возвращаются. Я не замечал, чтоб запаздывали. Вернувшись, не отвлекаются ни на что, прямо скрываются в расщелине. Видел я их лишь утром, на рассвете, да в сумерках — не различал хорошо. Просто любовался их силой, легкостью движений и красотой. Но как-то случилось, одна из этих птиц, взлетев с каменистого склона оврага, взмыла вверх — не ушла вниз, как другие. Вот тогда я и понял без ошибки: это же хищная, ловчая птица, — значит, все эти жители каменистой расщелины, за которыми я наблюдал утром и вечером, не просто птицы — птицы-охотники! Что за редкостная удача! Видимо, их застигла вьюга-метель, закрыв перевал, и они, не успев улететь в теплые края, остались здесь зимовать. Я слышал от одного старика в своем аиле, что есть такие птицы. Он рассказывал, что как-то летом поймал в расщелине сразу пять ловчих птиц. Я тотчас вспомнил его слова. Теперь я внимательно следил за расщелиной в овраге. На рассвете, едва открыв глаза, поднимался скорей и, прячась за стволами больших сосен, наблюдал. Через некоторое время овраг наполнялся движеньем. Пернатые просыпались, их одолевали дневные заботы. Но я уже не смотрел на ласточек и голубей, все мои мысли — о тех ловчих, хищных птицах. Наконец, когда уже совсем рассвело, — вот и они, мои долгожданные. Ведь каких только нет в природе ловчих птиц — всякие есть… И вот вижу — вылетает пара белых, точно молоко, ястребов-тетеревятников. Почему-то они появляются позже других птиц. Наблюдаю и вечером. И опять эти ястребы прилетают последними. Но я не устаю следить — эти две птицы стоят, по мне, всех остальных…
Да, я видел здесь ястребов, увидел — и затаил мысль. Я не сказал ничего Кырбашу, я хотел поймать их сам, хотел взять для себя. Ведь я же первый увидел их, сам выследил — это мое право, мое счастье. Разве отдам счастье? Нельзя отдавать!
Прошло пять дней. Эти пять дней мне казались пятью годами — сгорал от нетерпения. Уходило время — я боялся, как бы ястребы не улетели в горы, не поселились там высоко среди елей. Я не знал, как избавиться от Кырбаша. К чему скрывать, жадность руководила мной, но, милостью бога, однажды Кырбаш не вернулся в наш шалаш к ночи. Я давно уже приготовил веревку и прочую снасть. Но не только… Однажды днем я вбил в крутую стену оврага колышки над этой самой расщелиной и прикинул, как туда добраться. Эта каменистая расщелина стала уже для меня как бы старой знакомой.
Поднявшись в полночь, я подошел к оврагу, в руках у меня мешок, веревка и прочее. Я крепко привязал веревку к колышкам, сам обвязался крест-накрест, чтоб не крутиться, и начал потихоньку спускаться… Все шло так, как было задумано. У отверстия расщелины — я знал — была небольшая терраска, опустился прямо на нее, заглянул в расщелину. Глубина — метра два-три. На террасках, на выступах внутри сидят рядком птицы. Все, что чернело и возвышалось, я принял в темноте ночи за птиц. Спуск показался мне совсем легким — я переступал с выступа на выступ по обеим сторонам расщелины. Спускаясь, я закрывал собой выходное отверстие. Торопливо схватил птиц, сидящих с краю, раздался писк, но, очутившись в мешке, пленники примолкли. Затем я стал бросать в мешок сидящих дальше. Ни одна из птиц не улетела — все оказались моей добычей. Хорошенько завязав мешок, укрепил его за спиной и по веревке выбрался из оврага. Ликуя, вернулся в шалаш, там принялся не спеша рассматривать каждую птицу. Связал им лапки и крылья — они лежали не шевелясь, только грустно поглядывали…
В радостном нетерпении я отправился в путь, не дожидаясь утра. Я пришел к зажиточным, богатым по тому времени киргизам рода солто и преподнес каждому из них по птице. За двадцать одну редкую, дорогую птицу я получил коров, получил лошадей — двадцать одну голову, по голове за птицу.
Таким образом я вдруг сделался богат. Кырбаш теперь оказался в зависимости от меня. Как говорят, радуется тот ребенок, который имеет толокно, — Кырбаш быстро привык плясать под мою дуду. Я же стал говорить с ним надменно, свысока, считая себя теперь его хозяином. Да, я понимал себя выше того, с кем только вчера бродяжничал, с кем вместе выпрашивал милостыню в аилах. Начал считать себя более умным, и, будто давно привык, будто всегда так и было, взялся командовать им, посылая то туда, то сюда, как раньше меня посылал Батыркул. Кырбаш не только не был унижен новым моим отношением — напротив, желал услужить, крутился возле, ожидая поручений, как говорится, вращался вместе с белками моих глаз. Да, значит, стал я хозяином, а Кырбаш стал слугой. В то время я и не вспоминал о прежней своей поре, когда сам был в услужении у богача, слова «бай» и «батрак» даже не приходили мне в голову. Понимал происходящее просто: я заимел скот, достоинство мое поднялось, я воспрянул духом, а Кырбаш подчинился мне. Как и я, не задумывался Кырбаш, почему должен он подчиняться, как не задумывались многие киргизы в то время… Если бай тогда и не звал бедняков в услуженье, те все равно приходили сами; известно ведь: голод — лучший кнут… Бай ничего не приказывал — те сами принимались возиться у печки, доить кобылицу, выполнять любую работу. За это — кормились, делили остатки еды с байского стола, донашивали его старую, пришедшую в негодность одежду. Да, их никто не принуждал, бедняков, — приходили сами. Сами ли? Пригоняла нищета. Пригонял желудок. Хоть бай и полеживал беспечно в разубранной своей юрте, бедные его соплеменники кружились возле, подобно мотылькам, слетающимся к огню. Сам бай, жены и дети его — никто не удостаивал разговором таких вот работающих на них бедняков, не обращали даже внимания. Лишь искоса поглядывали, как те входили и выходили, выполняя необходимую работу, да изредка вставляли словечко, указывая, что то нужно сделать так, а это — вот эдак. Постепенно они — бай и батрак — привыкали друг к другу. Бедняк как бы входил в семью, постоянно занимался хозяйством, и уже не было заметно, что он чужой. Живет тут же, рядом, что хочешь исполнит… Разве чужой? Почти родственник! Но зато уж случись бедняку ошибиться… Бай по-родственному лупил его палкой. За что бьет? Кого бьет? Никто не спрашивал. Казалось естественным. Бай поучает работника, сильный слабого, умный — глупого… Теперь понимаю: отношения богатых и бедных складываются вот так же, как у нас с Кырбашем.
Я продал одну корову, купил кое-что из одежды. Купил и Кырбашу обновку, — он совсем обтрепался и радовался одежонке как ребенок.
Началась для меня сытая жизнь.
Кырбаш пасет в горах скот; после голода, после милостыни пасет с наслаждением, пасет лучше, чем пас когда-то свой. Разве только пасет? Из дерева сделал гребенку и, возвратившись вечером, расчесывает гриву, хвост каждого коня, иногда купает. С лошадьми говорит как с людьми — то засмеется, подденет, то дает умные советы, иногда сердито ругается, а то и не смотрит, обидевшись… Быстро приучил всех к себе. Каждой дал имя, точно это не скот, а люди: «Ой, Акжал! Эй, Алабаш!» Лошадь или корова, услыхав свое прозвище, непременно подбегают к нему. Так мы жили, и Кырбаш был доволен своей новой жизнью. Сколько нищих ходило кругом…
Сам я быстро привык к сытости. Ведь люди легко привыкают и к хорошему, и к плохому… Живя словно бы давно привычной жизнью, чувствуя себя царем и богом, бойко разъезжал на коне по аилам, бойко возвращался, — казалось, я всегда был хозяином этих мест, эта земля досталась мне в наследство от моих предков, я вырос здесь… Мало того. Если случайно в эти края, к нашему оврагу забредал чей-нибудь скот, я пронзительно кричал, я звал хозяина, я наказывал ему, чтобы в другой раз смотрел, не пускал сюда свое стадо. Хорошо, до сих пор не нашлось никого, кто бы выступил против меня, кто сказал бы: «Ты что — хозяин? И вообще откуда ты взялся? Кто велел тебе охранять эти места?» И поскольку не находилось такого человека, я чувствовал себя хозяином. Желудок сыт, одежда в порядке. Недавний голод уже забыт. Я опять стал держаться важно, как в те времена, когда со мною была Аруке… Что было, то было, чего уж скрывать сейчас… Всех, зависящих от меня, я мог зажарить, точно пшеницу. Стоило мне увидеть оплошность — ругал провинившегося на чем свет стоит, мало того, пускал в ход кулаки. Вообще у меня дикий характер… И бил-то не по-людски — по-своему, устраивал «Серкебаево побоище». Звал того человека, которого собирался бить, и при народе громко, во весь голос кричал: «Я тебя буду бить сегодня, когда наступят сумерки! Когда начнет смеркаться, приходи на развилку тех двух дорог! Я разорву твою пасть, подобно пасти змеи! Приходи туда, пусть каждый путник узнает, что такое Серкебаево побоище! Пусть все услышат, как ты будешь избит! Я буду и ругать тебя, и стегать плеткой. К чему бить, если никто не увидит; к чему ругать, если никто не услышит? Иди, вечером приходи готовым!» Да, бывало и так.
Однажды, когда еще со мной была Аруке, я избил подобным образом одного пастуха… С тех пор и остались слова: «Серкебаево побоище». В них живет мое жестокосердие, глупая моя тогдашняя напускная свирепость…
Вспоминаю беспорядочно, — понимаю, скачет мысль моя прихотливо, я ей сейчас не хозяин… Сама выбирает, что вспомнить… Или не мысль?.. Или сердце? Сердце помнит, что дорого… Или диктует Прошлое?
Серкебай-жар… Нищенство, голод, потом неожиданная сытость. Но что было прежде, как мы с Кырбашем попали сюда? Помню… Прошлой осенью… осенью шестнадцатого года… после бегства, скитаний… После унижения, после встречи с Акжакой… Да, мы с Кырбашем, не разжившись на соли, встретились с землемерами. Смотрели за лошадьми, перетаскивали тяжести, кололи дрова, носили воду, словом, делали что говорят. Хорошие были русские, кормили нас. Другого нам тогда и не надо было — лишь бы не умереть с голоду, лишь бы насытить свои желудки.
С ними кормились мы до тех пор, пока не выпал снег, пока по-настоящему не наступила зима. Тогда землемеры уехали. У нас с Кырбашем и в мыслях не было, что они могут уехать, они не говорили нам, а мы и не задумывались о том, что будет дальше, — сыты сегодня, и ладно. Когда же землемеры, погрузив все свои приборы, оседлали коней и уехали, мы, нахохлившись, остались сидеть под скалой, растерянно поглядывая друг на друга. Мы были полны отчаяния.
Долго сидели мы с Кырбашем, ожидающе поглядывая друг на друга. Молчали — да и что можно было сказать? Началась метель. Наш шалаш под скалой заносило снегом. Что нам теперь делать? Куда мы должны идти? Какими будут наши дальнейшие дни, какую воду нам предстоит выпить? Неужели это смерть? Вот такие грустные мысли занимали наши головы.
Кырбаш смотрит в мои глаза. Ни один из нас не желает заговорить первым. Тоска овладела нами. Если б один из нас произнес сейчас вслух: «Ох, несчастье…» — оба были готовы пуститься в плач.
Здесь оставаться нельзя — это понятно. Аил далеко, кругом горы, безлюдье. Если задержимся допоздна, неоткуда будет взять не только еды, но и огня. У нас ведь нет даже спичек…
Наконец я поднялся. Сел на коня. За моей спиной уселся Кырбаш. Куда мы поедем? Нам ведь некуда ехать — но едем… Впереди, за спиной, по бокам возвышаются горы, остроконечные пики. Никогда прежде не казались мне эти черные скалы такими страшными. Небо непрестанно сыплет снегом, вершины скал борются со снежной пылью, то скрываются в белой мгле, то открываются снова, метель озабочена — не в состоянии задушить вершины, засыпать их черноту. Снег ли это или мысли мои? Да, в моей душе точно такая метель, белое борется с черным. Все застыло, заледенело. Боже, что за холодный мир! Кажется, в нем нигде не осталось теплого места. Кажется, все живое давно замерзло, только мы двое остались и настала пора замерзнуть нам тоже. Если замерзнем, останемся здесь — превратимся в каменные глыбы. Гора станет немного выше. Да, гора станет больше. Нас не будет, но наши потомки немного дальше увидят с горы, — может быть, с моих плеч разглядят далекое-далекое счастье и обрадуются ему. Поэтому я не боюсь смерти. Да, ледяными своими плечами я услышу живое тепло человека… Но может, я просто исчезну, рассыплюсь на мелкие крошки, и вот эта метель, этот ветер подхватит, разнесет меня по оврагам, по расщелинам… Нет, пусть так не случится. Не хочу умирать. Нет ничего отвратительней смерти. Нужно жить. А холод не вечен. Надо жить — и тогда завтра будет все хорошо. Лишь тогда. Хорошо жить мечтою о будущем. Будущее посылает человеку надежду. Будущее зовет человека.
Ну вот, над горой засияло яркое солнце, посылая нам свет, начало разгонять облака. Снег притих — устыдился буран, да, устыдился нас. Нас двоих. Метель, овладевшая миром, вдруг отступила — перед нами двоими. Вот что значит присутствие духа, вот что дарит нам бодрость, смелое биение сердца. Пока бьется сердце, не нужно сдаваться. Я сделаю все, чтобы жить. Земля выкормит — пусть мне придется питаться всем, что ни растет на земле. Если буду бессильным — умру, проявлю энергию и волю — выживу. Я — не слабый. Жизнь не баловала меня, видел всякое. Приходилось спать на снегу, укрываться в буран. Босиком пас овец в суровые зимние дни. Голодал — и то не сдавался. У меня на теле отпечатки и ветра, и солнца, и камня, и байской плети. Только ли отпечатки? Я сам — камень, земля, вода. Да, я — все. Лицом я похож на землю. Да и весь я вышел из земли. Меня родила земля, воспитала земля. Меня не берет мороз, меня не мучит жажда. Через мою глотку проходит любая пища. Все, что проходит через глотку, усваивается желудком. Вытерпеть все это, иметь все это — и теперь умереть?.. Не-ет, тогда я не сын батыра Сармана. Отец мой был стоек. И я такой же. Говорили, мой отец получил свой характер от камня; я тоже перенял свою хватку от камня. Нет, не хватку, а стойкость. Камень ломается, я — нет. Иначе б я не был Серкебаем.
Скалы, вершины, горы, впереди, позади, сверху, снизу, подножье, ложбина, хребет, впадина, спуск, перевал. Горы это — или жизнь? Горы — или судьба? Жизнь, судьба получили характер от гор. Заставляют идти человека по разным вершинам, по холмам, косогорам, оврагам, по отрогам, перевалам, по ямам… Так я думал. Я не жалел, что остался в горах, не бежал в чужой мне Турфан. Хожу среди гор, живу среди гор, родился в горах, и это мое богатство. Ведь родная земля придает человеку силы. А другие? Испугались, убежали далеко, в чужие края, в неизвестность. Где остались умершие? Знают ли это живые? А я, коль придется сейчас умереть, — я останусь в своей земле. Обниму землю предков. Хорошо, что я не уехал…
Конь несет меня — я погружен в раздумье. Временами заботы одолевают меня, временами я одолеваю заботы. Не так страшны сами трудности жизни, как страшно сомнение, безволие. Прежде чем одолеть трудности, человек должен преодолеть себя. Если сказать по правде, то сомнение, безволие, вялость делают здорового человека больным, сильного — бессильным, толстого — худым, румяного — бледным, энергичного — замерзшим в бездействии. Сомнение ничего не дает, наоборот, все отнимает. О-о, и в такие мгновенья есть у меня один друг, которого не променяю ни на какие богатства, да, этот друг — бодрость духа! Нет в тебе бодрости — дорога твоя будет долгой, дела никогда не закончатся: хмурясь, будешь вечно злиться, мучиться и мучить других. Если есть в тебе бодрость духа, если звучит в тебе смех, вдохновляющий тебя, поднимающий твои силы, — будут люди бояться тебя, подчиняться тебе, твоей воле. Хотя с виду я и невзрачный, и тихий, но в душе я другой — каждый шаг свой я делаю под песню, эту песню слышу только я сам, она нужна только мне. Я могу сказать, что эта песня — моя птица, мой конь, на котором я езжу, воздух, которым я дышу, даже моя родина, мои горы. Бывает, я так сильно устану: потяни меня за ресницу — и я упаду, но в душе повторяю себе: хорошо, прекрасно, интересно. Иногда находящиеся возле слышат эти мои слова. «Что хорошо? Что прекрасно?» — спрашивают они. Объясняю, что все прекрасно. Не понимают. Понять это трудно. Это впитывают с молоком матери. Видимо, это капля от богатырской удачи отца моего, батыра Сармана. Хоть он и не передал мне всю свою исполинскую силу, но чувствую, он оставил во мне ее признак. Спасибо моему отцу! Спасибо отчизне, родившей моего отца!
Размышляя так, я позабыл о наших несчастьях, отпустил поводья, предоставив коню выбирать дорогу. Еще скала, еще горы, обрывы, ложбины… Все сердитое, все голодное. Тут я понял — в такое несчастье, павшее на головы людей, не только скот, но и земля, и скалы, и горы, и деревья ощущают страданье, голодают, горюют, плачут, получают раны, теряют соки, тоже чувствуют себя сиротами. Они выглядят по-другому, иначе, чем в мирные времена…
Конь наш вдруг остановился, навострив уши, посмотрел вперед. Я посмотрел тоже. Далеко впереди я увидел огонь. Огонь, самый настоящий огонь! В такую ночь, когда над головой нависло несчастье, в холод, когда нет надежды, вид огня воодушевляет. Кажется, этот огонь поджидает тебя и, как только достигнешь его, обогреет, накормит, даст энергию твоему уставшему телу, будет тебе и одеждой, и пищей, и товарищем, и братом, словом, всем, что ты пожелаешь. Да, сначала далекий огонь кажется добрым, но затем, неожиданный среди диких скал, начинает тебя пугать, рождает тревожные мысли. Терзаешь себя, задавая тысячу разных вопросов. Огонь уже видится иным, загадочным: то угаснет, то разгорится снова, то подымается выше, то расползается в стороны — кажется ночною загадкой. Кажется страшным, легко меняющим облик, не виданным прежде. Вспоминается почему-то албарсты[23], о которой много рассказывают в народе. Если возле ночного огня двигается существо, чудится — та самая албарсты. Хоть и трясешься от холода, думаешь, как бы проехать мимо, боишься опасной встречи. Вот и сейчас меня одолевали сомненья. Ехать к огню или мимо?
Огонь продолжал светить — оказалось, зажжен в пещере, возле подножья скалы. Это был необычный, особый, загадочный огонь. Его отблески освещали горы. Пламя огня всегда бывает горячим, но у этого казалось холодным. Будто под видом огня полыхает что-то другое.
Мы потихоньку приближались. Коня не погоняли, ибо давно известно: не погоняй коня ночью, конь проницательнее человека, он замечает то, чего не заметит всадник. И сейчас: если конь навострял уши, мы замирали, если испуганно всхрапывал — будто и мы с Кырбашем испуганно всхрапывали, конь стал нашим поводырем, нашим советчиком, судьбою. Нет, конь не попятился назад. Хотя время от времени поднимал голову, настораживал уши, оглядывался, однако не выказывал особой тревоги.
Мы приблизились к огню — он нам показался огромным, пламя выбивалось из пещеры. По другую сторону пламени чернела взлохмаченная тень. Застыла… Нет, двинулась, — оказывается, человек. Движутся — его руки. Теперь мы услышали… Мелодия… Самая настоящая мелодия комуза. Мы замерли… Почему так печально? Почему так сильно звучит этот комуз? Что, неужели на этом комузе играет огонь? Неужели настолько печален бывает комуз, на котором играет огонь? Может быть, этот огонь и есть комуз? И горит вовсе не пламя, а мечта, плач, героическое сказание?
Мелодия послышалась яснее. Комуз действительно плакал. Это поняли не только мы с Кырбашем, но даже и конь: вначале он слушал, навострив уши, потом опустил голову к земле. Видимо, заплакало доброе животное. Заплакало вместе с комузом, с огнем. Мелодия говорила нам о любви, о смерти, о человеке, о жизни. Любовь плачет о своем сиротстве, проклинает свое бродяжничество. Я слышал о том, что любовь вот сейчас живет под навесом камней, в расселине меж черных скал, в темной ночи, на кровавой дороге, у арыка, в дремучем лесу. Я увидел: не огонь — человек играл на комузе. Мне чудилось, он играет не на комузе — на огне, казалось, что огонь, комуз, человек — все трое плачут. Казалось, что скала целиком превратилась в комуз, в огонь, через мелодию комуза она рассказывает о своей мечте, о любви и весне, о застывшей любви… не застывшей — замороженной жизнью и унижением, о любви, принесшей мученье.
Вот комуз запел, заливаясь, мелодия взлетела куда-то высоко. Она рассказывала о дороге надежды. Дорога не кончалась, любовь одолела девяносто девять преград, не покорилась, пламенела грозно и смело.
Где я слышал такую мелодию? Ну конечно — в голосе влюбленного, потерявшего свою любовь, видел в его слезах, в его лице. Такая мелодия жила на холме, в ложбине, на горе, в поле, в лесу, на рассвете, в вечернем сумраке. Эта мелодия была сыграна у колыбели, эта мелодия была сыграна на могиле, на гриве лошади, когда с криком на землю падал ребенок; эта мелодия была сыграна у смертного ложа. Эта мелодия рождена старухой, лишенной последнего своего зуба, ковыляющей с клюкой; эта песня рождена стариком с покрасневшими, будто от бессонницы, глазами; эта песня рождена пастухом, не имеющим дома, — тем, что ночует в обнимку с камнем, сохраняя за пазухой горе, синее, точно лед. Бывают мелодии, рожденные сердцем, — оно вздрагивает, помня о прошлом; бывают мелодии, рожденные надеждой, — они тянутся к будущему. На поминках и торжествах звучит эта мелодия, сближает друг с другом и горе, и радость. Может быть, ее когда-то создала вот эта скала, — я слышу, с мелодией одного комуза сливаются тысячи мелодий, тысячи комузов плачут и стонут. Да, эти скалы знают о печали и радости, о жадности и щедрости. С этой мелодией ощущаешь что горы стремятся куда-то, что во веки веков никак не доберутся до конца пути. Кажется, что они не взяли в дорогу ни куска хлеба, ни куска мяса, взяли только эту мелодию. То мелко, то крупно, то сердито, то нежно, то разливаясь бурной рекой, то шагом белого иноходца, то разбиваясь с грохотом, точно рушащаяся скала, то плача жалобно, точно ребенок либо разлученная с ребенком мать, у которой молоко переполнило груди, то веселя светлый утренний рассвет, то будто укладывая спать на белую постель, то словно палкой размеренно ударяя по колену, то выплывая, точно молодой месяц, — ох, этот язык комуза, мелодия комуза, она переливалась на разные лады, она маленького делала гигантом, она склоняла высокие горы, она потрясала мир силою страсти. Не только я, но и конь, и Кырбаш, горы, небо, звезды слушали не переводя дыхания. Казалось, если пропустишь частицу мелодии — потеряешь тысячу дней своей жизни.
Мелодия достигла своего перевала. Она исторгла из себя огни, — сверкая, они разлетались в разные стороны; скалы, испуганно оглядываясь, подались назад. На небе растаяли звезды. Одна звезда, рассыпавшись на кусочки, потекла вниз по горе. Казалось, это были слезы скалы, — да, старая скала, лицо которой было покрыто множеством морщин, плакала, проливала слезы. Из уголков глаз ее потекли огоньки-слезы. Стекая в пещеру, цеплялись за пламя, вплетались в мелодию комуза. В мгновение ока кусочки звезды стали мелодией. Теперь она сверкала огнем и звездами. Тень от толстой косы дрожала на скале, трепетала, точно струна комуза.
Мы приблизились к огню. В пещере играла на комузе молодая женщина. Она не видела нас. Она была во власти мелодии. Она боролась со своим прошлым — вчерашним, сегодняшним, завтрашним. Временами в нежных отрывках ее мелодии прорывались быстрые сладкие звуки, в них звучали молодость и старость, жизнь и смерть, смех и печаль. Наш конь заржал. Но играющая на комузе женщина даже не обратила внимания, не слышала нас. О чем говорит ее комуз? К кому обращается, с кем советуется? Кого запугивает, кому изливает свою печаль? Где рождена каждая часть его мелодии?
В летнюю ночь после дождя на джайлоо[24], на тропинках, проложенных овцами, в покрытом облаками небе слышно бывает — поет жаворонок, подобный капле, оставшейся от мелодии. Люди, умеющие оценить, сравнивают его со своей жизнью, со своей судьбой, с горем и смехом народа. Они понимают, они слушают, вникая. Вспоминают забытое. Таков жаворонок. В песне — его мечта, это птица с мечтой. Хорошая песня — не о близкой, земной, досягаемой вещи. Он поет о далеком, о том, чего хочет достигнуть, о дорогом, чего достиг, но уже упустил. Он не складывает об этом песню, он просто поднимается высоко в небо и оттуда во всеуслышанье — всем — рассказывает о своей мечте. Он и сам не знает, что поет, что щебечет на птичьем своем языке. Кому-то это приносит радость, у кого-то вызывает слезы. И в своей мелодии женщина говорила о мечте жаворонка, она сама была жаворонком.
Когда солнце восходит, с высокой скалы взлетает беркут, он поднимается все выше и выше, под самый купол неба, могучие крылья жаждут высоты. Поднявшийся к солнцу, он хочет, чтобы клекот его слышали не одна гора, не одна долина — но весь мир. Он хочет рассказать, что такое героизм, целеустремленность, что это такое — крылья, не знающие усталости. Когда он клекочет в небе, это звучит иначе, не как на земле, — грозно, прекрасно, неповторимо. Голос его слышат все — от птенцов, сидящих в гнездах, до парящих в воздухе птиц, до пасущегося скота, слышат даже и люди. Птицы, услышавшие его, ждут — вот он сейчас с грохотом, с шумом опустится с неба. Однако проницательные люди чувствуют: в клекоте этого беркута — еще и мечта, тоска, несбывшиеся надежды… И в своей мелодии женщина говорила о мечте этого беркута, она сама была беркутом.
Весной, вытянувшись клином, по краю неба скользят журавли. Лишь один из них прокурлычет, но сколько невысказанного в этом крике. Журавли пролетают в небе, доверяя этому миру свои мечты и желанья. Молодая женщина играла, передавая их голос, и в своей мелодии говорила о мечте журавлиного клина, сама была журавлем.
Одетая в черное, в траур, сидит против изображения мужа, плачет у постели вдова. Она рассказывает о своих несбывшихся мечтах всем: взошедшему солнцу, вечернему закату, ветру, народу. Молодая женщина говорила в своей мелодии о тоске неутешной вдовы.
Все бывшее и сущее, весь мир жил в ее мелодии.
Она вспомнила о бегстве.
Она говорила о пережитом ею самой, да, о том, как стала младшей женой Батыркула, как избавилась от него, как нашла себе пристанище среди скал, как в этой каменной пещере любовь излучала свет, — пламя ее было намного сильнее пылающего сейчас огня, и оставило оно скале дыхание жизни, жар страсти.
Комуз и огонь плакали…
Звезды, склонившись, заглядывали в пещеру.
Казалось, мелодия текла сама по себе с трех струн комуза, а женщина лишь освобождала ее, давала ей волю. Мелодия рождалась сейчас, она не звучала ни вчера, ни прежде. И все-таки люди, услышавшие ее, узнали бы ее, сравнили с собой, со своей судьбой, со своей любовью, со своим горем.
Мелодия взлетала и опадала, и только одна струна временами дрожала, звучала совсем по-иному. Эта единственная струна плакала о том, что сердце девушки осталось одно, ночью, беспомощное. Эта единственная струна бурлила, подобно волне озера, заливая скалу, повествуя о героизме девичьего сердца, о непокоренности, о ее безграничной любви. Тут жила не мечта слов — мечта сердца. Эта единственная струна пела поэму любви, которую нельзя передать словами. Если б другой комузист взялся заново повторить ее, сложилась бы песня, которую не закончить за несколько дней.
Нельзя отвлекать играющего, пока повествует мелодия. Будет правильным, если не заговорит человек, но не должен заржать и конь. Даже случайное ржанье нарушит ритм мелодии, ритм взволнованных мыслей молодой женщины.
Все мне стало понятным. Вот из мелодии вылетел лебедь. Настоящий белый лебедь. Любовь лебедя. Его любовь, рожденная озером, светлой волной, рассветом. Время, когда влюбленные не насытились близостью; время, когда они, обнявшись, слились воедино; время, когда они, не разлучаясь, заботятся друг о друге… Затем раздался выстрел. Один из лебедей погибает, другой остается. Они не могут жить друг без друга — успокоение находят в смерти. Лебедь не выносит тоски одиночества. Звучит та единственная струна… глухая пора, мрачное время, когда мечутся, рвутся мысли, разделяемые жизнью и смертью, завтрашним и прошедшим…
Пламя, его языки были вначале как дерево. Угасала мелодия — ветки по одной и по две пропадали, улетали на крыльях плача. Куда улетали? Не знаю. Вижу теперь — остались одни лишь горящие угли. От этих горящих углей едва поднималось пламя.
— Теперь я сказала все…
Молодая женщина положила комуз, встала. Она подошла, — лишь сейчас увидели мы в темноте пещеры недвижное тело мужчины, — она подошла к убитому, для которого играла, поцеловала его в лоб.
— Одну твою жизнь взял палач Батыркула, другая твоя жизнь осталась на струне комуза. Твое бессмертие — в мелодии комуза.
Мы с Кырбашем узнали убитого…
Молодая женщина склонилась над телом Акжаки. Прислонила к его руке свой комуз. Затем повернулась, пошла из пещеры, в это время заржал мой конь. Женщина вздрогнула.
— Апар! — сказал Кырбаш, низко опустив голову.
Апар остановилась. Признав меня и Кырбаша, не выказала ни радости, ни испуга, ни досады, только задумалась. Казалось, вспомнила о чем-то далеком. Может быть, она вспомнила Аруке или Бурмакан?..
Она высказала все Акжаке, все отдала ему, и теперь… да, Апар и сама еще не знала, что будет делать. Ночь провела у изголовья любимого. Да, она подбежала к Акжаке, когда он, преследуемый джигитами Батыркула, упал, истекая кровью… Отпустив повод, повалился — она подхватила его. Акжака не взял в рот ни крошки, силы все убывали, а с наступлением сумерек он впал в забытье. Душа покидала его тело. Говорить он не мог, только слышал, и Апар взяла в руки комуз. Лишь комуз мог сказать, мог выразить нежное чувство, — слова тут бессильны. Да, душа покидала Акжаку, — комуз плакал, комуз вопрошал, комуз звал к жизни, к солнцу, к завтрашнему дню… Сколько мелодий нашла Апар для любимого! Одна из них — она была сплетена целиком из солнечных лучей…
Есть родник, разбегающийся на две стороны, у подножия Кош-Арчи. Алтын-Булак — Золотой родник. Апар приходила сюда за водой еще до того, как лучи солнца касались земли. Сидела, слушала разговор чистых струй. Родник, настоящий друг, напевал ей тихонько, давал ей советы, чистые, как его золотая струя. Девушка переняла от этого родника чистоту, веселость, мелодию. Она теперь иначе, чем прежде, настраивала комуз, она полюбила ясную, ласковую песню — песню родника Алтын-Булак. Не только совет, чистоту и мелодию дал Апар Золотой родник — подарил ей любовь. Однажды на рассвете, когда она сидела, глядя на родник и поглаживая его воду мягкими, нежными пальцами, в глади воды отразилось чье-то лицо — и пропало. Она обернулась — никого не увидела. Тогда девушка привстала и оглядела скалы вокруг — нашла того, кого искала за спиной, на вершине скалы, как раз над собой. Это был Акжака. Глаза девушки и прежде искали его, он нравился ей, однако таилась, не знала, как заговорить, как сблизиться с ним. Акжака пас табуны бая Курмаша. За ловкость и неустрашимость Курмаш приблизил его к себе, сделал старшим над другими табунщиками. Он дважды вступал в состязанья, каждый раз выигрывал, поэтому его прозвали борец Акжака. Под его широкими бровями, казалось, пробивались два родничка — глаза его были прозрачные. Когда он смеялся, ослепительно белые зубы переливались как перламутр. Этого джигита, на лбу которого никогда не задерживалось хмурое облачко, не только Апар — и любая другая удостоила бы любви. Апар будто в шутку призналась одной из подруг, что полюбила Акжаку; она была первой среди девушек своего аила, — кто же посмеет оспаривать ее счастье? Все другие девушки спрятались, точно куропатки, завидевшие сокола. Алтын-Булак слышал шепот Акжаки и Апар, он унес и спрятал частички их нежного смеха. Если и теперь кто-нибудь внимательно прислушается к роднику, помнящему биенье их чистых сердец, то в журчанье воды услышит: «Акжака-Апар, Акжака-Апар»… На скале, на камнях у родника вспыхивают под солнцем искорки — кажется, будто блестят глаза девушки и джигита. Их любовь видели не только молодые парни и девушки, но и беркуты, парящие в небе, и архары с крутыми рогами, охраняющие на вершинах скал свои стада, и куницы, осторожно ступающие по переливающемуся песку… Любовались ими и косули, что, разомлев, прятались в жаркий полдень в тени от скалы, любовалось солнце с небесной высоты, любовались все. Лишь один человек в аиле сделался их врагом — отец Апар, Кошбармак. Узнав о близости дочери с табунщиком, он вознегодовал. Ведь до этого бай Батыркул уже дважды засылал в его юрту сватов. Кошбармак получил калым — отборный косяк чубарых, получил, как того желал, — и отправил Апар в аил Батыркула. Так вот стала Апар самой младшей женой Батыркула среди многих его жен, живших каждая в разных местах. С тех пор Акжака пропал из аила. Первым делом он стал мстить Кошбармаку, угоняя со двора его овец, с выгона — коров, с пастбищ — кобылиц. Укрываясь среди гор, он стал жить в пещере, он объездил все тропки, все ложбины и ущелья, однако не выезжал далеко, днем спал, ночи же проводил без сна. Он напал на след Апар и подкараулил ее. Он послал к Апар Кырбаша, получил ее согласие и выкрал ее, Батыркул проведал об участии в этом деле Кырбаша, поэтому Акжака захватил его с собой, обещая, что станет ему братом. Это было до той встречи с Серкебаем… Он подумал — Серкебай послан Батыркулом, но затем, видя радость друзей при встрече, соединил Кырбаша с Серкебаем, проводил их вместе. Однако Батыркул не терял времени, он направил джигитов искать Акжаку, и вот сегодня Акжака встретился с ними… Когда ему удалось вырваться, уйти от погони, они выстрелили вдогонку… Мелодия, которую слышали мы с Кырбашем, рассказала нам эту повесть.
Мы похоронили Акжаку и вернулись — вот когда пещера потеряла свою прелесть, стала как слепая глазница, из которой вырвали глаз. Сели все трое в разных углах — ожидаем рассвет. Да, такова жизнь: пожелает — заставит тебя играть, как обезьяну, пожелает — заставит спать, как кошку.
— Дерево с мягкой древесиной поедают черви, мягкотелого человека поедают сами же люди. Сами видите: разлучившись с бедным Акжакой, упала я духом, будто правая сторона мира обвалилась. Что ж скажу?.. Такова судьба, нельзя избежать предначертанного. Народ говорит: в горе не нужно умирать, а при удобном случае отомсти… Жизнь как река: повернет туда — тот берег размоет, повернет сюда — этот берег размоет. Залила мой берег, меня затронула, но в другой раз она зальет не здесь, и тогда несдобровать Батыркулу… — так сказала Апар. Больше ни слова не проронила; загляни кто сейчас в пещеру — не почувствовал бы ничего.
Красивая молодая женщина украшает дом, украсит собой и рядом сидящего уродца. Когда взгляд Апар просветлел, улыбнулась и пещера. Да, она не была нам ровесницей, была моложе меня и Кырбаша, но казалась нам старшей сестрой. Мы боялись взглянуть на эту удивительную женщину, неверную жену Батыркула, — что бы ни делала она, что бы ни говорила, все было разумно, достойно, все шло ей, слова ее были подобны солнечному рассвету.
Нелегко дожидаться утра, сидя понуро в черной пещере. Много раз гас костер, много раз мы разжигали его. Апар нарушила горестное молчание. Снова взяла в руки комуз, заиграла на нем, пробуждая зимние скалы. Три послушные струны комуза звучали на три разных лада. Мелодия разгорелась, будто огонь; вот и холода нет, и душевной тоски — рады и мы, и пещера, и хмурые черные скалы.
Что за чудесные мелодии полились в пещере, разбрызгиваясь, будто кумыс из золотой чаши. Если присмотреться внимательно, было заметно, что нежное сердце Апар под эту удивительную мелодию рассыпалось на кусочки, разлетелось песчинками звуков…
Пришел день. Мы посадили Апар на коня, а сами двинулись следом вниз по ущелью. Акжака остался похороненным под полой готового обвалиться обрыва, точно прикрываясь плохой шубенкой. Снова запел комуз Апар. Но это уже не огонь, а роса, выпадающая на рассвете от дуновения ветра, это капля грохочущего водопада, брызнувшая на берег, это душа, расколотая пополам, это ноющее сердце.
Так мы добрались до выхода из ущелья — там стояли три юрты. Апар сошла с коня.
— Я довольна вами на этом и том свете, идите. Если не умрем, то встретимся. Хотя народ Джумгала и не тронулся с места, вам не следует возвращаться туда. Поезжайте в Чу, там сможете прокормить себя. В этих юртах — мои родичи. Пусть Батыркул теперь меня изжарит и съест, если желает. После разлуки с Акжакой мне все безразлично. Единственное, о чем прошу вас, рассказывайте людям об Апар и Акжаке. Рассказывайте о том, что в мире есть любовь, есть любящие и любимые. Прощайте, — сказала Апар.
Теперь, когда я вспоминаю зимние горы Кочкорка, в моей памяти возникают огонь в пещере, ночь, звуки комуза. Больше я не слыхал об Апар. Я сравниваю ее с той удивительной огненной лисицей, что редко встречается в жизни, о которой рассказывал как-то в повести о двух знаменитых охотниках. Я не хочу сказать, что полюбил ее. У меня нет сердца, достойного такой любви и такой женщины, — сердца, которое всегда трепетало бы, рождая любовь. Я был всего-навсего Серкебаем, а она — Золотым родником, родником, что всегда, каждую минуту очищал себя, смывал с себя пыль, не давая ей осесть. Всю жизнь я умываюсь водой этого родника. Когда меня постигает неудача, я вспоминаю этот родник и чувствую облегчение; когда ощущаю жажду, утоляю ее водой этого родника. Родник — многое для меня. Я стыжусь его, я боюсь его, только он для меня — доброта, только он — поддержка, а что касается Аруке… О, я совершил по отношению к ней множество глупостей. Стоит мне вспомнить о ней, как сердце мое разрывается.
Если я не вспомню обо всем этом, глядя на Серкебай-жар, если не расскажу, когда мне приказывает Прошлое, — значит, я совершу грех. Однако если возьмусь рассказать, сколько же мне понадобится слов?.. Будто песчинок в речной отмели. Откуда возьму их? Я не в состоянии поведать вам обо всем. Да и нет нужды…
Сколько же выпало на мою долю! Как говорится, не видел смерти, остальное все повидал. Как только не крутила меня жизнь, показывала все огни и воды, кидала из стороны в сторону и в конце концов закинула сюда, в этот самый Серкебай-жар. Мало того, ведь я разбогател, а? Кырбаш стал незаметно моим слугой. Когда много пищи, тогда много и церемоний. Хуже всего зазнаться в такую вот голодную пору. Я зазнался. Теперь я не сидел в шалаше — на коне под хорошим седлом, принарядившись, разъезжал по окрестным аилам. И там, где меня, голодного и усталого попрошайку, недавно травили собаками, там теперь встречали с улыбкой, вопросительно разглядывали, припоминая: «Где же я видел этого человека?» Казалось, хозяева встретили старого знакомого, которого потеряли в давние времена. В каждом аиле я завел друзей. Теперь я был богат — жизнь повернулась ко мне лицом.
Я хотел отыскать Калычу — ведь она бежала в эти места, к киргизам рода солто. Я узнал, что она действительно здесь, и дважды нападал на ее след, но каждый раз слишком поздно.
В шалаше, где я жил, чего-то недоставало. Я хотел жениться. Хотя я и не говорил Кырбашу, это было причиной моих частых поездок по окрестным аилам. Однако пока ни одна из девушек не сумела понравиться мне. Там приглядываюсь, тут приглядываюсь, но когда сравниваю с Аруке, душа моя говорит каждый раз: «Не годится», — и я уезжаю.
Пока я мотался то туда, то сюда, аил, где жила Калыча, снялся со своего зимовья.
Утром я вскочил на коня и уехал, а вечером, когда вернулся, увидел, что в устье Красного яра, там, где мы жили, стоит маленькая юрта. Вышла женщина — лицо ее мне показалось знакомым. Я с трудом узнал в ней Калычу. Бледная, точно кровь ее высосал дракон, похудевшая, лицо в морщинах, будто у пятидесятилетней, — чего там скрывать, постарела. У юрты привязаны две кобылицы. Одна с жеребенком, другая еще не ожеребилась.
Мы встретились не только как старые друзья — как сын с матерью. Калыча сказала — она будто видит воскресшего друга, она будто видит батыра Сармана. Мы долго сидели, вспоминая о прошлом. В таких случаях слова текут сами по себе, точно песок с горы.
Две дочери Калычи не показывались, а я все не решался спросить о них, как вдруг из глубины оврага появилась девушка с ведром воды. Я узнал Бурмакан. Вся ее прелесть, красота и нежность, видно, остались в ту черную ночь на берегу Сон-Куля. Губы у бедняжки погрубели и зашелушились, как кожура ячменя, глаза затянуло холодом. Где огонь ее щек, подобный рассыпным искрам солнца? То ли устыдившись своей потрепанной одежды, то ли выказывая неприязнь, — знает ли о моем преступлении в ту ночь? — она отвернула от меня лицо; не глядя на меня, едва, уголками губ, поздоровалась со мной и ушла в юрту. Лишь фигура ее оставалась прежней. За всю свою жизнь я не видел девушки с такой гибкой фигурой — извивалась, будто волосяной мост.
Пока мы сидели в юрте и пили из чашек похлебку-жарму, мне казалось, что каждым своим движением Бурмакан проклинает меня. Иногда обратит свое лицо ко мне, но тут же, сморщившись, резко отворачивается. Мне показалось, она задыхается от обиды и сейчас, встретив меня, не сможет сдержаться, выскажет накопившееся на сердце — откроет мое истинное лицо. Я замирал в страхе. Сколько раз я порывался сказать о своей вине сам, но сдерживался. Я хотел просить прощения, хотел сбросить груз вины, давивший на плечи, но не сумел… Я видел — каждым своим взглядом, взмахом ресниц, движением Бурмакан судила меня. Я не мог поднять голову и взглянуть ей в лицо.
В очаге исходили пламенем ветки таволги. Не пламенем исходили, не горели — исходили горючими слезами. Слезы сока по красной коре только что сорванной таволги виделись слезами Бурмакан в недалекую черную ночь. Я понимал — Бурмакан сейчас нарочно жгла эту таволгу, заставляя плакать вместо себя, плакать, обвиняя меня. Да, я тогда слышал песню, спетую голосом таволги. Настоящая песня, ее мог услышать любой прислушивавшийся. Вот она:
Остался горный перевал и бесконечные отроги хребтов. Осталось высокогорное пастбище, где слышалось ржание кобылиц. Остался бедный киргизский народ, Разлученный с перевалом, хребтами и пастбищем. Остались бесконечные реки, Их воды замутила печаль. У разлучившихся со своими родными Осталась лишь память о них, затих шум кочевий. Повсюду в горах остались слезы, Остались лежать головы покинувших родные места, Мало осталось выносливых боевых коней, Выходивших на состязание.Горевшая в огне, дымившая, тлевшая таволга плакала голосом девушки, старухи, молодой женщины, ребенка. Временами слышался один протяжный голос, временами плакали сразу три-четыре голоса. Но какой бы голос ни раздавался, все говорили об одном — о трудностях, павших на голову человека, о народном бедствии. Таволга плакала о нас. Если бы не было бегства, если бы не было голода, — разве узнали б мы столько мучений?..
Я спросил у Калычи, где ее младшая дочь Бермет. Она отвечала, что в этом же Чуйском районе, в Шамши. Совсем недавно убежала к джигиту по имени Бекташ. Человек из соседнего аила приходил ее сватать за своего плешивого сына, к тому же еще и хромого, — тогда Бермет испугалась и убежала.
Так вот почему хмурится Бурмакан… Оказывается, в этом причина… Может быть, вовсе не во мне, не в ночи, когда было надето черное платье. Понятно, ее забота сейчас — это Бермет. Ведь пока старшая сестра не выйдет замуж, младшая не имела права ни на шаг ступить из дома; пока старший брат не женится, младший не имел права жениться. Если младшая сестра убегала замуж, а старшая оставалась, это было равносильно смерти. Кто возьмет такую? Так вот почему постарела Калыча! Нет худшей болячки, чем сплетни. Особенно опасны сплетни для вдовы — всякая грязь липнет к ней. Засмеется громко, покажется смех ее странным — осудят; выйдет принарядившись — скажут, что собралась замуж; если даже просто похудеет, и то осудят; будто второе имя рядом с первым — всегда с именем вдовы — сплетни.
Мы все трое глядим на огонь. Огонь занят собой, иногда дымит, иногда сквозь дым прорывается пламя, лижет низ котла, покрытого копотью, похоже, огонь доволен, что его языки достигают хотя бы копоти котла… Он устремляется в верхнее отверстие юрты… Он выбивается в глубину неба, он хочет соединиться со звездами, обратиться в звезды, рассыпать свой свет по вселенной. Мы все трое глядим на огонь. Он согревает не только наши глаза, но и мысли, греет сердце, рождает надежду, растворяет в нашей крови жаркую свою любовь.
Осторожно поправив головешкой ветки таволги в огне, Бурмакан унеслась мыслями куда-то далеко отсюда, прямо взглянула на меня. Я впервые увидел ее глаза. Оказывается, были горячими. Пламя нашего костра жило в них? Нет, давно, до того, как я надел черное платье, волостной обжегся об эти глаза.
После этого не помню, чтоб глаза Бурмакан смотрели на меня прямо, до сих пор не смотрят прямо.
Долго мы сидели у огня — многое сумели сказать.
Я не раздумывал много, — наутро, когда солнце разлилось по земле, я пригнал весь свой скот к юрте Калычи. По глазам, по лицам Бурмакан и Калычи я заметил — признательны мне, сыну батыра Сармана.
Из шалаша мы с Кырбашем перебрались в юрту Калычи. Было нас двое, стало четверо. Каждый человек — это лес. Посмотришь на лес со стороны — не поймешь его, пройдешь по нему — тогда лишь узнаешь. Человек ведь сложнее леса. Никто из нас четырех не знает, чем дышат другие. Да и прежде, когда я жил в юрте Калычи, она не знала, что у меня на душе, я не знал, что у нее на сердце. Однако видны и перемены. Раньше была Калыча — все ей нипочем, сердце не вздрагивало от каждой житейской потери, считала, что первое богатство — это здоровье. Теперь я заметил: просыпается ночью, пугается не только близкого шороха — резкого ветра. Казалось, тень навсегда омрачила ее сиявшее прежде лицо. Случалось, теперь горячилась, по-настоящему раздражалась и хотя не шумела при этом как некоторые, лишь вздыхала, я видел: сердце болело, она задыхалась. Душа моя переворачивалась в такие минуты. Как бы там ни было, Калыче понравилось, что я пришел со скотом, и, говоря о прошлом, она часто вспоминала отца — батыра Сармана: как был добр, как отдавал своего коня понравившемуся человеку, а сам уходил пешком. Обо мне говорила так, будто я был похож на отца.
Кырбаш оставался прежним, днем со скотом, к ночи вернется в юрту и сидит, уставившись на огонь, смотрит часами. Бывало, за день не скажет ни слова. Однако стоило Калыче попросить о чем-нибудь, не отказывался; если я желал чего-то, мне тоже не отказывал, с этим «ладно» проходили его дни. Пошлешь за водой — летит стрелою, летит, точно брошенный камень. Не пошлешь никуда — и посуду помоет. Когда Бурмакан уходила куда-нибудь, он подметал пол с такой тщательностью, что не только женщина, не только Калыча, но и я, мужчина, был доволен. В те времена считалось позором для мужчины выполнять женскую работу, но Кырбаш будто не знал об этом. Калыча предлагала: «Оставь женскую работу женщине». Кырбаш в ответ весело смеялся и балагурил: «Старики говорят — разве пристанет женская работа к мужским рукам? Я много раз прилаживал котел хана, но где на моих руках копоть? Я много раз прилаживал котел бека, но где на моем лице копоть? Молодой приходит к работе, старый приходит к угощению. Если буду подвижен — кровь разойдется по телу, лучше уж буду бегать, легким стану, точно пушинка». Я начал замечать постепенно, что Кырбаш полюбил разговор. Вначале и Калыча, и Бурмакан смотрели искоса, слушали молча, с неодобрением, но вскоре обе переменились; стали ласково называть его Кыке. Ко мне же обращались по-прежнему: Серкебай. В душе я был немного обижен, однако старался не выказывать досады и сам тоже звал Кырбаша ласково. В ответ он еще пуще усердствовал, работал еще старательнее. Я чувствовал, что в последнее время и Бурмакан стала больше открываться Кырбашу, чем мне. Это беспокоило сильнее всего, однако я повторял себе: «Нет, у Кырбаша нет плохой мысли… иначе… пусть только посмеет…»
Постепенно стиралась первоначальная наша отчужденность, мы выглядели одной семьей. Хотя я был намного моложе Калычи, незнакомые принимали меня за главу семьи, а остальных считали зависимыми от меня. Как и прежде, когда мы жили вдвоем с Кырбашем, я разъезжал на коне из аила в аил, знакомился с людьми, заготавливал продукты, вел обмен. Когда я возвращался к юрте, для меня были готовы еда и постель. На руках у меня исчезли мозоли, спину не ломит, высыпаюсь, хожу беззаботный, — да, я имею скот, остальные зависят от меня.
Догоняя друг друга, уходили дни. Вслед за Кырбашем я старался угодить Калыче, но иначе, чем он. Желая показать себя солидным, уважаемым хозяином, степенно, не спеша входил и выходил из юрты; стараясь выделиться, говорил веско, с достоинством, не торопясь. Иногда это получалось у меня удачно, иногда нет. В таких случаях Калыча смотрела на меня с удивлением. Однако что бы там ни было, главное — у меня был скот. Кырбаш — обычный батрак, я же выглядел богачом. Я желал быть богачом. Я хотел казаться богачом. Я старался поменьше говорить — пусть другие спрашивают меня. Я уезжал, не говоря, куда еду. Перед тем как ехать, я одевался, будто собирался присмотреть себе невесту, я нарочно делал это на глазах у Бурмакан. Я поручал Кырбашу вычистить мою одежду, расчесать гриву и хвост моего коня. Я шел к роднику на горе и мылся по пояс. Я завел себе приятелей, некоторых из них, бывало, нарочно приводил к юрте; однако, не доезжая, мы останавливались, сходили с коней, садились на зеленом лужке, разговаривали, будто о важном, известном только нам; мы садились так, чтобы нас видно было от юрты, на случай, если из нее выглянут Калыча или Бурмакан. Когда дружок уезжал, я не провожал его — не оборачиваясь, прямо направлялся к юрте. Каждый мой день был загадкой для Калычи и Бурмакан. Они внимательно всматривались в меня, иногда расспрашивали, но большей частью молчали, надеялись — возможно, сам расскажу что-нибудь, поделюсь на досуге. Но я не рассказывал. Я ронял многозначительно: «Что сталось с людьми? Что делается с девушками?» Калыча посматривала недоумевающе то на меня, то на дочь, будто я обнаружил какой-то недостаток в ее фигуре, в характере или поведении, а она, мать, не видит.
Как-то мы с Калычой остались в юрте наедине. Я решил повыспросить ее.
— Упала цена человеку, упала цена девушкам. Оказывается, в голод пропадает не только пища — пропадает цена человека, — рассуждал я.
Казалось, Калыча только и ждала этих моих слов. Многое услышал я от нее — многое рассказала мне…
— Да, девушки совсем потеряли цену… Оказывается, что на роду написано, того не избежать. Как ждала, как желала собственноручно выдать замуж дочь, выпить в знак радости чайник чаю… Однако младшая моя, Бермет… Ах, негодная, что за срам — убежать замуж, когда старшая сестра еще сидит в доме матери! Скажи, милый, — разве это не конец мира? Что за времена! Сын не слушает отца, дочь не слушает мать. Чем все это кончится?.. Лишь бы хорошо… Бегство Бермет сравниваю со смертью Бообека. Когда умер, бедный, будто вырвали ребра с правой стороны; когда убежала, негодная, будто вырвали ребра с левой стороны… Три дня лежала, не поднимая головы. Заботы о пище подняли меня… Да, правду говорят: дочь подобна ночующей птице, захочет — утром улетит. Кто знает, может, и эта сбежит в один прекрасный день, показав свой затылок. Думаешь, лишь бы вышла за доброго человека, эх, думаешь так, а получается-то все наоборот. Предполагаешь одно — бог делает иначе. Как ни бейся — не избежать того, что написано у тебя на лбу…
В голове у меня смешалось. Я не знал, как истолковать сказанное Калычой, — говорит ли, имея в виду меня, намекает или же просто советуется сама с собой?
Разговор наш не переменил нашей жизни — все шло по-прежнему.
Меж тем я продал одного коня, приодел Калычу и Бурмакан. Краса дерева — листья, краса человека — тряпки. Бурмакан расцвела, точно омытая дождем зеленая лужайка, засияла свежестью и красотой, воспряла духом, стала держаться иначе, более уверенно. Цветы на ее платье ласково улыбались — словно удивительное пастбище… Когда она входила, будто весна входила следом за ней…
Бурмакан была нашей красотой, нашей волей, нашими словами, нашим смехом, нашим восторгом, нашими днями, нашими ночами, нашим дождем, нашим ясным небом. Если она уходила из дома хоть ненадолго, в юрте становилось неприветливо. У нас иссякали слова, точно кровь в перетянутой ране.
Но стоит ей появиться — опять начинают звучать наши голоса, находятся слова, сыплются шутки… Если я поправляю ветки в костре, пламя жмется к земле, если же Бурмакан — огонь веселеет. Все, чего касаются ее руки, будто оживает. Вода, принесенная ею, холодна и прозрачна, даже ведро, что она держит в руках, кажется нам красивым. Когда мы садимся пить жарму — похлебку из толокна, я стараюсь сесть слева от нее, потому что по кругу она передаст ложку мне. Какое счастье получить ложку из ее рук! Я знаю, и Кырбаш тоже мечтает об этом, знаю — и не допускаю… Однако девушка даже не смотрит на меня, даже не улыбнется в мою сторону. Страстно желаю, чтобы она улыбнулась мне, я жду, я надеюсь, наступит же такой день! Я живу надеждой, но почему-то надежда скрывается, увиливает, перескакивает с холма на холм, обманывает, точно лисица, смеется надо мной… Да, надежда смеется надо мной.
При всем том я не могу сказать уверенно, что полюбил Бурмакан. Я не знаю, что такое любовь. Я должен жениться, джигит без жены не считается достойным хозяином. Я думаю: если поговорить с Бурмакан, она не откажет… Я жду случая, чтобы поговорить с ней откровенно. Но случай заставляет себя ждать…
Однажды умер кто-то из родичей в аиле Калычи, и она ушла в предгорье. Кырбаша я послал пасти скот. Теперь в юрте мы с Бурмакан вдвоем. Девушка без устали трудится, делает что-то по хозяйству. Не знаю, как уж она находит себе занятия… Пойдет туда — там возьмется за что-то, пойдет сюда — здесь возьмется за что-то. Каждая вещь, которую она берет в руки, становится чистой, куда бы она ни пошла, там распускается счастье. Я замечаю, что она больше прежнего молчалива, будто побаивается меня, сторонится, не смотрит… Лицо застыло, заледенело, — взгляд мой, устремленный на нее, словно упирается в неживое, ничто не дрогнет в ответ.
Я ждал, когда она закончит дела, чтобы сесть рядом и начать разговор. Но, кажется, работы ей лишь прибавлялось. Вскоре она взяла веревку, отправилась за дровами. Я остался один. Через некоторое время вышел из юрты. Вот она, Бурмакан, идет в сторону лесочка. Меня потянуло за ней, ноги сами понесли меня к лесу.
Иду… Я иду по следам Бурмакан и доволен этим. Я тороплюсь, я вхожу в лес — глаза мои не видят его зеленой красоты. Слышится треск — это Бурмакан ломает сухие ветки, она в самой гуще…
Мне хочется петь — где я найду слова?..
Вот и Бурмакан — согнулась у корня засохшей туи, не в силах вытянуть его из земли. Смотри-ка, не хватает силы справиться с корнем, однако хватает, чтобы мучить меня! Я тихонько подаю голос — девушка стремительно оборачивается. Только что державшаяся свободно, она мгновенно сжимается — как в юрте, как всегда при мне. Я вижу — враждебна, не только девушка, но и весь лесок темнеет… Здесь все на ее стороне, только я будто посторонний, чужой, нежеланный. Лес будто смотрит на меня множеством глаз и осуждает меня, враждебный. Я стараюсь не замечать неприязни, я приближаюсь к Бурмакан. Она отворачивается от меня. Я стою за ее спиной. Руки девушки в непрестанном движении, однако дров почти не прибавляется. Я приступаю к делу. Я выворачиваю сухие пни и коренья. Я не догадываюсь, что надо бы работать не спеша. Вот вязанка готова, и Бурмакан торопливо поднимает ее. Я не могу открыть рот, я не говорю ни слова…
Уходят дни. Мы не перекочевали на джайлоо. Какое уж теперь джайлоо… Голодные и холодные пришли мы к этому оврагу — слава богу, хоть сейчас не голодаем. Я все еще не сумел поговорить с Бурмакан. По сравнению со мной Кырбаш, будь он неладен, молодец. Я чувствую, вижу близость и теплоту в его отношениях с Бурмакан. Я чувствую: если не вслух, то мысленно они поддерживают друг друга, однако никак не могу поймать, захватить их врасплох. Кырбаш не знает, что я ревную Бурмакан. Я же нарочно не подаю вида, я должен точно удостовериться в их душевной близости…
Пришла ночь. Мы только что поужинали пшенной похлебкой. Я лежал, облокотившись о седло. Кырбаш поправлял ветки в гаснувшем огне. Бурмакан мыла посуду. Я притворился, что задремал. Я прикрыл глаза, но сквозь ресницы вижу все ясно. Пользуясь минутой, Кырбаш подмигнул Бурмакан — та в ответ счастливо улыбнулась. Склонив набок голову, она улыбнулась, да-да, не просто улыбнулась — во взгляде ее заключалась какая-то тайна. Я заскрипел зубами, но не показал своего гнева. Кырбаш взглядом попросил Бурмакан выйти из юрты наружу. Девушка в нерешительности прикусила губу. Больше я уже не мог сдерживаться. Я открыл глаза, будто проснувшись внезапно. В верхнее отверстие юрты светила звезда. Я вышел наружу и вскоре вызвал Кырбаша. Я предложил ему прогуляться, пользуясь такой тихой ночью. Он всегда беспрекословно исполнял мои пожелания. Когда отошли по склону далеко от юрты, Кырбаш спросил меня:
— Куда пойдем, байке? — С тех пор как я обзавелся скотом, он почтительно звал меня «байке» — старший брат.
— Искать любовь, — ответил я сдержанно.
Кырбаш притворился, что не понял сказанного.
— Где же будем искать?
— В юрте Калычи!
Кырбаш отшатнулся от меня, однако я схватил его за руку и больно стиснул. Он остановился, понурившись.
— Правда, куда пойдем, байке?
— Туда, где грызутся волки.
— К чему ты это говоришь?
— А вот к чему!
Я резко ударил его в грудь. Он опрокинулся навзничь и несколько минут лежал тихо, не шевелясь. Я дал ему время подняться. Он поднялся — и я ударил его снова, еще сильнее. Он не ожидал удара, опять упал. Однако, чуть отлежавшись, вскочил, бросился ко мне, головой боднул в лицо. Из глаз у меня посыпались искры, кругом все поплыло, я чуть не свалился. Он опять набросился — я встретил его кулаком… Теперь мы оба настороженно следили друг за другом, стояли, нагнувшись для схватки, — две черные тени в черной ночи. Мы оба выжидали удобную минуту, чтобы схватиться. Тут я в темноте зацепился ногой за корень, упал. Кырбаш подскочил ко мне и саданул ногой в бок. У меня перехватило дыхание. Чуть отдышавшись, я покатился вниз по склону — дальше от Кырбаша. Он не преследовал, и я понял — он хочет мериться силами как настоящий джигит. Смотри какой благородный! Скатившись немного ниже, я перевел дух. Кырбаш стоял, не двигаясь с места.
— Или ты умрешь, или я умру. Иди сюда, — тихо сказал я.
— Ты затеял драку. Если хочешь, поднимайся сам, — ответил Кырбаш. Он стоял выше меня по склону — и вдруг показался и вправду сильнее и выше меня. Я почувствовал в темноте, что он улыбается… по голосу почувствовал. Насмешка его поразила меня: если этим закончится, значит, он возьмет надо мной верх, значит, на каждом шагу сможет смеяться надо мной… Да, он теперь знает мои сокровенные желания. Словами теперь не поможешь, слова не имеют значения. Значит, или он, или я…
Я пошел на Кырбаша — он ждал. Пригнувшись, я боднул его в живот. Он вскрикнул и согнулся, подобно ребру. Я пнул его, согнувшегося, — он отлетел в сторону, повалился. Я ждал, пока он поднимется. Он не поднялся. Я продолжал ждать. Спустя небольшое время он вздохнул. Тихонько поднялся и, пошатываясь, направился ко мне. Я ударил его в лицо кулаком, он откачнулся, снова шагнул ко мне, я снова ударил… Он вдруг быстро нагнулся — кулак мой пролетел мимо… Не знаю, что случилось, — вдруг на меня посыпались резкие удары, я даже не в силах был открыть глаза. А он нарочно еще и считал при этом: «раз… два… три…» Подобно спиленному дереву, покрутившись на месте, я повалился. Как только я упал, он ухватил меня за ноги и поволок вниз по склону… Мне разодрало бок… Послышался грохот воды… Кырбаш стащил меня в ложбину, с камня на камень, к воде… Хотел бросить в воду — тут я подал голос:
— Подожди!
— Ты еще жив? — проговорил он, остановившись.
— Если хочешь драться, то нужно по-мужски, — сказал я.
— Никогда не дрался, как баба… — С этим он пнул меня ногой, пнул слегка, будто не человека, а подохшую скотину. Я скатился в воду. В воде я почувствовал облегчение, почувствовал прилив силы. Выбрался на берег. В руке у меня очутился камень величиной с голову собаки. Не знаю, видел он камень или нет, — я ударил его. Он упал, камень сверкнул о камень, вспыхнула искра, в темноте показалась неестественно яркой. Бурлила вода, глухо стучали, перекатывались в потоке камни…
С неба упала звезда. След от нее исчез далеко за горой.
Шатаясь, я поднялся по склону — вдруг руки его вцепились сзади в мой ворот. Мы повалились на траву, мы покатились по склону, по камням, избивая друг друга. Кажется, у меня не осталось на теле целого места…
Наконец мы оба обессилели. Рука не поднималась больше для удара… Кырбаш пополз вниз, к воде, я за ним. Оба, лежа ничком, жадно глотали воду, через некоторое время оба встали. Превозмогая себя, я поднимался по склону; Кырбаш из последних сил следовал за мной. Драться мы больше не могли. Еле двигая ногами, оба тащились к юрте.
Я вошел внутрь, Кырбаш остался снаружи.
Наутро я проснулся поздно. Во всем моем теле, казалось, нет здорового места, лицо распухло… Сдерживая стоны, я тяжело дышал. Как покажусь теперь Калыче и Бурмакан?
Время, видно, подходило уже к полудню. В юрту заглянула Калыча, сказала:
— Кырбаш пропал. Кроме наших двух кобылиц другого скота нет. Ты не знаешь, Серкебай, куда он мог уйти? Этот Кырбаш, видно, не в своем уме…
Сердце мое оборвалось. Я понял — Кырбаш сотворил неладное. Приподнялся было — и не смог удержать голову…
— Где Бурмакан? — спросил я.
— Здесь, — услышал я голос девушки.
Слава богу! Если б он увел еще Бурмакан, было бы совсем худо. Смотри-ка: на вид невзрачный, оказался сильнее меня. Значит, натворил дел, угнал весь мой скот… В голове у меня вихрем закружились догадки. «Куда ушел? На сырты? Вряд ли. Тогда куда? Не знаю. Давно готовился? Нет. Он угнал из мести, не стерпев обиды. Ну да ладно — вернется когда-нибудь… Нет, пожалуй… Если вернется, разорву его пасть, как у змеи!.. Он ведь знает, что сделаю так. Не вернется… Много лет вместе пасли овец, много раз схватывались… Знает, что я мстительный, не могу забыть. Если есть хоть немного ума — не вернется, если же нет… Да, это как в драке: один подстерегает другого. Выждал, подкараулил, свалил меня подножкой. Однако все ж не избавился от меня, — нет, не таков Серкебай, чтобы спать спокойно, упустив обидчика! Все равно достану, вытяну хоть из-под земли!»
Душа моя, не соглашаясь с потерей, взывала к мести. Но в глубине сознания рождались другие мысли. Безволие подсказывало мне: нет, не отыщешь обидчика, иначе разве решился бы Кырбаш угнать твой скот?
Я пробовал успокоить себя: «Сколько расходов я понес, сколько стоил мне этот скот? Можно ли горевать из-за скота, полученного в обмен на пернатых? Вот он взял да и улетел, подобно птицам… Так и должно было случиться: что легко достается, легко и теряется. Значит, скот этот не будет сужден и Кырбашу: кто-нибудь перехватит в пути… Да, не разживется Кырбаш. Нет, не разживется. Но до чего оказался хитер! Подумать только — что за мысли таил в душе! Ведь если б не я, давно бы растерял свои косточки на дороге голода! Когда пойдет на тот свет, гореть, гореть ему в аду! Тот свет… Да, говорят, бессильный уповает на загробную жизнь. А Кырбаш все же не промах… Если у тебя жизнь длиной в день, в полдень садись на иноходца… Правильно сказано… Что ж, значит, пришло время Кырбаша — будет блаженствовать, владея скотом? А я? Я приобрел теперь свой обычный, естественный вид. Вид Серкебая. Да, тут я почувствовал, что перестал быть хозяином жизни… Наоборот… Долго ли Калыча будет терпеть меня… Прогонит из своей юрты в тот день, когда найдет во мне малейший недостаток. Это уж мне известно…»
Разве отыщешь Кырбаша, укравшего скот! Знает в этих местах каждую ложбинку, каждый взгорок — даром, что ли, пас каждый день… Как бы там ни было — ясно стало одно: следы и скота, и Кырбаша пропали. Несколько дней подряд я искал по всей округе, но в конце концов мне надоело.
— Разве решится на кражу человек, который даст себя отыскать. Забудь о скоте, веди свою обычную жизнь, — сказала Калыча. — Прополи кукурузу — ту, что высеяна в предгорье, еще есть участок ячменя, надо полить… Когда я впервые увидела этот скот, сразу почувствовала: не суждено нам. Добро, доставшееся задешево, любит менять владельца. Я не видела, чтобы игрок и вор разбогатели. Хотя игрок владеет пачками денег, все равно у самого ребра можно пересчитать, а пойдешь к нему домой, так даже лизнуть не наберется толокна. Пусть хоть кобылу заколет вор, все равно я не видела, чтобы наелся досыта. Облизывается подобно гончей, с шумом втягивая носом воздух. Мы были с твоим отцом друзьями, пусть его дух будет доволен нами, давай сообща вести хозяйство.
Что и говорить — Калыча поступила великодушно. Работал я теперь с усердием, не смея поднять глаз. Это про таких, как я, сказано: у раба нет ушей. Калыча теперь сделалась хозяйкой надо мною. Вот так и бывает: то на верблюде едет джигит, а то и пешком ходит…
Голод не тетка, всему научит. Я ведь уже не мальчик, сидеть у вдовы на шее для меня равносильно смерти. Пришлось думать о хлебе, о собственном куске.
Известно — будешь действовать, будет и удача. Если же лежать, приговаривая: «Созрей яблоко, упади ко мне в рот», — не дождешься: не созреет, не упадет… Мой отец говорил: «Волка ноги кормят». Я не ленюсь бегать, не ленюсь работать, если, конечно, найдется работа. Однако пока не находится.
Но в конце концов мне улыбнулась удача. Перед закатом солнца я сидел на камне недалеко от юрты, как вдруг завернул к нам черный, как головешка, человек — навьючил на красного быка четыре мешка с углем. Он вращал белками своих выпученных глаз; казалось, в них нет даже зрачка, точно у лягушки. Он приветствовал меня тонким, писклявым голосом, который не был слышен и за два шага от него. Невозможно было определить его возраст, — глядя на редкую торчащую щетину на подбородке, я бы дал ему лет сорок. И вообще, увидев небольшое, с локоток, худенькое существо на спине красного быка, поневоле засомневаешься, человек ли перед тобой.
Хотя тот, что был на быке, первым приветствовал меня, я, как младший, в знак уважения, приветствовал его сам. Человеку это понравилось. Поведя подбородком, заговорил:
— Ты, вижу, достойный сын своего отца. Я доволен тобой. Вчера еду я на сером быке. Навстречу красный молодец. Я его приветствовал так же, как и тебя. Он ответил, словно старший, и едет себе мимо, погоняя коня. Пусть хоть умрет, разве я отпущу такого шустрого! Позвал его — пусть вернется. Вернулся и уставился на меня точно собака, выпрашивающая у хозяина кость. Я спросил, есть ли у него отец; он, бессовестный, отвечает: «Да». Тогда спрашиваю его: «Можешь поверить, что и я — отец?» Он еще смеется! Снова спрашиваю — опять смеется пуще прежнего. «Почему проезжаешь, не приветствуя? Ты киргиз?» — «Да», — отвечает он, опустив взгляд. «Тебя родила мать?» — «Да». — «Отец есть?» — «Да». — «Разве твой отец не учил тебя приветствовать старших?» — «Учил». — «Почему тогда не приветствуешь?» — «Так вы сами…» — «Вот тебе за это… Ступай расскажи своему отцу! — Несколько раз стеганул его плеткой, рубашка разлезлась в клочья. — Расскажи отцу, тебя отхлестал человек по имени Комурчу, отхлестал за то, что ты не приветствовал старшего». И у меня, когда родила мать, было имя. Имя мое давно позабыто, теперь называюсь Комурчу[25]. Если я угольщик с того дня, как встал на ноги, как же меня еще называть, если не Комурчу. Хожу по горам, жгу уголь. Все дороги, ущелья, склоны знакомы мне. Износилась вся моя обувь — да разве только она? Износилась моя надежда. И это интересно, это хорошо, что она износилась. Иначе в погоне человек потеряет голову. Так. Ну, сидишь ты, братец, на камне, точно сурок, у которого лиса унесла детенышей, увидел тебя, завернул. Каким ремеслом владеешь?
— Ремесло ушло вместе с отцом. Откуда возьму другое?
— Назови имя твоего отца.
— Батыр Сарман.
— Ну, есть, оказывается, судьба. Батыр Сарман, тот, который с сырта? Слышал, слышал о храбрости этого рано умершего человека. О-о, рассказывают, что когда-то давно твой отец и еще другие джигиты косили траву на чьем-то хашаре[26]. Какая уж там трава, не то что в Чуйской долине, видно, собирали по горсточке на зиму. В полдень укрылись все в тени, желая вздремнуть. Разгоряченный Сарман улегся, не прикрыв грудь, так и заснул. Да, и скоро, говорят, почувствовал он холод на груди. Посмотрел — вот шайтан! — оказывается, по груди ползет черно-пестрая змея в сажень длиной. Удивившись, открывает рот, бедняга. Змея, видно, решила, что это нора, начала вползать, тогда он, говорят, откусывает ей с хрустом голову, выплевывает и продолжает спать. Так ты, значит, собственный сын того самого батыра Сармана? О аллах, довелось, значит, увидеть тебя, а? Кем приходится тебе эта Калыча?
— Аяш-апа[27].
— Эх, не быть тебе человеком!.. Добавь лучше, что, называя вдовушку аяш-апа, делишь с ней ее толокно. Что нужно тебе? Нужна жена друга отца или ее дочь Бурмакан?
— Мне… мне…
— Знаю сынок. Рот твой хочет сказать одно, глаза говорят другое. Часто вижу тебя, проезжая мимо. Почему сидишь без дела? Вот посмотри на меня. Думаешь, наверное, есть ли польза от высохшего старика, — на костях ни кусочка мяса, а поранится — кровь не станет сочиться из тела. Мое имя не Комурчу — огонь. До шестидесяти добрался — с огнем не разлучился. Посмотри вон туда, на вершины скал! Смотри хорошенько. Видишь — луч солнца скользит. Так всю жизнь скользит, согревает землю, поджаривает скалы. А меня поджаривает пламя, жарят горящие угли можжевельника! Эй, что такое болезнь? Не знаю. Что такое голод? Не знаю. Такая штука, как насморк, если притронется к моему телу, поскользнувшись, упадет и сломает ногу. Есть ли большее наслаждение в этом мире, чем жечь уголь! Говорят, существует падишах, говорят, сидит на золотом троне. Этот твой падишах разве сравнится со мной? Сидел ли хоть раз у пылающего огня, поджаривая свою грудь? Где ему знать такое… В полночь проеду здесь, ожидай. Скажи свое имя.
— Серкебай.
— Мне все равно. Что имя? Родится киргиз в пятницу, — значит, Жумабай; родится в субботу, — Ишенбай; если родится в день, когда заночует гость, — Конокбай, а родится, когда варили толокно, назовут Талканбаем[28]. Годишься ты выкорчевывать пни?
— Гожусь.
— Ох, кто знает, слишком ты полный. Не таращи глаза, когда проезжаю мимо, займись чем-нибудь. Ты не знаешь, что это такое — уголь. Деньги, материя, хлеб, манты, шашлык, овца… Я не видел на свете ничего чище угля. Ну, слышал? Говорю только раз, второй не скажу. Ты приглянулся мне, хоть немало таких, что набиваются мне в товарищи. Поехал я.
Черный как головешка человек тронул быка, не дожидаясь моих ответных слов.
Услышав отхаркиванье старика Комурчу, я понял, что наступила полночь. Вскочил, протер глаза, выбежал из юрты. Комурчу уже проехал мимо, даже не оглянулся. Я побежал следом, не решаясь подать голос. Старик, пустив своего быка семенящим шагом, поднимался по ущелью в гору. За собой вел еще одного быка. Боясь окликнуть Комурчу, я двигался следом, поднимаясь все выше и выше. Комурчу даже не обернулся, не посмотрел назад. Видно, забыл обо мне. С неба покатилась звезда. Медленно вылилась на вершину вздыбившегося перед нами Мин-Текче. Казалось, гора расплавилась. Старик натянул поводья своего быка, остановился и совершил молитву, глядя в сторону Мин-Текче. Затем тихонько начал петь. Тонкий высокий его голос переливался; оседлав ветерок, веявший с горы вниз по ущелью, улетал с ним дальше в долину. Комурчу пел любовную песню. Видно, гора, видно, вылившаяся из небесной чаши звезда научили его этой песне, научили река, горный лес, острый месяц. Слышавшие со стороны могли бы принять его голос за голос девушки или даже ребенка. Мне почудилось — пел не маленький черный старичок — пел родник. Никогда прежде не слыхал я такого чистого голоса, столь чистой песни.
Почему всю мою жизнь не устаю слушать пение? Не со встречи ли с Комурчу жизнь моя обрела мелодию?
Кончив петь, Комурчу принялся говорить, его слова отчетливо доносились до меня. К кому он обращался? Ко мне? Нет. К горам? Тоже нет. К кому же тогда? Не знаю. Вот что услышал я в ту ночь:
— Ах, Зардеп! Если на свете останется одна красивая кобылица, то это — Зардеп, если на свете родится одна красивая девушка, то это — Зардеп. Тебя я увидел впервые вот здесь, под этой раздвоенной елью. Ой-ей, сколько лет, сколько веков прошло с того дня? Ну, если и не веков, так сколько засохло елей, бывших моими ровесницами. Я не засох. Я тебе тогда сказал правду, сказал, что полюбил. Ты посмеялась. Ах, как засмеялась ты тогда, будь ты неладна… Точно пламенем опалила меня!
Ты попросила, чтобы я спел. Ты не думала, что могу петь. Я запел. Ты услышала — у тебя перехватило дыхание. Я пел и уходил — ты следовала за мной. Я спускался к реке и пел. Ты осталась на круче. Не снимая одежды, я шагнул в воду. Когда меня закружило в бурлящем круговороте, ты закричала. Я исчез под водой, ты застыла на этой круче. Слезы оросили твое лицо. Но ты не полюбила меня. Просто ты пожалела. Если бы ты любила, ты побежала бы за мной с криком, ты бросилась бы в воду следом за мной.
Прошло три дня. И опять я увидел тебя здесь под раздвоенной елью. Ты взглянула — широко раскрыла глаза. Ты не поверила, что я остался жив, тебе показалось, что кто-то другой принял мой образ, ты в испуге попятилась… Я запел. Ты улыбнулась. И опять, как прежде, я спустился к реке. Ты снова осталась на круче, а меня опять закрутило в водовороте. Ты не понимала, что происходит, отчего я не погиб…
Прошло пять дней, я вернулся снова. Дождь лил как из ведра. Тебя не было у этой ели. Я запел. Ты выскользнула из белой юрты, стоявшей повыше. Я спускался к реке. Может быть, ты слышала мою песню, а может быть, и нет. Из других юрт тоже показались люди, и многие последовали за мной. Я вошел в воду — ее тогда было вдвое против обычного. Волна накрыла меня — опять я исчез. Я услышал слова воды: «Зардеп не любит тебя, для чего испытываешь судьбу?» Быстрое течение уносило меня. «И хорошо, что не любит. Хорошо, что не станет моей. Получу ее — и остыну, потеряю любовь!» — думал я, борясь с водоворотом.
Все реже мог я видеть Зардеп, но думал о ней день и ночь. Где бы ни находился, смотрел в ее сторону. Она же не вспоминала обо мне, не глядела в мою сторону. Я иссох, я устал, я изголодался, румянец мой поблек. Зардеп продолжала цвести. Все равно каждый день прохожу возле ее аила с песней. Она слушает, выйдя из юрты. Она уходит, когда я скрываюсь из глаз. Ложась спать, я произношу ее имя, встаю, повторяя ее имя. Каждый день я стараюсь приблизиться к ней — она удаляется с каждым днем. Я пламенно ее люблю — она сторонится меня, точно видит лед. Я был единственным сыном отца и матери. Мечтая о Зардеп, я отвык от дома. Куда откочевывала Зардеп, туда же следом перебирался и я. Сколько лет прошло? Наверно, очень много — я потерял им счет. Зардеп ушла, ее выдали замуж. Но я продолжал поглядывать на аил Зардеп. Через год Зардеп умерла от родов. Она осталась лежать в могиле, я остался ходить по земле, где ходила Зардеп. Вот здесь ходила моя Зардеп, здесь я смотрел на нее с ожиданием. Вот это место, вот я — Комурчу. Здесь я прохожу днем, здесь прохожу ночью. Там дальше — раздвоенная ель. Теперь не приближаюсь к ней, издали бросаю взгляд. Один ее ствол — я тех, прежних времен, другой ствол — Зардеп… Да, теперь обхожу ее далеко — все кажется, что где-то за ней с другой стороны может появиться Зардеп. Но я не даю ей встретить меня. Не знаю, я ли ее любил, она ли меня любила?.. Хорошо заниматься углем, а? Не был бы угольщиком, давно бы забыл и Зардеп, и места, где увидел ее. Вот рассказ о раздвоенной ели. Забыл ли я песню, что пел тебе, Зардеп? Разве забуду, никогда не выходит из головы. И сейчас только пел ее, рассказал о своей несбывшейся мечте. Весь мир — несбывшаяся мечта. Это хорошо — без мечты жизнь не интересна.
Ты оставила меня одного, Зардеп. И что получила взамен? Выдали замуж? Ты ушла, не испытав жарких объятий, ты ушла, не дав разгореться огню любви. Я счастлив. Всю жизнь согревает меня пламя моей любви. Каждый день я жгу можжевельник, вижу яркое пламя. Можжевельник горит? Нет, это моя любовь. Я затвердеваю, все мое тело прокаливается на огне. Ясное небо, крутые скалы, снежные пики подобны мне. Как и я, вглядываются в даль, помня несбывшуюся мечту. Я никогда не найду Зардеп, они не отыщут меня, случись мне понести кару и умереть. Меня знает ель, знает кайберен[29], знают звезды на небе, — все привыкли ко мне, все скучают, не видя меня. Скалы оживляются, если жгу среди них уголь. А ночью, когда ложусь отдохнуть, приходят облака, обволакивают меня. Или облако, приняв образ Зардеп, кокетливо смотрит с того хребта — смотрит, не показывает свое лицо…
Вот что узнал я ночью, слушая Комурчу. Я удивился. Я обрадовался трогательному богатству жизни этого ссохшегося человека. Только тогда я понял — ему действительно перевалило за шестьдесят. И, поняв, я стал ругать самого себя. Я думал об Аруке. Аруке — это была жена, достойная похвалы. Словно падающая звезда, сверкнула на небе и исчезла, где, когда теперь увидишь ее… Любил ли я ее? Не знаю. Но понимал, что такое любовь. Вот этот старый человек рассказывает о тайне любви. Человек, испытавший любовь, оказывается, твердеет. И хотя он становится твердым, но не стареет. Он закалился в огне любви.
Комурчу тронул поводья, бык зашагал в гору.
— Кто здесь?
— Я…
— Садись на заднего быка.
Он не посмотрел на меня, не оглянулся. Продолжал бормотать что-то себе под нос. Кое-что из сказанного я понимал, но многое — нет.
Я взобрался на быка. Бык как будто зашагал веселее, рысцой догнал переднего, поравнялся с ним. Я приветствовал старика. Он не ответил. Подумал, что он не расслышал, я повторил приветствие. Он опять не принял мой салам, он говорил сам с собой:
— Когда-то был и голос, была молодость — все осталось в этом ущелье, в этих горах. Все дают горы, все забирают горы. Гора — она подобна человеку, у нее тоже есть детство, молодость и старость. Ох, сколько скал разрушилось на моих глазах, сколько родилось обрывов! Разваливаются, разрушаются, нарождаются снова. Что видели сегодня, завтра уже не увидим. Таков этот мир. Я забыл, сколько лет уже не сплю. Много лет… Нет большего счастья, чем сон. И сон мой забрала Зардеп. Семьи нет, забыл, что такое мягкая постель, — задремлю верхом на быке или приткнусь возле камня — вот весь мой сон. Нет у меня и смеха, его тоже забрала Зардеп. Все забрала с собой, не смогла взять одну только любовь, не смогла сломить мою волю… Человеку, который не спит, подходит занятие угольщика. Нет друга выше огня, я не видел ничего храбрее огня. Он греет, он дает тебе силы, он поет тебе, — он твой товарищ…
Киргизы говорят, ночь принадлежит бедняку. Бедняки — это мы.
Ветер и Комурчу говорят оба сразу. У обоих много слов. Эти слова кажутся мне сказкой. Я благодарен старику. Я восхищаюсь его энергией. Увидеть столько горя и совсем не состариться! Я сравниваю себя с ним. Посмотреть — будто он ненамного старше меня. Я думаю, что бы я сделал, полюбив без ответа. Разве бы вынес горе достойно? Хорошо, что я никого не полюбил. Я думаю, что лучше совсем не любить, если любовь будет всю жизнь давить, мучить, если сделает человека одиноким, высушит, как Комурчу. Я понимаю — для любви нужно иметь большое сердце.
Красный, красный, красный овраг, Ты родился у меня на глазах. Здесь оборвалась девичья жизнь, Здесь рыдало бедное сердце. Зеленый, зеленый, зеленый овраг, С грохотом обрушились склоны твои. Когда улетела молодая жизнь. Горько рыдала моя душа. Ель, подпирающая небо, Обвенчалась ты с ветром и засохла. Когда красавица осталась в земле, Плач поселился в моей душе. Если над камнем поднимается цветок, Вглядываюсь я, думая, не ты ли, Зардеп? Придавлен камнем засохший пень, Думаю, — не я ли, потерявший счастье? Если поднялась на склоне молодая трава, Смотрю с надеждой, думая, не ты ли, Зардеп? Если на траве одинокий камень, Душа моя ноет, — не я ли…Это песня Комурчу, это песня влюбленного, это моя песня. Я не любил. И хотя я не любил, все же та песня — моя. Когда мы корчевали пни можжевельника, когда разжигали огонь, когда сидели, глядя на пламя, когда везли уголь, Комурчу пел много раз. Он пел, а я не уставал слушать. Главное было — не его тонкий высокий голос, главное было — сама песня. Эту песню слушал не только я — и огонь, и река, и скалы. Пернатые умолкали, слушая песню Комурчу. Ели и можжевельник задумчиво кивали. Эту песню слушали ушедшие из жизни, ее слушало само время. Да, правда, само время, приостановив свой бег, слушало Комурчу.
Я забежал немного вперед…
Мы добрались до места под утро. Светало не на востоке, а прямо над головой, над вершинами двух скал, сблизившихся настолько, что казалось, они вот-вот обнимут друг друга. Рассвет лился по скалам, по стройным стволам елей, смешивался с белой струей ручья, прыгавшего по камням.
Комурчу, как только мы сошли с быков, взвалил на плечо крепкий тяжелый молот, подхватил топор и направился к лесу. Быки остались щипать траву, я последовал за стариком. Если он приближался к ели, становился похожим на ель; приближался к камню, становился похожим на камень. А когда подошел к пню — будто сам превратился в пень.
Торчащие корни можжевельника наблюдали за ним, высунувшись по пояс из-за серых камней. Ждали. Комурчу, видно, давно уже прикинул, давно рассчитал в душе, какой пень и когда выкорчевывать. Сейчас прямо подошел к одному и остановился. Пень ожидал, забившись в трещину посредине большого белого камня. Старик пошевелил губами, что-то бормоча, будто упрашивал какую-то силу, затем размахнулся молотом — пень качнулся, вывалился, покатился, оказался близко к тому месту, где мы оставили быков. Что это, сила или сноровка? Каким образом старик выбил пень одним ударом? Все для меня — загадка.
Я внимательно стал смотреть. Если не приглядеться, и не поймешь, с какой силой он бьет. Однако когда его молот опускается, пень, который нужно выкорчевать, начинает качаться, будто бы сам по себе, будто сама скала выталкивает его.
Когда он бил по какому-нибудь пню, разрушался и камень. Камни взлетали вверх, рассыпались, исчезали: оставались только пни, которые я оттаскивал вниз. Старик совсем не уставал, не потел, не отдыхал. И пока он корчевал пни, не умолкал все тот же его голос, все та же песня.
Он учил работать, сливаясь воедино с камнем, со скалой, учил быть сильным, учил не знать слабости.
Пролетали дни, складывались в жизнь. Изменились мы, изменилась гора. Мы боролись с горой. Мы разжигали огонь, разжигали сердце, разжигали надежду. Мы разжигали огонь днем, ночью, на рассвете, в сумерки. На огонь, который мы разжигаем, смотрит скала; если нас нет, если нет огня — скала скучает, чувствуя наше отсутствие, глядит выжидающе, мрачно. Ель, можжевельник, рябина, горы и камни — все спят, никогда не спит Комурчу. День и ночь он в движении, не зная усталости; он кажется мне хозяином, душой этого мира; иногда он, маленький, еле заметный, сидит возле костра, нещадно подставляя себя пламени, я вижу — еще немного, и загорится, как можжевельник, но ему хоть бы что, даже не потеет.
Мы сваливаем выкорчеванные пни в глубокую яму и разжигаем огонь. Смолистое дерево потрескивает, взлетают искры, лепятся по склону скалы. Кажется, и скала вспыхнет сейчас ярким пламенем.
Потом пламя гаснет. Мы приносим снег с ближайшего ледника, забрасываем, пригашиваем огонь, тлеющие угли сверху закидываем землей. Кажется, будто огонь умер, хороним его. Скала хмурится. Нет, огонь не умер, дерево тлеет, превращается в уголь.
Погрузив на двух быков восемь мешков с углем, Комурчу уезжает. Куда ездит, что делает с углем, я об этом не спрашиваю, он не рассказывает. Иногда отправляется ночью, иногда — днем. Вообще ничего не боится и обо мне думает, что не боюсь тоже. Он не разговаривает со мной. Когда у него хорошее настроение, сидя возле огня, поет. Его песня — загадка. Каждый день его голос звучит по-новому, песня звучит иначе. Кажется, будто не Комурчу — каждый день имеет собственную песню. Иногда вижу: поет не он — сам огонь поет, старик превращается в огонь. Вижу его посреди огня, думаю: значит, огонь и есть удивительный этот человек?
Он уезжает с мешками угля, а когда возвращается, я пирую: он привозит хлеб, сахар-нават, появляется и другая еда. Он не говорит, чтобы я ел, просто ставит так, чтобы я видел.
Быстрая, быстрая, быстрая река, Меня уносит ее быстрое течение, Пламенеющий, пламенеющий, пламенеющий огонь, Я часть его пламени. Много я прошагал, нагрузив на себя мешки с углем, Превратился я в уголь, сделался черным. Заплыв далеко, Хочу превратиться в поток, слиться с рекой… —так поет он иногда.
Комурчу уезжает, я остаюсь. Работаю один. Устаю один. Я тоже, как Комурчу, пытаюсь петь, но у меня не получается, как у него. Если даже пою его песни, скалы не слушают, огонь не подпевает мне. Почему так, не понимаю.
Мне хочется поговорить со стариком, но я боюсь. Никогда он не запугивал меня, однако я не смею подойти. Я желал бы, чтобы он никогда не сердился, чтобы всегда оставался таким же. Каким? Мне кажется, если старик рассердится, не только у меня, даже и у скалы не будет больше покоя, — столько пламени собрано в нем.
— Переселим Калычу пониже, — сказал он мне однажды.
Я так и сделал. Сам он ни разу не вошел в ее юрту, а проезжая мимо, не отвечал на ее приветствие, как и на мое тоже. Калыча не обижалась на него за это.
Прошло время, и он дал мне денег. Около тридцати рублей. В те времена на рубль можно было купить много бязи, за три рубля отдавали барана. Деньги я отнес Калыче.
Однажды, загрузив яму пнями, мы сидели возле огня. Комурчу засмеялся. Засмеялся беззвучно, и я увидел — он стареет прямо на моих глазах. Оказывается, ему нельзя смеяться. Видно, он знал об этом и потому никогда не смеялся. Будто сжали, измяли, сморщили его…
— Вы стареете сейчас, да, Комурчу-ата? — спросил я.
— Не знаю. Что такое старый? — Это — когда морщины покрывают лицо, седеют волосы, сгибается спина, выпучиваются глаза? Когда худеют, теряют силы? Ничего такого нет у меня. Скажи теперь сам, разве старею? — отвечал он, нахмурившись.
Когда смех сбежал с его лица, опять он стал казаться молодым. Помню, один старик из моего аила говорил, что смех молодит людей, а этого, значит, наоборот — старит. Получается, чтобы он состарился, нужно его почаще смешить?
— Почему вы мало говорите? — спросил я.
— Чтобы долго жить.
— Разве жалеете о дне, когда говорите много?
— В тот день я старею.
— Для чего же тогда язык?
— Чтобы человек скорее состарился.
Я совсем не понимал его слов.
— Что интересного видели вы в своей жизни?
Угольщик поднял голову и задумался. Взглядом отыскивал что-то далекое. Глаза его широко раскрылись, постепенно затуманились. В тот миг, когда затуманились глаза, губы его зашевелились:
— На каждом шагу горы таят загадки. Но самая большая загадка — человек. Да, видел, слышал интересное. Рассказать, что слышал, рассказать, что видел? Прежде — что видел сам. Ты не раскрывай рта. Слушай. Не задавай вопросов. Поверишь ли, нет, как хочешь. Расскажу не для того, чтобы ты поверил. Не тебе, самому себе расскажу. Говоришь, я неразговорчив? Нет, говорю много. С кем? Разговариваю со скалой. Она не прерывает мой рассказ. Она не отвечает, не спорит, не соглашается, — задумавшись, остается при своем. Вот я такой… Что я видел… Было начало весны. Я искал пропавшего своего быка. Куда только не ходил! В конце концов поднялся к перевалу. Кто-то развел огонь и сидит. Котел полон мяса. Не мясо, а одно белое сало. Уже сварилось. Я был голоден. Есть хотелось до смерти, с жадностью гляжу на котел. Я приветствую того человека. Он не отвечает. Не то что не отвечает — не обернулся даже. Вижу — перед ним блюдо. Он выкладывает на блюдо все белое сало из котла. Он хватает его и ест. Я стою и жадно смотрю. Я думаю, что это за человек, — разве бывало такое, чтоб рожденные от киргиза не поделились своей едой? Он будто не замечает меня. Спустя небольшое время спрашивает: «Хочешь есть?» Я без слов киваю головой. Он протягивает в своей пятерне большой кусок сала, просит меня открыть рот. Я открываю. Он сует сало мне в рот… Я глотаю, пройдя в глотку, оно застревает. Никак не могу проглотить, стоит колом.
Лишь тогда я понял, с кем встретился на перевале. Это же Чилде[30]. У всех отбирает жир: и у скота, и у человека, и у пернатых… Когда я увидел его, он, оказывается, ел собранное с каждого сало. Вспомню его угощенье — до сих пор неприятное чувство во рту. Подобно этому салу в глотке, застряла в груди у меня мысль о Зардеп, застряла и точит… Может, был на самом деле Чилде, может быть, это моя любовь — откуда мне знать?.. Это то, что я видел. Не веришь — не стану тебя уверять. Ты не поймешь: человек, который не любит, не поймет моих слов. Умеющий любить человек остается горячим. Ничто в этом мире не может его охладить. Пусть соберутся хоть десять Чилде — все равно не вызовут дрожь.
А теперь расскажу о том, что я слышал. Эти слова я слышал из собственных уст человека, которого видел. Один год дружил я с охотником. И он живет среди гор, и я. Я неразговорчивый, он разговорчивый. Он рассказал: «Я исходил горы, я питался тем, что давали горы. Год шел за годом, месяц за месяцем. Ни дня без добычи. Однажды мы шли по ущелью — рядом со мной был капканщик Бакир. Борода его спускалась до пояса, это какое-то чудо. Точно джигит, управлялся с капканом в свои семьдесят лет. Он сказал: здесь водится пятнистая косуля, никогда не попадется в капкан, не дается в руки; пожаловался, пожалел о своей неудаче. Я обещал ему подстрелить пятнистую, если он выгонит на меня. Стал Бакир выгонять косулю, она выскочила из кустарника. Я поднял ружье, прицелился, вижу — на прицеле и пятнистая, и Бакир. Я не выстрелил, опустил ружье. Объяснил Бакиру, сказал, что если б выстрелил, то убил бы и его, не одну косулю. Не поверил Бакир, усомнился в моем охотничьем искусстве. Прошло два дня. «Эй, Ташмат, косуля попалась в мой капкан», — сказал мне он, пригласил отведать свежей печенки. Отрезав кусок печени, он прежде съел сам. Не съел — кусок застрял в его горле. Ни туда, ни сюда. От этого он и умер. Что это было? Кто знает…»
Зардеп подобно куску печени пятнистой косули застряла во мне на всю жизнь. Но я не умер. Я не умру. Я родился бессмертным. Меня не смогла убить ночь, не смогла убить река… Вот посмотри-ка на этот камень, что лежит на ребре. Узнаешь? — спросил Комурчу.
Я посмотрел. Он шайтан — что за диво? Отец? Мой отец лежит на боку! Обычно лежал так, когда усталый возвращался из похода в чужие края. Ведь мы похоронили отца там, на сыртах, а он, оказывается, лежит здесь, превратившись в камень! О таком бессмертии говорил Комурчу?
Отец посматривал на меня исподлобья. Во взгляде, обращенном ко мне, — насмешка, обида… Потом вдруг поднялся, будто хотел мне что-то сказать. Я испугался. Я обернулся к Комурчу — вижу, серая скала очень похожа на Комурчу. А может быть, и на меня? Откуда мне знать? Да, все мы похожи на скалу…
Вот таким был Комурчу. Много говорил для меня — старел из-за меня… Сказать по правде, Комурчу сделал меня человеком. Он открыл мне глаза. Он показал мне тепло огня, научил меня песне огня. Я научился, когда нужно, превращаться в камень, лежать, подстелив под себя камень. Подобно скале, закалился в огне. От него я перенял вкус к песне…
Многие не знают тепла огня. Сама жизнь, само существование есть огонь. Ох, если б нашелся человек, если б видел кто, как мы с Комурчу, разведя огонь, сидим вдвоем, поглядываем по сторонам, думаем. Мы оба — два разных мира. Наши глаза — как озера. Нет ничего чище, интереснее, богаче огня. За всю жизнь я не смог превратиться в огонь.
— Вечерами уходи спать в юрту. Тебе нужно спать. Не подражай мне. Я человек, потерявший надежду заснуть, у меня уже не будет дома — потерял надежду заснуть в доме. Женись. У тебя бьющееся сердце, но без огня. Если женишься на девушке с пламенным сердцем, через десять лет ты сделаешь ее сердце своим. Иди к юрте. Замечаю, в последнее время сон твой стал нарушаться. Так и я лишился сна. Если я засну, я умру, а ты умрешь, если не будешь спать. Много не говори девушке, а больше показывайся. Привыкнет. Ты счастливый, потому что простой. Я же другой, несчастливый. Видишь — в юрте Калычи свет. Иди туда, тебя ждут, — так сказал мне Комурчу.
Я спустился к юрте. Хотя мы с Комурчу не уходили очень далеко, я давно не видел Калычу и Бурмакан, — обе соскучились по мне, встретили с радостью. Я поздоровался с каждой за руку. С той ночи, когда я надевал черное платье, второй раз прикасаюсь к ее руке… Я посмотрел ей в глаза. Глаза ее заблестели. Но на лице ничего не отразилось. Однако я понял — сердце девушки ждет джигита. Кырбаша или меня?
Теперь, когда над вершиной скалы занимался рассвет, я ждал, я надеялся, что принесет мне счастье… Однако разве может знать человек, обо что споткнется на следующем шагу; то ли о счастье, то ли о несчастье…
Однажды вечером, спустившись к юрте, я услышал плач Бурмакан. Сердце мое чуть не выскочило, я подбежал скорее, — Бурмакан плакала, обняв голову матери.
Кто мог ожидать, что внезапная смерть подкараулит эту крепкую женщину…
Правда, в последнее время Калыча жаловалась, что у нее кружилась голова, что она задыхается. Однако не только я, но и Бурмакан не придавали значения, думали, что все это пройдет… Калыча забивала на новом месте колышек — привязывать жеребят, упала ничком, да так и не поднялась…
Да, умерла бедная Калыча. Юрта утратила прежний облик. Разве только юрта? Обе кобылицы стоят неподвижно с утра до вечера, глядя в сторону юрты. Ждут, что выйдет хозяйка. Откуда им знать, что Калыча лежит под тем бугорком земли у подножья горы. Когда Бурмакан или я пытаемся их доить, кобылицы прижимают уши, иногда кусают нас, не хотят давать молока. Если прежде молока набиралось почти два ведра, то сейчас от силы одно. Комурчу посоветовал доить их пока что в одежде Калычи. Кто бы из нас двоих ни подходил к кобылицам, надевал черное платье Калычи — то, что она носила во время траура… И правда, услышав знакомый запах, кобылицы тихо ржут, легко поводя мордами, обнюхивают платье, радуются запаху Калычи, забывают свою тоску. Затем, прикрыв глаза, стоят спокойно, безмятежно, и молоко льется свободной струей…
Черное платье… Теперь каждый день надеваю его, каждый день закрывает мне свет давняя ночь на Сон-Куле. И сколько бы я ни страдал из-за Бурмакан, как бы ни тянулся к ней сердцем, едва надену черное платье — пыл мой исчезает, не могу видеть ее. Не потому, что перестаю любить, наоборот… все больнее чувство вины. Почему я тогда пошел? Почему поступил хуже собаки? Почему не понимал нежности девичьего существа? Почему не подумал тогда, что она такая же несчастная, как и я? Теперь не могу посмотреть Бурмакан в глаза. Сердце жаждет сближения с ней, — черное платье стоит между нами, отталкивает меня от нее. Вижу волостного… накинулся на девушку точно волк… Эх, как нехорошо… И вот теперь я страстно хочу жениться на этой самой Бурмакан. Я знаю, что она не девушка, она думает, что я не знаю. Она не хочет меня обманывать. Иногда, сидя вдвоем у привязи для жеребят или в юрте, мы разговариваем. Как бы между прочим, я замечаю, что девушки бывают разные — такие, этакие, хвалю ее твердость, ее устойчивость. Тогда она хмурит брови, закусывает губу, отворачивается. Она думает, я не знаю, почему она так смущена. Я не только знаю… я сам виноват. Вот тогда я связал навсегда свой язык. Она осталась высокой, недоступной скалой, а я — копошащимся существом у ее подножья…
Когда хоронили Калычу, собрались ее родичи, шумели о том, чтобы забрать Бурмакан, чтобы перенести ее юрту. Вот тогда я увидел силу старика Комурчу. Он открыто выступил против десяти, тридцати.
— Вы не переселите ее, пока я здесь, — не дам переселить. Калыча — член семьи, которая ушла вон на те сырты. Вы только что узнали? Ее дочь Бурмакан осталась на попечении человека с тех самых сыртов. Муж Калычи и отец Серкебая были закадычными друзьями. Эй, люди! Духи предков смотрят сверху. Если вы чего недомыслите, духи предков вас проклянут. То, что соединил бог, нельзя разделить человеку. Бывает счастье, поддерживаемое счастьем, бывает счастье, поддерживаемое несчастьем. Калыча умерла, и если прежде они оба, — Комурчу указал на нас с Бурмакан, — были детьми, избегавшими друг друга, то теперь они — одна семья. Судьба вот таким образом соединяет некоторых. Тот, кто захочет разделить их, сам окажется разделенным. Смерть не предупреждает человека о своем приходе. Пришла, не предупредив, забрала Калычу. Нашелся ли такой смельчак, которому удалось обмануть смерть? Сегодня вы шумите, спорите из-за Бурмакан, а знаете ли, что завтра будет с вами самими? Не горячитесь понапрасну. Для Серкебая нет ровни лучше, чем Бурмакан. Эта юрта принадлежит им двоим. Не зарьтесь без толку на кобылиц, оставшихся после умершей: они принадлежат Серкебаю и Бурмакан. Так будет справедливо, — вот что сказал Комурчу, грозно поглядывая на собравшихся. Кто-то хотел было возразить, и тогда он, наклонившись с красного быка, схватил куст акации, потянул — выдернул вместе с землей и корнями.
Да, в тот день я увидел, кто такой Комурчу: не маленький черный старик — настоящий великан. Понявшие его силу родичи Калычи потеряли надежду. Сжавшись, все пустились в обратный путь. Так Комурчу защитил меня.
Люди разъехались, уехал и угольщик. Все направились в низовье, Комурчу повернул к горам.
Вскоре после их отъезда налетела буря. Ветер дул с четырех разных сторон. Небо почернело, загремел гром, в ушах звенело от близких ударов грома. Казалось, двигались и сталкивались горы, с треском разваливалось, горело небо. Крупные редкие капли били по земле, затем дождь усилился. Каждая расселина, ложбина, щель наполнилась водой. По скалам, горам и ущельям, по впадинам, лощинам, по руслам рек понесся серо-красный поток. Поток все усиливался, он устремился вниз, будто хотел догнать уехавших, настичь, подхватить, унести… Горы и скалы грозно ворчали, каждая капля дождя пела по-своему. По руслу большого ущелья вода несла можжевельник, ель, рябину, боярышник, шиповник, жимолость… Гроза била сразу в две, в три, в девять скал, грохоча и гремя, ударяя молнии об молнии, скалу о скалу, била, стегала, хватала за грудки, сотрясала мир…
Скала размякла — что было с Комурчу?
Он разделся, он подставил себя дождю.
Замычал бык. Не вытерпев, спрятался под каменный выступ.
Комурчу наслаждался, он смотрел на небо, вытянув тонкую шею, его горячее тело словно исходило огнем, пылало, не охлаждалось, ждало и не получало прохлады…
Дождь разозлился, дождь боролся, все усиливался, сгущался, бил крупными каплями. И это нравилось Комурчу; довольный, он радовался дождю. Облако слилось с туманом, слилось, перемешалось; казалось, вечно останутся под ущельем, замрут на тысячу лет. Комурчу закричал что есть силы… Сказал что-то дождю? Позвал кого-то? Он и сам не знал, просто радовался, наслаждался — сколько уже не видел подобной стены воды. Голос его прозвучал сильно и ясно, — да, ливень открыл его голос! Скала разверзлась, посыпались камни, ворвались в бурлящую реку. Мысль Комурчу, его голос тоже вливался в бурлящий поток, их уносило водой вместе с камнями, елями, можжевельником.
Козерог сполз по склону вместе с потоком. Достиг скалы, где стоял Комурчу, отряхнулся. Посмотрел, печально качнул головой, — он словно бы говорил: «От меня ничего не осталось». Комурчу подошел и тихонько погладил рога. Козерог не стал убегать — может, принял его за такого же козерога, как сам? Склонив голову, он подставил рога человеку, — Комурчу повел его за рога, спрятал в пещере под скалой.
Потом Комурчу запел. Голос его звучал теперь звонко, красиво, перекатываясь от скалы к скале. Сало, которое дал когда-то Чилде, застрявшее в его горле, теперь растаяло. Однако боль сердца, тоска по Зардеп не растаяла, не ушла…
Погасло пламя костров, гора охладилась, ели и можжевельники замерзли. Не замерз лишь один Комурчу. Скала глядела на него удивленно, с досадой: огромная, доставала небо, первая встречала луч солнца, но не могла устоять перед ливнем, слабая рядом с Комурчу…
Ему мало было дождя, он подставил свою грудь бурлящему в ущелье потоку, он испытывал свою силу, он не морщился от ударов тяжелых камней в потоке. В эти мгновения он жил будто в песне — стойкой, бессмертной, сверкающей. Казалось, весь край засветился, словно под солнцем. Казалось, у гор, у скал появились крылья, и они устремились вверх, к небу. От взмахов их крыльев родилась песня. Небо, скалы и ветер — все слилось воедино. Все они начали таять, все исходили дождем. В местах, забывших о влаге, вздулась река. Все потекло, все обновлялось, чистилось, мылось. Все пело:
Дождь полился, точно песня, дождь полился, Камни подхватило водой, точно песня, камни подхватило водой. Выстрел молнии оглушил скалы, Огонь растопил скалы, огонь растопил. Небо обменялось огнем с землей, Гром гремит, точно молот по наковальне. Молот ударил, заново сотворяя мир, Огонь растопил скалы, огонь растопил, Взмахнул огненными крылами… Засверкал, переваливаясь, кремень величиною с юрту. Это любовь на скале разгорелась, расправила крылья. Взлетела высоко, сверкая искрами каменного огня. Все полилось, все смешалось в одно в этом мире, Сила перелилась через край, не вместившись в реку. Сила перелилась, испытывая непокорное сердце, Человек выстоял, не испугавшись потока и ливня. Человек стоял, подставив свое сердце потоку, Подняв руку выше скалы, выше неба.Чья это песня? Солнца, горы? Реки или дождя? Не знаю. Может быть, пело мое сердце?
Наутро, после дождя, когда засверкало солнце, пришел Комурчу. Это он рассказывал о ливне, о прошедшем дне, о потоке в ущелье. Это он объяснил непокорность, силу, храбрость и вдохновенье, объяснил красоту человека…
Что тогда было с нами в ливень и бурю — с Бурмакан и со мной?
Мы привязали обеих кобылиц, оставили их под защитой елей. Мы забили колышки вокруг юрты, мы собрали все куски веревки, все арканы, — мы постарались как следует укрепить наш дом. Когда налетела буря, Бурмакан и я вместе обмотались веревкой от тундука юрты и сидели, крепко обнявшись, слившись в одно целое. Мы сделали это, защищая себя от бури, нас заставили дождь и ветер… Своим весом мы удерживали юрту… Едва-едва иногда налетевший вихрь приподнимал ее вместе с нами.
Заржала кобылица. Что случилось? Камнем ли ударило, замерзла ли под дождем или унесло жеребенка? Может, просто напугалась? Может, просит помощи у людей? Пойти и посмотреть невозможно. Если мы с Бурмакан разожмем объятия, нашу юрту мгновенно сдует, поднимет в воздух, подхватит ветром, бросит в ущелье, в поток, смешает с камнями, водой, сломанными деревьями, — исчезнем тогда без следа… Перемешаемся с потоком…
Мы крепко держались друг за друга, наши объятия слились, наши лица соприкасались, жар одного передавался другому. Я не знаю такого горячего тела, как у нее, такого мягкого тела, как у нее…
Кобылица заржала тревожно, я рванулся было на помощь — ветер сразу приподнял юрту. Бурмакан потянула меня к себе. Ржание кобылицы… Кобылица звала меня к себе, Бурмакан к себе. Они обе просили у меня помощи, для обеих я был спасеньем. Бурмакан не отпустила меня.
Снова пронзительно заржала кобылица, за ней жеребенок. С шумом налетел поток, затопил нашу юрту, снаружи ударило камнем, еще, еще… Теперь уже и жеребята, и кобылицы призывно, испуганно ржали. И в юрте, и снаружи — кругом стало темно, как ночью. Потом опять посветлело… Оказалось, было солнечное затмение. Мир будто бы умер, затем ожил снова. Дождь стал затихать. Кобылицы тихо заржали, призывая жеребят, те весело отозвались. Постепенно все успокаивалось в природе. Бурмакан притянула меня, обняв крепче прежнего. Но теперь уже не из страха перед дождем и ветром, потому что нужен, желанен был я, крепкие объятия джигита. Да, пришла ее пора, ее зрелость, пришло желание новой, другой, горячей жизни… Ей хотелось согреть, осветить темную юрту чистым чувством… Хотелось перейти с одного берега жизни на другой, широкий и счастливый… Она чувствовала вкус молодости…
Бурмакан не сказала ничего — ее объятие, ее стремление ко мне говорило яснее слов… Рука ее становилась мягкой, как шелк, а дыхание — как огонь… Кобылицы перестали ржать. Ветер и дождь утихли, поток унялся… Жизнь возродилась. Я услышал — губы Бурмакан коснулись моей шеи. Губы ее прижались, обдали жаром, шея моя полыхнула огнем. Я крепко сжал Бурмакан… Затем… Я не знаю, где мы очутились, где-то в другом мире… Мы находились в мире настолько чистом, прозрачном, счастливом… Мы месили себя, мы соединяли наши сердца, обновляя, растапливая, создавая заново. Под руки нам подвернулась кошма, одну ее половину мы постелили, другой укрылись. Не было сейчас в мире такой силы, которая заставила бы нас замерзнуть, унесла бы своим течением; не существовало такой силы, которая разделила бы нас… Мы стали одно целое.
Рассвело. Кто открыл тундук юрты? Ветер? Или Комурчу? Кто бы ни открыл — через это отверстие я увидел небо, вершину скалы: солнце покрыло ее лицо поцелуями, не оставило холодного, темного уголочка… В это мгновение рука Бурмакан обвила мою шею. Она целовала мое лицо, точно луч солнца… Мир солнца, мир Бурмакан…
Снаружи послышался голос. Нас звал Комурчу.
Комурчу звал нас. Звал нас к горам, к траве, к елям, к солнцу. Бурмакан и я почитали его как отца, как жизнь, как родину. Мы поднялись, мы ополоснули лица, мы вышли из юрты. Комурчу сидел на плоском красном камне. Сегодня он еще сильнее, увереннее прежнего — ждал нас с видом хозяина этих гор… Казалось, и ростом сделался выше, превратился в богатыря.
— Обратите свои лица к солнцу, поклонитесь солнцу! — вот что сказал нам Комурчу.
Мы, повинуясь его словам, поклонились солнцу.
Так Комурчу совершил обряд бракосочетания.
Да, солнце назвало нас мужем и женой…
* * *
Прошлое спрашивало меня — я рассказал, не утаивая ничего. Дорогой Серкебай-жар! Сколько дождей омывало тебя с той далекой поры, сколько ветров овевало, опаляло солнце, бороздили дороги… Ты тогда был один, Серкебай-жар. Теперь, глядя на десяток оврагов за твоей спиной, замечаю — до чего ж изменилась земля! Изгрызенная временем, покрылась морщинами оврагов… И только? Склон Кара-Тоо разрушился… И только? Это ведь закон природы… Что потеряла земля? Ничего. Но вот когда развалился старый мир!.. Старый мир разрушился не так, как этот овраг, как горные склоны, — разбился вдребезги, разлетелся на мелкие кусочки, подобно стеклу, упавшему на камень. Вместо него родился новый мир. Этот мир был рожден на мое счастье и на счастье тысяч подобных мне людей. Ему дали имя — мир Октября.
Все это я должен был рассказать — я рассказал. Что осталось еще? Не сосчитать. Я должен еще рассказать о полете вот этих птиц, должен рассказать о новых постройках, которые видны отсюда, и о ферме на том берегу. Время меняет все… А ласточки? Они будто те же, что и в восемнадцатом году, когда мы с Бурмакан стали мужем и женой… Ну-ка? Посмотрю я получше. Крылья их по-прежнему быстры — все так же проворно снуют в небе, Тогда я сравнивал с ними свои мысли… В мечтах улетал далеко… Так же быстро, как они… Мне уже много лет, я состарился. Но мечты мои — они по-прежнему со мной… Многое свершилось… многого добился, но мысль моя требует большего. Однако старость неуклонно тянет к себе… Сколько поколений киргизов видел этот овраг? И у каждого были свои стремления, свои предания, свои песни. Песни обновились, стремления стали глубже и сильнее, думы взлетели высоко… Сколько бы я ни подстегивал себя, как бы ни старался держаться, не подавать вида — я состарился, отстал от времени… Пришла пора уступить дорогу молодому поколению. Я действительно устал… Сколько бы ни старался сравнивать себя с Комурчу, как бы ни подзадоривал себя — все же он был создан из другого материала. Если бы, подобно мне, работал председателем, — жаловался бы на усталость?
Где остался Комурчу? В тот год, когда я организовывал колхоз, он приходил однажды к нам домой, переночевал, и после этого я уже не видел его. Может быть, умер? Нет, не должен был умереть, он ведь рожден бессмертным. Умирают подобные мне… Смерть боялась его. Кто знает, может быть, он и посейчас гасит уголь?..
Его уголь… Его песня… Его огонь… Бессмертен ли огонь?
Как благоухают цветы и травы! Запаха цветов того, восемнадцатого года, не помню, — высматривал, искал не цветы, а коренья, рассчитывая насытить желудок. Поеду-ка я на то стойбище, где обычно ставила юрту Калыча. Правда, стойбища там уже нет, на этом месте — огромная ферма, я сам отдал распоряжение построить ее. Пока строили, сколько раз приезжал сюда, каждый раз вспоминал… Давние времена…
Кто это летит? Белый… Уж не ястреб ли? Направляется к Серкебай-жару… Как сверкают крылья в закатных лучах! Нет, не к оврагу, куда-то выше… Видно, зимовал здесь. Ястребы еще не прилетели, их надо ждать осенью, когда наступят холода. Появятся перед отлетом перепелок. Говорят, они прилетают, чтобы прогнать этих самых перепелок…
А что сталось с Кырбашем? Жестокий он был все же… Ладно, подрались с ним из-за девушки — такое случается. Зачем же угонять весь скот? Хотя… я ведь перестал быть ему другом, сделался хозяином. Но, видно, он тоже не разжился…
Нет, все же сейчас никуда не поеду, останусь здесь. Переночую у Серкебай-жара — так и отдохну. Увижу ночь, какие видел вдвоем с Комурчу…
Интересная, а, жизнь? Если вспомнить каждый год из прожитых здесь — каждый по-своему повесть.
Двадцать первый год… Реформа о земле, о воде… Красный бык… синий плуг… Горами поднялась пшеница, которую высыпали на открытую площадь посреди зимовья. Это было зерно, взятое из кулацких закромов. Хотя власть раздавала зерно бесплатно, многие бедняки вроде меня боялись взять, боялись — вдруг вернутся хозяева, с живого сдерут кожу… Я тогда не испугался, взял, очень много взял… Мне достался бык, достался плуг…. Плуг и весна — для меня с той поры всегда вместе… Вспахал свой участок. До сих пор нос мой с жадностью чует запах свежей земли из-под плуга. Вот тогда я душу отдал земле, тогда сделался крестьянином. Если прежде ходил за овцами по склонам, по камням, то теперь окунулся в дыхание земли. Своей рукой разбрасывал семена. Семена, самые настоящие семена, — я разбрасывал пшеницу, крупную, как ягода дикой вишни, на вспаханное поле. Нет прекраснее учителя, чем земля, а? Когда она взошла, моя пшеница, выстрелила из земли зелеными иголочками, я смотрел с утра до вечера не отрывая глаз — не мог насытиться. Брошенное, потерянное — вернулось! Надежда, страстное желание лучшей жизни вели меня. Из скотовода я превратился в крестьянина. Мысли мои обратились к земле. Земля вложила в меня свою безмерную силу — в мои надежды, мои желания, это она сделала меня сильным. Я оценил запах земли. Я нашел в ней запах солнца. Я стал жить по-новому. Я, точно со стариком, советовался с землей, разговаривал с ней, спрашивал обо всем. Земля — она добрая, ничего не пожалела для меня. Колосья, переливаясь, волнами ходили под ветром. Я с кетменем в руках показывался то на одном, то на другом крае поля. Когда уставал, ложился и спал в пшенице. Колосья шуршали под ветром, шептались, разговаривали — совсем как мы с Бурмакан. Колосья пели песню земли. Эту песню я полюбил на всю жизнь. От земли я воспринял любовь. Земля любит человека, она не жертвует человеком. Что еще в природе столь же умное, столь же ласковое, как земля? Я сравнивал себя с землей. Я старался выдержать все, как и земля. Я хотел перенять от нее цветение, щедрость, благодарность, широту. Она желает только давать. То, что ты доверил ей, она, не потеряв и сохранив, возвращает тебе с лихвой. Я тоже так делал… Я тоже так старался относиться к людям… Разве это плохо? Пусть все люди будут жить, как я. Вот это и называют: «Жить по-серкебаевски»…
Смотри-ка, опять белый ястреб… Летит к Серкебай-жару. Оказывается, птицы живут там до сих пор… Почему не замечал прежде? В голод, когда нужно было кормиться, все глаза проглядел, отыскивая, — теперь совсем позабыл? Поднимусь-ка я повыше, к Серкебай-жару. Машину оставлю здесь…
Поднимусь той самой дорогой, что ходил тогда, — через лесок. Дорогие сердцу места…
Отчего же задыхаюсь? Редко поднимаюсь в горы? Нет, не потому, просто старость… Кто это сказал, что старики за семьдесят должны ходить в горы?.. Но я поднимусь. Я хочу увидеть…
Дыхание весны, мое дыхание… Научил меня Комурчу, подарила земля… Поднимусь ли еще на эту скалу? Сегодняшний день — перевал моей жизни, еще один перевал… Смогу или нет одолеть еще больший? Может, надо было привезти сюда Бурмакан? Что случилось бы, если б услышала рассказанное здесь?.. А что бы я сделал, если б она расшумелась? Да, если бы взял ее — не отдохнул бы… Одно хорошо: захватила бы что-нибудь поесть.
Вот и Серкебай-жар. Издали кажется прежним, а подойдешь сюда — и видишь: совсем другим стал Красный яр. Ну-ка, где та расселина, в которой гнездились ястребы? Нет ее уже, размыло, верно… А на том выступе, где куст можжевельника, — там я, спустившись на аркане, остановился осмотреться и передохнуть…
Еще белый ястреб! Тот самый? Другой? Откуда он вылетел? Откуда-то пониже можжевельника, а? Хотя самой расселины уже нет, обосновался, видно, на привычном месте, под защитой куста. Вот это и есть родина! Ласточки и грачи за тысячи километров весной прилетают в свои гнезда. Они счастливы в своих гнездах, особенно ласточки. Да, они чем-то близки к человеку. Недаром свободно влетают в дом человека, будто в свой дом, строят гнезда под его крышей. Не только человек, и пернатые возвращаются издалека, чтобы вывести потомство на родине. Улетают снова — и опять возвращаются со своими выросшими птенцами. В этом святость родины — она наделяет детьми и человека, и птиц… Конечно, этот белый ястреб приспособился к нашему лету, зиме, весне и осени, глаза и крылья привыкли ко всему — здесь нет для него лучшего гнезда, чем Серкебай-жар, нет лучшей родины, чем киргизская земля.
Но ведь я тогда унес всех птиц, что были в расселине. Откуда же этот ястреб, чей потомок? Может быть, случайно остался зимовать или же улетел от хозяина, которому я отдал его? А может, это уже их внуки, правнуки?
Темнеет. Появляются звезды. Ветер переменил направление. Кто-то нажимает на сигнал машины. Беспокоится? В темноте трудно ходить по горам, пора спуститься, горы прекрасны, а поднимешься наверх — поднимается и настроение, мысли переполняют тебя, появляется бодрость…
Как тихо, а? Лишь ветерок шелестит в кустах можжевельника, будто шепчутся они. О чем, уж не обо мне ли? Я ведь сегодня их гость. Когда приходит гость — всё радуется… — и кусты и деревья. И пшеница, и скот, и кусты любят музыку, любят и гостя тоже… Здесь ночью — музыка… Нет, это птица… видно, ждала наступления темноты. А вот, соперничая с ней, трелью рассыпался соловей. О чем он поет? Хочет сказать о своей мечте? Страстно желает недостижимого? А может быть, просто зовет ясный день, чтобы солнце согревало землю, чтобы пролился дождь и воздух был чист, а жизнь — прекрасна, и чтоб много распустилось цветов?.. Пусть будет больше воды, пусть всегда зеленеют листья и всегда поспевают плоды!.. Пением он убаюкивает природу. Травы, цветы наслаждаются легкой трелью, его голос для них — как луч солнца, благотворный дождь и тепло. Его голос расправляет морщины на склонах гор. Он приносит покой и сон мне, гостю, оставшемуся здесь ночевать. Соловьи поют, соперничая друг с другом, сладкой и нежной делают эту ночь, эту землю. Слушая ласковый голос, и сам превращаешься в соловья, — в душе рождается песня. Вот это и есть наша земля, земля соловьев, цветов, солнца, любви… Каждый глазок цветка глядит любовью… Вот соловей уже тянет меня за ресницы, я засыпаю… Соловей укачивает… Мелодия вливается в сон…
Всю ночь проспал!
Видеть ясный, прозрачный рассвет — возможно ли лучше счастье! Чувствуешь себя молодым и сильным… Птицы поют… Меня усыпил соловей, угостил своей мелодией. Гора, лесок, соловей… родные братья, а? Мы все родня. Если не станет одного, жизнь других сделается беднее. Вот она какова, Чуйская долина…
Вернуться в село, пока народ еще не поднялся?..
В ушах моих зазвучала песня. Кто это поет? Очень похоже на голос Комурчу. Хотя откуда ему взяться здесь… Нужно посмотреть, оглядеться. Ну конечно, скалы похожи на Комурчу, щебет птиц рассказывает о Комурчу. А ведь правда: птицы поют голосом Комурчу! Как было бы хорошо, если б полил дождь. Подобно Комурчу, я разделся бы донага, подставил себя дождю… Однако он был другой породы. Выдержу ли, что выдержал он?
Солнце взошло. Земля в солнечных лучах. Язык птиц зазвучал по-иному. Земля открыла глаза, горы расправили плечи, деревья встряхнулись. Солнце запело, гора запела.
Где-то внизу бурлит река.
Часть третья ЗМЕЯ
Крупными хлопьями падает снег. За день погода резко переменилась: ушло тепло и будто вдруг вернулась зима. Ночь. Серкебай один. Это улица, которой он не ходит обычно; специально выбрал сейчас потише, потемнее. В ушах еще звучат чужие слова, искренние и притворные, перед глазами — глаза сидящих в зале… Одни улыбаются, другие раскрыты доверчиво, третьи не могут смотреть прямо, а некоторые вроде бы смеются, но приглядишься — с кончиков их ресниц словно бы капает яд…
Снег бьет в лицо, не дает открыть глаза, однако Серкебай видит — видит собрание, где только что сидел, откуда только что вышел.
Сколько было собраний за эти годы, сколько добрых слов, сколько ругани и споров… Встречался со знакомыми и незнакомыми, с родными и врагами, с женщинами и мужчинами, с умными и глупыми, с добродушными и хитрыми… со многих брал пример. Бывало, оставался побежденным… Да, он учился, сталкиваясь с людьми, каждое слово, каждый спор, встреча были нужны… Это легко сказать — почти сорок лет был председателем… Один обругает, другой взглянет искоса, третий поблагодарит, четвертый проклянет — все это нужно выдержать. Всем не угодишь… Когда уговорами, когда бранью и даже… плеткой… было и такое… А Кызалак, избранный только что председателем… Тогда он был ребенком. Только-только кончилась война… Все было истощено: кони, быки, машины и даже сама земля… Да разве только земля? А люди? Кто не поглядывал в эти дни на дорогу? Кто не ждал близкого с дороги войны?
Счастливы казались дома, откуда выходили инвалиды, опиравшиеся на костыли. Рады их семьи — все же живыми вернулись они домой. Соседи, встречая на улице, завидуют, однако хотя и здороваются радостно, в голосе их слышна тоска; словно добавляют про себя: «Дай бог, чтобы и наш хозяин вернулся… Пусть с костылями — лишь бы вернулся…»
В каком запустении стояли тогда дома, были заброшены сады… Лишь одно — наша победа, давало радость; эта радость царила над всем, ее чувствовал каждый дом, каждый человек. Да и дереву, горе, реке, камню… — всему давала она вдохновение и надежду. Лишь это вдохновение заставляло людей высоко держать голову, заставляло работать не зная усталости. А там… Иногда человек и лошадь пристально смотрели друг на друга, ах, как взгляд одного отражался во взгляде другого! Они смотрели друг на друга, то обвиняя, то жалея, то понимая, то не понимая, то проклиная, то сочувствуя…
Все запаздывало тогда. Поздно закончились пахота, сев, поздно поспело, мало того, поздно растаял ледник на вершине горы… Сколько ни затачивай плуг — лемеха не входили в землю; сколько ни стегай коня — стоял без сил, опустив голову. Сорока ехидно смеялась, садилась на ссадину на хребте лошади; сколько ни отгоняй ее, не отцепится, — высмеивала и лошадь, и человека; казалось, она одна в целом мире сохраняла прежнее свое обличье, черные крылья ее блестели, крик делался еще громче. Она клевала в эту ссадину, будто добывала обычную пищу…
Да, тогда только-только кончилась война. Этот самый Кызалак был мальчишкой, ходил за однозубой сохой, в которую были запряжены лошадь и бык. Только он один из всех ребятишек в аиле давно уже не глядел на дорогу. Отец его погиб еще в сорок втором. Теперь он работал за взрослого — наравне с матерью. За эти три года Кызалак сделался взрослым. Детство его было отнято войной.
Перед глазами Серкебая появился Кызалак — увидел его мальчишкой, каким был тогда в сорок пятом… Мелькнул Кызалак — и тут же обернулся длинной черно-пестрой змеей… Сердце у Серкебая заколотилось, чуть не выскочило из груди. Снова представил Кызалака, — и опять его образ заставил вспомнить змею… — казалось, они подстерегали друг друга, боролись, змея обвивала Кызалака, Кызалак змею… Вдруг набросились на Серкебая, сжали, стиснули, задушили…
Снег продолжал идти. На улице — люди, слышно, доносится говор. О чем они? О только что закончившемся собрании, о Кызалаке и Серкебае?
Когда выходили из колхозного Дома культуры, кажется, не было вокруг так много народу. Сам Серкебай выглядел бодрым, шагал уверенно, рядом — привычные, старые и молодые, всегда поддерживающие его, — что-то говорили, но Серкебай не слышал, ноги будто сами несли его к дому. Он спешил к Бурмакан. Из многих прошедших дней, месяцев, лет — сегодня Бурмакан особенно нужна была ему. Сегодня, когда он ушел на пенсию. Он жалел ее больше, чем себя…
Видел — когда сидела на собрании, осторожно, незаметно для других, утирала глаза кончиком платка, покашливала! Никогда в жизни не кашляла. Переживала больше Серкебая. У него самого тогда защипало в глазах, однако не подал вида: привычно вскинул голову, властно призвал сидящих в зале к порядку. Да, для народа он по-прежнему оставался отцом. А в душе… Казалось, он был разбит, раздавлен, тоска поселилась в сердце… Обернулся, посмотрел на своих сверстников, на друзей, с которыми столько лет вместе… Один слишком уж что-то рад, шепчется с соседом. Почудилось, что все в зале шепчутся о нем, о Серкебае. Провожая, подарили от колхоза телевизор — все громко захлопали. Чему захлопали — подарку или его уходу? Может, спешили скорее избавиться, радовались?.. Сколько человек выступило? Серкебаю слышалось, будто все высказывают ему соболезнования, призывают к бодрости — то ли как больного, то ли как уходящего в путь без возврата. Даже вспотел, слушая. В душе то подбадривал себя то ругал. «Зачем поторопился уступить председательство? Сам поехал в райком. Мол, постарел, устал, нужно дать дорогу и молодым. Конечно, мне выразили признательность, благодарили… На мое место поставили Кызалака, — я сам предложил его кандидатуру. Кызалак… Смелый, энергичный, ловкий… Разве жалею теперь? Ведь хорошо же, что энергичный. Руководить колхозом не просто… Но что будет, если богатство, накопленное за столько лет, разбазарят, пустят по ветру?.. Напрасно я ушел… Надо было работать, — когда помер бы, меня вынесли бы из конторы колхоза. Теперь… Нет, и теперь сделают так же. Народ — он помнит, труд мой оценят… Оценят или нет? Полковник в отставке, которого я недавно подвез в машине… Правда ли, что он тогда говорил мне?.. Сказал — пока работал, чувствовал себя молодым, бодрым. А потом, уйдя на пенсию, быстро сдал. Сказал, что постарел за полтора года… Неужели и со мной то же будет? Неужели постарею? Буду сидеть возле дома, в тенечке, а рядом будет дремать собака… Не-ет, такое не для меня. Стану работать. Пойду завтра же… Нет, подожди-ка… Хорошо, завтра ты пойдешь, скажешь: «Хочу работать». А кем? Бригадиром? Но ведь это не легче, чем быть председателем! Я не выиграю, наоборот — проиграю. С другой стороны, разве ушел на пенсию, чтобы выгадать для себя? Ведь ушел сам, по своей доброй воле. Если б не захотел, так никто бы и не заставил. Нет, я правильно сделал. Суть в другом. Как проводил меня народ? Похлопали в ладоши. Похвалили. Можно поверить или нет? И можно, и нельзя. Я еще не забыл, как выбирали в председатели соседнего колхоза Нурмата. На собрании все хвалили, а когда дело дошло до голосования, ни один ведь не был «за». Это двуличие. Все, что ли, неужели все население оказалось двуличным? Нет, нужно говорить открыто, говорить начистоту… Скажи-ка лучше о себе, Серкебай, — разве не случалось так, что на словах соглашался с человеком, а в душе затаивал иное? Было, было, и хотя никогда не затаивал мести, при случае неожиданно мог высмеять, устыдить… Правда, не для того, чтобы уничтожить — чтоб исправить. Исправить?.. А сам-то каков? И жестокий, и мягкий, и щедрый, и сердитый, и сдержанный человек. Ну и что? Разве поэтому нравился людям? Может быть, ты лицемер? Нет все же, нет, лицемер сталкивает две стороны, извлекает для себя пользу, богатеет, нанося урон чьему-то имени. А я что выгадал для себя? Я приобрел доброе имя. Да, это именно и есть то, что называют добрым именем. Если б не доброе имя — разве провожало бы с уважением столько людей? Кстати, о проводах… Да, смотри-ка, возле меня не осталось ни одного человека. Где же все те, что постоянно увивались вокруг? Ушли? Получается — пока в твоих руках власть, все поддакивают тебе, а стоит лишиться поста — сразу отвернутся, покажут спину.
А снег-то все сыплет. Это будущий урожай. А может, не урожай, может, бескормица. Выпадет снег — хорошо, выпадет слишком уж много снега — плохо. Перебор часто оборачивается неудачей. Хорошо, когда все соразмерно… Надо знать меру… Надо уходить вовремя… Но что такое в меру. Есть ли она на все случаи? Один раз лучше получается так, другой раз — этак. Потому мы и говорим — жизнь. Это и есть круговорот, сито жизни. Посмотри-ка: только что мелькнула перед глазами черная с пестрым змея, после нее — Кызалак. Какая связь между ними? Кажется, никакой. Однако же раз показались рядом, вместе, — значит, все же связь есть? Как-то связываю? Надо обдумать. Чем плох Кызалак? Я всегда хвалил его и опять скажу: достоин похвалы. Бригадиром уже давно, дела у него идут хорошо. Поэтому…» Вдруг мысли Серкебая перепутались, закружились, точно снежинки под фонарем. Поймал себя на том, что чувствует ревность к Кызалаку, которому передали пост председателя. Как можно поверить в такое — еще вчера был мальчишкой, ходил за плугом, похлопывал прутиком по голым своим ногам, а теперь сделается, должен сделаться отцом целого колхоза… отцом для людей… Да разве только это? Серкебаю казалось, молодой председатель завтра же начнет поучать его, старика. В глазах потемнело, он точно вкопанный остановился посреди дороги. Вот-вот свалится, упадет, закружилась голова… Однако устоял. Собака из дома по соседству накинулась с лаем. Тьфу! Ведь это же Мангыл. Что летом, что зимой ленился поднять голову, если кто проходил мимо; что случилось с ним — ведь не лаял не только в ненастные, даже и в солнечные дни?.. И это тоже загадка… Все собаки в аиле знали председателя, а Мангыл, увидев, всегда ласкался, вилял хвостом. Неужели и собака почувствовала, что ушел на пенсию? «Что за новость? Что происходит со мной? Неужели это так и бывает — не только людям, но даже собакам уже стал не нужен?» — спрашивал самого себя Серкебай.
Он вспомнил о времени, когда был председателем. Сколько тяжелых, трудных дней выпало на его долю, сколько хороших, светлых дней… Всегда был с народом…
Подожди-ка, разве не случалось ошибаться? А то, что было с Кызалаком? В то нелегкое время, сразу после конца войны, а? Было, было… Кызалак тогда ходил за плугом.
В тот день, уже перед тем как спуститься сумеркам, Серкебай появился в поле. Конь его был мокрый от пота. Да, полдня мотался на коне Серкебай, объезжал поля, а после полудня вызвали — уехал в район. Как не вспотеть председательскому коню? Так вот и получилось — голодный, усталый, Серкебай едва добрался до Кызалака… Нет, не до мальчишки, — у края вспаханного поля поставлен был шалаш, и Серкебай, подъезжая, смотрел с вожделением на этот самый шалаш: там одна женщина готовила для пахарей жарму — похлебку из толокна. У Серкебая уже в глазах мутилось, сюда завернул в надежде глотнуть жармы — даже и денег не нашлось, чтобы перекусить на базаре… Приехал, а женщины в шалаше не оказалось. Ведро стояло пустое. Не зная, на ком выместить свой гнев, Серкебай вдруг увидел Кызалака. Тот держал в руках прут — держал обеими руками — и бил с размаху легшего в борозду красного быка с отвислыми рогами. Он не замечал Серкебая, подъехавшего сзади. Всякий раз, когда прут опускался на спину быка, тот ревел, однако не поднимался.
Из глаз мальчика, из глаз быка одинаковые катятся слезы. Плачут оба — и мальчик, и бык. Только рев у быка низкий, густой, у мальчика голос тонкий — вот и вся разница.
— Проглоти свою голову! Если этого мало, проглоти председателя Серкебая! Если не насытишься этим, то проглоти и меня, проклятый!
Мальчик повторяет сквозь слезы эти слова, словно отвечая в бессилии бессильному реву быка. Сам весь дрожит, слезы отчаяния катятся по щекам. Чалая лошадь с ввалившимися боками, на которой сидит мальчик, вздрагивает, когда тот хлещет быка, — она тоже тянет плуг, она будто бы двигается вперед, дергает, тащит, но где уж ей сдвинуть с места легшего на землю быка. Плачет Кызалак, сквозь слезы проклинает все: и жизнь, и войну, мать, родившую его, председателя Серкебая… Бык пытается встать — поднимается на две передние ноги, они подкашиваются — снова падает в борозду.
— Чтоб ты околел, ну поднимись же! Что буду делать, если останешься здесь… если не вернемся в аил? О председатель, о Серкебай, чтобы тебе никогда не видеть добра!..
Сколько еще ядовитых слов выкрикнул Кызалак!.. Серкебай содрогнулся в бешенстве — как посмел, где научился такому:
— Замолчи, паршивец!
Размахнулся плетью, хлестнул несколько раз мальчишку по спине — у того брызнула кровь… Кровь сироты, переставшего ждать с фронта отца, уставшего, голодного, перенесшего все невзгоды военного времени… Рубашка, сгнившая от пота и ветра, поползла полосами. Мальчишка согнулся, сжался под обжигающими ударами, защищая голову… оглянулся… Лицо его показалось Серкебаю застывшим, заледенелым. Он не плакал больше — выпрямился, молчал. Будто умер стоя. Только глаза жили — словно огненные сверла буравили глаза председателя. И неграмотный бы прочитал в них… Слова, что кипели в этих глазах… Да, это были слова, накопившиеся за много лет, перебродившие, перекипевшие, превратившиеся в яд. И хотя ничего не сказал он, молчал, в молчании слышался крик… Стоило ему обронить слово — и Серкебай бы сорвался вконец, дал себе волю… Как будто бы чувствуя это, мальчик замер, онемел, застыл… Серкебай ощерился было в улыбке, затем улыбка постепенно исчезла, лицо его окаменело, он начал задыхаться, будто ему не хватало воздуха. Хотел — и не мог расстегнуть ворот рубахи… Порвал завязки, рванул ворот обеими руками… Да, и его рубаха тоже еле держалась, как у Кызалака… На груди председателя увидел Кызалак белые пятна. Это были рубцы от ран. Необычные, страшные. Нарочно показал председатель? Что-то шевельнулось в душе, теперь мальчик смотрел не только на эти рубцы — видел всего Серкебая. Может быть, разглядел сейчас его прошлое, настоящее, будущее?..
От спины Серкебая повалил пар. Самый настоящий пар, какой бывает после бани, или после стремительного бега, или при болезни, когда поднимается температура. Мальчик не услышал, как скрипят его зубы. Ему казалось, председатель все еще ругает его. У него словно заложило уши. Не заложило — заморозило. Заморозило от холода, от холодных слов, от бедности. Он давно уже забыл теплые объятия матери, ее нежность. На это у обоих не хватает времени. По многу дней не видятся друг с другом… Куда девались их прежние разговоры? Всего этого недостает мальчику. Недостает дыхания, слов матери, ласкового прикосновения ее руки к голове… Однако, когда идет домой, думает о другом: о завтрашнем дне, о хлебе, о том, как помочь матери… После весны наступит лето, после лета — осень, потом — зима… Взвалив на себя обязанности отца, против воли повзрослел до времени Кызалак. Открытое небо заменяет ему одеяло, вспаханное поле — постель, вода журчащего ручья — чай, толокно, мясо. Он знает — это его борьба, его долг, его право… Бывает, идя за плугом, он жалобно поет. Но хоть и жалобно, все же песня подбадривает его. Ночью, под звездами, запах, дыхание лошади заменяют ему дом, все же он не один, он слышит, как лошадь с хрустом жует траву. Ему кажется, это не хруст, а слова… В мечтах мальчик разговаривает с отцом. Он устремляет свой взгляд в небо, он видит звезды. Иногда они высыпают густо, в иную ночь — редко, иногда сверкают ярко, иногда — тускло. Мальчик видит, и ему кажется, что не только люди, но и звезды живут и меняются. Может быть, он вспомнил о них сейчас, может быть, заметил, как вдруг изменилось лицо Серкебая, может быть, не только сердился — жалел председателя тоже? Кто знает…
Серкебай спрыгнул с коня на землю. Сказал мальчишке, чтобы распряг, освободил лошадь и быка. В глаза ему ударило красное — две кровавые полосы, точно змеи, извивались на спине мальчика. Две полосы… Такие пролегли когда-то и на его спине. Только оставил эти полосы не председатель колхоза — оставил бай Батыркул. Серкебай слег тогда от удара плетью. Кызалак даже не потер место, по которому пришелся удар.
Лишь теперь понял Серкебай, что наделал. «Вот, начнут говорить — председатель Серкебай плетью ударил мальчишку, все услышат, все станут ругать, проклинать меня. Вместо того чтобы вытереть слезы ребенка… Я не мальчика ударил — оскорбил его мать, землю, народ. Подожди-ка, Серкебай, для чего ругаешь себя? Что ж остается делать? Моя сила в детях, в стариках и старухах, во вдовах при живых мужьях. Нужно иной раз прибегнуть и к принуждению — иначе не выйдут в поле… Нет, ложь, все это ложь!.. Ведь выходят сами… Иной раз выходят на работу за одну чашку жармы… А помнишь, летом сорок второго года здесь, на этом свекольном поле… Из района приехало начальство… Ведь ты не мог удержать слез, когда увидел Сейилкан, мать этого самого Кызалака, стоявшую у головного арыка. Шел полив, и Сейилкан работала в одних порванных длинных штанах, разлезавшихся от ветхости, — жалела единственное старенькое ситцевое платье. По сравнению с тем временем сейчас уже легче… В этом году ожидается урожай. Победа за нами — это самое основное.
Погоди, Серкебай, для чего оправдываешь себя? Где такой закон, чтобы бить детей?
Теперь меня будут судить. Мне теперь сидеть в тюрьме. А как посмотрю в глаза тому, кто завтра вернется с фронта? Ведь случается, приходят и те, на которых была похоронка… А если вернется отец Кызалака, если он, желая отомстить за сына, расстреляет меня? Таких, как я, и нужно стрелять! Мало расстрелять! Как только поднялась моя рука ударить этого мальчика? Если б я был богатым, глядишь, оказался бы хуже Батыркула, более жестоким… И ведь был когда-то богатым… Помню, обменял птиц на телят, на коней… Ведь я начал угнетать Кырбаша, я стал хозяином, он — батраком. Вот и сейчас проявил себя хозяином, богачом. Да, это нужно исправить, нельзя оставлять на завтра. Нельзя доводить до людей, нужно скрыть… Скрыть? Вину нельзя скрыть. Пусть меня судят, приговорят, посадят. Будет правильно, если я понесу наказание… Пока люди были на фронте, я оставался в тылу, когда же люди вернутся с фронта, буду сидеть за решеткой — вот это достойно Серкебая! Ведь я не чувствую под собой ног, ведь я возгордился. И как же не возгордиться: единственный мужчина в аиле, у которого целы и руки, и ноги. Так прокляни свою сытую гордость, Серкебай!» Его рука потянулась к голове Кызалака, погладила. Лоб мальчика был холодный, точно шкура змеи. И тогда Серкебай увидел черную с желтым большую змею. Казалось, мальчик превратился в змею, в самую настоящую змею, — если заденешь, укусит любого. Нет, мальчик оставался собою, но вина сделала Серкебая беззащитным!.. Беззащитным перед ребенком — все равно что перед напавшей змеей…
Серкебай опять приблизился к мальчику, тот плелся вслед за быком, снова хотел погладить по голове и не посмел. «Почему он молчит? Хоть бы сказал что-нибудь. Это же не человек, его душа превратилась в нарост, как на дереве, — попробуй теперь размочи! Молча идет со мною в аил, в свой дом, о котором уже и забыл за столько дней. Рассержен и, видно, из тех, которые не забывают зла. Его сила — в его молчании. Выскажет свой гнев где нужно, отомстит когда нужно. Разве человек тот, кто не отомстит? Пусть рассчитается со мной… И я бы так на его месте… Смотри-ка, глядит невозмутимо, и в лице как будто спокойствие. Да, из этого Кызалака будет толк. Другой мальчишка не то что от плетки — от щелчка в лоб поднял бы рев… Отец у него был такой. Вот что значит отцовская кровь. Посмотри-ка, он ведет меня за собой, заставляет меня казниться, заставляет дрожать. Ведь меня называют председателем, называют почтенным?.. Где твоя всегдашняя сила, Серкебай? Показал бы теперь… Помнишь осень тридцатого года, тот черный дождь? Темную ночь, хоть выколи глаза? Ты тогда был на току, следил за тем, как провеивали зерно. В тот день налетел дождь, и ты отправился домой, желая хоть немного обсушиться и обогреться. Когда ты подъезжал к аилу, тебе навстречу выскочили несколько человек, и один из них схватил под уздцы твоего коня… Ты не растерялся. Камчой ты ударил по голове того, что схватил уздечку, — он закричал от боли, закрылся руками. К тебе устремились еще трое. Плеть твоя оторвалась от рукоятки, когда ты с размаху хлестнул ближайшего. Ты взял в руку стремя и встретил ударом еще одного из нападавших. На твою спину опустилась дубина. Ты потерял сознание, но тут же пришел в себя. Ты разъярился по-настоящему. Ты показал себя достойным сыном батыра Сармана. Ты несколько раз сильно пнул ногой своего коня, тот взвился — один из преследователей оказался рядом. Ты знал, как и куда бить, знал еще с той поры, когда служил у Батыркула и не раз ходил ночами в набег за скотом. Ты оглушил ударами, ты раскидал всех четверых, обратил их в бегство, связав уздечки их коней, добрался до аила. Ты отвел коней в колхозную конюшню.
Аильчане опознали лошадей. Хозяева их были местные кулаки, бежавшие от высылки. В тот же день люди сообщили тебе, что двое из них погибли, а двое скрылись… Это была борьба, Серкебай, но ударить ребенка — совсем иное, недостойное дело».
А мальчик — о чем думал сейчас? Может быть, ругал, проклинал в душе Серкебая, как давеча, когда старался поднять быка? Шагал хмурый, застывший, будто камень, но в душе у него бились, сталкивались бесчисленные, словно песчинки в потоке, противоречащие друг другу слова.
Мысли его мешались…
Это началось, когда Серкебай неожиданно погладил его по голове. Мальчику показалось, будто его коснулась рука отца. Он еле сдержался, чтобы не закричать. След на теле — на один день, а след в душе — на тысячу дней… След от плетки, след от ласки…
«А если бы Серкебай был моим отцом и ударил бы плеткой, а? Плакал бы я тогда? Да. А почему я не заплакал сейчас, когда ударил председатель Серкебай? Этот человек — чужой. Пусть чужой: боль от удара — плата за то, что раскрылись мои глаза. Есть обычай — все должны подчиняться ему. Младший не смеет перейти дорогу старшему, девушка не смеет пересечь дорогу перед мужчиной, слово старшего — закон. Председатель правильно сделал, наказав меня, я сам виноват. Прожил двенадцать лет, а не различаю старших и младших, ругаю председателя, ничего не умею делать, плачу — не могу поднять быка, что я за человек! Скажу ему — пусть будет мне отцом, пусть бьет меня, но пусть научит всему… Одно плохо: рубашка моя порвалась. Где найду другую?.. Нет, не так… У меня нет отца, поэтому председатель ударил… Ударил потому, что он председатель, он сильный… Если бы жив был отец, разве ударил бы меня Серкебай? Я убью его… Я отомщу ему… Я — Кызалак, я сын своего отца…» В смятении мальчик стремительно обернулся назад, увидел: в глазах Серкебая стоят слезы, что-то говорят, о чем-то просят его глаза председателя. Неужели просят простить? Серкебай вытер глаза рукавом и, задыхаясь, пробормотал:
— Я виноват перед тобой. Я погорячился, Кызалак. Ты показал, что сильнее меня. Будущее — твое, за тобой, за тебя… Мы постареем, на смену нам завтра придете вы. Не подражай мне, будь таким, как сейчас, будь сильным, устойчивым. Слабый, несдержанный человек умирает тысячу раз, сильный — только однажды. То, что ударил тебя, — это и есть одна из тысячи моих смертей. Ты взял верх надо мной, сегодня ты выше меня. Я получил от тебя урок, я получил урок от жизни, ты стал моей жизнью, моим учителем. Возьми плетку, ударь меня. Поторопись, пока нет никого. Хлестни хоть раз. Если не сделаешь этого, тяжесть останется в моей душе. Тяжесть вины перед тобой. Я человек, который будет мучиться всю жизнь из-за совершенного однажды… Не жалей, прошу тебя: если ударишь, исполнишь мое желание… — Серкебай вложил в руки мальчика плетку.
— Младший не смеет поднять руку на старшего. В обычаях киргизов нет такого. Не буду бить. Сумасшедший я, что ли, — ударить председателя! Отец мой умер, сказанное им живо для меня. Отец так говорил: если старший ударит тебя, не отвечай даже словом.
Мальчик шумно шмыгнул носом, покрасневшим от холода и слез, и лишь теперь стало видно, что это ребенок. Он отвернулся от Серкебая и заплакал. Заплакал беззвучно, без голоса — стыдился показать свои слезы. Это тоже было наказом отца: «Не плачь, как женщина, распустив слезы на глазах у людей. Ты — мужчина. Мужчина должен вести себя как мужчина».
— Киргизский обычай… Ты знаешь киргизский обычай — я не знаю его? Есть обычай, позволяющий бить сироту? Паршивец, ты каменный, что ли? Эх, если б в моем аиле было хоть три десятка таких мальчишек, как ты! В тебе — наше завтра… А теперь скажи всем… Скажи, Серкебай — собака. Скажи, что не вытерпел твоих проклятий. Пусть меня судят — заслужил…
— Разве я способен на подлость? С какими глазами стану жаловаться, что меня побил председатель? Разве это мне нужно? А если вас заберут и на ваше место придет плохой председатель, что тогда? Это значит сделать плохое народу. Кто будет тогда виноват? Разве могу пожаловаться?
— Не станешь?
— Нет. Отец не учил меня подлости. Вы похожи на моего отца. Как могу предать отца? Бороться против отца? Вы мне не сделали ничего плохого.
Теперь заплакал Серкебай. Прижал мальчика к груди и поцеловал. Почему? Может быть, лишь теперь понял, что это значит, мальчик, — у самого были только дочери, может быть, пожалел, что у него нет сына, может быть, захотел, чтобы этот мальчик стал его сыном?
Это и есть мечта. Каждый знает ее. Нет такой души, чтобы достигла пределов своих желаний.
— Что за женщины там идут?
— Не знаю, отец Серкебай.
— Сынок ты мой… А если видел народ, что же скажут теперь?
— Что они скажут? Скажут, что получил наказание…
— Сюда повернули… Наверное, это те, что прокапывали арык… Может быть, уйдешь поскорее, Кызалак?
— Нет. У меня не хватит силы. Сегодня мне не досталось похлебки из толокна.
— И мне… Видно, кончилось толокно…
— Плохо, что у меня порвалась рубашка.
— Я дам тебе свою.
— Почему не сделают так, чтобы никогда не рвались рубашки?
— Тогда одежда потеряет всякую ценность.
— Почему люди не созданы бессмертными?
— Тогда жизнь потеряет всякую ценность.
— Почему отец с матерью кажутся лучше всех?
— Потому что они дали жизнь.
— Разве только поэтому? Мать не только дает жизнь — дает свое белое молоко, учит говорить. Ведет за руку, когда делаешь первые шаги. Она учит дышать воздухом, принимать пищу, видеть мир, любить, распознавать добро и зло. И отец тоже такой, одна лишь разница, что не выкармливает подобно матери.
— Откуда ты все это знаешь, Кызалак?
— Мне рассказал отец.
— Как мог рассказать твой отец? Ты ведь был совсем ребенком, когда ушел твой отец?
— С самого моего рождения, когда я лежал в колыбели, когда стал подниматься на ноги, когда делал первые шаги, когда учился говорить «отец», — всегда он разговаривал со мной.
— Ты не любишь меня, а, Кызалак?
— Зато тебя любят твои дочери.
— Тебе хотелось бы умереть, Кызалак?
— Если бы я хотел умереть, то не радовался бы ударам плетки. Получая удары плеткой, ощущаешь, что жив… Кто бьет умершего?
— Ты умный, сын мой. Такие слова скажет не всякий взрослый.
— Нет, не я, а отец мой умный. Я еще не исполнил и части его заветов, я никогда не исчерпаю их до конца, им нет конца.
— Ты затаишь в себе месть?
— Да.
— Ты хочешь отомстить?
— Работая от всей души.
— Если бы ты был председателем, то ударил бы?
— Кого?
— Вообще кого-нибудь?
— У этого кого-нибудь есть имя. Когда я сделаюсь председателем, уже не найдется такого человека, который, подобно мне, заслужил бы наказание. Никого не нужно будет бить.
— Ты хотел бы стать председателем?
— Да.
— Почему?
— Кому же не нравится руководить? Чем самому ходить склонив голову, лучше пусть склонят перед тобой голову другие. Кто может предсказать, что ребенок, не вышедший еще из материнской утробы, станет в будущем ханом, кто может предсказать, что младенец, спящий в колыбели, сделается беком?
— Тебя, оказывается, трудно переспорить.
— Но я не хочу переспорить вас.
— У кого ты учился твердости, упрямству?
— У вас.
— Но ведь я не упрямый.
— Вы упрямый в работе.
— Если бы я умер, это хорошо или плохо?
— Для вас самих — конечно, плохо. Смерть — несчастье прежде всего для самого умершего, потом уже для других.
— Если бы я умер, ты заплакал бы?
— Киргизы идут с плачем на смерть любого, но у многих не бывает слез. Никто не смотрит, есть слезы или нет слез. В счет идет только тот, кто пришел с причитаниями.
— Ты хотел бы стать моим сыном?
— Если бы я и захотел, другие не назовут меня вашим сыном.
— Что ты любишь больше всего на свете?
— Сейчас, что ли?
— Да.
— Еду. Что может быть лучше — хорошо поесть, насытить желудок, когда голодный.
— У тебя есть друзья в аиле?
— Есть.
— Кто?
— Земля.
— Почему?
— Земля никогда не отрекается от человека — человек может предать. Земля все вытерпит и простит — человек разве способен на это?
— Когда ты подрастешь, на чьей дочери хотел бы жениться?
— На вашей.
— Почему?
— Жить было бы легче.
— Отчего же?
— Она не только работала бы за меня, но также и говорила.
— В старые времена тебя бы назвали златоустом, Кызалак.
— Ой! Почему?
— Из-за твоего языка. Женщины уже близко. Возьми мой чапан, накинь на плечи. Как говорится, есть друзья и есть недруги, у одного глаза, у другого слова нехорошие…
— Никогда ничего не беру на время. Если сел на чужого коня, так и жди — придется сойти посреди грязи.
— Я доволен тобой, Кызалак. Если бог даст, с добрым именем уйду на пенсию, на своем месте оставлю тебя.
— Скажите: если будет теперешний секретарь в райкоме. Он вас знает хорошо.
— Стегни быка.
— Рука болит.
Навстречу семь женщин, семь подруг, прозванные в аиле Большой Медведицей. Все одного возраста: двадцать восемь — тридцать. Всегда неразлучны. Вместе — на работу, вместе — с работы. Встретив их, не знаешь, сыты они или голодны, вконец обносились или имеют лишнее платье, всегда смеются, всегда шутят, поддразнивают одна другую… Еще в начале войны сами стали в знак неразрывной дружбы называть себя по-новому, близкими по звучанию именами-прозвищами: Жийдекан — Джида, Дилдекан — Жемчужинка, Ажаркан — Румяная, Жамалкан — Красавица, Самаркан — Мечта, Сызылкан — Скромность, Созулкан — Нежность. Сейчас уже забыты их настоящие имена, и каждый в аиле зовет их привычным новым именем. Эта семерка — звено. Других женщин в свою компанию они не принимают.
Шутки сменяет песня. Запевает всегда Жийдекан. Затем, подождав немного, подхватывает Дилдекан, при этом высоко поднимает голову, оглядывается по сторонам, словно утка на воде. Ажаркан, насмеявшись вдоволь, тоже начинает подпевать подругам, правда, и не думает подладиться к ним, не обращает внимания на то, впопад или невпопад вступила. Жамалкан вообще не следит за песней, смотрит рассеянно, будто ожидает появления нужного ей человека, и только иногда вскрикивает в лад с поющими. Самаркан из всех самая тихая, ее словно и нет среди бойкой компании, голоса ее почти не слышно, а когда поет — кажется, будто лишь разевает рот вместе со всеми. Голос Сызылкан — самый сильный из всех, поэтому она старается петь правильно и чисто, но у нее обычно не получается, и она умолкает в смущении. Созулкан улыбается, взглядом, усмешками, жестами участвуя в общей игре.
Смеясь, перебрасываясь шутками, щипля, подталкивая, догоняя друг друга, приблизились женщины к Серкебаю. Кажется, Ажаркан на этот раз играла роль мужчины. Остальные называли ее «братец», она смеялась в ответ, и тогда становились щелочками, а то и вовсе исчезали ее и без того маленькие глаза, делались невидимыми ресницы.
— Подружки, молодки, оставьте, пожалейте, меня и на одну из вас не хватит, о боже! — Она подмигивала, и все семеро задыхались от смеха.
— Ах, что вы говорите, братец, если уж такие джигиты, как вы, станут избегать женщин, что же делать тогда моему свойственнику-председателю — ведь шагнул уже за сорок первый? — начинает кокетничать Жийдекан. — Эй, свойственничек! Что это с тобой — застыл подобно камню! Или не встречал красавиц, как мы, а? Жди вечером дома, хотим заглянуть к тетушке Бурмакан, выпросить тебя напрокат — на семь дней. Сам создатель любит делить все поровну, его возмущает несправедливость. Ведь даже коней дают напрокат, послужи у нас жеребцом, председатель, всего по одному дню у каждой. Иноходью доскачем до самого Коканда!
Женщины залились смехом. Ажаркан даже закашлялась, на глазах — слезы… Лишь одна Самаркан что-то буркнула себе под нос, защищая, кажется, председателя, искоса взглянула на Серкебая и зарделась. Семь пар глаз ласково смотрели на мужчину. Ресницы Жийдекан, рыжеватые и длинные, как у бычка, трепетали, будто крылышки, будто спешили куда-то, ее мелкие белые зубы сверкали, белая шея, плечи, грудь вздрагивали от сдерживаемого смеха. Дилдекан выставила свой вздернутый носик, покрытый веснушками, как бы говоря: «Приглядись, тебе стоит заметить меня». Жамалкан, чей нос был и вправду красивым, вытянула свою шею, вглядываясь в показавшегося далеко верхового. Черные круглые глаза Самаркан смотрели ожидающе…
— Споем, председатель! Нужно петь, раз поется! Неужели тетушка Бурмакан никогда не поет, а? Кто умеет причитать, должен ведь и песни петь, а? Любовные! — Жийдекан, покачиваясь, руки в боки, приблизилась к Серкебаю, посмотрела оценивающе: — Скачешь туда-сюда на своем коне, совсем в руки не даешься, милый, ну подойди же ко мне! Да поближе! О боже, до чего боязливы твои руки, милый! Да никак ты дрожишь, а? Разве никогда не брал за руки молодку вроде меня — только тетушку Бурмакан? Ох, пусть облезет пять шкур с моего лица, покраснел, покраснел, застыдился! Давайте, подружки, проучим моего свойственника, а? Не теряйте надежды, девоньки, если хорошенько откормить, будет, будет от него толк. — Жийдекан приподняла рукой подбородок Серкебая, поцеловала в щеку. — Что за каменное лицо, а? Жесткое… А может, из дерева или из кости? Ну начинай, запевай, свойственник! Давай споем. Кочевать в пост — развлечение. Не досталось похлебки из толокна, так хоть споем всласть! Черт возьми, если б вернулся мой несчастный, разве стала бы заглядываться на председателя, мешая шутку с правдой? Не одна лишь я осталась вдовой, — почти все мои ровесницы… Это наша общая участь… Однако жизнь, ее смысл — это ведь не только мужья, но и земля тоже… Земля родит, земля и заберет, когда настанет пора. Пойте, молодки! Я не стану плакать, жаловаться, шмыгая носом, как эта курица, жена Мадылбека: мол, муж ее погиб на фронте, бедная ее головушка пропала, претерпевает всяческие мучения… Уж лучше до пота отработать на этом поле и свалиться без сил, а утром все снова… Запевайте, подруги! Однако не подумай, председатель, что мы превратились в рабочих лошадей — мы все такие же женщины. Может быть, даже погорячее твоей Бурмакан! — Тут Серкебай поежился, лицо выразило досаду. — Да, да, так и говорят — за кем водится, тот побаивается!.. Что ж так переменился в лице, а? Признаешься? Нет? Хотя разве найдется женщина лучше твоей Бурмакан — никому не сделала зла. Как ни встретишь, всегда твердит одно: «Не разлучил бы меня аллах с моим старым Серкебаем!» Но ты ведь и правда не окончательно плох, а? Ох-ох, миленький, отчего это у тебя дрожат колени? Если в сорок трясутся колени, в пятьдесят будет трястись подбородок, нет? Видать, тетушка Бурмакан, хоть и кажется овечкой, все жилы вытягивает из тебя, разве не так, председатель?
— А правда, давай-ка споем, Жийдекан! Давно не слышал вашей песни, соскучился. Начинай, милая!
Слова Серкебая и то, как он с просьбой во взгляде посмотрел на каждую женщину, отвлекли их, по-настоящему навели на песню. Глаза их, всегда переливающиеся семью видами смеха, переменились, затуманились, словно увидав на мгновенье дни молодости, и снова вспыхнули живым блеском.
Бесконечные волны пшеницы ходят под ветром, Сколько невысказанного остается в душе. Переливаясь через край, Радостная, будто голос пшеницы, Рождается песня о счастье, —поет Серкебай.
Женщины слушают, онемев от удивления, потом возникает, присоединяется к песне голос Жийдекан, и уже за ней подхватывают остальные. Они улыбаются — среди их голосов наконец-то переливается голос мужчины. Голос мужчины, правда, настоящего мужчины, да к тому же и самого председателя. Они благодарны Серкебаю. Разве бывало так, чтобы запел? Даже и не подпевал никогда. Всегда ходил задумчивый, а то вдруг взмахивал рукой, будто споря с кем-то, бормотал что-то себе под нос, советовался сам с собой, останавливался, затем двигался дальше…
Но сегодня… сегодня он совсем другой. Отчего?
Развеселившиеся, обрадованные, женщины поднимались вместе с Серкебаем на зеленый холм в ярких крапинках маков. Песня сменялась песней. До сих пор ни одна из них не увидела исполосованной спины Кызалака. Когда женщины окружили председателя, мальчик отошел незаметно.
Теперь же подруги, довольные Серкебаем, шутя обнимали его, некоторые даже целовали. Всё шутя, несерьезно — изливали давно накопившееся, однако ж вот вам — распалились, разгорелись. Послышался смех — нежный, молодой, задорный, чистый. К их смеху, казалось, прислушалась гора, его поддержала река, бегущая по ущелью, пробудилась, вздохнула земля. Кони, быки подняли головы, смотрят и слушают — они тоже довольны. А Серкебай… Запах, дыхание молодых женщин заставили все забыть — улетучились, словно пар, заботы, усталость, голод, мучения. Будто сделался молодым… Поднял голову и запел, как в те давние годы, когда был пастухом…
А женщины — те совсем расходились.
— Я что-то сомневаюсь, настоящий ли мужчина наш Серкебай, — подначивала Самаркан.
Ажаркан отвечала, захлебываясь смехом:
— Сомневаешься, да? Хочешь, чтобы доказал, а?
— Чтоб тебе съесть дохлую собаку! Посмотрите, каждая загребает жар только к своему хлебу! Да если захочу, стукну каждую по голове четыре раза и уведу своего Серкеша, да, Серкеш? — вступила в схватку Жийдекан. Глаза ее и вправду затуманились…
— Кажется, она действительно знает, мужчина или женщина ее Серкеш, хи-хи-хи. — Ажаркан зашлась смехом, но Жийдекан, покраснев от злости, на самом деле ударила ее по голове.
Ажаркан перестала смеяться.
— Умираешь, как ворон без падали, да? — закричала сердито, ударила Жийдекан по руке. — Он муж тебе, что ли? Стой спокойно, чего бросаешься, точно петух на курицу!
— Он-ой, женщины, караул! — взмолился Серкебай. — Как певали прежде, «…спал я с тела, остались одни жилы, сил всего на два дня, хоть режьте, кровь не выступит у меня!..»
— Смотрите-ка, хочет улизнуть от нас, а? Разве можно отпустить зайца, попавшегося в руки? Держите его, женщины! Неужели недостойны воздаяния — ведь проглядели все глаза, ожидая… — вступила вдруг в игру тихая Созулкан и направилась к молодкам, окружившим Серкебая.
Созулкан оказалась сильной — ухватила Серкебая за пояс, повалила на траву. Две молодки за ноги, две за руки, смеясь, стали было раскачивать его из стороны в сторону, но рубашка Серкебая сбилась к шее, и на груди ясно проступили белые шрамы. Женщины увидели шрамы — остановились в растерянности, веселье вмиг погасло. И тут послышался звонкий мальчишеский голос:
— Остановитесь, перестаньте!.. — Это был голос Кызалака. Стоял совсем рядом, бледный, без кровинки в лице. Зубы стиснуты, кулаки превратились в камни.
Женщины молча отпустили Серкебая, в невольном смущении подались назад, отступили. Пока Серкебай поднимался, отряхивался, поправляя рубашку, Кызалак приблизился к женщинам вплотную. Свирепо оглядев каждую, спросил:
— Праздник устроили?
— Ой, пусть сойдет пять шкур с моего лица, что же это такое, миленький! — вскрикнула Жийдекан, заметив красные полосы на спине Кызалака. — Кто ударил тебя, мой родной? Скажи поскорее, покажем кузькину мать тому, кто не хочет справиться со своими руками, затолкаем обе его ноги в одно голенище! — Она подбежала, чтобы рассмотреть хорошенько; на глаза ее навернулись слезы. — Зарезал несчастного, смотрите — прямо ремни вырезал со спины! Подруженьки, поглядите… Что за волк рассек ему спину, настоящий хищник… Скажи, кто ударил тебя, родной!
Кызалак спокойно выслушал, ответил так:
— Женщина не защищает мужчину. Если мужчина допустит подобное — это смерть для него.
— Ой, чьи слова ты повторяешь?
— Отца.
— Неужто отец говорил, что женщина не человек?
— Нет.
— А чего же тогда он говорил?
— То, что сейчас услышали, и еще многое, чего не слышали.
— О боже мой, я считала его ребенком, а он, оказывается, баба-яга, вылезшая из-под земли, а?
— Откуда знаете, что баба-яга говорит по-киргизски?
— Ишь, согнулся, точно обглоданное ребро, и язык у него словно яд, у этого паршивца.
— Послушав вас, и упитанный спадет с тела.
— Эх, чтоб мне увидеть бездыханным тебя, собаки мы, что вступились за тебя!
— Мало видели покойников? А что сделаете, если назло вам не умру?
— Ой, чтоб мне увидеть тебя умершим, вытаращившим глаза! Женщины, скажите же что-нибудь, язык его ужалил меня сквозь кость, сейчас достигнет мозгов!
— Разве мои слова — шило?
— О боже, да он не даст пройти!
— Я ведь не накинул петли на ваши ноги.
— Ой, я же спрашиваю, кто тебя ударил, кто ударил?
— Не женщина…
— Так это Серкебай ударил? Ох, скажи правду, не стесняйся, родной, прямо здесь разделаемся с ним, разорвем на части!
— Мясо председателя не годится в пищу. Свою силу, бьющую через край, сберегите лучше до завтра, сохраните для рытья арыка.
Ажаркан не могла удержаться от смеха.
— Если ты не ребенок, так и не надо, эх, милый, доставил удовольствие моим ушам!.. — выдавила она, когда унялся смех.
— Что я вам — сера, чтоб унимать зуд? Пошли, бык, идем, лошадь, — нечего нам спорить с женщинами…
Погоняя быка и лошадь, Кызалак тихонько двинулся к аилу. День клонился уже к закату. Повеяло прохладой. Женщины подталкивали друг друга, щипали себя за щеки. Глядя в спину Кызалаку удивлялись — неужели это слова мальчика, во сне или наяву слышали его? Не думали, что за войну дети росли быстрее, взрослея за год на два, на три… Чьи-то матери, тетушки, сестры — они отнеслись к Кызалаку как к ребенку… Пережив тяготы войны, они все же хотели видеть подростка — ребенком.
Ни смеха, ни шуток — все стояли поникшие, точно бурдюк, из которого вылили кумыс. Каждая женщина, забыв о других, смотрела на уходящего Кызалака.
Глядя на мальчика, каждая вспомнила мужа, погибшего на войне. Да, вот как получилось: Кызалак каждой напомнил чем-то ее мужа — то ли взглядом, то ли голосом, то ли манерой спорить, то ли жестом, — каждая нашла для себя в нем знакомое, родное, утраченное навсегда. Каждое сердце забилось чаще, каждое сердце заныло… Мужья их погибли, пришли похоронки, но до сих пор не погибла их надежда. Эти подруги, эти семь женщин отказывались поверить смерти, — каждая ожидала в душе, что ее муж, несмотря ни на что, когда-нибудь вернется живым… Ведь бывало же… Ни одна из них не рассказывала о своем ожидании другой, не желая бередить сердце подруги, и каждая знала об этом… Каждая думала: другие погибли, но не ее, не ее муж… А теперь вот, глядя на выросшего Кызалака, они вдруг поверили, по-настоящему почувствовали — муж каждой из них погиб. В их глазах читалось одно: «Так вот кто, оказывается, не погиб… Не погиб отец Кызалака, его сын продолжает его жизнь, удивляя всех нас, наделяя радостью, заставляя иначе взглянуть на мир… Может быть, мы напрасно чувствуем себя беспомощными и наша жизнь — не в одной лишь бесплодной надежде на возвращение тех, кто уже не вернется? Ведь у нас есть дочери, есть сыновья…» Стоило одной из них заговорить, и тотчас остальные… Все начала Созулкан. Шмыгнула носом, смахнула слезу со щеки.
— О-о, Карабай, не погибни! Разве так и будем с тобою глядеть на запад! — вскрикнула она.
Все повернулись к ней — каждая едва сдерживала слезы… Потом уже нельзя было разобрать, кто что говорил: может быть, они произносили имена своих мужей, может быть, проклинали тех, кто начал войну, может быть, говорили еще что-то, — всего этого не мог бы разобрать даже человек, который стоял бы рядом. У всех была одна мысль, у всех — одна беда: они поняли, почувствовали сейчас невозвратное: они — вдовы и прошлого им не вернуть… Их мужья умерли для них в эту минуту… Обняв друг друга, подруги заплакали. Холм, поля, вечер, никого нет поблизости, кто бы мог их успокоить. Плакали в голос, причитали, не стесняясь никого. Вечерний ветерок налетал, подхватывал их голоса, доносил до аила. Аил настороженно прислушивался. Сколько слышали за войну плача и стенаний, как устали от слез, однако из каждого дома выходили люди, тянулись кто верхом, кто пешим в сторону холма, откуда прилетел плач. Шли солдаты на костылях, шли трясущиеся старухи, шли старики, шли дети, настороженные, побледневшие от испуга. Женщины второпях забыли накинуть платки… Все громко спрашивали друг у друга:
— Кто же на этот раз?
— Да уж, видно, сообщили о ком-то.
— Неужели и в поле сообщают?
— Какая разница — в поле или дома. Все одно…
— Не слышно мужских голосов, одни только женщины плачут?
— Женщины ли, мужчины — плач есть плач.
— Шагай же ты, баба! Точно путы наложили тебе на ноги!
— Да не рвись ты чересчур, можно подумать, останешься без угощения. Разве там мясо делят? Слез хватит и на твою долю…
— Эй, пригляди за ребенком, сама не выходи из дома. Мы скоро вернемся.
— Я тоже пойду.
— Нечего ходить, пропади ты пропадом. Что ищешь там, где покойник?
— Хочу посмотреть.
— Нечего смотреть, будь ты неладна.
Общий гвалт, и вдалеке — плач семи женщин. Вот выделился голос Созулкан…
— Никак, помянули Карабая?
— Должно быть, это Созулкан.
— А теперь плачут о Саткыне, а?
— Погодите-ка, не шумите, послушаем.
— Шагай, подойдешь — услышишь.
— Эй, сестрица, а ты прикрыла огонь в печке?
— Ах, шайтан, ведь у меня в казане осталось молоко! Чтобы мне пропасть! Подожди, не уходи, человек нашего дома. Страшно одной.
— Не бойся, старая, шагай скорее. Если приду позже всех, тогда позор моему преклонному возрасту и седой бороде. Эй, черт возьми, плюгавенький, говорю тебе, поспеши. В такое время копаешься. Точно червяк в копыте барана…
— О-о, боже, отврати смерть на месяц, на год!..
Кызалак вернулся, приблизился к плачущим женщинам, застыл неподвижно. Смотрел, слушал. Застыл? Это на первый взгляд так казалось. Сердце его дрожало, сам дрожал, подобно струне комуза. Глаза его наполнились слезами, вот-вот брызнут. Однако мужчина в нем взял верх — иначе давно бы заплакал в голос. Не мог, не хотел показать себя беспомощным перед семью женщинами, перед Большой Медведицей. Люди, непрерывным потоком подходившие из аила, не видели, не замечали его состояния.
Семь вдов сидят рядком у большого арыка, все откинули платки на плечи, распустили волосы. Созулкан разодрала щеки ногтями, у остальных лица не тронуты… Каждая причитает как знает, как умеет, не в лад с другими…
Слышен звонкий голос Созулкан:
Кырчыным[31], ты точно птица, оставшаяся без гнезда… эх! Кырчыным, на твою долю, ой, выпали проклятые дни… эх! Кырчыным, глядя на дорогу, ой, сколько лет… эх! Кырчыным, превратилась я в лед, ой, который никогда не растает… эх!Жийдекан разобрала сквозь собственный плач слова Созулкан, поправила с неодобрением:
— Чтобы увидеть мне твою погибель, горластая, раз уж складываешь хоть два слова, так складывай правильно! Если начала причитать, не нарушай старых обычаев. «Кырчыным» говорят, когда оплакивают младшего свойственника. Уж лучше бы называла «жаш ойрон»[32].
Созулкан ничего не ответила, однако тут же поправилась:
Молодой богатырь оделся в черный вельвет, эй, ох-ох-ох! Молодой богатырь улыбнулся, поглядев на людей, эй, ох-ох-ох! Молодой богатырь был в одежде, подбитой черным бархатом, эй, ох-ох-ох! Молодой богатырь, красота твоя была подобна луне, эй, ох-ох-ох!Самаркан и Сызылкан с небольшим запозданием повторяли слова подруги. Когда они начинали голосить все вместе, нельзя было разобрать ни слова, и только заканчивали они согласно: «Эй, ох-ох-ох». Каждый в аиле знал, что ни одна из них не была настоящей плакальщицей.
Люди все прибывали, подходили толпами, подобно тучам, которые гонит ветер. Они окружили семь женщин, и каждая из семи оплакивала свою утрату. Разве только женщины плакали? Исходило слезами сердце каждого аильчанина. А Кызалак? Он не выдержал, он не мог молчать, он заплакал вместе со всеми:
О-ох, мой дорогой, мой бедный отец! Где, когда я увижу тебя, о-ох!Да, он плакал всем сердцем, не осталось в его душе уголка, где не кричало бы горе. Плакала ночь, глаза звезд застилало слезами, плакали земля и горы, причитала жалобно вода в реке. Плакали дети и взрослые, и девочки, и женщины. Каждый подходил к Кызалаку, обнимал и целовал его, каждый смешивал с его слезами свои, к его горю присоединял свое. Шум и плач заполнили пространство — будто поле рассыпалось на мелкие кусочки, будто небо низверглось на землю…
Серкебай на своем коне приблизился к Кызалаку. Вслух не сказал ни слова, лишь по щекам, по его бороде струились слезы, падали на гриву коня. Он плакал, вспоминая все тяжелые дни, выдавшиеся за годы войны и прежде, он плакал, понимая, что дожил до победы. Сколько он сам проводил сильных и крепких, подобных скале, джигитов, ни одного из них не обошел Серкебай отцовским вниманием. Да, в день отправки на фронт каждого он провожал сам, каждого благословил на подвиг. Он плакал — перед его глазами проходил с улыбкой каждый из тех огромных, с гору, джигитов, которые не вернулись. Он видел их — будто они не погибли: как прежде, размахивают косой, пасут скот, поливают и строят. Он плакал — позади остались многие годы, когда время готово было вот-вот оборваться, подобно струнам старого комуза. Говорят, там, где был пролит айран, остается след; это верно — раз есть народ, остается и след, слава богу… Вот и сейчас слышны детские тонкие голоса. Минут годы, народ вспомнит утраченное, теперешние дети сделаются стройными джигитами… Вот о чем думал тогда Серкебай.
Разрывая толпу, подбежала к сыну Сейилкан — видно, услышала, что кто-то побил Кызалака.
— Правда это, что мне сказали? — закричала несчастная. Народ расступился. — О горе, что это, помогите, люди! Чтоб рука отнялась у чудовища, ударившего тебя, чтоб рука его переломилась! У оставшегося без отца нет защиты, у оставшейся без мужа дети унижены! О народ, о люди! Я пропадаю! Несчастный Кызалак, твой отец только теперь умер! — заплакала она.
То ли голос был слишком пронзительный у несчастной Сейилкан, или же он прозвучал пронзительно в час, когда у каждого болела душа, но аильчан пробрало до костей. Дети заплакали в страхе, в ожидании замолк народ, затихли голоса даже и семи подруг-плакальщиц.
— Скажи, кто ударил, скажи! Отдам ему в руки мое мертвое тело. Разорвусь пополам! Пусть лучше уйдут мои дни, чем считаться живой и видеть тебя избитым!
Кызалак не показал матери своих слез, не дал услышать свой плач. Замер, застыл, как и прежде, затаил дыхание. Ни слова, ни плаче, все смолкли, молчание — как натянутая струна. Все замерли, ждали чего-то.
Дрожащим голосом, задыхаясь от слез, сказал Серкебай:
— Я ударил…
— Чтобы тебе сдохнуть, зараза!
Сейилкан подлетела, руки ее вцепились в бороду Серкебая. Выдернула клок — Серкебай не сопротивлялся; женщина тянула его за бороду вниз, с коня, — он лишь старался нагнуться пониже.
Остановили Сейилкан слова Кызалака. Люди переглянулись — голос сына повторял голос погибшего отца:
— Апа! Разве может ударить председатель? Он не трогал меня — ударил мой враг. Не позорься! Когда было такое, чтобы женщина поднимала руку на мужчину? Оставь председателя, апа!
— Господи, это Кызалак или его отец? Чей голос слышу?
На вопрос матери ответил сын:
— Отец сказал бы тебе то же, что сказал я.
Сейилкан от стыда опустила голову:
— Прости меня, председатель. У меня сердце выскочило, когда услышала, как ты сказал: «Я ударил». Не подумала даже, глупая, что Серкебай не только человека, даже мухи не обидит. Прости…
В это время в народе заговорили:
— Бурмакан пришла.
— Теперь начнется настоящее оплакивание.
— Ой, дай-ка дорогу Бурмакан!
— Иди сюда, Бурмакан.
Тогда Серкебай, с высоты своего коня, обратился к собравшимся:
— Эй, народ, люди, давайте помянем сегодня всех, кто остался на поле войны. Будем оплакивать до утра… Сегодняшний день, пятнадцатое мая сорок пятого года… Давайте этот день сделаем днем памяти погибших — будем вспоминать их, собираясь здесь, на этом самом месте. Погибшие живут в нашей памяти. Не имеем права забыть тех, кто погиб, защищая нас… Здесь ли заведующий складом?
— Долон, ты что не отзываешься, уселся и смотришь?
— Я ведь и собираюсь сказать, что здесь…
— Принеси из своего амбара три пуда муки. Доставьте сюда котлы и посуду. Сегодняшнюю ночь проведем здесь. Рассвет встретим здесь. Эй, женщины! Отправляйтесь! Захватите необходимое. Не забудьте кетмени, чтобы вырыть очаг. Посмотрите-ка, есть ли в арыке вода?
— Течет…
Кто должен был уйти — ушел. Вслед им полетел протяжный голос — плач повела Бурмакан. Лишь теперь началось настоящее оплакивание. Напевный, нежный голос поднимался и опадал, вспархивал над полем, точно птица. Каждое ее слово расплавленным свинцом проливалось на душу, — в этом голосе, в этом напеве, в этом переливающемся плаче было какое-то непостижимое уму чудо.
Серкебай, бросив поводья на луку седла, сел среди людей. Бурмакан вела плач, не отдыхая. Под звуки ее голоса, сквозь печальный ритм напева Серкебай увидел иное: перед его глазами возникло лето далекого двадцатого года. Тогда он, лишь недавно женившийся на Бурмакан, тяжело заболел. Все его тело покрылось язвами. Он ходил от лекаря к лекарю — ни один из них не излечил его. Тело его начало гнить. Он брезговал собой, он опротивел самому себе. А нежная, податливая Бурмакан? И ей, и Серкебаю казались вечностью минуты, когда они заходили в дом… Уж если он сам был отвратителен себе — как же не брезговать Бурмакан? Однако не показывала вида, бедняжка. Задыхалась от смрада, когда входила, затаив дыхание, делала необходимое по дому — и опять скорей на воздух. Только там могла глубоко вдохнуть. А заходя в дом, нарочно задерживала дыхание. Все Серкебай хорошо видел. Поэтому стал уходить из дома во двор, сидел там в тени. За уголок тянул за собой подстилку из шкуры жеребца, которая от старости превратилась уже в железо, в мозоль, не сгибалась, — садился только на нее. О его болезни узнал весь аил. Соседи, привыкшие обмениваться угощением, теперь не только не появлялись — даже близко старались не подходить к дому Серкебая. Завидев Бурмакан, направляющуюся к ним, закрывали перед ней дверь или делали вид, будто спешат куда-то — уходят из дома. Вначале Бурмакан не понимала, в чем дело, — окликала убегавшую соседку, останавливала ее. Однако, поняв, сама перестала встречаться с ними.
Да, в те тяжелые годы у них не было не только пищи — даже огонь пропадал для них. Ведь огонь надо брать у соседей… Да и пищу… На пищу все в аиле как бы имели одинаковое право. Если над чьим-то домом поднимался дымок, соседи заглядывали, будто желая занять соль, муку, чай, огонь, а их дети, если где готовилась какая-нибудь еда, шли туда, чтоб получить угощение. Смотрели, ждали, пока сварится похлебка. Взрослые караулили снаружи и, как только унимался дым, заходили — прямо к горячему… Никто не считал это за недозволенное, думали, что так оно и должно быть в жизни… Все, что подавалось съестного, делили на всех. Если уж совсем мало бывало еды — всего по разу опускали ложку и отведывали или жармы, или мучной похлебки. Того, кто пытался утаить пищу, все осуждали; соседки судачили: «Зашла, а они ели жарму… Бедняги, даже не могли предложить мне ложку». Однако теперь не только Серкебай, даже Бурмакан не могла войти в соседский дом, даже сунуть голову в дверь опасалась… Серкебай целыми днями сидел во дворе, вглядываясь в проходящих по горной дороге. Какие только мысли не лезли ему в голову, одолевали, сверлили… Не сегодня, так завтра ожидает смерть… Хочется уйти из этого мира, поскорее убраться с глаз долой… И не потому, что ему надоела, опротивела жизнь, — нет, просто сам измучился вконец и замучил Бурмакан. Как тяжело быть мужем и женой, жить в одном доме, одной семьей — и брезговать больным. Он понимает: хоть Бурмакан и не подает вида, в душе чувствует отвращение к нему, держится отчужденно и, кажется, даже начинает ненавидеть… Она сожалеет о своей несчастливой доле. Сердце женщины уже не лежит к плохонькой лачуге. Входит с трудом, выходит с легкостью. Если входит — на сердце наваливается какая-то тяжесть, а выходит — чувствует облегчение. Когда Серкебай только начал болеть, они еще разговаривали, советовались о том, что надо бы найти лекаря, лекарство, но в последние десять дней не перекинулись уже ни единым словом. И это хуже всего. Нет большего унижения — жить с человеком и не разговаривать. Исподтишка молча посматривают друг на друга, будто оба виноваты, будто опасаясь, что стоит им заговорить — и не окажется теплых слов, одна только ругань. Но они не бранятся — никогда еще не обижали друг друга. Оба ясно видят, что болезнь беспощадна, что в скором времени им предстоит вечная, бесповоротная разлука… Они оплакивают друг друга, прощаются в душе… Иногда Серкебай сожалеет: «Зачем я женился? В какой черный день встретилась мне родная дочь своих родителей? Неужели я рожден несчастным, неужели на мне проклятье? Что станется с ней, если я умру? В чьи руки она перейдет? Кому еще станет женой? Увянет, пропадет? Нет, пусть не случится такое. Но это пустая надежда… Я умру. Она останется. В ней нет теплой мысли обо мне. Это плохо. Пусть умру, но должен ведь кто-то помянуть меня теплым, хорошим словом?»
Однажды, когда Серкебай, лежа на своей подстилке, делал вид, что спит — лишь бы не молчать наедине с женой, — Бурмакан осторожно подошла к нему, посмотрела, действительно ли заснул. Решив, что Серкебай и вправду спит, она убежала в ближнее ущелье. Через некоторое время оттуда донесся ее тонкий протяжный голосок. Она причитала. И, хотя слов совсем не разобрать было, Серкебай чувствовал, что плач ее — искренний, трогательный, берущий за душу…
Назавтра, когда она снова убежала причитать в ущелье, Серкебай закричал ей:
— Бурмака-ан! О ком это ты плачешь?
Испуганная Бурмакан прибежала, дрожа, — ведь невозможно сказать, что о нем, Серкебае!
— Ты правильно рассудила, несчастная моя жена. Покойника надо хоронить с плачем. Ты правильно делаешь, обучаясь плачу, — нельзя же опозориться перед людьми, не умея складно причитать по умершему мужу. Готовься, скоро ты будешь разлучена со мной, — так сказал Серкебай.
Бурмакан заплакала, она покрыла его лицо поцелуями, она забыла о его болезни, сострадание и любовь, тоска и предчувствие разлуки с мужем, одиночества, вдовства говорили в ней.
Серкебай, боясь заразить Бурмакан, оттолкнул ее.
В это самое время оба они услышали плач — богатая кочевка миновала их дом. Видимо, кто-то умер — какая-то молодка причитала не умолкая. Бурмакан смотрела и слушала, завороженная красотой и величием плача. Затем она торопливо набросила потник на красную корову с обломленным рогом, что привязана была возле дома, и вскочила на нее — устремилась вслед за печальной кочевкой, за необыкновенной плакальщицей. Кочевка удалялась, силуэт Бурмакан то показывался в стороне от процессии, то пропадал, когда ее заслоняла толпа. Бурмакан удалялась с кочевкой и уносила сердце Серкебая, казалось, обрывая его связь с жизнью. Свет померк в его глазах, мир сделался черным, земля заходила под ногами, голова пошла кругом. Разлука с Бурмакан, с женой, которая была для него надеждой, желанием, богатством — словом, всем в этой жизни, самой жизнью, означала смерть. Разлука с жизнью толкала Серкебая в могилу — еще до того, как это было назначено судьбой. «Нужно уходить, нужно отречься от всего… Хорошая собака умирает так, что хозяин не видит ее трупа, неужели я не способен поступить так же? Умереть от язв, сгнить заживо в своем доме? Нет, лучше уйти, скрыться, исчезнуть! Соберу-ка я последние свои силы и, пока могу еще двигаться, подамся вон в те кусты, в ущелье, где меня уже оплакала Бурмакан, лягу там и сгину, пусть меня съедят черви и муравьи, пусть они насытятся. Не хочу я портить воздух этих мест…» Решив так, Серкебай накинул на себя ветхую желтую шубу и, собрав последние, самые последние остатки сил, поднялся со своей подстилки.
Серкебай шатался, еле двигался, прислонялся к деревьям отдохнуть, временами шагал прямо, падал, поднимался, но все же двигался вперед, к тому самому кустарнику, который облюбовал для себя: ему хотелось скорее достичь ущелья, выбрать место для смерти. Он совсем не боялся конца, — казалось, он направлялся к своему привычному обиталищу, к дому, по которому очень соскучился… Усталость, муки болезни, брезгливое отвращение к самому себе, разлука с Бурмакан — все складывалось в ожидание, в желание скорого небытия.
Он совершенно обессилел. Дрожа от предельного напряжения, делал шаг — и падал. «Где моя всегдашняя сила? Ведь не знал прежде, что такое слабость — что случилось со мной? Оказывается, болезнь сильнее всего… Болезнь? Болезнь связывает, давит, душит человека… И нет никакого средства… не спастись от нее? Где же человек? Неужели человек не победит болезнь? Где все те знаменитые лекари, о которых возвещала людская молва? Или все пропали во время голода шестнадцатого года? Перевелись? Неужели после них не осталось учеников, наследников? Наследники… Может быть, и остались, но разве придут ко мне? Наверно, приходят туда, где деньги, где скот, где вкусная пища… Нет, все не так… Они пришли бы, но откуда взяться в аиле ученому лекарю? И раз уж их нет… потому и настала моя смерть. К тому, чье время еще не пришло, один бог знает, откуда является лекарь; для того же, чье время настало, лекарь не отыщется, даже если и находится по соседству. Смерть не за горами. Смерть… Вообще что такое смерть? Есть она или ее нет? Умирает ли человек? Должно быть, все-таки нет. Если бы умирал, не оставалось бы потомства. Нет, человек не умирает. То, что называют смертью, — это когда тело зарывают в могиле. А оставшиеся после человека дети — в них ведь живут его характер, повадки, привычки? А дела, которые он совершил? Разве нет в них памяти о человеке? Но если остается память, остаются дела, наконец, остается его продолжение — дети, разве не означает все это, что человек никогда не умирает? Но я умру по-настоящему, да, я действительно по-настоящему умру. После меня нет потомства. А чем я отличился среди людей, что сделал? Ребенок, милый мой ребенок, как нужен ты в час расставания с миром! Почему до сих пор я не думал об этом?.. Не знал, что сгнию, умру… В прошлом году у Бурмакан получился выкидыш… О, скотина Серкебай, когда плакала Бурмакан, ты еще успокаивал ее, а? Понял теперь, каково проклятье ребенка? Поэтому сейчас вот так лежишь и гниешь. Мало тебе? Умрешь, и умрет твой род — у других же останется продолжение, крупицы их жизни. Ты уходишь из этого мира, не став отцом. Большего возмездия не бывает. Это и есть проклятие природы. Что могу сделать, если это проклятие природы? Пусть природа поглотит меня, насытится мной. Я не боюсь смерти. Каждый человек имеет право умереть один раз. Чего же мне бояться? Умирали люди сильнее меня, уходили более уважаемые… Где остался Сарман-богатырь, от пота которого таял лед? Где остались другие? Правильно, нужно умереть.
Ох, если б мне на глаза попалось хоть что-нибудь съедобное! Пусть хоть какая диковинка, готов проглотить что угодно — изголодался вконец… Сколько дней уже держу пост, весь иссох, кожа сморщилась… Где моя надежда, желание, будущее, о котором я мечтал, где безмятежная жизнь? Вот, оказывается, почему мы говорим «жизнь течет»!.. Если я не достигну, достигнет другой, если я умру, народится другой. Ах! Какое счастье — думать. Правда, ведь думать — это тоже борьба. Вообще я счастливый… Мыслью мгновенно могу очутиться в далеких краях, многого могу достичь… И это дано человеку жизнью, это — жизнь. Подожди-ка, дай я подумаю перед смертью побольше, окажу сопротивление, поживу еще, испытав единственное оставшееся доступным человеческое наслаждение. Это — мое, это наследство, назначенное мне судьбой. Другой человек не может думать точно то же, что я, не может мыслью бороться со смертью, как я. Я думаю, я борюсь по-своему, по-серкебаевски. Это борьба Серкебая… Вон показалась звездочка. Почему лишь одна? Это, наверное, я — небесное отражение… Одна, а? И я тоже — один. Дрожит звездочка, подмаргивает мне, дает знак. Глядит с надеждой, глядит с тоской. Может, и она, подобно мне, родом из других краев, разлучена с милыми сердцу местами, несчастная. Может, и она, подобно мне, доживает последнее, — я-то хоть сам добрался до кустарника, а ее принес кто-то и швырнул в небо, одинокую…»
Серкебай очнулся. Видно, на какое-то время потерял сознание и упал… Поднялся — и даже почувствовал некоторый прилив сил против прежнего, будто отдохнул, пока лежал без сознания. Или наоборот — мысль придавала ему силы? Ведь в мыслях — надежда, в надежде — будущее.
Налетел, задул ветер, легкий горный ветер. Беззаботный, чистый, только что рожденный горой, ледником и ручьем. Серкебай улегся, подставил свою грудь ветру, вобрал его в себя, слился с ним, почувствовал себя его близнецом. Теперь так получается: Серкебай умирает, а ветер остается. Скольких еще Серкебаев овеет он, освежит, чью унесет усталость? Ветер не умирает, ветер не болеет. А что, если заболеет ветер? Тогда плохо. Развеет болезнь по всему свету. Пусть ветер не болеет…
Кто это плачет? Подожди-ка, плачет кто-то или послышалось Серкебаю? Он открыл глаза. Лежит в кустарнике. Шумит, гудит, грохочет вода, квакают лягушки, и что-то живое кричит. Что это пролетело, хлопая крыльями? Опустилось рядом, задев крылом Серкебая, тут же взлетело снова… Может быть, существо, которое вынимает души? Оно крылатое, что ли, это существо? А-а, ну конечно, у него ведь должны быть крылья. А иначе не успевало бы забирать души тысяч умирающих по всей земле…
Опять он провалился во тьму…
Приоткрыл один глаз — был день, приоткрыл другой — ночь. Голова у Серкебая шла кругом, потерял представление о реальности. Сколько дней, сколько ночей лежал здесь — не знал. Чувствовал: будто пьяный, не может поднять голову, а поднимет — сильно кружится голова… Лежал в ущелье на берегу ручья, на зеленом дерне, подобном потнику. Это его одежда, его постель, воздух, пища, дом, могила — все…
Серкебай собрался с силами, открыл глаза. «Ах, как много звезд! Чистые, сверкающие, беззаботные — совсем ни о чем не думающие. Звезд много — я один. Где же та несчастная, одинокая звездочка? Вернулась, присоединилась к другим или добрые руки вернули ее, отнесли, вылечили от болезни? Почему не сделают так и со мной?
Куда подевались люди? Почему не заберут, не унесут меня отсюда? Люди… Пришла бы моя Бурмакан… Кто другой пожалеет меня? Пожалеет обо мне… Кто станет жалеть о бродяге, притащившемся неизвестно откуда? Плохо — у меня нет ребенка, нет сына, сейчас стоял бы рядом, заботился обо мне. О мой милый ветер, ты единственный приблизился ко мне, овеваешь, касаешься меня, не брезгуешь больным телом… Это и есть, видно, мой сын — этот ветер. Да, ветер — он близок человеку, делится с ним сокровенным, ходит с ним в обнимку, греется у него за пазухой. Он советуется со мной, шепчется, рассказывает. Поэтому я счастливый. Я не умру, я не один, пусть все ушли — ветер остался со мной. Он — мое продолжение, он и моя пища. Ветер приносит счастье… Это само счастье, когда ветер насквозь продувает тебя… Иначе ведь во мгновение обращусь в прах… Ветер хорош, ветер близок, ветер сам приходит к человеку, приходит, не заставляя себя искать, не ожидая зова. Наоборот, сам найдет тебя… Значит, я нужен воздуху этих гор. Если не станет человека — кому они будут давать жизнь? Ветер желает мне жизни… Ветер — мое богатство, жизнь, сила, народ, земля, пшеница, можжевельник, береза, ива… Если бы я спустился еще глубже в ущелье, и туда прилетел бы он следом за мной. Подожди-ка, чей это голос? Ветер принес мне мелодию — ну да, это ведь «Кокей кести»! Кто же наигрывает ее? Может, Муратаалы? Похожее исполнение я слышал когда-то на Сон-Куле. Нет ничего задушевнее народной мелодии… Кто посылает ее? Муратаалы или жизнь? Мне безразлично, кто из них, сейчас — это мое богатство. О незабвенная мелодия, о берег Сон-Куля, о несбывшиеся мечты! Нет жизни без мечты. В мечте — ценность жизни…»
Теперь Серкебай отчетливо услышал мелодию комуза. Где она рождена, откуда доносится? С неба или со скалы? От камня, из воды, из ивы или из колючки? Уж не рыба ли наигрывает ее под водой или водоросли, плавающие в ручье? А может, мелодию наигрывает тополь, шелестя листьями под ветром? А может, это женщина, девочка, мальчик наигрывают, выплакивая свою печаль?
Может, это плачет козленок, У которого волк задрал мать? Может быть, это родник, В глазу которого застрял камень? Может, это плачет вдова, Разлученная со своим мужем? Может, это играет нищий монах, Отрекшийся от всего в жизни? Может, это дикая лошадь, Что оберегает себя от охотника? Может быть, это плачет парень, Согнувшийся, получив пулю от врага?И правда, кто знает, как, каким образом донеслась, почему звучала эта народная мелодия для Серкебая, звучала на грани забытья и сознания, жизни и смерти…
Мелодия плакала, мелодия стонала, она раздирала душу. Может, вправду была выжата из камня, вытянута из воды, пробила сердце, сожгла надежды, воспламенила и погасила желания… То совсем обессилев, то встрепенувшись, будто под солнцем, внимала песне душа Серкебая. Он погружался в глубины, он снова всплывал к свету, он поднимался на холм, он зарывался в землю, то задыхался, то заходилось сердце, то лежал помертвевший, то несся, как в скачках… Исчез запах гнили, бусинки росы под звуки мелодии усеяли берег, все теперь задушевно, красиво, все таинственно, все волнует… Быть может, это рука комузиста рождала мелодию, быть может, — душа Серкебая…
Вот и рассвет. Обычный, как каждое утро… Нет, этот рассвет необычен. Сколько уж дней Серкебай не видел такого рассвета! Сам ведь не знает, сколько он дней пролежал в ущелье. Да, необычный, прекрасный рассвет! Поднял всех и всех заставил улыбнуться. Звуки комуза еще слышны… Может быть, это солнце наигрывает на комузе?
Показалось солнце — сегодня ярче обычного, больше и горячее. Разгоревшись, поднялось высоко в небо, осветило мир. Тело Серкебая согрелось, жизнь затеплилась в нем. Солнце вложило в него частичку жизни. Он повернулся лицом к солнцу. И в это время до ушей его донесся слабый шорох, кто-то направлялся в его сторону. Человек? Ищет его, Серкебая? Может быть, это Бурмакан вернулась? Серкебай широко открыл глаза, вглядываясь, приподнял голову. Увидел — что-то переливалось, скользило в траве, приближалось к нему. О боже, да это не человек, не Бурмакан, это — черная, с узором на спине, блестящая под солнцем змея в сажень длиной устремилась к нему! Разочарование, обида, раздражение, злоба обратили в твердую мозоль сердце Серкебая, — находившийся между жизнью и смертью, полубезумный от голода, он готов был заживо съесть все, что ни попадется на глаза. Он взял в руки свою старую желтую шубу, поджидает змею. Змея ползет прямо на него, извивается, поводя головой. Вот достигла, вцепилась в шубу. Серкебай набросил шубу на змею и сам навалился сверху. Схватил через шубу голову змеи, тут и камень подвернулся подходящий — размозжил змее голову… Яростнее волка, изголодавшийся, рассвирепевший, с жадностью набросился, стал разгрызать хвост… Заглушая мучения голода, глотал, не думая ни о чем… Глотал, пока хватило сил, пока жевали зубы… Не помнил, что ест, забыл, где он и что с ним… Теперь сделался пьяным, все вокруг него сделалось пьяным. Где осталась мелодия? Где осталась змея? Что приключилось с Серкебаем?
И опять восходит солнце, снова рассвет. Прежний ли? Нет, это другое солнце, новый рассвет. Сколько дней, сколько ночей пролежал Серкебай в забытьи, опьяненный змеей?
Он открыл глаза. Чувствует облегчение во всем теле. Смотри-ка, язвы его стали белыми бугристыми пятнами — почти исцелился Серкебай! И сил будто прибавилось. Огляделся. Видит — рядом лежит половина той самой змеи. Бешеный голод объял Серкебая. Снова принялся грызть змею, снова опьянел и забылся…
Еще один рассвет, опять поднялось солнце. Серкебай очнулся, почувствовал: да, выздоровел! Ветер налетел, ласково овеял выздоровевшее тело… Какой близкий, какой родной ветер! Это он поднял Серкебая, поднял, поддержал, дал устоять на ногах… Увидел Серкебай, что и горы, и ущелье, и ручей, и равнина, и деревья-кустарники — все в этом мире прекрасно! Отбросив шубу, Серкебай вошел в воду, в быструю, прохладную воду ручья. Отдался воде, — горная, чистая, она смыла остатки болезни. Теперь, не коснувшись шубы, осторожно ступая, пошел Серкебай в кусты. Выбрал себе место и лег, и до вечера, до наступления темноты, пролежал там. В сумерках выполз из кустов. Показались сверкающие огни аила. Огни, самые настоящие огни, обозначающие жизнь!
Серкебай направляется к дому, да, к своему дому, из которого ушел — когда? Он не помнит. Ведет его надежда — в памяти, в мыслях, в сердце у него Бурмакан. Может быть, уже вернулась домой? Он идет совершенно голый, видят его лишь все те же звезды, однако смотрят на него сейчас не по-прежнему, а особенно. Теперь Серкебай кажется сильным — снова будет он не один, снова с людьми… Тихая лежит земля, — идет хозяин земли Серкебай; разрывая ночную тьму, светит навстречу огоньками аил… Вьется, освежает, омывает тело ласковый ветер.
Вот уже аил, вот совсем близко к дому… «Что это? Одинокий голос причитает… Неужели — Бурмакан? Бурмакан?.. Значит, она вернулась? Так это, значит… Это меня она оплакивает?..»
Серкебай долго стоял у входа — слушал. Бурмакан причитала не умолкая. Казалось, плачу ее не будет конца. Наконец Серкебай задрожал от холода и, решившись, тихонько позвал:
— Бурма-аш! Бурмака-ан! Я жив. Дай мне одежду. Вынеси мне во что одеться…
Бурмакан, не понимая, наяву она слышит или ей чудится, замерла… Серкебай опять тихонько подал голос. Наконец Бурмакан решилась — осторожно приблизилась к двери, бросила в темноту ночи одежду Серкебая. Сама, сжавшись от страха, присела в углу постели. Дрожит, смотрит — и правда: скоро появляется Серкебай. Совершенно здоровый Серкебай…
Что за крик тут был, что за плач!
— Сколько искала тебя!..
— Кто тебя научил так причитать? — спросил Серкебай, когда Бурмакан успокоилась.
— Сама научилась. Научилась, когда следовала за плакальщицей.
— За плакальщицей?
— Да. Я ехала за ней день и ночь.
— Для чего?
— Стыдно же: не смогу связать двух слов, если вдруг закроются твои глаза. Народ осудит меня.
— О-о, в твоих глазах есть правда. Это обычай, доставшийся нам от предков. Ну-ка, сложи плач да причитай в голос — пусть слышат, пусть весь аил слышит. Если не знали — пусть узнают теперь, кто такой Серкебай, кто такая Бурмакан. Что мне оставалось впереди, кроме смерти, я ведь уходил уже из жизни… Дай-ка теперь послушаю, как станешь плакать обо мне, когда закроются мои глаза.
Бурмакан начала причитать. Сперва голос ее звучал очень тихо, однако постепенно усиливался, укреплялся. Ветер подхватил плач, отнес в другую, нижнюю часть аила. Крылатый дал силу своих крыльев летящему голосу, из одной двери — в другую, перекинулся с улицы на улицу, разбудил ухо каждого, всех заставил насторожиться. Аил, не имевший подобной плакальщицы, весь поднялся — каждый выбежал на улицу. Собирались по одному, по двое и все направлялись в одну сторону — к дому Серкебая. Сила голоса, сила плача закружила, околдовала, покорила людей. Через небольшое время лужайка у дома заполнилась тесно сидящими людьми. Когда Бурмакан после долгого плача остановилась перевести дыхание, послышались слова собравшихся.
— О Бурмакан, дочка, нужно смириться, разве может человек избежать начертанного судьбой! Кто уходил вслед за умершим? Ты должна остаться с народом! — проговорил хриплый стариковский голос.
Прозвучали сочувственные слова женщин.
Говор усилился.
Вперед вышел белобородый старик, слепой на один глаз.
— Эй, люди, заходите в дом, чего вы боитесь? Болезнь прицепляется к тем, кому пора умирать. Если вы боитесь, так я войду… Мне приходилось видеть умерших от оспы…
Старик распахнул дверь — и остановился, в растерянности обернулся к людям. Что это? Серкебай сидит вовсе не умерший — живой!..
Вот как это все было тогда. И теперь Серкебай вспомнил о давнем, вспомнил первый плач Бурмакан, теперь, когда вокруг плакали люди аила… Плакали, изливая накопившееся, причитали по своим мужьям, братьям, по отцам… Серкебай снова слушал голос Бурмакан — она вела плач, посвящая его всем погибшим, проклиная войну…
Пришел рассвет. Бурмакан завершила свой плач, повернула лицо к людям.
Принесли блюда с мясом.
— Если бедняк один раз наестся досыта, уже видит себя богатым! Черт возьми, что бы там ни было, насытимся хоть раз! Если мы не погибли от проклятой войны, разве умрем, когда пришел мир! Ешьте! — обратился к людям Серкебай.
Мясо было съедено. И опять раздался голос Серкебая. На этот раз говорил стоя, громко, все видели его волнение:
— Этот день, сегодняшний день, пятнадцатое мая, давайте считать, братья, днем памяти павших на войне — погибших за народ, за землю, за нас. Давайте каждый год будем приходить сюда, на это место, в этот день — будем вместе вспоминать о них. Для этого, братья, будет правильным построить на этом месте Дворец культуры, клуб, — неужели станем собираться в поле? Начнем готовиться к стройке с сегодняшнего дня… И еще — давайте на этом месте поставим памятник всем павшим на войне…
Голод не вечен — завтра же мы насытимся, завтра хозяйство наше придет в порядок, завтра наш труд облегчат машины, которые нам даст правительство. Завтра у нас будет все. Я вижу: теперь, победив, мы будем строить коммунизм намного быстрее, чем прежде. Коммунизм не придет к нам откуда-нибудь… Этот коммунизм в нас. В каждом из нас. Вот что я хотел вам сказать. Что ответите на мои слова?
Вспомнив тогдашнюю свою речь, Серкебай остановился. Осмотрелся, увидел — стоит как раз напротив того самого Дворца культуры, который сам отстроил на месте первых поминок… Ведь только что вышел отсюда, да не просто вышел — вышел на пенсию. Хотя казалось ему, что идет в другую сторону, ноги сами привели сюда… Память… Память о пройденном, о прошлом, о войне. Верно, Серкебай навсегда остался связанным, неразделимым с временем…
Кружится, падает снег. Взгляд Серкебая останавливается на Вечном огне возле Дворца культуры. Ничто не может погасить это пламя — ни ветер, ни снег. Этот огонь неугасим и вечен, это дыхание тех, кто погиб на войне, биение их сердец, пламя оборванной жизни…
Серкебай приблизился к огню. Пламя то поднималось, то опадало, тут же взвивалось снова, временами казалось сердцем и вдруг оборачивалось флагом. Снег засыпал огонь, снег таял от его жара. Огонь пел, говорил, думал. Он напомнил Серкебаю другой огонь, похожий… Тот огонь был больше, он выбивался из пещеры в скале. Тот огонь был зажжен в честь Акжаки. В мире много огней, но такой — он для Серкебая единственный. Он посвящен пятистам жизням, ушедшим из этого аила в тяжкие годы войны…
Вот к огню подошла старушка. Это Бекзат. Муж ее погиб на фронте… С тех пор как зажегся этот огонь, каждый день приходит она сюда, тысячу раз повторяет имя мужа, обращается к огню с мольбою, проклинает войну… Она тихо сидит у окна, смотрит, смотрит, а затем очень медленно уходит, с неохотой уходит: сделает два шага и оглянется, потом еще, еще…
Бекзат подошла, тяжело опираясь на палку, не увидела сквозь метель задумавшегося Серкебая — его облепило снегом. Тихо начала говорить:
— Мой Нурдин, мой любимый, каждый день прихожу к тебе, каждый день обращаюсь к тебе с мольбой, ты для меня все прежний — любишь, зовешь, обнадеживаешь… Кажется мне — вижу тебя в этом огне, узнаю черты моего Нурдина… Кажется, скоро увижу тебя наяву… Пусть это невозможно — сама эта несбыточная мысль согревает меня… Не гасни, огонь… Если погаснешь, погаснет моя надежда. Я благодарна судьбе за то, что вижу этот огонь. Если бы не было тебя, куда бы я пошла?.. Ой, что это? Неужели столько выпало снега? Эй, ты снег или человек?
— Не снег я — Серкебай.
— Кто у тебя погиб, милок? Почему ходишь здесь?
— Сыновья.
— У тебя ведь не было сыновей, три дочери у тебя…
— Каждого, кто ушел на фронт, считаю сыном.
— Ты ведь вышел теперь на пенсию? Стал таким же, как я, обыкновенным стариком? Что осталось после тебя?
— Борьба.
— Что ты видел, столько лет работая председателем?
— Борьбу.
— Что тебя ожидает в будущем?
— Борьба.
— Почему ты здесь стоишь у огня?
— Это тоже борьба.
— Я недовольна тобой….
— Я и сам недоволен собой…
— Почему?
— Потому что окончилась борьба человека, который был доволен собой.
— Когда ты узнал об этом?
— Сегодня.
— Почему — сегодня?
— Впервые за сорок лет предоставлен самому себе. До сих пор всегда был занят делами, людьми…
— И как ты себя чувствуешь теперь?
— Плохо. Забытое прошлое, давно ушедшее возвращается снова — у меня голова идет кру́гом. Как будто сегодня опять съел змею.
— Что за змея, милок?
— Черная с пестрым узором на спине, в сажень длиной. Я в долгу перед ней… Когда-то возродила меня… До сих пор не приходило мне в голову: ведь тогда вся будущая моя жизнь была спрятана в змее. Я же рассказывал, это давно приключилось, в тот год Бурмакан причитала по мне…
— А-а, это когда ты умер? Да, правильно говорят, от каждой болезни свое снадобье, ведь тогда плач Бурмакан всех заставил признать тебя. Ты обрел новое имя: муж плакальщицы Бурмакан. Люди, оказывая почет, стали приглашать тебя в гости. А уж потом, когда создавали колхозы, ты сделался председателем Серкебаем. Вообще, что это такое — председательство?
— Вечная борьба.
— Ты джумгальский, а?
— Нет.
— Значит, чуйский?
— Нет.
— Ой, что такое! Откуда же ты родом?
— Я — родом киргиз. Киргизстанский.
— Есть у тебя неисполнившаяся мечта?
— И не одна…
— Значит, и у председателя бывают мечты, а? Я думала, какая может быть мечта у человека, столько проработавшего председателем?
— Человек без мечты — уже не человек.
— Ты считаешь себя настоящим человеком?
— Нет. Настоящий человек — он другой. Что во мне от настоящего? Вот думаю сейчас и вижу: настоящий человек не должен быть таким, как я. Я не умел жить. Работал без отдыха, не знал, что не отдохнуть — это вина. Человек не имеет права стареть. Я состарился, потому что работал и в выходные дни. Человек, который не стремится набрать сил на завтра, — просто неумный. Видишь, какой я: в метель, в день, когда ушел на пенсию, стою, разговариваю с тобой возле Вечного огня. Думаю, я даже больше мечтаю, чем ты… Ладно… как бы там ни было, интересно, что мы встретились в метель. А помнишь, как встретились тогда, в снегу?.. Вспомни-ка. Ты ведь сильнее меня. О тебе будет говорить история, потому что это ты — настоящий человек. Знаю, не любишь рассказывать о том, что пережила тогда, да, наверное, и не можешь рассказать. Если кто спрашивает, отвечаешь: мол, тяжело пришлось, да без этого в жизни не бывает. Помнишь кыштоо[33] Жыланач, а? Если б рассказывал за тебя, начал бы так… Иди сюда, поближе к огню, теперь мы оба равны, будем греться поровну. Я расскажу о тебе, а ты послушай. Здесь, у огня, расскажу о том, что ты пережила. Помнишь, какая суровая выдалась та зима, сколько навалило снега? А ты осталась в кыштоо Жыланач с семью сотнями овец. Снег валил валом до самого апреля, а? Сугробы намело по три метра высотой, и мы не смогли добраться до тебя. Посылали вертолет — сколько раз взлетал, столько не мог пробиться к тебе сквозь облака и туман. Хотели расчистить, пробить дорогу трактором — трактор остался под снегом, еле вытащили, спасли тракториста. Все мои мысли тогда были о тебе, так и видел тебя: то стоишь на плоском камне — ветер начисто обглодал его, унес, сдул весь снег, а ты стоишь и смотришь в сторону аила… То вдруг увижу, как ты проклинаешь меня, плачешь, стараешься приободрить своих… Каждое утро ты поднимаешься вместе с воронами, выходишь из домика наружу и вглядываешься в небо. Ты надеешься, что вот наконец-то проглянут вершины, прояснится, однако видишь все те же тучи, тот же туман. Снег наслаивается на снег, метель сменяет метель… Вначале ты не тревожилась особенно, думала: мол, обычные снегопады, каждый год так — наметет, прояснится, взойдет солнце, южные склоны очистятся от снега — тогда и выведу овец пасти. А в пасмурные дни стану давать им травы из того стога, что летом поставили с сыном и снохой, — как-нибудь и перезимую. Не страшно. Снизу, из аила, подвезут корма. Все будет в порядке. Серкебай в беде не оставит. А снег все идет, валит и днем и ночью, валит по нескольку суток кряду. А то налетает буран — кажется, взвихривает в небо все наметенное на хребте, на склонах, в лощинах. Не дает выйти из дома, не дает посмотреть овец…
Однако ты не сдаешься, привычно поднимаешь утром своих ребят: «Таштанбек, вставай! Гулькайыр, вставай!» Одевшись, вы вместе выходите во двор. На троих у вас одна лопата. Вы по очереди разгребаете снег, передавая ее из рук в руки. Путь к загону, расположенному рядом с домом, — для вас настоящее мучение. На снег, который вы разгребли вчера, насыпало новые сугробы, по сторонам дорожки — горы снега. Наконец вот и загон; овцы, видя вас, разом начинают блеять, устремляются навстречу, расталкивая себе подобных, каждая старается добраться первой, первой получить из рук человека… Они дерутся, лижут вам руки и ноги, подол платья и рукава… Кажется, глаза их застыли от холода, смотрят сердито, с затаенной грустью. Они голодны, они жаждут корма, сена. Не дашь — готовы разорвать и съесть тебя саму. Ты открываешь ворота загона и выходишь наружу; овцы, давя друг дружку, устремляются следом, каждая желает быть первой. Гомон, блеянье… Страшно в горах, заполненных овечьим блеяньем. В такое утро, когда все вокруг заволокло туманом, шум страшен. Овцы вырываются на площадку, которую ты расчищаешь каждый день для них, работая до болей в пояснице. Ты всю ночь рубила топором замерзшее сено, разминала его. Теперь кладешь сено в кормушки, стараясь распределить равномерно. Даже после сильнейших снегопадов ты не отказалась от заведенного порядка, не оставила кормушки под снегом. Овцы мгновенно поедают корм и ждут еще… Ты боишься, что кровь их застынет, что они так и замерзнут, если будут неподвижно стоять на месте. Ты возвращаешь овец во двор, а потом выводишь небольшими партиями и гоняешь их по той самой площадке, где давала им сено. Каждую из семисот ты отличаешь от других… Вначале они не слушались, мучили тебя; те, которых ты погоняла по площадке, снова старались выскочить из загона; однако и скотина привыкает к заведенному порядку: постепенно овцы, которых ты уже выводила разогнать застывшую кровь, стали жаться к заднему углу загона, уступая дорогу остальным.
С каждой новой израсходованной охапкой сена все тревожнее ёкало твое сердце, беспокойные мысли одолевали тебя.
Это кыштоо Жыланач издавна было местом зимовки твоих предков. И ты сама всегда привычно зимовала там, не желая уходить в другие места. Ты не хотела слушать, когда тебе говорили, мол, намаешься, если выдастся суровая зима, что лучше бы ты спустилась ниже, ближе к другим загонам. Ты отвечала: «Если и намаюсь, так я сама, лишь бы вы не намаялись…» Сколько лет ты зимовала здесь с овцами, — разве могли мы предвидеть такое несчастье? Ведь выдавались хорошие годы, когда ты даже отказывалась от сена и кормов, а? При всем том тебя нельзя было назвать беспечной.
Когда я был у тебя здесь несколько лет назад, мне запомнились три тополя возле загона — три красавца, совершенно одинаковые, будто близнецы. Я тогда радовался и удивлялся красоте и густоте их ветвей, богатырскому их росту, — младшему из тополей минуло уже полторы сотни лет. Я остался переночевать здесь и целых два часа просидел под тополями. Какая теплая стояла тогда зима! Помнишь — после полудня с горы полился мягкий, ласковый ветер; ветви тополей принялись танцевать, петь, играть на комузе. Я еще пошутил тогда: мол, у тебя в кыштоо всегда наготове и певец, и комузист, — всю твою жизнь, хочешь ты или нет, будут играть для тебя, и петь, и танцевать. Ты засмеялась, радуясь и гордясь, ты с любовью смотрела на стройных близнецов. Ты рассказала мне, что как-то летом сюда прилетел соловей… И когда я видел тебя сквозь туманы и вьюги той небывалой зимы, прежде всего представлял эти три тополя. Они вытягивали свои гордые шеи, будто желая сравняться с вершиной горы. Потом я видел овец: окружив твои тополя, обдирали и грызли кору. Как я ругал тогда себя за то, что весь мой председательский опыт не уберег меня от ошибки, как я злился, что, несмотря на твой отказ от кормов и сена, все же не доставил их тебе в кыштоо, как судил самого себя! Да, мысленно я представлял тебя судьей, а себя — обвиняемым. Ты спрашивала меня:
«Обвиняемый Сарманов Серкебай! Почему вы, столько лет проработав председателем, накопив достаточный опыт, все же оставили единственную отару овец и кыштоо Жыланач, что значит «Голое», в том страшном месте, где обитают одни только вороны, где рыщут волки? Вы спали спокойно? Спокойно ели свою пищу? Как могли вы показываться на глаза народу? Где была ваша совесть? Где забота о человеке? Неужели вам безразлична чужая жизнь, чужая смерть? Разве возможны такие председатели? Как думаете, какого наказания достойны за вашу вину?»
«Десять лет тюрьмы».
«Всего десять лет? Чужой жизнью вы так не дорожили».
«Тогда смерть».
«Опять хотите легко отделаться, а? Вы должны испытать мучения. Вы должны испытать все те трудности, сквозь которые прошла Бекзат, пережить все, а потом еще и отсидеть десять долгих лет. Не пережив самому, как можно понять?..»
«Я уже пережил. Вспомни — был в услужении у бая».
«Не путайте старое с новым. Одно дело — бескормица, но почему не доставили корма и траву, которые вы запасли? Кто виноват?»
«Я…»
«Может быть, хотите и теперь отделаться выговором?»
«Выговор… Сколько уж их получал…»
Как только не мучил я себя тогда, какие только судилища не устраивал… Ты же не склонилась, не уступила смерти, не осталась под снегом…
Наконец прекратились метели, облака поредели. Однако и тогда не проглянули вершины гор. Туманы залегли неподвижно, заполнили складки, ложбины. А временами опять валил снег. Ты ежедневно очищала от снега крышу вашего дома. С тех пор как ты знаешь себя, ты не помнила таких сильных морозов. Столько лет прожила на свете — только этой зимой научилась разгребать снег. Научилась, как, с какой стороны начинать. Накопила знаний и опыта на всю оставшуюся жизнь. Ты приступала к сугробу — сердце твое замирало, понимая безнадежность борьбы, но затем постепенно успокаивалось. Воля всегда побеждала. Ты начинала сгребать снег — лопата твоя взлетала, будто сама по себе, взлетали большие комья… Ты трудилась не поднимая головы. Сын и невестка твои исхудали, с утра до вечера борясь со снегом. Утешением для вас были уголь и соль. Несмотря на твои протесты, я приказал завезти осенью запасов на два года вперед. Вы разжигали огонь в очаге, каменный уголь горел-потрескивал, давая пламя, давая тепло и свет, — в доме становилось даже жарко… Все позабыв, разомлев, вы мечтали о завтрашнем дне… А потом — снова на улицу, опять поединок со снегом…
Ты даже привыкла подолгу размахивать лопатой. Вовремя не расчистишь двор, крышу, дорожку от снега — еще больше навалит, и уже невозможно будет справиться с ним. Тело твое закалилось и словно с каждым днем набирало силу. Но нервы были натянуты до предела. Выдайся передышка, успокойся твое сознание, ослабни напряжение нервов — ты свалилась бы сразу, заснула мертвым сном…
В этот день, после обильного снегопада, ты работала еще больше, чем накануне. Я не знаю, сколько часов ты махала лопатой, — соленый пот разъедал глаза, от всего твоего тела валил пар; этот пар весь, без остатка, в ту же минуту превращался в иней, в снег, и казалось, опять начинал сыпать сверху. Ты ходила по крыше вся белая, заиндевелая — снежный человек, да и только. Вот устала, подняла голову, распрямилась, чтобы передохнуть, посмотрела далеко в ложбину — и нашла! Как ты обрадовалась находке! Ты разглядела выбившийся из-под снега ивняк, тянувшийся вдоль речушки. Воды там, конечно, нет, давно осталась под снегом…
«Таштанбек! Гулькайыр! Мы не умрем, наш скот останется целым! Вон там, смотрите! Поднимитесь скорее сюда, глядите — вон там! Совсем близко от нас — корм, который мы ищем!» Невестка и сын, еще не понимая случившегося, поспешили к тебе на крышу. Видят твою радость, лицо твое разрумянилось, глаза переполнены счастьем.
«Смотрите — там наше спасенье. Нужно провести дорогу к реке. Мы должны добраться туда, работая день и ночь!» — так ты сказала невестке и сыну, показав им ивняк у реки…
С этого дня вы работали еще больше прежнего, разгребали снег, прокладывали дорогу к ивняку — хоть и небольшому, а все же запасу корма… Сколько дней вы пробивались к нему, наверное, и сами потеряли счет: может, две недели, а может, и месяц; по правде сказать, вам это время казалось вечностью. В конце концов вы все-таки добрались до цели. Вы срезали гибкие ветви, перетаскивали их к загону, мелко рубили и давали овцам. Шли, накапливались дни — ивняка оставалось все меньше. Ближний вы уже весь обрезали, а чем дальше добираться до корма, тем тяжелее: каждый шаг — это несколько десятков лопат снега. Выжили вы потому, что были одно: одна семья, одна душа, одна воля. Как и что делать — говорила только Бекзат, и то, что она говорила, становилось законом.
Вы давно уже не знали ни месяца, ни дня, в который живете, — знали одно: зима и надо выжить самим и спасти скот. Уже почти привыкли к бесконечному однообразию дней, каждый из вас выполнял ставшую обычной работу, и вам уже казалось, что вы прожили так всю жизнь…
Худо пришлось и собакам. Не слышно стало их лая, да и на кого, зачем лаять? Даже волки в такую стужу бесследно исчезли. Вначале ваши собаки привычно держались на воле, но теперь все чаще забирались в загон для овец, ложились все три по разным углам…
И вот однажды случилось… Не выдержали напряжения нервы. Был уже вечер. Таштанбек, поднявшись на крышу дома, невидящими глазами глядел на вход в ущелье, уводившее вниз, к людям. Ущелье заволокло туманом — сколько дней или месяцев продержится он? Ты вдруг услышала плач — Таштанбек заплакал навзрыд. Голос его звучал не по-человечески страшно. Зубы у него стучали, как у оголодавшего волка, он не мог распрямиться, тело била мелкая дрожь. Гулькайыр выбежала на плач, — увидев мужа, открыла в испуге рот, будто закричала без звука, глаза ее округлились… Задыхаясь, еле стояла, с трудом сдерживая слезы. Ты, Бекзат, поднялась на крышу, криком закричала на Таштанбека:
«О-о, нечисть, бессильный замухрышка, разве это я родила тебя? — схватила сына за ворот, повернула к себе, дважды хлопнула по щеке. — Еще раз увижу слезы, услышу хоть звук плача — и ты умрешь! Твой отец, которому все уступали дорогу, которого уважал каждый в аиле, — твой отец не плакал даже под пулями!»
Таштанбек опустил голову.
«Я задыхаюсь здесь, тоска — она хуже смерти. Одолела меня, сил нет…» — ответил он, захлебываясь слезами.
«Замолчи, тварь! Человек создан, чтобы побеждать — все, начиная с самого себя! Тех, которые легко сдаются, мы называем тварью, тех, которые побеждают, — человеком. Воющая собака, лучше подохни на моих глазах, — смотрите-ка: его жена не плачет, так он завывает сам! Мы с ней останемся жить, ты же, нечеловек, лучше умри!»
Размахнувшись, Бекзат столкнула сына с крыши вниз. Он упал — и мгновенно скрылся в снегу, глубина сугроба здесь была с пастушью палку-укрюк. Вот тогда заполнил долину пронзительный вопль Гулькайыр, — так он был страшен, что все отозвалось: заблеяли овцы, завыли собаки и, кажется, дрогнули горы.
«Апа, родная, отдай мне свой гнев! Отдай на этот раз. Ведь это твой сын, твой единственный!» — она умоляла свекровь, обнимала ее за шею, целовала сквозь слезы.
«Я родила собаку — не сына. Вытащи его…»
Гулькайыр оправдала тогда свое имя[34]… Да, Гулькайыр оказалась достойной… Как только выдержала лопата! Снег, что без отдыха перекидала Гулькайыр, не смогли бы осилить до вечера два здоровых молодых джигита…
Так у вас было, Бекзат?
Это Серкебай не выдержал, прервал свой рассказ.
Женщина слушала затаив дыхание. Ответила так:
— Было еще труднее… Но все же рассказывай. Ничего не забудь… Здесь, у огня, в метель, тянет вспомнить прошедшее. Ты расскажи, как добрался до нас…
— Таштанбек совсем притих. Ни звука, ни слова. Пошлешь куда — пойдет сделает, скажешь: работай — работает, а не скажешь — так и будет сидеть у окошка, вглядываться тоскливо в туман. Оцепенел Таштанбек. Тебе, однако, было не до тоски. С чем сравнить твою тогдашнюю энергию? Даже гора, та гора, к которой ты обращала взор, ожидая, когда приоткроется вершина, — она радовалась тебе, твоей силе и вере в себя, радовался и снег, видя, как ты, не сдаваясь, отвоевываешь двор, корма, дорожку и крышу, как бы обильно он ни валил.
О, как тяжелы были тогда заботы, упавшие на мою голову. Не простаивало ни одной машины, ни трактора, люди забыли об отдыхе, пробивали дорогу сквозь снег, возили сено, доставляли корма. Когда вся трава осталась под снегом, прокормить шестьдесят тысяч овец… Это только сказать легко… Шестьдесят тысяч — точно фабрика по переработке — подчищали заготовленные корма. А как начнут от голода блеять, так заноют все твои кости. Кто только не помогал нам: посылали людей из города, приезжали машины с солдатами. Мы считали — сена заготовлено на два года… а как посмотришь — запас тает прямо на глазах… Плохие мысли одолевали меня тогда. Если в одну только эту зиму потеряем все то добро, что копили, сколачивали тридцать лет, тридцать зим… Тогда лучше умереть Серкебаю. Тридцать дробилок не утихают ни на минуту. Думаешь, теряли хоть стебелек? Нет, мы не упускали и малейшей былинки. Поклониться нужно нашим людям… Сто человек заняты были одним: дробили траву… Целых сто человек. А всего способных к работе было, помнишь, девятьсот девяносто четыре человека… И в обычных условиях еле хватало, а теперь, когда навалилась беда, — чтобы еще и разгребать снег… Работали стиснув зубы… Душа рвалась вон из тела… Мы сдерживали свои души зубами, а? Ты ведь сама знаешь: прежде за один месяц уходило около пятнадцати тысяч пудов травы, да восемь тысяч силоса, и еще около трех тысяч пудов кормов. Так было раньше, пока снег не закрыл траву, а когда мы лишились пастбищ и пришлось обратиться к запасам, жить одними запасами, — вот тогда нам досталось по-настоящему… Конечно, разумно мы поступили — вовремя сдали на мясо двадцать тысяч овец.
Люди обросли бородами, глаза у всех покраснели от бессонницы и от ветра. Совсем не видели дома… Я носился от бригады к бригаде, в кармане держал счеты, в замешательстве подсчитывал запасы… Если хоть пуд кормов расходовался не так, как надо, мне казалось, что у меня вырвали почку… А тут говорят сверху: приедет человек из другого колхоза, раз у меня заготовлено кормов на два года, должен помочь соседу. Так вот и крутился я: и смеялся, и плакал… плакал — и все-таки дал соседу, хоть и немного. Как же не дать: не чужие — наши, советские люди… А у нас случись беда — завтра же сами пойдем к ним, как они к нам пришли сегодня. Шестьдесят грузовых машин, семьдесят пять тракторов — вот как помог нам город. Вот тогда мы поняли нашу силу…
— А какой был приплод, не помнишь, Серкебай?
— Последние десять лет на одном уровне. Двадцать две тысячи…
— В год, когда мы объединились в колхоз, знаешь, Серкебай, всего ведь насчитывали две тысячи овец. Ты уже тогда был руководитель… Ты поручил их мне как коммунисту, оказал большое доверие. Ох, когда я погнала их впервые перед собой, помню — аж земля загудела! А теперь мы так просто говорим — «шестьдесят тысяч». Ну, продолжай свой рассказ, Серкебай. Все пережитое забывается со временем, но пусть скорее забуду лицо той зимы. Это было несчастье для нашего края — всех постигло, коснулось каждого… Только помощь правительства дала нам возможность выжить, а если б такое случилось в прежние времена… все бы погибли. Ну, продолжай, Серкебай.
— Да, ты права: в прежнее время такая зима привела бы к голоду. Теперь же многие из вас получают пенсии… Добавочные шестьдесят рублей в хозяйстве — это ведь не так просто, а, байбиче Бекзат? Только вот если бы жил твой Нурдин… Наши с ним души были близки… Если ты готовила что-то, помнишь, распоряжался: «Пригласи Серкеша, эй, Бекзат! Говорю тебе, пригласи, друзья делят судьбу пополам». Бедный Нурдин… Теперь вспоминаю и вижу: лучший был друг в моей жизни… Мы ведь не знали «мое» и «твое»: если что было у меня — вы приходили ко мне, а я — к вам… Это была настоящая дружба, правда…
— Продолжай свою повесть, Серкеш. Снег кружится над огнем, а глаза мои видят ту проклятую снежную зиму, будь она неладна, — сказала Бекзат, поправляя пуховый платок. По ее раскрасневшемуся от мороза лицу пробегали отсветы пламени.
— Знал я, конечно, — ты так просто не сдашься. И все равно: куда ни иду, с кем ни говорю — мыслью возвращаюсь к тебе. То мне кажется, будто тащишь ты за ноги замерзших в снегу овец — затаскиваешь их под навес, то будто сдираешь с них шкуры… Наконец собрал актив, собрал коммунистов — стали говорить о тебе. Даже и надежды не было сохранить овец — одна задача: найти способ связаться с тобой. Ты сама понимаешь, в чем загвоздка: кого послать. Толковали, толковали, в конце концов я сказал — пойду сам. Подумал я и решил: правда, нет никого более подходящего. Я же был закадычным другом Нурдина. А в тридцатом, во время коллективизации, сколько раз уходили мы с ним от смерти. Ты, Бекзат, была неразлучна с нами. Говорят, друга проверяй в беде. Самое время проверить…
Накануне утром на перевале я видел открытое место с ладонь — ненадолго разорвало ветром туман. Вертолету для посадки достаточно. А дальше придется — на ощупь… Видимо, они все трое не могут передвигаться по снегу, нужно взять лыжи для каждого. Конечно, они намучились без лыж. Да, а ведь в прежние годы мы вместе выходили на соревнования… Если волк состарится, у него все же остается силы настолько, чтобы справиться с одной овцой. Решено — я пойду сам. Если пойду — жива во мне сила, убоюсь — позор мне тогда! Душа Нурдина глядит, не даст спокойно уснуть. Распорядился: приготовьте спирт, приготовьте пшена, лепешек. Нужны ручные сани с плоскими полозьями. Если вертолет сможет сесть на перевале, остальное беру на себя. Не такой уж это и риск. Видел я эту паршивую гору, сколько раз видел… Тряхну стариной, вспомню время, когда сам был пастухом. Пойду один — дойду и без напарника…
— Твой приход тогда — разве это передашь словом… Это было прекрасно. Мой Таштанбек — он переменился, стал другим человеком, увидев тебя… Теперь ведь нет пастуха лучше него. Ну, продолжай свой рассказ, Серкебай. Эх, пусть не увидят больше такого мои глаза — мы ведь тогда докопались уже до корней этих ив, не осталось, чего срезать, чем кормить овец… Стоим растерянные… Смотрю: так ведь есть же еще тополя, шелестят на ветру ветвями! Как обрадовалась — поспешила за лестницей, за топором. Вот тогда я увидела сноровку Гулькайыр. Точно птица, без страха — с ветви на ветвь, высоко, у верхушки тополя, моя милая… Я ожидаю внизу, я ахаю в страхе, я прошу ее быть осторожней — не дай бог упадет! Гулькайыр отвечает: если даже и упадет, снег примет ее. Обкорнали, обрезали мы тогда ветки тополей, столько лет любовались ими… Изрубили, посыпали солью — вот и корм для наших овец! Ну, продолжай — что было с тобой?
— До утра не сомкнули глаз, в мыслях был уже на перевале, все молил, чтобы небо было ясным. Посмотрел на рассвете — а он, милок, окружен только редкими облаками! Даже вспотел я от радости! Все, что я перечислил, уже приготовили для меня, я поспешил к вертолету. Мы быстро достигли перевала, и там летчик удивил меня своим искусством — ведь сумел втиснуться между двух скал, милый. Все шло так, как задумали. Я спустился на снег, положил на сани два мешка с грузом, накрепко привязал. С летчиком мы договорились, чтобы забрал нас здесь послезавтра, если будет ясная погода. Улетел вертолет, — едва только поднялся над скалой, его проглотило облако. Проводив вертолет взглядом, я обвязался веревкой от саней и тронулся в путь. Я поднимался ложбиной в сторону твоего кыштоо. Заблудиться здесь невозможно: если собьюсь в тумане, возьму правее или левее — тогда упрусь в гору. Компаса мне не нужно. В ложбине передо мной — густой туман. В каких только трудных условиях не довелось мне бывать, однако туман — это что-то особенное. В нем ты — один-единственный в мире, последний… Знаешь ведь, я не трус, но на этот раз… наш привычный туман — он не страшен. Здесь же кажется: вот сейчас вцепится, обхватит тебя, разорвет и съест… Словно и не туман это, а что-то живое, холодное, с зубами… Оно обволокло, обмотало, облепило — постаралось связать движенья. С каждым шагом что-то черное выступает навстречу. Оказалось — выступы скал. Сердце скачет с непривычки… Один раз даже вырвались в страхе слова: для чего, мол, пришел сюда — не иначе божье наказание. Но тут же обругал, устыдил себя, назвал малодушным. Я выказал слабость, столкнувшись с туманом, а каково же Бекзат — ведь зимует в этих местах! Она — женщина, ты — мужчина. Так и оставайся мужчиной. Пусть ни единая душа не услышит твоих жалоб. Нужно идти. Да, я должен либо найти Бекзат, либо умереть. В тумане перед моими глазами вдруг возникает змея. Та самая черная с пестрым змея, что когда-то вернула мне жизнь. Извивается, все ближе ко мне, все быстрее… Наконец достает — и набрасывается на мою шубу. По всему моему телу проступает пот. Я поднимаю голову, я останавливаюсь. Ничего не видно вокруг. Что меня ждет за стеной тумана? Быть может, стерегут сорок смертей? Тогда я скажу, что меня пригнала сюда смерть. Жертвовать собой для народа — геройство. А если я не умру? Неужели все должно кончиться смертью? Совершить геройство, не умерев, — легче или труднее? И вообще неужели это геройство, когда погибаешь в горах? Нет. Мужчина не должен бояться. Я же боюсь. Боюсь одиночества, а не смерти. В мире нет ничего страшнее, нет большего несчастья, чем одиночество… Ох, смотри-ка, туман немного развеялся. Стало светлее вокруг. Господи, что за мощь! Мощь без жизни… Даже камни будто застыли в испуге. Да, мир прекрасен, мир оживает, теплеет только в присутствии человека. Шагай шире, Серкебай! Ты — хозяин! Если выберешься отсюда живым, назовут эту ложбину именем Серкебая… Улыбайся! Знаешь, в памяти народа останется не то, что ты был тридцать лет председателем, а то, что прошел зимой через горы. Такое запоминают. Ну, а если и не запомнят, значит, не надо. Я должен помочь жене моего погибшего друга, должен добраться до кыштоо, должен идти, не боясь умереть. Если я не способен на риск во имя другого — пусть угаснет мое имя Серкебай.
Куда это я пришел? И что там выглядывает из тумана — похоже на голову змеи? Тьфу! Неужели обломок скалы? Как все же много нанесло снега, трудно идти.
Снова опустился туман. Будто приоткрыл подол чапана и опять закрыл… Подождал бы немного, дал бы как следует осмотреться. Ладно, опустился — и пусть. Так даже лучше. Легкий путь — его кто угодно одолеет, но Серкебаю по силам и трудное. Я даже спеть готов! Спеть? Или начал уже сходить с ума? Хочешь песней перевернуть всю гору? Разве можно сейчас подавать голос! Молчи, Серкебай. Горы зимой капризные. Услышат малейший звук — и начнут трескаться ледники, пойдут лавины, вмиг ложбину забьет до отказа снегом — вот и все счеты с тобой, Серкебай! Затаи лучше дыхание, молчи, шагай легче. Родная земля поддерживает меня — смотри-ка, до чего легко я иду, точно лечу на крыльях. Я доберусь быстро. Уже немного осталось. А если и много, так все равно для меня — немного. Это и есть председатель. И самое главное в нем — именно это свойство… Да, прежде думаю о других, потом — о себе… Если б сидел у жены под боком, названивал по телефону, если б шумел: мол, в горах в опасности люди… но нет, я так не могу. Я — Серкебай. Я должен испытать то, что испытывают все…
Вот я уже подошел к склону. Теперь вниз. Погоди-ка, ведь это, оказывается, не склон, я уперся в скалу… Куда же теперь? Как бы в тумане не повернуть назад… Тогда я пропал. Нужно запомнить эту скалу. Если сейчас заблужусь, не найду дороги, лучше вернуться сюда и отсюда пойти искать снова. А-а, так это место я знаю — его зовут Кыз-Джигит — Девушка и Джигит. И правда, расщепленная на две части скала своим очертаньем походит на двух обнимающихся влюбленных. Оказывается, я не сбился с пути! Хорошо, я пройду здесь, а там… нет, а что, если спуск закрыло лавиной?.. Зачем ломаешь голову, Серкебай? Шагай, не думая о трудностях впереди; если станешь думать, заранее представлять — потеряешь энергию, силу. Я — счастливый. Иду отстаивать жизнь человеческую. Это то, что мне нужно… Кстати, теперь можешь выпить, Серкебай. Ты всю жизнь не пил, теперь разреши себе отведать. Те, что пили в довольстве, — не люди. Для чего ему пить, если крыша над головой, а жена под боком. Выпить можно в безвыходном положении. В безвыходном положении… выпить… Разве одно совместимо с другим? Это — выход? Что я говорю? Разве спирт не ввергает как раз человека в безвыходное положение? Я не замерз, значит, я и не должен пить. Идем, Серкебай. Опять ты остался без выпивки, бедный! Сколько раз в жизни тебя заставляли пить, — молодец, всегда стоял на своем. Да две страсти портят человека — бабы и глотка. Но нет, скорее можно растопить мумие, а меня растопить нельзя! Так, куда же идти? Совершенно темно. Туман или вечер уже? Неужели так скоро? Сколько же мне удалось пройти? На часах… так… третий час — значит, день. Куда я пришел? Ну-ну, опять рассеялся туман… Ладно, что мне без выпивки, каково-то скоту без корма? Но в колхозе порядок, ты сделал что мог. Да, хорошо я тогда поступил. Я послал на учебу в город двадцать восемь ребят — всех за счет колхоза. Все закончили институты, все работают… Я теперь не выпрашиваю кадров, но зато отдаю другим, а? И не только главные специалисты — целая группа работников с высшим образованием. Разве не об этом говорят — «жить по-серкебаевски»? Да, правильно сделал… В прошлом году пятнадцать человек совершили путешествие за границу, видели многие государства мира. Теперь они рассказывают, могут теперь сравнивать, каковы зарубежные страны и какова страна, которую мы называем «наш колхоз». Ездили даже на Кубу, в Канаду… Пусть смотрят, пусть путешествуют, почет — работающим хорошо, отпор — работающим плохо. Какая разница теперь между колхозниками и городскими, а? Каждый год у меня получают отпуск, самый настоящий, на двадцать четыре дня. Двое моих специалистов ушли председателями в соседние колхозы, один — директор совхоза Чаткал. Эти успехи прославили мое имя. Нет, пустые говорю слова. Разве работал затем, чтобы прославить себя? Но для этого ведь достаточно быть Геростратом… У каждой славы свое лицо…
Ой, что это? Оказывается, остановился и думаю. Бедный Серкебай, все не как у людей получается, а? Шагай да молчи! Доберешься — тогда пусть живет здесь твое имя: мол, добрался Серкебай, молодец, а иначе пусть останется здесь твое тело… Интересно — до сих пор я вообще не думал о смерти. Верный признак — значит, еще не состарился. Или снова помолодел, а? Ладно, смейся, в таком гиблом месте смеяться не грех — только тихо! Молодость… Бедная моя Аруке, вот у кого была чистая душа… А Бурмакан? Она тоже хорошая, но все же… Я не успел насладиться своей Аруке. Видно, тогда и умерла она, в шестнадцатом, и праха уже не осталось… Нет сейчас таких женщин. Ведь была ловчее мужчины и духом сильнее… Если вспомнить, сколько же времен сменило друг друга! Разные времена, непохожие… Чтобы дожить до моих лет… непросто это, оказывается. Дай бог счастья и долголетия трем моим дочерям. Какая разница, что не сыновья, не мужчины, сейчас все сравнялось. Ведь в прежние времена было как: тебя кормил в старости сын. Оставался рядом с тобой, был поддержкой на склоне жизни… А теперь — получает знания в городе, уезжает туда работать, только и видишь письма. Время такое… Прежде не было учебы. То есть была, но учил отец… Лучше сейчас или хуже?.. Если в старости не имеешь опоры, если некому жить под твоей крышей, следить за огнем в твоем очаге — это плохо… Однако имеющий знания сын будет жить не завися ни от кого — вот это хорошо. В каждом деле своя хорошая и своя плохая сторона… Ведь и в старой жизни сочеталось хорошее и плохое… Другой вопрос — как сочеталось. У меня три дочери. И хотя все вышли из одной утробы, по характеру их не заключить, что родные. Э, Серкебай, оставь-ка женщин. Лучше бы один сын, чем три дочери. Да… Но помнишь ли свои слова, сказанные перед народом, что сейчас иметь дочерей лучше, чем сыновей: мол, сыновья чаще уезжают работать в город? Или, чтобы открыть душу, должен был очутиться вдали от людей, в густом тумане, в узком ущелье?.. На следующий год мы сдадим одиннадцать тысяч центнеров мяса. Как перезимуют овцы? Да, вспомнишь — сердце кровью обливается. Нынче не смогли сдать четыре тысячи центнеров шерсти, как в прежние годы. Какая тут шерсть, если овцы худые. Плохо, очень плохо. Однако неужели же развалиться и лежать, мол, худо — и ладно? Нет, это не по мне. Из плохого да снова в хорошее — это и есть, как говорится, жизнь, сито жизни. Все просеет жизнь в своем сите, каждому определит место. Эх, выбраться бы без особых потерь из этих зимних напастей да махнуть на курорт. О боже, бедняга, сколько можно обманывать себя? Предполагаешь одно, а на деле выходит другое… Ты разве когда-нибудь отдыхал?.. Ну наконец-то, с божьей помощью, как говорится, туман уползает. Но что это? Никак буран… или… Воет! Ну надо же — волк. Уцелел, смотри-ка! Прямо стонет, точно больной человек. Черт возьми, воет прямо над головой! Похоже, он на скале. А это что за скала? Да это Кара-Зоо. Значит, здесь не перевелись еще волки… Прямо ему со скалы не спуститься, а если даже и сможет, так ведь утонет в сугробах. Тут не попрыгаешь… Наверху, на скале, небось голо — все сметает оттуда ветер… Волк… Интересно… Не только не страшен сейчас — голос его даже подбодрил меня. Все же неплохо услышать голос живого существа, когда идешь и не знаешь, а может, уже все вымерло в мире, остался один лишь туман… Ладно, волк так волк. Я продвигался вперед — вдруг у подножья скалы столбом взвихряется снег. Я даже не сразу уразумел, что случилось. Стою, смотрю на то место, где поднялся фонтаном снег, вижу: снег шевелится. Мне интересно! Ох, через какое-то время снова зашевелилось, а затем показалась голова — не голова, морда, запорошенная снегом. Только тогда я понял — ведь волк! Значит, хищник, учуяв меня, спрыгнул в сугроб со скалы. Что же мне делать? Жди я его до утра — все равно теперь не сдвинется с места. Я повернул, направился к волку. Вижу, глаза его светятся злобой, открыв пасть, лязгает зубами. Этот дергающийся в снегу несчастный совсем изголодался, исхудал, обессилел. Да и совсем уже старый к тому же. Посмотрел я на него и, по правде сказать, впервые в жизни пожалел волка. Разве волка? Волком мы называли хищника — не какое-то тонущее в снегу бессильное существо. Он стремится ко мне, глазами пожирает меня. Проползет немного вперед, опять зарывается в снег. Не может добраться, но, кажется, стоит ему дотянуться — тут же вонзит зубы. Да, вот так встреча! Встреча волка и Серкебая один на один. Я спрашиваю его:
— Эй, волк, если бы мог допрыгнуть, отвечай, что бы ты сделал?
Я замахиваюсь своей палкой — волк в ответ лязгает зубами. Понятно, хочет сказать, что сожрал бы.
— Ударить тебя, размозжить твою голову? Далеко ж ты унюхал меня! Неужели ждешь смерти?
Волк опять стремится подняться и опять проваливается в снег. Я жалею его. Я говорю себе: все же это живое. Мы ведь всего не знаем, может, и от него есть какая-то польза в жизни. Ведь в природе нет ничего, что бы не приносило пользу. Ну, товарищ волк, я считаю, что ты, возможно, полезен… А обо мне что ты думаешь? Я — полезен?
Я тихонько концом палки ткнул его в морду, оказавшуюся опять под снегом. Он в ответ снова лязгнул зубами. Да, волчище, твои мысли понятны. Думаешь об одном — как бы съесть…
— А может, правда, пришел за смертью, а?
Из последних сил волк рванулся — вот уже он рядом со мной.
— Я спрашиваю: будешь ли ты доволен, если убью тебя?
Морда волка дрожит от злобы. Душа его рвется к крови, он жаждет достать меня зубами, да не осталось сил…
Я ткнул своей палкой ему в глотку.
— Значит, сожрал всех овец у Бекзат, а теперь желаешь человечьего мяса, а? Проткнуть твою бездонную глотку, которая никогда не насытится? Здесь земля нашего колхоза. Ты — мой волк, моего колхоза. Могу заколоть и овцу, и тебя, если пожелаю. Вижу — ты не хочешь умирать. Я тоже. Кто из нас двоих сильнее, тот владеет жизнью другого. Я сильнее. Однако я понимаю: если убьешь меня — для того, чтоб насытить желудок. Я же в тебе не нуждаюсь: мне не нужна даже твоя шкура, оставляю ее тебе. Чтобы содрать твою шкуру, на это нужно ведь время и силы. К тому же, если совсем по-честному, я тебя жалею. Я думаю, может, если бы выучить, стал бы ты хорошей собакой, охранял бы овец, а? Нет, конечно, из тебя не выйдет собаки. Но я не настолько стар и не так обессилел, как ты, я должен бороться с сильным волком. Я не стану тебя убивать. Силу, которую я потрачу, чтобы убить тебя, лучше использую, чтобы скорее добраться к Бекзат. Идем, хочешь — следуй за мной. Я заберу тебя вниз, если пожелаешь. Способен понять человечность, а, волк? Хочешь, я откормлю тебя? Э, вижу, ты разжиреешь, а потом порвешь цепь и покажешь свою волчью сущность! Я не верю тебе. Вижу, вижу — глаза у тебя нехорошие, морда твоя — недобрая. Да, пока у тебя волчьи зубы — значит, и волчья душа, не способен забыть, что ты волк.
Концом палки я ударил по волчьим глазам, по зубам, по морде. Зубы звякнули о железный наконечник палки — он схватил, закусил и держит что есть силы. Раз встряхнул и еще… Тянет палку к себе, я — к себе. Все же я оказался сильнее, выдернул палку из волчьих зубов. Так мы померялись силами. В волчьих глазах залегла тоска. Или он потерял надежду убить, или вправду совсем обессилел, не знаю, — больше он не открыл пасти.
— Ну, прощай, волчище сердитый, — я ухожу. Мое дело — бороться с сильным, ты же умрешь и сам.
Я повернулся и пошел своей дорогой. Волк завыл мне вслед. Голос его теперь зазвучал иначе — казалось, он не выл, а плакал. Ты же знаешь меня — я вернулся и посмотрел на волка. Эх, вот еще чудо, ведь он и вправду плакал, довелось мне увидеть слезы на волчьих глазах…
— Тот, кто умеет плакать, знал бы меру, когда убивал овец. Я не могу пожалеть тебя. Пришло твое время. Пусть снег задавит тебя. Пусть стиснет, лишит подвижности, задушит. Больше мне нечего тебе сказать. Вознеси свою печаль богу. Плачь, излей тоску в слезах. Видишь — у тебя даже не осталось слез, чтобы плакать!
Я двинулся дальше. Налетел ветер, рассеял туман — он поднялся к вершинам скал. Слава богу, стало хоть видно вокруг! Ветер в горах гудит по-иному, не так, как в долине, — воет, точно голодный волк. Может, сжалился ветер над волком, заговорил с ним, а может, это сам волк подает голос? Воет, глядя мне вслед? Плачет, горюет и воет: мол, упустил добычу? Я думаю, был бы он сыт, тогда бы голос его звучал по-другому! Я думаю о себе, сравниваю себя с волком. Оказавшись, как он, в западне, я завыл бы, заплакал бы? Не знаю… Видел, как он спрыгнул с вершины скалы? Сделал бы я то же, услышав внизу голос волка? Да, конечно. Или волк бы тогда съел меня, либо я — его. Убил бы и съел — как змею? Да, я, Серкебай, ради жизни съевший змею, съел бы и волка…
Голос волка все дальше, слабее. Постепенно совсем исчезает. Я продолжал свой путь, не зная, сколько еще осталось… Скорей бы кыштоо, скорей бы увидеть Бекзат! Как тяжело одному… Встреча с волком нагнала тоску. Впереди — скала. Что там чернеет под выступом, будто даже шевелится? Я внимательно присмотрелся — вижу: да это ворон! Самый настоящий ворон! Что-то долбит в снегу клювом. Раскинутые рога. Значит, горный козел, — видно, подох от голода, застыл. Шкура примерзла к костям, не поддается клюву, как ни старается ворон — вкладывает всю силу. Да, на морозе туша обратилась в камень — ворон не может пробить шкуру козла… Увидел меня, посмотрел и будто обрадовался: бог посылал ему теплое мясо, если скоро умрет человек… Ворон… За одно мгновение мысль моя облетела весь мир. Сито жизни… Почудилось: ворон, взмахивая крыльями, опускается мне на спину, собираясь насытиться плотью. Вот уж кому не жаль человека! Отдирает кусками мясо, глотает… Сердце мое кольнуло от страха, скорее открыл глаза. Задумался всего на мгновенье — смотрю, а ворон уже рядом, подобрался совсем близко… Ох, нехороший у ворона взгляд — голодный. Только что был ведь другим — застывшим, ледяным, безнадежным. Вдруг сделался оживленным. Вижу — так и поедает меня глазами ворон. Да и всегда-то его взгляд неприятен, даже если насытил желудок, но когда сам голодный, холодный, взгляд становится в сто раз голоднее. Конечно, подобное встречаем и в людях — есть ведь люди с повадками ворона… Да, еще говорят, что глаза ворона — исцеляющее лекарство и глаз стервятника — тоже. Может ли излечить глаз убийцы? Говорят, что стервятник видит очень далеко — за пять сотен верст. И если добудешь отвар его глаз, обостряется взгляд ослабевших глаз человека. Ох, должно быть, как хорошо видеть так далеко!.. Далеко… видеть — что? То, что ищет стервятник? Видеть добычу? Нет, таких глаз мне не нужно… Глаза ворона разве бывают когда-нибудь сытыми? Я ведь сказал — поедал меня ворон глазами. Насытился этим? Нет, напротив, стал голоднее прежнего. Оживился было на минуту и опять ослабел без пищи… Видно, скоро умрет… Смерть ворона… Не ворон над погибшим человеком — человек над вороном, а?
Это ворон или туман? На моих глазах ворон превратился в туман. И я тоже обернулся туманом. Неужели оба сделались мягкими, оба неуловимыми, холодными, как туман? Я думаю: есть ли в вороне кровь? Шевелится — значит, осталась. Сколько в нем крови? Один глоток? А, кто знает! Подожди, разгляжу его хорошенько. Смотри-ка, он уже совсем близко! В другое время, подпрыгивая, убежал бы, завидев меня. Теперь же будто нарочно хочет приблизиться. Разглядывает меня, как я его? Может, прикидывает, сколько крови во мне? Хочет наброситься, если достанет? Посмотрим! А все же хорошо, что он шевелится возле. В таком гиблом месте каждое живое существо для человека поддержка. И тот, кто станет клевать твое тело, — тоже поддержка? Я к ворону, он ко мне — так сближаемся. От меня к ворону переходит тепло, от него на меня веет холодом. Ворон — он разве с холодной кровью?
Вот уже рядом… Распахивает клюв, смотрит на меня с вожделением. Мысленно разрывает меня на куски… Зоб у него западает, потом снова вздувается. Он не сдерживает свой аппетит — в мыслях он насыщается, оживает…
Наконец ворон напал на меня. Еле-еле добрался по снегу, несильно толкнул клювом — ударить уже не мог…
Я отпихнул птицу — она оказалась легкой, точно сухая былинка. Упала. Однако успела зажать в клюве железный наконечник моей палки, с жадностью стала глотать. Я понимал: она стремилась хоть чем-то заполнить желудок, чтобы не умереть. Все поступают, как в голодное время: съедают, что ни проходит в глотку. Помню себя в нищету: чего только не тащил в рот, скитаясь с Кырбашем. Кажется, все перепробовал, кроме железа. Это борьба. Тогда, в голодное время, выпил бы кровь этой птицы, желая спасти свою жизнь?
Ворон больше не поднимался. Все вокруг потемнело. Туман или ночь? Ночь… Ворон стал ночью, я тоже, горы, туман, небо — все превратилось в ночь. Я подтолкнул было птицу концом своей палки — послышался стук. Значит, уже замерзла. Смерть замораживает… Вот тогда я вспомнил о смерти. Я испугался. Если видишь чью-нибудь смерть, поневоле думаешь о своей. Душит туман, заползает в легкие, холод проник, казалось, мне в самую душу. Подвело в животе, ужасно захотелось есть. Я вспомнил, как ворон распахивал клюв… Впрочем, в такую ночь безразлично — что закрывать глаза, что держать их открытыми: все равно ничего не видно…
Остался бы ворон жив, я бы устроился на ночь здесь. Все же легче, коль рядом, поддерживая соседством, шевелится хоть какая живая душа. Однако теперь я должен уйти отсюда. Хотя это всего лишь ворон, все равно ночевать возле смерти страшно, она к ночи добавляет ночь, к мыслям добавляет мысли, напоминает о неизбежном. Что, неужели так страшна смерть? Но ведь есть люди, которые не боятся конца. Не раз, сидя в киргизском доме, слышал я, как старик или старуха, лаская маленьких внуков, спрашивали: «Когда я умру, как ты станешь меня оплакивать?» Они говорят о смерти просто, беззаботно, как будто она придет однажды, в назначенный час, и тихонько заберет с собою, уведет… и вовсе это не страшно… Почему они так легко относятся к смерти? Может быть, готовят себя? Уж лучше бы не готовили…
Это я продвигаюсь вперед или ночь обтекает меня? Может быть, движемся оба — навстречу друг другу? А ведь думал добраться засветло… С наступлением темноты становится холоднее. Нужно лечь. Нужно спать. Если ляжешь голодным, откуда возьмется сила? Если не сможешь уснуть, если страх победит тебя — тоже останешься без сил… Почему человек, когда сильно замерзнет, смеется? Говорят, что замерзший умирает, смеясь. И я тоже буду смеяться. Ох, как страшно смеяться в белых от снега горах в такую черную ночь! Даже молча стоять в этой тьме и то страшно, а уж смеяться, оскалившись… Нет, я не стану смеяться, я умру, стиснув зубы. Правда, все же — почему смеются? Или просто сначала стучат зубами, потом трясутся, а затем уж дрожь переходит в смех? Может, думают — смех возвращает тепло?
Хороший смех, плохой смех… Бывают люди, которые совсем не смеются, — как они терпят, не задыхаются? Жизнь тем и интересна: один любит посмеяться, другой ходит насупив брови. Смех и слезы, сытость и голод, как свет и тень, невозможны одно без другого.
Я вспомнил далекую, оставшуюся за многими перевалами лет, пору, когда был слугой у Батыркула. Я тогда был совсем молодым, теперь сделался стариком с высохшими костями. Проходили дни, проходили месяцы, годы, жизнь бросала из крайности в крайность, из одной трудности в другую, но я все еще не оставил борьбу. С борьбой я пью, с борьбой я ем, с борьбой я ложусь; оседлав борьбу, я пускаюсь в путь, вместе с борьбой я дышу… Нет ни часа, чтоб я не боролся. Я боролся даже и в те безжалостные дни, когда был в услужении у Батыркула. Какая это была борьба? Неосознанная, слепая. Я не знал, почему и с кем я боролся. Считается ли борьбой та ночь, когда я надел черное платье? Нет. Это — нет. Но зато каждое мгновение, когда я думал об этом после, это — борьба. Я ни словом не обмолвился о той ночи жене… Это — мучение. Если б сказал Бурмакан, то уже давно бы сделалось легко на сердце… Большую часть моего смеха забрало оно, черное платье… Бедная Бурмакан. Стала мне хорошей женой.
…Лыжей я выкопал ямку в сугробе, буду здесь ночевать. Дело привычное для пастуха. Знаю с тех давних пор, как устроить ночлег, как не замерзнуть в снегу. Прежде, когда приходилось зимой одному ночевать в горах, спал легко, ни о чем не думая. Может, и эта ночь выдастся легкой? Нет, эта — иная…
Верхняя корочка снега твердая, а дальше он мягкий. Я выкопал нору и залез в нее. И человек — животное, но животное умное. Остатки тумана забрались со мной в мою пещеру. Пусть. Похоже, туман желает спать с человеком. Кстати, спит ли туман? Я еще помню рассказы бывалых охотников, как они, выкопав яму в черной воде, ложились в нее и подстреливали облака, приходившие утром на водопой, едва только брезжил рассвет… Мы тогда, маленькие ребятишки, верили, что это действительно кусок облака, когда старые люди показывали нам какое-то желтое вещество… Они говорили, что если этим помазать лицо, то вовсе не будет морщин. Однако туман — не облако. Он замерзает. Он пришел сюда из-за моего дыхания, моего тепла. Все в мире ждет чего-то от человека. Парящая в небе птица, копошащиеся существа, текущие воды, сама земля, зеленеющая трава, деревья, кусты — словом, все надеется на человека. Все живое в беде вспоминает человека. Звери, пока сыты, бегут дальше от человека, боятся его, но, умирая от голода или попав в опасность, преследуемые, они стремятся к человеку, приближаются к его жилью. Даже облако, даже туман тянутся к человеку. Что там облако — даже горы ищут у человека поддержку.
Снег — холодный, снег — теплый, снег — мягкий, снег — жесткий. Снежная нора — теплая. Она защищает меня от всего: от холода и ночи, от ветра и тумана… Я лежу на постели из снега. Вначале была холодная, потом согрелась. Я согреваю ее, она согревает меня. Таков человек, такова жизнь: один замораживает другого, один согревает другого. Противоположное всегда рядом. Человек, который хорошо видит, и на солнце находит пятна. Это значит, что в каждом явлении жизни имеется две стороны. И среди людей ведь бывают подобные снегу — очень холодные. Однако все же больше людей горячих. В действительности люди — это маленькие, крошечные светила, они должны излучать свет и тепло, должны согревать, украшать мир. Случалось ли, что меня замораживал человек? Да. А случилось, что грел? Да, и так тоже было.
А я сам? И согревал, и замораживал…
Бурмакан — можно ее назвать горячей? Да, она очень горячая. Кровью своей преградила дорогу спешившей ко мне холодной смерти, сохранила мне жизнь.
Было это в тридцатом году. Тогда мы сплачивались в артели. Я только избавился от прозвища «муж Бурмакан» и стал называться председателем. Была ночь. Я вошел со двора в дом и еще не успел запереть дверь. В доме было темно, Бурмакан спала в глубине комнаты. Услышав, что я вернулся, она, как обычно, сразу поднялась и принялась собирать мне ужин. Чиркнула спичкой, другой, пытаясь зажечь лампу. Видимо, спички были сырые — никак не могла Бурмакан справиться с ними… И в это время дверь распахнулась, кто-то вошел… какой-то мужчина. Бурмакан была у меня за спиной, дальше от двери. Вошедший размахнулся — блеснуло лезвие ножа, — Бурмакан бросилась с криком навстречу; он ударил, в темноте меня не достал, но задел Бурмакан. Я пнул того человека в живот. Он скорчился, выпустил нож, тут же выскочил в дверь и убежал. Я узнал нападавшего. Это был мастер-седельщик Табыш, наш сосед. Хотя сам делал седла, отец, его был кулаком. Я раскулачил отца Табыша, он был выслан. Теперь Табыш захотел отомстить. Выскочив из моего дома, побежал в дом к председателю сельсовета, застал спящим, топором разрубил ему голову… Всю ночь не смолкал крик в аиле. Я не выпустил из рук топор Табыша, — к чему скрывать, готов был расправиться с ним, если попался бы мне на глаза. Нет. Не нашли мы Табыша… Утром пропел петух — я проснулся. На крыше у нас было сложено сено, я накосил в том году. Вижу, верблюд стаскивает сено и ест. Оказалось, верблюд Табыша, у него был один-единственный… Потеряв хозяина, разгуливал по аулу — со двора во двор. Я ударил его прямо в лоб топором — топором Табыша. Не было никакой жалости — верблюд сына кулака. Верблюд повалился. Прибежали тут же соседи — казалось, только и ждали… С собой принесли ножи, начали свежевать. Жена Табыша с детьми стояла возле, смотрела, плакала по верблюду. Не осмелилась даже слово сказать. Мы разделали тушу и все растащили. Не было жалости к семье убийцы…
Почему я вдруг вспомнил Табыша, лежа в снежной норе? Вот кто был из людей холодных, вот кто нас заморозил. Бедная Бурмакан получила удар ножом, рука ее долго не заживала.
Да, снег — мой союзник. Случись мне остаться в горах в сильный мороз, но без снега, вряд ли б я выжил. У снега — свой запах, многое можно узнать и почувствовать, вспомнить с помощью снега. Конечно, это о том, кто может оценить запах снега — другой лишь почувствует сырость, и все. В запахе снега живет аромат хлеба, запах жилья и уюта, яблок и вишен, урюка, винограда. У человека, у зверя, у цветка — свой запах, и об этом расскажет снег. Временами он пахнет кровью…
Ну вот, упрятался в снеговую нору — о чем мне расскажет снег? Расскажет о жизни?
Перед моими глазами — старая байбиче Бирмыскал. Вижу, идет к волостному, слышу, позванивает учтук — металлические украшения, вплетенные в косу. Я говорю себе — это была мудрейшая среди женщин. Я сравниваю себя с ней… Достоин ля я сравнения? И терпеливая, и умная, и слов не бросала на ветер — сдержанна в разговоре… Однако ведь и ее жизнь встряхнула, а? Что это — жизнь? Для меня — Калыча, Акжака, Апар, Комурчу, огонь, разожженный Апар, мелодия комуза. Жизнь порою горька, порой бывает сладкой, через меру требовательна, балует человека…
Жизнь… Бирмыскал… Комурчу… Жизнь создала Бирмыскал или Бирмыскал создавала жизнь?
Бирмыскал… Почему не могу поставить себя на весы Бирмыскал? Нет, на ее весах нужно взвешивать драгоценные камни. Я же на каждом шагу спотыкался, падал, часто оказывался слабее жизни. Бирмыскал не такая. Положив на ладонь целый век, играла им, точно костью… точно в альчики… Она не встречала рассвет, хмуро насупив брови, — встречала солнце улыбкой, смотрела на жизнь без испуга. Жизнь глядела в ответ заискивающе… Жизнь не согнула ее. Вот что значит не покориться. Хотя разве она не испытала мучений? Не прошла тот же путь, которым прошел весь народ? Не такую лепешку ела? Что же так закалило ее? Отвечаю — жизнь. Жизнь сама стала ей и врагом, и другом. Почему же я не такой? Не такой? Чем я хуже байбиче Бирмыскал? Тьфу, Серкебай, постыдись! Ты сравнил себя с женщиной. Оставь байбиче — лучше уж говори об отце, о батыре Сармане. Разве был ты способен повторить хоть один из его набегов? Нет, это всего лишь слова, а тянуть плечом лямку — другое. Я достаточно потянул ее в свое время. Когда? Да хотя бы в войну. Женщина, потерявшая мужа, оплакивала только его, я же оплакивал всех; каждый в аиле был по-своему голоден, я же был голоден за себя и за всех… Весной сорок четвертого года… Вспоминаю теперь — заходится сердце. Арканом подтягивали животы коровам, ожидавшим приплод… Что мне оставалось? Машины, трактора — где они? Людей не хватает. Что делать? Нет, не оправдывай себя, Серкебай… Разве из всех председателей тебе одному было трудно? Мог бы лучше организовать работу. И помимо всего тебя подвела твоя жалостливость… Доброй волей отдал соседнему колхозу два бункера силоса…
Нет, не об этом хочу сейчас вспоминать…
Я уже не в снеговой пещере. Мне кажется, что я дома, только что вошел со двора. Смотрю, Бурмакан еще нет, в доме пусто. Я хочу вернуться на улицу. Уже давно вошло в привычку: если Бурмакан уходит, я не могу один оставаться в комнате. Собираюсь выйти на улицу — за спиной слышу чье-то дыхание. Сердце вздрогнуло. Смотрю, Бурмакан. Забилась в угол, неподвижная, точно пень. Так и умерла сидя. Душа у меня перевернулась. Я подскочил, обнял ее. Лед, камень… ничего не чувствует. Ох, страшнее всего — глаза. В глазах слезы…
Такие глаза бывают у человека, борющегося за жизнь, когда понимает уже, что — смерть… И страшно, и жалко — невозможно смотреть… Это глаза полуживой девушки, много лет назад брошенной в болото у Сон-Куля. Я чуть не закричал. Рот ее свело судорогой… Мертвая или живая? Не знаю. Не так страшна сама смерть, как страшно умирание. Никогда прежде не видел вот так умирающего человека. Да и в голову мне никогда не приходило, что Бурмакан может оставить меня одного. Я считал, что она никогда не умрет, всегда будет со мной. Не подумай, что так говорил — просто чувствовал… Так понимал душой. Но теперь, видя, что умирает, да к тому ж умирает в те далекие годы, в девичестве… Подожди-ка. Это я вижу только сейчас или вижу всю жизнь? Что за мучение — каждый день душить самого себя, упрекать, мучить, высмеивать и судить…
Случалось, лежа в ее объятиях, слушая ее голос… Да, в звуке ее голоса возникало мгновение смерти… Сердце мое испуганно вздрагивало, холодела душа… Или в поле в разгар работы, а может, среди веселой беседы с друзьями вдруг возникало это видение перед глазами… Закостеневшая Бурмакан. Я опускал голову… И вот теперь… Нет, Бурмакан не умерла, она просто замерзла. Однако не поднялась, как обычно, не поспешила накрыть на стол. Мне кажется: подай я сейчас голос — с хрустом раскрошится Бурмакан на кусочки. Где уж дождаться ее слова! Оба — и я, и она — словно оцепенели. Потом Бурмакан спросила:
«Почему ты женился на мертвой?»
«Не говори так! Ты не мертвая!» — крикнул я, но она не слышала моих слов.
«Мертвая Бурмакан — это я. А ты — Серкебай, всю жизнь деливший ложе с мертвой… Кто из нас двоих холоднее? Ты скажешь, что холоден снег, а не человек… Нет, ты заморозил меня. Налетел буран по имени Серкебай и заморозил меня, переполненную теплом. Да и сам ты давно замерз, давно — умерший человек. Ведь не зря про нас говорят — мы похожи. Не удивляйся тому, что застыла, как пень, в углу. Здесь теперь мое место. До сегодняшнего дня не знала, кто это был — тот, в черном платье. Оказывается…»
«Грех порождает страх, страх рождает двуличье… Не осмеливаешься рассказать… Ледяным приходишь и уходишь. И я тоже заледенела, на мне ледяные наросты. Ледяные и дни, предназначенные для нас…»
«Я люблю тебя, Бурмакан!»
«Не говори о любви! Ты не достоин этого слова! Любовь — это то, что горит. Холодной любви не бывает».
«Если бы не любил тебя — разве б женился? Я ведь долго искал тебя…»
«К чему говоришь об этом, усугубляя свою вину? Не искал ты меня — тебя пригнал тогда голод, пригнала тебя судьба! Тебя толкнула ко мне не любовь, а животное чувство. Любовь ты превратил в холод, в лед, в смерть… нет, не хочу говорить с тобой. Уходи! Я замерзла, заледенела…»
Бурмакан принялась плакать. Не плач — завыванье. Я стал ее умолять… Замучился, не зная, как успокоить. Представь-ка себе: старик умоляет свою старуху, умоляет — не может утешить, а, Бекзат?..
Ты не знаешь историю о черном платье. Я не скажу тебе… Пусть уйдет вместе со мной…
Я проснулся. Оказалось, не Бурмакан плакала-завывала — буран… Слышу, будто надо мной кто-то ходит. Может, волк? Не тот ли самый, изголодавшийся, усталый, несчастный? Все беспомощное достойно жалости. Или просто гуляет вьюга? Надолго ли развеселилась? А если завалит снегом? Тогда уж выберусь только весной, когда начнет таять… Не сам я, конечно, а мои кости. Вешний поток налетит, подхватит, закружит… Понесет меня по тем самым ущельям, где когда-то я ездил на машине, на коне, где ходил пешком… Понесет, переворачивая, вытянув во весь рост, то ногами, то головой, то боком, обдирая, царапая… Что б ни делал поток — его воля. А потом меня кто-то найдет… Не сразу, конечно, — найдет случайно: то ли выпасая овец, то ли собирая сучья, нанесенные водой, а может, школьники, что пойдут на прогулку. Прогулка… Бывает же такое… Возможна ли прогулка для меня? Нужно дожить до рассвета. Если увижу рассвет, тогда предстоит борьба. А не увижу, так, значит, замолкну. Тогда считайте, что уже нет Серкебая. От воя голодного волка, того самого хотя бы, что я оставил в сугробе, может сойти лавина — обрушится, задавит меня. Вот и все. Законы гор суровы. Погибнуть — недолго. В таком случае мое имя останется не в аиле, будет жить не в народе, а здесь: это место назовут в мою память «Ущелье, где погиб Серкебай». Да, так будет, если эта снежная пещера, где я лежу, в которой нельзя вытянуть ноги, — пещера теснее могилы, — станет и вправду могилой. Снежная пещера, снежный памятник… Зимой дети слепят снеговика — они объяснят взрослым, что «делают Серкебая». Так… Значит, воздвигнут мне снежный памятник. Но он ведь не простоит долго, согреется день — и растает. Да и к чему мне памятник, которого не увижу. Разве не достаточно, если народ будет помнить мое имя? Разве это не лучший памятник? И вообще, что это — памятник? Это дело, это работа, все хорошее, что ты совершил. Сделанное для себя остается в доме, сделанное для народа остается в народе. Поливщик Исмаил, вернувшийся замерзшим с поля в дождливый день, — он ведь входит в теплый дом… Моется в согретой воде… Пьет чай, вскипяченный на газе. Включив телевизор, он видит даже далекую Москву… Разве не вспомнит меня, а? Не скажет: эх, добрый человек был Серкебай, отстроил нам дом, принес в дом телевизор, мы вначале не одобряли, а оказалось, до чего хорошо! Умный он человек, — видно, знал наперед… Будут меня благодарить Исмаил и еще тысяча таких, как он, а? Вот это и есть памятник. А когда войдет во Дворец культуры и увидит поющими на сцене свою дочь, своего сына, разве не обрадуется? Не вспомнит меня — я ведь зачинщик постройки? Пусть в тепле и в радости люди вспомянут меня. Если замерзну, если умру этой ночью — не нужен мне памятник лучше и крепче. Замерзну? Разве хочу умереть?
О-о, есть ли что на земле интереснее человека! Вдруг я вскипел. Вскипел, будто самый настоящий самовар. Разве мороз способен победить Серкебая! Я даже сбросил с себя тулуп — стало жарко. Бывало такое со мною раньше? Да, если честно сказать — каждый день. Всякий раз, когда не мог завершить нужное для колхоза дело, во мне вдруг вскипала энергия…
Нет, посмотрите-ка на Серкебая: вместо того чтоб добраться уже до Бекзат, скрючился в снежной пещере! Постыдная слабость! Да, я вскипел — и со мной вскипели и снег, и туман, и горы, ночь и небо. Нет, это вскипела моя душа. Я сказал себе: забудь, Серкебай, отсюда не видно ни капли из сделанного тобою раньше. Все у тебя — впереди! Покажи свою силу сегодня — доберись в кыштоо к Бекзат!
Многое видно из снежной пещеры! Вот — Калыча. Одетая в кольчугу, верхом на скакуне… А потом молча, без крика обмякла, упала на землю. Тихая смерть храброй женщины… Тихая ли? Разве такая тихая смерть? Она умирала, сопротивляясь. Даже то, как упала, никому не сказав о своем недуге, не подавая виду, до последнего повторяя, что здорова… Разве это не сопротивление, не борьба? Калыча… Ее не мучило прошлое — совесть ее не была запятнана… Виновных прошлое казнит тысячу раз, невиновный умирает лишь однажды — в свой чае. Калыча даже не думала о кончине… Значит, умерла е с т е с т в е н н о й смертью?
А Комурчу? Как бы умер он? Хотя нет, Комурчу — бессмертен. Он ведь был рожден солнцем, ветром, дождем, камнем, ночью, потоком, песней, плачем. Что же я, Серкебай, перенял от него? Ничего… Нет, неправда. Я перенял многое. Очень многое. Перенял огонь. Сколько во мне огня? Но Бурмакан — она горячее меня. Ее дыхание согревает меня даже здесь. Вот что значит сила любви. Да, у нас есть любовь. Бурмакан, ты не смейся надо мной, не надо испытывать меня. Я давно прошел все испытания, я прошел сито жизни. Если бы не любил тебя, разве мучился бы, вспоминая прошлое… Нет, суть не в этом, главное — моя верность тебе. Здесь могу сказать о любви — здесь, вдали от тебя, в горах, в снежной пещере, вдали от людских глаз… Тут никто не услышит, если б даже кричал, задыхаясь. Там, в нашем привычном мире, я не смог бы сказать все это, у меня не хватило бы духу сказать о любви… То, в чем признался здесь, не зная, увижу ли завтрашний день, и останется здесь, сгинет под снегом, ветер не донесет моих слов до тебя… И это тоже — жить по-серкебаевски.
Потом… Эх, что только не приходит в голову в снежной пещере! Вижу колхозное собрание, одно из обычных, из многих собраний. Выступает Кызалак. Голос его звучит грозно, да еще и рукой он размахивает в такт словам — ну совсем как я, когда говорю перед народом. «Разве Серкебай — бог? Разве он один улучшил жизнь в нашем колхозе, а не все мы совместным трудом? Я еще не забыл, как он ударил меня плеткой! Такое не забывается!» Конечно, я не могу сдержаться, я отвечаю: «Хорошо, что ты напомнил о давнем, Кызалак. Я и сам хотел сказать об этом. Правильно, начнем с того, что ударил тебя. Нет, не я ударил тебя, я не вспыльчивый. Тебя ударила война, это война виновата… Разве я ненавидел тебя?..» Тут я услышал — над головой, над моим убежищем опять загудел буран. Я горстями ем снег. Это мой снег. Его ели мои предки — да, ели его и в детстве, и возмужав, и в староста. Когда не оставалось воды, набирали чистый снег в ведра, кипятили в котле над огнем. Они пили его, не забывали вкус снеговой воды. Да разве только ели — укрывались снегом, ходили по снегу, ложились на снег — правда, снег был им постелью. До рассвета они стерегли табуны лошадей в горах, где-нибудь в ущелье, и когда ложились на снег, завернувшись в шубу, никакая сырость не брала их костей. Снег, привычный, даже родной, он давно вошел в нашу кровь. Охлаждает, греет, защищает, дает зерно, забирает его, дает скот, забирает его — все это делает снег. Если растают ледяные вершины, те, что веками подпирают небо, — разве не станет другим этот мир? Значит, я лежу в своем доме, на своем привычном снегу, так чего ж мне бояться? Но разве боюсь?
Ох, были злые времена, когда я служил пастухом у бая… Как он гонял нас в буран, когда ветер норовил столкнуть со скалы… Зарывались в сугроб, падали, снова поднимались… Что же теперь погнало меня в дорогу? Почему оказался здесь? Ведь в аиле меня ждала теплая постель, сладкий сон… Что случилось бы, если б пошел не я, а кто-то другой? Что б изменилось, а? Почему отправился сам? Можешь ответить себе?
«Что тебя привело сюда?»
«Совесть».
«Нет, неправда, пришел по обязанности».
«Разве это обязанность председателя — пробиваться на выручку в отрезанное заносами кыштоо?»
«Если погибнет молодой, кости твои будут ныть в тоске, если же ты сам погибнешь, на твоих поминках, насытившись, люди будут громко смеяться».
«Но я не позволю справлять по себе поминки!»
«Если умрешь, как узнаешь, справляют или нет?»
«Я напишу завещание. Скажу в нем, что не буду доволен, если по мне устроят поминки».
«А тогда никто не придет тебя хоронить».
«Уж четыре-то человека найдутся».
«Смотрю, хочешь подохнуть как собака, без поминок, а?»
«Нет, не то… Так понимаю прощание с настоящим человеком. Пусть не приходят насытиться, пусть придут, уважая мое достоинство, мои останки. Если и без угощенья, без поминок придет много народу, значит, меня уважают, а если не придут, грош мне цена… Пусть ослепнет тот, кто, будто бы плача, придет лишь за моей едой. Уж как-нибудь обойдусь без таких… И без них меня предадут земле. Не угостишь — обида на один день, но уронишь достоинство — обида на тысячу дней…»
«Есть ли в тебе достоинство?»
«Не скажу».
«Почему?»
«Об этом пусть скажет народ».
«Почему все сваливаешь на народ?»
«Потому что без народа нет меня. Без народа, без земли, без солнца — я ничто. Народ — сильнее всего на земле, народ — создатель всего на земле. Я — маленький осколок своего народа. В народе есть всякие. Есть хорошие и плохие, есть умные и дурные. Народ — это пророк. Если оценит народ, прославит тебя, это и значит — удача. Тех, кого народ оценил по достоинству, он не дает в обиду — сохраняет, защищает, иным дарует бессмертие. Народ — это воздух, вода, хлеб, словом, все для меня, народ — это Родина».
«Что ты сделал для Родины?»
«Отдал ей свою честность и труд».
«Другие разве не честно трудились?»
«Не говорю о других, говорю сейчас о себе».
«Почему ты жил бедняком? Не наслаждался пищей, отказывался от лишнего куска… Во всем ограничивал себя, не наслаждался жизнью… И родных заставлял во всем следовать себе. Почему?»
«Допустим, что человек — это необъезженный конь, а? Он не дается в руки. Если вовремя не накинешь узду, то ускачет, в конце концов упадет с какого-нибудь обрыва, разобьется насмерть… Есть такое понятие — совесть, кто-то помнит о ней, кто-то — нет… Я сам накинул на себя узду совести».
«За такое долгое время неужели ты никогда ничем не поживился за счет колхоза? Ничем общественным?»
«Если мне с избытком хватает зарплаты, то зачем мне трогать нечестной рукой общественное добро? Помнишь, когда строили дома — сколько было анонимных писем, приезжала комиссия за комиссией. Уж не говоря о большем — разве не хранил документ на каждый купленный гвоздик? Проверяли, проверяли приезжие, качали головами и уезжали. Спроси, в чем моя сила, еще и еще раз отвечу: в честности. Хоть ведро сажи высыпь на меня, все равно не пристанет черное. Вот это и значит — жить по-серкебаевски».
«Знают ли об этом люди твоего колхоза?»
«Спрашивай не у меня, а у тех, кто останется после меня».
«А если бы не хватало тебе зарплаты?»
«Другим хватает — почему мне не должно хватать?»
«Разве к тебе никто не приезжает из города, из района?»
«Пусть идут в гостиницу. Там есть и столовая. Каждый заказывает что хочет. Кажется, приезжие не жалуются».
«Даже птица с неба спускается к корму. Разве мало таких, что стараются угодить, поднять настроение приезжих едой, а не делом».
«Эти люди — без воли».
«И ты никогда не отступал, не нарушил своего правила?»
«Ни разу. Если однажды дашь себе послабленье — итог известен. Человек — он для того и носит высокое звание человека, чтоб никогда не терять достоинства. Встречаются, конечно, люди — дома делают одно, на улице другое, на работе говорят одно, среди приятелей — другое. Я так не могу. Знаешь ведь моего соседа, того, что таится, словно мышь, а перед тем, как что-то сказать, боязливо оглядывается… ну того, у которого не хватает пальцев на правой руке… Говорят ведь, что сам себе выстрелил в руку на фронте, чтобы вернуться домой… Выходит на улицу — всегда рядом с женой, кажутся дружной семьей, в квартире же всякий день скандал и драка… Да, такой на улице ведет себя сдержанно, на работе говорит правильные слова, но в душе насквозь лживый, ядовитый. Терпеть не могу двуличных!»
«А в твоей собственной жизни разве все в порядке?»
«Я считаю себя человеком».
«Значит, хочешь сказать, что звание человека позволяет забыть неприятное?»
«Я устал. Лучше буду спать».
«Разве не ты говорил, что не устаешь, а в тот день, когда почувствуешь усталость, умрешь. Что, время пришло умереть?»
«Может, и так. Я не боюсь смерти, на моем месте останется Кызалак».
«А если его не выберут?»
«Не пугай… Не каждый может быть председателем».
«Кызалак! Тот самый, которого ты когда-то ударил плеткой? Но ведь он вспыльчивый, а?»
«Кызалак похож на меня, он выучился у меня… Про каждого человека можно сказать, что вспыльчив. Разница в том, что один затаивает пережитое в душе, а другой — выносит наружу. Любой человек, если он не дает выхода чувствам, когда-то взорвется. Рассердился — ладно… Но лучше выскажи все сразу — не затаивай мести в душе! Мстительный не должен руководить людьми. Отец не затаивает обиду на сына. Хочешь правильно руководить народом — поступай как отец… Все же мне хочется спать…»
«Раньше, бывало, тебя не клонило ко сну. Почему сегодня тебе так хочется спать?»
«Безделье всегда расслабляет».
«То, что ты говорил, — не дело?»
«Разве думать — значит работать? Думать — значит болеть».
Так, пререкаясь сам с собой, я погружался в сон. Я старался не засыпать, я тянул в одну сторону, сон — в другую. Я не знаю ничего сильнее, ничего упрямее сна. Может, он хотел наверстать упущенное за все минувшие дни, за все месяцы, за все годы?.. Не случайно ведь возвращал меня в прошлое… Может, это сон заставил меня прийти сюда, в горы, посадил меня в снежную пещеру, чтобы наконец делать со мной все, что ему заблагорассудится, полностью распоряжаться мной? Сон забирал мою силу, мысли, язык, волю. Однако я не желал покоряться. Я хотел еще сказать себе многое, многое услышать от себя в ответ. Я попробовал пошевелиться, приподнял голову. Голова такая тяжелая, будто вместо одной у меня их сразу десяток… Как победить сон? Я попробовал спеть…
А запев, вдруг увидел пастбище. Молодые джигиты приготовились к козлодранию. Рукава закатаны до локтей, плети зажаты в зубах… Вот они устремили коней, крутятся возле козленка, наконец один, нагнувшись, подхватывает его и пускается вскачь. Ох, посмотри-ка на них, на джигитов, — до чего же грозен их вид! Мчатся — будто весь мир целиком хотят раздавить. Шумит и гудит народ, окружавший участников… А те, подхватив козла, иногда удаляются, скачут в поле, а то, возвращаясь, направляют коней на толпу… крики женщин, детей, общий переполох… В это время, прорываясь сквозь гомон и шум толпы, до моего слуха доносится песня… Нет, не сам я пою — вспоминаю слышанное в далекой юности… Вначале тихо, затем все громче, все выше поднимается в небо мелодия. Весь мир, вся вселенная наполняются песней. Все подчиняется ей, ее ритм убаюкивает весь мир. И я тоже, частица мира, подчиняюсь мелодии. Меня увела за собою не сила сна, а сила песни. Но вдруг, обрывая песню, перед взором моим возникает змея. Та змея, черная с пестрым, что сохранила мне жизнь. Тогда не боялся ее — сейчас боюсь. Уступаю дорогу змее. Она приподнимается, ищет меня… Я убегаю. Змея устремляется следом… Вижу, как извивается… Передо мною — обрыв. Пасть у змеи вдруг открылась, огромная. Стоит ей вдохнуть — и я окажусь в ее глотке. Лучше я брошусь с обрыва, чем стану жертвой змеи… Прыгаю… Остального не помню…
Я открываю глаза. Я просыпаюсь. Вокруг — мертвая тишина. Я опять испугался — теперь уже не во сне, наяву. Все вокруг умерло… И мысли мои умерли тоже… Что делается снаружи? Мир еще существует, еще остается на месте… или?..
Мне хочется жить. Никогда не хотелось так сильно, так сладко… Что за прекрасная вещь — жизнь. Сколько счастья лишь в том, чтоб увидеть яркий луч солнца. Воздух, хлеб… мне хочется есть. Я стискиваю зубы. Я говорю себе, что должен терпеть. Ведь дал себе слово терпеть, пока не приду в кыштоо Бекзат, значит, и должен терпеть. Как там у них с продуктами — неизвестно, со мной же — запас небольшой. Однако подумай, как бы не ослабеть от такого упрямства… Но все ж, если сдашься, значит, у Серкебая не хватило силы сопротивляться. Значит, не выдержал Серкебай борьбы и погиб. Внутри все горит у меня — хочу есть. Однако не поддаюсь голоду. Вспомни, как было тогда… вспомни их — семь вдов… тот год, те дни, когда только окончилась война. Слышу их голоса — теперь звучат совсем уже слаженно… Сколько лет оплакивают они своих мужей? Да, до сих пор не забыли их. Разве можно забыть горе, гвоздем вошедшее в сердце?
Кажется, будто семь женщин сошли в мою снежную нору.
Семь женщин, семь вдов, семь неисполнившихся надежд, семь вечных проклятий войне… Поднимают меня и уносят. «Хорошо, что ты замерз, Серкебай, мы отнесем тебя в аил и на площади поставим тебя на ноги. Будешь стоять вечным ледяным памятником. Камень — всего лишь камень, а нам нужно, чтоб стоял настоящий Серкебай. Идя на работу, возвращаясь с работы, будем видеть тебя, набираться сил, вспоминать, приговаривать: «Дорогой наш Серкебай». Станем другим рассказывать о тебе, чтобы брали пример… Для чего ты забился в эту снежную нору? Любая из нас пошла бы вместо тебя…»
Тут я открываю глаза, прихожу на минуту в себя.
Потом мне кажется, что еду на машине, веду ее сам. Навстречу мне попадаются разные люди. Я останавливаюсь возле каждого. Я выслушиваю их просьбы, никому не отказываю в поддержке. Я объясняю им, что не люблю ездить на машине, — куда лучше ходить пешком. Земля радуется, чувствуя шаги человека, человек радуется, слыша под ногою землю. Нельзя отгораживаться от земли. Земля родила, земля и возьмет после смерти. Земля — это все. Если не будет земли, то не будет и жизни. Пусть будет сильной наша земля…
Рассвело, я вылез из снежной пещеры наружу. Туман отнесло ветром, гора просматривается до середины, но вершина закрыта тучей. Я обрадовался — увидел, что нахожусь близко от кыштоо Бекзат. Все же должен исполнить обещанное себе: я не стал есть, буду терпеть, пока не приду в кыштоо.
Однако радость моя была недолгой: опять опустился туман. Надвинулся незаметно — и вот уже нельзя разобрать, что делается на шаг впереди. Влажный холод облепил лицо. Весь я покрылся инеем — иду будто снежный человек. Дорога кажется бесконечной, на склонах мои сани норовят скатиться вниз и тянут меня, я мучаюсь, не управляясь с ними, зато при подъеме едва волоку их, вытянувшись в жилку. Отдыхаю, когда попадается ровный участок.
Крикнуть, позвать Бекзат я боюсь — может случиться обвал. Пока не доберусь до кыштоо, должен молчать.
Так я шел уж не помню сколько — вдруг одна из моих лыж ткнулась в пень. Посмотрел — оказывается, срублена ива. Эге, сказал я себе и немного приободрился. Ива… Ну-ка, ну-ка… А что будет дальше? Дальше таких пней оказалось много. Значит, Бекзат срезала весь ивняк, росший на берегу реки, и скормила овцам. Но когда кончился ивняк, тогда что? Нет, плохие мысли — это забота черта. Раз Бекзат догадалась про ивы, значит, сумела придумать еще и что-нибудь другое. Да что гадать, уж скоро увижу все собственными глазами…
Туман рассеялся было ненадолго, затем опять надвинулся, но я успел рассмотреть… На этот раз я увидел три тополя возле загона для овец. Но… ведь они были высокие, статные… Или один из них обрублен? А-а, понял я, так вот что, оказывается, придумала Бекзат, когда кончились ивы! Она кормила овец, обрубив ветки тополя! Один успели закончить, два остались нетронутыми.
Теперь уж я быстро добрался до кыштоо. Ты, Бекзат, рубила тогда топором ветки тополя… Я окликнул тебя — ты закричала в испуге. Да, вначале ты испугалась. А потом… узнав… Ага, помнишь, ты поцеловала меня! Целовала, плакала и смеялась.
Мы вошли в дом. Ты разделась, и я увидел — твои волосы совсем побелели. А ведь до этого у тебя не было ни единого седого волоса.
В ту ночь мы выпили спирту — оба до этого в жизни не брали в рот… Хоть и немного, но выпили. Выпили, отогрелись. Как долго, как много говорили мы в ту ночь! Ты расспрашивала обо всем, что случилось в аиле с осени, а я рассказывал. Потом пришел твой черед рассказать — да, мы тогда не могли наговориться.
Однако ведь я пришел в кыштоо не зимовать. Убедившись, что вы все здоровы, на другое же утро пустился в обратный путь. Твой сын встал на лыжи, проводил меня и с половины пути вернулся. Я указал место, где, как только погода позволит, сбросим с вертолета сено. К самому кыштоо, через ущелье, вертолет подлететь не сможет.
Я прошел мимо снежной пещеры, где ночевал. Затем… Затем я добрался до места, где оставил голодного волка. Вижу — ворон выклевывает глаза издохшего волка. Тот ли ворон? Другой? Интересно, как смог ворон в таком тумане разглядеть поживу? Я не могу объяснить, да и кто может?
Через день небо над горой опять прояснилось. К тебе вертолетом забросили корм для овец… Помнишь, Бекзат, те дни, а? Я помню. Разве можно забыть такое? Это и есть испытание жизнью, сито жизни. Это борьба. Это истинное наслаждение. Разве остаются в памяти почести, оказанные за столом, ломящимся от угощений? Нет, в памяти остается вот такая дорога между жизнью и смертью. Сколько их было, обычных зимовок, сколько лет ты ухаживала за овцами — разве упомнишь? Но вот такую суровую зиму, предельное напряжение сил и победу над смертью — ведь не забудешь, а, Бекзат?
Вдруг заплакал ребенок… Только что народился ребенок. В аил пришел новый человек — оповещает всех о своем приходе, кричит во весь голос. Серкебай оглянулся — увидел, что миновал сейчас двухэтажный родильный дом. Родильный дом. Дворец культуры — все это построено им, Серкебаем, в его председательство.
«Где же Бекзат? Где Вечный огонь? С кем же я говорил? Сам с собою вслух или все это лишь звучало в душе? Ах вот что — оказывается, я давно уже прошел мимо Вечного огня, мимо Бекзат. Значит, не с Бекзат я говорил?..» Серкебай огляделся. Снег продолжал идти — чистый, холодный, легкий. Белым сделался весь аил — и дома, и деревья.
Поют… Что за песни посреди ночи? Идут по улице и поют. О чем, а? Смотри-ка, одни только женщины. Знакомые голоса… И поют — до чего же дружно! Сколько их? Вот они приближаются, догоняют его, — Серкебай ждет в тени, незаметный для глаза, облепленный снегом. Ох, ведь это те самые женщины, те семь подруг, оплакавшие своих мужей в сорок пятом… Идут по ту сторону улицы, — увлеченные пением, не заметили Серкебая. Серкебай проводил их взглядом. «Все семь так и остались вдовами, ни одна снова не вышла замуж. Если выйдет замуж одна, выйдут и остальные; если одна не выйдет, остальные не выйдут тоже — так они поклялись и сдержали клятву. Общее горе сплотило женщин, сдружились и их ребятишки. Можно даже сказать — все они стали одной большой семьей… Но ведь и правда — подруги со временем сделались сватьями, когда их дети сыграли свадьбы. Ни одна не имела свата, были только сватьи… Стали так, сватьями, величать друг друга, постепенно привыкли, а за ними и все в аиле. И плохое, и хорошее — до сих пор все делят поровну…
Вот настоящие люди. Если плачут, если смеются — всегда от чистого сердца. Не вознесутся, если привалит счастье, не покорятся, если случится несчастье. Правду сказать, нет существа терпеливее женщины — разве может сравниться с нею мужчина?.. — Серкебай продолжал рассуждать, однако теперь уже направился к дому. — «Пенсионер Серкебай»… Звучит непривычно. Даже как-то неловко произносить… Что стану делать, поднявшись утром с постели? Чем займусь? Нет, для себя я никогда не уходил на пенсию и никогда не уйду. Это просто так… для людей… А, смотри-ка, успокаиваешь сам себя, Серкебай? Значит, все же обеспокоен?»
Налетел ветер, закружил, заиграл снегом… Свет ламп отражался в снежинках, они мягко сверкали, летающие искорки змейками играли вокруг — преграждали путь Серкебаю, окружали со всех сторон; еще немного — и обовьются вокруг… «Снег… он мелькает, летит, он уносится — и он здесь, он со мной… Так и мысли мои летят… Но разве мысли мои холодны, как снег? Нет, есть среди них холодные, но есть и горячие. Мысли о жизни, мысли о смерти… Вот сейчас я вернусь домой. Эх, жаль, что в такой день рядом нет моих дочерей! Когда женишься, в доме всего лишь двое — ты да жена. Проходит время, обзаводишься детьми. Потом они подрастают, женятся, выходят замуж. Занимаются своей семьей, хозяйством, устраивают свою жизнь. Наконец, все уходят из дома, отделяются, и опять остаешься вдвоем со своей женой. Только теперь ты бессильный и старый. Вот и для меня пришло одинокое время. Всегда с утра до вечера был занят работой. А теперь… Бедная Бурмакан — вот кому сейчас действительно одиноко! Должно быть, ожидая меня, долго сегодня не гасила огня. Приготовила ужин — остыл. Наконец устала ждать, прилегла одетая. Конечно, переживает из-за меня. Что она скажет, увидев меня сейчас? Или молча заплачет? Нет, для чего же плакать?» — думал Серкебай. Мысли его разбрелись. Вспомнился старый Балтек. Вот кто не устанет ждать его — небось с вечера подбегает к забору, поднимается на задние лапы, высматривает хозяина. «Собака не отрекается от человека, ей неважно, председатель ты или пенсионер. Балтек постарел, уже выпали зубы, голос сел, сделался хриплым, глаза стали гноиться. Однако мое возвращение до сих пор чувствует безошибочно. И сейчас, поди, ожидает меня — сторожит у калитки…»
Под ногами поскрипывал снег, он подошел к дому.
Что случилось? Балтек не ждет у забора. Вот как! Да еще со двора доносится говор… Что за чудо — во дворе сыплет искрами самовар. В дом входят, выходят люди. Слышится чье-то пение… Кто же так громко смеется?
Серкебай отворил калитку.
У самовара хлопочет Дилдекан — среди подруг выделяется статью. Похоже, сказала смешное — рядом Ажаркан задохнулась от смеха. В проеме двери появляется Самаркан, держит горсть мелко наколотых щепок…
— Эй, сватьи, довольно хихикать, приглядывайте за самоваром, скоро уже рассветет. Хоть выпьем по пиалушке чаю. Дважды уходили домой, дважды вернулись. Где же наш Серкебай, неужели так и не отведает чаю? — Она повернулась, легко, как и прежде, в девичестве; ушла в дом. Да, и голос Самаркан звучал по-прежнему молодо. Человек, не знающий ее возраста, не увидев лица, мог бы принять за девушку. Остальные сватьи, понятно, здесь же — должно быть, в доме. Как же им разлучиться?
— Сватьи, давайте споем! Пусть ночь, пусть метель! Песня — ей ведь ничто не страшно, ни снег, ни темнота, ни от чего не унывает. Пусть услышит нас Серкебай! — Жийдекан попробовала свой голос:
На горе, покрытой снегом, в тумане Стою — ожидаю тебя… На горе зимою, в тумане Стою, поглядываю нетерпеливо…Жийдекан хотела взять высоко, но, видно, снег и холод осадили ее голос, не дали взлететь песне. Да, не прежний, оказывается, голос у бедняжки…
— Ох, оставь-ка, не гуди без надобности. Еще кого напугаешь среди ночи. Никак, видать, старость не доберется до тебя! — Это уже голос Бекзат.
«Когда успели прийти сюда?» — мелькнуло в голове у Серкебая. Он ступил во двор.
— Вставайте! Эй, в доме, пенсионер нашелся!
Не разобрать, кто из сватий-подруг насмешничает. Откуда-то взялось много народу — и в доме, и во дворе; шумно все бросились навстречу. Нет лишь одной Бурмакан. Серкебай удивился, — не замечая других, ищет взглядом жену. Все его мысли сейчас — с Бурмакан.
— Ты ведь давно уже прошел мимо Вечного огня, где ты бродил до сих пор? Смотри, заставил ждать гостей… Как тебя понимать? — Это Бекзат приступает с расспросами.
Серкебай и слышал и не слышал ее — и вроде даже не верил своим глазам. Откуда столько людей? Похоже, с собрания все пришли сюда?
В котле под навесом варится мясо.
— Отец? — Из дома вышел навстречу Кызалак, без полушубка, в одном костюме, с непокрытой головой. — Мы пришли получить от вас благословение. Благословите чистосердечно. Если б не вы, кем бы я стал? Водя за руку, вы учили меня работать. Вначале за плугом, потом ездовым, звеньевым, бригадиром и в конце концов сделали председателем. Вы проявили отцовскую доброту. При всех повторю — у меня два отца. Один — тот, что подарил жизнь, другой — тот, что воспитал, дал знания, сделал человеком. От вас я слышал советы, которые не успел мне дать погибший отец, у вас учился работать с людьми, вы показали путь в жизни, который не мог бы показать мой отец. Наконец, вы доверили мне ваш пост. Видите: повесил на свою шею ремень, склоняю перед вами голову. Я даю вам клятву — не сверну с пути, по которому шли вы, отец!
Серкебай задрожал. По щеке, по белой его бороде прокатилась слеза. Голос его прозвучал невнятно — стоявшие рядом не поняли, что он сказал. Однако увидели все — Серкебай покачнулся, упал, точно срубленный тополь. Налетел ветер, взвихрил снег, швырнул в лицо Серкебаю. Тревожно залаял Балтек. Люди переполошились.
Устав ожидать возвращения мужа, Бурмакан вышла ему навстречу, а когда вернулась, вся в снегу, задержалась в передней, снимая пальто: не сразу увидела, что в соседней комнате для гостей лежит на тахте Серкебай — не раздет, под головой у него две подушки. Кызалак склонился над ним, размахивает платком. Семь подруг рядышком стоят у стены, Бекзат стягивает сапоги с Серкебая. Все хмуро молчат.
Бурмакан опустилась на колени у изголовья мужа, рукой тихонько провела по бескровному лбу. И все увидели чудо: на бледном, землистом, будто у покойника, лице начал вдруг разливаться румянец, — Серкебай на глазах оживал. Вскоре усы и борода его вздрогнули, будто что-то собрался сказать. Стоявшие прежде затаив дыхание, все теперь разом облегченно вздохнули: Серкебай открыл глаза.
— Бурмаш. Тебя нет… у меня голова закружилась, не сумел без тебя достойно принять гостей… Оказать уважение… — Он пытался шутить: — Приподними-ка мне голову, вот-вот, повыше — подложи еще подушку. Посмотрю я на вас с высоты, разгляжу наконец хорошенько. Вот, теперь мне удобно. Кызалак… Я доволен тобой. Вижу твою чистоту — перед людьми и передо мной. Я понимаю теперь: человек способен делать ошибки в любом возрасте, до самых седых волос. Не хочу скрыть от вас то, чего не скрываю от бога. Думал, в доме никто не ждет меня — одна лишь моя Бурмакан. А оказалось… Эх, вот теперь раскрылись мои глаза. Не нужно стоять, все садитесь… Кызалак, сядь, мой милый… Правильно — не старайся занять почетное место. Ты правильно выбрал, где сесть. И я никогда не придавал большого значения… устраивался хоть у порога. Да… не стремись к почетному месту, пусть оно стремится к тебе… Эх-а! Что это я раскис — ведь никогда не болел… Ну да ничего, все обошлось. Будем считать это началом отдыха. Скажем так: Серкебай вышел к новому берегу. Перевалив через горы, достиг светлого моря, вышел к новому берегу. Кызалак, ты хороший, у тебя светлый лоб, милый. Оставайся всегда таким. Разговаривая с людьми, хотя умри, но сдерживай себя — не хмурь брови. Это одно из богатств, которые завещаю тебе. Бурмаш… да, вижу, ты сама догадалась… вот-вот… открой окно… Как прекрасен запах свежего снега! Тогда… той трудной зимой… в горах, в снежной норе… запах того снега… и сейчас помню, ощущаю его. Бурмаш, бедная моя, ты ведь тоже у меня постарела. Занятый потоком дел, забывал поднять голову, посмотреть на тебя. Теперь будет иначе. Хватит. Подойди вот сюда, ко мне. Сядь рядом, как подобает перед людьми, перед сверстниками и молодыми. Есть ли для каждого из нас место выше, почетней? Сидеть рядом… Сейчас… отдохну немного.
Серкебай на мгновенье прикрыл глаза — всего на мгновенье. Обычно так отдыхает птица, а потом летит дальше, одолевая свою птичью дорогу, нескончаемую, безграничную… Подобен ли Серкебай этой птице?
Вот опять открыл глаза Серкебай. Они заблестели в свете лампы — или новый, чистый свет рождался в глазах Серкебая? Может быть, для Серкебая обновлялся, очищался, рождался заново этот мир? А может, не лампа — снег осветил его лицо? Глаза его потемнели, — казалось, совсем не стало белков, остались одни зрачки, и все сидящие рядом отразились в них. Значит, с прищуром поглядел Серкебай, значит, готов пошутить, посмеяться со всеми? Наконец Серкебай улыбнулся!
Никто не сказал ни слова. Но каждый улыбнулся в ответ… Все сейчас думали об одном — будто думал один человек… Каждое сердце билось согласно с другими. Все ощутили будто кровную близость…
А потом… Сидящая у порога Дилдекан держала в руках бутылку шампанского, — раздался хлопок, пробка ударила в потолок… Широко раскинулась, белизной засверкала скатерть. Когда в дом внесли упавшего без сознания Серкебая, она была собрана, теперь же снова звала к угощению.
Вот уж случай — и те, кто пил раньше, и те, кто не пил никогда, — все взяли в руки бокалы с шампанским, даже и сам Серкебай. Бурмакан, не только не любившая говорить за столом, даже и на собраниях старавшаяся выступать как можно реже, сейчас подняла голову, обратилась ко всем:
— За то, что мой Серкебай вышел к новому берегу, за его новый берег, — так сказала она и, не ожидая ответа, отпила из бокала.
Серкебай смотрел на жену с изумлением, будто спрашивая: «Как подслушала ты мою мысль?» — а потом улыбнулся ей. Выпили все, выпила и Бекзат — всего лишь второй раз в жизни: первый раз был тогда, когда Серкебай добрался к ее кыштоо сквозь снега, а второй раз — теперь. Бурмакан удивилась, увидев, как Серкебай отпил из своего бокала.
— Тебе…
Серкебай понял, что хотела сказать Бурмакан.
— Думаешь, мне не на пользу? Нет, Бурмаш, сегодня мне все на пользу. Теперь я добрался до нового берега, дальше уж не собьюсь. Дальше спокойная гладь. Да, теперь меня ничто не собьет с пути, разве одна только смерть…
Люди почувствовали, что Серкебая охватили беспокойные мысли. Кызалак опередил остальных:
— Отец, хочу передать сказанное народом. Согласитесь стать председателем комиссии народного контроля. Это общая наша просьба.
Серкебай посмотрел на Кызалака усталым взглядом.
— Разве хороший хирург станет оперировать близкого? Вдруг задрожит рука?
— Но это оправдано лишь в медицине.
— Может быть, мой удел теперь — медицина, а?
— Я знаю, для вас нет болезни хуже бездействия.
Серкебай посмотрел в окно. Уже рассвело. Снег перестал валить, небо очистилось от туч. С гор порывами налетал ветер. Горы, земля — все ослепительно бело.
— Думаю, лето будет дождливым… — Это слова Кызалака.
Часть четвертая ЖАВОРОНОК
Подножье горы двумя выступами обнимает этот поселок. Луга, уходящие вниз, к Чуйской долине, кажутся неохватно большим, бесконечным подножьем этой горы — там пасется скот, ходят люди, растут деревья, расположены города. Доверчивый, беззаботный, счастливый край — ему можно посвятить судьбу, отдать себя не на один день, не на месяц или год — на всю жизнь, да хоть бы и на века, если бы жить подольше… Вот такими вижу я наши горы и долины. Разлучить их, разделить невозможно.
Сахарно-белая вода струится в расщелинах наших гор, взгляду напоминает волосы девушки — будто заплетены они в снежные косы. А то покажется песней, поэмой, — звучит неумолчно, рассказывая, танцуя, посылая волну за волной в беспрестанном стремлении вниз.
Прекрасна весна в наших горах. Вершины по-прежнему одеты в сверкающие белые шапки, а у подножья склоны покрыты уже молодой зеленью, и нежная травка переливается подобно меху куницы. Или видишь — местами еще лежит снег, но уже пробивается к солнышку маленькое чудо — подснежник. Кажется, что улыбается всем на земле, заставляя улыбаться в ответ, принося с собой в жизнь особенный мир весны. Старик и ребенок, девушка и взрослая женщина, если они и не побывают в дальних горах, по крайней мере придут сюда, к подножью нашей горы, и пока не посидят тут, не вдохнут полной грудью весеннего воздуха, не наберут подснежников, будут жалеть о том, что не увидели лица новой весны.
Серкебай любил месяц подснежников. Однако не рвал, подобно другим, этих цветов и не приносил их домой. Лишь смотрел, разглядывал их пристально и долго, казалось, советовался, разговаривал с подснежниками, делился сокровенными мыслями. Казалось, многое отдавал им, многое получал взамен — отдыхали его глаза, спокойнее билось сердце, благодаря им вспоминал, видел пережитое…
Сейчас Серкебай разглядывал одинокий подснежник, который тянулся к солнышку, растопив своим дыханием снежный покров. Какой-то особенный, большой, необычно высокий, очень симпатичный подснежник…
Серкебай не просто смотрел на подснежник — цветок казался ему книгой, которую не осилить за многие годы. А может, наоборот, — устав от раздумий, отдыхал Серкебай душой, отыскав взглядом ранний подснежник? Поет жаворонок — прямо над головой. Крылья его мелко-мелко трепещут — дрожит в синеве живая точка. Голос его очень нежен. Человек, способный со вниманием прислушаться к его песне-мечте, мыслью охватит мир — побывает везде, вспомнит о пережитом, уловит мелодию собственной песни. Может быть, жаворонок поет в честь появления подснежника, может быть, его песня — это песня весны, может быть, он поет о растаявшем льде, о падающей с горы белой косе воды, об обновленной земле, о свежей зеленой траве? Может, он восхваляет эту гору и эту равнину? Быть может, повествует о Серкебае? Кстати, ведь Серкебай видел много таких жаворонков. Давным-давно, когда еще молодым он бежал в эту сторону… Однажды в сумерки, прячась под елью, когда устраивался на ночлег… Растворяясь в весенних сумерках, прямо над годовой, над этой самой елью трепетал жаворонок. Никогда прежде, да и после не слышал Серкебай такой задушевной песни… Оказывается, под этой елью умерла когда-то молодая мать. Ее грудной ребенок так долго плакал, что у него распух язык, во рту совсем пересохло. Быть может, жаворонок пел о его несказанном горе, чтобы слышали камни и небо, деревья — весь мир, слышали и помнили — навсегда?
Может быть, сейчас поет тот самый жаворонок? Может быть, он следует за Серкебаем? Поет, глядя на горы. Ведь на горы же! Нет, какие там горы — о судьбе человеческой поет жаворонок. Почему горы притягивают к себе человека? Почему приподнято произносят слова: «Мы — люди с гор»? Может быть, люди, живущие в горах, и вправду иные? Похваляются своим сердцем — оно никогда не заходится от высоты… Наверное, получили его от птиц… Пастух за день девяносто девять раз поднимется на вершину горы — не устает. Гора для него — опора, посох, стремя. Сколько бы он ни ходил к вершине, лишь крепнет, лишь закаляется больше, лишь ровнее бьется его сердце. Горы притягивают к себе не только взгляд — притягивают самого человека, чувствуют его шаги, прибавляют ему силы. Поднявшись к вершине, пастух каждый день, каждый месяц, весь год, всю жизнь устремляет свой взгляд вдаль, видит дальше, чем те, что живут на равнине… Видит прежде других воду, ветер, первый луч солнца, первый распустившийся цветок, видит весну прежде всех остальных людей. Может быть, пастух, слившись в работе и жизни с горой, с утесом, превратившись в их воздух, в их жизнь, в их свет, и сам уподобился маленькой живой горе? В этом — главный смысл слова «горец»? И жаворонок сейчас, наверно, пел как раз об этом? Человек, слившийся с горой, ничего не боится в горах, но человек непривычный — он не выдержит даже одной лишь ночи на высоте… Попробуй приведи человека, не рожденного здесь, непривычного к высоте, оставь его среди голых скал, что в упор разглядывают друг друга, дай ему пасти отару овец. Все вокруг будет ему страшно, ему станет казаться, будто скалы смотрят на него с яростью, пугают, презирают, злобно ворчат. Ночью слишком близкими, неустойчивыми, огромными покажутся ему звезды, свесившиеся над вершиной утеса, — того и гляди, обрушатся, завалят дом. И шум воды покажется иным — необычным, пугающим, — то словно затихнет поток, то опять побежит с грохотом, отзовется далеким эхом… Кажется, сейчас надвинется на тебя, подхватит, унесет… Человек же, выросший в горах, даже не обратит внимания на пугающий грохот. Стоит ему прилечь на камень, он превращается в камень; стоит ему прилечь на лед, он превращается в лед. Приляжет — и бок его растопит мерзлоту. Молодые приходят к работе, старики — к угощенью; старики сидят на почетных местах, получая должное уважение, молодые ухаживают за ними. Каждый в ответе за свои слова и дела. Скорее умрут, чем не исполнят обещанное. Привыкли сидеть в юрте за неспешной беседой, разведя огонь в очаге. Их тела закаляются у огня, их сердца согревает настоящий огонь, пламя горящих еловых и можжевеловых веток. И сами люди горячие — подобно веткам в огне. С горящих лап слетают искры огня — в разговоре людей ответно сверкает мудрое слово. Сидят молчаливые седобородые старцы. Таковы и горы вокруг — молчаливо уставились друг на друга, не легко роняют слова. Но если попробуют заговорить! Горы — это те же люди. Да и как не назвать, не признать человеком то, что создало человека. Не случайны слова «мать-гора». А возможно, что эта самая гора и есть жаворонок. Может, она, обернувшись жаворонком, поет, в жаворонке обрела свой голос, свою песню…
Подснежник… Жаворонок… оба интересны, оба похожи — кажутся похожими Серкебаю. Жаворонок поет или подснежник? Только подснежник поет или, быть может, поет всякий цветок? Разве поют обязательно голосом? Цветы молчаливы, но разве нет у них языка? Если нет, отчего же радуемся, увидев цветок; почему смотрим, улыбаясь? Если пение приносит радость, то и цветы дают наслаждение. Цветы — когда рождается ребенок, когда молодые играют свадьбу… Когда входят в жизнь и когда уходят из жизни — человеку приносят цветы. Значит, цветы одинаково принадлежат жизни и смерти, добру и несчастью. Жизнь бывает горька и сладка, в жизни тень соседствует со светом. Жизнь — цветы, а цветы — это жизнь. В жизни все расцветает весной. А человек? Человек расцветает тоже, однако многие не замечают, не понимают пору своего цветенья. А Серкебай — была для него весна?
Серкебаю показалось — жаворонок приблизился, опустился немного пониже. Теперь он видел его яснее, мог разглядеть… Брюшко переливалось, сверкало в весеннем радостном свете солнца. Переливался, сверкал и весь жаворонок — будто искорка его переливчатой песни. Серкебай глядел, вспоминая. Да, точно, вот такой жаворонок пел в тот далекий год, когда Серкебай съел змею… Распевал — порхая над кустом облепихи. И его голос так же вонзился в память Серкебая, как в тело — шипы облепихи. Голос нынешнего жаворонка мягче, тоньше, нежнее, чем у того, давнего, и, кажется, переливы сложнее.
Если поет жаворонок, восхваляя весну, как переложить, пересказать его песню обычными человеческими словами? Только поэт способен рассказать песню. Да ведь жаворонок и есть поэт. Когда поднимается ввысь, то не может не петь, жаждет петь с высоты:
Если бы я мог слиться С холмом, изрезанным морщинами оврагов! Если бы я мог слиться С прохладой ручья, журчащего под холмом! Если с горы сойдет каменная лавина, Я хотел бы стать ее пылью, слиться с лавиной! Если распустятся цветы на склоне этой горы, Я хотел бы сплестись с ними в одном соцветии, слиться с цветами! Если поднимется высоко к небу темно-зеленая ель, Своей песней я помог бы ей подняться поближе к солнцу. Если бы вместе с прозрачной водой родника Я коснулся лица красавицы! Если пробьется к солнцу трава и возгордится земля, украсив свое лицо, Я тянулся, я рвался бы к солнцу, своей песней подбадривая все растущее. Если бы я мог слиться с весенней землей! Если бы я пел над головой Влюбленной красавицы! Если бы я бился сердцем в груди У несчастного, не увидевшего исполнения своей мечты! Украшение для моих крыльев Хочу позаимствовать у месяца, слиться с его ночным сиянием! Я взлетел бы навстречу всевидящему глазу месяца, Украсив себя ожерельем из звезд. Если долгой выдастся моя дорога, Хочу уподобиться путнику… Если встречусь усталому путнику, Пусть утолит его жажду моя вдохновенная песня! Если бы я был соткан Из кусочков светлого облака! В наступившей прекрасной весне Я хотел бы стать молодым джигитом…Так ли поет жаворонок? Нет, эта песня не жаворонка, неужели назовем его жаворонком только за эти слова. Его песня — иная, наверное, это удивительная песня. Должно быть, мы называем его жаворонком за то, что песню его нельзя передать словами.
Серкебай внимал жаворонку — жаворонок старался для Серкебая. Среди радостных переливов он услышал, различил голоса двух близких ему женщин: Аруке и Бурмакан, казалось, он даже улавливал отдельные их слова: Бурмакан… Аруке… Жаворонок… Есть ли связь между ними? Если есть, то какая и в чем?
Жаворонок спустился пониже, — Серкебаю казалось, что вот-вот сядет ему на голову… Крылья, голос его будто соревновались, состязались, боролись… Где подснежник, где жаворонок? Серкебай уже погрузился в другие мысли…
Ну-ка, прикинь, сколько же дней прошло? Один день или десять, а может, и год? Когда Серкебай вспоминает об этом, чувствует себя умершим и вновь воскресшим. Все случилось до того неожиданно…
В тот день лил дождь, первый весенний дождь. Серкебай глядел на дождь из окна. Впервые за долгие годы он весной во время дождя сидел дома. Прежде как раз в такие дни его душа не знала покоя, донимали не терпящие отлагательства дела. Теперь Серкебай так размышлял обо всем происшедшем: «Вот оно что значит — пенсионер! Это значит сидеть нахохлившись дома, быть не при деле, ненужным… Нет, это не так, я сам не захотел работать. И не потому, что мне не понравилось руководить народным контролем, — просто я сам не пожелал, я решил: раз уж все равно пенсионер, поживу-ка спокойно. Я решил, что оставшуюся часть жизни проживу как хочу — вольно, стану есть и одеваться как подобает, в соответствии с моим вкусом, буду много ездить, буду жить, где захочется, не подчиняясь никому. И что у меня получилось? Был я предоставлен самому себе? Был я волен распоряжаться собой? И вообще может ли человек быть вольным? И что она значит, эта самая вольность? Что она значит… Чего я желаю? Способен ли исполнить все, что желаю? Допустим, что да — чего же мне хочется? Можно ли пройти жизнь, не склоняя ни перед кем головы? И если все предать забвению, если думать лишь о воле, то как же семья? В первую голову жена… Всех можно победить, но нельзя победить жену. Ты не сможешь бороться с ней, состязаться и одолеть. Если и станешь бороться — не истощишь ее волю, наоборот, она истощит тебя. Разве способен мужчина в упрямстве перещеголять женщину? Нет ничего мягче и ничего тверже женщины, нежной и грубой, заботливой и жестокосердной, такой щедрой и такой скупой. Если пожелаешь, взойдет ясным солнышком, а то и нахмурится, как непроглядная ночь. Быть может, только моя старуха такая… Пусть оно так и будет, другим не пожелаю подобных мыслей. Однако замечаю иногда кое-что и у других, знаю и по рассказам…
Нет, моя Бурмакан достойная женщина. Да ведь если б не было в ней недостатков, откуда взяться тогда и хорошему, а? Конечно, я напрасно осуждаю женщин. Все достойные, все прекрасные. Сколько гордости в том, чтобы создать, произвести на свет новую жизнь. Воспитать, вырастить… Если перечислить все неизбежное, отец не видит и десятой доли того, что переживает мать. Если б мужчина взял на себя роль матери, разве выдержал бы, разве справился б он?»
Месяц назад приезжала, гостила дочь Серкебая Рабия, та, что работала в городе, на фабрике; она сказала отцу, что пригласила сюда, в дом, свою бывшую учительницу. Говорила о ней хорошо: хоть и старенькая уже, но подвижная, умная, хорошая, мудрая. Серкебай не стал тогда прислушиваться к словам дочери, лишь ответил без особого жара: хорошо, что пригласила, раз желает привезти в наши места. А вообще-то кто только не бывал в этом доме; встретим ее не хуже других, окажем гостеприимство. Добавил еще, что неплохо, конечно, увидеть обучавшего дочь человека, выказать уважение, хорошо угостить… Больше ничего не сказал.
Не предупредив о своем приезде, Рабия посадила старушку в такси и появилась с ней вместе дома, как раз в этот самый дождливый день.
Серкебай сидел у окна, смотрел удивленно на дождь, будто видел впервые — впервые не связывал дождь с делами, а лишь радовался, что припускает сильнее, вспоминал пережитое, и вдруг как раз напротив окна перед глазами Серкебая остановилось заляпанное грязью такси. Рядом с шофером никто не сидел; открылась задняя дверца, и показалась его дочь Рабия, а следом за ней какая-то старушка. Легкое летнее пальто, сапожки, на голове пуховый платок. Видно было, что бодрая, легкая в движениях — проворно вылезла из машины, затем задержалась, оглядывая двор. Повернулась лицом к окну — прежде всего Серкебай заметил очки в роговой оправе. Затем… Затем он моргнул испуганно, вздрогнул, затаил на минуту дыхание. Он не понял, что с ним случилось, кого он увидел, — лишь показалось, что ожило, шевельнулось давно застывшее, истершееся, забытое, уснувшее чувство… Как будто оно приоткрыло глаза и снова закрыло. В голове — мешанина, вихрем закружились противоречивые мысли. Серкебай обернулся, глянул на свою Бурмакан. Та, неспешно передвигаясь, вытирала марлей пыль с необыкновенно большой высокой и широкой самодельной кровати, что стояла в углу, на почетном месте. Давеча поглядел на нее — была занята ближней, маленькой спинкой, теперь перешла к большой, главной спинке. Серкебай знал — Бурмакан по натуре своей делала любую работу не торопясь, чисто, тщательно; даже когда оплакивала, будто подбирала мелкий бисер, однако его это не только не раздражало — наоборот, нравилось в ней. Бывало, придя усталым с работы, ложился на эту кровать и так отдыхал — наблюдая за медленными движениями Бурмакан. Слышал в ее движениях песню, мелодию. Не задумывался, что за песня, почему поет, — просто ему так казалось, так слышалось. Отдыхая, привык видеть две старинные серебряные монеты, заплетенные в ее косы, — послушно свешивались в ту сторону, куда Бурмакан наклонялась. Но больше всего ему нравилась молодая, как у девушки, фигура жены, — ведь состарилась вместе с ним, уж седьмой пошел десяток, а осанка осталась прежняя — прямая, гордая, юная… Правда, когда, занимаясь уборкой, поворачивалась к нему лицом, веки его смеживались. Лицо жены ничуть не подходило к фигуре, не было молодым. Человек, увидевший увядшее, в морщинках, точно печеная картошка, лицо Бурмакан, сопоставив с фигурой, мог бы подумать, что странным образом голову одного человека прилепили к телу другого. На похудевшем в старости лице резче выделялись скулы, кожа собиралась складками, лишь одни глаза не изменились, не утратили юной прелести. Казалось, что просверлили две дырочки в старой, засохшей коре тополя и прилепили два молодых глаза. И ведь что получалось — эти самые молодые глаза словно бы скрывали, делали невидимыми морщины постаревшего лица, делали его добрым, ласковым, даже красивым, придавали ему особую прелесть…
Бурмакан посмотрела на мужа как раз в то мгновенье, когда он глядел с испугом на незнакомую женщину, входившую к ним во двор. Почувствовала его растерянность — не привыкла видеть мужа таким, смотрела на своего старика вопрошающе: мол, что это с ним приключилось? Но ее Серкебай не ответил — не успел он вымолвить слова, как в дверь постучали; не ожидая ответа, открыли, и показалась та незнакомая женщина… Из-за ее спины выглянула Рабия, сказала, застенчиво опустив взгляд:
— Апа! К нам гостья. Я говорила о ней…
В комнате было настолько чисто, что гостья, вошедшая с дождя, повернулась было, желая возвратиться в переднюю комнату, чтобы разуться, но Бурмакан, поняв ее мысли, пригласила приветливо:
— Заходите, не беспокойтесь ни о чем. Ну, запачкается ширдак[35] — так ведь это не на совести грязь. Придут теплые дни, брошу его на траву, вытряхну как следует — вот и снова чистый. Рабия, проводи сюда гостью! — Видно было, что ей понравилась эта пожилая учительница.
Гостья с улыбкой слушала Бурмакан; обвела взглядом комнату, увидела седобородого человека — глаза ее расширились на мгновение, казалось, она перестала владеть собой, но тут же прикусила губу, спокойно всмотрелась в лицо Серкебая. Глаза в глаза… Теперь она безошибочно признала его. На лбу выступила испарина…
— Здравствуйте, — тихо сказала она, стараясь не выдать волнения.
Теперь Аруке вполне овладела собой, не чувствовала больше растерянности, и Серкебай по взгляду ее понял, что и она узнала его. Возможно ли — через пятьдесят лет?.. Что в нем осталось от того, прежнего Серкебая, бывшего ей мужем и потерявшего ее в бегстве на перевалах?.. Может, только глаза, взгляд не изменило время?
Словно желая сказать, что случившегося не вернешь и не изменишь, Аруке держалась подчеркнуто спокойно: она все же вернулась в переднюю, тщательно вытерла о половик сапоги и, сняв наконец пальто, вернулась в гостевую. Оказалась одетой в белую шерстяную кофту — в комнате словно бы стало еще чище, светлее прежнего.
Бурмакан, которая стелила для гостьи на почетном месте корпочо — стеганое узкое одеяльце, — не подозревала еще ни о чем, она привычно застенчиво, оказывая уважение приезжей, бочком подошла, желая поздороваться, подала ей кончики пальцев. Аруке крепко сжала их да еще и тряхнула. Глаза Бурмакан широко раскрылись, она была неприятно удивлена. Серкебай, кажется, тоже. Гостья прошла на почетное место и села. Серкебай, никогда не отвергавший приветствий не только взрослых, но даже и детей, теперь молчал, будто в рот ему насыпали песку. Бурмакан, наклонив голову, будто гусыня, собирающаяся ущипнуть, недовольно поглядела на мужа. Серкебай, конечно, видел — Бурмакан сердится. Что-то пробормотал себе под нос, едва шевеля губами, но слов его приветствия не расслышали не только гостья и жена с дочерью — даже он сам. Трое пожилых людей застыли в молчании — словно ожидали чего-то…
Первая овладела собой Аруке. Спокойным жестом сняла с головы платок, накинула его на плечи. В доме было тепло, несмотря на весеннюю непогоду. Многие в поселке завидовали жилью Серкебая — мастера строили по его собственному плану. В каждую комнату он провел толстые железные трубы отопления, и, когда Бурмакан в обед разжигала огонь в плите, в комнатах становилось тепло.
— Это и есть твой отец, Рабия? Оказывается, я его знаю давно… Думаю, что это за Серкебай?..
Бурмакан и Серкебай, подняв головы, с тревогой поглядели друг на друга.
Бурмакан в беспокойстве переводила взгляд с Аруке на Серкебая и обратно. Казалось, из глаз ее летели искры, словно от кремня… Борода и усы Серкебая задрожали, однако вскоре дрожь унялась. Только тогда Серкебай смог ответить:
— И я тоже… знаю давно…
Так жалобно, неуверенно Серкебай разговаривал с Аруке в давно ушедшие годы, когда очень любил ее, когда из-за этой любви убил ее первого мужа — байского сына Жайнака. Давно, давно ни с кем не говорил таким тоном Серкебай, и вот сейчас как-то само получилось…
— Откуда ты знаешь эту почтенную женщину?
— Разве спрашивает о таком человек, вместе с Серкебаем кружившийся в сите жизни? — с усмешкой ответила Аруке.
На некоторое время опять воцарилось молчание. Обе женщины, скрывая волнение, бросали друг на друга испытующие взгляды. Каждая, казалось, задумалась о своем. Рабия вышла хлопотать по хозяйству.
Бурмакан терялась в догадках: «Серкебай — и она? Нет, это невозможно. Серкебай на такое не пойдет, я верю ему. Однако… смотри-ка, глаза у нее горят… Видно, не сейчас, но… когда-то… нет, не возьму на себя греха… Для чего сказала о сите жизни? Должно быть, Серкеш встречал ее где-нибудь… Он ведь часто ездил на всякие совещания, наверное, там и узнал… На совещаниях? Нет, не так, тут что-то другое. Если бы просто встречал в поездках, разве сказал бы: «Знаю давно…» — разволновался бы так? Говорит, будто чувствует за собой вину. Эта учительница…. Видно, в молодости была хороша собой… Нет, вовсе она не красивая, что-то слишком бледна… Разве так уж бледна? Кажется, я ревную? Конечно, была красивой. Одни глаза чего стоят и сейчас еще посверкивают огоньками! Если бы не очки… Да, именно это… очки скрывают… придают спокойное достоинство. Но разве мои собственные глаза… разве угасло в них пламя? Смотри-ка, шея ее — она вся в морщинах… Нет, не нужно слишком придираться. Должно быть, эта шея когда-то источала лунное сияние. Да, конечно, была красавицей… Наверно, немало джигитов вздыхали о ней, не добившись взаимности. Разве можно судить о ее молодых годах, видя ее сейчас… Недаром ведь говорят: «Если состаришься, будь как я, будь как черная земля». Подожди-ка. Все-таки… Кого же она мне напоминает? У кого я видела такие глаза? Может быть… Не мои ли у нее глаза? Оставь… Нет, все же… Ну-ка гляну я на свой портрет. Вот шайтан… Конечно, что я плету — нисколько не похожи… Какое не похожи. Похожи. Хорошенько всмотрись, Бурмакан. Посмотри на портрет… Видишь — в глазах затаилась мечта? Неужели в глазах этой женщины тоже живет мечта? Если она уважаемая учительница, о чем ей еще мечтать?..»
Аруке думала о своем: «Серкебай, несчастный Серкебай, как ты нерешителен, а? Отчего нерешителен Серкебай? Или боится своих прошлых дней, но ведь все давно покрылось пылью… А может, боится жены? Чего он боится? Чего ему осталось бояться? Постарел, а? И этого человека я любила когда-то? Этого… Нет, не то слово, нельзя так говорить. Взаправду ли я любила тогда? Если да — значит, он был достоин? Любовь ведь слепа, накидывается, не спрашивая рассудка. Да, у любви вовсе нет рассудка, ошибается на каждом шагу. Если бы люди любили других за то, что они есть на самом деле, — любили их души, их привычки, если бы люди могли вовремя различить реальное — то, что перед глазами!.. Но нет, не способны к такому, бедняги. Сколько знаю случаев, когда любят только одну сторону, одно качество, осколочек, щепоточку другого существа. Быть может, я тогда полюбила его глаза, или его слова, или песни, или его удаль… И значит, не все его слова, а только отдельные, те, что нравились мне… Быть может, даже и не любила, а только одобряла их? Быть может, я тогда и не знала даже, что такое любовь? А теперь знаю? Только теперь? Сейчас, конечно, узнала бы… Любовь… Какая сейчас может быть любовь?.. Оказывается, он женился на матери Рабии… Жена Серкебая… Глядит хмуро. Видно, повздорили они перед моим приездом. Нет, наверное, увидев меня, она заподозрила нехорошее, потому рассердилась. Мы, бедные женщины, интересные существа, а? Иногда вспыхиваем из-за пустяков, будто молния, иногда мягко сверкнем, подобно далекой комете, вызывая зависть у видевших… Иногда мы чисты, точно священная могила, иногда мы опасны, подобно болоту, которое тотчас засасывает любого, ступившего на его край… Иногда мы как вольное пастбище: проведешь там хоть час — почувствуешь силу и бодрость; иногда напоминаем шипы, готовые вонзиться в глаза. Мы способны, загоревшись, создать все или все стереть, уничтожить. Мы дочери великодушия и благородства, мы дочери обиды и ревности, мы и мелкие и большие, и широкие и очень узкие; иногда мы храним в уголке своего сердца целый мир; иногда там не поместится и зернышко пшена. Мы любим критиковать других, но сами нетерпимы к оценкам. Взять хотя бы меня — в душе я осуждаю Серкебая. Я назвала его беднягой. Но сама разве я не бедняжка? Что есть такого во мне, возвышающего над Серкебаем? Живу одиноко, дом мой пуст… Я — не бедняжка, я — несчастная. И Серкебай — не бедняга. У него же есть три дочери. Три его дочери — три отдельных мира, три разных города. Его корни тянутся далеко. Умрет Серкебай — останутся его корни, продолжится его род, будет жить его имя… А когда я умру — что останется от меня? Я уйду без следа, ничего не оставив после себя, я умру, и никто не скажет обо мне слова, не помянет добром… Да, это о таких, как я, говорят: если умрет одинокий, у него и плакальщиков нет. Иной раз, пытаясь успокоить себя, повторяю: ведь после меня останутся мои ученики, они будут вспоминать, они скажут — учила их одна старушка по имени Аруке. А что еще скажут обо мне? Что они знают, что вспомнят о моей жизни? Ничего. Да, больше ничего не останется от меня в народе.
Почему я не вышла замуж? Были ведь люди кругом… я нравилась… мне предлагали замужество… Были хорошие, были плохие, много их было, мужчин. Но когда заговаривали о замужестве, сердце мое леденело. Перед моими глазами вставал образ вот этого самого Серкебая… Я думала: уж лучше без мужа, — вдруг он окажется точно таким же… Я разочаровывалась, я начинала избегать человека, которому нравилась. Это все ты, Серкебай… Нет, все же нет… Не годится сваливать всю вину на него одного. Что он мог понимать в то далекое время, когда дорога делилась надвое и он не знал, куда ступить… Я-то знала его неоперившимся, молодым, а каков он сейчас? Как и я, уже вышел на пенсию. В молодости все красивы, в старости все… Нет, и у старости есть своя красота — естественность и достоинство. Вот и Серкебай — до чего же идет ему его ухоженная белоснежная бородка, даром что реденькая; а если бы наголо побрил подбородок, желая выглядеть помоложе, — разве выиграл бы?.. А у его жены тонкие губы, похоже, что языкастая… Нет, все же не права я: почему, приехав в гости к людям, осуждаю их, придираюсь, хочу отыскать в них плохое? Хорошая, оказывается, жена досталась Серкебаю. Должно быть, в молодые годы была белолицей красавицей, подвижной и гибкой, подобно кунице. И вообще с женами повезло Серкебаю, в этом он счастлив. С женами… Значит, я и себя отношу сюда, и себя хвалю? Но так хорошо я думаю о себе сама, а что говорят другие — откуда мне знать?»
Женщины думали о своем, Серкебай — о своем: «Надо же было случиться такому… Аруке… Как гром среди ясного неба — появилась, смутила покой, принесла тревогу… Почему я не расспросил хорошенько у дочери, что за учительница, даже именем не поинтересовался. И все — моя беспечность! Не ради себя, ради Бурмакан, ради ее покоя надо было быть осторожней… Сказал бы дочери — пусть не привозит… А теперь… Бурмакан, подозревая неладное, уже сморщила нос. Трудно будет разгладить эти морщинки… Да и не одна Бурмакан… Разве Аруке не нахмурилась тоже? Как говорится, «у того, кто сел на ишака, ноги не знают покоя; у того, кто имеет двух жен, уши не знают покоя»… Откуда, почему две жены? Только одна! Аруке вовсе не моя жена. Я ведь даже и не был женат на ней. Как же! Оправдывайся теперь! Был женат, была моей женой — в этом правда… А уж потом… ох, кто знает… Вообще был я взаправду женат? Бессмысленные слова. А Бурмакан? Интересный я человек. Если бы все рассуждали, как я, что тогда… Да, Бурмакан… Как отношусь к ней? Что, разве плохо? За столько лет… всегда говорил с ней мягко, не поднимая глаз. Никогда не одергивал, не бывало, чтобы повысил голос. И никогда не заставлял просить чего-либо дважды. Просить? Что же она просила, а? Что и когда потребовала? Брось, неужели Бурмакан и вправду такая? Столько лет прожили вместе… Да, это так — она никогда не просила у меня ничего, ни малейшего пустяка… Тогда, выходит, я ничего для нее не сделал? Женщины — они ведь на то а женщины, чтобы требовать от мужей — купи то-то да сделай то-то. А Бурмакан никогда и не заикалась… Я сам время от времени покупал на свой вкус, приносил ей, дарил что хотел: «Возьми, надевай». Она молча брала, носила. Шло ей или не шло, хотелось носить или нет — все равно надевала. Да разве я сам обращал внимание, идет ли жене обновка? Принес, отдал — остальное не наша мужская забота. Я покупал, она надевала, носила в доме, выходила в поле работать, встречалась с людьми, разговаривала, делилась новостями с соседками, люди оказывали ей уважение, она отвечала тем же — все было просто, и все-таки находились такие — обращали внимание, следили за тем, как она одевается. Некоторые женщины носили платья, жакеты, пальто, как у моей Бурмакан. Оттого ли, что обновки ладно сидели на ней, оттого ли, что она — жена председателя. Говорят, что муж и жена скучают в разлуке; говорят, что в разлуке стремятся друг к другу душой; говорят, что если кто-нибудь чужой приблизится, улыбнется, заденет, то ревнуют, приходят в бешенство, чуть ли не умирают… Допускал ли я подобное? Допускала ли Бурмакан? Скучал ли я без нее, когда иной раз уезжал на несколько дней по работе? А когда возвращался, чувствовал, что я — муж, целовал, обнимал ее крепко, утолял ли страсть — ее и свою? И вообще знаю ли я, что это — страсть, что можно ее утолить, а нет — так недолго завыть от тоски? Есть ли во мне страсть? А если есть, то было ли время, когда вполне утолял ее? Какая она, эта страсть? В те далекие годы, когда Аруке жила еще в байской юрте, когда я со скалы высматривал, ожидал с нетерпением встречи с молодкой, — быть может, это и было — страсть? Я никогда не глядел так на Бурмакан. Но если правда… Значит, вся моя страсть досталась одной Аруке?
Существуют ли люди без страсти? Да, это я… А Бурмакан? Она, как и я… Видно, никого никогда не любила. Не любила… Откуда мне знать, кого и когда… с кем имела тайную связь. Оставь-ка, не может такого быть… Вот эта моя Бурмакан… тайно… с кем-то в связи, лежит в чьих-то объятиях, а? Нет, невозможно! Если бы вдруг… нет, прямо выдеру глотку! Неужели и вправду в ее глазах затаилась мечта? Опомнись — какая мечта? Стал ревновать ни с того ни с сего… Но если так, если я вправду ревную, значит, люблю ее? Смотри-ка, оказывается, в глубине души во мне затаилась любовь! И сам не подозревал… А правда, видимо, в том: раз я ни в ком не сомневался, ни от кого не защищался, значит, я своей жене верил. И жена верила мне. Вот мой ответ, Аруке. Ну, увиделись все-таки мы с тобой, а? Вот, оказывается, какая ты стала… Появилась в дождливый день… Глаза — за очками… Да, говорят, две горы не сходятся, два человека сходятся. Ты пришла сюда, ты проявила больше смелости, чем я, мужчина. Уважаю такое, пусть моя жена отрежет мне голову, все равно уважаю. Я скажу ей, что ты когда-то была мне женой. Каждый, наверно, теперь понимает и вспоминает по-своему, и все-таки я и тогда уже был человеком… Был таким же, каким был народ, было время… Но ты, Аруке, ты ведь прославилась… ты прославила время, а, дорогой человек? Вместе с Токтором участвовала в восстании… Говорят, что коня нужно судить, когда устанет, а человека — когда состарится. Я был твоим мужем когда-то… Я доволен, ничуть не жалею… Ну, а если доволен и ни о чем не жалеешь — молчи тогда, Серкебай, молча думай и оставайся спокойным».
Вошедшая Рабия смотрела — не понимала: «Что вдруг случилось? Отец и мать никогда не встречали так гостя… Приняли холодно. Почему? Отец и почтенная Аруке настороженно переглядываются, и мама неспокойна тоже — почему?..»
Наконец Бурмакан прервала молчание, обратилась к дочери:
— Рабия, познакомь нас с гостьей. Кто эта байбиче? Не та ли твоя учительница, которую ты собиралась привезти? Как ее имя?
— Тетушка Аруке…
Услыхав это имя, Бурмакан живо обернулась к мужу:
— Которая Аруке? Та самая?..
— Та самая Аруке. Ты о ней слышала.
Это сказал Серкебай. Бурмакан не хотела скрыть недовольство, и Аруке тоже была недовольна встречей с женой Серкебая.
— Милок, оказывается, эта самая Аруке жива, а?
— Если жив этот самый Серкебай, отчего бы не быть живой этой самой Аруке? Что же тут удивляет? Имя мое вам, оказывается, известно, но как зовут вас? Мне говорили, что хозяева в ваших местах встречают гостя, приехавшего издалека, не так… Серкебай, где же добрый обычай, где киргизское гостеприимство? Я попала в ваш дом случайно… Как говорится, неизведанные места таят много ловушек. Однако, слава богу, я еще не дошла до того, чтоб терпеть унижение. Хоть и нет у меня ребенка, рожденного мной, — не перечислишь тех, что я воспитала и обучила. Я приехала в ваш дом. И если я даже и не увижу уважения к себе, то хоть узнаю имена людей, которые не умеют уважать гостя… Как ваше имя, байбиче?
Аруке говорила намеренно резко, неприязненно и с досадой. В ответ на свои неприязненные слова услышала холодный голос хозяйки:
— Бурмакан.
— А-а… Если Бурмакан, значит, ты тоже с сыртов… Стало быть, та самая Бурмакан — слышала я о тебе… Знаю, ты дочь женщины по имени Калыча. Говорили, была храбрая женщина. Говорили, у нее были две юные дочери. Старшую звали Бурмакан… имя младшей… имя младшей… не помню… Люди, видевшие Калычу, говорили о ней, что разбила голову самому волостному. Видно, черное дело совершил волостной, видно, глубоко ранило зло, причиненное им. Если боль подчиняет душу, человек будет поносить и самого бога. Так, значит, ты дочь Калычи…
— Нет… Это другая Бурмакан…
С испугу, только с испугу вылетели у Серкебая несуразные эти слова!
— Ой, милок, что с тобою? Моя мать — та самая Калыча, я ее дочь. Серкебай, почему обманываешь, глядя в глаза? Никогда еще правда не портила дела, почему ты скрываешь правду? Или есть за тобой какая-то вина, чтобы бояться имени моей матери? Скорее поступлюсь богом, но не поступлюсь именем моей дорогой матери!
Серкебай в ответ лишь засмеялся. Он всегда так делал, когда Бурмакан сердилась, когда хотел переменить, отвести разговор… побеждал терпением, побеждала его уравновешенность.
— Если ты вправду родная дочь Калычи… мы обе когда-то были унижены судьбой… унижены временем, жизнью. Мечты наши — они из одного родника. Погляжу я, даже твои глаза похожи, оказывается, на мои. Наши глаза печальны не потому, что такими родила нас мать, — нет, мы слезами омыли свою мечту. Тень, что залегла на твоем лице, — присмотрись, она та же, что у меня… это отпечаток старой жизни. Я — Аруке, я когда-то на горной тропе родила свою дочь Буюркан. Где потерялась моя девочка, где потерялась я сама… об этом знает шестнадцатый год, знает время, пропахшее кровью.
Быть может, она осталась Среди обломков скал. Быть может, она осталась В черном оскале оврага. Быть может, она осталась На клыках голодного волка с горящими злобой глазами. Быть может, она осталась на перевале В горах, куда не достанешь и взглядом. Кто знает об этом горе? Знает только шестнадцатый год.Не я оставила тень на твоем лице, Бурмакан, это ты отнеси к старине… Правду сказать, причиню тебе ущерб на одну пиалу чаю, а если нет… О, не будь женщиной, Бурмакан!
Аруке поднялась. Серкебай схватил ее за руку, Бурмакан — за другую, умоляя, заставили возвратиться на почетное место. Да Аруке и сама понимала, что уехать — значит поступить по-ребячьи.
Дождь припустил сильнее, струи хлестали в окно.
Аруке осталась… Не только Серкебай, но и Бурмакан посмотрела на нее с восхищением. Оба вдруг словно только сейчас увидели: ее белые волосы, ее спокойное грустное лицо излучают свет, а белая кофта придает ей еще больше прелести; им показалось, Аруке у них на глазах раскрывалась, словно цветок. Бурмакан, не веря себе, искала в ее глазах подозрительное… Однако глаза Аруке, обрамленные сеткой морщин, задумчивы и усталы, будто она проделала долгий, в месяцы, путь и сидит наконец у огня, в тепле…
Все ж таки Бурмакан сомневалась. Когда поднялась и направилась в переднюю комнату — пора было позаботиться об угощении, — ею овладели беспокойные мысли. «Смотри-ка, приехала, не побоялась дождя… Для чего? Не могла ведь не знать… Знала о Серкебае, нарочно приехала! Или просто из любопытства, посмотреть, каким стал, или задумала нехорошее?.. Мужем ведь был для нее… Что ни говори, когда-то жили вместе… Видно, вспомнила, соскучилась, захотела увидеть. А что, если вправду любила моего Серкебая? Любила… А я? Люблю ли я мужа? Какая она, любовь? Желание видеть его постоянно? Были такие дни для меня? В ту далекую пору, когда мы только что поженились, если я в одиночестве оставалась дома, поднималась на высокий камень у юрты и смотрела, ждала, до ряби в глазах смотрела… Мне не хотелось одной возвращаться в юрту. Особенно тяжело было проводить в одиночестве ночи… Боялась. Да, в такие минуты Серкебай был желанным… Перед глазами стоял его образ… Я молилась, чтобы он возвратился скорее и оставался со мной. Скучала ли без него? Не знаю, может быть, это от одиночества?.. Но такое длилось недолго. Я освоилась, я привыкла к замужеству. Попробовала оставаться одна. Не только бояться, не только скучать перестала… Я начала крепко спать, точно камень, упавший с горы, что лежит неподвижно. Постепенно мне сделалось безразлично, в доме ли Серкебай или уехал в поле. Это правда… Значит, очень немного дней я любила его, значит, недолго притягивал меня к себе, мало прожили мы с любовью. А потом уж мы жили просто… как добрые муж и жена… вели общее хозяйство… без особых страстей. Правда, даже не говорили много. Он часто возвращался очень усталый. Входит, бывало, в дом, раздевается, ест, ложится в постель. Ничего не скажет мне, а я ничего не спрашиваю. Я и не надеюсь услышать от него теплое слово, и он от меня, видно, тоже. Мы напоминали глухонемых. Постепенно это стало привычкой. Если бы мы, как иные мужья и жены, говорили друг с другом без устали, от души бы смеялись, шутили, играли… нет, представлю — даже кажется диким. Часто я слышу, как он говорит — «жить по-серкебаевски». Видно, это и есть — жить, не разговаривая друг с другом… Иногда ведь хорошо и побраниться, высказать накопившееся. Хуже нет — жить замкнувшись в себе… Настала, настала пора высказать все отложившееся в душе за долгие годы молчания. Но сумею ли я теперь говорить, смогу ли раскрыться? Не знаю. Уже привыкла молчать. А если не говорить, лишь сердито буркнуть что-то и затем молча выйти из дома, это больно заденет Серкебая. Не для того, чтобы причинить ему боль, а просто из женской хитрости все же я сделаю так. Он, конечно, не вытерпит, станет жалеть меня, начнет умолять, успокаивать, уговаривать… И, хотя я знаю, нет за ним никакой вины, все равно скривлю обиженно губы… Ведь если не сделаешь так, эти мужчины — что за народ! — возомнят о себе, сядут нам на голову…»
Когда к газу подносишь горящую спичку, он шумно вспыхивает, а? Бурмакан вздрогнула от испуга, очнулась, выбралась из паутины беспокойных мыслей. Еще и еще хлопотала, приложила все старания, чтобы достойно принять, угостить гостью. С виноватым видом тенью ходила за матерью Рабия. Взглядывала исподтишка, надеялась, что придет минута — и лицо Бурмакан просияет.
Пока Бурмакан с Рабией заботились об угощении, что же делали Аруке и Серкебай, оставшиеся в комнате?
— Здравствуй, Аруке.
Аруке не ответила. Улыбаясь, смотрела в окно, по которому барабанил дождь.
— Такова судьба, Аруке. Мы не вправе обижаться друг на друга…
— Знаю…
— Оказывается, ты еще жива, Аруке.
— Потому и разговариваю с тобой, что жива.
— Бурмакан хорошая женщина, не относись к ней плохо… Аруке.
— Разве я враг ей, чтобы относиться плохо…
— Ты умная, пожалей меня, пожалей ее, не говори… Не вспоминай о давнем, не рассказывай о том, о чем невзначай упомянула… Не причиняй боли ее сердцу, и без того оно изболелось, Аруке.
— Тот, кто скрывает свою болезнь, умрет от нее. Почему ты не рассказал ей сам? Значит, ты…
— Да, Аруке. Я не мог сказать. Всю жизнь мучаюсь, не смея признаться. Сам таким образом осудил себя на мученья. Если бы признался, давно б исцелился, однако я решил не исцеляться, пока не умру. Пожизненно осудил себя… Плохо ли это, хорошо ли — сама оцени и сама решай, как поступить. Я виноват перед тобой… Я признаю, Аруке…
— Чтобы назвать себя виновным, надо обрести достоинство человека… Быть достойным принять ответственность… Если ты Серкебай прошлых лет, ты недостоин быть виновным передо мною. Скажи, что видел ты в жизни? Что останется после тебя? Когда придет твой час распрощаться с жизнью, что поднимет твой дух?
— Мой труд… Еще… мои дочери.
Аруке покраснела. Попробовала улыбнуться — улыбка вышла искусственной. Серкебай в душе пожалел ее.
— Я не знала, что Рабия твоя дочь. Она похожа не на тебя, а на мать. Каждый раз, называя фамилию Рабии — Серкебаева, оказывается, называла твое имя. Сначала фамилия звучала знакомо, но постепенно я перестала связывать… Да, я одинока. У тебя — дочери, у меня — никого, и все-таки моя жизнь… И все-таки, оказывается, мне лучше, чем тебе, Серкебай. Сегодня ты одинок возле своей жены. И ты не знаешь, что будет с тобою завтра.
— Завтра? Как же не знать…
— Неправда… Тебе плохо, тебе скверно, тебе не позавидуешь, Серкебай. Ты обманывал самого себя, ты обманывал близких людей — и не год, много лет… Ох, скажи-ка, неужели мог спокойно спать, спокойно есть в этом доме? Нет, здесь не терпеливость твою, не геройство, не искупление — вижу одну только трусость. Ты и в молодости был такой, знала тебя таким. Чувствую, хочешь сказать, что все в своей жизни создал своими руками, никого не ущемлял и не пользовался без закона общественным добром… Если ты не способен раскрыть свое сердце в семье, если ты не чистосердечен, если не сознаешься в своем преступлении… Я слышала, что ты темной ночью, одевшись в черное платье, выкрал Бурмакан, что ты бросил ее, полуживую, под волостного… Обо всем этом я узнала уже после бегства, расставшись с тобой. Если бы услышала раньше…
Серкебай прервал ее речь:
— У меня были два затаенных желания. Во-первых, увидеть тебя еще хоть раз, если ты осталась жива… Во-вторых, рассказать Бурмакан о своей вине перед ней…
— Меня ты уже увидел, а Бурмакан рассказать не сможешь. Не такой ты человек, не решишься, не хватит смелости. Почему ты живешь с фальшью в сердце? Как у тебя хватает терпения? Понимаю, ведь мучишься всю жизнь. Не хочу тебя осуждать, однако хотела бы знать, что живешь с чистой совестью. Знаешь ли ты, что останется после меня? Останется честность, ничем не запятнанная совесть.
— Быть может, я честнее тебя, Аруке…
— Вот видишь — «быть может»… Ты не веришь в себя, говоришь неуверенно. Это и значит — не честен… Почему я не говорю о себе — «может быть»? Смотрю на тебя и не верю, что вы с женой разговариваете по душам.
— Почему не разговариваем?..
— Не горячись. Я спрошу у твоей жены, я не верю, чтобы ты мог говорить с ней от всего сердца. Я не знаю тебя теперешнего, но если ты прежний Серкебай… ты ведь бесчувственный человек. На работе ты, вероятно, хорош, но уж дома… Посмотри-ка сейчас на себя. Твоя дочь пригласила меня в твой дом, а ты смотришь со страхом. Или думаешь, я приехала, чтобы снова выйти за тебя замуж? Или желая тебе отомстить? Оказывается, ты уже сам себе отомстил, сам наказал себя, обрек на мучения — даже не из-за меня, а из-за жены, с которой живешь, с которой нажил детей. Это твоя болезнь. Если ушибешь тело, боль длится один день, а если ранишь душу, боль останется на тысячу дней.
— Хотя ты и женщина, характером напоминаешь мужчину, Аруке. Не делай этого, зачем тебе спрашивать Бурмакан, разговариваем мы или нет… К чему тебе семейные нелады других?
— Скажи, Серкебай, должно быть, не очень часто в твоем доме бывают гости? Разве может человек, не уважающий себя, уважать других?
— Нет, не говори так, Аруке. Не хвастаюсь, что сверну горы, однако и над нашим очагом поднимается дым. Тебе тоже окажем уважение. Неужели же думаешь, я не смогу принять тебя достойно?
— Куда ушла твоя жена? Испарилась, исчезла… может, сбежала? Уж не рассердилась ли на меня?
— За что ей сердиться?.. Верно, хлопочет, желая получше угостить тебя, Аруке.
— Хмурая, оказывается, у тебя жена. Скажи, пусть не беспокоится, я уеду. Мы слышали о Калыче, — она была женщиной, что сияла как солнце, проглянувшее после дождя. Видно, ты постарался нахмурить эти брови, бедняга. Конечно, твоя заслуга, а то чья же… Скажи, как ты сделался председателем? Кто тебя научил руководить людьми?
— Научил сам народ. Если народ пожелает, сотворит и председателя, и что хочешь другое. Серкебай — это одна песчинка, а народ — гора. Если народ захочет — превратит в гору своего избранника. Я много не говорил, много слушал. Из услышанного отбирал самое главное, нужное, об этом говорил народу. Если я не хотел думать — заставлял думать народ, если я не хотел работать — народ заставлял меня… Народ научил дисциплине, научил жизни, научил честности. Народ научил оценивать прошлое, научил смотреть вперед. Не я, народ — молодец. Я узнал запах земли, я узнал вкус хлеба, я узнал цену минувшим дням — и все это дал мне народ. Да, если счастье тебе улыбается, что бы ты ни сказал, все звучит хорошо. С другой стороны, значит, и кое-каким умом наделил, видно, бог… Недалекий человек не способен долго править, не удержит в руках все нити… Поскольку я работал честно, не было людей, ставших мне поперек. Лишь то, давнее, неоткрытое, заставляет меня вспоминать о прежнем Серкебае, заставляет думать, что остался прежним, таким же, каким был…
— Понимаю, хочешь сказать, что родился новый Серкебай? Закалился в труде, развил данный природой ум, исправился, стал различать хорошее и плохое, но ведь сущность, характер — они остались без изменения? Ты и сейчас разговариваешь со мной как виновный… Почему? Потому, что ты не очистился от греха. Избавишься ли когда-нибудь, снимешь с себя вину?
— Нет. Это мне доказало Прошлое. До встречи с Прошлым я собирался все рассказать Бурмакан, я хотел получить от нее прощение, хотел облегчить свой груз, я стремился… Но после встречи с Прошлым от казался от этой мысли. Однажды совершенный проступок нельзя искупить честной жизнью. Бурмакан способна простить меня. Но разве я буду оправдан этим? Могу ли считать себя оправданным, стоит ей сказать «прощаю»? Нет. Поэтому все затаил в душе, упрятал слова признания подальше, поглубже… Я не сказал ей… И бог знает, скажу ли когда…
— Значит, по-твоему, всякую вину нужно скрывать до самой смерти? Однако все же скажу тебе: придет время — признаешься… Говорят, дурное дело обнаружится и через сорок лет. Говорят еще, что вина не может сгнить. Остается все той же. Все равно когда-нибудь станет известно людям содеянное тобой, но разве это успокоит твою душу? Серкебай, Серкебай, мне кажется, ты остался прежним, совсем ты не изменился, разве только морщины на лице появились да борода и усы побелели. Тебя подняло время. Всех поднимет наше время — всех, кто захочет подняться. Ты, должно быть, сумел, оказался достойным… В этом — твое достоинство, в этом — твоя человечность. Большой смысл заключается в том, чтобы суметь подняться. И я это оценила в тебе!
Аруке привычно приподняла брови, и этот памятный взлет бровей вернул Серкебая в молодую пору, вернул на полвека назад… В молодые годы Аруке, когда говорила с ним, точно так же иногда вскидывала брови… Ах, что была за пора — прозрачнее капли росы. Серкебай, вспомнив давнишнее, наполнился сладкой истомой… Он увидел себя в молодые годы. В плохое время, но молодым… На глаза его навернулись слезы. На сердце сделалось неспокойно, нехорошо, — казалось, его распирает, оно стало больше… еще больше… и наконец не выдержит — лопнет… Они с Аруке поглядели друг другу в глаза. Глаза Серкебая лучились теплом, из глаз Аруке потянуло холодом. Оба оценивали, вспоминали, сравнивали… Оба смутно жалели о чем-то, в душу вошло беспокойство…
В эту минуту вернулась наконец Бурмакан. В руках несла самовар. Запахло дымом еловых веток, запахло огнем, запахло самым настоящим, горячим, красивым, новым, весенним огнем. От запаха огня, аромата хвои будто все оживилось, очистилось в доме… Огонь оживил и похолодевшие, померкшие глаза Аруке.
А Бурмакан, она преобразилась — теперь выглядела приветливой, великодушной хозяйкой.
Следом вошла Рабия. Повинуясь слову матери, расстелила скатерть.
Бурмакан даже не посмотрела на Аруке и Серкебая, казалось, забыла про них. Поставила самовар на место, поставила мед и варенье, принесла боорсаки. Аруке приподняла подбородок, будто желая уловить запах хвои от самовара. Незаметно бросила взгляд на Бурмакан, заметила, что та уже нарядилась в новое платье. Белое шелковое платье свободного покроя — да, очень ей шло… На голове — небольшой шерстяной платок, наподобие косынки, — лицо Бурмакан теперь казалось свежее, она сама — моложе своих лет… Бурмакан присела к столу с независимым, уверенным видом: мол, если желаете, то критикуйте, — не страшно, цену себе знаем… Голос ее звучал теперь тверже, решительнее. Серкебай не понимал, что с ней произошло, но душой чувствовал: Бурмакан в чем-то переменилась. Аруке, увидав Бурмакан, незаметно оглядела свою одежду. Платье жены Серкебая было новым, было отлично сшито — лучше, чем у нее самой. В душе Аруке родилась чисто женская неприязнь. Желая заглушить неприятное чувство, она, откашлявшись, заговорила:
— Рабия лучше других успевала в школе. Я советовала ей поступить в университет, она же решила сначала пойти поработать на фабрику. Хорошо или плохо? Оказывается, не ошиблась Рабия, и это хорошо… Я стала встречать ее имя на страницах газеты. Радуюсь ее успеху, радуется моя душа. Хотя не имею на Рабию прав как вскормившая молоком, но имею права как учившая и воспитавшая… Где бы ни находились мои ученики, не забывают меня, пишут, делятся сокровенным, которое не выскажут никому другому, приглашают, зовут разделить и радость и горе. Не каждый удостаивается подобного. Вижу — ты счастливая, Бурмакан-байбиче, твоя Рабия выросла умной, достойной. Часто приходится слышать: основа семьи — это младший; думаю, это правда.
Аруке говорила спокойно, доброжелательно. Чувствовалось, что она сожалеет о своих недавних жестоких словах, о несдержанности, не подобающей возрасту. Она посмотрела на белую скатерть, разостланную Рабией, в задумчивости коснулась ее рукой… А на скатерти в изобилии были расставлены разные угощения, все свежее, красивое, все ко времени, к месту. Бурмакан как бы объясняла этим гостье, что за жена досталась Серкебаю. «Я покажу тебе, кто такая Бурмакан, посмотри, приглядись, оцени… Я поступаю, как сказано мудрыми: «Если в тебя бросят камень, то в ответ брось пищу». Ты — учительница, ты овладела знаниями. Я же просто женщина из аила. Однако знаний, умений и понимания, полученных мною с молоком матери, ни одна душа не сможет меня лишить, не сможет унизить меня. Серкебай по сей день не знает всего во мне, всей моей силы и знаний. Я подобна кунице, что, не показываясь постороннему взору, скользит по песку. Пусть Аруке увидит, как вычищу в песке свой драгоценный мех… Ешь, дорогая гостья… Ну-ка, отведай этого белого меда, попробуй это варенье; сварила, собрав клубнику с собственного огорода. Все на этом столе приготовлено моими руками. Приглядись, Аруке, приглядись хорошенько… Так, чтобы не забыть. Пойми, что я великодушна. Если не поймешь этого, недостойна звания женщины. Не все, что говорят вслух, можно считать словом; не все, что подают на стол, можно считать пищей. Как среди слов бывает лучшее, так и в пище бывает лучшее. Ты учила мою дочь… Не нашлось бы тебя, учил бы другой. Я ошибусь, если скажу, что моя дочь стала человеком лишь потому, что ее учила Аруке. Учиться — это, конечно, важно, но быть человеком — это главное, основное. Да, ты учила ее, но ты ли сделала ее человеком?» — так думала Бурмакан. Аруке не знала, не слышала внутренним слухом ее мыслей, она и вправду, как желала того Бурмакан, присматривалась, оценивала и мед, и боорсаки, и варенье, и все остальное, находящееся на скатерти. Не довольствуясь одним лишь осмотром, отведала всего понемногу. Подобно лисице, что пьет из ручья, пробовала все не спеша, сдержанно, понемногу. Однако Бурмакан, она и здесь перещеголяла гостью. Прежде чем поднести к губам пиалу с чаем — а чаю налито было меньше, чем полпиалы, — она совершала особенный ритуал: небрежно держа в правой руке разукрашенную пиалу, водила ею по кругу, удивленно поглядывая на едва заметный парок, что, извиваясь, поднимался над чаем… Временами она подносила пиалу близко к губам, и тогда казалось, что она глотает не чай, а вот этот самый чайный парок. И хотя можно было подумать, что она занята лишь чаем, на самом деле мысли ее ушли далеко. «Понимаю, ты приехала дать Бурмакан урок культурного поведения. Ты ведь учительница, ты учила дочь, теперь очередь матери. Однако, если понадобится, Бурмакан покажет себя, сама научит гостью кое-чему… Хоть я никогда не была богата, да жила в доме бая, видела, как некоторые чванливые пренебрежительно пили чай. Стоит мне воспроизвести жесты и мимику хотя бы одного из них, и ты останешься побежденной, униженной, дорогая моя гостья! Погляди-ка на нее! Как жеманничает, глотая чай!.. Прямо-таки байбиче, старшая жена Серкебая… И будто заявилась в дом младшей жены, токол. Ну, посиди, пожеманничай, покрасуйся! Только съеденное не пойдет тебе впрок… В этот дом — боже упаси от такого! — никто еще не вступал с плохими мыслями», — так думала, так наполнялась желчью встревоженная Бурмакан. Она повторяла все движения Аруке. Однако если та брала боорсак покрупнее, Бурмакан специально выбирала помельче, но красивее; если Аруке поглубже окунала боорсак в мед, то Бурмакан нарочно лишь слегка обмакивала и незаметно отправляла в рот, ела неслышно. Кокетливо шевелила губами, сразу проглатывала боорсак, размоченный чаем. Серкебай заметил и, удивленно расширив глаза, не подозревая здесь тонкой игры, спросил простодушно:
— Байбиче, никак у тебя зубы болят?
— С чего ж им болеть? Ты думаешь — все как у тебя, который вместе с мясом изжевал, источил свои зубы. Сиди лучше спокойно, не приглядывайся, как человек ест боорсаки.
Бурмакан недовольно сморщила нос, поглядела на своего старика искоса. Помрачнев, наклонила голову, хмуро уставилась на скатерть. Теперь она долго не отойдет. Когда случается подобное, Серкебай обычно старается загладить свою вину, тенью следует за Бурмакан, уговаривает, успокаивает жену, но та лишь еще больше сердится. А потом уходит куда-нибудь, и надолго, а когда возвращается — все уже давно позабыто. Но сейчас — сейчас кажется, что никогда не расправятся морщины на лбу Бурмакан, никогда не разойдутся черные тучи…
Аруке, заметив и поняв состояние Бурмакан, потупилась, помрачнела, казалась печальной.
«Бурмакан ревнует. Напрасно… Зачем мне ее Серкебай? Однако… Если бы я была на ее месте, как бы я поступила? Неужели тоже бы ревновала?» — спрашивала себя в душе Аруке и не могла ответить. Решила не думать об этом. Нужно постараться вести себя сдержанно в этом доме, — ведь это дом Серкебая и Бурмакан. Опустила глаза — не хотела, чтоб Бурмакан видела ее смущение…
Бурмакан поняла по-своему — как кокетство, предъявление прав на Серкебая.
— Почему ты не позаботишься о своей гостье, Серкебай? Приведи овцу, зарежь, не откладывая на вечер. Что это мы сидим вздыхаем да глотаем один пустой чай. Эта байбиче, я думаю, привыкла видеть не такое угощение в домах, где она бывала… — Сказав эти язвительные слова, Бурмакан отвернулась от гостьи.
— Пойду. Зарежу. Все будет готово вовремя.
— Конечно, если уж ради такой гостьи не заколешь, если ради старшей своей жены не заколешь… Рабия! Эй, Рабия!
Бурмакан, побелев, вылетела в переднюю комнату, зовя дочь и про себя проклиная мужа. Лицо Аруке растерянно сморщилось, однако постепенно она овладела собой.
Серкебай не сдался!
— Не обижайся, Бурмакан, что же делать, раз уж так было, раз была она когда-то моей женой. Судьба, она ведь что хочешь сотворит с человеком. Скажешь — жена, ладно — жена; скажешь гостья — и то верно: уважаемая гостья. Как ни скажи — все одно получается: есть у человека право на уважительное отношение в нашем доме. Раз уж мы были когда-то мужем и женой, раз уж дочь моя пригласила Аруке в гости, и если я при всем этом не смогу ее угостить, не смогу достойно принять, лучше не быть мне Серкебаем! Рабия, иди скажи сыну соседей, пусть приведет ягненка с белой отметиной на макушке, того, курдючного. Там два ягненка с белой отметиной, так пусть приведет курдючного, осеннего приплода.
Рабия смотрела на отца с удивлением. Никогда прежде не видела, не слышала она, чтобы говорил так решительно в присутствии матери. Да не только Рабия, и сама Бурмакан растерялась.
«Что будет, то будет, посижу терпеливо, посмотрю спокойно, чем все это закончится». Решив так, Аруке уселась поудобнее, положила в чай побольше сахару-навата и, неспешно покачивая пиалой, продолжила чаепитие.
Ее спокойствие было всеми замечено.
— Пейте на здоровье, чувствуйте себя свободно, как дома, — попросил Серкебай.
Услышав подобное, Бурмакан сжалась, точно пружина.
Серкебай, словно желая отдать дочери еще какие-то распоряжения по хозяйству, вышел из комнаты. Обе женщины — обе жены Серкебая, затаив дыхание, смотрели в противоположные стороны. Аруке обернулась к окну — дождь хлестал пуще прежнего, капли залетали в открытую форточку, на подоконнике собралась лужица.
Немного успокоившись, Бурмакан тоже бросила в свою пиалу два больших куска навата, сердито помешала ложечкой, стала пить большими глотками. Обеим женщинам, оказавшимся в одной комнате, конечно, не подобало ревновать одного старика. Обе это понимали — и не могли поступиться пустой обидой. Каждая желала отстоять свое достоинство.
— Бурмакан-байбиче, вы не думайте обо мне плохо… У меня нет никаких счетов ни с вами, ни с Серкебаем. Я вас не обвиняю ни в чем и в мыслях не держу нехорошего… Если вам неприятно мое присутствие, я лучше уеду…
Бурмакан испугалась, что с гостьей получается совсем неладно.
— Что это значит, милая, о каком отъезде вы говорите! Мой хозяин послал за ягненком, чтобы заколоть в вашу честь… Что означают ваши слова, милая? Придет Серкебай, спросит — что отвечу ему? Ведь он скажет, что я прогнала… Не приведи господь дожить до такого!
Однако поднявшись и выходя из комнаты, Бурмакан обернулась и посмотрела с неприязнью, как бы говоря: «Так вот она, оказывается, какая, эта прославившаяся Аруке. Ну, сиди, сиди в моем доме. Если сможешь, пересиди, выгони меня. Только не получится у тебя — и не пробуй! Если ты — Аруке, то я — Бурмакан!»
Бурмакан вышла во двор, Аруке осталась сидеть в одиночестве. Теперь она могла осмотреть комнату, где живет Серкебай. Ничего особенного не видно, ничего такого, что бы заинтересовало… Заметно, однако, что в комнате собраны вещи, сделанные руками Серкебая. Внимание Аруке привлекло пальто, висевшее на вбитом в стену длинном гвозде. Точнее, не само пальто, а вещица, приколотая в виде брошки на груди. Аруке даже вздрогнула, заметив вещицу, старательно начала вглядываться; мол, на самом деле такое чудо или только кажется ей? Не поленилась встать, подошла поближе, поправив очки, собралась рассмотреть получше, но тут в соседней комнате послышался голос Бурмакан, и Аруке сдержалась, отступила, села на место. И все-таки не могла отвести глаз… Предметом ее внимания был старинный серебряный треугольный амулет, — беременные женщины издавна пользовались такими, желая уберечь плод от злых духов… Когда Аруке рассматривала амулет со своего места, ей казалось — она узнает его… Однако ослабевшие глаза ее не могли хорошенько разглядеть его середину, а весь секрет заключался именно там…
Аруке не решалась даже поверить, что это тот самый…
Вернулась Бурмакан. Аруке хотела было спросить об амулете, но не решилась. Заговорила в растерянности совсем не о том, о чем собиралась.
— Напрасно вы все это затеваете… Зарежете овцу, а съем-то я всего с одного ребрышка — стоит ли беспокоиться…
— Зачем же вы так? Если уж Серкебай пригласил, неужто пожалеет заколоть одного ягненка… Я понимаю — конечно, соскучились друг без друга… Заночуете у нас… Сможете поговорить о былом, вспомнить прошедшее…
Бурмакан и не хотела бы обижать гостью, однако не могла совладать с собой. О чем бы ни начинала — любую речь заканчивала укоризной. Сколько ни старалась скрыть свои чувства — сдержать себя ей не удавалось. Аруке понимала ее состояние — и терпела, не хотела раздувать ссору. Если поднимешь скандал в чужом доме, то, как говорится, конь и собака станут поддерживать хозяина. Да, скорей бы вернулся Серкебай… А пока она решила разрядить обстановку, выйти во двор:
— Рабия, дочка, ваша собака не кусается? Проводи меня во двор, боюсь собаки, да и скользко по дождю…
Земля размокла от долгого дождя, ступишь — нога уходит будто в трясину. Льет, похоже, сильнее прежнего. Небо хмурое, в низких рваных тучах, — кажется, никогда уже не заиграет луч солнца. Когда случается такой дождь, киргизы говорят, что у неба прохудилась крыша.
Яблони, еще безлистые, стоят в саду, — будто олени подняли ветвистые рога. Облепиха вокруг огорода почернела под дождем, поникла. Равномерный шорох дождя — и вдруг над самой крышей дома родился ужасный грохот, а потом… потом словно низверглась гора, треснуло, раскололось, рухнуло на землю небо… Прогремев однажды, гром унялся, замолчал, однако чувствовалось, что снова сгущается, собирает силы, и, когда ударило еще раз — засверкало, прогремело, прокатилось по всей Чуйской долине. Земля, вода, поля, холмы, склоны гор — все онемело, все было оглушено. Опять блеснула молния. Не выдержав, испуганно залаяли собаки. Куда упала молния? Что случилось? Кто знает…
Рабия вышла под дождь — не испугалась. Холодные струйки стекали по ее темным волосам, омывали лицо, устремлялись к шее. Мелкие капли, поблескивая, задерживались на лбу, на щеках — похоже было на слезы. Тонкое бледное лицо Рабии, ее большие черные глаза, трепетные ноздри, маленькие яркие губы, густые темные брови — все красиво в ней, все интересно. Волосы разделены надвое пробором, гладко зачесаны и заплетены в косы. Когда идет по саду вдоль ряда яблонь, — украшает собою деревья, кажется ожившей яблонькой. Если бы поэт увидал ее в эту минуту!
Вижу — она рождена рассветом, Поднявшимся над горами. Вижу — она рождена дождем, Очистившим мир. А может быть, эта девушка рождена родником, Пробившимся сквозь скалы. Может быть, это ширококрылая птица, Взлетающая высоко, как мысль человека… Может быть, это неизъяснимая словом Прелестная тайна… Может быть, это песня, что никогда не остынет, Она притягивает к себе счастье…Аруке, любуясь Рабией, думала о Бурмакан: «Бедная, она ведь когда-то была вот такой же красивой, может быть, еще лучше… Девушка сейчас чиста, как лебедь, поднявшийся с воды, но ведь и она когда-нибудь постареет… Потускнеет и этот жемчуг, поблекнет и этот свет… Согнется и эта спина… В жизни ведь как: в молодости высокая, стройная, а постареешь — и согнешься. И человек, и зверь, и горы, и сама земля — все сгибается, уменьшается, все стареет. И у земли были детство и юность. Постепенно приняла этот образ, накопила морщины ущелий…»
Они уже прошли было сад до конца. Тут Аруке подняла голову, увидела, удивленно спросила:
— У вас, оказывается, есть верблюжонок, а, Рабия?
— Нет. Это камень…
— Камень? Не может быть!
— Да. Его и зовут Тайлак-таш — каменный верблюжонок.
— И правда… Подойдем-ка поближе… Разве возможно, чтобы камень был так похож на верблюжонка! Смотри-ка — настоящий опустившийся на колени беленький верблюжонок, совсем как живой! А под ним — кусок черного камня!..
— Удивительнее всего его глаза! И знаете — особенно вот в такие дождливые дни. Посмотрите…
— О люди, сколько же тайн у природы! И правда, будто живой верблюжонок! Я никогда не видела такого белого камня.
— Посмотрите на его глаза. Подойдите поближе…
Аруке подошла. Из широко раскрытых глаз Тайлак-таша текли слезы! Это уже само по себе какое-то чудо! Дождевые капли, падавшие на голову верблюжонка, превращались в слезы!
— О, создатель! Уж не живой ли ваш верблюжонок!
— Оказывается, Аруке-апа, поэты прежде слагали песни о Тайлак-таше.
Расскажи людям, что есть камень Тайлак-таш. Расскажи, что тут живые струятся слезы. Пусть придут сюда печальные девушки, Пусть вернутся на родину, оставив здесь свои слезы.— Откуда же этот камень, что это за камень? Что говорят о нем старики, слышала ли ты?
— Конечно, люди ведь знают все. С Тайлак-ташем связана древняя легенда.
— Расскажи. Интересная?
— …Было это давным-давно, тогда здесь еще не поселились люди — лишь раскачивался под ветром камыш, бродили кабаны, с утра до вечера звенели ненасытные комары… Земля эта местами была твердой, сухой, а местами — черная трясина… Была перемешана с горем и плачем… Давала мало, забирала много, у нее было мало песен и много ссор, много плача. И был хан Аюбаш, владевший всей этой округой… Из камышей брал на прицел проходящих мимо людей, расправлялся с ними в тех же камышах… Кого убивал днем, а кого ночью… И был у него черный тулпар, крылатый конь; время от времени хан рыскал по дороге, приводя в волнение безмятежный народ, поселившийся в той стороне, гоняя его точно перекати-поле. Вооружив сорок джигитов, пускался Аюбаш в набег. Узнававшие о его приближении прощались со своей жизнью, а кто мог убежать, прятались далеко в пещеры. Если кто оказывал сопротивление, хан давил его лошадьми, угонял его скот, обирал дочиста. Говорят, он возвел здесь крепость и в ней собирал награбленное днем и ночью. Он снимал головы тем, кто дерзал подняться против него; вспарывал животы тем, кто ронял неосторожное слово. На завтрак он съедал барана, на обед — жеребенка, а на ужин — кобылицу… Говорят, рекой текла кровь, говорят, все вокруг заливали черные слезы. Жил Аюбаш шумно; собирал вокруг себя искусных музыкантов, встречающихся в народе; приглашал певцов, рассказывавших о подвигах древних батыров, способных заворожить слух; собирал вокруг себя прославленных в состязаниях копьеметателей, собирал ловких борцов, к которым не подступятся даже сильные молодые джигиты… Приказывал доставлять в свой дворец самых красивых девушек, говорят, и там любил их, меняя каждые два дня. Народ окрестных аулов, возненавидев Аюбаша, ушел из тех мест, убежал от ярости хана, скрылся за многими перевалами. И время от времени выезжал Аюбаш на охоту, выезжал с верным своим соколом. Что за сокол был у хана — никогда не упускал свою жертву!
Однажды всесильный Аюбаш, собрав сорок джигитов, гордясь достигнутым могуществом, спросил сподвижников:
«Есть ли такая земля, которой я не достиг? Есть ли такой народ, который не слышал свиста моей камчи? Есть ли такая девушка, которой бы я не познал?»
«Ничего уже не осталось, о великий хан!»
«Если так, джигиты, то вот вам мой новый обычай: живите вольно, свободно, тихо, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Время от времени будем ездить в горы и по равнинам, станем развлекаться соколиной охотой. А сейчас идите, однако, как только получите весть, выступайте вместе со мной».
И вот говорят, что в это самое мгновение неизвестно откуда — с неба ли, или из-под земли — появилась, точно волосок из теста, отвратительная старуха. Вид ее был до того безобразен, что рядом оказавшийся человек содрогнулся бы в страхе: нижняя ее губа опускалась до самого колена, верхняя губа закинута на затылок, на лбу ее единственный рог, под ним — единственный глаз. Говорит, будто змея шипит… Да, такая, видно, старуха, что не склонится и перед самим аллахом!
«О великий хан!»
«Говори, что надо?»
«Ответить на добро добром — свойство истинного героя, подлинного мужчины; ответить же на добро злом — свойство нехорошего человека. Многое способна дать тебе, возьму же — самую малость; мало скажу тебе, но получишь бесконечно много. В узелке моем есть одна тайна… Знаю я слово, которого ты не слышал, знаю девушку, которую ты не видел. Если заполучишь ее, Аюбаш, у тебя, дорогой, и вправду не останется неисполненных желаний: кроме нее действительно не осталось в округе девушек…»
Тут злая старуха засвистела, оглушая хана, подняла пыль, которой не было, подняла ветер, которого не ждали. Она поскакала по головам сорока джигитов; видя такое, Аюбаш не остановил ее криком: убедился, что старуха не врет.
«Скажи, старая, где же, в какой земле осталась девушка?»
«Есть у меня одно желание… Выполнишь — скажу, а не выполнишь — значит, я — каменный сундук, который не открывается».
«Что за желание?»
«Выдай меня замуж за безусого еще джигита. Пусть сорок дней играют нашу свадьбу. Вот тогда открою тебе тайну. Дай обещание. Знаю — ханское слово нерушимо».
«Пусть будет так, как ты сказала».
«Много ходи по горам, хан Аюбаш, не уставай охотиться с соколом, ту девушку для тебя отыщет сокол».
Засвистела старуха, почернело небо, налетел ураган, непонятно, то ли дождь, то ли тучи нанес, — опустился какой-то туман, все утонуло в нем. Старуха исчезла.
Однако скажем сразу — в словах ее была правда…
Из округи, где владычествовал Аюбаш, бежал скот; погоняя свой скот, бежали владельцы скота. Все убежали — только в двух отдаленных ложбинах среди диких вишен и яблонь задержались две семьи. В ложбине, где росли яблони, остался охотник Алан, в другой ложбине, по соседству, где росли вишни, остался охотник Салан. Оба они были прославленными охотниками. Конечно, не всегда жили в этих ложбинах; когда приходило лето, перекочевывали в одно место, когда наступала осень, зима, весна, перекочевывали в другие места. Были настоящими молодцами; сменяли старую стоянку на новую, не ожидая, пока скот вытопчет всю траву. Но каждый год, весной, оба перекочевывали в свои привычные, поросшие яблонями и вишнями ложбины, где они родились и выросли; жили там, вспоминали детство, оставались сколько желала душа. Хотя они были знаменитыми охотниками, никогда не виделись друг с другом. От Алана родилась дочь Анаргуль, а от Салана родился сын Анарбек. Оба они родились в один день, в один час, в одну минуту, — об этом узнали, выясняя позже. В своих ложбинах охотники оставались всего по семь дней. Для прославленного охотника семь дней заменяли семь лет, — они за семь дней успевали обойти все горные перевалы, впадины и долины, ложбины и балки. Как раз в то время, когда отвратительная старуха высказывала хану свою зловредную просьбу, оба охотника впервые одновременно перекочевали к своим ложбинам. Говорят, Анаргуль и Анарбек, соскучившись по родным местам, несмотря на усталость, сразу же пустились в дорогу, желая поскорее осмотреть все в округе. Они миновали плоские ровные камни, а устремлялись к неровным, повыше; они становились настоящими охотниками, — прицелившись, могли бы попасть и в муху… То ли ветер управлял ими, то ли солнце управляло ими — неизвестно, однако, выйдя из двух ущелий, перевалили они через две горы… и вот встретились вдруг лицом к лицу. Они посмотрели друг на друга, точно родные брат и сестра, истосковавшиеся за много лет разлуки… Из их сердец с шумом выбивалось пламя. И хотя не встречались прежде, оказывается, знали друг друга по имени… Давно уже видели друг друга во сне.
«Глаза мои чуть не ослепли — столько лет высматривал я дорогу к тебе, язык мой чуть не прохудился — столько лет повторял одно свое пожелание: хотел увидеть тебя…» — Это слова Анарбека.
«Столько лет я встречала рассвет, не смыкая глаз, столько лет я ходила, подавленная ожиданием…» Это слова Анаргуль.
«Я тосковал без тебя, как луна тоскует по солнцу». Это слова Анарбека.
«Я тосковала без тебя, как весна тоскует без лета…» Это слова Анаргуль.
Восхищаясь Анарбеком и Анаргуль, остановился взлетевший в небо беркут, растаял ледник, веками не знавший движения. Взявшись за руки, они побежали по остриям скал и утесов, они полетели… их несли крылья любви… Вот они очутились на двух соседних утесах.
«Дай мне руку, о Анаргуль! Пусть мой утес устыдится, если не приблизится к твоему…»
«Возьми мою руку, о Анарбек, пусть мой утес устыдится, если разлучит нас, не сольется с твоим…»
«Я пламенею, я сгораю от твоего дыхания, Анаргуль!»
«Я сгораю под твоим взглядом, Анарбек!»
Они протянули друг другу руки — и утесы, где стояли Анарбек и Анаргуль, дрогнули, шевельнулись, сдвинулись вплотную, а в том месте, где они сомкнулись, поднялись два деревца: вишня и яблоня. Поднялись — равные и ростом, и красотой, а когда налетал ветер, склонялись друг к другу, ласково сплетая ветви. Из-под каждого деревца выбилось по роднику. Струи, словно две косы Анаргуль, играя, с камня на камень падали вниз. Брызги летели на камни, сверкали алмазами. Вода в родниках была белопенная; скала, по которой она струилась, сверкала под солнцем золотом и серебром. Все живое в природе исполнилось радости, все смотрело на родники с восхищением. Говорят, птицы слетались сюда, чтобы лишь намочить свои клювы; архары, бараны, косули бросались вниз по скале, чтобы насладиться одним лишь глотком родниковой воды; рыча, прибежали тигры, чтобы остудить свои огненные клыки; крадучись, подобрались волки, чтобы охладить свою злобу; черные индейки — улары, осторожничая, отправились к родникам, чтобы полежать на их берегу. Вытягиваясь и извиваясь, зашипели драконы, нависнув над камнем; поднялись, ревя, медведи; с высоты неба вниз бросили клик журавли; казалось, сюда, к родникам, к скале и утесу, собрался весь мир. Оказывается, здесь пробились родники любви. И каждый, кто желал, кто стремился к возлюбленной, глотнув воды волшебного родника, мог достичь, находил ее. Да, родник избавлял от тоски, открывал врата счастья. Если же кто не почтит родник, отнесется с пренебрежением, превратятся в черный камень не только его замыслы, но и он сам, несчастный…
Анарбек и Анаргуль, взявшись за руки, шли вдоль серебряного ручья, сверкающего, будто крылья беркута в небе; они щедро разбрасывали счастье вокруг себя, и соловьи, умолкшие было в печали, заливались сладостной трелью. Похожие, словно две капли воды, их сердца бились как будто одно, оба таяли в наслаждении.
День казался им короче мгновения — все быстро, все мало, куда делась разница между днем и ночью? Под ярким ли солнцем, под нежной луной родник любви не жалел своего света, сверкание его не ослабевало. Горы, долины наполнились смехом, наполнились молодостью, наполнились любовью, из каждого ущелья струились песни, точно бурливые реки. Незаметно для Анарбека и Анаргуль пролетели семь дней. Полные любви, они не чувствовали голода. Где остались их ружья? Забыли о них. Да что ружья — где остался весь остальной мир, забыли, не думали ни о чем… Если они ложились на камни, те становились мягкими, мягче пуха. Если ложились на лед, он таял, словно под лучами горячего солнца. Родник, из которого они пили, заводил веселую песню. Косогоры, по которым они шагали, покрывались мягкой травой. Прежде неприметное, тихое место наполнилось шумом, весельем и радостью — вот какова сила любви.
Нежно взявшись за руки, таяли от любви ступавшие не по земле, а по воздуху Анаргуль и Анарбек. Они излучали любовь, любовь светила подобно солнцу, камни горели, сверкали любовью, по ущельям, растаяв, струилась любовь. Все превратилось в любовь. Что осталось, что отвергло любовь? Смерть осталась, что, стиснув зубы, преследует по пятам… Осталась беда с черной душою…
Однажды утром они оба одновременно открыли глаза, оба снова смежили ресницы, и это было так хорошо… Они улыбнулись, они сквозь ресницы смотрели на солнце. Они помогли друг другу подняться, ласково протягивая руки. И первое слово, что было у них на устах:
«Люблю!»
«Пойдем полетим!»
«В высоту?»
«Да!»
«Пойдем поднимемся!»
«На высоту?»
«Да».
«У кого мы возьмем чистоту?»
«У воды».
«У кого мы возьмем силу?»
«У земли».
«У кого мы возьмем мудрость?»
«У народа».
«У кого мы возьмем любовь?»
«У солнца».
«Но посмотри, кто это летит, закрывая солнце?»
«Как будто сокол…»
«Почему он черный?»
«Потому что несет несчастье».
«Где наши ружья?»
«Не знаю».
«Надо найти поскорее ружья… Родник стал волноваться, сердиться. Видно, чувствует что-то злое».
Не успели они сказать — подлетел к роднику сокол, и был он чернее угля. Говорят, когда он опустился на берег и глотнул волшебной воды, от родника посыпались искры, — еще немного, и он превратился бы в пламя. А спустя небольшое время появился за соколом хан и его сорок джигитов, увешанные оружием. Говорят, они пустили своих коней по воде, разбрызгивая и топча этот чистый родник любви. Все живое кричало в страхе, утесы и скалы откликнулись эхом, некоторые низверглись, столбом поднялась пыль. Севший на черного жеребца, в черное платье одетый, так сказал хан Аюбаш:
«Я говорю один раз, что говорю, то и делаю. Выслушай, джигит, выслушай, красавица. Эй, джигит, если способен к борьбе, то выходи на поединок, а не способен — слушай мой приговор. Отвечай, джигит!»
«Я готов к поединку».
«Если владеешь саблей — секи, если владеешь ружьем — стреляй! Иначе я стану стрелять, я буду сечь!»
«Если считаешь себя мужчиной, дай мне взять в руки ружье, а потом начинай борьбу».
Не успел Анарбек сказать эти слова, как хан Аюбаш выстрелил ему в голову. Алая кровь залила лицо Анарбека. Анаргуль упала, потеряв сознание, упала рядом с Анарбеком, — подушкой ей стал белый камень, ложем стал склон высокой горы. В то же мгновение пересохли волшебные родники, тысячи птиц и зверей стали плакать навзрыд. А росшие рядом яблони и вишни превратились в каменные деревья. Видя все эти чудеса, совершавшиеся у него на глазах, рассердился хан Аюбаш. Он приказал своим верным джигитам срубить эти каменные деревья, однако у всех сорока недостало сил… выстояли деревца. Завернув помертвевшую Анаргуль в черные шелка, бросив на черного коня, через множество перевалов хан увез добычу к себе домой. Он заставил бить во все барабаны, а трубы, зурнай и дудки пели, пронизывая все кости. Так хан Аюбаш отпраздновал свадьбу, музыкой оглушал свою крепость. Когда же время перевалило за полночь, Аюбаш вступил в юрту, куда принесли Анаргуль. Но Анаргуль все еще не пришла в себя. Лежит — еле слышно ее дыхание, легче, мягче, нежнее шелка.
Погасили огни, наступила ночь. Ни единый человек не знал, что делается в юрте, куда вошел хан. Сколько дней пролетело с тех пор — никто не считал. Разве слуги решатся беспокоить владыку?
Но однажды приблизилась к юрте хана та безобразная колдунья, закричала сварливым голосом:
«Хан мой, слушай! Я сдержала свое слово, теперь ты сдержи обещанье!»
Тишина. Никто не ответил старухе. Не вытерпела — вступила в юрту — и видит: ни хана там нет, ни девушки нет, а лежит этот самый белоснежный каменный верблюжонок, под ним — кусок черного камня…
Вскоре после смерти Аюбаша сорок джигитов перебили друг друга, не умея разделить ханскую казну. А памятью о давних этих делах остался лежать каменный верблюжонок — Тайлак-таш.
Аруке слушала, не замечая дождя.
— Девичье сердце нежно… Когда мучают, когда совершают насилие — в глазах ее слезы, но сердце, наполненное любовью, нисколько не покоряется, скорей превращается в камень, который никогда не размокнет. Девушки, берите пример с любви Анаргуль, — так сказала она Рабии…
Обе насквозь промокли, но обе были довольны: девушка — своим рассказом, Аруке — услышанной легендой. Если подумать — не случайно ведь оказался плачущий каменный верблюжонок во дворе Серкебая. Аруке спросила у девушки:
— Каким образом это место, где лежит каменный верблюжонок, досталось твоему отцу, Рабия?
— Раньше здесь жил, оказывается, богач по имени Тезекбай. И сам был богат, и предки его были богачами. Тайлак-таш тогда принадлежал им. Этот самый Тезекбай возвел вокруг верблюжонка как бы крепостной вал, никому не показывал Тайлак-таша, ни единой душе. Зато пачками получал деньги от тех, кто желал увидеть священный прославленный камень. Так они и разбогатели, отец, дед и прадед Тезекбая. А уж после, когда пришла Советская власть, когда организовали артель и отца выбрали председателем, Тезекбай был выслан. Народ аила рассудил так, что необходимо доверить Тайлак-таша, доверить святое место, почитаемое людьми, Серкебаю: несмотря на молодость, был избран руководителем; хоть пришел из далеких мест, но сроднился с аилом. Однако мой отец, он очень упрямый. Отказался жить в доме высланного кулака, захотел жить в своем, построенном собственными руками. Развалил ограду вокруг Тайлак-таша, поставил дом для себя. Вот и вся история каменного верблюжонка, — закончила рассказывать Рабия.
Капли стучали по листьям, дождь усилился, кисла размятая ливнем земля… Будто по вспаханному полю щедрой рукой рассыпали чистые зерна пшеницы. Казалось, весь мир объял дождь, мир стал дождем… Казалось, что земля уже никогда не просохнет, не будет страдать от жажды — да, земля насыщалась, довольная. Дождь проливался на землю, потом улетал обратно, превратившись в пар, возвращался, поднимался к небу, присоединялся там к тучам, становился тучей, опять проливался, словно желая размягчить земную кору, — и так снова, и снова, и снова — без конца. Дождь искал в земле корни, шевелил, омывал, размачивал их, наделял их молодостью, наделял жизненной силой. Торчащие ушки листочков, только поднявшихся над землей, слушали песню дождя… Она им нравилась, они радовались, они получали щелчки тяжелых капель, никли — и тут же пытались подняться снова. Выглянули, просверлив почву, первые росточки пшеницы, точно первые волоски бороды молодого джигита; они разглядывали влажный широкий мир, они выстроились в ряд, точно ресницы; они жадно вдыхали, они глотали дождевую воду. Земля наслаждалась, земля омывала себя, являя свою красоту. Радовались дехкане, оглядывая мокрое серое небо. Горы склонились ближе к полям, горы радовались, видя довольные лица дехкан, горы гордились, видя поля, напоенные влагой, будто сами явили они эту щедрость, будто сами послали в долины дождь. И колючки, и всходы пшеницы — все радовались, для всех наступил праздник; ростки, что еще не успели взойти, поднялись сейчас над землей и благодарили ливень за то, что увидели мир. Каждый росток, точно девушка, надел на себя бусы из капель дождя. И одна только засуха, хмурясь, убежала подальше — злая засуха, что пропадала, как только ее касалась вода; засуха, катавшаяся по пыли, глотавшая пыль; засуха, в горле которой не задержалось и капли дождя…
Аруке и Рабия поспешили вернуться в дом, с их подолов струилась вода. В комнате никого не было. И опять в глаза Аруке бросилось пальто на гвозде, вернее, амулет, приколотый на груди. Рабия заметила интерес гостьи, но расспрашивать не осмелилась.
Мысли их были прерваны каким-то шумом. Отворилась дверь, и вошли Серкебай с Бурмакан, а за ними еще и юноша-сосед — вел на веревке ягненка с белой отметиной. С ягненка на пол стекала вода. Парнишка втащил ягненка из передней на порог гостевой, тот, дернув ушами, отряхнулся. Сверкавшая свежей побелкой стена покрылась крапинками брызг.
«Ме-е-е!..»
Ягненок словно чуял недоброе.
— Бурмакан-байбиче, прошу вас, не режьте. Жалко несчастного. За ним, кажется, прибежала мать — слышите, блеет овца. Похоже, он еще сосет, как бы не разнесло ее вымя. Прошу, не режьте, если это из-за меня…
Соседский парнишка и бровью не повел — знал свое дело.
— Аминь! — попросил он благословения; его не по годам густой голос загремел точно в бочку.
Серкебай и Бурмакан, каждый со своего места, простерли руки, благословляя. Аруке, удивленная гулким басом джигита, даже не успела пошевелиться. Слова ее остались без ответа, парень увел ягненка.
Чай давно остыл, Бурмакан налила себе в пиалу, глотнула и с недовольным видом поставила пиалу на скатерть; принялась убирать со стола. Рабия вынесла самовар во двор.
Наконец Аруке не вытерпела, очень мягко спросила:
— Бурмакан-байбиче, не могли бы вы показать мне вон тот амулет, приколотый на пальто?..
Бурмакан молча поднялась со своего места, принесла пальто, тихонько положила его перед Аруке.
Аруке отстегнула амулет, взяла его на ладонь и стала разглядывать. Глаза ее погрустнели. Казалось, она вспомнила о чем-то. Переменилась в лице. Вздохнула. Затем сказала печально:
— Это мой амулет… Я носила его во время беременности…
Губы Серкебая дрогнули, он попытался улыбнуться. Искоса глянул на Бурмакан, ожидая, что окажет она.
— Что еще в этом доме твое? Может быть, Серкебай?..
Бурмакан говорила, будто рубила сплеча, жестко и грубо.
— Нет… — Аруке, желая успокоить хозяйку, сама старалась не горячиться. — Я говорю правду. Этот амулет — мой. Пусть Серкебай будет свидетелем… Не думайте, что обманываю вас. Мне казалось, я потеряла его… Ты слышишь, да, Серкебай, что я говорю?
— Слышу.
— Правда, что это мой амулет, а, Серкебай?
— Правда.
— Лучше бы уж ты не брал его, Серкебай. Я узнала камень, вправленный в серебро… Теперь верни мне мой амулет, Серкебай.
— Не отдам, эта вещь не Серкебая — моя! Осталась от матери. Что еще наговариваешь! Мало того что на старости лет нацелилась на моего мужа, так теперь еще нацелилась на серебряный амулет?
— Не сердитесь, Бурмакан-байбиче. Ваш муж мне не нужен.
— Было время — был нужен. Теперь, если и нужен, не отдам.
— Бурмакан, не говори так. Аруке наша гостья. Не поднимай шума. Я сказал правду. Амулет принадлежал Аруке, потом…
— Потом отдал мне? Обманул меня? Тешил меня, поднеся подаренный кем-то амулет? С каким лицом произносишь такие слова? Разве я не спросила тебя, чья эта вещь? Что ты ответил? Ты ведь сказал, амулет остался от матери. Теперь же, как говорится, увидев лицо владельца, застыдился, решил подмазаться к Аруке. Не отдам!.. Какая есть особенность в нем, если это ее амулет? Пусть-ка скажет. Ну-ка, Серкебай, ты будь свидетелем!
— Вот, на каждой стороне амулета — видите? — по два беркута…
— И я бы то же могла сказать, глядя на вещь, которая лежит у меня на ладони. Другие приметы были?
— Были, если не потерялись.
— Ничто не пропадет, если действительно было. Ну-ка, покажи!
Бурмакан, распалившись, перешла на «ты».
— Вот, посмотрите… Вокруг беркутов — маленькие точечки, а?
— Это и есть твоя примета? Что же особенного в том, что имеются точечки?
— Дело не в них. Скажите — открывается ли амулет? — Аруке продолжала говорить вежливо.
— Если открыть, откроется, а не открыть, не откроется. Для чего спрашиваешь об этом?
— Откроется, если открыть? Попробуйте откройте. Вот, пожалуйста…
— Зачем? Зачем я буду открывать? Что за нужда? Понадобится — и открою, а сейчас нет нужды… Дайте его сюда.
Бурмакан почувствовала, что говорит слишком резко, перешла на «вы».
— Если амулет не открывали, в нем должны сохраниться слова, посвященные мне. Никто, кроме меня и Токтора, сделавшего амулет, не может его открывать, если только не разобьет. Эта вещь — память, оставшаяся мне от Токтора, заменившего мне отца. Он погиб, защищая свободу народа. Тогда разгорелось восстание шестнадцатого года… Суть не в том, что амулет сделан из чистого серебра, главное — он посвящен мне. Если бы у меня оказалась вещь, посвященная вам, и вы, подобно мне, признали ее, неужели б я стала оспаривать? Скорее, побоялась бы носить чужую вещь, не только что спорить… Вот смотрите… От него ведь есть ключик, а?
— Есть, да не дам! Не сможете открыть…
— Раз вы так говорите, значит, точно не ваш амулет. Ключик не у вас. Ключ в нем самом. Вот смотрите…
Аруке надавила на одну из точечек-украшений, послышался тихий звон, и амулет, как раковина, раскрылся. Все застыли в удивлении. Внутри амулета оказалась сложенная записка. Бумага успела пожелтеть.
Аруке достала записку, расправила на столе. Все увидели затейливые арабские письмена. Аруке прочитала вслух:
— «Я — Токтор, видевший ад. Я посвятил свою жизнь народу. У меня один только родич — народ, один только друг — народ, одна только сила — народ. Я видел киргизскую девушку Аруке — она отгорела пламенем. Вместе со мной, взяв в руки оружие, выступила против врага. Это одна из первых киргизских девушек, поднявшаяся на борьбу за свободу народа. Будущее принадлежит Аруке и таким, как она. Если мне суждено умереть — знамя борьбы сохранит Аруке. Завтрашний день — за нею. Токтор». Да, это он перед смертью написал, тогда и подарил на память эту вещицу… — тихо сказала Аруке.
Все в комнате некоторое время молчали.
— Токтор был настоящим человеком. Узнаю его речь. Да, так он и говорил, — голос Серкебая нарушил тишину.
Бурмакан покосилась недовольно:
— Кто еще — настоящий? Чьи еще слова задержались в твоих ушах?
Серкебай, всю свою жизнь не повышавший голоса, разговаривая с Бурмакан, проявил сдержанность и на этот раз. Нахмурился, но не подал вида, что задет за живое. И хотя в душе у него кипело, он улыбнулся. Заговорил — в голосе его звучало достоинство:
— Настоящих людей много — придираться тут не к чему. Аруке, извини. Не Бурмакан виновата, я сам… Я не должен был брать твой амулет, а раз уж сделал такое, не должен был никому отдавать. Хочу сказать правду. Я вовсе не собирался как-то использовать амулет — подобрал не думая. Ты тогда рожала прямо на горной тропе… Он выпал, я подобрал и спрятал. А потом не захотел отдать. Понял уже, что ты не останешься рядом со мной. Не буду скрывать — я любил. Я решил, если придется расстаться с тобой — ведь уже началось восстание, — решил хотя бы не разлучаться с твоим амулетом, сохранить на память… Конечно, ребячество… Потерять человека — и носить с собою вещицу… Недомыслие, а? Бурмакан, ты сердишься. Почему? Я не понимаю. Прошло пятьдесят лет… и уже никогда не вернутся. Вот эту байбиче угости, как следует угостить гостя, покажи свое гостеприимство. И верни ей амулет. Она ведь нашла записку — значит, действительно посвящен ей… Эй, Бурмакан! Ты ведь добрая… Лучше бы ты спросила, выслушала от нас самих, что мы пережили вместе. Где же она, щедрость киргизской женщины? Я разве мальчишка, чтобы ревновать меня?
Бурмакан строга:
— Серкебай, твое сегодняшнее пренебрежение пробрало меня до печенки. Я, старая, столько лет не поднимавшая глаз, никогда не оскорбившая тебя, — сегодня я хочу наконец сказать… Ты нарочно пригласил свою бывшую жену, при ней унижаешь меня, открыто берешь ее сторону. Я, оказывается, давно надоела тебе, не знаешь, как от меня избавиться? Даю тебе полную свободу, исчезну… Ты доволен, Серкеш? Что скажешь на это? Что еще, кроме амулета, узнает твоя бывшая жена? Пусть уж выложит сразу. Давайте говорить открыто. Не успела войти и уже, завидя единственную в доме сверкающую вещь, говорит, что принадлежит ей. Быть может, найдется еще что-нибудь подобное, а? Спроси, Серкебай! Быть может, приехала делить имущество? Пусть скажет открыто. Чем уж тащить по зернышку, пусть забирает скопом. Выходила во двор — видать, присмотрела, прикинула цену… Говори же, Аруке! Что еще ты узнала из своего? Отдадим. Нельзя ведь не отдать чужое… Посмотри-ка — это тоже старинная серебряная монета. Быть может, признаешь, откроешь, может, и в ней есть записка… Посмотри-ка — это учтук[36], он тоже старинный. Подарил Серкебай, бывший твой муж. Может быть, тоже взял у тебя, откуда же ему еще взять?
Серкебай и Аруке молчали подавленно. Рабия не могла сдержаться:
— Апа, перестань! Не говори таких слов перед гостьей!
— Станете сердиться или нет — все равно я заберу свой амулет. В нем завещание Токтора. Отдам амулет в музей. Извините, Бурмакан-байбиче, вы не достойны называть себя жительницей гор. Я не слыхала, чтобы обычаи горных киргизов позволяли унижать гостя. Спасибо вам за ваше «уважение» — мне пора домой. Не обижаюсь на вас, всякое случается в жизни.
Аруке поднялась с места, Бурмакан демонстративно отвернулась. Рабия подбежала к учительнице, взяла ее за руку, Серкебай растерялся, не зная, что делать. В это время соседский парень сунул голову в дверь:
— Куда вылить содержимое желудка ягненка?
Хуже всех чувствовала себя Рабия:
— Отец, что же будет? Апа, не уезжайте!
— Отец состарился, дочка. Что еще могу я сказать?
— Отец не состарился! Отец — хороший, мама хорошая!
— И хорошее изнашивается, дочка! — В словах Серкебая печаль. — Наступает пора, когда и хорошее изнашивается. Все старится, и ум старится тоже, стачивается ум… Видно, так и случилось, дочка. Не обижайся на мать. Она — хороший человек. И она состарилась, и она обветшала. Мы всего лишь люди.
— Я не отпущу вас! Аруке-апа, не уезжайте!
— Никогда не уезжала от своих учеников и никогда не уеду. Мои ученики — все мое богатство. Я приеду к тебе позже, когда ты обзаведешься домом, приеду в твой собственный дом. Я не обижаюсь. Вы хорошие люди. Ведь и хорошие могут сердиться… Я знаю. Я понимаю Бурмакан. Извините.
— Подожди, Бурмакан. Так нельзя. Мы оба стары. Нам осталось совсем немного… Так давай не будем поддаваться гневу. Раз уж выстояли в трудные годы, когда видели открытую пасть могилы, так давай не споткнемся теперь, когда перевалили все перевалы. Я хочу тебе что-то сказать, пока здесь Аруке, послушай… У меня есть одна тайна — сохранял ее всю жизнь… Плохо, если унесу ее вместе с собой в могилу. Всю жизнь душит меня, всю жизнь не могу рассказать тебе. Оттого, что не мог сказать, ходил хмурый… Сколько раз видел возможность сказать тебе, но всегда прикусывал язык, не говорил, терпел — проявлял твердость. Я так осудил себя. На молчание осудил. Если б сказал, давно бы почувствовал облегчение… Понимаю — станешь ругать, будешь проклинать меня… твоя воля. Я достоин самых страшных проклятий. Аруке знает обо всем — сегодня упомянула… Хочу, чтоб ты услышала от меня, а не от других…
Бурмакан застыла, ожидая — чего? Чем пугает ее Серкебай?
— Помнишь ли, на Сон-Куле, в давние времена… Тогда ты жила в юрте бая, выполняла домашнюю работу… Вспомни-ка. Такое время не уходит из памяти, такое время остается пятном на кости… Помнишь ли?
— Да…
— Оно в моей памяти. И в моей душе оставило отпечаток. Помнишь ли ночь, когда тебя выкрали? Одетый в черное платье человек…
— Типун тебе на язык!
— Пусть будет типун, слушай! Нельзя, чтобы ты не выслушала… Одетый в черное платье унес тебя полуживую, бросил под волостного…
— Замолчи, ложь!
— Ты не виновата… Но это правда. Потом, под утро, считая мертвой, отнесли тебя на болото, бросили там…
— Зачем, зачем рассказываешь это! Не мучай, не загоняй меня заживо в могилу! Довольно, достаточно! Не говори дальше!
— Помнишь руки того человека, одетого в черное, — какими были его руки — помнишь? Когда, обняв, тащил тебя к волостному?
— Холодные, будто змея…
— Что бы ты сделала с тем человеком, если бы встретила!
— Изрубила бы его и съела. Пусть исчезнет его лицо.
— А если он не был виновен? Если его принудили? Заставили бай, волостной? Если было такое время?
— Все равно… Это не человек. Какую надо совесть иметь, чтоб отдать безвинную девушку в пасть волку!
— А если бы тот человек оказался хорошим, достойным — вышла бы ты за него замуж?
— На такое дело может решиться только ворон.
— Так этот самый ворон — я.
— Ложь! Не испытывай меня. Если ты, для чего женился на мне?
— Чтобы смыть вину. Считал, если выйдешь за другого, то будешь унижена.
— Так, значит, это был ты… Значит, не захотел унизить меня… Так вот откуда твой холод… Холод твоих объятий… Ты, оказывается, рожден от змеи. Оказывается, свой век прожила со змеей. Нет, я уйду из гнезда змеи! Ты оставайся здесь!..
Последние слова Бурмакан прокричала, не владея собой. Поспешно оделась, выбежала во двор. Ушла в дождь, растворилась во тьме. Рабия с криком бросилась вслед. За ними медленно, не спеша двинулась к выходу Аруке. Серкебай не осмелился предложить ей остаться. На пороге Аруке обернулась:
— Так должно было быть, так и случилось. Жизнь не мирится, не прощает, не забывает… Наверное, больше никогда не увидимся, Серкебай. Может, и к лучшему… Ну да бог с ним… Я и тем довольна, что возвратился ко мне мой амулет. Спасибо тебе, ты сказал правду. Прощай… Рабия проводит меня.
И Аруке проглотила тьма.
Серкебай знал: Бурмакан упряма, поссорившись, превращается в камень, затем постепенно отходит. Поэтому не поспешил за ней следом.
Вышел во двор, под дождь. Простоволосый, в одном костюме. Тихо, темно — только шум дождя…
Отчего-то кружится голова. Покачнулся Серкебай, чуть не упал даже… Постоял во дворе. Странное состояние отрешенности от всего происшедшего овладело им, в голове никаких мыслей — будто засохли мозги.
Услышал — заблеяла овца. «Это беспокоится мать того самого ягненка с белым пятном на лбу… Значит, уже зарезали… Для чего? Где же парень, который зарезал ягненка? Что случилось?.. Позор… Аруке… Неужели она виновата? Нет, почему же ей не приехать, если ее пригласили в дом. Я виноват. Почему столько времени был нерешителен? Да, оказался безвольным. А Бурмакан? Она тоже… А если бы вел себя по-другому? Может, кончилось бы все еще хуже?.. Не знаю. Да… Вот так вот… жить по-серкебаевски… Но — поэтому жизнь интересна! Жизнь еще раз решила меня испытать: окажусь ли я побежденным? Ну и как — согласен быть побежденным? Чего только не пришлось мне испытать за свой век… Доведись такое другому — любой бы отступил, исчез, испепелился… А я вот все еще стою, подставив голову дождю. Если и умру — омытый не пылью, омытый чистым дождем. Все дело в этом».
— Серкебай-ата, сразу все мясо положить?
Это голос того соседского паренька, что зарезал ягненка. Серкебай услышал, будто во сне. Паренек еще раз спросил. Серкебай видел — кто-то стоит и непонятно что говорит. Паренек повторил свой вопрос. Серкебай ответил невнятно:
— Собаке… — Паренек не понял, Серкебай сказал еще раз: — Собаке…
Паренек заглянул в распахнутую настежь дверь дома, увидел — внутри никого.
Собака, урча, схватила теплое мясо… Больше Серкебай ничего не слышал.
— Серкебай-ата, отдал собаке… как вы сказали… — Это соседский парень уходит.
— Тайлак-таш никогда не размякнет… — говорил себе Серкебай, приближаясь к камню.
Дождь продолжал идти. Серкебай словно бы засыпал на ходу. Какой ловкий, а, — может идти и спать на ходу? И дождь не в состоянии разбудить Серкебая? Падая, поднимаясь, блуждая, вновь находя путь, он добрался до Тайлак-таша. Он обнял каменного верблюжонка за шею. Он закрыл глаза.
…Когда на заре Серкебай очнулся, слышит, кто-то кричит со двора:
— Серкебай! Ведь ты говорил, это не просто камень, помнишь?
— Да.
— Каменный верблюжонок ожил! Мы поймали его, когда убегал по улице. Привяжи своего верблюжонка. Он разговаривает по-человечески!
— Каменный верблюжонок? Заговорил?
— Да, и первым делом спросил о тебе. Просит: «Покажи мне Серкебая. Он меня спас». Говорит, он согласен быть всем, чем ты не прикажешь. Временами он оборачивается верблюжонком, а то превращается в девушку, которую не сравнишь ни с луной, ни с солнцем. Выйди во двор — мы его привели. Сними с него недоуздок. Он ожидает, чтоб дали ему свободу. Без тебя мы не можем… Иди же скорее!
Серкебай поспешил во двор — там и вправду ждет беленький верблюжонок.
— Анаргуль, милая моя!
— Серкебай-ата!
— Ты и вправду освободилась от каменных пут?
— Теперь навсегда!
— Тогда прими человеческий образ. Я сам отведу тебя к твоему возлюбленному Анарбеку. Об этом мечтал всю жизнь. В мире нет ничего величественнее любви: Анаргуль, сбрось обличье верблюжонка!
Из глаз белого верблюжонка текут прозрачные слезы, потом он смеется — смеется по-настоящему, как человек. Он ложится в траву, он перекатывается через спину, он поднимается… О чудо! — это уже необыкновенно красивая девушка. Легко переступая, приближается к Серкебаю… Кругом толпой стоят люди, слышатся голоса. Все восхваляют Серкебая — столько лет сохранял каменного верблюжонка…
— Анаргуль ваша. Она вас ждала всю жизнь. Рядом с вами была старуха, поэтому она не просыпалась. Теперь вы стали свободны — и она проснулась, превратилась в девушку. Вы возьмете ее в жены. Она будет вашей возлюбленной. Идите, она ожидает вас… — так говорили собравшиеся. Серкебай увидел, что Анаргуль покорно склонилась. Серкебай рассердился:
— Не желаю слышать такие разговоры. Я чистым пришел в жизнь, чистым и уйду теперь, когда наступила старость. Анаргуль была силой непокоренной любви превращена в камень. Она не изменит своей любви, я тоже не изменю… Я люблю свою Бурмакан. Оттого что люблю, осудил себя на пожизненные мученья… Ну-ка скажите, кто из вас выдержит такое? Кто сможет, как я? Анаргуль красива, я знаю. Но разве моя Бурмакан не красива? Вы не знаете — я знаю ее красоту. Уходите и больше не заводите таких разговоров. Если я услышу еще, то обижусь. Эй, народ, я человек, истосковавшийся по родной земле, по родным местам. Посмотрите-ка мне в глаза, в них затаилась тоска. Знаете ли — это та же тоска, что в глазах Анаргуль и Анарбека?
Народ разошелся. Серкебай повел Анаргуль в горы. В горы, туда, к родникам любви, к деревцам, что застыли в печали, превратившись в холодный камень.
Серкебай радуется, он уверен, что каменные деревца оживут, увидев Анаргуль. На душе его ясно, ему хочется петь.
Серкебай и Анаргуль идут над тесным ущельем, по узкой тропинке. Серкебай впереди, Анаргуль следом за ним. Если нечаянно оступиться — упадешь, и ничто не спасет.
Они идут молча: если скажешь хоть слово, сверху покатятся камни… Снизу доносится шум воды.
Вот они с трудом выбираются из теснины, становится очень светло. Открывается широкое, все в ласковой зелени, ущелье. День ослепительно ясный.
Они останавливаются на небольшом выступе над расселиной, советуются, какую выбрать дорогу.
Есть два пути: один, хоть и кажется близким, — он дальний… А другой, хоть и кажется дальше, — он близкий. Вот слева по склону осыпь, там вьется тропинка. Она хоть и дальняя, но приведет нас скорее к цели… А эта дорога, она хоть и кажется ровной, но если пойдешь по ней, то упрешься в кустарник, сквозь который трудно пробраться. Пойдем по тропинке… — так говорит Анаргуль и берет Серкебая за руку.
— Эй, подожди! Никуда не уйдешь отсюда! Я вас обоих брошу в расселину! — раздался громовый голос. Это вдруг Бурмакан объявилась. — Я знала, что вы придете сюда! И пришли ведь, попались! Теперь вы в моей воле, знаю, как поступить с вами! Знала, что в мыслях вы затаили недоброе! Теперь я буду судить вас по-своему!
Бурмакан — она одета в мужское платье, она очень похожа на свою мать, Калычу. Свирепо нахмурила брови, готова, кажется, схватить за шиворот любого, кто тронется с места.
— Бурмакан, возьми себя в руки, выслушай нас, мы ведь не виноваты ни в чем…
Но Бурмакан лишь еще больше распаляется, свирепеет:
— Знаю, кто вы такие! Я всю жизнь ждала вашего прихода сюда. Вы должны были прийти, вы пришли. Вы обманывали меня! Днем застывая камнем в образе белого верблюжонка, ночью ты вешалась на шею Серкебая! Всякое терпение имеет границы. Теперь я не стану терпеть! Не рассчитывайте на мое милосердие! Смотрите — вот щель, там и находят покой грешники, подобные вам!
Бурмакан хватает обоих, подносит к расселине и бросает… Зашумело, загудело в ушах. И вот оба зажаты стенками щели, не двинуться, не повернуться… Анаргуль в одном месте, Серкебай в другом…
Как холодно здесь! Так и пронизывает насквозь холодом от камней, от воды, протекающей где-то внизу. Откуда-то сверху пробивается маленький луч…
— Ну, возлюбленные, каково оно — любить, разбивая семью? Горячо или холодно, а? Ну-ка, признайтесь, я расскажу в аиле.
Бурмакан кричит сверху, ей отвечает гулкое эхо. Грохочет кругом, в стенках расселины образуются новые щели. Ни лучика света… камни размером с овцу с грохотом сыплются вниз.
— А-а!
Серкебай ревет как медведь. Снова падает, летит в бесконечность… Руки его раскинуты, душа покидает его…
Серкебай открывает глаза — видит перед собой человека в черной одежде.
— Кто ты такой?
— Я-то? Не узнаешь, Серкебай?
— Кого-то мне напоминаешь… Не могу вспомнить… Кто ты, скажи?
— Я — это я! Ну, вспоминай, Серкебай, признавай!
— Так ты — Комурчу?!
— Он самый.
— Но ты же был старый. Или помолодел? А может, ты сын Комурчу?
— Не я был стар, старое было время.
— Значит, хочешь сказать, что не ты молодой, — само время помолодело?
— Да, именно так!
— На шее твоей ремень?
— Да.
— Что это значит?
— Скажу позже.
— Что я делаю здесь, во дворе?
— Ты лежал, обняв за шею каменного верблюжонка.
— Ох, у меня затекла рука!
— Давай помогу тебе…
— Значит, я лежал под дождем? Почему мои легкие не простужены, я не умер?
— Серкебай закален, ко всему привычен. Дождь не только не убьет, даже омолодит Серкебая.
— Подожди-ка. Почему же моя одежда сухая? Сколько времени я пролежал здесь? Когда кончился дождь? Разве дома нет Бурмакан?
— Дом твой пуст, дверь открыта. Скот не ушел со двора.
— И собаки нет дома?
— Твоя собака караулит возле тебя.
— Значит, мой очаг не разрушен?
— Я пришел просить у тебя прощения, Серкебай.
— Прощения? Почему?
— Говорят, что бывают сваты, которых сводит сам бог. Мы с тобой сделались сватами, Серкебай!
— Каким образом? О которой из моих дочерей ведешь разговор? Разве ты был женат?
— А ты решил, что я никогда не женюсь? Да, был женат. У меня семеро сыновей. Все семеро живут в разных местах.
— А сам-то ты где?
— В городе. На заводе. В литейном цехе. Плавлю чугун.
— Ой! Ты действительно Комурчу, а? Не обман — правда! Тот, что был со мною в старые голодные годы, а? Значит, ты породнился со мной? Скажи правду, ох!
— Смотри, какие две встречи! Первый раз — в тяжелые годы, и теперь — при хорошей жизни. Если вместе быть назначено вершинам, то сольются и корни… Вот видишь, наши корни вместе, мы слились. Дай благословение. Серкебай, наши дети соединили свои судьбы!
— Которая из моих дочерей?
— Рабия.
— Младшая, баловница? Но ведь она была дома…
— Уже неделя, как устроили свадьбу в общежитии, где живет Рабия, и не сказали, только сейчас вот признались. Сегодня хотели расписываться.
— Я-то что?.. Разве у меня могут быть возражения? Попроси прощения у ее матери. Где сейчас Бурмакан?
— В больнице.
— Что?!
— Не пугайся. Собирайся лучше, пойдем к ней. У меня в городе была Рабия, от нее услыхал — Бурмакан увезли в больницу, но, конечно, еще не был там. Я решил, что неудобно будет, если появлюсь прежде тебя.
Серкебай выгнал со двора скот, попросил соседского паренька приглядеть за ним до вечера и отправился с Комурчу.
Больница… Оба слышали это слово, но ни Серкебай, ни Комурчу никогда не были там — не болели…
— Комурчу, почему ты не изменился? И не только не изменился, даже будто помолодел! Скажи правду, сколько тебе лет? Я ведь тебя еще тогда, когда мы вместе гасили уголь, считал за отца. Как ты сохранил молодость и здоровье? Какая сила помогла тебе?
— Труд.
— А я что — не трудился разве?
— Трудился, но по-другому… Распоряжался. Я же отдал труду всего себя целиком — и тело свое, и мысли.
— Ой, подожди-ка. Не о тебе ли читал я недавно в газете, ведь это ты, наверное, стал Героем Социалистического Труда? Интересно, фамилии не было — написали просто «Комурчу». Когда я спросил, кто это, мне сказали — рабочий, так было написано и в Указе. Это не ты ли?
— Я. У меня ведь нет фамилии. С тех пор как открыл глаза, бродил у чужих дверей; потом, когда оброс мускулами, стал работать самостоятельно. Я даже не спрашивал, не интересовался, чей же я сын. Был сыном бедности. К чему мне фамилия — хватит моего имени. Отец, что ли, работал за меня? Сам я работал? А раз я — так и пишите, что я. Пошумели немного: мол, без фамилии трудно оформить Указ. Но я стоял на своем. Я предложил было им записать меня Советовым… Нет, не осмеливаюсь назвать себя сыном такого великого мира, не могу назвать его своим отцом. Ведь я простой угольщик. Сказал им — оставьте как есть, пусть называют угольщиком. Уже из этого слова ясна моя фамилия. Уголь — это огонь. Лишь бы я не отошел от огня, лишь бы не был разлучен с огнем. Огонь закалил меня. Человек, закаленный огнем, не стареет.
— Кстати, как звать твоего сына? Где он работает?
— На фабрике, там же, где Рабия. Механик. Комурчуев Жыргалбек. Там они и познакомились: ведь твоя дочь шьет одежду, а мой сын чинит испорченные машины. Твоя дочь, оказывается, нарочно ломает иглы, а мой сын нарочно приходит поправить… Оба улыбаются. Разговаривают, будто о деле, не подавая вида, что любят… А после работы не хотят разлучаться. Вместе проводят время, делаются душевно близкими… В конце концов решили стать мужем и женой. Вот так. Таким образом соединяют и нас. И теперь я отправляюсь к сватье просить прощения… Когда сын намекнул мне кое о чем, спрашиваю его: «Чья дочь?..» Отвечает: «Человека по имени Серкебай». Милый мой, говорю, оказывается, хорошее у него имя. Если дочь Серкебая, держи крепче, не отпускай. Если девушка станет отказывать тебе, будь настойчив до конца. Иди к ее отцу, иди к ее матери. Скажи, что ты сын Комурчу. Если спросят, какого Комурчу, то скажи, что все того же, прежнего Комурчу… Останься у них дома; если будут гнать, все равно не уходи! Я ему сказал — пусть сразу принимается делать что-нибудь по хозяйству, пусть крутится как веретено. Но не пришлось… Оказывается, дочь твоя умница… Раз уж вместе решили все — зачем же оттягивать, лучше жениться сразу. Правильно, Серкебай?
— Какой может быть разговор!
— Взять, к примеру, Санту, очень умная, получившая образование девушка, а замуж не вышла, пропустила время. Что же теперь? Очень плохо. Нет, сейчас еще ничего, а когда состарится — будет хуже…
— Она — дочь моей свояченицы…
— Ну пусть она дочь твоей свояченицы… Если не слепая, если не курносая, что за надобность оставаться одной? Хорошо, когда девушка вовремя выходит замуж. Засохший на ветке плод превращается в сухое повидло. Очень уж много таких, что, набирая знания, даже не заметили, как состарились. Много и среди мужчин, и среди женщин. Учиться, конечно, неплохо, но если будешь честно трудиться, то быстро достигнешь цели. Вот мы оба, чем мы хуже других, а, Серкебай? Ты учился?
— Заочно закончил техникум.
— А остался, как и прежде, угольщиком.
— Нет, ты не просто угольщик. Разве жизнь не дала тебе знаний?
— Правильно рассуждающий, самостоятельно думающий человек, если даже и будет сидеть дома, все равно насытится знаниями, будет откладывать в памяти. Не сможет отвертеться. Не так просты знания, получаемые по телевизору, по радио, из газет. И как воспитывать детей, и как приготовить пищу — все узнаешь, даже если не хочешь. Тут и знания из математики, тут иностранные языки. Попробуй-ка посидеть у экрана не шелохнувшись — прямо на дому окончишь университет. А если говорить серьезно, знания сейчас разбросаны везде. Собери — все в твоей воле. А того, кто не хочет овладеть знаниями, его хоть привяжи за колышек в институте — все равно убежит. Недавно иду я во Фрунзе по улице и вижу — вдруг двое молодых парней засмеялись, будто ни с того, ни с сего.
«Повтори, повтори! — попросил один. — Что идет, как ты сказал?»
«Я сказал — идут один ягненок, одна фляга кумыса, пятьсот рублей денег!» — отвечал второй, а сам кивнул головой, указывая на трех девушек, прошедших мимо.
Я не понял, что означали такие его слова. Заинтересовался. Не смущаясь, спросил:
«Братец, я не понял значения только что сказанного тобой. Объясни-ка».
«Мы сейчас говорили об этих девушках, ата. Если они не привезут перечисленного мной и не угостят кое-кого, вряд ли думают пройти по конкурсу в институт. Недавно разговаривали при мне, не стесняясь чужого человека, так и сказали: мол, без одной фляги кумыса, одного ягненка и пятисот рублей денег не очень-то легко устроить свои дела. Остановились у наших соседей, сдают экзамены, я даже не спросил, куда они поступают».
«Но ведь другие без денег поступают, а?»
«Обладающие знаниями поступают, конечно, сами, но есть и такие, что привозят кумыс и ягнят».
Вот как охотятся за знаниями!.. Ну да бог с ними, Серкебай, все же не для разговоров я приехал. Отправимся к Бурмакан?
— Зайдем в дом. Обдумаю, что сказать своей байбиче. Впервые в жизни у нас с ней случилась ссора. Как звать твою старушку, Комурчу?
— Скажи, сватью.
— Да. Сватью.
— Ай[37].
— Что, разве бывает такое имя — Луна?
— Я сам ее так назвал. Пусть освещает угольщика лунным светом.
— Хорошо. Значит, мы будем звать ее — сватья Луна.
* * *
Бурмакан открыла глаза, увидела себя в больничной палате. «А-а… значит, упала я где-то… Почему привезли сюда, не домой? Постой-ка… Что случилось со мной? Ах, вот оно что… так и было… Да, она приехала… зарезала ягненка… Лил дождь. Я не сдержалась, ушла из дому… Неужели правда? Почему? Сбежала из своего дома? Оставила все Аруке, сама ушла? Кого я думала напугать? Разве так пугают? Вообще поступают ли киргизские байбиче, как я? Конечно, я не права, допустила ошибку. А Серкебаю — что, полеживает, наверное, дома… Серкебай-то? Неужели и впрямь безразличен — сидит дома и в ус не дует? Ох, не верю… Я ведь знаю его как свои пять пальцев. Неправильно я поступила… Ох, почему я не сделала так, как почтенные киргизские женщины! Не проводила гостью без лишних слов, сдержанно, сохранив приличия… Показала себя легкомысленной… Для чего нужно было оспаривать амулет? К чему он мне?.. Просто привыкла… Нравился. Однако, что бы там ни было, я должна была молча отдать его. Серкебай сделал все… Серкебай… Что он сделал? И на этот раз, как и прежде, он был объективен. Ведь скандал начала я сама. Назвала его змеей и еще как-то… не помню… Опозорила его на глазах Аруке. Но плохая слава осталась мне. Серкебай, оказывается, великодушный… все стерпел. С каким лицом теперь покажусь дома? Кто меня повезет из больницы? Серкебай за мной не приедет. Он не любит упрашивать… Значит… получается, я совсем ушла? Куда? Никуда. Должно быть, пришел конец моей жизни. А куда бы хотела? Перед моими глазами — знакомые пастбища… Дорогой Сон-Куль… С тех пор как ушла оттуда с матерью, ни разу не возвращалась. Стоило только заговорить, Серкебай объявлял: «Работы больше, чем волос на голове. Что там осталось? К кому поедешь?» — и больше от него ничего не добьешься. Однако соскучилась я по Сон-Кулю, ведь каждый хотел бы увидеть места, где провел детство. Выздоровлю, обязательно поеду в Джумгал. Поваляюсь на ковыле у Сон-Куля… Побегаю, как бывало в девичьи годы… Буду петь, стану кричать… Наверно, живы остались еще подруги, с которыми вместе играла в детстве… Встречусь, увижу… Посмотрю, где жил мой отец, постараюсь найти следы, оставленные отцом. Соберу привычки отца, те, что остались в памяти… Все вспомню… Поставлю отцу памятник. Я в долгу перед ним. Правильно, нужно съездить, пока не иссякли силы. Серкебай тоже соскучился по родным местам. Прежде был занят работой, а теперь свободен, поедет. Если станет отказываться, то подниму скандал. Скандал? Ведь уже начала… Уж не хватит ли, а? Надо бы прежде уладить этот скандал, а потом уже начинать другой. Ох, так и давит на ребра. Видать, простудила легкие…»
Бурмакан спросила у соседок по палате, кто ее привез в больницу; ей сказали, что привезла «скорая помощь». Пока она не очнулась, к ней приходили, сидели здесь двое: красивая девушка и молодой человек; оба пробыли долго, девушка плакала. Бурмакан начала расспрашивать, какая из себя эта девушка, — оказалось, была Рабия.
— Апа, как вы себя чувствуете? — спросила девушка с соседней кровати. Ее голос был так похож на голос Рабии, что Бурмакан поспешила повернуться к ней.
— Хорошо, милая, спасибо… Как твое имя?
— Рабия.
— Нет, моя дочь не такая… Не обманывай меня.
— Я — другая Рабия. Я знакома с вашей дочерью. Мы вместе работаем. Она приходила, долго сидела… плакала. И муж приходил вместе с ней.
— Типун тебе на язык, нет у нее мужа! Ты ошибаешься, путаешь ее с кем-то другим.
— Правду говорю, апа, у нее есть муж. Приходил с ней сюда. Хороший парень. Он тоже работает с нами. Звать Жыргалбек. Совсем недавно мы справляли их свадьбу. Не спали все до рассвета… Свадьба удалась на славу. Вместе собрали деньги, вместе гуляли — всем общежитием!
— Перестань, озорница, не обманывай дальше. Я не ровесница тебе, нельзя смеяться над старым человеком!
— Поверьте, все — правда! Свадьба была. Скоро пойдут расписываться… Они решили, что тогда и признаются, объявят вам. Можете радоваться, апа, Жыргалбек очень хороший парень. Все девушки нашего цеха… мы все были в него влюблены. Но он не смотрел на нас, женился на Рабии.
Голос девушки был полон печали. Бурмакан присмотрелась внимательнее. Не сказать сразу, в чем именно, но очень она походила на Рабию…
— Значит, была свадьба… Рабия собралась замуж… и ни я, ни отец — мы не знаем…
— Разве есть на что обижаться, апа?
— И ты это говоришь так просто, а, дочка?
— Если б просто — не стала бы плакать… А что сказала вам — так все равно ведь вам скажут сегодня.
В палату вошла сестра. Очень красивая девушка.
— Бурмакан-апа, к вам пришли люди, можно пустить? Я спросила их имена, но они не сказали. Два пожилых человека.
Серкебай появился в белом халате — открыл дверь, заглянул в палату, вошел. Бурмакан, забыв о своих недавних мыслях, отвернулась в другую сторону. Серкебай сел на стул рядом с ее кроватью. Сейчас он заговорит… С чего начнет разговор? Бурмакан ждала… Почему молчит Серкебай? Для чего приехал? Лучше б не приезжал…
— А, приехал?.. — Бурмакан наконец обратила лицо к Серкебаю.
— Как ты себя чувствуешь?
— Прекрасно.
— Что говорит доктор?
— Говорит, скоро избавишься от меня.
— Перестань!..
— Я-то могу перестать — перестанет ли смерть?..
— Бурмаш, не говори так… — На глазах Серкебая слезы.
— Зачем ты приехал?
— Хочу увезти тебя.
— Разве ты ангел, вынимающий души? Теперь меня никто, кроме смерти, не сможет забрать отсюда.
— Ладно, говори что хочешь… Все равно увезу…
— Разве есть у тебя сердце, а? Жестокий ты, Серкебай.
— Теперь я свободен — стану мягкосердечным. Растоплю свое сердце.
— Знаешь ли, что и у меня были родные места?..
— Знаю. У меня тоже…
— Истосковалась я… Печаль одолевает меня, как подумаю о Сон-Куле. Если умру, ты останешься в долгу… Никогда не прощу, Серкебай.
— Разве ты одна — я ведь тоже истосковался. Хочу все увидеть снова… Хочу обойти те скалы, где осталась кожа с моих подошв… Хочу отпробовать воды из светлого родника. Поправляйся скорее! Поедем…
— Захвати с собой Аруке.
— Не говори о ней, Бурмакан. Не говори недостойных слов.
— Раз я сама недостойная, почему мне не говорить недостойные слова…
— Дай твою руку. Помирились, да? Ведь если умрет один из нас… Пришло уже время такое, что обмоет и похоронит другой. Где наши родные? Нас двое… Скажешь, дочери? Но каждая из них — чья-то жена. Мы же с тобой — муж и жена, брат и сестра, родные, друзья, неделимое целое… Я сбросил свой груз. Теперь я раскроюсь. Теперь я, Бурмакан, готов, взяв тебя за руку, пешком пересечь степь. Хватит силы. Я не извел ее всю на работу. Еще осталось… Я думаю так… Все начну заново. Я только теперь полюбил тебя. За то, что всегда слушала терпеливо, за то, что была для меня родным человеком… Любила меня… Это редкость — такая любовь. Я теперь до конца поверил. Кто может ревновать к женщине, которой уже седьмой десяток?.. Никто. А ты ревновала! Значит, правда — есть моя любовь, есть твоя любовь! Я — человек, сохранивший свою молодость. Если захочу, то остановлю время. Если захочу, то не буду стареть, я знаю, можно и не стареть. Я покажу тебе такого человека. Да, есть такой человек — совсем не меняется, не стареет, остается всегда молодым. Позвать? Хочешь увидеть? Ты знала его. Не сейчас — в давнюю пору, когда нужда покрыла ссадинами спину, давила душу. Пусть войдет, а?
— Кто он?
— Смотри!
Вошел Комурчу. Глаза Бурмакан округлились… Не верила сейчас Бурмакан старым своим глазам.
— Комурчу?! Все такой же! Здравствуйте!
— Спасибо, сватья.
— Что, Серкебай? С чего это Комурчу называет меня сватьей?
— Я пришел просить у тебя прощения, повесив на шею ремень. Мой сын с твоей дочерью…
— Жыргалбек, что ли? Это правда? Это твой сын?
— Откуда ты знаешь Жыргалбека? Он самый.
— Сколько тебе лет, Комурчу, скажи?
— Не знаю. Об этом не спрашивают у человека, который живет, не прибавляя себе лета, а если спрашивают, он не может ответить. Я и вправду не знаю, не думай, что притворяюсь. Мне никто не сказал, когда, в каком году я родился. Я ведь только сейчас, когда сам стал отцом, понял, что это такое — мать и отец. Было время, я удивлялся, видя родителей, целовавших своих детей, вдыхавших их запах. Я говорил — почему? Не знал, что запах собственного ребенка — он дороже всего остального мира. Всесильный хан, не имевший детей, оказывается, всю жизнь оставался голодным.
— Сними с шеи ремень, Комурчу! Кому ж я отдам свою дочь, если не отдам твоему сыну! Вот эта девушка уже все мне сказала. Устроили свадьбу в общежитии. Нельзя удивляться поступкам нынешней молодежи, пусть это была их, молодежная свадьба, ими устроенная. Мы справим ее по-другому, по-своему.
— Будут девичьи игры?
— Да. И я заставлю тебя петь, сват Комурчу.
— А что — и спою! Песен у меня больше, чем песка в речной отмели. У человека, нашедшего свою любовь в немолодом возрасте, песен действительно много…
— Посмотри, какое чистое небо.
Это сказал Серкебай.
В чистом небе поет жаворонок…
Это было назавтра после примирения с Бурмакан. Серкебай пришел сюда, в предгорье, вовсе не для воспоминаний о пережитом — просто желая отдохнуть. Но течение мыслей захватило его. Мысли или пение жаворонка? Серкебай ли думал о прошлом, или то пел жаворонок? Как прекрасна песнь жаворонка для тех, кто понимает, кто ценит, слушает со вниманием…
Жаворонок несколько раз встряхнул крылышками, будто вытряхнул на Серкебая все свои песни, опустился, сел на каменный выступ. Песня его была какое-то чудо, теперь же, когда оказался рядом, сделалось видно — обыкновенная серенькая птичка, размером с яйцо, цветом сливается с камнем. И во всем так, а? Как говорится, издалека слушай славу героя, а подойдешь ближе — обыкновенный человек.
Серкебай уже не смотрел больше на жаворонка. Песня жаворонка звучала в его душе. Она вобрала в себя лишь небольшой отрывок, небольшой кусочек из того, что пережил Серкебай. А если жаворонок поведал о жизни, о мечте совсем другого человека, Серкебай? Скажи — кого? Может быть, Комурчу? «Вот настоящий человек. Но нет, не об этом сейчас хочу рассказать. Я хочу сказать о земле. Есть ли глаза у земли? Есть. Она дышит? Да. Очень наблюдательный человек замечает. Земля даже спит, а потом просыпается… Земля иногда плачет, бывает — смеется. О, я не слышал песни нежнее, задушевнее, человечнее, чем песня земли. Земля возносит благодарность, и земля проклинает… Если отдать ей — вернет, не жалея, во много раз больше, а пожалеешь — и она поскупится. Земля постоянно испытывает тебя, проверяет крепость твоих корней. Если ты ляжешь, то усыпляет в своих объятиях. Земля покачивается, как колыбель. Человек перенял у земли характер. Он способен долго терпеть, но когда ему надоест, он рассердится, им овладеет гнев. Так и земля — иногда дрожит в гневе. Ты не серди ее, хорошо ухаживай за ней, не жалей того, что она ожидает, — все отдай, и она воздаст тебе сторицей. Значит, земля все равно как и жизнь… Если жизнь сравнишь с землей — пожалуй, не ошибешься. Жизнь, ты как следует покрутила меня, а? Кидала меня и в болото, кидала на лед — я все вытерпел. Я узнал, я прошел сито жизни… Ель, что моя ровесница, она давно уж засохла. Временами ты, жизнь, била по сердцу большим кулаком, сжимала его, готовая раздавить, пугала меня… А временами ласкала, подобно матери, нежила, целовала. Такая ты — жизнь, соль твоя и сладка, и горька. Я сумел отведать всего… Я научился искать среди горечи сладкое, сумел отделить одно от другого. Если бы жизнь состояла только из сладкого, она б не была интересной. Тогда бы не стало борьбы. А исчезни борьба, и не только сам человек, все способности — даже мысль притупится… Смотри-ка, я ведь совсем ненадолго дал отдых мозгам, оставив работу, решил провести время просто так, отдохнуть — и, похоже, совсем уж расклеился, а? Хуже стал себя чувствовать… Вот как бывает. Так, может, пойти к председателю Кызалаку? Пойти, согласиться руководить народным контролем?
Серкебай спускался с горы. И мысли его опускались вниз, становились ниже. Теперь этот край, предгорье, показался Серкебаю высоким. Пока он был председателем, он смотрел на него сверху вниз, как хозяин, руководитель… Говорил поучающе, смотрел уверенно… А теперь он поглядывал снизу вверх, бессильно, несмотря на то что спускался с горы. И гора взглянула на него с жалостью. Ах, какие глаза у горы, а? Одним своим взглядом поднимет твой авторитет, одним своим взглядом загонит ниже семи слоев земли!
Серкебай вспомнил разговор в больнице. Там сказал, что начнет все сначала. «Да, должен стать простым, обыкновенным человеком. К примеру, ну-ка, какая для меня есть работа в колхозе? Теперь ведь везде машины, механизмы. Не то что прежде, когда выходил в поле, взяв в руки кетмень. Молодец, Серкебай! Ты правильно предусмотрел, бедняга… Ты интересовался всем, что грохотало в колхозном машинном парке, обучал молодежь, да разве только одну молодежь? Ты привлекал весь актив, обязывал… Не отрывал от работы — обучал по ночам. Ты и сам научился водить мотоцикл, машину и трактор. И вот теперь все это оборачивается выгодой для тебя. До чего хорошо придумал! Иди теперь к председателю, попроси, чтобы дал тебе трактор. Скажи: не хочу быть контролем. Надумал, мол: самое подходящее для меня — это трактор. Да, самое подходящее… Скажи: хочу, как другие, вымазаться в мазуте».
Придумав, найдя для себя работу, Серкебай будто внезапно прозрел. Он поднял голову и увидел — весь мир улыбается ему. Перед глазами возникла вдруг Бурмакан. Веселая, смеется. Никогда так не смеялась… «Милая моя байбиче, родная… Поправилась уже, наверное, сегодня заберу домой… И мне самому тоже станет легче…» Не успел Серкебай так подумать, как услышал чей-то знакомый голос. Опять голос Прошлого!
— Серкебай, хоть ты признался жене, но дело на этом не кончилось… Все равно не избавишься от меня. Пусть даже она простит, все равно — я не прощу!
— Теперь не нуждаюсь в тебе, можешь и не прощать! Мне достаточно того, что простила моя Бурмакан. Теперь ни в грош не ставлю твои слова! — уверенно возразил Серкебай.
— Ах, до чего ж ты надменный, самоуверенный! Может, вновь показаться тебе на глаза? Этого ты желаешь?
— Показывайся! Надоели твои запугивания. Делай как знаешь, читай свою заученную молитву.
— Заученную молитву? Ну что ж — смотри…
…Куда б ни поглядел теперь Серкебай — перед глазами возникало черное болото, затем появилась девушка — голова ее наполовину утонула в болотной жиже… Он устремился к озеру — по дороге увяз в болоте. Еле вытянул провалившуюся в трясину ногу, бросился дальше. Он боялся — уже рассветало. Рассвет надвигался неумолимо. Серкебай прибежал к озеру, сбросил черное платье… Смыл грязь чистой водой Сон-Куля. Кинулся берегом озера — дальше, дальше… успеть до рассвета… Душа его не находила себе места.
— Отец! Прости! Я совершил грех, я посягнул на твою святыню, отец! Прости!
Затем перед взором его встал образ отца. Услышал густой голос батыра:
— Ты больше не сын мне, — с этим Сарман исчез…
— Ну, Серкебай, каково? Желаешь увидеть еще? — с неприязнью спросило Прошлое.
— Покажи! Если ты подпираешь небо, попробуй низвергни его!
— Для неба — не хватит силы. Лучше низвергну тебя. Посмотри-ка сюда…
Серкебай посмотрел. Опять увидел себя. Не теперешнего себя, а того, прежнего, молодого. Он стоит под скалой, он глядит на аил Батыркула. Он видит болото, видит юрту Калычи. Взглядом отыскивает место, где лежит Бурмакан. В аиле поднимается шум. Кто-то бежит сказать Калыче… Дальше не мог смотреть Серкебай, руками закрыл глаза. Но все равно видение не исчезло.
— Хватит!..
— Нет, я еще покажу!.. И не думай, что избавишься, Серкебай, не надейся… Буду показывать до самой смерти, да не в раз, а понемногу, отрывками… Ты узнаешь характер Прошлого!
Наконец умолк голос Прошлого, Серкебай почувствовал себя легче. Видит — уже вернулся в поселок.
* * *
Серкебай пришел в контору колхоза. Все здесь ему знакомо, все памятно до мелочей, напоминает о времени его руководства. Председателя не было. Серкебай вернулся на улицу. Увидел невдалеке памятник погибшим и Вечный огонь. На памятнике — имена людей, не вернувшихся с фронта. Первое сверху — Асантаев Айбаш. У Серкебая дрогнуло сердце — вспомнил не только Айбаша, погибшего на войне, но и его отца Асантая. Вспомнил неурожай тридцать первого, тридцать второго, тридцать третьего годов…
Чего не видали тогда глаза Серкебая… И в те годы он был председателем. Был худым, заморенным председателем худого, заморенного колхоза. Все было истощено: быки, кони, земля, скот. Но все же, несмотря ни на что, работа не была совсем остановлена. Надежда увлекала вперед, обещала… Серкебай тогда ходил пешком, не разъезжал на жеребце, как обычно. Говорил, что должен испытать то, что испытывает народ. Раздал людям в зависимости от состава семьи по одной, по две окотившейся колхозной овце или козе. Он повторял: «Киргиз, потянувший за вымя, киргиз, отведавший молока, не умрет». Как говорится, «и для голодного придет время быть сытым, и для тощего придет время быть тучным». Серкебай хоть и шатался от голода, но с утра до вечера был на ногах, не оставил дело ни на минуту. В такие тяжелые времена кровь у народа бывает горячей. Все стерпел, всех сумел выслушать Серкебай. Сам работал, выбирая работу потяжелее, и заставлял работать жену. Разве устоят другие, видя, как трудятся Серкебай с Бурмакан?
Было это в начале лета… Год был засушлив, земля потрескалась… Серкебай искал энергичного человека, который занялся бы поливкой. Как ни прикидывал, никого не мог выбрать, кроме себя самого да еще Асантая. Вот тогда родилась поговорка: «Сам пойду, Асантая с собой прихвачу». Исполнительный — куда ни пошли его, ни словом не возразит. Вдвоем поливали озимую пшеницу. Лишь однажды выпили молока. Начали поливать на рассвете и не отдыхали до самой полуночи. Серкебай на одном краю поля, Асантай — на другом… Когда оба едва уже держались на ногах, готовы были упасть без сил, прибежала в поле Бурмакан, принесла айрану. Айран, самый настоящий, из коровьего молока! За четыре дня до того отелилась корова Серкебая…
Серкебай еще раз обежал взглядом имена, выбитые на камне. Были такие, которые не очень хорошо запомнил. Одно имя заставило улыбнуться.
— Бедный Исмаил… Помню тебя… Борода отросла клочьями, выглядел странно. И странными были твои повадки, не как у других людей… — вслух сказал Серкебай. Исмаил действительно запоминался с первой же встречи. Сонливый он был необыкновенно. Стоило ему только сесть на коня, вешал повод на луку седла, и как только конь трогался с места, так у Исмаила сразу же закрывались глаза. Ему надо ехать в одну сторону — конь нередко идет в другую или же попросту останавливается. Не знавшие Исмаила принимали его за пьяного, те же, кто знал, будили его, спрашивали, куда собрался, и направляли его коня в нужную сторону. Исмаил, приоткрыв глаза и ответив насчет маршрута, засыпал снова. Даже спешившись, шагая рядом с конем, бывало, дремал на ходу. Войдет в дом — и не успеет еще прилечь, как уже слышится его храп.
Как-то осенью большая группа людей, земляки Исмаила, ремонтировала мост, и в это время, говорят, подъезжает к мосту Исмаил, — как обычно, спит, свесив голову. И вот нашелся шутник: когда Исмаил подъехал, тихонько остановил коня и повернул головой к аилу. Животное, привыкшее к повадкам хозяина, послушно возвращается прямо к дому. Вскоре из дома выходит жена Исмаила и видит, что муж спит на коне у двора. Она осторожно будит его:
— Ой, ты еще не уехал?
— Сейчас, сейчас…
— Поезжай поскорее, пока доберешься до города, вечер наступит.
— Сейчас поеду…
Он опять пускает коня ленивой рысцой и опять, отъехав немного, засыпает привычно. Когда он подъезжает к мосту, тот же шутник опять поворачивает его коня.
Жена Исмаила под вечер выходит из дома и видит: муж по-прежнему в той же позе спит на коне.
— Ой, да разве ты не уехал? Или уже возвратился?
— Должно быть, я уже съездил…
Вот таким он был, Исмаил… Добрый, совершенно безвредный. И он остался на поле войны…
Если смотреть на список, не будет конца воспоминаниям…
Председатель Кызалак еще не вернулся в контору. Как и Серкебай, не любит сидеть на месте. «Вот что значит ожидать председателя, — сказал себе Серкебай. — Ну, привыкай…»
Он вернулся домой. Взял в руки кетмень, отправился в огород и стал расчищать арык, тот, что за Тайлак-ташем. Тайлак-таш глядел на него будто сквозь слезы.
Размахивая кетменем, Серкебай вспомнил свой сон в ту дождливую ночь, улыбнулся. «На что только не залает собака, что не привидится во сне человеку!..»
Он взмахнул кетменем, и вдруг за спиной:
— Серкеш!
Поглядел — да это же Бурмакан вернулась! Вдвоем с Рабией стоят возле двери в дом. Ох, как бросился к ним Серкебай! Подлетел и, как прежде, в молодости, обнял, стал целовать в щеки, не оставляя нецелованного места. На глазах показались слезы.
— Что с тобой, ты совсем как ребенок! Стыдно… увидят люди… оставь… — Да, Бурмакан снова почувствовала себя хозяйкой.
— Пусть видят. Может, я потому и целую, чтоб видели… Моя Бурмакан, мое счастье, моя мечта. До чего ж ты прекрасна, до чего же красива! Чиста, глубока, прозрачна — подобна нашему Сон-Кулю. Входи же скорее в дом! Теперь все у нас будет иначе, по-новому. Знаешь ли, Бурмакан, я решил работать. Так решил. Я понял, что если не стану работать, то быстро состарюсь. Я возьму трактор, пойду трактористом. Буду пахать землю. Ох, запах земли… Как следует поработать, а потом, когда совсем устанешь, лечь на землю… Как прекрасно! Как прекрасно — лежать на траве, глядеть в небо… запах земли, запах травы… Если вздремнешь ненадолго, этот отдых заменит тебе сон целой ночи. Ты лежишь, сливаясь в одно с травою, с землей. Рядом с тобой никого. Ты и земля. Вы только вдвоем. Вы обнимаете друг друга. Запахи ваши смешались, стали для вас привычны. Вы неразлучны. Связаны на века. Человек может быть разлучен со всеми: и с женой, и с ребенком, и с другом, и с родичами, но с землей никогда не расстанется — даже и после смерти. Разве не земля научила меня всему? Умная, терпеливая, задумчивая, полная чудес земля… Земля — это книга, которую никогда не прочтет до конца человек, это поэма, которую не допоет он, это мелодия, которую он никогда не закончит, это еда, которую он никогда не доест. Земля… пахать землю… сеять в поле зерно… какие слова! Ну идем же в дом, Бурмакан. Заходи, садись на почетном месте, я сам угощу тебя. Посмотри, как способен ухаживать за гостями. О, не найдется таких умений, которыми я не владею. И пищу сготовлю, и постираю, и даже могу вырезать рисунки ширдака. Все это не трудно. Трудно другое. Если мужчина или женщина вместе проживут хоть сто лет, все равно даже за эти годы не смогут познать до конца друг друга. Можно постичь все секреты мира — секрет человека так просто не распознаешь. Так я скажу — мы только сейчас узнали друг друга. Погляди-ка на небо. Синее-синее, ясное-ясное… И тополя сегодня улыбаются необычно. Посмотри-ка, опять жаворонок. Куда бы ни шел я сегодня, жаворонок сопровождает меня своей песней. За меня выплакивает мою тоску, за меня похваляется силой. Жаворонок… Кругом жаворонки… В каждом поле свой жаворонок, и у каждого — своя песня. Пусть никогда не умолкнет серенький жаворонок. Станет петь — и возрадуется земля, будет петь — зацветет весь мир, запоет — и всегда будет ясным солнце!
— Серкебай, помнишь свое обещание? Покажешь мне снова родные места, увижу Сон-Куль?
— Покажу, Бурмакан, скоро увидишь. Я ведь тоже истосковался по его священной, его чистой воде. Хочешь — завтра же и отправимся?
— Завтра же, да? О родная земля…
ДЕВИЧИЙ РОДНИК
1
Кыз-Булак… Девичий родник — Мамырбай и Керез помнят это название столько, сколько помнят себя… Слова эти давно привычными и родными сделались, словно имя матери. Здесь они и родились, Мамырбай и Керез, неподалеку от ручья, берущего свое начало у подножья большой красной скалы. Таласцы, здешние жители, прославляют и возвеличивают это место — родник Кыз-Булак и скалу над ним, рассказывают легенды, восхищаются их как бы очеловеченной красотой. И правда достоин, достоин хвалы Девичий родник, красивое место, радует своей прелестью душу и глаз человека.
У подножья красной скалы, чуть отступя от нее, видна как бы фигура девушки, изваянная из целого камня. Приглядишься — и точно: девушка в свободном платье, на голове тюбетейка с перьями совы. Внимательный человек не может не заметить… И кажется, каменная эта девушка, подперев правой рукой щеку, задумчиво и печально смотрит куда-то за Большой Южный хребет, в далекую синеву неба. А ручей подле — словно горючие ее слезы, струйкой утекающие среди больших валунов. Многие уподобляют ручей слезам каменной девушки. Говорят, словно бы она стоит так уже века — ждет и никак все не дождется любимого. Будто бы из-за Большого Южного хребта должен появиться джигит, которого она так ждет… С тоской ожидая его, окаменела живая, теплая девушка… Говорят и иное: будто переходила она этот перевал в лютую зиму и замерзла.
Так объясняют в народе историю этого названия — Кыз-Булак. От себя добавлю одно: во всем Таласе не сыщешь подобной красоты, неповторима она. Огромная красная скала прорезана одиннадцатью лощинами — и самое удивительное то, что ни одна из них не повторяет другую. Первая удивит богатством альпийского разнотравья, вторая — совсем голая, усыпана щебнем, третья вся в зарослях арчи…
Как же не скучать по таким чудесным местам? И вот, наслушавшись рассказов старой Аруке о прошлом, легенд и былей наслушавшись, Керез с Мамырбаем решили не мешкая отправиться в родные места, к роднику Кыз-Булак… Сошли с автобуса, взобрались на пригорочек и постояли, посмотрели в сторону родника. Правда, отсюда Кыз-Булак не виден был, заслоняла гора. Но все же не терпелось поглядеть… хотя бы обратить взор в ту сторону — и то на душе становилось как-то приятнее, легче. Отрадно сознавать, что вот за теми горами пойдут уже родные места.
Керез молча вглядывалась в даль, словно бы медленно совершая предстоящий им путь к родному селению. Мамырбай спросил:
— Соскучилась?
Она сразу поняла, что Мамырбай говорит о роднике.
— Соскучилась! — И этим словом было сказано все, и других объяснений не требовалось. Мамырбай понимал и не стал больше расспрашивать. Он и сам так же волновался, как Керез. И ему хотелось добраться быстрее, зачерпнуть пригоршней воды из родника и с наслаждением выпить. Потом постоять, полной грудью вдыхая воздух родной земли.
Он глядел сейчас в сторону Кыз-Булака и вспоминал.
Лет шесть тому назад приехали в родной их аил артисты филармонии. Особенно выделялся один… Народ бесконечно восхищался его пением, его вызывали снова и снова. В тот день Мамырбаю страстно захотелось стать артистом. Но теперь, повзрослев, он забыл об этом. Его тянет в родной аил, ибо сейчас честному, не боящемуся труда человеку счастье достается всюду, и жизнь одинаково может быть полна и в городе и в аиле. И поэтому едет он в родной аил, чтобы пасти овец, чтобы учиться заочно и стать зоотехником. Он хочет заменить в крестьянской работе престарелых мать и отца.
Керез заметила, что Мамырбай призадумался, но поняла так, будто он чем-то опечален. Решила отвлечь его от грустного и, веселясь, стала вспоминать, как однажды в детстве они вместе собирали цветы до позднего вечера, как уснули под кустом на склоне горы, как напугали родителей и как им потом за все это досталось. Мамырбаю история показалась забавной, он смеялся от души, вспоминая детство. Тот зеленый склон, на котором они когда-то заснули, теперь как бы с улыбкой поглядывал на них. Они перебивали друг друга, они торопились рассказать, напомнить, где тогда находились их юрты, как они отправились путешествовать, где побывали и где заблудились. Свободно говорили друг с другом, как старые близкие друзья. «Мальчишкой я не стеснялся ее, — вспоминал Мамырбай, — когда хотел, прямо заходил к ним в дом, звал ее играть. Да, нисколько не стеснялся. Иногда даже бил ее, если ссорились. Она плакала и убегала и обещала, что после этого никогда больше не будет со мной играть, но скоро забывала свою обиду и снова приходила в наш дом. И опять мы, взявшись за руки, отправлялись к роднику. Но теперь я почему-то стесняюсь Керез. Разве смог бы возразить ей? Взгляд ее обжигает… Если стою рядом с ней, не могу оставаться спокойным, душа моя трепещет, не способен связать два слова. Может, я влюблен в нее? Или все оттого, что я еще слишком молод? Говорю, молод… Разве очень молод джигит, если ему уже двадцатый год? Видно, просто я недостоин ее. Другие ребята ведь нисколько не стесняются Керез. И даже шутя начинают бороться… Нет, но ведь и я сам не стесняюсь других девушек. А вот с ней… Может, это все оттого, что мы вместе выросли и сблизились, как родные…» Мамырбай поглядел на Керез. А она, не замечая его взгляда, смотрела на горы и словно бы вся уже была там. Сейчас она показалась Мамырбаю удивительно прекрасной. Ветер, налетевший с запада, теребил локоны ее волос — похоже, играл с ней, дергал за подол платья. А девушка не замечала ничего, задумалась… казалось, мысли ее утекают далеко-далеко вместе с шумными водами реки Талас… Откуда мог знать джигит, о чем она думала…
Некоторое время Керез стояла молча, а потом чуть обернулась к юноше, словно собираясь что-то сказать. Мамырбай так и подумал, что вот сейчас она заговорит и он узнает, куда улетели ее мысли. Он ждал, что услышит о чем-то далеком — ну хотя бы вон о тех облаках, что медленно проплывают над вершинами гор: казалось, девушка внимательно разглядывала их. И в это время Керез вдруг спросила:
— У тебя есть любимая девушка, а, Мамырбай?
Мамырбай некоторое время растерянно молчал. Он подумал, что если скажет «нет», то уронит себя в ее глазах, мальчишкой покажется, и ответил:
— Есть.
Керез побледнела, но затем ее лицо озарилось улыбкой. Она коротко взглянула на Мамырбая, и взгляд ее должен был означать: «Ну-ка посмотрим, каким бывает джигит, который полюбил девушку». И тут же, как бы убедившись, что никаких изменений во внешности Мамырбая влюбленность не произвела, она отвернулась. Да, Мамырбай не переменился, зато вот сама Керез… она тут же отдернула свою руку, которая чуть касалась его руки. Мамырбай почувствовал это и уже раскаивался, что сказал так необдуманно. Теперь надо было искать выход, исправлять неловкость. Керез и сама почувствовала, что, наверное, не надо так резко…
— А где же эта твоя девушка? — мягко спросила она.
— Не знаю… — ответил Мамырбай, глядя в землю.
Эти слова можно было понять двояко. С одной стороны, как признание: «У меня нет никого», а с другой стороны — «Я потерял ее». Во всяком случае, Керез немного смягчилась — и внимательный Мамырбай сразу это почувствовал. «Видно, все же она ко мне не так уж плохо относится, — заключил он. — Чего же она тогда? Нет, правда… Почему она тогда убежала в свое общежитие, бросив напоследок: «Несчастная та будет, которая выйдет за тебя замуж». А ведь все началось с той девушки, ее подруги, с шутки. Подруга спросила меня, женат ли я? Я в тон ответил, что не женат, но могу жениться на ней. Пожалуй, поэтому Керез так и сказала мне… оказывается, приревновала меня к своей подруге. Но я ведь никакого отношения к ней не имею, просто пошутить решил, та ведь сама пристала ко мне с вопросом, а Керез восприняла по-своему. Да, но почему же она ревнует? Или влюбилась и старается не показать? А вдруг действительно полюбила, а? И правда! А я-то не замечал ничего — вот разиня!» Тут мысли в голове Мамырбая окончательно запутались. И отчего-то Керез сделалась еще ближе, показалась еще прекраснее. Теперь Мамырбай смотрел на девушку откровенно влюбленными глазами. И Керез, видно, почувствовала… Она запела что-то, потом подхватила чемодан и побежала. Так, бегом, она спустилась к берегу реки Талас.
Река в эти дни широко разлилась. Время от времени быстрые ее воды выбрасывают высокие пенистые гребни и тут же подхватывают их, бурля, уносят дальше. Река злится, торопит свои грязные, рыжие воды и гложет и без того худые свои берега. Грызет, лижет, бьет, бодает их… Река тащит с гор камни: некоторые она оставляет пока про запас, другие несет дальше, перекатывая с боку на бок, то захлестывая, скрывая в воде, то снова выталкивая наверх.
Время близилось к полудню. Талые воды с гор, ручьи, дождевые потоки — все это с шумом сливалось в реку, делая ее течение еще более мутным, но и более сильным… Что бы там ни говорили — все же река была по-своему красивой. Эх, где те дни, когда я ходил вдоль ее широкого течения с удочкой в руках! Только опустишь крючок в воду — и тут же вытаскиваешь поблескивающую маринку! Да, воспоминания эти еще свежи, увлекают Мамырбая. Он остановился, жадно глядит на воду и думает: «Эх, мои бы удочки сейчас!» Он даже забыл о Керез, которая невдалеке удивленно вглядывалась в верблюжье седло, лежащее на берегу и подмываемое водой. Смотрел, не мог оторвать глаз Мамырбай от бурлящих вод Таласа.
Голос Керез отвлек его от воспоминаний.
— Помнишь тот мост, Мамырбай? — девушка махнула рукой в сторону узкого раскачивающегося мостика выше по течению.
Мамырбай глянул, засмеялся:
— Как не помнить! Я все-таки на два года был старше. Мне тогда уже исполнилось семь, а тебе всего пять.
— Да, и я отказывалась, а ты пристал: «Пойдем поиграем на том берегу». И тут ты увидел через реку тюльпан. Закричал — «цветок, цветок», побежал по мосту, а я за тобой. Не знаю, почему ты упал, только увидела, как падаешь…
Мамырбай подхватил:
— Я обернулся посмотреть, боялся, чтобы ты не свалилась в воду, и у меня закружилась голова. И потерял равновесие…
— А я ужасно испугалась, когда ты упал. Помню только, как плеснула вода, когда и я свалилась. Не помню, сколько времени прошло… Открыла глаза — я на коленях у матери.
— Если бы не Андрей, мы тогда погибли бы, а?
— Он так торопился тогда вытащить нас — влез в воду прямо в одежде. Бедный, не вернулся с войны. Говорят, погиб перед самым концом, уже под Берлином был ранен осколком бомбы. Товарищи его передали — даже раненый, уже умирая, продолжал звать вперед. Его дочь сейчас учится в Москве, да, Мамырбай?
— Она в этом году должна получить диплом, хочет приехать сюда. А знаешь, я никогда не забуду один случай, который приключился с Андреем во время войны. Помнишь Азиза? Так вот — его отец Салкандай оказался дезертиром. И случилось так, что сразу в одну ночь пропали две колхозные коровы. За коровами смотрела женщина по имени Сакина; муж на фронте, пятеро детей мал мала меньше. Участковый милиционер составил акт — она перепугалась до смерти — и уже собирался передать дело в суд. Если бы не дети, так и посадили бы ее в тюрьму… И вот тогда Андрей выручил ее. Я до сих пор помню, как он собрал всех охотников аила и в ночь отправился с ними в горы. Я тогда уже соображал кое-что и услышал, как взрослые говорили — «появились басмачи». Я знал, что басмачи были плохие и что они не жалели людей. Вместе с охотниками ушел и мой отец. Мать, боясь за отца, так и не ложилась в ту ночь, я тоже потерял сон. Андрей знал в наших горах все, вплоть до заячьих нор. Он вывел людей к цели как раз в тот момент, когда у дезертиров на огне варилось мясо краденых коров. Ты этого помнить не можешь… их привели в полдень. Трое их было. Оказалось, они сбежали из Кара-Балта. У всех были ружья, лошади, мало того, они захватили с собой даже одеяла — для тепла. Охотники привели их со связанными за спиной руками. Предводителем был Салкандай, двое других совсем молодые парни. Салкандай подбил их дезертировать, — мол, «война не скоро кончится, весь народ погибнет, а мы сохраним свои души», — и те двое послушались. Салкандая расстреляли. Отец его был выслан как кулак на Украину, там и умер. А Азиза воспитал родственник, он теперь и фамилию другую носит. В то время, когда привели дезертиров, мы с тобой играли на холме Жиналыш-Добо. Когда народ с криками бросился смотреть на них, ты испугалась и бросилась бежать… добежала до своего дома и только тогда обернулась. В том году твоя мама сшила тебе теплый чапан из красного ситца. А на мне была шуба, порванная на спине. И твой чапан казался мне ужасно красивым. Мне тоже хотелось такой же… время тяжелое было, военное, какие тогда вещи — ничего не было, не видели ничего… да и ребенок был еще. Сколько я надоедал матери, чтобы она сшила мне такой же чапан, как у тебя. Мать уговаривала меня: «Ты разве девчонка, чтобы носить красное?» Потом твой отец вернулся с войны, без руки вернулся. Я помню его — очень хороший человек был и умел разговаривать с народом. Знаешь, Керез, почему тот холм назвали Жиналыш-Добо (Холм собрания)?
— Не знаю. Все так говорят.
— А-а, тут тоже своя история. Кажется, это было летом сорок четвертого года. Да, в сорок четвертом. Случился джут[38], и почти весь скот погиб. Три года войны, постоянная нужда, а тут еще джут, легко ли это… Помню, каким худым был тогда скот. Травы нет, корма нет. Коровы от голода мычат, ребра выпирают. Отец твой только что вернулся с фронта — и месяц, как был председателем. С утра до вечера мотался по хозяйству. Чего только не приходилось ему выдумывать, чтобы спасти скот. Он даже уговорил школьников, чтобы они в горах сжали серпами траву. Мы пошли, собрали траву с того склона, где сошел снег. Когда работаешь вместе со всеми — хорошо, мы старались и в один день набрали большой стог травы. Эту траву посыпали солью и давали скоту — говорили, будто так лучше усваивается. А потом, когда пошла трава и скот немного отъелся, случилась большая беда. Помнишь, ты тогда испугалась коровы, у которой распухло брюхо от травы, — она мучилась, вытаращила глаза. Я еще долго пугал тебя — таращил глаза, как та корова, помнишь?
— Да, а потом однажды каждый дом наполнился мясом. Это ведь тогда, когда у коров, у одной за другой, распухало брюхо и они дохли?
— Тогда. После дождя выгнали на склон тридцать коров, и у всех от тамошней травы раздуло брюхо. Так глыбами и лежали — подохло четырнадцать коров… из них семь были племенные. Видно, присоединились к стаду во время пастьбы. Если бы твой отец не вступился, хозяева коров разорвали бы пастуха на части… В бригаде, которая работала за рекой, не было порядка. Люди не выходили на работу, большей частью отлеживались дома. Некоторые, как сурки, подбирались к амбару, воровали зерно. А когда подохли коровы, люди, видно, отчаялись — на другой день никто не вышел на работу. Хотя — кому выходить-то было: старики, старухи, женщины да дети… один-два инвалида, вернувшиеся после ранений с фронта. Молодых парней — ни одного.
И вот, помню, с рассветом весь аил поднялся, с шумом двинулся в сторону холма Жиналыш-Добо. Я, конечно, пошел со всеми. На холме привязан был и блеял испуганно здоровенный бурый баран. Рядом — мешок с мукой. Отец твой, заложив руки за спину, ходит возле мешка и барана, сзывает народ. Собрались все, кто мог ходить. Зарезали барана, мясо сразу положили вариться. Еще — два полных казана лапши. Каждый из дома прихватил свою посуду. И все, весь аил наелся в тот день. Твой отец говорил, чтобы делили справедливо, невзирая на возраст. Он говорил, что война сравнивает все возрасты, что нужно мясо делить поровну, и таким образом все присутствующие насытились. Да, вот что значит во время войны хоть один раз поесть досыта…
После того как все наелись, твой отец начал говорить. Как сейчас помню — говорил он о войне. Сначала люди плакали, потом отец сказал что-то такое, что они стали смеяться, и в конце концов душа и тело каждого наполнились энергией. Видно, отец твой был искусным оратором… Да, оказывается, тогда не хватало людей, и поэтому не могли провести дезинфекцию стада. Когда твой отец шагнул со словами: «Кто со мной — дезинфицировать овец?» — один старик, не помню уже кто, поднялся с места, отряхнул чапан и сказал: «Эй, сынок, пока мы еще живы, ты можешь не работать руками. Лучше будет, если станешь направлять нас». Вслед за ним зашумели и вскочили остальные. В один день закончили дезинфекцию. И после этого ни одна душа уже не звала на работу людей из этого аила — выходили сами. А того старика пригласили и сказали ему, что назначают бригадиром. Да, такой вот был твой отец, так знал людей, так знал дело… С помощью одного барана и одного пуда муки он завоевал авторитет у целой бригады, смог повести за собой целый аил.
— Да, и я помню, как на холме собралось много народу, отец в шинели, сложив вдвое камчу, размахивал ею и говорил о чем-то. Кто-то из старших дал мне сваренное баранье ухо, и я его уплела.
— Не прошло и месяца после этой сходки на холме Жиналыш-Добо, и отца твоего убили. Ночью он объезжал отары, и со стороны впадины Уч-Эмчек его застрелили. Ах, тогда весь аил потерял покой, то одного вызывали в правление, то другого. Моего отца три дня продержали и выпустили… Но не смогли узнать, кто убил. Я помню, как твоего отца привезли и положили в конторе. Накрыли окровавленной шинелью. Лицо закрыли красной тряпкой. Твоя мать как будто застыла — стояла у его изголовья, две женщины поддерживали ее под руки. Не было в аиле человека, который не плакал бы. Смотри, как быстро проходит время, тебе уже восемнадцать. Твоя мать стала Героиней Труда.
— Оказывается, и плохое и хорошее остается в памяти. Я помню смерть моего отца. О-о, тогда очень много собралось народу. Понесли на кладбище. И кто-то, только не мама, нес меня на руках. Принес к самой могиле. Я очень хорошо видела, как отца положили в яму. Откуда я могла знать, что отец теперь навсегда останется лежать под землей, а я ждала, что он вернется. Помню, когда начали засыпать его землей, мать закричала: «Керез! Бедная Керез! Ведь твоего отца закапывают! Ведь твой отец умер! О несчастная, ведь ты теперь осталась сиротинкой!..» Зарыдала в голос, потом потеряла сознание… Меня унесли домой, сказав: «Ребенок может напугаться». Я не могла понять происходящее, не понимала, что навсегда лишилась отца.
— А потом, Керез, помнишь, как твоя мать стала чабанить, помнишь первый год? Ты ведь тогда уже была школьницей. Ой, пусть не повторится такое никогда! Все всполошились, весь аил, услышав, что на дворе у Буюркан несчастье. Какой глубокий был тогда снег! Овцы лежали по всему двору, еще немного — и все позамерзли бы. Их ведь только что постригли, поэтому не могли перенести мороз. Твоя мать еще неопытна была, а старший чабан, старый Шалпык, — это он оплошал. Почему не загнал стадо в теплые сараи, когда начал идти снег? Сколько тогда погибло овец!
— Двадцать три. Наши дорогие одноаильцы тут же разобрали замерзших, а вместо них дали здоровых. Если бы народ аила не сделал этого, мать пошла бы в тюрьму. Если уже все говорить, чего только не довелось маме перенести, когда ухаживала за овцами. Однажды отморозила ноги, в другой раз — щеки. С утра до вечера не знала покоя… только и видишь, как бегает, хлопочет… Ради своих отар готова и ночью не спать.
— Когда мы прибежали к вам, ты уже была дома. Твои старенькие валенки промокли, ты сняла их и сушила у огня. Овцы заполнили весь дом, обе комнатки. Некоторые уже отогрелись и повеселели, некоторые — видимо, их только загнали сюда — еще дрожали от холода, жались к огню. От спин у них шел пар… Мне так жалко тогда стало тебя: волосы разлохматились, сама продрогшая. Ты, видно, очень устала, загоняя овец в дом. Мы все сразу начали сгонять замерзающих овец со снега в тепло, а они уже почти и двигаться не могли. Помнишь, ты тогда заболела, Керез?
— Такое разве забудешь.
— И еще один случай — тоже не могу забыть. У нас в доме были гости, и с вашей стороны послышались крики, а только что подали мясо. Мы все повскакали и бросились к вам на помощь. Ого, какой храброй показала себя тогда твоя мать! Черт возьми, оказалось, что волк не смог перепрыгнуть через забор, сплетенный из колючего тростника, и, отчаявшись, решил пробить себе дорогу лапами и мордой, да и застрял в ограде. Твоя мать схватила его за хвост и держала так, пока не подоспеет к ней помощь… Да, матерый волчище был… отец мой зашел спереди и убил его. После этого волки долго не беспокоили нас… Чего только не пережили мы, да, Керез? А твоя мама, она храбрая!
— А иначе какой же это животновод?
— Ой, Керез! Посмотри-ка! Мост! И когда его построили, а?
Мамырбай только сейчас заметил впереди новый мост — обрадовался. Подхватил оба чемодана, побежал вниз. Керез смотрела ему вслед, любуясь — то ли силой его — бежал с чемоданами в обеих руках, то ли задором… Ей было приятно смотреть на него; ощутив это, она задумалась. «Почему я все время хочу видеть его, быть рядом с ним? Если не вижу его, не говорю с ним, мне будто чего-то не хватает. Почему меня не тянет к другим юношам? Ведь он мне ни одного комплимента не сказал, не стремится сблизиться со мной. Может, я не так понимаю его выжидательные взгляды? Да и смотрит ли он с ожиданием? Разве только на меня он так смотрит? Может, у него привычка так смотреть. Правда, он на всех так смотрит. Разве правильно понимать его взгляд как ожидание моего ответа и выдумывать, что он любит меня? Любит… Не похоже на него, что он может полюбить девушку. Смотри, как бежит вприпрыжку. Больше обрадовался мосту, чем мне. Ох, что же это со мной, что за глупости думаю! Разве плохо, что он обрадовался… Он радуется всякой хорошей новости — и прекрасно, это ведь от доброты души!»
Она стала спускаться следом за Мамырбаем. В руке крепдешиновая косынка, тянется по земле. Ее красное бархатное платье издалека бросается в глаза. Вот она начала прыгать вниз с камня на камень. Еще маленькой девочкой точно так же бегала вместе с другими аильскими ребятами, — тогда спорили, кто ни разу не поскользнется, спускались наперегонки. Стоило кому-нибудь оступиться, его поднимали на смех. И сейчас она вспомнила старую игру, вспомнила детство, и чем дальше она бежала, тем веселее делалось у нее на душе. Она бежала, не боясь упасть. Платье ее развевалось на ветру, и казалось, это не девушка, а какой-то необыкновенный язычок пламени прыгает с камня на камень. Она что-то кричала и кокетливо смеялась — словно серебряный колокольчик слышался! Казалось, смех этот в серебристом речном водовороте рождается, казалось, вся окружающая природа прислушивается к нему и краше становится. Сколько сердец, услышавших ее, заставила Керез петь, заставила вздохнуть облегченно, помолодеть, обновиться… Каждый ее звонкий возглас, каждый прилив смеха, как целая пропетая песня, задевал душу. Две девушки, стоявшие на другом берегу реки, посмотрели завистливо…
Но Керез не видела их, не смотрела — просто получала удовольствие от того, что бежит. Она даже не чувствовала, что смеется. Если бы почувствовала, услышала себя, — может, сама удивилась бы своему необыкновенному смеху… Смех, он ведь разный всегда! Разве так будешь смеяться, если встретишься с кем-нибудь другим! Разве то же прозвучит, когда станешь смеяться где-то в другом месте! Может быть, девушка смеялась так для Мамырбая? Может быть, это был самый лучший смех в ее жизни? Заметил это Мамырбай? Или нет?
Новый мост оказался очень большим, широким. Вольные, игривые, избалованные свободой воды Таласа собрали в одно место, сжали опорами, и теперь они возмущенно шумят под пролетом. То ли родник бьет игриво из-под земли, то ли хмельное бозо[39] вскипает и пенится. Река играет, река шумит и грохочет, река перекатывает большие, размером с барана, камни и бьет их друг о друга.
Да, очень обрадовался Мамырбай, увидев новый мост, но, присмотревшись, хозяйским глазом заметил и недостатки. Он думал: «Конечно, мост большой, широкий, но почему пожалели для него бетона? Укрепили его только камнями? Между камней — саман… Разве выдержит в половодье? Вон отвалился камень… А может, все камни, что с грохотом перекатываются в потоке, отвалились от моста? Нет, нет, если бы так — разве мост устоит хотя бы день? Но все же ясно — построен он не очень-то прочно. Видно, экономили деньги, экономили цемент. Для чего такая экономия? Почему нельзя построить мост так, чтобы не на один год, а на долгие годы? Ведь он служит не одному колхозу, через этот мост проходит на Сусамыр весь скот Таласской долины. Смотри-ка, уже сейчас начали обваливаться невысокие перила, а что будет через год? Да-а, перила, это видно, недостаточно крепкие. Когда пойдут отары, овцы и ягнята скопятся здесь, получится затор, свалят друг друга в воду… Почему же не сделали, кто мешал оградить как следует?» Мамырбай пожалел, что так хорошо начатое дело завершили кое-как. К тому же он заметил, что мост построен низко. Он увидел, что волны иногда захлестывают мост. Сейчас воды не так много, а что будет, когда она наберет полную силу? Тогда, видно, зальет мост?
Мамырбай даже не обратил внимания на девушку, которая облокотилась рядом с ним о перила.
Хоть бы ты услышал легкое дыхание красивой девушки рядом с тобой, Мамырбай. Эй, Мамырбай, Мамырбай… Да, бывают такие мгновения, когда ты не слышишь душевных слов, не замечаешь взгляда, говорящего тебе… а если и замечаешь, то не чувствуешь, что кроется за этим… Полюбишь ли ты когда-нибудь девушку?
Но кому ж, как не тебе самому, решать в таком деле, Мамырбай, суди сам. Я не уговариваю тебя, чтобы ты женился, не подталкиваю, чтобы полюбил. Самая сложная наука — познать сердце человека. Откуда, думаешь, я узнал, что у тебя на сердце? Скажу, не скрывая, Мамырбай. Я видел, как три года назад ты впервые приехал в город. Ты шел от вокзала вниз по бульвару Дзержинского и наивно разглядывал каждый каменный городской дом. На тебе были черные дешевые брюки и пиджак, большие, не по размеру, сапоги. Я повстречался тебе, когда ты шагал, немного растерянный, надвинув на лоб тюбетейку и повесив на плечо аильскую сумку — курджун. Возле тебя в тот день не было Керез; оказывается, она приехала раньше. Даже называя свое имя, когда я спросил тебя, как зовут, желая удостовериться, что передо мной именно ты, давний знакомец, ты заикался и вертел головой, отвлекаясь на городские диковины. На голове твоей не было шапки черных кудрявых волос, ты был наголо острижен машинкой. Ты, наверное, помнишь: я спросил, откуда ты приехал. Ты обрадовался. Ты сказал, что сам из Таласа, и силился вспомнить, где и когда видел меня. И правда, мы уже встречались с тобой — много лет назад. Ты вез меня из вашего аила до райцентра, ехали мы полдня. Была зима. Машин после войны было мало, ездили на лошадях. Я заночевал в доме одного колхозника; наутро, после чая, вышел во двор и увидел коня, запряженного в сани. В санях лежала старая желтая залатанная шуба. Хозяин сказал мне: «Садитесь, поедете в этих санях», и я стал дожидаться возницы. Хозяин снова попросил меня устроиться в санях, я хотел узнать, когда же приедет возница, — мне объяснили — вот он, сидит. Посмотрел, в санях, оказывается, ты: укутался в желтую шубу. Ты тогда показался мне ростом с воробья. Я пожалел тебя. «Как же поедет такой малыш? Замерзнет ведь!..» — начал было я, но присутствующие успокоили: «Это же Мамырбай! Его мороз не берет, он может босиком пробежать вот по этому снегу! Да он сам вызвался поехать — говорит, в районе ему нужно купить тетради. Так что не беспокойтесь!» Я бы, конечно, ни за что не согласился, чтобы ты вез меня, если бы ты пожаловался, что трудно, или страшно, или холодно, — но ты упрямо твердил одно: попросился ехать сам. Ты тогда рассказал, что твой отец вернулся инвалидом с фронта и сейчас вы живете трудно. Ты работал, чтобы помочь отцу. Я даже выспросил тогда у тебя, сколько трудодней ты получил за год. Оказалось, во время денежной реформы ты обменял свои пятьсот рублей. О многом мы тогда поговорили… Да, еще помню, я просил тебя, чтобы ты укрыл шубой ноги, но ты храбрился: «Мне мороз не страшен. Во время войны мы с матерью пасли кобылиц в зимнюю пургу по глубокому снегу, в горах. Разве это мороз!» И вправду, тебе тогда не было холодно, первым замерз я, хотя и был тепло одет. Ты довез меня до районного центра, еле добрались туда к полудню. Я купил тебе тетради, ручки, накормил тебя в столовой. Собрался дать тебе десять рублей, но ты ни за что не хотел взять. «Неужели возьму с вас плату?» — говорил ты… И вот — прошли годы… Ты стал джигитом. Первый раз, когда я увидел тебя, ты был разговорчивым мальчишкой; позже, приехав в город учиться, ты показался мне растерянным аильским пареньком… но теперь, повзрослев, ты хранишь свои тайны глубоко в душе, ты не меняешь своих решений. Эх, Мамырбай! Погляди на Керез — она стоит рядом с тобой! Она смотрит на тебя.
Наверное, это волнистые волосы Мамырбая, выбившиеся из-под кепки, привлекли сейчас внимание девушки, показались красивыми — Керез пристально рассматривала Мамырбая, почти в упор. Прядь волос свободно билась под ветерком; широкий лоб, прямой нос. Рукава рубашки закатаны, видны крепкие как камень мускулы. Теперь он смотрит не на воду — на одинокий дом под зеленой крышей, за рекой, на окраине аила. Видно, вспомнил далекое. Может быть, суровое время войны: как раз на этом месте тогда стояла их хибарка. Ушел на войну отец Мамырбая — дом остался без хозяина: двери расшатались, стекло в окне треснуло… хуже, чем в курятнике. Отец Мамырбая собирался перед войной строить дом и уже привез все нужное, да все так и осталось лежать: кирпичи постепенно размокли под дождями, доски пошли в печь, рамы мать Мамырбая Калипа обменяла на муку. Когда отец вернулся с фронта, первой его заботой было поставить дом. Поставили — вот он теперь красуется за рекой, только жить в нем не жили. Все лето, всю зиму — с овцами среди елей в горах. А под зеленой железной крышей временно живет учитель, приехавший из города. Мамырбай не пойдет туда сейчас.
— Если везде так будем останавливаться, сегодня не доберемся до дома. Ты же знаешь, Мамырбай, на Кыз-Булаке может быть ливень. Вспомни — когда бы ты ни приезжал в Талас, всегда попадал в дождь. Что ты там нашел, в реке, на что смотришь? Ну, пойдем же. Ты, видно, сегодня не собираешься идти дальше, да?
— Это у меня с детства, Керез, как увижу эту реку, ее течение, не хочу уходить… Особенно когда разольется в половодье. Мне тогда кажется, что и мои силы прибывают, как эта вода. Чего только нет в ней, Керез, — песни юношей и девушек кроются в ней, тайны стариков таятся в ней. Это ведь крылатая вода, она испокон веку движется только вперед, она несет в себе столько всяких историй… В ней и жизнь, и любовь в ней, и сегодня, и завтра. Временами мутная, временами прозрачная, то бурная, то тихая — она и напоминает мне жизнь, она как любовь.
— Любовь, говоришь, Мамырбай?
— Да, напоминает любовь. Любовь такая же беспокойная. Я, по правде, еще не любил… Но если полюблю, любовь моя будет такой же бурной, как эта река. Я буду любить свою девушку всем своим существом.
— Как эта река… а ты не заметил, какой цвет у воды?
— Нет, Керез, я не о цвете говорю, я говорю о течении! Молодость должна кипеть! Любовь должна сметать все препятствия!
— Разве можно так говорить — мол, я любил бы вот так или иначе. Я слышала, что крепко любит тот, кто глубоко в душе прячет свою любовь! Настоящая любовь — не напоказ, ее таят в душе. Чем восклицать: «Я тебя люблю! Ты моя душа! Я не могу жить без тебя!» — лучше доказать на деле, что ты действительно так относишься к человеку. Я сейчас больше всего думаю о маме — каково ей… мы только вдвоем с ней… она ходит за отарой — сам знаешь, сколько сил нужно…
— У меня умер брат… моим родителям сейчас очень тяжело…
— Ну, хватит, Мамырбай, давай уйдем отсюда.
— Уйдем? Пожалуй, пора.
Мамырбай посмотрел на запад, на гору Буркут-Уя, возвышавшуюся над соседними вершинами. Черная скала с оголенной макушкой, как страшное видение, тянула ввысь свою шею. Туча давно уже заволокла ее вершину. Южнее — гора Укок, похожая на сундук. Там, видно было, уже моросит. Недаром говорят, что если в других горах дождь прольет одну каплю, то на горе Укок он прольет их тысячу. Местные жители с утра до вечера поглядывают на ее вершину. И никто не говорит, что гору заволокли тучи, все говорят — там идет дождь. И теперь туча закрыла вершину, наверняка хлещет дождем, да и не мелким уже — настоящий ливень бушует. И все же — все же нигде больше нет такой плодородной земли, как на горе Укок. Там, наверху, гладкая равнина, половодье ковыля. Сколько ни копай кетменем, никогда железо не ударит в камень, ковыльная степь во все плоскогорье. Кобылица, отпущенная пастись там, через месяц пугается собственной тени. Коровы, насытившиеся там, могут спать спокойно. Овцы, пущенные сюда с утра, пройдут немного и, отъевшись, тут же и улягутся. Поэтому летом каждый животновод старается отстоять это место для себя… Но ковыльная степь, оказывается, тут не всегда была — сохранилось рядом русло старого арыка, едва видное теперь, спустя века. Арык берет начало как раз от Кыз-Булака, извивается от ручейка к ручейку. Ясно, что когда-то здесь была вода, возделывали зерновые культуры. В какие времена это было, кто провел арык? И не скажешь сейчас. А как было бы хорошо — расчистить бы русло, вывести воду к Укоку, подчинить себе больше тысячи гектаров плодородной земли. Горное плато увидело бы белые веселые домики колхозников, скотные дворы, засверкало бы яркими огнями электричества — люди не захотели бы уйти с такого прекрасного места.
Мамырбай смотрел на плоскогорье Укока и вспоминал. Много лет назад его отец Субанчи пас колхозный табун кобылиц и расположился у ручья подле Укока. Как-то он послал Мамырбая пригнать кобылиц, которые ушли на Укок. Начался проливной дождь… Мамырбай добрался до плато, нашел табун — жеребец по имени Марс повел кобылиц за собой. Но на склоне горы он укусил коня, на котором сидел мальчик. Конь вскинулся, испуганно заржал. Мамырбай в страхе соскочил с коня, бегом бросился к дому. После этого случая, завидев Марса, он далеко обходил его.
Вспомнил, и ему стало смешно: «Надо же — испугался жеребца… а еще сын животновода, а!»
Небо на западе стало быстро чернеть. Девушка увидела, испугалась. Похоже, им предстоит добираться под дождем. Попробовала разыграть Мамырбая:
— Давай сегодня заночуем на зимовке, завтра пойдем дальше, а, Мамырбай?
— На зимовке? И не стыдно будет, если останемся здесь? А что завтра скажем? Мол, испугались дождя и поэтому не пришли? Нет, как раз мы не должны здесь оставаться, нужно идти. Может быть, в такой ливень в аиле понадобится наша помощь? Да и разве мы с тобой не попадали под хороший дождь? Не бойся, Керез, доберемся быстро. Сколько раз вместе бегали между Кыз-Булаком и зимовкой! Не бойся, что чемодан тяжелый, — я сегодня для тебя вьючный верблюд. Дай еще десять таких чемоданов, понесу без слов. Пошли! — Мамырбай подхватил чемоданы. — Есть в народе пословица: «Намокшая одежда — высохнет, не бойся воды». Если нас по дороге захватит дождь — ничего, смоет с одежды пыль. Пойдем!
Керез молча последовала за ним. Они шли, навстречу им звенели ручейки: Орус-Булак, Кырк-Булак, Уч-Эмчек, Кичине-Кетик, Камышту-Башат, Шамалду… За ними — Кыз-Булак, но до него еще надо добраться. Посмотри-ка на запад! Надвигается нечто брюхатое, черное, с дождем, с ветром. Каждому нравится свое, у каждого есть любимое: у одного — огонь, у другого — вода, у третьего — цветы, или птицы, или животные… Мамырбай больше всего любил дождь. Любил бегать под дождем — еще с мальчишечьей поры: носился под дождем без шапки, закатав штаны до колен. Не слушал родителей, повторявших: «Замерзнешь, иди домой!» Уговоры лишь еще больше подзадоривали его. Пропадал на улице допоздна и никогда не простужался. И теперь, видя надвигающийся дождь, Мамырбай радовался и ждал, чтобы дождь пошел как можно скорее, и в предвкушении удовольствия даже расстегнул ворот рубашки.
Аил остался позади.
Сначала начали падать крупные капли, словно блестящие белые камешки. А затем такой густой припустил дождь, казалось, смоет все с земли — и камни, и траву. И уже как бы вдогонку за наступающей пеленой воды пошли сверкать молнии, загремел гром. Вот извивающаяся полоса, похожая на золотого дракона, разорвала на миг хмурое лицо тучи. Следом раздался страшный треск. Где-то у подножья горы отозвалось грохотом… Кто знает, может, это опрокинулась вершина Буркут-Уя, которую не достанешь и взглядом…
Мамырбай вслушивался в дыхание дождя, душа его радовалась, тело исполнилось силы, он шагал, хоть и в гору, все скорее и даже не замечал тяжести чемоданов. Похоже, что он в эту минуту забыл о Керез, — та поднималась следом за ним и постепенно отставала и чуть не плакала в отчаянии, что не может догнать его. Она, конечно, могла бы крикнуть: «Подожди, я устала», но обида мешала — как это он сам не замечает, да и, с другой стороны, скорее хотелось уйти от дождя, спешить действительно надо было. Мамырбай же летел подобно путнику, завидевшему воду.
Дождь усилился, крупные капли ударяли по листьям, казалось, били в миллион малюсеньких барабанов. И, словно неслыханная мелодия, рождалась песня, восхваляющая дождь. Мамырбай обрадовался больше прежнего, с удовольствием подставил лицо дождю, захлебывался, кричал в упоении:
— Лей, преврати каждый ручеек в реку! Преврати озера в моря! Разбуди треском молний траву!
Тут он оглянулся — и не увидел девушки. Сердце его упало. Правда, через мгновение он разглядел сквозь пелену дождя — она осталась далеко позади. Что-то у нее случилось с ногой, вроде сидит, держится за ногу. Не задумываясь, он бросился вниз, к ней, — чемоданы бросил, один из них раскрылся, белый зубной порошок просыпался на мокрую землю.
— А я и не заметил, что ты отстала! Покричала бы мне!.. Дай-ка посмотрю. Может, занозила колючкой. Здесь такие места, как будто заколдованные, — железные колючки растут. Ты же помнишь, сколько приходилось вытаскивать их, когда бегали ребятишками еще. Подожди, не вытаскивай сама! Да подожди же, давай я вытащу!
Мамырбай опустился перед девушкой на колени, взял ее ногу, стал высматривать колючку. И без того волнистые волосы его, намокнув, пошли крупными кольцами; казалось, что самый сильный дождь не проникнет до корней этих густых волос. Керез не могла оторвать взгляда от этой склоненной перед ней мокрой шапки волос, сердце ее размягчилось и млело, и она чувствовала, что Мамырбай отчего-то сделался еще ближе, чем прежде. Ей и самой очень хотелось этого, правда, она не знает почему. Как хорошо, что она занозила ногу! И пусть Мамырбай подольше ищет и не очень скоро вытащит колючку. А Мамырбай — он и не подозревал об этих мыслях девушки, он старался вытащить занозу поскорее, старался угодить. Заботился лишь о том, чтобы помочь девушке. Он же мужчина, отвечает за нее, должен доставить ее домой живой и невредимой…
— Готово. Вытащил. Маленькая, черная колючка. Вот, хочешь посмотреть? Но лучше не гляди. И как не стыдно ей, что ужалила тебя! Если бы я сам был колючкой, увидев тебя, лег бы плашмя и лежал так, не смея поднять головы. Я стеснялся бы, я бы вежливо склонял голову перед такими хорошенькими девушками, как ты. Проколола до крови, ай-яй-яй… но ничего, до свадьбы заживет, — Мамырбай ласково погладил своей большой ладонью узкую ступню девушки.
— Наверное, там еще одна колючка, все-таки болит. Посмотри получше, — последние слова девушка произнесла с особенной интонацией, чуть ли не нежно.
Мамырбай услышал, поднял голову — глаза девушки смотрели необычно ласково. Душу его охватило щемящее сладкое чувство. Он провел ладонью по маленькой ступне: на этот раз нога девушки показалась нежнее шелка, белее снега.
Девушка почувствовала новое в отношении к ней Мамырбая. Она тихонько высвободила свою ногу.
— Ну хватит, уже не болит. Ой, вся спина насквозь от дождя промокла…
— Пусть сгорит, испепелится колючка, которая воткнулась в твою ногу…
— Хватит смеяться, говорю, Мамырбай, оставь…
Керез с обидой это сказала — почудилась ей насмешка, чуть не издевка в словах Мамырбая. Мамырбай — а он хотел сказать красивые слова, да не получилось у него, — он растерялся. Девушка думала уже с беспокойством и неприязнью: «Зачем я поехала вместе с ним? Хорошо, если он на этом остановится, а то начнет и дальше свои ухаживания. Мое дружеское отношение он, видимо, воспринял как заигрывание с ним…»
Она быстро поднялась. Мамырбай почувствовал, что все как-то неловко, нехорошо повернулось: из шутки выходила ссора, он обидел Керез — она сразу как бы отдалилась от него. Скорее попросил прощения…
Дождь уже лил как из ведра. Капли, скатывавшиеся по лицу Мамырбая, казались девушке его слезами: она почувствовала, что парень искренне говорит, — и успокоилась. Слушая его, она теперь и удивлялась, и радовалась: никак не думала, что Мамырбай умеет говорить такие хорошие, такие сладкие для ее слуха слова — слова лились как песня, и она заслушалась. Теперь они поднимались рядом, держась за руки. Мамырбай связал вместе шнурками, перевесил через плечо туфли Керез и свои ботинки — дождь мгновенно смыл с них всю грязь.
Подъем пошел круче, и Мамырбай теперь не говорил ни слова — это тоже понравилось девушке. Она поглядывала искоса, как он шел, подставляя грудь дождю, словно песенный герой, — виделся сейчас девушке очень красивым. Странно — она будто бы понимала, о чем думал Мамырбай, хоть он и молчал. И ей казалось, что рядом с ним легко перенести не только яростный дождь, но и по-настоящему тяжелые дни. Путь, который обычно проходят за час, казалось ей, они теперь одолеют за какой-то миг. Струи дождя словно бы сделались теплыми, теперь девушка не жмурилась больше от испуга, когда сверкала молния и грохотал гром.
Поднялись к тому месту, где Мамырбай оставил чемоданы. Связал оба чемодана своим ремнем, перевесил через плечо. Один оказался за спиной, другой на груди. До чего же сильный Мамырбай; наверное, даже если он так целый день подниматься будет, и то не охнет! Счастье вошло в душу девушки. Она улыбнулась, довольная, как бы решив про себя, что настоящий джигит и должен быть вот таким. Родившееся было чувство обиды исчезло бесследно, подобно дождевой воде, уходящей в землю. Казалось, этот крепкий парень, что шагает сейчас с завернутыми до колен штанинами, мягко приминая зеленую траву большими мужскими ступнями и иногда поскальзываясь на мокром, рожден и взращен именно таким грозовым днем. С таким джигитом не пропадет никакой человек. Эти мысли увели мечты девушки очень далеко. И она уже не чувствовала ни хлещущих струй дождя, ни колючек, коловших ногу, ни камней… Она видела капли дождя, что впитывались в кудрявые волосы джигита, а потом скатывались по его щекам, по подбородку, по шее, — и ей казалось, что волосы Мамырбая — словно густая трава на джайлоо, а капельки влаги — это роса. Ах! Если бы в этот самый момент солнце разорвало тучу и засияло ласково, то можно было бы представить себе, что к каждой волосинке Мамырбая пристало по нескольку бриллиантов. Так блестит и сверкает чистое, как зрачок, озеро, когда над ним в полдень простирает свой свет золотое солнце.
О Мамырбай, сын дождя, сын воды, ливень все усиливается, а ты лишь выше держишь голову, все свободнее дышит твоя грудь. Сильный дождь не слепит тебя, тебе не приходится даже смаргивать воду с глаз — она не мешает видеть. Ты радуешься тому, что небо откликнулось на твою просьбу, ты доволен, как будто сам нарочно зазвал сюда дождь… Не будь дождя, кажется, и Мамырбай не сдвинулся бы ни на шаг. Теперь же, когда его желание исполнилось, когда дождь удвоил его энергию, ему даже и десять таких дорог не покажутся слишком далекими, трудными. Пройдет их хоть днем, хоть ночью. Он сделался веселым, он был как куст хлопка, жаждавшего и дождавшегося воды. Постепенно начал слышаться его голос. Керез знала о Мамырбае, что умеет петь, но ни разу не слышала его песен. Теперь же она жадно вслушивалась — ей хотелось, чтобы Мамырбай запел, хотелось услышать голос, который хвалили люди. А парень будто почувствовал страстное желание девушки — и запел голосом чистым, как дождевая вода, красивым, как душистый горный цветок. Каждая капля теперь сделалась словно бы частичкой его песни, и если бы не стало этого голоса, то и дождь не казался бы таким красивым, а скалы и горные вершины будто только и ждали этой песни.
«Склоны Ала-Тоо омыты дождем — они сверкают золотом и серебром. Взгляни на капельку, искрящуюся на травинке, — ведь это глаза девушки, которая влюбилась…»
Керез огляделась по сторонам. И правда! Все как в песне Мамырбая: капли на каждой травинке улыбаются, играют, будто ребята и девушки на гулянье, резвятся, бегают, борются друг с другом, падают и снова встают, сверкание их — словно живой блеск глаз. Трава, прибитая дождем, теперь поднялась, и это похоже на аплодисменты, на радость загадочной природы. Кажется, что весь мир вокруг создан сейчас из радости, кажется, что все вокруг — холмы, ручьи и склоны, деревья и кусты — поклоняется, покоряется, признает своей частью этих двух молодых людей.
Ущелье сделалось глубоким, стены его поднялись выше — и теперь началось самое интересное. Песня понравилась величавым скалам, тесно сгрудившимся над головой. Песня переполнила ущелье. Можжевельник и сосны на склонах впитывали в себя мелодию. Ущелье наполнилось молодостью. Казалось, не только растения, но и камни вдруг помолодели. Сделалось даже тепло. Да, эти громадные горы и камни по-настоящему завидовали сейчас девушке и джигиту. Двое молодых людей теперь были выше, сильнее этих гор — и горы, довольные, ласково смотрели на них. Казалось, они хотели сказать о том, как скучали, давно не видя Керез и Мамырбая. Казалось, песня размягчала, расплавляла их, казалось, все горы превратились в песню…
«Пой, Мамырбай! Твоя песня восхваляет жизнь! Пой о молодости, Мамырбай! Разве есть в мире что-то прекраснее, чище, чудеснее молодости. Пой звонче, Мамырбай! Пусть от твоей песни расплавятся, как свинец, эти черные скалы! Пусть твоя песня поднимется выше гор, пусть долетит туда, куда не долетят и крылатые птицы! Пусть вместе с дождем впитается в землю! Пусть дождем прольется на землю и освежит ее! Пусть будет благоухать твоей песней зеленая дубрава, она вырастет на этой обновленной тобою земле. Пой, Мамырбай! Пусть яркие огни песни пробьют тяжелые тучи, которые заволокли небо. Пусть твоя песня возвещает счастье! Эта пламенная песня, пусть она облетит земной шар, согреет и расплавит душу каждого! Пусть она покажет всей земле нашу светлую, чудесную жизнь! Пусть она расскажет о нас! Пой, Мамырбай! Пусть вселенная наполнится весельем и смехом!..» Видно, именно такие мысли, такие ощущения переполняли душу девушки, — она замечала, что вечерние сумерки потихоньку заволокли горы, она забыла, что замерзла, вымокла под дождем. Песня Мамырбая освещала их дорогу, поддерживала и увлекала вперед.
Но вот песня умолкла, и вокруг стало темно. У девушки перехватило дыхание: ей почудилось, что высокие скалы с обеих сторон вот-вот надвинутся и задавят и будто уже наклонились… а небо, само небо тоже сжалось как бы, сделалось ниже и меньше, и теперь все это начнет их давить со всех сторон…
Девушка заторопилась. Подошла поближе к Мамырбаю, встревоженно оглядываясь по сторонам, взяла его за руку. Все вокруг словно ожило, казалось, какие-то существа только и ждали наступления темноты и теперь, бормоча невнятное, спешили догнать их…
— Мамыш!.. — сказала испуганно девушка и уткнулась лицом в грудь Мамырбая. Голос ее прозвучал необычно ласково. Ах, где вы, дни, когда она будет повторять это слово не один раз, где ты, жизнь, в которой она сможет всегда опереться на него! Если бы она могла хоть иногда вот так слушать биение его сердца, она бы поняла, о чем поет сердце джигита…
Мамырбай тихонько погладил висок девушки. Сколько ласковых слов готов он сказать ей! Он ясно понимал, почему девушка потянулась к нему, и старался унять ее страх. Но как все же хотелось объяснить ее порыв не только страхом, но и чувством к нему… Нет, нет… Хоть они и стоят вместе, рядом, как одно целое, в эту темную ночь, он видит, как она далека от него, на недосягаемой высоте… она для него святая. Мамырбай понимает, что должен быть осторожен и внимателен, не сказать обидного слова, не задеть грубостью… Он думает, что стоит ему обидеть Керез, и она больше не захочет знать его. Он жалеет ее, видя, как она от страха прячется у него на груди. Он ругает себя — сам уговорил ее идти с ним, и вот их теперь настигли ненастье и ночь. Он хочет, чтобы она не беспокоилась, будто он нарочно все так подстроил, что он плохо думает о ней. Он поправил у нее волосы на виске, и как старший брат утешает обиженную в игре сестренку, так он начал успокаивать Керез:
— Это же всего лишь дождь… Ну шумит — и что? Перед закатом тоже шумел. А тебе кажется, будто какое-то живое существо дышит и шевелится. Ты как будто впервые только сегодня видишь такую ночь… Керез, что случилось с тобой, а? Помнишь, мы же раньше сколько раз сторожили с тобой до утра скотный двор — в такие же темные ночи с ливнями. Тогда были маленькие — все равно не боялись, чего же нам теперь бояться? Я с тобой, ничего не бойся! — Мамырбай крепко обнял девушку за плечи — почувствовал, что платье ее промокло насквозь. Он думал сейчас только о том, как бы согреть девушку, защитить, успокоить, — и все же нежные плечи ее, дрожащее от страха тело показались ему такими близкими, теплыми, родными — огонь охватил его, и казалось ему еще, что огонь этот родился и пришел к нему от девушки.
Слова его успокоили Керез, она овладела собой, оправилась от испуга.
— Дальше, наверное, не сможем идти. Темно, и я устала.
— Пошли, поднимемся к подножью вот той скалы! Там есть пещера, совсем как комната. Знаешь, гора — она всегда спрячет, укроет. Когда я остаюсь один в горах, где остановлюсь, там мне и дом. Чему только не научился во время войны, когда еще мальчишкой маленьким был… Детство не научит, проклятая война всему научила, да! Здесь, в наших горах, не осталось ни камня, на который не ступала бы моя нога, ни пещеры, в которой я не укрывался бы на ночь. Да что мне тебе рассказывать, ты ведь и сама все знаешь. А вот еще — мне тогда было лет двенадцать, кажется, — начал вспоминать Мамырбай об одном случае, а сам тем временем вел девушку за руку в сторону скалы. — Может, ты наденешь туфли? Смотри не разбей ноги о камень… Так вот — отец и мать ушли тогда на похороны, и я остался дома за хозяина. Кругом горы. Близко — ни одного жилья. Темная-претемная ночь. Я взял ружье — охраняю двор и скот во дворе. Вдруг собака наша начала заливисто лаять. Я кричу, чтоб отогнать волка, на кого же еще лаять сейчас собаке? Бегу с ружьем в ту сторону, где слышится лай. Нет, не уходит волк — наоборот, все ближе и ближе подкрадывается. А был туман, и в тумане — вижу — что-то чернеет. Ну, думаю, вот он, разбойник! — выстрелил из ружья. Выстрелил — и сам от толчка приклада свалился. Слышу чей-то голос: «Не стреляй!» Немного погодя подошел человек — оказывается, это председатель был. Хорошо, что промахнулся. Хотя как я там целился, просто выставил ружье вперед да и спустил курок — думал, что так и нужно стрелять. Потом, бывало, председатель как завидит меня, так обязательно шутит: «Не подстрели, охотник!»
Мамырбай пошел быстрее. Он держал Керез за руку и чувствовал, что девушка потихоньку дрожит. Может быть, оттого, что боится, а может, потому, что замерзла…
Мамырбай привел девушку в пещеру, большую, как комната. Здесь было еще темнее, чем снаружи, зато тихо: шум дождя остался за стеной. В пещере бились два молодых сердца, ее согревало пламенное дыхание двоих, и казалось, что пещера подслушивает, пещера радуется и чувствует, что наполнилась тем, чего ей не хватало весь ее долгий век, — жизнью, молодостью, теплом.
2
Мамырбай снял с себя рубашку, выжал. Девушка не видела его в темноте пещеры. Она достала из чемодана сухое платье — ей тоже надо было переодеться. Оба знали, что каждый из них открыл чемодан и достает сухую одежду, но притворились, что не слышат, не замечают. На мгновение у обоих как будто замерло дыхание. А потом оба легко вздохнули, когда надели сухое.
Мамырбай разложил свою мокрую одежду на камнях в пещере и уже принялся было искать в чемодане карманный фонарик, как вдруг над головой раздался страшный грохот — казалось, обваливается потолок пещеры. Сверху, мимо выходного отверстия, покатились камни — словно оторвалась и обрушилась вершина горы. Девушка вскочила с криком, Мамырбай обнял ее и ласково начал успокаивать — ему чудилось, он слышит, как колотится в испуге ее сердечко. Но тут голова девушки беспомощно склонилась — она потеряла сознание. Мамырбай включил фонарик, посветил: лицо Керез казалось мертвенно бледным, только губы вздрагивали. Руки повисли беспомощно, две толстые косы касались земли…
Мамырбай вытащил скорее из своего чемодана что попало под руку, постелил свою одежду, опустил на нее девушку, подложил ей повыше под голову. Накрыл ее своим пиджаком, шерстяным свитером. Больше не нашлось ничего подходящего… Он пожалел теперь, что отправил недавно с оказией свои теплые вещи. Хотя кто мог знать, что придется провести такую ночь в пещере!
Потом он выбежал из пещеры, подставил руки под шелестящие потоки дождя. Не успел и глазом моргнуть, как сложенные ковшиком ладони наполнились водой. Поспешил обратно, осторожно влил воду в рот девушки. Еще раз сбегал под дождь и опять напоил Керез. Минуту спустя девушка глубоко и порывисто вздохнула, открыла глаза. Словно в тумане увидела джигита с фонариком в руках — он растерянно глядел на нее; Керез еще не совсем пришла в себя и никак не могла понять, что с ней. «Где я? Почему — фонарик? Кто это с лохматой головой? Почему испуган? Я в больнице? Тогда отчего так темно кругом? И жестко лежать? На камнях я, что ли? Что же со мной случилось? Подожди-ка, я вспомню. Вот это… это ведь Мамырбай. А, да, ведь мы шли домой… А это пещера. Выходит, я потеряла сознание. Ну конечно — у меня потемнело в глазах, когда раздался тот страшный грохот… Что же это было?» — думала Керез. Подступила тошнота, но она сдержалась. Кружилась голова. Она закрыла руками глаза и отвернулась от света. Сознание опять оставило ее. Мамырбай не моргнул бы глазом, если бы вся гора обрушилась, — но тут он задрожал. Он звал девушку, упрашивал, умолял очнуться. Он вытащил из чемодана все, что там оставалось, и накрыл девушку, чтобы ей стало хоть немного теплее.
Проклятье дождю — как будто нарочно обрушил свою ярость на их головы! Хлещет так, будто где-то наверху целое озеро прорвало плотину; в ушах — сплошной шум, грохот.
В пещеру заносило порывами ветра водяную пыль. Больше всего Мамырбай боялся сейчас, как бы вода не залила пещеру. Если начнет заливать — выхода воде отсюда нет. Огромные камни у проема наружу не сдвинешь, хоть растряси всю гору.
Он посветил фонарем и увидел, что вода потоком стекает сверху и загораживает выход из пещеры, несет с собой камни, вырванные с корнем ели и можжевельник… Темнота, ни зги не видать. Как тут выйдешь наружу — легко можно угодить под какой-нибудь камень, так и погибнуть недолго — если не думая подставить голову.
Луч фонаря упирался в стену воды, преломлялся в ней, — казалось, что не может пробиться сквозь нее на ту сторону. Потом Мамырбай обследовал пещеру — до сих пор не было минуты разглядеть ее хорошенько. Вон там, в дальнем углу, кто-то разжигал костер — там лежат несколько поленьев, обгоревшие чурки, запасено немного травы. Настоящая удача — Мамырбай увидел и обрадовался. Достал из чемодана спички… Трава, видно уже давно лежавшая здесь и хорошо подсохшая, вначале затрещала, задымила, но потом пошла гореть. Пещера заполнилась дымом, но его вскоре вытянуло наружу. На разгоревшийся костерок легли поленья, сухие ветки можжевельника. Полетели искры, пламя разгорелось и стало лизать и без того уже закопченный потолок пещеры. Керез по-прежнему лежала без сознания. Изменилось лишь одно: в отсветах костра все ее тело, казалось, было из золота, и даже косы переливались золотыми нитями. Золотая девушка лежала перед глазами джигита. Это превращение, это чудесное видение заставило его затаить дыхание. Он подошел к ней ближе и стал глядеть на нее. Ее груди, напоминающие клюв куропатки, при вздохе поднимали платье и ясно обозначались. Видно, тепло костра согревало ее, от высыхающих волос понемногу начал подниматься легкий пар. Мамырбай наклонился, послушал, как бьется ее сердце, — услышал как бы перестук копыт скакового коня, выигравшего соревнование. Но все же заметно было, что щеки Керез чуть зарумянились, жизнь возвращалась к ней. Мамырбай поправил у нее под головой скатанную рубашку — и в этот момент сознание вернулось к девушке, она открыла глаза. Сразу узнала Мамырбая, а тот приподнял ее голову. Она села, тихонько отвела за спину косы, которые, спутавшись, лежали у нее на груди. Попыталась встать — но слабость еще не оставила ее. Еле шевеля посиневшими губами, сказала:
— Опозорилась я перед тобой, а… Не обвиняй меня, Мамыш. Вдруг, ни с того ни с сего… Мне показалось, гора покачнулась, у меня голова закружилась и потемнело в глазах, я чуть не умерла. Ты мне дал воды, да?
— Набрал в ладони и принес. Ты попила, стала свободнее дышать.
— Если бы не ты, я бы умерла…
— Зачем так говоришь.
— Это твоя тень на стене, да, Мамырбай? Какая большая! Я сразу не могла понять, где я. Еле вспомнила, что мы в пещере. Ого, гляди-ка, а дождь-то еще сильней припустил! — Тут она посмотрела на костер и улыбнулась успокоенно.
Мамырбай обрадовался — ну наконец-то опять все хорошо! Подал девушке руку:
— Вставай, погрейся у огня. Надо же, я, оказывается, накрыл тебя всем, что ни попало под руки. У меня чуть сердце не разорвалось, когда тебе стало плохо. Не пугайся, это мои брюки, — объяснил Мамырбай, увидев, что девушка удивленно откинула какую-то вещь, укрывавшую ей ноги. — Не для красоты, ради тепла. Хоть и брюки… ха-ха-ха! Будет, что рассказать потом — правда? — как когда-то употребили брюки вместо одеяла… смешно, да? Ведь это и есть жизнь. Пещера, блеск огня, проливной дождь, темная ночь… Две тени на стене, огромные, как чудовища… И это мы — Мамырбай и Керез, ха-ха-ха! Кто видел такое, а кто и не видел! Расскажи это ребятам из большого города, им покажется сказкой! — Говоря все это, Мамырбай помог Керез подняться, приблизиться к огню. — Интересно, когда видишь самую разную, неожиданную жизнь. В Москве метро, большие-большие многоэтажные дома, а здесь — свое. Я не был в Москве, но, судя по кино и по рассказам, там красивей, чем в раю. И все же я скучал бы по Кыз-Булаку, если бы мне пришлось учиться в Москве и провести там пять лет жизни. А ты, Керез?
— Хороший человек всюду отыщет красоту, плохому же и красивые места кажутся плохими. Человек сам украшает землю. Возьмем, к примеру, поселок нашего колхоза «Советский». Каким он был десять лет назад? — начала говорить Керез, удобно примостившись у огня. — Жили тесно, собрания, помнишь, проводили в коридоре школы. А теперь — Дворец культуры, красивые, удобные дома. Мы любим Москву. Но любим и свой поселок. Ведь родная земля — самое дорогое.
— Вот ответь, Керез, как мы, животноводы, должны жить дальше? Возьмем наш колхоз. Шестьдесят тысяч овец. Сколько человек нужно, чтобы смотреть за ними? Если в среднем считать по пятьсот голов в каждой отаре… да некоторые пасут по две отары. Тогда приблизительно будет сто отар. Если для каждой отары потребуется два человека, то для ста отар сколько? Двести человек, да? Но это ведь мало — только по два человека. Если по три человека считать будем, получается триста человек. Да еще прибавь, какая помощь нужна во время окота, — сама знаешь, сколько человек нужно на одну отару. А ведь с каждым годом окоты увеличиваются. И вот если все вместе посчитать — сколько же не хватает людей, в одном нашем аиле сколько не хватает! Хорошо — сейчас стали думать об этом. Много молодых ребят едут работать в аилы — вроде нас, хотят стать животноводами. Но ведь людям нужно создать условия…
— Условия мы должны сами создать, Мамырбай. До каких пор будем умолять, выпрашивать!
— Да — и баню мы тоже сами будем строить? А кто же тогда будет смотреть за скотом? Не лучше ли создать специальную бригаду, которая строила бы дома? В нижнем поселке есть — в горах нет. Почему животноводы должны обходиться без бани? Ты скажешь, что живут те, устраиваются как-то. Это правда. Но все же по-настоящему было бы хорошо, если бы люди были обеспечены обслуживанием везде, даже в самых отдаленных уголках. Было бы желание, сделать можно. Построили бы, скажем, баню где-нибудь посреди вот этого ущелья — чабанам близко, в поселок спускаться не надо. И не только баня нужна — а как быть с детьми, особенно с маленькими? Почему не построят детские ясли — я видел, в некоторых колхозах есть. Возьмем, к примеру, детей моего умершего брата. Как матери одной справиться с ними? Того успокоишь, другой заплачет, и так с утра до вечера она нянчится с детьми, а за скотом и смотреть некогда…
— Бухгалтер колхозный говорит, мол, построим им баню, а они не захотят с пастбища спускаться к ней, далеко, скажут.
— Пустые слова. Ведь даже в нижний поселок спускаются; если ближе построить к пастбищу — разве плохо? Твой отец — вот кто был энергичный человек! Помнишь, как он старался построить баню в тяжелое военное время? Даже тогда успевал подумать обо всем… Когда его убили, баня в поселке была наполовину построена. Я совсем маленький был — а как сейчас помню, на одном собрании он вот что сказал: «Пока не избавимся от грязи, не избавимся от болезней. Без бани не будет чистоты. Болезнь, с одной стороны, и есть болезнь, а с другой — это грязь. Где грязь, там паразиты, а где паразиты, там и болезнь. Борьба с паразитами — это борьба за жизнь. Если фашизм считаем заразным, вредным, то и паразиты то же самое». Мужчины на фронте, он собрал несколько женщин, подростков и сам вместе с ними начал готовить кирпичи. Я своими глазами видел, как он волок по земле единственной рукой тяжелую форму с глиной. О, такие люди встречаются редко. Он ведь был председателем сельсовета — и разделял горе каждой семьи, которая получила похоронку. Помогал вдовам, семьям фронтовиков… Война давно кончилась, теперь уже не надо скрывать: старался выделить кое-что из общественных средств семьям, оставшимся без поддержки… Скота в колхозе совсем мало осталось, и все же он выдал по одной, по две козы, снабжал молоком. Но на одном только кислом молоке долго не протянешь. Так он — дело было весной — собрал однажды людей и послал ловить рыбу. Представляешь — перегородили на время русло реки. Народ не пожалел на это даже свои кошмы. Завернули в них камни, перекрыли русло. Вода пошла в ущелье. Сколько рыбы плескалось там! Помню — таскали ее полными мешками. Вот тогда все в аиле досыта наелись, наелись рыбой. Если бы он был жив, твой отец, наш колхоз стал бы на ноги и разбогател. Даже во время войны на трудодень в других колхозах нашего района выдавали меньше, чем у нас. Некоторые колхозы не только не могли выдать на трудодни зерно — даже не выполняли план. Это правда. А у нас приходилось по килограмму на трудодень. Твой отец говорил, я помню, что в каждом ущелье построим дома, чабаны зимой должны жить в теплых домах. Да ведь и построили в верховьях два дома, правда? Это все по плану твоего отца.
— До нижнего поселка все-таки далеко, в кино оттуда не спустишься. И об этом надо подумать.
— Правильно говоришь, Керез. Люди то на джайлоо, то в поселке. Летом в этих ущельях кроме лошадей пасут овец и коров, и большинство животноводов живут здесь. Конечно, здорово было бы, если бы где-нибудь здесь построили Дом культуры, показывали кино. А в Кыз-Булаке можно было бы построить дом отдыха — ведь такие красивые места встречаются редко. Жалко, что мой отец откочевал в другое ущелье. Будь моя воля, я бы ни на вершок не отдалился от Кыз-Булака.
Тут Керез, отогревшаяся и пришедшая в себя, взглянула случайно туда, где лежала без сознания на разложенной на камнях одежде, увидела брюки-одеяло, так и оставшиеся на земле, — и легко засмеялась.
Мамырбай, поняв, что Керез чувствует себя лучше, что страх прошел, тоже засмеялся. Молодой их смех осветил пещеру особым светом, и сам огонь, как бы поддерживая этот радостный смех, разгорелся еще сильнее. Разгорелся словно бы специально для них двоих. Казалось, он старается отдать им все свое тепло, признает их, покоряется им. Он будто говорил: «Посмотрите-ка на меня! Я никогда не болею, не знаю усталости. Меня боится всякая нечисть. Все мое тело — молодость. Учитесь у меня — так и нужно жить! Будьте для всех желанными, как я. Приносите пользу миру, как я. Давайте миру свет и тепло, будьте светом жизни. Не гасите пламя жизни, наоборот, пусть ваша жизнь будет горением!» Джигит и девушка, улыбаясь, смотрели на огонь — казалось, они внимают его наставлениям. Девушка потянулась к огню, джигит видел — огонь и девушка понравились друг другу, они вот-вот сольются в одно, словно бы девушка родилась из огня… или огонь — часть ее существа?
Искры над огнем… искры в глазах девушки — они смешивались, сливались… Мамырбай закрыл глаза, не мог больше смотреть. Открыл — увидел: девушка поправляет поленья в костре — и от этого в пещере беспорядочно носятся, летают искры.
Мамырбай следил за движениями Керез — на душе у него потеплело. Как хорошо, что они сидят с ней вместе возле костра, греются, разговаривают, смеются. Как хорошо, что исчезли темнота и удушающий страх, как хорошо, что Керез радуется огню. И постепенно беспокойство и страх овладевают его душой: ведь Керез была без сознания… а вдруг бы она не очнулась!.. А он, здоровый, сильный, он подзадорил пойти с ним девушку, единственную, любимую в семье, подзадорил пойти через горы, где сейчас одни только хищники бродят… и вот она не вынесла потрясения испытания страхом! О, случись что, тогда ее мать Буюркан — ведь дочь ее единственная радость, — и Буюркан не поднялась бы с постели… Не приведи бог увидеть такое несчастье!..
Керез, как бы угадав мысли Мамырбая, тоже вспомнила о матери. Она думала о том, что мать ее, Буюркан, после смерти отца всегда старалась держаться достойно, затаила горе в себе, не подает вида, как трудно ей пришлось одной. При рождении Керез дали другое имя — Кулкан. Когда же отец ее, Кара, погиб от руки неизвестного убийцы, Буюркан очень горевала. Побледнела, осунулась, увяла, как скошенная трава. Но в конце концов жизненная энергия, с избытком отпущенная ей природой, взяла верх, подавила болезнь — она вернулась к жизни. И вот как-то она выбрала день, зарезала козленка, пригласила гостей и после угощенья попросила присутствующих выслушать ее. «После моего мужа осталось наследство, память о нем, не дающая забыть его. Теперь я прошу звать вас всех мою дочь не Кулкан, а Керез»[40]. Все, кто пришел в дом Буюркан, шумно одобрили ее решение. И с тех пор девочку стали звать Керез.
Буюркан очень любит свою Керез — девушка это знает. Стоит ей пожаловаться хоть на легкую головную боль, как мать обо всем забывает, думать ни о чем не может, беспокоясь о дочери. Когда два года назад Керез начала жаловаться на сердце, мать сразу встревожилась. Повезла ее в город к профессору. Тот осмотрел, назначил лечение и наказал еще раз приехать к нему, но девушка не приняла тревогу матери и слова врача всерьез, не поехала. Не верилось ей, что у нее, такой молодой, и что-то серьезное с сердцем. Решила, что со временем само пройдет. Только что-то оно не проходит… Сегодняшний — уже третий приступ в этом году. И самый сильный… Девушка объяснила Мамырбаю, что это просто от усталости, больше ничего не сказала. Не хотела лишний раз беспокоить близких. Подумала снова о матери: если вдруг опять случится с ней такой припадок, да у матери на глазах, — у той от страха за нее разорвется сердце… Невольно вспомнила день после похорон отца. Мать, одетая в черное, сидела на постели, отвернувшись к стене, и плакала. Маленькая Керез только что проснулась — начало светать, — увидела плачущую мать, перепугалась и громко заплакала. Мать обняла ее, приговаривая сквозь рыдания: «Бедная моя… ты только теперь поняла, что умер твой отец!.. Твой отец остался лежать в сырой земле… Теперь ты сирота, я вдова… одни мы… Как ты будешь расти без отца, моя бедная!» Буюркан думала, что маленькая дочь оплакивает смерть отца. Керез же, не сознавая совершившегося, продолжала плакать, звала отца и, чувствуя недоброе, просила скорее повести ее к отцу… Да, совсем маленькая была, не понимала, когда ей говорили: «У тебя нет отца». Пришли соседи, увидели плачущих мать и дочь, обняли Керез и тоже заплакали. Слезы девочки никого не оставляли равнодушными. Дни эти в памяти Керез остались как сон, как нереальное. Однажды мать повела ее к могиле. Показала земляной холм и сказала сквозь слезы: «Вот твой отец… лежит здесь». Девочка сразу вспомнила, что на этом месте люди закопали ее отца. Она заплакала, стала просить, чтобы отца вытащили обратно… Еле ее успокоили, уговорили, мол, скоро отец сам вернется, и с тем увели домой. Прошло несколько дней, малышка снова начала спрашивать, почему нет отца, снова плакала. Тогда мать обманула ее, сказала — наверное, приедет завтра, на белом коне, вон из-за того холма… На следующий день Керез выбегала навстречу каждому верховому… Потом она решила, что кто-то забрал у ее отца белого коня, поэтому-то он и не едет… А мать ее, Буюркан, когда вспоминает о смерти Кара, глаза ее наполняются слезами. Убийца до сих пор не найден, возмездие не настигло его. Тогда же, сразу после похорон, она указала властям на нескольких подозрительных людей, да прямых улик не было… Дело до сих пор не закрыто…
Когда Буюркан потеряла Кара, она была молода. Ее красота и молодость привлекали многих. После поминок начали наезжать то с одной стороны, то с другой. Соседки советовали: «Выходи замуж да и живи себе спокойно… У тебя ведь дочь еще маленькая. Одной тяжело. Не будет человека, который присматривал бы за вами, — дочь твоя вырастет беспризорной». Разные женихи были — и хорошие, и похуже, но Буюркан всех принимала холодно. «В чьи глаза заставлю глядеть свою единственную дочь, память единственного моего, незабвенного Кара? Где смогу прижиться, если пойду с ребенком? Коль не дано мне судьбой жить с моим Кара, к чему мне искать еще кого-то? — так решала и так решила Буюркан. — Чем связывать себя с нелюбимым человеком, жить неспокойно, переносить унижения, лучше взять себя в руки, выстоять и самой воспитывать своего ребенка. Кара один раз мне встретился, другой раз не встретится. Рана-то наша заживает, да место умершего никто и никогда не займет». Керез сама слышала такие слова от матери. Когда мать говорила людям эти слова, она, радуясь, обнимала и целовала ее. Мать понимала ее радость и ласкала маленькую, приговаривая: «Никуда я не пойду, милая моя, единственная. Испугалась, да?»
Керез помнила время, когда мать была молодой и красивой, с румянцем на щеках… но за эти годы мать постарела до неузнаваемости. Керез думала о том, сколько трудностей и лишений перенесла мать, и гордилась — ведь как высоко оценило государство работу матери: ей присвоили звание Героя Социалистического Труда. Гордилась ею и любила ее. Сравнивала ее с другими, с матерями подруг, — и мама казалась ей лучше, красивее всех… Думала о том, кто она сама по сравнению с матерью, и была недовольна собой. «Достойна ли я носить имя своих родителей? Что я сделала? Что хорошего и полезного? Что — не для себя, а для народа? Ну — училась. Помогала выращивать скот. Теперь еду работать. Закончила школу, хочу, как и Мамырбай, стать зоотехником. Буду работать… нет — чего я достигну? Суть в этом. Если просто пасти овец… и это немало, ведь ухаживать за ними ой как нелегко! Но одно дело — лишь честно работать, терпеливо сносить все невзгоды и трудности… мне этого мало. У меня свои мечты и планы: как только приеду, все устрою по-новому, поставлю дело еще лучше, чем мама, добьюсь успехов. Я должна поддержать честь нашей семьи. И потом — не зря же я так серьезно готовилась, обивала пороги библиотек, читала, записывала — везу с собой несколько тетрадей. Конечно, наука идет вперед, и то, что было хорошо вчера, сегодня устаревает… ведь животноводство, если говорить серьезно, это по-своему наука…» — так думала Керез.
Мамырбай не мешал — тихонько любовался ею. Две длинные ее косы спускались по плечам на грудь, шевелились в такт каждому движению девушки. Мамырбаю казалось — они повторяли движения, игру огня, будто две черные струйки пламени. Девушка согрелась, раскраснелась — лицо ее сделалось будто светлее и нежнее: видно, это огонь отдал ей часть своих красок, лучей, жизненной силы. Она почувствовала взгляд Мамырбая, посмотрела — и смущенно опустила глаза.
Мамырбай сел поближе, взял ее за руки — посмотреть, согрелась или нет. Девушка незаметно, краем глаза глянула и стыдливо улыбнулась. Дрогнула тихонько бровь… Мамырбай увидел — и его сердце дрогнуло в ответ… Господи, неужели же это она совсем недавно, испугавшись грохота воды и камней, лежала здесь без создания? А теперь сидит у костра, улыбаясь беззаботно, как у себя дома… Да есть ли на свете что-то сильнее огня? Все оживляет огонь. Жизнь человека — это и есть огонь. Возле него человек весел, жизнь кажется интересной, красивой, молодой…
А девушка теперь уже смеялась… Вспомнила, что захватила с собой поесть. Поднялась со своего места, открыла чемодан. Достала сверток с едой — бараниной, сыром и хлебом. Запах хлеба приятно защекотал ноздри, оба почувствовали голод. Усталости как не бывало! Что за время — молодость! Один лишь вид хлеба уже прибавляет сил!
— Бери, Мамыш, — сказала девушка, пододвигая к джигиту угощение. Голос ее звучал почти нежно.
Джигит не стал стесняться: взял хлеба, мяса, с аппетитом принялся есть.
— Ой, да мы же можем вскипятить воды! У меня с собой жестяная кружка. Какой же я растяпа, Керез! Сейчас я тебе вскипячу чай. Вот такой чай! — он показал большой палец; быстро достал из чемодана кружку, набрал в нее дождевой воды, поставил на огонь. — Ешь побольше, Керез. Ты ведь проголодалась, да? Прошла усталость? Сейчас ты выглядишь на все сто! — Он увидел, что девушка никак не справится с хлебом и сыром, достал из кармана перочинный ножик. — Дай-ка, сделаю тебе бутерброд. Ну вот, теперь другое дело — бери. Я могу прожить без еды три дня. А ты как терпишь? Ты, наверное, никогда не ешь как следует, — говорил он, подавая девушке аккуратно приготовленный бутерброд.
Девушка подумала, что Мамырбай, хотя и может показаться неуклюжим, ценит красивое, тонкое. Старательно нарезанные сыр и хлеб сделались для нее вдвое вкуснее, она с удовольствием принялась есть.
Насытившись, они осмотрели свое временное пристанище.
— Ты ведь знал про эту пещеру, бывал здесь раньше, да? — спросила Керез.
Мамырбай обрадовался этим словам, глаза заблестели, заискрились, взволнованно стал рассказывать.
— С пещерой связана такая история! — Сел поудобнее, мечтательно глядел на игру огня. — Говорят, в давние времена из Чат-Базара, что по ту сторону Таласа, бежали парень и девушка, Карып и Джамал. Простые оба, дети чабанов. Говорят, очень любили друг друга. И вот, когда Джамал хотели отдать в жены байскому сыну, они бежали из родных мест и спрятались как раз в этой пещере. Была погоня, долго искали их — они же, боясь ярости бая, не выходили отсюда и будто бы вместе умерли здесь от голода. Старики это место почитают как могилу… Видишь тряпочки у входа? И сейчас некоторые набожные люди приходят сюда, проводят здесь ночь, в знак уважения оставляют кусочки материи — будто у могилы святого. Рассказывают, будто они, Карып и Джамал, каждую пятницу вечером появляются у нижнего родника, и вроде бы слышны бывают их голоса. Чего только не придумают люди! Наверное, чтобы поддержать молодых, которые любят друг друга и повторяют красивую легенду. Да, и еще, будто бы этот самый бай, виновник смерти Карыпа и Джамал, в скором времени упал с коня и умер. Правду, видно, говорит пословица — «кто убьет надежду у молодых, тот сам погибнет».
Керез слушала рассказ Мамырбая, и у нее душа болела — так сочувствовала бедным Карыпу и Джамал. Будто стояли перед глазами — гонимые, худые, истощенные, умоляющие помочь, выручить, защитить от жестокосердных преследователей…
— Бедняги… — Керез вздохнула. — Может, и правда умерли в этой пещере. Ни еды, ни одежды, ни постели… Страшная тайна у этой пещеры… Я раньше не слышала о них… Бедная Джамал — верно, хорошая была девушка, а?.. И знаешь — они, наверное, считали себя счастливыми, хоть и не суждено им было жить вместе. Мама говорит, что у кого настоящая любовь, у того и счастье настоящее.
— Ты знаешь… — Мамырбай задумался, как бы объяснить свое понимание достаточно просто. — В человеке, я думаю, заключено много возможностей любви — ведь бывает не только любовь парня к девушке… и чем больше этих возможностей, тем человек счастливее. Вот мы с тобой — оба любим родную землю… Я тебе говорил, что люблю город, но в то же время не хочу расставаться с аилом. Люблю его запахи и звуки. Люблю смотреть на веселую беготню ягнят на зеленых лужайках… И еще — как спящий на зеленой траве жеребенок время от времени вздрогнет, поднимет голову и заржет… а кобылица, его мать, безмятежно пощипывавшая травку невдалеке, встревожится, подойдет… Джигит, который не умеет любить жизнь, не сумеет по-настоящему любить и девушку… Да, Керез, говорят, что ваши предки пришли из Кемина, это правда? — вдруг неожиданно спросил Мамырбай.
Вопрос нарушил течение мыслей девушки. Тут ведь целая история была — история ее отца и матери.
— Да. В старые времена — говорят, что будто бы, обидевшись на какого-то родственника, откочевало несколько семей. Многие наши родственники остались в Кемине, я их еще даже не видела. И писем от них не получаем. Вроде бы даже очень близкие родственники есть, но… Ведь когда не общаются, то и близкие становятся чужими. И наоборот — совсем чужие люди, если часто встречаются, становятся ближе родственников. Со многими таласцами мы близко сошлись, они для нас ближе родных. Мы даем им, что у нас есть, они дают то, что у них есть… все время ходим друг к другу. Моя мама никогда не забывает о соседях. Как только сготовит что-нибудь повкуснее, сразу зовет их к нам. Ты знаешь, наверное, на всем свете нет человека добрее моей мамы. Помнишь Барктабаса, который пасет быков рядом с нами? Цепляется за нас, как срубленное дерево, падающее с горы вниз… Так мама старается не обидеть даже его. Ой, до чего же хитрый он, этот Барктабас! Восьмидесятилетние старики, его ровесники, уже и с места не могут подняться, а этот летает — как семечко одуванчика… не знает его душа покоя, с утра до вечера…
— А правду говорят, что Барктабас раньше был баем, только овец пять тысяч голов имел? И вроде бы до того жаден был, сам ходил за быком — и все-таки не нанимал себе работника. Правда ведь — похоже на него?
— Кто говорит это? Пустое! Чего он только не вытворял, когда нанимал себе работников! Оказывается, пять батраков на него трудились — и он их бил по очереди! Представляешь? Сколько же в нем жестокости! А после того как сослали его — и вернулся — такой тихий, такой внимательный сделался, не смеет поднять глаз… Еще не успеешь слово сказать, а он уже бежит исполнять. Говорят про него, что еще молодым как-то поехал он продавать скот в Андижан, посмотрел базар — и очень удивился: «Это и есть богатство? Такое богатство не стоит даже моей ноги». Купил шелку, обмотал свои ноги шелком, как портянками. Да, и кумыс, говорят, пил он только самый лучший. Когда раскулачивание началось, его одним из первых сослали на Украину. А дальше ты и сам ведь знаешь, вернулся он во время войны. Ты же был старше меня… а я только слышала от людей…
— Я помню, Керез. В аиле прошел слух, что вернулся Барктабас. Тогда еще повторяли, что чем больше барсука бьют по спине, тем он сильнее становится… Приехал без всякого имущества, но быстро обзавелся скотиной. Видимо, деньги у него были. Да, я помню, говорили еще, что раскулачивал его твой отец Кара. И, покидая аил, Барктабас проклял отца.
— Мама рассказывала, что Барктабас встретился с моим отцом в день возвращения, встретился и сказал: «У нас с тобой нет никаких счетов ни на том, ни на этом свете. Я не держу на тебя обиды за то, что сослали меня. Время было такое. Мы дети одного народа, одного аила, что было — то минуло, теперь давай жить дружно. Мне, оказывается, суждено было все-таки, хоть и через много лет, вернуться из чужих краев, отведать соли на родной земле. Вот я и приехал. Теперь я, как говорится, снова со своим народом, на родной земле, с вами. Оказалось, слеп я был, многого не знал, не понимал — теперь у меня открылись глаза. Я даже и не жалею, что был сослан, наоборот, я говорю спасибо правительству за то, что научило меня ценить жизнь». Очень он быстро вошел в жизнь аила. Куда ни посылали его работать для колхоза — все исполнял с готовностью и старательно. Пока был на Украине, научился строить дома — сам поставил себе в аиле дом в две комнаты. А потом и женился.
— Я думаю о его жене, Мамырбай: как она вышла за него, такого старого? Говорят, была самая красивая девушка в аиле.
— Да, и у нее был жених, чабан из соседнего колхоза. Помню его — видный был, с лица румяный, только прихрамывал на правую ногу. Заехал как-то к нам: пропал конь у него… Конь позже нашелся, кто-то отвел его в горы и отпустил там… Потом, помню, бедные отец и мать его так горько плакали у конторы, все приговаривали: «Как будто выхватили сына из наших рук… ждем, вот сейчас приедет, вот сейчас вернется… оказывается, убили…» Тогда этого Барктабаса таскали к следователю больше месяца. Но он, выяснилось, во время убийства больной лежал дома — тогда его оставили в покое. Иначе бы подозрение пало на него.
— Оказывается, он болел и тогда, когда был убит мой отец. Соседи его подтвердили, что да, правда, несколько дней, как не встает с постели. А мама все время обвиняла его…
— Я помню — на другой день после похорон твоего отца он пришел к вашему дому — оплакивая погибшего. Видно, все же не он убил. Сама подумай: человек перевидал столько всего — и хорошего, и плохого, — конечно, решил начать новую жизнь, честно трудиться.
— Ладно, давай больше не будем о нем… И без того в пещере…
— Плохо, что ли? Посмотри! Ливень не унимается. А здесь тепло, сухо, постель будет сейчас готова. Ты — Айчурек, я — Семетей…[41]
— Еще и смеешься надо мной, да? Может, нарочно завел меня сюда?.. Ты, оказывается, нечестный человек! И зачем я послушалась тебя… С виду такой скромный, а на самом деле… Постыдился бы, Мамырбай. И я поверила тебе…
На глазах у Керез заблестели слезы, она отвернулась. Мамырбай растерялся: надо же было так неудачно пошутить — обидел девушку. Он стоял рядом с ней, жалел ее — еле сдерживался, чтобы не обнять… Попробовал заговорить о постороннем, но девушка молчала с неприступным видом.
Честно говоря, вначале Керез думала лишь в шутку припугнуть Мамырбая, но постепенно ее веселость ушла. Она увидела все как бы заново, со стороны — увидела мокрого, в помятой одежде, усталого Мамырбая — и неожиданно для себя самой и вправду рассердилась — то ли на юношу, то ли на себя, то ли на все это неожиданное приключение. Раздражение искало выхода — она поднялась и стала собираться в дорогу. Еще минуту назад не думала о том, чтобы уйти, — это решение как-то само по себе возникло в ней. Быстро уложила свои вещи в чемодан, закрыла его. Мамырбай видел, что останавливать ее сейчас, уговаривать, просить — бесполезно, и не мешал ей. Девушка направилась к выходу из пещеры; снаружи было темно и страшно. Казалось, сделай только лишь шаг — и неизвестные враждебные силы набросятся на тебя. Упрямая, она все-таки попробовала было шагнуть в ночь, ее окатили потоки дождя — и она тут же попятилась, боясь, что поскользнется в темноте. «Мама!» — вскрикнула она от страха. Мамырбай только и ждал этого — подбежал и обнял девушку.
— Разве можно выходить в такую ночь! Пойдем к костру… Разве не слышишь, сколько камней несет сверху вода, — неужели хочешь подставить голову? Я ведь пошутил только насчет Айчурек и Семетея, не обижайся, Керез. Что делать, если не умею говорить красиво, как другие… Сразу выкладываю, что у меня на душе… И на собраниях я такой, ты ведь знаешь. Если скажу два слова, одно выходит неловким, резким. Что поделаешь, Керез, таким я родился. Бывают люди скользкие как мыло, и сами такие, и слова у них такие. Я им не доверяю. Честный и чистый человек никогда не скрывает своих мыслей, Керез. Ну, извини, если слова мои показались тебе грубыми. Не обижайся на меня, Керез. Пусть я стану собакой, если думал обидеть тебя, — я ведь хотел просто рассмешить, порадовать тебя — и вот что получилось. Нельзя же нам обижаться друг на друга здесь, в грозу, в пещере, — даже смешно… — Мамырбай захлопотал около девушки, взял из ее рук чемодан, поставил на старое место, разжег побольше огонь, усадил ее поудобнее. Суетился, заботился… изо всех сил старался вызвать улыбку на лице девушки. И вот наконец девушка смягчилась, глаза сощурились, легонько усмехнулась. На душе у джигита отлегло. Обрадовался, засмеялся, сел напротив девушки у костра, запел тихонечко.
Голос его заполнил пещеру и, словцо невидимые крылья, поднимал девушку все выше и выше. Ее как бы мягко качало в каком-то особенном пространстве, где были только свет костра и ласковая песня джигита, говорившего в песне то, что никогда бы не решился сказать обычными словами. Он говорил девушке о своей любви. Его любовь была такой же яркой и горячей, как пламя костра в темной холодной пещере, такой же нежной, как его песня… И слова его семенами падали в сердце девушки и пускали сладкие ростки. Ах, как он поет… хоть и не умеет красиво говорить, но какую прелестную песню поет ей… Девушка вспомнила о своей недавней обиде — и раскаялась, пожалела, что так обидела парня подозрением. «Совсем не грубый он… очень хороший», — всплыла и утвердилась мысль. Джигит и не подозревал об этом, а если бы догадался, то, наверное, бросился бы плясать от радости…
Девушка сидела, наклонясь к костру, две ее косы свесились вперед. Ветер залетал в пещеру, играл с пламенем, бросал языки его близко к девушке. Огонь, не подступая вплотную, казалось, слегка поглаживал волосы Керез — вот-вот накинется на нее. Мамырбай встревожился.
— Не подставляй волосы огню, пересядь подальше. — Он отодвинул ближнюю к девушке пылающую ветку, подошел и осторожно откинул свешивавшуюся косу за спину девушки. Ждал, что она скажет что-то, остановит его, но девушка молчала. Тогда он так же бережно откинул вторую косу. Тихонько провел рукой по спине девушки, словно бы проверяя, высохло ли наконец ее платье. Керез опять не остановила его. — Кажется, ты уже согрелась, да? Летний дождь, он ведь теплый, от него не может быть вреда. К утру ливень кончится, пойдем к нашему Кыз-Булаку, будем радоваться возвращению, праздник будет… — Джигит тихонько обнял девушку. На этот раз она прямо и доверчиво посмотрела ему в глаза, улыбнулась. Мамырбай верно понял: на душе у нее прояснилось, обида прошла.
Он и сам теперь внимательно и с доверием смотрел на девушку. Сейчас ему открылась в ней новая, незнакомая прелесть — не видел, не понимал, не мог оценить раньше. Каждый взлет ресниц, ласковый взгляд поднимал в его сердце бурю огня. Казалось, разорвется оно сейчас, бедное его сердце. Еще ни одна девушка не награждала его такими ласковыми взглядами, не приходилось ему видеть такие чудесные глаза.
«Как же я раньше не замечал? Слепой, не выделял ее среди множества красивых девушек, а она, оказывается, единственная. Иногда, случалось, она подходила ко мне, а я убегал. Почему так поступал? Мальчишкой был? Или же ее считал все той же Керез, с которой мы выросли вместе, играли детьми, все такой же маленькой и своей? Да, без сомнения, она все та же Керез. И она, оказывается, прекрасна… Теперь, конечно, она не ровня мне… Разве меня… такого неуклюжего, разве посчитает за ровню?» — думал Мамырбай. Он увидел, что лицо ее излучает свет. Увидел полные, яркие улыбающиеся губы, жемчуг зубов, нежную, как шелк, шею. Он почувствовал и подчинился таинственной силе, присутствующей в ее голосе. Теперь каждое ее движение казалось прекрасным и неповторимым. Какое счастье в эту темную, дождливую ночь сидеть с такой красивой девушкой! Он мучился: «Сказать, что люблю? Просить, умолять, чтобы обещала когда-нибудь в будущем… Но как я буду ее уговаривать — я ведь не умею… Что она подумает обо мне? И что мне делать, если она поднимет меня на смех, расскажет своим подругам. Нет, нужно молчать. Нужно стараться понравиться ей… Да, понравиться…» Он спросил Керез, что она любит, что ей нравится в жизни. Девушка не ответила прямо, заговорила о другом. Поняла — парень хочет выведать, что она любит, и преподнести ей… Улыбнулась. Подумала: «Неужели хочет меня обмануть?» Эта мысль потянула другие — и в конце концов она пристыдила себя: «Почему это я вдруг ни с того ни с сего надулась, вроде обиделась на него… Зачем? Он не сказал мне лишнего, или грубого, или обидного. Старается сделать для меня все возможное. Я же вижу — и без моих упреков переживает, что мы попали под ливень, не дошли до дома. В чем он меня может обмануть? Спросил, что я люблю, — и что же здесь плохого? Почему придираюсь, почему опасаюсь его? Почему я не верю? Видно, дело вовсе не в нем, а во мне самой? Я неспокойна оттого, что вот так сижу с ним в пещере. Это нехорошо, ведь за каждым шагом девушки следит множество глаз. Если завтра узнают, если распространится слух, что я вдвоем с парнем провела ночь в пещере, — как будут говорить обо мне? А я даже и не подумала… Ну да, и ведь слух дойдет до мамы — это же будет ударом для нее. Как я оказалась здесь? А все Мамырбай!.. Вот этого я ему не прощу!.. Но нет — как же… Он ведь не тянул меня на веревке. Если б не хотела идти, кто бы меня заставил?.. Нет, я сама виновата, сама пожелала пойти. Видела, что собирается дождь, и все-таки решилась. Я пошла за Мамырбаем, не могла остаться, — значит, он взял верх надо мной, его воля оказалась сильнее моей, то есть, по правде говоря, я подчинилась ему. Если бы не подчинилась, разве сидела бы здесь?.. Разве эта пещера — место для девушки? Увидела бы меня сейчас мама — испугалась бы, наверное. Нет, пусть уж лучше не узнает она, пусть вообще ни одна душа не узнает. Мамырбай и вправду не виноват, виновата я сама… Мамырбай — он ведь не испугался бы дождя и в десять раз сильнее этого, продолжал бы идти и дошел… А после я обвиняла бы его, что он бросил меня, оставил в поселке… Нет, все-таки я правильно поступила, что пошла с ним. Ну и что такого, что мы с ним заночуем в пещере… Ну — шли домой, захватил по дороге дождь — пришлось укрыться здесь… Мамырбай не желает мне плохого, чего же зря обвинять его? И кроме того, хорошо, что мы, несмотря на дождь, торопились домой. Хуже было бы, если б мы заночевали в поселке, испугавшись непогоды. Как неудобно было бы, если б мама подумала — вот, мол, не смогли или не захотели пройти небольшой остаток пути… Я должна заботиться, должна стараться никогда не обижать маму. Я должна делать все, что она скажет, да, в общем, я ведь так и веду себя. Я возвращаюсь в аил, как и говорила мама. Она хотела, чтобы я после десятилетки ходила за овцами, как и она, — мечтает, чтобы я заняла ее место, была с ней. Если бы не это ее желание, я поступала бы в институт. Но я не переживаю, можно ведь учиться заочно. Мама сама не смогла учиться, но хорошо, если я смогу работать так, как она… Не так уж много найдется во всей Киргизии людей, которые не знали бы ее, не слышали, что она получила Звезду Героя. Что будет со мной, если не смогу работать, как она… опозорюсь… Как же тогда быть? Остаться или уехать? Не-ет, я не имею права так думать. Да что ж — неужели я такая трусиха? Чего мне бояться? Еще и не начав работать… Нет, главное не в этом… Главное — я должна помочь маме, облегчить ее жизнь…» — так говорила душа Керез. Перед ее глазами появилась мать. Сколько лет она провела на горных пастбищах, с утра до вечера перегоняя овец! Днем с отарой, ночью — вскакивая с постели при малейшем лае собаки. Сколько лет, забыв о теплой постели, о сладком сне, часто и без горячей еды. Надо снять с ее плеч этот груз, помочь… Слава славой, но мама не так уж молода… Растила ее одна… Сколько сил положила… Много ли их осталось?
Посмотрела на Мамырбая — он ей показался сейчас близким, как родной брат. Улыбнулась ему:
— Не хмурься так, Мамырбай. Или ты вправду решил, что я обиделась? Я же просто пошутила… — заговорила она.
— Правда?
Глаза джигита заблестели. Он даже не заметил, как крепко обнял, прижал ее к себе. Ни о чем не думал в этот момент, само получилось, просто от радости. Девушка не обиделась, наоборот, довольна была, видя чистосердечную радость джигита. А может, и приятно было ей… Но Мамырбай быстро отпустил девушку, боясь обидеть ее.
— Спой еще, Мамыш. Так хорошо слушать тебя.
— Для тебя я готов на все… все, что пожелаешь. Ни в чем не смогу отказать тебе. Прикажешь прыгнуть с этой горы и умереть — прыгну!
— Зачем говоришь о смерти, Мамырбай. Лучше спой.
Джигит сел напротив девушки и вполголоса запел.
Керез увидела красивую девушку, увидела маленькое озеро среди зеленого леса — поверхность его рябила под слабым ветром. Девушка прогуливается у озера, присела на бережку, ее косы опустились в воду. Волны ласкают их, но напрасно стараются унести с собой… Девушка видит свое отражение — лицо ее печально, она тоскует по любимому… Ее любимый всегда на этом озере поил коней. И она пришла, надеясь встретить его здесь. Ах, если бы на ее счастье и джигит пришел к озеру… Когда он видит девушку — стесняется, не может сказать ей ни слова. Разве найдется на свете что-нибудь прозрачнее, стыдливее, ревнивее, нежнее любви!
Вот появляется джигит. Напоив коня, он жалобно глядит на девушку — не решается заговорить с ней, уходит… Кажется, что джигит уносит с собой жизнь девушки. Еле подняв свои ведра, она идет без сил…
Керез слушала — глаза ее наполнились слезами: жалела молодых влюбленных. Не желая показать, что растрогана, незаметно смахнула слезинку. Ей казалось сейчас, что джигит, молча и грустно уехавший на коне, это и есть Мамырбай. Она тихонько покачивалась в такт пению — почудилось ей, что и каменные стены начали раскачиваться. Кругом разлилось озеро… Пещера превратилась в лодку, и они с Мамырбаем как будто плыли в ней. Волна песни подхватила ее, тянула, уносила все дальше и дальше в светлом просторе…
Песня кончилась — девушка посмотрела безнадежно, как будто потеряла что-то очень дорогое. Как не почувствует Мамырбай, что она хочет слушать еще и еще! Нет, почувствовал, понял! По ее взгляду… И снова увидела Керез, но теперь другое: стремительную, с веселым шумом и брызгами пены реку, пробивавшуюся сквозь густой лес, ясное летнее небо и солнце и счастье двух влюбленных — они бегают, резвятся, играют у воды. Любовь — сильная, как эта игривая, чистая горная вода, — захватила их… Девушка убежала от джигита, упала, споткнувшись о ветку, джигит подбежал к ней, и, когда стал ее поднимать, послышался зовущий голос матери. Девушка побледнела — испугалась… надо скорее возвращаться.
Когда песня умолкла, Керез, раскрасневшаяся, взволнованная, побледнела вдруг, точно как та девушка в песне. Может быть, для Керез нужна была не только, не сама по себе песня Мамырбая, а его слова о любви, его чувство, с которым он пел и которое передавалось ей, которого ждало сердце Керез? Душа ее открылась и принимала в себя каждое сказанное им слово…
Но Мамырбай не пел больше. Взял в руки ветку, собрал полусгоревшие поленца к середине костра. Пламя уменьшилось было, поблекло, казалось — остыло; затем вновь начало набирать силу, подобно соколу, расправлявшему перед полетом сильные крылья. В нос ударил густой дым можжевельника. Такой чудесный, придающий бодрость и силу дым отгонит далеко усталость, сонливость и вялость.
Огонь разгорался. Залетавший в пещеру ветер вздувал пламя, в воздухе словно кружились мелкие золотые волосинки, появлялись и пропадали, играли, гонялись друг за другом. С треском взлетали искры, летели к девушке, некоторые будто целовали ее красивое лицо, растворялись в ее крови, добавляли жара и нежного румянца.
В этот момент снаружи, от подножья скалы, послышался мужской голос — будто гром неожиданно ударил.
— Чу! Чу! Собачья лошадь, ноги тебе связало, что ли?
Вроде бы кто-то поскакал вдоль скалы. Немного погодя послышалось лошадиное ржание. Девушка насторожилась, испуганно посмотрела на Мамырбая, как бы ожидая, что он скажет. Но парень сделал вид, что ничего не слышал, ничего не случилось, спокойно занялся огнем.
Спустя еще небольшое время тишину прорезал далекий крик, встревожил и напугал темную ночь:
— О-о, дьявол!
Джигит и девушка поглядели друг на друга, оба на мгновение затаили дыхание, прислушиваясь, — но нет, опять лишь шелест дождя… Наконец Мамырбай сказал:
— Не бойся. Видно, с коня упал…
— А если умрет?
— Не умрет. Говорят, когда седок падает, верный конь подстилает под него гриву свою, верблюд — свою длинную шерсть, ишак — копыта. Если упал с коня, не страшно…
Костер догорал, дров больше не было, и постепенно пламя уменьшилось, лишь отдельные языки пробегали по раскаленным углям. При их мерцающем красном свете молодые люди устроили два ложа, легли бок о бок. Немного погодя Мамырбай спросил:
— Спишь, Керез?
— Да…
Джигит улыбнулся — ясно понял, что означает этот отпет: «Давай спать». Больше он говорить уже не смел. Оба задремали.
…Вдруг девушка слышит крик Мамырбая:
— Керез! Керез!
Она испуганно поднимает голову, выглядывает из пещеры и видит, что джигит стоит на противоположном склоне ущелья. А сколько там травы! Налетает ветер, и она серебристо переливается, шелестят листья иссык-кульского корня, кусты жимолости приникли к земле, будто их рукой нарочно пригнули. Мамырбай — возле куста иссык-кульского корня, на крутизне, и куст держится одним лишь корешком, вот-вот оторвется, а Мамырбай не видит… Одет во все белое. И волосы побелели. Девушка укоряет себя: «Ну да, это оттого, что он ночью обиделся на меня. Мучился до утра от моей грубости — и у него поседели волосы. Есть ли у меня душа?.. Вот — зовет меня… Не упал бы…»
— Я брошусь со скалы, я умру!..
— Милый Мамырбай, не умирай! — закричала девушка и открыла глаза.
— Керез, что с тобой? Испугалась чего-то? Я вовсе не умираю…
Девушка спросонок ничего не могла понять. Наконец пришла в себя, вспомнила, где она, Пещера. Мамырбай живой и невредимый лежит на расстоянии вытянутой руки. Светает. Дождь утих, будто и не было ночью никакой бури, небо чистое, голубое. На кусте можжевельника у входа в пещеру после ночной бури повисла коряга, похожая на фигуру человека — руки-ноги растопырил. Но это еще не все! В самой пещере, внутри, в уголке, нахохлившись, стоит куропатка. Вымокла, бедненькая, до последнего перышка, сама взъерошенная, крылья повисли, смотрит испуганно. Пух на шее отчего-то выдран, проглядывает красноватая кожа. В общем, вид у птицы несчастный, и нет даже сил вспорхнуть, убежать.
Керез приблизилась к куропатке, та раза два-три отпрыгнула бочком, вспорхнула — и упала. Девушка осторожно взяла ее в руки, прижала к груди, стала отогревать.
— Что это? — спросил Мамырбай, раньше он не заметил куропатки.
— Борьба за жизнь, — ответила девушка.
Парень снова залюбовался ею. Она стояла возле двух одинаковых, словно близнецы, кустов жимолости — единственного украшения пещеры. Платье ее помялось, волосы растрепались, но и такая она была красива. Ее гибкая, как эти веточки жимолости, тонкая, грациозная фигура очаровывала. Оба куста жимолости, не отставая друг от друга, тянутся ввысь, к потолку пещеры. Налетает ветер — и они раскачиваются из стороны в сторону, иногда легонько касаясь друг друга листьями. Под легким дуновением листья шевелятся, их движения нежны и грациозны — они словно бы танцуют под удивительную музыку, неуловимую для человеческого слуха. Кажется, это Джамал и Карып, о которых ночью рассказывал Мамырбай, не старея, не умирая, не отличаясь друг от друга ни цветом, ни видом, в образе двух кустов жимолости продолжают жить и любить друг друга.
Танец зеленых листочков восхищает джигита. Душа его поет, присоединяясь к их мелодии. Да, ему чудится, что эти два куста жимолости поют. Мелодия из листочков кажется любовным шепотом. Они говорят друг другу то, о чем джигит не смеет сказать девушке. Их шелест — друг для друга, они касаются, ласкают друг друга листьями… Хотя кто знает, если бы Керез не стояла рядом, то эти два куста жимолости, может, и не виделись бы ему такими красивыми и шелест их листочков не казался таким нежным…
Мысли бежали, обгоняя друг друга. Мамырбай думал о том, что вот уже пять лет ломает голову, пытаясь складывать стихи, исписал несколько тетрадок — но не показывал ни одной душе. Он не надеялся стать поэтом, писал просто для себя. Правда, с самой зимы не брался за перо — перечитав написанное, решил, что поэт из него не получится. Но теперь вдруг словно отвечая любовному шепоту листочков жимолости, в голове у него стали складываться ритмические строфы. Одна приходила на ум, другая улетала, некоторые кое-как рифмовались, другие распадались… Различные рифмы увлекли Мамырбая — он и сам не заметил, как всерьез задумался над стихом.
Я видел танец двух жимолостей, Я видел, как они говорили вместо молчавшей девушки… —бормотал он.
И правда, казалось, что кусты жимолости восхищаются красотой девушки, юным ее изяществом — и шепчут об этом друг другу. Как бы угадывая этот их разговор, девушка стояла рядом с ними, смущенно улыбалась… Так видел Мамырбай. На самом деле девушка смотрела не на жимолость, а на видневшуюся за ущельем скалу Буркут-Уя — вершину ее в ночную бурю припорошило снегом. Вчера она выглядела иначе — мягче, даже моложе. Поседевшая за одну ночь вершина напомнила девушке сон, в котором видела она седые волосы Мамырбая. Вспомнив, она усмехнулась: «На что только не лает собака, чего только не приснится…» Надо же — приснилось то, о чем совсем даже и не думала… Что это может означать? А, глупости, вспоминать стыдно…
Куропатка согрелась на груди у Керез, теперь она тихонько выпустила ее — поставила на плоский камень. Куропатка встрепенулась, побежала и за камнем скрылась под кустом можжевельника.
— Не бойся меня, теперь ты на воле, — сказала девушка ей вслед. — Ах, трусишка!
Слова Керез, обращенные к куропатке, Мамырбай воспринял как обращенные к нему, как намек. «Она меня считает трусом?.. Почему? Может быть, я недостаточно смел с нею? Смеется надо мной? Или просто шутит? Знала бы она, какой я трус!.. Неужели решила, что я просто не осмеливаюсь?.. Нет, не может быть… не должен я так думать о Керез. Даже сама эта мысль — грязь… капля грязи, попавшая в прозрачное озеро… Одна капля прозрачных вод не замутит, но все-таки лучше, если ничто плохое не пристанет к чистому… Никакого права у меня нет думать о ней плохо… И нет никаких прав вести себя вольно, или невыдержанно, или грубо… Малейшая бестактность с моей стороны — и честь девушки будет задета. Поэтому, что бы она ни говорила, я все стерплю. Пусть смеется, пусть считает меня трусом — кем угодно. Что бы она ни сказала, все одинаково хорошо, плохого она не может сказать — так я понимаю ее».
А между тем небо посветлело, вершины гор залил розовый свет поднявшегося солнца, и на душе у девушки стало веселее, ночных страхов как не бывало. Она заторопилась — пора было в путь. Скорее домой! Собрала вещи, посмотрела вопросительно на Мамырбая. Юноша, как вчера, связал оба чемодана, взял на плечо и, увлекая за собой девушку, пустился прежней дорогой вдоль ущелья.
Солнце поднялось выше. Пробудившаяся природа, казалось, радовалась и солнцу, и двум молодым людям, вышедшим на дневной свет из пещеры. Будто ради них все обновилось, земля сняла свой вчерашний покров и оделась в новое, чистое — нигде ни пылинки, ночной дождь все омыл, вычистил. И без того довольная своей красотой, сегодня природа совсем уж возгордилась. Погляди только на эти кусты можжевельника, они расположились вокруг большого камня подобно кудрявым волосам! А мелкий кустарник по склону — он переливается множеством оттенков, от густо-зеленого до желтого, — словно богатым ковром укрыли гору. Если бы не зелень можжевельника, не казался бы помолодевшим старый потрескавшийся камень. А теперь он будто хочет слиться с кустами, перенять их молодость, — кажется, все множество камней на склоне постепенно сливается с зеленью кустов, превращается в можжевельник. И большой черный камень тоже словно бы тянется к молодой зелени и, не достигнув, разочарованно завидует. Но вот перемена! Камня коснулся ласковый луч солнца, бок его заблестел, черное превратилось в красное и золотое. От камня золотое пошло разливаться вниз, и там, куда приходило это сверкание, все как бы рождалось заново. Перед глазами возникали необыкновенные чудеса. За какие-то мгновения переменился, обновился весь горный склон — и без того прекрасная, гора чудесным образом меняла свое платье, таяла, волновалась… Но вот солнце достигло подножия — гладкого, без единого дерева — нежно-зеленого луга. Пять невысоких выступов-хребтов, как девичьи пальцы, тянулись вверх по солнечному склону. Лучи сверкали теперь на каждом из пальцев, алмазный блеск переходил с одного хребта на другой. Солнце разбудило все живое на той стороне ущелья, каждого звало из убежища.
Если сесть и наблюдать отсюда, из тени, можно увидеть много прекрасного. Вот наверху, на солнечном выступе, — причудливой формы черный камень — похоже, катился по склону откуда-то сверху и остановился, каким-то чудом задержался здесь. Углы камня заострены — кончаются как бы специально вытесанными башенками, всего их четыре. На двух из них сидят, взгромоздились два грифа, беспокойно оглядываются по сторонам, видна в них настороженность, жадное ожидание: не потянет ли откуда запахом падали — тут же готовы лететь. О, эти знают, что ждут не напрасно! Ты думаешь, что ночью, в проливной дождь, и кровавая морда волка не отведала свежей пищи, что потерял он всегдашний нюх? Ты думаешь, терпел он, сдерживая жажду убийства, лишь бы до утра не поднимать на ноги, не будить, не отрывать от сладкого сна чабанов? Нет, вовсе нет! На чабанах к утру сухой нитки не было, всю ночь пробегали под проливным дождем. Голоса, наверное, сорвали, так приходилось кричать. Сколько ягнят, верно, перетаскали к себе в теплый дом, отогрели под тулупами да одеялами, замерзших, промокших ягнят. Скольким дали соски, а тех, которые не брали соску, поили молоком изо рта. Самых истощенных и слабых эта забота спасла от смерти… И верные стражи, собаки чабанские, и они всю ночь бегали вокруг, лаяли не переставая. И все же… Все же, несмотря ни на что, волк утишил, удовлетворил зуд своей кровавой пасти, зарезав одну-две отделившиеся от отары овцы. И вот теперь грифы сидят высоко на камне, высматривают по сторонам остатки волчьего пира… Они ясно видят даже то, что происходит за шестью хребтами.
«Правильно их зовут — плешивые, — думал Мамырбай, глядя на грифов. — Но до чего же они громадные! Если человек впервые увидит, как они сидят на камне, наверняка испугается. А когти какие! Если такими когтями ухватиться покрепче, можно ломать даже ребра… Я много раз видел, как они разрывают падаль, оставшуюся после волка, — целиком глотают большой мосол. И зоб крепкий — не разрывается даже от таких больших костей. Какая же у него сила, у грифа, если целиком выдирает большой мосол. Настоящий живоглот! Хотя нет — живое он как раз не может самостоятельно выследить, поймать, убить. Тут он беспомощен. Но зато с края земли прилетит к мертвечине, к падали, к убоине. Бывают ли люди, похожие на грифа? Бывают. Чем, например, отличается от него мулла? Всегда настороже, точно как гриф, и всегда первым приходит к умирающему. Человек еще не испустил последний вздох, а мулла уже тут как тут, да не один — несколько, готовы поскорее выпустить из больного душу — ни к чему другому благочестивые наставления не ведут. Знают заранее — если человек умрет, им перепадет хороший куш. При жизни больного мулла получает за молитвы, словно от них кто-то выздоровел, а уж после смерти он просто грабит под видом от века установленных религиозных обрядов… И ведь все это выдумки ненасытной хитрой глотки — совсем как у грифа! Как после этого не сердиться на верующих людей? Почему они верят мулле? Почему бы старому человеку, если занемог, вместо муллы не позвать врача? Ведь знают же, что только лекарства помогают от болезней, и все же находятся такие — идут к жадному мулле! Подумаешь о том, что ловкий обманщик дурачит старого человека, и проклинаешь отжившее время, из которого все еще тянутся в наш день цепкие руки «ученого» муллы. А спросишь старика, почему позвал «служителя бога», отвечает, что на том свете хочет быть в раю. Но ведь сами муллы — они прекрасно знают, что никакого «другого» света нет. Знают — и обманывают людей! Человек умирает, но мулла и тогда грабит его, якобы желая достойно похоронить… Если осталась во дворе какая скотина — корова или баран, то муллы под тем предлогом, что, мол, необходимо достойно проводить и помянуть хозяина, зарежут и съедят. А нет — так станут говорить, что вот, мол, на поминках такого-то не могли даже зарезать кобылицу! Прямо с ножом к горлу — хоть в долг возьмите, но зарежьте! «Хорошую славу оставите» — так уговаривают домашних. Почему же они не думают, из каких денег уплатят вдова и сироты за эту взятую в долг скотину, которую зарезали, растаскали, съели любители жирных поминок?» — так думал Мамырбай. Перед его глазами стоял его брат, умерший год назад, и то, как вели себя некоторые из пришедших на похороны. Тогда он, Мамырбай, не мог сдержать себя, показать, что не уважает унижающие достоинство старые обычаи. Старейший из приехавших издалека, сухой старик с носом-клювом, пожертвовал на похороны сто рублей. Когда же ему подарили в ответ всего лишь на двадцать рублей больше преподнесенного им, он высказал обиду: «Лучше бы вы совсем ничего нам не давали. Мы специально приехали, пересекая воду, а вы одарили нас, как побирушек! Как вы на это решились? Если будете так поступать, кто захочет приехать на похороны вашего покойника?» И все это старый сказал не краснея, даже не моргнув глазом. Отец Мамырбая Субанчи извинился перед гостем: «Мы опозорились, аксакал, допустили оплошность» — и добавил носатому еще денег. Вот тогда Мамырбай не сдержал себя, разгорячился, дал волю словам. «Они, оказывается, не для того приехали, чтобы оплакать вместе с нами брата, — пожелали отхватить себе хороший куш?! Не давай ничего, отец! Я сам, один похороню брата! Как не стесняются получать деньги, используя смерть человека!» — так громко заговорил Мамырбай, не обращая внимания на собравшихся. Отцу не понравились его откровенные слова, одернул Мамырбая. Но нашлись и такие, кому по душе пришлось высказанное Мамырбаем. Они заговорили — не пора ли, на самом деле, покончить с обычаем обязательно одарять приехавших на поминки. Но тут восстали муллы. Ссылаясь на установления шариата, заговорили о нерушимости освященных временем обычаев. Один из мулл, поглядывая поверх очков на Мамырбая, дрожавшего от гнева, прочитал даже молитву против него, обличая его в неуважении к заповеданному самим пророком. Это сильно подействовало на собравшихся. Тогда Мамырбай заговорил снова: «Люди! Тот, кому вы верите, этот самый Колдош, с каких пор он стал муллой, а? Разве вы забыли, что был он колхозным бухгалтером, растратил деньги и отсидел десять лет? Оказывается, из тюрьмы вернулся муллой, да? Кто это в тюрьме его обучил Корану, кто сделал из него святого? Лисица меняет свою шкуру, так и он. Сходите-ка к нему домой, увидите батарею бутылок. Разве не запрещает шариат пить верующим мусульманам? Почему же слушаете его — ведь все знают ему цену? Пусть даже близко не подходит к нашему дому!» Многие поддержали Мамырбая, однако отец его, Субанчи, не желая скандала на похоронах, запретил ему говорить дальше и попросил прощения у приезжих. Да, до сего дня не забыл Мамырбай, как муллы, весело смеясь, насыщались мясом кобылицы, зарезанной тогда… Эти мысли и воспоминания будоражили воображение, целиком занимали идущего по склону Мамырбая. Но тут вдруг его внимание отвлечено было рыжим сурком — побежал по зеленой траве, на плоском камне сделал стойку — совсем был сейчас как муэдзин, сзывающий с возвышения правоверных к утренней молитве. Сурок тоже заметил идущих по склону и, тоненько свистнув, скрылся. Может быть, у него под камнем была нора — растворился как призрак. Мамырбай подумал, что зеленая трава по склону — будто озеро, и сурок словно упал в него, оно приняло его в себя. А вот еще сурок, бежит вприпрыжку, рассекая мордочкой зеленую чащу травы. Остановился возле норки, как и первый сурок, постоял немного, вытянувшись столбиком, и тоже исчез, как бы проглоченный землей.
Сурков в Таласе великое множество. В ущелье ли окажешься, на холме ли — обязательно увидишь убегающих во все стороны рыжих зверьков. Особенно интересно глядеть на молодых сурчат. Пушистые, забавные, как всякие малыши, они гуляют среди зеленой травы и оживляют склон своей игрой, придают живописной картине ущелья особую прелесть. Под большим плоским камнем — нора, в полдень сурчата выползают из нее. Бегают вокруг норы, потом греются на солнышке. Вот один развалился на камне, второй как бы подкарауливает его, вдруг прыгает, затевает веселую борьбу, в это время появляется еще сурчонок, тоже вступает в игру… Не устаешь глядеть на них. Беспечные малыши заняты забавами, не помнят, что родители ушли подальше. А те вдруг появятся, издалека глянут на шалунов и снова исчезнут: у взрослых свои заботы. Когда же сурчатам надоедает играть, они начинают искать себе корм, начинают копать ямки, подражая отцу и матери, удивленно смотрят, завидя незнакомое.
Наконец солнце осветило ущелье, и все живое пришло в движение. Вот сурчата взобрались на пригорок и, встав на задние лапки, загляделись на двух молодых людей. Они еще глупые, сурчата, не убегают, даже когда близко подойдешь к ним. Они еще из знают, что такое страх. Все им кажется интересным, со всем хотят познакомиться, осмотреть хорошенько. И не подозревают, что человек, если пожелает, может убить их на расстоянии из винтовки. Малыши не пошевелились, даже когда Мамырбай и Керез подошли довольно близко. Конечно, совсем уж вплотную они не подпустят — спрячутся в норе… Но до этого не дошло. Вдруг зашумело над головой, с неба камнем упал громадный беркут, чуть не задел сурка, но промахнулся, упустил, тот юркнул в нору, а орел, разочарованный, взмыл в небо и уселся на вершине высокой скалы. Сжав клюв, он сердито поглядывал на то место, где упустил добычу, и всем своим видом как бы говорил: «Подожди, выйдешь! До вечера еще много времени!» Одним взглядом он охватил все — ручейки, овражки, скалы, он увидел, что все живое попряталось, как бы провалилось сквозь землю, устрашившись его вида, и, усевшись поудобнее, начал чистить перья. Посидев немного на скале, он решил, что зря теряет здесь время, и, величаво раскинув огромные крылья, плавно полетел над ущельем.
Мамырбаю и Керез, соскучившимся за долгое время учебы в городе по родным горам, один склон казался красивее другого, а все вместе вызывали восхищение. Звуки слышались как бы освеженными, особенно чистыми — все, от чириканья воробья до свиста сурков.
Керез шла впереди, руки у нее были свободны, и она, счастливая, рвала цветы, выбирая те, что нравились больше, и уже собрала красивый букет, а два цветка воткнула в волосы и сама казалась ожившим цветком. Выше по склону она разглядела иссык-кульский корень и, не задумываясь, отправилась за ним; цветы свисали с небольшого куста можжевельника.
— Ой, мама, что это?! — вскрикнула она испуганно, подойдя к кусту.
Мамырбай поглядел и увидел стоящего там горного козла. Два его выгнутых рога, похожие на засохшие ветви саксаула, доходят почти до хвоста — кажется, будто вонзились ему в спину.
Мамырбай вначале не понял, почему горный козел не убегает. А тот шагнул раз-другой — уткнулся мордой в можжевельник, подобно быку качнул головой, как бы собираясь боднуть. Чувствовалось, что это последняя мера защиты. И только когда Мамырбай подбежал вплотную, он с трудом повернул голову с большими рогами. Оказывается, у бедняги уже не было сил бежать — страдал от болезни, ноги едва держали его. Видимо, спустился сюда полизать маргу[42] — ему не хватало соли… А после, тщетно стараясь подняться вверх по склону, он совсем обессилел, бедный, — выбраться отсюда у него не было сил.
Он словно бы испугался Мамырбая и Керез, но в то же время, казалось, полными слез глазами просил их о помощи. Взгляд его умолял: «Вы сами видите, как мне плохо, так не мучайте меня. Я ведь не причиняю вам вреда… Я живу далеко от вас, в горах, не прошу ни корма, ни ухода, ни места во дворе. У меня нет даже соли… Что же здесь плохого, если я пришел сюда полизать марту… Я скоро вылечусь… Здоровый я был совсем другим. Я был хранителем, главой и покровителем стада коз. Я отыскивал для них лучшие пастбища, самые спокойные, тихие места ночевки. Козы моего стада даже зимой оставались сытыми. Сколько скал испытало и знает силу моих ног! Неутомимый, я с утра до вечера способен был перескакивать со скалы на скалу… не знал, что такое усталость. А теперь настало несчастное время, я не могу сделать и двух шагов, все мои суставы трясутся, что-то тяжело придавило меня. Но все же помните — я нужен вам. Пожалейте меня, не мучайте. Без меня гора потеряет всю свою живую прелесть…»
— Бедненький мой, как же мне помочь тебе? — говорила Керез. — Вижу, растерянно глядишь на гору, не в силах подняться по склону. Если бы у меня хватило сил, я бы сама отнесла тебя к твоим скалам. Я же понимаю — каждое живое существо страдает, когда заболело. Что же мне сделать для тебя? Хочешь воды? Ты, наверное, хочешь пить? — Она нарвала травы, поднесла козлу — тот вначале испуганно отвернул морду, но потом, немного привыкнув к человеку, пощипал ее. Почувствовал ласку, понял, что не причинят вреда. Мамырбай побежал за водой, принес снизу в своей кепке. Но козел не стал пить, — видно, простояв всю ночь под ливнем, он не испытывал жажды.
— Веревку на рога — и поведем его за собой, давай? — предложил девушке Мамырбай, радуясь, что горный козел живым попался к ним в руки. — Приручим его, я думаю, он привыкнет. Представляешь, как он будет стоять привязанный в углу двора? Кто ни придет, каждый удивится, а? Если бы он был здоровый, только бы мы его и видели… Нам просто повезло…
— Разве тебе не жаль его? Зачем же лишать его воли? И потом — он же больной, видишь, еле душа держится. Я думаю, у него ящур — и он может заразить других животных. Оказывается, в этом году дикие животные переболели ящуром, — говорили, что в нижних аилах были случаи заболевания коров, видно, заразились от диких животных. Помой руки, ты ведь держал его за рога…
Слова Керез были справедливы, Мамырбай не стал возражать.
— Ладно, пусть не подумает, что уведем его в неволю, — проговорил Мамырбай и, тихонько подталкивая, отвел козла в заросли.
Продвигаясь дальше по склону, Мамырбай и Керез вышли к зеленому лужку среди зарослей барбариса. Мамырбай рассказал Керез, что охотники никогда не возвращаются отсюда без добычи: всегда повстречается какое-нибудь животное. Так что надо повнимательнее смотреть по сторонам, наблюдать. Не успел он договорить, как впереди из густых кустов барбариса вышла косуля, ведя за собой двух детенышей. Пока что она не замечала людей. Пощипала траву, потом стала кормить своих малышей: подняла голову и очень красиво пригнулась, а детеныши зашли с обеих сторон и начали нетерпеливо сосать. Казалось, все они специально созданы природой, чтобы стоять именно здесь и в такой именно позе. Мамырбай подумал, что без них красота природы была бы неполной.
Наконец косуля, видимо, учуяла посторонних и, ударив копытом о землю, стремительно умчалась. Ее детеныши мгновенно исчезли, казалось, что их поглотила земля. Отбежав, косуля оглянулась, потом повернула голову в сторону зарослей барбариса и незаметно растворилась в них. Мамырбай начал искать ее детенышей, но Керез это не понравилось.
— Не надо, Мамырбай, не пугай их. Зачем они тебе?
— Я выращу их…
— Ты же сам видел, как они красивы все вместе, втроем. Зачем же разлучать их друг с другом? Если ты унесешь их, слезы матери не дадут тебе спать, так и знай! Если бы люди не стреляли их, не пугали, то они никогда и не убегали бы. А то сколько народу с винтовками подстерегают их — чуть не за каждым камнем… Жалко их, бедных. Прячутся, ступают осторожно, пасутся, а уши — заметил? — настороже… Сколько живут, столько не могут пастись спокойно… И так уж диких животных осталось мало, а все уничтожают и уничтожают! Есть и такие охотники: подстрелят, а что не влезет в курджун, то бросают, просто оставляют воронам и грифам… Разве так можно! Сколько раньше водилось дроф — ведь пропали. И фазаны пропали тоже. Говорят, мало осталось архаров. А куда подевались зайцы? Раньше ведь, бывало, идешь вот так, а они порскают по сторонам. Теперь, видно, не осталось даже для развода. Как же они станут размножаться, если каждый, как ты, начнет их преследовать? Вообще у вас, у мужчин, сердца каменные, что ли? — шутливо закончила девушка.
Мамырбай, уже собравшийся искать детенышей косули, остановился на полшаге, покраснел, вернулся.
— Знаешь, а детеныши у косули до чего же хитрые! Спрячутся так, что и не отыщешь! Ладно, не стоит задерживаться, пойдем дальше, — заговорил он, скрывая смущение. — Как-то я хотел найти детеныша косули, но, представляешь, заблудился. Видел его на расстоянии шага, уверен был, что он там и лежит, начал искать, но так и не нашел.
Керез шла, восхищаясь летним благоуханием склона, пышным цветением природы, и счастливо улыбалась.
3
Между тем противоположные склоны ущелья все ближе подступали друг к другу, оно сужалось, и теперь Мамырбай и Керез шли вдоль реки. Сколько веков прокатилось над этой тянущейся все выше и выше дорогой, которая не разлучается в этих местах с рекой, повторяет ее изгибы. Сколько поколений видела она, какие различные люди проходили здесь — и добрый, и злой, и трусливый, и храбрый. Сколько следов оставалось на ней — были и снова стерлись… Если бы дорога умела разговаривать и ты начал бы ее спрашивать, а она стала рассказывать о том, чему была свидетелем, то на все бы не хватило бумаги записывать… Эта дорога — сама история. В начале века она видела плачущих и обездоленных, убегавших с разоренной земли. Налетела саранча, черной тучей заволокла солнце. За три дня земля почернела, не осталось даже корешков. И разве только в этом ущелье? Так было по всей окрестности, во всем Таласе. Скот погиб от истощения. Народ лишился скота. Нет скота — люди голодают, слабеют, болеют. В том же году, когда напала саранча, началась эпидемия тифа. О-о, не приведи бог увидеть такое! Сколько людей тогда погибло! Не утихал плач по умершим, и будто слезами наполнилась река…
Связав чемоданы и перевесив их через плечо, Мамырбай, не зная усталости, широко шагал рядом с Керез. Вдруг громкий оклик за спиной заставил их обернуться.
Их догоняла женщина верхом на лошади; понукала и понукала свою кобылу, по та шла шагом — чуть быстрее пешехода. Это была Алчадай, жена соседа Керез, скотника Барктабаса.
Двое ее детей сидели у нее за спиною, еще одного она крепко привязала платком к груди. Спина лошади была покрыта войлочным ковром — ширдаком. Край его с одной стороны свесился чуть не до земли. Человек, не знакомый с киргизскими обычаями, удивился бы, увидев маленьких детей за спиной матери: «Как они могут ехать верхом, не упадут?» Передний ухватился за мать, задний — за переднего, так и держатся. Похоже, они плакали, глядя на дорогу, глаза у обоих красные, опухшие. Бедные, они даже не могут вытереть свои носы, руки заняты, сами крепко притиснулись друг к другу. Сзади бежит черная собака.
Алчадай, еще не успев приблизиться, заговорила громко, стараясь привлечь внимание Мамырбая и Керез:
— Это ты, Керез, а? Мать с таким нетерпением ждала тебя, наконец-то, бедняжка, обнимет-поцелует дочку, забудет разлуку. — Подъехала, поравнялась с девушкой. — Погляди-ка сюда, посмотрю на тебя… Милая, будь здорова… Любимый ты материн огонек. Если б ты знала, как она скучала без тебя. Смотрю, ты с лица спала… Да как не похудеть, если с утра до вечера, перелистывая, сидеть над книгами… Вижу, превратилась в девушку, стройную как марал. Сдается мне, ты похожа на свою мать в молодости. В прошлом году я поспорила с кем-то: мол, ты не похожа на мать — видно, ошибалась я, пропади моя душа. Ты с ней точно как две капли… — Алчадай, хотя и говорила вроде только с девушкой, краем глаза поглядывала на Мамырбая. «Почему идут вместе? Может, здесь что-нибудь кроется? Что будет, если спрошу?» — думала она. — Да, Керез, кто этот симпатичный парень? А, это ты, Мамырбай? Хоть бы поздоровался, разве у тебя рот перекосится, если поздороваешься? Подражаешь своей матери или своему отцу? Хоть и выросла у тебя такая шевелюра… не обижайся, мой деверь, я шучу. Сама начала болтать, не давая вам возможности поздороваться, не дала рот раскрыть. Бедняга, мой убитый жених был ведь вот таким же… И осанкой, и лицом похож… Широкоплечий, как ты… Что делать, есть ли на свете еще такие несчастные, как я! Значит, не предназначен мне богом был такой муж. Разве не ушла моя молодость, плача о несбывшемся! Видишь камень, застыл там? Что я, что камень — все едино. Я, подобно этому камню, застыла, заледенела… проклятые мои дни! Смолоду суждено обнимать сухую ветвь можжевельника — как же иначе назовешь проклятого Барктабаса! А я ведь была одной из красивейших девушек… Сколько джигитов, боясь моего гнева, кружили в нерешительности, издали поглядывая на меня. Да… Ты спросишь, что это случилось с Алчадай, чего она так тараторит? Правильно, братишка мой… — Взглянув на Мамырбая, женщина печально улыбнулась. — Правильно, если удивишься. Откуда можешь знать о моих мучениях? Одно время я была Алчадай[43] не только по имени, и сама была как молодое деревце. Я та несчастная, у которой не исполнились ее мечты — всю жизнь пришлось обнимать камень. Врагу не пожелаю такого! И я любила джигита. Самого лучшего из джигитов! Я была самая разборчивая, даже не оглядывалась на тех, которые мне не нравились. Иногда жалею теперь, что эта самая разборчивость навлекла на мою голову беду. Если бы ты видел меня, Мамырбай, в такие же годы, как сейчас Керез… Что я бормочу… проклятый день… Разве ты не видел… Посмотри, как закружилась моя голова, не понимаю, о чем говорю. Как будто ты приехал из чужих краев… Ведь вы вместе выросли у меня на глазах, вы оба. Милые, как вы подходите друг другу, пусть придет ваше счастье! Идут рядышком, как родные брат с сестрой! Закончили учебу, возвращаются домой… Когда я вижу таких счастливых, как вы, душа разрывается. Ты же знаешь, Керез, этого проклятого — да не увижу его смерть! — скотника Барктабаса? Не удивляйся, Мамырбай, деверь мой: «Что еще за такой проклятый?» Я говорю про хитрого пройдоху, про мужа своего. Брат мой отдал ведь меня, молоденькую девушку, этому старому саксаулу, отдал, запугав, насильно, против воли. Дни моего брата, того, что сжег мое счастье, оказались короткими, уже давно гниют его кости в земле. Моя мать тоже не захотела защитить, поддержать меня — подарили ей одно платье, а она уже согласна на все. И ее тоже проглотила ненасытная земля. Несчастные, как торопились, выдавая меня замуж… прямо-таки будто лучинка загорелись… и сгорели тоже — как лучинка, скоро…
Слезы навернулись на глаза Алчадай, замолчала она, вспоминая бывшее с ней. Сердце переполнилось; если б спросили молодые ее попутчики — тут же и рассказала бы:
«Я раньше не видела никогда ненаглядного моего Алтынбека… И вот — это летом было, на пастбищах, — справлял старик из соседнего аила свадьбу своему сыну, вернувшемуся с фронта. Свадьба была большая, народ истосковался по светлому, праздничному, а тут уж и на фронте наши немцев гонят, и жених, хоть раненый, да с медалью. И устроили в честь молодых народную игру-состязание: погоню за девушкой. А всем известно было: ни одна девушка из этого соседнего аила не могла скакать на коне лучше меня. Когда начали решать, кого выпустить, кто-то назвал мое имя. Зачем скрывать, я и сама очень хотела выступить… Услышала, что зовут меня, — очень обрадовалась. Ко мне подвели белого коня с пышной гривой и неподрезанным хвостом. Я вспорхнула в седло, как бабочка. Конь легкий, будто пушинка, — не успею тронуть узду, а он уже поворачивается. Услышит команду — несется как пуля… Играет, словно рыбка на мелководье.
И слышу я, что из другого аила выступит Алтынбек. Говорят мне мои аильчане: «Алтынбек этот, он еще никого не пропускал вперед. Даже ветер не догонит его красного коня. Смотри не опозорься. Тут кругом говорят, что приз точно его. Когда поскачешь — не гляди в землю…» Алтынбек, оказывается, был колхозным зоотехником. Я узнала, что он хоть и молодой, но уже авторитет имел в аиле, многие у него спрашивали совета, даже председатель… что твердый он был, никогда не менял своего решения, настойчивый. Я и боялась предстоящего состязания с ним, и в то же время очень хотела увидеть его. Подошло время скачек. Я сразу заметила статного джигита, что ехал со мной к месту сбора… С первого же взгляда я потянулась к нему… да, всей душой потянулась. Перед ним я чувствовала себя очень маленькой, слабой, прямо девочкой. А он мне показался солидным, взрослым. Второй раз я не могла на него поглядеть, стеснялась… Когда же наши взгляды все-таки встретились, он мне улыбнулся как знакомый, как друг. Потом, на людях, он мне так не улыбался.
Но вот раздалась команда — и мы отпустили поводья… В ушах зашумело, ветром из глаз выбивало слезы. Я мчалась быстрее ветра — но почувствовала, что вот он сейчас меня нагонит… Он приблизился почти вплотную, сказал: «Алчадай! Больше у меня нет желаний — я увидел тебя… Я слышал твое имя…» — и с этим отстал.
Очень его одноаильцам не понравилось, что он отстал… Кричать начали, шуметь, просили догнать… Но Алтынбек не внял их крикам…
Я отъехала далеко, потом вернулась.
Я стояла с девушками и молодками, а Алтынбек подъехал на своем коне — глядел только на меня. Ничего не сказал — все его слова были в его взгляде. Мне он казался бесконечно близким, моим… Стесняясь его, я спряталась за молодками. Но очень хотела видеть его — незаметно наблюдала. Казалось, я знаю его очень давно — хотя мы и не виделись прежде. Боялась, что вот он уедет… Да, так было…
Вскоре он уехал. Я все искала его взглядом среди толпы… А потом и мы сели в телеги и отправились домой. По дороге девушки и молодки подшучивали: «Мол, Алтынбек полюбил тебя, лишь из уважения к тебе уступил в состязании. Ты, негодная, должно быть, знакома с ним, заранее договорились, а?» Я молчала. Видела, что они все восхищались джигитом и ревновали ко мне. Душа моя все больше привязывалась к нему, и после все мои мысли были о нем. Скучая, пожелтела даже и жалела уже, что встретила его. К тому же дошел до меня слух, что Алтынбек женится. Очень мне хотелось поехать в его аил, хотелось узнать — правда ли. Однажды нашелся повод, отправилась я — да с полдороги вернулась, постеснялась… Кто я ему?.. И вот настал день — я была дома, не видела ничего — перед глазами Алтынбек стоял, не уходил… И тут приехал отец Алтынбека с двумя родственниками — сватать меня приехали. Мать была согласна, но брат воспротивился, сказал, что не может дать согласия, пока не увидит, что Алчадай сама решилась. Сказал мой брат, что отдаст сестру за того лишь, кого она полюбит… Рассудили так, что пусть приедет сам жених.
И вот взошло в нашем доме солнышко, осветило мою жизнь — приехал мой Алтынбек. Я видела его, я чувствовала пожатие его руки, мы даже обнялись украдкой… его мягкие, ласковые слова живут в моей памяти. Мы сразу поняли друг друга… Я его полюбила всей душой. Мою любовь к нему нельзя сравнить ни с какой другой любовью! Никто никогда и нигде не может полюбить так горячо, как я любила его! Когда я потеряла его, мир вокруг меня вдруг заледенел. Да, меня понесло по дороге жизни, как гонит злым осенним ветром последний одинокий листок. Судьба повернулась ко мне спиной, начала меня теребить, унижать, мучить. Алтынбек, бедный мой Алтынбек! Кто тебя убил — пусть переломится его рука!.. Убил его кто-то, погиб Алтынбек от чьей-то злой руки… Ведь если бы остался он жив, неужели вытерпел бы, не захотел повидать меня. Нет, не смог бы он жить без меня. Что случилось с тобой, мой несчастный? Какое несчастье, какая злая судьба повстречалась тебе? Где ты? Хоть бы разок увидеть тебя! А то как же — пропал, исчез — и нету, и я плачу все эти годы, и погибшие мои мечты тяжестью лежат на сердце…»
Так думала, так вспоминала Алчадай о своем Алтынбеке.
И Керез с Мамырбаем почувствовали это и поняли, что Алчадай хочет говорить о любимом, и, почувствовав, спросили. Алчадай ответила, излила наболевшее:
— Хоть бы мне увидеть могилу несчастного Алтынбека, бросить на могилу горсть земли… тогда бы я осознала, поняла, что его нет, не вернется, умер. Пусть пропадут те проклятые дни… ожидая счастье, я повстречала горе. Он ехал, чтобы забрать меня… умер совсем молодым, несчастный… ведь он убит… Тела его не нашли — но я сердцем чувствую… Восемнадцать лет пролетело с тех пор. И восемнадцать лет я неживая, и светлый мир черным сделался в моих глазах. Когда вспоминаю его, как бы отрываюсь от этой жизни, переношусь куда-то в другую, счастливую. Но самое тяжелое — иногда пойду то ли к реке, то ли в горы, и все мне кажется, что он на меня смотрит… Человек ко всему привыкает, привыкла и я к своей судьбе. Счастье мое лишь поманило меня да улетело, и вот осталась я рядом со стариком — как со взбешенным козлом… Воля ваша, дети, можете сказать мне, что, мол, это за жена — поносит своего мужа… но только какой он муж… ведь это от ног до макушки — бурдюк с ядом… проклятая козлиная борода! Что делать мне, такова, видно, божья воля… — опустив голову, заключила Алчадай. Заметила вдруг, что Мамырбай тащит оба чемодана, перевела разговор на другое: — Дай-ка их, братишка, не надрывайся, давай сюда! Ничего с кобылой не случится — меня подымает, поднимет и груз. — Она заметила, что один из малышей у нее за спиной завалился на бок; обернулась, шлепнула: — Сиди прямо, проглоти тебя земля! Чего болтаешься! Держись за меня крепко! У людей семилетние, как ты, ребята уже пасут скот, скачут верхом без седла, а ты до сих пор не можешь сидеть за спиной! Будто мало мне того, что ты целый год мучил меня, не ходил, — уж лучше сразу вытяни мою душу! Я тогда, помню, испугалась, что этот обжора останется как сын Тайлака… У человека по имени Тайлак когда-то был сын. Потом-то он состарился и умер, прожив шестьдесят лет. А в детстве до одиннадцати лет никак не мог научиться ходить. Отец с матерью ушли в гости на религиозный праздник, его оставили одного, посадили в люльку. В это время в дом пришли женщины и дети, чтобы поздравить с праздником, — начали искать скатерть со съестным, а он из колыбели говорит: «Возьмите там, за чигданом»[44]. Так все попадали от удивления. Раньше так и было, да. Встречались такие дети — долго не могли научиться ходить. Это теперь начинают ходить рано… Мы, оказывается, не знали, как нужно растить детей. Пичкали без конца мясом… А возьмите русских — оказывается, большая польза в травах. Какой болезнью заболевает человек — не помню названия, — если не есть лук? И говорят — если есть морковь, то глаза будут хорошо видеть. Мой отец о таком даже не слышал… — Опять спохватилась Алчадай, напомнила Мамырбаю: — Говорю тебе, дай чемоданы!
— Вы же с детьми… вам неудобно будет, тетушка, спасибо, мне не тяжело. Уже рукой подать до дома… — отвечал Мамырбай и ускорил шаг.
— Ладно, как хочешь. Я на твоем месте не только два чемодана, но еще и Керез понесла бы на руках… — При этих нескромных словах парень и девушка одновременно покраснели, опустили глаза. — О, негодники, чего здесь стесняться незлых моих слов? Я ведь не плохого хочу — только и сказала, что вы достойны друг друга. Равный с равным, а по кизяку и мешок… Что бы я сделала, будь моя воля? Сейчас, на этом вот месте, справила бы вам свадьбу. Не понимайте мои слова плохо, просто я не могу забыть, во что обратилась моя мечта… Любуюсь такими, как вы, и вспоминаю прошлое. Нельзя ждать, нельзя терять друг друга…
Кобылица заржала, увидев вдалеке силуэты пасшихся под скалой лошадей. Алчадай посмотрела вперед.
— Даже животные со своим животным соображением чувствуют одиночество. Ладно, скоро отпущу, уже недалеко осталось… — Она продолжала говорить все так же печально, и Мамырбай увидел вдруг, что лицо ее сплошь покрыто морщинами, хотя ей не было еще и сорока лет: — Милый, золотой Кыз-Булак, вот ты и открыл нам свое лицо! Истосковалась по тебе — а всего-то один день не видела. Есть в тебе что-то такое, что завораживает, притягивает взгляд. Как увижу тебя — всегда тороплюсь, хочу скорее добраться. Если иду усталая — сразу чувствую облегчение. Раньше, когда я была маленькая, мама приводила меня сюда каждую пятницу и умывала водой из родника Кыз-Булак… говорила — будешь красивой. Особенная вода в этом роднике. Мягкая, как масло, чистая, белая. А шипит, как кумыс. Видите склон над родником, дети? Зеленеет, да? Сколько там чеснока! Толщиной в мизинец… Сейчас самое время собирать — в других местах уже затвердел, а здесь мягкий. Было в детстве, ох и рвали мы его там… приносили большими связками, крошили в простоквашу и ели… да что говорить! Во всем Таласе нет для меня ничего дороже Кыз-Булака. Он хранит мою любовь, мою молодость. Я и теперь беру воду только здесь. Находятся такие, что ругают меня — мол, около дома есть вода, а ты выдумываешь что-то, таскаешься невесть куда. Но я если не выпью пригоршню воды из Кыз-Булака, то мне как будто чего-то не хватает. Было дело — председатель велел мне пасти быков в Кырк-Булаке. Я ему прямо отрезала — мол, сам паси там, если хочешь. Уперлась — и ни в какую: не разрешите пасти в Кыз-Булаке — ищите мне замену. Вот уж семь лет прошло, ни один не раскрывает рта. Только услышит председатель, как кто-нибудь предложит послать меня со стадом в другое место, тут же останавливает: «Боже упаси, вы что, не знаете Алчадай?» Скажу правду, мои родные, только потому, что пасу в Кыз-Булаке, каждый день здесь, — моя тоска немного сглаживается… иначе и не смогла бы жить без моего Алтынбека. Уже давно лежала бы в сырой земле. — Глаза Алчадай наполнились слезами, и, желая отвлечь внимание молодых, она показала рукой: — Смотрите, вон и дома. Кажется, твоя мама стоит на дороге, а, Керез? Сердцем чувствует, что ты близко, не может усидеть дома — вышла встречать. Твои глаза получше моих видят, посмотри, она ли это?
— Что-то повесила на юрту — наверное, сушиться, — сказала Керез, тихонько улыбнувшись.
— Повесила? Ну да, конечно, разве что-нибудь осталось сухое после ночного дождя? И кошма, и одежда — все мокрое. А что сталось с моей козьей бородой? Сидит, наверное, съежившись, как ветхий войлок, у края постели. Какой-то ненормальный, после дождя никак не отогреется, все, что есть в доме, набрасывает на себя.
Все ближе и ближе Кыз-Булак, открывается глазу его величавая красота. Вот уже показалась река, белопенный поток шумно прыгает с камня на камень. Издали похоже на снег. Милые сердцу места, родной дом… Керез радовалась душой, смотрела и не могла наглядеться. Забыла про Мамырбая — не подумала, что он может уйти: его родители жили дальше.
— Керез, до свидания! Выпей за меня пригоршню воды из Кыз-Булака. Каждый день, глядя на Кыз-Булак, вспоминай меня, — сказал Мамырбай.
Девушка, услышав его голос, обернулась. Мамырбай стоял на большом камне, наполовину высовывавшемся из воды, и показался сейчас Керез еще красивее прежнего. Она вспомнила, что Мамырбай должен идти к себе домой, и внутри у нее что-то дрогнуло. Она не знала, что делать. Позвать с собой стеснялась, опасаясь, как бы Алчадай не стала болтать по аилу о них с Мамырбаем. В смущении поглядывала то на Мамырбая, то на Алчадай. Не желала, чтобы он уходил так скоро. Взглядом спросила: «Может, останешься?» Джигит ответил улыбкой, как бы говоря: «Нельзя мне не пойти домой… И что подумает твоя мама, когда увидит меня? Но я хочу, чтобы ты мне сказала что-нибудь на прощанье. Хоть что-нибудь…»
Алчадай смотрела на пария и девушку, и ей казалось, что к ней вернулась ее молодость, ее счастливая девичья пора. Она хотела, чтобы они постояли так подольше. Пожалела джигита. Пришла ему на помощь.
— Погляди-ка, Керез, на этого застывшего на камне! Что это он надумал, сын слепого солнца? Чего это он пятится, когда уже подошли к дому? Эй, разве ты не заходил, не бывал раньше в доме Кара? Разве не отведал вкусной пищи, приготовленной руками Буюркан? Твои отец и мать ссорятся и мирятся по сто раз на день. Уж они-то, будь уверен, стоят на дороге, высматривая тебя, Керез, почему не скажешь этому долговязому — подожди. Возьми его за руку и веди. Ишь какой стеснительный вырос! Или притворяешься, а, хитрец? В детские годы, помню, смекалистый был, — что сейчас приключилось? Чего киснешь! Стесняешься даже больше, чем положено зятю… Ну ладно, дорогой, если не хочешь идти в дом Керез, то иди к нам. Уж не смогу, что ли, угостить одного человека! Ягненка не пожалею. Правду говорю, идем. Переночуешь, пообедаешь, а потом с уважением проводим. — Алчадай нарочно натянула повод и поставила коня перед Мамырбаем. Тот мялся, оглядывался, словно боясь, что вправду выйдет мать Керез и увидит его. Хитрая женщина заметила это, заговорила язвительнее прежнего. — Теперешние зятья не стали прятаться, а ты чего — пережиток старого?
— Хватит же, тетушка, разве так можно говорить! Услышит кто-нибудь, примет за правду… Зачем вы так, — досадливо поморщилась Керез.
Алчадай, увидев ее недовольство, поспешила загладить сказанное, — мол, шутка это, не больше, стоит ли обижаться… Взглянула на Мамырбая, грустно вздохнула. Да, видно, вспомнила свою счастливую пору. Пнула лошадь каблуком и поехала вперед. Мамырбай на прощанье помахал рукой, Керез кивнула ему в ответ и пошла к дому. Мамырбай застыл, смотрел ей вслед и желал одного — чтобы девушка еще раз обернулась. Но та уходила все дальше. Окончательно потеряв надежду на то, что она обернется, Мамырбай поднял чемодан и пустился в дорогу. Только теперь он почувствовал усталость. Казалось, что ноги не слушаются, а предстоящий путь бесконечен. Он даже пожалел — почему не послушался Алчадай, почему не остался? «Что случилось бы, если б заночевал? Почему стесняюсь ее матери Буюркан? Хотя бы до завтра побыли вместе… Слышать бы ее голос, видеть бы ее лицо… Видно, Керез обиделась на меня. Если бы не обиделась, то обернулась бы. Эх, Мамырбай, Мамырбай, что за характер у тебя. Как будто и вправду мои родители у дома стоят и ждут… верно говорит Алчадай — заняты собой, бранятся без конца… Чего мне туда спешить? Дурак я…»
Керез шла к дому следом за Алчадай и чувствовала непонятную, досадную пустоту на сердце. Старалась не показать этого Алчадай, молча слушала ее, а та продолжала тараторить, перескакивая с одного на Другое.
— Вот ведь правду говорят — бывает, что от плохого рождается хорошее. Мамырбай, он особенный. Если кто-нибудь увидит его мать и отца, не поверит, что Мамырбай их сын. Ну да ладно — пусть будет здоров, на счастье этим беднягам… Было у них два сына, да старший слег в сырую землю. Один из моих родственников, любитель побалагурить, сказал как-то, что смерть, оказывается, приходит без предупреждения, иначе он перекочевал бы заранее подальше, хоть в Сусамыр. Ты еще молодая, сестричка Керез, одно скажу: моли судьбу, чтобы соединила тебя с достойным. А когда осуществится твоя мечта, ничто не страшно. Хотя и другое скажу тебе — вот я потеряла Алтынбека, но все же осталось в жизни хорошее. Вижу восход и заход солнца — и этому радуюсь… Очень мне плохо было — но не умерла же. А теперь, как охотничья собака, выискиваю, что нужно, и таскаю домой. Живые должны жить. Хотя бы для детей… Вчера мы оставили младшего и вдвоем с Барктабасом спустились в поселок. Не может не напиться, козья борода! Чтоб придавило его несчастье! Услышал, что я собираюсь ехать, да и увязался за мною — надеялся, что дам ему выпить. Когда начался дождь, я погнала его, чтоб возвращался скорее домой. Думала, авось где-нибудь загнулся по дороге, но не видно, чтоб его проглотила земля. Видимо, доехал до дома целый и невредимый…
Алчадай искоса поглядывала на девушку, все собиралась задать ей один щекотливый вопрос. Наконец решилась:
— Ухаживает, что ли, этот Мамырбай?
Девушка покраснела.
— Да нет же! Кто вам это сказал? Помог нести чемодан… Почему — стоит только пройти вместе…
— Ночью где были? Скажи, девонька, не скрывай от меня. Если полюбили друг друга, говори не стесняясь. Спроси у меня, что такое любовь… Выпустишь из рук — потом уж не догонишь. На свете нет ничего дороже любви и семьи. Если дружная семья — это счастье, а иначе ад. Сущий ад. В день девяносто раз вспыхиваешь, девяносто раз остываешь, тысячу раз умираешь, тысячу раз воскрешаешь. Хоть из нашего дымохода с утра до вечера вьется дымок и ясно всем, что живут, что готовят в доме пищу, но на самом деле семьи у нас нет. Мы оба кажемся друг другу змеями, которые то вползают, то выползают из норы… Нравится тебе Мамырбай? Не стесняйся и выходи за него, девонька. Есть такие, что долго не могут решиться, им один кажется лучше другого. Но недаром в народе говорят, что той, которая долго выбирает, достанется старик. Разве Мамырбай не достоин любви? Вчера аильные люди говорили: «Видели Мамырбая и Керез. Пошли в горы, не обращая внимания на дождь, в руках чемоданы. Идут рядышком — какая пара хорошая! Уже, видно, поженились. Керез, оказывается, умная, вышла замуж в свой аил!»
— Хватит, тетушка, не надо так шутить. При чем тут замужество? В городе пройдешь под руку с кем-нибудь — и никто не видит в этом зазорного, а в аиле, если рядом покажешься… — начала было Керез и осеклась, боясь, как бы Алчадай не уцепилась за ее слова, не стала разносить слухи.
— Хожденье хожденью рознь, дочка. Сами-то вы говорите одно, а глаза ваши — совсем другое. Сразу видно — близкие души. Не пойми плохо, милая, я от чистого сердца. Я не сплетница, чтобы пойти и сказать кому-то, что Мамырбай собирается жениться на Керез. Я как черный камень — умею хранить тайны. О-о, чтоб ему пропасть, проклятому Барктабасу! Что это он делает — будто бодается с быком? Видишь, Керез, одно несчастье мне от этого старика… — Глаза Алчадай заблестели от слез. — Пусть за мои страдания ответит мой брат, ответит мать… Эх, да что там, к чему я беспокою тех, чьи кости уже давно сгнили! И не хотела бы говорить о них плохое, да, оказывается, жизнь сама заставляет…
— А почему же вы не уйдете от него, если так мучаетесь!
— Уйти? Попробуй уйди? Пока не умрет, разве избавлюсь от него? Раз свяжешься — всю жизнь не развяжешься… Так всю жизнь и будем скандалить… Как лошадь, привязанная к столбу, так и я кручусь. Точно — как привязанная. — Алчадай вспомнила прошедшие дни, глаза ее затуманились. — Будь она проклята, война! Каждый день — повестки, парни уходят на фронт, а на других уже приходят похоронные. Эта черная земля, видать, все способна снести, раз тогда не размякла от слез. Там плач, тут плач… Каждый день плач, уже и ждешь со страхом — кто же следующий. Был тогда в сельсовете человек по имени Сулайман. Помню — издали завидим его, уже начинаем дрожать, думаем, какую еще плохую весть принесет он. И отдавал похоронки прямо в руки. Потом уж в сельсовете подумали — стали извещать по-другому. Вскрывали пришедшие письма, и если похоронная, то извещали по обычаю. Боже мой, пусть не повторятся те проклятые дни. Если дома человек умирает, то похоронишь — и уже все, никакой надежды. А вот когда вместо умершего — листок бумаги, вот тогда особенное мучение. Ведь многие, получив похоронки, не верили. Надеялись — а вдруг вернется… Ведь и правда — некоторые вернулись. Случалось, присылали похоронную по ошибке… Так и я не верю до конца, мучаюсь — ведь не видела тела моего Алтынбека, не хоронила… А этот Барктабас — он приехал с Украины в начале войны. Раньше выслали его туда как кулака. Душа кулака — она тверже волчьей, такой выберется откуда хочешь. Быстро устроился, стал бригадиром, потом пошел чабаном. Брат мой любил водку, — может, поэтому… мать была простодушна, — может, поэтому… Десять дней подряд мой брат приходил вдребезги пьяным, на одиннадцатый стал меня бить, стал говорить — пойдешь замуж за Барктабаса. Я не соглашалась… а он — как только не мучил меня, несчастный мой брат. Рука у него была жестокая. Раз, вернувшись пьяным, чуть меня не зарезал. А мне после смерти Алтынбека все стало безразличным.
— Нельзя разве хоть сейчас жить поврозь?
— Что вместе, что поврозь — все одно… Что от меня осталось? Я как стекло, ударившееся о камень… Да еще вот эти копошащиеся существа… Куда я теперь пойду с ними… Конечно, могу уйти хоть сейчас. Барктабас не смеет мне слова сказать. Верчу им, как мальчиком. Но чего я достигну, если выгоню его? Не сообразила я, пропащая душа, с самого начала. Могла бы уйти тогда в город. Поступила бы на фабрику… Разве не смогла бы работать? Сама, значит, тоже виновата… Некоторые люди советуют, чтобы я подала на Барктабаса в суд. Зачем на него подавать в суд? Если его посадят, тюрьма испугается его! Он, оказывается, раньше мучил своих работников. Я помню об этом и теперь мучаю его, заставляю работать. Это и есть для него тюрьма. Чем будет он сидеть в тюрьме, пусть лучше пасет быков, так и мне сподручнее.
4
— Кыш! Сгинь, зверюга! Сбесился он, что ли? Ай! — Барктабас, стащив с головы тебетей и нелепо размахивая им, убегал от быка.
С виду Барктабас безобразен: подпоясался грязным полотенцем поверх короткого полушубка, штанины потертых кожаных брюк сморщились и вздернуты чуть не до колен, на ногах старые калоши. Черный из овечьей шкуры тебетей полусгнил от пота. Его преследует бык — два крепких рога широко разошлись, концы загнуты книзу. Опустил голову, приготовился боднуть. Мощный рев доносится как будто из-под земли, отдаваясь эхом от близких склонов — и кажется, что в этих горах сразу огромное множество быков ревут, преследуют испуганного Барктабаса. Глаза быка вылезли из орбит, он брызжет слюной, мягкая после дождя земля проваливается под копытами…
Когда бык уже почти настиг старика, тот вдруг далеко отбросил свой тебетей. Мотнув головой, бык оставил человека и бросился к тебетею. Подбежал, пробил рогом — вонзил глубоко в землю, а потом еще начал яростно топтать.
— Чуть не убил, вот зверюга! Надо же, отец у него — смирный бык, а этого бог наказал… Находит на него безумие после дождя. Вот, рви тебетей, сожри его! О, чтоб ты подох! Глаза как у бешеного, красные, — бормотал старик, стоя в безопасности у дверей юрты.
— На нас он не бросится? — спросила Керез у Алчадай.
— На других он и не смотрит. А этого Барктабаса иногда чуть не до смерти гоняет. Злится — почему, не знаю. Или из-за вида его уродского, или просто не любит его… Скотина все понимает. И все зависит от твоего обращения. Вот скажи, почему меня не бодает? Ласково похлопаю по шее, он уже и разомлеет, ласкается, бедняга.
— А почему Барктабас бросил тебетей, тетушка?
— Да, всегда так делает. Не знаю почему — только когда бык начинает гоняться, стоит отбросить тебетей, бык бросается на него, забывает про человека. — Алчадай заметила что-то черное на верху юрты, испуганно посмотрела: — Шкуру распялил, что ли? Точно, шкура. Зарезал, видно… Волк, что ли, напал?.. Как же ему не напасть, коли меня нет. Эй, чего скрываешься, не прячься в доме! Ой, выйди же во двор! Смотри, как сладка ему жизнь! Выходи, говорю, во двор! Как это — к тебе пристает бык? Почему не бодает других? Видно, принимает тебя за душегуба, а?
Барктабас вышел из юрты, стоял в нерешительности, не зная, идти или не идти навстречу: идти — страшно, вон он, бык… а не идти — еще страшнее, вон она — Алчадай.
— Ой, иди же, не стой как связанный!
— Гы-гы-гы! — старик деланно засмеялся, стесняясь, что Алчадай ругает его при Керез, и пошел вперед. Бык, угрожающе мыча, все топтал тебетей. — Скажи, умри — умру, скажешь, подставь себя под бычьи рога — подставлю, не гневайся только, быть тебе богатой. Еще не приехала, уже начала мучить…
— Еще говорит — мучаю, а?! Не надо было жениться на молодой! Нечего вставать поперек дороги тем, которые любят друг друга! Нет, каково, а?! Дай бог увидеть тебе то, что я увидела! Хочешь терпеть — живи, а не хочешь — скатертью дорога! Как хочешь, так и поступай, мне безразлично! Нет у меня глаз, которые желали бы видеть твое лицо, нет у меня ушей, которые желали бы слышать твои слова. Буду мучить, я этому научилась у тебя. Что такое здесь расстелено? Зарезал?
— Гы-гы-гы… — вновь засмеялся старик, тряся черными губами. — Тот ягненок… Решил сделать жертвоприношение… Гы-гы, просто так… Пригнать мне быка? Да, решил сделать… сейчас приду и все объясню… — невнятно пробормотал он, но Алчадай уже не слушала его. Хорошо знала Барктабаса, сразу поняла, что произошло, — лицо ее перекосилось от гнева. Подъехала к юрте, одного за другим смахнула ребятишек на землю — те потерли кулачками глаза, пошмыгали носом и на этом успокоились, не заплакали, не рассердились. Чувствовали, что не до них сейчас матери. Один ушел в юрту, другой принялся играть шкурой зарезанного ягненка.
Алчадай и чемодан сбросила с лошади так же, как и детей, — тот шлепнулся на бок.
— Проклятые дни! Забыла, что чемодан… Все из-за этого старика… Уж не сломался ли, а? Посмотри-ка, чтоб мне самой так упасть! Не обижайся, Керез. Видишь, сделалась я нервная. Не посчитай меня за жестокосердую, не смотри, что ругаюсь и кричу. Так отношусь только к старику, ко всем остальным сердце мое доброе. Милая моя Керез, не принимай близко к сердцу мои слова, не думай, что, мол, я за человек. Ох, я эту козлиную бороду! Засушу его вместе с корнем — как он меня засушил вместе с корнем! Я ведь была стройной цветущей девушкой, тоненькая, как былинка, и такая же беззащитная…
Алчадай сошла с коня. Барктабас тихонько подгонял успокоившегося быка, собираясь привязать его. Старик, тащившийся за быком, показался Керез похожим на ведьму… Да, именно такие ведьмы злобствовали в страшных сказках.
На громкий голос Алчадай вышла из своей юрты Буюркан. Увидела дочь — остановилась, любуясь ее молодой красотой.
Не бросилась навстречу, подобно другим матерям, не заплакала, не закричала, не стала с причитаниями бить себя в грудь. Просто стояла, поджидала дочь, лишь из шаг отошла от порога — но лицо ее озарилось светом. Она улыбалась, и радость ее была не только в лице — во всем ее существе, радовалась ее душа. И Керез увидела и оценила. Ответила матери приветливой, ясной улыбкой. Тихонько опустила на землю чемодан, обняла мать.
— Кончила, сердце мое?
— Кончила, мама.
— Спасибо… Видишь — теперь уже ты помогаешь мне… радость придает силы.
Буюркан прижала дочку к сердцу, коснулась губами ее лба — и это напомнило Керез детство. Только теперь на груди у матери блестела Золотая Звезда Героя.
— Как, мама?
— Все в порядке. Здорова, и Бедел здесь. Тут мне говорили люди — зачем морочишь себе голову, взяла в помощники глухонемого парня. Я им отвечаю: бог наказал его, не наделив слухом и речью, а теперь и я стану его гнать, что же тогда будет — со всех сторон плохо? Нет, сказала я им. Пусть работает, бедняга. У каждого своя судьба. Как знать, может быть, его счастье перевалило ко мне. Говорят, в каждом доме только один человек бывает счастливым… Так что, может быть, и я должна ему. Вчера приезжал председатель. Тоже уговаривал — мол, отара твоя знаменитая, со всех сторон люди приезжают посмотреть. Увидят глухонемого чабана — стыдно будет перед гостями. Мы, говорит, пришлем тебе сильного, знающего, опытного чабана, а этого парня отпусти. Я не согласилась. Ни к чему мне приукрашиваться, выдвигаться в знаменитости. А с председателем и зоотехник пожаловал: «Мы выделили вашим ягнятам корм, поезжайте — заберите». Спрашиваю: «И для других отар тоже дали? Всем одинаково?» «Нет, — отвечает, — не говорите никому, выделили только вам». Я в ответ: «Если даете, то всем давайте, а если не всем, то и мне ни травинки. Не хочу быть нечестной. Подумали, что люди обо мне скажут? Не отделяйте меня от всех. Не помогали специально, когда я была беспомощнее, неопытнее других, а теперь и подавно не нуждаюсь…» Столько у меня на душе накопилось! Только не знала, как высказать им. Говорю: «Меня вы сделали Героиней. А вот этого Бедела? Разве я одна хожу за отарой? Только моя тут работа? Если бы не Бедел, как я, одна женщина, управилась бы? Ему обидно. Хоть и не подает вида, но я же замечаю… Думаю об этом — стыд одолевает»… А, да что там говорить! Ладно… Ты поездом приехала?
— Да, сейчас, оказывается, в день два пассажирских ходят.
— Ну, пойдем в дом, сердце мое. Так ждала тебя!
Буюркан все еще не могла привыкнуть к тому, что Керез наконец-то вернулась. Смотрела — похудела дочка или нет… кажется, стала выше ростом. А вот что красивее прежнего сделалась — это сразу заметно.
— Когда вы с Мамырбаем выехали?
— Вчера.
— Заночевали в поселке? У кого?
— Потом расскажу.
— Ладно, дочка. Смотрю — не могу наглядеться… Господи, ты же голодная… после столовских-то обедов… А я тебя занимаю всякими россказнями, забыла, что уставшему человеку не до разговоров! Садись, дочка, сейчас подам тебе.
— Не беспокойся, мама, я сама…
— Ну, как знаешь. Давеча я растопила масло, еще теплое. Есть простокваша, вот хлеб. В чашке вареное мясо…
Но прежде чем приняться за еду, Керез открыла чемодан, достала книжку, подала матери. Буюркан прочитала вслух:
— «Лучший метод выращивания молодых ягнят…» — Проглядела несколько страниц, посмотрела оглавление. — Хорошо, что привезла, дочка. Ты получила мое последнее письмо? Успело дойти?
— Да. В продаже не было… Но я достала другое — вот… — девушка протянула матери красивую белую с красным шерстяную кофту.
Буюркан взяла, посмотрела, улыбнулась:
— Ты думаешь, я до сих пор молодая… Эта вещь больше подходит тебе. Как мне надеть такое — перед людьми неудобно, скажут, Буюркан на старости лет оделась, как девушка, в яркое…
— Ты мне всегда кажешься молодой, мама.
— Значит, я еще не старая. Ладно, что бы ты ни привезла, мне все пойдет. То, что тебе нравится, понравится и мне, дочка. Буду ходить красивая, буду всем бросаться в глаза. — Затем, спохватившись, что вещь-то не из дешевых, встревожилась: — Те деньги, что я присылала на еду, ты…
— Думаешь, я ходила голодная? Нет, просто каждый месяц откладывала понемногу… Не беспокойся, ни один день не была голодной. Надень же, мама.
— Как не надеть, сейчас, дочка.
Буюркан надела кофту и поглядела на дочь, как бы спрашивая, идет ли ей. Сразу помолодела и похорошела… Керез увидела, обрадовалась. В душе похвалила себя — купила то, что нужно. Она обошла вокруг, посмотрела — как раз впору, будто на заказ делали. Буюркан видела, как дочь смотрит на нее, — взгляд этот взволновал ее. Погляделась в зеркало — показалась себе красивой… вспомнила и будто наяву увидела себя девушкой. Хотя вот волосы не в порядке — после ливня, когда пришлось спасать овец, после ночных мучений не причесалась еще как следует. Керез поняла — не ожидая просьбы, протянула матери свой гребешок. Буюркан с удовольствием начала расчесывать волосы, сама видела, что хороша, и думала, что надо держаться, следить за собой, не подпускать старость. И настроение тогда было бы совсем иное…
Керез догадывалась, о чем думает Буюркан. Она видела, что мать в последние годы совсем не обращает на себя внимания. Переживала, но не решалась сказать ей об этом. Знала, что после смерти отца сердце матери — как открытая рана, и остерегалась, не хотела причинить ей боль. Теперь же, купив впервые самостоятельно красивую вещь и привезя ее матери, она как бы намекала ей, высказывала свои потаенные мысли. Хотела, чтобы мать была красивой и молодой, боялась, что мать не захочет понять, не примет… И теперь радовалась, ей казалось, что мать думает как она, что к матери возвратилась давно ушедшая молодость. А Буюркан и вправду повеселела. Вспомнила про свои платья, когда-то давно спрятанные в сундук и забытые. И ей захотелось надеть еще что-нибудь красивое, подходящее к обнове. Посмотрела на свои желтые сапоги, промокшие от ночного дождя, сняла их и достала и надела новые. Дочь взглядом одобрила: правильно делаешь, мама. И всего лишь две новые вещи преобразили внешность Буюркан — она словно отдохнула, посвежела, помолодела. Посмотрела с улыбкой на дочь, подошла, прижала ее голову к груди, потом поцеловала в обе щеки. Раньше она никогда так ее не целовала — для дочери это было знаком признательности и самой большой наградой. Она забыла про еду, пристально вглядывалась в лицо матери, словно спрашивая, что она еще может сделать для нее, что нужно сделать, чтобы мать почаще улыбалась так, как сейчас.
— На том склоне привязан, пасется ягненок, приведи его! Иди, мое сердце, — сказала Буюркан.
— Не нужно, мама! После ночного дождя и дрова мокрые… замучаешься.
— Как это не нужно! Когда ты, здоровая, красивая, взрослая, совсем вернулась с учебы, когда в доме достаток… Да меня за человека не будут считать, если не зарежу хоть одного ягненка. Для чего выращиваем скот? А этот черный ягненок, он давно посвящен тебе. Сделался пышный, как боорсак, будто один белый жир в нем. Я как знала, когда оставляла его для тебя… А со вчерашнего дня сердце неспокойно — словно чувствовало, знало, что ты приедешь…
Керез намазала хлеб маслом и, жуя на ходу, ушла за ягненком. А Буюркан, глядя ей вслед, вспоминала ее отца Кара. Кара всей душой любил дочку, тысячу раз на день обнимал и целовал ее, а возвращался вечером — с удовольствием играл, возился с ней, забавлял ее: то звал, то свистел, то смеялся, то сердился в шутку. Слеза поползла по щеке Буюркан. «Бедный мой, не довелось тебе увидеть такой счастливый день… Какой проклятый богом подрубил тебя под корень? Дай бог, чтобы высохли его корни, этого злодея! Кто убил? Почему так и не нашли улик? Кому и как я отомщу за тебя? Вместе с тобой ушла моя сила, моя молодость. Нет, нет, так не буду говорить. Любовь — она дает силы не только при жизни, но и после смерти. Если я тебя любила при жизни, то после твоей смерти я люблю тебя еще больше. Я не променяла тебя ни на одну душу. Сколько ни тянула меня моя молодость, но твоя любовь не дала мне сдвинуться с места. Я поняла, что сильнее тебя меня никто не полюбит. Я чувствовала, что твоя любовь — для меня единственная. Люди говорили мне, что ведь не каменная же я, чтобы застыть после смерти мужа, что молодая я, что дни мои впереди. Может быть, я и ошиблась, может, надо было выйти замуж… Нет, дело не в том, чтобы выйти замуж, а — за кого выйти замуж. Я думала об этом. Выйти за кого-нибудь, а потом не знать, как отделаться от него, что может быть мучительнее? Легко ли найти человека по душе? Я нашла тебя, я привыкла к тебе. Ты был для меня самый лучший из людей. Но если человек, привыкший к лучшему, встретит плохого, то не пройдет и года, как он состарится. Да, разве мало таких случаев в жизни. Я еще не состарилась, во мне жива молодость — я сегодня заметила это. Наверное, потому это, что не вышла замуж, все вложила в свою дочь, в оставшуюся после тебя твою Керез… глядела в ее глаза, не бросала дело, начатое тобой… Это и есть жизнь. Один умирает, другой рождается. Но я не раскисла. Я взяла себя в руки, я стала работать, чтобы не быть в глазах людей жалкой. Никому не дала повода злорадствовать, не хотела, чтобы обо мне говорили, что опустилась, умерла для этой жизни. Нет, наоборот, слышала, как повторяли мне вслед: «Не унывает, не сдается — в этом ее достоинство». Да, я стала трудиться и в труде чувствовала тебя рядом, ты помогал мне словно живой. Если бы не труд, я давно пропала бы с горя. Ты будь доволен мною, Кара. Твоя дочь, которую ты любил всей душой, выросла, не зная бедности, я не отказывала ей ни в чем. И дальше я буду руководить ее судьбой. Без нее не станет жизни в моем доме. Ты знаешь, когда вижу ее, мне кажется, что и ты где-то рядом, вышел и скоро вернешься. Ее манера говорить, ее смех напоминают твои. Слышу ее голос, и кажется, что слышу тебя. Ее глаза похожи на твои. Правда, она очень похожа на тебя, и мне кажется, что ты не умер… Как приятно, когда люди говорят о Керез, что она — вылитый отец. Да, так говорят, мой Кара, и я теперь сильная. Я не такая, какая была в первый год после твоей смерти.
Многие приезжают ко мне, чтобы посмотреть мою работу. Ты знаешь, я не тот человек, который ищет славы. Я не добивалась ни орденов, ни Звезды… Я только думала о том, что нельзя не выполнить взятое на себя. Не берись за дело, а если уж взялся — работай хорошо. В мою душу навсегда запали твои слова: «Чем плохо работать и позориться, лучше умереть». Поэтому, когда я работаю, ты всегда со мной. Недаром, видно, говорят, что погибшие живут в живых. Это, наверное, означает, что народ бессмертен. Если я умру, после меня останется Керез, и она докончит то, что не успела сделать я… так жизнь передается из рук в руки». Буюркан закрыла глаза и будто наяву услышала голос Кара. Словно бы он позвал ее… Она снова заплакала. Но справилась с собой, встряхнулась и, гордая, красивая, молодая, вышла из юрты. Подумала: «Пусть люди скажут, что помолодела, когда приехала дочь. Пусть позавидуют враги. Пусть узнают, какое бывает счастье, пусть сгорят от зависти. Да, пусть сгорят от зависти. Убийцы Кара не издалека приехали. Это кто-то из нашего аила. Да, он следит за каждым моим шагом. Он радуется, когда я плохо выгляжу, и опускает голову, когда я сильна. И чем лучше я буду работать, чем лучше жить, тем ему будет хуже. Я так, таким способом должна отомстить ему. Не может быть, чтобы убийца не нашелся. Правду говорит народ, что злодея настигнет возмездие и через сорок лет. Когда-нибудь все раскроется, виновные понесут наказание. Тогда моя месть свершится до конца. Но до тех пор не будет мне покоя…»
Вернувшаяся за чем-то Керез увидела слезы в глазах матери, встревожилась:
— Что случилось, мама?
— Вспомнила твоего несчастного отца. Думаю о нем и в несчастье, и в радости. А сегодня совсем уж никак не уходит из мыслей, мелькает перед глазами. Разве можно забыть такого человека! Жизнь и горе неразделимы. И со мной все чаше случается — ловлю себя на том, что думаю о несчастьях… может быть, это надвигающаяся старость? Иногда большая, как гора, ноша кажется легкой, словно две охапки хворосту, а иногда легкая, как пушинка, тяжесть становится неподъемной… вот что такое жизнь… Ладно, успеешь за ягненком сходить, посиди пока со мной. Правда, нет ничего лучше своего дома? Для меня час в своем доме вмещает больше жизни, чем целый день в гостях… — Буюркан заботливо усадила дочь на черную лохматую шкуру. — Смотри-ка, потихоньку-потихоньку, а мы с тобой разбогатели. Дойная корова, кобылица, овцы… Кобылицу купила, когда лошади были дешевыми… ты же знаешь. Принесла жеребеночка. Три раза в день дою, потом отпускаю пастись. Кумыса вдоволь, мы с Беделом все время пьем, — оказывается, человек скучает по кислому, иначе бы не стала приготовлять. А хлеб — посмотри, до чего пышный, душа радуется. Оказалось, у нас уже четыре головы крупного скота стало. Пошла к председателю, сказала — вот возьмите, пожалуйста. Так бухгалтер смеется еще: «Какой бог надоумил тебя, когда у других никак выпросить не можем?» Вот такой, говорю, бог надоумил, берите. Сколько считаете нужным уплатить, столько уплатите. Отдала три овцы по средней рыночной цене. Деньги лежат в том сундуке. Хотела положить в кассу, да не выбралась. Когда я сдавала скот, то эта козлиная борода, Барктабас, явился, никак не уходит от очага. Шепелявит: «Дешево возьмут, не отдавай. Продай на базаре. За эту откормленную скотину сразу выложат сколько назовешь». Я так рассердилась, смотреть на него не могла. Говорю — для чего мне обманывать колхоз, разве голодаю? Или в доме чего недостает? Что буду делать со скотом, укрывая его от власти? Разве у меня есть дети, которых не могу прокормить? Одна дочь у меня — того скота, что есть в хозяйстве, даже больше, чем необходимо нам на двоих. Пусть мои овцы пойдут на пользу колхозу, когда план не выполняется! Не понравились мои слова козлиной бороде — ну да мне все равно. Желаю — получу с колхоза полную цену, желаю — отдам колхозу даром, — это как захочу, сам поступай как знаешь, — так ему и сказала. Опустил голову, молча поплелся восвояси. Ой, этот старик — он не прост! Каждые два дня чего-нибудь выдумывает. Вот сегодня — собирается принести жертву. То, говорит, видел душегуба, то духа встретил, то ведьму… Как-то жаловался: всю ночь прокричал и не мог уснуть. Смотри какой! Наоборот, это его душегуб испугается… Пустое болтает. Откуда сейчас ведьмы? Раньше старые люди говорили, что видели ведьму или духа какого… Но если бы были на самом деле, то показывались бы и нам, правда? Я давеча в грозу охраняла двор от волков, так этот Барктабас ночью заявился. И говорит, и говорит — остановиться не может. Мол, дождь льет вовсю, а скала под дождем горит, языки пламени видны… Закричал с испугу, бросил камень — так дух, говорит, гнался за ним до самого дома, раза два окликал его по имени… И будто конь его заржал от испуга и так дернулся — чуть не свалил его в пропасть… В том, что рассказывает такие небылицы, вижу один смысл: похоже, просто захотелось ему мяса. В другое время Алчадай не подпустит его к овце. Вот он и придумывает всякую всячину — мол, столкнулись две горы… всеми правдами и неправдами выманивает что-нибудь и тогда получает возможность отведать горячего бульона… Пропади она пропадом, такая жизнь! А если кто спросит у него, как дела, — не подает виду, балагурит, хвастается, что при молодой жене и душа молодеет. Как же, помолодел ободранный козел, посаженный на колючки! На, сердце мое, подкрепись пока. — Буюркан поставила перед дочерью различную снедь, что была в доме.
Девушка вспомнила про костер, который они с Мамырбаем разожгли ночью в пещере, — его-то пламя и принял Барктабас за бесовское наваждение. Усмехнулась, хотела было рассказать матери, но раздумала — ведь мать еще не знает, где она провела ночь. Тут ее мысли были прерваны приходом самого Барктабаса, — как говорится, легок на помине. Поглаживая рукой козлиную бороду, старик зашевелил черными губами:
— А-а… бу-бу-бу… Приехала, золотая моя? Окончила учебу, серебряная моя! Милая, как теленочек! Услышал, что ты приехала, и побежал, не доев обеда. Как же не бежать… бу-бу-бу, ночью чудище… показалось привидение… Гнало меня до самого дома. То ли грешен в чем, то ли что сказал не так…
Барктабас, стоявший в дверях, только назывался человеком, на самом же деле это было живое, настоящее привидение. Нос с большим родимым пятном безобразно расплылся, из родимого пятна растут, свесились ко рту белые волосинки. Длинные седые брови наползли на глаза, а те покрыты сеткой красных прожилок, слезятся, часто мигают. Сморщенная кожа на шее обвисла, жидкие усы прикрывают рот, видны желтые, наполовину стертые зубы. На ногах чарыки. Во всем Таласе при теперешнем достатке таким вот, в чарыках, увидишь разве что одного только Барктабаса. Ворот синей рубашки порван, болтается.
— Я сделал жертвоприношение… Хочу, чтобы вы отведали бульона… бу-бу-бу…
Не окончив говорить, запнулся на полуслове. Видно, решил, что и так поймут. Керез испугалась его вида. И стеснялась, что такой человек приглашает их отпить бульона, и брезговала… Не зная, что ответить, поглядела на мать. Буюркан поняла.
— Устала она с дороги, не сможет пойти.
— Бу-бу-бу… как хочет. Наш долг пригласить. Я с мыслью, что нельзя не пригласить по такому случаю, тем более что соседи… Спасибо, лишь бы не обижались…
И тут Барктабас разглядел, как похорошела Буюркан. Глаза его округлились, в них застыл немой вопрос. За два дня до смерти Кара он видел Буюркан, возвращающуюся со свадьбы. Громко смеялась в стайке девушек и молодок — и была краше всех. Сейчас ему показалось, что вернулся тот самый день. Он постоял немного в растерянности, не понимая, что произошло, как Буюркан снова сделалась красавицей. Потом заметил новую одежду… «А-а, смотрите-ка, надела привезенное дочерью Поглядишь на нее — все молодеет… Отчего так?! Есть же люди, не поддаются горю…» — такие слова, казалось, готов он был произнести. Лицо его, засохшее как кора, жалко исказилось. Повернулся и пошел, шуршали заскорузлые от грязи кожаные штаны.
— С весны сделался таким, теряет человеческий облик. Смотри, до чего оборван и грязен. Но и раньше, когда владел огромными отарами, в волчьей жадности пересчитывал каждое копыто, боясь, как бы от тысяч его овец не убыло… и тогда, говорят, на нем не видели целой рубашки. Алчадай за все воздала ему, не знаю, есть ли большая месть. Не жизнь у него — сущий ад. Нет чести в этой козлиной бороде… Иногда думаю — лучше бы умер, чем жить такой жизнью: что бы ни оказалось у него в руках, все переводит на водку. Напьется — валяется, как кабан. А то начинает рыдать… Или точит нож — наточит до блеска и говорит жене: «Зарежь этим ножом, сам не могу — не берет мое горло, закаменело, что ли…» — и нарочно проводит ножом по горлу. Я, когда остаюсь одна, боюсь, как бы не сотворил чего этот нечестивец… Ой, да сколько можно о нем… Ушел — и ладно. Ешь, сердце мое, когда еще сварится мясо…
Керез положила на хлеб сметаны и стала есть, а за едой оглядывала внутренность юрты. Все по-прежнему, все на своих обычных местах. На полу — красивый войлочный ковер — ширдак. Поверх него черная лохматая шкура — на ней сидит сейчас Керез. На специальной подставке — горка свернутых шелковых одеял. Увидев их, Керез улыбнулась. Это мама о ней заботится, для нее собирает. Когда приезжала из города на каникулы, мама каждый раз повторяла ей: «Бог даст, это все твое. Если хоть по одному одеялу справлять в год, за десять лет будет десять одеял. Иначе как приготовлю тебе приданое? Нет худшего оскорбления, если в доме, куда ты уйдешь, упрекнут, что у тебя нет отца. Девушек-сирот без конца ругают, знаю: чуть чем недовольны — так и начинают щекотать словами — мол, был бы жив отец, все было бы иначе. Нет, что я за мать, если не смогу как следует проводить единственную дочку!»
А вот еще — видит Керез — два совсем новых плюшевых одеяла и войлочный ковер под ними — тоже недавнее приобретение. На журнальном столике в углу — радиоприемник. Дальше ширмой отгорожена кухонька. У противоположной стены юрты — новая кровать; видно, мама недавно купила — к возвращению Керез. На желтом шелковом с попугаями покрывале — еще несколько аккуратно свернутых одеял. Все чисто, красиво, всего достаточно — не стыдно показать людям. Молодец, мама! И когда она все успевает! Не зря весь аил уважает ее. Керез с удовольствием смотрела, как похорошела и помолодела мать в новой одежде. Из-под маленького платка, завязанного на затылке, выглядывают блестящие камушки сережек, две черные косы заброшены за спину. Керез улыбнулась матери:
— Пойду я, а? Приведу ягненка?
— Иди, мое сердце.
— Кто заколет его, мама?
— Не видно там на склоне Бедела? Позови. Если поманишь платком — увидит.
Девушка вышла из юрты, посмотрела.
— Далеко ушел Бедел, не увидит платка. Давай сбегаю за ним, а?
— Он зорче беркута, дочка, разглядит.
Перед глазами Керез поднималась скала Кыз-Булак, и девушка залюбовалась ее неповторимой, родной красотой. Сразу вспомнила Мамырбая. Где он сейчас? Почему не захотел пойти с ней? Разве таким должен быть влюбленный? Нет, нет, она осиротела, потому что рядом не было Мамырбая. И ему грустно без нее. Теперь Керез каждый раз, глядя на Кыз-Булак, будет вспоминать Мамырбая. Каждый раз, склоняясь к роднику, будет слышать в шуме воды его слова.
Почему все так складывается? А может быть, она ошибается? Нет, в себе она уверена… и в Мамырбае тоже.
5
Алчадай налила в большую чашку простокваши и дала троим своим детям. Уставшие с дороги, проголодавшиеся, ребятишки с трех сторон зачерпывали тремя ложками, не отставали друг от друга. Мордашки у всех в простокваше, младший и на себя пролил. То тихо едят, то вдруг начинают пререкаться, потом снова успокаиваются. Алчадай не обращает на них внимания, она занята мясом, что варится в казане. Еще немного — и мясо будет готово.
Хоть Алчадай и рассердилась сначала, увидев расстеленную на юрте шкуру ягненка, но, заметив, что старик поставил варить мясо, замолчала. Как бы там ни получилось с ягненком, а после такой ночи, дождливой и холодной, необходимо было подкрепиться свежим бульоном. Поэтому сейчас она стояла возле казана, помешивала половником. Правда, думала она не о еде, о другом. Из головы не шли слова, которые она услышала в эту свою поездку в поселок. Она и прежде слышала подобное, но не верила, не решалась поверить — настолько ужасно все это было… Получилось так, что раньше слух дошел до нее от постороннего, почти что незнакомого человека, теперь же она встретилась с близкой родственницей Барктабаса, уже совсем дряхлой старухой. Если бы снова услышала от постороннего, видно, опять бы не поверила, но про старую Алыйман, которой исполнилось уже девяносто, всем было известно, что она не говорит неправду. И все же Алчадай мучили сомнения.
«Откуда сама старуха все узнала? И ведь если б знала раньше — не вытерпела бы и рассказала. Если окажется правдой, что Барктабас убил… Но говорила старуха без точной уверенности. Сказала — не может утверждать, что убил собственноручно… Должен быть сообщник… Но зачем, для чего Барктабасу убивать Алтынбека? Никак не связаны… Алтынбек — из дальнего аила… Случайно? А может, сделал это, чтобы взять меня в жены? Но откуда Барктабасу было знать, что Алтынбек посватался ко мне? Неужели рассчитывал, что убьет жениха и сам женится? Высохший от старости разве мог так думать? Ах, кто знает… Нет, наверное, это ложь, пустая болтовня. В тот проклятый день, в день смерти Кара, пропал и мой Алтынбек. Но Кара нашли убитым на дороге и похоронили, а Алтынбек — исчез, искали — не нашли. Правда, каждый может подтвердить, что Барктабас в тот день болел, лежал в постели. Говорят, слышали, как он стонал… а дверь запер изнутри. Кто знает, жил он один… может, и правда, лежал больной… Голова раскалывается от мыслей. Правда, что Кара он, наверное, желал отомстить. Кара раскулачивал его… Так что нельзя сказать, что не мог Барктабас убить. И все же, если он лежал больной… Но нет, сердцем чувствую: эта козлиная борода не чиста. Не может смотреть в глаза, уклоняется от прямого взгляда. На днях, когда поругались, что это он? — вдруг, ни с того ни с сего, закричал: «Скажу!» Говорю: «Скажи, что же не продолжаешь?» — а он уперся и молчит. На что намекал? Не таится ли тут беда? Но нет, чтобы этот согнувшийся старик — и убил? Ох-хо, если бы все раскрылось! Если бы увидеть мне виновника смерти Алтынбека — уж я бы помучила его! Господи, дай мне отомстить! Но эту козлиную бороду, его я заставлю сказать! Не скажет сегодня, скажет завтра, если завтра не скажет, то послезавтра… Как получилось, что он женился на мне, как сумел уговорить моего брата и мать? Почему они помогали ему? Чем он их купил? Или — заставил? Что-то, наверное, тут есть… Но как же я сумею раскрыть его, даже если и есть что-то, коль у меня нет свидетелей?.. Как использовать свидетельство старушки Алыйман? Куда потащу бедняжку, которая еле носит свою душу? Да и она может отказаться от своих слов. Что буду делать, если она заявит: «Знала бы, что ты так поступишь, ничего тебе не сказала бы!» Нет, нужно действовать иначе. Но как?»
Такие мысли одолевали Алчадай.
К юрте подошел Барктабас, шурша кожаными штанами. Алчадай вздрогнула. Накопившаяся ярость переполняла ее.
— Где Керез? Не пришла? Что она, ненормальная, чтобы прийти в наш дом! Люди от одного твоего вида шарахаются! Принеси со двора кизяк и разожги, не таращись! Чего уставился? Не видел, что ли, меня? Я — Алчадай! Ишь, выпятил кадык, точно локоть! Чтоб ты проглотил свою голову! — закричала Алчадай, снимая с бульона налетевшую золу и отбрасывая в сторону.
Старик лишь заглянул в дверь, но, услышав ругань жены, молча повернул назад. Принес кизяк, бросил возле огня и отряхнул одежду.
— Иди дальше от казана!
— Бу-бу-бу… — вытянув черные губы, старик попробовал засмеяться.
Алчадай посмотрела с недоумением. Что это с ним? Она видела, что Барктабас не только не выполнил ее приказания, но стоит злой, угрожающий, хотя и не говорит ничего, лишь усмехается. Злость подчинила себе женщину. Она закричала, чтобы старик сейчас же отошел от казана, но тот даже не пошевелился. Алчадай разозлилась еще больше. Вскочила, протянула руку, готовая ободрать лицо старика, тот заметил, не испугался.
— Не подходи! — Голос его прозвучал сейчас необычно — сильный, уверенный. Брови поднялись, глаза округлились. — Не подходи! Мне некого жалеть!
— Ах вот как! Ну покажи, на что способен! Если я сейчас, не сходя с этого места, не разделаю тебя, кровопийца… — Задохнувшись, женщина схватила лежавший у очага топор и двинулась вперед.
— А ну! — Старик выдернул из двух ножен на поясе два ножа, высоко поднял в руках. — Ты знаешь, какие это ножи? Знаешь, для чего точил их? Если тебе дорога жизнь, беги сейчас же! Брось топор!
— Давай попробуй, герой! Убей, если можешь!
Алчадай подняла топор и замахнулась, но, оказалось, плохо посажен был, слетел с топорища. Барктабас надвинулся, два ножа поблескивали в руках. Алчадай попятилась. Трое ребятишек, занятые до сих пор простоквашей, увидели ножи и подняли крик. Алчадай испугалась, искала взглядом, чем бы оборониться… страшный этот старик, он не дорожит своей душой — как бы и вправду не сотворил чего. В это время двое старших детей бросились между ними, Барктабас со злостью пнул ближнего, тот упал, заплакал. Второй с криком: «Убивает маму!» — выбежал во двор. На крик выглянула из своего дома Буюркан. Барктабас убрал ножи в ножны и, откашливаясь и отплевываясь, отступил назад.
— И меня тоже убить хочешь, да?! — не умолкала Алчадай.
— Хоть волк и одряхлел, да на одну овцу сил хватит, поберегись трогать меня… Не уймешься — плохо будет.
— Такого, как ты, кровопийцу надо…
— Кто кровопийца?
— Ты!
— Я?
— Ты!
Барктабас подлетел к Алчадай, вцепился в горло. Алчадай ухватила старика за бороду. Но Барктабас повалил ее, стал душить. Алчадай не поддавалась, а старший из детей, чтобы помочь матери, поднял поленце, начал бить старика по спине. Барктабас быстро устал, дышал тяжело. Когда Алчадай хотела перевалить его на спину, старик вскочил, снова вытащил ножи.
Прибежавшая от своей юрты Буюркан увидела драку.
— О, двумя ножами собираешься зарезать? Постыдился бы своей седой бороды! Стыдно! — сказала она.
— Бу-бу-бу!.. не я начал, она сама… Пристала к человеку… — Барктабас принял обычный свой смиренный вид.
— Брось сейчас же ножи!
Барктабас разжал кулаки, ножи попадали на землю. Ушел во двор, сел на толстое полено, сгорбился, застыл так — словно неживой.
— Для чего живешь с ним, лучше бы ушла, — сказала Буюркан. — Чем видеть такие дни…
— Я уже давно бы ушла, сестра, да есть одно дело — держит меня. Пока не отомстила… Я раньше слышала одну вещь, сейчас опять услышала. Если это правда…
— Какая вещь, о чем ты?
— Нет, сейчас пока не скажу, сестра. Я этого старика…
— Ну ладно, не хочешь — тебе виднее.
— Присядь, сестра.
— Приехала Керез, мне надо быть дома. Вид у твоего старика недобрый, будь осторожна.
— Бог дал душу, сам и заберет. Чем бояться этого… Даже если десять таких придут, не испугаюсь. Только раз дуну — и улетят.
— Когда вы ругаетесь, и я нервничаю. Не уважаете себя, хоть уважали бы других. А детям твоим каково? Что за люди из них получатся, если будут видеть таких родителей? Ах, Алчадай, согласись с моими словами, помести своих ребят в интернат. Там хорошо воспитают. Я сама поговорю, они примут. Ты сколько раз соглашалась отдать их — и продолжаешь свое, как же так?
— Отдам попозже. Подожду до осени.
— Поступай как знаешь. За тебя болеешь сердцем, а ты бьешь по сердцу.
После ухода Буюркан Алчадай задумалась. «Сразу вспыхиваю, не владею собой — вот что плохо. Не умею хитростью вытянуть из него, выведать… Назвала его кровопийцей — теперь он знает, что подозреваю его, не пожалеет. Вытаскивает ножи, не боится греха, ничего не боится. Ишь как говорит! «Хоть волк и одряхлел, но на одну овцу сил хватит!» Не спеши… Из шума и крика ничего не выйдет — нужно придумать иное. Может, удастся обмануть его? Говорить мирно… мяса дать, водки дать — он расслабится, размякнет… Может, тогда скажет, как было… правду ли говорит старая Алыйман? Только — сумею ли, вытерплю ли? Не выдам себя? Если он догадается — будет молчать». Алчадай, будто желая помириться, позвала Барктабаса в дом. Тот подошел, остановился в дверях, выжидая. Присмотрелся, вид у жены не сердитый, на лице еле заметная улыбка. Увидев такое, старик тоже перестал хмуриться. Уселся на привычное место.
— Ой, скажи толком, что видел ночью? То говоришь — ведьма, то говоришь — кровопийца… Ты правильно сделал, что принес жертву богу.
— Правда? Я зарезал того ягненка-сироту. Не думай, что большого черного ягненка.
— Да, правильно. К тому же и по мясу соскучились. Ну хорошо, расскажи лучше, что случилось с тобой ночью. Правда, кто-то гнался за тобой? Похож на человека? Звал тебя по имени?
— Показалось, кричал: «Барктабас, Барктабас». Как я мог его увидеть — дождь сильно лил, темно было… Слышал за спиной конский топот. Так и стучит. А чуть раньше видел в скале огонь. Как думаешь, кто, как не ведьма? Конь мой испугался, не идет, вертится на месте. Подхлестываю камчой, а он не двигается…
— Вытаскиваешь ножи, перепугал детей. Как не стыдно, Барктабас! Что хорошего я от тебя видела? Другой бы на твоем месте…
— Я же только припугнуть… разве у меня каменное сердце, чтобы убивать тебя?
Алчадай вздрогнула. Чуть не закричала — так это ты, оказывается, убил! — но вовремя удержалась. Секундой позже обрадовалась, что не сказала. Значит, она на верном пути!
— Будешь пить водку, а, Барктабас?
— А? Водку? А-а, водку…
Алчадай достала бутыль со спиртом, налила в стакан и подержала в руке, глядя на Барктабаса. Тот судорожно сглотнул слюну, руки напряглись, весь затрясся.
— На, пей!
Барктабас принял стакан из рук Алчадай, опрокинул, задохнулся, глаза выкатились. Запил водой из чайника, с довольным видом вытер губы. Распрямился, повеселел — мол, теперь говори что хочешь, твоя воля, нам без разницы. Алчадай приметила это, задала ему несколько вопросов, приближаясь к главному. Барктабас, вытирая пот со лба, отвечал толково и вроде бы откровенно.
— Если бы ты подобрее был… а то, что не скрываешь прошлого, это хорошо, Барктабас. Не будешь ничего скрывать от меня — и водка будет, и еды вдоволь. Видишь, ведь можем мы хорошо разговаривать, — сказала Алчадай, и старик, выражая согласие, склонил голову.
— Расскажу тебе все, я и сам собирался, да не было подходящего случая. Чего мне бояться? Что мне осталось, не расти — умирать. Ты ненавидишь меня. Не можешь простить, что я, старик, взял тебя в жены, взял молоденькую девушку. Я и не собирался… но получилось так, — оказывается, это повеление судьбы. Когда ты услышишь… нет, если все рассказать, длинная получится история, — Барктабас махнул рукой.
Алчадай снова стала упрашивать, чтобы он вспомнил давнее, налила еще спирта; старик разгорячился, сидел вольнее, посмеивался уверенно. Выпитое туманило мозг, он было порывался рассказать, но вовремя сдерживал себя. «Что будет, если она все узнает? А почему бы и нет?.. Другие подбили меня, вот я и взял ее в жены. Красивая, чистая девушка была, все уговаривали… Может, и вправду рассказать? Нет, нет, она же ненавидит меня, скандал поднимет… Нужно быть осторожным. Она подозревает, догадывается. Ничего, пусть надеется, что я раскроюсь. Пусть поит меня спиртом, пусть кормит до отвала, пусть старается в надежде… Да, это правильно… Обману ее. Вот и выход», — думал Барктабас, с жадностью поглядывая на бутылку. Последние полгода он пил чуть не ежедневно, и теперь поднесенного Алчадай оказалось более чем достаточно; глаза его вдруг остекленели, выкатились в испуге — он увидел что-то корчащееся, извивающееся, в ушах стоял шум.
Алчадай отступила в страхе.
— Ты что? Погляди на себя в зеркало! Уж не паралич ли разбил?
Старик сидел неподвижно, потом встряхнулся, глаза приобрели обычное выражение.
— Будто дракон пролетел. Вот здесь, у твоих плеч… Ой, опять… Что же я так стою? Или это ты стоишь вниз головой?
Вскочил, нащупал руками ножны — ножей там не оказалось. Повалился на постель, захрапел.
Махнув на него рукой, Алчадай хлопотала по хозяйству.
Когда она собралась вынимать мясо из казана, Барктабас поднял вдруг голову:
— Куда они ушли?
— Кто?
— А! Разве я дома? Это сон был? Что я говорил?
— Все рассказал. О смерти Алтынбека…
— Нет. Я не убивал. Я чист…
— Хочешь еще спирта?
— Что другое осталось у меня в жизни? Если есть, не жалей…
Алчадай налила ему еще немного, старик выпил — и вроде пришел в себя. Взгляд сделался печальным, он задумался. Вспомнил прошедшее. Вспомнил, как жил он после женитьбы на Алчадай. Первое время держал ее в строгости, рта не давал открыть. Это потом уж у нее начал развязываться язык. Он думал, что после рождения ребенка она успокоится, перестанет скандалить… вышло наоборот. А после рождения второго ребенка Алчадай разошлась еще пуще. Барктабас тогда был еще в силе, попробовал ее бить. Дважды брал в руки камчу, но Алчадай оба раза вырывала плеть из его рук, сама расправлялась с ним. После этого Барктабас съежился, как паук от ветра. Ругается ли, толкнет ли — все это перестало его трогать. Он понял, что потерял силу, потерял власть даже в своем доме, — и все связанное с домом стало ему безразлично. Не раз повторял Алчадай — мол, если бог надоумит, то она вправе прогнать его. Ни чувств никаких он не испытывал, ни даже слов у него не осталось — в ответ на презрение и ругань он обычно лишь молча посмеивался. Думал, что и железо ведь изнашивается, — успокоится когда-нибудь и Алчадай.
Ему захотелось есть — он выхватил высовывавшуюся из казана кость с мясом, обжигая рот, руки, принялся раздирать зубами недоварившуюся баранину. Алчадай смотрела с молчаливым отвращением.
Барктабас с костью в зубах вышел во двор.
Алчадай сквозь слезы оглядела внутренность юрты. У порога — находящаяся в обработке свернутая овчина, намазанная простоквашей — резкий кислый запах бьет в нос. Овчина придавлена деревянной ступой, треснувшей сверху донизу. Посреди юрты — старый войлочный ковер — ширдак. Напротив входа сложены горкой несколько потрепанных одеял. Возле кухонной перегородки в беспорядке валяются чашки, немытые, с отбитыми краями. Оставшееся от зарезанного сегодня ягненка мясо подвешено на крюк, и с него еще капает. Голова ягненка с оскаленными зубами туманным взглядом смотрит на Алчадай. У входа валяется поломанное андижанское седло. Одна из веревок, привязанных к тундуку, раскачивается из стороны в сторону от ветра.
Барктабас, обгладывая мосол, устроился на вязанках хвороста, заготовленного на растопку. В мыслях он сейчас был далеко, многое предстало его памяти. Хотя и знал, что жить осталось недолго, и не дорожил постылой этой жизнью, все же ему, после выпитого и съеденного, хотелось думать о приятном. Он постарался вспомнить, что же хорошего видел за прожитые восемьдесят лет, было ли время, когда жил в свое удовольствие, — и не мог вспомнить. Перед его глазами представало лишь бесчисленное множество овец. Ему виделось, как они, волоча за собой курдюки, блея, выходили со двора утром и, блея и толкаясь, возвращались вечером. Сам же Барктабас, держа в руке сложенную вдвое камчу, и утром и вечером пересчитывал их по одной. Причем вечером частенько недосчитывался одного-двух баранов — и тогда вытягивал душу из чабана. Размахивая камчой, обещал, что вечером зарежет вместо барана самого пастуха. Тот откупался, отдавал собственную овцу. Затем, отряхивая полы короткой серой шубы, Барктабас важно отправлялся домой. Входил в черную вышитую кибитку, испуганная жена наливала ему в миску овечьего кислого молока, подносила. Присев на корточки, он разом выпивал всю миску и, грозно взглянув на жену, снова выходил во двор. Почему он так смотрел? Чего пугалась его жена? Этого они оба не знали. Однако Барктабас был доволен тем, что держит в страхе жену, а жена его была довольна тем, что он вышел из дома… Это и было их радостями.
«Когда же я приехал сюда, для чего? — думал Барктабас. — Да, началась война. Немцы уже заняли большую часть Украины. Мне дали разрешение. Сказали, если желаете — можете выехать к прежнему месту жительства. Некоторые из высланных со мной, молодые, ушли на фронт. Некоторые, как и я, решили эвакуироваться. Нашлись и такие, что остались ждать немцев. Я вернулся сюда. Взял в жены молодую, красивую, точно поднял на дороге оброненную кем-то пачку денег. А-а, жена… Как она мне досталась? Да, было… была кровь, я перешагнул через голову покойника… Оттого и мучения мне — разве даст спокойно заснуть чья-то обида? Все-таки Алчадай человек. Она мстит мне за своего Алтынбека, это понятно. Почему я тогда не рассказал властям всю правду? Испугался. Все-таки выслан был, на подозрении. С другой стороны, красивая девушка приглянулась — можно сказать, продался из-за нее, отдал душу дьяволу. Не стал сдерживать себя. Захотелось на старости пожить сладко, обнимая молодую жену… Нет, стой, стой, Барктабас, остановись. Не обманывай себя — к чему? Разве просто так — жить, работать, иметь дом и семью, разве для этого вернулся сюда с Украины? Нет, ты затаил злобу. Ты думал о мести, лишь она была у тебя на сердце. Да, правда, истинная правда… К чему лгать самому себе? Когда началась война, я обрадовался. Я молился аллаху, повернувшись в сторону Киблы[45]. Я решил, что настал мой час… что аллах дает мне еще одну возможность… что жизнь моя начнется сначала. Я думал поехать в родные места и там ждать, чем кончится война. Если победят немцы, то и на моей улице будет праздник, найдутся такие, как я, приблизят к себе. Вот тогда — тогда я зажал бы в кулак народ целого края!.. Посмотрел бы я на того, кто осмелится пересечь мне дорогу. Я под корень уничтожил бы тех, которые когда-то притесняли меня… А если немцы не победят, думал я, и в таком случае я в выигрыше: останусь человеком чистым и честным, бежал от фашистов, хорошо работаю. Да, я приехал с такими мыслями. Казалось, сам аллах помогает мне, сам аллах вручил мне эту женщину. А получилось… Как только она вошла в дом, все мое счастье разлетелось. Нет, опять обманываю себя. Началось раньше. Да, сам я не убивал, но был соучастником. С тех пор хожу как по острию сабли. С восхода солнца до наступления вечера для меня проходят два года. Если кто-нибудь направляется к дому, я дрожу. Я боюсь даже собственных ушей, боюсь — когда-нибудь услышу, что все раскрылось. Алчадай давно уже намекала — сегодня же говорит, будто во всем уверилась. Что же делать… Разве можно это называть жизнью — хожу как под ножом. И зачем тянуть? Чего могу еще дождаться? Тюрьмы? Или Алчадай узнает, или сам проговорюсь спьяну — конец один… Конец…» Сознание его опять начало мутиться.
— Умру! — закричал Барктабас, отбросил кость, вскочил. — Не хочу так жить! Не хочу жить!
Алчадай выбежала во двор, увидела своего старика — ухватился двумя руками за ворот и душил себя. Посчитав за притворство, язвительно засмеялась:
— Так разве умрешь? На, вот возьми, попробуй арканом… В одно мгновение вытянешься! — Она хотела просто пошутить, но слишком напряжена была, опять разошлась: — Пропади с моих глаз! Иди вон туда, к скале, там умри! Даже мертвым не хочу тебя видеть! Говоришь — умру… разве живой ты?!
Выкричавшись, успокоившись немного, она добавила:
— Наелся? Иди выгоняй быков.
6
Барктабас лежит на травянистом склоне, предоставив быкам пастись, и опять больные мысли одолевают его. То ему кажется, что он в узком ущелье, откуда нет выхода. Потом оказывается, что каждая скала, словно поднятый палец, грозит ему… каждое дерево и даже травинка собрались уколоть, проткнуть его глаз… все вокруг страшное, враждебное, чужое. А вечером — домой. Но идти домой — хуже, чем в тюрьму. Алчадай, похоже, все знает…
Когда сознание проясняется, он снова перебирает в памяти события минувшего. Желая оправдать себя, он говорит и говорит — сам с собой, в одиночестве. Иногда ругает себя, горячится, злится, даже бьет сам себя палкой. Наконец, взглянув на высокую вершину Кыз-Булака, он в очередной раз думает о смерти — и, странно, словно бы успокаивается. Его как бы что-то тянет туда, на скалу Кыз-Булак, там конец, там облегчение. Он даже встает, делает несколько шагов вверх по склону, но сдерживается. Однако мысли его определились. «Другие люди умирают один раз, я в постоянном страхе умирал тысячу раз. Свобода обернулась для меня тюрьмой, бо́льшим мучением, чем тюрьма. Да, если бы тогда попал в тюрьму, было бы легче… Тогда… Да, я вернулся с Украины и сначала вроде неплохо устроился. Работой себя не обременял. Днем отлеживался дома, сказавшись больным, а ночью, будто волк или лисица, обшаривал окрестность. Когда смеркалось, я завешивал изнутри окно, запирал дверь и исчезал. И как ночью ни одна живая душа не придет на могилу, так никто не приходил ко мне. Правду говорят: ночь принадлежит хищникам — да, ночь принадлежала мне. Я уносил все: от забытых хозяевами во дворе веревок до овец и ягнят до колхозного зерна. Ночь сводила меня с такими же, как я, темными душами. Мы старались не сталкиваться — те убегали от меня, я убегал от них. Все же я видел их дела, а они видели мои, но и я и они умели не оставлять следов. И вот однажды ночью я нашел то, что просил у неба. Перед Кара-Ташем… выстрел — силуэты двух верховых… уводят в горы пленника — связанного, избитого Алтынбека. Все это, как сегодняшний день, стоит перед моими глазами. Руки Алтынбека были связаны за спиной, рот ему заткнули тряпкой, один из них вел его на аркане, другой хлестал камчой. Завидев меня, Салкандай — я знал, что он дезертировал и прячется с такими же, как сам, в горах, — Салкандай выставил вперед свое ружье. Я тоже поднял ружье. Когда он закричал страшным голосом «Застрелю!», я не испугался — знал, что он убил бы без предупреждения — если бы у него оставались патроны. Я выстрелил в воздух — и верховые подняли руки. Шатавшийся Алтынбек, потеряв сознание, упал. Я стал угрожать, запугивать их — мол, сейчас погоню их в милицию. Они же молили о пощаде, уверяли, что откупятся, сделают для меня все, что ни прикажу. И тут я поддался, соблазнился. Второй, что сопровождал Салкандая, был Тенти, брат Алчадай. Я знал, что Алчадай уже невеста… Красивейшая девушка в аиле. Я заколебался, подумал, если отдадут ее без выкупа — пусть это будет выкупом за их жизнь. «Отдашь мне свою сестру — буду молчать», — сказал я, и Тенти согласился с радостью. Я вернулся домой и лег в постель, притворяясь больным. Возвращаясь, я увидел на тропе тело убитого ими Кара. Злая радость охватила меня. Я ничего не забыл, и теперь я поднял с земли камень и затолкал ему в рот. Я говорил себе — когда-то эта собака сослала меня, теперь пусть лежит, гложет камень… Да, убил их дезертир Салкандай — стал настоящим басмачом. Но и я приложил руку… Салкандая через день поймали — охотник Андрей собрал мужчин, устроили облаву, В убийстве Алтынбека и Кара он не сознался — да за ним и без того много всего было… Расстреляли его. А Тенти, полумертвый от страха, словно альчик был у меня в руках. Так я получил красавицу Алчадай. Проклятье! Видно, не был я рожден для счастья. Когда умру, могила испугается моих костей! Вон внизу мой дом… нет, это моя могила. Я мертвец, хотя двигаюсь и иногда говорю что-то. Какое право имею я бояться смерти? Что хорошего могу ожидать от жизни? Какое такое удовольствие? А вот какое! Порадуюсь напоследок! Скажу, что кровь двоих… горе двух женщин — на мне… их обеих, одну еще девушкой, я сделал вдовами! Пусть Буюркан узнает тоже… Она ведь не болела за меня душой, когда ее муж выслал меня как кулака… Теперь, значит, я отомстил! Да, я отомстил! Хоть не убивал сам, но примкнул к убийцам. И я рад этому! Да, скажу все — пусть узнают! Пусть станут говорить обо мне — как Барктабас отомстил своему врагу! Салкандай не признался в убийстве. Ха-ха, слава достанется мне! Убийцей окажусь я! Я — убил своего врага… Нет ничего труднее, как отомстить. И вот я — отомстил, я доволен… Сейчас пойду и скажу. Пусть все услышат, пусть узнают меня! А после этого хоть изжарьте и съешьте! Да меня теперь не очень-то просто укусить, я теперь стал дубленый».
— Кыш, смерть тебя забери! — Барктабас, разгоряченный предстоящим, изо всей силы ударил палкой по рогам одного из пасшихся тут же быков. Удар оказался столь сильным, что рог обломился и закапала кровь. Бык заревел, замотал головой и пошел к дому. За ним последовали остальные. Барктабаса одолевала злоба, жажда расправы и крови. С поблескивающими ножами в руках он пытался приблизиться то к одному быку, то к другому, но те, напуганные видом крови, сердито ревели, косили глазом, как бы собираясь боднуть старика, и били копытами землю. Так они спустились к юрте — и старику, не сумевшему расправиться с животными, казалось, что он упустил, не сделал что-то важное, необходимое.
Барктабас дрожал от напряжения, все до одной жилки натянулись, злоба душила его, казалось, он сейчас способен перевернуть землю. Сердце бешено колотилось, глаза вылезали из орбит. Ему увиделось, что с ножа в руках Алчадай, вышедшей из юрты, капает кровь. Словно бы она специально приготовилась, поджидая его, и теперь, выйдя ему навстречу, собирается зарезать… Барктабас застыл… Не мигая смотрел на Алчадай. И та, поняв, что старик не в себе и что-то готовит, собралась выслушать его рассказ, какой бы страшный он ни был. Старик шагнул к ней ближе.
— Ну, говори, что хотел сказать?
— Скажу! Сядь, туда, на кизяк! Слушай!
Вид у Барктабаса был страшный, казалось, у него душа сейчас вылетит из тела. Алчадай, понимая, что он в эти минуты на любое способен, послушно отошла, села на кизяк.
Барктабас вытащил из ножен оба ножа, отбросил их в сторону: один звонко ударился о камень, другой торчком вонзился в землю. Собака поднялась с места, подошла к торчащему ножу, понюхала, затем, взяв зубами за рукоять, отнесла к куче золы, закопала. Сделала это не потому, что узнала нож старика, — просто имела привычку закапывать все свои находки. Затем от нечего делать залаяла на грифа, который прыгал на ближнем холме, собираясь взлететь.
— Ну, села. Теперь говори!
— Скажу… я убил Алтынбека и Кара! Я! Расправился вот этими руками! Я отомстил Кара, отомстил собаке, сославшей меня, вот! Да, я убил! Ха-ха-ха! Вон, вон, Кара — идет там! Останови! У него нож… О-о, сколько народу собралось!.. Я один…
Барктабас начал рвать на себе одежду, беспричинно смеяться. Потом ему показалось, что кто-то подбирается к нему, он принялся испуганно озираться по сторонам, искать место, где бы спрятаться.
— Буюркан! Буюркан! Вот он — убийца!
На крик Алчадай прибежали Буюркан и Керез. Их красные платья показались глазам старика надвигающимся пламенем. Вот сейчас, сейчас огонь охватит все! Барктабас с криком бросился прочь.
— Не жгите! Не бейте! Не рубите! Я не Барктабас! Я другой, я скотник! Убери свою винтовку! Не стреляй!
Обхватив руками голову, Барктабас стремительно убегал от дома, а три женщины, схватив в руки что попало, мчались вслед.
Старик добежал до Кыз-Булака и полез вверх. Он поднимался, и голос его звучал все резче, яростнее, слова становились все непонятнее, ясно и упрямо он повторял одно — «умру».
Буюркан и Керез обогнули Кыз-Булак, зашли с верхней стороны, Алчадай поднималась снизу — они стремились окружить старика, не дать ему возможности перевалить через хребет. Старик взобрался на красный камень на самой вершине Кыз-Булака. Залезть туда было не просто, решиться мог разве только отчаявшийся.
Буюркан, Алчадай, Керез, все трое казались старику бесчисленными руками целой толпы преследователей. Ум его пошатнулся, он начал кричать от страха. Он не видел больше дороги, чтобы убежать, уйти от протянутых к нему рук. Сжав голову ладонями, он выкрикивал бессмысленное:
— Я не Барктабас, а другой! Уберите огонь!
Наконец он покачнулся и полетел вниз, ударился головой о камень, на мгновение остановился — и покатился дальше. В конце концов тело его наткнулось на небольшой высохший куст — и это было все. И не различить было, где Барктабас, где сухие ветви.
Женщины, помогая друг другу, спустились со скалы. Все молчали, потом Буюркан вздохнула:
— Ох! Знаете, мне даже легче стало…
— Кровопийца лежал в моих объятиях, проклятье мне!.. — Глаза Алчадай наполнились слезами.
— Пойдемте, — сказала Керез, беря мать за руку.
7
Ночь. Тундук в юрте открыт. Буюркан не спит. Голубой свет луны будто спустился по веревке от тундука вниз и теперь отыскивает что-то возле кухонной перегородки — чигдана, расплылся светлым пятном по ковру-ширдаку. Ночь, голубой призрачный свет уводят мысли Буюркан от сегодняшнего, переносят в далекое прошлое, в чудесную девичью пору, в такую же вот голубую лунную ночь. «Правду говорят — рождается девушка в одном месте, а жить ей приходится в другом. Далеко остался Чон-Кемин — там я выросла. Далеко осталась милая матушка Джиргал — она хотя и не родила меня, не родной приходится, но вырастила меня и любила от всей души… Если случайно кто-нибудь приближался ко мне, она издалека кричала: «Не подходи к моей дочери!» — словно орлица малого птенца, охраняла меня. Она вложила в меня свою молодость, силу, свою любовь, свою материнскую доброту. Она растила меня, не давая никому в обиду, исполняя все мои желания. Я не знала ни забот, ни печали, окруженная светом и луны, и солнца. Теперь матушка Джиргал постарела, и живем мы далеко друг от друга. Я как искра, оторвавшаяся от костра, улетевшая, пропавшая с глаз, оказалась тут, зову матушку к себе — не приезжает, а если и приедет, то самое большее через неделю собирается в дорогу. А я остаюсь здесь, и этим как бы не оправдываю вложенное в меня, не исполняю свой дочерний долг. Бедная моя мама… как давно я не видела ее. Ее глаза будто звезды на утренней заре… неужели сейчас потускнели? Ее чудесная тонкая, стройная фигура… неужели согнулась, как ребро? Когда люди мне сказали, что мама постарела за последний год, я представила это, словно сама увидела, и сердце мое заплакало. Она не родила ни одного ребенка, но воспитала. Когда я подросла, я узнала, что мои родители потеряли меня, крошечную, во время бегства в шестнадцатом году[46]. Матушка Джиргал подобрала меня в те ужасные дни — подобрала прямо в колыбельке — и выходила, выкормила, вырастила — полюбила. Бедная моя матушка Джиргал. Ведь нужно быть с ней в такое время, когда стареет, когда слабеет. Девушки в детстве только близки к матерям, а потом уж отрезанный ломоть, принадлежат другим… Скучаю, да, думаю о ней — но все ведь издалека. А было время — я говорила, обещала, что ни на шаг не отойду от матушки Джиргал. Были дни, когда я ругала бессовестными, жестокосердными девушек, оставивших родителей, переехавших в другие места, к мужьям, к новой родне. Про себя уверена была, что сама не сделаю так, всегда буду возле матери. Если выйду замуж, то за кого-нибудь из своего же аила. Но приехал из Таласа Кара — и, как сильная птица, подхватил меня, унес… Помню — появление Кара в нашем аиле много вызвало разговоров. Рассказывали о нем необыкновенное, восхищались, передавали слухи о том, где, в чьем доме остановился, у кого гостит, куда, в какой аил собирается завтра. Особенно заинтересовали эти известия девушек и молодок. Кара виделся нам героем. Люди передавали из уст в уста, как он боролся с кулаками в Таласе, как живой выбрался из реки Талас, куда бросили его кулаки, желая расправиться. Мы, девушки, в сердцах которых играла молодость, с ожиданием поглядывали на дорогу. Каждая из нас мечтала увидеть его хоть раз, и все скрывали друг от друга свои затаенные мысли, однако же все подозревали друг друга… Поэтому надежды у каждой было немного, трудно ведь заметить именно тебя в большой толпе. Но вот однажды прибежала моя подружка Упел, взволнованная и раскрасневшаяся, потребовала суюнчи — подарок за хорошую весть. Объявила, что Кара собирается приехать погостить к нашим соседям. Упел знала о моей заочной безнадежной влюбленности и готовилась помочь мне от чистого сердца. Как раз в ту ночь молодежь затевала игры. Должны были собираться джигиты и девушки из двух аилов. В последние годы такие, на всю ночь, игры затевали нечасто, поэтому они всегда бывали особенным праздником — всем было весело и интересно. Получилось так, что недавно уже устраивали игры в соседнем аиле, и мы все до сих пор не уставали делиться впечатлениями той ночи. Когда я услышала, что снова затеваются игры и что к тому же ожидается Кара, душа моя как птица взлетела под облака и витала там.
И вот наконец настал долгожданный вечер, когда аил успокоился, то там, то здесь послышались песни джигитов, звонкий смех девушек и молодок, они звали друг друга, находили, собирались вместе. Увидев удаляющихся от аила по одному, по двое молодых людей, я тоже влилась в этот ручеек. Ах, какая чудесная выдалась та ночь! Казалось, весь мир заполнили смех, и песни, и радость, и молодость, и сладкие мечты, и легкая беззаботность. И над всем этим — сияющий, брызжущий свет луны. Мы играли в ак-чолмок, и белый камушек с гусиное яйцо, который мы подбрасывали, казалось, откалывался от самой луны. Игра эта издавна живет среди молодежи. Брошенный изо всех сил белый камень стремительно летит вверх, исчезает в сиянии луны, растворяется в нем, потом сверкает белым боком, падает в густую, выше колен зеленую траву. Мы бросаемся наперегонки, старательно ищем, перебираем по травинке, и счастливец, нашедший ак-чолмок, бежит к условленному месту… Такая ночь — как хорошая песня, в ней соприкасаются души. В такую ночь узнаешь новые лица, запоминаешь новые голоса, в такую ночь встречаются те, кто не мог увидеться раньше, уходит прочь тоска и окрыляет мечта. Веселый смех, звонкие крики, шутки, зовущие голоса, песни — все это сливается, перемешивается с лунным светом — и запоминается на всю жизнь. Тут дыхание молодости, волнение и жар юных сердец, тепло дружеской улыбки…
И вот сын нашего соседа привел к нам Кара. Даже если бы он и не назвал его, не познакомил с нами, мы все равно узнали бы Кара… Я бы узнала… Девушки, молодки зашептались, голоса их зазвучали мягче, нежнее прежнего; поднялся, вспыхнул смех, началась веселая возня: толкание в спину, щипки, шуточные удары кулачком. Одни, не умея найти повод заговорить с Кара, кружили вокруг него, другие делали вид, что не замечают… Кара подошел к группе девушек и джигитов, где была и я, заговорил с сыном соседа. Не знаю, что происходило, только мне все больше нравился его смех, его слова, как он двигается, как держится, как выглядит — и лицо, и вся его крепкая стройная фигура. Мне казалось отчего-то, что мы с ним знакомы очень давно. Я чувствовала себя обманутой, задетой, оттого что он не подошел прямо ко мне, не подал мне руку, не поздоровался, не стал рядом со мной. Мне теперь вдруг стало недоставать этого всего, и даже игры наши начали казаться пустыми, неинтересными. Словно угадывая мои мысли, Кара все кружил подле меня. Он быстро вошел в игру, оживил ее. За короткое время он освоился среди наших девушек и джигитов, держался как со старыми знакомыми. Не выделяя никого из девушек, лишь иногда оказываясь рядом со мной, бросал мне несколько веселых и ласковых слов — больше ни с одной не разговаривал.
Потом случилось — тот самый джигит, что пригласил его в гости, проходя мимо, пошептал ему на ухо. Кара мгновенно оставил игру и обратился ко мне. «Буюркан, отчего ты грустная?» — спросил он. Я не ответила, стыдливо опустила глаза. Он сказал еще что-то, но я не расслышала — его слова заглушил взрыв смеха после чьей-то шутки. Я посмотрела на него, он на меня, потом он вышел из круга играющих… Он все время оглядывался назад, как бы зовя меня за собой, и я пошла следом за ним, чувствуя, что он ждет меня. Что-то неведомое мне прежде, таинственное, исходившее от него, непонятным образом руководило мной. У меня не было сил остановиться. Мы поднялись на склон, поросший соснами, дошли до скалы. Внизу бурлила река. Белая пена шипела, как кумыс, вскипала, поднималась и опадала. Течение с грохотом ворочало большие камни.
Кара отломил маленькую сосновую ветку, подал мне. Не знаю почему, но я эту ветку спрятала на груди. Я видела, что он обрадовался — стыдливо поглядел на меня. Потом решился, погладил меня по голове. Его рука показалась мне мягче шелка. Я продолжала молча смотреть в землю, тогда он тихонько приподнял мою голову за подбородок — и я наконец смогла внимательно разглядеть его. Луна освещала его смуглое красивое лицо, тебетей, отороченный куницей. Глаза его блестели — казалось, из них вылетали мелкие-мелкие искорки чего-то светящегося — и вонзались в мое сердце, и я не могла руководить своим сердцем. Шумела река и уносила с собой его слова… Я плохо слышала… или это от волнения было?.. Кровь шумела в висках… Но те слова, что я смогла, успела услышать, объяснили все… и то, что унесла река, — тоже. Через некоторое время я почувствовала, что его рука коснулась моей спины. Я застеснялась, напряглась, задрожала, даже испугалась — мне захотелось уйти. Нет. Сильная рука не дала мне сдвинуться с места. Вся моя воля, моя судьба, моя любовь, моя молодость были у него в руках. И вид его говорил, что никому не отдаст меня. Если бы он отпустил, для чего так уверенно вел меня сюда…
Да, как мы в аиле много слышали о нем, так и он слышал, что в Кемине есть девушка по имени Буюркан. И так же, как и я, издали, по рассказам узнала и полюбила его, так и он, зная обо мне, специально приехал, чтобы убедиться… чтобы увидеть, встретиться, поговорить… Разве могла я догадаться, что он, еще не увидев меня, в душе уже со мной?
Он не дарил мне браслета, кольца, духов. Он не умолял меня, он не обманывал, не совращал меня пустыми словами. Он не говорил красиво. Он даже не старался показаться лучше, умнее, чем есть. Он просто смотрел на меня. И в этой молчаливой его нежности и властности были все слова, которые он хотел сказать. Я поняла его душу через взгляд. Да, в эти минуты мы понимали друг друга, просто глядя в глаза, — так наши души тянулись друг к другу… Ничего сокровенного, потаенного не осталось меж нами. Я даже хотела, чтобы он стоял так, молча — это молчание говорило, сближало больше слов. Наконец он взял меня за руку. Мне не было неприятно… и я тихонько сжала его руку в своей и незаметно улыбнулась. А он, видно, ждал этой улыбки, моего стыдливого признания. Он привлек меня к себе, и я — легче ветра — прижалась к нему. Я слышала, как бьется его сердце. Если бы кто-нибудь увидел нас сейчас со стороны, он принял бы нас за одно целое, не смог бы разделить…
Теперь Кара начал говорить о том, что было у него на душе. Многие его слова, как и прежде, унесла в своем шуме река — унесла вместе с течением, впитала в себя… Может, и теперь еще несутся где-то сказанные им тогда слова о любви ко мне…
«Моя Буюркан!» Это отделилось от остального, звонко ударило мне в уши. «Моя Буюркан!» Этого река не унесла с собой, у нее не хватило сил отобрать у меня такое… Ветер сложил свои крылья, умерил бег воды и, притаившись между камнями, прислушался. А когда полетел дальше, казалось, и в течении реки, и в песне ветра повторялось и повторялось: «Моя Буюркан!» И не только река и ветер… И гордые сосны, и кусты, и трава в шелесте своем несли эти слова. Вскипающие белой пеной волны пели о нас, луна подглядывала сквозь густые ветви, и завидовала, и любовалась нами.
Это наслаждение, эта ночь, эта красота опьяняли меня. А может быть, меня опьянило пламя молодости, наше общее пламя — мое и Кара… Наверное, поэтому я поздно заметила, что его губы коснулись моей щеки… Я сделала вид, что обиделась, и отвернулась… Нет-нет, это не взаправду было, я просто кокетничала. Может быть, я хотела, чтобы он еще сильнее, еще горячее поцеловал…
Кара чуть отодвинулся и посмотрел внимательно — действительно обиделась я или нет? И конечно, по всему моему виду, по тому, как я, опустив глаза, играла маленькой веткой сосны, которую он мне дал… по всему он понял, что я не сержусь на него. Он взял меня за руку и повел выше, мы поднялись на большой скальный выступ над рекой. Красивое место, все в нетронутом зеленом травяном ковре — будто покрытое большим ширдаком. Мы сели там, подстелив под себя вьющуюся мягкую траву. Он крепко обнял меня. Мне сделалось даже больно, но все равно, все равно… я хотела, чтобы он обнимал еще крепче, я проснулась, я, верно, давно и страстно желала его объятий…
Полились самые затаенные мысли. Оказывается, Кара уже давно слышал обо мне много теплых, красивых слов и с сердечным волнением ждал встреч. Мало того, он уже был влюблен. Он не скрывал этого. Его слова, как клятву, слушали и запоминали сосны, скала, река, ветер, зеленая трава. Цветы склонили головки перед нашей молодостью и любовью.
Где-то наверху, на склоне выше нас, послышалась песня. Пел молодой, сильный, счастливый голос — и неожиданный подарок еще больше сблизил наши сердца. Казалось, джигит видит нас и поет о нас, радуясь и восхваляя… Но нет, конечно, не только о нас, но и о других, обо всех сидящих сейчас подобно нам, сливших свои сердца в одно… и даже о тех счастливых, что в будущем придут сюда, пел он. Голос долетал до нас сквозь шелестящие ветви сосен, обволакивал, ласкал, заставлял играть и улыбаться все вокруг — даже брызги воды дрожали в радостном нетерпении. Беззаботный легкий щебет ночных птиц сливался с песней джигита, вплетался в нее, украшал, и незнакомое сладкое томление рождалось в крови. Ах, кто бы ни пел, спасибо ему!
Мы поднялись еще выше. А внизу все продолжались игры. Временами звучал душевный, негромкий смех, и казалось, что нас не хватает там, что друзья зовут нас к себе, завидуют нам, не могут найти… но тут же веселые крики заглушали все. Нас не тянуло туда. Что-то подталкивало нас вперед, дальше и выше по склону — было ощущение, что впереди нас ждет большое счастье, и если мы не поспешим, то упустим, не настигнем его.
Когда мы наискось вышли к какому-то ущелью, оказалось, что там стоял джигит с двумя конями в поводу. Он предложил нам скорее садиться. Меня как холодной водой обдало — показалось, хуже воровства. Я очень обиделась на Кара. Значит, он собирался увезти меня обманом, и привел сюда обманом, и все его слова, все уважительное отношение — тоже обман?.. Я выдернула свою руку из руки Кара. Он тут же понял, что это уже не шутка. Сердито сказал своему товарищу, что так не поступают с девушкой. Попросил у меня прощения. Потом оказалось, что, как только мы ушли бродить между сосен, его друг, приехавший с ним вместе из Таласа, на свой страх и риск сам решил все приготовить к отъезду: собрался — соглашусь я или не соглашусь — увезти меня хоть и силой.
Кара отправил джигита восвояси, а сам пошел проводить меня до дому. По дороге в разговорах мы все больше узнавали друг друга. Мы сделались еще ближе прежнего и уже делились тайнами.
Кара проводил меня до самого дома. На прощание сказал: «Не скрывая, расскажи все матери. Если она разрешит, то уедем через три дня». Я молча вошла в дом. Мать уже спала, но, когда я, раздевшись, стала укладываться, она проснулась. Обычно, когда я приходила с таких гуляний, я начинала греметь посудой, искала еду, веселая, проголодавшаяся. Сегодня же я забыла про еду, вошла неслышно, как мышка, и сразу легла в постель. Это необычное, видимо, и разбудило маму, и она, умный человек, поняла. Осторожно, деликатно начала расспрашивать. Я никогда ничего не скрывала от матери. И сейчас сразу рассказала ей всю правду. Она ответила мне: «Я ожидала, что он так поступит, этот сирота. Конечно, он приехал из Таласа, пройдя столько рек, и поселился по соседству не ради меня — чтобы увидеть тебя. Сама решай, дочка. На меня не оглядывайся. Если судить по слухам… народ больше говорит о нем хорошее. Если он понравился тебе, а я скажу на это — не выходи замуж за него, оставайся подле меня, то что я буду за мать. Только имя дочери принадлежит матери, сама она принадлежит мужу. У всех у нас, женщин, судьбы схожие. Где остались мать, родившая меня, отец, выпестовавший меня? Между нами всего один день пути, но разве часто приходится увидеть их? И не думай о том, что оставляешь меня. Если полюбила — иди с ним. Обо мне не беспокойся. Плохо будет одной — возьму на воспитание еще девочку. А когда она вырастет, и ей скажу, чтобы она уезжала, если позовет любимый. Я сама когда-то была продана, как скотина. Хватит с нас и этого. Теперь я желаю, чтобы вы были счастливы, выбирали сами. Ты сама хозяйка своей судьбы».
Мы шептались далеко за полночь. Матушка Джиргал рассказала мне то, чего я не знала раньше. Я впервые услышала, как крошечная, в младенческой колыбельке, я была потеряна родителями во время бегства в Уч-Турфан. Тут только я смогла в полной мере оценить человечность моей приемной матери Джиргал. Думая о ней, я перебирала в душе девяносто девять разных благодарностей… «Если решишь ехать с Кара, я провожу тебя, не прося за тебя ни копейки калыма, заколю самую дорогую для меня скотину и устрою свадьбу — провожу тебя в полдень при всем народе, не скрывая от людей. Пусть только кто-нибудь посмеет сказать, что Буюркан увезли, даже не заплатив калым! Ай, разве нет таких, что вопреки законам правительства украдкой получают калым, отдавая девушек против воли? Есть. Но я не видела, чтоб эти люди узнали счастье от продажи дочерей», — говорила она.
Матушка всегда держала слово. Как и обещала, она проводила нас в полдень. Зарезали кобылицу. Множество людей шумно благословляли нас на прощанье.
Через некоторое время мы приехали в Талас. Оказывается, земля везде одинакова, все те же горы, все те же бурливые горные реки.
Кара был безлошадным бедняком. У него не было даже родственников, которые могли бы помочь скотом, деньгами, — и все же весь аил встретил меня с почтением, мой приезд стал настоящим праздником. Друзья-ровесники его без лишних слов заполнили дом подарками, двор скотиной, зарезали жирную кобылицу, баранов. Все знали, что Кара ничего не добивался для себя, не жалея отдавал все народу; несмотря на его молодость, в аиле считались с его мнением. Хотя я с болью вспоминала матушку Джиргал, с которой так неожиданно разлучилась, настроение мое поднялось от такой доброй встречи, душа моя радовалась.
Кара был сельским активистом и всем был нужен, всегда нарасхват. Проводит одного, другой приезжает, то в одном месте мелькнет, то в другом — целый день на ногах. Здесь одного записывает в колхоз, а там уже один или два собираются выйти — и Кара должен каждому объяснить, где правда, каждому отдельно и каждому по-своему. Помню, как он однажды говорил на собрании с теми, кто начал беспорядочно резать скотину, после того как сами же передали эту скотину в колхоз…
Под влиянием Кара я тоже сделалась активисткой — взяла на себя работу среди женщин и девушек. То было время, когда правительство объявило беспощадную борьбу против калыма, против двоеженства и наказывало за это. Целыми днями не сходила я с хромого игреневого коня — то туда надо было поспеть, то сюда. Однажды, когда уже сгустились сумерки, я возвращалась домой, и вдруг на моем пути как из-под земли появились два всадника. В руках палки, кони вспотевшие, с пеной у рта. Один из всадников приказал мне: «Стой!» «Вот тебе — стой!» — закричала я в ответ, хлестнула его камчой и поскакала вперед. Не знаю, может, в лицо или даже в глаза попала — только он бросился куда-то в сторону, закрыв лицо рукой. Второй не стал преследовать меня, лишь вслед прокричал ругательство. Позже мы узнали, что это были гончие собаки пройдохи Тайлака. Мы раскрыли глаза второй жене Тайлака, и она ушла от него и вышла замуж за джигита, который раньше не мог жениться на ней. Тайлак и его родня, оказывается, считали меня виновной в этом и хотели отомстить.
Тогдашние схватки невозможно забыть, невозможно…
Годы летели как птицы. Долгое время я не рожала, и наконец появилась на свет Керез…»
В темной юрте лежит Буюркан, не спит, перебирая в памяти события минувшего, пережитое.
Керез заглянула в дверь:
— Спишь, мама?
Сама она сейчас охраняла двор от нападения волков.
— Да, милая, сплю… как же не спать?
— У нас в школе была одна старая учительница, сейчас уже вышла на пенсию. Мы все ее любим. И взрослые, и дети — все зовут тетушка Аруке. Я пригласила ее к нам в гости, мама, оставила ей адрес. Она обещала, что как-нибудь при случае заедет. Я не сделала плохо, мама? Ты не знаешь ее?
— Нет, милая. Как ты сказала? Аруке?
— Да.
— Аруке… Хорошо сделала, что пригласила. Пусть погостит у нас.
— Чего она не пережила, бедная, — если б ты знала! Целых два дня рассказывала. Ты бы слышала — заплакала бы.
Керез исчезла, со двора снова послышался ее предостерегающий крик — отпугивала волков.
Буюркан не спалось, сквозь отверстие тундука глядела в небо, а небесные звезды смотрели на нее — казалось, что-то говорили, хотели поделиться тайной, звали куда-то…
— Керез! Доченька! Иди полежи немного! Голос твой пропадет от крика. Я сама выйду посторожу. Что это сегодня проклятые волки не унимаются, с двух сторон воют, обжоры!
Буюркан оделась и вышла во двор. Отчетливо послышался протяжный крик молодки из дальней юрты. Буюркан догадалась, что там тоже боятся волков.
— Я не устала, спала бы ты, зачем встала, — говорила дочь.
— Ты еще не привыкла, отдохни. Я-то ко всему привычная. Ни сну, ни болезни не поддаюсь. А ты быстро устанешь. Иди приляг. Я сама чуть прикорну — и уже выспалась…
Отправив Керез в юрту, Буюркан прошла по двору, увидела Бедела — спал на сложенном вдвое ковре. Открылся по пояс, — видно, жарко ему было, такому здоровому.
— Молодой, горячий… — Буюркан улыбнулась и пошла дальше.
8
Утром небо было чистое, солнце поднялось над горой, засияло весело.
Алчадай пошла за водой к роднику Кыз-Булак. Мир казался ей обновленным. Почему же она прежде не замечала, как прекрасно это место — родник и скала над ним? Почему раньше не казались Алчадай такими прекрасными заросли можжевельника, тянущиеся вверх по склону? Посмотри, какая замечательная сосна растет среди камней. Как будто только сегодня увидела… Интересно… А ведь она приходила сюда, к роднику Кыз-Булак, каждый день, приходила за водой, но ничего, кроме невыразительной красноватой поверхности скалы, ее взгляд не примечал. И еще, ей вечно казалось, что здесь нависли тучи, всегда пасмурно. И если станешь под этими тучами — они от первого же громко, весело сказанного слова обрушатся и раздавят… Сегодня же — иное, сегодня все здесь сияет и светится. О-ох, и правда, ведь эта скала напоминает фигуру девушки! А прозрачная вода родника — как чистая слеза… Да, выходит — последние восемнадцать лет глаза Алчадай были закрыты — она не видела, белый свет казался ей темным. Разве замечала эти зеленые склоны, изрезанные складками оврагов, ведь похоже на то, как если бы тесно, вплотную улеглись зайцы… Каждый день ходила сюда пасти быков — и цвет травы казался ей черным. А вот этот холм, круглый, как яйцо, где он раньше был, почему не бросался в глаза? И мычанье коров, и блеянье овец — все сегодня звучит иначе, все сделалось частью живого прекрасного мира… Даже быки глядят добрее. Природа будто сняла с себя вчерашнее темное платье и надела новое, праздничное. Вот прилетел ветер. Смотри, как нежно он гладит тело, будто чья-то шелковая рука. Где он прятался до сих пор, этот ласковый ветер? Ведь прежде с утра до вечера бесился, завывал, налетал как бешеная собака. Или он и раньше бывал такой? Вон по склону разбрелись овцы Буюркан. Пасутся, собираются группами, точно звездочки в небесные созвездия! А белые — точно молоко, да? Раньше Алчадай все казалось, что они серые да пыльные… блеяли хрипло, надрывно, а теперь — точно звоночки заливаются… Отчего? А кто там возле отары? Да это ведь Бедел, глухонемой чабан, помощник Буюркан. Неужели он так строен? Казался невзрачным, ходил будто пришибленный, — что случилось с ним? Или это сама Алчадай до сих пор не умела разглядеть его хорошенько? Уже многие годы Бедел все тут же, рядом, на виду — да сама она на все, на весь мир смотрела невидящими глазами, с безразличием, в обиде на свою судьбу. Все мужчины казались ей противными после смерти Алтынбека… И это тот самый Бедел? О-хо, оказывается, привлекательный, стройный джигит. Почему Алчадай раньше не замечала его?
Бедел шел прямо к роднику Кыз-Булак — то ли потому, что заметил Алчадай, то ли просто не знал, куда деть себя. По дороге, видать от избытка сил, ухватил, поднял большой камень и, подержав над головой, отбросил метра на два. Камень со звоном упал, покатился вниз по склону. Но Бедел уже забыл о нем, он шел навстречу Алчадай, Алчадай теперь могла внимательнее рассмотреть джигита. Да, правда, стройный, красивый парень. Она подумала: «Разве можно сравнить с Барктабасом? Один недостаток — не слышит и почти не говорит. Но при чем тут язык… Разве такой, как Барктабас, хоть и способен был разговаривать, разве он стоит этого немого? И молод, и красив, и работа в руках спорится. Конечно, Бедел и добрый — никогда ни в чем не отказывает… Почему я раньше не подумала? Ведь он давно кружится возле… Да, сейчас настало его время — настоящий джигит! Если я и теперь не взгляну на него ласково, тогда он скоро совсем уйдет с моих глаз, будет искать свое где-то еще… Сейчас подойдет. Что он сделает, посмотрю-ка. Ведь он знает о Барктабасе, знает, что я свободна… Верно, постарается сблизиться со мной?.. Он так сделает, я знаю, что он так сделает. А я немного помучаю его, не подпуская к себе, — пусть подождет, потревожится… а потом возьму крепко в руки и не отпущу…» Бедел меж тем широкими шагами спускался к роднику. «Сейчас подойдет, заговорит», — думала Алчадай. Она как бы нечаянно опрокинула ведро, беспомощно засуетилась. Уверена была Алчадай, что Бедел заметит, не вытерпит и подойдет помочь ей набрать воды. Но Бедел будто и не видел ее — прошел мимо, даже не поздоровался. Алчадай словно обдало холодом. У нее даже голова закружилась, зашлось дыхание, она чуть не упала. Оглянулась — Бедел направлялся к лошади, пасшейся тут же, у родника. Теперь Алчадай рассердилась по-настоящему. «Ну, погоди — я тебя, немого дурака!.. Уж я тебя заставлю ползать в ногах, умолять. Как щенок будешь бегать за мной — так и сделаю, или пропадет мое имя Алчадай! Я еще достаточно молода и выгляжу… Ой, подожди, насчет выгляжу… Ведь уже с прошлого года Бедел перестал заглядываться на меня… С прошлого года я не видела себя в зеркале. Совсем перестала следить за собой…» — думала Алчадай. Она торопливо набрала воды и вернулась домой. Отыскала на дне сундука зеркало, улыбаясь, взглянула… О боже, это кто же там? Женщина с почерневшим лицом — неприбранные, разлохматившиеся космы свисают по щекам — скалит в улыбке желтые зубы… Это Алчадай или ведьма? Разве Алчадай такая худая, такая страшная? Когда морщины легли на это лицо? Что случилось с губами, прежде красными, как смородина? Сморщились, съежились, все в трещинах. Неужели это те самые волосы, что переливались, как шерсть куницы, сливаясь с меховой опушкой на шапке? Смотри, как они торчат во все стороны, словно иголки у ежа, сзади висят как хвост у лошади, потускнели… Значит, те светлые, как росинки, зубы пожелтели? Груди, которые некогда играли, толкая платье, торчали как клюв перепелки, теперь расплылись и опустились… А что с носом, боже, он сделался как хребет рыбы, что сушат на солнце! Разве в ушах были не серебряные сережки? Что же там чернеет словно сажа? Сколько лет не чистила их… Наверное, совсем заросли грязью… Эх, разве только серьги — грязь покрыла и разъедает ее сердце, весь ее облик. Не только серьги, но и душа заросла грязью…
Глаза Алчадай наполнились слезами. Ей стало жалко себя. Не верила, что стала такой, еще и еще раз вглядывалась в зеркало. Но как бы ни смотрела, ни поворачивала его — оттуда глядела на нее, сердилась, беспокоилась и печалилась все та же страшная, незнакомая черная женщина, ничем не напоминавшая ее, прежнюю красавицу Алчадай. Казалось, она вопрошала: «Ты меня довела до такого — что теперь буду делать?»
На лице пестреют большие желтые веснушки. Откуда они взялись? А где та красивая родинка на щеке? И ведь намека даже никогда не было на веснушки. «Нет — это я или кто-то другой? Да на месте ли мой разум?» Алчадай засомневалась, потом признала, что не в разуме дело, — и тогда ей пришлось сказать себе, что да, это она, такая она сейчас, после жизни с Барктабасом, — и тут из глаз ее хлынули слезы. Она закрыла лицо руками, привалилась к стенке юрты… Слезы, скопившиеся за многие годы, да, слезы, что кипели, раздирали, душили ее, наконец пробили себе путь. Это был плач об ушедшей молодости, о несбывшейся любви, о долгожданной и обретенной наконец свободе, об оторванном у нее Алтынбеке… Со слезами выходила из души Алчадай память мучительных дней, мучительных долгих лет, когда она задыхалась… выходила накипевшая боль.
Да, видели жители аила в последние два-три года, что очень заметно изменилось поведение Алчадай, видели и удивлялись. Сделалась она жестокосердой. Если приходила на похороны, то в ее глазах не бывало ни слезинки; если приходила на свадьбу, то забывала улыбаться… если ела что-нибудь, не замечала вкуса; если к ней обращались, не была внимательна, иногда отвечала невпопад… ко всем одинаково обращалась на «ты», забывая про возраст… В общем, совсем другой стала Алчадай. И вот сейчас застывшие, окаменевшие ее слезы вдруг нашли выход. В этом было какое-то новое отношение к жизни, новые чувства и взгляды, некое обновление, изменение. Ее маленькие дети растерянно застыли, смотрят в удивлении: «Что случилось с нашей мамой?» Они не верят, что Алчадай плачет, никогда не видели, и поэтому ни один из них не подошел к матери. Видишь, как смеется младший, что ел простоквашу и теперь застыл с большой ложкой в руках? Он смеется, думая, что мать шутит, притворяется. Оба старших в замешательстве, не понимают, что происходит. А Алчадай не просто плачет, она думает. В душе ее зреют перемены, готовится обновление.
Да, вот оно — началось… Алчадай вскочила проворно, легко, как когда-то в свою девичью пору, сбросила с головы грязный синий платок, достала из сундука белый шелковый. Она быстро разожгла огонь и нагрела воды. Вымыла голову, расчесала блестящие волосы, заплела в две косы. Она выгнала детей во двор и вымылась оставшейся горячей водой. Она вытащила из сундука ярко-красное шелковое платье, то самое, в котором в девические годы ходила на свадьбы и на гулянья, — оно с тех самых пор так и лежало на дне сундука. Надраила до блеска серьги. Почистила зубы. Повязалась белым шелковым платком и посмотрела в зеркало. Оттуда глянуло симпатичное смуглое лицо, напомнившее ее лицо в девические годы. Весело глядели слегка уставшие, чистые добрые глаза. Казалось, будто искусный хирург снял с них бельмо — с давно уже не видевших. И зубы сделались белыми. А те пятна на лице, что она приняла за многочисленные веснушки, вовсе не веснушками оказались, просто обветрены были щеки, кожа потрескалась. Родинка, которую она было не могла найти, затемнела на щеке под глазом, напоминая звезду Алтын-Казык, указывающую дорогу ночью, еще больше украсила милое лицо. «Человек, оказывается, похож на дерево, — мысленно говорила себе Алчадай. — Если не ухаживать, земля под ним зарастет травой, дерево перестанет расти, захиреет, а потом постепенно высохнет. Я, как запущенное дерево, постепенно засыхала. Еще немного — и не было бы меня, осталась бы черная земля, пыль, зола… и все развеяло бы ветром. Теперь я другая. Теперь я буду звать назад свою молодость. Да, я еще молода. Люди увидят меня, как цветок, поднявшийся после дождя. Я еще покажу, какая во мне сила жизни! Я еще получу от жизни все, чего не получила в молодости моей, прошедшей в горе, в печали, в слезах! Я смогу, я способна это сделать! Я — Алчадай! Я та Алчадай, которую любил Алтынбек!»
Обрадованная такими своими мыслями, с надеждой в сердце Алчадай вышла во двор, взглянула — какой-то особенный свет озарил весь мир. Все было прекрасно, жизнь прекрасна…
И в этой прекрасной жизни глаза Алчадай быстро разглядели Бедела, он сторожил большую отару овец, пасшихся безмятежно на зеленом склоне. «Теперь уже нет прежней окаменевшей Алчадай, настала для меня пора любви. Исчезли черные дни, давившие мне на сердце, да, ушли, пропали. Теперь ни сплетни женщин, ни собственное плохое настроение, ни ощущение одиночества — ничто не тяготит меня. Держать голову выше, отбросить все печали, получить вознаграждение за черные минувшие дни — вот что я должна делать!» — так думала Алчадай. Она шла, чтобы исправить свою недавнюю ошибку, чтобы показаться Беделу в настоящем своем обличье, чтобы стать для него желанной, чтобы он посмотрел на нее с ожиданием, чтобы порхал возле, как бабочка ночью вокруг огня. «Посмотрю, как ты теперь будешь задирать нос! Небось прилипнешь — не отклеить! Когда я появлюсь, сверкая подобно золотым подвескам, очищенным от пыли и грязи, ну-ка попробуй еще раз пройти мимо, не обращая внимания!» Но хоть и радовалась сейчас Алчадай жизни, и надеялась на счастье — все же в глубине души не могла не понимать, сколько потеряно — и без возврата, не могла не досадовать на свою судьбу. Ведь какое это жестокое наказание, какая несправедливость — столько лет быть привязанной к старику, а теперь заглядываться на глухонемого парня. «О-о, жестокая обманчивая жизнь, — думала Алчадай, возмущаясь всем своим существом, — ты как глубокое, бездонное озеро, я же маленькое существо, попавшее в твои волны. И вот они то поднимают меня высоко-высоко, то бросают в страшную глубину, то тихонько и безмятежно покачивают на поверхности. Много лет твои волны, жизнь, испытывали меня — швыряли, били, захлестывали — в общем, делали со мной что хотели. Обтачивали меня и так и эдак, носили туда и сюда — истрепали меня за многие годы, довели до теперешнего состояния. Но вместе с тем и закалили… Я теперь не резвый жеребенок, выпущенный на лужок… Я уже способна плыть, удерживаясь на пенистом гребне волны. Этому научила меня ты сама, жизнь. Я не обвиняю тебя. Я не имею права обвинять тебя. Если не все, то многое зависело от меня самой, сама и виновата. Почему после смерти Алтынбека поддалась уговорам и давлению хитрого моего брата, отдавшего меня старику? Почему не нарушила обычая, не восстала, уступила, добровольно пошла в ад, хотя могла сопротивляться, бежать хотя бы. Да, я все перенесла. Все — значит, плохое. Разве может быть судьба хуже моей… Но теперь — во имя той, которой я была когда-то, которую любил Алтынбек, я должна очистить себя от грязи. Очистить не только душу, но и дом, и двор, и детей моих… все, что составляет сейчас мое существование. Если не сделаю этого — не стану прежней Алчадай. Говорю — прежней… куда мне до прежней, не вернуть… Но я должна быть как сейчас, чистой, обновленной, сильной Алчадай, чтобы хотя бы иметь право помнить себя прежнюю и погубленную свою любовь…»
Когда Алчадай поднялась на склон, Бедел, сидя спиной к ней, ножом вырезал из ветки можжевельника ручку камчи, любовно украшая ее узорами в виде линий, кружочков и точек. Чем бы ни занимался Бедел, все делает с душой, подумала Алчадай. Сам всегда собран, подтянут, свеж. Одежда всегда чистая, даже когда он пасет овец. Всегда побрит, аккуратно подстрижен, словно собирается в гости. Алчадай почувствовала стыд. Правильно он сделал, что не удостоил ее вниманием. Нечем ей перед ним гордиться… Она тихонько подошла, села рядом. Бедел, не видевший, как она поднималась, сначала удивленно вытаращил глаза, не узнал, потом засмеялся, потом нахмурился, отвернулся. Приход Алчадай удивил и озадачил его. Незаметно оглядел ее. Оказывается, красивая женщина… и оделась красиво. Какие глаза у нее — волнуют душу! Фигура тонкая, гибкая, как у молодой девушки… Но все же — зачем пришла она? Что все это означает? Не хочет ли она, свободная теперь, намекнуть ему… предложить?.. Но в сердце его — другая, все мысли его о ней. Незачем было Алчадай подниматься сюда.
Бедел способен был понимать сказанное по движению губ, хотя сам с трудом выговаривал простые необходимые слова. Алчадай, уверенная, что принесет Беделу радость, прямо заговорила с ним о будущем, о возможной совместной жизни.
Бедел покраснел, резко поднялся и отошел в сторону. Алчадай решила было, что Бедел шутит или просто смущен, но постепенно до нее дошло, что парню не до шуток и что он не смущен, — досада охватила ее. Она подошла, взяла его за руку, как бы приглашая — иди ко мне, поговорим. Бедел вырвал руку, отскочил. Алчадай ясно поняла — он не желает, чтобы она приближалась к нему.
Женщина растерялась. В нерешительности снова шагнула к парню — тот сердито дернулся, взмахнул рукой, как бы в такт каким-то злым словам, и отошел еще подальше. Показывая, что рассержен, с размаху ударил о камень палкой, на которой только что с любовью вырезал узоры… Переломив, отбросил ее далеко в сторону. Алчадай, не в силах поверить в совершавшееся, пошла было за ним следом, чтобы поговорить, объясниться… но Бедел, словно бы опомнившись и успокоившись, дал ей понять, что у него есть любимая невеста, на которой он собирается жениться и которой нет равных на свете… Алчадай не могла не почувствовать — Бедел и вправду любит другую, не могла не поверить… Но кого?! Бедел меж тем говорил жестами и немногими словами: «Не стой на моей дороге, ты мне не пара. Равный с равным, а по кизяку и мешок». Алчадай внимательно следила за жестами и взглядами парня, уже не сомневаясь, что он вовсе не шутит. А Бедел невольно все время поглядывал вниз — там Керез возле юрты стирала белье. Он не хотел, чтобы Алчадай заметила, куда он смотрит, переводил взгляд на холмы, в ущелье, на большие камни на склоне. Но Алчадай со свойственной женщинам проницательностью безошибочно почувствовала правду. «Неужели этот немой парень увлечен Керез? Нет, не может такого быть. Зачем же ему мечтать о том, чего ему даже во сне не увидать? Разве Керез подпустит его к себе? Хотя… Чего только не бывает в жизни… Может, если суждено… Уже сколько лет он живет у них в доме, Буюркан привыкла к нему, как к сыну… трудно сказать, что будет. Если Буюркан пожелает, то и отдаст… Допустим — не захочет терять такого работника, такого безотказного преданного помощника… Что ни говори, ведь если б не его немота, разве был бы хуже других? Мастер на все руки. Молодой, красивый, старательный. Кто не пожелает иметь в доме такого работника — по малейшему знаку готов бежать… крутится точно веретено. Да, работник… Именно работник — не хозяин. Какая из девушек пойдет за него замуж, видя в нем хозяина. Нет, что я говорю? Ведь у нас две девушки вышли замуж за немых. И девушки не из последних. Теперь уже обзавелись детьми. Понимают с мужьями друг друга, знают, чем живет каждый, скатались в одно, как комок теста… — так думала Алчадай — и тут же возражала себе: — Ах, Керез, ведь она точно куница — переливается вся… Чистая, без единого пятнышка девушка — и такому отдаст свою цветущую молодость? Чем он для нее лучше Барктабаса?» И тут же сама возражала себе, объясняла, чем Бедел отличается от Барктабаса.
Да, Алчадай ревновала. Закусила губу, стала обдумывать, как привлечь парня. Наконец как будто что-то придумала. Пошла к джигиту, несмотря из его неприветливый вид, легла рядом с ним на траву и принялась сплетничать. Стала рассказывать, будто в скором времени Керез выйдет замуж. Бедел понял — ударил кулаком о землю, закричал и вскочил на ноги. Стал грозить Алчадай. Если она еще раз скажет такие слова, пусть пеняет на себя!.. Вырвал с корнем куст можжевельника, в сердцах ударил им о камень. Если допечешь меня, то и тебя вот так же вырву с корнем, — говорили его действия.
Потеряв надежду завоевать Бедела, Алчадай, понурив голову, отошла, направилась к пасшимся быкам.
Когда женщина отдалилась, Бедел посмотрел ей вслед и пожалел, что напрасно погорячился, обидел ее без причины. Если говорить правду, в нее, конечно, можно влюбиться. Он вспомнил Алчадай, какой она была в девичью пору. Вспомнил джигитов, которые томились, не смея подойти к ней, заговорить с ней, — куда там, чтобы она сама пришла к кому-нибудь. Да он ведь и сам раз или два относил ей любовные записки аильских парней и за это получил тогда выговор от Алчадай. Совсем забыл, оказывается, про это… Но правда и то, что сам он любил Керез. Он не теряет надежды, хотя Керез не знает еще ничего о его намерениях.
Когда Керез возвращалась в аил на каникулы, она замечала, что Бедел постоянно оказывается возле, старается услужить, соглашается с ней во всем, улыбается ласково… но все это девушка воспринимала как естественное хорошее отношение человека, жившего в одном доме с ней и с ее матерью, не чужого, близкого. Она и сама хорошо относилась к Беделу, старалась не обижать его. Бывало, они по вечерам играли в прятки. Когда Бедел находил Керез, он нежно обнимал ее, гладил, ласково перебирая ее волосы, как бы играя, прижимался щекой к щеке. Случалось даже, он приподнимал ее и кружил. Девушка иногда пугалась такого его обращения, но сдерживала себя, объясняла все братскими чувствами и успокаивалась. Когда Буюркан не было дома и они оставались одни, Бедел иногда брал в свои руки длинные волосы девушки, любовно гладил их. Он советовал Керез, чтобы она старательно ухаживала за волосами. Он говорил, что глаза ее как горящие звезды. Девушка знала, что он не устанет, даже если будет нести ее на руках целый день, и отчего-то боялась. Бывало, она и сердилась на него, на его заигрывания, думая, что он просто так грубо шутит, и, стукнув его раз-другой кулаком, убегала. Бедел объяснял себе это иначе — думал, что девушка играет с ним, кокетничает. Ему казалось, что если бы она была равнодушна к нему и не любила, то и не подпускала бы его близко, держалась холоднее. Когда Керез снова уезжала в город, в школу, он застывал. О его тайной боли не знала ни одна душа. Когда Буюркан спрашивала: «Что с тобой?» — он молча показывал на сердце. Буюркан советовала, чтобы обратился к врачу, но Бедел уходил. У него пропадал аппетит, он часто проводил ночь без сна, а днем ходил хмурый, подавленный. В такое время он быстро раздражался, не переносил шуток, сердился по любому поводу, оставлял свою работу, отказывался от еды… Буюркан беспокоилась, не знала, что делать. Если не посылала его к стаду или по иному делу, он мог проваляться в постели далеко за полдень. Но работал с душой. Он как бы говорил — вот я какой человек, я все умею, ко всему способен. Буюркан не могла понять его характер. Ей и в голову не могло прийти, что он страдает от любви к ее дочери.
Вот уже месяц Бедел ходил как в воду опущенный, но с приездом Керез повеселел, без напоминания отправлялся работать — ожил. Керез нравилась его приветливость. Она ценила Бедела как неунывающего, веселого, хорошего человека. Иногда она думала о нем — что молодые годы его уходят, а он все не женится… потом думала — кто же выйдет за него замуж? — и терялась.
Похорошевшая вдруг Алчадай, честно говоря, понравилась Беделу, но он вспомнил про ее детей и испугался. Ему представилось вдруг, как трое маленьких ребятишек бегают за ним следом и кричат: «Папа, папа!» — и что он несет одного на руках, другого ведет за руку, третий путается у него в ногах. Он махнул рукой, как бы отказываясь воспитывать чужих детей.
Как раз в это время Керез с двумя ведрами вышла со двора — направилась к роднику за водой.
Бедел увидел — засияли глаза. Вскочил, бросился навстречу. Он бежал, размахивая руками, и казалось, что это катится, падает с горы вниз большая засохшая ветка можжевельника. Споткнулся, упал, но даже не посмотрел на ушибленное место — снова пустился бежать. Он поспел к роднику раньше Керез, хотя путь ему пришлось одолеть больший. Возбужденный, взволнованный, он выхватил ведра из рук девушки. Не смея прямо поглядеть на нее, что-то бормоча по-своему, парень принялся за работу. Ковшом набрал воды в ведра, подхватил оба и направился к дому — довольный, что может помочь Керез, довольный, что способен показать свою силу и ловкость. Девушка искренне радовалась его доброте и проворности, смеялась, показала ему большой палец, как бы говоря: «Ты хороший, таких, как ты, хороших на свете мало». Бедел горделиво распрямился, поднял ведра, подержал на вытянутых руках, демонстрируя крепкие как камень мускулы. Он смотрел на девушку, и лицо его светлело. Но Керез не замечала, не обращала внимания — просто привыкла уже.
Бедел поставил ведра там, где указала Керез, и девушка, довольная, благодарно кивнула ему. Когда же она знаком объяснила, что Бедел должен идти по своим делам, он не захотел уйти — глаза его наполнились слезами. Он жадно следил за каждым движением Керез, в глазах его была страсть. «Если бы эта чистая красивая девушка стала моей, если бы пришло мое счастье…»
Керез наконец-то почувствовала, что с Беделом творится необычное. Взглянула искоса, быстро, испытующе — и поняла, а поняв, сжалась, похолодела, будто увидела змею. Статная фигура Бедела, его красивое лицо, широкая улыбка, крупные, как у косули, глаза — все вдруг странно переменилось. Она невольно поморщилась, как если бы незнакомый человек позволил себе какую-то вольность. Бедел увидел раздражение в глазах девушки и покорно опустил голову.
Керез хотела было тут же отругать, одернуть, поставить на место Бедела, запретить так смотреть на нее — и не решилась. Не могла обидеть человека. И жалость к тому же заговорила в ней. «Ну конечно, он несчастен… Но он ведь человек — ничем не хуже меня и других. Даже если полюбил меня — как можно винить за это? Нельзя унижать человека из-за физического недостатка. Ему и самому все это непросто — хотя бы подойти к девушке, тем более я не должна унижать его. Наверное, я должна не обращать внимания, делать вид, что не замечаю, — и постепенно он сам успокоится… Он же не знает о Мамырбае, поэтому так ведет себя. А когда увидит его, сам отступится, забудет меня…»
Девушка ушла в дом и закрыла дверь. Бедел нахмурился; понимал, что обидел ее, сам того не желая. Повесил голову, сильные плечи опустились. Он подумал, что отныне эта дверь не будет, как прежде, всегда открыта для него, что Керез при встречах будет неласкова, что вечером же, когда возвратится Буюркан, дочь все расскажет ей — и начнется скандал… что теперь придется ему скитаться где попало, опять сделаться бездомным. Обида, и жалость к себе, и растерянность мучили его. Он поднялся, пошел куда глаза глядят — без цели. Снова увидел Алчадай — она пасла быков. Беделу показалось вдруг, что это его несчастье — дело ее рук, она виновата: «Керез, значит, видела, как Алчадай сидела возле меня». Он и не думал о том, что Керез просто равнодушна к нему, — такое ему просто не приходило в голову. Ему казалось, что девушка ревнует его к Алчадай, и если бы не видела их сидящими рядом, то по-прежнему ласково относилась бы к нему. Мысли — одни приятные, другие горькие, третьи красивые, четвертые ядовитые — распирали голову. В одно мгновение воображение соединило его с Керез. Свадьба… Друзья-ровесники поздравляют… Вместе с Керез, держась за руки, они сидят на почетном месте… Но тут же эту сладкую картину сменила другая: Буюркан догоняла его, держа в руке большую палку. «Захотел опозорить мою дочь, да?!» — кричала она и готовилась ударить… И в соответствии с бегом мысли Бедел то улыбался, светился, то бледнел и сжимал челюсти. Любовь и униженная гордость боролись в нем. Да, Бедел знал про себя, что не такой уж он простак. Держался с достоинством. Умел разглядеть в человеке слабое место и показать всем — о ком бы ни говорили, обязательно найдет недостаток. Скажи ему только, мол, женись на дочери такого-то, как он начинал сердиться, принимал за насмешку. Смотрел сердито, словно бы возражая: «Как я женюсь на ней, разве не осталось девушек получше?» Когда его спрашивали, на ком бы он хотел жениться, он не отвечал, лишь толкал себя кистью руки в грудь, будто объясняя: «сам знаю». В разговорах со знакомыми Бедел по движению губ понимал сказанное. И сам иногда старался говорить. До семи лет он был здоров, а потом сильно болел и после этого потерял слух и речь. И вот сейчас он идет, бормоча что-то невнятное, не в силах сдержать гнев и отчаяние.
Есть ли еще что-нибудь обманчивее, стремительнее, изменчивее мысли. Видения, как мошкара, без числа витали в голове Бедела, раздирая, мучая, жаля, как осенние мухи. Ему чудилось, что дом Буюркан стали посещать гости, что кто-то приехал свататься, что привели в подарок скот и режут его. Керез кокетничала, утром, днем и вечером меняла платья… В один из дней устроили свадьбу, и как будто Керез увозят…
Бедел задыхался. Ему хотелось умереть. Мир сделался тесен для него…
Он посмотрел вниз, в сторону юрты. Сознание его мутилось, ему надо было увидеть Керез, чтобы удостовериться, что ее не увезли на самом деле.
Керез вынесла из дома одеяла и ковры — проветрить на солнышке. Бедел видел, как она укрывает зеленые кусты яркими шелковыми одеялами, — и девушка казалась ему еще красивее, нежнее прежнего — будто это прекрасный цветок раскрылся. Словно бы она не занималась обычным домашним делом, а играла, пела, двигалась мягко, точно ласковая волна на озере… Она душа, она красота, она песня, она смысл существования всего сущего…
Бедел смотрел на нее — и сердце его разрывалось. Отвернулся, чтобы не видеть, не мучиться, — а на соседнем склоне Алчадай машет платком, зовет его. Бедел зло выругался про себя, погрозил ей кулаком. Стал смотреть в другую сторону.
Совсем рядом, в кустах, Бедел неожиданно увидел маленькую воробьиху, — она кормила своих еще голых, неоперившихся птенцов, а те требовательно разевали крошечные клювы. Мысли об одиночестве заставили Бедела вспомнить свой дом, родителей, войну, когда он осиротел. Бедный отец… Возвращался вечером домой и сразу начинал играть, бороться в шутку со своим Беделом. Сажал его на шею и раскачивался, как верблюд. Отец был сапожником и делал специально для сына самые лучшие сапожки. Даже на голенищах вышивал узор зелеными шелковыми нитками. Если сын хмурил брови, отец готов был вынуть свою душу… Проклятая война все проглотила. Мать тогда же умерла от рака. Мальчик остался в доме один, словно отставший от кочевья, — и чего только не пришлось ему пережить! Дом захирел, хозяйство распалось. Каждый, кто хотел, назвавшись родственником, брал, что ему надо, а потом отворачивался, уходил не оглядываясь. Иные взяли в долг, а потом забыли дорогу обратно… Когда Бедел немного подрос, за какую только работу не принимался. Пробовал даже, как отец, сделаться сапожником. Он привел в порядок инструменты отца, начал работать. Однако никто ему не доверял, не приносил заказы — пришлось бросить это занятие. Соседи, жалея, присматривали за осиротевшим мальчиком, но по-настоящему взяться за его воспитание никто не мог в ту тяжелую военную пору. А ему просто надо было что-то есть. Вначале он подкарауливал, выслеживал, в каком доме готовят, и, когда там садились за еду, приходил туда — удавалось перехватить кое-что. Потом, когда он надоел и его начали гнать, он ушел из аила, исчез. Начиная с этого дня то в одном дворе, то в другом стали пропадать сметана, масло, толокно, хлеб, иногда даже курица… Пошли толки, что появился вор. Бедел проникал в юрты через верхнее небольшое отверстие — тундук. Как ни старались его поймать, ни одной душе это не удавалось. Случалось, что хозяева искали его, а он, сидя у них в доме, съедал сметану, замочив в ней толокно, и уходил незамеченным.
И вот как-то раз Буюркан, когда пасла кобылицу, увидела чью-то голову, показавшуюся из пещеры в скале. Пошла туда и нашла там Бедела. Грязный, худой, отросшие волосы разлохмачены, одежда висит клочьями. Буюркан уговорила его пойти к ней домой. Вымыла, подстригла волосы, одела, накормила. Оставила ночевать в тепле и безопасности. С тех пор он не уходит.
Все это промелькнуло перед глазами Бедела, когда он увидел воробьиху, кормившую птенцов. Он благодарен Буюркан — на всю жизнь. Он подумал, что вот же Буюркан столько хорошего сделала… не пожалела бы еще для него своей дочери, тогда бы он как сын навсегда остался с нею. А если нет… Тут его мысль оборвалась, он не знал, как поступил бы в противном случае. Голова у него раскалывалась. Он не желал плохого Буюркан. Он готов был повиноваться, покориться любому ее слову — что бы она ни решила.
Мучаясь так, Бедел, как ни странно, в то же время чувствовал себя счастливым. Счастливым оттого, что любит Керез, что мечтает жениться на ней, что уже пришло время и надо сделать первый шаг. Конечно, он счастливый! А ведь могло быть и так, что умер бы в детстве, оставшись один, — или от болезни, или от холода, или поймали бы на воровстве и побили… Да, Буюркан спасла его — заботливая, человечная Буюркан.
Алчадай проняло по-настоящему, она теперь если и не влюбилась в Бедела, то, во всяком случае, все время думала о нем, следила ревниво за каждым его шагом. Когда он помог Керез отнести ведра от родника к дому, все в душе Алчадай перевернулось. Она готова была спуститься вниз, к юрте, и устроить скандал… но устыдилась Буюркан, сдержалась. Достала маленькое зеркальце, посмотрела на свое лицо, осталась довольна; быки паслись себе, а она сердито прохаживалась, как хищник в клетке. Успокоилась лишь тогда, когда увидела, что Бедел бросился от дома вверх по склону. Присела на камень. С проницательностью ревнивой любви она поняла, что Керез не слишком-то ласково отнеслась к парню, и, поняв, рассмеялась нервно и зло. «Вот паршивец, ведь ходит по земле, а мыслями витает в облаках. Подожди, еще придешь ко мне, еще будешь молить о любви — уж тогда я поиграю тобой, как кошка с мышонком! И тут же испугалась: — Нет, что я задумала! Почему должна мучить его — он же не Барктабас. Что мне сделал плохого, в чем провинился? Ведь я сама нацелилась на него — иначе кому я нужна с маленькими детьми? Разве у меня нет души, чтобы крепко привязать его? Надо лишь завлечь его, а там мое хорошее отношение сделает все остальное — он не сможет без меня… Правда, он немного моложе… ну и что ж такого… Лишь бы мы понимали друг друга, а годы сами сравняются…»
Керез видела на одном склоне Бедела, на соседнем — Алчадай, но думала о своем. Как ни старалась отвлечься, образ Мамырбая все возникал перед ней. Ей казалось, что они снова идут под ливнем и с его волнистых волос стекает вода. Или будто бы он поднялся на горный перевал и, не боясь дождя и ветра, пристально смотрит сюда… Вот увлеченно рассказывает ей что-то, смеется, потом они бегают, гоняются друг за другом по зеленой траве, что поднялась выше колен… То кажется, что он рубит дрова — чурбаки звонко разлетаются под топором, потом он сидит, облокотясь о камень, стережет отару — и поет. Его голос звучал в ушах. Его песня посвящена была ей, Керез, все слова были о ней одной, о любви к ней… «Давно нет от него весточки… что же случилось? Написал бы письмо… Хотя если и напишет, а кто принесет? Чем писать письмо, сам раньше приехал бы через эти четыре хребта, разделяющие нас. Но почему же все-таки нет от него вестей? Или правда он не любит меня? Вот так и скажи себе, не обманывайся — человек, который любил бы по-настоящему, нашел бы способ… Ну и пусть, если не любит… И потом — почему он должен любить именно меня? Что он — слово давал? Нет, не буду думать о нем. Что у меня — дел не хватает? Вот — укрытие для ягнят, в крыше дыра, как будто волк выдрал клок… Что будет с ягнятами, с худыми, с больными, если пойдет сильный дождь?» Но затем в мыслях ее вновь появился Мамырбай. Ей видится, что он стоит на большом камне, машет рукой, прощаясь, и ждет, что она оглянется. Но она уходит не оглянувшись… Так они расстались в последний раз. Вспомнив, Керез пожалела: «Почему я тогда не побежала, не пожала крепко его руку? Мамырбай ждал этого, хотел. А я — постеснялась Алчадай. Что было бы, если бы попрощалась как следует… А сказанные им тогда слова о любимой — что они означали? Если он послушает мать и отца, то они не станут медлить, сразу же сыграют свадьбу. Отец и мать у него преданы обычаям, могут и не посчитаться с его желанием. Не о ней ли, не о вдове ли брата, он думал, когда отвечал на мой вопрос: «Есть ли у тебя любимая?» Вдова брата Мамырбая больше всего беспокоила Керез. Девушка знала эту молодку, чуть постарше Мамырбая. Она вышла замуж в шестнадцать лет, и если не считать, что уже родила двух ребятишек, то она и сейчас может вскружить голову любому молодцу. Конечно, она способна завлечь Мамырбая, пользуясь своей молодостью, близостью, красотой. Ее нельзя не бояться.
Да, еще существует у киргизов, не исчез обычай, когда после смерти старшего брата его жену выдают замуж за младшего. При этом не надо платить выкуп за невесту, устраивать большой свадебный той. Мать и отец Мамырбая, они жадные до добра… Ах, как они решат?..
9
Никогда в жизни Бедел не радовался так. Ближе к вечеру он отправился в ущелье — пригнать обратно овец, которые разбрелись там, и вдруг из кустов навстречу ему стремительно выскочила косуля. Убегая, косуля несколько раз останавливалась, оглядывалась на человека. Бедел понял, что это означает. Побежал прямо к тем кустам, откуда появилось животное, — увидел, как метнулся из зарослей олененок, и ловко подхватил его. Олененку было, видно, с неделю. Пестрая спинка, тоненькие, еще некрепкие ножки, черные глаза смотрят жалобно, кажется, наполнились слезами.
Бедел долго стоял, удивленный и обрадованный, и рука его, крепко державшая детеныша косули, чувствовала, как испуганно бьется сердце малыша. Олененок сначала вырывался — да разве отпустят его громадные сильные руки Бедела, и наконец он покорился, затих в страхе. Его черная мордочка вздрагивала, будто он принюхивался, надеясь услышать привычный успокаивающий запах матери.
Подгоняя овец, Бедел отправился домой. Ему не терпелось скорее вручить Керез необычный подарок. Он чувствовал, что радости Керез не будет предела, и надеялся, что недавняя обида девушки рассеется, что она станет лучше к нему относиться, обратит внимание на его заботливость.
Черный козел, предводитель стада, а за ним и овцы со своими беленькими ягнятами вступили на покрытый травой склон и остановились, принялись пастись. Солнечные лучи брызжут поверх зубчатого хребта, шерсть овец в закатном свете кажется золотистой. Неизвестно откуда взялась пестрая сорока, перепрыгивает с одной овечьей спины на другую, — кажется, будто у нее сломано крыло и она не может летать, поэтому и едет на овцах. Запах цветов и травы перемешался с запахом овец, гудят тысячи мух, шумит в траве и кустах легкий ветерок — пастбище сонно и сыто вздыхает, словно малое дитя, напившееся разведенного кислого молока. Овцы, то ли потому, что впервые вышли на это пастбище, то ли оттого, что день был очень жаркий и они больше лежали, чем паслись, набросились сейчас на сочную траву, как будто десять дней не видели корма, и не двигались вниз, не обращая внимания на крики чабана.
Черный козел, вожак, словно тоже недовольный медлительностью стада, мотнул головой, подпрыгнул неуклюже на месте, а потом поскакал вниз по склону — к дому. Бедел знал, что за ним вслед тотчас же устремятся овцы, и поэтому поспешил обогнать отару, стать впереди. Если отпустить здесь овец, они будут бежать до самого дома. И если потом, вспотевшие, они набросятся на воду, то многие могут погибнуть. Кроме того, если такое множество овец пробежит по склону, они вытопчут траву, разрыхлят землю — и пастбище будет испорчено. Бедел, конечно, не мог допустить такого. Он стал перед отарой, сбил овец в кучу, посмотрел в сторону дома. Буюркан вышла во двор, увидела, как шарахнулись готовые броситься вниз овцы, и, конечно, встревожилась. Потом заметила, что Бедел придержал отару, и, успокоенная, вернулась в дом. Бедел заметил движение Буюркан и, обрадованный, что сделал правильно, горделиво приосанился.
Казалось, будто невидимая рука, спрятавшаяся за горой, собрала солнечные лучи, упрятала в горсть тысячи тоненьких золотых нитей — между хребтами залегла густая тень. Из ущелий вырвались туманы, напоминая видом лохматую свалявшуюся шерсть, исчезли под ветерком, но затем появились снова и стали сливаться вместе, в общую туманную мглу. На только что чистых вершинах появились вдруг тучки, и сразу изменился облик гор. Облако на вершине высокой скалы на востоке загорелось огнем. В одно мгновение переменило свой вид, разделившись надвое. Сначала казалось львом с разинутой пастью, приготовившимся к прыжку, затем превратилось в верблюда, в курган. Когда же солнце закатилось, облако приняло обычный свой вид, сделалось серым. С соседнего склона, покрытого можжевельником, поднялся филин — сел на скалу Кыз-Булак, как раз возле дома Буюркан. С наступлением темноты он спустится в неглубокие ущелья и будет до утра ухать там, охотиться на мышей, а если удастся, то и на барсуков и на сурков. Утром на зеленой траве останутся разбросанные перья. Киргизские девушки и молодки издавна собирали тут перья филина. Раньше многие девушки носили тебетеи, шапочки, которые украшал пучок перьев филина, теперь же это украшение уже не ценят, как прежде. Как хороши были на девушках длинные цветные платья под бархатной жилеткой! Даже низенькие казались в них высокими и стройными. И завершал наряд тебетей, отороченный мехом куницы, — прекрасный мех и роскошный пучок перьев дополняли красоту друг друга. Теперь же, когда на шапочки не нашивают перья филина, мало кто ценит их. Нет уже людей, что лазали по скалам, отыскивали птенцов филина, а потом выращивали их. Исчезло суеверие, будто перья филина изгоняют злых духов из дома, где рожает женщина, исчезла вера в таинственную силу — и филины превратились в обыкновенного представителя отряда пернатых. И поэтому Бедел, когда над ним пролетел филин, бросил ему вслед палку. Раньше он не посмел бы это сделать.
Овцы, разбившись на два потока, подобно расчесанной надвое бороде, начали спускаться вниз. Бедел поспешил к дому, поглядывая на олененка, счастливо улыбаясь. Детеныш косули с каждым взглядом казался ему красивее.
Керез в развевающемся на ветру красном платье вышла навстречу отаре. Бедел торопливо устремился к ней — спешил вручить свой подарок.
Приблизившись к Керез, он начал быстро лопотать, пытаясь выговорить — ты не знаешь, что я тебе несу. Керез не поняла сразу и посмотрела вопросительно. Тогда Бедел поднял олененка над головой. Девушка увидела и закричала радостно:
— Ой, ой, детеныш косули! — Подбежав к Беделу, выхватила малыша из его рук и, жалея, нежно прижала к груди. Олененок испуганно зажмурил глаза и спрятал голову под мышкой у девушки. Заслышав лай собаки, в страхе прижимал уши, и все его тельце едва заметно дрожало.
Керез любовалась подарком. Красноватый пятнистый олененок расположился на ее руке, сложив свои длинные ножки с острыми черными раздвоенными копытцами. Длинные уши настороженно вздрагивают, подхватывая каждый звук. Черные большие глаза смотрят грустно и жалобно, будто малыш упрашивает отпустить его.
Буюркан меж тем встречала стадо.
— Эй, останови! Придержи немного! Запарившихся не пускай сразу к воде! Кумайык, эй! Куда подевался, всегда ведь встречал овец? О, чтоб тебя побило! — где ты, когда нужен, вечно пропадаешь! Встречай отару! — Тут наконец прибежал огромный волкодав Кумайык, повернул передних овец. — Вот так и делал бы, чтоб тебя побило, всегда бы так помогал, — закончила Буюркан, довольная собакой. Бедел уже привык к жестам Буюркан, понимал их значение — тут же, как ветер, подлетел, тоже начал загонять овец. Сейчас он был доволен, душа на месте. Ему понравилось, что Керез унесла детеныша косули.
Буюркан заметила, что дочь, обрадованная, несет что-то в руках.
— Что там у тебя, моя душа? — спросила она.
— Смотри, мама, олененок!
— Что ты говоришь! Бедненький, зачем же его принесли? А что с матерью? Для чего ее разлучили с детенышем? Как бы мне пришлось, если бы тебя кто-нибудь забрал от меня? Этот Бедел вечно находит что-нибудь… Что ты поделаешь с его глазами — ничего не пропускают. Как ворон видит, что где спрятано. Однажды он поймал горного козленка, привел, привязал за шею. Я пришла, так этот бедняга, как рыбешка, бьется, бьется… То сюда метнется, то туда… задыхается. А этот Бедел стоит над ним, смеется. Объясняет, дуралей, что, мол, подергается, подергается да и привыкнет. У меня аж сердце схватило — я закричала на него, чтобы отпустил сейчас же… Заплакал, бедняга, когда отпускал. Дотемна сидел на камне, глядел в ту сторону, куда ушел козленок. Упрямый до невозможности… Помнишь жену Осмоя? Того, с рассеченной губой? Все тараторила, не умела остановиться — «на пятьдесят рублей продала козьего пуха, на пятьдесят из них купила кереге, на девять рублей чаю, а оставшиеся деньги завязала в уголок платка…». Послушаешь — смех! И как же она разошлась, когда услышала, что мы отпустили козленка! Говорит: «Если продать его государству, то за него дали бы пять тысяч рублей… а сколько это будет — пять тысяч?» Еще говорит: «Если бы увидели его охотники, то передрались бы», будто охотники не видали никогда козлят. Иди, сказала я ей, подальше и не трещи. Нашлась заботливая такая, тоже мне… Когда заговорили, что раньше будто бы волки уносили детей прямо в колыбельках и потом вскармливали грудных младенцев, она поверила: «Ой, неужели правда верблюжонок мой? Но и хорошо, лишь бы не умирали» — и успокоилась. Дай-ка его сюда поближе! Смотри, совсем маленький. Он ведь еще сосет материнское молоко. Бедняжка, попал в неволю, да? Поймали, разлучили с матерью? А у нее вымя тоскует, и плачет она по тебе? Ты, наверно, ругаешь нас, да? Какой, оказывается, жестокий Бедел! — Буюркан нежно погладила лоб олененка, поцеловала его и, не оборачиваясь, пошла к овцам.
Она сегодня оставалась дома, чтобы помыть голову и выкупаться, в иные же дни обычно ходила следом за стадом, беспокоилась, как там Бедел один без нее управляется с отарой, — девяносто девять раз оглядывалась на склон, желая убедиться, собственными глазами увидеть, что все в порядке. Сейчас же, после того как стадо при спуске разделилось надвое, она начала пересчитывать овец и успокоилась только тогда, когда выяснилось, что все целы. Освободившись от этой заботы, она тут же вспомнила про детеныша косули и крикнула Керез, которая все еще стояла возле дома, не переставая восхищаться подарком:
— Отнеси его, дочка! Отпустите там, где нашли!
Бедел, воодушевленный радостью девушки, тем, что она потянулась к детенышу косули, понял слова Буюркан и по привычке обиделся и надулся. С силой ударил своей палкой о камень, с хрустом переломил ее, отбросил в сторону и пошел сгорбившись. Буюркан заметила, что парень не в себе, догнала его и сказала ему что-то, показав на мускулы. Он покраснел и остановился. Видно, Буюркан пристыдила его — мол, такой сильный, умный парень — и обиделся из-за того, что нужно отпустить олененка!
Почувствовав, что Бедел понял и признал свою неправоту, Буюркан добавила:
— Отнеси олененка туда, где нашел!
Бедел что-то забормотал в ответ, показывая на Керез.
Буюркан поняла, что Бедел хитрит, ссылаясь на Керез, на то, что ей очень нравится детеныш косули. В ответ она приказала и Керез пойти с ним.
Если Буюркан что-то решала, то потом была непоколебима, и Керез молча пустилась в дорогу. Махнула рукой Беделу и пошла к склону. Парень, только что хмурившийся, тут же повеселел.
Он старался идти поближе к девушке, так, чтобы лишний раз задеть, коснуться… то погладит ее волосы, то забежит вперед, то отстанет — и смотрит, то тихонько обнимет за плечи… Лишь когда Керез сильно ударила его по руке, он испугался, приотстал.
Они выпустили детеныша косули возле тех же кустов, где Бедел нашел его.
Потом Бедел остановился напротив Керез, смотрел умоляюще, и хоть и не видно было в быстро сгущающихся сумерках, но чувствовалось, что он готов заплакать. Жалобно, просительно мычал… Казалось, он говорил: «Как можешь ты равнодушно видеть мое страдание? В чем же я виноват? Разве я сам пожелал стать немым? Хоть я и немой, но ведь у меня есть душа, как и у всякого другого человека, и я даже чувствительнее, справедливее многих здоровых людей. Может быть, у человека, владеющего речью, здорового, и не возникнет такого чистого чувства любви, как у меня! Почему избегаешь меня? Я не могу жить без тебя. Как будто мало мне того, что меня обделила природа, так еще и ты относишься с пренебрежением. Как мне пережить это?»
Керез и жалела, и боялась его. Остаться в темноте, среди гор, наедине… взгляд у него безумный, глаза блестят лихорадочно… Она поспешила скорее вниз.
Бедел понял, что девушка испугалась, пожалел ее, постарался успокоить. Кулаком постучал себе по груди, объясняя, что, когда он рядом, ей нечего бояться. Керез улыбнулась. Она и вправду успокоилась. Но вдруг Бедел остановился перед ней, тихонько приподнял ее голову за подбородок, поглядел в глаза. Хотя в его жесте не было грубости — скорее нежность, девушке это не понравилось, она отступила назад.
— Я… же… — с трудом выговорил Бедел и, довольный, что ему удалось хоть как-то выразить свои чувства, ждал ответа от девушки. Он высунул язык и наклонил голову набок, изображая удавленника; Керез поняла по его движениям, что если она не выйдет за него замуж, то он хочет умереть. — Ты… ты потом… будь… — И он поцеловал свою ладонь.
Керез поняла: если она разрешит только один раз поцеловать, все его недуги разом исчезнут, и подставила ему щеку. Бедел чмокнул ее и пустился бежать. Он спускался по склону, не замечая ни камней, ни ручьев. Споткнулся, упал — оцарапал лоб, вытер кровь рукавом и побежал дальше. Он как бы хотел показать девушке, какой он привычный ко всему, закаленный, бесстрашный. Ему хотелось одного — понравиться Керез. Поняв это, девушка по-настоящему пожалела парня. И тут же вспомнила, как в прошлом году, когда мать ее, Буюркан, стала Героиней, Бедела тоже наградили медалью. Награды оба получили зимой, и Бедел тогда вырезал дыру на своей новой шубе, как раз против медали, — хотел, чтобы видели люди…
Когда они вернулись к юрте, у двора их ждала Алчадай. Лицо у нее было злое. Бедел понял, что она затевает скандал, и хотел было уклониться от встречи, обойти, потянул Керез в сторону, но Алчадай окликнула его. Сделав вид, что не заметил, Бедел хотел загнать во двор овец, которые паслись рядом, но женщина не дала ему ускользнуть.
— Иди домой, нянчи своих детей! Чем заигрывать со всякими, подумал бы о них!.. — громко выкрикнула Алчадай, обернулась и пошла к своей юрте.
Буюркан рассердилась на соседку за то, что та оскорбляет ее дочь, мало того, позорит ее. Видя, как Бедел уклоняется от встречи с Алчадай, вроде бы опасаясь чего-то, Буюркан почти поверила словам Алчадай, что ее дети — от Бедела. Но Керез та не смела трогать!
— Думай, что говоришь, Алчадай. Что будет, если не поостережешься задевать Керез? Почему это Керез — «всякая»? Скажи, если знаешь, какой плохой поступок она совершила? То так придираешься, то эдак… наверное, нас теперь выбрала вместо козлиной бороды? Нехорошо злиться на всех. Прямо как буря ворвалась к нам… Если нужно тебе что-нибудь взять от нас, возьми, пожалуйста. Кто умер, а кто жив, уж успокоилась бы наконец, не болтала вздор. Распухла от слез… Привыкла вольно ругать своего мужа, остановиться не можешь! Зачем напрасно поливаешь людей грязью? Иди восвояси, не разводи скандала! Тебя жалеешь, защищаешь, а ты, оказывается, вон сколько злобы держишь в себе! Скатертью дорожка тебе, уходи! Мало того что сплетничала обо мне, так теперь задеваешь безвинную девушку, которая еще не видела жизни! Вспомни лучше, что твоего Алтынбека убила не Керез, убил твой муж, в объятиях которого ты лежала… — с досадой бросила Буюркан.
Алчадай, у которой с утра накипело, на которую весь день не обращал внимания облюбованный ею парень, не стала сдерживать себя, брякнула:
— Отмывай свою дочку с мылом… чем кричать на меня, лучше сказала бы ей, чтобы не ночевала с парнями по всяким пещерам! — и с тем удалилась.
В голове у Буюркан зашумело, в глазах потемнело. Она чуть не упала.
Керез промолчала, не хотела равняться с Алчадай, не привыкла ругаться. Лишь отошла немного от матери, не смела приблизиться. Как бы там ни было, в словах Алчадай была частица правды, и девушка чувствовала себя виноватой… Конечно, не нужно было ночевать в пещере, надо было идти домой, несмотря ни на что.
Буюркан загнала в укрытие худых, слабых ягнят, вместе с Беделом устроила их там и потом вернулась в дом. Бедел, бледный от сдерживаемой злости, сидел на седле, поглядывал на топор, лежавший тут же, протягивал руку — и отдергивал ее. Перед его глазами стояла обидчицей Алчадай. Его обжигало пламя напрасного оскорбления, ложного обвинения. Он не знал, что сейчас сделает… Казалось, гнев его вот-вот прорвется наружу.
По глазам Буюркан, которая только что вошла в дом и всего раз взглянула на него, Бедел понял, что́ она хотела сказать. Он весь задрожал, губы затряслись, он протянул к ней руки, как бы собираясь что-то объяснить. Так он обычно делал, защищаясь от лжи и наговоров. Буюркан поняла, что Бедел ни в чем не виноват. И, поняв, испугалась: Бедел не жалел обидчиков. Как бы не натворил чего, не случилось бы беды! И тут Бедел подхватил топор и выбежал во двор.
— Бедел!
Но разве услышит глухонемой испуганный окрик Буюркан! Он уже несется в темноте, не разбирая дороги.
Никогда в жизни, наверное, Буюркан не была такой проворной — летела как ветер, опередила джигита, стала перед ним.
— Оставь, Бедел, что хочешь сделать с этой несчастной? Не равняй себя с женщиной, которую истощили печаль и горе! Не пачкай руки о нее! Я знаю, ты чист. Она напрасно очернила тебя. И все же — будь великодушен к ней! — почти кричала в глухой темноте Буюркан, не зная, услышит ли, поймет ли Бедел.
Алчадай, сознавая опасность, приготовилась бежать. Выскочила из юрты без платка, босиком, но Бедел уже почти настиг ее, замахнулся топором, споткнулся, растянулся на земле. Буюркан выхватила топор из его рук. Бедел вприпрыжку бросился за Алчадай, нагнал, начал душить ее, повалил. Когда Буюркан поспела на помощь, женщина уже теряла силы. Подскочив сзади, Буюркан два раза довольно сильно стукнула парня по спине — только тогда тот пришел в себя, отпустил Алчадай, поднялся сам. Бормотал что-то, ругаясь, все еще продолжая злиться, но остывая.
Здоровенный Бедел стеснялся Буюркан, как родной матери. Подчинился ей и покорно пошел обратно ко двору. Придя домой, сел, виновато опустил голову и не смел поднять глаза.
— Дурак! — Буюркан в сердцах ударила топором в землю.
Бедел вскинул голову и заплакал. Он пожалел Буюркан. Не мог простить себе, что расстроил ее и рассердил. Понял, что все улеглось бы, если бы он не поднимал скандала, что Буюркан верит ему, — и обвинил себя в легкомыслии. Вскочил, подбежал к Буюркан и, целуя ее, умолял простить его. Сейчас он был похож на маленького мальчика, который нашалил и теперь старается угодить матери. Чье сердце не растаяло бы… Буюркан, жалея, обняла его за голову и плакала. Утешала Бедела — и в то же время не в силах была утешить себя. Казалось, что оба они плачут о давно накопившемся: Бедел — из-за своего физического недостатка, из-за одиночества; Буюркан плакала, вспомнив о безвременной смерти мужа. Керез смотрела на них — и чувствовала, что и у самой сжимает горло и близко подступили слезы.
— Встань, Бедел. Не плачь, я прощаю, — сказала Буюркан, вытирая своим платком слезы джигита, и поднялась, стараясь не показать ему своих слез.
Бедел все же заметил, что она плакала. Да, Буюркан относится к нему как к сыну… ласкова и добра, предана ему, жалеет его и уважает. Он выбежал следом за Буюркан во двор. Увидел, что она набрала охапку поленьев, подскочил, взял у нее из рук. Буюркан понимала его лепет: «Ты не беспокойся, я сделаю сам, пока я здесь, не дам тебя в обиду». Она улыбнулась.
Керез собрала ужинать. Мать вглядывалась в ее лицо — и ей казалось, что дочка изменилась. Или просто глаза рассеянно-задумчивые… Все такая же красивая… Разве мать может плохо думать о дочери. Хочется, конечно, хочется, чтобы люди не говорили плохо о ее Керез, чтобы никакая грязь не липла к ней. Буюркан нервничала после того, что услышала от Алчадай, но не показывала вида, сдерживала себя. Старалась не оскорбить дочь подозрением и в то же время выведать у нее осторожно хотела — что же все-таки?.. Ужинала, никак не показывая, что у нее на душе, и только потом, когда она собиралась выйти во двор, дочь сказала ей:
— Мама! — Голос ее звучал тихо. — Алчадай неправильно сказала. Почему она говорит, не узнав как следует?
Буюркан не хотела, чтобы дочка расстраивалась из-за болтовни соседки, и не рада была такому разговору.
— Оставь, дитя мое, я не поверила ей. Будешь ли ты хорошей или плохой — это важно прежде всего для тебя самой. Если люди станут говорить, какая хорошая дочь у Кара, то для родителей только слава, остальное все для тебя. Ты уже давно вышла из того возраста, когда можно поучать: будь такой, не будь этакой. Я послала тебя учиться во Фрунзе, потому что верила тебе, — если бы не верила, посадила бы тебя в углу, привязав за ноги. Не нужно мне ничего объяснять, я и так все понимаю. Мало ли вокруг таких, что готовы сочинить целую историю, если пройдешь с кем-нибудь рядом. Пусть лучше на себя посмотрят, прежде чем пачкать мою дочь! Когда умер твой бедный отец, чего только мне не советовали со всех сторон, прямо заморочили голову. Даже предлагали взять тебя на воспитание, — мол, я одна не справлюсь, верблюжонок мой. Я сгорела тогда, превратилась в золу. Плакала, тосковала, скрывалась от людей, извелась совсем. А потом взяла себя в руки и впряглась в работу. Только двадцать дней прошло после смерти Кара. Некоторые принялись болтать — мол, даже сорока дней не вытерпела после смерти Кара, этак она до годовщины смерти не вытерпела после смерти Кара, этак она до годовщины смерти не дотянет, загуляет с кем-нибудь… Тут я узнала, что все зло, вся грязь, все сплетни — все достается вдове… Я не обращала внимания, а когда надо — давала отпор. Постепенно жизнь успокоила болтунов, закрыла их рты, некоторые даже приходили извиняться. Говорили: «Мы знали Кара. Желали, чтобы ты не опозорила доброго имени бедного джигита». И то, что разносит Алчадай, тоже немногого стоит. Не слушай ее, не обращай внимания, не опускайся до нее. Ты веришь самой себе? Достаточно. Мне нет дела, где ты бываешь, где ночуешь, лишь оставайся достойной своих родителей, не допускай, чтобы тебе в лицо бросали грязные слова. Что бы и кто бы ни болтал — ты для меня чище родника.
10
Обычно Бедел спал в доме, но на этот раз он взял свою постель и вышел во двор. В эту ночь двор будет охранять от волков Керез… Как он может спокойно спать в доме, когда его любимая девушка всю ночь будет ходить, покрикивая, у загона. Для него радость хоть краешком глаза видеть ее. Он готов всю ночь провести без сна, переглядываясь со звездами, лишь бы только Керез обратила на него внимание. Да разве только это, даже когда он пасет в горах овец, и то не сводит глаз с дома, ищет взглядом Керез. Когда она выходит из юрты, он оживает, когда скрывается, он сникает, бледнеет, хмурится. Как камень застывает на одном месте. Не замечает ни жгучего солнца, ни накрапывающего дождя, забывает про холод, про жару, про голод. У него пропал аппетит, и вместо того, чтобы есть поданный обед, он незаметно поглядывает на Керез. Может, он и не прочь насытиться, но он старается есть поменьше, чтобы выглядеть стройным. Ему хочется нравиться Керез. Едва рассветет, как он уже бежит за водой с двумя ведрами и большим чайником. Ведра на коромысле, чайник в руке — приносит полные, ставит их в кухоньке. Если Керез увидит и улыбнется, то он бесконечно рад, ходит до вечера счастливый, ему кажется, что он получил большую награду. Но если случайно Керез не заметит, не обратит на него внимания, он весь день не находит покоя, печально размышляет, чем не угодил ей. Хорошо, если в такие дни обед подает Керез, тогда он радуется угощению, как давно ожидаемому сюрпризу, съедает все без остатка и потом глядит на нее улыбаясь, как бы говоря: «Вот видишь, что для меня значит поданное тобой». Если Керез, недовольная этим, толкнет его, он тихо уходит во двор. И сегодня обед ему подала Керез, и он, умиротворенный, взял свою постель и пошел во двор…
Бедел вынес постель, бросил на вязанку хвороста и прутьев, заготовленных для растопки. Расстелил прутья по земле, захватывая их, как беркут, своими большими руками: при этом колючки впивались ему в ладони, но он желал показать Керез, что не боится боли. Керез в это время спустилась к юрте, возвращая во двор овец, которые, щипля траву, поднялись слишком далеко по склону. Увидела Бедела, удивилась — неужели у него железные руки, как солому ворошит колючий тростник. Подошла поближе, посмотрела, потом вернулась к отаре. Ее платье, развевавшееся на ветру, было ясно видно при свете полной луны. И сейчас, в лунном сиянии, девушка казалась тоненькой, хрупкой, сотканной из чудесного серебряного мерцания. Когда она шла, казалось, что трава поет и песенка ее сливается с ласковым шепотом ветра. Лунный свет обнимал, ласкал, обволакивал весь ночной зыбкий мир, казалось, все под луной двигалось вместе с девушкой, текло куда-то, светилось и исчезало в тени. Ветер, слетевший с гор, обежал, разбудил благоухающее море цветов.
Керез оглядела отару и села на старый ширдак, расстеленный возле юрты.
Полная ясная луна наискось поднимается над хребтом, и кажется, что вся вселенная — сейчас ее владения. Радостно вспыхивают снега на далеких вершинах, и стыдливо бледнеют перемигивающиеся звезды — их праздничная яркость блекнет перед лицом владычицы ночи. И будто вся вселенная покоряется царице, хочет стать ее подобием. Белые спины овец, спящих во дворе, видятся маленькими лунами. И не только овцы, но даже и Бедел, и юрта, и пес Кумайык, что бегает на краю двора, и корова, стоящая на привязи, и белый ручей у Кыз-Булака — все голубеет, светится и плывет подобно ночному светилу.
Керез видит далекие хребты, видит скалу Кыз-Булак — и все они словно облиты лунным дождем. Густой лунный дождь очищает, украшает, овевает прохладой ночной мир. Может быть, даже — это не лунный, а молочный дождь, и вся земля покрыта белым молоком… Душа Керез впитывает чудесную поэтическую красоту и тоскует, и вспоминает Мамырбая. «Где он сейчас? Думает ли обо мне? Или, может быть, просто сладко спит… Ой, вон из-за скалы показался всадник… Какой-то человек… Въехал в ущелье… Если бы это был Мамырбай… Что бы я сделала, если вдруг действительно он приехал? Подбежала бы, обняла? Наоборот, я убежала бы от смущения. Когда он рядом, я убегаю, а если далеко… Была бы я луной, я сейчас посмотрела бы, где он, отыскала бы его, а если он спит, разбудила бы и вывела во двор. Хорошо луне, сейчас она видит нас обоих. Ах, если бы луна была большим зеркалом, я увидела бы, где сейчас Мамырбай, что он делает… Нет — что это я размечталась о несбыточном! Хватит, не буду больше думать о нем — не люблю Мамырбая…» Но через небольшое время снова начала думать о нем. Увидела его — он улыбался. Вспомнила тревожное — что это Мамырбай сказал тогда, о чем намекнул? Кажется, что если сделать по желанию отца и матери, то они не выпустят его из рук. Прошло уже больше полугода, как умер его брат Калматай. Молодая вдова его Маржангуль осталась с четырьмя детьми. Да, Мамырбай еще сказал, что осталась в достатке, со скотом… Эти слова он повторил дважды… «На что хотел намекнуть? Неужели же хотят связать голову своего сына с тридцатилетней женщиной, у которой четверо детей? Я еще многого не знаю… Почему Мамырбай заговорил об этом, будто я спрашивала его? А если я сделаю вид, что не поняла? Чего только не придумают люди, для которых скот — это все. Его мать, она без конца ругается… Словно перепелка — как заведется, никому не даст слова сказать… Да, и почему же они посылали ему письмо за письмом, вызывая домой? Неужели?.. А если они уже давно уговорили его? И просто скрывали от людей? Нет, нет, не может этого быть! И чего я вспомнила ее, эту вдову, чтоб застыли как камень ее желания… Чудная я, мучаюсь из-за каких-то пустых слов! Разве у Мамырбая нет головы? Не захочет он жениться на старой женщине с четырьмя детьми! Ах, чтоб испепелились они, эти старые обычаи! Кто выдумал их? Чтобы после смерти брата на его вдове да женился младший брат!..»
Керез вспомнила бывшее в ее родном аиле. Жили раньше здесь двоюродные братья Мекмерген и Токберген. Оба уже давно умерли, и тела их давно обратились в прах. Так эти братья — они ни за что не женили сыновей на девушках из других семей, не выдавали своих дочерей на сторону. Дочь одного из них выходила за сына другого и наоборот; наконец стало трудно разобраться, кто за кого вышел замуж, кто на ком женился, кто кому каким родственником доводился. Видимо, поэтому три женщины из этого рода оказались душевнобольными. Да и мужчины были странные. У всех нервный тик, много и не к месту говорят, а то и просто ненормальные. В аиле рассказывали, что если у них рождались дети, так умственно и физически неполноценные. Только два года назад одна девушка нарушила обычай, существовавший испокон века. Когда родня хотела выдать девушку за ее двоюродного брата, она ночью убежала в город и там вышла замуж за человека, которого полюбила. И будто бы ее родичи не дали ей благословения, все отказались от родства с ней…
Еще Керез невольно вспомнила тетушку Аруке, как ее в прежнее время выдали за придурковатого мальчишку, байского сынка. Неужели же старые прогнившие обычаи до того живучи, снова встречаются кое-где и в наши дни? А вот — было же в соседнем аиле в годы войны. Пришла похоронка на мужа, после него осталась молодая вдова. Родня выдала ее замуж за младшего брата погибшего. А через три дня этот погибший вернулся живым — после ранения, из госпиталя. Молодка от стыда повесилась, муж ее ушел из этих краев, пропал, а младший брат его, за которого выдали молодку, бросился со скалы…
И правда, если человек решился жениться на вдове брата, то считай его пропащим. Лучше быть подальше от такого слабого, бесхарактерного, поддавшегося чужим уговорам. Но Мамырбай — он не такой, он не уступит, даже если не только мать и отец, вся родня будет уговаривать его! Как хотелось Керез верить… Но та молодка — она ведь, говорят, хороша собой, и она рядом. Рядом с Мамырбаем… А она, Керез, за четырьмя перевалами. Раздосадованная, она взглянула в ту сторону, потом перевела взгляд на свой дом. Тихо, мама спит. А Бедел — смотри-ка, он снял рубашку, его обритая наголо голова отражает лунный свет. Не спит, расправил широкие плечи… Раньше укрывался с головой, а теперь ему жарко, значит. Обычно в это время он уже похрапывает, теперь же не сводит глаз с нее, Керез. Как-то он при Буюркан погладил Керез по голове, но мать не придала этому значения, поняв так, что Бедел хотел этим выразить доброжелательность и уважение к девушке. Но после того как Буюркан ничего ему не сказала, не одернула, Бедел в мыслях еще больше разошелся. Он надеялся, что Буюркан поддержит его, не станет возражать, если он надумает жениться на ее дочери. У него сон пропал при мысли о том, что Керез ведь не сможет оставить мать, останется здесь… и раз так… если суждено, то он никому не отдаст эту чистую, красивую девушку.
Керез поняла его состояние, задумалась, каким образом отвратить его от себя, но ничего пока не могла решить.
Похолодало, порывами налетал ветер, а этот бедняга лежал раздетый, желая понравиться ей. Керез подошла к нему, знаком показала, мол, замерзнешь, ложись дома. Но разве Бедел замерзнет? Он залопотал, что близость Керез согревает его — ему лишь бы смотреть, лишь бы видеть ее, хоть и не вместе, но быть рядом, тогда никакой холод его не одолеет.
Между тем небо затянула пухлая черная туча — наползла с юга, вершины гор обволокло туманом, скалы и камни как бы съежились, уменьшились, теснее стали ущелья.
Посыпались первые редкие капли, черная туча яростно заурчала. Казалось, она сердится на кого-то. Казалось, сказочное прожорливое чудовище рвется сквозь тучу и, когда оно появится, земля содрогнется в ужасе. Туча заговорила громче, свирепее. Зашумела, загрохотала. Казалось, несметная сила старалась и не могла прорваться сквозь тучу, искала себе выход. Туча не уступала дорогу, а чудище толкалось, билось, боролось. Но вот оно ударило в самое сердце тучи, и прорвалось, и разодрало ее пополам… Загремел гром — словно с грохотом посыпались в горах камни. Однако этот гром был еще не самый сильный. Казалось, он не торопился, уверенно накапливал мощь. Посыпались мелкие-мелкие, будто глаза перепелок, искорки. Овцы заволновались, начали искать себе укрытие. Козел-вожак, обычно охотно выставлявший свои рога напоказ — на пастбище он всегда возлежал на вершине скалы, во дворе — на холмике, — сейчас, предчувствуя непогоду, пристроился возле юрты, будто зная, что вскоре тут не останется свободного места. Дождь постепенно усиливался. Нежные, слабые ягнята стали прятать головы под брюхом у матерей. Что-то грохотало, шумело, раскатывалось в небе, било то там, то здесь и наконец ударило вдруг со страшной силой. Длинная огненная змея располосовала небо. Дождь словно ожидал этого, припустил еще сильнее. Овцы заблеяли, забеспокоились, старались укрыть ягнят — боялись ярости неба. Струи дождя шумели в листьях, словно быстрый поток проносился где-то рядом. Керез не вытерпела, пошла надела пальто. А Бедел продолжал все так же лежать раздетый. Забыл про холод, — увлеченный девушкой, хотел, чтобы оценила его силу и выносливость. Керез забеспокоилась, думая, не заболел ли парень. Подошла к нему, знаками показала, что надо одеться.
А ливень все усиливался — разверзлись хляби небесные. Худых, слабых овец Керез разместила под навесом. Теперь она была занята тем, что переносила ягнят в палатку, специально поставленную на такой случай. Еще совсем недавно озаренные лунным светом горы теперь почернели. Бедел решил, что настало время показать свое геройство, понравиться девушке. Он, как косуля, легко вскочил с места, побежал в одних трусах, по двое, по трое стал относить ягнят в палатку. В это время из юрты вышла Буюркан, спросонку терла глаза. Мгновенно оценила обстановку, порадовалась на Керез, с детства привыкшую к труду, не умеющую сидеть сложа руки. Подоткнув подол платья, босая, Буюркан бросилась помогать дочери. Она умела видеть в темноте, отличала овец по голосам, выбирала безошибочно худых и немощных, чтобы раньше занести в укрытие. Когда не осталось места в палатке, стала носить ягнят прямо в юрту — быстро освободила место, сдвинула постели и ковер. Блеяли овцы, разлученные со своими ягнятами, заливисто лаяли собаки, изредка перебрасывались словами Буюркан и Керез, метавшиеся во дворе, — все это сливалось в единый беспорядочный гвалт. Недавно остриженные и продезинфицированные овцы, лишенные привычной шубы, были беззащитны под ливнем и жалобно блеяли. Наконец Буюркан выбрала секунду, огляделась вокруг — и испугалась. Выше по склону, прямо напротив юрты, она услышала шум надвигающегося потока. Угроза была страшной. Если поток пройдет здесь — от него не спасешься. Дождевая вода стекала уже вниз несколькими ручьями. Буюркан еще вчера заметила, что палатка для ягнят поставлена неудачно — если случится сильный дождь, ее зальет водой. Собиралась назавтра переставить ее — сегодня была занята другими делами. Решила, что займется этим с утра, но пошел дождь и уже грозил селевым потоком.
Она подозвала Керез.
— Погода не предвещает хорошего, душа моя. Видимо, нужно нам подготовиться. Я раньше слышала, что поток с горы во время ливня здесь не проходит, но если он вдруг завернет сюда, тогда не жди ничего хорошего. Кто же знал, что нагрянет вдруг непогода… иначе приготовились бы еще днем. Черт возьми, что там шумит, вроде камень упал… Сбегай-ка повыше! Уж не поток ли надвигается?! — Девушка пустилась бегом и исчезла в ночной темноте. — Ох, как я ошиблась! Загнала отару в это ущелье, чтобы уберечь ее от холодного ветра… что же будет, если здесь пройдет поток! Правда, повыше есть старая плотина-загородка, отводящая воду в сторону, осталась от прежних непогод… но старая, ненадежная… Эй, Бедел! Ах, если бы слышал этот несчастный! — Буюркан подскочила к Беделу, схватила его за руку. Знаками объяснила ему, чтобы скорее бежал за верблюдом. Первое, что пришло ей на ум, — это верблюд. Хотела, чтобы на всякий случай был возле дома.
— Мама! Мама, поток! Надвигается!
Слова дочери резанули словно ножом. Буюркан бросилась к ней — и через несколько шагов оказалась в воде. Струя была пока что не сильная, выше ее сдерживала старая запруда. Но самое страшное, что поток прибывал и перемещался в сторону палатки, где были ягнята. Буюркан, шаря в темноте руками, попробовала отыскивать камни, чтобы преградить путь воде, отвести ее в сторону, но из этого ничего не получилось. Течение все усиливалось.
— Бедел! О нерасторопный Бедел! Где же ты?
Бедел подошел с верблюдом, и Буюркан сердито вырвала из его рук уздечку. Повела животное наверх, к старой плотине, полуразрушенной уже водой. Бедел не понимал, для чего она ночью повела верблюда к плотине, однако покорно следовал за женщиной и помогал ей, подхлестывал верблюда хворостинкой.
Девушка была уже наверху, пыталась укрепить плотину камнями.
Буюркан подвела верблюда к самой плотине, вошла в поток и приказала Беделу, чтобы он заставил верблюда лечь. Бедел на мгновение заколебался, не понимая, шутит она или говорит всерьез. Буюркан ударила его по руке, подтверждая приказание — мол, делай побыстрее. Верблюд вырывался, боясь воды, но Бедел насильно заставил его лечь вдоль запруды, подпереть ее, так что поток сразу ослаб. Керез чуть не плакала, жалея верблюда. Умоляюще обратилась было к матери, но та крикнула с раздражением:
— Свяжи ему веревками колени, чтобы не поднялся! — и знаком показала Беделу, чтобы помог.
— А если верблюд закоченеет, мама?
— Пусть лучше умрет верблюд, он даже старше меня. Ягнят нужно сохранить, главное — ягнята! Быстро свяжите ему колени!
Керез забегала то с одной стороны, то с другой, металась растерянно, не в силах что-нибудь сделать. Буюркан послала ее за кетменем. Бедел покорно выполнил приказание, связал верблюду колени. Вода заливала шею верблюда, но не переливалась через горб. Поток сверху несколько ослаб. Бедел собрался, как и верблюд, лечь в воду, загородить ей дорогу своим телом, но Буюркан, заметив это, схватила его за руку и отбросила.
— Заденет камнем — убьет! Беги повыше! Если там есть мягкая земля, где можно копать, быстро прокопай канаву, отведи воду! Керез, дай ему свой кетмень! Отведи, объясни, что нужно сделать! Уши его занесло песком, если б они слышали, эти занесенные песком уши…
Бедел сразу понял, что сказала ему Керез. Принялся размахивать кетменем, стараясь найти удобное место и повернуть струю. Большие комья земли летели в стороны. Но, несмотря на усилия Бедела, поток надвигался на палатку. К шуму воды примешивался грохот камней, которые волочило течением. Поток ударялся о бок верблюда, разбивался на два рукава. Часть воды скапливалась у этой живой запруды, иногда волны перехлестывали через нее. Вначале верблюд стонал, метался, но вскоре уже не мог поднять головы и так и остался лежать под водой, вытянув шею. Однако главное было сделано — основная часть потока была отведена в сторону.
Вода уже подмывала край палатки, где находились ягнята. Напуганные, они всполошились, жалобно блеяли. Неизвестно, как это получилось, только один ягненок побежал вдруг с блеянием вдоль потока. За ним бросилась Керез, догнала, занесла в юрту. Овцы, чувствуя опасность, окружили, с тревожным блеянием топтались у палатки, куда собрали ягнят. Их отчаянное блеяние наводило тоску, и ненастная ночь казалась еще более страшной… будто в мире не осталось ничего твердого и надежного и даже гора разрушилась.
Больше всех бесновался козел-вожак. Громко блея, тряся головой, он рвался в палатку. Керез, ухватив его за ногу, оттаскивала назад, а он, не обращая внимания, пугал Керез, тряся головой и стараясь боднуть. Когда же Керез по-настоящему рассердилась и ударила его локтем, он с блеянием отступил прочь.
Буюркан кружила около верблюда, старалась хоть как-то укрепить запруду, но, видя тщетность своих усилий, остановилась, задумалась, прижав ладонь к сильно бьющемуся сердцу.
— Керез! Скорее в юрту, тащи все, что ни попадется в руки.
Керез удивленно спросила:
— Что мне принести, мама?
— Все, что подвернется под руку! Попадется пестрая кошма, неси ее, попадется одеяло, тащи! Беги быстро! Не жалей ничего…
Только теперь поняв смысл сказанного, Керез кинулась к юрте. Схватив первые попавшиеся из вещей, прибежала обратно.
— Вот, мама!
— Бросай сюда! Не бойся, бросай в воду. Что ты жалеешь эту кошму!
— Ведь запачкается…
— Запачкается… Я сама вожусь в потоке, не боюсь запачкаться — где уж тут жалеть кошму! Бросай в воду! Поближе, вот так!
Бедел без слов понял замысел Буюркан, принес огромный камень и бросил его на кошму.
— О, молодец! Он у меня лучше всякого слышащего, говорящего. Посмотри только, делает сам, без всяких объяснений. Принеси еще, — она подтолкнула Бедела. А тот, казалось, только и ждал ее жеста, в один миг притащил и навалил кучу камней. Буюркан принесла и бросила в воду еще одну кошму. Но и этого оказалось мало.
— Беги, дочка, за одеялами! Неси хоть одеяло, хоть подушку!
Тихо подошла Алчадай, точно виноватая кошка. То ли из любопытства, то ли вспомнила о долге добрососедства и решила помочь, то ли захотела удовлетворить чувство мести и своими глазами увидеть несчастье, постигшее семью Буюркан. Заметила, что палатка с ягнятами уже покосилась набок. Поймала блеявшего ягненка, которого уносил поток, и отнесла его в юрту. И теперь стояла, не зная, как рассказать об этом Буюркан.
Буюркан прикинулась, будто не замечает соседку. Побежала за камнем, нарочно толкнула ее: рассердилась, что Алчадай смотрит на беду и не помогает.
— Кто это здесь торчит как голодный дух! Собака ли, человек ли, что это?
— Я, Алчадай!
— Не говори, что Алчадай! Лучше бы сказала, дух, привидение! Чего стоишь, путаешься под ногами! Или уходи с дороги, или помогай! Возьми вот те одеяла, что принесла Керез, и бросай на запруду!
Одеяла показались Алчадай новыми. Ее огрубелые руки обрадовались, коснувшись шелковистой ткани.
— Тетушка, разве не жалко вам, ведь атласные?.. — не решаясь бросать, спросила Алчадай.
— Разве не видишь, поток грозит снести палатку? Ну-ка, дай сюда! Одеяло… атлас… шелк… тряпки! Бросай вот так! Быть рабом одеял… рабом одежды… — Буюркан побросала одеяла в поток, а Бедел начал быстро заваливать одеяла, постель и кошмы камнями.
Когда бросали очередную вещь, сердце Алчадай содрогалось от жалости. Беделу же как будто нравилась решительность Буюркан — не моргнув глазом, исполнял ее распоряжения. Керез, хоть и переживала, и нервничала, но, подчиняясь матери, не подавала виду, что жалеет вещи, делала все, что ей говорят.
— Бросай теперь дальше, за верблюда! Этот бедняга вместо плотины защитил нас. Кажется, вода уже остановлена, теперь освободим его. Может, околеет, а может, если судьба, еще останется жив. Эй, Бедел, подними его голову! Эх, если б не глухота этого несчастного… Буюркан подвела Бедела к верблюду. Когда она показала, что делать, парень обрадовался. Подвел руку под шею верблюда, поднял, но силы уже оставили животное — не могло удержать голову.
Когда укрепили запруду и вода пошла в сторону, Бедел развязал ноги верблюда, похлопал его, но верблюд не поднялся, даже не сдвинулся с места. Продолжал лежать, вытянув по земле шею.
— Дочка! Принеси какое-нибудь из одеял, что на кровати, и накрой верблюда. Кажется, там осталось одно из верблюжьей шерсти, неси его! Пусть он согреется под одеялом, сделанным из его же шерсти!
Керез в это время отбирала в палатке замерзших, намокших в воде ягнят, переносила их в другую, сухую палатку, в юрту и не слышала слов матери. Вместо нее пошла Алчадай. Она взяла с кровати одно из теплых одеял и накрыла верблюда.
Теперь Алчадай восхищалась Буюркан: «Вот настоящий человек! Для народного дела не жалеет ни себя, ни имущества, отдает все. Я бы не смогла так, — признавалась себе Алчадай. — А Буюркан — она не тянет к себе, наоборот, отдает. Сколько лет собирала, наживала — и теперь все это осталось под камнями… И ни слова, будто и не жалеет… Сколько бы я ни старалась, все равно не смогу быть как она. Когда она сделалась Героиней, я позавидовала, позавистничала. Я обижалась, думая, что же в ней такого особенного, чтобы считаться Героиней? Почему не видят, как я пасу своих быков? А оказывается, в ней на самом деле есть это самое геройство, чистота, широта, сила. Ведь сегодня поток с горы подчинился исключительно ее геройству. Когда-то на этом же месте прошел точно такой поток и причинил многие несчастья… да, так тогда одна женщина сделала точно то же самое. Отвела воду, устроив запруду, бросив туда все свои одеяла… Подумать только, как Буюркан сохранила у себя в памяти… Но если бы я и помнила, все равно не смогла бы поступить как она. Положила на колени верблюда, решилась. Я все боялась, что он умрет…» — думала Алчадай.
— Накрыла? Ты кто? Керез?
— Она перетаскивает ягнят. Это я, Алчадай.
— Унялся поток. Как будто остановили сильное кровотечение. И я себя связала бы, лишь бы повернуть, отвести воду. Как бедняга верблюд? Шея у бедного вытянулась, будто аркан… Бедел, подтяни-ка его сюда! — Буюркан похлопала Бедела по спине. И лишь сейчас только заметила, что он в трусах, босиком. Трясется всем телом от холода, зуб на зуб не попадает. — Где твоя одежда? Беги, оденься быстро! Раздевался во дворе, осталось ли что-нибудь сухое после дождя, несчастный…
Буюркан привела Бедела в юрту. Конечно, то, что он снял с себя, укладываясь спать во дворе, все было мокрое. Буюркан дала ему свой чапан. Бедел дрожал так, будто сквозь него пропустили электрический ток; накинул чапан на плечи, сел у очага. И все же старался показаться перед Керез не боящимся ни холода, ни усталости и на вопрос: «Замерз?» — отрицательно качал головой. Керез нашла какие-то старые сапожки и стояла у порога, переобувалась. Алчадай, как башлыком, укрылась мешком, он смешно торчал у нее на голове. Буюркан выжимала мокрый подол. Ягнята, загнанные в юрту, удивленно уставились на фонарь, подвешенный к тундуку.
В этот момент собаки с лаем бросились в темноту мимо юрты. Одна взвизгнула, как будто ее кто-то ударил, припала к юрте, но потом снова начала лаять. Буюркан схватила ружье, выбежала, и тут же раздался выстрел.
Собаки, услышав выстрел, осмелели и бросились кого-то догонять.
Овцы в испуге шарахнулись вверх по склону. Лай собак доносился теперь со стороны нижнего ущелья. Буюркан, почувствовав, что там творится неладное, побежала следом за ними, держа ружье наперевес. Прямо перед ней промелькнула в темноте какая-то низкая длинная тень — сначала приняла за собаку, но оказалось — волк, успел отбить часть овец. Буюркан, подбадривая собак криком, вскинула ружье, выстрелила. Отделившиеся овцы, тяжело дыша, взрыхляя копытами землю, вернулись в загон. Неизвестно скольких зарезал волк, сколько осталось невредимыми… То одна беда, то другая.
С фонарями в руках Буюркан и Керез собрали отару посреди двора. Овцы, напуганные волком, беспокойно озираются, чуют близкую опасность. Готовы сорваться с места и нестись куда ни попало, если только появится низкая хищная тень.
Вскоре вернулись собаки. Одна, как бы жалуясь, терлась о ноги Буюркан, и та наконец в свете фонаря заметила кровь — оказалось, у бедняги нет хвоста, вырвал волк.
Вынесли из юрты лекарства, смазали и перевязали рану. Через некоторое время волки опять появились неподалеку — собаки вновь с лаем бросились во тьму. Раздался выстрел из ружья. Лай собак теперь слышался выше по склону. От соседей тоже донеслись крики и выстрелы, — видимо, и там напали волки.
Подул ветер с гор, через некоторое время дождь ослабел. Над Кыз-Булаком в небе появился просвет величиной с юрту. И наконец облака стали передвигаться, толкаться, то разбегаясь, то сбиваясь в кучу, словно стадо, и вскоре то там, то здесь начало проглядывать чистое небо. Звезды после такого сильного дождя казались еще красивее, крупнее, ярче.
— Божье наказание, прямо чуть небо не обрушилось! Сколько дождей я перевидала на своем веку, но такого не помню: все расщелины, все ущелья превратились в реки. Посмотреть бы сейчас на наш Талас, и без того бурный, что же после такого ливня! Пригони-ка ближе тот край отары, Керез! Волки недалеко — как бы эти овцы не кинулись бежать. Бедел, верно, сильно замерз, не выходит из дома. С чего это он вдруг вздумал раздеться под ливнем? Ведь никогда не жалел свою одежду, что с ним случилось? Ни холода, ни усталости не замечает. Странно — есть стал мало, вроде стесняется. Если пойдешь в юрту, скажи, чтобы взял из кухни чего-нибудь да поел.
— Он сейчас возле овец. Разве вытерпит, будет лежать в доме в такую пору? — ответила Керез. У нее еле ворочался язык от усталости, говорила с трудом.
— Иди в юрту, дочка! Боюсь, простудишься. Иди поешь и ты чего-нибудь! Небо уже проясняется, теперь никто не посмеет тронуть овец, иди, милая. Кажется, в термосе есть чай, иди выпей, дай и Беделу.
Керез пошла в юрту.
Собаки наперегонки кидались то в одну сторону, то в другую, то наконец немного успокоились, подошли поближе к Буюркан, высунув языки и тяжело дыша. Лишь время от времени взлаивали, повернув морды к Кыз-Булаку, наверное, волк ушел в том направлении.
Наутро небо было чистое, без единого облачка, казалось, оно ничего не видело, ничего не знает — какая там гроза, какой потоп? Когда первые лучи солнца упали на землю, со скалы поднялись несколько грифов. Два остались здесь, кружили над головой, остальные полетели искать добычу в сторону восхода. Какую добычу отыскивают их холодные глаза?..
В ущелье, что ниже дома, валялась баранья голова, клочки растерзанной шкуры. Три маленьких ягненка, унесенные потоком, лежали невдалеке, застрявшие в грязи. Ночью вода вырвала из рук Керез и унесла вниз одеяло — сейчас оно, будто нарочно постеленное, лежит на кустах, а чуть выше — подушка. Буюркан от души смеялась, увидев такое. Постель Бедела ночью унесло со двора вместе с сучьями и хворостом, прибило к завалу камней и грязи — где одежда, где постель, где хворост? Буюркан помахала рукой Беделу, искавшему свою одежду, тот увидел, подошел, схватил все в охапку, отнес и бросил в родник. Вскоре на кустах развешены были сушиться и одежда, и постель.
Керез пошла проведать верблюда, который с ночи продолжал лежать у запруды, накрытый теплым одеялом. Закричала сверху, что верблюд подыхает. Буюркан сунула в руки Беделу большой нож и отправила его к верблюду; если тот и вправду подыхает, надо резать. Хотя она и беспокоилась, думая, что из-за верблюда может подняться скандал, однако успокаивала себя тем, что смогла все же сохранить овец и ягнят. Подошла, но не могла смотреть, как Бедел проколол в двух местах шею верблюда, как вытер нож о траву… В глаза ей бросились придавленные камнями кошмы и одеяла. Увидела торчащий из грязи кончик шелкового одеяла — приданое Керез — и не выдержала, закусила палец, отвернулась со слезами на глазах… столько всего за одну ночь… и верблюда жалко… Какая же это сила — горный поток!
Овцы громко блеяли, казалось, они спрашивали друг друга о пережитом вчера, искали своих ягнят, жалели тех, кого унесло водой. Хотя сердце Буюркан сжималось от боли, она не подавала виду, что переживает. Занималась делами, распоряжалась — вела себя как обычно. Алчадай, показывая, что сочувствует соседке, внимательно осматривала, переворачивая каждого ягненка, унесенного и погибшего в потоке, трогала ногой падаль, оставшуюся после нападения волков, обошла со всех сторон верблюда, потянула за край одеяло, лежавшее рядом… Она была единственная свидетельница несчастий. Зашла в юрту Буюркан, желая своими глазами увидеть, как там теперь. Ей показалось, что юрта опустела — столько вещей пропало. После того как ночью в юрте держали ягнят, здесь был полный беспорядок, пахло навозом. У входа растянулись обе собаки.
Буюркан, не сомкнувшая ночью глаз, мокрая, уставшая, тяжело ступая, подошла от запруды; надо было переставить на новое место юрту, вытащить из-под камней одеяла и развесить их сушиться…
11
Расставшись с Керез, Мамырбай проехал часть пути на попутной машине, теперь он поднимался на перевал, с которого должен был уже увидеть юрту своих родителей.
Настроение было прекрасное. Он думал о Керез, о родителях, о будущей работе; планы, один заманчивей другого, приходили в голову — только выбирай. Мамырбай уже видел, как они с Керез вместе едут во Фрунзе сдавать экзамены в техникум. Впереди было счастье, впереди была — жизнь.
«Жизнь, надежда, вера — они рождены в одно время, — думал Мамырбай. — Особенно надежда, она никогда не покидает человека, увлекает, пробуждает интерес, ведет вперед. Кажется, что недостающее сегодня, еще не найденное обязательно обретешь завтра. Надежда подбадривает — без нее нет жизни. Человек, потерявший надежду, покоряется, опускает руки, все ему становится безразличным, он теряет себя. Покориться, поддаться унынию — значит наполовину умереть… А вера? Верить — необходимо. Если не будешь верить в поставленную цель, никогда не достигнешь ее. Вера — это спутник человека, придающий ему силы. Мы быстро идем вперед, успешно строим коммунизм потому, что верим в будущее и в себя. Конечно, вера сама по себе не приносит победу, победы добивается сам человек. Вот я иду в аил. Я надеюсь на свое умение и работоспособность, я верю, что добьюсь отличных результатов в своей будущей работе. Если бы я не верил, не надеялся — к чему мне было бы идти сюда? Чтобы мать с отцом краснели за меня перед людьми? Я смогу выращивать овец. Запах овец пропитал меня с малых моих лет. Я спал, обнимая, прижимая к груди ягнят. Днем пас их, вечером пригонял домой. Сколько раз, когда рождался ягненок, я дул ему в уши, чтобы оживить… Скольких, оставшихся сиротами, поил изо рта молоком. В жаркие дни я резвился, бегал, играл с ягнятами. Я обходил все склоны и камни, отыскивая пропавших ягнят, и если не находил, то, боясь рассердить мать и отца, ночевал в горах. Когда я подрос, я видел, как закалывают ягнят. Я питался их мясом. Эту жизнь я знаю хорошо. Но эта жизнь — прошлая. Если смотреть из сегодняшнего дня, кажется бедной, неинтересной. Мы тогда, видимо, жили только одним днем. Но ведь тот, кто живет лишь сегодняшним днем, назавтра уже получает удары. Надо жить, видя завтрашний день, широкое светлое будущее. Смогу ли я так? А как же мне быть, если случится, что вера-то есть, а работа не идет? Ведь сколько вокруг людей более умелых, более сильных… если отстану от них, буду плестись в хвосте жизни, буду тянуть всех назад… Нет, смешной я все же — еще не работаю, а стараюсь все предугадать, взвешиваю возможности. Нужно работать так, чтобы пот проступил даже на ногтях. Это и значит быть настоящим человеком. И еще: нельзя думать в пределах сегодняшнего дня. Дни пролетают — остается жизнь. И жить вяло, неинтересно — значит мешать тем, что живут полной, интересной жизнью, всё берут от нее и еще больше — дают. У птицы есть крылья — чтобы быстро могла достичь намеченной цели. Но человек, хоть и рожден без крыльев, должен двигаться к цели быстрее птицы — на то он и человек. Да, это правильно: надо не только брать от жизни, но и отдавать ей, отдавать с избытком. Чем нахватать всего, ничем не отплачивая, и уйти из жизни, оставив после себя только свой прах, лучше вообще не родиться. Особенно сейчас, в наше время. Мы люди другого склада, чем прежде. Мы — люди, рожденные социализмом. Если какой-нибудь человек проверит нашу кровь, то найдет в ней семена социализма. И если так, значит, работа, которую я буду выполнять, должна быть организована и выполнена по-новому. По-новому — значит лучше. Но ведь хорошее могут создавать только хорошие люди — так? Могу ли сказать о себе, что достоин своего времени? Легче всего признать, что я хороший человек. В конце концов это доказывается поведением, работой. Но разве правильно назвать человека хорошим, достойным лишь за то, что он хорошо работает? Мало ли плохих людей, которых признают хорошими специалистами? Можно даже поставить вопрос еще острее. Возьмем моих родителей. И отец и мать работают так, что могут камень превратить в порошок. И все-таки это люди самой настоящей старой закваски, приверженные старым обычаям. Возродить их заново… Смыть то, что впиталось в их кости… Да нет, глупости. И ни к чему напрасно ломать над этим голову. Что значит — возродить, смыть?.. Пусть живут по-своему. Нет, опять что-то не так… Почему они должны жить по-своему? Хлеб какой эпохи они едят? Государство не создает для одного один закон, для другого другой… Закон нашей жизни — один для всех. Что будет, если мои родители отступят от старых обычаев? Разве у меня не хватит сил переубедить их — теперь я не ребенок, у меня есть знания, я полон энергии. Энергия… Оказывается, нет ничего труднее, чем бороться с заблуждениями, за целую жизнь впитавшимися в людей. Читают каждый день молитвы, но и тут не всегда верны себе — частенько случается так, что, не закончив молитвы, они отвлекаются, начинают заниматься чем-то другим — и так забывают о боге. Мне иногда кажется, что их приверженность религии и старым обычаям — своего рода болезнь. Они ведь старые люди, впитавшие в себя порядки старого мира и перешедшие в новый мир. Как их тут перевоспитаешь? Разве легко было воспитывать меня самого? Сколько раз в школе не выполнял заданий учителей… и за недисциплинированность меня ругали, и за несобранность — даже на комсомольском собрании. Оказывается, воспитывать нужно каждый день — и всю жизнь. Это и меня касается — ведь нельзя сказать, что как личность достиг полного развития, выработал характер, в любом деле, в любой ситуации способен занять правильную позицию и твердо отстаивать ее. Даже как вести себя с родителями — и то не могу решить, заносит меня то в одну, то в другую сторону. А это значит — если завтра встречусь с трудностями, как бы мне не растеряться. Как бы не случилось по поговорке: «Хвастливого козла оценивай при переправе отары…» — а то, может, поторопился он хвастаться».
Думая так, то загораясь, то сомневаясь и опровергая себя, стараясь оценить свои возможности, примерить их к будущей жизни, Мамырбай приближался к родному аилу.
И вот он стоит на перевале, крепкий, здоровый, ничуть не уставший, в руках у него чемодан, в голове — мешанина мыслей, в сердце — радостная молодая надежда на будущее. Мир кажется ему прекрасным, величественным и необъятным.
Между тем перед ним виднелся аил — жилища без единого деревца, переливающиеся под ветром и солнцем золотом поля ячменя, поля клевера, извилистая линия холмов, светлая лента реки. Казалось, все это — его, принадлежит ему. Земля, на которой он родился и вырос, вольный сладкий воздух, привычные глазу очертания хребтов, вершин и скал, ущелья и склоны, где пасутся отары, где собирают кисличку, дикий чеснок, — все со щедростью матери рассыпало перед ним свои богатства.
Он увидел ущелье Жаргарт, к которому направлялся. Два противоположных склона, очень похожие, оба одинаково поросшие травой и цветами, казалось, любуются друг другом, улыбаются ласково, зовут, тянутся один к другому. В устье ущелье расширялось, открывая нежный зеленый ковер пастбища. Выше виднелись кустарники, у подножья же было пусто, ни одного деревца. Вот шайтан, ведь если бы разбили здесь сад, то как красиво стало бы! Говорили, будто плодовые деревья не могут здесь прижиться, но, по правде, ни одна душа не проверила, как оно получится на самом деле. В соседнем аиле березы, дубы, урюк — зазеленели же они, и как приятно смотреть на них, как похорошел аил, не говоря уже о прямой пользе от плодовых деревьев. А ведь земля что там, что здесь — одинаковая, здесь даже лучше — больше влаги, мало ветров, почва мягкая, не каменистая.
А вон на горной террасе видна юрта отца и матери Мамырбая. На склоне за ней пасутся овцы. Возле юрты привязана лошадь — это гнедой отца. Отец, видимо, отвел отару на склон и теперь вернулся домой. Неподалеку от юрты копошатся дети, это племянники Мамырбая, оставшиеся сиротами после смерти его старшего брата Калматая. Со стороны долины показался, поднимается к юрте верховой. Судя по тому, как он время от времени размахивает над головой лошади камчой, но не подхлестывает ее, это должен быть председатель Мамаш — его повадка. Видно, объезжал отары и заночевал у чабанов по соседству — из нижнего поселка он в такую рань сюда бы не добрался, не успел бы.
Мамырбай, радуясь встрече с домом, отправился без дороги наискось по склону — так было ближе — прямо по траве, поднявшейся выше колена. Ветерок приносил нежные сладкие запахи цветов, мягкий шелест травы казался песенкой склона. Словно весь этот прекрасный, родной, ставший частью жизни склон, все горы сгустились, слепились из аромата июньского пастбища и нежного лепета трав, ветерка и бегущего невдалеке ручья.
Спускаясь по склону, Мамырбай разглядел, что подальше от дома, у реки, привязаны, пасутся два жеребенка. Ему тут же захотелось выпить кумыса. Он зашагал шире, весело помахивая на ходу чемоданом. Давешний всадник, а это действительно был председатель Мамаш, похоже, следил за тем, как спускается Мамырбай, и тоже прибавил ходу. Они приближались к дому с разных сторон и там должны были встретиться.
Оба были уже недалеко от юрты, когда услышали доносившиеся изнутри шум и крик.
«Опять за старое взялись мои отец с матерью, вот нехорошо — опозорились перед посторонним…» — не успел Мамырбай подумать это, как с шумом распахнулась дверь юрты и оттуда вылетела большая связка кишок (видно, только что закололи барана). Кишки шлепнулись на плоский красный камень, затем тихо сползли на землю. Подскочила большая желтая собака с подрезанными ушами — проглотила угощение не жуя, облизнулась, недоуменно соображая, что же это она съела, и уставилась выжидательно на дверь, авось выбросят еще что-нибудь. Черный пес увидел, что желтому улыбнулось счастье, и, гавкнув раз-другой, подбежал, сел рядом. В это время дверь юрты снова открылась, опять что-то шлепнулось — на этот раз оказалось, легкие и печень. Упали прямо к ногам Мамырбая, но он, рассердившись, отшвырнул их собакам. А те, рыча и вырывая друг у друга, набросились на мясо, мигом разорвали, проглотили — и опять уставились на дом, надеясь, что, может быть, и еще чем-нибудь одарят их.
Председатель Мамаш слезал в это время с коня: увидел, как около него упала выброшенная из дверей баранья шея, и, улыбаясь, сказал:
— Берите, псы, на, на, на! — и освободил дорогу собакам, отошел от лежавшего на земле мяса. Собаки, с рычанием вырывая друг у друга лакомый кусок, убежали в ущелье, скрылись там — лишь лай доносился. Зато отчетливо стали слышны слова, произносимые в юрте.
— Отпусти, говорю! Пусть лучше собака сожрет эту пищу, а ты сожрешь собачину! Пусть передохнет весь скот и ты сам вместе с ним! Отпусти сейчас же! Вместе с бараном хочешь зарезать и меня, что ли? Так и старается рассердить меня! Говорит, не даст бросить собаке! Да по мне, пусть хоть все съедят. Я могу прожить и без мяса, если пожелаю! — это был голос матери Мамырбая, почтенной Калыйпы. — Что, пусть уходит Маржангуль, да? Для тебя четверо детей, полное хозяйство, скот — это все пустое, да?
— Ай, ай, давай нанизывай, нанизывай ругательства, старуха! Громозди, громозди… — Это отбивается отец Мамырбая, почтенный Субанчи. — Пройдет немного времени, проголодаешься, подумай об этом. Ты бросила свою долю собаке, теперь не прикасайся к моей! Мясо осталось всего на один раз, давай уж сварим, насытимся. Я работаю, выхаживаю их… столько сил, столько мучений… а ты, даже не дав попробовать мяса, бросаешь собаке! Ой, не кусай мою руку, с ума сошла, что ли! Убери, говорю, дальше свой локоть! Тише, оставь, говорю! Ой, перестань же бодаться, да будь ты богатой! Что случилось с этой женщиной? — жаловался отец Мамырбая Субанчи.
Похоже, что в юрте дошло уже до рукопашной.
— Ну, теперь знаешь, как играть у меня на нервах? Доволен? Можно сказать, одряхлели уже оба, а еще замахивается на меня, паршивец! Все, все выброшу собакам, если опять станешь раздражать меня. Сиди спокойно, как почтенный человек.
— Когда мои ругаются, собакам раздолье, — извиняющимся тоном объяснил гостю Мамырбай, привязывая его коня к колышку.
Мамаш засмеялся:
— Имеется кое-что в доме, потому и собакам перепадает… Если бы не имелось, то и бросать было б нечего.
Спорящие в юрте не подозревали, что кто-то есть во дворе, слышит их перебранку. Теперь начали вспоминать давние обиды, грубые слова, сказанные двадцать лет назад, но ранящие до сих пор, даже с еще большей силой. Оба не давали ни спуску, ни передышки Друг другу, бранились, считая себя единственными слушателями в просторном джайлоо. Похоже, теперь хозяева уже не дрались, а расселись по сторонам и лишь переругивались, размахивая руками.
— Совсем ума лишилась старуха, как ссора, так сразу что ни есть в доме — во двор, собакам… Оставила бы хоть это, — говорил Субанчи.
Но Калыйпа разошлась еще пуще:
— Не оставлю, всегда буду выбрасывать — что со мной сделаешь?
— Эй, эй, жена, не выкидывай все. Потерпи, я немного отрежу себе…
— На нервах моих играешь, да? Вот тебе…
Председатель понял по звуку голоса, что хозяйка направилась к шесту, где было развешано мясо, и заговорил громко, так, чтобы слышно было находившимся в доме:
— Так, значит, вернулся наконец, Мамырбай, кончил ученье? Слыхал, слыхал вчера, говорили, что хорошо окончил. Смотрю — настоящим джигитом стал. Есть, есть, оказывается, счастье у Калыйпы и Субанчи. Какой сын вырос! Рад встретить тебя — рад, что вместе войдем в юрту к матушке Калыйпе. Если хоть раз не выпью кумыса из рук этого светлого человека, матушки Калыйпы, то целый год потом испытываю жажду. А что уж говорить о ее доброте, об умении вести хозяйство, об экономности — про это всякий знает. Ах, если бы в каждом аиле был хоть один столь же достойный человек… Субанчи-аксакал, дома ли вы? Есть ли кто в доме? Где вы? Что-то не слышно вашего дыхания?
Скандал сразу прекратился, и послышался шепот Субанчи:
— Все, кто видит тебя, вот так хвалят, а что в тебе есть на самом деле?
— Думаешь, все люди, как ты, не способны оценить добро? Ты своими скандалами измочалил меня как тряпку, иначе разве я не была под стать своему имени Калыйпа?[47]
— Бедная… Неужто я так несносен?
— Одна я способна вытерпеть твой характер. И кричишь, и кричишь… Разве не слышишь, во дворе люди, приехал председатель. Брось подальше мясо, которое держишь. Если увидит председатель, то что он скажет, верблюжонок мой!
— Что скажет! А я объясню, что предчувствовал его приезд, потому и собирался положить мясо в казан… он только обрадуется, станет хвалить мой возраст, мое имя…
— Бог мой — твой возраст? Бог мой — твое имя? О, кто вы такие? Сходите с коня, будьте гостями!
Мамырбай отворил дверь и пропустил Мамаша в юрту.
Субанчи, держа в руках баранью ляжку, стоял возле очага.
Калыйпа, увидев входящих, подскочила к чаначу с кумысом и сделала вид, что старательно помешивает напиток. Гнев ее еще не прошел, и лицо ее, сколько она ни старалась улыбнуться, все еще выражало неудовольствие.
— Салом алейкум! Оказывается, вы собираетесь варить мясо… Получается, я поспел ко времени. Значит, у меня хороший характер, а? До чего же она ясновидящая, милая матушка Калыйпа, — оказывается, заранее чувствовала, что приеду, и уже начала готовиться! — Говоря так, председатель Мамаш вразвалку подошел к матушке Калыйпе и по обыкновению поцеловал ее руку. — Ведь как я соскучился по вас, добрейшая душа. Если я хоть раз в году не выпью кумыса из ваших золотых рук… Скажите же правду, знали вы или нет, что я приеду?
— Чего тут не знать, конечно, знала. Со вчерашнего дня дергалось веко, — не моргнув глазом, соврала Калыйпа и расцвела от похвалы гостя.
— Это веко моей бедняжки — оно все на свете безошибочно предскажет. Вчера целый день твердила, что, наверное, приедет Мамаш. Проходи вот сюда, повыше, на почетное место.
— Поздоровался бы вот с тем пареньком, все же не чужой тебе. Что за привычка, ни разу свое родное дитя не поцелует, не обнимет. Что ему ни скажешь — только один ответ и слышишь, чтоб ему пусто было: «Мой отец воспитал меня таким». Вернулся, закончил ученье, мой мальчик? Иди-ка поцелую я тебя в щеку. Последнее время убегаешь, стесняешься материнского поцелуя, мол, уже большой стал… А мне ты все еще кажешься маленьким, как и прежде. Пешком пришел? Попросил бы в поселке у кого-нибудь лошадь… — Калыйпа звучно чмокнула сына в щеку — тот покраснел. Потом взяла из рук Субанчи баранью ногу, бросила в казан. — Как будто на корм птицам — кому хватит этого мяса? Приведи ягненка, предназначенного для Мамырбая. Давай заколем сейчас. Ой, где же нож, говорю, нож где?
— Хватит тебе трещать, лежит твой нож на обычном месте — вот он, возле очага. Только и знает, что требовать с меня: «Где нож, где то, где другое?..» Что бы с тобой было, если бы не я, несчастный?
— Если бы не ты, мой дорогой? Я как коза с горы на гору перескакивала бы да щипала траву.
— Когда вижу матушку Калыйпу, чувствую в себе широту и щедрость Чуйской долины, почтенный Субанчи, — садясь, продолжал Мамаш. — Ведь все мы знаем — не из-за сытного угощения тянется человек к человеку — тянется, потому что думает так же, тот же в человеке характер, доброта и те же широта и щедрость души… — При этих словах председателя Калыйпа метнула красноречивый взгляд в сторону мужа: мол, что люди обо мне говорят? А Мамаш еще подзадорил: — Если только раз подержу в своей вашу руку, благоухающую кумысом, — целый месяц чувствую себя сытым. А вот приготовила кумыс жена Шарапа, того, что работает в низовье, я съездил к ним на днях, отведал — но куда ему до вашего…
— Она и не умеет делать кумыс! Я с самого утра и до поздней ночи все помешиваю, все помешиваю. И еще надо точно знать, когда его наливать, иначе будет слишком кислым. Выпьешь — так и шибает в нос. До чего же кислый получается у бедняжки! А к нам издалека приезжают, специально разузнав, где мы находимся, чтобы испить моего кумыса. — Калыйпа уже позабыла, что недавно гневалась, и, заулыбавшись, вытащила припрятанный особо чистый кумыс.
— Много я знаю домов, где делают кумыс, но таких добрых людей, как матушка Калыйпа, не видывал. Ваша доброта — как бездонное озеро. Почтенная, сколько же кумыса вы получаете от двух ваших кобылиц? Куда бы ни приехал, везде слышу: «Попил кумыса у матушки Калыйпы…» Ой, у некоторых через бурдюк уже бежит кумыс, но сами такие скряги — жалеют, ни за что не разживешься у них. Больше наговорят, шуму поднимут, переругают всю родню, прежде чем угостят кумысом, как положено угостить гостя. Потеряешь всякий аппетит. Лучше бы уж совсем не давали…
При этих словах Калыйпа совсем обмякла — и расхвасталась пуще прежнего:
— Сохрани меня аллах от такого, сама я нисколько не жадная, к чему же мне скряжничать, коли я родилась на свет доброй. Как же ее звать… запамятовала, чтобы стерлось твое имя… эту кривляку? Недавно прибежал ко мне ее муж, словно кот из заброшенного сарая, жалобно мурлычет. Доводится нам какой-то родней. А родичи наши все, как и он, — на подбор: заики, носы плоские, будто вдавленные, сами нудные, словно холодный ветер. Ведь он же старше даже нашего хозяина, задави его леший. Так он что сделал… Я квасила овчину, когда он подъехал верхом на своем ишаке. Во дворе старший из сирот, оставшихся после смерти моего сына, того самого, который умер совсем молодым… Так малец только и спросил у старого: «Дедушка, а где же твой нос?» А тут еще младший, на беду, вбежал со двора и кричит: «Бабушка, найди мне скорее калоши с тупым носом, хочу играть в нору…» Я набросилась на них: «Чтоб вам провалиться сквозь землю вместе со своими тупыми носами…» Так что ты думаешь — этот плосконосый дядюшка — он, бедняга, таким обидчивым оказался — хлопнул своего ишака по шее, повернул его и уехал восвояси. Я закрыла лицо руками и убежала в юрту… сгорала прямо от стыда. Да что, в самом деле, — пусть он провалится вместе со своим плоским носом, дурной такой!.. А еще раз случай был — в аиле присутствовали мы на свадьбе. И вот, на мою беду, соседка спрашивает меня, из какого рода такой-то был там один… Мы как раз ели мясо, мысли мои были заняты другим, и я возьми да и ляпни первое, что взбрело на ум: «Этот-то? Да он из рода плешивых». Пошутила, в общем. А оказалось, тот человек, о ком я сказала не думая, — а он и в самом деле плешивый был, — так он, надо же, сидел рядом со мной, прикрыв свою голову лисьим малахаем. Ой, просто сгорела я от стыда! Вскочила я — и бежать. Да, была я тогда стыдливой молодкой… Проклятое дело, чего мне было стыдиться!
А потом еще тот богач… это уж когда высылали кулаков… В нашем аиле жил человек по имени Осмой, и Осмой этот на протяжении пяти лет состоял бием — судьей. Не доводился нам никаким родственником, даже дальним, но все же я, подобно прочим молодкам нашего аила, звала его «дядя бий», когда приходилось обращаться к нему. И вот нагрянула комиссия проверять его, а я откуда могла знать, что за такая комиссия, будь он проклят. Влетаю к нему: «Здравствуйте, дядя бий». Ох, чуть не умерла тогда. Он весь побледнел и тихо так говорит мне: «Называй меня по имени — Осмой. Ты, видно, хочешь убить меня, нарочно раскрываешь перед людьми мою вину?» Я забыла даже, за каким делом пришла, бросилась наутек от проклятого… Ах, что ж это заболталась я! Садись, Мамаш, вот здесь, на почетное место. Ой, мой старик, что ты стоишь в недоумении, держа баранью ногу? Если мало, найдется еще мясо, а это брось-ка вот туда, в котел. Иди за ягненком — пусть и Мамаш отведает угощения — и приехал к празднику, к радости нашей, да и сам добрый человек, достойный. Один недостаток: когда бы ни заглянул к нам, вечно отказывается от угощения, все спасибо да спасибо, так и уезжает, помахивая камчой над головой лошади. Ну уж сегодня-то я его не отпущу, сегодня вернулся мой сын! Тот, наш родич, как же его звать — чтоб погасло твое имя! — так он тоже повторяет: «Бывают дни, когда председатель не смотрит на уже готовый обед и уезжает, находя какие-то предлоги. Но если никто не затевает с тобой тяжбу, мол, отобрал и съел чужой кусок, — так отчего ж и не отведать предложенное?» Нет уж, не отпущу тебя, не угостив чем-нибудь вкусным, так и знай! Разве женщина, которая умеет хорошо приготовить кумыс, не сумеет хорошо откормить ягненка? Мой кумыс и сегодня рвется из бурдюка, так и кипит! «Кому не хочешь дать кумыса, так в полдень кумыс еще молодой, а кому пожелаешь дать, и поздно вечером найдется», — правильно говорят, вот, выпей-ка, да не спеши… — Калыйпа до краев налила кумыса в деревянную расписную чашу, поставила перед председателем.
Здесь, в горах, она редко видела приезжих, ей не с кем было перекинуться словом, так что председатель был для нее в этом смысле находкой.
Калыйпа, ревнивая хозяйка, замечала все: как председатель возьмет чашу, как поднесет ее ко рту, как станет пить ее лучший кумыс, сколько раз сделает передышку. Гость любовно подержал чашу перед глазами, как бы взвешивая, сколько пиал вошло в нее, полюбовался красноватым отблеском пенной жидкости, сделал глоток, оторвался, взглядом выражая восхищение, и снова начал пить — все это очень понравилось пожилой женщине. Она глядела на председателя с удовольствием, всем своим видом говоря, что вот именно лучший кумыс стоило бы давать лишь таким знатокам, как Мамаш, которые знают толк и способны оценить… Особенно ей понравилось, что председатель осушил чашу до дна и при этом только два раза передохнул. Теперь она, размягченная и улыбающаяся, ждала, что скажет, как похвалит гость.
— Не ошибусь, верно, вы подмешали в ваш кумыс спирта, а? Разве нет? До чего же крепок! — так сказал гость, прикрывая чашу ладонями и давая этим понять, что пока он воздержится от второй чаши.
Хозяйка расцвела.
— Никогда не пила эту гадость, которую вы называете спирт. Разве могу променять кумыс, чистый, ничем не разбавленный, сделанный собственными руками, на ваш спирт! Ай, некоторые говорят мне: «Почему твой кумыс отличается от нашего цветом, что ты подливаешь?» Однажды, рассердившись на такую, из бестолковых, в сердцах сказала ей, что подбавляю отвар иссык-кульского корня. У каждой кобылицы молоко отличается от другой. У одной оно густое, у другой — жидкое, у третьей — красноватое, у четвертой — белое. А ведь есть хозяйки-простофили, не понимают этого. У таких один ответ, когда объясняешь им, в чем дело: «Фу, откуда такое знать мне, проклятой душе», — и щиплют себя за щеку… Хозяин мой — он не умеет выбирать кобылиц, так я сама ездила на базар. Как увидела эту свою кобылицу, так и отойти не смогла — говорю, никакую другую мне не надо. Некоторые тут же, на базаре, отсоветовать пытались — мол, вымя у нее меньше кулака, из нее ничего не вытянешь. Я отрезала им в ответ, что если даже совсем не будет молока, так сама и останусь без кумыса, а вам тут какой убыток? Но нет — все получилось, как я ожидала, сущим родником оказалась, родимая. Сейчас подоишь, сейчас спустит молоко, позже подоишь, позже спустит молоко. В каждую дойку дает по большой пиале молока. И какого! — густое, точно сливки, цветом желтоватое. Говоришь, спирт, так это чистое молоко кобылицы, я перед сном подливаю только одну пиалу воды для закваски. Бурдюк прокопти хорошенько, чтобы он был мягким, как изюминка, налитый кумыс взбалтывай что есть силы, вот тогда я увижу, плохой ли он будет, твой кумыс. Пей еще, разве у тебя кишка тонка — сморщился, перекосился от одной чаши. Кумыс быстро впитывается в кровь, сколько пьешь — столько требует организм. Ах, председатель, для таких приветливых, как ты, скатерть моя раскинута, все вынимаю со дна сундука. А для замкнутых? Я сворачиваюсь, сжимаюсь, точно паук. Вот, помню, было в годы войны… Попробуй найди хлеб… Ступишь ногой на джайлоо — пыль поднималась столбом. Травы нет, козлята высохли, точно тростинки. Как тяжело было… и голод, и болезни… В такие трудные годы несчастья наваливаются одно за другим. Вот этот мой старик, он был на войне, и пришла про него «черная бумага», что погиб он геройской смертью. Поторопились оповестить меня — будто я ждала с нетерпением! Есть нечего, я считаю, сколько еще дней протяну до смерти, как вдруг являются точно из могилы, да еще с плачем: «О, разорвись мое сердце!» Я с испугу крикнула им в ответ: «Чтобы сгнили ваши сердца!» — и прогнала их, не желала слышать плохую весть. И в доме нет ничего, никакой живности, чтобы заколоть, — горестный день… Так некоторые обиделись, говорят — что за женщина, нарушает обычай… А другие решили, будто я свихнулась, приготовились позвать знахаря. Я же готова была побить их вместе со знахарем, если еще придут. Уже давно не было с войны писем, душа вся замерла в ожидании вестей, а эти пришли с воплями, точно просить у меня подарок за их весть… А после, как подумала, оказывается, я правильно сделала, что прогнала их, ишь, затеяли недоброе дело, черти… Через два дня — я спала, как вдруг кто-то постучал в окно. Спрашиваю: «Кто?» — говорит: «Я». Голос вот его, старика моего, тогда, правда, еще молодой был. О милостивый аллах, перед глазами у меня зарябило, голова закружилась, я решила, что это пришел его дух… проклятый день. Вскочила с криком, побежала, закрыла дверь, как будто вот сейчас дух ввалится. Оказывается, никакой не дух, а вот он, самый настоящий. Оказывается, по ошибке прислали похоронную. А те, которые приходили ко мне с черной вестью, после пристали: «Небось знала, что муж твой едет домой, да скрывала, хитрила…» И еще, и еще чего-то говорили. «Сколько хотите обижайтесь — а идите прочь со своими насмешками» — так ответила я им. Они чего желали бы — чтобы я хоть в долг взяла скотину да и зарезала ради вести их. Но тогда — что можно было зарезать? Это теперь, слава аллаху, есть у меня и кумыс, и мясо, и хлеба вдоволь. Вот в том большом мешке битком набито муки. И одежда, и деньги… Доброе дело колхоз — если будешь работать честно, будешь купаться в масле, в молоке. Сын мой вот закончил учебу. При старой жизни — кем бы мы сейчас были, что ели? Взять моего старика — отец его раньше вместе с пятью сыновьями был рабом, их как приз выиграли на скачках. А теперь в аиле нет человека богаче меня. Считай сам: три коровы… разве не три? — прошлогодняя телка, телка нынешнего года, сама корова… да еще кобылица с жеребенком, да пять овец. Кобылица принадлежала покойному сыну, но я говорю, что моя, хоть одна, но и эта наша. Раз есть достаток — не найдешь человека добрее меня, бери, что пожелаешь.
Мамаш, воспользовавшись благоприятным моментом, решил наконец получить то, за чем приехал:
— Матушка Калыйпа, продайте колхозу двух телок, одну-две овцы. Вы ведь наверстаете — никто не может сравниться с вами в ведении хозяйства.
— Нет, не продам. Что у меня есть, кроме этого? Ведь мы, как другие, не сеяли зерно. Огород, выделенный вами для нас, остался невозделанный, земля засохла, заросла сорняками. Мы не можем, как другие, выращивать и есть картофель — целый день ходим за отарой. Все время на ногах, перепрыгиваешь с камня на камень, не поспишь как следует ни ночью, ни днем. Ни отдыха не знаем, ни кино не видим, ничего… сегодня здесь, завтра в каком-нибудь ущелье… С одного бока волки хватают, с другого — шакалы. Был бы ты таким хорошим председателем, чтобы доставляли нам картошку, эту самую капусту, помидоры, тогда мы могли бы есть хороший суп. Оказывается, таково было повеление аллаха — ушел из жизни мой старший сын. Его дети, мал мала меньше, остались на наших руках. Случись завтра — их мать, совсем еще молодая, выйдет за кого-нибудь замуж — узнают ли ее дети нас, если поедем к ним через четыре года, разве не спрячутся от испуга в доме, подобно зверятам, играющим возле норы?
— Матушка Калыйпа, неужели ваши слова слышу, а? Я-то думал, что вы, как и прежде, щедры, спешил с надеждой. Нет, вы шутите или говорите серьезно? Ну-ка, поглядите сюда, улыбнитесь — видите, сразу светлее стало, точно луна вечером из-за горы выкатилась! — Калыйпа и в самом деле глядела улыбаясь, и лицо ее впрямь излучало свет. — Ну вот, сказал же я, что она шутит. В этом аиле есть один щедрый человек, и человек этот — вы, матушка Калыйпа. Как вы думаете, ведь щедрость, наверное, рождается вместе с человеком, как и скупость?
— А как же иначе, неужели уж он у кого-то еще выпрашивает?
— Золотые слова, замечательный вы человек, матушка. А как вы думаете, наверное, ведь у щедрых люден душа чуть не выскакивает наружу, когда наблюдают жадность какого-нибудь скряги?
— Как же ей не выскочить! Так и хочется изрубить его скрюченные судорожные руки! А какими кусочками они отламывают хлеб, как они трясутся, угощая людей… видала я и таких, что сами для себя жалели еду. Чье тело, чью душу может насытить такой скряга? Всяко бывало у нас — и достаток, и нужда, но всегда у меня лежало на скатерти все, что я имела. Не приведи аллах прятать от гостя что-нибудь, точно кошка свое дерьмо.
— Вот истинные слова! Раньше что вы делали, когда приходил гость?
— Я закалывала единственную дойную козу, говоря, что, если уже нам ничего больше не суждено, так и умрем. Как-то, помню, вечером пришли к нам один-два божьих человека, а вокруг нас ни одного дома. Я растерялась, покраснела, угостить нечем, смотрю на него — он тогда еще молодой был, — а он смотрит на меня и как бы говорит — сама знай. И я, представляете, встала, попросила у аллаха благословения… У нас была единственная черная коза, кормила нас молоком — козленок у нее подох от укуса змеи. И вот мы решили заколоть ее. Говорят, если бедняк один раз хорошо наестся, то это уже половина богатства… так и мы рассудили — за один раз сварили все мясо и как следует наелись. Но оказалось, суждено нам еще было… Сосед из нашего аила переехал работать в город, оставил нам свою корову. До того молочная корова — прямо озеро: что молока, что простокваши…
— Золотые слова! Это с тех пор, значит, стали говорить: «Если хочешь быть щедрым, так будь как Калыйпа»?
— Нет, другой еще был случай. Когда родился первенец моего покойного сына, мы были внизу, в аиле, и кто-то приехал известить нас — желал получить подарок за хорошую весть. А у нас люди сидели, один и скажи: «У тебя внук родился, посмотрим, чего не пожалеешь за радостную весть! Или станешь отпираться, увиливать под разными предлогами?» Вот — говорю — и скинула с себя только что сшитый черный суконный чапан. Человек, просивший подарок, недоуменно смотрит на меня, не понимает, всерьез я такую вещь даю или же шучу. Я ему: «Бери скорее, пока не взял кто-то другой», — так он схватил и побежал. Вот какая сила у тех, что приходят с хорошей вестью. От этого я разве останусь раздетой… через небольшое время опять справила себе чапан. Человек оттого, что дает другому, бедным не сделается. Один старик перед смертью оставил завещание: «Я всю жизнь копил добро, и, сколько бы ни собирал, все казалось мало. Сам никогда не ел досыта и никогда никого не пригласил, не накормил, не угостил даже чаем. Двор мой полон скота, карманы полны денег. Теперь я болен раком. Я уже на пороге смерти. Хочу поесть, но не лезет в горло. Только теперь я понял цену еды. При жизни нет большего богатства, чем наделять людей, хорошо питаться и, если есть возможность, хорошо одеваться. Если и пожалеете для других, то хоть не жалейте для себя».
— Браво, золотые ваши слова! — Председатель аж хлопнул в ладоши от восхищения. — Если бы все люди были такие, как вы! А то поедешь к другим, так там чуть не расстаются с душой, боясь отдать что-нибудь из скота, ругаются, верещат… не то что вы… Ну-ка, матушка, сколько мне взять — сами скажите. Знаю, знаю, если я даже все у вас попрошу, и тогда не сможете мне отказать по доброте вашей…
— Сколько нужно, столько и возьми. Оставь только вот ту саврасую, с белой отметиной на лбу, чтобы был кумыс… Помнишь то время, когда решили, что от кобылиц нет никакой пользы, — вот в те дни люди, всю жизнь не смевшие даже мечтать об этом, смогли приобрести лошадей. Помнишь, тогда их обменивали на телят, даже на кур. А я за всю свою жизнь не видела плохого от лошадей и взяла тоже, привела одну, обменяла на теленка — подарила старшему сыну. Вот, а теперь вы умоляете меня продать… Лучшие лошади нашего колхоза тогда разошлись по рукам. Разве ненужная скотина могла бы, как лошадь, существовать века? Чем продавать кобылиц, лучше бы доили их, готовили кумыс да продавали. Ведь кумыс — это лекарство. Поверьте, нет ничего выгоднее кобылицы. Сядешь на нее — повезет тебя, захочешь пить — кумыс пей, захочешь есть — на тебе мясо. И кожа, и шерсть — все идет тебе на пользу. Выпей же еще кумыса, молочное хорошо пить без передышки. Не каждый день приезжаешь, так напейся досыта, — уговаривала хозяйка, озабоченная тем, что снова наполненная ею чаша стоит перед Мамашем без употребления. Наслушавшись похвал Мамаша, она уже забыла про свой первоначальный отказ.
— Одну годовалую телку, теленка, жеребенка отдадите осенью… — перечислял меж тем председатель.
— Пиши, сколько считаешь нужным. Ведь не даром же возьмешь, платишь почти такую же цену, что и на базаре. Есть ли о чем печалиться! Ой, выпей же кумыса, неужели плохой?
— Нет, почтенная. Как же не выпить такой!
Председатель выпил без передышки половину чаши, и от этого Калыйпа прониклась к нему еще большей признательностью. Воодушевленная добрым отношением председателя, она и вовсе разошлась:
— Овцы все целы, разжирели, сделались похожи на конок[48]. Ни мухи, ни комары не досаждают…
Тут председатель Мамаш еще подзадорил ее:
— Оказывается, волк чуть не задрал одну…
— Джигиты, те ради шутки, ради удовольствия щиплют груди у молодок. А волку что, он и не смотрит, чьи овцы: то ли Калыйпы, то ли Шарипы, ему бы лишь брюхо набить. Да тут он не разжился особенно: только куснул одну за вымя — и сразу убежал, точно коза, оттопырив хвост. Рана у овцы уже заживает…
Мамырбай, слушая мать, покраснел и опустил глаза, а той хоть бы что — даже и не моргнула.
Двумя днями раньше к Калыйпе и Субанчи приезжали из правления, чтобы договориться о продаже скота, но Калыйпа наотрез отказалась продавать, да еще и прогнала представителей, обругав вдогонку. Теперь Мамаш радовался, что нашел к ней подход и уговорил ее помочь с поставками.
— Сын ваш настоящим богатырем сделался… — начал он, но не успел закончить свою мысль, как Калыйпа снова затараторила:
— Ой, несколько ребят, окончивших десятилетку, ездили в прошлом году в город, чтобы пройти в институт, но говорят, что провалились. Как это — провалились они? Хорошо, если они остались невредимыми… Куда они провалились, скажи, мой хороший?
— Не думайте, что они провалились куда-то, почтенная, просто так говорят, если кто-то не выдержал экзамена. Из нижнего аила тогда ездили поступать в институт десять человек, и все десять не прошли. Да и разве они поступят, если учились кое-как. Вместо учебы частенько работали на дому у учителей. Все пять учителей замешаны. Который строил дом, тот заставлял класть кирпичи, таскать камни, остальные по хозяйству учеников приспособили. Нескольких человек сняли с работы, когда выявилось все это. Если учителя не станут повышать свои знания и культуру, не смогут идти в ногу со временем — потеряют уважение… через десять лет отстанут от рядового колхозника.
— Кто же знал… Только когда я услышала, что они провалились, все мои мысли были о моем Мамырбае, не могла ни есть, ни пить. Он же тоже собрался поступать… — Тут Калыйпа заметила, что Мамаш кончиком перочинного ножа старается подцепить и отбросить соринку, упавшую в кумыс, и, воспользовавшись тем, что гость отвлекся, повернулась к своему старику; ущипнула пальцами щеку и закусила губу, как бы говоря: «Ведь он понял, что мы ссорились — и потому выбрасывали мясо в дверь. Теперь сделаемся посмешищем на всю округу. Придумал бы что-нибудь — как объяснить, оправдаться?»
Мамаш искоса наблюдал за Калыйпой и понял смысл ее взгляда. Заговорил — с одной стороны, желая успокоить хозяев, а с другой — и подтрунить над ними:
— Смотрю, до чего же хорошее у вас пастбище, Калыйпа-апа, и коровы жирные, и овцы жирные. И собаки у вас точно телята — здоровенные… упитанные, круглые, чуть не лопаются — как мячи. Чем вы кормите собак, матушка? У меня тоже есть собака, но, сколько ни ухаживал за ней, все такая же худая. А ваш желтый пес — он точно медведь лохматый… лапы мощные, будто волчьи… шерсть так и лоснится от жира… — Мамаш улыбнулся в усы и подцепил соринку, выбросил из чаши.
— Мясом кормлю. Часть мяса от скотины, которую закалываем для себя, отдаем собакам. Некоторые жалеют для собак даже помои, собаки у них звенят обглоданными костями, точно цепями. И даже не стыдятся такие хозяева, говорят — мол, плохая собака, как завидит волка, так сразу убегает, скуля и поджав хвост…
Тут Субанчи, до сих пор слушавший молча, решил вставить слово.
— Вот собака Осмонбека… — начал он.
— Подожди, дай я теперь скажу, — перебила Калыйпа, сморщив нос в знак неудовольствия — чего, мол, мешаешься.
— Ой, что случится, если я один раз?..
— Вот — не дает человеку слова молвить!
— Ты уступаешь или нет?
— Не даешь рассказать гостю — имей же терпение, старик мой. На днях приехал тот самый Осмонбек, хлопая по шее своего ишака палкой. С ним вместе пришла его давешняя черная собака.
Субанчи в нетерпении перебивал время от времени жену, исправляя и уточняя ее рассказ.
— Что ж ты забываешь, что он привязал ее веревкой за шею. Уж говорить — так не преувеличивая, не скрывая, — вставил он, ломая от волнения на мелкие кусочки прутик, который держал в руках.
— Подожди же, не мешай. Дойду и до этого, бедный мой. Так, значит, он привязал ее веревкой за шею. Мои собаки кинулись было к ней, но она, поджав хвост, спряталась в ногах у лошади. Хозяин ее вошел в дом, чтобы выпить кумыса, а она так и сидела, спрятавшись под лошадь. Смотрю, а Осмонбек этот самый расхваливает свою собаку, обманщик, хвастун этакий. Я и говорю ему: если она такая грозная, то пусть потягается с нашими, чья победит — тому достанется в награду лошадь. Ну давай, соглашается этот коротышка. Вышли во двор — и я только успела крикнуть: «Взять», — ой, наша желтая собака в один миг ухватила — и вырвала у той бедной хвост! Так после, когда спрашивали его люди, Осмонбек отвечал, что волк оторвал. Мои псы — волки для его собаки, ха-ха-ха! Я кормлю своих собак мясом. Было время — не то что собакам, а и самой не хватало пищи. Как же мне теперь жалеть, когда сейчас у меня есть кое-что в доме. Мои собаки едят то же, что и я. Вот перед самым вашим приходом я швырнула им легкие, печень, шею. Пусть наслаждаются, собака для человека — друг. Оказывается, собака хозяину желает хорошего, а кошка — плохого. Собака говорит: «Если у хозяина будет много детей, они вынесут во двор по большому куску еды, и я, осторожно подкравшись, буду потихоньку есть из их рук». А кошка — пусть будет проклята! — эта хитрюга, оказывается, говорит: «Если бы у хозяина не было ни одного ребенка, то он тогда ласкал бы только меня, давал бы всю хорошую еду только мне». Калыйпа явно радовалась преданности собаки и по-настоящему злилась на кошку, верила в правдивость своих слов и даже побледнела от волнения. — Подумай только, как же не назвать собаку счастливой, если она берет хлеб из рук детей, пухленьких, как бусинки. У собаки свое счастье. Оказывается, некоторые собаки приносят хозяину счастье. То есть хочу сказать, счастье какого-нибудь дома падает или на хозяина, или на его лошадь, или на его собаку — в общем, хоть на человека, хоть на животное. Раньше… — продолжила было она, но тут ее перебил Субанчи:
— Ну, понеслась! Сейчас опять начнет вспоминать давнишнее. Мол, иду, а на дороге маленький щенок, с мизинец, — да? И завернула его в платок, не замечая палящих лучей солнца, которые жгли тебе голову, так? И лоб у него широкий, светлый… Дала ему бешбармак, и он, бедняга, лижет понемногу, правда? А потом сделался таким огромным псом, что далее не мог пройти в дверь, верно? Ты ведь, когда приезжал Мамаш, всегда обычно начинала разговор с этого — так сегодня бы…
Иронические слова старика задели Калыйпу за живое, она немножко рассердилась.
— Не желаешь — не слушай, рассказываю для гостя. Что за привычка — перебивать человека. Одни люди в молодости бывают молчаливы, а к старости становятся болтливыми, другие же наоборот, в молодости несдержанны на язык, а уж с годами больше слушают. Мой старик к старости ужасно сделался болтливый, ты же сам замечаешь, Мамаш. А все отчего — перед глазами моего бедняги вечно торчит такое несчастье, как Калыйпа… Ну вот, перебил, не помню, на чем остановилась… А, вот… иду я, а на дороге маленький щенок, с мизинец…
При этих словах почтенной Калыйпы не только Мамаш и Мамырбай, но даже и Субанчи дружно прыснули. Матушка Калыйпа почувствовала, что сказала не то, и решила перевести разговор на приятное для себя. Ведь если человек пожелает, то может повернуть беседу и туда и сюда.
— Ой, не оттопыривай бороду, точно рак свой хвост, бедный мой, отправляйся скорее, приведи ягненка! Так и будут они сидеть, что ли, с запекшимися губами? Теперь жди тебя — пока доползешь, пересчитывая каждую травинку, как бы проверяя, не унесло ли ветром… Вот ведь какой — пошлешь куда, так по дороге он не оставит без внимания ни пролетающую птицу, ни пасущуюся скотину, ни встречного человека. Что за глаза у него… Начнет по возвращении рассказывать, кто да на каком коне едет, во что одет, какое седло, снаряжение — и так вплоть до ниточки, все до мелочей, — я только сижу с раскрытым ртом, смотрю и не знаю, что сказать. По внешности он все такой же, но на самом деле… бедный мой, в этом году он уже сильно сдал. В дождливые дни не может подняться с постели, жалуется на боль в пояснице. И то он еще крепкий — ведь сколько мучений перенес… Он из таких, что только умирать не пробовали, а все остальное пережил…
Старуха оглядела своего старика с ног до головы. Было видно, что она любит его, хоть и ругает иногда. «Ведь я и слова не сказала бы, если б ты не понимал меня… Я же ласкаюсь к тебе, мой старик», — говорил ее вид.
Когда Субанчи поднялся с места, Калыйпа с удовольствием оглядела его — ослепительно белый воротник, опрятная одежда, на голове снежно-белый киргизский колпак. «Вот так я забочусь о своем бедном старике. Если бы не он, кто бы оценил меня, пусть живет подольше, хоть и переругиваемся иногда», — написано было на ее лице.
Мамаш заметил это — взгляд его потеплел.
Мамырбай вышел из юрты вслед за отцом. Они переговорили о чем-то на дворе, потом голоса умолкли, и через некоторое время Субанчи вернулся в дом. Жена тут же неодобрительно сморщила нос, посмотрела с упреком.
Субанчи сказал, оправдываясь:
— Ты моложе меня на шесть лет, ну-ка, сбегала бы сама, чем глядеть на меня осуждающе. Все еще принимаешь меня за шустрого парня, бедняжка. Я теперь уже не тот Субанчи, который только что женился на тебе, мне прозвание — старик. — Он несколько раз чихнул. — В голове моей гудит, в носу заложило, простыл, видать. Чем больше переваливает за шестьдесят, тем больше, оказывается, сгибается человек. Руки теряют силу, голова — память. А в семьдесят уже превращаешься в землю, по которой может пройти любой. О, черт возьми, мы в молодые годы не знали, что такое жара и холод… Зимой я, бывало, ложился с раскрытой грудью во дворе и не просыпался, даже если бы по мне пробежали овцы. А теперь я точно конь, привязанный к колышку… теперь сделался домашним щенком. На старости лет жена превращается во врага. Вот смотри, не только другим, но и своей жене не могу угодить, с утра до вечера жарит меня… Нет, ты не думай, Мамаш, что я говорю серьезно, это я просто для вида — на самом деле я таю от своей жены. Она для меня — все.
— Да, похоже, вы нездоровы, почтенный, — участливо проговорил Мамаш.
— Что поделаешь, коли и зиму и лето мы среди снегов. Место, выделенное вами, оказывается, настоящее кладбище. С утра до вечера все время воет ветер, точно у него умер отец, не дает ступить ни шагу, берет за шиворот. Если в другом месте дождь пройдет один раз, то здесь — два раза. Дует и с юга, и с востока, бьет с двух сторон. Наутро опухнешь, не разогнешь поясницу. Еще не сошел снег с северных склонов. Налетит ветер оттуда — так сверлит все кости, точно шилом. Как волки изгоняют из своей стаи одряхлевшего, так и вы не выделяете мне пастбища получше… — Говоря так, старик опустился рядом с Мамашем на почетное место, претендуя на равное уважение к себе. — Переживаешь, жена, знаю, что я отправил за ягнятами парня, и без того уставшего с дороги. Только молодость разве знает, что такое усталость? Недаром говорят — «старый приходит к угощенью, а молодой — к работе». Разве он тина, что колышется от малейшего ветерка? Я еще не видел, чтобы умирали от работы. Тут недалеко — ему раза два шагнуть. Ай, если меня пошлешь, то не думаешь ли сегодня остаться без угощения? Ведь я задерживаюсь возле каждой травинки, ха-ха-ха!
— Не переносит ни холода, ни жары. Теперь не может уже переносить и слов, бедный мой. А было время — так ущипнешь его, а он и в ус не дует, бедняга. Плохо, оказывается, быть пожилым человеком, он раскачивается, точно тальник на вершине утеса. Если утром здоров, то вечером болен, если вечером здоров, то утром болен. Одно из названий старости — болезнь… — В это время снаружи залаяла собака, и Калыйпа подняла голову, прислушалась: — Кто-то приехал, похоже. Пусть заходит. Как говорится — «по велению аллаха, хоть один гость, хоть десять — все насытятся из одного казана». На старости лет хлопотное дело возиться с казаном. Ты не обижайся на мои слова, Мамаш, неужели я разорвусь, если хоть раз сготовлю тебе обед, это я так говорю, вообще… Кажется, никто не приехал, чего же она лает, эта обжора?
Калыйпа снова принялась пестиком взбивать кумыс. Посмотрела на гостя, и лицо ее осветила добрая, немножко грустная улыбка.
12
Хотя на первый взгляд место, где паслись ягнята, было недалеко от дома, но туда еще надо было добраться. Мамырбай поднялся к ущелью, кое-где поросшему кустарником, огляделся — краснели ягоды смородины. Калыйпа держала пять-шесть своих ягнят отдельно от колхозной отары, поближе к дому. Делала это для того, чтобы они досыта, вволю щипали траву и быстро жирели. Когда же ее спрашивали, почему она отделяет своих ягнят, она обычно отвечала так: «Могут же приехать гости, хочу, чтобы за угощением недалеко было ходить».
За ущельем — пологий склон. Это место выделено колхозом под пастбище для домашнего скота. Люди, пригоняющие сюда скот, обычно тут же собирают кизяк на топливо; до засохших кустов можжевельника выше по склону может добраться только сильный человек, а маленькие дети, старики, старухи и близко не подойдут.
Мамырбай с трудом поймал ягненка. Хорошо упитанный, резвый, он так и рвался из рук. Хотел было повести ягненка за собой, но тот упирался, не шел, тогда Мамырбай поднял его, положил себе на плечи. С такой ношей наискосок спускаться было неудобно, и Мамырбай, спустившись прямо, шел вдоль подножья горы.
— Эй, сын наш! — услышал он окрик и, обернувшись, увидел красавицу Маржангуль, оставшуюся вдовой после смерти его старшего брата Калматая. Она тащила на спине большой мешок, наполненный, как видно, кизяком. Заметив, что Мамырбай остановился, женщина ускорила шаг, покачиваясь на ходу, точно верблюдица. Что-то не переставая говорила, радостная и возбужденная, и каждая ее фраза оканчивалась пожеланием: «да падут все твои несчастья на мою голову!»
— Чтобы мне пасть жертвой, приехал уже, сияя молодостью, издали показывая свое лунообразное лицо, милый! Вернулся живой-здоровый, разорвись моя душа! Когда ты появился перед моими глазами, мне показалось, что это твой покойный брат ожил и возвращается в дом, надежда моя!
Мамырбай поджидал свою джене[49], по-прежнему держа на плечах ягненка. Маржангуль быстро сбросила с плеч мешок и устремилась к парню. На ходу поправила платок, спрятала под него выбившиеся волосы, подбежала.
— Аллах подарил мне тебя, ты мое счастье, излучающее свет! Подставляй-ка щеку, разве не поцелую тебя в радости! — Воспользовавшись тем, что у Мамырбая руки были заняты, Маржангуль расцеловала его в обе щеки, а потом, обняв его вместе с ягненком, заплакала, вспомнила его брата, каков был характером, поведением, умоляла, чтобы теперь, когда на ее голову свалилось такое несчастье, Мамырбай не оставлял бы ее без внимания, приглядывал за нею, защищал. — После смерти твоего брата разве осталось что-то светлое в жизни для такой несчастной, как я!.. Смолоду — и вдова, погас свет моего дня. И некому поддержать, приободрить, пожалеть, никто не скажет — бедняжка… Осталась голосить, окруженная с четырех сторон четырьмя ребятишками, несчастная я… За что мне такое, чем я хуже других? Ведь если разобраться, у меня сейчас должна быть самая лучшая, цветущая пора… Какие дни ожидают меня? Куда я поведу четырех сирот? Как я разлучусь с вами со всеми, неужели мало того, что разлучена с твоим покойным братом? С малых лет мы росли вместе, ты для меня дороже родного, ненаглядный мой!.. — Маржангуль замолчала и улыбнулась, но улыбка вышла невеселой, заметнее сделались красные пятна после слез, проступившие на ее красивом лице. Но вот уже поблескивают в подведенных глазах задорные огоньки — знак молодости, древней, как мир, женской игры. Мамырбай не понимает еще — но это и огоньки восхищения им. Да, правда, Мамырбай казался молодой женщине лучше, ближе, дороже ее умершего мужа, его брата. — Уже три дня, как ты снишься мне, — продолжала она весело. — Раз вижу, будто ты скачешь по вершине горы на игривом белом коне, другой раз снится, будто ты играешь со своими сиротами-племянниками, борешься с ними около юрты, как раньше… а то — будто я, несчастная, плачу, а ты успокаиваешь меня, вытираешь ладонью мои слезы. Я и подумала — вот, оказывается, почему говорят: счастлива та, у которой есть деверь… чужой не станет сниться.
Маржангуль посмотрела на джигита с любовью, и в ее откровенном взгляде Мамырбай почувствовал какое-то новое, неясное еще ему отношение. Словно бы она ждала от него чего-то. Он оглядел свою джене внимательно. Маржангуль против прежнего помолодела, похорошела, сделалась словно бы стройнее, походка ее стала легче. Она чуть подсурьмила брови, чуть подрумянила щеки — и это еще украсило и без того прелестное лицо, притягивало точно магнитом, останавливало случайный взгляд. Прекрасные от природы, заботливо убранные роскошные темные волосы мягко блестели под солнцем. Черное шелковое праздничное платье облегало стройную фигуру. Незнакомый человек, увидев Маржангуль, принял бы ее за девушку, за невесту. (Тут впервые в душе Мамырбая ворохнулся вопрос — почему вдова его брата так одета, так выглядит?) Чуть уловимое кокетство, нежный чистый голос, мягкая улыбка, притягивающая людей, словно бы обещающий, чуть исподлобья взгляд… в общем, перед глазами Мамырбая снова была та молодая девушка, что сделалась десять лет назад невестой, а потом женой его брата. Мамырбай вспомнил умершего Калматая, вспомнил и представил себе, как одевалась, как выглядела и держалась Маржангуль при жизни брата. Перемена была явная — и подсказывала: неспроста. Мамырбай подумал, что кто-то посватался к его джене и что скоро она расстанется с положением вдовы. Но будут ли счастливы в руках отчима четыре маленьких его племянника? Ему не понравилось, что Маржангуль так похорошела. Почему-то пропало желание быть рядом и говорить с ней, захотелось скорее вернуться домой. Брат просил перед смертью: «Маржангуль, не дай этим четырем малышам глядеть в чужие глаза». Сказал так Маржангуль для того, чтобы она не торопилась замуж. А теперь что же — не прошло и года, а она уже навела на себя блеск? Мамырбай почувствовал, как в нем рождается неприязнь к этой красивой молодке. Он продолжал шагать с ягненком на плечах, — и думал уже раздраженно: «Похоже, смерть моего брата для нее не такая уж потеря? Равнодушная… И слезы ее — неискренние. Видно, ошибался я в ней…»
Маржангуль догнала Мамырбая и, стараясь не отставать, говорила, говорила — высказывала все, что накипело на душе:
— У вдовы, оказывается, главное в жизни — сплетня и одиночество. Сколько найдется людей — только и говорят про меня, рады посмеяться — вечно рот до ушей. Не поговорят обо мне со встречным — голова заболит! Только и слышишь: «Маржангуль то сделала, другое сделала, этак сказала, туда-то пошла…» Несчастная я — и аллах наказал меня одиночеством, и люди наказывают сплетней… совсем извелась я из-за длинных этих языков, милый. Услышишь, что болтают в аиле, волосы поднимутся дыбом! О-о, что за позор, ведь я собственными ушами слышала, как передавали друг другу: мол, Маржангуль уже давно обручили с Мамырбаем… Проклятый день! Эти сплетники оставят человека в покое или нет? На днях пошла я собирать кизяк, и тут же начали городить: «Не прошло и года, как умер ее муж, а она уже собирает кизяк и заливается-поет». А как же быть, совсем не заниматься хозяйством? Разве хоть один из них пришел, предложил помочь с дровами, сказал мне: «Ах, бедняжка, осталась ты вдовой!»?.. Разве хоть одна, видя мое положение, пришла по-родственному, предложила помочь постирать белье? Языком они способны поджарить пшеницу, а на деле не жди от них добра и на копейку. После поминок никто, ни один не пришел проведать меня, поддержать, сказать слова сочувствия. Если надену на себя что получше, тут же начинают судачить — мол, собираюсь замуж. За один месяц успели выдать меня за девяносто мужей… Я, несчастная, не выхожу из дома, чтобы не показываться на глаза людям. Как ни соблюдай себя, какой ни будь чистой, так и стараются замазать грязью…
Слушая жалобный голос Маржангуль, Мамырбай почувствовал правду в ее словах и пожалел ее. Что тут говорить, каково это — в молодые годы остаться вдовой! Конечно, в ее положении каждое теплое слово придает силу, каждое грубое слово вызывает горечь.
— Не горюй, джене, я не дам тебя в обиду. Пусть болтают, а ты не слушай их, делай по-своему. Когда подрастут четверо твоих сыновей, они превратятся в четырех тигров. Если гора видна, значит, она уже недалеко… не успеешь оглянуться, как они станут взрослыми. Знаешь, чего я только не перевидел, пока отец мой был на войне… И все трудное ушло, точно грязь, смытая с рук… Когда я был маленьким мальчиком… о, если говорить, слов наберется много, и они многое могут, слова, — но только энергия побеждает все, джене! Когда твои четыре сына, точно четыре крепости, поднимутся вокруг тебя с четырех сторон, посмотришь, как заговорят те, которые сейчас отворачивают носы!
Слова Мамырбая «я не дам тебя в обиду» молодка восприняла по-своему, как ей желалось, и обрадовалась, хоть и не показала виду. Решила, что все-таки Мамырбай не рискнет расстаться с женой брата. Да и родители его скажут свое слово. Сзади — юноша не видел — любовно окинула взглядом его красиво посаженную голову, широкие плечи — всю его крепкую, статную фигуру. Уже второй год, с тех пор, как Мамырбай из подростка превратился в молодого джигита, у Маржангуль была своя сокровенная тайна: она любила Мамырбая. Да, началось все еще при живом муже, его брате, хотя никто ничего не знал и не подозревал. В прошлом году она даже заболела, пожелтела вся от сдерживаемого сердечного влечения. Показывалась разным врачам, обращалась и к знахарю — ничто не помогло. Постепенно, когда Мамырбай уехал в город и ее тоска чуть унялась, болезнь прошла. Сколько ругала себя Маржангуль, сколько жалела… что ж это такое — любить деверя при жизни мужа, его брата. И все же не могла отвести от него глаз. Домашние не придавали этому особого значения, объясняя все ее почтительным родственным уважением к деверю. Теперь же, когда умер Калматай и открылась возможность соединить свою жизнь с жизнью Мамырбая, молодая женщина надеялась на счастье, надеялась, что, как бы там ни было, старуха и старик постараются обручить ее с Мамырбаем. Потому и прихорашивалась, оттого и помолодела. Когда услышала, что Мамырбай закончил учебу и скоро приедет, с утра до вечера смотрела на дорогу, дни превратились для нее в месяцы, месяцы — в годы. Стала заботиться о том, как выглядит, начала ухаживать за лицом, раздобыла лучшие кремы и пудру. Не показывая ничего свекрови и свекру, возилась с косметикой — обычно, когда уходили в горы, то за дровами, то за отарой. В общем, готовилась к встрече, готовилась покорить, очаровать, увлечь. Прежде не обращала внимания на две родинки на правой щеке, но с недавних пор чуть подкрашивала их карандашом, добиваясь лучшего эффекта. Ее высокий рост, стройность, легкость и гибкость, ее красивое лицо, глаза с поволокой, будто у раненого архара, — все это с недавних пор стало нравиться не только другим, но и ей самой. Ей казалось, что при ее-то наружности не найдется человека, который не заинтересовался бы ею, а увидевший впервые так и будет кружить возле нее. Некоторая отчужденность Мамырбая, его видимое равнодушие казались ей просто кокетством, игрой. Все равно он будет в ее руках, достанется ей — даже не заметит как. К чему скрывать, в мыслях Маржангуль уже лелеяла джигита, обладала им, ревновала.
Уже сейчас она перебирала имена возможных соперниц, припоминала, как выглядят. Большинство из них — незамужние девушки. Однако которую бы ни представила себе, морщилась недовольно — в каждой находила хоть маленький, но изъян, пустячный, да недостаток. Ни одну из них не могла поставить вровень с собой. «Да, видно, счастье раскрывается для меня, сбывается мое желание… Кого найдет лучше меня! Ладно, пусть женится на девушке… Да разве она сравнится со мной в работе? Теперешние девушки разве станут, как я, собирать кизяк в горах? Наоборот, пошлют его самого, дав в руки мешок. Они ведь даже не захотят принести воды за три шага. Посмотрю, как он будет счастлив с девушкой, если она будет тупо пялить на него глаза и твердить — купи мне шелка, подай бархату, то мне нравится, а это нет… Да, тогда он будет как верблюд на поводу. Дай аллах ему именно такую девушку в жены. Увидеть бы мне его совсем отчаявшегося тогда, а? И встретился бы он мне однажды худой, изможденный, несчастный — а я, ослепительная, шла бы по дороге навстречу… Нет, он так не поступит, не глупый ведь — есть же голова у парня. А если он и заупрямится, так на тот случай родители рядом. Если они разбушуются, с ними не справятся и десять человек. Они ко мне благоволят, непохоже, чтобы согласились выпустить меня из рук. Ладно, ладно, не торопи события, Маржангуль, недолго осталось ждать, сбудутся твои желания», — успокоила она себя. Улыбаясь своим мыслям, она поглядывала на Мамырбая с чувством собственника — и наслаждалась этим чувством. Затем убыстрила шаги, голос ее зазвучал еще нежнее:
— Хорошо закончил, наш сын? Сколько ребят окончило учебу?
— Много.
— Они все, как ты, вернулись в аил, или один-два остались в городе?
— Остались, которые пожелали.
— Хорошо, что ты вернулся. Чем в городе лучше? Да еще и твой бедный брат покинул нас…
Мамырбай не обратил внимания на ее слова, не придал им значения, а между тем в них содержался прямой намек… И чем дольше он молчал, тем больше успокаивалась Маржангуль, по-своему довольная его неразговорчивостью. Не может же быть, чтобы он не понял, что именно она хотела сказать последней фразой: «Суждено тебе заботиться обо мне, воспитывать моих детей». Конечно, понял, поэтому и молчит… Если суждено, то покорится. «Покоришься еще, молчи не молчи. Посмотрим, каменное ли у тебя сердце, — посмотрим, когда я с утра до вечера стану кокетливо вертеться перед тобой. Хоть и стараешься вроде бы избегать меня, но посмотрим, посмотрим, как твое сердце заставит тебя потерять рассудок, как будет дрожать все твое сильное тело. Если пожелаю, кому захочу вскружу голову, любому, и еще более крепкому, чем ты», — говорила себе Маржангуль.
Тут прямо перед ними вверх по склону побежала, посвистывая, горная куропатка, и ее одинокий голос удивительно гармонировал с зеленым склоном, ничего не нарушал в нем, не тревожил. Самый ловкий человек не способен догнать ее, когда она, опустив к земле голову, начинает стремительно подниматься по склону. Мамырбай заметил куропатку, остановился посмотреть на нее.
— Какая красота! Одно то, что она бегает здесь, уже прекрасно!
Маржангуль показалось, что Мамырбай говорит не о куропатке, совсем иное имеет в виду, намекает на их случайную встречу. Потому и ответила обдуманно, с потаенной мыслью:
— Она каждый год выводит здесь птенцов. Здесь же учит их летать, и они летают с того склона на этот, а потом с этого склона — обратно. И летом и зимой не покидают родное ущелье. И птица, и животное, и человек — все, оказывается, скучают по воздуху родного края. Земля, где я родилась, для меня золотая. Посмотри, как прекрасно здесь, какое приволье! Чувствую: если меня хоть на день оторвать от этих мест — умру от тоски.
Тут наконец Мамырбай начал понимать, куда клонит его красивая джене и ради кого она разоделась… ради кого не помнит его умершего брата. В лицо ему бросилась кровь. Он еще больше насупился. А Маржангуль все говорила, перескакивая с одного на другое, постепенно раскрывая перед джигитом душу, давая понять, как она соскучилась, как ждала…
— Твой младший племянник — он, бедняжка, и не знает, что умер его отец. Когда спрашивает, скоро ли придет папа, я отвечаю, что скоро. Если спрашивает — откуда, говорю, из Фрунзе. Он ведь не различает вас. А если увидит тебя? Если увидит, подумает, что приехал отец, и подбежит, обнимет тебя. Дорогие мои растут все хорошо, пухленькими. Говоря по правде, когда умер твой брат, я растерялась, мне показалось, что эти четыре сироты умирают каждые четыре дня и я сижу, оплакивая их четыре могилки. Но однажды твоя мать сказала мне, поняв мое состояние: «Подними голову! Где ты видела, чтобы умирали из-за того, что умер даже очень близкий человек? Люди умирают один раз, так повелел аллах. Жизнь и смерть — рядом, аллах дает, аллах и забирает. Когда умереть твоему мужу, моему сыну, а когда умереть тебе — ведает аллах. Ты же подумай лучше о судьбе сирот, что будет с ними. Каждый человек увидит назначенное ему судьбой. Если прольется простокваша, то есть еще и остатки… Слава аллаху, я имею еще одного сына. Неужели думаешь, что оставим тебя в стороне, когда у нас есть Мамырбай. Он больше твоего покойного мужа станет заботиться о тебе, будет носить тебя на руках». Только тогда я вспомнила о тебе… И я сказала себе: и правда — чего же мне бояться, когда у меня такой деверь! Названному подарку душа радуется — твое имя поддержало меня, вернуло надежду, вернуло жизнь. Самому старшему из твоих племянников восемь лет… не успеешь и глазом моргнуть, как все они превратятся в крепких юношей. На днях в наш дом явилась одна болтливая, злая на язык женщина, пришла за кумысом… так она говорит мне: «Слышала я, ты выходишь замуж за молодого учителя из соседнего колхоза. Ты что, с ума сошла? Ненормальная, что ли, отворачиваешь нос от деверя?» Я заставила ее замолчать, эту болтушку.
Тут уж Мамырбай не вытерпел:
— Хватит об этом. Не стыдно вам?
— Молчу, молчу… Если тебе не нравится, не стану говорить.
Мамырбая не на шутку встревожили слова его прекрасной джене; встревожили потому, что за ними явно чувствовалась какая-то договоренность с родителями. Иначе откуда такая смелость, настойчивость, определенность в намеках. «Так вот почему, оказывается, родители просили меня приехать скорее… Да, мои мать и отец способны на это, — думал Мамырбай, размашисто шагая к дому. — Может, уехать учиться? Поеду во Фрунзе, поступлю куда-нибудь. Поступлю… А если не примут? Вдруг не смогу сдать вступительные экзамены? В незнакомом месте много всяких преград, институт — не шутка, запутаешься в каком-нибудь вопросе — считай, что провалился. Конкурс большой. Разве мало таких, которые учились лучше меня? Лошадь о четырех ногах, и то спотыкается… Может, поступать не в институт, а в техникум? Да нет, что за глупости! Что я попусту морочу себе голову? Ведь я приехал сюда специально — работать, помогать родителям. Если бы решил поступить учиться, так и остался бы в городе. Сам же решил работать, а учиться — заочно. Чего же стоят мои решения? Не успел приехать — и уже испугался? Испугался намеков этой женщины — и решил бежать? Но ведь это самые первые, еще ничтожные трудности. Если и от этого неспокоен, испытываю неуверенность — что же дальше будет? Нет уж, раз я понимаю, что вся эта затея Маржангуль не по мне, так и буду держаться. Придется проявить характер — даже если родители будут недовольны. Может, и не сразу поймут меня, но не говорить же им, что в сердце у меня другая».
Мамырбай, занятый своими мыслями, совсем не слушал Маржангуль, но молодка объяснила его невнимание по-своему. Считала, что джигит просто сделал вид, что не слышал, не понимает. «Ведь молодой еще, стыдится. Ну да ничего, это дело времени. Если постоянно буду говорить при нем о совместной жизни, то уши его привыкнут, строптивость его уймется, он перестанет стыдиться…» — так решила Маржангуль. Радовалась, что сумела хоть не прямо, но сказать о своих надеждах. И как хорошо, что удалось встретить его тотчас по приезде и поговорить наедине. Это хороший знак — с самого начала дело идет на лад.
Подошли к дому — и четверо малолетних сыновей Маржангуль бросились с четырех сторон:
— Мама, что мне принесла? А мне?.. А мне?.. — враз загалдели они. Самый старший, Сыртбай, ухватился за угол мешка и потянул что есть силы, ему помог второй, Арыкбай, — и Маржангуль от неожиданности упала на спину, а меньшие, Балыкбай и Карыпбай, весело засмеялись, радуясь проказам братьев. Пока мать развязывала мешок, все четверо принялись обшаривать ее карманы. Однако, сколько ни искали, ничего интересного в карманах не нашли. У всех четверых на глазах заблестели слезы, губы покривились — готовы были разом поднять рев. Ждали только слов матери — надеялись, что успокоит их, одарит гостинцами. Иначе вот-вот затянут хором. У этих четверых так было: если засмеется один, то засмеются и остальные, если заплачет один, то заплачут все — с утра до вечера дом и двор заполнены их шумом. Маржангуль уже привыкла, перестала обращать внимание. Частенько проходила мимо лежащего на земле и бьющего ногами ребенка, не слыша его рева, не обращая внимания на капризы. И сейчас она, по обыкновению, не обратила внимания ни на то, что дети, озорничая, повалили ее, ни на то, что они хныкали, ожидая гостинца. Занята была своим делом: высыпала из мешка кизяк, сложила аккуратно, вытрясла мешок. Однако взгляд ее обращен был к Мамырбаю, который сейчас привязывал ягненка к колышку. Дети меж тем все не успокаивались: один ухватил за подол, другие обнимали ее — и все спрашивали жалобно: «Что принесла нам?»
— Я ходила собирать кизяк, что могла принести вам? Почему вот не спросите у дяди, он-то приехал с большого базара… Видите его? Или не узнаете? — она указала ребятишкам на Мамырбая.
Мамырбай не привез детям гостинцев из города, потому что у него не было денег. Сейчас растерялся, не знал, что делать, когда четверо детей кинулись в его сторону и набросились на него, как только что на мать. Пошарил в карманах, ничего не нашел, кроме карандаша. Как только достал карандаш из кармана, старший выхватил его прямо из рук. Остальные, точно мелкая рыбешка, облепившая кусок хлеба, брошенный в озеро, начали бороться из-за добычи. Кто-то вырвал карандаш у старшего — он оглушительно заревел. Другой ударил обидчика — тот с воплем повалился навзничь, Маржангуль подлетела, подняла упавшего, начала успокаивать:
— Ша, ша, ша… — мягко погладила его лоб, нежно поцеловала, и мальчик, надув губы, посмотрел сердито на ударившего. Как бы там ни было, он был доволен тем, что мать успокаивает его, целует, ласкает, — ему казалось, что его любят больше других. Остальные трое смотрели на него с завистью, понимая, что, оказывается, хорошо упасть и заплакать при матери.
Между тем привязанный ягненок, почувствовав одиночество, заблеял, как бы зовя мать, друзей. Невозможно было не услышать его, и ребятишки, забыв про ссору, нашли новое занятие.
— Заколют, что ли? — спросил старший.
— Заколют, — подтвердила Маржангуль.
— Я возьму ножку! — закричал старший, за ним вслед загалдели разом остальные трое, объявляя заранее, кто на что претендует.
— Я возьму почку, да?
— А я буду есть сердце!
— А я — язык, я буду есть язык! А тебе не дам! Вот увидишь, съем язык!
— А я ухо буду, ухо! Тебе не дадут, а я съем!
— Мама, смотри, он говорит, что будет есть ухо!
— Ты тоже будешь есть, милый, ты тоже…
— А я?..
— И ты, милый.
— А зачем ты говоришь, что дашь ему?
— Он же твой братишка. Разве вы не поделитесь?
Дети нашли правильными эти слова.
— Поделимся, поделимся! — загалдели они.
— Теперь идите поиграйте!
— Мамыш, пришел? Неси, проси благословения! — послышался из юрты голос отца. Они с матерью давно уже успокоились, перестали ссориться, говорили тихо — и потому смогли услышать блеяние ягненка. Мамырбай подумал: «Как весенняя гроза — быстро налетит, быстро проходит».
Он завел ягненка в юрту. Мать по-прежнему сидела возле кухоньки, рядом с бурдюком, где держали кумыс, вся вспотевшая. По ее раскрасневшемуся, оживленному лицу было видно, что она до сих пор еще не закончила давно начатый рассказ. Отец тоже разрумянился, сидел, склонив голову и скрестив ноги, слушал. До него давно уже, видимо, не доходила очередь говорить. Увидев Мамырбая, покачал головой, как бы объясняя: «Если здесь Калыйпа, то разве дойдет до меня очередь высказаться». Председатель Мамаш, оказывается, пил уже кумыс не из большой чаши — из чайной пиалы. Держал ее в руках и с улыбкой смотрел на старую женщину — казалось, был загипнотизирован ее словами. Мамырбай отметил, что его родители, по старой привычке, чуть не силой заставляли гостя пробовать кумыс, и он сначала пил из деревянной расписной чаши, затем перешел на касу, а потом на небольшую чайную пиалу. Уж не собираются ли они превратить бедного Мамаша в круглый конок для кумыса… «Что за обычай — принуждать пить, несмотря на отказы…» — подумал Мамырбай, но вслух, конечно, ничего не сказал, а подтянул ягненка поближе к гостю, чтоб тот мог получше рассмотреть его. Это тоже было исполнением обычая: обязательно показать гостю для благословения ягненка, которого собираются заколоть в его честь. Так издавна принято было поступать, дабы гость не мог впоследствии упрекнуть хозяина или посмеяться над ним, утверждая, что его накормили несвежим мясом, а мясом павшей скотины.
— Аминь! Дай аллах здоровья! Благослови аллах! — с этими словами отец Мамырбая распростер руки, повернулся в сторону Киблы и что-то забормотал, шевеля бородкой. Калыйпа оказалась рядом с мужем и тоже что-то тихо зашептала, при этом она искоса поглядывала на своего старика, чтобы успеть одновременно с ним благословляюще провести по лицу руками.
Субанчи меж тем перечислял в молитве имена многих умерших людей; он считал, что, если забудет кого упомянуть, умерший может обидеться на него…
После того как Мамырбай увел ягненка во двор, Калыйпа продолжила свой рассказ:
— Кобылица у нас хорошая, родимый. Одно плохо: когда доишь ее — не стоит спокойно.
Видимо, председатель подробно расспрашивал родителей Мамырбая, интересовался всем, вплоть до молока кобылицы, вникал во все мелочи.
Мамырбай кончил разделывать ягненка, Маржангуль разожгла огонь и стала опаливать на нем грудинку и ножки. Далеко разошелся запах кипящего жира. В самый разгар лета, на цветущем джайлоо такая еда — настоящее лекарство. Когда грудинка и ножки поджарились и их принесли в дом, все с удовольствием приступили к еде. Дети были увлечены ножками. Как будто услышав невысказанную просьбу двух собак, которые почти вплотную подошли к дому и ждали, глотая слюну, — дескать, сами отведали, теперь дайте отведать и нам, — Маржангуль вышла во двор, подняла тазик, в который слили кровь ягненка, и поставила перед собаками. Это тоже был давний обычай: прежде чем отведают мяса гости и хозяева, не давать ничего собакам.
Собаки жадно принялись за кровь, каждая торопилась вылакать больше другой. Морды их были испачканы в крови, но им некогда было даже облизнуться. Когда показалось дно тазика, собаки сцепились. Злобно рычали, бросались друг на друга — могли бы загрызть до смерти. Мамырбай схватил большую палку, бросился разнимать их.
— Поставь самовар, Маржангуль! — раздался из дома голос матушки Калыйпы.
— У него выпал краник, — ответила виновато Маржангуль.
— Что ты говоришь, лопни твои глаза! Ведь еще вчера был на месте, верблюжонок ты мой. Кто же из вас сломал и забросил его?
— Разве эти четверо, что разбойничают во дворе, оставят самовар в покое… уже давно забросили, потеряли. Таскали его за краник, точно верблюда, — и сломали.
— Нашли чем играть! Спасу от них нет! Ни большие касы, ни чайные пиалы не держатся. Которые разобьют, а если что не разобьют, так затаскают, забросят — и не найдешь. Что теперь будем делать, о несчастный день? — Четверо детей, напуганные грозным голосом бабушки, сознавая свою вину, поглядывали настороженно исподлобья, делая вид, будто не слышат разговора, будто он их не касается. — А ну, покажи мне, который из них сломал, а? — Попугав таким образом внуков, бабушка тут же простила их, приласкала, а Маржангуль, сердито смотревшей на малышей, сказала: — Ладно уж… Поставь чайник. На этих проказников не напасешься и чугунной посуды — с утра до вечера только и бросаем в яму разбитые пиалы да чайники. На днях я купила двенадцать пиал, так из них, поверишь ли, Мамаш, — она обернулась к председателю, — уцелела только та, из которой ты сейчас пьешь кумыс. Маржангуль, ты слишком избаловала их! Нет у меня уже силы, а то, бывало, у меня учились некоторые женщины, как нужно воспитывать детей. Тигры не рождают больше двух, я родила двоих, только ненасытная черная земля унесла одного. Мой несчастный Калматай до самой смерти ни с кем не пререкался, Мамырбая моего вы тоже знаете… А эти четверо сироток растут дикарями. И то ладно, лишь бы были здоровы да носили имя отца, чтобы народ мог сказать: это дети такого-то. — Калыйпа заговорилась и позабыла про мясо — только сейчас вспомнила: — Закипело, эй? Как следует снимите пену, если закипело. Какое, думаешь, мясо у ягненка, который питался только молоком матери, — чуть покипит и уже разварится. Пей кумыс, Мамаш. Кто хорошо питается, тот недоступен болезням. Мой отец говорил: «В мире есть три лекарства: хорошая еда, чистый воздух, чистая вода». Некоторые ученые люди с утра до вечера только и глядят в книги — делаются изможденными. Возьми нас, с наших щек брызжет кровь, вот так, вот что значит здоровье…
В чужом доме Субанчи никогда не уступал слова другим, в своем же доме до него обычно не доходила очередь говорить, и он лишь шевелил губами и покачивал головой, нервничал оттого, что жена вспоминает всякие ненужные мелочи. На лбу его выступил мелким бисером пот. Время от времени он поднимал голову, смотрел на жену, как бы умоляя: «Дай и мне сказать хоть слово», но жена совсем забыла про него. Охмелевшая от кумыса, соскучившаяся по людям в одиноком пастушеском житье, она, казалось, могла рассуждать без конца, нанизывала на нить рассказа все, что ни приходило на ум. Председатель, воспользовавшись короткой паузой в разговоре — в это время Калыйпа пила кумыс, — решился напомнить о деле.
— Сможете догнать Буюркан, матушка Калыйпа? По поголовью ягнят вы отстали. У вас по сто пятнадцать? У нее на сто овцематок по сто пятьдесят одному ягненку. А насчет шерсти вы еще можете поспорить. Вы обязались настричь по четыре килограмма…
— Посмотрю, сколько будет. Я не могу сказать заранее, что, мол, дам столько-то, глядя на шерсть, выросшую на овцах. В прошлом году я ничего не обещала и сдала по четыре килограмма. Лучше молча сдать побольше, чем хвастаться на весь свет, обещать — я докажу! — и пустить слова на ветер. Возраст мой не позволяет мне говорить лишние слова. Рассказывают, что ворона вывихнула себе ногу, стараясь сравняться с гусем. Так вот — я не свихнулась, чтобы тягаться с Героиней. Мне нечего соревноваться с ней. Достаточно будет, если я, ни с кем не соревнуясь, просто буду хорошо работать. Теперь вы должны выполнить план по сдаче шерсти. Не скажу — сколько сдам, скажу — много. Останетесь довольны. Что такое шерсть? Умеешь пасти — получишь много, не умеешь — останешься с носом. Те, которые желают достичь больших показателей по шерсти, должны знать, в каком месяце где нужно пасти. Об этом можно долго говорить… А насчет окота? Овцы, бедняжки, сколько пожелаешь, столько и дадут приплода. Мы сами плохие. Не ухаживаем по правилам, а иногда еще дело портит вот эта самая глотка, пропади она пропадом! Припрячем, скроем от учета — и съедим. О, а в прежние годы бывали дни, когда безжалостно резали новорожденных нежных ягнят из-за шкурки… ведь тогда в колхозе овцы были не тонкорунные, были киргизской породы. Аллах свидетель, если что скрываю, — я и тогда не имела лишнего платья. Нет ничего благодарнее честного труда, мой друг. Говорят, тот герой, этот герой… Мы все герои, которые пасут овец, проливая зимой в метель слезы, а летом — пот. Аллах наделил счастьем Буюркан, а иначе разве у меня нет рук, нет глаз, чтобы получить то же, что получила она? Оказывается, работают тысячи, а только один попадается на глаза. Труд тысячи переходит на одного. Я не отношусь к ней плохо, пусть радуется, бедняжка… И все-таки все — каждый, кто целый год кружит в этих горах со скотиной, — все они — герои. Если думаешь, что ты такой удалец, то попробуй-ка за день тридцать раз спуститься и тридцать раз подняться в этих горах, да еще все время кричать не закрывая рта. Алпинисами называют, что ли, тех, которые лазают по горам? Все животноводы-киргизы являются этими самыми алпинисами. Я знаю, сколько травы взойдет на склоне вон той горы, проклятый день. Как-то в один год двадцать овец принесли приплод по три ягненка. Мы подкладывали новорожденных к овцам, которые принесли по одному ягненку… Некоторые принимали, а некоторые не принимали, и тогда приходилось кормить ягнят молоком из соски… Ох и довелось тогда потрудиться! А теперь я постарела, устала, у меня повыпали зубы, потеряла свой прежний вид. Всякие соревнования оставь. Лишь бы работать — и того довольно. Как говорится, «когда твоему отцу перевалит за шестьдесят, обманом вымани у него его силу». Кстати, выдели продукты для моих собак, у нас уже кончился ячменный толкан. Другие правдами-неправдами выпрашивают, я никогда не просила, попрошу-ка и я.
— Оставь пустые слова! — не выдержал, вмешался Субанчи. — Неужели уж мы не в состоянии прокормить собак! Слушаешь ее, слушаешь — говорит все без разбору. Все-таки надо различать слова, которые нужно высказать, и те, что могут остаться в душе. Если размениваться по мелочам, неинтересно будет слушать. Многие люди умирают не от палки, а от слов. — Почтенного Субанчи, кажется, по-настоящему рассердила несдержанность жены — решил взять инициативу в свои руки. — Давным-давно нашего отца вместе с нашей матерью и нами, четырьмя сыновьями, хозяин проиграл на скачках. Наш отец вместе с нами со всеми, как раб, был переправлен из Джунгала в Кетмен-Тюбе. До сих пор все это стоит перед моими глазами. Ах, какие мучения мы тогда претерпели… Захотят, бьют, захотят, ругают, захотят, убьют, и ни одна душа не придет, не спросит… Мой брат по имени Жаманбай перед трапезой подавал гостям воду для омовения, и волостной всадил в почку нож, убил, сказал лишь, что брат повернулся к нему спиной. Ничего не осталось в жизни, чего бы я не видел… Говорят, что молитва аллаху создавалась тысячу лет. Все вобрала в себя… Вот и эта голова — чего только не претерпела она за многие годы, голова моя. Жизнь, оказывается, каждому подрезает крылья. Деньги — основное и в этой, и в той жизни, я так думаю… Если ты не считаешь меня правым, то можешь не соглашаться, Мамаш. Считай, из-за денег я прошел огни и воды, всюду побывал. Как говорится, семь лет был владельцем скота, семьдесят лет — батраком. В конце концов эта власть накормила нас. Если бы не Ленин… Работая батраком, я нажил пять коров — и все потерял в двадцать первом году в мор. Какое дело было баям, имеющим скот, до голодных… Ох и натерпелся же я тогда от тех, что имели стада и деньги. Вот посмотри, как хозяин однажды ударил меня по спине. — Субанчи не поленился, стащил с себя рубашку, показал гостю рубец от старой раны. Мамаш и раньше слышал, что будто бы Субанчи всегда припрятывал, держал при себе буханку хлеба, как делают люди, испытавшие голод, но историю его слышал только теперь и искренне жалел старика. — Эх, прошла моя жизнь — точно скатился с горы засохший куст можжевельника, то там цеплялся, то сям… Все неустойчиво было, ненадежно… Да, а потом еще я батрачил у богача-узбека. Приходилось частенько путешествовать между Наманганом и Мерке. О-о, негодница судьба гоняет человека, давая ему подзатыльники, точно ишаку… Все время ходил пешком. Пятки мои все были в трещинах. Проклятый богач для чарыков давал только необработанную кожу. Я зашивал трещины на своей пятке, как сшивают с помощью шила чарыки. Душа у человека выносливая, как у собак, сморщишься, но терпишь… Человек не всегда достойно переносит благополучие, но в бедности и нищете ничего нет терпеливее человека.
Когда пришла Советская власть, кулаки говорили: «Сорок человек будут спать вместе, жены, дети будут общие. Не будет твоего, моего. Не будут различать, которая твоя жена, которые твои дети». Пусть будет так, сказал я и перешел на сторону революции. Я стал батрачкомом. Мне вручили мандат. Сундук был открыт, и малолетний сын мой, играя, взял мандат и бросил его в огонь… чуть не вылезли от страха мои глаза… Я рассказал об этом кое-кому, а они мне ответили: «Ты теперь погиб. Тебя арестуют. Нельзя терять мандат». Ну, я и бежать — с перепугу. После этого мои дела стали плохи. То в одну сторону подавался, то в другую… Уехал на юг. Договорились — двадцать человек нас было — перенести через реку четыре тысячи тюков мануфактуры. Сложили в триста бурдюков, а остальное — кипами на плот. Сверху набросали урюк, изюм… это наша еда. Восемь пловцов сняли с себя одежду, обвязались бурдюками. Со словами «дай аллах счастья!» мы вошли в воду. До того бай обещал, что если переправим товар через реку, то даст каждому по двадцать кусков мануфактуры. И вот надежда на легкую наживу толкнула людей на смерть. На реке были водовороты. Нас затянуло сильным течением, закружило, начало сталкивать, бить друг об друга. Из двадцати человек нас в живых осталось семь… Эх, Мамаш, чего только не перевидели, не испытали мы. Теперь же вот ворочу нос, угощаясь кумысом. Если говорить, то слов много понадобится, всего не перескажешь… — почтенный Субанчи улыбнулся и приосанился, довольный, что ему удалось наконец-то высказаться.
Председатель, внимательно слушавший его невеселый рассказ, сидевший до сих пор нахмурившись, теперь повеселел и понимающе улыбнулся хозяину в ответ.
* * *
Подали угощение. Голова ягненка, оттопырив уши, уставилась на Мамаша. Молодое мясо благоухало и вызывало аппетит.
Мамаш положил голову в маленькую чашу и подал было Субанчи, но тот запротестовал:
— Нет! Как же так? Я сам угощаю и сам получу голову? Возьми, это твоя доля. Никому не давай голову молодого ягненка, ешь сам. Лучшее лекарство против всякой болезни! Это ягненок от молодой овечки, которая еще в прошлом году сама была ягненком. Смотри, до чего откормленный, жир на ребрах в два пальца. — Субанчи положил голову барашка перед гостем и теперь высматривал подходящий кусок мяса для себя. Отрезал ребрышко с куском пожирнее, содрал с него мясо и разом отправил в рот. Вкусное жирное мясо таяло во рту.
Один из мальчиков — они тоже сидели вокруг блюда с мясом, но в сторонке, отдельно от взрослых, — оглянулся на Мамаша, когда тот разделывал голову, и вспомнил:
— Мама, а мне ухо? — и потянул мать за подол.
Маржангуль, сидевшая с детьми, легонько шлепнула малыша по руке:
— Нельзя, пусть гость ест. Смотри какой невоспитанный мальчик! Как заколют барана, так он и канючит не умолкая, просит, чтобы ему дали ухо… Ешь то, чем тебя угостили!
Ребенок, обиженный отказом, надулся, уставился в пол. Положил обратно на блюдо кусочек языка, который держал в руке.
Мамаш заметил — отрезал оба уха и, разделив каждое пополам, угостил ребятишек. Дети искоса поглядывали друг на друга, как бы оценивая, кому досталась большая часть, кому меньшая.
— Желудок сироты имеет семь складок… С утра все едят, бедные, не переставая и никак не насытятся. Посмотри на их животы — они свисают, точно зоб утки, допоздна гулявшей возле озера. Старуха, дай-ка побольше мяса. Ешьте легкое, ешьте сердце, милые… О мои пухленькие! Быть им счастливыми — иначе откуда им такое мясо… — почтенный Субанчи любовно оглядел детей. Он уже давно обглодал ребрышко, которое отрезал для себя, и теперь забавлялся им, обсасывал кость, — не из боязни, что кончится мясо и не хватит еды на всех, просто за беседой он слишком много выпил кумыса и теперь был уже сыт. Перед гостем он положил тазовую кость; затем одинаково тонко нарезал курдючное сало и печень, посолил, поперчил и первому предложил Мамашу. После того как гость отведал угощения, Субанчи предложил попробовать своей жене, Мамырбаю, Маржангуль, затем собственноручно покормил четырех сироток.
Мамырбай дочиста обглодал кость, потом стал выбирать нож, чтобы крошить мясо для бешбармака. Перед отцом лежал старый андижанский нож, Мамырбай взял его, попробовал пальцем лезвие. Этот нож служил отцу уже лет тридцать — сорок. И сейчас Мамырбай обрадованно отметил, что он, как всегда, остро наточен. Взял левой рукой большой кусок мяса и принялся крошить. Мелко нарезанное мясо посыпалось в специально поставленное блюдо. Отец следил за тем, хорошо ли получается у сына, и остался доволен. Однако не похвалил, сказал только:
— Раньше мы учились крошить мясо на листьях… хотя часто ли тогда мясо попадало в наши руки? Но у меня всегда получалось хорошо. А когда входил в азарт, мясо так и разлеталось во все стороны, даже попадало на поля колпака. Очень трудно крошить мясо вот такого молодого ягненка. Возьми, Мамаш, погрызи косточек. Нет ничего лучше для человека со здоровыми зубами.
Хозяева были довольны — все хорошо поели, все насытились мясом. Председатель, воспользовавшись их благодушным настроением, снова напомнил о своем:
— Мы завтра же заберем скот, который вы решили сдать. Прислать человека, чтобы не беспокоить вас?
— Возьми две овцы. А остальное оставь, сынок, — проговорил Субанчи, отодвигаясь от угощения.
Мамаш поглядел на Калыйпу, как бы спрашивая: «Что означают эти слова? Кто тут распоряжается?» Женщина сразу поняла гостя. Какие могут быть сомнения — как она решила, так и будет!
— Ой, не болтай, мой старик! Я сказала, что отдам? Значит — отдам. Возьми, почтенный, то, что перечислила давеча. Хоть днем, хоть ночью забирай. Если в колхозе — все равно это наше. Дающая рука может брать. А если у меня не станет, то я пойду к тебе и ты дашь мне — так?
— Конечно, матушка. Спасибо вам. А теперь я пойду…
13
Мамырбай, вернувшись домой, с азартом включился в работу. Его с утра до вечера можно было видеть то на склоне горы возле отары, то с ведрами воды в руках, то помогающим доить кобылиц, то ставящим самовар. Мелькал то тут, то там, неутомимым был.
Шло время, и все больше Мамырбай привыкал к новой жизни, закалялся, втягивался. Если в первые дни по приезде он с трудом поднимался утром, то теперь вставал раньше отца и матери, пригонял кобылиц с пастбища — пора было доить их, привязывал жеребят. И как только выдавалась свободная минутка — брал в руки книгу, все время читал. Родители, довольные прилежанием и ловкостью сына, повторяли друг другу: «Аллах внял нашим мольбам, исполнил наше желание — Мамырбай оказался достойным сыном, настоящий батыр». Еще недавно белокожий, Мамырбай загорел под горным солнцем, лицо обветрилось, посмуглело. Сделался красивее и здоровее прежнего. А когда выпивал две-три большие пиалы кумыса, густой румянец заливал щеки — и каждому было видно, что жизнь на джайлоо пошла ему на пользу. Но больше всего радовались приезду Мамырбая ребятишки. Вернувшись вечером домой, Мамырбай, словно ровесник, боролся с ними, придумывал всевозможные игры, рассказывал сказки. Дети любили его. Когда он задерживался возле отары, ребята с нетерпением поглядывали в сторону склона. Маржангуль нравилось, что джигит так близок с ее детьми, она надеялась, что через детей, сам того не понимая, Мамырбай потихоньку сближается и с ней. Она замечала, что Калыйпа видит ее заигрывания, вздохи, кокетливые взгляды и, похоже, молчаливо одобряет. А недавно Калыйпа и прямо сказала, что только хорошим отношением молодка способна привлечь к себе внимание молодого парня. Не стала скрывать — если сбудется ее желание, то она не выпустит Маржангуль из своих рук, не хочет расставаться с ней. Услышав такое, Маржангуль пуще прежнего поверила в удачу. Забыла про смерть своего мужа, про свое вдовство, жила ожиданием счастливого дня.
Казалось, время приближает решительную минуту. Каждый рассвет укреплял ее надежду, она ждала, что вот-вот наступит ее счастье. Приходил вечер, и она с нетерпением ожидала нового рассвета. Ночью, когда все засыпали, Маржангуль не раз приподымала голову и смотрела на постель Мамырбая. Сердце ее громко стучало, она волновалась уже оттого, что слышит равномерное дыхание спящего Мамырбая. Она думала о том, что это несправедливо — чтобы так недосягаемо далек был человек, который лежит в нескольких шагах от нее.
Почему задуманное не исполняется мгновенно? Почему она должна страдать? Почему сразу невозможно сойтись со своим возлюбленным? Ведь сколько женщин переживают подобно ей… или еще хуже — мучаются, выйдя замуж за нелюбимых.
Ночь. Маржангуль не спит. «Ах, если бы возлюбленный мог соединиться со своей возлюбленной! — думает она и тут же пугается: — А если он не любит, несмотря на мою любовь? А если у него уже есть другая?» Она вспоминает разговоры о том, что Мамырбай и Керез вернулись из города вместе, что они заночевали по пути в горной пещере. Перед ее взором появляются веселые, как у кобчика, глаза Керез. Ей ужасно хочется побежать к ней сейчас и побить ее, чтобы не смела в другой раз приближаться к ее Мамырбаю. Но Керез далеко, недоступна для Маржангуль… и для Мамырбая ведь тоже! — эта мысль успокаивает женщину. Глубоко в душе она боится Керез — боится ее красоты, ее ума, не может поставить себя на один уровень с ней, чувствует, что эта девушка способна отобрать у нее Мамырбая. И все же она не теряет надежды… она с нежностью глядит на спящего Мамырбая, и душа ее полна предощущением счастья.
Пока Мамырбай с отарой находился на пастбище, Маржангуль чистила и стирала его одежду, а утром пораньше клала у его изголовья. Вначале Мамырбай не знал, кто заботится о нем, а узнав, открыто выразил признательность. Даже сказал: «Не знаю, как я отплачу за твое внимание, чем отблагодарю!» — «Подумай — и найдешь», — игриво отвечала Маржангуль, кокетливо прихорашиваясь.
Матушка Калыйпа, проявляя заботу, частенько нарочно вызывала во двор своего старика, чтобы Маржангуль и Мамырбай могли вдвоем остаться в юрте. Или посылала их вместе по каким-нибудь делам. По дороге Маржангуль болтала не умолкая, вспоминала всякие смешные истории. Однако, сколько бы она ни говорила, сколько бы ни старалась, Мамырбай хмурился, не смеялся, не смотрел на нее. Он знал, что надвигается день большого скандала, вопрос только — завтра или послезавтра? И все его мысли были связаны с предстоящим столкновением с родителями. Необходимо было заранее решить, как держаться и даже куда уйти из дома, на случай, если родители будут настаивать, чтобы он женился на Маржангуль.
Все более откровенные намеки матери, заигрывания Маржангуль раздражали Мамырбая. И он все чаще вспоминал своего умершего брата — и еще больше жалел его. «Как же он ошибся, несчастный, что полюбил эту молодку… Как это могло случиться? — спрашивал себя Мамырбай. — Хотя все мы задним умом крепки…»
Наконец дошло до того, что он стал избегать Маржангуль. Уже не спешил домой после окончания работы в горах, как в первые дни по приезде. Там, на пастбище, он чувствовал себя вольно, а когда возвращался вниз, ощущал стеснение в сердце, задыхался, изнемогал. Мать и отец не понимали, в чем дело, и думали со страхом, что их сын болен. Кружили возле него, задавали девяносто различных вопросов, казалось, готовы были принести себя в жертву, если бы сын хотя бы пожаловался на головную боль. Когда он приходил домой, его угощали лучшим, самым вкусным из того, что было в доме, — особенно старалась мать. Поднимаясь утром, старики прежде всего смотрели, в каком настроении сын. Если казался им веселым, лица их прояснялись, если был хмурый, вместе с ним хмурились и они. Мамырбай, похоже, не замечал беспокойства родителей, занят был собственными мыслями. Он думал о том, что хорошо бы, если б старики не вмешивались в отношения его и Маржангуль, но раз уж дело идет к объяснению, необходимо как-то сгладить ситуацию, не допустить до скандала и разрыва. Последнее дело — обидеть родителей. А выхода не видно. Уйдет из дома он — плохо. И Маржангуль они любят, привыкли к ней, относятся как к дочери… Знают, что Маржангуль тоже любит их. Конечно, они не хотели бы отпускать ее в чужой дом. Казалось, две горы с двух разных сторон стиснули Мамырбая, давят его — он мучился, не знал, как выбраться, как сделать, чтобы все были счастливы.
Когда тяжелые мысли одолевали его, Мамырбай обычно брал двустволку и отправлялся пострелять куропаток, а если не было куропаток, то ловил сеткой перепелок.
* * *
Сегодня Мамырбай пас овец. Отара медленно поднималась по склону. Выбравшись наверх, он сел на большой камень — и тут вдруг где-то среди зеленой травы на противоположном берегу реки подали голос перепелки. Им отозвалась перепелка с этого берега, и вскоре зеленое пространство заполнилось звонкими чистыми звуками птичьего пения. В разные годы выходило по-разному, иногда на этом склоне перепелок бывало много, иногда они почти не появлялись. Этим летом — сплошной гвалт стоит, пересвистывается сразу десяток. Вчера Мамырбай пас здесь овец и пожалел, что не взял с собою свистульку-манок и сетку — нехитрые, но верные орудия лова. Сегодня он захватил их. Он и раньше, когда досаждали неприятные мысли или если просто выдавалось свободное время, ловил перепелов. Наловит, сведет их по двое драться, словно петухов, а потом отпустит; некоторых он забирал домой, сажал в клетку и выкармливал — иногда у него собиралось до десятка перепелов, и все без конца пели. Но с тех пор, как он уехал учиться в город, перепела в доме повывелись.
Сейчас его внимание привлек перепел, подававший голос где-то очень близко. Девять раз кряду повторил свою песню — проверял свою силу, совсем оглушил гору. Когда он пел, другие перепела, затаившись, молчали. Мамырбай подумал, что ему не приходилось еще встречать такого сильного певца.
До чего интересна игра перепелов! На восходе солнца они вольно гуляют среди росистых горных трав, вытягивают свои шеи, похожие на маленькие изогнутые тыковки, старательно собирают блестящие капельки влаги с каждой травинки, с каждого листочка. А как один кидается на зов другого, без остановки пробирается среди высокой травы! И сколько бы они ни бегали в зеленых зарослях, никогда не намочат свое оперение, настолько все у них плотно, аккуратно подобрано, ни перышка не торчит. Услышав зов подруги, перепел приходит в буйное состояние, ничего не замечает. Обманутые свистулькой-манком, одни торопятся на звук, другие просто с пением бегают в одном месте. Оказывается, перепел не может преодолеть на бегу даже маленькую ямку или неглубокий арык…
Мамырбай расстелил сеть немного ниже того места, где слышались голоса перепелок, — она легко держалась на высокой траве. Сам спрятался под кустом и потихоньку начал свистеть в манок, подражая пению перепелки. Перепел, заглушавший всех остальных, замолк было, но потом отозвался. Начал метаться, пришел словно бы в состояние опьянения. Забыл и про росу, которую собирал, чтобы утолить жажду, и про густую траву, и про других перепелов, которых он старался перекричать. Перестал ловить бабочек, которые порхали вокруг и садились на цветы. Казалось, для него на свете ничего другого не осталось, кроме голоса перепелки, прозвучавшего где-то ниже по склону; казалось, голос зовет только его, и если он скорее, сейчас же не доберется до подруги, то через некоторое время совсем ее не найдет. Он высунул из травы свою кокетливую головку, громко запел, раздувая шею, и, стоя на месте, несколько раз взмахнул крыльями. Все перепела на склоне тоже враз отозвались и повернули головы в сторону, откуда послышался голос свистульки. Но тут возникло неожиданное препятствие. Словно какой черт дернул того перепела, что находился ближе всех к сетке: принялся бегать вокруг сетки, желая не подпустить к зовущей самке ни одного соперника, начал пугать других перепелов — на ходу сцепился с некоторыми, отогнал подальше. Те перепела, что находились в отдалении, словно поняли его намерения, остановились как бы в благодушном удивлении, подпевали один другому. В это время самый сильный перепел пробежал все же под самую сетку и запел там. Мамырбай привстал было, перепел взмахнул крыльями… видно, он был очень крупный — не зацепился, не запутался сразу в сетке, остался свободным — и продолжал подскакивать под сетью, пытаясь взлететь. Рядом с ним подскочил еще один — и тут же запутался в сетке. Мамырбай поймал обоих, посадил их в два небольших мешка; попав в темноту, птицы начали сердиться, шумели, бились в мешках. Мамырбай вытащил самого сильного перепела, взял в руки. Он и вправду оказался очень крупным. Понял, что попал в плен, смотрел пристально куда-то вдаль бусинками глаз, и видно было, что хочет вспорхнуть, хочет вольно бежать в траве, хочет петь. Похоже, внимательно прислушивался к перепелу, который пел сейчас за рекой, и досадовал, что тот без него чувствует себя богатырем… ах, если бы ему удалось вырваться на волю — он бы показал тому!
Мамырбай любовался красотой птицы. Он подумал, что, если посадить пленника в клетку, тот все глаза проглядит, отыскивая взглядом привычный склон, родное приволье, и пожалел его. Подумал о том, каково бы ему самому пришлось, если бы его вот так поймали, разлучили с волей, посадили в клетку. «И у него, наверное, есть пара… она волнуется, тоскует, не может понять, куда он делся, почему молчит?» Вдруг вспомнилась Керез, оставшаяся за четырьмя перевалами, и сердце Мамырбая забилось в волнении точно так же, как сердце пойманного перепела. Он увидел глаза девушки, они будто спрашивали его: «Почему от тебя нет вестей? Где ты? Почему не ищешь меня? Разве ты такой, что способен забыть, если не видишь меня?» Он услышал знакомый голос, услышал в нем ласковый призыв. Глаза Мамырбая потемнели. И тут он вспомнил о Маржангуль, которая встала между ними. Видение исчезло, осталось чувство досады. Он снова посмотрел на перепела, которого держал в руках; тот жалобно глядел вдаль.
Мамырбай в знак дружбы дал отпить перепелу капельку своей слюны, а потом высоко подбросил его — лети, мой пернатый друг! Перепел сразу направился в ту сторону, куда так тоскливо смотрел, и опустился где-то среди кустарника за рекой. После этого Мамырбай выпустил и второго перепела.
Он снова расстелил было сетку, подавая изредка голос манком, подзывая еще одного перепела, который неумолчно пел сейчас у реки, как вдруг услышал шелест за спиной. Обернулся — оказывается, пришла Маржангуль. В сердце Мамырбая словно что-то оборвалось.
— Поймал, наш сын? Я как увидела, что взял с собой сетку, так и поняла — собираешься ловить перепелов… Поймай хотя бы четырех, чтобы по одному досталось каждому племяннику. Я уж и сама пошла за тобой — не дают они мне покоя, все спрашивают, когда дядя принесет им перепелов. Просились было идти вместе со мной, еле оставила. Когда тебя нет дома, они минутки не посидят спокойно, все убегают, такие бедовые!.. — говоря так, Маржангуль села рядом с Мамырбаем. Перепел меж тем был уже совсем недалеко от сетки.
— Ложись! — Мамырбай махнул рукой.
Маржангуль легла поближе к нему, что уж совсем не понравилось Мамырбаю. Рассердившись, посмотрел на нее с открытой неприязнью. А молодка, хоть и поняла его взгляд, сделала вид, что ничего не замечает, лежала себе тихонечко. Казалось, перепел уже пробежал под сетку. Мамырбай привстал было посмотреть, но перепел, шумно хлопая крыльями, улетел.
Маржангуль ударила себя по бедру.
— Ах, что за бедовый! Ах, что за хитрый! Надо же уметь так притаиться возле сетки! Ну — теперь он испугался, не Придет больше. Что будем делать, если не поймаем? В доме сидят четверо, ждут, — если я приду сейчас с пустыми руками, разорвут мою душу!
Мамырбай направился к отаре, чтобы собрать овец. Маржангуль последовала за ним. Джигит понял, что она намеревается завести решительный разговор, и готов был выслушать ее и ответить.
И правда, помявшись немного, поговорив о постороннем, о домашних заботах, о мелочах, Маржангуль наконец начала:
— Судьбой мне было определено остаться вдовой с четырьмя сиротами. Я должна в конце концов поговорить с тобой, чтобы ты не обижался на меня, если потом пойдут пересуды… если дело примет другой оборот. Я не такая уж старая, чтобы сидеть одинокой, я еще думаю пожить. Тяжело одиночество для молодой. Если послушать наших стариков, так они ни за что не хотят разлучаться со мною. Я пришла посоветоваться с тобой… Разрешите мне уйти. Я хочу… я надеюсь зажить своим домом. Если услышат твои мать и отец, — конечно, расстроятся, будут горевать… да этим делу не поможешь.
— Пожалуйста, джене. — Мамырбай смотрел ей прямо в глаза и говорил твердо. — Я ничего плохого не видел от тебя, если я, мать или отец чем обидели тебя, то прости. Будь счастлива там, куда ты пойдешь.
Маржангуль переменилась в лице, побледнела.
Поднялась, чтобы тут же уйти. Отряхнула подол, хотя к нему ничего не прицепилось, и опомнилась, заставила себя остановиться. Конечно, разве можно поверить, что Мамырбай так легко решится расстаться с ней, — ведь привыкли друг к другу за столько лет. Маржангуль решила не принимать слова парня всерьез — не понимает до конца, что говорит. Ее не покидала мысль, что он смирится, опомнится, покорится. Ведь она знала, что матушка Калыйпа и Субанчи пришли к единому решению, поэтому и не теряла надежды. «Не стану спешить, потерплю. Есть ведь даже пословица: «Тот, который не спешил, на телеге догнал зайца». Разве старуха со стариком не сказали, что откажутся от него, если ослушается их. Куда ему деваться, если мать с отцом отступятся от него! Нет, в конце концов он попадет в мои руки. Я не я буду, если не заставлю танцевать передо мной такого желторотого птенца!» — сердито думала Маржангуль.
Нежности в ней как не бывало, в груди клокотала ярость. Она готова была бороться, добиваться, даже принудить Мамырбая, если он не поддастся уговорам.
Переговорив с Мамырбаем, Маржангуль спустилась с пастбища к юрте. Войдя в дом, молча принялась собирать свою одежду, связывать вещи в узлы. Одела своих детей, будто собираясь куда-то ехать. Субанчи дома не было, одна Калыйпа. Увидев, что невестка собирается в дорогу, она разволновалась, попробовала было заговорить с Маржангуль, но та глядела хмуро, как небо перед дождем, нисколько не смягчилась. Тогда Калыйпа прямо спросила, с чего это вдруг та собралась, но не услышала никакого объяснения — лишь одно слово: «уйду». Тут уж Калыйпа поняла, что невестка обиделась на Мамырбая, что эта упрямая женщина готова пойти на скандал, на разрыв, — и решилась действовать. Не стала больше расспрашивать Маржангуль, вышла, чтобы позвать мужа. Когда Субанчи спустился к юрте, они немного поговорили, потом аксакал оседлал коня и уехал за хребет.
Маржангуль увязала всё, все свои вещи — вплоть до посуды, до ниток, и лишь тогда заговорила:
— Будьте довольны мною, мама. Что было, пусть останется душе. Суждено нам было вместе отведать соли. Но теперь — что мне делать, судьба разлучает нас. Нет ничего сильнее смерти… осталась я одинокой, осталась плакать и страдать. Но я еще не одряхлела от старости, я хочу еще пожить, разрешите мне. Если найдется кто-нибудь подходящий, то выйду замуж, если не найдется, то буду жить, как даст аллах. Не стоит надеяться на невозможное, это как ждать дождя в пустыне. Я нисколько не в обиде на вас, я знаю, что вы относитесь ко мне добросердечно. Однако сын ваш непоколебим в своем решении. Не хочу сталкивать вас с ним, не хочу позора, не хочу скандала. То, что я в состоянии унести, возьму сейчас, чего не подниму — завтра приведу кого-нибудь, и заберем. Пока не устроюсь, пусть кобылица побудет у вас, доите ее. Стоит мне подняться на хребет и крикнуть, как тотчас приедут мои родственники. Я не говорила вам раньше, не желая расстраивать, но мои родственники все уши прожужжали мне, повторяя, что заберут меня. Вот эти чемоданы возьму с собой, остальное пусть пока будет здесь.
Маржангуль протянула свекрови руку, чтобы попрощаться и уйти.
Калыйпа не приняла ее руки, взглянула на невестку — и заплакала, утирая глаза кончиком платка.
Калыйпа и вправду любила свою невестку. За всю совместную жизнь никогда не обрывала ее грубым словом, всегда соглашалась с нею, поддерживала ее, баловала. Забывая себя, отдавала ей лучшие одежды, отдавала лакомый кусок. Нечего и говорить, что Маржангуль в свою очередь привязалась к ней, относилась как к родной матери, уважала ее, не смела перечить ей, перейти дорогу. Привыкла не скрывать от свекрови даже то, что скрывала от мужа. Эта пожилая женщина была для нее единомышленницей, хранительницей тайн, всегда сочувствующей и готовой помочь. Теперь Маржангуль было нехорошо. Хоть она и собрала вещи, знала, чувствовала, что уйти ей будет очень тяжело. Душа ее стремилась остаться здесь, но честь гнала отсюда.
— Маржаш! — сквозь слезы говорила Калыйпа. — Как ты уйдешь, бросив меня? Чем я обидела тебя, словами или поступком? Милое мое дитя, скажи откровенно. Я надеялась, что, если будем живы, век останемся под одной крышей, если умрем, положат в одну могилу… Что будет со мной без тебя, о аллах? Значит, не суждено мне получить горсть земли от тебя, несчастная моя голова! О зрачок мой, сын мой Калматай! Сегодня ты умер, мой верблюжонок! Твоя жена хочет оставить нас! Крылья мои обломились, возьми меня с собой!
Доносившиеся из дома горестные причитания матери больно сжали сердце Мамырбая… Может быть, что-нибудь с Маржангуль — ведь она ушла от него сама не своя? Хотел было спуститься домой, но остановился. Сообразил, что если бы и вправду случилось какое несчастье, то кто-нибудь вышел бы из юрты, покричали бы, позвали. Меж тем причитания понемногу стихли. В то время, когда Мамырбай в недоумении напрягал слух, гадая, что же происходит в доме, его мать и Маржангуль, обняв друг друга, тихо плакали. Самый жестокосердый человек, увидев, посочувствовал бы — так тяжело было их расставание. Обе что-то говорили сквозь слезы, и хоть не слушали друг друга, но хорошо понимали. Обе и вправду не представляли жизни друг без друга. Малыши-сиротки смотрели удивленно, не понимая причины плача. Один смеялся, другие боялись, чувствуя, что творится неладное; жались в сторонке, готовые и сами заплакать.
Маржангуль чуть было не смягчилась от слез. Наконец вырвалась из объятий свекрови, выбежала во двор. Позвала детей. Когда дети направились к выходу, Калыйпа с воплями бросилась, загородила дверь, не давая им выйти. Маржангуль звала детей к себе, Калыйпа не выпускала.
— Лучше выколи мне глаза, чем увозить детей! Лучше закопай меня заживо, убей меня! — голосила Калыйпа.
Тут Маржангуль рассердилась. Из слов Калыйпы выходило, что дети для нее важнее их матери, и Маржангуль обиделась еще больше. Значит, с ней-то могут расстаться, с детьми — нет!
— Забирай детей, — крикнула она в слезах, повернулась и пошла.
Калыйпа перепугалась. Растрепанная, бросилась вдогонку за невесткой. Обронила платок, потеряла одну калошу. Голос ее от беспрерывного плача сделался хриплым.
— Маржаш! Дитя мое!
Калыйпа давно уже жаловалась на боль в пояснице, в ногах и не могла ходить быстро, теперь же она бежала что есть силы. Догнала наконец невестку, схватила за руку. Бедное старое сердце чуть не надорвалось от бега, еле слышны его удары. Свет померк перед глазами Калыйпы, она упала, потеряла сознание. Маржангуль бросилась, приподняла ее голову, села рядом. Когда Калыйпа пришла в себя, сказала ей:
— Не преграждайте мне дорогу, мама. Раз я должна уйти, правильно будет уйти. Рано ли, поздно ли… все равно не суждено мне, видать, оставаться с вами в одной семье.
— Потерпи до вечера, милая, только до вечера. Я послала отца за человеком. Поверь мне… — умоляла Калыйпа еле слышно.
Маржангуль осталась.
14
В сумерки, когда Мамырбай пригнал с пастбища овец, в юрте уже сидел мулла Картан. У парня от волнения чуть не выскочило сердце. Началось… А в казане варилось мясо, шел спокойный разговор о незначительных вещах, — видно, гость сидел уже давно.
Маржангуль быстро взглянула на входящего в дом Мамырбая, как бы спрашивая: «Ну, за кем победа? Что ты теперь будешь делать?» Однако руки ее дрожали. Остальные все радостно засуетились, приветливо приглашая Мамырбая сесть на почетное место, рядом с гостем. Мулла Картан повел разговор издалека. Сказал хорошие слова о Мамырбае, отметил разнообразные его достоинства, похвалил его силу — даже сравнил его с каким-то борцом, о котором никто из присутствующих не слышал, — мол, и у того были такие широкие плечи — на каждом могло уместиться по человеку. Затем перешел к теме семьи — заговорил о том, кто когда умер, за кого вышла оставшаяся после мужа вдова. Назвав по имени до десятка людей, объявил, что все они живут счастливо. Упомянул и о значении возраста, сказал, что десять лет разницы между мужем и женой ничего не значат; пройдет небольшое время — и совсем незаметно станет, кто из них старше, кто младше. Почтенный Субанчи при каждом повороте темы задавал гостю вопросы, прося объяснить, как надлежит поступать в том или ином случае согласно шариату.
— Обо всем, что касается семьи и родства, в шариате сказано много, — отвечал мулла Картан. Он поглядел на Мамырбая, уставился на Маржангуль, как бы признавая, что если бы не излишняя молодость юноши, так и вправду они могли бы стать неплохой парой, затем почему-то вздохнул. — Если у них есть желание, то шариат не может возражать против брака. Всемилостивый аллах сказал, оказывается: «О народ! Смерть одного возмещается рождением другого». Если один родится, то другой умирает. Оставшихся после смерти одного человека я пристраиваю к другому. Шариат дозволяет, если после смерти младшего брата старший брат женится на его жене. А если младший брат женится на вдове старшего брата, то всемогущий аллах сказал, что такому в загробном мире простятся все его грехи. Он сказал, что деверь, разделивший горе женщины, на голову которой пало несчастье, и сгладивший ее горе, взяв ее в жены, сделается истинно правоверным. Шариат не дозволяет женитьбу на родной сестре, а женитьба на других женщинах дозволена. Так сказано в шариате.
Что бы ни возвещал мулла, Субанчи и Калыйпа слушали с почтением и согласно кивали. Мулла меж тем держался с таким видом, будто он несколько дней находился рядом с аллахом и наслушался его наставлений. Язык у него был неплохо подвешен, и в соответствии с обстоятельствами он на ходу умел придумать изречения, якобы содержащиеся в Коране, нисколько при этом не краснея. Время от времени умолкал, перебирая четки, — задумывался, что бы еще сказать, но когда говорил, то говорил гладко, без запинки. Мамырбай нисколько не сомневался в том, для чего пригласили муллу, с какой целью ведет он этот разговор, и думал сейчас, как же ему поступить, чтобы не оскорбить родителей. Маржангуль, в красном платье, в белом шелковом платке, еще больше похорошевшая, улыбалась.
Мясо съели, вымыли руки; затем подали кумыс. После того как выпили по пиалушке, Субанчи подал знак мулле, и тот приступил к делу.
— Хоть прекрасноликая Маржангуль и родила четверых, она благоухает, точно распустившийся цветок. Правильно делаете, что не отпускаете ее от себя, от своей семьи. Иначе кто знает, перед чьей еще плохой дочерью придется вам унижаться… Если умер Калматай, то у вас остался не менее достойный Мамырбай — это ваше счастье. Милую мою Маржангуль я не сравню ни с одной из невесток. Нам что, нам от них нужны только теплые слова. Мне нравится, что она никогда не пересекает мне пути, при встрече всегда сдержанно, уважительно кланяется; повторяю про нее людям: «Она, оказывается, почтительная». Есть такие, милый, — мулла оборотился к Мамырбаю, — которые, задрав носы, точно косули, бегущие вверх по склону, готовы тебя сбить, встретившись на дороге. Почтительность еще никому не приносила вреда… — Мулла попросил налить в чайную пиалу воды, поставил ее перед собой и продолжал говорить: — Неужели вы расшвыряете столько богатства — скот, четверых детей? Богатство скапливается по копейке, а разбрасывается тысячами… ведь деньги на дороге не валяются. Дитя мое, Мамырбай, если ты способен рассудить здраво, говорю тебе: будет правильным внять словам матери и отца твоих, не разорять свитое гнездо, не портить обычая, оставшегося от дедов… женись на своей невестке Маржангуль — она женщина, достойная своего имени[50], достойная всяческих похвал. Если станете жить дружно, счастье само потечет в ваши руки.
Сказав главное, мулла Картан принялся тихонько читать молитву.
Почтенный Субанчи задумался о чем-то, перестал следить за речью гостя, и лишь настойчивые знаки Калыйпы вернули его к происходящему.
— Истинные слова! — хоть и с некоторым запозданием, выразил он поддержку произнесенному муллой.
— Согласна? Тогда скажи вслух, что согласна, пригуби и передай туда, — говорил меж тем мулла, протягивая молодке пиалу с водой. Маржангуль, делая вид, что стесняется, приняла пиалу, опустила глаза и чуть погодя проговорила тихо: «Согласна»; сделала глоток и протянула пиалу Мамырбаю. Мулла, обеспокоенный бледностью и немотой Мамырбая, нарочно предложил брачную пиалу сначала Маржангуль. Как бы там ни повернулось, а половина дела уже сделана, — значит, хозяева должны заплатить условленное.
Мамырбай сердился на родителей, на Маржангуль, то бледнел, то краснел, слезы душили его, от напряжения сжимались кулаки. Он не посмотрел на протянутую пиалу, отодвинулся к стенке юрты и проговорил глухо:
— Перестаньте!
Все, кроме Маржангуль, с трех сторон облепили Мамырбая, начали его уговаривать. Видя его непоколебимое упорство, начали пугать. Отец в запальчивости хлопал ладонями по полу. Мулла, сидевший рядом, несколько раз успокаивал, сдерживал почтенного Субанчи.
На дворе уже стемнело. В ночной тишине из одинокой юрты на джайлоо слышался необычный шум — овцы в загоне настороженно подняли головы.
Мамырбай воспитан был в уважении к матери, к отцу, к старшим и поэтому не смел им грубить. Он подавил гнев, бушевавший в его душе, сдерживался, повторял про себя поговорку — «если разгневалась твоя правая рука, то уйми ее левой». Он хотел сказать родителям о своем отказе спокойно, объяснить вразумительно. Ведь если человек кричит, грубит, ругается, значит, он бессилен, а Мамырбай не желал показать себя перед старшими бессильным. Он даже иногда улыбался им в ответ — те же воспринимали его улыбки как насмешки и ярились еще больше. Говорили с раздражением, повышенными голосами, ссора разгоралась все сильнее, и конца ей не было видно.
— Остановитесь! — не выдержал наконец Мамырбай. — Не говорите при мне такие страшные слова. Почему не даете спокойно лежать в могиле бедному Калматаю?..
Отец некоторое время смотрел на него не мигая, желая напугать пристальным взглядом, как бы спрашивая: «Ты видишь, в каком я состоянии? Знаешь ли, что будет со мной, если не послушаешься меня?» Но Мамырбай не обращал внимания на угрозы. Увидев, что страшные взгляды не помогают, отец прямо распорядился:
— Пей, говорю, Мамырбай, иначе…
— Не буду пить!
— Не смей возражать! Пей!
— Не стану! Не тратьте попусту слова.
— Не будешь пить? Тогда убирайся с моих глаз, невежа! Я отрекаюсь от такого сына, как ты! Считай, что я похоронил тебя!
Субанчи поднял руки ладонями от себя и начал бормотать проклятия.
Мамырбай опять сдержал себя, не отвечал. Понимал — дело не в отце. Если бы не мать, то никогда не дошло бы до проклятий. Это почтенная Калыйпа была упряма до невозможности — хоть убей ее, никогда не отступала от сказанного, независимо от того, права была или нет. Это она настраивала отца; если он успокаивался, снова подзадоривала его — и вот довела до белого каления. Если бы все зависело от отца, он не только не проклинал бы ослушника, а успокоился бы уже тогда, когда сын в первый раз сказал: «Перестаньте!» Все слова, которые отец произносил сейчас, были слова Калыйпы, все поступки — не его, а Калыйпы, и Мамырбай понимал это. Обычное дело было: когда жена начинала подзуживать его, Субанчи вначале крепился, но потом ему становилось невмоготу, он не выдерживал и приходил в бешенство. Назавтра, вспоминая свое поведение, он обычно целый день переживал. И теперь он ругал сына, но на душе у него щемило — чувствовал, что действует помимо воли, а потом будет жалеть.
Мамырбай знал, что если в такое время оставаться у родителей на глазах, то скандал никогда не утихнет. Поэтому он тихонько поднялся, осторожно открыл дверь и вышел во двор. Калыйпа, поняв, что Мамырбай хочет уйти, потребовала, чтобы он продолжал сидеть на месте, отец же сделал вид, что не смотрит и не слышит слов жены «держи, не отпускай». Когда Мамырбай не послушался, Калыйпа рассвирепела. Мулла закрыл Коран, сунул его за пазуху. Маржангуль вытирала слезы. Четверо детей испуганно жались в углу около постели.
Калыйпа широко распахнула дверь юрты и закричала в темноту:
— Чтобы ноги твоей больше не было в этом доме! Не показывайся мне на глаза! Ты мне больше не сын, недостойный!
Мамырбай уже шагал прочь. Слова матери настигли его, и он подумал, что она завтра же пожалеет о собственном упрямстве, и надо будет утешить ее.
Мулла молча сидел на своем почетном месте, глаза его были закрыты. Всем своим видом он, похоже, старался показать, что не слышал ни одного из бранных слов, произнесенных хозяевами, не слышал скандала. У него свои расчеты: ему безразлично было, станет Маржангуль женой Мамырбая или нет. Лучше бы, конечно, да — тогда он получил бы кое-что за труды, хозяева бы не поскупились. Теперь же он потерял надежду получить ожидаемую награду, так как дело не сладилось. «А впрочем, что я потерял? Наелся до отвала — и то польза, иначе сидел бы дома, подремывал, делая вид, что читаю Коран, — а тут разогнал кровь, проехавшись верхом, стал свидетелем семейного скандала, будет о чем поговорить. А что до дела их — по мне, пусть они все хоть сгорят», — думал престарелый мулла Картан.
Калыйпа по меньшей мере два раза в день напоминала своему старику: «Такой невестки нам не найти, даже если обойдем весь Киргизстан. А ее скот, имущество? А дети? Нет, нельзя ее отпускать!» Прожужжала старику все уши, не слушала, когда он несколько раз останавливал ее, говоря, что беспокоится, как бы не кончилось это плохо, ведь сейчас иное время, не всегда получается по-нашему, по-старому… теперешние дети не интересуются приданым, женятся только по любви. Нет, не прислушалась Калыйпа к словам своего старика. Отрезала: «Пока я жива, все будет, как я сказала. Не успокоюсь, пока не женю сына на Маржангуль». А теперь сын ее ушел из дома. Это что же, так вот навсегда разлучиться с Мамырбаем? Она уже хотела, несмотря на то что наступила ночь, с воплями бежать за ним, догнать, вернуть, но постеснялась, так как сама была виновата в случившемся, и теперь устыдилась муллы. Правда, она еще раз высунула голову из двери и позвала Мамырбая, но ее остановил мулла, объявив, что дети, ослушавшиеся мать или отца, на том свете попадут в ад и сгорят. Услышав такое, Калыйпа застыла. Потом тихо вернулась на место. И все-таки она хотела, только и думала о том, чтобы кто-нибудь вышел, позвал Мамырбая, привел. Субанчи ясно угадывал ее мысли. Однако продолжал сидеть, не поднимал головы. Своим поведением укорял жену, обвинял ее и признавал уход Мамырбая справедливым наказанием для упрямицы. Подумав, он вот еще что сделал: снял портрет Калматая, висевший на стене, и положил в сундук. Ему казалось, что сын, точно живой, смотрит, видит происходящее — и стыдится, пугается, обвиняет. Субанчи вспомнил, каким был его Калматай совсем молодым, как он два года страдал по Маржангуль, как через родственников уговорил ее и все-таки женился, как до самой смерти ни разу не прекословил ей, ласково называл ее «Маржаш», глядел на нее с нежностью… Тогда Маржангуль, казалось, любила, уважала Калматая… Это после смерти его открылась ее душа: не прошло и года, а она уже подыскивает себе нового мужа, влюбляется в Мамырбая, не сводит с него глаз.
Воспоминания Субанчи прервал мулла: поднялся, собираясь в обратный путь. Он был свидетелем многих подобных скандалов — и теперь, видя, что гроза усиливается, понимал, что самое время удалиться — пусть разбираются без него. Одевшись, он громко возгласил свое обычное, что возглашал в каждом доме: «Никто не минует предначертанного аллахом».
Субанчи желал теперь одного, чтобы мулла поскорее ушел. «Как хорошо было бы, если б этот ворон не увидел скандала в нашем доме… теперь завтра же разнесет по аилу. Зачем я послушался своей старухи и пригласил его, проклятая моя голова!» — упрекал себя отец Мамырбая. Все, что накопилось на душе, он хотел высказать среди своих, чтобы не слышали чужие уши.
Маржангуль, видя сборы муллы, пала духом. Растерянно думала, что пусть бы он еще посидел — вдруг вернется Мамырбай?.. Если ему хорошенько все объяснить, может быть, он смирится и обручится с нею…
Калыйпа тоже пребывала в растерянности, не знала, что делать, и беспокоилась оттого, что мулла собирался уходить, — видела в нем какую-никакую поддержку… Пока он здесь сидит, еще не все кончено, а вот после его ухода этот дом по-настоящему развалится.
Притихшие дети, не понимая причины ссоры и крика, с удивлением разглядывали чалму на голове муллы: сбоку свешивался кончик материи, прикрывал одно ухо. Каждый раз, когда мулла говорил или кашлял, этот кончик вздрагивал. Почему гость так обвязал голову, почему он не носит тебетей, как все?
Мулла уехал. В юрте стало тихо. Казалось, в этом ущелье никогда не звучали человеческие голоса, а хозяйничали только две собаки, которые, громко лая, далеко проводили муллу.
Первым нарушил молчание Субанчи:
— Ты все устроила, — обвинил он жену.
— Думай, что говоришь! Разве плохо, если решила не выпускать из рук хорошую невестку?
— Так разве Мамырбай плохой сын? Захотели быть с ушами, а остались без носа… Ушел Мамырбай, теперь не вернется. Весь в тебя — упрямый.
— Нет, это в тебя он. Я не ушла бы так из дому. Помнишь, как ты раньше уходил, поругавшись со мной?
Калыйпа долго вспоминала ссоры двадцати- и тридцатилетней давности, вспоминала, с чего все начиналось, и выходило так, что всегда виновником был Субанчи: если бы не он, так и никаких скандалов не было бы. Субанчи по опыту знал, что старая не остановится, пока не вспомнит и не выскажет все, что хочет, никому не уступит слова, поэтому дал ей полную волю, не мешал говорить. Она же перечислила множество случаев, виноватым во всех ссорах между ними оказался Субанчи. Не вытерпев, он вспылил:
— Слушай, ты бываешь когда-нибудь виноватой? Когда-нибудь ты говоришь плохое? Случаются ли ошибки в твоих делах?
— Не случаются, нет! Никогда! Я не чета тебе — это ты с утра до вечера ругаешься со своей женой! Хоть постыдился бы, не равнялся со мной. Ведь я зовусь женщиной. На, покрой свою голову моим платком, если хочешь быть таким, как я!
Субанчи молча накинул на себя чапан и вышел.
Калыйпа знала, что обычно после скандала он уходил, садился возле дома; тогда она сначала громко ругала его, оставаясь в доме, зная, что он слышит; не получив ответа, подходила к нему поближе и опять начинала говорить; так она поступила и на этот раз. Старик немного послушал ее, затем, видимо, ему наскучило перечисление его недостатков — и он отправился дальше. Поднялся выше по склону и прилег там. Это было далековато для Калыйпы. Попробовала пойти за ним, но сообразила, что он уйдет дальше, а ей придется в темноте одной возвращаться назад, поэтому она повернула обратно, к юрте. Дома заплакали дети. Калыйпа поняла, что Маржангуль вымещает на них свою обиду на жизнь. Было жалко детей. И Маржангуль тоже было жалко. И себя со стариком, и Мамырбая… Она присела возле юрты, там, где обычно садился ее Субанчи, и думала.
«Оказывается, старая я уже… сегодня я потеряла авторитет… раньше как я скажу, так по моему слову и складывалось, а сегодня… Это значит, что я потеряла власть. Видно, Мамырбай и должен был так поступить. Ушел, заставив меня страдать. Если бы вернулся, предстал перед моими глазами… что я сделаю, если он предстанет перед моими глазами? Да разве не сидел он только что передо мной — и что я смогла? Он никогда не глядел на нас с неуважением, не ослушался нас. Разве можно обвинять его! Наоборот. Он только молчал, и это его молчание оказалось сильнее нашей болтовни, и все наши многочисленные слова были ни к чему. А еще мы спорим — мол, «весь в тебя»… Ни на одного из нас он не похож. Если бы походил на одного из нас, то начал бы ругаться, обидел бы нас, унизил — а он не сделал этого. Он похож на самого себя, на свое время. Он не такой темный, как мы, у него есть знания, а мы и не знали, о чем он думает. Вот именно. Наши мысли были — женить его. Хоть он и не желал жениться, да мы настаивали. Почему так получилось? А что мы видели, что знаем сами? Разве была любовь между Субанчи и мною? Ну да, мы сговорились и поженились, чтобы вместе вести хозяйство. Такая тогда была жизнь. Мы так и не знали, любим мы друг друга или нет. Хотя, если бы не любили, разве смогли бы прожить вместе весь долгий век? И правда, если не виделись, то скучали друг без друга. Бедняга, мой старик, он ведь такой хороший. Сколько я ругаюсь, а он терпит, а? Иной раз я его расстраиваю без всякой причины… О жизнь, ведь мы и на самом деле уже постарели. И сейчас мы нужны друг другу еще больше, чем в молодости. Пожалуйся я на головную боль — и сын не очень внимательно смотрит, у него свои заботы, и невестка не очень-то слушает, у нее свои заботы… ведь только мой старик и вертится подле меня, то одно предложит, то другое. Ведь если заболеем, только мы друг дружке и подадим воду, кто же еще. Почему я раньше не думала об этом, черт возьми. Если невестка уйдет туда, если сын уйдет сюда, если старика своего выгоню, беспрестанно грызя его, если одна останусь в доме…»
Первый раз в жизни одолевали Калыйпу такие мысли. Она почувствовала, подумала, что, сама того не замечая, часто приносила в дом ссору, приносила плохое близким. Эта мысль привела ее в отчаяние, она готова была сейчас каждого из домашних молить о прощении. Она чувствовала, что вся вина на ней, что все совершила она сама, что она виновница распада семьи.
Прежде Калыйпа не сделала бы этого, а сейчас она перешла речушку, пошла вверх по склону к своему старику. Громко звала его, желая, чтобы скорее подал голос, откликнулся. Субанчи обрадовался, что она пришла его искать, однако решил ее попугать и продолжал молча лежать в траве. Только когда старуха начала всхлипывать, испугавшись, что и старик пропал, он как будто проснулся, приподнялся — оказывается, лежал совсем близко. Наверно, никогда в жизни старик не казался Калыйпе таким хорошим, таким близким, необходимым человеком. Она подошла к нему, села рядом. В эту минуту чувствовала себя виноватой во всем, ей казалось, что она прогнала своего старика из дома, потеряла то, что собирали и складывали по крохам всю жизнь, все предала огню.
— Обиделся, что ли, бедный мой старик? Не понимаешь шутки? Хоть я и ругаюсь, а на самом деле в душе жалею тебя. Не обижайся на меня, не равняйся со мной, с глупой женщиной. Если бы тебя не было, я ни одной ночи не могла бы провести в доме, — говоря так, она подвинулась ближе к Субанчи. Ей хотелось сейчас обнять своего мужа. Смотрела — и жалость переполняла ее. Тело, бывшее когда-то упругим и крепким, теперь ослабело, превратилось в жилы, — казалось, если ухватиться посильнее, то переломится с хрустом. И все-таки ее старик виделся Калыйпе красивым. Это худое бессильное тело было для нее защитой, дыханием, поддержкой, давало ей тепло.
Субанчи вначале удивился, думая, что это случилось с его старухой — никогда раньше не смотрела с жалостью, а потом понял: «Человек рано или поздно должен образумиться, — видно, она одумалась наконец. Человека вразумляют трудности. Сегодня на ее голову выпало тяжелое испытание. Бедная моя старушка, была бы всегда такой…» Он видел беспомощность женщины, хотя она всегда командовала, и в свою очередь пожалел ее. Однако решил пока припрятать свою доброту подальше, показать характер.
— Не пойду, не вернусь, живи теперь сама в том доме. Сына прогнала туда, меня сюда. На старости лет жена становится врагом — правильно говорят. Разбрелись все из дома, кто куда, по ложбинам, по лощинам… — говорил Субанчи, и Калыйпа испугалась пуще прежнего. — А все ты, старая, тебе не угодишь ни хорошим, ни плохим. Хоть умрешь, а не уступишь другому. Ночь свидетель, если я говорю неправду, — у меня даже в мыслях не было женить Мамырбая на Маржангуль… И это выдумала ты, все несчастья от твоего упрямства. Ведь он рассудительный парень, понимает, что нельзя лечь на ложе брата. Эх, жена, не знаю, как другие, но я так не поступил бы. Только ради тебя с Мамырбаем держался сурово. Что он подумал, мой сын? Что нас обоих бог наказал, оба вместе разума лишились… Или же заметил, что я в душе на его стороне?.. Неглупая ведь, сама подумай, что бы мы делали, привязав к тридцатилетней женщине еще не окрепшего мальчика… И оказался бы он смолоду задавленным семьей, изломанным, несамостоятельным… Чем хуже других наш сын? Почему не может жениться на девушке, которую сам изберет? Пройдет десять лет — Мамырбай станет цветущим джигитом, Маржангуль же постареет. Сейчас ладно, она способна привлечь его остатками молодости, а потом чем же она его станет привлекать? Кому это нужно, чтобы он ходил за ней точно за матерью? Ты говоришь — ее скот, ее деньги, ее имущество… Но ведь Мамырбай если и женится, то на женщине, а не на деньгах ее, не на имуществе. Не хотел говорить тебе, да вынудила старуха: хоть ты и считаешь себя щедрой, на самом деле ты хуже того прежнего Карымбая. Человек, подобный тебе, в конце концов лишится всего!.. — Субанчи поднялся, отряхнулся и пошел прочь. — Как мне теперь перешагнуть порог этого дома? Возьми все! Будь хозяйкой скоту, имуществу… наслаждайся. Чтоб мне пропасть! Когда-то я был молодцом, который не сдавался в нищете… теперь же, при хорошей жизни, я не мог сделаться уважаемым человеком, хозяином в собственном доме! — Старик уходил все дальше. Он теперь знал, что, как бы он ни сделал, что бы ни сказал, старуха во всем будет с ним согласна, не посмеет перечить. Но надо было как следует проучить ее, чтобы запомнила, чтобы напугалась, чтобы знала свое место. Калыйпа со слезами умоляла его остаться, но он, хмурясь, отказывался. Объявил, что лучше пойдет нищенствовать.
Хотя внешне Субанчи держался сурово, однако в душе он жалел свою жену. Увидел, что выбежала в одном платье, и боялся теперь, как бы не замерзла, как бы не простудилась. Калыйпа, догоняя его, споткнулась и упала, он тотчас подбежал, заботливо поднял ее. Она сейчас не чувствовала боли — думала лишь о том, что из всех людей на земле ее Субанчи первый беспокоится, если она пожалуется на головную боль или на что иное… только он будет хлопотать возле нее, будет делить с ней и горе и радость. А разве раньше вел себя иначе? Подобно покойному сыну, который всегда ласково обращался к жене — «Маржаш», так и он называл ее всегда «Калыйпаш». Даже в прежнее тяжелое время, хоть и сам ходил оборванный, всегда старался приодеть ее, старался не оставить ее голодной и, даже если нечего было есть, поддерживал ее своим хорошим настроением, приветливостью и надеждами на будущее. Неспроста повторял ей: «Богатство не только в имуществе, но прежде — в человеческом характере, в отношении друг к другу». Оказывается, ее старик не так-то прост, глядит в самую суть. Терпеливо ждал, что она, когда-нибудь поймет, узнает ему цену. И вот, видно, пришел этот час, вразумила ее жизнь.
Калыйпа обрадовалась, что, когда она упала, Субанчи вернулся, поднял ее, поддержал, не пренебрег ею — хоть и в ссоре.. Она потом еще разика два просто так споткнулась, упала — ей хотелось, чтобы муж еще раз поднял ее, чтобы не уходил. А Субанчи не понимал ее хитрости, пугался.
— Не ушиблась, а? Смотри же под ноги, так и вывихнуть недолго, — говорил он, подавая жене упавший платок.
— Ах, там камень, сильно ударилась… Хорошо, если не вывихнула…
— Что говорить, бедняжка! Дай-ка посмотрю!
— Да ведь при свете надо, пошли скорей домой!
Субанчи мигом забыл о ссоре и о том, что якобы собрался уйти из дому навсегда. Легко подхватил свою жену на руки и, не замечая темноты, зашагал к юрте. И Калыйпа вспомнила своего мужа молодым и сильным… а потом подумала, какое счастье ей выпало, что прошла жизненный путь рядом с таким сильным, умным, добрым человеком, который и теперь, на старости лет, все печется о ней. Ей хотелось, чтобы ее Субанчи еще долго, бесконечно нес ее. Да разве это возможно в его годы… старый человек быстро запыхался, осторожно опустил ее, поставил на ноги.
— Смотри-ка, а — всю жизнь вот так несу тебя на руках… Неженка ты у меня, бедняжка, — сказал он и пригладил ладонью растрепавшиеся на ветру волосы своей старушки. Прекрасную поэзию, уважение, преданность почувствовала Калыйпа в этих словах и подумала, что да — это итог их отношений за многие годы, самая суть… остальное не имеет значения.
Они шли домой держась за руки, как в прежние молодые годы. И ночь казалась им светлой, и усталости не замечали они.
Дома Маржангуль лежала на полу — видно было, что плохо ей и что она обдумывает случившееся. Не смогла заполучить Мамырбая, стыдно — потянулась за невозможным… И что ей теперь делать, как быть завтра?.. Только теперь по-настоящему поняла Маржангуль, сколько она потеряла со смертью мужа.
Калыйпа села рядом и стала говорить. Начала издалека, вспомнила многое — начиная с первых дней жизни Маржангуль в их доме, не забывая ни одного хорошего, теплого дня. Сказала и о том, что любит Маржангуль и ценит ее и признательна, что та ни разу не нагрубила ей.
Маржангуль заметила с первых же слов Калыйпы, что тон ее разговора переменился, что это — прощание, что после этого они уже не встретятся, что эти ее слова — последние. Она слушала не поднимая головы и не двигаясь. Чем дальше, тем выдержаннее, рассудительнее были слова Калыйпы — и тем больше вносили они смятения в душу молодой женщины. Наконец Калыйпа сказала:
— Мы довольны тобой, Маржаш, даем тебе разрешение… Наши старания, наша надежда не отпустить тебя не оправдались, сыну не понравились наши мысли. Сейчас такое время: то, что мы обдумывали триста лет, теперешние дети обдумывают за десять, то, чего мы не видели и за сто лет, они видят в один год. Устарели мы, видно. Сколько ни перелицовывай старую одежду, новой ее не сделать. Цена — у бриллианта, ум — у молодости… Желаешь уйти — пожалуйста, желаешь остаться — пожалуйста. Ты молодая, если мы преградим тебе дорогу, разве не потеряем право называться людьми? Прежние обычаи канули вместе с прошлой жизнью… Тогда младший брат мог жениться на жене умершего брата, мало того, даже его отец мог жениться на вдове, хоть и была у него одна жена. Теперь молодые не хотят жить по прежним обычаям. Тогда это определялось скотом, богатством, нынче же решают сердцем, душой. Если прежде покоряли палкой, то сегодня надо жить советуясь. Я и сама сегодня почувствовала себя обновленной. Всю жизнь то ласкалась к мужу, то, потеряв рассудок, налетала на него с грубостью, а оказывается, эта была глупость. Сегодня мой сын, мой Мамырбай, вышедший из моей утробы, научил меня, как подобает обращаться с людьми. Он не сердился, не бранился, не противоречил мне. Говорил спокойно и сдержанно, вызывая уважение к себе, и в этом показал свое превосходство над нами. Мы, двое стариков, поссорились, когда он ушел, обвиняя друг друга: «Весь в тебя!», «Нет, весь в тебя». На самом же деле он не похож ни на одного из нас, и хорошо, что не похож. Если бы он был похож на нас, вот тогда бы оставался подходящим для старой жизни. И я подумала, что хоть наши дела, может, и хороши, да наши характеры плохи. Не буду говорить обо всех, лучше скажу о себе… С моим характером не уживешься и со святым. Такого человека, как я, не выдержит и железный человек. А я не способна была говорить об этом своем недостатке, знала, но оправдывала себя. Это перешло в привычку. Нет хуже болезни в человеке, чем не признавать за собой явные недостатки. Было как-то: человек сидел в чужом доме и, когда принесли на блюде готовый обед, не стал его есть. Когда же хозяин дома сказал, что посуда чистая, человек ответил: «Посуда-то чистая, а что ты будешь делать со своим характером, со своим поведением, их ведь нельзя отмыть». Вот погляди на меня: без зазрения совести пригласила муллу. Ведь я объявила, что Мамырбай верующий, что склонит голову перед муллой, не посмеет ему прекословить. Да что Мамырбай — вот эти четверо малышей уже насмешничают надо мной… иной раз, когда я становлюсь читать молитву, смеются, озорничают. Если ты действительно надумала уходить, то оставь детей, одной тебе трудно будет справиться. Будут ли они там, будут ли здесь, все равно в конце концов дети найдут мать. Не думай, что я оставляю их с какой-то задней мыслью, опасаясь пересудов. Я не из тех, которые прислушиваются к словам других, я женщина, которая живет по-своему, своим скудным умом, полученным от аллаха, — правду тебе говорю. И не о собственном будущем забочусь. Сколько знаю случаев, когда люди воспитывают чужого ребенка, а тот вырастает и уже не смотрит на них. Одно дело, если бы не было ни матери, ни отца, а если есть хотя бы один из них, то напрасны твои труды в воспитании приемыша. Взять к примеру сына Талканчи… Как он холил его, не давая ему ступить на сырое, не кладя его на жесткую постель, не давая ему перестоявшую еду, не понимая, что тот не родной… все норовил погладить его по волосам. Тот весь так и блестел… А что вышло? Покинул дом Талканчи средь бела дня. Ушел к матери, которая вышла за старика. Разве твои не поступят со мной так же? Все равно — готова растить их с любовью. Что мне делать, оказывается, я несчастливая, рассыпалась моя семья. Проклятый день! Задумаешь одно — на деле получается другое… — сказав так, Калыйпа отодвинулась к стене юрты и умолкла.
Субанчи согласно кивал головой.
Маржангуль не отвечала, и старики были напуганы ее молчанием. После того как она постелила детям и сама, не раздеваясь, прилегла рядом с ними, Калыйпа стала просить Субанчи, чтобы он отправился искать Мамырбая.
Субанчи вышел во двор, несколько раз громко позвал сына. Но кругом все было тихо. Тогда он сел верхом на лошадь и объехал всю округу.
Вернулся домой на рассвете, один, очень уставший.
Жена всю ночь просидела на прежнем месте у стены юрты, так и не сомкнув глаз.
— Не нашел?
— Разве отыщешь теперь его след? При наших-то характерах разве хватит у него терпения жить в родительском доме?
— Бедный мой… откуда ж мне было знать, что так повернется? Горестный день! Поешь давай и опять отправляйся искать. Если он совсем уйдет от нас, останемся точно слепые, самыми несчастными. Проклятый день! На, выпей кумыса и вновь садись на коня.
— Если меня сейчас потянуть за ресницы, я тут же свалюсь от усталости. Немного вздремну, а после того как выгоню на пастбище овец…
— Видел ли ты, чтобы кто-нибудь умер, если не поспит один раз? Проклятый день, уж поехал бы! Отыскал бы его, пока он не ушел далеко. Кроме сына, кто еще есть у нас? Горестный день! Остался у меня единственный глаз, неужели и тот ослепнет от попавшей в него косточки! Ты же способен дремать, не слезая с коня, вот и сделай так.
По этой речи Калыйпы можно было понять, что происшедшее надломило ее: обычно в подобных случаях она не просила, а грозно повелевала. Если же не выполнялось быстро и в точности что-либо задуманное ею, то звенела посуда, все съестное выбрасывалось из дома во двор собакам. Субанчи, заметивший перемену в поведении жены, по-своему был доволен. Хоть он в душе и винил себя наравне с Калыйпой — оба своим неразумным упрямством вынудили Мамырбая покинуть дом, — однако и хорошее видел в случившемся: надеялся, что повлияет оно на характер жены.
Сейчас Субанчи не ответил на просьбы Калыйпы ни согласием, ни отказом — погнал овец.
Маржангуль, хмурая, точно небо перед надвигающейся грозой, взяла за руку старшего сына и ушла за гору. До самого полудня пропадала она, а потом вернулась вместе с мужчиной — своим дальним родственником; тот вел быка.
Не говоря ни слова, она навьючила на быка связанные заранее узлы и постель, ничего не оставила; пригнала овцу с тремя ягнятами, связала их друг с другом; затем пошла за кобылицей — погрузила на нее оставшуюся одежду.
Однако когда Маржангуль начала подсаживать детей на быка, приведенного родственником, вспыхнул скандал.
— Оставь детей! — потребовала Калыйпа.
Невестка, прежде беспрекословно выполнявшая все распоряжения Калыйпы, сейчас, казалось, не слышала ее слов. Двух средних пристроила на быке — одного спереди, другого сзади, самого младшего и старшего готовилась посадить на лошадь.
Тут Калыйпа, не сдержавшись, бросилась как ястреб. Схватила старшего за руку, оттолкнула от лошади, тот отлетел и упал. Маржангуль сердито попросила ее вести себя вежливо. Тут же Калыйпа показала свой характер. Подхватила на руки самого маленького и отнесла его в юрту. Закрыла дверь и бросилась к старшему. Мальчик в испуге спрятался от бабушки за лошадь и, как она ни звала его, не шел к ней, отбегал все дальше. Тогда Калыйпа в сердцах схватила лошадь за узду — мол, не пущу.
— Не задерживайте нас, байбиче, — сказала бывшая невестка.
Калыйпа побледнела. Эти холодные, непривычные в устах Маржангуль слова: «вы» и «байбиче» — сильно задели, ударили ее в самое сердце. Глаза ее затуманились, она пошатнулась, точно в ней не осталось ни капли силы: подуй ветер, и она упадет. Как же это! Милая Маржангуль, ее семья, ее родная, точно дочь называвшая ее «мама», не смевшая поднять на нее глаза, вдруг сделалась чужой, посторонней. Да, вот только теперь умер для Калыйпы сын ее, Калматай…
— Дитя мое, Маржангуль! — с мольбой в голосе говорила Калыйпа. — Если я и не родила, то я выхаживала этих детей… Не оставляй же нас одних! Если желаешь забрать их — бог с тобой, забирай. Только подожди с этим немного. Не делай со зла, остынь. Разве мало того, что умер Калматай… не оставляй нас здесь одних! Ты всегда была доброй, прояви и сейчас свою доброту, дитя мое. Я уже выплакала все глаза… Глядя на этих сироток, я думала бы, что вижу Калматая.
Маржангуль слушала ее нахмурившись. Если бы плакали здесь перед ней хоть десять таких старух, все равно ее сердце не дрогнуло бы.
— Иди сюда! Зачем прячешься? — позвала она старшего. — Съест тебя, что ли, эта старуха? Не видишь разве — это не ведьма, а Калыйпа!
Плечи старой Калыйпы затряслись, она задыхалась, не могла выговорить и слова. О, если бы вернулись прежние времена!.. О где ты, Калматай!..
Старший мальчик замер в нерешительности. И подойти страшно — боялся бабушки, и не подойти страшно — мать еще больше рассердится.
Человек, приехавший вместе с Маржангуль, молчал, предоставив женщинам самим разбираться, кто прав, кто виноват. Всем своим печальным видом он как бы говорил: «Что уж теперь поделаешь, смерть виновата во всем».
Субанчи находился сейчас на соседнем склоне, видел оттуда совершающееся дома и решил держаться подальше. Маржангуль он любил, за всю жизнь не сказал ей грубого слова, наоборот, всегда обращался с ней ласково, приветливо; теперь же он боялся, как бы при расставании в запальчивости не обидеть невестку. Жена заметила его и позвала, но Субанчи издалека ответил, чтобы она сама проводила Маржангуль и дала бы ей все, что та пожелает взять. Сказав так, он поехал трусцой по ущелью — возможно, отправился искать Мамырбая.
Калыйпа, поняв, что осталась без поддержки, словно очнулась — казалось, у нее прибавилось сил и решительности. Бросилась к Маржангуль, которая, сидя верхом на лошади, поднимала к себе за руки младшего сына. Рванула малыша к себе — тот завизжал от боли. Схватив ребенка в охапку, Калыйпа с громкими воплями бросилась к юрте. Вбежала в дом, закрыла дверь и села тут же. Маржангуль в бешенстве спрыгнула с лошади, подбежала к двери и с силой пнула ее. Дверь раскололась, одна из досок провалилась внутрь — прямо на голову бедной Калыйпы. Кровь полилась по ее лицу. Что за крик, что за вопль тут поднялся! «Зарезала, зарезала!» — кричала Калыйпа и кидалась из стороны в сторону от одной стенки юрты к другой. Маржангуль вначале терпеливо ждала, пока старуха не перестанет кричать, но та все не унималась, не успокаивалась; тогда не сдержалась и невестка. Ухватила почтенную Калыйпу за руки и оттолкнула ее на постель. Сложенные горкой одеяла обрушились, завалили хозяйку. Четверо детей визжали с четырех разных сторон, и постороннему человеку, если бы кто слушал издалека, могло показаться, что здесь, в юрте, убивают друг друга. Старуха, которая во всю свою жизнь никогда и никому не уступала первенства в драке, сбросила с себя одеяла, вскочила и с лицом, залитым кровью, бросилась на Маржангуль, в одну секунду расцарапала ей щеки.
— Бесстыдная, бесстыдная! Не захотела расцарапать свое лицо, когда умер твой муж, так вот я расцарапаю тебя сама! Опозорю тебя перед народом, мерзавка! Где это видано, чтобы били свекровь, не приведи аллах еще увидеть твое лицо! О, Субанчи, где ты, меня зарезали! — кричала Калыйпа.
Субанчи был недалеко, за поворотом ущелья, и все слышал. Когда до него донеслись вопли жены, он лишь пробормотал себе под нос: «Ничего… это даже к лучшему. Так она излечится от тоски по невестке». Он понимал, что две женщины дерутся сейчас в доме, яростно вцепились друг в друга, и, естественно, не желал быть свидетелем этой схватки.
Когда две женщины тянули и рвали к себе самого младшего сына, они вывихнули ему руку. Теперь он плакал не переставая. Маржангуль, поняв, что произошло, рассвирепела еще больше. Показывая на приехавшего с ней человека как на свидетеля, кричала, что отдаст свекровь под суд, добьется, чтобы ее засудили. И с этим, кипя гневом, оскорбленная, униженная и злая, громко бранясь и угрожая, она пустилась в путь. У младшего мальчика болела рука, и плач его был слышен, наверное, даже аллаху. Маржангуль уже скрылась из виду, а плач ребенка все продолжал доноситься.
Субанчи видел, как ехала мимо плачущая Маржангуль, увозя свое добро и детей. Видел и не спустился к ним. Слезы скатывались по его щекам к бороде и терялись в ней. Все вокруг, все привычные склоны и ущелья казались ему теперь чужими. Дом осиротел, Калыйпы не было слышно. Возвращаться туда не хотелось. Лучше уж остаться в горах… лучше он поедет искать Мамырбая.
Старая Калыйпа, когда невестка, проклиная ее, скрылась за поворотом, вернулась в юрту, упала ничком и долго лежала так.
Наконец поднялась, огляделась.
Боже, что делается в доме!
Сердце ее похолодело, точно она лежала в могиле.
Мертвая тишина, и никого… На полу валяется рассыпанная, разбитая посуда. Разбросаны одеяла.
Подняв голову, Калыйпа заметила, что на привычном месте на стене нет портрета Калматая. Ну да, вчера, когда собирались соединить браком Мамырбая и Маржангуль, Субанчи снял его и спрятал в сундук. Теперь Калыйпа отыскала портрет. Калматай, улыбаясь, приветливо смотрел с фотографии, как будто ничего не случилось, как будто все оставалось на своем месте. «Ушла! Ушла Маржангуль! И я лишилась всего! О проклятая моя душа! Голова моя, рожденная для несчастий! О, Калматай, почему ты умер!» — причитала Калыйпа, глядя на портрет сына, и слезы, точно бусинки, сыпались из ее глаз. Ей показалось, будто Калматай отвечает на ее плач печальной улыбкой. От этого сделалось страшно, и Калыйпа поспешила снова убрать портрет в сундук.
В углу за постелью она увидела старую куклу младшего из сироток — без рук, без одной ноги, половина носа откололась. «Вот и я сейчас такая осталась — без рук, без ног…» — подумала Калыйпа. С острым чувством потери она оглядела юрту. Казалось, все вещи ругали ее, проклинали, кричали на нее, не любили… Не выдержав, она выбежала во двор. И тут в ушах у нее зазвучал голос плачущего сиротки. Калыйпа уже не владела собой. Бросилась бежать вслед за уехавшими.
Простоволосая, без калош, в одном платье, она бежала и бежала, спотыкаясь, путаясь в траве, и ей казалось, что она не двигается с места.
Обе собаки, опустив головы к земле, следовали за ней — похоже было, что они понимали случившееся и разделяют печаль хозяйки.
Когда Калыйпа падала, они ждали возле… казалось, вот-вот подхватят ее и отнесут домой, — так трогателен и заботлив был их вид.
Да, все покинули, бросили Калыйпу — только собаки оставались рядом.
Она добежала до берега реки и остановилась. Река преградила ей путь, бурля водоворотами, вздымая белую пену волн. Она как бы говорила Калыйпе — если пойдешь дальше, все равно ничего не сможешь сделать, возвращайся назад… да если и захочешь идти, я тебя не пущу.
Глядя на бег воды, Калыйпа вспомнила свою девичью пору. Вот так, как убегают сейчас волны, так ушли ее годы… Она была дочерью чабана. Как-то она пасла овец, и вдруг точно из-под земли прямо перед ней появился джигит, бедно одетый, но приятный внешностью и разговором. Это был Субанчи. Он просил, умолял ее… Умолял выслушать, хотел рассказать о своей любви к ней, как он истосковался, не смея подойти к ней. Она тогда испугалась, убежала… А он продолжал появляться перед ней: чуть она отойдет от дома — он тут как тут, прямо не давал ей прохода. Хоть у него и не было хорошей одежды, да глаза были ласковые, душа добрая. Он понравился девушке. Однажды она вышла из дома за водой, да так и не вернулась, ушла с ним. С тех пор много воды утекло. Да, много воды… И не текла она, по правде говоря, а бурлила, как горный поток, меняющий русло, перехлестывающий через встреченное препятствие. И с потоком этим уходило время, утекала жизнь. Не только каждый прошедший год, но даже каждый пролетевший день оставлял следы на лице. Те ласковые глаза, молодые глаза Субанчи по-стариковски выцвели. Лишь она, Калыйпа, точно как эта река, все бьется, волнуется, не может успокоиться — какой была строптивой, такой и осталась. Если мы назовем эту широкую реку жизнью, то вот эта самая река-жизнь только теперь открыла глаза Калыйпы. Только теперь почувствовала Калыйпа, что сделалась старой. То есть признала себя постаревшей. Она вдруг обессилела, опустилась на землю, хотела встать, но у нее не разгибалась поясница, а когда разогнулась, то ноги не шли…
И тут вдруг она увидела рядом двух своих собак. Эти преданные, ждущие ее животные напомнили ей простую истину: даже если и постарела — все равно надо не забывать о своем человеческом достоинстве, не раскисать, не сдаваться. Собаки ласково повиливали хвостами, ждали одобрения, видели в ней близкого, видели хозяина.
Верите ли, собачья преданность заставила Калыйпу взять себя в руки. Она огляделась — увидела, что все вокруг, весь мир по-прежнему сверкает, улыбается, переливается под солнцем. Даже и тень, которую отбрасывали сейчас деревья и скалы, и та была прекрасна, и она говорила о жизни.
Калыйпа тихонько двинулась по направлению к дому. Собаки шли впереди. Казалось, они отыскали и ведут домой заблудившуюся, потерявшую дорогу старую женщину. Когда в доме не оставалось ни одного человека, собаки убежали испуганные; теперь же они радовались возвращению хозяйки, присутствию высшего, сильного существа — рыскали по сторонам, весело полаивали, будто увидев что-то и расчищая путь.
Калыйпа, не заходя домой, отправилась к овцам. Однако это привычное занятие не остановило потока ее новых мыслей.
«Всю жизнь я коплю добро, — говорила она себе, глядя на большую белую овцу, что паслась, выбирая и ощипывая лишь верхушки травы, — и то, что я коплю, с другого бока гниет. То там, то сям собираю шерсть, делаю войлок, а он лежит, и его съедает моль. Старательно вырезаю узоры, изготовляю ширдак — и он у меня пропадает. Для чего я собираю все это? Не захотела слушать слова Мамырбая, а ведь он сказал мне однажды, что человек тогда имеет достоинство человека, если живет одной жизнью с народом, если заботится о благе народа, об общем благе. Ведь и зверь не может заботиться о своем сегодняшнем дне, но разве это человеческое? Нет, правильно живет Буюркан. Я, оказывается, недооценивала ее, не понимала ее силу, человечность. Она все отдает людям — и сколько получает от них! Конечно, отдает все — как по-другому скажешь о том, что бросила в воду все свое добро, все постели, шелковые одеяла! Какая еще женщина во всей округе способна на такое геройство? Да, это геройство! Для народного дела не пожалела ничего. Вот это, оказывается, и значит — быть вместе с народом. И Субанчи такой, а я сдерживала, одергивала, обуздывала его… и этим отдаляла его от людей. И если бы только это… При удобном случае я воровала, припрятывала колхозную шерсть. Копила незаметно для мужа. Я придумала разные способы обмана. Я услышала от кого-то, что если в ночь перед сдачей оставить шерсть на берегу реки, то она впитает влагу и сделается тяжелее. Так я собрала, присвоила много килограммов шерсти. Эту немытую, нечищенную шерсть я сразу пустила на одеяло, потом на ширдак, на войлок… А вот Буюркан — та не позволяла себе такого, она работала честно. И честный труд принес плоды, она стала известна народу, всей стране, она увидела места, которых не видела раньше, она прославилась. Я же так и осталась сидеть в своей юрте, переругиваясь со своим стариком. Если Субанчи тянул меня вперед, то я тянула назад… так и прошло время, много воды утекло. А теперь вот я одинока… Нет, я не останусь одинокой! Вернется мой Мамырбай! Он же умный! И разве посмеет покинуть нас! Как я назову сыном такого, который, не вытерпев упреков, убегает без оглядки. У меня есть муж. Если мы будем вместе, то нам будет легче жить. Раньше я не думала об этом. Я считала, что он никогда не умрет, не уйдет, не состарится, мой Субанчи. Но нет… И если ты человек, то, оказывается, нельзя отделять себя от другого человека, наоборот, нужно привязывать его к себе, делать ближе, дружить с ним, не обижать, относиться с уважением, помогать но мере сил, следить, чтобы он был доволен тобой… Да вот — что сталось с Самедином, проклятым пьяницей… Как напьется, так нарушает покой целого аила, затевает драку, скандалит, преследует тех, кто пытался одернуть его. И все отвернулись от него, весь аил. Как только показывался, прятались не только взрослые, но и дети. Близкие родичи перестали пускать его в дом. Когда же, опять напившись пьяным, он упал и у него разорвалось сердце, к нему не захотели подойти двое его родичей — из боязни, чтобы он вдруг не затеял скандал, не обвинил, что это они свалили его. Разве это не то же самое, что самого себя убить? И я, глупая, множество раз поднимала скандал в своей семье. Если не ругалась с другими, так накидывалась на своего старика. О, что я буду делать, если, когда я умру, он будет радоваться, что отделался от меня, а не плакать?»
Сейчас Калыйпа еще яснее, чем ночью, поняла, что не имущество должно владеть людьми, а люди — имуществом. Жизнь напомнила ей, что быть рабом вещей — значит потерять человечность. Она теперь ясно отдавала себе отчет в том, что, не жалея сына, не думая о его будущей судьбе, хотела привязать его к Маржангуль, интересуясь лишь ее богатством. Подумала — как завтра посмотрит в лицо сына — и пожалела о сделанном.
Так она сидела на склоне, размышляла в растерянности, а в это время, погоняя лошадь, приехал домой Субанчи. Обе собаки, увидев его, не обращая внимания на зов Калыйпы, с визгом бросились к хозяину. Калыйпа с горечью подумала, что даже собаки больше любят старика, чем ее.
Видимо, Субанчи приезжал перекусить; спустя небольшое время он вышел, снова сел на коня и двинулся в сторону того склона, где сидела сейчас Калыйпа.
— Нашел? — нетерпеливо спросила она, когда Субанчи подъехал ближе.
— Разве возвращается тот, кто ушел… разве найдется. Он не изменяет своих решений.
Калыйпе больше всего хотелось сейчас услышать человеческий голос, безразлично чей, чтобы кто-то пришел, чтобы она не оставалась одна. Поднявшись на ноги, она с плачем бросилась к своему старику, обняла.
— Прости! Прости меня! Столько лет я не знала тебе цены, я совершила ошибок больше, чем волос на моей голове, чтоб мне пропасть! Ты ведь был не хуже этой прославившейся Буюркан, я же тянула тебя назад. Проклятое добро! Чтоб оно сгинуло! Идем! Посмотри, какую глупость совершила я, какая вина на мне! Бей, ругай, казни меня! — С этими словами Калыйпа потянула своего старика домой.
Муж не понимал, что случилось с ней, боялся, как бы не заболела от расстройства чувств. Придя в юрту, Калыйпа распорола пять одеял — из них вывалилась нетеребленая, будто только что состриженная шерсть, шерсть нескольких овец.
— Вот мое преступление! Жадность душила меня всю жизнь! Бей меня!
— Калыйпа, ты знаешь, я побывал и в огне, и в воде, прошел различные испытания, но воровством… воровством никогда не занимался. Даже если голодал. Я никогда не обманывал, не клеветал на другого. Должно быть, я слишком прост — думал так и о других… Как сложна жизнь! Я не догадывался, чем жила моя собственная жена… — С этими словами Субанчи собрал шерсть в мешок. Вышел, взвалил мешок на лошадь и отправился к председателю.
Вскоре после его отъезда пришел участковый милиционер, составил акт, о том, что Калыйпа грубо обошлась с ребенком и вывихнула ему руку. Сама Маржангуль не появлялась. Вместо себя послала какого-то скандального чернявого человека — тот уже очень распетушился, пугал Калыйпу судом. К тому же еще в юрте осталось кое-что из вещей Маржангуль — так он все перевернул, но отыскал, что ему нужно было, и забрал с угрозами и руганью.
Еще через некоторое время вернулся на взмокшем коне Субанчи. Бросил возле дома пустой мешок и уехал к овцам.
Калыйпа сидела пригорюнившись. Черный день — чего ж и ожидать от него, как не обид и несчастий.
Когда Субанчи спустился к дому, она спросила его, что он сделал с шерстью.
— Отвез на пункт, откровенно рассказал все председателю. Сказал — если будешь судить, так суди меня, выходит, это я вор, хоть и сам не знал… Как я могу скрывать правду? Написали какую-то бумажку, дали мне — я подписался. Председатель сказал, что вызовет меня, когда понадобится.
— Зачем хочет вызвать, не знаешь?
— Похоже, будут судить.
15
Мамырбай, выйдя из дома, прямиком направился в горы. Он слышал, как мать звала его, но не подумал возвращаться, считая, что она желает закончить брачную церемонию. Без цели переходил со склона на склон, путался в траве, проваливался в барсучьи норы. На душе было тягостно.
Поднялась луна. Мамырбай поглядел на нее — и вспомнились ему давние и счастливые детские годы. Отец с матерью пасли скот в горах, он был с ними. Как-то он спросил отца — что это там такое виднеется на луне? Отец в шутку ответил ему — там такой же мальчик, как ты. Мамырбай пустился в рев, требовал, чтобы ему достали мальчика с луны. Ни уговоры, ни ласка, ни отвлекающие разговоры родителей — ничто не действовало. В конце концов отец взял его на руки и пошел вместе с ним доставать с луны мальчика. Когда поднялись на ближнюю вершину, Мамырбай начал кричать, думая, что до луны уже недалеко осталось, — звал своего товарища оттуда. Умолял отца идти дальше, подняться выше. И очень сердился оттого, что никак не удавалось поймать луну, не удавалось даже приблизиться к ней — она все время убегала от них куда-то дальше. Отец поднимал его на очередную вершину, а луну все так же было не достать, и Мамырбай просил подняться на другую гору, еще выше. Когда же отец, вконец уставший, уже не мог больше идти и признался, что пошутил, что на луне ничего нет, маленький Мамырбай расплакался еще горше, кричал: «Зачем ты обманул?»
Позже, когда Мамырбай подрос, отец частенько вспоминал этот случай. «Когда ты был маленький, просил достать с луны мальчика, всю ночь до утра заставил меня ходить по горам. Теперь ты взрослый — посмотрим, что ты сделаешь, на что способен для нас. Оправдаешь ли надежды отца, станешь заботиться — или же отвернешься и уйдешь…» Сейчас Мамырбай вспомнил эти слова отца, подумал о том, сколько сил, сколько любви вложили в него родители… а он — убегает из дома… Но ведь если вернуться — то там Маржангуль, уже давшая согласие на свадьбу.
«Почему Маржангуль решилась на это? Как могло ее сердце избрать меня? — спрашивал себя Мамырбай. Посоветовавшись сам с собой, вспомнив ее мимолетные взгляды, знаки внимания, засомневался: — А если эта женщина полюбила меня? Полюбила… Ну да, когда я возвращался из города, она ласково смотрела на меня, обнимала будто бы по-родственному, а когда приходил брат, отодвигалась, делалась грустной. Задави тебя несчастье!.. И правда, а?.. Если еще при жизни брата нацелилась на меня… оказывается, вот она какая! Желала смерти брату и пялила глаза на меня!.. Нет, нет, не может быть такого! Маржангуль хорошая, я верю ей. Просто она боится расстаться с нами, не хочет, не смеет уйти. Видно, все же это мама принудила ее к согласию на свадьбу со мной. А она не могла отказать моим родителям. Если бы ее не принуждали, разве бы она пошла на такое? Конечно, она любила Калматая. Никогда не поверю в другое. Не могу думать о ней плохо. Что же теперь будет? Я ушел. Дома полный разлад. Все перессорились — это ясно. Всем троим обидно. Хотя — почему обидно? Разве нет женщин, у которых умерли мужья? Некоторые, не выходя замуж, живут самостоятельно, сами ведут хозяйство, некоторые снова заводят семью… Бедная Маржангуль, все же она очень хорошая. Разве мне приятно было бы увидеть ее в чужом доме? Бедный Калматай…»
Показалось или нет? Из дальнего ущелья вроде бы донесся лай собаки. Да, точно… собака лаяла со стороны Кыз-Булака. Словно бы что-то легонько ударило Мамырбая в самое сердце. Какая-то сила толкала его в ту сторону. Нет, наоборот, какая-то сила притягивала его со стороны Кыз-Булака. Смотри-ка, оказывается, Мамырбай шел вовсе не куда глаза глядят — ноги сами несли его к дому, где жила сейчас Керез. Теперь, когда он осознал, в каком направлении движется, он зашагал быстрее. И почувствовал себя лучше, увереннее. А ко всему еще и тропинка выбежала сбоку, потянулась прямо к Кыз-Булаку. Идти стало легче. Легкий ветерок забавлялся, играя его кудрявыми волосами, мягко, ласково гладил лицо — будто рука девушки. А иногда порывом налетал со спины, будто стремился подтолкнуть, поторопить, стремился перенести его туда, где все чисто и ясно, где не надо ничего объяснять, не надо отстаивать свое понимание справедливого. Ветерок приносит с собой запах тысячи разных цветов, трава и цветы мягко шелестят под ветерком — он заставляет их петь и танцевать в лунном свете, — кажется, он стремится развеселить Мамырбая. В ущелье журчит ручей, то звонко, то мягко, и в затейливой этой мелодии проступает ритм песни. Ручей рассказывает различные тайны, говорит то одним голосом, то другим — словно стремится поведать о минувшем, об ушедших людях, которых только он один и помнит. Но нет… среди незнакомых голосов выделяется один… это голос Керез. Что бы она ни говорила, это для Мамырбая лучше всякой песни. Нельзя сказать, чтобы Мамырбай вспоминал Керез, — просто она как бы всегда была рядом… сама появлялась в его мыслях, вставала перед глазами, но почему-то никогда не улыбалась…
Теперь, когда Мамырбай успокоился и точно знал, куда идет, он снова обрел способность критически оценивать свои действия. И конечно, услышал суровый вопрос старшего брата Калматая: «Эй, невежа, отрекшийся от близких, куда бежишь, точно лисица в ночной темноте? Не смог дать отпор, устоять перед нажимом двух стариков, которые вот-вот упадут, стоит только задеть их пальцем? Где твои легкомысленные обещания, что после возвращения с учебы ты перестроишь все в доме наново? Есть ли в тебе силы или способен только замахиваться? Почему не поставил на место мою жену, почему не отругал так, чтобы посыпались искры из ее глаз? Или думаешь, что тебя накажет дух Калматая? Дал бы как следует камчой…» Нет, Мамырбай не мог согласиться с братом. Он, Мамырбай, не способен ударить. К тому же это было бы признаком бессилия. «Ты не понимаешь, брат. То, что я сделал сейчас, — это сильнее камчи. Пойми, я ушел из дома из-за тебя, защищая твою память. Ты не вправе упрекать меня. Говоришь, что я бессильный… Да, в этот раз я не мог добиться большего. Но разве родилась сила, которая могла бы в один день взять да и выбросить из головы человека старое, прижившееся там за целый век! Вот сейчас я иду и думаю, каким путем, как можно осуществить такое. Я растерялся, когда столкнулся с силой старого, воплотившейся в родителях, — раньше не думал и не верил, что старое может вмешаться в мою собственную судьбу. Отец и мать опозорили меня перед муллой. Перед муллой! Перед символом тьмы — ненавижу его! Не напоминай мне… Лучше скажи, что хочешь передать матери и отцу!»
Калматай не отвечал — казалось, рассердился и ушел куда-то за гору.
Мамырбай подошел к реке. От воды несло холодком, да и ночь была не из теплых. Мамырбай поежился от озноба. Разделся, перебрался через реку. Когда одолел очередной подъем, услышал, как внизу протяжно закричала Керез — стерегла двор от волков. Услышав ее, Мамырбай приободрился, обрадовался, что девушка рядом, скоро увидит ее, — пошел еще быстрее. Ему хотелось скорее оказаться рядом с Керез, рассказать ей о происшедшем. Казалось, что тогда легче станет груз, навалившийся на его плечи.
А вот и Кыз-Булак. Скала упирается головой в небо, откинувшись, оглядывает приближающегося Мамырбая. Доносится журчание источника. Теперь до юрты Керез рукой подать. Рядом — юрта Алчадай, она все еще не спит, слышно, бьет ребенка, а тот визжит. Залаяли собаки Буюркан, то ли сердясь на шум, поднятый Алчадай, то ли почуяв Мамырбая. Чем больше лаяли собаки, тем звонче, сильнее звучал голос Керез, и горы возвращали его эхом.
Мамырбай приблизился к юрте. Собаки с лаем бросились навстречу. Голос Керез зазвучал ближе, она поняла, что собаки почуяли что-то, и подбадривала их, следуя за ними. Когда до юрты осталось совсем немного, собаки с двух сторон преградили путь Мамырбаю. Стоило ему сделать шаг, как перед ним вставала с лаем одна из них, а другая зашла сзади и явно норовила укусить. Если бы не палка в руках Мамырбая, собаки налетели бы на него. Тут же к ним присоединилась еще и желтая охотничья собака. Однако, увидев, что приближается человек, она убежала домой. А Керез, напустив собак, взяла в руки винтовку и вышла со двора. Тут уж собаки разошлись вовсю. Нападали то спереди, то сзади — Мамырбай едва успевал поворачиваться. Наконец, поняв, что дело плохо, он присел, и обе собаки остановились рядом в ожидании хозяйки, всем своим видом показывая, что, если он пошевелится до прихода Керез, они тут же набросятся на него.
— Керез! Успокой собак, — крикнул Мамырбай.
Девушка узнала знакомый голос, заставила собак лечь.
— Мамырбай!
— Керез!
Они взялись за руки и прижались друг к другу. Керез решила, что Мамырбай пришел, одолев четыре перевала и не испугавшись в горах ночной темноты, потому что соскучился, долго не видя ее. Душу ее овеяло теплом, сейчас она особенно остро почувствовала, что Мамырбай близок ей. И назойливое внимание Бедела, и отъезд матери по делам в город — все это обостряло чувство одиночества, а сейчас его как не бывало — точно пришел человек, который мог защитить ее, поддержать и приободрить. Но вслух она лишь сказала, что рада встрече. Мамырбай в душе тревожился, не зная, как расценит Керез его приход среди ночи, но, увидев ее радость, он успокоился. Они не сказали друг другу ни одного ласкового слова, лишь внимательно посмотрели — и оба опустили глаза.
Вечером Бедел, как обычно, лег во дворе. Сначала он не заметил прихода Мамырбая, а затем, увидев, что Керез стоит рядом с каким-то человеком, испугался. Первой его мыслью было, что ему это просто показалось. Когда же он уверился, что Керез действительно стоит с кем-то, у него от бешенства чуть не выскочило сердце. Не помня себя, бросился, подбежал, пробубнил что-то, затем обхватил Мамырбая поперек туловища, приподнял и бросил на землю. Палка, которую тот держал в руке, отлетела и упала около одной из собак. Собака понюхала ее и отошла подальше.
Мамырбай в первое мгновение не понял, что произошло, ему показалось, будто собака схватила его… затем он увидел, что это Бедел навалился на него и пытается душить. Он уперся кулаками в подбородок Бедела и с силой оттолкнул его, потом быстро выскользнул из-под нападавшего.
Керез с криком бегала вокруг дерущихся парней, не зная, которому из них надо помогать, которого спасать. Хотя что она могла сделать, разве сумела бы остановить схватку… Собаки подошли, легли поближе, ожидая команды «возьми», готовые разорвать Мамырбая.
Оба джигита, как только вскочили на ноги, тотчас сцепились снова. Сильные здоровые руки переплелись, пальцы впились в плечи противника, точно когти беркута. Мамырбай, видя, что с ним вовсе не шутят, что дело принимает серьезный оборот, посмотрел на девушку, ожидая, что она уймет Бедела, — но тот заметив взгляд Мамырбая, лишь разозлился еще больше. Мамырбай же, не понимая, почему Бедел набросился на него, не мог заставить себя драться в полную силу. Какое-то время он даже думал, что Бедел просто-напросто не узнал его, и ждал, что тот разглядит наконец, с кем схлестнулся, и успокоится. Ему и в голову не могло прийти, что Бедел влюблен в Керез и видит в нем соперника.
При следующем столкновении Бедел, сам не зная, как, попал кулаком Мамырбаю прямо в сердце. У того потемнело в глазах, земля пошла кругом. Очнувшись, он увидел, что Бедел тянется к его горлу. Тогда Мамырбай с силой два раза ударил его по лицу — сбил Бедела с ног. Однако тот поднялся и, не обращая внимания на кровь, закапавшую из разбитого носа, упрямо снова пошел на Мамырбая. Керез с криком бросилась было между ними, но Бедел схватил ее за руку и оттолкнул. Тут уже Мамырбай разъярился. Крепко обхватил противника, приподнял и потащил. Его сильные руки так сжали ребра Бедела, что тот не мог и вздохнуть. Сколько ни старался, не сумел освободиться. Мамырбай тащил его прямо к Кыз-Булаку. Девушка растерялась, не зная, что Мамырбай собирается сделать с Беделом — или хочет утопить? Бегала вокруг, умоляя, чтобы он отпустил Бедела. В лунном свете отчетливо были видны струйки крови на лице и пятна на белой рубашке Мамырбая. Отодранные лоскуты ее бились под ветром, напоминая Керез обрывки материи, которые вешают у могилы. Наконец Бедел испугался. Что-то стал бормотать, и Керез, разобрав, тут же сказала Мамырбаю: «Он больше не тронет тебя, отпусти». Мамырбай в сердцах швырнул обидчика на землю, и Бедел долго лежал не шевелясь. Керез принесла воды, полила ему на лицо. Лишь тогда он пришел в себя, поднял голову. С трудом поднялся и поплелся в сторону дома.
— Немой дурак! — бросил ему вслед Мамырбай и тут же пожалел о сказанном. При чем тут его болезнь, разве виноват, что стал немым… Керез очень не понравились эти слова, сердито осадила Мамырбая, обвинила в жестокости. Мамырбай извинился — глупо, конечно, сам не заметил, как вылетело. Сгоряча…
Когда они подошли к юрте, из своей двери выглянула Алчадай.
Увидев идущих вместе ночью Мамырбая и Керез, подумала: «Эти даром времени не теряют». Шагнула навстречу.
— Гадаю, кто бы это? Оказывается, приехал зять. Здравствуй, Мамырбай. Как поживают твои мать и отец? Здорова ли твоя невестка? Кстати, я сегодня услышала одну интересную новость, не знаю, правда ли… Говорят, тебя обвенчали с Маржангуль, а? — затараторила она. — Конечно, если родители пожелают, то и женят… Молодка точно бусинка, привлекательная, симпатичная. Если бы захотела, могла бы вскружить голову не одному молодцу, правда? Когда же ты пришел? Днем я тебя вроде не видела… Сейчас пришел, среди ночи, а? Не утерпел, да?
— Тетушка Алчадай, что вы говорите?! Почему называете — зять? Разве кто-то дал вам повод так говорить? — с досадой перебила Керез.
— Не обижайся на мои слова. Я тоже была девушкой и тоже стеснялась. А потом покорилась. И ты тоже со временем покоришься, послушной сделаешься. Разве Мамырбай недостоин быть мужем, ну-ка скажи, а? Эх, послал бы мне аллах такого мужа! Заходи, милый, Буюркан нет дома, можешь не стесняться. — Алчадай постаралась приободрить смущавшегося Мамырбая, пропустила его в дом. Однако последние ее слова не понравились ни девушке, ни джигиту. Когда все вошли в дом, Алчадай разглядела, что рубашка Мамырбая разорвана, на лице кровь. Хлопнула изумленно в ладоши:
— Ах, милый, что за вид у тебя, парень! Ай-ай, да у тебя лицо распухло! И глаз затек… Что это с гобой? Подрался, что ли, с кем-нибудь? А-а… Давеча слышался шум… Значит, это ты подрался с Беделом? Бедный немой, он же безумно любит Керез! Ревнует, значит. Увидел, что ты явился под покровом ночи…
Керез побледнела от возмущения, но сдержалась, промолчала. Наоборот, заставила себя улыбнуться. И эта улыбка еще больше раззадорила, уязвила Алчадай. Меж тем Мамырбай попросил у Керез иголку и принялся зашивать разорванную рубашку. Алчадай бросила осуждающий взгляд на Керез, почему, мол, сама не починит рубашку. Только открыла рот, чтобы высказаться, как Керез спокойно посоветовала:
— Шли бы вы домой, тетушка Алчадай.
— О, проклятая моя душа, что же я разболталась, ведь вам же пора ложиться! Уже так поздно!..
Алчадай ушла, так и не выплеснув всей своей злости.
Мамырбай поглядел ей вслед, покачал головой:
— Если бы я не появился здесь, тебе не пришлось бы услышать все это… Да, это я виноват, Керез. Мне нечего скрывать от тебя, в словах твоей соседки доля правды.
Керез испугалась:
— Что ты говоришь?
— Я ушел из дома. Сначала у меня даже в мыслях не было отправляться сюда, не знаю, как получилось, ноги сами привели. Мало мне того, что случилось дома, так еще и здесь — драка с Беделом…
Керез от удивления закрыла рот ладошкой.
— Ушел? Почему?
— Пригласили муллу, хотели обвенчать с Маржангуль. Они, видно, думали, что я мальчишка — легко заставить, что не соображаю ничего.
— А откуда услышала об этом Алчадай?
— Да они, похоже, уже давно готовились. Наверное, Маржангуль разболтала.
— Но… как же ей не стыдно выходить за тебя замуж!
— Как видишь, не стыдно.
— А ты убежал?
— Ну, не убежал… просто ушел.
— Значит, они хотели поступить с тобой так, как бай собирался когда-то сделать с тетушкой Аруке, да?
— Ну да… только они забыли, что сейчас совсем другое время.
Только что Керез радовалась тому, что Мамырбай пришел ради нее, пришел, чтобы повидать ее, а теперь, поняв, что причина его появления совсем иная, побледнела. Дело действительно зашло уже слишком далеко — ведь ясно было, что Мамырбай из-за нее отказался от Маржангуль… Но вслух она лишь упрекнула Мамырбая в ребячестве.
— Силы у тебя достаточно, а вот характера маловато. Кто же борется с пережитками старины, убегая из дома! Не подумай, что хочу унизить тебя… Но все же получилось не очень хорошо. Нужно было проучить муллу, чтобы он не смел впредь браться за такие дела. А ты не сумел.
— Ты права, Керез, я не смог. Шел сюда, к тебе, и по дороге думал как раз об этом и жалел… Не знаю, куда подевалось мое обычное острословие. Сидел и молчал. Все же я боялся, что в запальчивости могу оскорбить родителей.
Вошел Бедел. Хмуро посмотрел на Мамырбая, затем начал перебирать свою одежду в сундуке. Керез решила, что он собирается уйти совсем, испугалась, подошла, взяла его за руку. Бедел оттолкнул ее руку.
— Он… он… — выговорил, запинаясь, и показал пальцем на Мамырбая.
— Ладно, — сказал Мамырбай. — Пора мне идти. Жаль, что все так получилось, Керез. — Он поднялся. — Проводи меня, чтобы собаки не тронули. Дай им волю, так разорвут.
Керез вышла вслед за Мамырбаем. На западе опускалась луна — отсюда казалось, что она прилегла на скалу Кыз-Булак, прильнула и ласкает ее. Сама скала оказалась в тени, только шум родника обозначал ее среди окружающих гор. Ветер успокоился, и тишина опустилась над миром. Лишь родник журчит неумолчно да ухают совы — жутко ночью в горах непривычному человеку.
Керез проводила Мамырбая подальше, чтобы собаки не тронули его. Перед прощанием они поглядели друг на друга. Мамырбай протянул руку, девушка тихонько пожала ее.
— Ты обиделась, да?
— Нет, — тихо ответила девушка.
Вернувшись домой, Керез почувствовала, что очень устала. Легла и тотчас уснула. Когда же открыла глаза, уже рассвело. Первая ее мысль была о Мамырбае. Увидела буханку хлеба за кухонной перегородкой, спохватилась: «Я ведь даже не дала ему ничего с собой… Что же он будет есть? Гостя, пришедшего в дом, разве можно отпустить без угощения… Куда он пошел ночью? Где он теперь? Шел ко мне, надеялся на меня… Я испугалась, что обидится и уйдет Бедел. Кстати, с ним-то что? Пора выгонять овец на пастбище… Где он? Надо посмотреть».
Она вышла во двор и увидела, что Бедел, одевшись во все лучшее, что у него имелось, шел по склону за отарой. Оказывается, ночью он рылся в сундуке не затем, чтобы собраться и уйти, а для того, чтобы переменить разорванную в драке одежду.
Тут Керез вспомнила, как вела себя ночью Алчадай, и рассердилась. «Зачем старается сделать мне плохо? Будто я собиралась отбить у нее Бедела… И это называется — соседка? Может быть, надо было резче говорить с ней? Но я стеснялась Мамырбая. Мне не хотелось спорить при нем со злой и отчаявшейся женщиной. Нет, все же я правильно поступила. Ее неумная злоба сделалась смешной, а слова ее — неубедительными. Но как она натравливала друг на друга нас троих… Говорили, что она была хорошей девушкой… Но прожила столько лет с Барктабасом — и вот чем стала… Почему человек не может сам себя очистить от плохого? Почему люди делают подлости? Что она хочет от меня и от Мамырбая? Или желает, чтобы мы расстались, чтобы со мной случилось то же, что с ней?»
Алчадай в это время была дома, месила тесто. Думала о своей жизни, и белое тесто казалось ей черным, казалось, что она всю жизнь месила тесто не из муки, а из сажи. Вспомнила Буюркан. Почему она такая? Все ей удается. И ей, Алчадай, никогда не сделала плохого. Но чем, чем же она отличается от Алчадай — ведь делает вроде все то же, ту же работу… Но почему Буюркан счастлива, за что такое особенное ее уважают люди? И Бедел привязан к ней, будто к матери. При мысли о Беделе сердце Алчадай екнуло. Нет, она не полюбила Бедела, пожелала, чтобы в доме был хозяин — мужчина, молодой, умеющий работать. Раз она не видит радости в жизни, на что ей радость других? Но жить-то надо. Надо, чтобы был дом и чтобы в доме был хозяин…
Бедел тем временем шел за отарой, опустив голову и время от времени трогая ладонью ссадину на щеке, след ночной драки. Он мучился… Перед его глазами появлялись то и дело Керез и Мамырбай: то они будто бы бегали, играли, гонялись друг за другом, то просто стояли, взявшись за руки, а то — целовались… Бедел глухо замычал от боли.
…Простившись с Керез, Мамырбай пошел обратно. Рассвет застал его на перевале невдалеке от дома. Подножия Кыз-Булака, где стояла юрта Керез, отсюда уже не разглядеть было, во как прекрасное видение парила, купалась в солнечных лучах вершина скалы над родником.
Мамырбай, после целой ночи ходьбы по горам, после драки с Беделом, ничего не евший и не спавший ни минутки, чувствовал усталость. Присел на каменном выступе, и его сморило. Очнулся, услышав чей-то голос, открыл в испуге глаза… Где он?
Увидел перед собой отца верхом на коне. Солнце уже клонилось к закату. Заметив, что одежда сына порвана, а лицо изранено, Субанчи испугался. Подумал, что Мамырбай хотел броситься с горы и убить себя. С плачем и причитаниями кинулся скорее поднимать сына.
Мамырбай, ничего не объясняя, последовал за отцом.
Калыйпа с самого утра точно каменная стояла на одном месте и глядела на дорогу. Увидев Мамырбая, заплакала. Когда он был уже близко, пошла ему навстречу. Разглядела, что сын изранен, в чуть сердце не выскочило у нее. Отвела его в юрту, достала свежую одежду, накормила. Оба — и мать и отец — не знали, что еще сделать для сына. А Мамырбай, только вошел в дом, сразу заметил, что сделалось там странно пусто и тихо. В душе он очень пожалел, что не слышно шума и возни играющих ребятишек, но уходу Маржангуль был рад. Общее молчание прервал отец:
— Маржангуль ушла. Не просто ушла, подняла скандал, желая опозорить нас перед людьми. Прислала участкового. Обвинила нас, будто мы побили младшего ребенка, вывихнули руку… Что-то он записал, участковый. Сказал, наверное, вызовут на суд… Мало этого — в моем доме еще обнаружился вор. Оказывается, твоя мать воровала колхозную шерсть, зашивала в одеяла. Отнес все председателю, отдал, не смея поднять глаз. Чувствовал себя так, будто мое лицо вымазали сажей. Сказал, что я, получается, крал… Ой, милый, как же я могу промолчать, если за всю свою жизнь не занимался такими делами. Как могу в почтенном моем возрасте наживать добро нечестным путем! Не опускался до воровства, даже когда был батраком, был нищим… как же могу допустить воровство при сытой теперешней, хорошей жизни, когда все сыплется точно из рога изобилия? Сын мой, ты теперь уже не мальчик, стал взрослым джигитом. Теперь ты глава семьи… Мы уже дряхлеем. И это воровство — тоже признак дряхлости…
Мамырбай слушал отца, опустив голову.
— Посмотри: стыдясь нас, нашей глупости, мальчик чуть не погиб, бросившись с горы, — обратился Субанчи к Калыйпе. — Как мы могли заставлять его, угрожать, гнать! Истинно — не оставил нам бог разума!.
— Не бросался я, отец, не от этого у меня на лице раны. Разве я совсем уж безвольный человек, чтобы кидаться со скалы, обижаясь на несправедливость? Разве сохраню свое имя, если поддамся, подчинюсь старому обычаю? Я не убегал, просто ушел, не желая скандала.
— Что же тогда с твоим лицом?
— Разве спрашивают о таком, отец?
— Верно говоришь, сын мой, не буду спрашивать. Чего только не повстречается джигиту.
— Я не хотел позорить нас всех перед муллой. Где только не побывают мулла и лисица — и на погребенье, и на рожденье. Ведь он теперь всех оповестил о ссоре в нашем доме. Можно было заранее предвидеть, что из всего этого выйдет. Или вы думали, что как только предложите мне жениться на Маржангуль, так я сразу соглашусь? С каким лицом… Разве мы все одинаково не уважаем память Калматая? Нехорошо получилось. Я и не думал, что меня ждет такое, когда торопился домой. Вы звали меня в письмах — я и решил, что вы устали, измучились со скотом, вам трудно работать, необходима помощь. — Заговорил Субанчи:
— Видишь, вот такими плохими, немощными стариками мы стали, сын мой. Конечно, тебе самому решать, как жить. Ты вроде говорил, что собираешься еще учиться…
— Разве только в городе учатся, отец? Сейчас учатся как раз в этих горах. Я уже поступил.
— Поступил? Куда, мой дорогой? Когда уедешь?
— В сельскохозяйственный техникум. Я не уеду, буду учиться заочно.
— Разве есть и такое?
— Есть.
— Тебе самому известно, сынок, сам и решай.
Во дворе залаяла собака, послышался топот лошадей. Опять приехал участковый милиционер, а с ним вместе тот самый крикливый человек, что уже был давеча, — родственник Маржангуль. Они объявили, что имеют разрешение на обыск. Некоторые одеяла просто ощупали, некоторые распороли. Наконец переворошили все в сундуке и вытащили те одеяла, шерсть из которых Субанчи отвез председателю.
— Где шерсть? — спросил милиционер.
— Сдал на пункте, — ответил Субанчи.
— Проверим!
Приехавшие так и отбыли с пустыми руками, не найдя ничего. Калыйпа лишний раз убедилась в предусмотрительности своего старика. «Как хорошо, что он отвез и сдал проклятую эту шерсть… иначе нашли бы, опозорили нас. Да, Маржангуль нас не пожалеет, от досады только что нож не берет в руки. Конечно, она оскорблена, чувствует себя униженной, осмеянной. Ведь я пообещала, что женю сына на ней, да не смогла. Теперь жди — она еще что-нибудь вытворит», — думала Калыйпа.
— А ты еще говорила: «Что, аллах бы тебя забрал, если бы не повез шерсть?» Видела, как может наказать аллах? Думаешь, только это? Погоди, еще будет всякое на нашу голову, не спеши, — укорил жену Субанчи.
16
Наступила зима, пришли холода. Керез и Мамырбай вместе ездили в город сдавать зимнюю сессию в сельскохозяйственном техникуме. Вместе готовились, ходили вместе на консультации, а потом и на экзамены. И даже обедали всегда вместе. Со стороны их можно было принять за брата и сестру. Если и разлучались, то ненадолго, заботились друг о друге… Ими восхищались все, кто видел их рядом и видел их отношение друг к другу.
Сдав сессию, они вместе возвращались домой.
В поезде Мамырбай разложил на столике продукты, специально купленные во Фрунзе в дорогу. Кроме него и Керез в купе была еще старая киргизка. Когда юноша и девушка вместе вошли и поздоровались с ней, она с довольной улыбкой оглядела их и ответила приветливо — как будто видела своих детей и радовалась им. Когда же они пригласили старушку закусить вместе с ними, та не отказалась, взяла кусочек вареной курицы, а поев, заговорила:
— Вы не знаете, наверное, а ведь раньше курицу считали поганой. Неправильно считали! Оказывается, это самая настоящая вкусная еда, особенно белое мясо. Подходит она и для таких старых, как я. Чем больше стареешь, тем меньше делается желудок, и сердце бьется слабее. Чтобы есть баранье мясо, нужно иметь хорошее сердце. Откуда же мне раньше было знать? Мой сынок, доктор, да вы слышали, наверное, — который оперирует на сердце… Сколько людей признательны ему, говорят, что возвратил жизнь…
— Муса, да? — спросил Мамырбай.
— Да, милый. Это мой первенец. После него еще четверо. Один работает в горах, ищет полезные ископаемые. Другой — тракторист. Самая младшая — доярка, вдвоем с невесткой доят коров. Теперь же доят не как прежде, руками, а электричеством. Включат эту самую громыхалку и вдвоем быстренько передоят всех коров. Неплохо, скажу я, милый. Так вот, сижу я однажды дома, давно уже было, и приходит ко мне старший мой, который доктор теперь, спрашивает, не подоить ли ему корову. Подои, отвечаю, дитя мое, конечно, раньше кобылиц больше доили мужчины. Что здесь такого? Если мужчина сделает женскую работу, то что она, пристанет, что ли, к рукам? Так его сверстники подшутить решили, прозвали его «тетушка доярка». Знаете ведь, как ровесники смеются друг над другом. А теперь имя его не сходит с газеты, хвалят его часто… А третий сын оказался неудачником. Видно, из каждого гнезда выводятся неудачники. Стал выпивать… Пусть с алкоголем роднится один только черт… Начал играть в азартные игры, еще чего-то натворил — засудили. На суде сказала: «Я тебе не мать». Не проронила ни слезинки. На четыре года засудили. Я не жалела его. Раз натворил, пусть отвечает. Тяжелее всего досталось его молодайке. Точно такая же хорошенькая, как твоя жена, выращенная в ласке… Осталась с грудным ребенком на руках. Ребенку уже было около шести месяцев. Раз плохо вел себя вот и получил. Лучше всего ходить честным. Да, так про что я начала? А, вспомнила. Мой старший сын-доктор всегда говорит: «Мама, ешь только птичье мясо, у тебя плохое сердце». Я все же однажды наелась бешбармака. И ведь чуть не померла, не могла переварить. После этого сказала, что покоряюсь. Но лучше всего — мясо индюка. Оказывается, это почти как горная индейка. А какой вкусный у нее жир! Раз так, я стала выращивать индеек. Уж очень, оказывается, у них беспомощные детеныши. По сравнению с ними самые выносливые куры… Где работает твой муж, милая?
Джигит и девушка молча переглянулись, оба покраснели.
— Чего же стесняешься, когда спрашивают про мужа? Дай аллах, чтобы не разлучал человека с его ровней. Вот я в молодые годы осталась вдовой со своими детьми, которые были точно красные вишенки. Чего только не перенесла я. Теперь же, слава аллаху, все сложилось по пословице: «Пусть каждый смолоду испытает трудности, а на старости лет узнает почет». Сыновья мои вернулись с войны живыми. Ранены были, да раны уже зажили. Правильные слова: «Пусть будет хоть сорокалетняя битва, муха, которой аллахом не предписана смерть, не погибнет». Куда вы едете, дети?
— В Талас, — ответила Керез.
— А где в Таласе?
— В ближний район. В колхоз «Советский».
— Чья ты дочь?
— Кара.
— Которого Кара? Не того ли, что был мужем Буюркан?
— Его самого.
— Ах, так ты наша родственница, милая! Кара доводится нам дальним родственником. Я хорошо знаю Буюркан. В молодости мы часто встречались… Это потом связь прервалась. Я слышала, что она получила звание Героя. Оказывается, она счастливая, бедняжка… Несмотря на безвременную гибель Кара… Такого джигита как Кара, нет больше, проклятый день! Вот я и думаю, кого мне напоминают твои глаза? Да ты же точная копия отца! А муж твой из каких мест?
Девушка не успела объяснить, что спутник не муж ей, как вместо нее ответил Мамырбай:
— Мы из одних мест.
— Откуда бы ни были люди, сейчас все близки. Раньше если девушку отдавали в соседний аил, то голосили, плакали, думали, что после этого никогда не увидятся. А теперь в небе летают… как их там? Запускают же, чтобы летал вокруг Земли?
— Спутник.
— Вот, вот! Теперь наступило время, чтобы мерить расстояние по-новому, зная, что летает этот… спутник… Будьте счастливы, милые мои.
Слова старушки понравились джигиту, а девушка чувствовала себя стесненно, стыдилась, еле усидела, хотела выбежать из купе.
Вскоре старушка сошла с поезда, и Мамырбай с Керез остались в купе вдвоем. Естественно, они заговорили о родных местах, куда возвращались сейчас, о людях, с которыми предстоит встретиться. Мамырбай рассказал Керез о Маржангуль. Она долго еще злилась, не прочь была даже засудить Калыйпу, да только руки у нее оказались коротки. И все же время брало свое: однажды она приехала к ним, попросила прощения у Мамырбая, рассказала ему всю правду… Плача призналась, что давно любит его.
Керез давно уже, с того самого времени, когда Мамырбай ночью пришел к ней, и на него напал Бедел, и была драка, — с того самого времени Керез помнила, как Мамырбай унизительно отозвался о Беделе. Много раз порывалась сказать ему, что это прежде всего плохо говорит о нем самом, о Мамырбае, и потому еще обиднее для нее… собиралась сказать, но не решалась. Не хотела задевать старые раны. Теперь же неожиданно для себя самой заговорила:
— Самое плохое в человеке — способность унизить другого. Разве Бедел виноват в своем физическом недостатке? Мне было так стыдно… До сих пор как вспомню…
— Я понимаю… Я и сам вспоминаю со стыдом. Дурак я был… Жизнь, оказывается, учит, и больно учит, — ответил Мамырбай. Керез почувствовала искренность его слов и благодарно улыбнулась.
Мамырбай пересел к ней, ласково погладил ее волосы, и Керез не оттолкнула его. Он заглянул в ее глаза — они показались ему чудом, нежным чудом. Потом он осторожно привлек ее к себе, поцеловал в щеку. Сердце его билось так сильно, что готово было разорваться. Девушка не пыталась освободиться из его объятий, склонила голову к нему на плечо. Так они сидели рядышком — как единое целое, и никакая, лучшая из лучших песен не могла бы рассказать о них.
— Люблю тебя… Ты у меня в сердце. Если бы не было тебя…
— Какой ты хороший.
— Это ты сделала меня таким, Керез.
— Да…
…В свой аил Мамырбай и Керез добрались к вечеру. В эту зиму юрты их родителей оказались по соседству, в ущельях одного склона. На дороге, которая вела туда, лежал иссеченный временем огромный камень. Он расположился отдельно от других камней, мог укрыть от ветра небольшое стадо — даже в зимние холода подле него было тепло, и, видно, поэтому местные жители называли его «Каменный дом».
Когда Мамырбай и Керез подошли к этому камню, навстречу им выскочил Бедел. Должно быть, издалека заметил их и ждал, спрятавшись. В руках у него был небольшой нож. Когда он неожиданно появился на дороге, Керез испуганно закричала. Мамырбай не спеша снял с плеча связанные ремнем чемоданы, поставил их на землю и пошел навстречу Беделу, глядя ему прямо в глаза. Керез пыталась остановить его, схватила за руку, умоляла бежать… Мамырбай не слушал ее, отстранил, даже не обернувшись.
Бедел приблизился, держа нож наготове. Когда он подошел почти вплотную и занес руку, Мамырбай неуловимо быстрым движением опрокинул его навзничь. Нож отлетел и утонул в сугробе. Бедел тут же поднялся, но, оказавшись безоружным, похоже, растерялся, попятился. Мамырбай с силой пнул его в живот — тот охнул и осел и уже не поднялся. Керез подбежала, обняла Бедела, защищая.
— Не трогай! Он же может умереть!
— Так ему и надо!
— Почему?
— Я его ненавижу.
— Хоть ты и ненавидишь его…
— Зато ты неплохо к нему относишься — это хочешь сказать?
— А почему я должна не любить его? Бедел хороший…
— Хороший? Ну, тогда…
— Что тогда?
— Выходи за него замуж!
— Какое тебе дело до того, за кого я выйду замуж!
Мамырбай, оскорбленный, подхватил чемоданы и зашагал к дому.
— Оставь мой чемодан! Спасибо за помощь!
Мамырбай бросил чемодан и, не оборачиваясь, широким шагом направился к дому. Девушка рассердилась. Чуть не заплакала, но сдержалась, не захотела показать перед парнями свои слезы. Горстями стала бросать снег в лицо Бедела. Тот очнулся, увидел возле себя испуганную девушку и покраснел. Поднялся, взял ее чемодан и молча двинулся в сторону дома. Сейчас он мог думать лишь об одном: о том, что оказался бессильным, уступил Мамырбаю, получил взбучку, опозорился перед девушкой. На этот раз вконец опозорился. Постепенно он остывал и, чем больше, тем яснее понимал, что, как бы он ни старался пересилить, подмять Мамырбая, отвадить его от Керез, ничего из этого не получится. Он привык считать себя очень сильным, никогда никому не уступал в стычках, но теперь, как бы осознав, что есть парни сильнее, ловчее его, опустил голову и шел, глядя под ноги, не по утоптанной тропинке, а по снегу, по целине.
Керез, глядевшей на Бедела со спины, он казался мощнее, здоровее, мускулистее Мамырбая, и она сейчас удивлялась, почему он оказался побежденным. В сторону, куда ушел Мамырбай, она не смотрела, заставляла себя не смотреть.
А Мамырбай, когда только что отошел, не вытерпел, оглянулся — увидел, что девушка поддерживает голову лежащего Бедела. Мало того, ему показалось, что девушка будто бы целует Бедела, его соперника. Сердце у Мамырбая чуть не лопнуло. Темное чувство злобы звало его вернуться и как следует отделать обидчика, но он справился с собой. Подумал, как они встретятся после этого с Керез, и если встретятся, то как будут разговаривать…
Обескураженный, растерянный, он пошел к дому. И, видно в противовес сегодняшнему досадному происшествию, вспомнились ему чудесные дни — всего два месяца назад.
Он тогда выгнал на склон отару, а рядом стала пасти овец Керез. И во все следующие дни, где бы она ни пасла, Мамырбай держал свою отару по соседству. Постепенно и девушка привыкла к тому, что Мамырбай рядом, и, если его не было, она беспокоилась, а на другой день выпытывала, расспрашивала, где пропадал. Сердце Мамырбая радостно загоралось. Он чувствовал, что близость их укрепляется, что девушка тянется к нему, как он к ней, скучает, с нетерпением ждет встречи. Он был счастлив, как никогда.
В один из таких дней они с Керез, пригнав свои отары на склон, вошли в свежий хрустящий сугроб и стали играть в снежки. Тем временем Калыйпа, обеспокоенная тем, что Мамырбай утром не взял с собой ничего позавтракать, понесла ему поесть — и увидела их игру. Увидела рядом с сыном девушку в черной меховой шапочке, в короткой белой шубке, в черных валенках, длинные косы заброшены на спину. Высокая, стройная. Красивое лицо разрумянилось от мороза и движения. Калыйпа вначале и не узнала ее, просто потому, что раньше как-то не обращала внимания, позабыла, что есть у Буюркан взрослая дочь, девушка на выданье. Да и потом, в первую минуту, когда она разглядела получше, ее так поразила красота девушки, что она не могла сразу сообразить, что лицо-то это ей знакомо. А узнав Керез, обругала себя. Вспомнила разлад в своей семье из-за того, что хотела женить сына на Маржангуль. Мысленно сравнила этих двух женщин. «Да, оказывается, я чуть не лишила счастья своего сына, проклятая моя душа! Керез — она и молода, и красива, и умна. Если Мамырбай женится, на ней, о каком еще счастье я могу мечтать», — решила Калыйпа.
Вечером, когда Мамырбай пригнал отару и вошел в дом, она при отце сказала откровенно: «Пропади я пропадом! Не знала, что сын мой встречается с девушкой, которая настоящее золото, хотела привязать его к Маржангуль, несчастная!». После этого Калыйпа перестала жалеть о Маржангуль. Вместо этого она возобновила дружбу с Буюркан. Она говорила соседке: «Мы стали пасти скот далеко друг от друга, потому и отношения между нами стали далекими. Нынче же мы нарочно решили зимовать рядом с тобой. Что ни говори, а старые друзья всегда остаются близкими. Мы с тобой старые друзья, давай дружить по-прежнему. Хоть мы и потеряли было связь, да дети наши дружны. А куда мы денемся от них?»
Теперь, если Калыйпа готовила что-нибудь повкуснее, то обязательно приглашала и угощала Буюркан. Иной раз она просила, чтобы та привела с собою Керез. Но сколько Калыйпа ни звала, Керез ни разу не пришла в ее дом. Калыйпа в душе расценивала это как проявление уважения, как стыдливость — и уже смотрела на нее как на свою будущую невестку. Не только не обижалась, что Керез не приходила, но даже хвалила ее поведение Мамырбаю, видя в том благовоспитанность. Уже даже в разговоре с Буюркан, улучив момент, она намекнула, что если суждено, то она, бог даст, приведет в свой дом Керез в качестве невестки. Буюркан в ответ только улыбнулась.
То, что мать Керез стала часто навещать их дом, было по душе Мамырбаю. И вот теперь надо же было случиться такому! Точно черная кошка перебежала дорогу… Проклятый Бедел! Опять стал причиной раздора. Керез, похоже, обиделась, и Мамырбай шел домой один и в полной растерянности, не зная, как теперь вернуть ее расположение. Казалось, что и близость, и тепло, и нежность — все разом куда-то исчезло, словно и не было ничего, никакого огня… «Как же теперь быть с мамой — она ведь каждый день находит предлог зайти к Буюркан? Если вдруг надумает сегодня, как обычно, пойти к ним, а ее встретят холодно, что я отвечу ей, когда спросит меня с недоумением, в чем дело? Как осмелюсь сказать матери, что поссорился с Керез?» — размышлял Мамырбай. Домой он пришел расстроенный. Как он и думал, Калыйпа собиралась пойти к соседям, отнести несколько свежеиспеченных булок — угостить.
— Может, не пойдешь, мама? Зачем беспокоить людей? Керез только что вернулась, устала, — попробовал отговорить Калыйпу Мамырбай, да разве ее переубедишь! Наоборот, еще больше разохотилась:
— Вот и хорошо, что вернулась. Как это — не пойти, что значит — беспокоить? Буюркан, наверное, в хлопотах, не успела испечь хлеб. Пусть Керез отведает свежего, теплого — в дороге, верно, проголодалась, замерзла. Разве полезет мне в глотку этот хлеб, если прежде не угощу мою Керез! Посиди, милый, я сейчас же вернусь. Других дел у меня там нет, только угощу их свежими булками. Раз уж собралась, нельзя не пойти. С одной стороны, хорошо, что увижусь с Керез, с другой… Чем больше встречаешься, тем ближе становишься, дорогой. И птица спускается с неба за кормом. И даже эти два хлеба, если поданы ко времени, — добавила Калыйпа многозначительно — словно способна была таким нехитрым способом заполучить себе невестку.
Слова ее не понравились Мамырбаю.
— Разве за хлеб покупают девушек, — тихо сказал он.
Калыйпа все же поднялась и пошла. «Рассуждает точно ребенок. Разве легко заполучить в дом невестку», — думала она. По дороге опять вспомнила слова сына, и теперь ее взяло сомнение. Показалось, что сын все же сказал правильно. «Разве сейчас кто-нибудь ходит голодным? Что это я, действительно, набиваюсь к ним с угощениями — Буюркан не беднее меня. Да и не в том ведь дело. Если молодые не увлекутся друг другом, не полюбят, то, сколько ни угощай, ни цепляйся, все равно останешься ни при чем. Кстати, что вышло из доброго отношения и внимания к Маржангуль? Сколько я сил потратила — и чем обернулось? Нельзя забывать… — думала Калыйпа. Теперь уже она с неохотой шла в дом Буюркан. Ноги несли ее вперед, а душа тянула назад.
В то время, когда Калыйпа шла в раздумье, даже не разбирая дороги, прямо по снежной целине, к дому Буюркан, там разгорелся скандал.
Бедел, после того как получил взбучку от Мамырбая, глядел сумрачно, как будто пришел с похорон близкого человека.
Вернулась Буюркан, загнала отару во двор, вошла в дом и, как только зажгла лампу и увидела хмурое лицо Бедела, почувствовала недоброе.
— Бедел, ты чем-то расстроен?.. Что случилось с тобой? Я искала тебя, куда ты подевался? Разве говорила тебе, чтобы ходил встречать Керез? Измучилась, пока одна загоняла овец во двор, — с обидой пожаловалась Буюркан.
Бедел, который безошибочно понимал Буюркан по движению губ, на этот раз хмуро отвернулся. Потом вдруг подхватил седло, которое лежало у порога, и с силой ударил об пол — оно разлетелось на части. Сбросил с себя куртку, разорвал рубаху и начал бить себя по груди. И Буюркан, и Керез поняли его бормотание: уже много лет он честно работает в этом доме, никогда не делал ничего плохого, чувствовал себя членом семьи, любил Буюркан, как родную мать… ведь и у них больше нет никого. Он показал кончик мизинца, как бы спрашивая: «Сделал ли я вам хоть настолько плохого?»
Буюркан не могла уразуметь, к чему все это, отчего Бедел вышел из себя. Керез не поднимала головы, смотрела в пол. Не смела объяснить матери, почему он так беснуется.
Буюркан знала, что если Бедел рассердится по-настоящему, то не помнит себя, поэтому она внимательно следила за каждым его движением и, что бы он ни говорил, слушала, не отвечала. Бедел же кидался из стороны в сторону и, брызгая слюной, пытался выкрикивать злые слова.
Вдруг он опустился на колени, обнял ноги Буюркан и заплакал. Вначале Буюркан решила, что он стыдится своей грубой выходки и умоляет простить. Но нет, поднял голову и показал на Керез, а затем на себя, с трудом выговорив:
— Ке… мне…
Буюркан наконец-то поняла, о чем он просит. Сердце ее похолодело, в голове зашумело. Она оттолкнула Бедела. Никогда еще не гневалась так — закричала, притопнула ногой:
— Сгинь с моих глаз! Говорит, что как сын мне, а сам хочет жениться на моей дочери! Бесстыдный!
Бедел сник, не отвечал. Керез проговорила с досадой:
— Не стыдится совсем… как не понимает… — сказать что-то более резкое она не решилась.
— А я-то думаю, чего это он не сводит глаз с Керез! О, несчастный! Оказывается, вон у тебя какие мысли! Вот о чем думаешь, живя в моем доме! Отрекаюсь от такого бессовестного, как ты! Иди, не дам тебе бесчестить мой дом! Выдумал чего — чтобы я отдала ему дочь! Вещь она что ли, чтобы отдавать ее! Женись, если она желает выйти за тебя, — сам поговори с ней! Постеснялся бы обращаться ко мне с таким!
Бедел вскочил, в бешенстве вылетел из дома. Схватил свою шубу, которую закинул до этого на юрту, улегся, как обычно, на ворохе сучьев, затих.
В это время и появилась Калыйпа. Услышала громкий голос Буюркан, увидела разъяренного Бедела. «Черт возьми, лучше бы я не приходила, послушалась бы Мамырбая», — подумала она. Пока стояла в нерешительности подле двери, внутри заговорила Керез:
— Не сердись, мама.
— Как же не сердиться! Ишь, какие у него мысли, у проклятого!
— Уже давно надоедает мне. Говоришь ему — не понимает, твердит свое, упрямый. Не обращай внимания, мама, постепенно он успокоится.
— Я даже не поздоровалась с тобой как следует. Ну как?
— Экзамены сдала.
Калыйпа, воспользовавшись тем, что разговор принял мирный характер, вошла в дверь. Последнее время она взяла в привычку называть Буюркан сватьей и старалась почаще вставлять в разговор это слово. На вопрос Буюркан: «С каких это пор я сделалась для тебя сватьей?» — она таинственно отвечала: «Сама не понимаю — так и вертится на языке это слово. Видно, и вправду суждено аллахом…»
Буюркан прекрасно понимала, на что намекает соседка, однако, не услышав ничего от дочери, считала такие разговоры преждевременными и в ответ только улыбалась.
— Здравствуй, сватья! — сказала, входя, Калыйпа, но на это раз Буюркан лишь сдержанно кивнула ей. Калыйпа, тут же сообразившая, что появилась некстати и что в доме соседей только что происходило неприятнейшее объяснение, ничуть не обиделась на холодность Буюркан, мало того, она почувствовала себя неловко, почувствовала себя непрошеной свидетельницей, будто она нарочно пришла подслушать. — Обычай добрых соседей обязывает меня, если что сготовлю, обязательно угостить вас. Услышала, что приехала Керез. Вот — испекла только что хлеб, принесла — отведайте. Ох, в этом году снега не так много выпало, только сегодня заметила, чтоб задавило его несчастье! Мало где намело по колено, так что невозможно повернуть коня. Ну, благополучно доехала, милая? Как будто немного похудела. Да как не похудеть, если с утра до вечера не сводя глаз смотреть в бумаги! Отведай-ка вот моего хлеба.
Еще не остывший хлеб приятно согревал руки девушки.
— Проходи, — сказала Буюркан. — Замучилась я, одной пришлось загонять овец. Ищу Бедела, а он, оказывается, ушел встречать Керез. Вот и поругались мы с ним… За всю жизнь ни разу не нагрубили друг другу, а тут поссорились… Как у вас — все здоровы?
— Слава аллаху!
Чувствуя себя неловко, Калыйпа поторопилась уйти — хотя Буюркан и пригласила ее пообедать вместе.
После ее ухода Буюркан спросила Керез:
— Скажи мне, дочка, что ты думаешь о будущем? Калыйпа стала часто заходить к нам. Люди уже поговаривают о том, что вы с Мамырбаем неравнодушны друг к другу. Ты же сама ничего мне не объясняешь. Скажи, не скрывая ничего, откуда эти слухи? Вместе уезжаете, вместе приезжаете, вместе ночуете в пещере…
— Мама, не вспоминай ты про эту пещеру! Какой леший потянул меня туда! Видно, никогда уже мне не отвязаться… Мало того что другие болтают, так теперь и ты…
— Дочка моя милая! То, что говорят о тебе, говорят и обо мне. Конечно же мне не хочется, чтобы досужие языки сплетничали о тебе. Мы должны высоко держать голову. Знаешь, как придирчиво смотрят на девушку люди? Ты удивишься, но так строго оценивают нового, только что приехавшего работать председателя колхоза: все сразу вдруг делаются критиками, взвешивают каждое его слово, каждый шаг. Вот и девушка: множество глаз готовы усмотреть неприличное в ее поведении, любой готов проявить строгость. Знаешь, как люди говорят: «Посмотри сначала на дверь, а потом уже заходи в дом; посмотри сначала на мать, а потом уже женись на ее дочери». Если ты будешь хорошая, значит, буду хорошей и я, если же ты окажешься плохой, значит, плохой буду и я. Не обижайся на мой вопрос. Пойми — и то хорошо, что есть кому спросить у тебя об этом… Если бы меня не было, то кто бы так беспокоился о тебе? Если сердце твое расположено к Мамырбаю…
— Кто тебе это сказал?
— Оставь, дочка. Я не такой человек, чтобы привести за руку того, кто сказал. Тебе говорю — я. Сама много раз видела, как вы с Мамырбаем шутливо боролись, бегали, играли. Зачем скрываешь от меня?
— Что же в этом такого — если даже и играли?
— Это говорит о многом, дочка. С человеком, которого не любишь, не только что играть, даже и здороваться не захочешь. Если между вами будет что-нибудь, то мне лучше знать об этом заранее. Упаси аллах, я не хочу ни копейки от того, за кого выдам тебя замуж. Моя мать научила меня этому. Я только об одном прошу тебя: не убегай. Пусть он заберет тебя открыто, не скрываясь ни от кого и прежде угостив людей. Пусть не говорят люди, что украли тебя, пусть скажут, что я тебя проводила по чести. Видела я дочь одного из нашего аила… Пила пиво с кем-то, да и договорилась, что выйдет за него… и убежала с ним, а чем кончилось? Ходит дома, оттопырив живот, — муж ее оказался проходимцем. Скажи, вы давали друг другу слово?
— Да, но…
— Что, поссорились? Обиделись друг на друга?
— Это все он…
— Оба, я думаю, виноваты. Ты-то должна была сообразить, не доводить до ссоры, не допустить. Тот умен, кто не только не раздувает скандала, а, наоборот, погасит его. Давно вы поссорились?
— Сегодня…
— Ах вот как! Так, видно, причина вашей ссоры — Бедел? Не обращали бы на него внимания.
— Так Мамырбай сам…
— Была же какая-нибудь причина?
— Бедел набросился на Мамырбая с ножом.
— Что ты говоришь! Мало того что подрались раньше…
— Ну вот… он и обиделся, что я хотела помочь Беделу подняться.
— Вот что я тебе скажу, дочка. Чтобы я больше не слышала, что из-за тебя дерутся джигиты! Если бы ты не давала Беделу повода проявлять к тебе особенное внимание, ничего бы и не было. С любовью нельзя шутить. Бедел, оказывается, любит тебя. Откуда мне было знать… Это очень опасно. Говорят, что в любви глухонемые страшны. Ты, наверное, все же сама виновата. Иногда вижу — игриво улыбаешься ему.
— При чем тут улыбки?
— Помню, когда я была еще подростком, в нашем аиле один глухонемой полюбил девушку по имени Айша. Этот глухонемой, он столярничал — дело кипело у него в руках, да и сам был красавец. Айша, оказывается, тоже любила его. И вот чем все кончилось. Когда он узнал, что родители Айши, считая за позор отдать ее глухонемому, поспешно выдали ее за другого, — тут такая буря поднялась… Он бросился в соседний аил, куда увезли девушку, и там зарезал ее. Если глухонемой рассердится, пойдет на все, собственной жизни не пожалеет. Ты сама была неосторожна, привадила его…
— Почему я?..
Буюркан сказала «привадила» — и тут же пожалела об этом. Смятение охватило ее душу. Вспомнила, как Бедел только что, припав к ее ногам, просил, умолял о снисхождении. «В чем его вина? Может, и полюбил. Если он молод, здоров, если пришла пора жениться… Кто не прельстится цветком, распустившимся около родника? Если родник — это жизнь, если цветок — это девушка… вполне возможно, что действительно полюбил. А я что же в ответ? Резко одернула его, обидела. Разве имела право поступать так! Не могла сдержать возмущения — как это, глухонемой посмел свататься к моей дочери! Пусть бы дела у глухонемого не были глухонемыми, пусть его человечность не будет глухонемой! Пусть его характер, его поведение не будут глухонемыми! Разве мало таких, что сами-то физически полноценны, да жизнь их неполноценна! Надо честно признать — я унизила Бедела и тем самым унизила и себя. Оказывается, я люблю только свою дочь. Обидела человека, которого растила, как родного сына, приучала к себе, который делил со мной жару и холод, хорошее и плохое, голод и сытость, радость и горе. Бедел хороший парень. Преданно любит мою дочь. Тот, который умеет любить, хороший человек. Я же дала Керез неправильный совет. Мне не понравилось, что она слишком сблизилась с Беделом. Как она может отталкивать от себя человека, с которым живет в одном доме? Разве можно жить вместе, вместе работать, если все время ссориться? Я должна пойти к нему. Что случилось со мной сегодня — никогда не сердилась так, даже разговаривая с чужими, даже если была причина», — думала Буюркан, выходя во двор.
Бедел лежал ничком на ворохе сучьев, которые сам же заготовил на растопку. Лежал, раскинув руки, и непонятно было, то ли плачет, то ли спит.
Буюркан не посмела сразу подойти. Ей казалось, если она подойдет и позовет его в дом, то он, оскорбленный и отчаявшийся, поднимется и ударит ее. Некоторое время она стояла в растерянности. Зимний мороз прохватывал все тело, день выдался ясным, холодным и ветреным, аж из глаз выбивало слезы. Долго стоять во дворе раздетой было невозможно. Буюркан попробовала было осторожно взять Бедела за руку, но тот выдернул ее. Все же Буюркан не сдержалась, обняла парня за шею, ласково приподняла его голову.
Бедел заплакал.
И любовь, и горе, прошлое, уходящее, будущее, мысли о себе и обо всех о них, надежда, вера — все соединилось в этом плаче. Хоть Бедел и был глухонемым, но, если бы кто-нибудь посторонний увидел его сейчас, понял бы, о чем он хочет сказать. Его молчание, бьющее в душу сильнее потока слов, его судорожные рыдания человека, лишившегося всех своих надежд, — чье сердце не дрогнуло бы… Даже то, что Бедел старался плакать беззвучно, тронуло бы самого черствого.
— Прости, родной, — говорила Буюркан. — Я не подумала, я обидела тебя. Нет большего наказания, чем обидеть близкого человека. Сама не понимая, ударила тебя. Встань же, мой родной, — повторяла она, хотя знала, что Бедел не слышит ее, ласково старалась поднять, целовала его. Нельзя было не ответить на столь искренний порыв.
Джигит поднялся, следом за Буюркан вернулся в дом.
— Неправильно я тебе сказала, дочка, не отдаляйся от него. Не променяю нашего Бедела ни на кого другого, пусть самого здорового… Он сын мне, а тебе брат, — повторяла Буюркан, целуя Бедела в обе щеки.
17
Прошло немного времени, и Керез, которая пообещала, что больше никогда не станет встречаться с Мамырбаем, встретилась с ним, когда пасла отару. И начались для них, понеслись нескончаемой чередой сладкие дни. Если они не встречались хотя бы раз в неделю, обоим казалось, что чего-то им не хватает, что жизнь неполна, даже работа тогда не клеилась. Оба без конца поглядывали на дорогу, высматривали друг друга. При встречах не могли наговориться, делились мечтами, рассказывали о самых затаенных желаниях.
Родители не мешали им встречаться: и Калыйпа, и Субанчи, и Буюркан считали, что их дети достойны друг друга. Только у одного Бедела было горько на душе. Он вконец извелся, похудел, пожелтел, совсем перестал улыбаться. Теперь он уже не ложился — как в тот год, когда вернулась с учебы Керез, — спать на мороз во дворе с распахнутой грудью. Чуть похолодает, тут же прятался в дом, старался надеть что потеплее, одну одежду поверх другой. Даже в самые теплые летние ночи ни за что не хотел спать под открытым небом. Когда в доме разводили огонь, не отходил от очага, грел без конца спину. Если доводилось ночью охранять двор от волков, лишь ненадолго выходил посмотреть и тут же возвращался в юрту. Собаки, словно понимая его нежелание сторожить, стали больше прежнего лаять во дворе. Кроме того, Бедел сделался невыносимо капризным. Чуть что не по нем — швырял об землю то, что было у него в руках. Когда Керез возвращалась домой, не сводя глаз, жалобно смотрел на нее. Девушке он становился все более неприятен — последние дни она даже старалась меньше бывать дома, чтобы только не видеть его унылого лица. Однако, не желая обидеть парня, старалась не высказывать своего раздражения.
Мамырбай несколько раз начинал говорить с Керез о женитьбе. В одном они не могли прийти к согласию: где, в чьем доме жить. Мамырбай предлагал поселиться вместе с его родителями, но девушка не соглашалась: не может она оставить маму одну, без поддержки, больше ведь у матери никого нет… Мамырбай был готов послушаться Керез и перейти к ним — но знал, что на это не согласятся его родители. Калыйпа, хоть и не говорила открыто, в душе явно надеялась покомандовать невесткой; Мамырбай, понимая ее намерения, конечно, не хотел, чтобы Керез чувствовала себя в его доме стесненно; желал, чтобы ни одна душа не сказала бы его любимой грубого слова, не смущала, глядя прямо в лицо…
Буюркан пока еще ничего не знала об этих разговорах.
Однажды Буюркан вместе с дочерью выгнала отару. Осенью они взялись пасти отару, и поэтому у них не было сейчас такой сутолоки, как в других дворах, где начался окот. Одна забота — хорошо пасти отару да чтобы не было падежа.
Присев на камень, Буюркан спросила у Керез:
— Дочка, не скрывай от меня, какие планы у вас с Мамырбаем? Ты его любишь? Правда?
— Правда…
— Если так… Мамырбай неплохой парень. Решай сама. Я не возражаю.
— Кажется, его мать и отец не согласны, чтобы…
— Неужто ты им перестала нравиться?
— …чтобы он жил у нас. Куда я пойду, оставив тебя одну?
— Меня? Оставить одну? Аллах меня заберет, что ли? Разве не оставалась я одна, когда ты училась? Зачем же я буду препятствовать вашему счастью… Нечего смотреть на меня, дочка, если уже сговорились. Такова доля девушки: хоть ее и родила и воспитала мать, а она должна уйти в другую семью. Какой же матерью я буду, если обижусь на то, что ты уйдешь к любимому! Нечего тут колебаться, делай, что задумала. Решайся, дочка!
Девушка посмотрела на мать, как бы не доверяя себе — правильно ли услышала, так ли поняла? Увидела родные, добрые, повлажневшие от волнения глаза. Прочитала в них: «Где бы ты ни жила, дочка, для меня важно одно: чтобы ты была счастлива. А я — я уже привыкла быть одна, не беспокойся за меня».
Девушка вздохнула. Осторожно, все еще стесняясь матери, бросила взгляд на соседний склон, где находился сейчас со своей отарой Мамырбай. Буюркан заметила, что лицо Керез озарила новая, особенная красота. И она вздохнула.
Мамырбай, увидев издалека, что Керез не одна, с матерью, постеснялся подойти. Сел, прислонившись спиной к камню, стал читать книгу. Время от времени поглядывал из-за камня, ожидая, когда Буюркан уйдет вниз.
Наконец Буюркан, оставив отару на дочь, начала спускаться со склона. Сердце джигита забилось, радость рвалась наружу. Широкий склон казался ему тесным… Он стал на камень и рукой помахал девушке, но она подала знак подождать. Оба были уверены, что Буюркан не видит, не замечает. Откуда им было знать, что Буюркан, спускаясь, искоса наблюдала за ними, видела все их переговоры и с завистью думала — счастливая молодость, сладкие, горячие, неповторимые дни… В то же время она и довольна была их почтительной стеснительностью.
Когда Буюркан скрылась за поворотом ущелья, Мамырбай и Керез побежали навстречу друг другу. Крепко обняли друг друга, поцеловались. Долго смотрели друг на друга… Сколько слов, сколько признаний было в этих взглядах! Они были счастливы, и они молчали — боялись спугнуть свое счастье неосторожным словом. Сердца их бились набатом — и набат этот звал к будущему, еще большему счастью, казался им музыкой, да, музыкой любви.
— Знаешь, Мамырбай, что я сейчас скажу тебе?
— А ты знаешь, что я скажу тебе?
Эти простые вопросы обоих заставили рассмеяться. Горы и скалы подхватили их смех и унесли куда-то далеко — казалось, хотели раздать его по частичке тем, кто никогда не смеялся так счастливо и беззаботно. Двое влюбленных напоминали сейчас распустившиеся на одной ветке два цветка, омытые весенним дождем. Взгляды их тонули в зрачках друг друга, и что-то сладкое, спрятанное на самом донышке сердца, поднималось, расплавлялось, волновалось в крови.
— Мама дала разрешение. Теперь я твоя!..
Потом они сидели обнявшись и смотрели, как в высоком небе плавает беркут.
Керез попросила Мамырбая спеть для нее.
Он тихонечко запел, и с высоты ему откликнулся беркут. Беркут слышал песню Мамырбая, Мамырбай слышал клекот беркута, их голоса сливались, переплетались, и чем выше поднимался орел, тем ближе делался его голос, да, ближе звучал для сердца… Постепенно беркут стал невидимым для глаза. Кто знает, может, он достиг звезд, а может быть, полетел еще дальше… А может, то был вовсе не беркут, а светлая мечта этих двух молодых людей, их поющая надежда, их прекрасная молодость, их любовь…
— Ты — мой беркут…
— Мы с тобой — самые счастливые на свете!
Мамырбай крепко обнял девушку, но ясная улыбка вдруг исчезла с ее лица, она побледнела, прижала руку к сердцу. Мамырбай заметил, что то же самое было с ней несколько дней назад. Тогда он спросил с беспокойством, что с ней, но Керез не ответила, а вскоре опять улыбалась, сияла по-прежнему. Мамырбай надеялся, что сейчас все будет так же, быстро пройдет. Но девушка не улыбалась, лоб ее сделался влажным, она без сил осела на землю, потеряла сознание.
Мамырбай содрал с себя куртку, подложил ей под голову. Налил из термоса чаю и дал ей глотнуть.
Спустя некоторое время девушка пришла в себя. Открыла глаза и, слабо улыбнувшись, сказала:
— Или это победит меня, или же я пересилю…
— Тебе же нужно лечиться! — взволнованно говорил Мамырбай.
— Если я сейчас покорюсь болезни, что же буду делать на старости лет! Видно, я поддалась волнению, закружилась голова… Уже проходит…
Вскоре Керез вздохнула свободно и снова смеялась. Но Мамырбай уже не мог забыть о случившемся. Безоблачного спокойствия как не бывало.
18
Сдав прошлым летом последние школьные экзамены и собираясь домой, Керез пригласила свою любимую учительницу тетушку Аруке приехать к ним погостить — и вот Аруке собралась. До поселка доехала на автобусе, дальше, спросив дорогу, пошла пешком. Пожилому человеку не так-то легко подниматься пешком в гору. Аруке шла себе потихоньку и видела уже невдалеке, выше по склону, юрту Буюркан, как вдруг ее обогнала пожилая женщина, ехавшая верхом. Бойко погоняла кобылу, перед седлом везла ягненка. Тетушка Аруке спросила у нее, правильно ли она идет к дому Буюркан, и та подтвердила, что да, правильно, затем опять двинулась в путь. Женщина понравилась Аруке с первого взгляда. Особенное впечатление произвело то, как она по-мужски везла перед собой ягненка, как, ударяя ногами, подгоняла лошадь, да и весь ее энергичный, суровый вид, живые проницательные глаза, многое перевидавшие за долгую жизнь, говорили об уме и воле. Одним пристальным взглядом она показала Аруке свое превосходство, свое старшинство. Такие люди вызывают уважение.
Уже отъехав, женщина обернулась и крикнула Аруке:
— Собак возле дома нет, идите спокойно.
У юрты Буюркан она спешилась, привязала ягненка к колышку. Буюркан не было дома — поднялась к отаре. Керез вышла из юрты, привязала кобылу. Бедел, как обычно хмурый, появился из-за дома и присел на корточки.
— Этот ваш джигит, он какой-то прокисший сегодня. Бедная молодость, доставшаяся ему! Мы в такие годы хватали за хвост самых буйных жеребят и останавливали их на скаку. С утра до вечера бегали с хребта на хребет — и не уставали. А этот, оказывается, дремлет точно кот и не отходит от огня. Эй, не сиди так, оспаривая тень у собаки, наколи дров! Зарежь вот этого ягненка! Буюркан нарочно для меня купила, — громко говорила старушка, приближаясь к Беделу. — Этот мой сынок — он внешне как будто здоровый. Но какая-то печаль гложет его. Весь иссохся, только горе может так извести. Встань, сынок, наколи дров. Давайте сготовим и поедим, что суждено нам. Керез, вот там поднимается женщина — пожилая, спрашивала вас, иди встречать, если она ваша знакомая. Я везла ягненка, и поэтому не смогла поговорить с ней. Она не из этого аила, должно быть, судя по ее расспросам. Видно, устала от дальней дороги.
Керез взглянула и радостно закричала:
— Тетушка Аруке!
«Аруке» — это слово тотчас же отозвалось в душе у гостьи. Она быстро оглянулась, затем ушла в юрту.
Керез подбежала, осыпала тетушку Аруке поцелуями, взяла ее под руку и повела к дому.
— Хорошо тебе здесь, дочка?
— Хорошо, тетушка Аруке… Как хорошо, что вы приехали! А вчера из Кемина приехала моя бабушка.
— Это та, что привезла сейчас ягненка?
— Да.
— Как зовут твою бабушку?
— Джиргал.
— Джиргал? А маму твою зовут Буюркан, да?
— Да.
Эти два имени, сказанные вместе, поразили тетушку Аруке. В одно мгновение множество воспоминаний пронеслось в ее голове. Она вспомнила события давно минувших лет, бегство и голод шестнадцатого года, гибель сотен людей на перевалах, себя юную и свою маленькую дочку, оставленную прямо в люльке незнакомым людям, когда уже не было надежды на собственное спасение… Потом… Сколько искала ее, маленькую Буюркан, расспрашивала людей — но узнала лишь одно имя: Джиргал. Вроде бы эта Джиргал взяла на воспитание чьего-то брошенного ребенка. Страшное было время, многие погибли — где уж тут было найти. Но надежда, она всегда таилась в уголке сердца. И сейчас ворохнулось: «А вдруг?» Если это действительно они, то какой тяжелой будет встреча! «Но нет, верно, уж давно сгнили кости моей бедной дочери… Ведь с тех пор сколько воды утекло, разве возможно такое совпадение?» — мысленно успокаивала себя Аруке.
Когда тетушка Аруке вошла в юрту, Джиргал делала что-то за кухонной перегородкой. Заметив вошедшую, легко, точно молодка, обернулась, внимательно посмотрела на Аруке, как бы стараясь узнать, воскресить в памяти внешность человека, которого могла встречать почти полвека назад.
— Заходите. Здравствуйте.
— Здравствуйте. Ох, поясница моя… неужели из-за того лишь, что немного прошла пешком, у меня должна болеть поясница!.. — говорила тетушка Аруке, подавая руку Джиргал. Внимательно взглянула: она или другая? Если она, то выглядит очень молодо; но, судя по рассказам о той Джиргал, напоминает ее характером: сильная, решительная.
— Проходите, пожалуйста. Старость прежде всего хватается за поясницу да за колени. Один наш знакомый говорил, что сила приходит в ноги и уходит от них; когда уйдет, тогда и наступает старость. Все пожилые, подобно вам, жалуются — «ох, поясница, ох, колени». Если покоришься старости, то она заберет твою силу, если покоришься болезни, то она заберет твою душу. Вот я и бегаю, не обращая внимания на старость. Как-то спрашивает меня один из соседей по аилу: «Когда же ты постареешь, Джиргал?» А я ему отвечаю: «Ты разве помолодеешь, если я постарею?» — он и замолчал. С одной стороны, старость сама приходит к человеку, а с другой стороны, он сам ее призывает к себе. Садитесь вот туда, на меховую подстилку. Керез! Керезбай! Жемчужинка моя! Подложи подушку гостье. Подстели ей одеяло, пусть твои мучения падут на меня! О, да паду я жертвой от твоей походки, так и радует глаз! Подстели вот это. Пусть тетушка приляжет, отдохнет после дороги. Ну, золотая моя дочка, познакомь теперь меня со своей гостьей. Не будем сидеть подобно волку, который выслеживает добычу, познакомимся, — предложила Джиргал, когда гостья удобно расположилась на подушках и одеяле-курпаче.
— Тетушка Аруке — учительница, воспитавшая нас. Мы все в школе так ее и звали — тетушка Аруке. Вы устали, наверное, да? Известили бы нас — мы бы встретили. — Керез подошла к Аруке, прильнула к ней, смотрела ласково.
— Какая может быть усталость, прошла-то всего ничего… Жаль, что доставляю вам лишние хлопоты.
Матушка Джиргал приосанилась.
— А я не позволяю себе уставать, говорю себе: неужели та Джиргал, что не уставала в давнее страшное бегство, устанет сейчас! И дочь моя такая же. Я приучила ее не терять лица ни в достатке, ни в нужде. Слава аллаху, она не забывает об этом до сих пор, знает меру и цену всему. В прошлом году здесь случилось наводнение — так она, оказывается, не пожалела имущества, собрала все, сделала запруду и отвела воду. Как я тогда была довольна ею! Раз я приезжала, когда дочка стала Героиней Труда, теперь приезжаю второй раз. Если пожелаю, приеду и без приглашения, а если не пожелаю, то не приеду, сколько бы ни звали, сколько бы ни умоляли. Я не люблю тех матерей, которые попрошайничают у своих дочерей. В наших киргизских обычаях есть и хорошее и плохое. Не люблю, когда приезжают в аил и тащат за собой детей. Некоторые привозят детей, просто чтобы показать их, познакомить с родней, но есть и такие, что желают на этом чем-нибудь разжиться. Ведь если привозят детей, то стараются получить для них подарок… Не делали бы так, не продавали бы имя ребенка! — заключила Джиргал.
— Буюркан — ваша старшая? — спросила тетушка Аруке.
— И старшая и младшая — единственная. Другие скрывают, а я говорю откровенно. Мне аллахом не суждено было родить детей. Советовали мне поклониться огню, воде, советовали пойти на могилы предков, советовали показаться ишану, но я никуда не ходила. Если аллах мне не дал, ишан даст, что ли? То, что я просила у неба, нашла я на земле, горе мне подарило мою Буюркан. Не иначе как горе, ведь я нашла ее во время бегства. Я слышала о ее матери, она твоя тезка, говорили, что она была совсем молоденькая. Видать, не выжила тогда, многие тогда погибли, в бегство шестнадцатого года… Да, хоть я и не родила мою Буюркан, но зато выходила, слава аллаху, неплохо. И теперь прямо, не скрываясь, говорю, что нашла ее. Думаешь, не было таких, которые советовали: мол, аллах тебя сохрани, не признавайся, что не родная дочь. Расскажешь ей, она подрастет, отыщет свою мать — и останешься ты сидеть пригорюнившись. Пусть, мол, лучше ребенок не знает, что у него есть родная мать. Я отвечала таким, что если сама не скажу, то ты скажешь или другой скажет, все равно рано или поздно услышит Буюркан правду — так уж лучше от меня. Вот такая у меня дочь. Если бы она нашла свою мать, которая потеряла ее на горном хребте, и оставила меня, ушла к ней, то я не заплакала бы, нет, — я сказала бы ей: иди, дочка. Эх, наоборот, это я никак не могла отыскать ее, несчастную родную мать моей Буюркан. Она ведь не виновата. Где тогда была наша свобода?! Женщины были полностью во власти своих мужей: если муж говорил, сядь подальше, она садилась дальше, если говорил, сядь ближе, то она садилась ближе, если он говорил — умри, умирала, если он говорил — воскресни, то она воскресала… Муж распоряжался, голод распоряжался, смерть распоряжалась. Бедная! Как я жалела ее, потерявшую ребенка! Конечно, не по желанию собственному лишилась родного дитяти — но кто ее заставил, муж ли, голод ли…
Сердце у тетушки Аруке чуть не разорвалось. Она поняла, она уже не сомневалась, что Буюркан ее дочь, та самая, отданная в голод другим людям, а потом потерянная, ее единственная дочь, с которой она была разлучена бедой! Она слушала Джиргал — и ее бросало то в жар, то в холод.
Джиргал заметила, что гостье не по себе, задумалась, в душе ворохнулась догадка.
— Давно вы знакомы с Буюркан?
— Да особенного-то знакомства у нас нет. Встречались только один раз. Я внимательно слежу за судьбой своих воспитанников, всегда держу с ними связь. Если приглашают, то я стараюсь поехать, хотя бы на край света. В прошлом году Керез звала меня, да я не смогла собраться. Еле раскачалась приехать в этом году. Не ко всем детям в семье относятся одинаково. Так же и учителя. Из всех моих выпускников больше других люблю мою Керез. Она часто рассказывала мне, какая хорошая у нее бабушка, и вы действительно хорошая, — ответила тетушка Аруке, с доброжелательностью поглядывая на Джиргал. В ее взгляде было написано: «Хотя тебе уже и под восемьдесят, но ты, видно, никогда и ни от кого не была в жизни зависима. Крепкий характер надо иметь…»
Джиргал, заметив, что разговор принимает более глубокий и откровенный характер, сказала Керез:
— Золотая моя Керез, ступай к своей маме, скажи, что приехала гостья. Хоть уж немного осталось до вечера, но все же пришли ее пораньше. Если бы я в своем доме была, тогда другое дело, а здесь даже чай как следует не смогу вскипятить. Сделай так, моя надежда.
Девушка ушла. Аруке-апа облегченно вздохнула. Хоть она и желала, чтобы Керез не слышала предстоящего разговора, но сказать об этом в чужом доме постеснялась.
— Сколько вам лет, байбиче?
— Мне? Я Джиргал, которая сотворена вместе с землей, я вечная! Телу моему немного недостает до восьмидесяти. Если бы я два раза не болела тяжело, то была бы еще по-молодому крепкой. Один раз была эпидемия тифа, другой раз напала лихорадка, которая мучила всех. Не знаю, как эта болезнь оказалась в горах. Может быть, кто-нибудь занес ее в тот страшный год бегства. — Джиргал показала гостье на место возле себя, приглашая сесть поближе. Аруке подвинулась к ней. — Когда я пожелала взять ребенка в люльке, меня отговаривали. Я рассердилась, закричала: «И без того гибнут киргизы, разве их развелось слишком много, дай сюда!» Люди, которым оставила младенца его несчастная погибающая мать, сказали, что зовут девочку Буюркан. Я не стала менять имя ребенка. Ох-хо, в те годы одному аллаху было известно, кто погибнет и кто выживет. Вот я и решила не изменять имени, которым нарекли ее с любовью. Если ее родители останутся живы, то когда-нибудь узнают ее по имени.
— Если бы вы встретили ее мать, то осудили бы ее сейчас? Конечно, она достойна осуждения — оставила своего ребенка, а потом не сумела отыскать. Как только она выдержала такое — потерять малышку, которую носила под сердцем… Сгинула бы лучше, чем становиться матерью, — сказала тетушка Аруке, как бы испытывая Джиргал.
Байбиче быстро оглянулась.
— О! Зачем же я стану ее осуждать… Я благодарила ее. Как могу ругать человека, который наделил меня ребенком! Я сказала: «Дай ей аллах не видеть плохого». Говорили, что мать ребенка была совсем молоденькая, и если она жива, то ей, наверное, нет еще семидесяти лет. Но нет, не думаю, что выжила тогда. Я ведь искала, расспрашивала о ней… Да, вот как повернулось — эта девочка стала Героиней… Куда бы она ни ходила, теперь все двери открыты перед ней настежь, слава о ней разошлась по всему Союзу. Не знаешь участи ребенка в люльке… Разве думала я, когда взяла ее, что она так поднимет уважение ко мне!
— Та женщина, которая отдала, потеряла своего ребенка, — это я, тетушка Джиргал, — вдруг выпалила Аруке.
— Что? Не может этого быть!
— Осуждайте, казните меня… Что бы вы ни сказали, я скажу о себе хуже. Я приехала сюда, не зная… Если бы знала, не приехала бы. Как посмела бы прийти сюда! Сколько бы я ни оправдывалась, что тогда я не была вольна, что тогда женщины, точно деньги, переходили из рук в руки, что был голод и я не знала, останусь ли в живых… как это объяснить молодым, которые не видели таких дней?
— Так ты и есть та самая Аруке?
— Да.
— Не верю. Ты не она! Откуда ты взялась — точно до сих пор лежала под землей, а теперь вдруг выехала мне навстречу на черном коне?
— Я тогда умерла один раз, теперь я умерла другой раз, тетушка Джиргал. Почему я тогда не имела такую силу, как у вас! Лучше бы я упала, осталась там рядом с люлькой. Значит, я тогда была ребенком, могли вертеть мною как хотели. Теперь я рассказываю об этом ученикам — получается будто сказка. Из каждого уголка Киргизстана приезжают заниматься в город юноши и девушки, все они слышат мою сказку. Расскажу — и кажется, легче становится тяжесть, давящая меня. Много лет я учу детей. Немало из них уже и прославились. Но то, что я воспитала и обучила сотни, не смоет моей вины перед одним-единственным, моим собственным ребенком. Меня состарили эти мысли…
Джиргал посмотрела внимательно, оценивающе.
— Скажи! Пусть услышит Буюркан, скажи ей… Пусть услышит, что ты ее родная мать. Где мне знать, о чем она думает, что у нее на душе. Хотя внешне кажется веселой… Может быть, она прислушивается, ждет, что ты вдруг появишься, хотя и не подает вида? Разве чужой ребенок станет родным! Когда вырастет — уйдет. Разве мало таких, которые покидают воспитавших их с малых лет. Скажи! Пусть она найдет тебя, пока я жива! — Губы Джиргал дрожали. Несмотря на то что говорила уверенно, в душе она очень напугалась: «А если Аруке действительно признается? Ведь не может не потянуться к матери ее родное дитя. Что я буду делать, неужели теперь почувствую, что у меня не было детей? Неужели останусь одинокой? Как мне быть? Может, лучше не дожидаться возвращения Буюркан, уехать обратно в Кемин, чем увидеть все это? Нет, нет, это было бы легкомыслием, проявлением слабости. Да, правильно… Если Аруке говорит, что Буюркан ее дочь, то пусть скажет открыто. А я — посмотрю… Почему унижаю себя боязнью — разве я в чем-нибудь виновата? Страшусь только разлуки с Буюркан — но ведь давно и так могло случиться, что смерть бы разлучила нас…»
Тетушка Аруке заметила испуг в глазах собеседницы.
— Я слышала, что вы мужественный человек, байбиче, — что же случилось сейчас? Вы так реагируете на шутку, а если бы я была действительно та самая Аруке, если бы я была матерью Буюркан, то как бы вы тогда почувствовали себя? Бедняжка мать всегда остается матерью, оказывается. Я пошутила, не беспокойтесь. Я другая.
— Другая?
— Да.
— Нет, ты та самая.
— Кто же лучше знает — я или вы?
— Я-то уже обрадовалась, что та самая… Ты правду говоришь?
— Да.
— Жаль. Если бы ты была та самая, если бы увидела свою дочь, достигшую такой высоты, если бы порадовалась, если бы сказала мне слова благодарности, то разве и я не почувствовала себя высоко? Можно ли так шутить! — Джиргал поглядела гостье в глаза — и увидела, что та говорит неправду.
Тетушка Аруке думала сейчас о Джиргал с жалостью. «Если она столько лет растила, воспитывала Буюркан как родную дочь… и вдруг появляюсь я, точно из-под земли… Нет, это не по совести. Буюркан теперь не моя, а ее дочь. Будет правильно, если я уеду, счастливая уже тем, что Буюркан жива, что я увидела ее. Я не имею права ранить сердце этого человека. Хоть я и не виновата, но я должна терпеть. Пусть Буюркан ничего не знает. Если я открою эту тайну, если расскажу все Буюркан — что же будет с Джиргал? В один день постареет, несчастная. Может быть, она и не стареет только благодаря своей дочери», — так думала Аруке.
— Если бы я и была взаправду та самая Аруке, все равно не имела бы права назвать себя, — ответила она Джиргал. — Нельзя шутить судьбой. Человек сажает растение, выхаживает его, но тень его защищает каждого, плоды принадлежат всем. Буюркан не ваша и не моя дочь, теперь она дочь народа. Даже больше — гордость народа. Надо ли нам спорить. — Желая успокоить Джиргал, Аруке заговорила о другом: — Посмотрите-ка, я привезла московскую газету. — С этими словами тетушка Аруке показала Джиргал страницу, где была фотография картины, посвященной Буюркан.
— О, моя милая! — обрадовалась Джиргал. — Точно, она! Это когда случилось наводнение… Как же удалось нарисовать художнику, будто сам видел все! Смотри, верблюд лежит, загораживая поток… И запруда — одеяла, постель… все осталось под камнями.
— Да, в прежнее время осталась бы нищей, не знала бы, куда приткнуться, грелась бы у чужого очага, побиралась бы… Наше время подняло достоинство трудового человека. Я простая учительница, но и меня всюду встретят с почетом. Дети, которых я выучила, все равно что родные. Скучаю о многих, если не получаю писем, если долго не вижу их. Зимой Керез ездила сдавать экзамены, навестила меня, и так все время: один приезжает, другой уезжает. Если нет никого — чувствую, будто чего-то не хватает мне, чувствую пустоту. Керез обижалась, что я до сих пор не побывала у них дома, — и я дала слово, что соберусь. Хорошие здесь места. Есть ли еще где такие горы, как в Киргизии! На вершинах лежит снег, а подножья покрыты зеленой травой. Овцы блеют, коровы мычат, лошади ржут, верблюды ревут — это жизнь, это богатство. В Африке есть такая земля — Сахара, люди там стонут, желая увидеть каплю воды. Даже за деньги ее не купишь! А у нас в каждом ущелье бежит ручей. Я еще не видела Кемин, говорят, удивительное место… — Тетушка Аруке нарочно упомянула о родине Джиргал, стараясь перевести разговор на другое.
— Нет, на земле не сыщешь места, подобного Кемину, — отозвалась тут же байбиче. — Какие там сосны, можжевельник. Скот, который пасется на Кок-Ойрок, за зиму не съедает там всю траву. А какой чистый воздух! Здоровый климат, люди живут в достатке, потому и не старятся долго. У нас много таких, которым уже по сто лет. Восьмидесятилетние, девяностолетние свободно ездят верхом без седла. А семидесятилетние участвуют в козлодрании. Ты, оказывается, совсем слабая, Аруке, — тебе ведь еще нет семидесяти, а ты уже состарилась. Посмотри на меня: если и найдешь морщины на моем лице, зато в душе у меня — ни единой морщины. Морщины на лице полбеды, вот морщины в душе — это уже настоящая беда…
Пришла Буюркан. Издали звонко подала голос, радуясь приезду Аруке.
Гостья вышла из юрты.
— Если бы я знала заранее, разве не встретила бы вас с лошадью! Опозорилась я, эх, заставила вас пешком далеко подниматься в гору! Здравствуйте, тетушка!
— Здравствуй, милая, как ты поживаешь?
— Хорошо. Устали вы, беспокоюсь за вас.
— Если ноги устанут, через час об этом позабудешь. Пусть уж лучше душа не устанет, дочка. Вот если душа устанет — это на тысячу дней. Тут-то что, раньше мы до самого Уч-Турфана шли пешком.
— И мама моя приехала, как хорошо, вам вдвоем не будет скучно. Что же вы стоите во дворе, заходите в дом! Мама! Мамы разве нет в доме?
— Здесь…
— Бедел! Эй, Бедел!
Бедел сидел на камне в сторонке. Он не слышал голоса Буюркан, но по привычке следил, не обращается ли она к нему, и увидел, что она показывает на ягненка. Он привел ягненка и попросил благословения. Рядом с домом и заколол.
— Ты познакомилась с тетушкой, мама? Это учительница Керез.
— С твоей матерью? Познакомилась. Хорошее у нее имя — Аруке.
«Зачем она говорит так? — удивленно подумала Буюркан и обернулась к матушке Джиргал. — Или я ослышалась?» Джиргал прямо и строго смотрела в глаза Буюркан, и та ничего не смогла заподозрить: знала прямой характер матери — она не любила таиться; поскольку сейчас Джиргал молчала, ничего не сказала больше, Буюркан решила, что не поняла ее, ослышалась, и занялась привычными хлопотами.
— Проголодались, наверное, с дороги. Керез, помоги мне.
Не посмотрела внимательно на гостью — потому и не заметила, что глаза у нее наполнились слезами.
Когда Буюркан подняла самовар и пошла к выходу, Джиргал проговорила:
— Вот видите — это и есть моя дочь, которую я нашла во время того страшного бегства. — «Я нашла» она произнесла с ударением.
Раньше, когда Джиргал упоминала об этом, Буюркан не обращала внимания, но на этот раз слова матушки Джиргал задели ее. Подумала — к чему говорить лишнее при постороннем человеке? Постаралась загладить неловкость:
— Мама у нас такая, любит пошутить. Никогда не скажет, что я ее дочь. Говорит, что нашла. Смотри, твою шутку гостья примет за правду, не шути так…
— Конечно, я пошутила, дочка. Если, б знала, что ты рассердишься, разве стала бы говорить…
Аруке пробыла в доме Керез два дня — Буюркан и особенно Керез ласково ухаживали за обеими гостьями.
Когда пришло время собираться, Аруке отвела в сторону Джиргал и сказала ей:
— Я очень прошу вас, не говорите Буюркан ничего. Лучше, если она не будет знать. Пусть не тревожится, думая обо мне. Я и не надеялась увидеть ее — а вот увидела. Разве могу желать большего? Хоть я и не воспитывала Буюркан, но зато я воспитала Керез и довольна этим. Пусть живет благополучно. Вы, оказывается, мать лучше меня, спасибо вам!
Джиргал мизинцем смахнула слезы, потом отвернулась, чтобы не показать их Буюркан и Керез.
— Тетушка Аруке, до свидания! Счастливого вам пути! — пожелала Буюркан, закрывая дверцу колхозной машины.
«Тетушка Аруке, вместо того чтобы говорить — мама. Эх, судьба… Ты разделяешь то, что нельзя делить, разлучаешь тех, кого нельзя разлучить… Моя дочь — чужая мне, а чужая женщина сделалась для нее родной матерью», — подумала Аруке, закрывая глаза.
На другой день на рассвете уехала Джиргал.
19
Керез поднялась на рассвете. Поела, вывела отару. День выдался необыкновенно ясный, прозрачный. Даже вершина Уй-Учка, обычно окутанная облаками, сегодня видна. Весенняя радость входила в душу.
Все последнее время Керез пасла овец, меняя пастбища. Эти два дня она выгоняет их в Кууш-Жылгу, где только что сошел снег. Там мало кто пас скот, поэтому овцы возвращались вечером с туго набитыми брюхами. «Животные заметно прибавили в весе», — сказала Буюркан, и Керез решила еще на один день вывести отару в Кууш-Жылгу. Мамырбай не знал, где будет сегодня со своей отарой Керез, поэтому с утра пораньше он погнал овец на хребет и оттуда следил за передвижениями Керез. Когда она взяла направление на Кууш-Жылгу, он решил отвести свою отару на Кекиликтуу-Бет; расстояние между пастбищами было небольшое, отчетливо можно было разобрать даже негромкий крик.
Керез не спеша гнала отару вверх по склону, к пастбищу у Кууш-Жылги. Мамырбай понял ее план и повел свою отару чуть быстрее, чтобы успеть догнать девушку. Когда день разгорелся, Керез действительно приблизилась к выбранному пастбищу. Мамырбай, неожиданно появившийся совсем рядом, и напугал и обрадовал ее. Напугал потому, что выскочил неожиданно из-за большого камня; обрадовал потому, что девушка не видела его два дня и соскучилась. Они остановили свои отары и подошли друг к другу. Сладкие минуты, жаль, что их приходилось считать. Мамырбай подхватил Керез на руки и, перепрыгивая с камня на камень, устремился вверх по склону. Они — Мамырбай и Керез — сейчас сделались как бы частью прекрасной и гармоничной природы, окружавшей их. Ими любовались птицы, на них смотрели с удивлением барсы и горные козлы. Мамырбай казался неутомимым, он, похоже, способен был поднять Керез к звездам, к солнцу. В его сильных руках Керез была легкой как пушинка, чистой как искра, прекрасной как цветок. Она не просила отпустить ее — нет, наоборот, она желала, чтобы Мамырбай нес ее дальше, нес без конца, и как высоко он не поднимался, ей все казалось мало. Наконец склон кончился — они были на вершине, и скала Кыз-Булак открылась им как на ладони.
Девушка осторожно выскользнула из рук джигита.
— Помнишь, Мамыш, ту ночь, когда я потерялась? — спросила она. — Тогда мы оба были маленькие. Ох, как кричала, звала меня мама! Искала, искала… И ты тоже звал. Мама спрашивает тебя: «Где вы играли? Когда ты видел ее в последний раз?» А ты дернул носом и отвечаешь: «Мы играли в прятки. Она, должно быть, спряталась, а я пошел искать. Никак не мог найти ее. Кругом все обыскал. Не знаю, что с ней случилось». Все напугались, кричат громко, зовут меня — а мне нравится, что меня ищут. Лежу не шевелясь за камнем и хочу, чтобы меня еще звали, чтобы еще больше напугались… Тут мама оказалась возле меня. Кричит, зовет… А я возьми да и обхвати ее ноги — вот, мол, я, здесь я… Мама снова закричала — уже от испуга. Ох и нашлепала же она меня тогда! Помнишь, Мамыш?
— Ну и память у тебя! Тогда меня тоже отшлепала мама… А после того нам долго не разрешали играть вместе, да?
— Да…
— Скажи мне, мое сердце…
— Не скажу! Оставь такие слова. Сейчас еще рано. Давай хоть закончим второй курс. Куда я сбегу, куда ты сбежишь?
— Керез! Моя Керез! Согласись же!.. Чем вот так высматривать тебя на дороге, были бы все время вместе, не приходилось бы искать друг друга…
— А разве плохо, когда люди ищут друг друга? Чем больше соскучишься, тем сильнее будет твоя любовь. Ты скучаешь по мне?
— Да. Если я не вижу тебя хоть один день, уже не могу быть спокойным. Мир делается серым, все вещи смотрят на меня хмуро. Не могу есть, не могу спать… Всю ночь не смыкаю глаз. Была бы ты рядом, тогда…
— Что — тогда?
Брови Керез взметнулись как бы в удивлении. О, сколько всего было в этом взгляде! Там было счастье, там было ожидание, и спокойствие, и беспокойство, и обещание, и свет… и невысказанное там было, и тайна там была, и игра, и лукавство… Да, любовь многое оставляет невысказанным, да и как выскажешь бесконечное…
Мамырбай был счастлив.
О, если бы эта минута длилась вечно!..
Керез была сегодня необыкновенно весела и открыта и этим еще больше притягивала к себе Мамырбая. Он земли не чувствовал под ногами.
— Ты мое счастье!
— И ты…
— Керез! Какое красивое имя!
. . .
. . .
Наконец Керез спохватилась:
— Овцы твои ушли, Мамыш.
— Пусть.
— Не говори так. Иди. И мои овцы… Ох, они… посмотри, уже ушли к Кууш-Жылге. До свидания! До свидания, Мамыш! Вечером ты поднимись на хребет и пой, хорошо? Если не будешь петь, то я обижусь!
— Хорошо! Ты только слушай, ладно?
— Буду слушать! До свидания!
Они еще посмотрели друг на друга — и разошлись в разные стороны. Нет счастья в мире большего, чем любовь…
В верховьях Кууш-Булака снег еще не сошел, да и ниже по склону еще виднелись белые островки. Похоже, овцы могли бы насытиться и там, но выше трава была лучше. Керез еще не водила туда отару и решила сейчас попробовать подняться. Но для этого необходимо было пройти все еще заснеженный теневой склон.
Керез подгоняла овец вверх, направляя их к облюбованному ею пастбищу. Передние уже ступили на снег. Проваливались по брюхо — чувствовалось, что уже начало таять. Но разве остановишь отару, когда уже половина перевалила через сугробы? Керез была как раз посредине снежного поля, когда с соседнего хребта послышалось протяжное пение Мамырбая. Его песня отозвалась в каждом ущелье, в каждой впадине. Но горы в это время очень капризно реагируют на малейший звук. То ли громкий голос сделался причиной, то ли просто уже настала пора, только сверху с шумом тронулся оползень. Захватил с собою несколько баранов и стремительно понесся вниз. Вместе с баранами полетела вниз, не смогла удержаться и Керез. Лавина сошла не с одной стороны — с обеих сторон ущелья сразу. Два мощных вала встретились внизу, ударились, перемешались — и Керез на мгновение оказалась между ними. Все-таки она старалась подняться. Кое-как выкарабкалась из-под снега — ее засыпало выше пояса. Взглянула — и увидела торчавшие из снежного месива головы, ноги, спины овец… Керез испугалась: рванулась было, хотела разгрести снег, чтобы помочь животным… Сгоряча поднялась — и тут же упала. Перед глазами зарябило, закачалась, поплыла земля. Она не могла наступить на ногу, не могла шевельнуть рукой… Силы оставили ее.
— Мамыш! — прошептала она, обнимая снег. Платок ее остался где-то в сугробе, одежда была разорвана, косы разметались по снегу.
Мамырбай, конечно, не слышал, как девушка звала его, не слышал, но, увидев поднявшееся облако снежной пыли и услышав шум оползня, понял, что случилась беда. Он бросился бежать. Спотыкаясь, падая, взобрался на хребет — и увидел, как преобразилась земля. Сердце его дрогнуло — он разглядел, что среди снега неподвижно лежала Керез.
— Керез! Счастье мое! Надежда моя!.. Керез!
Прилетел ли он, прибежал ли — но в одно мгновение джигит очутился около девушки. Поднял ее на руки. Сердце Керез билось еле-еле. Она почувствовала, услышала, как Мамырбай звал ее, покрывая поцелуями ее лицо.
— Мамыш!.. Мой Мамыш!.. Было так хорошо…
Она собрала последние силы, чтобы сказать… чтобы проститься.
— Керез… Керез… не оставляй меня одного!
— Мамыш… Скажи маме, пусть она похоронит меня в Кыз-Булаке. Приходи на мою могилу…
— Керез, не умирай! Керез, что я буду делать!
Глаза девушки закрылись. Она вздохнула еще — и сердце ее остановилось.
Мамырбай долго лежал в полузабытьи, обняв Керез. Происшедшее казалось ему бредом, кошмаром, видением. Потом он заплакал. Потом закричал… Он умолял, просил, звал ее, но Керез не отзывалась. А лицо ее — оно было по-прежнему прекрасным.
Оглохший и ослепший от горя, он взял ее на руки и пошел. Господи, ведь еще совсем недавно он, играя, нес ее в гору, переполненный счастьем… А теперь он понуро шел вниз, он еле шагал, сил не было, по лицу его катились слезы, он чуть не падал… Ноша была непосильна. Слезы скатывались, падали на землю. Вместе с ним плакали горы, камни, река. Небо нахмурилось, грузно нависли облака… Доброе сердце, чистое, нежное, ласковое сердце перестало биться.
Когда Мамырбай уже спустился от Кууш-Жылги, ему встретился Бедел — тащил вязанку хвороста. Увидев на руках у Мамырбая Керез, он сначала непонимающе вытаращил глаза, потом с криком бросился навстречу. Вязанка покатилась вниз. Подбежал, обнял Керез. Казалось, он только тогда осознал, что Керез уже нет в живых, когда его губы коснулись ее холодеющего лица. Он два раза ударил себя по груди кулаками и пронзительно закричал — нечленораздельный крик этот был страшен. Он переменился в лице, дрожал… Стал бить себя кулаками по голове, раздирать на себе одежду… С воплями побежал вниз, пугливо оглядываясь и крича. Рассудок его помутился…
Буюркан, услышав о смерти дочери, покачнулась и упала, точно подрубленное дерево. Долго не открывала глаза, когда очнулась, ничего не могла сказать, только звала слабым шепотом дочь…
На другой день весь поселок хоронил Керез возле скалы Кыз-Булак — таково было ее последнее желание. Сейчас на том месте стоит памятник.
Прошло несколько лет после смерти Керез. Мамырбай окончил институт и вернулся в свой колхоз зоотехником. Его часто видят у могилы Керез — там всегда лежат цветы. И другие люди, даже не знавшие Керез, стали приходить сюда, особенно парни и девушки. Влюбленные дают здесь друг другу клятву верности. Старики считают это место священным.
Если вам, читатель, доведется побывать в Таласе, не уезжайте отсюда, не повидав Кыз-Булак!
ОБ АВТОРЕ («Двухслойная полемика»)
Насирдин Байтемиров — имя, хорошо известное в киргизских аилах и городах: люди поют его песни, читают его стихи, смотрят его драмы, задумываются над романами. Один из старейших, самых уважаемых…
Многое видевший, о многом рассказавший в книгах — о таких с полным основанием говорят: народный писатель.
Н. Байтемиров долгое время работает над циклом романов, охватывающих историю киргизского народа с предреволюционных времен. Романов непростых по содержанию — как непроста была жизнь, непростых и по стилю — совершающих переход от эпической к психологической прозе, наполненных борьбой, клокотанием жизни, бешеными схватками добра и зла — и одновременно поэзией и красотой, преданностью и любовью.
В центре романа — каждого в этом цикле — женщина, вокруг нее обращается жизнь, она — родник, она источник. Недаром автор дал общее название всему циклу — «Мир прелестных», — то есть о женщине. О женщине юной и старой, свободной и проданной, увешанной украшениями и бедной, любимой и растоптанной, смиренной и борющейся — и всегда любящей, всегда работящей, всегда верной и частенько сильнее мужчины — таковы женщины романов Насирдина Байтемирова.
Как бы внешне ни складывалась — удачно или нет — судьба женщины, ее жизнь в романах этого цикла — всегда драма: таков ее мир, так она понимает его.
В двух романах Насирдина Байтемирова — «Сито жизни» и «Девичий родник», — вошедших в настоящее издание, мы тоже видим драматично сложившиеся женские судьбы — читатель сам может судить о том, в какой степени изменившееся время повлияло на положение женщины.
Два романа — «Сито жизни» и «Девичий родник». Сочетание давнего и сегодняшнего, молодости и старости, бури и покоя. Но так ли? Есть ли покой в старости?
…Серкебаю под семьдесят. Почти полвека он женат на своей Бурмакан. У них три дочери, которые теперь живут в городе. Уже более тридцати лет Серкебай председательствует в орденоносном колхозе «Красный мак». За это время некогда нищее становище превратилось в современный поселок из благоустроенных домов с водопроводом, электричеством и газом, с лампами дневного света на улицах, с роскошным Дворцом культуры, с величественным памятником односельчанам, погибшим на фронтах Отечественной войны. В колхозе мощная сельскохозяйственная техника, личные автомобили, в каждой семье телевизор…
Итак, еще один роман о колхозном строительстве? О том, как тяжко приходилось раньше простому киргизу и как радостно стало жить теперь? В том-то и дело, что нет! В том-то и дело, что при всей обычности исходных фабульных мотивов это роман во многих отношениях необычный.
Прежде всего «Сито жизни» книга о том, как трудно стало жить Серкебаю именно теперь, когда он столького достиг, когда годы и положение обязывают его — он выходит на пенсию — оглянуться и подвести итоги всему сделанному и совершенному им на земле. Итоги не хозяйственные, — конечно, они налицо, — а нравственные. Это книга о том, как трудно взглянуть правде в глаза, когда память невольно воскрешает твои собственные поступки и снова заставляет, но уже мысленно, пройти через былые испытания. Когда сам становишься нелицеприятным судьей всего прожитого и пережитого тобою.
При всем том, что Серкебай многого в жизни достиг и пользуется всеобщим уважением, ему есть из-за чего терзаться. Были, оказывается, в его биографии поступки, которых он стыдится тем больше, чем старше становится. И уж они-то будут мучить его до самой смерти. Так что перед нами не столько летопись жизни героя, сколько история его прегрешений.
Их немало, и они разного свойства. Еще в юности Серкебай, будучи батраком, безропотно выполнил подлое поручение своего хозяина. Потом ему приглянулась красивая женщина, и он, не задумываясь, убил ее мужа, а сам женился на ней. Потом в трудную минуту он эту женщину бросил. (Через отношения с женщинами, через Аруке и Бурмакан многое высвечено в Серкебае.) Потом, внезапно разбогатев, стал помыкать своим бывшим другом. Потом…
Даже уже став председателем колхоза, Серкебай не раз проявлял далеко не лучшие стороны своего властного, вспыльчивого характера. А разве не бывало так, что его хваленая решительность оборачивалась жестокостью, твердость — бездушием, непреклонность — черствостью? Казалось бы, бремя прожитых лет должно было сгладить чувство вины, приглушить рефлексию. Но, хотя годы и изменили его былые представления о мире, о себе, о долге перед людьми, именно по этой причине их бремя к концу жизни стало еще более тяжким. И вот — покаянная исповедь…
Словом, перед нами долгий, неизбывный спор новых нравственных норм и моральных установлений с прежними полудикими понятиями простого человека о добре и зле, о праве, о чести. И спор этот разворачивается на биографии Серкебая, полной злоключений и испытаний. По существу, это спор-диалог героя с самим собой, с собой прежним.
А сквозь этот диалог словно бы просвечивает еще один спор, разгорающийся в недрах самой стилистики романа. То есть уже не этический, а эстетический и — в отличие от первого — совершенно непредумышленный и, что еще важнее, так и не завершенный. Если нравственная полемика, которую Серкебай ведет с самим собой, явно приводит к торжеству новых взглядов над старыми, то результат стилевой полемики, какую являет собой повествование Н. Байтемирова, неопределенен. Этот спор никак не разрешается и повисает в воздухе. Так что говорить о торжестве новаторского или, наоборот, традиционного начала применительно к этому роману не приходится. Речь, скорее, может идти о взаимном сосуществовании тех и других тенденций попеременно с их взаимной оппозицией.
Перед нами тот нелегкий для истолкования случай, когда спор художника с самим собой еще не окончен, потому что он не окончен и для литературы в целом. В данном случае для киргизской прозы, а может быть, и гораздо шире — для всех среднеазиатских литератур.
В романах Н. Байтемирова некоторые элементы самой современной мировой романистики словно бы сплелись в тесных объятиях с устойчивыми навыками фольклорно-мифологического мышления. Здесь все противоречиво, все устремлено к полярным крайностям, и в то же время все жаждет единства, взыскует синтеза. Вплоть до того, что явные изъяны этой причудливой поэтики являются порой прямым и непосредственным продолжением ее выразительного своеобразия. И наоборот, художественная незаурядность многих страниц этих романов почему-то воспринимается как прямое следствие их «намешанной» стилистики.
Во всяком случае, одно можно сказать твердо: романы возникли на марше, в дороге, на перепутье. Отсюда все их еще не просеянные через сито устоявшейся, эстетической системы крайности, все их «излишества». Композиционные, фабульные, словесные, интонационные, какие угодно. Все их впечатляющие неожиданности, но и все их очевидные неловкости.
Начну с того, что роман «Сито жизни» написан в никак не свойственной восточной традиции форме внутреннего монолога, иногда переходящего в монолог «косвенный», а иной раз и в ничем не сдерживаемый, необузданный «поток сознания». Именно так возникают перед читателем различные эпизоды жизни Серкебая, выхваченные из прошлого отнюдь не в хронологическом порядке, а чисто ассоциативно, порой без всякой логической связи с предыдущим и последующим воспоминанием.
Бывает в этой книге и так, что какое-нибудь видение прошлого, едва обозначившись, внезапно влечет за собой другое, а то, в свою очередь, третье, и тогда мысль героя ветвится у нас на глазах, превращается в череду лирических отступлений, уводящих в самые глубины его памяти. А иной раз воспоминания героя так же неожиданно обрастают обильным этнографическим материалом, прихватывая попутно то старинное предание, то поучительную притчу, а то и просто какое-нибудь бытовое происшествие. Я уж не говорю о поговорках, пословицах, описаниях различных ремесел, обрядов, праздничных и культовых действий, чему в книге уделяется немало места.
Тут важно еще отметить, что решающие повороты в жизни Серкебая так или иначе связаны с решающими событиями в жизни его страны, его народа. Исторический фон романа «Сито жизни» вобрал в себя и восстание 1916 года, и голод той поры, и массовое переселение в другие края, и установление Советской власти в Киргизии. На судьбу и самосознание героя не могли не повлиять коллективизация, суровое время Отечественной войны, трудности восстановления хозяйства после победы. Словом, эту книгу можно было бы рассматривать как сжатую энциклопедию киргизской жизни в двадцатом столетии, если бы не одно обстоятельство.
Как это ни странно, но вопреки «модернистскому» ассоциативному течению воспоминаний повествование Н. Байтемирова нет-нет да и соскальзывает, если не прямо в сказку, то в заведомо чудесную сферу, где легко может произойти нечто небывалое, почти фантастическое. Где прихоти воображения, счастливые совпадения и роковые случайности — о радость! — позволяют хоть на время позабыть о докучливых мотивировках (и сюжетных, и психологических), о событийной логике, о причинно-следственных связях.
Да, сказочное «вдруг, откуда ни возьмись…» порой обладает в романе тем же правом обоснования, что и объективный ход вещей. И не потому, что автор сознательно утверждает свое право на полную свободу полета фантазии, на безудержную гиперболу, ибо иначе какие-то феномены бытия не могут быть им выражены. Нет, для Н. Байтемирова соскальзывание в фабульную и образную избыточность, в различные «страсти-мордасти» — рудименты традиционной эстетики, от которых он просто не сумел еще избавиться. За ними нет никакой художественной дерзости, для него это не эксперимент, а путь наименьшего сопротивления, уступка прошлому. Ему так легче, привычнее. Даже несмотря на то, что скрупулезно аналитическая природа внутреннего монолога тянет роман в прямо противоположную сторону. В этом смысле второй роман, «Девичий родник», уже стоит ближе к современной психологической прозе.
Выручает темперамент, редкостный повествовательный напор, который в какой-то мере сглаживает контрасты, смягчает толчки на стыках — жанровых, тематических, хронологических и всяких иных. Переходы из настоящего в прошлое и из давнего в недавнее время так же, как из реального плана в изображаемый и из области чистой фантастики в область чистой эмпирики, как бы растушеваны здесь энергией словесного потока.
Но и поток этот, в свою очередь, тоже не однороден, тоже внутренне полемичен, что, кстати сказать, чутко уловил переводчик книги С. Шевелев, сумевший передать ее ритмическую конфликтность. С одной стороны, лавинообразное, обвальное обилие текста (иногда целые страницы, почти как у Фолкнера, идут без «передыха», без абзацев, усыпляя наше внимание настойчивыми повторами, смысловыми возвратами, даже тавтологией), а с другой — короткие, лихорадочно отрывочные фразы, таящие в себе интонацию взволнованной исповеди.
Конечно, самое сопряжение столь полемичных тенденций иногда может выглядеть эффектно и даже способно высечь яркую эмоциональную искру. И все же структурная разнородность романа Н. Байтемирова «Сито жизни» заметно сказывается на его социальной содержательности, затрудняет его непосредственное восприятие (вернее, его непосредственное приятие). Ведь стилевая целостность, стилевая последовательность всегда так или иначе имеет прямое отношение к убедительности характеров и обстоятельств, что демонстрирует нам автор во втором романе — «Девичий родник». (Но, конечно, главная удача романа — центральные женские образы, Керез и Буюркан.)
Почему же в таком случае я все же придаю этой книге принципиальное значение? Потому ли, что она так необычно рассказывает о трудном становлении самосознания нашего современника? Не только. Ведь кроме этого романы Н. Байтемирова — необычайно красноречивое свидетельство трудного становления современной повествовательной культуры, тех сложных стилевых борений, которые характерны сегодня для многих советских литератур.
«Сито жизни» и «Девичий родник» возникли словно бы на самом крутом перевале дороги, ведущей от вчерашних художественных условностей к завтрашним. И в этом смысле книга эта — явление чрезвычайно органичное.
Б. РУНИН
Примечания
1
Тундук — верхнее отверстие в юрте.
(обратно)2
«Манас» — эпос киргизов.
(обратно)3
Кара Молдо — знаменитый сказитель «Манаса».
(обратно)4
Комуз — народным музыкальный инструмент.
(обратно)5
Тебетей — меховая шапка.
(обратно)6
Арча — можжевельник.
(обратно)7
Байбиче — почтенная, старая женщина.
(обратно)8
Бий — судья, знавший обычное право.
(обратно)9
Балта — топор.
(обратно)10
Сырты — плато, долины в горах.
(обратно)11
Чыгдан — загородка в женской (правой) половине юрты, где хранятся продовольствие и посуда.
(обратно)12
Аяккап — украшенная орнаментом сумка для посуды.
(обратно)13
Уук — деревянные части остова юрты.
(обратно)14
Сандык-Таш — каменный сундук.
(обратно)15
Присутствующие по очереди исполняют песни, передавая друг другу чашу.
(обратно)16
Кыдыр — счастье, встречающееся путнику в образе человека.
(обратно)17
Коокор — бурдючок из тисненой верблюжьей кожи, по форме напоминает плоский графин.
(обратно)18
Аке — отец.
(обратно)19
Боорсак — жаренные в жире кусочки теста.
(обратно)20
В 1916 году, после объявления о призыве на тыловые работы, восстания и столкновения с царскими карательными отрядами, множество киргизов бежало за пределы Российской империи. Большое количество людей погибло от холода и голода в горах, по дороге, затем на чужбине. Уцелевшие стали возвращаться в родные места в 1917 году.
(обратно)21
Курджун — переметная сума.
(обратно)22
Акжака — белый ворот.
(обратно)23
Албарсты — демоническое существо в образе женщины.
(обратно)24
Джайлоо — пастбище в горах.
(обратно)25
Комурчу — угольщик.
(обратно)26
Хашар — совместная работа в помощь одному человеку.
(обратно)27
Аяш-апа — жена друга отца.
(обратно)28
Жума — пятница. Ишенби — суббота. Конок — гость. Талкан — толокно.
(обратно)29
Кайберен — дикий горный козел.
(обратно)30
Чилде — мороз.
(обратно)31
Кырчыным — так называет в плаче мать своего умершего молодым сына.
(обратно)32
Жаш ойрон — так называет в плаче вдова своего умершего молодым мужа.
(обратно)33
Кыштоо — зимовье.
(обратно)34
Гулькайыр — цветок; в переносном значении — прекрасная, достойная.
(обратно)35
Ширдак — толстый войлочный ковер с национальным орнаментом
(обратно)36
Учтук — металлические (серебряные) украшения, вплетаемые в косу.
(обратно)37
Ай — луна.
(обратно)38
Джут — бескормица.
(обратно)39
Бозо — напиток из проса.
(обратно)40
Керез — «завещанное Кара», «память о Кара».
(обратно)41
Айчурек и Семетей — герои эпоса «Манас».
(обратно)42
Марга — солончак.
(обратно)43
Алчадай — от «алыча».
(обратно)44
Чигдан — часть юрты, отгороженная под кухню.
(обратно)45
В сторону Киблы — т. е. обратившись лицом к Мекке.
(обратно)46
О событиях прошлого, о восстании и трагических днях 1916 года рассказывается в романе Н. Байтемирова «Бунтарка и колдун».
(обратно)47
Калыйпа — царственная.
(обратно)48
Конок — кожаная посуда для доения кобылиц.
(обратно)49
Джене — жена старшего брата.
(обратно)50
Маржангуль — в переводе «Коралловый цветок».
(обратно)
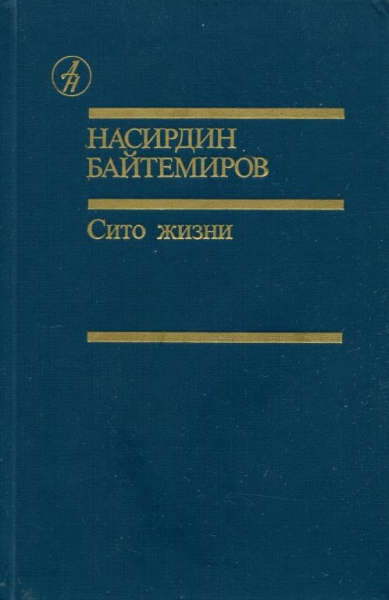



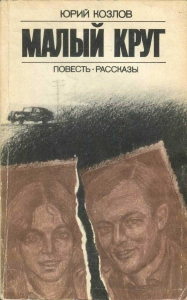
Комментарии к книге «Сито жизни», Насирдин Байтемиров
Всего 0 комментариев