Арина
КРАСНОЕ ЛЕТО Роман
Галине Коледенковой
I
Время шло к обеду, и в зале становилось все жарче. А когда солнце зависло над плоской крышей блочного дома, что белел напротив, и заглянуло в широкие окна парикмахерской, было уже невмоготу от жары. Глеб Романович, который уверял, будто люди болеют раком от перегрева на солнце, тут же приспустил над своим окном легкие шелковые шторы. Остальные три окна вскоре тоже занавесили, но это не спасало от крепчавшего зноя, и мастера один за другим стали уходить в подсобку и снимать с себя кофточки, джемперы, жакеты. А Катя Воронцова осталась, можно сказать, в чем мать родила, и когда она подходила к окну, ее гибкая прямая фигура просвечивала сквозь халат.
— Эко тебя вылупило, — шутливо сказала Нина Сергеевна и звонко шлепнула Катю по животу. — Хотя бы уж села, а не маячила по-пустому перед окнами.
— Надоело сидеть, — отмахнулась Катя и продолжала стоять у окна, разглядывая купающегося воробья. После недавней поливки улицы в выбоине тротуара осталась лужица, и в ней теперь азартно плескался воробей.
Нина Сергеевна больше ничего не сказала, достала из тумбочки клубок голубой шерсти со спицами и принялась за вязание. Остальные мастера тоже занимались чем попало. Петр Потапыч, близоруко щурясь, возился со своими старыми карманными часами. Рая Савельева успела сбегать в магазин и что-то жевала; она почти все время что-нибудь ела, но по-прежнему оставалась худой и бледной. Тамара Павловна, подобрав под себя загорелые полные ноги, сидела в кресле и подпиливала на руках ногти. А Глеб Романович, кособоча рот по дурной привычке, оставшейся еще от детства, уже кому-то вовсю названивал, он каждую свободную минуту, что называется, висел на телефоне.
Был это самый обычный праздный час, мастера уже давно так окрестили простойное время, которого летом хоть отбавляй. Рекордные по длине праздные часы приходились на июнь, июль и август. В эти месяцы коренной житель столицы отбывает в отпуск, селится на дачи. А приезжий люд, какого летом в Москве куда как много, в парикмахерские ходит редко: и некогда и денег жалко. Конечно, бывает, что тамбовские или там рязанские молодцы туда заявятся, чтобы потом дома похвастать, мол, подстригались в столице, но таких теперь все меньше и меньше, ибо трудно уже удивить нынешнюю периферию столичной стрижкой. Летом в Москве иностранцев тоже хоть пруд пруди, да только этих и вовсе в расчет брать нечего: на стрижку или бритье они денег не тратят.
Вот и выходит, что лето красное мастерам радости не прибавляло. С началом июня праздных часов становилось все больше, они били каждого по карману, и, самое обидное, с ними ничего нельзя было поделать. Ведь не выходить же мастерам на улицу, не хватать первого встречного за руку и не тащить силой в парикмахерскую. А вдобавок ко всему из-за этих праздных часов между мастерами и заведующим часто бывали стычки. Чтобы такие часы не проходили совсем без пользы, мастера обычно придумывали себе какое-нибудь занятие, а как раз новый заведующий этого и не терпел, он не любил, когда люди на работе занимались личным делом.
Сегодня во время праздного часа Федор Макарыч Костричкин тоже наведывался в зал. Он сердито скосил глаза в сторону Нины Сергеевны, которая довязывала рукав будущей кофты, со значением покашлял, когда проходил мимо дремавшей в кресле Раи Савельевой, но открыто вступать в стычку с мастерами не стал. Может, и во второй его приход все бы кончилось миром, если б Катя послушала Нину Сергеевну и вовремя села в кресло. Но воробей, как назло, не улетал со своего пляжа, и Катя все стояла и стояла у окна, словно привязанная. Федора Макарыча, которого она давно тревожила своей красотой и молодостью, это, конечно, удивило. «Что она вдруг к окну прилипла, что любопытного там увидела?» — подумал он, задержал взгляд на Кате подольше обычного и разом заметил, что у нее под халатом нет не только платья, но вроде бы нет и комбинации.
— Прошу мне объяснить, что это такое? — вкрадчиво спросил он у Нины Сергеевны. — Кажется, я вижу скульптуру, покрытую белым. А вроде Моссовет тут памятника устанавливать не собирается. По крайней мере я постановления об этом не читал. Не знаю, может, я за газетами слежу плохо, тогда вы мне подскажите, чем вызвано данное превращение. Надо полагать, вы в курсе дела!
Нина Сергеевна, которая третий год подряд избиралась профоргом и любила Катю Воронцову за гордую независимость и редкую нетерпимость к неправде, стала подавать ей знаки, чтобы та поскорее ушла в подсобку. Но Катя в ответ и ухом не повела: занятая воробьем, она не видела жестов Нины Сергеевны и не догадалась, что Федор Макарыч, ведя речь о какой-то скульптуре, имел в виду именно ее.
— Не подумала она, — попробовала заступиться за Катю Нина Сергеевна. — Сегодня спасенья нету от жары, мы все тут прямо как обалдели.
— Вот-вот, я и вижу, что вы все тут головы потеряли, — сказал Костричкин. — Это надо же до такой жизни докатиться, можно сказать, нагишом по залу разгуливают! Или вы таким макаром клиента заманиваете? По-хорошему, культурным обслуживанием не можете его завлечь, так решили, что он на дурное клюнет. Молодцы, в ногу с веком шагаете, ведь сейчас в самой моде этот, как его… секс. Но зарубите себе на носу, у меня такой номер не пройдет. Вам надо было пораньше родиться, вот при старорежимной власти вы, наверное, развернулись бы вовсю, уж тогда-то, я не сомневаюсь, вы принимали бы клиентов в наряде Адама и Евы. Но фортуна обошла вас стороной, я вам искренне сочувствую. И советую вести себя пристойно. Я не позволю превращать парикмахерскую в какой-нибудь бордель. Понятно?
— Тут двух мнений быть не может, — сказал Глеб Романович. — Вы справедливо заметили, кое-кто у нас забывает и про совесть и про честь. Выходку Воронцовой я тоже не одобряю.
Наконец и Катя поняла, о чем идет, речь, вся занялась краской и, опустив голову, съежившись, убежала в подсобку. Но Федор Макарыч и после этого не мог успокоиться, его сердило, что слова, сказанные им, никого как следует не затронули. Ведь по сути дела только Глеб Романович его и поддержал, остальные молчали, будто безъязыкие, и, конечно, ждали, когда он уйдет, чтобы снова заняться рукодельем-бездельем. А вот он возьмет и не уйдет, он возьмет и спутает им все карты.
— Это вы так считаете, — заведующий благодарно посмотрел на Глеба Романовича, — а другим, видно, кажется, что я не то говорю.
— Верно говорите, только шибко долго, — отозвалась Нина Сергеевна. — Любите вы из мухи слона раздувать. Я же сказала, одурела девчонка от жары. Вы бы сделали ей замечание, вот и сказ весь. Ведь не без понятия она у нас, хотя и самая молодая. А то затянули на целый доклад, допекли человека. Сейчас небось сидит она в подсобке и ревет.
— Выходит, жара во всем виновата, — возмутился Костричкин. — Да что вы свою распущенность жарой прикрываете? Вы не от жары одурели, а от безделья. Черт знает чем тут занимаетесь. Кто вяжет, кто ногти грызет, кто трико штопает. Прямо не парикмахерская, а захудалая богадельня. Зарубите себе на носу, я больше не потерплю это безобразие.
— А что нам делать, в потолок смотреть? — спросила Тамара Павловна. — Все равно клиентов пока нету.
— Я найду вам дело, — серьезно сказал заведующий. — Вот зеркала почистить надо? Надо. Хлам всякий тоже давно пора из столов выгрести. Я скоро проверю столы и тумбочки и у кого обнаружу барахло негодное, тому не поздоровится. А возьмите окна, они все мухами засижены. Хотя бы стекла протерли. Разве одной уборщице осилить такую махину? Это же не окна, а ворота настоящие, хоть на тройке вороных сюда въезжай.
— Какие окна засижены? — удивился Петр Потапыч. — У нас и мух-то нету.
— О чем вы там толкуете? — не расслышал его Костричкин.
Старый мастер, который еще два года назад имел право уйти на пенсию, но пока не ушел и продолжал работать, ловко повернулся вместе с креслом, чтобы быть лицом к заведующему, заговорил неторопливо:
— А толкую я, Федор Макарыч, что праздный час — это не воскресник. Никогда не знаешь, когда он начнется, а когда кончится. И негоже сейчас окна протирать. Войдет клиент, а мы тут, как обезьяны, по окнам лазаем. Конфуз получится. А что до меня касается, я по своей слабости могу и вниз загреметь от головокружения.
— Ну о чем вы говорите, Петр Потапыч? — пожал плечами заведующий. — Конечно, я не вас имел в виду, а молодежь. Кстати, как вы себя чувствуете?
— Неважно, — ответил старый мастер. — Можно сказать, совсем скверно.
— Это никуда не годится, это безобразие, — недовольно сказал заведующий.
— Я же не виноват, что плохо себя чувствую.
— Вот это мило с вашей стороны. А кто же виноват? Чувствуете себя плохо вы, а виноват, стало быть, я. Так, что ли?
— Я так не сказал.
— Не хватало вам еще так сказать.
— Но и себя я не могу винить за это. Болезнь есть болезнь, ее не приглашаешь, а она приходит.
— Вот и я толкую, что вы безвинны. По нескольку недель в году болеете, из-за этого мы план еле-еле тянем, топчемся на месте, не даем никакого перевыполнения, но вы опять-таки не виноваты. А я, конечно, виноват, что вы, видать, некультурно живете, спортом не занимаетесь, это самое… трусцой не бегаете. Или пьете, или что-либо хуже делаете, как мне знать. Но ясно лишь одно, что в подрыве своего организма виноваты вы, только вы, а не кто другой. Зарубите себе на носу.
— А если говорить строго, то вы, Федор Макарыч, тоже подмогли мне в этом.
— Вон оно что! — удивился заведующий. — И каким же образом я сделал вас этаким немощным?
— Очень даже просто. Гипертония, она тесно с нервами, как вам известно, связана. А вы только знаете кричать по делу и без дела. Другому это море по колено, а я все к сердцу принимаю.
— Ну и фрукт вы, Петр Потапыч, — заведующий покачал головой. — Еще тот фрукт.
— Фрукт — не овощ, бог — не помощь, — усмехнулся старый мастер.
Костричкин достал из кармана черную резную трубку, стал молча набивать ее табаком, а сам подумал: «Ишь, старик расхрабрился, ишь, расхрабрился. Ну, это ничего, сейчас поприжму тебе язык. Вот намекну, что упеку на пенсию, и сразу шелковым станешь». Но в эту минуту в зале появился клиент, прошел прямо к Петру Потапычу, и тот сразу поднялся с кресла, сказал приветливо:
— А-а, здравствуй, Коля! Садись, садись, пожалуйста.
Заведующий постоял еще немного, раскурил как следует трубку и, недовольный, пошел к себе в кабинет.
— Я смотрю, начальник у вас ретивый, любит права качать, — заметил Коля.
— Ты как в воду глядел, — согласился старый мастер. — Они, эти начальники, вроде бы все на одну колодку деланы. Я ведь на своем веку столько их перевидал, что и со счету сбился. В этой парикмахерской, считай, я и состарился. Когда молодым сюда пришел, она не здесь была, а в деревянном доме. Ты и не помнишь тот домишко, вон там, за сквером, на бугре, он лепился, где нынче химический магазин. Так вот, говорю, на моих глазах тут столько начальников перебывало, что одному богу ведомо. Как сейчас помню, первый был Соленый. Столько лет прошло, а вот видишь, не забыл, фамилия у него такая приметная. Потом его сменил Митрофанов, Митрофанова — Казанцев, Казанцева — Петр Захарыч… А вот как же этого фамилия была, на ум сразу не идет. Да леший с ней, с его фамилией. Так вот, если по правде сказать, все они, эти самые начальники, один другого стоили. Хотя нет, соврал, был один хороший, душевный такой, Аким Тарасыч Полозов это был. Но никто его так не звал, а все по-простому: Тарасыч да Тарасыч. Недолго этот Тарасыч у нас и задержался, куда-то на повышение его взяли. Еще женщина одна была, умная такая и обходительная. Ту тоже скоро в управление перевели. А плохих туда не берут, они там не нужны, плохие-то подолгу над нашим братом измываются. Этот-то у нас без году неделя, еще никому неведомо, куда повернет. Да и шут с ним, нашим начальством, ты лучше скажи, что давненько не заглядывал?
— В командировке был больше месяца, — пояснил Коля. — Пол-Сибири объездил вдоль и поперек. Я скажу вам, могучая земля. Теперь хочу на Дальний Восток попроситься, тянет меня этот край повидать.
— Хорошее дело, — одобрительно кивнул Петр Потапыч. — Езди, пока молодой. Жизнь, она везде по-своему интересная.
В зал вошли двое новых клиентов, потом еще трое, Тамара Павловна вспомнила, что надо позвать Катю, поднялась с кресла, неслышно ступая в мягких домашних шлепанцах, пошла в подсобку.
Катя, уже в платье, в халате нараспашку, сидела в дальнем углу подсобки, притулившись к пристенному шкафу. Густые волосы цвета сосновой коры у нее были старательно причесаны. Слез на лице Кати Тамара Павловна не увидела, но была она заметно расстроена.
— Ты не сердись на меня, — сказала Тамара Павловна и провела рукой по ее длинным волосам.
— А за что мне на вас сердиться? — удивилась Катя.
— Ну, подбила на это дело… Сама разоблачилась и тебя еще подбила. А знаешь, ты хоть в комбинации осталась, а я только в трусиках и лифчике, видишь. — Тамара Павловна распахнула перед Катей халат.
Невысокая ростом, уютно вся сбитая, Тамара Павловна всегда нравилась Кате. А сейчас она прямо залюбовалась ее завидно узкой талией, по-спортивному подобранным животом.
— Красивая вы! — восторженно сказала Катя.
— Перестань меня смешить, — улыбнулась Тамара Павловна. — Это ты у нас самая красивая, а я уже пошла на убыль. Вот лет десять назад я ничего была, гляделась. Тогда груди у меня были острые, твердые и стояли гордо, как два солдатика на посту.
— Нет, вы и сейчас красивая, — сказала Катя и добавила: — А что, Федор Макарыч сильно ругал меня?
— Не робей, обойдется, — успокоила ее Тамара Павловна. — Раньше мы все в такую жару полураздетые выходили в зал. И хоть бы что, прежний заведующий и внимания не обращал. Это Федор Макарыч строгости наводит. Только они делу-то не помогают. Я удивляюсь, как он меня еще проглядел. Это кресло спасло. И тебя, если б сидела, не заметил. — Тут Тамара Павловна спохватилась: — Боже ты мой, разболтались мы, а там клиентов понашло. И тебя один парень ждет, такой видный собой, в модном галстуке…
Катя заторопилась, быстро застегнула халат на все пуговицы, кинулась к зеркалу, повернулась перед ним раз, другой, придирчиво осматривая себя спереди и сзади, водой из графина намочила палец, чиркнула им по бровям и следом за Тамарой Павловной вышла в зал.
— Вы меня ждете? — неуверенно спросила Катя молодого человека, в котором сразу узнала Дмитрия.
— Вероятно, — кивнул тот, как-то растерянно глядя прямо перед собой.
— Садитесь, пожалуйста, сюда, — показала она на свое кресло.
А когда Дмитрий сел, Катя про себя отметила, что сегодня он одет особенно опрятно и изысканно. Строгий темный костюм без единой морщинки, рубашка белая-белая. И галстук нарядный, модный, но не крикливый. Было похоже, он собрался на свидание. А какое днем может быть свиданье?.. Впрочем, что ей за дело, куда он собрался, ее это нисколько не интересует. И вообще он лучше бы шел к Петру Потапычу и христосовался с ним за милую душу. В кресле старого мастера все еще был Коля, и Петр Потапыч по причине своей близорукости, выбривая ему усы, почти касался своим носом его носа. Это смешило Катю, и она с трудом сдерживалась, чтобы не прыснуть.
— Вас подстричь? — спросила Катя.
— Да, конечно, — кивнул Дмитрий, совсем не глядя на нее.
— А бриться не желаете?
— Да, конечно, — опять кивнул он.
Катя отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Все-таки странный, оказывается, этот Дмитрий, он смешил ее не хуже Петра Потапыча. Заладил без конца свое «да, конечно». Что он, слов больше не знает? А в тот вечер разговорчивый такой был, что-то насчет невесты-актрисы напридумывал. Да, собственно, ей сейчас и ни к чему его красноречие, пусть себе хоть знаками объясняется, какая разница. Ведь ей надо всего-навсего подстричь его и побрить, и она будет стараться делать это хорошо. Нет, она просто обязана сделать хорошо, потому что она ученица Протасовой.
И больше Катя не следила за Дмитрием: она работала. Катя старалась стричь и брить так же, как она это делала, когда рядом находилась худенькая женщина с белыми волосами. Проходила она мимо и все разом видела: как пальцы держат расческу, под каким углом ходит бритва, когда ножницы делают лишний захват. Протасова успевала заметить самую, казалось бы, неуловимую неточность при движении инструмента в руках учениц, она по звуку ножниц или бритвы определяла степень их остроты, секунду поглядев на человека, могла безошибочно сказать, какой фасон стрижки сделает его самым красивым.
Эта старенькая женщина в пенсне с золотой оправой любила Катю, она считала ее самой способной ученицей и уверяла, что у нее руки быстрые, как у музыканта, и нежные, как бархат. Протасова гордилась своей профессией и печалилась, что молодежь теперь с неохотой идет в парикмахеры. «Похвально сеять хлеб и добывать уголь, — говорила она, — резать металл и покорять космос. Но не менее похвально быть и парикмахером. Без него не обходились еще ни цари и ни короли, ни полководцы и ни вожди, ни ученые и ни поэты. Запомните, мои девочки, ваша профессия всегда нужна людям. Ведь человек должен быть красив не только душой, он обязан быть красив и внешне. И помочь ему стать таким — дело рук ваших и вкуса».
Минут через десять Катя крутнула кресло и к лицу Дмитрия поднесла ручное зеркало, стала его поворачивать так и этак, чтобы тот мог увидеть в большом настенном зеркале свою голову сзади и сбоку. И сама она опять наблюдала за Дмитрием, теперь ей это уже надо было обязательно. Ведь люди-то все разные, кто открыто говорит: «Вот спасибо, хорошо подстригли, теперь только к вам буду ходить». Или: «О, сразу лет на десять помолодел, хоть опять под венец становись». А кто этого не скажет, только скупо попрощается, не то и совсем уйдет молча. Но Катя все равно должна знать, доволен ли и такой человек, и она напряженно следила за Дмитрием, волнуясь, ждала, как оценит он ее работу.
Дмитрий сначала провел рукой по щеке, погладил подбородок, потом слегка тронул затылок, словно бы проверил, на месте ли он, и, заглядывая в зеркало, поправил еще галстук. И по тому, как он все это делал, и по тому, какой свет пошел в его серых глазах, Катя поняла: стрижка ему понравилась. И сразу куда девалось ее напряжение, она вдруг почувствовала, как выступают у нее сладкие мурашки радости, как катятся они волнами по всему телу. А когда Дмитрий поднялся с кресла, кивком головы поблагодарил ее и, не сказав ни слова, пошел к кассе, в меру стуча высокими каблуками добротных туфель, Кате стало обидно, что он ее не узнал, и ей почему-то во всех подробностях вспомнился тот февральский вьюжный вечер.
Катя тогда разносила пригласительные открытки избирателям и уже позвонила в последнюю квартиру, но ей почему-то там не открывали. Она подумала, что нет никого дома, и хотела уходить, как уловила за дверью легкий шум и вроде послышались шаги. Катя еще позвонила, и на сей раз глуховатый женский голос недовольно спросил:
— Чего там?..
— Агитатор это, — сказала она.
За дверью что-то задвигалось, наконец ключ в замке медленно повернулся и Катю впустили. Открыла ей маленькая старушка, одетая в поношенное зимнее пальто, застегнутое на все пуговицы. Голову старушки покрывал большой пуховый платок. Катя посчитала, что она только сейчас пришла с улицы и не успела еще раздеться, но потом увидела мальчика лет четырех, тоже закутанного в теплые вещи, и тогда лишь заметила, как холодно в квартире.
— Вот, пожалуйста, голосовать приходите, — Катя протянула старушке пригласительные открытки. — В воскресенье народных судей избираем.
Старушка немного подержала в руках открытки и положила на стол.
— Как же, голосовать-то придем, — сказала она. — Вы, голубушка, не беспокойтесь, придем обязательно.
— А что у вас так холодно? — поежилась Катя.
— Замерзаем уж который день, — пожаловалась старушка. — Батарея совсем не теплится. Мы только и спасаемся на кухне. Конфорки вот все запалю, и сидим там, отогреваемся.
Катя тут же подошла к окну, потрогала батарею. Она была совсем холодная, горячая вода в ней и не ночевала. А на вид вроде исправна: ни трещин, ни потеков не было видно.
— Давно не греет? — спросила Катя.
— Нынче уж третий день, как стала ледяная, — пояснила старушка, пряча в рукава слабо гнувшиеся от холода руки. — Сами-то мы ничего, терпим, а вот за него боимся, долго ли простудиться дитю малому, да и слабенький он у нас, болеет часто.
Мальчик сидел на диване, был он в заячьей шапке, цигейковой куртке и белых фетровых валенках. Шапку ему надели, видимо, отцовскую, которая свисала наперед, закрывая чуть ли не все лицо.
— А мне тепло-о, — протянул мальчик слабеньким голосом. — Только тут маленько холодно, — показал он на ноги.
Старушка взяла с кровати подушку, положила внуку на колени, ласково запричитала:
— Миленький ты мой, ноженьки у него замерзли, лапоньки закоченели…
— А что с отоплением? — озабоченно спросила Катя. — Слесарь-то к вам приходил?
— Да разве его дозовешься, — с горечью махнула рукой старушка. — Дочка два раза заявляла в домоуправление, а он все одно не идет. Мука вечная с нашим слесарем, только и ждет, чтоб на водку дали. Тогда в один момент прибежит. А где нам давать, у нас каждый рупь на счету. Ребенку вот всякое нужно, витамины там разные, одежонка. Старшой внучок на действительной служит, тому то пятерку, то десятку посылаем. Денег-то, что ему положено, на одни папиросы не хватает. Откуда ж нам еще слесарю давать?..
Слушая старушку, Катя злилась на слесаря и зачем-то пыталась представить, как он выглядит. Он казался ей таким вертлявым, узкоплечим, с нечисто выбритым лицом и татуировкой на руке и где-нибудь еще на груди. А чем яснее он ей виделся, тем больше она злилась, и все крепче становилось у нее желание пойти и разыскать этого уже противного ей человека.
— Попробую я слесаря поискать, — сказала Катя, поправляя платок и надевая варежки.
Старушка тяжко вздохнула, сказала вяло:
— Пустое дело, родненькая. Он средь бела дня от людей прячется, а вечером его и подавно не сыщешь. Зря и время не трать, поди, без нас забот хватает.
Но Катя все-таки пошла разыскивать слесаря. Старушка не помнила номера его квартиры, а только знала, что она ниже, под ними, и Катя спустилась на первый этаж, у игравших в подъезде мальчишек спросила, где живет слесарь, и позвонила в квартиру, дверь которой, как ей сказали, была обита черным дерматином.
Открыл Кате, как потом выяснилось, сам Дмитрий, не спрашивая, кто звонит, он распахнул настежь дверь и, жестом приглашая войти, сказал вежливо:
— Прошу вас, пожалуйста.
Был он в белой рубашке и модном пятнистом галстуке, видно, собрался куда-то идти. Катя прошла вслед за ним сначала в полутемный коридор, потом в комнату. А пока шла, подумала, что мальчишки, пожалуй, пошутили, попала она в квартиру не слесаря, а кого-то другого, так как и внешний вид Дмитрия и его манеры слабо вязались с тем слесарем, которого ругала старушка и каким он представлялся ей самой.
Войдя в комнату, Катя сказала, по какому она делу. Дмитрий пожал плечами и секунду-другую смотрел на нее как-то по-особому, будто хотел в Кате признать человека, которого долго-долго искал, а затем вдруг смутился и поглядел в окно. За то время, пока он отвел глаза в сторону, Катя успела заметить, что вчера или днем раньше Дмитрий был в парикмахерской и подстригался у мастера случайного. Высокая стрижка ему совсем не шла, она делала его лицо угрюмым и простоватым.
— А вы поздновато пришли, — улыбнулся вдруг Дмитрий и прищурил серые задумчивые глаза. — Рабочий день ведь давно закончился.
— Но это совсем рядом, сто девятая квартира, — сказала Катя, глядя на него с надеждой.
Дмитрий снова улыбнулся, разводя руками, ответил:
— Нет, нельзя закон нарушать.
— Какой закон?
— Об охране труда. Ведь у слесаря тоже нормированный рабочий день, как у всех граждан.
— Там же люди в холоде! — вспыхнула Катя.
— Охотно верю, сочувствую, но помочь не могу. Я Надю жду, невесту свою, — сказал Дмитрий и покраснел. — Видите, даже галстук повязал. По нашей Конституции слесарь, кажется, может своим личным временем распоряжаться?
Осуждая Дмитрия, не принимая его правды, в то же время Катя понимала, что сейчас формально никто не может заставить его пойти в сто девятую или какую иную квартиру. Но и отступать Кате не хотелось, она приучила себя никогда не оставлять задуманное на полпути. А главное, ее до слез задевала бесчеловечность Дмитрия. У людей ведь холодище, как на полюсе, ребенок может заболеть, а ему хоть бы что, он мается бездельем, ждет, видите ли, свою невесту. А что случится, если он уйдет на полчаса? Пожалуйста, она готова по-сидеть здесь, встретить его драгоценную невесту.
— Вы сходите сейчас в сто девятую квартиру, а я тут побуду, — сказала Катя. — Я объясню все Наде, если она раньше вас придет.
Дмитрий неожиданно расхохотался, потом потянул вниз галстук, который явно давил ему шею, и, покачивая головой, весело вращая серыми глазами, как-то удивленно сказал:
— А вы смелая… Вы же не знаете Надю, она может вас покалечить, косточки поломать…
— Не бойтесь, я найду с ней общий язык, — уверенно сказала Катя.
— Нет, вы все-таки смелая, ей-богу!.. — Дмитрий опять захохотал. — Я сам-то с ней не слажу, она же артистка… из Большого театра. Надя это самое… скок-прыг-топ. Одна, правда, на сцену не выходит, не солирует, значит, а выступает с целым колхозом в этом — как его? — да, кордебалете. И, знаете, я никак не могу на сцене отличить Надю от других таких же белокрылых лебедушек. Они и ростом все одинаковы, и все голые, только на бедрах у них, знаете, вот трепыхаются эти самые пачки. А Надя за это на меня обижается, говорит, не любишь, зато и узнать не можешь. Смех один!.. Я даже, поверите, чтобы ее не расстраивать, однажды на явное вранье пошел. Собираясь как-то в театр, она сказала, что в таком-то акте они появятся, станут дугой по заднему краю сцены, и Надя будет там четвертая слева. Ну, я когда сидел в тот вечер в ложе (Надя всегда пропуска для меня достает в ложу, которая рядом с правительственной), то в четвертой лебедушке вроде бы опознал Надю. Потом возвращаемся из театра (я обычно жду Надю после спектакля за кулисами), я и говорю ей: «Наконец хорошо тебя видел. Если б даже не говорила, что будешь четвертая слева, я все равно бы тебя узнал по стройной фигуре». Ну только я так Наде сказал, она как разревется! Оказалось-то, одна у них заболела и постановщик из-за этого поменял танцовщиц местами, Надя очутилась слева третьей. А откуда же я мог знать, что их так перетасуют?..
Видите, сколько Надя из-за меня терпит. Я уже не раз ей говорил: «Брось ты меня, зачем тебе я? От меня ведь муки одни. Лучше нашла бы себе артиста какого-нибудь заслуженного или народного». А она только улыбается, выставляя белые зубы, и отвечает: «Не нужен мне артист ни за какие деньги. Все артисты большие мастера жен менять, они три-четыре раза женятся официально да столько же неофициально. А ты у меня лучше любого артиста…»
Вот какой у Нади характер — весь из принципов, а вы хотите с ней найти общий язык.
Катя уже давно поняла, что никакая Надя к нему не придет, что Дмитрий все это придумал, и решила взять его измором. Она расстегнула шубку, развязала и спустила на плечи платок, чуть поправила волосы и села без приглашения в кресло, что стояло к ней поближе.
— Вы что… вы что это делаете? — спросил Дмитрий, делая вид, что испугался. — Хотите жизнь мою порушить?.. Войдет сейчас Надя, а вы тут сидите, волосы по плечам распустили…
Но Катя и ухом не повела, напротив, еще свободнее расселась в кресле, выказывая этим, что никуда не торопится и скоро не уйдет. А на самом деле она сидела как на иголках, ей давно надо было идти домой. И голова у нее побаливала, видно от голода, ведь, считай, с обеда она не ела: все было некогда. Сразу после смены она поехала в комбинат и, мыкаясь там по разным комнатам, с полчаса разыскивала председателя месткома, еще столько же с ним ругалась, пока тот не согласился выделить квартиру кассирше Вале, которая тогда жила в подвале. Потом бегала по магазинам, искала апельсины для заболевшего Ивана Ивановича, а по дороге домой зашла к своим избирателям, оставила им пригласительные открытки. И все выходило у нее как надо, пока вот не столкнулась с этим противным слесарем. Ей впору было заплакать: время-то уже к девяти подступило, Иван Иванович больной один лежит, и когда она теперь домой вернется…
— Ну и характер у вас… как у моей Нади. — Дмитрий покачал головой и, достав из шкафа легкую куртку, набросил ее на плечи, сел на диван. А вскоре, словно что-то вспомнив, взял с полки самую толстую книжку, стал перелистывать.
Катя по-прежнему сидела молча и казалась невозмутимой, хотя от обиды на Дмитрия и переживания за больного Ивана Ивановича у нее чуть подрагивали руки и то жаром, то холодом заливало в груди. Чтобы не выдать своего волнения и как-то унять дрожь в руках, она несколько раз открывала и закрывала сумочку, делая вид, будто что-то в ней искала. А потом поняла, что больше сидеть и ждать не может, достала оттуда три рубля, решительно сказала:
— Вот возьмите… на пиво…
Дмитрий вдруг гулко захлопнул книжку, возмущенный, почти что выкрикнул:
— Вы за кого меня принимаете?.. Это, видно, Котелкин вас к таким подачкам приучил?
— Какой Котелкин? — не поняла Катя.
— Тот самый, который наш слесарь…
— А вы разве не слесарь? — удивилась Катя.
Дмитрий немного замялся, отводя глаза в сторону, сказал:
— Я… я тоже… но самоучка…
— Это не важно, какая разница, — обрадовалась Катя, готовая его в эту минуту даже обнять. — Я вас очень прошу, ведь там ребенок замерзает…
— Так и быть, уговорили… — усмехнулся загадочно Дмитрий и положил книжку обратно на полку. — Я готов с вами пойти в эту квартиру, но с одним условием: вы сейчас должны написать Наде записку.
Катя вскочила с кресла, с нетерпеливой готовностью спросила:
— А что написать?
— Пишите так: «Многоуважаемая Надя! Пожалуйста, простите Дмитрия, что он Вас не дождался. В связи с крайней необходимостью ему пришлось срочно уйти на объект. Агитатор…» И укажите свое имя, фамилию, номер вашего телефона.
Прочитав Катину записку, Дмитрий слегка улыбнулся, весело сказал:
— Так, Катя Воронцова, почерк у вас хороший, соответствует характеру. И телефон знакомый, нашего района. Ну что ж, теперь мне алиби обеспечено.
Когда они вошли в сто девятую квартиру, старушка шибко обрадовалась, суетливо забегала взад-вперед по комнате, на ходу развязывая пуховый платок и приговаривая:
— Ах, боже мой, ах, гость наш желанный!.. Дмитрий Тимофеевич, проходите, ради бога, садитесь, где вам любо…
Мальчик вмиг соскочил с дивана, подбежал к Дмитрию, без передышки залопотал:
— Дяденька доктор, а горлышко у меня нисколечко не болит… кашля совсем нету… язык даже маленько не белый…
— Вот какой молодец!.. — сказал Дмитрий и потрепал его по заячьей шапке. — Ты настоящий мужчина, Гриша.
Катя в первую минуту растерялась, щеки ее загорелись. Выходило, что попала она впросак: пошла за слесарем, а привела какого-то доктора. И Катя, не зная, как быть дальше, нервно топталась у самой двери.
А Дмитрий сразу прошел к батарее, ощупал ее, потом попросил у старушки отвертку, тазик и вроде бы со знанием дела стал откручивать на трубе винт. Сейчас же раздалось шипение — это выходил воздух, который скопился в системе и образовал пробку. А через минуты две из отверстия под винтом с фырканьем вырвались струйки черной, как деготь, воды, и в трубах сразу зашелестело, забулькало. Скоро вода, стекающая в тазик, постепенно посветлела.
— Ой, нагревается!.. — воскликнула Катя, трогая батарею.
Старушка тоже приложила руку к батарее, подтвердила:
— Верно, теплеет… Батюшки мои, все-то вы, Дмитрий Тимофеевич, можете!.. — Она подошла к Кате, тихо шепнула ей на ухо: — Уж такая светлая головушка… Вот ученый, а никакого житейского дела не гнушается… Дам-то бог ему здоровья… А зять наш ровно не мужик совсем, ничего по дому не смыслит, простого гвоздя не забьет…
Потом старушка убежала на кухню, погремев там посудой, опять вернулась в комнату, стала приглашать Катю и Дмитрия выпить хоть чайку с вареньем. Но они отказались и скоро вместе вышли из квартиры.
У подъезда Катя попрощалась с Дмитрием, тихо сказала: «Спасибо вам» — и тут же шагнула в метель, пошла в сторону трамвайной остановки, прикрывая сумочкой лицо от напора ветра и колючего снега. И пока она добиралась до дому, Дмитрий почему-то все не выходил у нее из головы; и потом, спустя уже месяц-другой, Катя его помнила и верила, что Дмитрий ей позвонит: недаром же он вынудил ее оставить ему свой телефон. Но вот прошло больше трех месяцев, а он так ни разу и не позвонил. А сегодня даже не узнал ее. Неужели он и на самом деле ее не узнал? Ну и пускай, подумаешь! Она и сама не хочет его знать, если он такой. И Катя, приглашая очередного клиента, резче обычного надавила на кнопку звонка.
II
Город уже много дней маялся жарой. Дожди все не шли и не шли, и белое солнце, не зная ни туч, ни облаков, вольно каталось по небу, рьяно выказывало свою нещадную жгучесть. И ветра совсем не было: нудный пух от тополей висел над головой почти без движенья, листья на деревьях молча глядели вниз.
А Дмитрий не чувствовал этой жары, и вообще он шагал как во сне. В другой бы раз посмотрел на глубокие следы от чьих-то каблуков на размягченном асфальте, усмехнулся, видя, как лежит в тени под липой сомлевший пес-дворняга, раскинув лапы и прищурив желтый ушлый глаз. Он все раньше замечал, когда шел по этой асфальтовой дорожке, которую любил. Ровная, прямая, с шеренгами лип по сторонам, она начиналась почтя от Аллеи космонавтов и тянулась до самой телестудии и еще дальше. Слева от нее — два широких зеленых газона, между ними идут машины, троллейбусы, автобусы; справа — длинное травяное поле, где летом играют в мяч, а зимой катаются на лыжах и в любое время года стар и мал гуляют с собаками.
Дальше поле переходит в пруд, который летом похож на майский луг, до того бывают ярки, пестры шапочки, костюмы купальщиков, мельтешащих в воде и на берегу. Дмитрия всегда веселило и радовало, что здесь, в самом городе, у него под боком, настоящий пляж. Его даже гордость брала: жил-то на какой улице, разве есть еще такая хоть одна в Москве! А поднимешь голову — впереди слепит глаза Останкинская телебашня, которая расставила пошире каменные ноги и протянула руки-антенны белому солнцу. И стоит она, простая и загадочная, летящая и неколебимая, как сама земля русская, на которой выросла.
И все это улица академика Королева, самая прямая и, пожалуй, самая широкая в городе. И длина у нее завидная — один только «кубик» телестудии тянется чуть ли не на километр. Когда Дмитрий учился в школе, то вместе с классом ездил на Волгоградскую плотину. Больше часа шел он тогда по ней, заглядывая вниз, где бесилась вода. И такая даль была до той воды, и так жутко она кипела, грохотала, взрывалась, что у него перехватывало дух и кружилась голова. И он тогда не мог себе представить, как это люди построили такую громаду, а потом не раз думал, что улица Королева похожа на Волгоградскую плотину своим величием.
Но сейчас он не замечал ни башни, ни стеклянного «кубика» телестудии, ни голоплечих девушек, что шагали навстречу. Сегодня он был, казалось, равнодушен ко всему, даже к Кате, которую искал с самого февраля и наконец неожиданно нашел и от растерянности и волнения сделал вид, что не узнал. Все люди были легко одеты, а он шел в костюме, в галстуке, в черных закрытых туфлях. И хоть бы что, ему не было жарко, наоборот, при мысли, что через час ему могут накидать полный короб черных шаров, его даже познабливало.
Он в волнении потрогал затылок и, ощутив гладкую упругость волос, на этот раз остался доволен стрижкой. А то ведь его всегда подстригали черт знает как. Что касалось бритья, то оно как-то сразу втиснулось в режим его дня. Он купил себе электробритву и каждое утро находил несколько минут, чтобы поводить по щекам и подбородку этой шустрой жужжалкой. А вот со стрижкой, хоть лопни, ничего не клеилось, не выкраивалось для нее за два-три месяца даже часа. В больнице ему частенько намекали, что пора подстригаться, и он всякий раз уверял, что завтра же пойдет в парикмахерскую, и сам хотел этого, но на другой день ему опять что-нибудь мешало туда пойти. Когда же волосы отрастали настолько, что люди в трамвае поглядывали на него с насмешливым любопытством («Не поп ли это?»), Дмитрий все бросал и шел в любую парикмахерскую. Приходил туда и просил подстричь его как можно короче. Но все мастера то ли из-за моды, то ли по причине коммерческой всегда волос у него снимали мало, и через две-три недели он опять приобретал свой прежний вид, и в больнице над ним посмеивались: наш хиппи.
Дмитрий пропустил машину и троллейбус, пересек мостовую и вбежал в подъезд своего дома. Войдя в квартиру, он увидел на столе записку, придавленную пепельницей:
«Ни пуха ни пера, Дима! Прости, что не дождалась, мне надо срочно повидать Ингу. Но мы с ней обязательно придем на защиту. Не волнуйся. Люся».
Он скомкал записку, бросил в пепельницу. Сестра его не порадовала. Была бы умная, сама не поехала и никакую Ингу не потащила. Ему только и не хватало, чтобы в зале сидели родные да знакомые и разными обезьяньими знаками (для моральной поддержки защищающегося) заставляли его пуще волноваться. Выходило, что и Жора Кравченко придет на защиту. Инга, конечно, заманит его для компании. Дмитрия бесили эти двое: вечно им нечего делать, вечно они жаждут развлечений и сбивают с толку Людмилу. Чего она к ним привязалась? Все-таки ему это до чертиков надоело, пожалуй, он наберется духу и в один веселый день выставит их из квартиры, куда они бесцеремонно наладились ходить. Как, однако же, меняются люди. Ведь Жора за последние годы стал прямо неузнаваем: обо всем-то он что-то знает, что-то понимает, иного может чем-то удивить, но все это напоказ, чтоб привлечь лишь к себе внимание. Это уже был не тот скромный парень, с которым так дружили они в первые годы учебы в институте, жили вместе в общежитии, мечтали спасать людей, делать трудные операции, и не где-нибудь, а в условиях невесомости, в межпланетных полетах…
Дмитрий сложил в папку таблицы, графики, реферат и хотел уже уходить, когда в квартиру позвонили. Он открыл дверь и узнал соседку с восьмого этажа. Вид у нее был убитый, она мусолила воротник платья желтыми от курева пальцами и не решалась сразу сказать, зачем пришла. Наверное, ее обескуражило, что Дмитрий был при параде. Наконец женщина собралась с силами, заговорила просящим голосом:
— Дмитрий Тимофеевич, родненький, вы не глянете на Гришу?.. Пришла с работы, а он мокрый, как мышонок, дышит тяжело и весь в огне.
Дмитрий глянул на часы. Время поджимало, а ему еще бог знает куда ехать. У него жар прошел волной по всему телу: стыд, позор, неуважение к почтенным людям — опоздать на защиту. Конечно, он может взять такси, но, как часто бывает, если срочно надо, его днем и с огнем не сыщешь. Тут он подосадовал, что не пригнал со стоянки свои «Жигули», будь машина у дома, и забот бы не знал. А теперь вот что делать? Надо же было этому хилому Грише заболеть в такой день.
— Температуру мерили? — хмуро спросил Дмитрий.
Женщина виновато замигала:
— Не успели еще…
— Ставьте градусник, — недовольно сказал он. — Я сейчас.
Разыскивая фонендоскоп, Дмитрий слышал, как гремели каблуки по площадке и ступеням лестницы, понял, женщина побежала, и пожалел, что невежливо с ней разговаривал. Заходить потом домой у него не было времени, и он, найдя фонендоскоп, сразу взял с собой папку, в которой было то, из-за чего просиживал ночи, не знал выходных и праздников.
У Гриши температура оказалась почти сорок, глаза его были печальны и словно в тумане, дышал он часто и трудно, в груди явно прослушивались хрипы. Дмитрий сразу определил, что у него воспаление легких.
— Ему срочно надо делать уколы, — сказал он матери Гриши. — Звоните в детскую поликлинику… Как бы не воспаление легких…
Пока Дмитрий скатывал в кольцо фонендоскоп, запихивал его в папку, женщина достала десятирублевую бумажку, протянула ему. Он выставил руки перед собой, словно приготовился отбить мяч, летевший прямо на него, с растерянностью сказал:
— Что вы?.. Что вы?..
— Возьмите, уважьте хоть раз, — попросила женщина. — Всегда к вам обращаемся…
— Не предлагайте мне денег, а то в другой раз не приду, — сказал Дмитрий и ушел.
На улице он стал ловить такси, и вначале ему не повезло: две свободные машины с зелеными огоньками прошли мимо, хотя он каждый раз выбегал на мостовую и усиленно махал; водитель третьей машины только чуть притормозил и крикнул, что едет в автопарк. Дмитрий уже с тревогой подумал: «Кажется, опоздал», но четвертое такси, ехавшее в обратную сторону, неожиданно развернулось и остановилось около него. Он быстро залез в машину, сказал шоферу, куда везти, и достал сигареты. Теперь он знал, что не опоздает, и ему было приятно покурить.
В небольшой актовый зал он вбежал за пять минут до начала защиты. Тут Дмитрия опять зазнобило, во рту у него пересохло. Он нервно шагал по узкому проходу между стульев, кивками отвечал на приветствия знакомых врачей, научных сотрудников, аспирантов. Саша Воробьев, коллега по больнице, даже успел протянуть Дмитрию руку, и он пожал ее так машинально, как толкал дверь при входе в метро. В голове мелькнуло, что Людмила с Ингой, должно быть, уже здесь, и он скользнул глазами по рядам, но ни той, ни другой не увидел. Он вообще сейчас плохо различал лица, только заметил, что в зале много женщин, головы которых были то белые, то до синевы черные, то оранжево-красные и даже фиолетовые. Среди унылых темно-серых голов мужчин они казались цветными шарами и придавали залу праздничность, заставляя Дмитрия еще больше волноваться.
Потом он услышал свою фамилию, одеревенелыми ногами поднялся на кафедру и начал говорить каким-то чужим, глухим голосом и чувствуя во всем теле такой озноб, какой он однажды испытывал в туристическом походе, когда провалился в зимнее болото.
Сразу после защиты его окружили знакомые, стали все поздравлять, многие обнимали, сестра Людмилка, Инга и еще несколько женщин даже расцеловали. Отпуская шутки, тискал его и Жора Кравченко, что-то весело говорил Саша Воробьев. Жора почему-то оказался бог знает кем выбран председателем «инициативной комиссии», всех предупреждал, что банкет по случаю защиты кандидатской состоится вечером в пятницу в ресторане «Арбат». Было подарено Дмитрию много цветов, которые он не мог удержать в руках и передавал Людмиле и не отходившей от него ни на шаг Инге.
Потом его, красно-макового от смущения, взволнованного и еще плохо соображающего, подвели к новой «Волге» и вместе с цветами затолкали в нее. В эту же машину сели Инга и Саша Воробьев со своей знакомой аспиранткой, а Жора Кравченко, Людмилка и ее подруга по институту втиснулись в стоящие рядом «Жигули».
С шумом и смехом, с сумками, набитыми закусками, бутылками с вином и коньяком, они ввалились в его двухкомнатную квартиру, и через полчаса там захрипела современная музыка, без которой Людмилка не мыслила прожить и полдня.
Первые тосты, конечно, были за здоровье и талант молодого ученого, за будущего академика Булавина, а потом пили за всех подряд, кто был за столом. Рядом с ним сидела Инга, аккуратно наполняла его рюмку коньяком, подкладывала ему закуски, брала пухлой рукой в золотом браслете настольную зажигалку, подносила к его сигарете, которая почему-то каждую минуту гасла, и всякий раз повторяла, что о нем кто-то скучает.
Когда стали танцевать, Инга опять была рядом, обе руки клала Дмитрию на шею, тянула его на середину комнаты и, сильно выгибаясь в поясе, мелко дрыгала полными ногами, выбрасывая их в стороны, и все время напевала тихо по-английски. Да, собственно, ей больше и не с кем было танцевать. Подруга Люси, сославшись на головную боль, вскоре уехала. Саша Воробьев как прилип еще в машине к веселой аспирантке, так уже и не выпускал из своих рук ее руки. А Жора Кравченко, похоже было, приударил за Люсей, и та не сводила с него глаз, взрывом хохота встречала его всякую пустую шутку.
В девятом часу он вспомнил про соседского Гришу и незаметно вышел из квартиры, поднялся на восьмой этаж. Как он и предполагал, у мальчика было воспаление легких, к нему уже приезжали из детской поликлиники, делали уколы. Гриша был слаб и бледен, но его приходу обрадовался, стал рассказывать, что ничуть не боится уколов.
— Тетенька доктор достала блестящую штучку, — лопотал Гриша, — сказала, ты не бойся, сейчас тебя пчелка укусит в попку. А сама помазала холодным. И сказала, вот хороший мальчик, пчелка его укусила, а он не плачет. А пчелка тетеньку доктора обманула, она меня почти-почти не укусила. Завтра пчелка меня кусала на бульваре, знаешь, как было больно. А сейчас не было.
— Ты молодец, Гриша, — сказал он мальчику. — Мужчина не должен плакать, если пчелка укусит его даже на бульваре.
— А я на бульваре плакал немножко, только немножко, правда… И сейчас ну… нисколечко не плакал и вчера не буду плакать.
Уходя, он слегка потряс Гришу за плечо, сказал, чтоб тот закрывал глаза и спал, тогда болезнь скорее от него убежит. И еще велел ему слушаться маму и больше есть.
Потом он забежал в магазин за минеральной водой, которую все забыли купить. Ни сумки, ни сетки с собой у него не было, и он взял лишь четыре бутылки, чтобы нести по две в каждой руке. Веселый от выпитого коньяка, он шел по скверу, слегка размахивая бутылками, и уже хотел свернуть к своему дому, когда ему встретились две девушки. Одна из них — высокая и тонкая, в ней он сразу узнал Катю. Вторая девушка была ниже ростом, вся кругленькая, с удивительно гладким лицом, ровно прокопченным солнцем. Можно было подумать, что она с утра до вечера не уходила с пляжа.
— Вот и опять встретились! — радостно воскликнул он и сейчас только заметил, что глаза у Кати не совсем зеленые и не чисто карие, а какие-то янтарно-табачные. — Я приглашаю вас с подругой в гости, — добавил он с широтой подвыпившего русского человека. — У меня сегодня праздник… кандидатскую защитил. Там у нас музыка, шампанское… Вот только воды не было… минеральной…
— Ну как, Катюша, пойдем? — полушутя спросила кругленькая.
В восторженно-ясных глазах Кати вызрела лукавость. Она чуть отвела назад свои длинные волосы, обнимавшие плечи, с улыбкой сказала:
— Мы придем, когда защитите докторскую, правда, Оля?
— Сожалею, что не вышел рангом, — с подчеркнуто наигранной грустью ответил Дмитрий и тут же не выдержал, заулыбался: — Но печаль моя светла, теперь я знаю, где вас искать. — И он дурашливо раскланялся, прижимая к груди бутылки.
У него в квартире по-прежнему играла музыка. Саша Воробьев танцевал со своей аспиранткой, которая хомутом рук обвила его шею и неотрывно смотрела ему в глаза. Люся, с виду расстроенная, небрежно перебирала на подоконнике долгоиграющие пластинки. Инга с Жорой, сидя на диване, вели разговор об искусстве и, как всегда, украшали его отточенными жестами.
Минеральной воде все обрадовались, кинулись дружно к столу, а заодно решили еще выпить. На этот раз Инга предложила тост за здоровье родителей молодого ученого. Ее охотно поддержали. Потом опять пошли танцы.
Было уже около двенадцати, когда гости надумали разъезжаться, вышли все на улицу, стали ловить такси. В первую машину посадили Сашу Воробьева и аспирантку, которым, как выяснилось, было по пути. А во второе такси набились остальные, ибо Жора Кравченко подал мысль проводить Ингу, единственную женщину, которой предстояло ехать через весь город.
По тихой ночной Москве до Инги домчались быстро. А там зашли посмотреть ее новую кооперативную квартиру с индивидуальной планировкой. Честно говоря, она Дмитрию совсем не понравилась, а сама обстановка даже показалась безвкусной. Ковры у Инги были и на полу, и на стенах, и на диване, рядом с новым английским пианино стоял старинный резной секретер со множеством ящичков и бронзовых ручек, в одном углу комнаты современный торшер красным светом озарял антикварный мельхиоровый самовар. Дмитрию только понравился портрет отца Инги, известного ученого-медика, написанный хорошим художником. Зато Люся была в восторге от всего, ходила из комнаты в комнату и каждую вещь обязательно трогала.
Потом Инга открыла резной бар на разлапистых ножках, предложила что-нибудь выпить. Жора Кравченко сразу схватил граненую бутылку с шотландским виски и заорал:
— Это мы должны попробовать!..
Инга поднесла каждому по рюмке. Виски вроде всем понравилось. Жора попросил налить по второй. А после этой второй Дмитрий словно куда-то провалился.
Дмитрий открыл глаза и испугался: на него в упор смотрел шлепоносый негр с огромным золотым кольцом, продетым в ноздри. Он встряхнул головой, чтобы прогнать остатки сна, и тогда сообразил, что это маска, а еще понял, что он не дома. Странно, почему он не дома? Где же это он? И тут Дмитрий почувствовал, что на шее лежит чья-то рука, а справа кто-то дышит, и он, не поворачивая головы, скосив только глаза, увидел, как поднимается и опускается грудь у спящей рядом Инги.
Его бросило в холод. Почему они оказались в одной постели? А что у него с ней было? Самое страшное, что он ничего не помнил.
Дмитрий осторожно приподнял руку Инги и высвободил свою голову. Инга зачмокала припухшими губами, почесала грудь, но не проснулась. Он оперся на руки, перенес на них всю тяжесть тела и соскользнул с кровати, спружинив ногами, мягко встал на толстый ковер. Увидев свое лицо в зеркале, он испугался его бледности и, забыв уже про всякую осторожность, гулко зашлепал босыми ногами по полу, лихорадочно разыскивая свою одежду.
Пиджак с брюками и галстук Дмитрий увидел сразу: они были сложены на мягком арабском диване, что стоял у противоположной стены. Зато белую батистовую рубашку он долго не мог отыскать. Без пользы обшарив заспанными глазами стулья, кресла, Дмитрий уже хотел махнуть на все рукой и надеть пиджак прямо на майку, но тут заметил в ногах Инги свою скомканную рубашку. Он быстро сгреб в охапку всю одежду, тихо открыл дверь и вышел из комнаты.
Оказавшись на кухне, Дмитрий сразу оделся, повязал даже галстук, залпом выпил два стакана сырой воды и, потирая ломившее надбровье, склонился над столом.
Скоро проснулась Инга, вошла на кухню в длинном махровом халате нараспашку, сдержанно-весело сказала:
— Доброе утро, ученый муж!.. Боже мой, он при всем параде и трезвый как стеклышко. А кто тогда мне всю ночь в любви объяснялся и спать не давал?
Глядя в одну точку, Дмитрий молчал и дымил сигаретой. У него от боли разламывалась голова, во рту все вязала отвратительная шершавость.
— Давай поставим кофе, — предложила Инга и открыла дверцу шкафа, погремела банками. Но вдруг повернулась к нему: — Или ты хочешь коньяку?
— Как я оказался у тебя в постели? — мрачно спросил Дмитрий.
— А я связала тебя бельевой веревкой и положила к себе, — усмехнулась Инга.
Дмитрий озлился на себя и еще больше помрачнел. Это верно, глупо выглядит его вопрос, выходит, он ищет виноватого, а сам на радостях налил вином глаза, потерял голову. Он учит уму-разуму сестру, а чему толковому может научить? Нет, не прибавляет ума кандидатская. Ученая степень — это только компас в ближнем лесу, а ум-то от рождения. Он затянулся глубоко, стряхнул с сигареты пепел и заметил, что руки у него дрожат. Вот только этого еще и не хватало. Ведь назавтра у него назначена сложная операция.
— Кофе, только кофе! — вырвалось у Дмитрия.
Инга молча поставила кофейник с водой на плитку, зажгла газ, насыпала в мельницу кофе в зернах. Электрическая мельница тонко и нудно заверещала, нагоняя тоску. Минуты через две Инга бросила в кипяток молотого кофе, помешала чайной серебряной ложкой, и горьковато-кислый запах заполнил кухню.
— Извольте, князь, — шутливо сказала Инга, подавая ему чашку кофе.
Разом выпив кофе без сахара, Дмитрий ощутил некоторое просветление в голове. Боль в висках и над бровями тоже стала стихать.
— Черт возьми, — сказал он, — после твоего виски я вчера ничего уже не помнил. Как обухом память отшибло. Скажи, у нас что-нибудь было?
— Все было, что может быть между пьяным мужчиной и пьяной женщиной, — спокойно ответила Инга.
Дмитрий закурил новую сигарету и долго молчал. Ему хотелось найти какие-то верные слова, которые надо было сказать Инге. Но слова эти не шли на ум, и Дмитрий знал почему: серьезное случилось случайно и по-глупому; и он, привыкший всегда мыслить логично, все раскладывать по нужным полочкам, оказался в роли дирижера, которого не слушался оркестр.
— Что ты все молчишь? — спросила Инга и отняла у него потухшую сигарету, стала сама раскуривать. — Ночью такой разговорчивый был, ласковый, а сейчас словно бирюк. Голова у тебя болит, да?
— Голова-то полегчала, а на душе муторно… Неожиданно все получилось, некрасиво… Ты сама-то как думаешь?
— А что мне раньше срока голову ломать. Думать буду, когда ребенок застучит под ложечкой. — Инга вдруг весело и беззаботно рассмеялась.
И то ли от этого ее веселого смеха, то ли от поднявшегося над Москвой солнца, то ли от бодрости, что входила в его тело вместе с выпитым кофе, у Дмитрия вдруг стало покойнее на душе.
— Завтра у меня операция сложная, — сказал он. — Надо больного готовить. Поеду-ка я прямо в больницу.
Когда он встал и молча пошел к двери, Инга вслед сказала:
— Не забудь, у меня на вечер два билета на шведский ансамбль.
III
Иван Иванович поднялся спозаранку, натянул на себя красную футболку и, выйдя в просторную полупустую прихожую, слабым голосом закричал:
— Катюша-а-а!.. Встань передо мной, как лист перед травой!
Катя тут же проворно запрятала текущие по плечам волосы под косынку, концы ее завязала на лбу и, надевая на ходу боксерские перчатки, выбежала из комнаты.
— Физкультпривет! — сказал Иван Иванович, выбрасывая вверх правую руку.
Катя тоже подняла руку в знак приветствия, весело ответила:
— Физкультпривет!
И они встали друг против друга. Он маленький, все в мелких морщинах лицо заросло сплошь бородой, и глаза его казались не глазами, а прозрачными стекляшками, что упали в серый мох и светятся. А она на голову выше его, тонкая, гибкая и такая прямая — прямее бамбука.
Постояли они так чуть-чуть и двинулись на середину, и Иван Иванович сразу пошел в атаку, сильно согнувшись, пружиня на носках, стал носиться по всей прихожей, делая разные обманные движения, заставляя Катю открывать то одно плечо, то другое, и тут же наносил удар за ударом, которые были слабые, но частые и потому довольно ощутимые. Это Иван Иванович пытался расковать Катю после сна, поскорее зародить в ней азарт, но она все равно что-то была пассивна: совсем не нападала, вяло защищалась.
— Минуту! — недовольно сказал Иван Иванович и поднял руку. — Что такое, Катюша! Ни малейшего напора с твоей стороны, никакой защиты. Вон я уже в пот пошел, а тебя все никак не раскуешь. Ну-ка, срочно расковаться! Немедленно!
Они опять заметались по прихожей. Иван Иванович теперь стал еще отчаяннее делать наскоки на Катю, бил уже не только в плечи, но и под ребра, в ключицы. Катя тоже вскоре вошла в азарт, ловчее защищалась, все чаще сама нападала.
— Молодец! — впервые похвалил ее Иван Иванович. — Так, так… А вот удар никудышный, как есть комариный. Ты что, мне конфету подносишь? Руку протянула, голова кверху… Почему сама за рукой не идешь? А потом, голубушка, не колоти меня все время в грудь. Это скучно. Ты хоть раз в физиономию засвети, чтоб у меня скула сладостно заныла, чтобы я молодость свою вспомнил.
Катя учла замечание и с силой выбросила вперед руку, а вместе с ней, словно бы переломившись в пояснице, резко подался и весь ее корпус. Удар получился крепкий и чистый, пришелся в левое плечо, которое Иван Иванович не успел защитить: он не ожидал от Кати такой быстрой перемены. Потом еще удар, еще. И вдруг голова Ивана Ивановича сильно качнулась вбок и назад, и тут же на его бороду выкатились капли крови.
— Стойте! — испуганно вскрикнула Катя. — У вас кровь выступила… — Она быстро сбросила перчатки, сбегала в ванную, намочила холодной водой полотенце.
— Ложитесь на кушетку, — засуетилась она, — я компресс вам сделаю.
Но Иван Иванович и не подумал лечь. Сняв одну перчатку, он вышел на середину «ринга» и вдруг впервые за последнее время громко расхохотался. Потом взял руку Кати, высоко поднял над головой и, блестя глазами, восторженно закричал:
— Браво, Катюша!.. Спасибо тебе, спасибо!.. Вот это достойный удар!..
Стоя так, с поднятой рукой, Катя смотрела на Ивана Ивановича и видела, как на глазах меняется он весь, как новые силы вливаются в него. И будто другой человек теперь стоял супротив, по-молодому крепко держал ее руку, и ноги его уже не круглила в коленях прежняя вялость, а обратная ей сила их прямила и упружила. И плечи его сразу кверху пошли да в стороны и слегка назад подались, ровняя впалую грудь и руша сутулость. Но заметнее всего перемены эти выпятились на лице Ивана Ивановича, где радость плеснула свет в его каждый волос, а самые крупные, самые ясные свои искры сыпанула в глаза, и сразу вселилась в них синева дорогого камня.
Катя давно не видела таким Ивана Ивановича. На сиюминутного себя он был похож в то время, когда еще приходили ему письма с далекой заставы от единственного сына Алексея Ивановича, офицера-пограничника, с виду пошедшего не в отца, высокого, крупного в плечах. Пусть и тогда он был уже немолод, не первый год находился на пенсии, но в те дни именно такая плотная синева крыла веселые глаза Ивана Ивановича, а каленая пружинистость собирала воедино все его легкое и подвижное тело.
Человеческое сердце, видно, редко угадывает беду, а может быть, и вообще ее загодя не чувствует. Это только кажется человеку после пришедшего несчастья, что сердце ему что-то предсказывало и надо было поступить иначе. На самом же деле и у порога своей беды человек еще бывает весел и счастлив. Во всяком случае, ни Иван Иванович, ни его сын Алексей ее не предчувствовали.
В ту серую от дождей осень, быть может, мир и не знал человека, что был счастливее Ивана Ивановича. Забот у него хватало на троих, а ему все было мало, и он сердился, если в его тогдашнюю жизнь нежданно-негаданно вклинивался какой-нибудь праздничный день. Вставал он рано, с полчаса бегал в тренировочном костюме по ближнему скверу, потом обливался холодной водой и начинал помогать убирать в квартире Кате (тогда ее мать уже уехала с мужем на Крайний Север, и Катя осталась одна в квартире с соседом) или вел мелкий ремонт: замазывал цементом щели в ванной, подбеливал окна и двери, красил плинтусы, менял старые прокладки у кранов. И все он делал с жадной радостью, под веселую прибаутку. А оплошав в срок глянуть на часы, с силой хлопал себя по коленке, выкрикивал: «Ешь твою двадцать!» — и с лихостью подростка бежал в соседнюю школу, где вел бесплатно кружок юных боксеров, или на заседание какой-нибудь домоуправленческой комиссии, или подменить такого же, как и сам, пенсионера-дружинника.
Поздно вечером, если Катя работала во вторую смену, Иван Иванович торчал в секретном дозоре. Он забирался в палисадник и ходил туда-сюда по дорожке, обсаженной крыжовником и боярышником, не спуская притом глаз с трамвайной остановки, где в любую минуту могла появиться Катя. Сойдя с трамвая, она тотчас замечала светлый шар, плавающий меж кустов, — седую голову Ивана Ивановича, но виду не подавала. Она видела этот шар до тех пор, пока шла по темной части переулка, где почему-то никогда не горели лампочки. В этом месте Кате всегда казалось, что кто-то затаился в тени, плотно прижавшись к забору, и она шагала быстро-быстро, почти бежала, боясь оглянуться. А едва она выбиралась на асфальт, освещенный фонарями, как знакомый шар в кустах крыжовника разом таял. В квартиру Иван Иванович успевал войти прежде Кати и, напустив на себя сонный вид, нарочито позевывал, с усердной медлительностью вроде бы что-то искал на кухне или в прихожей.
Накануне того дня Катя тоже вернулась поздно. Всего минутой раньше пришел из палисадника и Иван Иванович. Вначале он раза два зевнул для маскировки, да тут же и забыл про свою роль, просиял всем лицом, показывая Кате письмо от сына.
— Капитан мой в отпуск едет! — радовался он. — Может, на той неделе уже прискачет. На самолете небось полетит…
Возбужденно-счастливый, он долго потом не ложился, все шлепали его тапочки по квартире: то в ванную заходил и тихой водой шумел, то на кухне посуду по-новому переставлял, то одеждой у вешалки шелестел. Всюду ходил и приглядывался, что бы еще подремонтировать, покрасить, почистить к приезду сына. Уже за полночь он лег, но и то не сразу заснул: радость не давала глазам закрываться.
А наутро в квартиру вошел майор из военкомата, печально спросил Поленова. И даже в эту минуту сердце Ивана Ивановича не почуяло беды. Услышав, что называют его фамилию, он тотчас выбежал из ванной, раздетый до пояса, с полотенцем через плечо, и, принимая майора за приятеля сына (случалось раньше, заезжали его друзья-офицеры), весело сказал:
— Я Поленов… Здравия желаю!.. Проходите, пожалуйста…
И тут майор из военкомата, побледневший от своей тяжкой миссии, глухим голосом выговорил страшные слова: «Ваш сын Поленов Алексей Иванович пал смертью храбрых при защите Государственной границы СССР…»
Иван Иванович не вскрикнул, не заплакал, а лишь побледнел мертвенно, выпрямился, как в горький час на фронте выпрямлялся у холмика с солдатской каской, и непослушными ногами ушел к себе в комнату. Уединившись, он долго сидел неподвижно, верил и не верил тому, что услышал от майора. Неужто такое возможно, чтобы в тихие мирные дни вдруг не стало его капитана, его Алексея, его Алешеньки, того самого белоголового мальчика, который держался слабыми ручонками за его волосы (а ему было смешно и совсем не больно), оплетал еще жидкими ножками его шею, подпрыгивал от радости у него на плечах, когда он с колонной заводчан вступал на Красную площадь, кипевшую людскими улыбками и цветами мая; того шустрого школьника, что до восьмого класса не умел ходить шагом, а только бегал и бегал вприпрыжку?..
Нет, неправда это, неправда!.. Ведь вчера еще принесли от него письмо, где тот пишет, что вот-вот явится на побывку. И Иван Иванович верил, сын приедет, он ни разу в жизни отца не обманывал. Может, капитан его давно уже в дороге, летит сейчас и думает о своем счастливом отце… А если… если это правда, то за какие такие грехи судьба рушит его счастье, которого у него и осталось-то с воробьиный хвост?.. Ведь смерть уже успела забрать у него всех до срока: и мать, и отца, и жену. Неужели она посмела занести еще руку над его единственным сыном, его последней родной кровинушкой?..
В тот же день Иван Иванович улетел самолетом на далекую пограничную заставу, а когда вернулся обратно, Катя с трудом его узнала. Ссутулился Иван Иванович, сделался еще меньше ростом, в его лице не было ни кровинки, голова стала уже не просто седая, а пронзительно белая, брови часто дергались, слова с губ сходили слабо и невнятно.
Теперь он не хотел никого видеть и почти не выходил из дома, все дни сидел неподвижно на кухне, где было тихо, так как ее окно выходило в палисадник, и отрешенно глядел в одну точку тусклыми, погасшими глазами. А с началом сумерек уходил в свою комнату и, не зажигая света, тут же ложился. Но засыпал не сразу, подолгу ворочался, глубоко вздыхая и глядя в темноту. И поздними вечерами уже не маячила его белая голова в палисаднике, и Катя, когда возвращалась со второй смены и шла по темному переулку, вся напрягалась, чутко ловила всякий подозрительный шорох, готовая в любую секунду бегом кинуться к своему дому.
Иногда Ивану Ивановичу нездоровилось: после сна он чувствовал пугающую слабость в ногах, тупой тяжестью сковывало затылок, в груди разливался неприятный горячечный жар. В такие дни он не выходил по утрам из своей комнаты, подолгу лежал в постели, с печальной растерянностью и любовью поглядывал на висевший над письменным столом портрет сына. Катя сильно пугалась, что Иван Иванович ни единым звуком не давал о себе знать, и, собираясь на работу, на цыпочках подходила к его двери, напряженно прислушивалась.
Но потом он медленно поправлялся и опять тихо сидел на кухне. Его угнетали лишние звуки, любой шум, и Катя перестала крутить пластинки, не включала радио к телевизор. Но чтобы хоть как-то вывести его из этой отрешенности, она ему что-нибудь рассказывала. Он слушал ее не пристально, рассеянно и, видимо, думал о чем-то своем. Она не раз звала его в музей, в театр, в Останкинский парк кататься на лодке, удить рыбу в прудах Выставки, но он всегда молча мотал головой, не соглашался. А недавно она ему рассказала, что была в ресторане «Седьмое небо» и видела оттуда всю Москву — и Кремль, и Ленинские горы, и Черемушки, и их одноэтажный деревянный дом. Вернее, сам дом закрыт зеленью, а видна только крыша, с телебашни она кажется плоской и маленькой, похожа на красный платок, брошенный на кусты. Слушая ее, Иван Иванович и на этот раз, оказывается, думал о своем и неожиданно сказал:
— Если человек уже ничего не может сделать для других, он должен умирать.
Эти слова потрясли Катю, она вдруг увидела, сколь бесполезны все ее старания, разом поняла свою беспомощность. И, может быть, с отчаяния в ее голове тогда забилась эта наивно-дерзкая мысль, и Катя почти сквозь слезы выкрикнула:
— Нет, вы можете!.. Можете!.. Можете!.. Вы были боксером-разрядником и можете… научить меня боксу…
И тогда внутри Ивана Ивановича что-то сдвинулось с места, поотступило то, что затворяло его онемевшую душу от окружающей жизни. Катя это поняла по тому едва заметному блеску, нет, даже не блеску, а лишь намеку на него, который робко поселился в его глазах. А еще явственнее проступил этот блеск-призрак в светлых глазах Ивана Ивановича на другой день, когда Катя вечером вошла на кухню и показала ему только что купленные боксерские перчатки, густо пахнущие новой кожей.
И вот теперь, стоя перед Иваном Ивановичем, она видела, как высветлялось его лицо, как плотная синева занялась в его глазах, и Катя вся ликовала, и слезы радости давили ей горло. Она быстро смахнула влажным полотенцем капли крови с бороды Ивана Ивановича и, чтобы не расплакаться, тут же пошла в свою комнату, стала собираться на работу.
Пока Катя завтракала, надевала платье и туфли, улыбка все не покидала ее лица. Радость не оставляла ее и потом, когда она ехала в трамвае, вошла в парикмахерскую. Катя еще не знала и не ведала, что скоро Костричкин неожиданно и грубо омрачит ей настроение.
IV
Утром в тот день Костричкин вошел к себе в кабинет, раскрыл настежь окно, огляделся, словно был здесь впервые, и поморщился. Все ему тут не нравилось: окно, стол, старый телефонный аппарат, который часто к тому же портился. Но особенно раздражал его размер кабинета: два шага туда, два шага сюда. Это тюремная камера, и не больше, черту на том свете не пожелал бы он такого кабинета, самому главному тем более.
Да и окно вызывало досаду. Оно выходило прямо на шумную улицу, и мимо все время сновали люди, постоянно в него заглядывали, будто следили, чем тут занят Федор Макарыч в своей тюремной камере. Одно время он попробовал его закрыть сплошь соломенным матом, но тогда в кабинете стало темно. Посидел Федор Макарыч дня три с электрическим светом, потом решил не губить зрение, снял соломенный мат, свернул и поставил в угол. А нижние стекла окна велел замазать белой краской, что поубавило свету в кабинете, сделало его с улицы похожим на общественную уборную, но Федор Макарыч ничего лучше придумать не мог и мирился с этим.
Стол, конечно, тоже никуда не годился: маленький, высокий, с одной тумбочкой, весь поцарапанный, в жирных чернильных и бог знает еще каких пятнах. Ему под стать и черный телефонный аппарат, этот старомодный тяжелый утюг из эбонита, за который и ухватиться нельзя, если надо переставить на подоконник. А в его вечно сырой трубке к тому же постоянно жил какой-то хрип верблюжий.
И все-таки Костричкин не выказывал подчиненным то гнетущее состояние, какое вызывал у него кабинет, и старался не падать духом. Он успокаивал себя тем, что еще есть на свете парикмахерские, где у заведующих нет и такого кабинета, маются они на задах в проходных комнатах, в подсобках, не то и прямо в коридорах. А у него как-никак отдельный кабинет, он может туда вызвать любого мастера и дать взбучку или поговорить по душам. И все это один на один, без свидетелей.
А впрочем, он сейчас так и сделает, возьмет и устроит кому-нибудь разгон. Что ему сидеть сложа руки, когда начальник должен руководить, раньше всех видеть любые недостатки в коллективе. Вот ради чего, скажем, на днях Катя Воронцова вдруг поснимала все с себя?.. Всего-навсего разомлела от жары и разделась?.. Нет, едва ли… Он знает современную молодежь, распущенная она и ничего так спроста не делает. Катя, конечно, не зря оголилась, это либо вызов, либо какой-то намек. Правда, если последнее, то ему вовсе незачем тревожиться, наоборот, можно только приветствовать, что в ней женщина прорезается, что она к своему главному бабьему ремеслу готовится, какое ей от бога положено. А если это все-таки вызов?..
Или взять опять же выходку Петра Потапыча. Надо прямо сказать, смелая развязность старого мастера его насторожила, это надо же было так заявить: «А вы мне все нервы и попортили». Стало быть, он, Федор Макарыч, мотает людям нервы. Ну, а хотя бы и так, что тут удивительного, не может же он чужие нервы беречь, а на свои наплевать. У него тоже прямо кровь кипит в жилах, когда видит, как мастера разные там свитеры себе вяжут. А разве это позволительно на работе?..
Конечно, другой бы мог закрыть на все глаза, пусть вяжут, чем без дела сидеть, в магазинах меньше будут очереди. Но он не такой, он не потерпит этого, и без того слишком вольно у него мастера живут, прямо как у Иисуса Христа за пазухой, что они себе хотят, то и делают. А главное, совсем его бояться перестали, поэтому и критику такую развели. Вон ведь что Нина Сергеевна сказала: «Любите вы из мухи слона раздувать». Это уже не просто деловая критика, мол, то у нас еще слабо, то недостаточно, а разбор его человеческих качеств, оскорбление личности. Во как!
За такую критику, конечно, он спасибо ей не скажет. Да и кто, в общем-то, за нее благодарит? Это пустые слова, которые только на бумаге пишут. Убей его бог, если найдется на свете хоть один человек, который был бы признателен за критику. Вот и он не собирается за нее благодарности рассыпать. Никогда в жизни!
Но помнить об этом он будет и при случае напустится на профорга, и на старого мастера, и на других. Он по долгу службы должен всех критиковать, бранить. Раз начальник, вернее, заведующий, хотя это одно и то же, он обязан подчиненных ругать. Он все время должен делать вид, будто у них что-то не получается и он пока ими недоволен. Тогда они будут стараться на работе, прямо из кожи вон полезут и угодить ему захотят. А если показать, что они все делают хорошо, поступают правильно, да еще похвалить кого-нибудь, то пиши пропал. Эти хваленые сразу возомнят о себе, лениться начнут и как пить дать сядут ему на голову. А почему бы не сесть, если они, оказывается, и сами с усами. Так что подчиненные должны бояться начальника. Ведь подчиненный человек такой, что его все время надо в страхе держать. Запряги половчее и не отпускай вожжей и кнутом грози. Так дело поставь, чтоб он всегда был занят и не оставалось у него времени для разных вольных дум. А если чуть ослабить вожжи, дать свободу, то он обязательно что-нибудь учинит, это уж точно Тогда враз этот подчиненный устроит бузу и свернет ему головушку.
Был Костричкин уверен еще и в другом: когда держишь человека в страхе, то он видит в тебе господина, а в себе — раба. А кто может отрицать, что рабом управлять легче, чем свободным? Никто, конечно. Вот он, его главный конек, за который ему надо покрепче держаться.
Костричкин выбил трубку, затолкнул ее в карман и решил окончательно, что надо сейчас же, немедленно вызвать к себе кого-нибудь из нерадивых. Раньше всего, пожалуй, стоит поговорить по душам с Петром Потапычем, пока с того пыл не сошел. Любопытно ему будет посмотреть, как он сейчас начнет юлить самым мелким бесом.
Не поднимаясь с кресла, он приоткрыл ногой дверь и поискал глазами уборщицу, которую всегда звал по имени и отчеству, но той в подсобке не было, видно, вышла в зал собрать волосы или прибор кому понесла. Костричкин опять подумал, что мастера совсем распустились, не могут уже за приборами и салфетками сходить. Культурными себя показывают, а у самих это от лени. И все ведь Катя им головы заморочила разными новшествами. Кнопки к столу каждого поставили, приборы теперь господам подносят. Прямо жизнь-малина у мастеров. А вот он должен ждать уборщицу, время терять. Наконец он увидел тетю Полю с дюжиной салфеток на плече, с двумя бритвенными приборами в руках, сказал недовольно:
— Пелагея Захаровна, позовите мне Петра Потапыча. Да поживее!
Уборщица тут же метнулась в зал, и вскоре в кабинет вошел старый мастер. Он прикрыл за собой дверь и молча стоял, распирая карманы халата большими кулаками. Петр Потапыч то ли старался не показывать свои руки с туго надутыми синими венами, то ли такую привычку имел, но всегда руки прятал в карманы.
— Перед начальством надо навытяжку стоять, а вы карманы раздираете, — сказал заведующий.
— Я человек цивильный, с меня взятки гладки, — ответил Петр Потапыч.
— Тогда садитесь, цивильный человек, — заведующий кивнул на стоявший рядом стул. — Разговор тут есть.
Старый мастер отказался:
— А сидеть я не люблю. Так привык стоять за свою жизнь, что и помирать хочу стоя.
Костричкин понял, что старый мастер характер показывает. Но это ничего, сейчас он поставит его на место, всю спесь с него как рукой снимет. Только напрасно он заранее бумаги не посмотрел, не узнал точно, сколько старый мастер бюллетенил в году. Цифры, они всегда помогают. Хотя он и без того найдет, что сказать, голова у него как-нибудь варит.
— Стоя умирают деревья, — сказал Костричкин. — А человек прежде копыта отбрасывает, потом уже дух испускает.
— По-разному бывает, — не согласился старый мастер.
Заведующий махнул рукой, мол, ладно, некогда мне тут с тобой споры разводить, и сразу перешел к делу.
— Вот что, дорогой мой, — начал он, — вышел я вчера в зал ожидания, а меня один клиент подзывает. С виду степенный, возраста солидного. Отвел он меня, значит, в угол и тихо так говорит: «Почему вы этого старого мерина на работе все держите? — и показывает на вас, Петр Потапыч. — Ведь у него, — говорит, — руки трясутся и голова качается вроде маятника. Такой за милую душу может нос бритвой отхватить. Я весь вспотел, пока он меня побрил».
Костричкин помолчал, поглядел пристально на старого мастера, пытаясь угадать, как тот все это воспринял, и, к своей досаде, не заметил в светлых, чистых глазах Петра Потапыча ни горечи, ни растерянности. «Пока хорохорится», — подумал он и как бы между прочим спросил:
— Вы не догадываетесь, что это был за клиент?
— Не то каждого упомнишь, — спокойно ответил старый мастер.
Заведующий вздохнул и вроде бы с сожалением сказал:
— Да-а, годы свое берут… Руки трясутся, болеете часто…
Петр Потапыч вынул руки из карманов, резко поднес к лицу заведующего; тот от неожиданности вздрогнул, беспокойно заморгал глазами, стал коситься на широкие и плоские, как ласты, руки старого мастера.
— Эти руки, — медленно сказал Петр Потапыч, — мертвой хваткой сжимали горло не одному фашисту, когда надо было без шума и выстрела добыть языка. И ни разу не подводили.
— Верно, верно, все мы когда-то были рысаками, — усмехнулся Костричкин и потянулся к телефону, набрал по памяти номер, послушал. В трубке монотонно, хрипло, с подвыванием раздавались длинные гудки. Но Костричкин и не ждал иного, зная, что жена его сейчас на работе, а больше дома быть некому.
— Молчат в комбинате, вот досада, — сказал он и положил трубку на место. — Хотел насчет вас посоветоваться. Давно мне не приходилось никого оформлять на пенсию, забыл, как это и делается.
Тут Петр Потапыч чуть подался вперед и, опять пряча руки-ласты в карманы, сказал решительно:
— Нельзя мне на пенсию. Не могу я без дела, без людей. С тоски весь высохну, я себя знаю.
— Я вас понимаю, — согласился заведующий, — но и вы должны меня понять. Парикмахерская у нас пока не на самом лучшем счету, вам это известно. И, естественно, я не могу мириться со старыми порядками, я должен сделать все возможное, чтобы вывести ее в передовые. А это, разумеется, зависит во многом от мастеров, от вашего старания.
— План я выполняю, — вставил Петр Потапыч.
— Дорогой мой, — усмехнулся заведующий, — этого мало. Перевыполнять его надо — вот какую я ставлю задачу. Необходимо так наладить обслуживание, чтобы отбою не было от клиентов, чтобы стемна дотемна очередь не кончалась в ожидалке. А получается, мы сами отпугиваем клиента. Конечно, тот бедняга, что потел у вас в кресле, теперь за километр обойдет нашу парикмахерскую.
— Пускай обходит, — обиделся Петр Потапыч. — У меня постоянных клиентов хоть отбавляй, которые годами ко мне ходят. И я к ним привык за столько-то лет. Как же мне без них? Они уже вроде родных стали. Если какой долго не приходит, я тоскую, тревога меня берет. Может, заболел, думаю, или случилось что?.. Москва — город большой, не ровен час под машину попал, под трамвай. Беда, она всегда близко. А когда пропавший опять объявится, я доволен, мое сердце в радости.
Костричкин подошел к старому мастеру, положил ему руку на плечо, сказал отрывисто:
— Стоп и еще раз стоп! Вы говорите за одного человека, это естественно в вашем положении, а во мне сразу сидят как бы двое: человек и начальник. Как человек я вполне вас понимаю, сочувствую вам, а как начальник — нет. Для меня, начальника, интересы производства превыше всего! Это вам, надеюсь, понятно? Но во мне, где б я ни работал, человек всегда брал верх над начальником. Из-за этого, признаюсь уж честно, и страдал не раз ваш покорный слуга. Да, да, страдал! Так что ладно, бог с вами, работайте пока. Единственное, о чем я вас попрошу, не надо впредь так, на глазах у всех, как на днях было, это самое… ну, обижать меня. Понимаете, человек я новый, людей еще знаю плохо и, конечно, нуждаюсь в товарищеской поддержке. Если когда не так что скажу, а это может быть, я тоже человек живой, с издерганными нервами, то лучше заходите сюда и режьте все мне прямо в глаза — не обижусь, поверьте. Договорились?
Слова Костричкина растрогали старого мастера. Взволнованный, он неуклюже топтался на месте, не зная, куда девать свои большие руки-ласты, и долго не мог найти ручку у двери. А когда наконец взялся за нее, Костричкин как-то просто, совсем по-свойски спросил:
— Петр Потапыч, вы не богаты десяткой? Тут такое дело, сегодня у жены день рождения, хочу купить ей подарок, а с собой одна пятерка. Я, это самое, потом отдам, конечно.
— Какой может быть разговор, раз такой случай, — сказал Петр Потапыч, отдал заведующему десятку и вышел из комнаты.
Костричкин потянулся, сильно выгибая круглый живот, и сел опять в мягкое широкое кресло, усмехнулся, довольный собой. А все-таки крепко припугнул он старого мастера, как миленький дал тот десятку да еще рад без памяти, что выпала доля угодить начальству, что он, Федор Макарыч, снизошел попросить у него денег и тем самым как бы проявил к нему благосклонность, как бы приблизил к себе, простил ему недавнюю оплошность. И теперь Петр Потапыч про свою десятку ни за что сам не спросит, наоборот, готов будет еще дать, лишь бы он не выпер его на пенсию. Выходит, рассудил он с толком, главное — найти у подчиненного слабое место, вовремя схватить его за ахиллесову пяту, а тогда он уже весь в твоих руках и можно вертеть-крутить им по-всякому.
Он откинулся на спинку кресла, вытянул ноги и ласково похлопал ладонями по подлокотникам. Из всей скудной мебели в кабинете ему нравилось лишь это массивное кресло, и он хвалил себя за то, что догадался поставить его сюда из зала. Пусть сперва кое-кто посмеивался над его затеей, за чудака выставлял нового заведующего, но потом все привыкли, и скоро стихли разговоры о необычности его рабочего кресла. А зато куда как приятно сидеть, крутиться в таком кресле, и рукам удобно лежать на подушечках подлокотников, и голова в покое отдыхает на подголовнике.
Это кресло Костричкин поставил к себе еще в первые дни своей работы в парикмахерской, тогда же он завел правило, чтобы кто-нибудь из мастеров заходил утром к нему и брил, подстригал его прямо в кабинете. Поначалу это были разные мастера, а позже его выбор пал на Зою Шурыгину, которой он установил на все время первую смену (благо она была мать-одиночка и ей каждый день вечером надо было брать из детского сада сына), и она, придя утром на работу, без лишних напоминаний перво-наперво брила его в кабинете и только потом появлялась в зале.
Скоро все в парикмахерской стали догадываться, что между Костричкиным и Зоей завязался роман. Многих это несколько покоробило: как же так, женатый мужчина, которому уже за пятьдесят, на глазах у подчиненных завел себе любовницу. Не осмеливаясь сказать что-либо заведующему, кто-то попробовал намекнуть Зое, что это не шибко красиво, к тому же он и старше ее чуть ли не вдвое. Но Зоя, к удивлению мастеров, не отступила, наоборот, дала понять, что она вольный казак и никого не просит совать нос в ее личную жизнь. И тогда все смирились: кто махнул рукой, мол, дело ее, сама давно взрослая, а кто даже посочувствовал: что поделать, одинокая женщина, сына нагуляла, с таким приданым непросто выйти замуж, а муж на одну ночь — дело не без риска, понять ее можно.
Но сегодня Зоя Шурыгина была в отгуле, и Костричкин, вспомнив об этом, сильно обрадовался. У него уж который день стояла перед глазами Катя Воронцова: молодая, красивая, подошла она к окну, ярко освещенному солнцем, и ее тонкая манящая фигура просвечивает сквозь халат… Он заранее представил, как Катя станет нежно касаться своими длинными пальцами его лица, как будет поглаживать ему щеки, подбородок, делая массаж, и у него тотчас защекотало в животе от предстоящего блаженства. И тут ему пришло в голову, что не пора ли заменить уже Зою, не лучше ли приручать в личные мастера Катю. Собственно, что в этом плохого: то Зоя его бесплатно брила и стригла несколько месяцев, а теперь будет Катя. Да и нет ничего худого в том, что красота и юность всегда влекут к себе людей. Ведь читал он где-то, не то слышал, как в древние времена святые старцы на ночь укладывали к себе на ложе шестнадцатилетних девиц. И только от одного их близкого соседства, духа и запаха юного старцы молодели, им это прибавляло сил. Стало быть, соображали кое-что они, хоть и жили бог знает когда. А что же он, глупее тех далеких святых старцев?
И Костричкин снова толкнул ногой дверь, позвал Пелагею Захаровну и велел ей передать Кате Воронцовой, чтобы та пришла в кабинет с бритвенным прибором.
V
Виновато сутулясь, Костричкин сказал уборщице, что займется отчетом, пусть зазря мастера его не тревожат, и закрылся на ключ, никого к себе не впускал. Сидел в кресле тихо, морща лоб, казавшийся высоким из-за лысины, обдумывал свое положение. Прикидывал по-всякому, а все равно выходило, что беды никакой нет: Катя скрытная, вряд ли кому расскажет, а коли ума на то хватит, возьмет и сболтнет, — то всегда можно отказаться. Было все без свидетелей, и с какой стати вера будет девчонке, а не ему. Вот только эта чертова шишка, не стала бы она уликой.
Он водой из графина намочил носовой платок, приложил к переносице. Посидел так минут десять, больше не выдержал, подошел к зеркалу, что лепилось к двери, осмотрел шишку и недовольно покачал головой: росла она, так расплылась по переносице, что левый глаз наполовину уменьшила. И фиолетово-синяя стала, как хорошо вызревший баклажан.
Да, шишка его не радовала. И дома что-то говорить надо, жена-липучка сразу пристанет с расспросами: где да как? Ну ладно, той он что-нибудь придумает, а если объясняться доведется в другом месте? Там-то шибко не попрыгаешь, долго не наврешь.
Зазвонил телефон, и Костричкин по привычке кинулся к столу, но в последнюю секунду передумал, не поднял трубку и остался доволен, что вовремя сообразил. Ведь возьми сейчас он трубку, а окажется, что звонят от начальства, велят завтра срочно приехать. И тогда хочешь не хочешь, а являйся самолично в таком распрекрасном виде в комбинат. Правда, мог это и друг позвонить: мол, я тут рядом, сейчас забегу. А зачем и друзьям его разукрашенного зреть? Да и где у него друзья? Старые давным-давно перевелись, а новых он не ищет. От этих-то новых один наклад: в гости их зови, денег в долг им дай. Вот и не заводит он друзей, не дает себя околпачить. Признает лишь людей дела, они же ему и друзья-приятели. Ты ему что-то сделал — он тебе что-то достал, ты ему в чем-то помог — он тебе в чем-то угодил. И вся тут дружба.
Солнце красно зажгло стеклянные двери котельной, что торчала наискосок от парикмахерской, и Костричкин без часов уже знал, что сейчас около семи. И люди на улице замельтешили, поплыли перед окном головы — с работы народ повалил. Ему тоже пора уходить, что сидеть взаперти, задыхаясь в душной каморке, да не знает он, как бы это половчее зал проскочить, как бы это придумать так, чтобы не узрели мастера его злополучной шишки.
Но вскоре все-таки придумал. Отыскал на задворках стола старую хозяйственную сумку, совсем никудышную, вся клеенка на ней облупилась, потрескалась, углы крючьями кверху и в разные стороны топорщатся. Прямо сказать, стыдно на люди показаться с этакой сумкой, да выхода у него не было. Набил он ее чем попало, чтобы хоть вид мало-мальский имела, а главное, не была раздавленной лягушкой, стояла чуть-чуть. И поставил сумку на плечо, поплотнее прижался к ней левой щекой и носом и торопко пробежал по залу. Слава богу, мастера, занятые клиентами, внимания на него не обратили, видно, даже не поняли, кто прошел.
А в первую попавшуюся урну бросил сумку вместе с барахлом, какое в ней было, и вздохнул с облегчением, потом сел в сквере на скамейку, которая в самой гуще стояла, принялся дальше все обдумывать. Надо было еще в уме заготовить, что бы такое жене сказать, как объяснить угнездившуюся на переносице шишку. Да если б только ей одной, а то и на работе завтра многие полюбопытствуют, откуда вдруг у него инородное тело на носу.
В желудке уж посасывало, потому как часов шесть подряд Костричкин не ел, и чтобы отогнать некстати пришедший аппетит, он закурил. А скоро и заулыбался от подоспевшей мысли. В самом деле, скажет жене, что вот шел он, а из подъезда соседнего дома выбежала женщина в слезах. Следом вылетел мужчина, догнал ее и у него на глазах стал избивать. Он, естественно, вступился за женщину, схватил мужчину за руку, ну, а тот вывернулся, распаленный в гневе, ударил его в лицо. Так и на работе скажет, и все поверят. В глазах мастеров он даже будет выглядеть в хорошем свете, кто-нибудь из них похвалит: «Молодец новый заведующий, за женщину заступился».
Костричкин уже хотел было домой идти, но вспомнил, что упустил из виду Катю. Она-то будет посмеиваться тайком. И хорошо, если тайком, а вдруг возмутится, что он вышел вроде бы в герои, и назло расскажет всем, как он вызвал ее в кабинет и приставал, а она засветила ему по переносице. Что делать тогда? Свидетелей-то он не приставит, что женщину защищал. И Костричкин, бракуя начисто историю с женщиной, принялся дальше ломать голову.
С полчаса еще сидел он в сквере, потягивая сигарету, а потом радостно вскочил и, чтобы не терять время, не стал возвращаться на переходную дорожку, а напрямик, через газоны, зашагал к Останкинскому парку. На этот раз он обдумал все основательно: приходит в парк, затевает с кем-нибудь драку и попадает в милицию. Вот и будут у него и живые свидетели, и письменные доказательства, так что сам комар носа не подточит.
Но когда он пришел в парк, радости от предстоящей драки у него уже не было. Если оглянуться назад, вспомнить прожитое, то за свои пятьдесят семь лет он ни разу ни с кем не дрался, даже в школьные годы. С малых лет отец ему внушал, что не надо в жизни лезть на рожон, всегда лучше уступить дорогу, обойти беду стороной. «Береженого и бог бережет», — говорил отец. И он запомнил эти слова, никогда не шел с людьми на конфликт, если они были сильнее, а в драку не только не лез, но стороной ее обходил, даже где и нет ее, а ему казалось, что она может там быть, он туда уже носа не показывал. Если идет один вечером, а на пути стоят парни с гитарами, хохочут, поют, то свернет в сторону или назад повернет. Ведь разве угадаешь, что взбредет в голову зеленым недоумкам. Выкобениваясь друг перед другом, пырнут его под дых, не то нос расквасят, и будет им потом смеху, разговоров. А ему каково?..
Опять же, в милицию попасть — не орден получить, славы хорошей это ему не прибавит. А людишки вредные и недобрые сразу обрадуются, языки чесать начнут, мол, хулиган какой, его и милиция забирала. Но с другой стороны, что ему милиции бояться, туда не только обидчиков приводят, туда и потерпевшие идут защиты искать, справедливости. Вот и он придет как пострадавший: шишка-то налицо.
Хотя вечер был будний, народу в парке оказалось много, людей, видно, тянуло из перегретых солнцем домов в липово-дубовую свежесть, к прохладе, что шла от прудов и зеленой травы. Бродил народ по аллеям, катался на лодках, молодежь в основном топталась на танцевальной веранде и около нее. Костричкин тоже остановился у веранды, сквозь частокол ограды стал смотреть, как теперь танцуют, под какую музыку. Танцевали совсем по-новому: то вроде стояли на месте и лишь крутили плечами, то неуловимо быстро перебирали ногами, незнакомо изгибались. И когда он смотрел эти танцы, чей-то мужской голос рядом спросил:
— Кто фингал подвесил?.. Небось жена?..
Костричкин обернулся: перед ним стоял, часто моргая черными глазками, низенький, плюгавенький мужичок, грудь которого была всего-навсего с хороший крестьянский кулак.
— А твое какое дело? — нарочно позлее рыкнул Костричкин. — По зубам схлопотать хочешь?.. Ну-ка пошли, пошли в кусты!..
Мужичок перестал моргать, сказал простодушно:
— Извини, не хотел обидеть… Я это по доброте своей…
— Я так извиню, что свое имя не вспомнишь! — входя в роль, закипал Костричкин и руку протянул, чтобы схватить за горло плюгавенького.
Но тот неожиданно присел и кузнечиком скакнул в сторону, спрятался за девушек, стоящих вблизи, и уже оттуда обидчиво пропищал:
— Во народ пошел… Космические шизофреники…
Костричкин чуть пробежал за ним, да где там, его и след уже простыл, Легче было иголку в траве найти, чем такого мужичка в толпе. Ему жалко стало, что улизнул шибко подходящий для драки субъект, но зато это и смелости подлило: выходит, кое-кто его боится. И он бодрее пошел по берегу пруда прямо к шашлычной, где, был уверен, полно разных алкашей и скоро найдет себе нового партнера для драки.
В шашлычной было пустовато, лишь за двумя столами сидели мужчины, закусывали с вином, да трое молодых парней прилипли к стойке, собираясь что-то заказать. Пьяных вроде не было видно, посетители вели себя пристойно, и Костричкин, чтобы нарваться на скандал, решил взять без очереди рюмку коньяку и шашлык. Он подошел к стойке и, тесня плечом блондина лет двадцати, стал впереди него.
— Папаша, зачем так по-деревенски? — спокойно сказал блондин. — Ведь живешь в Москве, которая должна стать образцовым городом, а лезешь без спроса. Поясни, что некогда, спешишь куда по срочному делу, и мы тебя пропустим. Верно, гвардейцы, — сказал он стоявшим за ним ребятам помоложе, — уважим папашу?
Оба те засмеялись, согласные с ним, закивали.
— Ну вот видишь, надо все по-культурному, — усмехнулся блондин. — Пожалуйста, заказывай, мы не торопимся, отдыхать пришли. А можем тебе и бутылку поставить — выпьешь за нашу премию.
После таких слов у Костричкина пропала всякая охота начинать драку с блондином. Да и ребята с ним были слишком здоровые, могли изуродовать как следует, а потом еще и вина падет на него: все же видели, кто первый приставал. Но шашлык с коньяком он без очереди все-таки взял. Голодный червяк его и раньше мучил безжалостно, ну а когда буфетчица вынесла поднос с блюдами и в нос Костричкину ударил запах жареной баранины, у него аж заломило под ребрами, скулы повело в разные стороны, и не мог он уже стоять в очереди и секунды.
Сытный шашлык и хороший армянский коньяк заметно взбодрили Костричкина. Невезенье с дракой уже не казалось удручающим, теперь он верил, что наверняка добьется своего, не уйдет из парка, пока не попадет в милицию. А коньяк, слегка ударивший в голову, к тому же склонял к философии, ему подумалось, что бывает вот так в жизни, когда все становится с ног на голову, и наоборот. Ведь смешно поверить, ей-богу, что он, обходивший драку за версту, сейчас ищет ее сам, а попасть в ту милицию, которой всегда побаивался, вдруг считает за счастье. Или взять этих людей, что такое с ними стало: в ответ на грубость улыбаются, уступают свою очередь да еще готовы угостить. Ну, право, хоть сегодня ночью переправляй их в коммунизм.
— Эй, морда, подвинься! — вдруг кто-то утробным голосом оглушил его.
Костричкин поднял голову и увидел, что над ним навис огромный верзила, размашистость его плеч была шире любого стола, рука, в которой он держал стакан, толще бутылки из-под шампанского.
— Садитесь, пожалуйста, я сейчас уйду, не буду вам мешать, — зачастил в испуге Костричкин.
— Нет, сиди! — приказал верзила. — Ты должен мне поставить!..
Костричкин нервно завертел головой, отыскивая тех добрых ребят, что пропустили его без очереди, думая, в случае чего они, может, за него заступятся, но знакомой троицы уже не было. И вообще вся шашлычная опустела.
— Не крутись, как вошь на гребешке, а волоки коньяку, если тебе велено, — прорычал верзила и стукнул граненым стаканом по столу. — Вот до краев его насыть…
Вытирая выступившую на лбу испарину, Костричкин тайком глянул на верзилу, чтобы понять, не шутит ли тот, и еще больше испугался: жесткие глаза этого человека были злы и откровенно наглы, в них проступала нехорошая затаенность.
— Понимаете, я домой спешу, жена заболела… И денег, кажись, не осталось, — пролепетал Костричкин.
— Не жмись, на стакан найдешь… А за жену выпью — сразу поправится.
Пошарив в карманах, Костричкин вынул пятерку, положил на стол.
— Вот, немного нашлось… Пожалуйста, выпейте, а я пошел.
Верзила взял его за руку железными пальцами, прохрипел:
— Сначала принеси… Ты же меня угощаешь, а не я тебя.
По пути к стойке Костричкин подумал, что хорошо бы убежать. Жалко ему было расставаться с пятеркой, не хотелось ее выбрасывать коту под хвост. Он незаметно покосился на дверь, выбирая между столами покороче дорогу, по которой проще сигануть к выходу, но тут же отказался от своей затеи. Верзила то ли угадал его мысли, то ли решил ноги поразмять, а только он встал и подошел к двери, загородил ее всю собой.
Пришлось Костричкину брать коньяк. На всю пятерку буфетчица налила ему полный стакан и велела побыстрей пить, так как шашлычная закрывается. Стараясь не расплескать коньяк, поглядывая на стакан, Костричкин пошел с вытянутой рукой к столу и на что-то скользкое наступил, ноги его разъехались, и он шлепнулся задом на пол. Выпавший из руки стакан загремел, покатился к двери. А когда Костричкин поднялся, рядом стоял верзила, страшно вытаращенными глазами смотрел на него.
— Раззява, такое добро загубил! — выдохнул он побелевшим ртом. — Нарочно сделал, чтоб я не выпил… — И молча ткнул его кулаком в подбородок.
Очнувшись, Костричкин увидел, что он опять лежит на полу, а над ним склонилась буфетчица, сует ему в нос смоченную водкой вату.
— Когда только успел? — качала она головой. — Я на секунду отвернулась, потом смотрю, вы уже лежите, а его как ветром сдуло.
Костричкин молча встал, отряхнул брюки, потрогал подбородок, который сильно горел. Потом посмотрел на женщину бегающими глазами и тут же рванулся из шашлычной, на бегу бросил:
— Я его догоню!..
Оказавшись на воле, Костричкин спрятался за куст, прислушался. Он боялся опять встретить верзилу. Но вокруг было тихо, нигде шагов не раздавалось. Только со стороны ворот доносились голоса: народ уходил из парка. И он, сторожко ступая, направился к выходу.
Уже перед самыми воротами Костричкин натолкнулся на молодого милиционера в сержантских погонах, неожиданно вынырнувшего из аллеи со стороны Останкинского дворца-музея. Он обрадовался сержанту как родному, сознавая, что теперь верзилы, который, как ему казалось, мог поджидать его за любым кустом, бояться больше нечего. Но своей радости Костричкин сержанту не выказал, наоборот, угрюмо пробурчал:
— Вы, дорогой блюститель порядка и покоя, вот тут разгуливаете по-праздному, а рядом чуть человека не убили. — И он кивнул назад, в глубину парка.
Сержант потрогал козырек фуражки, с недоумением глядя на Костричкина, спросил:
— Гражданин, о чем это вы, не пойму пока?.. Я весь вечер хожу по парку, и всюду спокойно.
— Ну вот и вы такой же, хотя молодой еще совсем, — Костричкин досадливо махнул рукой. — Никого не убили, никого не ограбили, и вы рады-радешеньки. А что от хулиганья нынче честному человеку житья не стало, это вашего брата не волнует… Вот, знаете, буквально пять минут назад на меня нападение было, и не где-нибудь, а в шашлычной, принародно, стало быть. Какой-то бандит с такой вот вывеской, ну, больше ведра у него рожа, изуродовал мне фотографию.
Милиционер зажег фонарик, осветил им лицо Костричкина, с минуту пристально глядел в его маленькие, беспокойно бегающие глаза, что-то соображая, потом хмыкнул раза два, протянул не то с сожалением, не то с удивлением:
— Да-а, здорово вас!.. Только, по-моему, это не сейчас было, шишка-то уже в синеву по краям пошла.
— Он меня сюда ударил, — Костричкин ткнул пальцем в то место подбородка, где сильно жгло и саднило.
— А откуда взялась шишка под глазом? — спросил милиционер.
Костричкин было замялся, но скоро вышел из положения, с деланным смущением сказал:
— Это… жена приложила.
Сержант сочувственно вздохнул:
— Быва-а-ет…
— Она у меня южанка, горячая… — для пущей убедительности прибавил Костричкин.
Милиционер еле заметно ухмыльнулся, молча достал сигарету, щелкнул зажигалкой, прикурил.
— А как же этого бандюгу найти? — сокрушался Костричкин.
— Найдем, никуда не денется, — уверенно сказал сержант, собираясь уходить.
— Вы, пожалуйста, запишите мою фамилию, — попросил Костричкин. — Вдруг на работе что худое обо мне подумают, тогда подтвердите, мол, обращался к вам. Я Костричкин Федор Макарыч. У меня и свидетель есть, буфетчица шашлычной, она все видела…
— Ладно, ладно, идите спать, — успокоил его сержант и зевнул. — Я без записи запомню, фамилия у вас редкая, обличье тоже…
— Вот спасибо, товарищ сержант!.. Значит, не забудете?.. Вот спасибо!.. — благодарно зачастил Костричкин, старательно вытягиваясь перед сержантом и плотно прижимая к бедрам руки. Потом он по-военному пристукнул каблуками и, веселый, зашагал домой.
Вечером Анна Григорьевна часов до одиннадцати не ложилась, поджидая мужа, а потом усталость взяла верх, сморил ее сон. Проснувшись утром, она первым делом прошла в другую комнату и, глядя на спящего Костричкина, заметила у него под левым глазом синюю с желтоватым оттенком шишку. «Бог ты мой, — подумала Анна Григорьевна, — кто это его и за что?» Она сразу растолкала мужа, тревожно спросила:
— Кто тебя так, Федор?
Костричкин, протирая ладонью глаза, громко зевал и спросонья не мог вначале сообразить, о чем она спрашивала. Наконец до него дошел смысл ее слов, он поскреб ногтями грудь, густо заросшую темными с проседью волосами, стал рассказывать придуманную еще вчера историю о том, как защищал какую-то женщину от разбушевавшегося мужа.
Анна Григорьевна тотчас осерчала, раздражаясь, выкрикнула:
— Это ты кому-нибудь сказки сказывай, кто тебя не знает! Ишь, чего выдумал!.. Мне-то известна твоя храбрость, чуть стемнеет, один во двор на даче не выйдешь, меня с собой зовешь… А тут таким смелым себя выставил, благородным, куда там, прямо герой, хоть медаль ему на грудь вешай… Это ты, видать, в неурочный час к бабенке какой полез, вот муж ее и разукрасил тебе физиономию…
— Что ты болтаешь?.. — возмутился Костричкин и завозился в постели. — У тебя только одно на уме, а я про всяких там женщин и думать не думаю. Пойми же наконец, не тем голова моя занята, без того забот у меня по горло. Ты же знаешь, как трудно стало в наше время с людьми иметь дело, как сложно их направлять, подчинять. Всякий личность, всякий мнит из себя черт знает что, чуть наступишь ему на мозоль, а он уже законами пугает: не имеешь права!
Костричкин еще долго бы говорил, какую тяжкую ношу он тянет, как много сил забирает у него работа, но Анна Григорьевна не стала его слушать, тут же ушла в ванную, наскоро умылась, потом загремела на кухне посудой. После минутной перепалки с мужем у нее совсем пропал аппетит, но она все-таки заставила себя выпить стакан простокваши и съесть бутерброд с сыром, поскольку давно заметила, если не позавтракает, то через час-другой начинает болеть голова.
Уходя на работу, Анна Григорьевна, как правило, наказывала мужу, что ему надо сделать по дому, что купить в магазине. На этот раз она ничего не сказала, лишь сильнее обычного хлопнула дверью квартиры да громче, чем всегда, застучали каблуки ее туфель по ступеням лестницы.
«Ну и лютуй себе сколько влезет, а толку-то что, — подумал Костричкин, потягиваясь и зевая. — Я еще не потерял голову, чтоб жене всю правду выкладывать». Он повернулся на бок, собираясь еще подремать, но сон что-то не шел к нему. Лезли, цепляясь одна за другую, разные мысли в голову, распаляя ее жаром, и все они крутились вокруг Кати Воронцовой. Ведь не какого-нибудь зеленого юнца с длинной гривой саданула она со всей силой по лицу, а степенного человека, своего начальника. Это уму непостижимо! Что-то не припомнит он за свою долгую работу руководителем, чтобы так вели себя с ним подчиненные женщины. Правда, пусть не с каждой у него заходило дело слишком далеко, но уж обнять-то, поцеловать он мог почти любую. А тут, скажите на милость, какая недотрога?! Да к тому же еще, наверное, раззвонила на всю парикмахерскую, какая она смелая, как здорово проучила заведующего. Только Костричкин не лыком шитый, не зря он весь вечер мыкался по парку, недаром без чувств лежал от удара верзилы. Буфетчица все это видела. Так что неуязвим Костричкин, любому он докажет: Воронцова поклеп наводит на своего руководителя.
Но, понимая умом, что нечего ему опасаться, Костричкин в то же время не чувствовал в душе покоя. Как-никак, а пойдут среди мастеров разговоры, и, глядишь, кто-то поверит Воронцовой, скажет, с чего бы ей выдумывать на человека напраслину, видно, был все-таки грех, видно, преступил дозволенное. А такие, как Нина Сергеевна, еще недобрую подоплеку в этом увидят, мол, шибко низко пал заведующий, коли уж к молоденькой девушке потянулся.
— А что, я должен семидесятилетнюю бабку за костлявые коленки хватать? — с озорным цинизмом воскликнул Костричкин и сбросил с себя простыню, встал с кровати.
Он наклонился к зеркалу, хорошенько осмотрел шишку. Синева ее заметно послабела, начала местами переходить в стойкую желтизну, опухоль немного опала и не мешала глядеть левому глазу. Не было уже и сильной боли, лишь когда он давил шишку, она тупо ныла. Вот тебе и тихоня, подумал Костричкин, так засветила по переносице, что искры из глаз посыпались. С виду глиста глистой, а удар прямо мужской. Откуда только сила взялась у окаянной девки? И этакая смелость? Ну слыханное ли дело, чтобы девушка с такой силой своему начальнику врезала?! Конечно, за рукоприкладство ее можно в два счета уволить, но разумно ли это делать. Ведь в таком случае скандала не миновать, не станет же она молчать, выложит все, как было. И тогда Костричкин завязывай глаза да беги на край света. Может быть, и теперь уже парикмахерская ульем гудит.
Опасаясь долго пребывать в неведении, Костричкин с волнением снял трубку и позвонил на работу. По голосу он узнал, что к телефону подошла тетя Поля, несколько обрадовался, надеясь незаметно выведать у простодушной доброй женщины про обстановку в парикмахерской.
— Пелагея Захаровна, здравствуйте! — начал Костричкин, нарочито подпуская слабости и печали в своя голос, чтобы уборщица убедилась, как нездоров заведующий. — Это Федор Макарыч говорит.
— Але, але… что-то плохо слышу… — раздалось в трубке. — Федор Макарыч, да?.. Отчего у вас голос такой, случаем не заболели?..
— Угадали, Пелагея Захаровна, жутко перекрутило меня всего, — переходя почти на шепот, сказал Костричкин. — Что-то вовнутри все кверху дном переворачивается…
— Вы полежите… грелку хорошо бы… — посоветовала тетя Поля.
— Да я это самое… лежу, а на душе неспокойно, тревожусь за работу. Как там, вся вышла смена, никто не заболел?.. А то вчера Нина Сергеевна унылая вроде ходила… И Катя Воронцова что-то бледная была…
— Пожалуйста, не беспокойтесь, — просила тетя Поля, — все у нас здоровы. И клиенты гужом идут… Вы поправляйтесь лучше скорее.
— Спасибо, Пелагея Захаровна, большое спасибо, — совсем тихо и немощно ответил Костричкин. — Что поделаешь, придется денька три-четыре полежать, да. Вы передайте там Глебу Романовичу, что занемог я… пусть за порядком последит.
После разговора по телефону Костричкин повеселел, не спеша побрился, съел тарелку кислых щей, которые нашел в холодильнике, а потом до самого вечера, пока не вернулась с работы Анна Григорьевна, все прикладывал к переносице согревающие компрессы.
VI
Теперь Дмитрий уже не переставал думать о Кате, перед ним все стояли ее широкие янтарно-табачные глаза, ему слышался ее низкий тихий голос. Дмитрий думал о ней не только ночью, когда засыпал, но и в самые, казалось, неподходящие моменты: на утренней пятиминутке, в часы обхода больных, а иногда даже во время операции. И, странное дело, это его не раздражало, напротив, вспоминая о ней, он чувствовал в себе какое-то озарение.
Но в то же время это лишало Дмитрия привычного покоя, у него было такое ощущение, будто нечто неуловимо-волнующее все кружилось и кружилось перед ним, не позволяя ни на чем сосредоточиться. Ничего подобного ранее с Дмитрием не случалось, и чтобы покончить с беспокойным своим состоянием, он как-то вечером обрядился в новый костюм, повязал галстук и отправился в парикмахерскую. Придя туда, потоптался с минуту в зале ожидания, заглянул в салон и, убедившись, что Катя работает, сказал стоявшему возле кассы пожилому мастеру:
— Передайте, пожалуйста, Воронцовой, что ее ждут.
Вскоре Катя вышла, поразив его на этот раз чистотой и свежестью своего лица. Тут же узнав Дмитрия, она порозовела, упавшим до шепота голосом спросила:
— Это вы меня звали?..
— Катя, мне надо с вами поговорить, — решительно сказал Дмитрий, оправляя в волнений пиджак. — Я буду ждать, когда вы закончите работу.
— Я, право, не знаю… что вы хотели… — еще больше смутилась Катя и пожала плечами. — Но если…
— Да, да… вот именно, — бормотнул скороговоркой Дмитрий и, видя, что люди в зале ожидания на него смотрят, тут же вышел.
До десяти часов оставалось еще минут сорок, и он не стал торчать у парикмахерской, пересек тротуар и медленно зашагал вдоль сквера в сторону телестудии, радуясь тому, что Катя сразу его признала. Выходило, она тоже о нем помнила и, может, втайне ждала этой встречи, ведь недаром лицо ее вспыхнуло краской, да и в голосе было заметно волнение.
Скоро его обогнала небольшая группа иностранцев, которые громко и возбужденно разговаривали, сильно размахивали руками и все задирали головы, разглядывая Останкинскую телебашню с ее красными сигнальными огнями, с ярким поясом света, охватившим вкруговую ресторан «Седьмое небо». В летние месяцы зарубежные туристы допоздна бродили по улице Королева, все любуясь подпирающей небо башней, и Дмитрий, привыкший к этому, обычно не обращал на них никакого внимания. Только когда слышал английскую или немецкую речь, то старался в нее вникнуть. А еще иногда что-либо отвечал туристам по-английски и по-немецки, желая проверить на практике свое знание языков. Но на этот раз мимо прошли итальянцы, и Дмитрий даже не посмотрел в их сторону.
У троллейбусной остановки он носом к носу столкнулся с Люсей, которая возвращалась домой и неожиданно вынырнула из-за кустов сирени. Хорошо зная свою сестру, он не обрадовался этой встрече, а наоборот, испугался, что Люся сейчас прицепится к нему, как репей, и загубит все дело.
— Слушай, что у тебя такое лицо? — усмехнулась она.
— Ты давай поточнее, — буркнул Дмитрий.
— Какое-то до глупости веселое…
— Брось, брось свои штучки, — недовольно сказал он. — Ты лучше шагай побыстрее домой. Там твои подружки телефон оборвали, весь вечер звонят…
— А ты не идешь?
— Мне человека надо встретить.
— Давай встретим вместе.
— Нет, нельзя. Тут такое дело… мужское, словом…
Люся вдруг закрутилась, завертелась вокруг брата. Она подпрыгивала, хлопала в ладоши, приговаривая: «Кадришь кого-то, кадришь!..» И хохотала на всю улицу.
— Замолчи сейчас же! — рассердился не на шутку Дмитрий. — А не то прямо здесь устрою тебе хуразузу. — Так для пущего устрашения называл он «пытку», которую устраивал Люсе за провинность, когда та была еще школьницей. Зажав между ног ее голову, он подхватывал сестру за живот, опрокидывал вверх тормашками и шлепал ладонью по заду. В детстве Люся больше всего на свете почему-то боялась именно хуразузы. Она и сейчас, услышав это слово, тут же отскочила в сторону, визгливо закричала:
— А я все равно подкараулю!.. Подкараулю!.. Вот увидишь… — И побежала к дому, несколько раз оглянулась.
Взбалмошная по натуре, Люся вполне могла из озорства проследить за Дмитрием, и, чтобы сбить ее с толку, он прошел еще немного по скверу, а потом неожиданно шмыгнул под арку, повернул обратно и дворами направился к парикмахерской.
Катя вышла почти ровно в десять. Дмитрий не сразу ее и узнал: слишком уж юной, тонкой и хрупкой показалась она ему без халата, в легком светлом платье, схваченном в талии узким поясом, в красных туфлях на высоком каблуке.
Приблизясь к ней, Дмитрий чуть поклонился, осевшим от волнения голосом сказал:
— Вы простите… за такую… навязчивость, но иначе я не мог. Не знаю, как все это объяснить… мне очень, очень захотелось вас увидеть…
Сейчас Катя была спокойнее, чем там, в зале ожидания, Дмитрий это заметил по тому, как она без суетливости, плавным движением поправила висевшую на плече сумочку того же цвета, что и туфли, как прямо и без напряжения посмотрела ему в глаза, когда он, неловко поклонившись, сбивчиво произнес первые слова. Да она будто их и не услышала и как-то просто, словно знала его давно, сказала:
— Проводите меня немного, если у вас есть время.
И тем самым точно груз сбросила с Дмитрия, и куда разом девалась его прежняя робость и скованность, ему вдруг стало совсем весело, и уже верилось, что всего-то он добьется, о чем мечтает, непременно сделает Дмитрий Булавин операцию в космосе. Нет, ничто его не убедит, никто ему не докажет, что мечтает он о пустом, ведь пока в космосе были только десятки, а когда туда полетят сотни и тысячи, то нельзя обойтись без хирурга, тогда он там будет нужен как воздух.
Они прошли немного дворами, миновали тихую зеленую улочку, и скоро перед ними замаячила телебашня. Ее верхушка, подсвеченная снизу прожекторами, походила на хрустальную сосульку, какие вешают на новогодние елки, а над нею даже ночью был виден флаг, казавшийся с земли красным листиком осины, дрожащим под осенним ветром.
— Вот уже столько лет башне, а я ни разу оттуда не видел ночную Москву, — сказал с сожалением Дмитрий.
— Я ночью тоже там не была, — призналась Катя.
Тут Дмитрий приметил, что меж деревьев мелькнули знакомые белые брюки. Он шел с Катей по скверу, обсаженному липами, вишнями, яблонями, за которыми щетинился густой кустарник, а рядом, по тротуару, крадучись пробиралась Люся. «Вот шпионка несчастная», — озлился Дмитрий на сестру, понимая, что теперь она будет хвостом ходить за ними. Он стал соображать, как избавиться от ее преследования, и тут вспомнил про свои «Жигули». Это, пожалуй, был выход: взять со стоянки машину и уехать с Катей кататься. Вот и оставит он Люсю с носом, не побежит же она вслед за машиной как последняя собачонка.
— Мы можем покататься на машине, — сказал Дмитрий. — Если вы согласны, я сейчас возьму ее со стоянки.
Катя обрадовалась, как ребенок, такому негаданному счастью — проехать в машине по ночной Москве, да притом сидя рядом с Дмитрием. А еще лучше укатить куда-нибудь за город, подумалось ей, ночь-то какая теплая, искупаться вполне можно.
— Я с удовольствием покаталась бы, — откровенно призналась Катя.
Они пересекли улицу, немного прошли по широкому травянистому полю и скоро были на автомобильной стоянке. Дмитрий выгнал из-за решетчатой ограды «Жигули», обошел вокруг них, постукал ногой по колесам, проверяя, не спустили ли скаты, посадил Катю, и они выехали на улицу. Поравнявшись с тем местом, где недавно видел сестру, Дмитрий сбавил скорость и прочесал глазами сквер, надеясь обнаружить Люсю, но нигде ее не заметил. Только в конце сквера, когда пошел на поворот, за яблонями вдруг мелькнули ее белые брюки, но ему уже было не до нее: загорелась зеленая стрелка светофора.
У самого берега залива, вблизи пансионата «Клязьма», они остановились. Дмитрий сразу сбросил с себя пиджак, в котором ему давно было жарко в эту теплую ночь, распахнул вовсю дверцу и, откинувшись на спинку сиденья, с охотой закурил. Катя тут же вылезла из машины, сняла туфли и сбежала босиком к воде.
— Тепла-а-я!.. — обрадовалась она, трогая воду ногою. — Я сейчас буду купаться… Только вы на меня не смотрите… я без купальника. — И, пробежав немного вдоль берега, она скрылась за кустами.
Дмитрий тоже считал, грешно в такую ночь не покупаться, а если нет с собой плавок, то что за беда, ну кто сейчас его увидит, когда вокруг ни души. Он оглядел пустынный берег, безмолвные в сонной тиши корпуса пансионата, которые притулились к самому лесу, и стал раздеваться.
Катя вошла в воду первая. Дмитрий слышал, как булькнуло у самого берега, за кустами, как она тихо ойкала, постепенно погружаясь в воду. Сам он бросился в залив с разбегу, немного поплавал на спине, а затем, бесшумно двигая руками, подался в ту сторону, откуда доносились легкие всплески. Катя скоро его заметила, и ей вдруг захотелось, чтобы Дмитрий подплыл к ней, привлек ее к себе, но она тут же прогнала такие мысли и негромко крикнула: «Близко не подплывайте!» А видя, что он все равно приближается, немного оробела, стала загребать ладонями воду и брызгать ему в лицо. Дмитрий вначале смеялся, увертываясь от брызг, а потом неожиданно нырнул и обхватил ее за талию, закружил в воде, приговаривая: «Попалась, марсианка!.. Попалась…» Катю теперь охватил страх, она, стараясь вырваться из сильных рук Дмитрия, упиралась локтями ему в грудь, изредка вскрикивала: «Ой, отпустите, я сейчас захлебнусь!», но он, казалось, ничего не слышал и все кружил и кружил ее, чувствуя, как кровь горячей струей ударяет в виски, а по всему телу мечется колкий озноб.
Вскоре Дмитрий ощутил под ногами твердь песчаного дна, легко подбросил в воде Катю, подхватил на руки и плотнее прижал к себе. Пытаясь его оттолкнуть, она собиралась вся в комок, мотала головой, резко выбрасывала руки в стороны, но это не помогало, Дмитрий все крепче сжимал Катю и скоро нашел ее чуть прохладные и мокрые от воды губы. Она на какое-то мгновенье расслабилась, будто обмякла, и у Дмитрия тотчас помутилось в голове, трудно переставляя непослушные ноги, он вынес ее на прибрежный песок, а падая, почувствовал, как обжигающе чиркнули по шее соски-пупырышки ее твердых грудей, и задохнулся от всепоглощающего желания. Сквозь дурманящий туман до слуха Дмитрия дошел слабый вскрик Кати, и потом мучительно-сладкая волна окатила все его тело…
Когда в голове просветлилось, он увидел рядом с собой в лунной ночи сверкающую белизной тела Катю. Она, казалось, безжизненно распласталась на темно-рыжем песке, у самой воды. Дмитрия теперь охватил жгучий стыд и испуг, несколько минут он лежал, не шевелясь, страшась посмотреть Кате в глаза, и не совсем понимал, как все это произошло. За свои двадцать восемь лет ему довелось узнать уже двух женщин, которые его волновали, но с ними все было по-другому, с ними он никогда не становился рабом своих чувств. Была у него близость еще с Ингой Разменовой, однако ее он в расчет не брал, поскольку ничего не помнил из той злополучной ночи. А сейчас все было иначе, сейчас какой-то пронзительный свет разом полонил в нем дух и тело, и все случилось словно помимо его воли.
— Прости… я вроде как сознание потерял… — глухо и виновато выдавил Дмитрий.
Катя не ответила. Она по-прежнему лежала без движения, словно неживая. Мелкая волна, гонимая надводным ветром, с шорохом взбегала на песок, заливая ее ноги по щиколотку. Глаза у Кати были широко открыты и как-то странно светились под высокими звездами, июля.
— Понимаешь, никогда так не было… — признался Дмитрий.
— Дай мне сигарету, — не поворачивая головы в его сторону, попросила Катя.
— Разве ты куришь? — удивился он и обрадовался, что она наконец заговорила.
— А-а, какая тебе разница, — с некоторой отрешенностью ответила Катя и тут же гибко вскочила. — Господи, что это со мной… вся голая лежу… — Она вдруг скорчилась, как от страшной боли, и, вжав голову в плечи, кинулась к кусту орешника, за которым раздевалась.
Дмитрий тоже опомнился, что и сам голый, и сейчас же скатился в неглубокий овражек, где сбросил свою одежду перед купаньем. Он поспешно натянул брюки, рубашку, достал сигареты и закурил, замечая, как сильно закружилось в голове после первых затяжек. Потом подошел к Кате, держа в одной руке туфли, а в другой сигареты со спичками. Она уже успела одеться, и, задумчиво глядя на залив, неторопливо расчесывала свои длинные волосы. Дмитрий протянул ей пачку с сигаретами, приготовился чиркнуть спичку. Катя открыто, пристально посмотрела ему в глаза и, словно прочитав в них нечто важное, мотнула головой:
— Нет, мне расхотелось…
— Ты прости меня за тот первый вечер, — сказал Дмитрий, беря за руки Катю. — Я тогда глупость всякую нес, про какую-то невесту из Большого театра говорил… Все это ведь неправда. Знаешь, я боялся тебя потерять, думал, уйдешь ты, и мы никогда уже не увидимся. Москва не чета моей Сотовке, где я родился, тут раз увидишь человека и можешь больше его не встретить… Вот я и старался вовсю, от страха выдумывал черт знает какие небылицы. Мне хотелось во что бы то ни стало узнать, как тебя зовут, твой телефон… Потом я тогда вернулся домой и чуть с ума не сошел. Гляжу, нет на столе твоей записки с телефоном. Оказалось, моя вредная сестрица ее сожгла… А вот видишь, судьба все равно нас свела… Я сегодня как невменяемый от счастья, отсюда все… это… Но ты не думай, теперь я тебя еще больше люблю…
— Слишком быстро успел полюбить… — напряженно усмехнулась Катя. — Но я не виню тебя… сама потеряла голову… Еще когда первый раз тебя увидела, я уже знала, что не смогла бы ни в чем устоять перед тобой… Ты запомни, я нисколько не жалею… что так все случилось… Теперь, знаешь, я… я… умереть могу…
— Глупая, что ты сказала! — испугался Дмитрий. — Ну что ты сказала?! — И он обхватил голову Кати, стал целовать ее уши, глаза, шею… — Ты у меня самая сладкая, самая ароматная, — задыхаясь в радости, говорил он. — Знаешь, чем от тебя пахнет?.. Кашками, ромашками и ситными барашками…
VII
Когда Катя вернулась домой, на улицах уже гасли огни и в городе спали тем стойким сном, какой одолевает людей в разгар рассвета. Войдя в квартиру, она сразу сняла туфли, сунула ноги в комнатные шлепанцы, что оставляла всегда в прихожей, и, направляясь в свою комнату, увидела через стеклянную дверь на кухне белую голову Ивана Ивановича. Он сидел, сгорбившись, за столом и отрешенно глядел в окно. По темно-синему свитеру, который был на нем, Катя догадалась, что Иван Иванович еще не ложился, и ей стало жалко этого одинокого и в общем-то несчастного человека. Выходило, он всю ночь ждал ее и, наверное, бог знает куда звонил, испугавшись, что с ней беда, а она, словно загипнотизированная Дмитрием, уехала за город и забыла даже позвонить, предупредить, что поздно вернется.
— Иван Иванович… вы не спите!.. — входя на кухню, виновато сказала Катя.
Он будто не слышал и некоторое время сидел неподвижно, потом встрепенулся, повел голову в сторону и посмотрел на Катю, но вроде ее не узнал. При этом глаза у него были такие пустые и неподвижные, что Катя чуть не вскрикнула в испуге. Но скоро глаза его стали оживать, в них постепенно разливался свет, в котором смешались обреченность, обида и надежда. И тогда Катя подошла к нему, опускаясь на колени, покаянно попросила:
— Простите меня…
Ивана Ивановича это растрогало, он засуетился, неожиданно быстро поднялся со стула, в растерянности стал просить ее:
— Сейчас же встань!.. Слышишь?.. Что ты делаешь?.. — Он подошел к плитке, зажег газ, налил в чайник воду. — Вот чайку с тобой попьем… Давно хотелось…
Катя стала помогать ему, помыла чашки, блюдца. Она с вечера ничего не ела, но сейчас была в возбуждении и у нее пропал аппетит, и все-таки в надежде, что Иван Иванович что-нибудь поест, достала клубничное варенье, вытащила из холодильника сыр, вареную колбасу.
За чаем она призналась, что уезжала за город, рассказала про Дмитрия. Иван Иванович слушал ее спокойно, часто согласно кивал и по той радости, которую она не могла погасить на лице, по волнению в голосе догадывался, что у Кати произошло нечто серьезное. И это пугало его, он понимал, что не за горами уже то время, когда может потерять единственного теперь ему близкого человека. Вот выскочит Катя замуж, молодые, они скорые на такие дела, и останется он куковать в пустой квартире, один будет доживать свой век, разговаривая со стенами. Конечно, он будет рад за Катю, если ей попадется хороший человек, а не какой-нибудь прощелыга или пьяница. С той осени, когда не стало сына Алексея, он особенно сильно привязался к Кате и считал ее за дочку. Он знал Катю с колыбели, любил ее отца, летчика-испытателя, сильного и отчаянного человека. Когда тот погиб, облетывая новую машину, он плакал по нему, как по родному человеку. Кате тогда было года три.
— Ты помнишь отца? — спросил Иван Иванович.
— Я бороду его помню, — сказала Катя с тихой грустью. — Он все щекотал ею мне голый живот, а я хохотала и отбивалась руками и ногами. Как сейчас вижу его черную, всю в завитушках бороду. А больше память ничего не удержала.
Иван Иванович вытер лоб, вспотевший от горячего чая, вздыхая, заметил:
— Человек это был, какого теперь поискать… Да что поделаешь, у каждого своя судьба, от которой никуда не убежишь. Все это вздор, будто человек — кузнец своего счастья. Чепуха абсолютная!.. Понятное дело, разные там бездельники, алкоголики, лодыри — кузнецы своего… несчастья. Тут уж, как говорится, никуда не попрешь, вроде все сходится… А вот применительно к твоему отцу, Алексею моему ничего не выходит. Уж они-то ковали свое счастье, а выковали себе раннюю могилу… Нет, никуда, видать, от судьбы своей не ускакаешь… — Он опять вздохнул и, ероша бороду, признался: — Любил я твоего отца, да, любил… А вот отчим не по сердцу мне. Пустой это человек, без стержня. Жаль Ирину Андреевну, намучается она с ним. Он уже почти сломал ее, подмял под себя. Ты скажи мне, что они там не видели, на этом своем Севере?
Катя молчала, не желая сознаваться, что это она настояла, чтобы отчим завербовался. И только глаза у нее посуровели: она вспомнила то весеннее утро. Тогда ее разбудило апрельское солнце, которое шастало по лицу, щекоча нос и губы теплыми лучами. Катя открыла глаза и засмеялась, чувствуя освежающую легкость во всем теле, какое-то радостное томление в груди. И уже не верилось, что всего два дня назад она металась в бреду и будто сквозь туман видела незнакомых людей в белых халатах, плачущую мать со сцепленными на груди руками, своих подружек-десятиклассниц с одинаково вытянутыми в испуге лицами. Она подняла голову и увидела, что под окном на ветке старого тополя сидит скворец, рыжеватый от солнца, и, трепеща крыльями, отчаянно свистит и щелкает.
— Скворушка!.. Скворушка прилетел!.. — закричала Катя, хлопая в ладоши. — Здравствуй, скворушка!..
И тогда дверь открылась, и в комнату вошел ее отчим, который в это время завтракал на кухне. На его широком и тяжелом лице, меченном крупными оспинами, было радостное удивление. Он присел на край кровати и, трогая ее лоб, сказал заботливо:
— Ты не болей больше так, не пугай нас. — И погладил ее по голове, два раза чмокнул в висок.
У Кати на щеках уже проглядывал еле уловимый румянец, и она, как все выздоравливающие, радостно смеялась без причин, сверкая чуть воспаленными глазами, которые после болезни казались еще больше. Отчим вначале тоже был весел, шутил, а потом вдруг затих, прерывисто задышал и, наваливаясь на нее, стал бесстыдно шарить руками по груди и животу Кати. Увидев его безумные глаза, она помертвела от страха, заколотила кулаками ему в грудь, сквозь слезы умоляя: «Пустите, что вы делаете?..», а он бормотал сиплым голосом: «Тише… тише… молчи…» — и грубо сдавливал ее хрупкие плечи. И тогда Катя со всей силой ударила отчима в лицо, в мгновенье спрыгнула с кровати, схватила отцовскую саблю, висевшую на ковре у дивана, и, вскидывая ее над головой, не своим голосом закричала:
— Не подходите!.. Зарублю!..
Вот в то апрельское утро Катя и поставила отчиму условие: или он вербуется и уезжает, или она все расскажет матери. Отчим выбрал первое и вечером того же дня намекнул матери, что хочет года на три поехать работать на Север. Та всплакнула, стала его отговаривать, как же, мол, мы бросим еще несовершеннолетнюю дочь, пусть уж она закончит десятый класс при нашей опеке, пусть поступит учиться куда-нибудь или на работу устроится, а тогда там видно будет, тогда ей легче будет дочь одну оставить. Но отчим все равно стоял на своем, и тогда мать, кажется, догадалась об истинной причине его вербовки и сама согласилась с ним уехать.
— А я смотрю, у твоего Дмитрия ветер в голове, однако, немалый, — сказал неожиданно Иван Иванович.
Катя усмехнулась, пожимая плечами, ответила:
— Он вроде серьезный, недавно кандидатскую защитил…
— Если он такой, как ты говоришь, вроде серьезный, то зачем ему надо было везти тебя ночью за город. Заморочил он тебе голову и меня чуть на тот свет не отправил. Я глянул на часы, смотрю, уже полночь, а тебя все нет и нет. Тут я и всполошился, ведь никогда такого не было, чтобы ты до двенадцати домой не вернулась. Полезли мне в голову разные худые мысли, думаю, город огромный, долго ли в нем человеку до беды. Стал звонить в милицию, в больницу Склифосовского…
Слушая Ивана Ивановича, Катя и сама не могла понять, что это такое с ней случилось. Словно кто заговорил ее, околдовал, как увидела она вчера вечером Дмитрия, так стала сама не своя, только и смотрела на него, слушала его и ни о чем другом уже думать не могла, все ее мысли и чувства вдруг подчинил себе этот человек, будто он и был весь мир. А Иван Иванович, выходит, считает его пустым.
— Конечно, я его еще совсем мало знаю, но мне кажется, что он не легкомысленный, — неуверенно сказала Катя.
— Дай-то бог, — согласился повеселевший Иван Иванович, — я рад буду, если он хороший. — А уходя в свою комнату, добавил: — Но ты все-таки познакомь меня с ним, познакомь…
За окном стало совсем светло, в палисаднике пробудилась и еще как-то неуверенно спросонья тренькнула ранняя пичуга. Катя только теперь почувствовала, как ей хочется спать, поскорее убрала со стола посуду и отправилась разбирать постель.
Уже засыпая, она вспомнила, что произошло на берегу залива, и поймала себя на том, что не жалеет о случившемся, что бы ни ждало ее потом, она не станет раскаиваться. Это был какой-то вихревой порыв чувств, который и случается, может быть, всего один раз у человека, и она теперь будет жить с мыслью, что он у нее был.
У спящего Дмитрия на лице жила улыбка, затаившаяся в уголках губ, была она слабая, едва уловимая, невнимательный глаз вряд ли ее заметил бы, но Люся, которая давно проснулась и была озадачена вчерашним поведением брата, сразу узрела эту улыбку и даже подумала, а что она означает: сон ли ему приятный привиделся или настрой души на лице отразился. Честно признаться, ее удивлял последнее время Дмитрий, как-то непонятно он себя вел, что-то странное с ним происходило. Казалось, даже слепой давно бы видел, что влюблена в него Инга, а он все не догадывается. Не может же он с умыслом не замечать этого или совсем не питать к ней чувств, нет, не такая Инга, нельзя умному человеку мимо нее пройти. Ведь другие мужчины прямо глупеют, едва ее увидят, это, так сказать, чужие, незнакомые, которые и словом с ней не перемолвились. Но Инге не только красоты, ей и ума не занимать. И манеры у нее, точно у княжны какой, Люся век бы любовалась, как та перчатки снимает, до чего у Инги плавны и красивы движения, лишенные рабской суетливости, полные изящества; а с какой грациозностью подает она руку для пожатия, как несет с достоинством при этом голову.
Кто бы, видя все это, не заметил такую девушку, не кинулся за ней сломя голову, не считал за счастье слышать рядом ее убаюкивающий ровный голос, видеть улыбку, всегда нежную, как бабье лето! К тому же Инга уже аспирантка, в скором будущем кандидат наук, хозяйка кооперативной квартиры в первоклассном доме, войдя в который иной смертный еще в подъезде снимает шапку, будто в какой храм попал, и ступает по сверкающему плиткой полу осторожно, мягко, боясь оскорбить неловким стуком каблуков богатство и ошеломляющую высоту парадной. Прямо не знает Люся, какие еще нужны данные девушке, чтобы она могла выйти замуж за человека, которого выбрала.
Совсем недавно у Люси была надежда, что ей с помощью Жоры все же удастся сблизить брата с интеллигентной Ингой. Одно время Дмитрий вроде и сам потеплел к ней, открыто не сердился, если Инга с Жорой неожиданно появлялись у них. Правда, он всегда говорил с ними мало, а потом вдруг вставал и уходил в другую комнату, но это не вызывало у Люси неловкости за брата, да и никто его не осуждал, все понимали: человек добивает диссертацию. И уж, конечно, Люся обрадовалась, когда Дмитрий защитил кандидатскую, теперь она была уверена, что брату ничто не помешает жениться на Инге. Оттого они с Жорой и привели Ингу на защиту, а затем увезли ее с собой, чтоб вместе отметить это важное событие. И все в тот день шло как будто хорошо, Дмитрий на радостях был вежлив и мил с Ингой и даже согласился провожать ее домой, остался у нее ночевать.
Но как раз после дня защиты Дмитрий и повел себя по-иному: никогда не говорил об Инге, если знал, что Люся пригласила ее в гости, заранее уходил из дому, избегал вроде бы встреч и с Жорой, как-то нехотя отвечал ему по телефону. Люся втайне уж подумывала: а не зазнался ли брат, не вскружила ль ему голову ученая степень? И вот лишь вчерашний вечер кое-что наконец прояснил. Ну и порадовал Люсю братец, ну и выискал себе зазнобу. Это же смех и слезы! Ее единственный брат, кандидат медицинских наук, а ходит, как обыкновенный простой парень, на свидание к какой-то девке, которая наверняка необразованная, пуста и многим доступна.
Люсю вдруг взяла такая обида на брата, ее до того разозлила непонятная улыбка на его лице, что она со всей силой хлопнула дверцей шкафа с намереньем разбудить Дмитрия и этим ему досадить.
Дмитрий проснулся, открыл широко глаза, показавшиеся Люсе слишком веселыми, с явным удовольствием потянулся до хруста в суставах, сел на кровати, крепкий и сильный в плечах, в белой майке, плотно обтягивающей развернутую грудь, с чуть вьющимися по вискам русыми волосами, которые спускались на лоб, спросил с некоторым удивлением:
— Что это упало?..
— Солнце в дверь ломится, — сказала Люся, желая этим устыдить брата, подчеркнуть, что негоже ему до обеда в постели валяться, но тут же поняла по блаженно-счастливому лицу Дмитрия, он не вникает в смысл ее слов, и добавила: — Тебе разве не надо в больницу?
— Нет, ведь сегодня воскресенье, — прогоняя сон, мотнул головой Дмитрий. — Но я все равно туда поеду, хочется взглянуть на одного послеоперационника. Что-то слаб он, много крови потерял бедняга. — И он вскочил с кровати, начал делать приседания.
Собираясь гладить платье, Люся достала из тумбочки утюг, стала неторопливо разматывать шнур, а сама незаметно поглядывала на брата, которого со вчерашнего вечера будто подменили. Какой-то дурашливо-мальчишеский налет был во всех его движениях, некая искристая веселость выпирала из него наружу. Люся больше не сомневалась, что Дмитрий влюбился, и всерьез опечалилась из-за этого.
— А где ты всю ночь пропадал? — спросила она подавленным голосом. — Я до двух часов тебя прождала, а потом заснула.
Вспомнив, как вчера Люся по пятам ходила за ним с Катей, пока они не сели в машину и не уехали за город, Дмитрий усмехнулся, откровенно сказал сестре:
— За город уезжал на машине. Мне надоела твоя слежка. Ты впредь делай это потоньше, не так открыто. И ради бога, не надевай белые брюки — они слишком далеко видны.
Люся не думала, что брат вчера ее заметил, когда она тайно следила за ними, и вначале несколько смутилась, но скоро успокоила себя: «Это даже хорошо, пускай знает, я их видела, пускай ему будет стыдно».
— Благодарю тебя за совет, — сказала она с иронией, — только я вряд ли им воспользуюсь. У меня пропала всякая охота следить за вами, когда я увидела твою парикмахершу.
Дмитрий, который теперь отжимался на руках, на секунду отвлекся от упражнения, с наивным удивлением спросил:
— Разве она тебе не понравилась?
— Я не люблю таких тощих, — поморщилась сестра. — Но меня больше пугает не ее худоба, а ее социальное положение, — подчеркнула она. — Не понимаю, как ты можешь унижать себя, оказывая внимание какой-то уличной девчонке. Ведь расскажи я Инге с Жорой, кого ты катаешь по ночам на машине, они со смеху лопнут.
— Прекрати так говорить о ней! — неожиданно вскипел Дмитрий, резко вскакивая с коврика, на котором занимался гимнастикой. — Как ты смеешь называть Катю уличной, когда совсем ее не знаешь!..
Столь реактивная вспышка Дмитрия убедила Люсю, что все ее планы женить брата на Инге может поломать какая-то пустышка из парикмахерской. Конечно, она не верит, чтобы у Дмитрия могли бродить в голове серьезные мысли насчет этой девчонки, которая и рядом не стояла с Ингой. Скорее всего тут мимолетное и ни к чему не обязывающее увлечение, какой холостой парень пройдет мимо смазливой и легкодоступной девицы. Вот и брата сразу привлекла бросающаяся в глаза ее яркая внешность, а как только он получше ее узнает, ему и самому с ней станет скучно, тогда она его и под дулом пистолета не удержит.
Но в то же время Люся понимала, в жизни всякое случается, а вдруг эта девица околдует брата, так ловко все обстряпает, что он и глазом моргнуть не успеет, как окажется в ее сетях. Ведь такие с виду наивные и ни на что вроде не претендующие бывают, как правило, очень ушлые, умело прячут свое хищное лицо под завесой доброты и ласковости, они, не имея большого ума, многое берут хитростью, в которой всегда не искушен по-настоящему умный и талантливый человек.
Нельзя было забывать и о том, что запретный плод всегда сладок, и если ей сейчас пойти открыто против этой девицы, то можно, пожалуй, быстро все испортить. Дмитрий, который так щепетильно оберегает свою самостоятельность во всяких делах, конечно, не потерпит, чтобы младшая сестра вдруг вмешивалась в его личную жизнь. Напротив, это только его распалит, разозлит и скорее толкнет на поспешный и глупый шаг.
Взвесив все это, Люся подумала, что впредь ей надо действовать гораздо тоньше, осторожнее и, разумеется, не в одиночку. Тут нельзя обойтись без отца с матерью, Жоры и Инги, борьбу против этой девки она будет вести вместе с ними.
Не скрывая своей обиды на брата, Люся опустила низко голову и молча водила утюгом по платью. При этом она тайком посматривала на Дмитрия и всякий раз убеждалась: нет, не случайная связь у него с парикмахершей. Раньше она никогда не видывала Дмитрия таким радостным, а сейчас радость прямо распирала его, открыто выплескивалась наружу, делая лицо брата глуповато-блаженным.
VIII
После гимнастики Дмитрий умылся до пояса холодной водой, выпил чашку черного кофе и стал собираться в больницу. Сперва надел светло-серый костюм, повязал галстук, но, увидя сидевшего на балконе голубя сизаря с опущенными от жары крыльями, вспомнил о жутком зное, который второй месяц угнетал Москву, и снял пиджак, остался в белой рубашке. Вообще-то Дмитрий не любил появляться в больнице без пиджака, чувствуя себя без него как-то ущербно, но сейчас надеялся, что его вряд ли кто увидит, в это время у больных как раз обед, потом будет тихий час, а врачей сегодня нет, и, глядишь, он незаметно прошмыгнет к дежурному, где сразу облачится в халат. Уходя из дома, он сказал сестре, что поехал в больницу, но та сделала вид, будто не слышала, и Дмитрий даже не обратил на это внимание: все его мысли уже были о Сергее Чижове, которого позавчера оперировал.
В последние дни двадцатилетний тракторист из-под Кургана редко выходил у него из головы. В четыре часа утра, когда проводил домой Катю и отогнал на стоянку машину, он уже звонил в больницу, справлялся о состоянии Чижова. Дежурный врач, долго не бравший телефонную трубку, сказал ему сонным голосом, что опасного ничего нет, просто у больного пока держится высокая температура да изрядно частит пульс. Словом, обычное явление после тяжелой операции, и дежурный посоветовал Дмитрию ложиться досыпать, а не тревожить понапрасну добрых людей. И все-таки его беспокоил этот больной. У Чижова плохо свертывалась кровь, а предоперационная подготовка, во время которой пытались как-то поправить дело, дала мало утешительного. Из-за этого он при операции потерял слишком много крови, заметно ослаб. Но самое страшное, чего боялся Дмитрий, у нею могло быть сильное кровоизлияние уже после операции. Оттого-то ему и не терпелось самому посмотреть Чижова, оттого-то он и не мог скрыть на лице волнения, которое сразу заметил Жора Кравченко, едва Дмитрий вошел в ординаторскую.
Жора Кравченко, неизвестно почему затянувший свою учебу в заочной аспирантуре, уже второй год обретался в этой больнице. Лечением, как таковым, Жора впрямую не занимался, палат с больными за ним закреплено не было, но он частенько дежурил по выходным, в праздничные дни, а иногда и подменял внезапно заболевших врачей. Его здесь все знали, к нему привыкли, и Дмитрий, понятно, ничуть не, удивился, что за столом дежурного сидел и дымил заграничной сигаретой его бывший институтский приятель Жора.
— Ну и ну, побледнел… выходных не почитаешь, анархист. — Жора покачал головой в осуждение. — Запомни, наше дело — ходьба в тумане… Это только иногда кажется, что вырвался вперед, а потом, глядишь, ты позади всех…
Дмитрий понимал, куда клонил Жора. Осторожный хирург никогда не взялся бы оперировать Чижова, поскольку шансов на удачу тут почти не было. Недаром в Кургане, где он первое время лечился, ни один хирург не согласился ему делать операцию. А тогда он был еще не так истощен и морально подавлен. Ведь как бы врачи подчас ни скрывали от больных горькую правду, но те все равно окольными путями выведывают то, что им лучше бы не знать. Так случилось и с Чижовым, ему было известно, что местные хирурги побоялись его оперировать. Это-то и убило в нем веру в выздоровление, сломило способность организма сопротивляться болезни.
Вначале многие коллеги Дмитрия вместе с главным врачом тоже были против этой операции, мол, какой же в ней смысл, когда летальный исход неизбежен. А лишняя смерть, разумеется, не прибавит славы ни больнице, ни ее хирургам и ни на шаг не продвинет врачей вперед в познании новых возможностей человеческого организма, в развитии науки. Некоторые врачи больницы колебались, прямо не высказывая определенного мнения. И лишь Дмитрий сразу стоял за операцию. У него тоже не было полного убеждения, что все кончится удачей, но он не мог предать Чижова, который хотел операции больше жизни. Сколько надежды было в его глазах, когда он узнал, что нашелся наконец хирург, который не боится его оперировать. Вот Жора Кравченко в слегка затуманенной форме сейчас как раз и намекал, что риск Дмитрия вряд ли был разумным и пока одному богу ведомо, выживет ли его Чижов.
— Как он? — нетерпеливо спросил Дмитрий.
— Сам увидишь, раз пришел, — уклончиво ответил Жора Кравченко, прищуривая темные глаза.
Дмитрий снял с вешалки халат, на редкость широкий и короткий, точно такой же, как его толстая и низкорослая хозяйка, заведующая отделением, надел на себя (халат на нем выглядел чуть подлиннее обычного пиджака) и решительно толкнул дверь ординаторской.
Сдерживая шаг, чтобы меньше было шума, он пошел вдоль длинного коридора, в котором стояла такая тишина, что закладывало уши. Минуя двери палат, где после обеда спали больные, осторожнее переставлял ноги, но все равно шаги, казалось, бесстыдно гулко отдавались в этой томящей слух тишине. В конце коридора, так же неслышно ступая по мраморным ступеням лестницы, поднялся на второй этаж, остановился у одиночной палаты, которая находилась напротив операционной и куда было удобно вкатывать передвижные столы с больными. Дмитрия всегда волновал тот момент, когда оперированного перевозили в эту палату, он любил смотреть, как распахиваются высокие двойные двери операционной, как в коридор, где уже собрались больные, плавно выкатывается стол на колесах, на котором застыл, будто неживой, бледный и безмолвный человек. Но вот оперированный увидел своих собратьев по несчастью и, превозмогая боль, охватившую все тело так, что нельзя и понять, где больше ломит, уже слабо шевелит пальцами беспомощной руки либо через силу выдавливает на бескровном лице подобие улыбки.
Дмитрий тихо вошел в палату, приблизился к кровати, на которой полулежал-полусидел обложенный подушками Сергей Чижов. За последние сутки лицо его заметно осунулось: светлые глаза, казалось, стали шире и сильнее сверкали лихорадочным блеском, худые щеки еще глубже запали, свалявшиеся от пота волосы утратили прежнюю упругость и вяло свисали на лоб. Дышал он угнетенно и слишком часто, с легким присвистом.
— Ну, как мы тут живем-дышим? — нарочно бодрым голосом спросил Дмитрий, опускаясь на стул, стоявший рядом с кроватью.
Чижов, глядя благодарно в лицо Дмитрию и пытаясь хоть чуть-чуть улыбнуться, сказал медленно, делая часто паузы, как иностранец, плохо знающий чужой язык:
— Пока живу… Морс… вовсю хлещу… вместо водки.
— Выходит, полный графин за сутки выдул! — Дмитрий зацокал языком, делая вид, что сильно удивился.
— Это уже… второй, — пояснил Чижов.
— Ты даешь, братец!.. Ведь так лопнуть можно, вон живот-то какой, ровно у женщины беременной. — Дмитрий осторожно провел рукой по впалому и пустому животу Сергея, который вторые сутки не брал в рот ни крошки, а только пил и пил.
— Вот цежу… цежу… а душа… еще просит, — недоумевал Сергей.
— Пусть тебя это не пугает, — успокоил его Дмитрий, — после серьезной операции всегда так. Температура в первые дни бывает высокая, вот жажда и одолевает… А как сон, не идет пока?..
— Сон… мой вроде… худо объезженной… кобылки… Заводишь ее… в оглобья… а она… все в сторону… норовит…
Дмитрий взял руку Сергея и сразу чуть повыше запястья нащупал пульс, глядя на часы, стал про себя считать. Пульс оказался пугающе частым. «Печально, — подумал Дмитрий, — пора бы пульсу приходить в норму, а то сердце может и стать, оно и так уже трепыхается изо всех сил, готовое вот-вот из груди выпорхнуть».
— Пульс уже лучше, — сказал он Сергею. — Правда, пока еще выше нормы, но зато наполнение хорошее.
— Мне хоть… тяжко… дышать, — с трудом выговаривал Чижов, — но я… вытерплю… Я волевой… Я на… все согласный… лишь бы… живым… остаться… А то… матушка… совсем… извелась… Шестой месяц… по больницам… Она не… верит, что… я вернусь… Дмитрий Тимофеич… я буду… жив?..
— Да у тебя и выхода другого нету, — усмехнулся Дмитрий. — Я, брат, тоже, как и ты, упрямый, с характером. Недаром в деревне вырос, до семнадцати лет по росе босиком бегал. А деревенские, по себе знаешь, не хлюпики. Так что коли ты уж попал в мои лапы, то если и захочешь вдруг наш белый свет покинуть, все равно не удастся. Понял?
Чижов, приоткрыв рот, слушал Дмитрия, боясь пропустить хоть одно слово, и на его лице, измученное болью, бессонницей и морфием, постепенно проступала вера в силу человека, вера в жизнь.
— Я и… на «Кировец»… свой… вернусь?.. — спросил он.
— Непременно!.. Да хоть за штурвал самолета можешь садиться, если управлять умеешь… Ты же скоро станешь практически здоровым человеком. Ведь тебе теперь даже самую захудалую инвалидность не дадут.
— Знаете… я люблю… выезжать в поле… поутру, — мечтательно сказал Чижов. — Солнце уже… взошло… вся степь… вокруг гомонит… небо жаворонки… буравят…
Но Дмитрий слушал сейчас Чижова вполуха, думая совсем о другом: его пугало, что у Сергея был почти нитевидный пульс, и он хотел принять решение. Видимо, в новой полости скопилась жидкость, которая давит на сердце. Стало быть, надо сегодня же откачивать эту жидкость, а не ждать завтрашнего утра, когда соберутся все врачи и придет профессор. До следующего дня Чижову еще надо дожить…
Молча перегнувшись через кровать, Дмитрий дотянулся рукой до стены и нажал на кнопку-пуговицу. А когда в палату вошла няня, пожилая женщина с большими грустными глазами, он попросил ее позвать медсестру с инструментом и дежурного врача Кравченко. И скоро в палате, где сторожила тишина, уже были сверкающий импортными очками Жора, крашенная под блондинку дежурная медсестра и пожилая няня. Такое скопище медицинского персонала тотчас озадачило Чижова, и он подумал, что дела его из рук вон плохи, коли Дмитрий Тимофеич вдруг собрал сразу троих помощников.
— Ну как там, угомонились в третьей? — спросил Жора Кравченко у дежурной сестры.
— Вроде стало тихо, наверно, заснули, — ответила та.
— А что там такое? — вскинув голову, Дмитрий вопросительно посмотрел на сестру.
Она махнула рукой, мол, пустяки, ничего серьезного, но все-таки стала рассказывать:
— Было это утром. Перед сдачей дежурства наша старушка Лидия Владимировна, как обычно, ходила по палатам, справлялась у больных о здоровье. Ну, заглянула она и в третью. А там, знаете, здоровяк такой лежит, Добрынин с автозавода, который шутить все любит. Она, значит, подошла к нему и спрашивает: «Как мы сегодня спали?» А он возьми и брякни: «Я с вами, Лидия Владимировна, не спал». Ну, тут вся палата и задрожала от громового хохота. Там же восемь человек, и все бугаи как на подбор. А Лидия Владимировна как ни в чем не бывало спокойно шагнула к следующему, поинтересовалась: «Как вы себя чувствуете?» И, опросив так всех больных палаты, на прощание сказала: «Будьте здоровы!» — и не спеша вышла. Вот в третьей с самого утра и не стихает смех. Только после обеда наконец угомонились.
Чижову хоть тяжко было, но он, слушая сестру, скупо улыбался, а потом снова подумал, почему столько людей собралось в палате, спросил с обнаженной тревогой в голосе:
— Опять… потрошить… меня… собираетесь?..
— Трошки придется, раз ты такой храбрый да выносливый, — сказал Дмитрий, старательно протирая руки спиртом. — Ишь, герой нашелся, третьи сутки спать не изволит.
— Чем добро… такое… на мытье рук… переводить… лучше бы мне… мензурку налили… Тогда, може… и засну… — в тон Дмитрию выдавил Чижов.
Все разом засмеялись, и потом сестра с няней стали осторожно и по-женски нежно переворачивать Чижова на правый бок. А разбинтовывая, сестра ласково говорила, какой он молодец, все бинты у него сухие и шов такой хороший, прямо хоть отправляй парня на специальную выставку — золотая медаль ему обеспечена. Остальные ей поддакивали и тоже его нахваливали, а Жора Кравченко даже хватил через край: сравнил Сергея с Рахметовым, уверяя, что и он может свободно спать на гвоздях.
Скоро Чижов краем глаза узрел, как медсестра подала Дмитрию большой шприц, а когда получше рассмотрел его тускло блестевшую иглу и понял, что она толще вязальной спицы, у него похолодели руки. Эта игла нагнала на него столько страху, он до того взвинтился, что начал весь дрожать. И только вспомнив про мать, которая так убивалась о своем последыше, он закрыл глаза, стиснул плотно зубы и, повторяя про себя: «Ничего, вытерплю!», стал успокаиваться.
Потом все трое, кроме няни, стоявшей чуть в стороне с эмалированной посудиной, склонились над ним, собираясь делать то, ради чего пришли. Сестра взяла его руку, согнула в локте и, слегка ее поглаживая, стала так держать; Жора открыл широкий пузырек с новокаином и поднес его Дмитрию, и тот окунул в него тампон, зажатый пинцетом, тщательно протер им лопатку Сергея и попросил его немного потерпеть, если будет больно. И тут Чижов отчетливо услышал, как в его тело с хрустом вошла игла, но, к своему удивлению, почти не почувствовал никакой боли. Не было ее и потом, а только он иногда ощущал, что ему не хватает воздуха и словно бы тянут его за душу. Но это, к счастью, длилось недолго, и Сергей окончательно успокоился.
Хлопотавшие вокруг него люди все делали без суеты и почти молча, лишь изредка тишину взрывали уже привычные для него слова: «пинцет», «тампон», «зажим», которые вполголоса произносил Дмитрий. Чижову не было видно, что и как они делали, поскольку те колдовали над ним сзади, со стороны спины, но он слышал, как Дмитрий несколько раз сливал нечто жидкое в ту посудину, которую держала пожилая няня, смотревшая на него с тревогой матери. А через какое-то время он почувствовал, что легче стало дышать и вроде потянуло ко сну, и потом уже будто сквозь туман видел лицо сестры, которая его забинтовывала, и все слабее и слабее слышал голос Дмитрия.
Когда Чижов наконец заснул, все с облегчением вздохнули и стали на цыпочках выходить из палаты. Дмитрий, которому давно хотелось курить, спустился с Жорой во двор, и они сели за дощатый стол в тени старых лип, образующих аллею, что начиналась сразу от парадного крыльца больницы. Из распахнутых окон палат слышны были голоса, видно, больные после тихого часа уже собирались на прогулку. У Дмитрия еще не совсем прошло нервное напряжение, и он, разговаривая с Жорой, почти не выпускал изо рта сигарету.
— Нет, он должен жить, должен!.. Знаешь, если б что случилось, — сказал Дмитрий, — мне трудно было бы его забыть, он почему-то вошел в мою душу…
— Угомонись, совсем раскис… — отмахнулся Жора. — Запомни, врач не должен сострадать. Его долг — правильно и хорошо лечить при холодном, трезвом рассудке.
— Но не забывай, у врача еще есть душа.
— У врача, как и у судьи, не должно быть души, — с убежденностью говорил Жора. — Ему надобно иметь лишь сочетание разумности с высоким профессионализмом. Ведь больному не душа твоя нужна, а твоя непогрешимость в лечении, абсолютная безошибочность.
— Нет, Жора, не согласен я с такой философией, — возразил Дмитрий. — Ты повторяешь чужие и неверные мысли. Их придумали люди бездушные, выдающие себя за технократов. Они бы всех в автоматы-роботы превратили, дай им волю. Но ты же сам врач, я не ожидал от тебя этого услышать. Как можно с холодным рассудком прикасаться к самому трепетному и чувствительному существу природы — человеку? Притом к тому, у которого несчастье. Ведь все больные, по сути дела, люди несчастные, пусть временно, но несчастные. А нередко находящиеся, прямо скажем, на грани. Так как же здесь обойтись без души?
— Ну ладно, ладно… — Жора откинулся на спинку скамьи, не спеша достал сигарету. — А все-таки я тоже прав, согласись, твой риск, если разобраться, никому не нужен. Ведь не взялся оперировать Чижова, допустим, Калинцев, хотя по опыту ты ему в ученики годишься. Он уже двадцать лет полосует этих кроликов, — Жора кивнул на открытые окна палат, — и не знает ни одной неудачи, у него не бывает осечки. Недаром больные о нем говорят: «Если к этому попал, жить будешь».
Дмитрий с минуту молчал и смотрел на Пирата, который разомлел от жары и валялся рядом под кустом сирени. Этот пес от овчарки с лайкой был ничейный, приблудный, но он так усердно облаивал перелезавших через забор в больничный парк мальчишек и неизвестно как попадавших туда захмелевших гуляк, что все в больнице давно считали Пирата своим, а повара столовой, не скупясь, подбрасывали ему не только сахарные косточки, но и приличные шматки мяса. Больные тоже щедро отваливали собаке всякой всячины от своих гостинцев, которые приносили им родные. Сейчас Пират так изнемогал от жары, что ленился даже прогонять одолевавших его настырных мух. Сядет муха ему на живот либо на спину, пес чуть приподнимет голову, посмотрит недовольно на эту муху и, щелкнув зубами, пугая ее на расстоянии, снова уткнется мордой в траву.
— Ну, брат, обленился ты совсем, — сказал Дмитрий.
— Что ты бормочешь? — вскинулся Жора.
— Это я Пирату, — усмехнулся Дмитрий. — А тебе что могу сказать? Не хотел бы я быть таким хирургом, как Калинцев. Вот он трезвый, разумный… а печется лишь о себе, как собственную репутацию не подмочить. Если у кандидата на операцию кроме основного диагноза есть другие болезни, то он ни за что не возьмется за скальпель…
— Зато у него никакой смертности, — опять напомнил Жора, рассматривая импортную сигарету.
— А знаешь, с кем я его сравниваю?
— Ну?
— С тем метким охотником, который без промаха попадает в привязанного к дереву зверя.
— Лихо, — ухмыльнулся Жора.
— Ты знаешь, Жора, у меня за пять лет две смерти, — продолжал Дмитрий. — Это были люди, которым без операции жить оставалось полтора-два месяца. У каждого столько набиралось болезней, что если посчитать, не хватит на руках пальцев. И все они со слезами просили сделать операцию… Но зато четверых я, можно сказать, вернул с того света. Все они мне присылают письма. Одна женщина верующая, так она — смешно сказать! — в церкви за меня молится и пишет: «Теперь вы мой второй бог». Представляешь, кто перед тобой — живой бог. Вот сейчас взмахну крылами и вознесусь на небеса…
В это время что-то зашуршало в листьях липы, под которой они сидели, и вдруг на ботинок Жоры шлепнулась серо-белесая лепешка, быстро расползлась по мыску, увеличилась в размере до пятачка.
— Эй ты, господь, уже караешь? — Жора толкнул Дмитрия в плечо.
И только теперь они увидели, что на ветке липы сидит с видом глубокого мыслителя нахохлившийся Яшка, можно сказать, тоже старожил больничного парка. Года три назад кто-то подломал птице крыло, скорее всего мальчишки, и с той поры поселилась она в этом парке. Летать Яшка почти не мог, а только с горем пополам перепархивал с дерева на дерево да сносно бегал по земле, приволакивая левое крыло. Питался Яшка в основном с Пиратом, который охотно делился с приятелем своими обедами, позволял ему все, что понравится, брать из-под самого носа. Другие вороны, здоровые, не любили Яшку, били его, наверное, мстили за то, что он калека, не такой, как они, а может, не прощали ему дружбы с людьми: ведь Яшка прямо из рук больных брал сыр и всякую иную вкусную еду. И когда здоровые вороны нападают на Яшку, он тотчас шмыг с дерева на землю и посеменил к Пирату, а тот сразу лай поднимает, защищая друга, бросается на разбойников, высоко подпрыгивая в воздух.
Надо полагать, Яшка наконец сообразил, что друга пора выручать, слетел с ветки на землю и, кособочась на одну сторону, приковылял к Пирату, примостился у его брюха и стал пугать мух, а которых и ловить, глотать, прикрывая круглые глаза от удовольствия. Жора, тоже наблюдая за птицей и вытирая травой ботинок, сказал неожиданно зло:
— Вот сейчас оторву голову этому з…у Яшке.
Тут Дмитрий вспомнил о разных коварных проделках Яшки, которыми тот давно славился. Великий поклонник всего блестящего, Яшка чуть не каждый день ловко воровал через открытые окна и форточки брошки, кольца, перстни, а чуть зазевается медсестра, так не побрезгует и пинцетом, зажимом, иголкой от шприца. Однажды у одной больной даже похитил и осилил дотащить до «склада» золотые часы с браслетом. Словом, крал Яшка все сверкающее, что волновало и радовало его глаз, и хоронил это в парке, закапывал под листья, пни, в траву, а не то и где-нибудь на дереве пристраивал. Когда случается пропажа, потерпевшие и болельщики толпой ходят по парку, хохочут, вороша листья, обшаривая траву, задирают головы, простреливают глазами ветки деревьев и, бывает, находят украденное, а бывает, что день-другой ищут, да все напрасно. Но никто никогда не обидит Яшку, только стыдят его все и смеются.
Дмитрий подумал, что человек в беде намного добрее, нежели в радости, в чем он не раз убеждался в жизни. Вот больные щадят калеку Яшку и все ему прощают, а Жора с такой злостью сказал о несчастной птице. А не дай бог, укради Яшка у него золотые часы или, скажем, серебряный браслет, тогда Жора, пожалуй, и на самом деле отвернет ему голову.
Жора, как оказалось, не на шутку рассердился на Яшку и, нагнувшись, выбирал под столом покрупнее катышки гравия, которым было усыпано место беседки, приговаривая вслух, что сейчас проломит башку этой глупой птице.
— Перестань, Жора, не обижай бедного Яшку, — попросил Дмитрий.
Тот разогнулся, но катышки еще держал в руке, ответил с самой натуральной обидой в голосе:
— Тебе просто говорить, не твои он туфли обделал, а мои. Инга мне их за чеки достала в «Березке», это французские. Почище лаковых блестят, а теперь носок у правого ботинка, гляди, сразу потускнел. Ты знаешь, какая ядовитая гадость птичий помет.
— Все равно не расстраивайся, — сказал Дмитрий и, немного помолчав, добавил: — Ты вот смотри, чтоб часы твои не уволок Яшка, ты любишь их снимать да на стол класть…
— Пусть попробует только!.. — пригрозил Жора, пока не выпуская катышки из руки. — Тогда собственноручно повешу тухлого урода под этой вот липой.
Дмитрию уже призревала пора посмотреть, как себя чувствует Чижов, и вообще ему надо было уходить, сколько же можно сидеть и вести бесконечные разговоры с Жорой, на которого был сердит из-за Люси. Ведь все это вышло так из-за Чижова, что они засиделись, но на самом деле Жора не был для него желанным собеседником. Дружба у них тоже давно распалась, всего-навсего тот как бы прилип к нему, часто кружил рядом и в силу этого ходил вроде в приятелях. Другой бы на его месте давно сказал Жоре: «Хватит, не мельтеши под ногами», а он по своей мягкотелости, что ли, врожденной застенчивости терпел его, не приближал и не отталкивал, просто терпел. А Жора тем временем успел заморочить голову Люсе, и теперь попробуй турни дружка-приятеля сестры, ведь она сразу обвинит его во всех смертных…
— Пойду я гляну на Чижова да побреду домой, — поднимаясь со скамейки, сказал Дмитрий.
У Жоры то ли зло прошло на Яшку, то ли ему стало стыдно мстить несчастной птице, но только он сам бросил под стол катышки гравия и пошагал рядом с Дмитрием.
Чижов, оказывается, все еще спал и дышал теперь ровнее, чем особенно порадовал Дмитрия. Они молча постояли с минуту у его кровати и осторожно, чтобы не разбудить, вышли из палаты. В ординаторской Дмитрий снял с себя халат, казавшийся на нем недомерком, и, собираясь уходить, попросил Жору позвонить ему, если что-нибудь вдруг стрясется. Жора в свою очередь посетовал, что слишком засиделся, и вызвался проводить Дмитрия до метро, чтобы поразмять немного ноги.
Когда они вышли из ординаторской, по аллеям парка уже прогуливались больные: мужчины в тонких полосатых пижамах, женщины в легких белых блузках и красных брюках. Некоторые вертелись у самых ворот больницы, поджидая родных и друзей, которые навещали их в это время. Они не сразу узнавали Жору с Дмитрием, с удивлением таращили на них глаза, так непривычно им было видеть врачей не в белых халатах, и оттого немного смущенно здоровались.
Едва они очутились за воротами, в переулке, где не было зелени, как сразу почувствовали неумолимую жгучесть июльского солнца, которое, казалось, сыпало на них раскаленные искры с обнаженно-чистого неба. Первое время им никто не попадался навстречу, совсем не было видно машин, и свободная от них широкая улица, на которую они свернули, хорошо просматривалась из конца в конец. Дикая жара повыгоняла москвичей из каменных стен своих домов в ближайшие леса, на спасительные реки и озера, а те, кому по нужде или немощи пришлось остаться в городе, как можно плотнее занавесили окна, полуоткрыли двери, дабы создать хоть малость сквозняка, и, полураздетые, вялые, старались поменьше двигаться, в основном сидели у телевизоров. Редко кто из них выходил на улицу, и столица казалась пустой и безлюдной, лишь вблизи магазинов да около метро сновали редкие прохожие, и это убеждало, что город не вымер, что жизнь в нем все-таки теплится.
У автоматов с газировкой, от которых пахнуло кислым, они задержались, Дмитрий порылся в карманах брюк, нашел монету и, помыв стакан, облепленный пчелами, нацедил себе воды. Но как ни мучила его жажда, он не мог выпить и полстакана, такой неприятной показалась ему теплая и совсем без газа вода. К тому же в ней еще был явный привкус металла, и, чтобы поскорее отбить его, Дмитрий стал закуривать.
— Брось свою отраву, задыми настоящих, — Жора протянул ему пачку «Филипп Морис». — Как ты можешь курить такой мох?..
Дмитрий не любил зарубежные сигареты, ему казалось, в них много химии, оттого они так быстро горят и не гаснут, пока не сотлеет весь табак. Помимо того, он примечал в них запах тряпок, из которых делалась, видимо, бумага. И Дмитрий не понимал, чем привлекали эти сигареты Жору, да и не только его, он знал еще многих, чаще пижонистого вида, которые тоже гонялись за ними, а еще не мог он объяснить себе, где Жора достает эти сигареты.
— Нет, спасибо, мне нравятся «Столичные», — сказал Дмитрий и отвел его руку с пачкой сигарет. — А где ты всегда добываешь эту химию?
— Инга, добрая душа, меня выручает, — признался Жора и, щелкнув зажигалкой, раньше поднес огонь Дмитрию. — Кстати, она чего-то на тебя дуется… Ты чем ее обидел?
— Не знаю, не помню… — пожал плечами Дмитрий.
— Я так понял, она чуть ли не ребенка ждет от тебя, — с деланным безразличием сказал Жора.
В памяти Дмитрия опять всплыла та безумная ночь, в которую он так низко пал, постыдно запутался, причем все случилось не по чьей-либо вине, а по собственной глупости, видно, радость, вызванная защитой диссертации, совсем затуманила ему голову. Нет, его пугало вовсе не то, что может стать отцом, а то, что не умел себе объяснить, как все это случилось, если у него не было никаких чувств к Инге.
В то утро, когда Инга сказала ему насчет билетов на шведский ансамбль, он едва-едва не взбесился. Ведь на самом деле раньше он не вел с ней речи о каком-то там ансамбле, а она так говорила, будто и не нуждалась в его мнении, словно уже имела право решать за него. Он тогда дошел до двери, резко обернулся, чувствуя, как кровь прилила к лицу, и готов был закричать на Ингу, но все-таки взял себя в руки, сдержал зародившуюся вспышку и потом уже по дороге в больницу окончательно убедил себя, что поступил правильно: нельзя было срывать на ней зло за то, в чем виноваты оба.
Вечером он позвонил ей, предупредил, что не сможет пойти на концерт, поскольку сильно занят, и тем самым еще больше усугубил свое падение. Он был свободен в тот вечер, но не осмелился сказать правду, что никуда не хочет с ней идти. И получалось так, что вроде легче вступить в связь с нелюбимой женщиной, нежели признаться ей честно: не люблю тебя. И он, подогревая себя этой мыслью, снова набрал номер Инги и поспешно выпалил, что вчера обезумел от вина, бог знает что позволил, и попросил ее забыть ту сумасшедшую ночь. Она была прежде веселая и смеялась, а тут долго молчала и потом уже с дрожью в голосе медленно произнесла:
— Все понятно, ошибка… случайность… сумасшедшая ночь… Чего в жизни не бывает… Верно, зачем такое помнить?.. Вот только как мне забыть, кто отец моего ребенка, если он вдруг изволит народиться… — И она повесила трубку.
После той ночи он два раза видел Ингу, когда она как эндокринолог приезжала осматривать больных. В присутствии других врачей. Инга вела себя с ним вежливо, была любезна, как всегда, так что никто не догадывался, какая пропасть уже зияла между ними, и Дмитрия сильно тронуло это ее благородство, и он вначале все никак не мог освободиться от чувства вины перед нею. И только теперь, после поездки к заливу, его уже меньше мучило угрызение совести, он, хотя еще смутно, но понимал, что пришло к нему нечто настоящее, и оттого сказал Жоре спокойно:
— Пусть ждет, я не возражаю.
— Ах, так это правда?.. — удивился Жора, не скрывая радости. — Я-то думал, что Инга фантазирует.
— Наверное, правда, — согласился Дмитрий. — Хотя я точно пока не знаю, она сама молчит.
Жора стряхнул пепел с сигареты, ухмыльнулся довольный:
— Да-а, выходит, не чисто, друг мой, работаешь… следы оставляешь…
— Это уж кто как умеет, каждому свое, — буркнул Дмитрий.
— Что верно, то верно, — согласился Жора. — Однако характер у нее дай боже, ты будь готов ко всякому…
Дмитрий посмотрел на его квадратные сверкающие очки с дымчатыми стеклами, с явным безразличием спросил:
— Ты что имеешь в виду?
— Ну, может быть, запугивать начнет…
— В партийную организацию напишет?..
— Не думаю, вряд ли, — усомнился Жора. — Сейчас это не модно, там по-другому стали смотреть на такие дела… Да и амбиция ей не позволит… но карьере твоей помешать может… А впрочем, кто ее знает…
Шли они медленно, стараясь держаться в тени лип, которые росли вдоль тротуара, и, утомленные жарой, неохотно, скорее по привычке, дымили сигаретами. Поглядывая на противоположную сторону улицы, где стояли высокие дома с эркерами и богатой лепкой по карнизам, Дмитрий сказал задумчиво:
— Мне ведь бояться, собственно, нечего. Карьера для меня не главное, а от ребенка я отказываться не собираюсь… Можешь передать ей так… раз уж она тебе во всем… доверяет.
— Так если он… народится, наверное, сразу поженитесь, — предположил Жора.
— Нет, этого не будет, — с твердостью в голосе ответил Дмитрий.
— А почему же? — по-настоящему изумился Жора. — Такую жену ищи — не найдешь… Живет в шикарной кооперативной квартире, дочь членкора, так сказать, без трех секунд академика… И пара какая — известный хирург и врач-эндокринолог!.. Любой позавидует!..
— Понимаешь, Жора, мы с тобой по-разному, видно, смотрим на эти вещи, — вздохнул Дмитрий. — Но в таком случае почему бы тебе не жениться на Инге? По-моему, пара будет ничуть не хуже. Оба кандидатами скоро станете, опять же, как ты говоришь, квартира у нее шикарная…
Жора вдруг приостановился, снял очки, зачем-то повертел в руках, будто искал в них какой дефект, и опять надел. С минуту шел молча, потом усмехнулся с ехидцей:
— Ну, ты хитер, Дима!.. Выходит, я… подбирать за тобой должен…
— Это ты напрасно, — без обиды сказал Дмитрий. — Если будет ребенок, я его заберу.
— А вдруг она не отдаст?
— Кори тогда ее, а не меня.
Жора вытер блестевший от пота лоб, комкая в руке носовой платок, напряженно усмехнулся:
— Вот на Люсьен я бы женился…
— Знаешь, Жора, ты не шути такими вещами… — вдруг посуровевшим голосом сказал Дмитрий.
Жора резко отщелкнул недокуренную сигарету точно в урну, которая была от них метрах в трех-четырех, суетливо поскреб прыщавый подбородок и с обидой вроде бы спросил:
— Я, выходит, не стою ее?
— Не знаю, скорее, она тебе не пара… Отец у Людмилки, учти, не академик, а пахарь… мужик…
— Ну, ты не оскорбляй меня!.. — вскипел Жора и, обидевшись, отвернулся, шел долго молча.
Метро уже было совсем близко, и улица заметно оживала. Люди хоть и вяло, не с той, присущей москвичам, торопливостью, но все-таки стекались к нему, а те, что выныривали из прохладного подземелья, наоборот, шустрее обычного прятались в тень от домов и деревьев и затем подолгу ждали автобусов и троллейбусов, которые в знойные дни не шибко спешили.
Пройдя еще немного, они услышали милицейский свисток и увидели, как в конце сквера трое мальчишек в пионерских галстуках и с красными повязками на рукавах подбежали к полной немолодой женщине и пытались схватить ее за руки. Женщина вначале вырывалась, отталкивая детей, но те вскоре вцепились в нее, как клещи, и повисли на руках.
— Воровку, что ли, сцапали?.. — недоумевал Жора.
— Улицу не там перешла, вот ее и заграбастали, — догадался Дмитрий.
— Ты прав, гляди, к милиционеру повели.
— Вот кому надо голову отрывать, а не Яшке! — возмутился Дмитрий. — Горе-воспитатели, черт бы их побрал, на какое дело детишек приспособили. Им сейчас в речке полоскаться, по лесу бегать, а не жариться тут на раскаленном асфальте. Одно дело грачей с поля гонять, огород полоть или, скажем, лекарственные травы собирать, а другое дело взрослых воспитывать. Где это видано, как говорит моя мать, чтобы яйца курицу учили…
— А-а, брось ты, не горячись по пустякам… — безразлично махнул рукой Жора. — Мало ли еще глупостей…
— То-то и оно!.. — не унимался Дмитрий. — Столько дураков развелось, столько они наворочали, что умным только и забот — их завалы расчищать…
У метро они постояли под высокими колоннами, где робко дышал сквознячок, пробиравшийся из открытых дверей станции. Дмитрий тут опять вспомнил про Чижова и попросил Жору почаще к нему наведываться, а коль будет надобность, немедленно звонить. И тот согласно кивал, обещая все исполнить.
IX
В зале было тихо и пусто, пока Катя подстригала последнего клиента, все мастера ушли домой. Только Глеб Романович возился у своего стола, то выдвигая, то задвигая ящики. Было похоже, он что-то потерял. Да еще в подсобке изредка звякала приборами тетя Поля, которая все мыла и чистила всегда с вечера.
— Глеб Романович, что вы там все ищете? — спросила кассирша Валя, которая тоже собиралась домой и стояла у зеркала, поправляя прическу. — Уж не выжидаете ли вы, пока я уйду?
— А вы мне не мешаете, — недовольно буркнул Глеб Романович и опять задвигал ящиками.
Валя пожала плечами, усмехнулась:
— Как знать, как ведать, вы у нас человек скрытный. Вдруг Катю провожать прицелились, час поздний, девушка молодая… Только это жестоко с вашей стороны, я тоже еще в молодых прописана, а мне, выходит, в одиночку топать светит.
Глеб Романович перестал двигать ящики, строго посмотрел на Валю, но сказать ничего не успел. В это время в зал вошел шустрый молодой мужчина, и мастер посчитал, что не стоит при постороннем вступать в перепалку с острой на язык Валей.
— Люди добрые, выручайте, — взмолился вошедший. — Я понимаю, что опоздал, но прошу все-таки подстричь в порядке исключения. Видите ли, я киношник и завтра чуть свет лечу в Монте-Карло.
— Вы хотя бы что-нибудь другое придумали, — сказала Валя. — А то кто бы ни пришел после десяти, каждый за границу уезжает. И обязательно рано утром. Вчера в это время тоже двое ворвались, те в Алжир опаздывали. Мы вот с ней, — она кивнула в сторону Кати, — поверили, задержались, а они, когда подстриглись, и про Алжир свой забыли. Сидят, речи ведут, потом еще в провожатые напрашивались.
— Что вы, я не обманываю, — стал уверять киношник. — Вот у меня и паспорт заграничный. — Он полез в один карман, в другой. — Ах, к сожалению, дома оставил. Но я действительно улетаю, вот клянусь честью. А как я могу таким лохмачом приехать? Страну нашу буду позорить.
Киношник с виду казался человеком приличным, одет он был опрятно, его белые брюки ребрились свежими стрелками, светлые туфли были недавно начищены, на груди висела кинокамера. И Валино подозрение вдруг сменилось сочувствием: видно, человек в самом деле улетает, а подстричься вовремя не успел.
— Я кассирша, — сказала Валя. — Вы просите мастеров, вот Глеба Романовича, Катю.
Глеб Романович тотчас выключил свет над своим столом, быстро снял халат и, повернувшись к киношнику, резко сказал:
— Гражданин почтенный, рекомендую вам оставить зал. Мы тоже люди, а не лошади, хотя и последним дается отдых. Парикмахерская давно закрыта, рабочий день у нас закончился, а вы узрели, что уборщица забыла закрыть двери, и врываетесь сюда в одиннадцатом часу, начинаете уговаривать людей нарушать закон.
Но киношник все-таки не уходил, он обнял кинокамеру и молча поглядывал на Катю, которая прибирала на своем столе.
— Что вы ждете? — недовольно спросил Глеб Романович. — Я не собираюсь вас стричь.
— Может быть, девушка согласится?.. — переминаясь с ноги на ногу, сказал киношник.
Глеб Романович энергично бросил халат на спинку кресла, подошел к зеркалу, одернул пиджак и, глянув на стенные часы, что показывали половину одиннадцатого, безразлично сказал:
— Не знаю, не знаю, мое дело маленькое, я ушел. Будьте здоровы и не падайте над морем — оно глубокое.
Он взял портфель, который заменял ему хозяйственную сумку и всегда был до отказа набит продуктами, перекинул плащ через плечо и вышел.
— Садитесь, что с вами поделаешь, — сказала Катя киношнику.
Валя была довольна, что Катя согласилась его подстричь. Ведь человек за границу едет, а разве можно туда явиться таким обросшим. Но и Катю ей было жалко, отстоять всю смену на ногах — дело нелегкое. Да еще какое нервное напряжение: попробуй угодить каждому, если все стали капризные, обидчивые. И чтобы Катя впредь не была слишком уж доброй, Валя сердито сказала:
— Последний раз на удочку попадаюсь. Больше ни на минуту не задержусь, хватит. Уже который день из-за тебя домой в двенадцать прихожу.
— А ты получи с него да уходи, — посоветовала Катя. — Что тебе зря время терять.
Взяв с клиента деньги за стрижку и одеколон «Кармен», Валя стала собираться. Перед уходом она заглянула в подсобку к тете Поле, о чем-то с ней тихо поговорила. Катя догадалась, что Валя наказывала тете Поле присмотреть, как бы киношник не обидел ее, Катю. Недаром, когда Валя ушла, тетя Поля вдруг запела какую-то старую песню, в которой часто повторялись слова: «Сокол быстрый, сокол ясный, а принес одно несчастье». Таким образом она давала понять киношнику, что Катя не одна на всю парикмахерскую, что рядом тут еще она, тетя Поля.
А киношник вроде и не собирался обижать Катю. Едва Валя ушла, он разговорился, стал угощать ее конфетами, жевательной резинкой. Катя отказалась от конфет, но киношник все равно положил ей на столик и «Мишек» и «Столичных». При этом он рассказал смешную историю с конфетами, какая у него случилась в самолете во время одной из заграничных поездок, и Катя поняла, что он за рубежом бывает чаще, чем она за городом.
— Устал я от заграничных поездок, — пожаловался он Кате. — Надоело все это — визы, таможенный досмотр, чужие запахи в гостиницах. Вы представить себе не можете, с какой неохотой я улетаю.
— Многим это нравится, — сказала Катя. — У нас Глеб Романович съездил туристом в Италию, так уже третий месяц все рассказывает, как там интересно.
— Это от человека зависит, другой и навсегда готов там остаться. А вот я уже на второй день тоскую по Москве, по дому. Вы сами-то бывали за рубежом?
— Нет, что вы, — смутилась Катя. — Я дальше Загорска нигде не была.
— О, сама чистота и святость! — восторженно произнес киношник. — А вам хочется куда-нибудь поехать, скажем, в Париж, Лондон или Рим?
— Пока я об этом не думала, — честно призналась Катя.
— Очень хорошо, и не думайте, и никуда не ездите. Чем меньше чужого увидите, тем чище душой будете. Да, да, поверьте мне. Я столько всего тамошнего насмотрелся, что порой жить не хочется. Страшно и стыдно за человека, когда видишь его коварные изощрения.
Катя не во всем была с ним согласна, но что-то в его словах подкупало, казалось ей истиной. И она уже с уважением смотрела на этого человека, боясь все больше, что ее стрижка ему не понравится. А под конец Катя так разволновалась, что ее руки похолодели и едва слушались, когда она, освежив волосы киношника одеколоном, стала его причесывать.
Вскоре киношник заглянул в зеркало, как-то мимолетно и нехотя, потом еще посмотрел, на этот раз подольше, с некоторой оживленностью в глазах, и вдруг просиял весь, хлопнув ладонями по подлокотникам, воскликнул:
— Бог ты мой, в лучших салонах мира так не подстригают!.. Дайте ваши руки, я их расцелую…
Катя растерялась, отринула быстро в сторону, все ее лицо залило краской. А киношник, едва не вываливаясь из кресла, протягивал к ней руки, словно вымаливал милостыню, на одной ноте все повторял:
— Прошу ваши руки… Прошу ваши руки…
Услышав эти восклицания, из подсобки вышла тетя Поля, волоча за собой половую щетку на длинной палке. Она недовольно метнула взгляд в сторону киношника, со значением крякнула и принялась подметать пол. Тот разом погрустнел, заерзал в кресле, обращаясь к тете Поле, сказал:
— Вот, мамаша, весь мир я объехал, но такого мастера еще не встречал. Полюбуйтесь, красавца из меня, сделала.
Тетя Поля, не переставая водить щеткой по полу, сердито буркнула:
— Скажите на милость, Америку открыл. Без вас мне неизвестно было, что у нее золотые руки. А вы бы не рассиживались тут зазря, коли вас обслужили. Вон скоро одиннадцать, девке домой давно пора, а вы все байки разные…
Киношник нехотя встал с кресла, поправил перед зеркалом галстук и собрался было уходить, но вдруг повернулся к Кате, неожиданно предложил:
— Давайте я вас сниму для пробы. Мы как раз такую девушку на одну роль ищем. Покажу режиссеру, думается, вы можете подойти. Знаете, после Шукшина стало модно приглашать в кино неартистов.
— Нет, нет, не стоит трудиться, — решительно замотала головой Катя. — Кино как-нибудь без меня обойдется.
— Это вы напрасно. Ведь вы не только красивая, у вас на редкость фотогеничное лицо. Я уверен, режиссер вами бы наверняка заинтересовался.
— Пускай ваш режиссер другими интересуется, у кого головы на плечах нету, — встряла тетя Поля и с силой стукнула щеткой о пол. — Не хватало ей в артистки еще, чтоб по рукам потом пойти. Знаю я ваших артисток, меняют они мужчин чаще перчаток… Вы, голубчик, лучше идите своей дорогой, а нашу не топчите…
Киношник опять обнял камеру, висевшую на груди, с видом обиженного сказал:
— Вы, мамаша, зря на меня рассердились. Я с добрым намерением предложил девушке испытать счастье. А если она не желает, то кто ж ее станет неволить.
— Правильно она делает, — одобрила тетя Поля. — По моему разумению, такой молодой да красивой незачем мыкаться за счастьем. Оно само ее отыщет.
— Теперь я всегда у вас буду подстригаться, — глядя на Катю, сказал киношник. — Так и знайте. Вот вернусь из-за рубежа, обязательно к вам приду. — Он еще раз посмотрел в зеркало, чуть пригладил ладонью волосы и ушел.
Катя тоже стала собираться домой, но тут сверкнула молния, раскатился долгий гром, и сильный дождь обрушился на город. Тетя Поля поспешно закрыла все форточки, крестясь и приговаривая: «Господи, прости», заметалась по салону с испуганными глазами, не зная, куда спрятаться. Наконец она выбежала в зал ожидания и забилась в кассовую будку, откуда не было видно ослепительно-пугающих вспышек молнии и куда не так сильно доносились удары грома.
Вскоре Катя вошла в будку, стала заговаривать с тетей Полей, которая сидела в углу на корточках, но та угрюмо молчала и была ровно невменяемая. При каждом очередном треске грома она тихо ойкала, крепче зажимала уши ладонями, пригибала голову к коленям. А едва гром стих, тетя Поля пришла в себя, засуетилась, ища что-нибудь теплое для Кати. Она откуда-то вытащила свою старую вязаную кофту, предлагая ее Кате, стала уговаривать:
— Возьми, дочка, на плечи накинешь. Вон как понесло холодом после дождя.
— Спасибо, я не замерзну, — отказывалась Катя. — Вы лучше сами наденьте.
— На кой ляд мне-то, коли я дорогу перебежала — и дома.
Взяв кофту, Катя сняла туфли и выскочила на улицу, где еще сеял редкий затихающий дождь, которому она была рада. Ее босые ноги по щиколотку тонули в холодной воде, что не успевала стекать в водосточные сетки, было щекотно и немного больно ступать по жесткому камню асфальта, но она все-таки терпела: не хотелось ей купать под дождем новые туфли, надетые сегодня впервые. В конце дома она увидела красный «Москвич», из которого доносилась джазовая музыка, и как только поравнялась с машиной, ее дверца приоткрылась и знакомый голос позвал:
— Катя, садитесь, я вас подвезу…
Она опешила от неожиданной встречи с киношником, приостановилась, стыдливо глянула на свои босые ноги и, ничего не ответив, быстро пошла вдоль тротуара к трамвайной остановке. Красный «Москвич» в ту же минуту тронулся с места и медленно поехал по мостовой вслед за Катей. Поравнявшись с ней, киношник опустил в дверце стекло и стал опять приглашать ее в машину.
— Благодарю, мне тут недалеко, — крикнула ему на этот раз Катя и, увидев приближающийся трамвай, побежала к остановке.
Было уже начало двенадцатого, и народу в трамвае оказалось мало, от силы человек пятнадцать — двадцать. Никто из пассажиров не стоял, мест хватало с избытком, и Катя, войдя в трамвай, надела туфли, опустила в кассу деньги и тоже села. По привычке, что осталась еще со школьных лет, она посмотрела номер оторванного билета и огорчилась: сумма первых трех цифр и сумма последних была разной. Катя понимала, что ерунда все то, она не верила в счастливые билеты, но почему-то помимо ее воли в таких случаях какая-то толика обиды хоть на минуту да посещала ее. И напротив, если билет оказывался счастливым, опять же как-то само собой выходило, что она немного этому радовалась. Катя с небрежной досадливостью запихала билет в карман вязаной кофты и достала из сумочки письмо матери, которое получила еще утром. Она лишь виду не подавала Ивану Ивановичу, старалась быть при нем веселой, а на самом деле все время скучала по матери, иногда готова была расплакаться, если от той долго не приходило писем. На работе Катя уже читала последнее письмо матери, а сейчас опять его развернула, побежала глазами по строчкам, написанным родным почерком, таким аккуратным, будто ученическим.
«…Доченька моя милая, знала бы ты, как я тут скучаю без тебя, как болит мое сердце, что ты одна там, моя сиротиночка. Вся надежда у меня на Ивана Ивановича, на его добрую душу. Ты слушайся его во всем, он любит тебя, как дочку. Так и к родным не относятся, как относится он к нашей семье всю жизнь. Это такой уж человек, что живет для других, а о себе забывает. А судьба, эта слепая кошка, даже его не пощадила. Жалей ты его, береги. Мы с тобой у него теперь самые близкие, помни об этом всегда. Я не знаю как рада, что он, как ты пишешь, стал немного повеселее. Может, бог даст, выходишь старика… Порадовала ты меня, доченька, что сдала документы в авиационный. Как счастлив был бы твой отец, если б был жив, что тебя потянуло в авиацию. Я уверена, ты поступишь, голова у тебя умная, отцовская, недаром ты была в школе первым математиком. Это будет лучшим памятником отцу, если ты станешь авиатором… Здесь мне, уж признаюсь тебе, так скучно, так тяжко, хоть плачь. Не могу никак привыкнуть я к этим бесконечно длинным зимним ночам. Живешь как в колодце: ложишься — темно, встаешь — темно. А сейчас, наоборот, ночей не бывает, круглые сутки светло. Это тоже неприятно, такое чувство, будто ты в исподнем и все на тебя смотрят… Тоска совсем меня заела, кажется, не дождусь я сентября, не вытерплю де отпуска… Ладно, ты не верь мне, это все минутное. Жить тут можно, народ вокруг нас в основном неплохой, только уж слишком суровый. Но после отпуска я сюда не вернусь, довольно, хватила лиха. Больше я тебя одну не оставлю. Ведь я вся исстрадалась, что бросила тебя, сиротиночку. Ты ради бога береги себя, одна поздно не ходи, теперь везде столько хулиганов. И строже, смотри, будь там с разными парнями, молодежь нынче пошла всякая…»
От этих слов матери у Кати похолодело в груди, рука с письмом вздрогнула. Раньше-то мать никогда такое не писала, а сейчас будто чувствовала, что у дочери случилось в заливе, что она стала женщиной. Щеки Кати залила краска, она не могла представить, как теперь посмотрит в глаза матери, когда та приедет, как от нее утаит это. А вдруг у нее ребенок будет? Вот она и порадует мать, которая и так несчастна, мыкает горе в холодном краю. И Ивана Ивановича совсем доконает. Мать верит, если он рядом с ее дочерью, то ничего с ней не случится. А вот и случилось…
Мрачный с виду мужчина, что сидел напротив у окна, как-то странно поглядел на Катю, ухмыльнулся с непонятным смыслом и чуть покачал большой квадратной головой. Кате показалось, он догадывается, о чем она думает, и ее осуждает. Ну и пусть, пусть кто угодно ее осуждает, а она, опьяненная счастьем, не могла иначе. Катя спрятала письмо в сумочку, посмотрела на окно, по стеклам которого суетливо сбегали струйки воды, и снова порадовалась дождю, веря, что теперь оживут цветы в их палисаднике. А то она хоть и поливала цветы каждый день по два раза, утром и вечером, но те почему-то все хирели и хирели. В это лето солнце долгое время палило без роздыху, и не только цветы, даже трава на скверах посохла, деревья с июня стали ронять листья в желтую крапинку. А вот после дождичка опять все расцветет, зазеленеет.
Трамвай уже подходил к ее остановке, к тому самому островку, где в густой зелени деревьев таились нарядные деревянные домики, которых год от года оставалось меньше. Вокруг зеленого островка все плотнее сжималось кольцо из новых каменных построек, и Кате было жалко до слез этих уютных и еще вполне прочных домиков, безвинно приговоренных на глупую гибель. У нее всякий раз обрывалось сердце, когда к этакому деревянному крепышу подкатывал бульдозер и некоторое время не двигался, сердито урчал, словно заряжался злостью, а затем разбегался и с яростью вгрызался в стену. Она никак не могла понять, почему такие добротные домики безжалостно рушили, а не сберегали, не перевозили в другие места. Ведь достаточно было перетащить их за черту города, и они стояли бы еще и стояли, много лет дарили бы людям тепло в суровую зимнюю пору, а в знойные дни спасали бы москвичей от задымленной духоты.
Выйдя из трамвая, Катя опять собралась снять свои новые туфли, поскольку дождь еще слабо сеялся и воды на асфальте не убавлялось, но вдруг увидела перед собой знакомый красный «Москвич» и остановилась в растерянности: раньше ей и в голову не пришло, что этот киношник станет ее выслеживать. А тем временем машина резко затормозила, и сейчас же из нее выскочил киношник, подбежав к Кате, схватил ее за руку, с притворной вежливостью заговорил:
— Ай да Катюша!.. Ай да быстрый олень!.. Ну куда это вы от меня все убегаете?.. Зачем вы слушаете темную, отсталую старушку? Разве она что-нибудь смыслит в современной жизни?.. Это ваше счастье, что вы меня встретили. Какая умная девушка откажется от такой удачи?.. Я могу сделать из вас великую актрису, все люди будут вам завидовать, вы поедете по всем странам мира!..
Киношник на разные лады расписывал Катино будущее, а она слушала его вполуха и думала о том, как бы ей поскорее избавиться от этого хитрого дурака. Катя была доверчивая, не таила от людей свои мысли и всегда возмущалась вот такими хитрыми дураками, которых становилось с каждым годом почему-то больше. В свои девятнадцать лет она сумела понять, что эти люди, ни капли не имея ума, живут только хитростью, как звери. Притом они на редкость наглые, бессовестные, в любое время могут войти хоть к царю. Давно приметив, что все умные и порядочные люди, как правило, стыдятся сказать человеку в глаза: ты безбожно врешь, ты обманщик и жулик, я не верю ни одному твоему слову, хитрые дураки в этой стыдливости усматривают слабость, еще больше наглеют и нередко околпачивают умных. И самое печальное, что хитрые дураки никогда не переведутся, потому что рядом с ними живут умные.
Катя незаметно глянула в глубь переулка и увидела, что в их доме на кухне горит свет. Стало быть, Иван Иванович еще не спит и ждет ее. Она посочувствовала старику, который все никак не мог оправиться от горя и не встречал ее в палисаднике, как бывало раньше. Если бы сейчас в кустах крыжовника белела голова Ивана Ивановича, то она, конечно, вела бы себя с киношником намного смелее. А впрочем, она его не очень-то боялась, ну что с ней мог сделать такой узкоплечий, хилый мужчина? И Катя не собиралась с ним долго церемониться, ради чего она должна выслушивать его глупую болтовню. Она свободной рукой поправила сумочку, висевшую на плече, спокойно сказала:
— Вы, может быть, отпустите мою руку?..
— О, Катюша, ни за какие деньги! — воскликнул киношник и оглянулся назад, на свою машину, которая стояла у самого тротуара. — Милая моя, я объехал весь мир и знаю все уловки хорошеньких девушек. Поверьте мне, в Париже и Оттаве, в Сингапуре и Лондоне — повсюду они ведут себя одинаково. Вначале пугаются, пытаются убежать, а потом не знают как благодарить… Вы, пожалуйста, садитесь в машину, мы сейчас все обговорим…
Катя попробовала высвободить свою руку из руки киношника, но тот, оказывается, держал ее крепко, будто стискивал клещами. Ее даже удивило, что у такого тщедушного с виду мужчины столько силы в руках. Но это Катю особенно не испугало, напротив, она только оскорбилась, что какой-то случайный человек, которого она к тому же пожалела, задержалась из-за него на работе, вдруг удерживает ее силой вопреки ее воле.
— А вы не думаете, что мне это может не понравиться?.. — с прежним спокойствием спросила Катя, хотя внутри у нее постепенно начинало закипать.
— Помилуйте, пощадите!.. — притворно взмолился киношник. — Катюша, как вы можете такое мне говорить?.. Хорошо, хорошо, называйте это хоть насилием, как вам угодно, но, согласитесь, я ведь стараюсь не для себя, а во имя искусства и только для вас. Я хочу вас вывести на большую дорогу… Допустим, даже против вашей воли. Да, да, в искусстве такое случается. Ведь человек часто не знает своих возможностей… А мне как специалисту по кино видны ваши скрытые, скажем прямо, пока еще спящие задатки актрисы. Большой актрисы!.. И в это вы должны поверить, иначе ничего не получится. Вам надо развивать свой талант, а вы его безжалостно губите. Да, губите!.. Неужели вам нравится работать в парикмахерской? Вашими ли руками оглаживать вонючие бороды грубых мужиков, трогать нежными пальчиками их шелудивые головы?.. Быр-р-р!.. Как это можно? Просто позорно хорошеньким девушкам заниматься таким делом…
— А по-моему, позорно приставать на улице к незнакомой девушке, — резко оборвала его Катя.
— Пардон, Катюша, но этого требует моя профессия, я должен выискивать таланты из народа… — усмехнулся киношник и воровато поозирался по сторонам. Видимо, убедившись, что поблизости никого нет, он неожиданно обхватил Катю за талию и молча потянул к машине.
— Сейчас же уберите руки!.. Как вам не стыдно?.. — крикнула возмущенная Катя.
Но это ничуть не подействовало на киношника. По-прежнему не отпуская Катю, увлекая ее за собой, он постепенно упрямо пятился к машине и торопливо бормотал все в том же духе:
— Катюша, Катюша!.. Ну что вы такая дикая?.. Я желаю вам добра, пытаюсь помочь, а вы готовы кусаться… Я понимаю, на вашей работе невозможно долго оставаться порядочной… Ведь я не ошибусь, если скажу, что все официантки, продавщицы, парикмахерши, простите за откровенность, — порядочные шлюхи… Вот я и хочу вас вытащить из этого болота, открыть вам путь к большому экрану… Так почему вы бежите от своего счастья?.. Это же глупо, поймите!.. Мы сейчас прямо поедем к моему другу, я сделаю фотопробы, потом покажу режиссеру…
Они уже были у самой машины, когда киношник, чтобы открыть дверцу, на какое-то мгновенье отпустил Катину руку, и Катя сейчас же попыталась рвануться от него в сторону. При этом рука киношника соскользнула с ее талии, но он тут же успел ухватиться за край вязаной кофты, и та вдруг затрещала. Кате стало жалко старенькую кофту тети Поли, может быть, даже единственную, и у нее заколотилось сердце, спазмы сдавили горло, перекрывая дыхание, и она, страшно побледнев во гневе, со всей злостью ударила снизу под жиденькую бороденку киношника. Тот сразу как-то по-поросячьи хрюкнул и, выпуская из рука кофту, шмякнулся на мокрый асфальт. Катя с брезгливостью посмотрела на мешковато растянувшегося вдоль тротуара киношника и не спеша пошла к своему дому, где на кухне все светился огонек.
У самой калитки Катя с минуту постояла, прислушалась к непрочной тишине, какая бывает ночью в большом городе. Дождь уже совсем перестал, но с мокрых деревьев еще слетали отдельные капли, глухо шлепались в траву. Со стороны Останкинской телебашни доносился слабый шум уходящего к Ленинграду поезда. Потом резко взревела машина киношника, и сразу свет от ее фар заскользил по домам и деревьям улицы. Катя догадалась, что киношник развернулся и поехал обратно, к проспекту Мира.
X
С утра у них опять была тренировка, и Иван Иванович, забыв про свой возраст, с завидной виртуозностью кружил по прихожей, пружиня ноги в коленях и приподнимаясь на носки, все наскакивал и наскакивал на Катю, пока не стало темнеть в глазах, а сердце не зашлось в колотуне. Тут он с горечью отметил, что ничего в нем, кроме азарта, не осталось от того «непобедимого», как называли его на заводе, где всю жизнь проработал слесарем и чуть не до самой пенсии считался сильнейшим боксером. И когда он встал посреди «ринга», часто дыша и чувствуя, как пот со лба и висков скатывается горячими горошинами и теряется в бороде, в квартиру кто-то позвонил. Катя сняла боксерскую перчатку, открыла дверь.
Невысокая ростом, не по годам слишком пухленькая, вошла белокурая Оля Малышева, школьная подруга Кати, и, всплеснув руками, удивленно воскликнула:
— Боже мой, боксируют!.. С ума вы сошли!.. Разве женское это дело?.. Ну и девка смешная ты, Катюша, видно, одна на всю Москву такая… Иван Иванович, хотя бы вы ее на ум-разум наставили!..
— А я как раз рад, что Катюша боксом занялась, — еще часто дыша, сказал Иван Иванович. — Ведь прежде что за руки у нее были — тростинки худосочные. Несет она, бывало, воду цветы поливать, а я глаза закрываю, боюсь, вот-вот тростинки переломятся… А сейчас, глядите, руки как руки.
Это верно, Катя всегда была худенькая, длинноногая и настолько прямая и гибкая, что ребята в школе прозвали ее «бамбучинкой». Оля даже втайне завидовала редкой стройности подруги, поскольку сама слишком рано налилась, поползла вширь, что ее немало удручало. К тому же кто-то из мальчишек ее тоже окрестил, но не так уж лестно — «бисквитиком». И прав Иван Иванович, руки у Катюши были в самом деле шибко тонкие, с проступающими на запястьях косточками, а теперь чуть-чуть округлились. И вообще в последнее время Катя заметно изменилась, все в ней в меру развилось, выровнялось и отдельно ничто не кричало о себе, она стала прямо красавицей.
— Конечно, сила в руках ей не повредит, — согласилась Оля. — Разные автоматы за нас, женщин, пока мало чего делают…
Иван Иванович одобрительно кивнул и, забросив перчатки на полку, ушел в ванную принимать душ. Катя повела подругу в свою комнату, на ходу ее коря, почему та долго не показывала глаз, сожалея, что дружба у них постепенно хиреет. Оля пыталась ее разуверить, хотя и сама видела, так оно и было.
Много лет подряд они жили рядом на тихой зеленой улице в Останкино. Подружки вместе были в детском саду, учились в одной школе, ни в каком классе не засиживаясь, летом уезжали в пионерский лагерь под Звенигород. Позже часами простаивали в очередях за билетами в Большой театр, бегали в Третьяковку, катались на коньках по аллее фонтанов Выставки. Слава богу, что интересы у них совпадали: куда хотелось одной, туда тянуло и другую, что любила первая, то нравилось и второй. У них было общее даже в том, что обе жили без отцов. Малышев давно ушел из семьи, перебрался в другой город, и Оля его совсем не знала; примерно тогда погиб отец и у Кати, которого она помнила, но слишком уж смутно. Две овдовевшие женщины с той поры потянулись одна к другой и сделали все, чтобы сдружить своих девочек.
В семьях этих достатка особого не было, но Малышевы все же жили посправнее. Уход отца Оли мало сказался на хлебе насущном, поскольку работник он был аховый, сильно выпивал и тянул из дома больше, чем нес в него. Так что как была, так и осталась у них главной силой Татьяна Николаевна, которая работала наборщиком в типографии. У Воронцовых с гибелью кормильца все пошло, можно сказать, наперекоски. Матери Кати раньше работать нужды не было, и она лишь ради забавы иногда переводила с английского небольшие тексты из технических журналов, а когда не стало мужа, заметалась в растерянности, быстро спустила нажитое, пробовала нажать на переводы, но они давали мало. Ирина Андреевна впала в отчаянье, поскольку была той женщиной, которая что-то значила рядом с мужчиной, а как осталась одна, то сразу сделалась жалкой и беспомощной. Потому-то она, не раздумывая, вышла второй раз замуж, когда подвернулся мало-мальски подходящий человек. Отчим Кате сразу не понравился: с виду мрачный, руки непомерно длинные, сильно сутулый, лицо усыпано глубокими рябинами. Первое время она его боялась и часто плакала, потом привыкла, хотя полюбить так и не смогла и отцом звать не стала.
Когда они с Олей закончили девятый класс, Татьяне Николаевне дали от работы отдельную двухкомнатную квартиру на Ленинском проспекте, и тут сошлись у них радость с печалью. Легко ли было расстаться с милым Останкино, где все дорого сердцу с самого детства: и парк с высокими дубами и липами, с веселыми утятами, живущими на пруду, и заросшая пушистой травой гора-сопка сзади дворца-музея, и свирепые каменные львы у его выхода в парк, на которых было так хорошо и страшно сидеть верхом, и уходящая к звездам Останкинская телебашня с яркими огоньками-сигналами, и сизовато-синяя студия с ясными глазами окнами, и горящий красным на заходе солнца обелиск космонавтам, и сама Выставка, где им столько было развлечений…
Одно лишь как-то утешало и успокаивало, что недолго осталось прятаться в зелени этим низеньким деревянным домикам, из окон которых они впервые увидели белый свет. Уже лезли ввысь многоэтажные громады из кирпича, стекла и бетона, все плотнее и безжалостнее сжимали они кольцо вокруг маленького островка уютных и веселых домиков с мансардами и застекленными верандами, с палисадниками, которые окутывались по весне белым дымом цветущих яблонь и вишен, а позже кипели яркими красками флоксов, гладиолусов, тюльпанов…
С переездом на Ленинский и началось угасание их дружбы. Правда, Оля не ушла из старой школы, было рискованно перед последним выпускным годом переводиться в новую, но все равно уже что-то происходило с ними. Рано располневшую Олю теперь чаще тянуло на вечера танцев, в кафе, в шумные компании, а худая, голенастая Катя все еще бегала по театрам и музеям. Тогда же Катя приметила, у Оли завелись знакомые гораздо старше ее по возрасту, но за это она не винила подругу: что поделаешь, если сверстники обделяли вниманием «бисквитика».
После школы дороги у них и вовсе стали расходиться. Кате, когда мать уехала с отчимом на Север, надо было самой себя кормить, и она сразу пошла работать. Оля поступила в институт культуры, где училась спустя рукава. Татьяна Николаевна не раз жаловалась: дочь пропускает занятия, домой приходит поздно, часто возвращается пьяная. Сейчас Катя была рада, что Оля все-таки помнила о своей школьной подруге и приехала к ней, считай, с другого конца города. Открывая дверь и пропуская Олю в комнату, она весело сказала:
— Заходи, пропащая душа, отчитывайся, где тебя леший столько времени носил.
Оля немного задержалась у зеркала, повертела головой так и сяк, разглядывая в нем свое загорелое миловидное лицо, где все было круглым — светлые глаза, маленький нос, пухлые губы. Потом потрогала высокие бедра, будто проверила, на месте ли они, и зашагала по комнате, стала рассказывать о Гурзуфе, где неделю отдыхала с Левушкой и откуда позавчера только вернулась.
— С Левкой Князевым? — удивилась Катя, вспомнив сразу розовощекого толстяка, что учился с ними в десятом классе.
Оля опять погладила бедра, засмеялась:
— Что ты, это художник один… Я вас обязательно познакомлю, он тебе понравится. Добряк такой, увалень, прямо сытый лев. Я недавно красила ему бороду, а он все закрывал, закрывал глаза от удовольствия и вдруг заснул.
Готовая расхохотаться, Катя прикрыла губы ладонью, отвернула лицо в сторону. Оля заметила это, с обидой сказала:
— Не пойму, что тут смешного… Борода у Левушки местами седая, и он правильно делает, что ее подкрашивает. Зачем ему подчеркивать свою старость, если он совсем молодой.
Катя вышла на кухню и, налив воды в чайник, поставила его на плитку, заглянула в холодильник, собираясь хотя бы чем-нибудь угостить подругу. Вернувшись обратно с двумя тарелками, на которых были аккуратно разложены ломтики сыра и колбасы, вынула из серванта блюдца с чашками, стала их протирать полотенцем.
— А что у тебя новенького, мать?.. — спросила Оля, продолжая ходить по комнате и поглаживать бедра. — Ты случайно не влюбилась?.. Что-то глаза у тебя горят, как у мартовской кошки…
Катю, конечно, подмывало рассказать о Дмитрии, с которым все эти дни мысленно не расставалась, ей даже казалось, что она слышала его голос. Закроет глаза и видит, сидит он рядом, чуть склонив вперед голову, плавно вращает баранку то влево, то вправо. Боковое стекло опущено до отказа, и ветер, врываясь в кабину, задирает кверху его спадающие на лоб русые волосы, а он смотрит прямо вперед, на ровную дорогу, убегающую беспрерывным белесым холстом под колеса, и вдруг, оставив одну руку на руле, второй осторожно касается ее руки чуть выше локтя, тихо спрашивает: «Тебе не холодно?» И Катя уже ясно слышит его голос, ни на чей больше не похожий, этакий мягкий бас, и, как ей кажется, с оттенками угасающего серебряного звона, и сердце ее отчаянно колотится, и она опасается, что Оля сейчас услышит его стук и тогда все откроется. А ей так боязно, так страшно называть его имя, ей еще видится хрупким и призрачным то, что было, такой сладкой сказкой, красивым сном. А скажи она сейчас об этом Оле, и сразу все спугнет, все разрушит… И Катя понимает, надо спасать чудный сон, надо что-нибудь придумать взамен, ну, хотя бы сказать ей про того противного киношника с камерой на груди. И она скорее говорит Оле:
— Знаешь, тут киношник один привязывался… Подкарауливал меня… Обещал в картине заснять, но я его отшила…
— Ну и дуреха ты, мать! — осуждая подругу, покачала головой Оля. — Это же мечта любого — сыграть в фильме. Все знакомые тебя узнают, славы столько!.. Сразу мужа себе найдешь, может, его женой станешь. Видно, он в тебя втюрился, если подкарауливал.
— Ой, зачем он мне!.. — отмахнулась Катя и тут же добавила: — Старый такой…
— А сколько ему лет?
Катя раньше не задумывалась о возрасте киношника и, немного смутившись, сказала наобум:
— Лет сорок, не меньше…
— Разве это старый?! — засмеялась Оля и сызнова провела руками по бедрам. — Моему Левушке уже сорок с хвостиком, а он совсем-совсем молодой. Даже борода его ничуть не старит, а только делает значительным.
— Чай кипит!.. — донесся с кухни хрипловатый голос Ивана Ивановича.
Катя выскочила из комнаты и тут же вернулась с чайником, поставила его на сетку-подставку, под которую запихала еще бумажных салфеток. Стол был полированный, и Катя под горячую посуду всегда что-нибудь подкладывала.
— Ну и аккуратистка ты, мать моя!.. — заметила Оля.
— Да ладно тебе, — Катя махнула рукой. — Лучше кончай сновать туда-сюда… Садись, давай будем чаевничать…
Оля присела к столу, облокотилась, потирая пальцами виски, пожаловалась:
— Голова трещит… как перезрелый арбуз. Вчера мы с Левушкой накирялись отменно… Мне бы сейчас выпить малость. У тебя ничего не найдется?..
Катя молча мотнула головой, принялась разливать чай.
— А у старичка-моховичка, наверно, водится? — Оля повела глазами в сторону двери, напротив которой была комната Ивана Ивановича. — Попроси у него опохмелиться, скажи, голова у меня разламывается…
— Это неудобно, — возразила Катя, слегка раздражаясь. — Сама прекрасно знаешь, Иван Иванович не пьет, у него сердце больное сейчас стало… как Алексей погиб… Он и раньше-то только полфужера шампанского выпивал на праздник…
— Пусть шампанского и нальет, — не унималась Оля.
Равенство, что бывает между подругами, всегда обманчиво, оно лишь внешнее, для посторонних. А если приглядеться получше, нетрудно заметить, одна из них непременно держит верх, пускай подчас неосознанно, но все же подчиняет себе другую, навязывая ей свои вкусы, привычки, а с возрастом и убеждения. Так было и у них. Хотя Катя на вид всегда казалась младше Оли, выглядела смешной долгоногой стрекозой, но все-таки она была главной. И теперь вот Катя свела строго брови, сузила янтарно-табачные глаза, властно сказала:
— Перестань, Оля!.. Что ты, в самом деле, алкоголичку из себя строишь?..
И Оля больше не помышляла о похмелке, только, вздохнув тяжко, виновато попросила:
— Тогда сделай мне чифирь… Не могу я эти твои помои хлебать…
— Какой чифирь?.. — Катя с недоумением поглядела на подругу.
— Заварки одной налей.
Та наполнила ее чашку заваркой, и Оля тут же выпила без сахара темную густую жидкость, растирая грудь, простонала:
— О-о-ох, сразу легче становится… А то прямо огнем занималось внутри… Перебрали мы вчера с Левушкой изрядно, я на бровях домой приползла на рассвете… Не помню, как бухнулась в постель прямо в платье и туфли не сняла… А утром мать пришла с ночной смены, крик подняла, заревела… Я вот скорее к тебе… пока она перебесится… Веришь, последнее время мать невыносимая стала, по всякому пустяку собак на меня спускает. Страшно надоело все, хочется скорее быть независимой. Я так завидую тебе, какое счастье, когда за тобой не следят как за маленькой.
Слушая подругу, Катя задумалась, ей стало жалко свою мать, которая где-то мыкалась по Северу, боясь потерять отчима, терпела невзгоды, наверное, тосковала по ней. По своей молодости Катя еще не могла понять, что мать ее была слабая, относилась к тому типу женщин, которые во всем покорны мужчинам, рабыни их пожизненные. А когда остаются без властелина, то чувствуют себя такими несчастными, словно их раздели наголо среди толпы на улице.
Оля выпила еще чашку заварки, съела кусочек сыра и закурила сигарету. У Кати сразу защекотало в носу от едкого дыма, она встала и распахнула дверь на веранду.
В комнату тотчас хлынул из палисадника свежий воздух, перемешанный с запахами цветов.
— Милое мое Останкино!.. — вдыхая аромат цветов, с грустью воскликнула Оля. — Разве найдешь во всей Москве уголок лучше?.. Знаешь, мы с мамой до сих пор по нему плачем… А Левушка все мечтает обменять свою квартиру на Останкино. В центре он задыхается от дыма и пыли. А тут парк рядом, сад ботанический, Выставка… Зелени много… Левушка говорит, и дачи не надо. Ах, какой воздух, меня даже в сон потянуло, прямо глаза совсем слипаются. Ты не против, если я отойду сейчас к Морфею?..
— Ложись да и спи на здоровье, — сказала Катя. — Все равно мне сейчас на работу… А если хочешь, оставайся до вечера, ночуй у меня. Вот тогда наговоримся досыта.
— Ой, мать, нам с тобой не стоит долго говорить, — зевнула Оля, направляясь к дивану. — Ты во всем паинька, а я теперь испорченная. Не поймем одна другую. Вот мы с Левушкой по чердакам чужим шляемся, как кошки бездомные, а у тебя вторая комната пустует. Но ты не пойдешь на то, чтобы нам иногда в ней погужеваться…
— Оля, ну что ты болтаешь? — обиделась Катя, не узнавая свою школьную подругу. — Как же я потом буду в глаза смотреть Татьяне Николаевне?.. А что Ивану Ивановичу скажу?.. И почему это вы должны таиться? Разве он женатый?
— Формально-то да, но Левушка жену свою не любит…
— Ах, вот оно как… — печально протянула Катя.
Оля молча сбросила лаковые туфли, сняла свою яркую цветастую кофту, длинную джинсовую юбку и легла на диван. С минуту она смотрела на потолок, словно что-то там искала, потом перевернулась на живот и скоро заснула.
А Катю расстроил разговор с Олей, собираясь на работу, она никак не могла найти ни сумки, ни ключей от квартиры. Стараясь ступать на цыпочках, чтобы не разбудить Олю, она заглядывала и в шкаф, и в письменный стол, и на кухню, пока не увидела свою сумку на спинке кресла. Сцепленные на брелоке ключи неожиданно отыскала в кармане плаща, который уже больше месяца не надевала.
Наконец Катя выскочила из дома, боясь опоздать, побежала к трамваю, не переставая все думать о своей подруге, которую за последнее время будто кто подменил. Как не похожа она была теперь на прежнюю Олю, самую скромную и тихую девчонку в их классе. И Кате стало обидно и больно, что она теряет то дорогое и светлое, что никогда больше не повторится.
XI
Перед самым вечером Тимофей Поликарпович, сильно разморенный зноем, пришел с пасеки, ополоснул лицо из рукомойника, но бодрости это ему не прибавило: нагревшаяся за день вода была почти теплая.
— Ну и жара нынче, прямо спасу нету, — он сокрушенно покачал головой. — Все хлеба погорят… Вон трава и та пожухла, пчела уже по болотам шастает за взятком.
Его жена Лукерья, не по годам сгорбившаяся и слабая зрением, сидела у окна на лавке, пришивала пуговицы к сатиновой рубашке мужа, низко склонившись над ней. Не поднимая головы и не отрываясь от шитья, она тоже посетовала на лютую жару, а потом вспомнила про письмо, что положила на полку с книгами, в которых рассказывалось о пчелах.
— Там письмо пришло, — кивнула она в сторону полки. — Почтальонша говорит, из Москвы. Стало быть, от Люськи или Дмитрия, больше-то не от кого. Братец мой давно уж не пишет.
Старик суетливо пошарил по карманам парусиновой куртки, в которой летом в любую погоду ходил на пчельник, достал очки, раз-другой стиснул ладонями седую бороду, топорщившуюся в разные стороны, и, взяв письмо, присел к столу. Читал сперва про себя, сопел сильнее обычного. Лукерью это насторожило, почуяв что-то неладное, она отложила шитье, уставилась на мужа.
— Что пишут-то? — нетерпеливо спросила. — Прочитай мне, не томи душу.
Старик медленно снял очки, потер их о подол рубахи, опять надел, еще раз пробежал глазами по тем строчкам, которые расстроили его, ответил со вздохом:
— Дмитрий жениться собрался…
Лукерью эта новость не огорчила, она считала, пора уже сыну заводить семью. На ноги давно поднялся, в их помощи не нуждается, прошлым летом даже машину купил. Сын малограмотного крестьянина, колхозного пчеловода-самоучки стал ученым врачом, работает в Москве, ездит за границу делать какие-то трудные операции. Все у Дмитрия хорошо. Чего ему не жениться? Самое время, а не то застареет, привыкнет к вольной холостяцкой жизни, тогда попробуй его оженить.
— А ты вроде не рад, Тимоша? — Она с немалым удивлением посмотрела на мужа, который был сильно растерян.
— Да, видать, рано еще веселиться, Люське его невеста что-то не нравится.
— Чем же она ей не угодила?.. Нашел кого слушать, у Люськи пока много ветра в голове.
— Это-то так… — снова вздохнул Тимофей Поликарпович, — да уж больно нехорошее про нее Люська пишет.
Тут и Лукерья обеспокоилась, настойчиво сказала:
— Ты читай, читай… что там написано?
Тимофей Поликарпович обычно не любил вслух читать жене письма, чаще коротко пересказывал: мол, все в порядке, Люська перешла на такой-то курс, Дмитрий только что вернулся из-за рубежа, летом обещает приехать. И тут же брался за какую-нибудь книжку о пчелах, начинал ее штудировать. Но на этот раз он все же прочитал несколько строчек:
— «…Димка наш, видимо, окончательно спятил. Задумал жениться на простой девахе, которая очень пустая и легкодоступная. Меня не хочет и слушать. Я плачу. Срочно приезжайте, а то будет поздно…»
Лукерья в волнении заморгала часто подслеповатыми глазами, подойдя к столу, заглянула в письмо, хотя совсем не могла читать; спросила мужа:
— Постой, как… это Люська называет его невесту?
— Погоди минуту, сейчас найду… Ага, вот — «легкодоступная».
Лукерья покачала головой, горестно сказала:
— Стало быть, по рукам ходит…
— Оно, может, и не совсем так… — пытался успокоить Лукерью Тимофей Поликарпович, хотя сам тоже считал, избранница сына, видно, шибко вольного поведения.
Растерявшись вконец, они судили-рядили по-всякому: то винили сына, который с жиру бесится, совсем зазнался, отбился от родителей, забыл свою деревню, раз в два года к ним приезжает; то не верили, чтоб их Дмитрий, такой умный и ученый, оказался слепцом, выбрал себе в жены пустую, гулящую девку; то сетовали на дочь-верхоглядку, что она как следует не разобралась в невесте и написала им сгоряча; то понимали ее тревогу и слезы, ведь зазря она не встанет на пути к счастью брата. Но, разумеется, ни один из этих доводов им не казался столь верным, чтоб прочно за него ухватиться, или столь нелепым, чтоб совсем с ним не считаться. И только в одном каждый был абсолютно уверен: надо отправляться в Москву.
А вот ехать-то туда никто из них и не хотел. Лукерья из-за своей полной неграмотности вообще боялась городов, она в своем районном центре и то блудила. И, видимо, на почве этой боязни, когда там бывала, у нее всегда случалось расстройство желудка, и она только и бегала по общественным туалетам, которых в небольших городах, как известно, раз-два, и обчелся. Лукерья в райцентре обычно все вертелась в пределах одного пятачка, вблизи городского парка, где была уборная, и ничего не успевала купить: ни боты резиновые, ни посуду какую, ни лекарства. В то время как их деревенские бабы бегали по промтоварным магазинам, разным мастерским, Лукерья, словно обложенный зверь, все петляла около парка. Из-за этого она и в Москве не бывала, хотя сын и дочка не раз ее звали в гости.
В отличие от жены Тимофей Поликарпович повидал белого свету немало. Он и Выборг брал в финскую кампанию, и по украинским городам прошел дважды, на восток и на запад, и Братиславу отвоевывал от немцев, и в Прагу на танке ворвался… А вот и он не любил никуда уезжать из деревни, поскольку боялся оставлять без пригляда своих пчел.
Правда, лет шесть назад Дмитрий как-то заманил его на два дня в Москву, когда был еще студентом, жил в общежитии, так старик и до сих пор не может простить себе, что поддался уговору сына. Как назло, в его отсутствие улетел тогда с пасеки рой. Накануне Тимофей Поликарпович был на пчельнике, осмотрел дотошно ульи, и все вроде было спокойно, а едва уехал — рой на следующий день и улетел. Ребятишки потом хвастались, что видели его; играли они в ивняке над речкой и вдруг смотрят: летит над ними черная туча. Держался рой чуть выше деревьев, и шел от него какой-то печально-тревожный, ровный гуд.
Теперь, конечно, трудно сказать, уберег бы тот рой Тимофей Поликарпович, будь он дома, но сам пчеловод иначе и думать не смеет — уберег бы. И многие ему верят, поскольку о пчелах он знает все: и когда у них бывают брачные танцы, и чем их лечить от разных болезней, и как сделать, чтобы пчелы чужую матку за родную приняли… А местный парикмахер Митрофаныч еще подозревает, что Тимофей Поликарпович может заговаривать пчел. И старик его в этом не разуверяет, толкует, пусть, мол, своим умом до сути дойдет.
В колдовскую силу пчеловода Митрофаныч поверил летом прошлого года. Тогда Тимофею Поликарповичу, давно знавшему, что парикмахер сильно боится пчел, пришло в голову подшутить над ним, и он нарвал какого-то лишь ему ведомого растения и натер им бороду. Пчелы, которые обожают его так же, как кошки валерьянку, ясное дело, в момент облепили бороду и сидят себе тихо, наслаждаются милым им запахом. Сотни три пчел, а может, все четыре, поселилось ему на бороду. И вот Тимофей Поликарпович возьми да и пойди в таком виде в парикмахерскую, заявился он туда и молвит жалобным голосом:
— Спасай, дорогой, зажрали… Будь добрый, обстриги срочно бороду, а то ведь помру…
У Митрофаныча, разумеется, глаза от страха на лоб вылезли, он, пятясь от него, закричал:
— Марш отсюда!.. Ты и меня погубишь… Беги в пруд немедля, от этой окаянной животины только в воде спасенье…
— Не успею добежать… — сказал Тимофей Поликарпович и с печалью добавил: — У меня в глазах уже темнеет… и сердце, кажись, лопается…
И тут Митрофаныч так подхватился, что быстрее молнии очутился на улице. Откуда только прыть у него взялась, так шустро он и в молодости, видно, не бегал. А Тимофей Поликарпович тоже из парикмахерской выскочил, нарочно пробежал за ним немного. Обернулся Митрофаныч, видит, тот за ним гонится, и сейчас же метнулся к пруду и прямо в белом халате и во всем, в чем был, бултыхнулся в воду и давай нырять, плавать разными зигзагами. Ну а Тимофей Поликарпович, наблюдая за его фортелями и хватаясь за живот от смеха, сел на берегу пруда и вполголоса запел: «Пчелы пашут, пчелы сеют…» Парикмахер тут решил тогда, что старому пчеловоду уже конец пришел, что это предсмертная песня его, и заорал во весь дух:
— Лю-ю-ди!.. На по-о-мо-ощь!..
Вот после этого случая и уверовал местный парикмахер, что Тимофей Поликарпович владеет колдовской силой, умеет заговаривать пчел.
— Тимоша, что делать-то, надо бы в Москву собираться? — спросила после долгого молчания поникшая Лукерья и представила, как страшно ей будет в этом огромном городе, где, по рассказам Люськи, придется ехать глубоко под землей.
Тимофей Поликарпович молча сложил Люськино письмо, втиснул его обратно в конверт и подумал, что, на худой конец, он может нынче оставить пасеку на Егорку Петухова. Ведь с помощником ему повезло, парнишка подвернулся толковый. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло: поступал Егорка в институт и не сдал там чего-то, не одолел конкурса. Вот и ходит он в подручных у него, малец башковитый, с налету все схватывает, а главное, пчел шибко любит. Его уже никуда от них не отворотишь, по себе он знал, коль человек заболел пчелами, то это навсегда, на всю жизнь.
— А что тут голову ломать… ведь сын родной, — сказал он спокойно. — Так вот, Лукерья, готовься в дорогу… Гостинца там собери, медку маленько, с огорода чего-нибудь…
— Придумал, чем удивить… — возразила Лукерья, считая наивной затею мужа. — У них там, в столице, на разные фрукты заморские не глядят, а мы огурцов притащим.
Но Тимофей Поликарпович стоял на своем и толковал так, что не согласиться с ним было трудно.
— Как бы там ни было, — говорил он, — а с пустыми руками все одно негоже, не по-русски вроде… Да и то верно, наш гостинец любого дороже, он из родительского дому, где они впервые небушко голубое увидели, по травушке босиком бегали… Вот пусть хоть вспомнят, что не без роду и племени они, что вскормила, вспоила их земля наша древняя, новгородская… Так что собирайся, а я к бригадиру загляну, узнаю, когда завтра машины пойдут на станцию.
Скоро Тимофей Поликарпович, сменив парусиновую куртку на рубашку-косоворотку, отправился к бригадиру, а Лукерья пошла на огород выбрать засветло крепких молодых огурцов, помидоров, что покраснее да повиднее. Потом спустилась в погреб, наполнила литровую банку лучшим медом, майским, который собран с первых весенних цветов, самых душистых, нежных, еще не угнетенных жарким солнцем.
Позже Лукерья открыла шкаф, думая, во что обрядить себя и мужа. Дома-то что ни надень, все сойдет, кто теперь на них, стариков, глаза пялит. Вон Тимофей, считай, окромя своей куртки, и одежки не знает, годами ее носит, и хоть бы что. А тут в Москву едут, к детям ученым, стыдно им будет, ежели мать с отцом кое-как одеты. Она достала из шкафа свою розовую кофту из тонкой шерсти, которую два года назад привез ей Дмитрий, юбку широкую и длинную, чуть не до самых пят, новые черные туфли на низком каблуке. Тимофею приготовила белую рубашку из холстинки, с карманом на груди, брюки светло-серые, летние ботинки-плетенки и соломенную шляпу.
Едва она закончила сборы, успела отнести мешанки поросенку, который давно визжал на разные голоса, будто его резали, да загнала в сарай кур, бродивших по двору, вернулся Тимофей Поликарпович, сказал, что поедут они на машине, которая возит молоко на станцию, а другого транспорта завтра не будет; шофер Ванюшка Ползунков посадит ее к себе в кабину, ему, Тимофею Поликарповичу, придется трястись в кузове.
Потом Лукерья пошла к соседке, попросила ее, пока они будут в Москве, покормить поросенка, поглядеть, чтобы не забрела в огород какая скотина, да шугануть проклятого ястреба, если тот вздумает таскать цыплят. А когда вернулась, собрала поужинать, и они, как всегда, сели за стол, но есть им не хотелось, и никто из них в этом открыто не сознавался. Лукерья отсутствие аппетита объяснила тем, что поздно пообедала, а Тимофей Поликарпович сказал, будто Егорка перед вечером угостил его молодой картошкой с малосольными огурцами. Вместо ужина они выпили по стакану кислого молока и потом еще долго не ложились, не зная, чем себя занять, потерянно бродили по избе, заранее чувствуя неловкость, что приедут так неожиданно, и понимая, какой трудный разговор предстоит им с сыном.
Рано утром они захватили сумки с гостинцем и, нарядные, вышли за ворота, стали ждать машину, поскольку она должна ехать на станцию мимо их дома. Минут через десять в конце улицы вырос клуб белой пыли, который все поднимался кверху и быстро катился вперед. Они догадались, что это гонит Ванюшка, и действительно, скоро он подъехал, распахнув дверцу машины, зычным голосом крикнул:
— Прошу, граждане, занимать мягкие места!..
Тимофей Поликарпович тут же помог Лукерье забраться в кабину, а сам хотел лезть в кузов, но Ванюшка велел и ему садиться рядом. Зная, что дорога до станции сильно разбита, как говорят, страшнее ада, шофер пожалел старика, которого в кузове могло крепко прищемить бидонами, по-глупому покалечить.
Только тронулись с места, Ванюшка, легко и вроде бы небрежно вращая баранку, первым делом спросил:
— Дядя Тимофей, так, говоришь, Димка жениться собрался?.. Это великое дело… давно пора… Ему сколько стукнуло, двадцать шесть?
— Нет, двадцать восемь уже… — поправила Лукерья.
— Да, ведь он на два года старше меня, — присвистнул Ванюшка. — Ну тогда и вовсе пора… Молодая жена ему сына родит, опять же радость… Вон мой такое выкаблучивает!.. Выдающийся брезгливец растет, чистоплюй вонючий… Лимонад сосет только из горлышка. А попробуй возьми у него бутылку и отпей глоток — что тут будет!.. Такой рев поднимет, паршивец, хоть уши затыкай и из дому беги… Потом пить ни за что не станет из этой бутылки, подавай ему новую. Во характер, прямо жуть, в кого такой уродился?.. Два года, а уже требует: то ему дай, то ему подай. Видно, начальник из него вырастет на погибель людям. Я его так и зову: Мишка — высокая шишка.
— Дети нас повторяют… — заметил Тимофей Поликарпович.
— Нет, ты это брось, дядя Тимофей, — не согласился с ним Ванюшка. — Я таким не был, чтоб родным батей брезгать…
Они давно выехали из деревни, и теперь кругом были поля с зеленым овсом, с отцветающей картошкой, с налившейся озимой пшеницей, которая на высоких местах уже несмело, будто с оглядкой, начинала желтеть. Дорога становилась все хуже, машину поминутно подбрасывало, кособочило то на одну, то на другую сторону, бидоны с молоком в кузове погромыхивали, стучали о борта. Лукерья, ухватившись за поручень на приборной доске, совсем сгорбилась, притихла и с испугом смотрела перед собой.
— Мне надо вдвойне платить, — усмехнулся Ванюшка. — Я ведь еще и масло сбиваю…
Тимофей Поликарпович, слушая его, согласно кивал головой, а Лукерья что-то начала вдруг с беспокойством ерзать на сиденье, чаще поглядывать по сторонам, словно чего-то искала. Под носом и на лбу у нее заблестели капельки пота, которые она время от времени вытирала ладонью. А когда слева к дороге вплотную подступил лес, она, сильно смущаясь, попросила Ванюшку остановить машину.
— Это можно, всегда можно, — сказал Ванюшка и надавил на тормоз, прижался к обочине. — Давай, тетка Лукерья, сбегай в лесок, погляди, дятел всех птенцов поставил на крыло?
Лукерья уловила насмешку в словах Ванюшки, но промолчала, она была рада-радешенька, что дотерпела до леса, и по-молодому выскользнула из машины, торопливо перелезла через канаву и сразу скрылась в ближнем орешнике. Над опушкой сейчас же взвилась сорока, застрекотала во всю глотку и полетела в глубь леса, понесла новость пернатым собратьям.
Ванюшка тоже вышел из машины, поднял капот, отвернул крышку на радиаторе и посмотрел, много ли в нем воды. Затем что-то потрогал в моторе. По тому веселому посвистыванью, с каким он садился в кабину, Тимофей Поликарпович понял, что с машиной все в порядке и они, видать, доедут без всяких бед, которые нередко стерегут людей на плохих дорогах.
Когда Лукерья вернулась, села на свое место, Ванюшка глянул на часы и быстрее погнал машину. Это испугало Лукерью, она подумала, что из-за нее Ванюшка опоздает на базу, ведь до станции еще не близко, а ну как опять живот у нее схватит. Она чувствовала, с животом дело худо, все урчало в нем что-то и повизгивало, будто сидели там голодные щенята и, скуля жалобно, искали сучью сиську. И Лукерья вся сжалась, втиснулась глубже в сиденье, надеясь, что так меньше ее будет трясти.
Тянувшийся слева лес неожиданно кончился, дорога свернула в луговину, зеленеющую отавой клевера, а потом выскочила на взгорок с липовой рощей, позади которой виднелись избы, невысокая круглая башня. По другую сторону рощи почти к самой дороге выбежало длинное строение из серого кирпича, новое, еще без крыши, с незастекленными редкими окнами.
— Ты погляди, колхоз богатый, а народу тоже негусто, — сказал Ванюшка, обращаясь к Тимофею Поликарповичу. — Вон ферму-то чужаков пригласили строить… С Кавказа, говорят, аж приехали… Да оно что, в «Заре» денег много, а заплати побольше, так хоть с Камчатки прикатят.
— А откуда в «Заре» твоей народу много быть, — отвечая Ванюшке, рассуждал Тимофей Поликарпович. — Будто он дорогу не знает в город. Да везде молодые одинаковы, бегут из деревни и пятки не смазывают. Не могу я все в голову взять, что за сила отворотила человека от земли, на которой он родился и в которую в конце пути опять уйдет… Однако вот что я тебе скажу, как бы там ни было, а не дело это, когда люди из такой дали сюда приезжают. Хоть, по слухам, строят они на совесть, спасибо им, а все одно не дело это… И не дело потому, что нет за ним будущего…
Ванюшка вдруг рассмеялся, что поначалу обидело старика (неужто он толковал о пустом?), оставив одну руку на баранке, другой поскреб затылок и сказал:
— Ну и народ веселый эти кавказцы, куда там… Неделю назад ехал я вот так же мимо, и пить до смерти захотелось. Ну завернул к ним на стройку и прошу воды. Один высунулся из оконного проема, голый по пояс, грудь, как шуба, — вся в волосах, и спрашивает: «Дорогой, какое обожаешь, «Цинандали» или «Саперави»?» Я толкую, за рулем, мол, я, мне бы простую аш-два-о. А он потряс кудрявой головой, вроде бы сочувствуя мне, и отвечает: «Такой мы не угощаем, такую сам бери. Вон в той красной будке бак с водой».
— Нет, не дело это, не дело… — твердил опять свое Тимофей Поликарпович. — Недаром нашлись умные люди, вспомнили про земли, что, можно сказать, под самым сердцем России нашей, до которых рукой подать… И пускай трудно склеивать разбитое, да сила народа все одолеет.
Лукерья, забившаяся в угол кабины, сидела молча, нервно облизывала побледневшие губы. Лицо ее как-то осунулось, нос сильно заострился, глаза еще глубже ушли в подлобье. Изредка поглядывая на нее, Тимофей Поликарпович уже пожалел, что не отговорил ее ехать в Москву. Ведь совсем доконает ее этот живот. А все от нервов, все из-за переживаний. Пускай не была она на войне, да все одно лиха хватила немало. Считай, девчонкой осталась одна в большой чужой семье, когда забрали его на финскую. Потом почти без передыха война с немцами. Семь лет подряд без мужа жила, в колхозе всякую работу на плечах своих жидких вынесла. И не согнулась, выдюжила баба русская, потом еще сына и дочку родила… Обидно только, что дети родные отбились от дому, насовсем гнездо свое покинули. Ну, Дмитрию еще простительно, тот хоть ученым стал, а Люська после института могла бы домой вернуться, учительнице и на селе место найдется. Так нет, она и мыслей таких в голове не держит.
Проехав еще немного, они спустились в низину с редкими стогами нового сена, пересекли речушку с густым кустарником по берегам, и тогда впереди, чуть в стороне, показались дома с крашеными крышами, а за ними, в глубине поселка, замаячили золотые кресты древней церкви, водонапорная башня, высокие мачты с частыми проводами. Завидев церковь, Лукерья хотела перекреститься, но, зная, что острый на язык Ванюшка тут же поднимет ее на смех, не стала. И неожиданно подумала: видать, за грехи тяжкие это бог ее карает, вынуждает ехать в город, которого она заранее страшится. Да и зачем они туда прутся, все равно Дмитрий поступит по-своему, как ему захочется. Разве он, городской, и ученый, послушает безграмотную мать. Нет, не жди, с какой это стати. Сама-то она моложе была, а не уступила отцу. Ведь если вспомнить, что только батюшка над нею не делал, чтобы отбить от Тимофея, беднее которого не было никого в деревне: и за косы по избе таскал, и сек ремнем до полусмерти, и в амбар запирал на ночь. А чем все кончилось?.. Взломала она пол в амбаре, прокопала под стеной дыру и на рассвете прибежала к Тимофею босиком, в одном рваном платье… И не жалела потом никогда, хорошо они жили с Тимошей, душа в душу. Хоть и хватало в ее жизни лютого, да не от него это шло, а он-то берег ее, как мог, заслонял собой от разных там бед.
Солнце, поднимаясь все выше, с каждой минутой палило нещаднее, и хотя до обеда еще было далеко, а воздух уже сильно накалился и, врываясь в кабину, совсем не приносил прохлады, обдавал лицо теплом, будто они сидели возле костра. Ванюшка, смахивая со лба пот, невесело сказал:
— И когда эта жарища кончится?.. Еще с неделю так постоит, и сгорит все в поле к чертовой бабушке.
— Дождь нужен, ох как дождь нужен! — согласился Тимофей Поликарпович.
Наконец навстречу побежали нарядные дома с застекленными верандами, с голубыми и зелеными оградками вокруг палисадников, с крестами телевизионных антенн над крышами. И скоро Ванюшка въехал на небольшую площадь, мощенную булыжником, где, блестя лаком, стояло несколько легковушек, и, круто развернувшись, обрадовал:
— А ну вылезай, пассажиры!..
Тревожась за Ванюшку, который мог опоздать на базу, они поскорее забрали свои сумки и, неловко переставляя затекшие от долгого сидения ноги, вошли в вокзал. Лукерья там стала нервно озираться, с тоской поглядывать на Тимофея Поликарповича. Тот сразу сообразил, в чем дело, провел ее в другой зал, молча кивнул на дверь в углу, а сам вначале посмотрел расписание поездов, потом занял очередь в кассу. Народу возле окошка, где продавали билеты, оказалось слишком много, и это шибко удивило Тимофея Поликарповича. Он никак не мог понять, откуда взялось столько людей на маленькой станции, куда они едут и зачем? Неужто их тоже, как его с Лукерьей, гонит в дорогу беда?.. Хотя откуда он взял, что это беда, ведь испокон веков женитьбу считали делом святым. И права, конечно, Лукерья, давно пора Дмитрию заводить семью, сколько можно мыкаться ему холостым. Да и разве беда это, коль Люське его невеста не по нраву. Люська еще ветрогон порядочный, какая она указчица старшему брату. Да и они тоже, хоть и родители, что за советчики в таком деле. Право, смешно и грешно: взбаламутились, поехали, чтобы учить ученого, а про свою молодость забыли, запамятовали, как сами отцов не послушались.
Он вышел из очереди, сел на свободный диван и, поджидая Лукерью, стал сызнова убеждать себя, что ехать к Дмитрию им незачем. Припоминал он жизнь односельчан, и выходило, почти всегда у них тоже кто-то стоял на пути, обязательно мешал женитьбе. И всякий раз свадьба вместе с радостью приносила кому-то и слезы, вечно невеста или жених кому-то не нравились. А бывало и так, что накануне венчания жениха не то невесту находили на чердаке в петле или в пруду с камнем на шее… И Тимофей Поликарпович вдруг принялся клясть себя, почему он, такой-сякой, старый шкворень, не вспомнил об этом раньше, еще дома.
Когда вернулась Лукерья, он сказал ей, что раздумал брать билеты, и объяснил почему. Лукерья, которая давно была готова к этому, разом повеселела, в ее выцветших глазах поплотнела синева, недавняя бледность на губах стала пропадать, и она, к удивлению Тимофея Поликарповича, легко с ним соглашаясь, спокойно сказала:
— Твоя правда, Тимоша… Это верно, какие мы с тобой, старые чудаки, судьи ученому Дмитрию… Вот только Люська… пишет ведь, что плачет…
— Нашла о чем печалиться, — хмыкнул Тимофей Поликарпович. — Бабьи слезы до порога… То баба плачет, а то, глядишь, уже смеется… Напишу Люське, пускай не в свое дело нос не сует, рано ей старшего брата учить.
Посидев еще немного, они взяли свои сумки с гостинцем и заторопились на базу, чтобы застать там Ванюшку. Солнце теперь жгло крепче и злее, и они, разморенные вконец зноем, шли небыстро и жались ближе к деревьям, которые росли вдоль улицы. Всю дорогу до самой базы они успокаивали один другого, что разумно поступили, незачем им было ехать к сыну и вмешиваться в его жизнь, но, как ни странно, в душе почему-то каждый никак не хотел верить в эту разумность.
XII
На восьмой день, когда от шишки почти ничего не осталось, если не считать бледной желтизны под левым глазом, Костричкин позвонил Зое Шурыгиной, у которой был выходной, обрадовался, что она дома, сказал игриво:
— Негрите-е-нок, как настроение?
— Помираю от жары, — пожаловалась та вялым голосом. — А ты что, разве выздоровел?
— Да, уже как конь молодой… Космонавт сегодня в садике?
Зоя с минуту раздумывала и ответила с некоторой виноватостью:
— Понимаешь, мне хотелось побыть со Степкой последние два вечера. Послезавтра детский сад на дачу переезжает.
— Завтра и побудешь, — сказал Костричкин и, хохотнув скрипуче, добавил: — А сегодня я негритенка развлекаю, ясно?
Зоя что-то еще сказала о своих материнских чувствах к сыну, пытаясь передвинуть встречу на два дня позже, но Костричкин, которому не терпелось поскорее узнать, не рассказала ли кому Катя про случай в кабинете, был так напорист, что она все-таки сдалась и разрешила ему приехать. Пообещав быть у нее скоро, он разыскал на кухне авоську, запихал ее в карман и тут же вышел из дома.
Стоявшая не первый день гнетущая жара все еще не отпускала, хотя перевалило уже далеко за полдень, и Костричкин, огибая длинный дом с широкими окнами, старался прятаться в тень деревьев и даже немного посидел в прохладе небольшого сквера, покурил и только тогда собрался в магазин. Вначале он решил зайти в новый магазин, который был недалеко от парикмахерской, но потом передумал: туда часто забегали мастера выпить кофе, взять что-либо для дома, и ему не хотелось попадаться им на глаза. Ну ладно если б покупал он хлеб или молоко, а то, нате вам, — выпивку. Тут уж любой догадается, почему это заведующий, которого считают больным, берет спиртное, хуже того, иной может и проследить за ним. Рассудив так, Костричкин понял, что осторожность ему не повредит, сел в троллейбус, отъехал три остановки и только там зашел в магазин.
В этот час основной люд с работы еще не вернулся и в магазине было почти пусто. В бакалее суетились всего три старушки, укладывая в хозяйственные сумки пакеты с крупой, полдюжины человек стояли за живой рыбой, да еще двое мужчин покупали колбасу. Костричкин сразу прошел в винный отдел, где, к его удивлению, и вовсе не было ни души, и, без спешки оглядывая прилавок, на котором под пузато выпуклым стеклом стояли бутылки с водкой, коньяком, винами, долго ломал голову, не зная, что ему купить. Уже много лет подряд он употреблял коньяк и от водки совсем отвык, а теперь, когда нужда заставила перейти на водку, вдруг стал замечать, что от нее быстро слабеет и начисто теряет память. И все-таки он склонился наконец к водке. Если б он взял коньяк, то ему пришлось бы тратить десятку, а на это Костричкин пойти не мог, считая, что на такую женщину, как Зоя, никак нельзя спускать больше пятерки.
Купленную бутылку он попросил завернуть в бумагу и поспешно затолкал в авоську, положил ее плашмя на самое дно. Так она была меньше похожа на бутылку, и Костричкин чувствовал себя спокойнее, когда ехал опять в троллейбусе, подходил к дому Зои и садился в лифт. И все-таки вошедшая вместе с ним в лифт цыганистого вида женщина сразу догадалась, что у Костричкина в авоське, и с насмешливой заботой сказала:
— Бутылка-то у вас потечет.
Костричкин даже вздрогнул от такой прозорливости совсем незнакомой ему женщины и в растерянности придумал не самое удачное, сказал, что это не бутылка, а гантель. Но иронический взгляд, каким женщина окинула Костричкина, убедил его, что она поняла ложь, больше того, он был теперь уверен, что ей хорошо известно, к кому он едет и зачем, так как она сразу нажала на кнопку седьмого этажа, который и нужен был ему, хотя сама там не вышла, а стала подниматься еще выше.
Кляня догадливость цыганистой женщины, а заодно и одуряющую жару, которая стойко держалась весь день и ничуть не слабела к вечеру, Костричкин постоял немного на площадке, стараясь прийти в себя, затем вытер влажные руки о подол модной рубашки навыпуск и, приосанившись, позвонил в квартиру Зои. Та даже не спросила, кто звонит, тихо открыла дверь и, только впустив его в квартиру, лениво из себя выдавила:
— С чего тебе приспичило?.. Смотри, в такую жару инфаркт хватит от любви. Что я тогда стану делать с покойником?..
Пугаясь таких слов и не зная, что на это ответить, Костричкин молча обнял Зою, а когда почувствовал, как скользит под рукой шелк халата по ее молодому телу, страх его еще пуще усилился, и он едва-едва сдержался, чтобы не закричать на Зою за эти ее обидные и жестокие слова. Скажи ему раньше такое любая из его знакомых женщин, он ни за что бы не простил ей этого, но сейчас Костричкин заставил взять себя в руки и перевел разговор совсем на другое.
— Как у тебя хорошо! — сказал он, осматривая знакомую комнату. — Свежесть такая… А куда это кровать космонавта девалась?
— Соседке вчера отдала, — сказала Зоя. — Мала она стала для Степки. А за лето на даче еще больше вытянется. К осени куплю ему какой-нибудь диван.
— Растет мужик, — усмехнулся Костричкин и вынул из авоськи бутылку, поставил на стол. — Вот только закуски никакой, — развел он руками. — Народу в магазине как селедки в бочке, ни к одному прилавку нельзя подступиться. Ты найди там какой-нибудь завалявшийся огурец. — И, пытаясь вызнать, что творится на работе, добавил: — Как там дела в конторе, все тихо-спокойно?
— А то война началась, жди, — с откровенной издевкой сказала Зоя. — Всего какую-нибудь неделю тебя не было, так твоя контора уже кверху дном перевернулась. Терпеть не могу этих начальников, воображают, будто без них любое дело погибнет, все в прах и дрызг развалится. Скажи ты мне, пожалуйста, почему вы все себя главным пупом земли считаете?
Костричкин, довольный, что Зоя причисляет его к вершителям судеб, с подчеркнутой солидностью ответил:
— Я так понимаю, в коллективе всегда порядок должен быть. А последнее во многом зависит от руководителя. Недаром в старину считали, каков поп — таков и приход, а теперь говорят: рыба с головы гниет, какой пастух — такое и стадо…
— Мне кажется, тебе поменьше надо шебаршиться, дергать людей по пустякам. Я бы на твоем месте сидела тихо, не мешала никому работать. Коллектив у нас неплохой, свое дело знает хорошо, ему не нужен погоняла.
Костричкин тут подумал, что сейчас кстати заговорить о Воронцовой, выставить ее в неприглядном свете. Ведь если она кому-нибудь уже рассказала, то Зоя, едва речь зайдет о Воронцовой, тотчас все выболтает.
— Слепая ты, Зоя, — он осуждающе покачал головой, — под собственным носом ничего не видишь. Люди у нас всякие, как говорят, в семье не без урода. Вот возьми Катю Воронцову. Знаешь, что она на днях отколола, когда ты в отгуле была? Не знаешь? Так я тебе скажу. Поснимала все с себя, накинула на голое тело халат и стоит у окна. Халат, понятное дело, просвечивает, а ей хоть бы что, вертится перед окном, сверкает всеми своими прелестями, мол, пожалуйста, клиенты, берите меня голенькую… Ох и вертихвостка, видать, эта Воронцова, такая жену оттолкнет и в постель к тебе залезет.
— Ну что ты мусор валишь на девку? — заступилась за Воронцову Зоя. — Это она по молодости, а так Катя скромная. И работящая, минуты не сидит без дела, если клиентов нету — сразу за книжку. Все читает, читает… Зато в институт скоро поступит.
«Выходит, Катя молчит пока», — сообразил про себя Костричкин, а Зое сказал с усмешкой:
— А толку-то что от ее поступления. Ваше племя учи не учи, а на уме у вас одно — поскорее замуж выскочить. Да я скажу тебе, женщина для того и идет в институт, чтоб себе цену набить, покрупнее птицу в мужья подловить. А едва какого охомутает, так и про учебу забудет, не то и диплом свой подлавку забросит… Будь на то моя воля, я бы как можно меньше женщин принимал в институты, не тратил зря на это деньги.
— Вот спасибо богу, что он бодливой корове рогов не дал, — сказала Зоя, повязала фартук и ушла на кухню жарить мясо.
Костричкин сел в кресло, закурил и, глядя на одиноко стоявшую на столе бутылку, подумал о том, как все-таки крепко и обидно подкосила его жизнь, как сильно обкорнала ему крылья. Пусть всегда он был разумен и особо не баловал женщин, дорогих подарков им не делал, но зато в гости к ним приходил всякий раз с коньяком да фруктами, бывало, что приносил и икры, красной или там черной. А сейчас вот даже «Пшеничную» не взял, купил самую дешевую водку, но и это для него накладно.
— Ну-ка иди лук порежь!.. — позвала с кухни Зоя. — А то я вся слезами изойду.
Костричкин прошел на кухню, где на плите уже вовсю шипело и потрескивало свежее мясо, испуская вкусный запах, разжигающий аппетит. Кухня была маленькая и почти пустая, совсем не обставленная, там не было даже стола, и Костричкину пришлось резать лук на подоконнике, на фанерной дощечке. Лук попался на редкость злой, обжигал до боли глаза горечью, и Костричкин, пока его резал, все хлюпал носом, будто простуженный, вытирал рукавом текущие по лицу слезы. Зоя, глядя на него, рассмеялась, сказала, что ей нравится смотреть, как плачут мужчины.
— Зла ты на нашего брата, — заметил Костричкин. — Не знаю, как ты меня еще терпишь?
Зоя высыпала нарезанный лук на сковородку с шипевшим мясом, сверкнув черными глазами, сказала:
— Тебе тоже расчет пора давать. Скажи, какая от тебя польза? Для мужа ты уже стар, а в ухажеры не вышел — в постели спотыкаешься…
Костричкин оскорбился, что Зоя ни во что ставила его мужские достоинства, но виду не подал: не хотел ей перечить. А про себя подумал, что надо закруглять с ней всякие отношения, шибко захватистая эта бабенка. Но в то же время ему и рвать не хотелось с Зоей: во-первых, пока у него не было другой женщины для интимных забав, а во-вторых, Зоя разбитная, обожает рисковую жизнь и нуждается, именно она и может стать его вторым надежным подручным.
Стремясь во что бы то ни стало отыскать левый приток денег, Костричкин на прошлой неделе перелил тройной одеколон в пустые флаконы из-под «Орхидеи» и подговорил Глеба Романовича пустить его в ход. Они условились, что мастер начнет действовать осмотрительно, с умом, будет обрызгивать дешевым одеколоном не любого-каждого, а только тех, кто с виду попроще, скромно одет. Если и среди таких вдруг подвернется какой-нибудь тонкий знаток парфюмерии, который унюхает, что его освежают не тем одеколоном, то Глеб Романович, не поднимая шума, сейчас же переставит пульверизатор в другой флакон, с настоящей «Орхидеей», а клиенту не преминет пожаловаться, какое, мол, безобразие творится на фабрике, где частенько при разливе путают разные марки одеколонов. И вот пока у них все шло как надо, без малейшей осечки; Глеб Романович уже распылил два таких флакона и выручил около двенадцати рублей, что, собственно, и подталкивало Костричкина скорее поставить это дело на широкую ногу, вовлечь в него еще и Зою Шурыгину.
— Ах, Зоя, Зоя, — с деланной печалью вздохнул он, — ну почему ты мне не встретилась лет восемь назад? Тогда озолотил бы я тебя, в меха натуральные всю обрядил… Кстати говоря, я и теперь кое-что могу, если в преданность твою поверю…
— Хватит сказки плести, — оборвала его Зоя, — ничего ты не можешь. Любовник липовый… на подкожных перебиваешься… Иди руки мой, я на стол подаю.
Он зашел в ванную, ополоснул пахнувшие луком потные руки. От холодной воды в теле сразу поубавилось вялости, и мысли его по-другому пошли. Присаживаясь к столу, он уже подумал о том, а резонно ли ему открывать все карты перед Зоей. Ведь кто знает, как она еще отнесется к этому, пойдет ли сама на такое дело. А если не пойдет, то как тогда быть? Увольнять ее придется. Но попробуй уволить, если закон всегда на стороне матери-одиночки. Конечно, можно красиво все обставить: перевести ее в другую, лучшую, парикмахерскую. А вдруг она заупрямится и не захочет уходить из этой? Что делать тогда, как потом с ней вместе работать?
Разложив по тарелкам закуску и подав рюмки, Зоя постояла у зеркала, поправила прическу, а переодеваться не стала, села за стол в том же легком шелковом халате, в котором была все время. Халат был короткий, высоко обнажал ее посмугленные солнцем ляжки. Костричкин поглядел на них с порочным откровением и положил руку на коленку Зои, ощутил приятную прохладу и ласковую гладкость ее тела.
— Убери руку… жарко, — вяло сказала Зоя и придвинула к нему бутылку. — Вот налей лучше…
Они выпили по рюмке, немного закусили, еще выпили. Разморенный гнетущей жарой, Костричкин скоро захмелел и стал сразу словоохотлив. И смелость теперь его распирала, и решительность ползла из него наружу. «А что мне с ней в кошки-мышки играть, — подумал он твердо. — Дураку понятно, что нельзя так жить, чтоб рубли от получки до получки считать-пересчитывать, во всяком там удовольствии себе отказывать. Нет, не привык я к такой жизни и не хочу привыкать, пока голова моя варит».
— А зря ты, Зоя, не веришь мне, — сказал он. — Голова у Костричкина еще вертится на шарнирах, без смазки вертится. Вот дружки-приятели тоже не поверили, да просчитались. Как съехал я с приличной должности, так все они в кусты ускакали. Мол, что теперь он может? Ваты если подкинет, не то мыла. Или флакон тройного одеколона… А ведь все зависит от того, как на это посмотреть. Если, к примеру, дать человеку брусок мыла, то он и спасибо не скажет. А ты дай ему тридцать брусков за два рубля — уже другой разговор. В магазине-то за это мыло надо больше платить, а тут за два целковых мылься себе на доброе здоровье круглый год и всего не смылишь, еще на следующий год останется. Вот тебе пример. Но я разве только с мылом дело имею. А возьми духи, одеколон. Тут и вовсе комбинаций непочатый край. Мне вот только напарник с головой нужен, на которого положиться можно. Понятно тебе?
От выпитой водки Зоя повеселела, ее черные глаза огнисто заблестели; ей сделалось невыносимо жарко, и она сняла и бросила на кресло халат, осталась в одной комбинации, дорогой и прозрачной. Слушала она Костричкина рассеянно, будто думая о чем-то своем, потом вся напряглась, отчужденно поглядела на него, сказала срывающимся голосом:
— Спасибо тебе, Федор Макарыч… за доверие… Значит, в напарники свои меня выбрал?.. Спасибо… — И она неожиданно разрыдалась, закрыла лицо руками.
— Ты что, ты что?.. — в испуге забормотал Костричкин, обнимая ее за плечи. — Ну какая тебя муха укусила?
Зоя с явной брезгливостью оттолкнула его от себя, тараща покрасневшие от выпитой водки и слез глаза, истерично закричала:
— Значит, Зойка такая, на всякое готовая! Понятно, баба одинокая, ребенка нагуляла… Не замужем, а без мужа не ночует. Такая на что угодно согласна, от нее чего хочешь жди. Любого мужика приголубит… Разных ухажеров у нее, как у сучки кобелей. Да только все они чужие мужья, в трудную минуту каждый — в кусты. Отсюда пинай ее, топчи — всякое стерпит. Мать-одиночка, ну кто за нее заступится?.. Вот какая Зойка, вот откуда воровки, спекулянтки, потаскухи берутся… Ты верный сделал выбор, правильный, надежного напарника нашел… — Она вдруг поднесла к его лицу кукиш, зло и хрипло выдавила: — А вот этого не хочешь?!
После таких ее слов Костричкин даже немного потрезвел и сообразил кое-как, что по-глупому оплошал, рановато о затее своей проговорился, выходит, не за ту Зою принял. Пытаясь как-то поправить досадный промах, он сказал, с трудом ворочая непослушным языком:
— Зачем ты такие речи ведешь?.. Ведь прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь. Мне всегда с тобой хорошо, весело, а когда у человека на душе легко, из него фантазии разные прут, шутки сами лезут… Ну что ты плачешь?.. Я пошутил, а ты сидишь и плачешь…
Зоя молчала, глядя отрешенно на стол, где стояли бутылка с недопитой водкой, тарелки с остатками мяса, с дольками свежих огурцов. Ее полные плечи заметно опустились, и вся она как-то сникла, только по-прежнему высоко и гордо, будто с вызовом стояли большие красивые груди, ровно жили они иной жизнью, независимой от всего тела. С минуту посидев так, она налила себе полную рюмку, молча выпила и затрясла головой, сморщилась, словно хватила какой отравы.
— Господи, отчего я такая несчастная!.. — вскрикнула, всхлипывая, Зоя. — Не ворую, не обманываю, на свои трудовые живу, а ты меня караешь… Видишь, Федор Макарыч, у меня на кухне шаром покати, стола даже нету… ты на подоконнике лук резал, а все равно на грязное дело меня не подобьешь. Вот в комнате все как у людей, и каждую вещь сама нажила, собственным горбом, а на кухне пока пусто, но я не печалюсь, постепенно обставлю… Смешная я, несовременная, как всегда говоришь?.. А мне чихать на вашу современность, я плюю на нее и ногой растираю… Вот моя современность. — Зоя кивнула на портрет молодого лейтенанта, который висел на стене в золоченой рамке под стеклом. — Ты посмотри на эти глаза, открытые, честные… Отец мой погиб под Варшавой, я никогда его не видела, родилась, когда он уже был убит… Эх, а ты тоже мне в отцы годишься… Слабинку мою нащупал, на водку я стала падкая… Боже, неужто я самая большая грешница, ну за что мне такие муки?.. Если трезвая, все хорошо, а когда выпью, сама себе не хозяйка, любой мужик уже мой властелин, мой царь… А потом эти цари в кроликов превращаются, поджимают хвосты, нервничают, к своим женам торопятся… Неужели все они, эти жены, лучше меня, раз мужья спешат к ним, а я всегда остаюсь одна, всегда одна… — И Зоя опять зарыдала.
— Ладно, хватит тебе, слышишь, хватит, — попросил Костричкин. — Что ты все сегодня придумываешь, совсем, оказывается, шуток не понимаешь.
— Ну-ка, катись отсюда с такими шутками!.. — крикнула Зоя, вскакивая из-за стола. — Топай скорее к своей жене, пока она дверь на цепочку не закрыла…
— Зачем ты так, зачем?.. Да что сегодня с тобой?.. — лопотал заплетающимся языком Костричкин.
Но Зоя уже распахнула вовсю дверь квартиры и, слегка покачиваясь, стояла с ошалевшими глазами у самого порога. Это безумство ее черных глаз испугало даже хмельного Костричкина, он неловко поднялся с кресла и, неуверенно переставляя ноги, ссутулившись, вышел от Зои.
Подойдя к своему дому, Костричкин увидел большой свет в квартире и сразу понял, что жена еще не ложилась. Она всегда жгла свет во всех комнатах и на кухне, если одна была дома и не спала. Это Костричкина не порадовало. Он хотел еще в прихожей снять ботинки, тихо, на цыпочках, пройти в свою комнату и тут же лечь, а теперь знал, что все обернется иначе. И пусть он давно вел себя независимо, не шибко боялся жены, но все равно не в радость ему было объяснять сейчас ей, где был да почему поздно пришел.
Он поднялся на пятый этаж, мягко прикрыл дверь лифта и потонул в темноте: лампочка на площадке не горела. Костричкин в душе обругал по-всякому монтера, который совсем обленился, не следит за порядком в подъезде, и, оглаживая рукой стену, чтоб ориентироваться в темноте, прошел к своей двери, стал копаться в кармане. Но ключа не нашел и тогда нащупал по памяти кнопку звонка.
— Что трезвонишь по ночам?.. Или ключ у зазнобы забыл? — спросила жена, впуская его в квартиру.
— А может, я хочу, чтоб меня жена, моя Анна Григорьевна, встретила, — ухмыльнулся Костричкин и присел на корточки, намереваясь расшнуровать ботинки.
— Ишь чего захотел… Ты где это был, расскажи?..
— На собрании… где мне еще быть…
— Что ты врешь нахально? Я в десять часов проходила мимо твоей работы, а там и свет не горел.
— Так, я говорю, это самое… на совещании был, в комбинате. Ясно тебе… — Он шумно пыхтел и никак не мог расшнуровать ботинки, потом качнулся в сторону и сел на пол, принялся стаскивать их с силой.
— Постой, а ты, кажется, выпил? — строже спросила Анна Григорьевна, надвигаясь на мужа. — Ну-ка, встань, дыхни!..
Костричкин нехотя поднялся, прислонился к стене, чтобы крепче стоять на ногах, вытянул губы трубкой и сипло дыхнул:
— Уф-ф-ф…
У Анны Григорьевны больно ворохнулось сердце, и она разом ощутила во всем теле гнетущую усталость. Она подумала, что это от переутомления. Придя с работы, Анна Григорьевна долго возилась на кухне, мыла и чистила посуду, готовила тесто для пирогов, которые пекла под субботу, а спохватившись, что пересыхает белье, стала гладить простыни, наволочки. И так вся ушла в дело, что лишь в двенадцатом часу выбрала минуту глянуть на будильник, и тогда вспомнила о муже, который еще не возвращался домой. И хотя в душе ее все давно отгорело, хотя не было у нее прежних чувств к мужу, напротив, с каждым днем он чаще и чаще раздражал ее своими выходками, но все равно, когда муж запаздывал, ее охватывала какая-то тревожность, ей хотелось, чтоб он скорее пришел. Сегодня тоже к Анне Григорьевне подступила эта тревога, когда она посмотрела на часы и поняла, что уже поздно, а муж еще не приходил. Она стала ждать его, прислушиваясь к стуку лифта, но вот явился он и опять, как всегда, врет, отравляет ей душу.
— Аферист проклятый!.. — возмущенно сказала Анна Григорьевна. — В себя вдыхаешь… И духами от тебя несет. У бабы был, кобель бессовестный!..
Успев снять один ботинок, Костричкин топтался с растопыренными руками по прихожей, пытаясь босой ногой стащить за задник второй, но он не поддавался, сидел, как назло, прочно, будто прирос к ноге.
— Что ж тут такого, если от меня духами пахнет, — говорил он, елозя по полу неподдающимся ботинком. — Ты прекрасно знаешь, где я работаю, там сплошные духи да одеколоны. Все вокруг ими благоухает.
— Не дурачь меня, как-нибудь разбираюсь. От тебя дамскими духами пахнет, да еще французскими… Опять у своей негритянки был… Я знаю, кого ты и здесь завел…
От этих ее слов Костричкин заметно протрезвел. «Откуда ей известно, что я у Зои был, — соображал он. — Выходит, ей все доносят. А вроде бы она и незнакома ни с кем из парикмахерской».
Неведомо было Костричкину, что не больше как неделю назад Анна Григорьевна встретила в метро уборщицу парикмахерской Пелагею Захаровну, и они потом долго сидели в вестибюле и разговаривали. Когда-то, в первые годы войны, они, тогда еще комсомолки, работали вместе в военном госпитале, выхаживали раненых. А потом их дороги разминулись. Но, как ни велика Москва, судьба иногда, раз в пять-шесть лет, вдруг сводила бывших санитарок где-нибудь на улице, в автобусе, в магазине, и они, обнимаясь и радуясь, вытирая слезы, вспоминали суровую юность, рассказывали одна другой про свою теперешнюю жизнь. Вот от подруги военных лет и узнала Анна Григорьевна, что Костричкин и на новом месте завел себе любовницу, чернявую молодую женщину, которую в шутку зовет «негритенком».
— Ну что ты зря выдумываешь?.. — усмехнулся Костричкин, стараясь перевести разговор в шутливый тон. — Какая там негритянка? Я что, в Африку на ракете слетал? К сожалению, люди пока не достигли того, чтоб к любовницам на ракетах кататься. Шибко дорог этот транспорт…
Анна Григорьевна заметила растерянность мужа, но была уверена, что он все равно ни в чем не признается, будет изворачиваться без конца. И это, как ни странно, его даже оправдывало в ее глазах. С одной стороны, Анне Григорьевне был противен сейчас муж, ей неприятно было, что он рядом стоял, дышал, говорил. Но с другой стороны, ей легче не стало б, если бы он взял и прямо сказал, что был у женщины. И выходило так, что в нем вроде что-то еще осталось от совести, и у Анны Григорьевны из-за этого пока жила мизерная надежда исправить мужа. Лишь поэтому она, зная наперед, что никогда в жизни не только не позволит себе говорить с его любовницей, но даже издали не станет ее рассматривать, сказала ему обратное:
— Знаю, какая негритянка… Вот пойду завтра и прямо на работе устрою ей скандал… Пускай тебе будет стыдно!..
— Только попробуй! — испугался Костричкин и забегал в одном ботинке по прихожей. — Беду хочешь на себя накликать? Хочешь, чтоб с работы меня сняли?..
— А тебя и так снимут, — безразлично махнула рукой Анна Григорьевна. — Везде выгоняли и отсюда выгонят.
Костричкин наконец сбросил второй ботинок и, забыв надеть тапочки, прямо в носках стал ходить взад-вперед по комнате. Ноги его разъезжались, как на льду, по паркету, покрытому лаком.
— Ты не мели напраслину! — сказал он, еще больше трезвея. — Меня не выгоняли, а переводили на другую работу как лицо номенклатурное.
— Тебя понижали за нечестность. Все понижали, понижали… И докатился, в парикмахерской работаешь. Сказать кому стыдно.
— В нашей стране всякая работа почетна и уважаема.
— А чего ж ты скрывал три месяца, что перешел в парикмахерскую?.. И врал, как всегда: «Безобразие!.. Никак персональную машину не отремонтируют. Общественным транспортом вынужден на работу ездить…» Цирюльник несчастный!..
— Запомни, я не простой парикмахер, а заведующий! — повышая голос, сказал Костричкин. — У меня двадцать с лишним подчиненных, и всякий со своим характером, гонором. Попробуй залезь в душу каждого. А я залез, и все меня боятся, во!..
Анна Григорьевна покачала головой, с осуждением сказала:
— Нашел чем хвастать. Это я знаю, мучить людей ты научился, по-всякому над ними изгаляешься. Только недолгая твоя власть, попомни мое слово. Здесь тоже тебя скоро раскусят и с треском вытурят.
— Ничего, не вытурят, — самодовольно сказал Костричкин. — Это раньше я был, как камень, привезенный из леса, шершавый, замшелый, с острыми углами и впадинами. А сейчас стал гладенький, шлифованный — кругляш кругляшом, разом меня не ухватишь. Хотя институтов я не проходил, а школу жизни за плечами большую имею. Ты скажи, кем я только не был?.. Управляющим в министерстве сидел? Сидел!.. Директором фабрики был? Был!.. Начальником вокзала меня ставили? Ставили!.. Да кем я только не был, ты скажи?.. И всегда почет мне и уважение. Машина персональная вот тут стояла. — Костричкин кивнул в сторону окна. — Пусть не тут, тогда в другом доме жили, но это факт, что она стояла по утрам у подъезда и меня ждала. Вот ждала!.. И теперь я ученый-переученый, теперь меня голыми руками не возьмешь…
— Ничему тебя жизнь не научила, — невесело сказала Анна Григорьевна. — Уродом ты был, уродом и остался. Ты от рождения богом наказан, и сознаешь свою никчемность, и мстишь людям за это, пакостишь на каждом шагу. Хочешь хоть так заметнее стать, а то тебя из земли не видно, урода-коротышки. Я не раз убеждалась, все маленькие самые злые и мстительные.
Костричкин вспомнил, как много унижений терпел он в жизни из-за своего маленького роста. В семнадцать — восемнадцать лет его не пускали на фильмы, которые нельзя было смотреть детям до шестнадцати. Ему приходилось носить с собой паспорт и, краснея перед девушками, всякий раз показывать его билетерше. Долгое время, пока не отрастил хилые усы, ему в магазинах и табачных киосках не продавали папирос. А однажды Костричкин даже плакал. Он учился тогда в техникуме и влюбился в свою однокурсницу, белокурую и стройную, изящную, как статуэтка. Костричкин прямо по пятам за ней ходил и один раз после какого-то вечера в техникуме увязался провожать эту белокурую девушку. Жила она на Каланчевке, и они поехали на метро до «Комсомольской». Выйдя на привокзальную площадь, где и в то время сновало много народу, однокурсница отозвала его за телефонную будку и шепнула: «Тут мой дом рядом. Дальше не провожайте, а то меня во дворе засмеют». — «Почему?» — не понял он тогда. «А скажут, что за кавалера нашла… Целоваться — нагибаться…» И белокурая девушка тут же растаяла в снующей толпе. А он ее и не искал, он только опустил низко голову, чтобы слез его не видели.
Но потом, когда Костричкин вышел в руководящие, солидным стал, ему попадались девушки иной закваски, они любили его за выделенную им однокомнатную квартиру, за путевку в модную Пицунду. И ему смешно сейчас было слышать наивные слова жены о его маленьком росте.
— Сама ты ни черта не смыслишь в жизни, — сказал Костричкин, с трудом стаскивая с себя липкую от пота рубашку. — Ткачиха есть ткачиха… Что от тебя можно услышать?
— А я не стыжусь, что я ткачиха, — спокойно ответила Анна Григорьевна. — Не как ты, я не скрываю от людей свою профессию. Она у меня трудовая, законная. И почетная. А ты всю жизнь ходил в дутых начальниках, людей мучил да обманывал. Вот от этого-то и бредишь по ночам, караул от страха кричишь. Сегодня тоже орать будешь, на помощь станешь звать. Только кричи не кричи, а успокаивать тебя не приду, не жди. Я возьму и уеду и сыну… в Красноярск. Хватит мне с тобой мучиться.
Ноги у Анны Григорьевны подкашивались от усталости, а голова была горячая, тяжелая, будто перегрелась на жарком солнце. Она знала, что без снотворного теперь не уснет, и прошла на кухню, приняла таблетку люминала. И уже лежа в постели, слышала, как Костричкин включил свет в ванной, стал громко кашлять, шуметь водой. А потом разом все стихло: от люминала она засыпала неожиданно быстро.
Костричкин улегся еще не скоро, перед сном он подольше обычного посидел в кресле, не спеша покурил в ночной тиши. А когда стал засыпать, ему смешно было от мысли, что жена от него уедет.
XIII
Как бы там ни было, а все-таки Иван Иванович постепенно выкарабкивался из той отрешенности, в какой находился первые месяцы после гибели сына. Однако пробуждение к жизни шло у него до того медленно, что Катя бог знает как обрадовалась, когда ей подвернулся случай увезти его за город. Вернувшись как-то поздно вечером из театра, где она с Дмитрием смотрела новый спектакль, Катя тотчас огорошила Ивана Ивановича, неприкаянно сновавшего по квартире: завтра они едут с ночевкой на Светлое озеро, где будто бы видимо-невидимо раков, и забирают с собой его; никаких отговорок слушать она не намерена, поскольку Иван Иванович сам, мол, просил познакомить его с Дмитрием.
Растерявшись от нежданного приглашения, Иван Иванович суетливо поскреб серую бороду, с минуту помолчал, желая хоть чуть-чуть унять нахлынувшее волнение, вызванное заботой о нем Кати, но так и не смог обуздать свои чувства, сказал ставшим вдруг ломким голосом:
— Ой, Катюша, Катюша!.. Хитра ты у меня стала… все слабости старика приметила… Ну где я сыщу силы отказаться от ловли раков?..
Ему вдруг вспомнилось далекое уже детство, родимая деревня с крытыми тесом и дранкой избами, озорная по весне речушка, которая кишмя кишела раками, всякой рыбой. В летнюю пору он с компанией таких же огольцов, как и сам, день-деньской пропадал на этой речушке, где ловил руками голавлей, налимов, окуней, забиравшихся под разные коряги и скользкие топляки. И как раз проще простого было сладить всегда с простофилями-раками, что сами, можно сказать, шли в руки, хотя это простофильство не мешало ракам схватить клешней за палец неосторожного ловца с такой силой, что мальчишеский крик иногда был слышен на дальнем краю глухой лесной деревни.
Вот с детства и жила в нем вечная тяга к рыбной ловле. И пусть судьба Ивана Ивановича после войны сделала крутой поворот, давно связал он свою жизнь с большим заводом и шумной Москвой, с которой свыкся не скоро, но все равно не сгинула его любовь к тихой речушке, лесному краю, оттого и тянуло Ивана Ивановича все годы в родные места, и не раз брал он билет до станции Поречье, откуда рукой подать до его деревни. Да так и не побывал все-таки в ней, в последний час всегда спохватывался, сдавал билет: ехать туда, чуяло сердце, резону не было, никто его там не ждал. Старший брат, что тоже жил вместе с ними до войны, погиб еще в августе сорок первого, младший — уже в Берлине, а мать с отцом убило бомбой при налете немецких самолетов. Односельчане писали ему тогда на фронт: на месте их избы осталась лишь глубокая воронка, заполнившаяся болотной водой.
Может быть, еще и потому не ездил он в свою деревню, что на заводе не только в летнюю благодать, но и лютой зимой завком всегда выделял автобус, а не то и два, и те заводчане, чье сердце гулко бьется при слове «рыбалка», катили на выходные к подмосковным речкам и озерам. А вот когда он стал пенсионером, то сразу и забыл о рыбалке, вроде и всякий день у него праздный, да на поверку выходит не так, не отпускают его дела: то в квартире что-либо ремонта просит, то домоуправлению надо помочь, но главное — не мог он оставить без присмотра Катю, ведь она совсем еще девчонка, и одна-одинешенька. А тут что ему было не соглашаться, когда вместе с Катей поедет, и он, не тая уже радости, вертелся возле нее, допытывался, далеко ли до того озера, где видимо-невидимо раков, раздумывая вслух, не взять ли ему с собой ружье.
Катя знала, Ивану Ивановичу дорого это ружье, что висело у него в кожаном чехле на стене и не ведало ни одного выстрела с того самого дня, как было куплено Алексеем. Прошлой осенью заходил к ним участковый, смутно намекал, не пора ли Ивану Ивановичу продать свое ружье, мол, какой из него теперь охотник. И тогда Катя испугалась, увидев, как вдруг мертвенно побледнело лицо Ивана Ивановича, да и сам участковый это заметил, быстро исправил оплошку, ловко обратил свои слова в шутку и тут же повел всерьез речь об избытке рыси в волоколамских лесах, посоветовал ему наведаться в те места. Оттого-то теперь Катя и сказала, не задумываясь:
— Конечно, без ружья никак нельзя… Ночевать-то в лесу будем, а ну как зверь какой нападет на нас?..
Тут Иван Иванович и дал себе слово проснуться завтра пораньше, чтобы успеть все толком приготовить к поездке. И когда Катя утром вошла на кухню, освещенную еще красным солнцем, он уже колдовал там над своим ружьем: чистил его с особым тщанием, глухо щелкал курками, прижмурив сильно глаз, заглядывал то в один, то в другой ствол. Под конец достал из чемодана мешочки, коробки с дробью и порохом, набил десятка два патронов, пометил каждый понятной только ему царапиной.
В четвертом часу вечера, когда Дмитрий подкатил к дому на своих белых «Жигулях», Иван Иванович уже расхаживал по прихожей, облаченный по-походному: на поясе у него висел охотничий нож в брезентовом чехле, за плечами — двуствольное ружье, старый рюкзак с раздутыми карманами. Войдя в квартиру, Дмитрий оглядел его с любопытством, вежливо поклонился, заметно краснея, сказал:
— Здравствуйте, Иван Иванович!.. Рад с вами познакомиться…
— Мне тоже приятно вас видеть, — не подавая руки, кивнул Иван Иванович.
Стоявшая тут же Катя была в синих брюках и темно-желтой спортивной куртке с белыми молниями на карманах, в руке она держала большую дорожную сумку, куда запихала легкое одеяло, кое-какую посуду и еду. Катя с любовью смотрела то на Дмитрия, то на Ивана Ивановича, радуясь, что едут они все вместе, и веря, что им будет весело и хорошо.
— Это дай-ка сюда, а сама закрой квартиру, — распорядился Иван Иванович, забирая у Кати сумку, и, подходя уже к двери, добавил: — Ну, удачливого нам отдыха!
Пока они выезжали из города, Катя с Дмитрием все время молчали, а Иван Иванович, устроившись на заднем сиденье, хмурился, недовольно поглядывая на бесконечный поток машин, плотно и угрожающе опасно обтекавший их белые «Жигули», и то и дело ворчал, что в Москве стало много автомобилей, от которых человеку уже нету никакого продыху. Еще Иван Иванович вслух удивлялся спокойствию Дмитрия, с каким тот переключал скорости, надавливал на педали; и со стороны нельзя было понять, то ли он хвалил его за это, то ли, наоборот, осуждал. Катя, сидевшая рядом с Дмитрием, чувствовала, тот поглядывает на нее влюбленными глазами, и была счастлива, и все вокруг видела таким прекрасным и разумным, что не было, казалось ей, никакой нужды что-либо менять или отвергать в этой жизни, и она не понимала, как это Иван Иванович сейчас может быть чем-то недоволен. А когда они выбрались из города, пересекли кольцевую дорогу и помчались по широченному гладкому шоссе, где машине стало вольготно, и в открытые окна потянуло живительными запахами лесов и полей, у Кати вдруг заняло дух от окружавшей их красоты, и ей теперь хотелось кричать самые ласковые слова людям и солнцу, небу и птицам — всему белому свету.
Ах, дорога, дорога!.. Пожалуй, ничто на свете больше не дарит человеку столь желанного покоя, тихой и надежной радости, чем эта вечно убегающая вдаль дорога. Как бы ни было у него тяжело на душе, как бы ни томили его голову горькие мысли, а едва он тронется в путь, как начинает чувствовать в себе какое-то обновление, постепенно слабеют, теряют над ним прежнюю власть житейские невзгоды, великие и малые горести, непоправимые утраты. И пусть не сразу, не вдруг, но все же какие-то перемены были заметны и у Ивана Ивановича. Березовые рощи и перелески, разливы полей, что пестрели хлебами разной зрелости, постепенно раздули теплинку и в его закоченелом сердце, и на прежде хмуром и безразличном лице Ивана Ивановича стало проступать любопытство, он все дольше задерживал взгляд на плывущих навстречу садах, на приземистых избах с замысловатыми наличниками, на пасущихся в лугах колхозных стадах. А когда они свернули с шоссе и, поднимая пыль, подпрыгивая на колдобинах, поехали по рыжему большаку, Иван Иванович и вовсе по-мальчишески нетерпеливо заерзал на сиденье, поскольку увидел с пригорка дымчато-синий блеск озера, вплотную подступавшего к темневшему вдали лесу.
Скоро они подкатили к самому озеру, немного проехали по его пологому берегу и остановились на песчаной косе, в каких-нибудь десяти метрах от воды, где вблизи не было ни одной живой души. Только выйдя из машины и оглядывая красивое, несколько вытянутое вдоль леса озеро, Иван Иванович приметил на противоположном берегу с дюжину отдыхающих и небольшой голубой автобус, на котором они, видимо, приехали. Голоса людей с того берега до них не доносились, и вокруг стояла такая тишина, что был хорошо слышен сухой треск летающих над водой стрекоз. Околдованный этой тишиной, Иван Иванович минуты три стоял молча, любуясь прозрачной чистотой озера, вслушиваясь в знакомые с детства голоса лесных пичуг, а потом покачал белой головой, с восторгом в голосе сказал, обращаясь к Дмитрию:
— Право, богов уголок!.. Рай небесный на грешную землю пожаловал… А насчет раков меня что-то сомнение берет. Навряд ли они станут жить в этакой чистоте.
— Раков тут много, — уверял его Дмитрий, вытаскивая из багажника машины котелок, шампуры, картонную коробку, в которой были свиные уши, купленные на рынке. — Вот только надо вкусную приманку состряпать, сейчас костер разведем…
Часа через полтора, собрав в лесу валежник и сухие сосновые шишки, они сидели у костра, над которым шипели и потрескивали, брызгали в огонь салом нанизанные на шампуры свиные уши. То и знай поворачивая шампуры, пристроенные на рогульках, Дмитрий рассказывал, как однажды его отец накидал в речку на ночь копченых свиных ушей, а к утру на том месте собралось столько раков, что их можно было сгребать лопатой.
— Ну, Катюша, по всему видно, Тимофеич закормит нас раками, — сказал Иван Иванович.
Катя, нарочно с шумом втягивая носом воздух, усмехнулась:
— Конечно, бедным ракам не устоять перед таким соблазном. Они, наверно, уже сбегаются к нашему берегу на этот запах.
Дмитрий будто не слышал насмешек и был невозмутим, спокойно поправлял в костре головешки да помахивал перед лицом березовой веткой, отгоняя настырных комаров, которым вроде и дым был нипочем, чем ниже садилось солнце, тем они становились все злее и злее. Когда свиные уши как следует прокоптились, а по краям даже слегка обуглились, Дмитрий снял их с шампуров и, сказав: «Ну ловись, рак, покрупней да повкусней», побросал в воду недалеко от берега.
С заходом солнца от леса потянуло прохладой, и они скоро вспомнили про сумку, где была еда. Катя достала оттуда хлеб, колбасу, сыр, ветчину, свежие огурцы с помидорами. Все это она аккуратно порезала и красиво разложила на бумажные салфетки, Иван Иванович, который в последнее время ел ровно из-под палки, неожиданно обрадовался ужину, потирая руки, заметил:
— Истинно царский стол!.. Верно говорят, что большому куску рот радуется, но справедливо сказать и так: красиво накрытый стол аппетит подымает. — А про себя подумал: «Эх, Катюша, Катюша, на все-то ты большая мастерица, любое дело горит в твоих руках. И откуда это у тебя? Мать-то толково пуговицу пришить не может, а ты все умеешь: и платье сама себе шьешь, и джемпер мне связала, и обед какой угодно приготовишь. А ведь и работаешь, и в институт готовишься… да еще я на твою голову навязался».
И помрачнел вдруг Иван Иванович, чувствуя сердцем, что скоро останется он один-одинешенек. С каждым часом Дмитрий ему все больше и больше нравился — умный, серьезный, добрый. А главное, сразу видно, любит он Катюшу по-настоящему, всякому ее слову не перечит, каждое ее желание готов выполнить. Вот и осиротит он его, не сегодня-завтра уведет к себе Катюшу. Ведь не станет он жить в их маленьком деревянном домике, если имеет кооперативную квартиру со всеми удобствами. А у него бо́льшая половина жизни связана с этим домиком, откуда он в последний путь и свою Елену проводил, которую жестокий рак скрутил в какие-нибудь полгода. И маленький Алексей шлепал босыми ножками по крашеным половицам деревянного дома, и потом, когда уже был офицером, гулко и четко, по-военному, стучали каблуки сына по тому же самому полу. Ему даже ясно привиделось, как сын энергично перешагивает порог комнаты и, поправляя фуражку с зеленым околышем, весело смеется: «Папа, то ли я еще подрос, то ли дом наш осел… Что-то фуражкой за притолоку задеваю».
— Чай пейте, Иван Иванович, — напомнила ему Катя. — А то совсем остынет.
— Да, да, я сейчас буду, — спохватился он и виновато поглядел на Катю, в душе поругал себя, что он, выходит, не рад их счастью.
К полуночи, когда костер уже догорал и почти не дымил, от комаров не стало никакого спасения. Заполняя тишину тягучим, печально-нудным писком, они все время вились вокруг и кусали, кусали с оголтелой яростью.
— Батеньки мои, сожрут до косточек!.. — не вытерпел наконец Иван Иванович, охлопывая ладонями бороду. — Окаянная сила, даже через такую щетину достает… Видать, надо улепетывать нам, Тимофеич, в поле, там ветерок какой-никакой.
За эту мысль сразу ухватилась Катя, у которой все тело было в волдырях от комариных укусов, и они, собрав по-скорому в машину посуду, остальные вещи и залив водой затухающий костер, помчались от комаров по большаку, кромсая темень дальним светом фар. Минут через десять свернули в сторону, немного проехали по скошенному лугу и пристали на ночлег у порушенной ветром копны свежего сена.
Наутро первым проснулся Дмитрий. Солнце уже высоко висело в чистом спокойном небе, в молодой березовой роще, что была совсем рядом — но ночью они ее не заметили, — по-хозяйски громко щебетали птицы, и к этому разноголосому хору пернатых примешивался глуховатый рык тяжелого трактора, сновавшего по соседнему полю. Иван Иванович еще вовсю спал, и, чтобы его не разбудить, Дмитрий с проворностью кошки вылез из-под сена, а потом неслышно подошел к машине, прильнул к заднему стеклу. Катя, оказывается, тоже не спала и, лежа на боку, мечтательно глядела на край синего неба, и ее ясные широкие глаза смеялись с загадкой, и все ее лицо было озарено каким-то внутренним светом. Он тихонько постучал по стеклу; Катя, вздрогнув, повернула голову и, увидев Дмитрия, заулыбалась, тотчас села и подняла защелку замка дверцы, впуская его в машину.
— Ты что не спишь? — ласково спросил он, садясь с ней рядом.
— Не хочу… я давно проснулась, — говорила она, поправляя свои длинные густые волосы. — Вот лежу и смотрю на солнышко, и так хорошо мне, радостно…
— Счастье ты мое!.. — еле слышно сказал Дмитрий обнимая и целуя Катю.
— Сиди тихо… — попросила она, снимая его руки со своих плеч. — А то Иван Иванович увидит и ты ему разонравишься.
— Почему ты решила, будто я ему нравлюсь?
— Потому что он зовет тебя только по отчеству. Это первый признак — нравишься. Кого он не примет душой, того никак не называет, вернее, всегда говорит ему только «вы», и все.
В это время из копны вылез Иван Иванович, отряхнулся от сена, огляделся и подошел к ним с ружьем, которое, оказывается, клал на ночь в изголовье.
— Мило-ловко получается, — сердито заговорил он, — сами давно встали, а меня изволите не будить. На кой ляд тогда везли в такую красоту. Бока-то отлеживать я и дома умею.
— Мы сами только что проснулись, — сказала Катя.
— Стало быть, тоже хороши, — уже подобревшим голосом проговорил Иван Иванович. — Солнце вовсю по небу катается, а мы еще глаза продираем. Раков-то наших, поди, переловить успел какой-нибудь умелец.
Тут они, ни минуты не мешкая, сели в машину и понеслись к озеру, оставляя за собой клубы пыли.
Приехав на знакомую песчаную косу, они скоро убедились, что там, как и вчера, было тихо и безлюдно. Лишь невесть откуда взявшаяся чайка то садилась на воду вблизи того места, где Дмитрий бросал вчера с вечера копченые уши, то с тревожным криком взлетала, будто звала кого на помощь.
— Чует птица, что раки там собрались, — сказал Дмитрий и разделся, стал прилаживать акваланг.
Неузнаваемо оживившийся Иван Иванович тоже снял брюки, рубашку и вертелся в синих плавках около Дмитрия, помогал ему застегивать ремни, подавал оголовье, ласты. Катя в светло-оранжевом купальнике ходила босиком по песку и тайно радовалась, что Иван Иванович менялся на глазах, становясь все веселее.
Наконец Дмитрий привязал ласты и, выворачивая ноги в стороны, чуть сгибаясь под тяжестью баллонов со сжатым воздухом, вошел в озеро, немного отплыл от берега и скрылся под водой. Минуты две-три он не подавал признаков жизни, чем вызвал тревогу Кати, а потом вынырнул совсем в другом месте, громко крикнул «Ловите!» и выбросил на песок первого рака.
— Во какой ошлепок!.. — засмеялся Иван Иванович, поднимая рака и показывая его Кате. — Надо полагать, самый матерый попался.
Пока они разглядывали первого рака, Дмитрий выкинул из воды второго, третьего, четвертого… Тут Иван Иванович, охваченный азартом рыболова, заметался в возбуждении, бегал от рака к раку, что один за другим глухо шлепались в песок то слева, то справа. Восхищенно ахая, он подбирал раков и, бросая в ведро, с которым Катя ходила за ним следом, придумывал им разные прозвища: «Принимай Лаврушку глазастого!», «Держи Кузьму колченогого!», «Полюбуйся на Филю-бражника!»…
А когда Дмитрий вылез из воды, Иван Иванович поставил перед ним ведро и, приплясывая от радости, доложил:
— Двадцать семь гавриков!..
Потом они, налив в ведро воды и спрятав раков в тень под деревья, до самого полудня купались, загорали. Катя с Дмитрием почти не вылезали из воды, заплывали далеко, на середину озера, и оттуда едва доносились до берега их голоса. Иван Иванович в основном валялся на теплом песке, подставляя солнцу то грудь, то спину. Но иногда и он забирался по пояс в озеро, обливая водой плечи, вскрикивал от удовольствия, а затем подходил к ракам и подолгу глядел, как те плавали, упруго шевеля усами, как скребли клешнями стенки ведра, отыскивая выход в спасительный озерный простор.
XIV
Костричкин никак не мог вспомнить, куда положил расческу. Ведь каких-нибудь три минуты назад он стоял перед зеркалом и скреб ею оставшиеся лишь на затылке да висках редкие волосы, а теперь вот выворачивал все карманы в пиджаке и брюках, но расчески нигде не было. Костричкин хотел уже уходить на работу без расчески, да, случайно кинув взгляд на телефонный столик, вдруг обнаружил ее там. И, странное дело, ничуть не обрадовался, потому как не помнил, чтобы клал расческу туда. В другое время ее вполне могла взять Анна Григорьевна, а потом положить, бывало, что она иногда пользовалась его расческой. Но сейчас это отпадало, жена уже которые сутки вела себя так, будто Костричкин ей был чужой. Так и не разгадав, почему все-таки расческа оказалась на телефонном столике, он с досады чертыхнулся и захлопнул дверь квартиры.
Едва он вышел из подъезда, миновал высоченную арку, где даже в самую лютую жару всегда гулял ветер, ни с того ни с сего у него задергался левый глаз. Костричкин закрыл его ладонью и, растерянный, остановился. Не зная что делать, он не двигался с места, пока какая-то старушка, видно, слабая зрением, невзначай не толкнула его в бок фанерным ящиком, который тащила на спине. Тут Костричкин словно бы очнулся, свернул на сквер и, зайдя за кусты, стал осторожно поглаживать левый глаз, подумывая о том, не стоит ли ему вернуться домой и выпить валерьянки.
В это время где-то совсем рядом грозным трубным басом гавкнула собака, и Костричкин от неожиданности испугался, присел и в ту же минуту ощутил затылком горячее собачье дыхание, а затем увидел на своей груди черные когтистые лапы. Он в страхе крикнул «Спаси-и-ите!..», но крик вышел никудышный, почти застрял в горле, и наружу вырвалось лишь немощное хрипенье, которое сейчас же заглушил повелительный женский голос: «Дэзи, ко мне!» Собака молнией шарахнулась от него назад, но он, обернувшись, все-таки успел увидеть, что это огромный черный дог, который в несколько прыжков оказался на другой стороне сквера и скрылся за деревьями. Костричкин решил бежать за собакой и устроить хозяйке скандал. Он уже стал пересекать сквер, но на полпути вдруг обнаружил, что левый глаз перестал дергаться. Забыв сразу о черном доге и его хозяйке, повеселевший Костричкин свернул на тротуар и зашагал к остановке.
В автобусе, не зная еще толком, чему он больше рад, то ли тому, что не покусала его собака, то ли тому, что прошел нервный тик, Костричкин с улыбкой поглядывал на молчаливо сосредоточенных пассажиров, какими они бывают в утренние часы перед началом работы, и не мог понять, отчего это им сейчас не весело. Его душевное состояние так разнилось с настроением всех остальных, что одна молодая женщина, передавая ему пятачок, почти с открытой неприязнью сказала:
— Эй, гражданин слишком веселый, передайте на билет.
Костричкин, особо не вникая в смысл сказанных слов и в тон ее голоса, машинально сунул пятачок в руку высокого парня, что стоял поближе к кассе, и стал протискиваться к выходу, продолжая все так же улыбаться. Но когда он увидел из автобуса широкие окна парикмахерской, сердце само по себе, вопреки его воле, зачастило не в меру. Умом Костричкин понимал, что тревога эта пустая, как мыльный пузырь, который ткни пальцем — и нет ничего. Ведь последние дни он жестоко томил свою голову, разные варианты обдумывал, а вывод получался всегда один: нечего ему опасаться. Правда, на днях Костричкина испугала еще Зоя, которая вдруг выскочила из борозды и выставила его из квартиры. Это вкупе с выходкой Воронцовой могло его и с бедой повенчать. Но наутро, едва жена ушла на работу, он позвонил Зое и быстро залатал свою оплошку. И пускай та говорила натянуто, с явной обидой, но трубку все же не бросила, не грозила, что брить его в кабинете откажется. Вот и выходило: при умной голове не страшна паника сердца.
С этими мыслями Костричкин сошел с автобуса и без спешки, а напротив, с неторопливостью большого начальника направился к парикмахерской. У ее дверей он с минуту постоял, по-хозяйски придирчиво посмотрел на вывеску, будто искал в ней ошибки, и нарочито медленно поднялся по ступеням.
Несмотря на ранний час, все стулья в прихожей были заняты клиентами, которые с той же унылой отрешенностью, что и люди в автобусе, молча смотрели перед собой и вроде ничего не различали. Кассирша Валя тоже сидела тихо, склонившись над книжкой, и Костричкин увидел в окошечко только ее гладкий лоб и светлые пышные волосы. Напуская на себя важную задумчивость, он пересек прихожую, вошел в зал, где все мастера были заняты с клиентами, и, ни к кому в отдельности не обращаясь, сказал свое обычное:
— Здравствуйте все!..
— Рады вас видеть в полном здравии!.. — метнулся ему навстречу Глеб Романович, заранее протягивая руку.
Остальные мастера с ним тоже поздоровались, но все по-разному. Кто сказал «Доброе утро!», кто слегка поклонился. Выглядевшая букой Зоя молча кивнула. И лишь Катя Воронцова, как ему показалось, сегодня вела себя еще более независимо, даже головы не повернула в его сторону, с усердием подстригала какого-то седовласого старика.
— Вы, Зоя, как освободитесь, сразу — ко мне, — торопливо сказал он Шурыгиной, уходя из зала. И тут же обернулся, добавил: — А потом ты, Глеб Романович, загляни.
Скоро без стука, как всегда, вошла Зоя Шурыгина, встала перед ним, губы сжала, недобро сверлит его черными глазами, ровно преступника встретила. Руки сложила на высокой груди и молчит, ждет, что он скажет. И без прибора пришла, стало быть, брить его не собирается. Да, нашло-наехало на бабу. Ведь лучшего хотел дурехе, разве помехой стал бы ей лишний рубль. А вот возьми убеди куриную голову, если эта чертова честность у нее раньше самой родилась. Выходит, дал он промашку, не такой оказалась Зоя. Зная ее слабость заглядывать в рюмку, думал, просто с ней сговориться, а она вон как тогда на дыбы встала. Едва ноги унес от малахольной бабы. И все-таки сейчас нельзя дело вести к разрыву, надо уладить все по-тихому, прикинуться, что ничего он не помнит. Мало ли что может, мол, наговорить человек во хмелю, и ей не стоит об этом думать, надо забыть его пьяный бред.
— Вот хочу спросить тебя, Зоя, — начал Костричкин, делая озабоченным лицо. — Скажи мне откровенно, с глазу на глаз, что я в тот раз натворил у тебя? Посуду, может, разбил, поломал чего?.. Я гляжу, ты вроде сердишься, а за что, не знаю. Утром на другой день ты что-то намекнула по телефону, но я не понял… Я ведь нездоров был, и сейчас вот в животе будто клещами кто сжимает. Аппетит всякий пропал, третий день в рот ничего не беру. Да жарища проклятая совсем доконала. Тогда я, так сказать, с радости, что к тебе пришел, выпил стакан на пустой желудок, ну и готов, разом всю память отшибло, — он потрогал затылок, с печалью в голосе пояснил: — Вот в этом месте, прямо гудом гудит, как только лишку приму не то по глупости водку с пивом смешаю… Так что ты все теперь слышала и, пожалуйста, не носи камень за пазухой, не сердись, словом, на меня.
— Ну, веселый человек!.. Уморил ты меня!.. — неожиданно рассмеялась Зоя и нарочно выпятила грудь, плотно прижалась к его плечу. — Скажите на милость, память у него отшибло!.. Давай, давай, ври больше. Только зря напрягаешься, я насквозь тебя вижу. Ты как позвонил мне тогда утром, я сразу подумала, значит, мужик в штаны наложил. И точно, так оно и вышло…
Костричкин вскочил с кресла, обидевшись, сказал возмущенно:
— Чего ты все придумываешь!.. Я о тебе беспокоился. Утром проснулся, смотрю, дома я. Но как от тебя уходил, как оказался в своей квартире, убей, не помню. А что там с Зоей, думаю…
— Жуть прямо, как трогательно!.. — усмехнулась Зоя с издевкой. — Но ты не бойся, я не буду тебя выдавать — мне противно это. Я себя пока уважаю.
Ему это и надо было услышать от Зои, главное, чтоб она язык за зубами держала, не сказала кому про тот случай. Стало быть, как он задумал, так все и повернулось. Пусть Зоя немного покуражилась (на то она и баба), да разом и обмякла, смекнула, некуда ей деваться, против начальства шибко не попрешь. И Костричкин, поглаживая подбородок, усеянный редкой щетиной, уже сказал Зое спокойно:
— А ты брить меня думаешь?..
— Ладно, так и быть, побрею, руки у меня не отвалятся, — без всяких чувств сказала Зоя. — А на другое можешь не рассчитывать. Хватит, больше я не буду такой дурой. — И Зоя пошла, неся высоко грудь, за прибором.
Перед обедом гладко выбритый Костричкин нервно вертелся в массивном кресле и заранее подыскивал слова, какие он скажет Кате Воронцовой, когда та войдет в его кабинет. Еще несколько минут назад он велел уборщице передать Воронцовой, чтобы она, как освободится, зашла к нему, и вот теперь ждал ее, замирая и прислушиваясь к голосам и шорохам, возникающим за дверью. Одновременно он поглядывал на часы, и ему казалось, что красная секундная стрелка слишком вздрагивала и бежала быстрее обычного, буквально в мгновенье описывала круг циферблата, и летели минута за минутой, а Воронцовой все не было.
«А если она совсем не придет? — вдруг прошила его голову безрадостная мысль. — Не то явится в придачу, скажем, с Ниной Сергеевной, своей радетельницей и защитницей, чтобы я своим действием не оскорбил ее любимую Катю, это «чистое невинное создание»? Что тогда я будут делать?..» Он опять посмотрел на часы, но, разволновавшись, не мог понять, что показывала минутная стрелка, вернее, видел, она подползала к единице, но забыл, где была раньше, когда просил уборщицу позвать Катю. Тогда он схватил телефонную трубку и набрал цифру сто. Сиплый женский голос ему ответил, который был час. Костричкин стал что-то прикидывать в уме, шепча вслух названные по телефону цифры, а потом понял, что это все равно ничего не даст ему, и зло выругался. И в то же мгновенье он вздрогнул: кто-то негромко, но уверенно постучал в дверь. «Наконец-то!» — с облегчением выдохнул Костричкин и громко крикнул:
— Войдите!
Как он и предполагал, это была Катя. Прикрыв без стука за собой дверь, она чуть прошла к окну и остановилась, вся в какой-то напряженной собранности. Ее крытое нежной смуглиной лицо выражало холод и отчуждение, а большие широкие глаза с пугающей строгостью смотрели мимо него, в сторону окна. Но даже при этой холодности лица она была так одуряюще красива, что Костричкин, глядя на нее, прямо шалел и немного терялся, не знал, с чего начать разговор.
Катя тоже молчала, стоя с независимым видом в белоснежном халате, который был тщательно выглажен и накрахмален. Халат ей не был велик и не был тесен, он сидел на ней свободно, не сковывая движений, и это еще больше подчеркивало хрупкость ее тонкой фигуры.
— Вот гляжу я на тебя, Катя, и радуюсь, — начал наконец Костричкин, чувствуя сухоту в горле. — Какая же ты опрятная! Халат всегда чистый, без единого пятнышка, каждая складочка на нем разглажена. Волосы пусть длинные, а хорошо прибраны, не рассыпаются во все стороны, как у иной шалавы. Если б все наши мастера были такие аккуратные… А с каким усердием ты всякого бреешь или там стригешь. Честно говоря, смотреть любо, когда твои ловкие руки ножницами дзенькают. А клиент не дурак, он все замечает, оттого и прет к тебе рекой…
Костричкин посмотрел на Катю, которая за все это время не проронила ни слова и стояла прямо, чуть вскинув голову, будто собиралась спросить: ну что вы еще мне скажете? — и понял, как непросто ему будет сломить эту самолюбивую гордячку. Он достал трубку, набил ее табаком и, гулко чмокая, долго раскуривал. Когда трубка сильно задымила, приподнялся в кресле, открыл немного окно и, как-то искоса поглядывая на Катю, продолжал:
— Да, да, клиент чует, если мастер с душою все делает, рад его приходу. А это очень важно. Ведь человек когда чаще всего вспоминает о парикмахерской? Накануне праздника, вот когда. Его приход к нам можно считать прелюдией к празднику. А стало быть, он должен уйти от нас довольный, помолодевший. Мы обязаны создать человеку хорошее настроение перед праздником. Верно я говорю?
Костричкин скрестил на груди руки и приготовился слушать Катю, но она по-прежнему стояла молча, и все тем же холодом блестели у нее глаза, и все та же непокорность была в ее осанке.
— Ну почему ты молчишь? — начиная опять нервничать, спросил Костричкин. — Скажи мне хоть что-нибудь…
На этот раз Катя строго посмотрела на Костричкина, с редким спокойствием сказала:
— Пока вы не попросите извинения, я разговаривать с вами не буду. — И тут же вышла из кабинета.
Растерянный Костричкин подпер подбородок руками, пыхтя с остервенением трубкой, задумался. Нечего сказать, дожил он до веселой жизни, если какая-то шмокадявка с ним разговаривать не изволит. Выходит, он, руководитель, должен каяться перед своей подчиненной, которая к тому же распускает руки. Вместо того чтобы немедленно отдать приказ об ее увольнении, он вопреки своей воле и чести, оказывается, обязан еще просить прощения у своенравной девчонки. Ну и ну, порядочки у нас пошли удивительные, прямо развести руками да ахнуть!..
Ему вспомнилось то доброе время, когда он был еще управляющим в министерстве. Тогда тоже встречались экземпляры сродни вот этой Воронцовой, но он укрощал их легко и без последствий. Бывало, придет к заместителю министра по кадрам, тот сидит, склонившись над бумагами, и вроде его не видит. Но длится это недолго, вот он поднимает голову, ни слова не говоря, смотрит вопросительно: что, мол, у тебя там стряслось? И ты говоришь ему напрямик: «Верите, Михал Михалыч, нет больше у меня сил, инспектор Листикова ведет себя крайне престранно, распоясалась окончательно, мои указания не выполняет, любое хорошее начинание подвергает критике…» Заместитель в ответ сдвинет темные брови к переносице и опять минуту-другую молча глядит на тебя, что означает: «Ну что ты пришел с таким пустяком, видишь, я и без того завален важными бумагами, а тебя что учить-мучить, если сам не первый год руководишь людьми». И тебе уже без слов все ясно, и ты говоришь ему: «Вас понял, готовлю проект приказа, пусть эта Листикова, эта дура бестолковая, катится куда подальше. Не место здесь неслухам да грубиянкам, у нас не какая-нибудь артель «Пташкино перо», а центральное министерство». Михал Михалыч тут же берет очередную папку, начинает листать бумаги, а ты кивком головы благодаришь его и уходишь.
Вот как оперативно решались кадровые вопросы! А теперь хоть плачь, теперь связали по рукам и ногам нашего брата эти профсоюзы, трудовые кодексы, юристы… Без них руководителю шагу нельзя сделать, без них твой приказ — нуль без палочки, ничто, поскольку, видите ли, не имеет юридической силы. Отсюда в наши дни подчиненного обижай да оглядывайся, а если не хочешь получать шишек на свою голову, лучше хвали его и не гладь против шерсти. Да, да, это точно. Вот попробуй он ни с того ни с сего уволить эту Воронцову, ох, сколько у нее защитников окажется, начиная от профорга и кончая райкомом комсомола!..
Тут у Костричкина опять задергался левый глаз. Он закрыл его рукой, в испуге склонился над столом и зло подумал о Воронцовой: «Изуродовала меня, калекой сделала. Видно, важный нерв перешибла». Потом торопливо выбил из погасшей трубки табак, засунул ее в карман и заспешил домой.
XV
Возвращался с работы Костричкин пешком. Глаз у него все не переставал дергаться, и Костричкин, боясь людских насмешек, не сел в автобус, а пошел напрямик переулками, стараясь всячески сокращать расстояние. Заодно он надеялся где-нибудь по дороге встретить черного дога, которого хотел немного позлить, чтобы тот опять на него кинулся. Костричкин почему-то был уверен, что утром нервный тик прошел от сильного и неожиданного испуга, ведь недаром говорят: клин вышибают клином.
Никогда раньше об этом не задумываясь, он стал теперь припоминать, в каких местах ему чаще всего встречались люди, выгуливающие своих собак. Вроде бы он не раз прежде видал крупных породистых псов и разных мелких шавок на Звездном бульваре, на травяном поле, что тянется вдоль улицы Королева, а также на зеленых лужайках вблизи метро. Разыскивать черного дога около своего дома, где утром тот бросился на него, смысла никакого не было. Собака там очутилась, видимо, случайно, ибо никогда раньше он не встречал ее на этом сквере. Ему даже казалось, что видел он черного дога именно на Звездном бульваре, и хозяйка его вроде бы запомнилась. Как-то раза два попадалась ему на глаза невысокая блондинка, когда он заходил в хозяйственный магазин. К сожалению, он тогда приметил лишь хозяйку, а на собаку не обратил никакого внимания, может, это и не дог совсем был, только вот, помнится, крупную псину она держала на поводке, и его еще поразил такой контраст: большая собака и маленькая хозяйка.
Солнце еще стояло высоко, палило безбожно, и Костричкин, угнетенный зноем, шагал медленно, равнодушно поглядывая по сторонам. Но когда он сошел с горячего мягкого асфальта, пахнущего дымом и нефтью, и ступил на зеленую траву, и попал в царство длинных теней от деревьев, то как-то незаметно для себя пошел намного быстрее. На середине бульвара он постоял, поглядел в один его конец, в другой, но собак почему-то там не было. И, как ни странно, бульвар в этот час был безлюден, если не считать женщины с детской коляской, что сидела под липой, да двоих мальчишек, которые гоняли ногами волейбольный мяч. А впрочем, сейчас было неподходящее время для выгула собак, поскольку жара еще не спала, да и не успели их хозяева вернуться с работы, поужинать, сделать что-либо по дому. Вот когда у них схлынут на сегодня домашние заботы, а солнце зависнет над самым горизонтом, станет лишь светить и не греть, тогда-то и потянутся они с собаками на скверы и бульвары, в то время и он выйдет прогуляться и где-нибудь встретит черного дога.
Костричкин еще прошел вдоль бульвара по узкой тропке, протоптанной в густой траве, под тенью лип и берез, и скоро почувствовал себя бодрее, усталость постепенно покидала его, а в голову вливалась свежесть, вместе с которой крепли и новые мысли, что так и этак петляли вокруг Кати. Конечно, он будет тогда горе-руководитель, если не обуздает дерзкую девицу, не сломит ее гонор. Ведь это лишь на первый взгляд кажется, будто она неуязвима — работает хорошо, в книге жалоб у нее одни благодарности, но если помороковать мозгами, то можно сделать так, что и наоборот все будет. Разве, скажем, нельзя найти человека, который за определенную мзду что хочешь напишет о ней в книгу жалоб? Конечно, можно. А тогда уже и выговор в приказе легко ей состряпать. И он не станет это дело, пожалуй, откладывать в долгий ящик, а завтра же и попробует разыскать подходящего человека.
Уже в самом конце бульвара он встретил девчонку с собакой, вернее, каким-то собачьим лилипутом на коротких ножках, пучеглазым, с торчащими, как у тушканчика, ушами. Собака будто заведенная носилась вокруг девочки и пугливо вздрагивала от каждого шороха и воробьиного крика. И, конечно, зря с визгом лаял четвероногий лилипут на Костричкина, который и не думал его бояться и все так же неторопливо шагал узкой тропкой, затем пересек мостовую и скрылся в переулке.
Дома он первым делом принял душ, потом долго стоял в одной майке перед зеркалом, причесывался и, внимательно рассматривая свое лицо, думал о том, что он мужчина еще далеко не бросовый. Пускай навязчиво блестит у него голое темя, но зато нет нигде седины, даже на висках волосы черные. Да и телом он еще плотен и брюшком большим не обременен, как многие мужчины в его возрасте, а отсюда и походка у него легкая, и упругости в ней хоть отбавляй. И непонятно было Костричкину, отчего это ему такое непочтение от Воронцовой, почему она так жестоко с ним обошлась?
Он накинул на плечи длинный махровый халат, прошел на кухню и открыл холодильник. Раньше Костричкин находил там какую-нибудь похлебку, а теперь который уже день жена была с ним в ссоре и нарочно ничего не варила. Сама Анна Григорьевна почти никогда не ела первого, но все равно аккуратно готовила разные супы, зная, что без горячего он обычно остается голодным. И Костричкин на всякий случай проверил две кастрюли, которые стояли в холодильнике, но ни в той, ни в другой варева не было. Тогда он съел три сырых яйца, попил чаю и, чувствуя почти прежнюю пустоту в желудке, прошел в комнату жены, чтобы почитать письмо, которое прислал вчера сын.
Утром Костричкин видел, голубой конверт лежал на кухонном столе, но сейчас его там не было. Стало быть, жена, уходя на работу, убрала письмо к себе. Так оно и оказалось. Выдвинув средний ящик в ее туалетном столике, где жена обычно хранила разные документы, он скоро нашел этот конверт и, немного волнуясь, вынул из него листок, исписанный знакомым мелким почерком.
Сын писал матери, что у них большая радость, недавно они переехали в трехкомнатную квартиру в новом доме, где есть и лифт, и горячая вода, и ванная. Дом, оказывается, высокий, в несколько этажей, стоит на самом берегу Енисея, из окон видно, как плывут по реке нарядные белые теплоходы, разные баржи. Одну комнату они отвели под детскую, а самая светлая и большая, окна которой глядят прямо на Енисей, ждет, мол, ее, Анну Григорьевну. Еще сын сообщал, что жена его недавно тоже получила диплом инженера, и теперь они вместе работают на одном заводе. По письму выходило, у сына все хорошо, вот только не хватает матери, которую он ждет не дождется. В конце письма все они — сын, невестка, внучка — целовали Анну Григорьевну.
Костричкин знал, что сын на него кровно обижен, все не может забыть тех оскорблений, которые он в свое время нанес Анне Григорьевне, когда хотел с ней разводиться, и давно уже о нем в письмах не спрашивал, приветов ему не слал. Но все равно Костричкин надеялся, что сердце сына постепенно оттает и тот вспомнит о нем. Оттого он частенько втайне от жены читал письма сына, ища в них о себе хоть одно слово, хоть какой-нибудь намек. Но сын все упорно молчал о Костричкине, будто и не было у него отца или умер он давно. Вот и на этот раз в письме о нем ничего не сказано. «Не простил еще…» — вздохнул Костричкин и положил письмо на место, задвинул ящик и, поглаживая дергавшийся глаз, поскорее выбрался из комнаты Анны Григорьевны.
Не зная, чем себя занять, он вышел на балкон, посмотрел сверху на автобусную остановку, где вот-вот должна появиться Анна Григорьевна. От центра прошел один автобус, второй, третий, каждый раз из него выходило много народу, но жены пока не было видно. Костричкин отметил, что последние дни она стала намного позже возвращаться с работы. Раньше, бывало, глядишь, и шести еще нету, а жена уже семенит от автобуса с сумками да сетками, набитыми разными продуктами, а сегодня вот и за семь перевалило, но ее все нету и нету. Как бы и на самом деле не намылилась она к сыну. Ну где ее до сих пор леший носит? Бегает по магазинам, закупает всякие подарки для внучки с невесткой? А может быть, насчет билета хлопочет, теперь с ним не так-то просто: кто с юга возвращается, кто на юг еще едет.
Костричкина вдруг охватила тревога, сейчас он поверил, что Анна Григорьевна вполне может уехать к сыну. Ведь коли здраво рассудить, то ее ничто тут особенно не держит. Рабочего стажа у нее давно хватает, она, считай, девчонкой пришла на свою фабрику. И как-то с год назад говорила, что имеет право хоть завтра уйти на пенсию. Вот она и уйдет, а там смотает удочки к сыну, станет маленькую внучку тетешкать. Ведь сын недаром пишет, будто для нее уже отдельная комната приготовлена. Как после этого не уедешь? А вот он будет один куковать в пустой просторной квартире, сычом сидеть по вечерам, со стенами разговаривать.
Тут его левый глаз сильнее задергался, притом так устойчиво, с одинаковым ритмом, словно в нем исправно и беззвучно тикали невидимые часы. Он снова вспомнил о черном доге, с надеждой посмотрел в сторону сквера, но люди с собаками там еще не бродили, видно, час их не приспел, и Костричкин решил посидеть у телевизора, чтоб немного успокоиться.
Передача была на удивление скучная, на экране все время маячила фигура какого-то человека, сгорбленного под тяжестью непомерно большого рюкзака. Он долго брел по унылой, голой пустыне, иногда останавливался, ковырял палкой-посохом в песке, что-то разыскивая, и через минуту опять шел и шел в неведомое и бесконечное. Костричкин возмущался передачей и хотел переключить телевизор на другую программу, но ему было лень вставать с дивана, на котором удобно устроился…
Потом вместо пустыни и человека с большим рюкзаком перед глазами Костричкина возник огромный черный дог, который стоял на задних лапах и зло глядел на него. Вскоре черный дог широко открыл огромную пасть, из которой страшно торчали острые клыки, и изготовился к прыжку. Костричкин в испуге попятился от него, но дог тотчас грозно зарычал, клацнул зубами. Зная, что от собаки нельзя никогда убегать, он в страхе все-таки отскочил назад, и в это время черный дог бросился на него. Сбив Костричкина с ног, он больно придавил его к земле и уцепился зубами в горло. «Ка-ра-у-у-ул!» — закричал он и, чувствуя, что расстается с жизнью, собрал последние силы, резко оттолкнул от себя дога и, грохнувшись с дивана на пол, проснулся.
Поглаживая ушибленный затылок, прислушиваясь к частому стуку сердца, Костричкин несколько минут сидел на полу, приходя в себя, а потом неожиданно вскочил и расхохотался: оказалось, что левый глаз у него больше не дергался. В радости он подбежал к телефону и набрал номер Зои, услышав ее голос, Костричкин хотел уже крикнуть «Негритенок, как ты там дышишь?..», но в этот момент в квартиру вошла вернувшаяся с работы Анна Григорьевна. Он незаметно надавил пальцем на рычаг телефона и, плотнее прижимая к уху трубку, чтобы жене не были слышны гудки, сделал вид, будто продолжает ранее начатый разговор.
— …Да, все верно, все правильно, — энергично повышал свой голос Костричкин. — Философия известная: ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак… Так-то… Конечно, конечно… А пока это мое твердое слово… Хорошо, хорошо, ты потом можешь жаловаться хоть в ООН, но сперва сделаешь так, как я велю… Да, это мой приказ!.. Ну все, будь здоров!..
Положив трубку, он еще какое-то время возмущался вслух, разгуливая по прихожей, кричал, что его подчиненные вконец распустились, ни черта не хотят делать, сознательности у них ни на грош, каждый, как курица лапой, гребет лишь под себя. И никому ничего не скажи, любой, кого чуть пожуришь, тут же становится на дыбы, грозит, что напишет в газету, обратится в суд. От такой работы у него уже сердце схватывает, совсем развинтились нервы, он как пить дать вот-вот попадет в сумасшедший дом. Все это говорил Костричкин, конечно, для Анны Григорьевны, чтобы вызвать к себе у нее жалость. Ему надоело по три раза в день есть только яйца и колбасу, и он таким образом пытался втянуть жену в разговор, а затем склонить к примирению.
Но Анна Григорьевна будто не слышала Костричкина, помыв вначале руки, она прошла в свою комнату и оттуда не показывалась, что-то искала в шкафу, шурша коробками и бумагой. «Уж не собралась ли она и в самом деле уезжать к сыну?» — с испугом подумал Костричкин и осторожно приник к замочной скважине в двери ее комнаты, не дыша стал высматривать, чем там занята жена. Но глаза его упирались в поясницу Анны Григорьевны, и ему не было видно, что делали ее руки. Тогда Костричкин с досады махнул рукой и нехотя поплелся к телевизору.
XVI
Наутро Костричкин с полчаса толкался возле пивной, цепко приглядываясь к посетителям этого столь шумного заведения, пока не отыскал кудлатого. Сам он еще не забыл времена, когда пива было полным-полно в любой палатке на углу чуть ли не каждого второго переулка. Помнил Костричкин и знаменитые пивные, обожаемые мужской публикой, на Пушкинской площади и Серпуховке, где всегда были длинноусые красные раки, крупная и мелкая вобла. Но теперь на том месте выросли новые дома, зеленеют скверы, и пивных год от года поубавилось, вот зато, видно, и штурмуют их с утра пораньше толпы мужчин разного возраста и достатка. У этой пивной тоже были всякие: и в дорогих костюмах с модными галстуками, и в белоснежных сорочках с закатанными рукавами, и в фирменных джинсовых брюках, и в помятых застиранных рубахах, и в замызганных, засаленных куртках. Костричкин присматривался, конечно, к самым расхристанным, но поначалу все не мог найти того, который был нужен. Некоторые с ним заговаривали: кто предлагал войти в пай, чтобы к пиву присовокупить еще поллитровку, кто просил сигарету, кто пытал, кого он ждет. Костричкин со всеми был вежлив, отвечал, что условился свидеться тут с приятелем, и нарочно вертел головой во все стороны, делая вид, будто и на самом деле кого-то дожидался. Наконец его острые маленькие глаза впились в кудлатого небритого мужика с подпаленными белесыми бровями (видно, результат небрежного прикуривания от газовой зажигалки), который тоскливо-растерянно озирался по сторонам. Костричкин тут же сообразил: этот подойдет, и поманил кудлатого пальцем, отвел его за кусты жасмина, шепнул ему на ухо:
— Пивка хочешь?..
— А ты что, угостить меня собираешься?.. — С настороженностью и надеждой тот посмотрел на него.
— Это от тебя зависит… — ухмыльнулся слегка Костричкин. — Помоги в одном деле… так с радостью угощу.
Выходило, счастье на скорую выпивку было еще не близко, и повеселевший поначалу кудлатый разом сник и уже, видимо, просто ради любопытства, от нечего делать спросил вяло и безразлично:
— Какое же… дело?..
Костричкин принялся горячо объяснять, что дело-то выеденного яйца не стоит, но ему будет одна сплошная выгода. Всего в нескольких шагах от пивной находится парикмахерская, куда и надо пойти кудлатому, бесплатно там побриться, постричься да еще получить за это на пиво. Ну, а заодно выразить недовольство работой мастера, написать что-нибудь плохое в книгу жалоб, поскольку с той девушкой, к которой он сядет, нет никакого сладу, постоянно грубит она, пререкается…
— Я смотрю, довела она тебя почище жены, — посочувствовал ему кудлатый.
— Ты прав, такая стерва оказалась, что сил моих нету, — подтвердил Костричкин. — Представляешь, я ей слово, а она мне — два, я говорю белое, а она толкует — нет, черное… — Тут Костричкин понизил голос до шепота, сказал как бы доверительно: — И что еще… с иностранцами путается. Понимаешь?.. Да, да, к концу смены часто машины не наши подъезжают и оттуда вылезают черные. А кто такие, сказать точно никак не могу, вроде не негры и не арабы, а только вижу, все черные, черные…
— Хороша, значит, штучка! — покачал головой кудлатый. — Она шибко красивая, что ли?..
— Врать не стану, на лицо девка смазливая. Оттого и липнут к ней эти черномазые, как мухи к сладкому… Ну если б к одной любви все сводилось, тогда бог с ней, какое мое собачье дело… А я чего боюсь, может, передает что им?..
— Шпионит, думаешь?.. — кудлатый вытаращил испитые глаза.
— А кто ее знает, всякое может быть, — развел руками Костричкин. — У них, этих империалистов, всегда одно на уме, как бы строй наш замарать, к старому нас повернуть. Вот я и боюсь, начнут потом меня таскать, мол, где ты был, горе-руководитель, за чем смотрел…
Кудлатый поскреб крючковатым пальцем небритую щеку, задумался, видно, все-таки подкупало его неожиданно подвернувшееся выгодное дело: бесплатно его побреют да еще за это и на выпивку дадут. Но была тут и загвоздка большая — как скоро получит он на пиво? Ведь пока эта девица его омолодит, пока он чего-то напишет там в книгу жалоб… И кудлатый, глядя на тупоносые добротные туфли Костричкина, сказал неопределенно:
— Может, я и соглашусь, но ты поставь мне сперва две кружки пива… это самое… для храбрости.
— У-у, нет уж, нет, тогда она тебя, пьяного, и брить ни за что не станет. В нетрезвом виде у нас запрещается всякое там бритье, стрижка. А она принципиальная, тут же тебя из кресла высадит… Ты уж потерпи немного, за двадцать минут не помрешь. Можешь не стричься, побрейся только, чтоб побыстрее все вышло. В таком случае и на пиво у тебя больше останется.
— А сколько ты даешь? — спросил наконец кудлатый.
— Да я тебя не обижу, — заверил Костричкин. — Три целковых, надеюсь, хватит на все?.. Деньги пусть не ахти какие, но зато сами в руки идут, прямо с неба падают, только подставляй ладони…
Кудлатому, надо полагать, и во сне не снилась такая удача, что было заметно по его мутно-серым глазам, в которых вдруг проклюнулись веселые огоньки, однако он не спешил соглашаться. Достав из брюк истертую до дыр пачку «Беломора», он вынул оттуда дышавшую на ладан папиросу, прикурил и тогда лишь ответил:
— Ты не жмись ради такого дела… Вот накинь еще рублишко, тогда я готов и помочь…
В любом другом случае Костричкин не набавил бы и копейки, так как в последнее время у него туго было с карманными деньгами, точнее сказать, они совсем перестали у него водиться: всю зарплату забирала жена, а иных финансовых притоков он на новом месте еще как следует не нащупал. Ведь та подмена одеколона, на которую он склонил Глеба Романовича, пока давала слишком мало. А втянуть в это дело еще кого-либо из мастеров он опасался: если уж на Зое Шурыгиной обжегся, то что можно было ждать от других. Правда, еще наловчился он брать у мастеров взаймы (у кого десятку, а у кого и побольше) и делать вид, будто забывал потом о долгах, но сам же и сознавал, что источник этот слишком скуден. Пусть кредиторы пока помалкивали, не требовали с него долгов, не то стеснялись спросить, не то считали, заведующий попал в денежный цейтнот, но все равно и на сей ниве особо не разгуляешься, ведь не тысяча человек у него в подчинении, ему и так уже приходилось у некоторых брать по второму разу. И все-таки он не стал сейчас торговаться, боялся упустить кудлатого, а потому махнул рукой, согласился:
— Ладно, где наше не тонуло…
По дороге к парикмахерской он дал кудлатому деньги, объяснил, на какое кресло ему надо садиться, посоветовал, как вести себя с мастером, и еще попросил делать вид, будто они друг друга не знают.
— А что в книге-то… намарать?.. — неожиданно остановился кудлатый.
— Ну, напиши… плохо обслужила… Бритва тупая… и за нос пальцами хватала, когда усы брила…
Кудлатый вдруг хихикнул:
— Так, может, приятно будет… когда такая краля за нос подержит…
Костричкин не принял шутки и велел ему поторапливаться, а сам, как условились, приотстал. Кудлатый, воровато озираясь, зашагал быстрее и скоро вошел в парикмахерскую, а Костричкин подумал, с деньгами тот может свободно улизнуть в пивную, и повертелся еще у входа. Лишь когда увидел через окно, что он сел в кресло к Воронцовой, направился к себе в кабинет, а проходя по залу, чуть скосил глаза на кудлатого, который скучал с салфеткой на груди, и понял, тот будет только бриться.
Катю не удивила замызганность клиента: может, человек со смены возвращался, может, работает и вот выкроил между делами полчаса, прибежал побриться. Она, как всегда, вежливо спросила, что он желает, и дала знать тете Поле, чтобы та принесла ей прибор. Потом старательно намылила лицо клиента, стала сбривать проглядывавшую сквозь ноздристую пену рыжую щетину и заметила, что он почему-то морщит губы, часто сглатывает слюну. Катя обеспокоилась, подумала, может, притупилась бритва, и тут же поправила ее на ремне, но клиент все равно продолжал морщить губы и глотать слюну. Катя тогда решила, что он, наверное, нездоров или из-за чего-то нервничает, и с еще большей осторожностью водила бритвой по его впалым щекам.
— Вас освежить? — спросила Катя, когда закончила его брить.
— Нет, нет, не надо… — вроде бы с испугом проговорил кудлатый и тотчас вскочил с кресла, скорее метнулся к кассе, заплатил за бритье и сразу ушел.
Костричкин, ничего не подозревая, сидел в своем кабинете, развалившись в кресле, и заранее представлял, как испугается сейчас Катя Воронцова, какой покорной она сразу станет. Ему уже слышался стук в дверь кабинета, не прежний ее уверенно-независимый стук, а этакий робко-виноватый, и он даже явственно видел побледневшую в волнении Катю, которая переступила порог, боязливо шагнула к столу и убитым голосом говорит, что клиент зачем-то требует книгу жалоб. А он, не поднимая глаз от стола, заваленного разными накладными и квитанциями, нарочно долго молчит, дымит черной резной трубкой, делая вид, будто чем-то озабочен, но в душе у него радость разливается звоном колокольчиков, он доволен, что она, растерянная и жалкая, стоит перед ним и не знает еще, как все обернется.
В это время затрезвонил телефон, и Костричкин, раньше чем взять трубку, подумал, кто бы мог сейчас ему звонить, потом глянул на часы и подпрыгнул в кресле: прошло, оказывается, уже более получаса, а кудлатый все не давал о себе знать. «А вдруг он решил еще подстричься, помыть голову…» — рассудил сменившийся в лице Костричкин и, не подняв трубку, скорее вышел в зал. Но кудлатого там уже не было, Катя теперь подстригала мальчишку лет десяти, и Костричкин, ни минуты не мешкая, отправился искать беглеца.
Придя в пивную, он осмотрел все столы в залах, потолкался у прилавка, где меняли монеты и продавали соленые хлебные палочки, конфеты, папиросы с сигаретами, обшарил глазами подоконники, на которых сидели некоторые посетители, но кудлатого нигде не было. И все-таки Костричкин не терял надежды отыскать его, не хотел он никак верить, что тот, имея в кармане три с лишним целковых, мог миновать это заведение.
Потом он вышел на улицу, покрутился суетливо перед пивной, где, прежде чем отправиться домой, многие любят постоять, поговорить с собутыльниками, а не то и просто с незнакомым, оказавшимся рядом. На этот раз тут было человек десять; разделившись по двое, по трое, они вели разные речи, по-пьяному замедленно и неуклюже размахивая руками. Один, изрядно пошатываясь, положил руку на плечо Костричкину, еле ворочая языком, попросил у него огоньку. Он дал ему прикурить и, не желая вступать с ним в разговор, прошел на сквер, что примыкал к пивной, и тотчас увидел там кудлатого.
Он сидел под яблоней с лысым мужчиной и, перекатывая в зубах потухшую папиросу, что-то ему рассказывал. Рядом на траве валялись бутылка из-под водки, огрызок развернутой конфеты и фольга от плавленого сырка. Увидев все это, Костричкин едва не расплакался, так жалко ему стало по-глупому выброшенных денег, так обидно было, что кудлатый его охмурил. Понимая бесполезность какого-либо с ним разговора, поскольку тот был уже пьян, Костричкин в то же время не мог не пригрозить ему и решительно подошел к кудлатому, но, приметив, как широк в плечах его собутыльник, отказался от своего намерения, совсем тихо промямлил:
— Не ожидал от тебя такого фокуса, приятель…
Кудлатый хоть и был пьян, а тут же признал Костричкина, с силой хлопнул себя по коленке, расхохотался и, толкая плечом собутыльника, заплетающимся языком заговорил:
— Во дела, брат!.. Знаешь, Петро, какая краля меня брила сегодня?.. Прямо глаз не оторвешь!.. Я сидел и дышать боялся… А как она бреет!.. Веришь, будто ангел небесный… ручками меня своими гладила… Во!.. Слышь, Петро, а этот карлик, — он показал пальцем на Костричкина, — на такую кралю… клепает… и все тебе… Она, понимаешь, за нос меня не хватала… а вот пришел… Ты скажи, он что, ненормальный?.. А может, псих?.. Чего это он стоит и ждет?.. Деньги его все равно плакали… Ну где я возьму ему четыре рубля?.. Слушай, ты через два дня приходи, — сказал он Костричкину, прислоняясь спиной к яблоне. — Я тебя так накачаю, на карачках не уползешь, понял?.. А сейчас я на мели, веришь?.. — Он повалился на траву, вывернул карманы брюк, разводя руками, пояснил: — Видишь… пусто…
Его собутыльник, до этого молчавший, осоловело поглядел на Костричкина, почесывая лысину, угрюмо спросил:
— А ты кто такой?.. Тебе чего, собственно, тут надо?.. Микола, перед кем это ты карманы выворачиваешь?.. Он кто тебе, батька родной?.. Давай мы ему мозги выправим, подлечим немного…
Слова лысого не на шутку испугали Костричкина. Он тут же нырнул в кусты жасмина, продираясь с треском сквозь ветки, выбрался на другую сторону сквера и быстро потрусил от пивной, поминутно оглядываясь. И только отойдя от нее на почтительное расстояние, немного успокоился, стал снова соображать, как ему все-таки проучить Воронцову.
И тут он вспомнил, как две недели назад встретил знакомого капитана милиции, участкового, разговорились они, и тот жаловался, что летом у них туговато стало с дружинниками, так как люди разъезжаются в это время в отпуска и на дачи. Капитан еще спрашивал, много ли в парикмахерской молодежи, нельзя ли от них хотя бы одного человека в дружинники вовлечь. Тогда он схитрил, сказал, будто у него молодых кот наплакал, а теперь вот подумал, почему бы туда Воронцову не определить. Молодая она, комсомолка. Вот и пускай с красной повязкой побегает, за порядком в районе последит, коль она такая щепетильная. А то вон сколько хулиганов развелось, уже не стало от них нигде спасенья: зимой кучками в подъездах толкутся, прямо на подоконниках пьют, а летом все скверы в полон взяли. Вот и будет у Воронцовой повод проявить свою прыть, пусть она усмиряет шантрапу всякую, смелость вовсю выказывает. А когда получше узнает неприглядную изнанку жизни, глядишь, и сама сговорчивей станет, не будет из себя недотрогу корежить.
Радуясь своему новому плану, Костричкин громко высморкался и уже бодро зашагал на работу.
XVII
Что верно, то верно: одна проруха часто тянет за собой другую. Не успел Костричкин еще забыть про осечку с кудлатым, как на третий день к нему вбежал побледневший Глеб Романович и, кособоча рот пуще обычного, огорошил:
— Беда, Макарыч, чуть сердце не разорвалось… Убери это к богу в рай… — И он вытащил из кармана халата флакон липовой «Орхидеи».
Костричкин тут же схватил флакон, пряча его в ящик стола, сердито буркнул:
— Ведь просил тебя, чтоб не всех подряд брызгал, а выбирал простаков верных…
— Да разве на лбу написано, кто он такой, — сказал Глеб Романович, преданно тараща на заведующего черные глаза, в которых всегда устойчиво жила тоска. — Я вот бьюсь об заклад, что ты и сам выбрал бы этого мужичка. С виду такой невзрачный, одет совсем просто, ну в лучшем случае за табельщика его можно принять. А вот, глядишь ты, сразу все унюхал. Едва я из злополучного флакона, будь он проклят, брызнул ему на лицо, как он потянул носом воздух и вежливо так спрашивает: «А чем это вы, любезный, меня освежаете, дозвольте узнать?» Ну, тут у меня и ноги подкосились, все, думаю, влипли мы с Макарычем. Да еще пот предательски выдает, чувствую, рубашка к спине прилипла и теплые ручейки по вискам текут…
— А мастера-то хоть не заметили? — с открытой тревогой спросил Костричкин, принимаясь набивать табаком трубку.
— В том-то и беда… — с опаской поглядывая на дверь, зашептал Глеб Романович. — Это как раз меня и доконало, когда я увидел, что Нина Сергеевна тянет голову в мою сторону, навострила уши, а Воронцова с удивлением выкатила свои гляделки… Даже Петр Потапыч, проглоти его леший, перестал стрекотать машинкой и начал прислушиваться, что за спор у нас с табельщиком…
— Я этого старого грача, кажется, вытурю все-таки на пенсию! — загорячился вдруг Костричкин и хлопнул сердито ладонями по подлокотникам. — Вечно он свой нос сует куда не надо.
— Его не так-то просто… вытурить, — заметил Глеб Романович, снова кособоча рот.
— Это почему же так? — удивился Костричкин и даже перестал набивать трубку.
— У него дружок фронтовой в комбинате сидит. Разве ты не знаешь?.. Потапыч его от смерти спас, полуживого на себе из боя вынес. Так что со стариком, Макарыч, поосмотрительней надо быть.
Костричкин в досаде почесал виски, вздыхая, сказал упавшим голосом:
— Честно признаться, ты меня не порадовал. Выходит, у нас подсадная утка крякает и все, что делается в коллективе, заведомо знают в комбинате. Вот это для меня новость!.. А где ж ты раньше был, что до сих пор молчал?
— Да как-то запамятовал, вроде разговора об этом не заходило, — ответил Глеб Романович, переступая с ноги на ногу и угодливо заглядывая в глаза Костричкина.
— Память у тебя дырявая, а еще жениться собираешься. Гляди, жену с любовницей не перепутай, — ухмыльнулся Костричкин, но тут же спохватился, что тем самым может озлить верного напарника, скорее поправился: — Я пошутил, как ты понимаешь, хотя нам с тобой сейчас не до шуток. Ты-то уверен, что этот табельщик не подался напрямки, скажем, в ОБХСС? Может статься, пока мы тут судим-рядим, прикатят оттуда субчики и накроют нас с поличным.
Глеб Романович, как все старые холостяки, был на редкость осторожный, мнительный и трусливый. Услышав устрашающее для него слово «ОБХСС», он так разволновался, что не мог уже трезво ни думать, ни говорить, а только все сутулился и на глазах становился меньше ростом.
— Ну как, по-твоему, пошел этот табельщик на нас доносить? — спросил Костричкин, заметив растерянность Глеба Романовича.
— А кто его знает… — обреченно пожал тот плечами.
Костричкин, у которого на сей счет уже был готов план, с минуту помолчал, раскуривая трубку, потом поднялся с кресла, прошелся по кабинету — два шага туда, два шага обратно, резко повернул лицо к Глебу Романовичу и стал толковать, как им лучше выйти сухими из воды. Если мастера успели все заметить, рассуждал он, то завтра об этом будут знать и в комбинате: подсадная утка подаст туда сигнал. Стало быть, ни к чему теперь кота в мешке таить, а надо вести дело в открытую и по горячим следам.
— Это как же так?.. — часто заморгал глазами Глеб Романович.
— Очень просто, будем срочно искать виноватого. Ведь и дураку ясно, что кто-то из наших перелил одеколон.
— Выходит, мы сами себя будем искать?.. — оторопел Глеб Романович, до которого не сразу дошла затея заведующего.
— Об этом ты и во сне не вспоминай, понял? — раздраженно посоветовал ему Костричкин. — Не вздумай на собрании такое ляпнуть! Твое дело удивляться, разводить руками… И во всем поддерживать меня, ну ту самую линию, которую я буду вести. Ясно?.. А еще я тебя попрошу, предложи на собрании в дружинники Катю Воронцову… Смотри, не забудь!..
Минут через тридцать на дверях парикмахерской уже висела табличка «Санитарный час», а все мастера сидели в подсобке, где обычно проходили собрания, если они устраивались в рабочее время. Разместившись на стульях вдоль стены, мастера потихоньку перешептывались, пытая друг друга, по какому поводу их спешно созвали, но никто пока толком не знал. Все лишь догадывались, что опять кому-то будет разгоняй, раз заведующий ни на кого не смотрит, сердито склонился над столом. Когда шепот угас и в подсобке стало так тихо, что было слышно, как билась о стекло залетевшая со сквера бабочка, Костричкин слегка откашлялся и, не поднимаясь с места, недовольным тоном заговорил:
— Вас, наверно, удивляет, почему это я средь бела дня надумал всех собрать?.. Что за чудак такой Федор Макарыч, который каждый раз толкует о плане, а сейчас вот, забыв о нем, отрывает людей от дела?.. Так, видно, думают многие из вас. И правильно думают, преступно нам тут вести речи в то время, когда за дверью томится клиент, наш кормилец, поминая нас недобрым словом. И все-таки я на это пошел, потому что у меня нету больше сил спокойно смотреть на те безобразия, какие творятся у нас. Вот, может быть, найдется среди вас храбрый человек, который встанет и прямо скажет, что нам мешает в работе, как нам жить дальше.
— А разве мы плохо работаем?.. — удивилась Тамара Павловна и обвела всех взглядом, как бы ища себе поддержки. — Жалоб от клиентов нету, план как-никак все ж вытягиваем… В чем вы нас вините, говорите тогда конкретно.
Костричкин нетерпеливо поерзал на стуле, подчеркивая тем самым, что не согласен с Тамарой Павловной, но сказал вроде бы сдержанно:
— Я как раз и собираюсь это сделать, коль вы сами не видите недостатков, которых у нас, к сожалению, столько, что хоть лопатой выгребай. Ведь трудовая дисциплина в коллективе, прямо скажем, хромает на обе ноги. Сколько ни ругаюсь, но вы все равно продолжаете заниматься на работе личными делами. Сколько я ни говорю о внешнем виде мастера, а воз и поныне там. Вот взять хотя бы обувку. Одни, забывая, где работают, расхаживают по залу в домашних шлепанцах. Другие напялили туфли на метровом каблуке, словно тут какой театр. Третьи отличились и того хлеще, обмотали ноги по самые колени какими-то ремнями… А посмотрите, на что похожи ваши прически. Какая нечто вроде шарабана соорудила на голове, какая, вообразив себя непорочной девой, отпустила косы до самого пояса, у какой вся голова в мелких завитушках, ровно она в Африке живет. Словом, срамота одна, это не столичная парикмахерская, а некий пестрый цыганский табор.
— По-моему, вы не в ту степь поехали… — подала голос Нина Сергеевна и покачала осуждающе головой. — Чего ж вы от нас хотите? Мы не солдаты, чтобы в одинаковой обувке ходить. Прически тоже себе делать с оглядкой не собираемся…
— Со стороны вас послушать, — перебил ее Костричкин, — можно подумать, что я совсем голову потерял. Вот, мол, из-за каких пустяков заведующий отрывает нас от дела. А про то забыли, что большое начинается с малого. Нет, внешний вид — это никакой не пустяк. Допустим, вчера вы пришли на работу с растрепанной головой, сегодня явились в помятом платье. Но заведующий ничего вам не сказал, не сделал замечания. А вам только этого и надо, вас вполне устраивает матушка-анархия, и вы быстренько катитесь по нисходящей. Глядишь, уже остаетесь в парикмахерской после десяти вечера, подстригаете левых клиентов, а денежки преспокойно кладете себе в карман.
После таких слов Костричкина щеки у Кати Воронцовой стали краснее макового цвета, и она, привстав с места, гневно сказала:
— Неправду вы говорите!.. Я не брала себе деньги. Он в кассу платил, в тот вечер еще Валя как раз задержалась. И тетя Поля убирала тогда…
— Ну вот видите, я как в воду глядел, — усмехнулся Костричкин, довольный тем, как ловко он подвел Катю к тому, что она сама призналась. Про случай с киношником он узнал от Глеба Романовича еще несколько дней назад, но пока ничего не говорил Кате, ему хотелось объявить об этом при всех, чтобы тем самым скомпрометировать Воронцову. — Вы теперь убедились, что это не мой каприз, а сама жизнь диктует нам строго соблюдать дисциплину. От нее ведь зависят наши успехи. А как пошел ее нарушать, то потом уже не остановишься, потянутся одни неприятности… Вот как прикажете поступать мне с Воронцовой? Выговор ей выносить или как?.. Может, для начала она расскажет честно, что ее заставило задерживаться после десяти?..
— Я его пожалела, — сказала Катя. — Он был весь обросший, а рано утром, говорил, за границу улетает.
Костричкин пожал плечами, щуря маленькие глазки, неопределенно хмыкнул.
— Все ясно, случайного человека пожалела. Что и говорить, поступок благородный и в наше время, прямо скажем, редкий. А если с другой стороны посмотреть, то закон нарушила, частную лавочку открыла.
Тут поднялась сидевшая у самой двери тетя Поля, поглаживая воротник старенького платья, волнуясь, сказала:
— Бог с вами, Федор Макарыч, к чему это на девку напраслину валить?.. Каждый знает, Катя у нас не такая, чтоб деньги себе хапать, да она последнее свое отдаст… А в тот вечер на глазах моих все было. Забежал к нам этот, с камерой, а мастера уже по домам разошлись. Стал он чуть ли не на коленях просить, чтоб его подстригли… Катя, добрая душа, ну и пожалела этого самого-то… Сперва еще Валя там вертелась, деньги с него наперед взяла… За что ж тут девку наказывать, я в толк не возьму?..
— Дорогая Пелагея Захаровна, вы не так меня поняли. Я и в мыслях не держал ничего похожего. Я лишь хотел показать, куда мы катимся с нашей расхлябанностью. Это подумать только, кто после десяти задерживается, а кто еще чище поступает!.. — Костричкин вдруг вынул из кармана пиджака флакон одеколона, поставил на стол и спросил: — Вам всем видно, что тут написано?
— «Орхидея», — ответила кассирша Валя.
— Абсолютно верно, а теперь возьмите и понюхайте, — предложил Костричкин, передавая флакон Рае Савельевой, которая сидела к нему поближе.
Рая поднесла флакон к носу и сразу воскликнула:
— Странно, а запах тройного…
Потом стали нюхать другие мастера, и все соглашались с Раей, что это тройной одеколон, хотя на этикетке значилось: «Орхидея».
— Ну что вы на это мне скажете?.. — спросил Костричкин.
— Может быть, на фабрике перепутали, когда разливали, — предположила Валя.
— Едва ли, там ведь ОТК есть, — усомнилась Тамара Павловна.
— На фабрику грешить нечего, — твердо заявил Петр Потапыч. — Я всю жизнь работаю в парикмахерской и не помню случая, чтоб там перепутали один одеколон с другим.
— А ты сам-то раньше ничего не заметил? — поинтересовалась у Глеба Романовича Рая.
Тот развел руками, глядя куда-то в сторону, сказал:
— К сожалению, нет, пока… это самое… он не расшумелся. Ведь разве когда проверяешь?.. Обычно отвертываешь пробку, вставляешь пульверизатор и — пошел…
— Петр Потапыч, а там, где получаю, как вы думаете, не могли, так сказать, подшутить? — спросил Костричкин.
— На моей памяти такого еще не бывало. Хотя за это ручаться не могу, нынче там плутов ой как много!.. А с другой стороны, какой толк нам гадать на кофейной гуще, если, как говорится, поезд уже ушел. Да и то верно, ваша милость за все в ответе, надо лучше глядеть, что за товар получаете.
— Это вполне резонно, свое упущение я не отрицаю, — кивнул головой Костричкин, как бы соглашаясь с Петром Потапычем. — Я теперь постараюсь при получении, что называется, обнюхивать каждый флакон. Да, да, непременно каждый. Но и вы в свою очередь будьте строже друг к другу. Ведь чем черт не шутит, а ну как из наших кто учудил? Перелил одеколон и подсунул его Глебу Романовичу. Такое вполне возможно при нашей разболтанности. Конечно, это мог сделать лишь моральный урод, кто потерял совесть, не уважает коллектив. Вы представьте себе, какое пятно ляжет на всех нас, если тот клиент возьмет и заявит куда следует!.. Словом, я не хочу конкретно кого-то подозревать, но, зарубите на носу, впредь любого нарушителя дисциплины буду карать беспощадно. Больше я не потерплю разгильдяйства, вот так!.. Вопросы ко мне есть?
Все молчали.
— Ясно, раз молчите, вопросов нету, — уже бодрым голосом сказал довольный Костричкин. — В таком случае давайте решим еще одно дело, коль уж собрались. Вот нам предложено выдвинуть в дружинники одного человека. Разумеется, лучше молодого, энергичного комсомольца. Поручение это ответственное, почетное. Чью бы вы кандидатуру хотели назвать?
— Я думаю, лучше Катю Воронцову, — выкрикнул с места Глеб Романович, вытирая о халат вспотевшие ладони. — Она комсомолка, мужем и детьми пока не обзавелась…
— Что за моду взяли затыкать девкой всякие дырки?! — возмутилась Нина Сергеевна. — Весной на овощной базе работала, потом в колхоз посылали. Если самая молодая, то можно по-всякому ею помыкать… У Кати постоянное поручение есть, она агитатор. А в дружинники надо вот Глеба Романовича, мужчина больше подойдет для этого дела. Женой и детьми он тоже не обременен…
Глеб Романович скрестил на груди руки, послабевшим враз голосом сказал:
— Ох, рад бы и сам, да не могу. Я через день на процедуры хожу тут в одну закрытую клинику. А что они дадут, никому пока неведомо. Может, еще под нож придется лечь… Теперь про Катю скажу. По-моему, нечего вокруг нее спор разводить, куда проще спросить, как она сама на это смотрит.
— Я не отказываюсь, если надо… — ответила Катя.
— Ну вот, видите, она сама согласна! — обрадовался Костричкин и тут же выскочил из-за стола. — Тогда все… Вопросы исчерпаны… Прошу расходиться по местам, пока там клиенты не разнесли нашу парикмахерскую.
XVIII
Всю последнюю неделю Люся бог знает как нервничала: ей вот-вот надо было отправляться в подмосковный совхоз на уборку, а мать с отцом почему-то к ним не ехали. Она вполне допускала, что хилая здоровьем мать так некстати заболела и отец, конечно, не может оставить ее одну. Но в таком случае что мешает им поскорее написать сыну, хотя бы в письме сказать ему свое родительское слово? Неужто они по своей деревенской серости никак не поймут, что медлить тут опасно. Ведь Дмитрий давно уже потерял голову, Люся не помнит такого дня, чтобы брат не виделся с этой девкой. Он теперь, как любознательный школьник, бегает с ней по музеям, зачастил в театры; он, ни капли не стесняясь, звонит ей по телефону, прямо при сестре говорит этой пустышке до неприличия нежные слова. А не так давно Дмитрий уезжал за город с ночевкой, и когда она накануне у него спросила, кого это он собрался везти на лоно природы, то брат, совсем не таясь, спокойно ответил: «Катю».
И вот за день до своего отъезда Люся решилась поговорить с ним начистоту. Едва Дмитрий вернулся из больницы и поужинал, она села в низкое кресло, что стояло возле письменного стола, рядом на пол поставила керамическую пепельницу и закурила. Дмитрий, который ругал сестру, если видел ее с сигаретой, и на этот раз сказал недовольно:
— Все-таки некому бить тебя, Людмилка… Почему ты всегда копируешь с подруг самое плохое?
Сестра с обидой поджала губы, ответила:
— Не винить меня надо… Ты как старший брат лучше узнал бы, отчего это курить я вдруг стала.
Дмитрий с тревожной пристальностью посмотрел на сестру, пытаясь понять, то ли нарочно она, как всегда, казанской сиротой прикидывается, то ли в самом деле стряслось с ней что-то неладное. Ему вспомнилось, как он несколько дней назад, выбрасывая мусор из пепельницы, увидел там недокуренные американские сигареты. Он сразу догадался, что Жора Кравченко бывает у них, когда Люся одна остается дома, и это его возмутило. Вечером Дмитрий попробовал отругать сестру, но она, как ни странно, тотчас обвинила его во всех грехах: и что в ее личную жизнь лезет, и что домострой проповедует, и что не хочет счастья родному человеку. И он сейчас подумал, у сестры, видимо, какие-то неприятности с Жорой, от него ведь всего можно ожидать.
— Я понимаю так, что тебя кто-то обидел, — рассудил Дмитрий и вздохнул: его в последнее время все больше огорчало поведение сестры.
— Ты на верном пути, — заговорила Люся, по привычке сильно растягивая слова. — Меня обидел, к сожалению, родной брат. Скажи, пожалуйста, почему ты ведешь себя как мальчишка, не думаешь о своем будущем? Какой это умный человек пройдет мимо Инги откажется от такой партии? Ведь тебе сразу будут открыты все двери в жизни, ты станешь доктором наук, лауреатом, а потом академиком. Со своим положением Инге доступно из дурака сделать видного человека, а тебя с твоими способностями она в два счета вознесет до небес…
Слушая сестру, Дмитрий видел, что ничего почти не осталось в ней от той скромной девчушки с плотной светлой косой, той Людмилки, которая лишь всего два года назад робко переступила порог городском квартиры и, стыдясь садиться вместе с соседями в лифт, первое время поднималась пешком на шестой этаж. «Я ведь не знаю, о чем с ними говорить, — объясняла она ему. — А ехать рядом с человеком и молчать как-то неловко». Но потом Люся скоро пообвыклась, перестала дичиться соседей, завела себе подруг, знакомых. Дмитрий этому обрадовался, поскольку видел, сестру поначалу пугал и подавлял огромный город, а ему самому некогда было всюду водить ее за руку. А теперь он жалел, что из-за своей диссертации да излишней занятости в больнице недоглядел за сестрой, не заметил, когда ей, дочери потомственных крестьян, чьи руки и поныне не знают передышки ни в будни, ни в праздники, успели вбить в голову столь ложные взгляды на жизнь. Вот она с какой-то пугающей раскованностью сидела перед ним, закинув ногу за ногу, манерно держала на отлете руку с дымящей сигаретой, и во всем ее облике, начиная от стрижки под принца или еще черт-те знает под кого и кончая туго обтянутыми джинсами, нарочно застиранными на коленках, было столько чужого, наносного, непонятного…
— От кого ты набралась такого, что с тобой делается? — спросил Дмитрий, садясь в рабочее кресло, которое стояло по другую сторону письменного стола. — Ты же выросла в трудовой крестьянской семье и поначалу нас радовала, а теперь прямо на глазах меняешься все к худшему…
— Зато ты сохраняешь статус-кво, — перебила его Люся и усмехнулась, затягиваясь сигаретой. — Время вовсю катит вперед, а ты стоишь на месте, как утес, и ничего не замечаешь. Счастье ломится к тебе в дом, но ты закрыл дверь на засов, гонишь его прочь. Разве не глупо это?.. Скажи?.. Надеюсь, тебе известно, какие у Инги связи в медицинском мире из-за отца, отсюда можешь представить, что ждет тебя и в том и в другом случае.
Дмитрий тоже закурил, взял с пола пепельницу, поставил ее на письменный стол, потом спросил:
— Ты помнишь, как отец дал тебе деньги на велосипед, а ты его не купила?.. Я учился тогда на пятом курсе, был ну совсем без денег и, получив твой перевод, веришь, расплакался. А сейчас вот опять хоть плачь: не стало у меня той бескорыстной и милой сестренки. Как жаль, что с каждым днем в тебе все меньше и меньше остается, я же это вижу, от прежней Людмилки. Тебя уже каким-то Люсьеном зовут, и ты, глупенькая, радуешься этому.
— Что жалеть о былом, — Люся спокойно поправила сползавшие на лоб волосы. — Что говорить, наивная росла, не знала настоящей жизни, широк ли в деревне мир… А здесь у меня словно второе зрение открылось. Я только удивляюсь, что ты ничего вокруг не видишь, живешь каким-то слепцом. Вон Жора рассказывает, один его знакомый жену с ребенком бросил и на дочке известного композитора женился. А сам этот зять, оказывается, страшнее гориллы: морда огромная, подбородок до пупа достает, уникально картавый — ни одной буквы не выговаривает, а руки такие длинные, что идет он и пятки ими чешет. И представь себе, новоиспеченного зятя за каких-нибудь полгода уже в артисты вывели — интермедии исполняет. Жора говорит, выйдет на сцену и только рот откроет — в зале сразу хохот: публика думает, что он так здорово картавого изображает. Вот видишь, как люди в наше время женятся. Зато я и говорю, что другой бы на голове ходил от счастья, если б Инга его выбрала. Ведь ты знаешь, она и красивая и умная, а не какая-нибудь шизофреничка. Жора абсолютно прав: такой пары ищи — не сыщешь.
— Опять ты за свое: «Жора говорит… Жора говорит…» — с досадой сказал Дмитрий. — Ну к чему ты меня злишь?
Люся округлила свои серые глаза с едва заметной косинкой, которая придавала им выражение постоянной загадочности, искренно удивилась:
— Боже мой, он еще злится!.. Неужели ты думаешь, я хочу плохого своему родному брату? Ты все считаешь меня несмышленышем, глупой девчонкой, а я давно уже не такая, я в чем-то, может быть, больше тебя понимаю. Я знаю, ты любишь независимость, решил сам себе прокладывать дорогу. Все это на словах выглядит красиво. А на деле, учти, в одиночку ты ничего не добьешься, ты навсегда засохнешь кандидатом, это будет твой потолок. Разве ты не видишь, что люди сейчас идут к своей цели группами, а не то и кланами… Они, как танки, подминают под себя вот таких одиночек, никому не нужных идеалистов, какие бы вы талантливые ни были. Это правда, пойми, а не моя выдумка…
— Мне такая правда не подходит, — оборвал ее Дмитрий. — Я не хочу, чтобы кто-то открывал мне двери в жизни, выбирал меня как вещь…
— А ты не торопись, хорошенько все обдумай и взвесь, чтобы потом не жалеть, — посоветовала Люся.
— Я давно уже все обдумал и решил.
— Ты хочешь жениться на своей девке?
— Разумеется.
— Нет, нет!.. — закричала Люся с непонятной злостью и вскочила с кресла, заметалась, забегала по комнате. — Ни за что!.. Ты никогда не приведешь ее сюда!.. Я не позволю тут хозяйничать твоей парикмахерше. Я сама не собираюсь век в девках сидеть. Вот завтра приведу себе мужа, и как мы будем жить в этой малогабаритной квартире?..
— Тебе пока рано о замужестве думать, — резко сказал Дмитрий. — Ты и так все время на одних тройках едешь. Сначала институт закончи.
— А что мне даст институт? Разве теперь муж положен в придачу к диплому? Ты знаешь, сейчас в восемнадцать выходят замуж, не то и семнадцатилетние — эти справки достают, что беременные. А мне уже двадцатый пошел. Еще год, и кому я будут нужна? Если ты настоящий брат, то не можешь обо мне не думать. Квартира эта не только твоя, мать с отцом тоже давали тебе на кооператив. Совесть надо иметь, почему ты должен сюда кого-то приводить, а не найти себе жену с квартирой. Какой же ты мужчина, если женщину не пожалеешь, сестру свою родную. Вот Жора хоть завтра на мне женится, да где нам жить?..
— Ему нужна московская квартира, а не ты, — бросил Дмитрий, хорошо знавший Жору. — Он не хочет после аспирантуры отсюда уезжать, вот почему и готов жениться на тебе. Но Жоре не нужна семья, он любит вольную и разгульную жизнь, разные развлечения. Это нужда его заставляет временно пойти на такой шаг…
— Перестань так говорить о Жоре! — закричала Люся, прикрывая ладонями уши. — Я не хочу ничего слышать!.. Если Жоре нужна, как ты говоришь, квартира, то кто же ему мешает жениться на Инге? Сразу и жилплощадь, и все двери ему открыты…
— Сама Инга и мешает, она знает ему цену, — сказал Дмитрий, нервно гася сигарету. — Зачем ей нужен этот кузнечик, которые здесь стрекочет, там стрекочет, и все напоказ, чтоб привлечь лишь внимание И всегда такой верткий, обтекаемый, будто без плеч и локтей — всюду пройдет, никого не заденет. Нет, Инге такой не нужен, ей хочется иметь мужа основательного, верную рабочую лошадку. А Жору она держит при себе вместо пажа, который ее развлекает, всюду сопровождает. Вот в этой роли он Ингу вполне устраивает, поскольку всегда свободен, в любой день и час готов ее опекать в какой угодно компании.
Люся недовольно передернула плечами, возмутилась:
— Хорошенькое дело!.. Столько лет дружишь с Жорой и такое о нем говоришь! Выходит, он подлец, если хочет на мне жениться из-за квартиры?
— Видишь ли, покамест он, может быть, и не подлец, но скоро, думаю, им станет, все идет к тому… Я как-то говорил тебе, что еще в институте наша с ним дружба начала разваливаться. Я тогда уже заметил, что Жора просто пижон, пустой человек, но в жизни ловкий и расчетливый. Он старался дружить с теми студентами, у которых родители были влиятельные, занимали высокие посты. В то время он и к Инге подлизался. Если хочешь знать, у нас с ним уже мало чего общего, фактически нет дружбы. Просто еще как-то связывает нас память о веселых студенческих годах, когда вместе жили в общежитии, бросались по утрам друг в друга подушками…
— Ладно, какой бы Жора ни был, он все-таки врач, учится в аспирантуре, — нетерпеливо сказала Люся, продолжая расхаживать по комнате. — А кого ты себе выискал? Ведь любой скажет, она тебе не пара, просто смешнее трудно придумать — кандидат наук и парикмахерша!.. Это черт знает что, настоящий мезальянс!..
— Ну ты и сильна, нечего сказать! — покачал головой Дмитрий. — Ты хоть знаешь смысл этого слова? Какой же тут мезальянс? Я что, по-твоему, некий князь, а Катя — дворовая девка? Этак ты и королем меня вообразишь!..
— А брось, много ты понимаешь, мезальянс есть мезальянс, один на все века, — не согласилась Люся. — Времена меняются, а он остается, живет себе вовсю. Вот хоть убей меня, я не вижу разницы между дворовой девкой и твоей парикмахершей. И учти, я не буду сидеть сложа руки, ждать, пока эта… тут командовать начнет. Я всех подниму на ноги, а позора такого ни за что не допущу, я уже написала, так и знай, отцу с матерью…
— Неужели ты в самом деле написала? — еще не совсем веря сестре, встревожился Дмитрий, заранее представляя, какой переполох может вызвать ее письмо у родителей.
— Нет, я шутки шучу… — усмехнулась Люся, вовсе не чувствуя себя виноватой. — Брат родной гибнет, а я должна радоваться?..
— Ах вот оно как!.. Ну, поздравляю тебя, ты далеко пойдешь… — бледнея и дико тараща глаза, выкрикнул Дмитрий. — Что ж, ты стала полноценным Лю-сье-ном!.. — И он тут же поднялся с кресла.
Впервые видя Дмитрия в таком гневе, Люся вмиг поняла, что все ее планы женить его на Инге могут безбожно рухнуть, и она, зная слабость брата, который робел женских слез, обхватила голову руками и грохнулась на диван. «Позор!.. Позор!..» — закричала Люся, вся содрогаясь в плаче. Но Дмитрий даже не посмотрел в ее сторону, он накинул на плечи пиджак и вышел из квартиры.
XIX
Эта привычка осталась у Дмитрия еще со студенческих лет: если у него что-либо не ладилось в жизни, отчего в голову сразу лезли смутные мысли, он отправлялся к метро и вертелся там, на этом бойком пятачке, час-другой, занимая себя мелкими забавами. Он покупал газеты, чистил туфли, ел мороженое, пил газировку и невольно поглядывал на людей, которых поглощало и выплескивало метро. Тут было все не так, как на троллейбусно-автобусных остановках, где люди, сиротливо посматривая по сторонам, нервно переминаются с ноги на ногу, кутают лица от ветра в поднятые воротники и на чем свет стоит бранят неведомых им злодеев, по воле которых так редко ходят автобусы с троллейбусами. У метро людской поток всегда течет ровно и весело, будто река после схлынувшего половодья, когда воды еще много, но она уже вошла в свои берега и устремилась в долгую дорогу. Эта уверенность людей, постоянное их движение как нельзя лучше врачевали Дмитрия, и он, побыв некоторое время у метро, уже иными глазами смотрел на свои житейские тревоги, и таким простым и доступным сразу представлялось ему то, что прежде казалось неразрешимым и трудным.
Так было с Дмитрием и на этот раз. Побродив минут сорок у метро ВДНХ, он опять обрел душевный покой, и ему теперь виделись мелкими и пустячными хитроумные уловки сестры, все ее козни против Кати. Пусть в самые ближайшие дни им придется съездить в деревню и как-то успокоить родителей, которым сестра, видно, черт знает что написала, но в этом Дмитрий не видел никакой беды, напротив, будет даже лучше, если он явится к отцу с матерью раньше с невестой, а не с женой. Веря в благоразумие стариков, которые не станут, конечно, мешать его женитьбе, он в то же время понимал, что им будет приятно, когда сын приедет в отчий дом как бы за родительским благословением.
От метро Дмитрий прошел на Аллею космонавтов, а там свернул к кинотеатру «Космос», поднялся по каменным ступеням к телефону-автомату. Зло на сестру у него постепенно угасало, и ему захотелось ей позвонить, узнать, чем она занята. В конце концов Люся еще глупая и грех был бы на нее долго сердиться. Да и живет сестра не своим умом, во всем слушает Ингу с Жорой, набираясь от них, как она говорит, настоящей культуры. Какое заблуждение!.. А чем, собственно, они могут ее обогатить, если сами дальше кафе и баров дороги не знают, если они в диком восторге от безголосых шансонье и разных бардов?..
Дмитрий бросил в урну недокуренную сигарету и вошел в телефонную будку, стал звонить домой. Сестра, видимо, ждала от кого-то звонка и тут же взяла трубку, бодро сказала:
— Ал-л-е-е!..
— Это я, ты что там поделываешь? — нарочито сурово спросил Дмитрий.
— Плачу, чего ж мне еще остается… — На этот раз в ее голосе уже была убийственная печаль.
— А ты, я смотрю, искусно перевоплощаешься. Может быть, тебе перевестись в театральное?..
— Не-е, не стоит, я сыта твоим представлением. Мне сейчас звонил Жора, я ему все рассказала. Он минут десять боролся со смехом, когда узнал, на ком ты собрался жениться.
— Он после этого от тебя еще не отказывается? — спросил Дмитрий, у которого мелькнула догадка, что Жора, помимо всего прочего, хочет через Люсю породниться с Ингой.
— Опять ты катишь на Жору!.. — недовольно фыркнула сестра.
— Я вот думаю, как бы Жора теперь тебя не разлюбил…
— Одну минуту, кто-то звонит в квартиру, — сказала Люся и положила трубку, а потом весело сообщила: — Это Инга пришла. Ты скоро будешь дома? Она что-то хочет тебя видеть.
Дмитрий понял, что сестра в спешном порядке собирает силы, готовя против него психологическую атаку. За какой-нибудь час она всполошила всю свою «бандочку»: Жора ей, оказывается, уже звонил, Инга явилась собственной персоной. Ну и что ж, это даже к лучшему, он и сам давно хотел поговорить с Ингой, но все не было времени. А сегодня Катя допоздна дежурит, да и вечер пошел как-то кувырком из-за глупенькой сестрицы.
— Позови ее к телефону, — попросил Дмитрий.
Взявшая трубку Инга, видимо, показывая, что она в хорошем настроении, дурашливо протянула:
— Я на про-о-воде…
— Знаешь что, — по-деловому сказал ей Дмитрий, — выходи сейчас на улицу, поверни направо и шагай, пока не упрешься в ресторан. Там я буду тебя ждать.
— О-о, это для меня столь неожиданно, к тому же я в скромном наряде… — как-то неопределенно ответила Инга, которой (Дмитрий слышал) что-то шептала сестра. — Но я не смею отказываться, так оригинально меня еще никто не приглашал в кабак.
Минут через двадцать Дмитрий, щурясь от низкого солнца, которое на исходе дня освещало все окна и стеклянные двери ресторана, стоял у его входа и поглядывал в ту сторону, откуда должна появиться Инга. В этот теплый летний вечер мало находилось охотников забиваться в душный прокуренный зал, а потому и возле ресторана и на самой улице было тихо и безлюдно. Лишь из огромного дома со множеством подъездов, который все называли «Шанхаем», изредка кто-нибудь выходил, направляясь к троллейбусной остановке. Вскоре из-за угла «Шанхая» вынырнула Инга в дымчато-синем джинсовом платье, из-под воротника которого выглядывала белая водолазка. На груди у нее висел на цепочке старинный кулон, в котором огнем горел бриллиант.
— А места свободные есть? — спросила Инга и, протягивая ему согнутую в запястье руку, подняла ее так высоко, что хочешь не хочешь, а поцелуешь.
— Я туда еще не заглядывал, но думаю, должны быть в такую жару, — сказал Дмитрий, пропуская ее вперед.
Они миновали швейцара, скучавшего у голых вешалок, поднялись на второй этаж, вошли в зал, где и в самом деле народу было мало и добрая половина мест пустовала. Окинув взглядом просторный зал, Инга капризно передернула плечами, видно, недовольная скромным его убранством, и выбрала стол у самого простенка, куда не доставало бившее в окна солнце.
— Поколдуй, пожалуйста, — пододвигая ей меню, сказал Дмитрий.
— Я и так знаю, что тут ничего не может быть приличного, — нехотя раскрывая меню, поморщилась Инга.
— Надо полагать, ты нацелилась на устрицы?..
— Признаюсь, не отказалась бы… А что мы будем хлестать? Как это говорят мужики: в такую жару пить водку стаканами — с большим удовольствием!..
— Хорошо, пусть будет водка… хотя я и коньяк не бракую.
— Нынешний коньяк тебе не по карману, — сказала Инга и, прикуривая, стрельнула крохотным пистолетом-зажигалкой. — Впрочем, может быть, я ошибаюсь. В последнее время о твоей персоне в нашем институте ведут любопытные речи…
— Что же там обо мне говорят, интересно? — насторожился Дмитрий.
— Не пугайся, речи о тебе ведут похвальные… Волшебник скальпеля, будущий светило хирургии, человек с электронными руками… И все в таком духе. А еще говорят, будто ты какого-то тракториста с того света вернул. Это в академии идет такой слух, папа сказал. Насчет тракториста толковал еще и Жора… А что там в самом деле с этим несчастным?..
— Ничего особенного. Просто никто не брался его оперировать, ну а я рискнул, и риск оказался удачным. Мой подопечный уже поднялся на ноги, бегает по парку, как молодой олень. Недели через две хочу его выписывать. Парень весь исстрадался по матери, по дому, по своему «Кировцу»…
Официантка принесла им холодную закуску, водку, три бутылки «Боржоми». И спросила, чем заменить лангет, который уже кончился.
— Я так и знала, у вас чего-нибудь не хватит, — фыркнула недовольно Инга.
— Вы можете заказать другое блюдо, выбор у нас большой. Есть горячая осетрина, котлета по-киевски, цыплята-табака, бифштекс натуральный… — перечисляла официантка.
— Давай возьмем рыбу, — предложил Дмитрий. — В ней все-таки фосфор.
— Ладно, пускай будет рыба, — согласилась Инга.
Наполнив рюмки и налив в фужеры минеральной воды, Дмитрий уже хотел было предложить тост, но тут Инга вдруг спросила:
— А Жора говорит, что ты будто бы рисковал вслепую. К тебе всего лишь пришла случайная удача. Это правда?..
— Скажи, какой риск бывает зрячим? Хотя я делал это по убеждению, не сомневался в удаче, но я не мог ее гарантировать… Бывает так, что человек обречен, и он знает это, падает духом, не верит уже ни богу, ни черту и ждет покорно смерти. Конечно, такой при подобной операции едва ли выживет. Хотя я и в этом случае, пожалуй, стоял бы за операцию, если без нее человеку осталось жить не больше месяца. С Чижовым было несколько иначе, он, напротив, верил в операцию больше, чем в бога, но, зная характер его болезни, хирурги не шли на риск, что стало известно, к несчастью, ему. Это разом парализовало волю Чижова, отняло у него последние силы. А когда я твердо сказал, что буду его оперировать, он заплакал и все пытался поцеловать мне руки. Именно в эту минуту я и поверил: он будет жить.
— Вот ты какой, оказывается!.. — удивилась Инга и подняла рюмку. — Давай выпьем за Чижова, который не подвел твою интуицию. Пусть ему сейчас легко икнется…
— За этого парня с удовольствием, — сказал Дмитрий и одним залпом выпил рюмку.
Потом они пили без тостов, часто курили, вели речи о разном, перескакивая с одного на другое, что присуще захмелевшим людям, и были, казалось, веселые и беззаботные, пока Инга неожиданно не оборвала на середине свой рассказ о поездке в Англию и, нервно облизывая крашеные губы, не спросила:
— А ты, говорят, невесту новую завел?.. Это что, правда?..
Дмитрий, щадя самолюбие Инги, молчал, не хотелось ему говорить ей открыто, что это правда. Но Ингу, в глазах которой уже метались шальные огоньки от выпитой водки, не устраивало его безмолвие, и она насмешливо-язвительно воскликнула:
— Какое непостоянство!.. Отчего же меня разлюбил?.. Неужто я женщина плоха?.. Али за одну ночь не разобрал?..
— Инга, к чему нам играть в жмурки?.. — сказал Дмитрий и закурил новую сигарету. — Ты серьезный человек, а говоришь…
— У серьезных людей, к твоему сведению, тоже дети родятся, — печально вздохнула Инга.
— Выходит, ты и в самом деле?.. — озабоченно спросил Дмитрий, начиная уже верить, что она действительно ждет ребенка.
Инга долго и испытующе глядела ему прямо в глаза.
— А как ты думаешь?.. — наконец сказала она.
— Право, я не знаю… Впервые услышал это от Жоры, но не очень ему поверил… А если такое дело, я от ребенка не отказываюсь…
— Но жениться на тебе не собираюсь, — перебила его Инга. — Это ты хочешь сказать?.. Что ж, вполне благородно… По-твоему, я, дочь членкора, должна стать матерью-одиночкой, как какая-нибудь простая фабричная девчонка, бедная и несчастная… Нет, Дмитрий Тимофеевич, пускай в подоле приносит твоя девица из парикмахерской, ей это больше подходит.
— Откуда тебе знать, что ей подходит, а что нет!.. — побледнел оскорбленный за Катю Дмитрий.
— А все они, девицы такого рода, шлюхи известные! — нарочито громко и с вызовом сказала Инга.
Подошедшая к ним официантка заметила, что у них назревает скандал, молча поставила на стол горячую осетрину и тут же хотела уйти, но Дмитрий ее задержал. У него теперь пропало всякое желание сидеть в этом душном зале да еще слушать, как Инга унижает Катю, и он попросил официантку немедленно принести счет.
— Что ты вдруг заторопился?.. — встревожилась Инга, которая любила сидеть в ресторанах до самого закрытия. — Не бойся, я не ударюсь в слезы, не стану тебя упрекать… Это не в моем характере, плакать я не приучена… А ты еще не раз пожалеешь, что так поступил со мной… Да, да, попомни мое слово!.. Пока счастье впереди тебя всегда бежало, а теперь будет наоборот…
— Это ты на картах нагадала?.. — с беспечностью подвыпившего человека спросил Дмитрий и глянул на часы. Скоро Катя, подумалось ему, должна возвращаться с дежурства, и он пойдет ее встречать.
Инга молча взяла графин с водкой и сама стала наполнять рюмки. Рука у нее сильно дрожала, и водка проливалась на скатерть. Видя, что Инга совсем опьянела, Дмитрий пытался уговорить ее больше не пить; но она не послушалась, напротив, принудила и его осушить рюмку на посошок. Эта последняя рюмка будто стронула что-то в организме Дмитрия, и он почувствовал, что ноги перестали слушаться и какая-то сила бросала его из стороны в сторону. Дмитрий это заметил, когда они шли с Ингой по вестибюлю и он то появлялся в большом зеркале, которое было вделано в стену, то куда-то пропадал.
Выбравшись из ресторана, они направились к стоянке такси и еще долго там топтались, обнимая друг друга. Потом Инга, которая еле держалась на ногах, положила ему руки на плечи и с вкрадчивой ласковостью сказала заплетающимся языком:
— Дима, милый, я ведь… нарочно придумала с ребенком… чтобы ты меня пожалел… ну, как бабу… Знаешь что, давай забудем… наш дурацкий разговор… и поедем прямо ко мне. Выпьем опять виски… и все будет о’кэй!.. Я постараюсь в эту ночь… тебе понравиться…
— Нет, Инга, не надо, это пустое… — бормотал Дмитрий и гладил ее жесткие черные волосы. — Ты пойми, это не надо… Нет, я пойду сейчас… к Кате, я ее очень… понимаешь, очень люблю…
Инга разом сникла и вроде протрезвела, убрала руки с плеч Дмитрия и отшатнулась назад, но потом опять к нему приблизилась, безумно сверкнула глазами и ударила его по лицу, оглушая тишину улицы звоном пощечины и бешеным выкриком: «Вот тебе!.. Вот!..» И в ту же минуту она резко метнулась в сторону, побежала вдоль мостовой, по-пьяному высоко вскидывая ноги, навстречу шедшему к центру такси.
XX
Он никак не мог понять, что это такое. Стоя за тополем, который рос на краю тротуара, Дмитрий уже минут десять не спускал глаз с палисадника, где белело нечто неизвестное. Он хорошо знал этот палисадник, не раз сидел в нем с Катей, а вот никогда там не видел ничего подобного. Если допустить, что Катя повесила в палисаднике сушить свою белую кофточку и забыла ее снять, то почему тогда она, неодушевленная, передвигается?.. Ведь Дмитрий хотя и был еще немного пьян, но точно помнил, сперва это белое находилось слева от березы со скворечником, потом перешло направо, а теперь опять сдвинулось на старое место. Думая, что ему, может быть, померещилось, он встряхнул головой, но белое все равно не исчезло, а лишь переместилось немного вперед и маячило меж кустов крыжовника.
И тут у Дмитрия мелькнула догадка, от которой сбилось дыхание и стало жарко в груди: отчего это в окнах Кати не было света. Выходит, она придумала, что сегодня дежурит с дружинниками, а сама пошла на свидание. И сейчас вот вернулась и разгуливает с провожатым по палисаднику в своей белой кофточке. Подгоняемый ярой ревностью, Дмитрий тут же встал на четвереньки и, быстро перебирая ногами и руками, побежал к палисаднику. За какие-то секунды он достиг его ограды, вскочил на ноги, ухватившись руками за доски, ловко подтянулся и перевалился в палисадник.
— Кто это?.. Что вам тут надо?.. — раздался вдруг рядом хрипловатый голос Ивана Ивановича.
Дмитрий весело засмеялся, радуясь, что догадка его оказалась неверной, и, продираясь сквозь кусты крыжовника, пошел навстречу Ивану Ивановичу, пронзительно белая голова которого так напугала его в темноте.
— Тимофеич, боже мой!.. — удивленно воскликнул Иван Иванович. — Это что вы тут акробатикой занимаетесь?.. А я подумал, вор какой ломится.
— Да я вот… извините, пожалуйста… — неловко ворочая языком и даже слегка заикаясь, проговорил Дмитрий. — Вы простите, я это самое… маленько выпил…
Скрывая усмешку, Иван Иванович поглядел в сторону трамвайной остановки, откуда должна была появиться Катя, сказал добродушно:
— А, пустяки, пустяки… Что за беда, если выпили, с кем такое не бывает… Но вот зачем вам было прыгать в палисадник — это для меня загадка.
Дмитрий виновато потоптался на месте и опять засмеялся. Ему вспомнилось, как он бежал на четвереньках, как вмиг перемахнул ограду, как собирался схватить за горло воображаемого соперника. Сейчас даже не верилось, что это все было с ним. Откуда вдруг взялась у него дурацкая ревность? Раньше-то не водилось за ним подобных грехов. И Дмитрий, опасаясь, что в его поступке Иван Иванович увидит гораздо худшее, чем было на самом деле, решил во всем ему признаться.
— Ну, такого стыдиться не надо, — выслушав его, заключил Иван Иванович. — Вот многие толкуют, мол, пережиток, дикость… А я так понимаю, что нуль цена всей этой философии. Ее проповедуют те, которые сами никогда не любили. Я по себе знаю, ведь одному богу ведомо, как ревновал я свою Елену!.. А все потому, что сильно любил. Вот и вы, видать, любите Катюшу…
— Мы завтра в загс пойдем, если согласится… — сказал Дмитрий, отряхивая пиджак.
Иван Иванович поскреб свою белую бороду, помолчал. Стало быть, то, чего он ждал и боялся, уже подкатило, и никуда от этого не денешься. Ну что ж, по сути дела все течет верно, так должно и быть, жизнь не стоит на месте и вспять не ходит, у нее всегда одна дорога — вперед. И молодость шагает с ней в ногу. Как ни горько ему будет без Кати, а поделать ничего нельзя. Да и не хочет он иного, что стоит его одиночество против счастья Кати?..
— Я рад за вас, дай бег вам светлой и высокой жизни, — сказал Иван Иванович дрогнувшим голосом. — Вы только, Тимофеич, берегите. Катюшу, она мне, знайте, родней родной. Катюша меня, можно сказать, с того света вернула. Ведь я не жилец уже был, когда погиб Алексей, не хотелось моим глазам на белый свет глядеть, на этот неправедный мир. Если моего сына; коммуниста, такого молодого, думал я, убили, то что мне, старому человеку, жить на этой земле?.. Да, сколько кровушки пролил русский человек в революцию, в гражданскую, в Отечественную, а этого, оказывается, все мало. В будущем опять ему, выходит, полнить реки новой кровью…
— Что поделаешь, Иван Иванович. Видно, уж судьба такая… — заметил Дмитрий.
— Вот именно, вы абсолютно правы, — согласился Иван Иванович и опять глянул в сторону трамвайной остановки. — Потом-то я это уразумел, а тогда, в горе, был ровно помешанный, мне лишь одного хотелось — поскорее умереть, чтобы не видеть такой подлый мир. Приезжали ко мне с завода старые друзья, успокаивали, отвлекали от тяжких дум, подарки от месткома привозили, а мне все было немило. Честно признаюсь, люди меня раздражали, я никого не хотел видеть, будто стал мизантропом. А вот Катюша пересилила меня, ее доброта победила мое нежелание жить. Знаете, я в то время спать не мог, а впадал в какое-то забытье. Не раздеваясь, лягу на диван, глаза прикрою и вроде дремлю, а сам все чую. И вот, бывало, слышу, Катюша, сняв тапочки, подошла к моей двери, прижалась к ней и замерла, не дышит, выслушивая, жив ли я. Постоит, постоит так и тихо уйдет к себе. А через час-полтора, чувствую, она опять у моей двери. И так каждую ночь. В первые недели мне все было безразлично, а потом жалко стало ее, простудится, думаю, стоя-то на холодном полу босиком. И чтоб она долго не терзалась за дверью, я всякий раз начал подавать признаки жизни: повернусь и диваном скрипну, или шумно вздохну, или слегка кашляну. Катюша, убедившись, что я живой, теперь тут же уходила в свою комнату. А утром принесет мне в постель чаю, яичко там всмятку. Не то вдруг где-то огурцы свежие раздобудет, мандарины. «Съешьте хоть дольку, — ласково скажет. — Пожалейте меня, я больше часа за ними в очереди на морозе стояла».
Так вот помаленьку и отогрела она мою закоченевшую было душу, вернула меня к жизни. Вы можете себе представить, она полгода ни в кино, ни к подругам не ходила, закончит работу и скорее домой бежит. И все хлопочет, хлопочет возле меня. Разве после этого она мне чужая?.. Да родней Катюши у меня и нет никого! — воскликнул вдруг Иван Иванович, сверкая в темноте светлыми глазами.
В это время в ночи загремел трамвай. Его гул все нарастал и приближался, а потом словно захлебнулся и резко пошел на спад, угас до шума и начисто стих. И вскоре Иван Иванович, узнав по белой кофточке сошедшую с трамвая Катю, засуетился, взял Дмитрия под руку и повел.
— Нескладно у нас получается, — входя с Дмитрием в дом, говорил он. — Катюша придет с дежурства, а мы, два мужика, даже чаю ей не согрели… Вы пока тут присаживайтесь, а я живо все сварганю…
Дмитрий плюхнулся в старое уютное кресло, что стояло в прихожей подле столика с телефоном, и достал сигарету, собираясь закурить. Но спичек в кармане не нашел. Тогда он положил ее за ухо и принялся звонить домой.
— Люсьен! — сказал он сестре. — Ты больше не Людмилка, ты Люсьен!
— Дима, ты, видимо, выпил? Что с тобой, ты где? — сердито и тревожно спросила Люся.
— Я в стольном граде!.. А где ж еще мне быть?..
— Слушай, хватит тебе дурака валять, иди скорее домой, а то тебя заберет милиция…
— Черта с два, я сам ее заберу…
— Ну что ты болтаешь?.. Иди сейчас же домой!.. Слышишь!..
— Пока не собираюсь… А ты можешь выходить замуж за своего Жору… Я продаю машину и строю себе кооператив… — сказал Дмитрий и, услышав в коридоре знакомый стук каблуков, тут же положил трубку, поднялся с кресла и одернул пиджак.
Сияющая от радости, что после долгого перерыва сегодня опять заметила в палисаднике белую голову Ивана Ивановича, Катя вбежала в квартиру и, увидев Дмитрия, удивленно воскликнула:
— Ой, и ты здесь!.. А что так поздно?..
— Я вот пришел узнать… когда же мы пойдем в загс… — глуповато-весело улыбался Дмитрий, пытаясь ее обнять.
Катя выскользнула из его рук и, лукаво погрозив пальцем, показала глазами на кухню, где позванивал посудой Иван Иванович, с недоумением спросила:
— Это к чему ж такая спешка?
— А я больше не могу без тебя… — признался Дмитрий и снова хотел обнять Катю, но она успела отскочить. — Я вот всю ночь буду тут сидеть, — показал он на кресло, — а утром мы пойдем…
— Постой, постой, ты сегодня какой-то странный!.. Смотри, сигарета торчит за ухом, водкой от тебя пахнет… Отчего ты такой?.. Что случилось?..
— Ты прости, пожалуйста. — Дмитрий виновато опустил глаза, покаялся. — Верно, я немного выпил… глупо все вышло, да, впрочем… — И вдруг, словно бы обидевшись, резко вскинул голову, мрачно спросил: — А ты отказываешься от меня?.. Ну что же, давно бы так… откровенно… честно…
Глядя на Дмитрия влюбленными глазами и не понимая, чем вызван его поздний приход, этот неожиданный разговор, Катя сказала с тревожной мольбой в голосе:
— Ты ради бога успокойся, что ты налетел, как ураган?.. Ты пойми и меня, я не могу так… У тебя какой-то взвинченный вид, ты ровно назло кому делаешь… Прибежал… будто наперекор кому, а если б не так, то… Но ты и в мое положение войди, у меня гордость есть… Ты сейчас как в горячке, а потом, может, сам жалеть будешь… Нет, нет, так нельзя, ты обо мне подумай, о самолюбии моем… Я люблю тебя не знаю как, это я теперь говорю и всегда скажу, но ты остынь, не горячись и себя не роняй…
— Я все равно не уйду, — стоял на своем Дмитрий. — Вот сяду тут, и все… У вас так хорошо, как у нас бывало дома, в деревне… Вот мы с тобой, знаешь, в субботу поедем к моим старикам. Мы должны их навестить и все им сказать, правда?.. Ты увидишь, какие они добрые, ты им понравишься… А сегодня я остаюсь здесь, ты меня, пожалуйста, не гони… — И Дмитрий опять сел в кресло, сиротливо забился в самый угол, подложил ладони под голову и, закрыв глаза, сделал вид, что спит.
Катя постояла с минуту и присела на корточки, приговаривая, какой Дмитрий несчастный и бездомный, как он, бедняга, умаялся за день, стала щекотать ему подбородок, гладить пальцем по кончику носа. Дмитрий, притворяясь спящим, упорно не открывал глаза, дышал по-сонному ровно, спокойно и даже чуть похрапывал. Катя уж подумала, а не заснул ли он и на самом деле, как Дмитрий вдруг обхватил ее за талию, оторвал от пола и, с силой прижимая к себе, закружил по прихожей, смеясь и выкрикивая: «Ну, пойдешь за меня замуж?.. Говори, говори, пойдешь?..»
XXI
Новый день начинался у них с нытья Лукерьи о письме, которое муж собирался писать сыну с дочкой, но, ссылаясь на срочность дел на пчельнике, все откладывал назавтра. Тимофей Поликарпович нынешнее лето пуще прежнего пекся о пчелах, прямо голову терял из-за них, они ему даже ночью грезились. Он часто во сне бормотал что-то о пчелах, ругал председателя, который не хотел вывозить ульи на дальнее поле, где много лощин и трава не так высохла. У Лукерьи все время щемило сердце, что муж, помешанный на пчелах, забыл совсем про детей, и она, с минуту назад проснувшись, убеждала себя, что сегодня не отстанет от него, пока тот не напишет письмо. Коль будет в том нужда, она и всплакнет маленько, но от своего все равно не отступится, пусть он так и знает.
Уверовав в это, Лукерья свесила с кровати ноги, отыскала тапочки и посмотрела на диван, на котором спал муж. Тимофей Поликарпович, оказывается, вовсю еще похрапывал, и его пластавшаяся по груди борода пошевеливалась, будто обтекал ее слабый утренний ветерок. Лукерья прошлепала в переднюю, умыла лицо из рукомойника и, надев старую юбку с кофтой, стала хлопотать у газовой плитки, которую весной им поставили.
Скоро по окнам запрыгали рыжие лучи нового солнца, и Тимофей Поликарпович сразу проснулся, громко и длинно зевнул, заскрипел пружинами дивана. И тут Лукерья уловила ухом тихий шум машины, и ее сердце, что-то угадывая, предчувствуя, резко и сладко ворохнулось, а ноги вдруг ослабели. Волнуясь, Лукерья прильнула к окну и увидела белую машину, которая уже съехала с большака и медленно катилась к воротам дома.
— Тимоша, Тимоша!.. — закричала враз осевшим голосом Лукерья. — Кажись, Дмитрий с Люськой приехали!.. — И, не ожидая его, первая метнулась в сени.
Когда Лукерья сбежала с крыльца, Дмитрий уже въехал во двор и вышел из машины. Она было кинулась к сыну, но на полпути остановилась и оторопело затопталась на месте, видя, что из машины вылезла не дочка, а незнакомая девушка в синих брюках и желтой блузке, высокая и тонкая, с длинными волнистыми волосами. Дмитрий, в радости не приметивший растерянности матери, порывисто шагнул навстречу и обнял ее, несколько раз поцеловал. Тут же перед ним возник и Тимофей Поликарпович, успевший натянуть на себя выгоревшие штаны и парусиновую куртку, и тоже расцеловался с сыном и, узрев Катю, тотчас смутился, вопросительно уставился на него, не зная, как быть дальше и что говорить. Как бы исправляя свою оплошность, Дмитрий взял за руку стоявшую чуть в сторонке Катю, подвел к родителям и сказал:
— Это Катя, моя невеста…
Близоруко щурясь и часто моргая глазами, Лукерья теперь в открытую разглядывала девушку, дивясь ее красоте и молодости, и со страхом подумала, что эта, видать, та самая, про которую писала в письме дочка. У Лукерьи вдруг заколотилось в тревоге сердце, все спуталось в голове, и она, боясь сказать что-нибудь невпопад, будто не слыша сына, спросила про дочь:
— Что ж Люська-то не приехала?..
— Ее в совхоз на уборку услали от института, — коротко пояснил Дмитрий.
Тимофей Поликарпович, которому Катя приглянулась открытостью лица, обмял ладонями взъерошенную после сна бороду, похожую на сплющенного ежа, и, низко кланяясь, сказал приветливо:
— Милости просим, дочка… Будьте как дома, мы люди простые, без премудростев…
— Да, у нас попросту все, — закивала Лукерья, поддакивая мужу и пряча под кофту крупные руки с темными выпирающими венами, раздавленные тяжкой работой. — Чем богаты, тем и рады… Ну, пожалуйте в дом, знать, уморились с дороги.
Едва Дмитрий вошел в дом, как его объяли милый уют и покой, знакомые с детства запахи. Все ему тут было дорого: и белая русская печь, что стойко хранила тепло в самую жуткую стужу, и бревенчатое стены, оклеенные серыми обоями, и семейные фотографии, висевшие в застекленных рамках в переднем углу. И казалось сейчас Дмитрию, что никуда он не уезжал отсюда, а так и жил все время в родительском доме, каждый день садился за этот выскобленный до солнечной желтизны стол, слушал ровный и твердый отцовский бас, неуверенный, будто спотыкавшийся говор матери. И так хорошо ему было, так радостно!..
— Ну как вам нравится, княжна, мое родовое имение? — шутливо спросил Дмитрий, показывая Кате светлую, чисто прибранную горницу.
— О любезный князь, оно великолепно! — в таком же игривом тоне отвечала ему Катя.
Тимофей Поликарпович, больше гордившийся не столько домом, сколько местом, где он стоял, кивая на окно, из которого хорошо была видна блестевшая рядом речка, похвастался:
— Да, красота у нас тут настоящая!.. Одна речка чего стоит… и рыба в ней живет, и раки, и выдры водятся…
Лукерья, в душе которой недавно жила тревога, была теперь веселее, радость встречи с сыном на время заглушила в ней другие чувства, и она, блестя счастливыми глазами, бегала в огород за свежими огурцами, зеленым луком, спускалась в погреб за солеными грибами, мочеными ягодами, поджаривала на плитке яичницу с салом. Тимофей Поликарпович тем временем переоделся и вышел к столу в новых серых брюках, в белой рубашке-косоворотке, причесав длинные и торчавшие во все стороны волосы. Вслед за ним спохватилась и Лукерья, конфузясь за свою старую юбку и линялую кофту, она шмыгнула в горницу и оттуда уже вышла, обрядившись в светлое цветастое платье.
И оба они вроде стали моложе, но это был всего-навсего обман, так могло показаться лишь человеку чужому, а Дмитрий-то видел, как за год еще больше сгорбилась мать, как заметно побелела борода у отца, и он чувствовал и свою вину в рано пришедшей к ним старости, корил себя, что редко писал письма, не каждое лето приезжал в отчий дом. Ему хотелось сейчас же за все покаяться перед отцом с матерью, но сердце чуяло, что это не поможет, ничего не изменит и не поправит. Всякий раз, оказываясь в родных стенах, он клялся себе, что впредь исправится, поступит иначе, но уезжал отсюда, и все повторялось сызнова: в делах больших и малых, в суматошной суете будней забывалось о родителях.
— Зачем ты, мама, столько наставила? — сказал Дмитрий, садясь за стол и с виноватой нежностью заглядывая в ее глубокие глаза. — Такую уйму целой бригаде не одолеть.
— А может, что понравится, а что не понравится, — по-своему рассудила Лукерья. — Вот пускай у вас выбор будет…
— Оно, конечно, была нужда скупиться, — встрял в разговор Тимофей Поликарпович. — У нас все свое, непокупное… Это вы там в городе за каждый чих копейку платите, а нет копейки, стой да облизывайся. — Тут он зыркнул глазом по столу и замер в недоумении, видно, чего-то там не нашел, и, покряхтывая, посмотрел на Лукерью долгим взглядом, но та не заметила этого, и тогда Тимофей Поликарпович спросил: — Ты, кажись, главное блюдо забыла?..
Лукерья достала из шкафчика бутылку, где было граммов двести рябиновой настойки, пристраивая ее на середину стола, проворчала на себя:
— Ишь голова еловая, запамятовала… Худая стала память у меня, сынок, ничего не держит. Иной раз, стыдно признаться, имя твое забываю, вот как. Вертится на языке, хочу вспомнить, а не могу…
Взяв бутылку, Тимофей Поликарпович, не мешкая ни минуты, стал разливать настойку по рюмкам и, видя, что Дмитрий прикрывает свою ладонью, неожиданно удивился:
— Ты что же, сынок?.. Тут и будет-то по лампадочке…
— Нельзя мне, батя, — развел руками Дмитрий. — Сегодня ночью нам в обратную дорогу…
У Лукерьи тотчас скорбно сморщились губы, повлажнели грустные глаза. Сжимая руками побледневшие щеки и часто шмыгая носом, она сказала, еле сдерживая слезы:
— Господи, всего-то на один денечек!.. Мы и наглядеться не успеем…
— Ничего, мама, у меня еще отпуск впереди, — успокаивал ее Дмитрий. — В сентябре на целый месяц приедем. Всю рыбу в нашей речке переловим, грибы собирать будем… Катя знаете какой грибник шустрый!..
— Это ты всегда так говоришь: приеду, приеду… А потом возьмешь и обманешь…
— Ты прекрати такие разговоры, Лукерья! — одернул ее Тимофей Поликарпович, подкладывая в тарелку Кати свежие огурцы со сметаной. — Перестань Дмитрия перед невестой позорить. Какой он у нас обманщик?.. У него работа такая, что не всегда ее можно бросить и к тебе на блины заявиться.
— Да я что, я все понимаю, конечно… — стала оправдываться Лукерья. — Я ведь не его виню, а жизнь нонешнюю… Завели моду детей от родителей отлучать. Разве дело это, что он с Люськой где-то, а мы, старики, тут одни трепыхаемся…
Тимофей Поликарпович выпил рюмку и насмешливо покачал головой, незло проговорил, прищуривая лукаво-веселые глаза:
— Ну, пошло-поехало!.. Теперь ее не остановишь… Да пустые твои речи, Лукерьюшка! — Он положил руку на ее плечо, добавил: — Ты зазря слезы не лей, все одно жизнь назад не поворотишь. Твое дело порядок за столом блюсти. Вот почему у тебя Катюша ничего не ест, дозволь спросить?..
Катя, сидя за столом, постоянно смущалась, поскольку знала, что как бы там ни было, но все-таки Дмитрий привез ее к родителям на смотрины. А после слов Тимофея Поликарповича она и вовсе вспыхнула краской, торопливо сказала:
— Что вы!.. Что вы!.. Пожалуйста, не беспокойтесь, я уже наелась…
Лукерья, пропустив мимо ушей слова мужа, думала сейчас о своем. В ее голове все сидело гвоздем письмо дочери, вернее, то нехорошее, что было в нем сказано про Катю. И Лукерья, выпив рюмку настойки, ни капли не захмелела, напротив, она еще яснее ощутила тревогу и чаще украдкой поглядывала на Катю, пытаясь найти в ней то порочное, что заметила Люська. Если говорить по-честному, то на лицо Катя ей нравилась, больше того, Лукерья, может быть, и не встречала девушки красивее этой. Перед тем как сесть за стол, Катя тоже переоделась и была теперь в голубом платье, высокий воротник которого аккуратно опоясывал ее тонкую шею. В этом нарядном платье она была прямо как картинка, казалась нежным полевым цветочком, что выглядывал из голубой вазы. Но как раз это-то больше всего и пугало Лукерью, она считала, что такие вот писаные красавицы чаще и бывают непостоянные, сводят с ума мужиков, помыкают ими на свой лад. Вот и будет их Дмитрий несчастным, станет крутиться возле нее, как сторож вокруг колхозных амбаров. Этакую кралю будет боязно, как говорят, и по малой нужде одну отпустить.
Дмитрий давно заметил, что мать была не такая веселая, какой всякий раз делалась, когда он приезжал. Иногда она порывалась что-то сказать, но вовремя себя останавливала, и только глаза ее вопрошали, настораживали, словно готовили его к чему-то неприятному. «Видно, все дело в Кате, — подумал Дмитрий. — Обычная ревность матери к другой женщине, которая посягает на право любить ее сына. Да еще Людмилка своим письмом, знать, внесла смуту в ее душу». И не осуждая, а скорее жалея мать, он заботливо спросил:
— Мама, а как ты себя чувствуешь в такую жару?
— Да вот все колет где-то возле ключицы, а то с обратной стороны под ребро стрельнет, — пожаловалась Лукерья, обрадованная вниманием сына. — Стану рассказывать бабам, а те толкуют, тебе, мол, стыдно болеть, когда сын ученый доктор…
— Это нервишки у тебя пошаливают, ничего серьезного, — успокоил ее Дмитрий. — Ты валерьянку почаще пей, заварку шиповника…
— А что, Люська нынче к нам не собирается? — вспомнив вдруг про дочь, спросил Тимофей Поликарпович, разминая в пальцах московскую сигарету, привезенную сыном.
Дмитрий был уверен, что сестра, которую совсем не тянуло в деревню, вряд ли к ним летом приедет, но не стал раньше срока огорчать отца с матерью. Не умевший врать, он в то же время понимал, что правда в этом случае лишь заронит смуту в души родителей, лишит их надежды, а потому ответил неопределенно:
— Трудно сказать заранее… Может, после уборки и вырвется на недельку.
— Будем ждать, наше дело такое… — печально вздохнул Тимофей Поликарпович.
В это время со двора донеслось требовательное повизгиванье поросенка, и Лукерья сразу вылезла из-за стола, повязывая поверх платья фартук, досадливо воскликнула:
— Боже ты мой, Никишка орет голодный!..
Она в какие-нибудь две минуты натолкла в ведре вареной картошки, бросила туда несколько кусков хлеба, горстку муки. Все это разбавила теплой водой, хорошенько размешала и понесла поросенку. Вслед за ней вышли во двор и остальные. Тимофей Поликарпович сразу там прирос к машине, стал ходить вокруг нее, ощупывать фары, колеса… Любившая всяких животных Катя прошла с Дмитрием в хлев посмотреть поросенка. В дальнем углу хлева за плотной низкой загородкой Никишка уже вовсю лопал принесенную ему мешанку, громко чавкая и хлопая большими ушами.
— Какой он смешной! — удивилась Катя, рассматривая лопоухого Никишку. — Пестренький, уши огромные…
— Ты погладь его, — посоветовал Дмитрий, когда поросенок съел мешанку. — Не бойся, почеши ему спину…
Катя осторожно стала скрести ногтями Никишке за лопатками, а тот неожиданно бухнулся на бок, прикрыл глаза белесыми ресницами и затих.
— Ой, почему он упал?.. — испугалась Катя и отскочила от загородки.
— Так ты его, наверное, угробила!.. — с серьезно-печальным видом проговорил Дмитрий. — Видно, нерв центральный порушила. Ногти у тебя длинные, острые… — Он перегнулся через загородку, начал водить кулаком Никишке по брюху, дергать его за соски. Поросенок чуть хрюкнул и вытянул ноги, будто подыхал. — Видишь, стонет от боли… — сказал Дмитрий, глядя на растерянную Катю, и не выдержал — расхохотался на весь хлев.
Тут Катя и сама рассмеялась. Она опять подошла к загородке и стала уже смело чесать поросенка, забавно с ним разговаривая: «Никишка пестренький… Никишка глупенький… Ты зачем напугал меня, дурашка?..»
Лукерья, монотонно повторяя «цып, цып, цып…», уже скликала кур к широкому плоскому корыту, куда насыпала немного зерна. Разомлевшие от жары куры, которые забились в густую крапиву за амбаром, в сирень, росшую под окном, моментально сбежались на зов. Белые, черные, огненно-рыжие, они жадно клевали зерно, отталкивая друг друга.
— А почему он не клюет?.. — спросила Катя про голенастого белого петуха, стоявшего поодаль от остальных кур и не подходившего к корыту с кормом.
— Да его петух рыжий забижает, — пояснила Лукерья, вытирая руки о фартук. — Белячка мы прошлой осенью оставили, хотим заменить старого молодым. Боимся, от рыжего потомства уже не будет. А он, отпетая голова, молодого и близко к курам не подпускает, гонит прочь всю дорогу. Во разбойник какой!.. Этот-то, беленький, и на нашесте один сидит. Старого под нож надо бы, да все жалеем…
— Рыжий молодец, крепко свой гарем охраняет, — усмехнулся в бороду подошедший Тимофей Поликарпович.
— Уж такой отчаянный, такой отчаянный!.. — не то осуждая рыжего, не то восхищаясь им, приговаривала Лукерья. — Его все соседские петухи боятся, на дух к нашему двору не подходят. Хороший охранник курам. А каким молодой будет, еще трудно сказать. Вот и жалко нам рыжего, хоть и старый…
Покормив кур, Лукерья стала собираться в сельмаг за хлебом. Тимофей Поликарпович тем часом думал заглянуть на пчельник и сказать Егорке, что по случаю приезда сына побудет сегодня дома. Дмитрию с Катей он советовал немного отдохнуть перед обратной дорогой.
— Нет, так дело не пойдет, — сказал Дмитрий. — Выспаться мы еще успеем, а сейчас садитесь все в машину и поедем на пасеку, в магазин…
Тимофей Поликарпович, которому не терпелось похвастать перед сельчанами, что к нему из Москвы приехал сын на собственной машине, больше всех обрадовался этому и первый залез в «Жигули». Вслед за ним охотно втиснулась на заднее сиденье и Лукерья. Катя села рядом с Дмитрием.
Едва они выехали со двора и свернули на пыльный большак, что тянулся вдоль деревни, деля ее на две части, как у Лукерьи покатились из глаз слезы. Заметив, что она плачет, Катя заволновалась, вопросительно скосила глаза в сторону Дмитрия, но тот, занятый переключением скоростей, ничего этого не видел. Раньше него слезы Лукерьи узрел Тимофей Поликарпович и, трогая жену за плечо, глухо сказал:
— Ты перестань тут лужи разводить…
Тогда и Дмитрий обернулся, спросил тревожно:
— Мама, ты что это плачешь?..
— А так я, сынок… сразу от радости и от горя, — ответила Лукерья, всхлипывая и вытирая мокрые щеки ладонями. — Разве я думала до такого дня дожить, чтобы сынок родной на своей машине меня возил… Сама расписаться не смыслю, а ты вот…
— Чего ж тут реветь, коли так?.. — осудил ее Тимофей Поликарпович. — Смеяться надо, а ты… Эх, близки у бабы слезы.
— Да как же не плакать, когда он ровно птица залетная?.. Утром приехал — вечером уехал. Господи, что за счастье мое короткое!.. Опять к чужим людям торопится, будто дома ему худо. Жить бы всем вместе да радоваться, но, видать, не любо это богу. Что за время наше такое… страшное?.. Не война идет, а дети отцов, матерей оставляют, все улетают из родного гнезда. А никто не знает, как нам тут одним маяться…
— Мама, я же не раз вас звал к себе, но вы сами не хотите, — сказал Дмитрий. — А теперь вроде обижаешься…
Лукерья перестала плакать, облегченно вздохнула, но ее влажные веки еще мелко подрагивали, и невеселые, тоскливые мысли все-таки томили голову.
— Нет, сынок, — сказала она, — знать, судьба наша такая. Куда ж мы на старости лет отсюда поедем? Всю жизнь возле земли, к животине привыкли — и сразу бросай все… Да мы в твоем городе с тоски помрем. Я там шагу из дому не сделаю, улицу не перейду. Это мне и сидеть в четырех стенах, как в тюрьме?.. Нет уж, нам свой век здесь суждено доживать. А помрем… вот обидно, помрем когда, на могилку никто не придет… Пока живы, хоть редко, да навещаете, а на могилку-то не приедете…
— Ну, ты, Лукерья, совсем нынче… это самое… — недовольно пробурчал Тимофей Поликарпович. — Начала за здравие, а кончила за упокой. Ты хоть бы невесты его постыдилась.
Навстречу им мчался грузовик, сильно поднимая пыль и подпрыгивая на ухабах. Тимофей Поликарпович, увидя его, тут же попросил сына остановиться, и Дмитрий сбавил газ, прижался к краю дороги. Почти одновременно заскрипели тормоза грузовика, распахнулась дверца кабины, и оттуда вылез Ванюшка Ползунков, которого на секунду накрыл нагнавший полог пыли. Тимофей Поликарпович с Дмитрием тоже вышли из машины, и Ванюшка сейчас же раскинул руки в стороны, выкатил светлые, с хитринкой глаза и громко прокричал:
— Вот это встреча!.. А я думал, какой министр со свитой… — Он поздоровался с Дмитрием, потрясая его за плечи, заглянул в «Жигули» и опять воскликнул: — И тетка Лукерья тут восседает, как царица!.. Во дает!.. А там что еще за красотка?.. Ух ты, какой ангел небесный!.. Это жена твоя? — он подморгнул Дмитрию: — В каком райском саду выкрал такую?..
Дмитрий, слушая, своего школьного друга, молча улыбался. А Ванюшка уже ощупывал профессиональным взглядом шофера легковушку, хлопая рукой по капоту, говорил:
— Как аппарат шурует? Давно уже водишь? Ноги не дрожат на перекрестках?.. Там у вас в Москве столько машин, милиции, что хоть стой, хоть падай. Я раз был в столице на своем драндулете, так с тех пор и сейчас все в глазах рябит. Всюду светофоры, стрелки, знаки, вправо нельзя, влево нельзя, поворот запрещен, только прямо… Уж я попотел в матушке престольной!.. Не помню, как живой из города выбрался, чуть сердце не лопнуло… А у нас тут, сам знаешь, раздолье: ни светофоров, ни милиции, одни ухабы… Гони куда вздумается, в любую сторону твоей души.
— Истинная правда, приволья у нас хоть отбавляй, — поддержал его Тимофей Поликарпович. — А с дорогами, верно, худо еще…
Ванюшка вытер пот со лба, сказал Дмитрию просто:
— Понимаешь, я как на иголках, поговорить даже некогда. Такая у нас запарка, горит все в поле, хлеба осыпаются… Я уже с молоком сгонял на станцию, а теперь бригадир посылает срочно зерно возить на элеватор… Ты давай заходи вечерком. Посидим, Мишку моего посмотришь…
— Спасибо, Ваня, уж в другой раз, — поблагодарил его Дмитрий. — Мы сегодня вечером уезжаем.
— Что ж так?.. — удивился Ванюшка, сдвигая на затылок мятую кепку с поломанным козырьком. — Стариков, брат, обижаешь!..
— Ничего, в сентябре мы на весь отпуск приедем.
— Это другой разговор… Ну, тогда до скорого!.. — Он приставил руку к козырьку кепки, кивнул головой и вскочил в свою машину. А уже тронувшись с места, высунулся из кабины и прокричал: — Приезжай обязательно, рыбку половим!..
Скоро они свернули с большака и поехали проулками, где было много новых домов с застекленными верандами, палисадниками. Больше им никто навстречу не попадался, и Тимофей Поликарпович был этим огорчен. А Катю удивляло, что подле домов не было видно ни ребятишек, ни старушек, ни собак. Кругом тихо, безлюдно, будто вся деревня вымерла. Кате даже стало как-то не по себе, и она сказала об этом Дмитрию.
— Летом-то, дочка, у нас народу хватает, — говорил Кате Тимофей Поликарпович. — Это кажется, что пусто, а на самом деле густо. Сейчас весь взрослый люд в поле, на уборке. И детишек многие с собой берут. Кто из них помогает, кто мешает, а все одно родителям спокойно, когда ребятишки на глазах вертятся… Конечно, молодежи маловато, разбежалась она по городам. Зато летом много приезжей. Вон в том доме с красными флажками над воротами студенты живут, на ферме уже с месяц работают. А еще, считай, в каждый второй дом дети из городов наезжают на отдых, родственники. Это жара позагоняла всех в тенек да на речку, а вечером они ходят по улицам с гитарами, песни поют. И чужой народ к нам валом валит: художники бородатые, артисты-стрекулисты, ученые разные… Кто тут себе дом купил и все лето живет, места наши многих красой своей приманивают. А вот зимой деревня пустеет, одни старики да старухи коптят тогда наше небо.
Остановились они за деревней, у самого леса, на опушке которого меж лип и берез голубели ульи, обнесенные высокой изгородью из жердей. Едва все вышли из машины, как возле них оказался будто выросший из-под земли русоволосый парнишка лет восемнадцати, розовощекий, с нежной кожей лица. Он был в белесой куртке из плащевой ткани и серых джинсах, вправленных в легкие брезентовые сапоги зеленого цвета.
— Ну, Егорка, тебе нынче придется пострадать тут одному, — сказал Тимофей Поликарпович, почесывая бороду. — Видишь, ко мне сынок приехал, порадовал наконец. А это невеста его, Катюша. Ты как, отпустишь меня до завтра по причине такой уважительной?..
— О чем тут разговаривать?.. — ответил Егорка, краснея и не спуская быстрых глаз с Кати, которая ему, видно, понравилась.
— Тогда лады, а то, думаю, запаникует твоя душа, отчего, скажешь, старик прогуливает.
— А вашу пасеку можно посмотреть? — спросила Катя и подошла поближе к Егорке, поправила длинные волосы.
Егорка весело сверкнул глазами и, не зная как быть, поглядел на Тимофея Поликарповича. Тот, желая показать немалый вес Егорки на пчельнике, сказал с подчеркнутой серьезностью:
— Это уж как сочтет нужным Егор Сергеевич, мой заместитель по научной линии.
Заместителя долго уговаривать не пришлось, и они с Тимофеем Поликарповичем тут же повели Катю в глубь пасеки. Дмитрий открыл капот и решил тем временем посмотреть карбюратор, поскольку мотор иногда глох на холостых оборотах. Лукерья тоже осталась у машины и сперва молча топталась около Дмитрия, а потом не выдержала, спросила о том, что тревожило душу после письма дочки:
— Сынок, а как Люська-то относится к твоей невесте?..
— Катя ей не нравится, — честно признался Дмитрий. — Хотя она с ней ни разу не разговаривала…
Лукерья немного замялась, не готовая к такому ответу сына, и решила уже ничего не говорить ему про письмо Люськи.
— С виду-то она красивая… — сказала со вздохом Лукерья. — Да с лица, говорят, воду не пить.
— Это некрасивые такое придумали себе в утешение, — недовольно заметил Дмитрий.
— Может, оно и так. Конечно, жениться тебе пора, но смотри, сынок, не обожгись… А чем она занимается… невеста твоя?.. Ты нам пока так и не сказал.
— В парикмахерской работает.
— Это как наш Митрофаныч, что ли?..
— Да, как он…
— Вот никогда не скажешь… — подавленно пробормотала Лукерья. — А так собой на артистку похожая…
Глянув на сникшую вдруг Лукерью, которая хотела еще что-то сказать, но не решалась, Дмитрий спросил:
— Мама, ты что-то расстроилась?..
— Да как же, сынок… — со слезами в голосе проговорила она. — Ты у нас ученый, а невеста, выходит, простая… Она тебе разве ровня? Ведь так обидно, так обидно!.. Ты всего добился, а она, стало быть, ничего…
— Ну что ты говоришь, мама? — рассердился Дмитрий и резко хлопнул капотом, повернулся к ней лицом. — Кате ведь девятнадцать лет, у нее все впереди. Вот сейчас она в институт вечерний готовится…
— Оно, конечно, когда так… — уже несколько смирившись, сказала Лукерья. — Верно, жениться тебе надо, сколько можно мыкаться холостым. Но ты и про сестру не забывай. Все деньги не трать на молодую жену. А кто же Люське поможет, как не брат? Ведь ей еще три года бегать с поджатым животом. Какая у ней там стипендия, да и ту она, считай, не получает. Сам знаешь, трудно Люське ученье дается, а в люди выйти хочется, вот девка и бьется как рыба об лед…
Дмитрию хотелось сказать матери, что Люська об учебе меньше всего думает, что она связалась с беспечной компанией, стала иначе смотреть на жизнь — во всем ищет выгоду, но он сдержал себя и промолчал. «Этим я сестру не исправлю, а мать с отцом покоя лишу», — подумал Дмитрий и пообещал:
— Люське я помогать, конечно, буду, пока учится. Катя тут разве помеха. Ты еще не знаешь, какая она добрая…
Лукерья согласилась, что с виду она вроде сердечная, а там кто ее знает, чужая душа, мол, потемки, но Дмитрий видел, мать заметно повеселела, и когда Тимофей Поликарпович с Катей вернулись с пчельника, она уже поглядывала на Катю с какой-то родственной теплотой.
После пасеки они заехали в магазин, потом долго колесили по окрестностям деревни, побывали на лесном озере, в заливных лугах, а под конец спустились к речке, где купались и загорали. Вода в речке была теплая и такая прозрачная, что с берега можно было рассматривать все камушки и ракушки, устилавшие дно. Кате так понравилась чистая и ласковая вода, что она больше часа плавала в речке и все не хотела оттуда вылезать.
Уже перед самым обедом они возвращались домой. Теперь им часто встречались сельчане, и Тимофей Поликарпович то и дело просил Дмитрия остановиться, а сам всякий раз выходил из машины, с каждым весело здоровался, рассказывал, что к нему приехал сын, всем представлял Катю, называя ее то невесткой, то снохой. Катя при этом краснела и низко опускала голову…
В обратный путь Дмитрий с Катей отправлялись на закате солнца, когда жара ослабла и с полей потянуло желанной свежестью. Тимофей Поликарпович на прощанье обнял сына, осторожно подержал в загрубевшей ладони Катину руку и напомнил, чтобы в сентябре они обязательно приезжали к ним.
— Уж на свадьбу нас не ждите, не по годам нам трястись в дороге, — говорил он, глядя по-отечески на Катю. — А вот вас после свадьбы будем ждать.
Лукерья, которая знала, что Дмитрий всегда трудно переносит ее слезы при расставании, старалась быть веселой, но в последнюю минуту не сдержалась, горестно сморщила губы и заплакала.
— Дай-то бог, чтобы вы не знали в жизни горюшка… — сквозь слезы сказала она и перекрестила Дмитрия с Катей.
— Ну что, мама, плакать, не на войну ведь мы… не плачь… — попросил Дмитрий и скорее сел в машину, чтобы не видеть ее слез, тут же стал выезжать со двора.
Тимофей Поликарпович с Лукерьей следом вышли на большак, и потом их сгорбленные фигуры еще долго там темнели уже после того, когда машина, сверкнув на повороте стеклами, скрылась за лесом.
XXII
Это огорошило Костричкина, и он, войдя на кухню, какое-то время стоял с поникшей головой, растерянно моргал маленькими черными глазками. Пускай Анна Григорьевна его заранее к этому готовила, она давно грозилась уехать к сыну, но то были пока слова, и он не шибко брал их на веру: мало ли что скажет в горячке женщина. А тут вот на кухонном столе лежала записка жены.
«Я от тебя уезжаю, и к этому добавить нечего… И все-таки я скажу… Знаю, ты отмахнешься, как всегда… Пускай, а я скажу… Плохого тебе не хочу, ты — наказал меня бог! — отец моего сына, но радость тебя не ждет… Страшно уже то, что от тебя отказался сын, родная твоя кровинушка. А теперь вот и я… Без меня тебе будет худо… Чужим ты не больно-то нужен… Других чужие любят, а тебя не станут — не за что… Сам-то ты любишь одного себя. И для себя всех обманывал, даже жену и сына… Я все не умела понять, что тебя таким сделало. А сейчас вот дошло — людская доверчивость и всепрощение… Если б тебя раньше стукнули по шапке как следует, может, ты бы спохватился… А тебя долго жалели, не знали, что ты из породы пакостных котов… Такого кота отстегаешь веником, он тут же спрячется под лавку, а потом, глядишь, снова тянет лапу к столу, но уже с другого краю. Вот так всю жизнь делаешь и ты… Ладно, баба, кажись, «зафилософствовалась». Ты опять скажешь: понесло мою ткачиху… Мели что хочешь, бог с тобой, мне уже все равно. Прощаюсь с тобой. Анна».
Прочитав записку, он не сомневался, что жена теперь его покинула навсегда, и ему стало жалко до слез себя, одинокого и заброшенного. Всю жизнь увлекаясь разными женщинами и тем самым распыляя свои чувства, пуская, их по ветру, Костричкин давно охладел к Анне Григорьевне и относился к ней как к назойливой мухе, которая без роздыху жужжит где-то рядом и не дает покоя. А сейчас ему вдруг сделалось страшно, он впервые понял, что навсегда теряет так необходимого ему человека, и у него тут же возникла мысль немедленно ехать на вокзал. Жена, может быть, еще не успела сесть на поезд, и он во что бы то ни стало вернет ее: упадет перед ней на колени, будет целовать ей руки, просить прощения.
Костричкин выбежал на улицу, поймал какую-то частную машину и помчался на вокзал. По дороге у него от нервного расстройства неожиданно началась аллергия, из носа сразу потекло, глаза покраснели и заслезились. На вокзале он, поминутно вытирая лицо носовым платком, беспрерывно хлюпал носом, метался беспокойно у доски с расписанием поездов, но никак не мог отыскать в нем Красноярска. Тогда он подбежал к милиционеру, который не спеша пил чай у буфетной стойки, и, возбужденный, спросил, почему в расписании не значится этот город.
Милиционер с нескрываемым удивлением оглядел Костричкина, видно, сразу заметил его покрасневшие глаза с набухшими веками, недовольно ответил:
— Гражданин любезный, надо пить поменьше… Это же Курский вокзал, а поезда сибирского направления отходят с Ярославского и Казанского. Понятно?
— Спасибо… Как вы сказали… Курский? Ах да… Прошу прощения… Как же это я так?.. Да, да, сам вижу… Курский… Ну конечно, Курский… — подавленно пробормотал Костричкин и поспешно отошел прочь, но тут же обернулся, сказал с обидой милиционеру: — Насчет питья вы напрасно… заболел это я… жена меня бросила…
На Ярославском вокзале он опять раньше всего кинулся к доске с расписанием, но ничего толком понять в нем не мог. Поездов в сторону Красноярска было много: одни в этот день уже отбыли, другие отходили поздно вечером и в полночь. Натыкаясь на снующих взад и вперед по вокзалу людей, он пробежал тогда на платформу, где с чемоданами и с большими дорожными сумками мельтешили сотни пассажиров, стал приглядываться, надеясь найти там Анну Григорьевну. Но вскоре сообразил, что эти люди сошли с прибывшего поезда, чертыхнулся и посеменил обратно. Заглянув потом в новый стеклянный зал, побродив среди толпы пассажиров, ожидавших очередной поезд, он убедился, что жены нигде не было, и, потерянный, поплелся медленно с поникшей головой к троллейбусу.
Костричкина никогда особенно не тянуло к спиртному, но сейчас его подмывало выпить, и он, не противясь этому желанию, у Рижского вокзала вылез из троллейбуса и зашел в магазин. Было, оказывается, около восьми часов, и водку уже не продавали. Раздумывая, что ему лучше купить, вина или коньяку, он несколько минут постоял в стороне от прилавка, который еще плотно осаждали жаждущие выпить. Привыкший к тому (в бытность свою управляющим министерства, директором фабрики), что в магазин всегда можно послать подчиненного, Костричкин пуще самого дьявола не терпел очередей. По этой причине в последние годы, уже лишившись высоких постов, он ходил в магазины только днем, в рабочее время, когда там меньше было народу. А сейчас он представил, какая тоскливая жуть ожидает его дома, и, скрепя сердце, встал в длинную очередь.
Скоро Костричкина кто-то тронул осторожно за плечо, вздрогнув, он обернулся и увидел ухмыляющуюся физиономию вроде бы знакомого человека. Если бы не конопатость лица, не спадающая на лоб прядь белесых волос, то едва ли он признал бы в нем кудлатого. На этот раз тот был чисто выбрит, в белоснежной рубашке с синими ромбиками, в серых хорошо отглаженных брюках.
— Не узнаешь меня? — довольный, спросил кудлатый.
Костричкин зло посмотрел на него, нехотя буркнул:
— Как же, припоминаю…
— А я тебя не сразу признал, — сказал кудлатый и пригладил рукой белесые волосы. — Ты какой-то… ровно соплей пришибленный… Захворал, что ли?..
— Жена меня бросила… — пожаловался Костричкин и тотчас обругал себя, что открылся перед случайным человеком, который к тому же и охмурил ею тогда на четыре рубля.
— Это худо, братец… — сочувственно вздохнул кудлатый. — Обижал небось ее… вот она и ушла. Хорошего мужика женщина не бросает. Вот я сам такой же дурак был, больше года мыкал в разводе…
Костричкин опять вспомнил, что дома его никто уже не ждет, кроме безмолвных стен да нудно тикающих часов, и теперь пожалел, что в свое время не разрешал жене завести собаку. Если б его дома ждала собака или хоть кошка, то ему было бы легче. Пусть животное ничего не скажет, но оно, как толкуют, всегда понимает человека. А кто поймет сейчас его?.. Может быть, ему пригласить к себе этого кудлатого? Посидят они вдвоем, поговорят о жизни за рюмкой, может, полегчает… Он, видно, не без царя в голове, вон и чистенький какой сегодня, свеженький, прямо огурчик, только что сорванный с грядки. И Костричкин уже несколько подобревшим голосом спросил:
— Ты что, тоже выпить хочешь?
Кудлатый вроде бы даже испугался его слов, резко замотал головой:
— Нет, нет… Я завязал… до Нового года решил капли в рот не брать…
Тут к ним подошла молодая полная женщина в темном брючном костюме, с белой кожаной сумкой под мышкой. Она подозрительным и долгим взглядом смерила Костричкина и с беспокойством сказала кудлатому:
— Коля, опять ты за свое… старое?.. Смотри у меня!.. — погрозила она пальцем. — Пока выбивала в кассе, а ты уже улизнул… и снова туда же… Бывшего собутыльника, что ли, отыскал?..
— Солнышко, упаси меня бог… — ласково залепетал кудлатый, удивленно вскидывая белесые брови. — Ты только не волнуйся, пожалуйста, я вот знакомого встретил… Понимаешь, его жена бросила… — Он вдруг замялся и виновато добавил: — Должок ему надо бы… отдать, солнышко… четыре целковых…
— Когда же это кончится, Коля?.. — уже с явной обидой в голосе строго спросила женщина.
Кудлатый тотчас съежился, втянул голову в плечи, будто ожидая удара, смущенный, заискивающе зачастил:
— Прости, солнышко… клянусь тебе… это последний…
Женщина молча порылась в сумке, отсчитала четыре рубля и небрежно протянула их Костричкину. Потом взяла под руку кудлатого, и тот сразу приосанился, заулыбался, видно, доволен был вниманием к себе этой женщины. И когда они отошли от Костричкина, ему сделалось еще тоскливее. Выходило, что даже кудлатый и то кому-то нужен, о нем вот заботится видная собой женщина, а от него почему-то отказался родной сын, его бросила жена, с которой они вместе прожили уже много-много лет.
…Зоя Шурыгина, соскучившись по Степке, надумала взять его дня на два из детсада, который летом был на даче, и к приезду сына прибиралась в квартире. Весь вечер она пылесосила ковер, висевший на стене, новый диван, мыла полы, протирала окна в комнате и на кухне. Покончив с уборкой, Зоя приняла ванну и только хотела сесть попить чаю со свежим клубничным вареньем, как в квартиру кто-то позвонил. Она подумала, что к ней идет соседка, которая частенько прибегает попросить то луку, то соли, то спичек, но оказалось, это был Костричкин. Его приходу Зоя, конечно, удивилась. После того вечера, когда она выставила Костричкина из квартиры, он лишь изредка звонил ей по телефону, но в гости напрашиваться опасался, а тут вдруг почему-то пришел, и без предупреждения.
— Ну что, вижу, не ждала меня сегодня?.. — кривя рот в вымученной улыбке, спросил Костричкин и, понурый, прошел к столу, сел на диван.
Запахнув плотнее банный халат, который надела после ванны на голое тело, Зоя скрестила руки на высокой груди и остановилась посредине комнаты, обескураженная странным видом Костричкина. В его бегающих глазах сейчас не было прежней плутоватой живости, плоский утиный нос сильно отвис и покраснел, и сам он стал похож чем-то на старого общипанного петуха. Зоя поначалу пожалела его своим бабьим сердцем, но скоро поборола в себе эту слабость и безразлично сказала:
— Сам знаешь, незваный гость хуже лихого татарина…
— Я вот тут рядом с твоим домом был, — соврал Костричкин, — ну и соблазнился… Загляну, думаю, заодно к негритенку… поди, своего начальника, это самое… руководителя, не выгонит несолоно хлебавши…
— Ах, держите меня, а то упаду!.. — рассмеялась Зоя, хватаясь за живот. — Вот еще сыскался начальник… Ты хоть на ночь меня не смешил бы… Какой ты руководитель, если ничего не смыслишь в нашем деле? Ты даже не знаешь, как надо в руке ножницы держать… А в женский зал никогда носа не показываешь — боишься. Подловишь в коридоре их главную, для отвода глаз скажешь: «Как там у вас дела? Порядок?.. Ну, лады, лады». И снова забиваешься в свою каморку, чтобы любовные да всякие такие интрижки плести…
— Ладно, ладно, хватит критики!.. — недовольный, оборвал ее Костричкин. — Лучше давай настроение поднимем. Я вот маленько коньячку принес. — И он вытащил из кармана пиджака бутылку «Плиски».
Зоя далее не взглянула на коньяк, а только поморщилась и резко сказала:
— Убери немедленно эту отраву!.. Все, Федор Макарыч, больше не пью я… замуж хочу выходить…
Костричкин поначалу не придал значения ее словам, он был уверен, что у каждой одинокой женщины лишь одно на уме — поскорее выйти замуж, но потом призадумался, почему такие речи завела она именно сегодня. Неужто Зоя успела пронюхать про отъезд жены? Выходит, успела, раз намекает о замужестве. Анна Григорьевна, конечно, кого-то знала из парикмахерской, недаром ей было известно про «негритенка». Вот она сама, видно, и оповестила, что бросила мужа. А Зоя скорее уже сети плетет, с лучшей стороны себя показывает, мол, не пью я теперь и женой буду верной. Вот она, женская хитрость, только Зоя не на дурака напала, его вокруг пальца не обведешь, он насквозь видит этих женщин, в таких делах он калач тертый.
— Прямо чудно мне это слышать, негритенок, — усмехнулся Костричкин и покачал головой. — Перед тобой напиток богов, сгусток южного солнца, а ты такое говоришь… Нет, не к лицу тебе, не к лицу… Ты лучше тащи-ка сюда рюмки, давай глотнем с тобой по капочке…
— Нет, Федор Макарыч, не уговаривай меня, бесполезно, — стояла на своем Зоя. — И рюмки никакие не жди, тут тебе не распивочная… Я вот спать сейчас ложусь, завтра вставать рано надо, за Степкой еду под Истру… Ты забирай-ка свой коньяк да отчаливай поскорее домой, время уже позднее…
От прихлынувшей обиды уши Костричкина покрылись красными пятнами, редкие усы задрожали, будто росли на киселе. С немалым трудом сдерживая себя, чтобы не взорваться криком, он долго сопел, нервно покашливал в кулак, наконец надтреснуто вымолвил:
— Вот и пойми женщину, то она перед тобой душу наизнанку выворачивает, а то уже и на дверь указывает… А если я не собираюсь домой, если я у тебя хочу остаться?.. Что ты на это скажешь?..
Словно не слыша Костричкина, Зоя прошлась нервно туда-сюда по комнате, посмотрела на часы, которые уже показывали без пяти одиннадцать, потом резко повернула к нему лицо, холодно сверкая черными глазами, непреклонно отрезала:
— Не бывать такому, Федор Макарыч, никогда не бывать!.. У меня еще ни один мужчина не ночевал. Ты забыл, что я мать, у меня ребенок… А если я сперва с тобой глупости позволила, так знай, я до сих пор казню себя за это…
Костричкин обежал печальными глазами скромную комнату Зои, в которой было чисто, уютно, во всем виделась заботливость женских рук, снова вспомнил опустевшую без Анны Григорьевны свою просторную квартиру, и ему еще больше стало жалко себя, уже далеко не молодого и, выходит, никому не нужного. Вот, оказывается, и Зоя терзается, что была с ним в связи, а сейчас все поглядывает на часы, никак не дождется его ухода. А он-то вообразил, будто она расставила ему сети, собирается женить на себе. Стало быть, никто в нем не нуждается, все бегут от него как от чумы.
А ведь когда-то было иначе, когда-то его приметила роковая Лиза, сухощавая женщина с нервными движениями и быстрыми зелеными глазами, с красивыми полными губами, которые лишь ночью отдыхали от папирос. Она была тогда намного моложе Зои, едва успела закончить институт и сама нашла юного Костричкина у витрины с объявлениями. Он только что приехал из Сотовки, поступил в техникум и мыкался по городу в поисках угла для жилья.
— Молодой человек, вы ищете комнату? — вкрадчиво спросила тогда Лиза и пристально поглядела на него.
Еще слыша в ушах ее таинственный низкий голос, любуясь мягкими переливами ее бархатного платья, он прикрыл ладонями обтрепанные борта своего короткого пиджачка и, потупив голову, еле внятно промямлил:
— Понимаете… не совсем так… мне бы надо угол…
— Ну пошли, у меня кое-что для вас найдется, — нетерпеливо сказала Лиза и увела его к себе.
Это было за год до войны, а когда она началась, Костричкин с Лизой жили уже как муж и жена. Лиза сразу забеспокоилась, что он может попасть на фронт, и однажды отвела его к знакомому врачу, который за полчаса из него, здорового парня, сделал «больного», наложив ему на одно легкое пневмоторакс. И Костричкин стал белобилетником.
Потом техникум, где он учился, переехал на Урал, а его Лиза пристроила комендантом одного общежития. У Лизы оказались немалые связи, и с помощью ее через три месяца Костричкин уже был начальником вокзала, потом помощником директора завода, директором фабрики. Его с каждым годом повышали, и когда окончилась война и были созданы министерства, он стал работать в главке, а затем управляющим министерства. Они с Лизой уже собрались оформить официальный брак, но та вдруг погибла в автомобильной катастрофе. И Костричкин женился на Анечке, Анне Григорьевне, которую знал еще раньше: она почти девчонкой пришла на фабрику, в его бытность там директором. Но когда не стало Лизы, вся его карьера вскоре пошла кувырком, люди наконец увидели, что у него мало грамотенки, он нечист на руку, небезупречен в быту. Перед ним будто возвели глухую стену, которая напрочь отсекла ему путь вперед, и он вопреки своей воле попятился: переходил с места на место, и всякая новая должность оказывалась ниже прежней. Так и допятился Костричкин до парикмахерской.
Зоя не присаживалась, все так же ходила по комнате и только чаще взглядывала на часы, давая тем самым понять Костричкину, что она ждет не дождется, когда он уйдет. И Костричкин, сознавая свое незавидное положение, представляя, какая тоска его ожидает дома, быстро раскупорил бутылку и принялся хлестать коньяк прямо из горлышка. Этой своей не вполне приличной выходкой он хотел все-таки разжалобить Зою, надеялся, что теперь она принесет рюмки, подаст что-нибудь закусить. А там, глядишь, и сама соблазнится, пригубит рюмку-другую, и пойдет у них дым коромыслом. Но Костричкин не угадал намерения Зои, которая вдруг подошла к телефону и, снимая трубку, спросила:
— Ну что, Федор Макарыч, тебя, может, на милицейской машине домой отправить?..
— Положи трубку!.. Слышь, сейчас же положи!.. — вскакивая с дивана, испуганно закричал Костричкин. — Я сам ухожу, без милиции… А ты… а ты попомнишь Костричкина… Я еще покажу тебе, ты не смеешь так с начальником!.. Не имеешь права!.. — И, схватив со стола бутылку, на ходу заталкивая ее в карман, он выбежал из квартиры.
В затемненном зеленью дворе Костричкин держался тех мест, где больше было свету, ступал тихо, опасаясь стучать каблуками, чутко прислушивался к разным подозрительным звукам и наконец, весь вспотевший от нервного напряжения, нырнул под арку и оказался на ярко освещенной улице. По ней хотя редко, но еще проносились машины, кое-где бродили поздние пешеходы, и Костричкин, уже чувствуя себя в безопасности, уверенно пересек улицу и свернул к троллейбусной остановке. Немало уверенности ему к тому же прибавил и недавно выпитый коньяк, который теперь заметно ударил в голову.
В этот час троллейбусы ходили нечасто и разумнее было бы идти пешком, но Костричкина домой не тянуло, и он, спокойно поглядывая на мигавший желтым светофор, засунул руки в карманы и стал терпеливо ждать. Так простоял он минут двадцать, а может быть, и больше. Никто еще к остановке не подходил, троллейбуса все не было, и Костричкин хотел уже отправиться пешком, но тут в небе сверкнула молния, раздался оглушительный гром, а потом вдруг устойчиво, монотонно зашумело, и его накрыл сплошной ливень. Костричкин кинулся к ближайшему тополю, плотно прижался спиной к стволу, но льющий будто из ведра дождь доставал его и там. В какие-то секунды он промок до нитки и, чувствуя страшную обиду на Зою, на этот непрошеный дождь, на весь белый свет, обреченно шагнул под ливень и быстро зашлепал промокшими ботинками по бурливому потоку воды.
XXIII
Дмитрий стоял с сигаретой у газетной витрины и улыбался. Нет, не смешное он вычитал, а вспомнил вдруг, откуда пошла у него эта привычка. Конечно, она брала начало от тех памятных часов, которые завелись у него в школе. Тогда отца за хорошую работу в колхозе премировали наручными часами, довольный, пришел он с собрания и весь оставшийся вечер то вынимал из коробочки эти часы, то снова в нее укладывал.
— Лукерьюшка, ну подумай-ка, что учудило наше правление, — с удивлением качая головой, говорил он матери. — Сущую диковину мне подарили!.. Ты послушай, послушай, как чисто тикают, да не по-простому, а с протяжным звоном. — И отец подносил к уху матери новые часы. — Это не какая-нибудь там заграничная штамповка, которой за войну я вдоволь налюбовался, а натуральные, на рубиновых камнях… А ну-ка, Митя, прочти мамке, сколько тут камней означено.
У него сбилось дыхание, сердце немилосердно зачастило, глаза от радости расширились. Первый раз в жизни держал он в руках не игрушечные, которые ему отец как-то привез из райцентра, а настоящие наручные часы, маслено блестевшие, словно серебро, белым полированным металлом. Они скользили в руках, как пойманный в реке налим, приятно холодили ладони. Боясь дыхнуть на часы, он бегло глянул на черный циферблат, на нервно мятущуюся по кругу секундную стрелку, охрипшим от волнения голосом выдавил:
— Семнадцать… тут написано…
— Чуешь, Лукерьюшка, чуешь, что за ходики. Ажно проставлено, сколько камней… Анкерный ход, толкует председатель… Еще поискать такие часы!..
— Пап, а как они открываются? — нетерпеливо спросил он.
Мать в испуге вытаращила глаза, тут же на него зашикала:
— Я тебе открою!.. Ты у меня посмей, посмей!.. Смотри, Тимоша, он в момент загубит этакую красоту. Забери, забери у него, пока не поздно…
Но отец не отобрал у него часы, с минуту помолчав, он сказал раздумчиво:
— Вот шел я домой и ломал голову, что мне делать с этими часами. Ну, скажем, подарили бы барометр, тогда другой разговор. Ведь пчелы мои живут по погоде, а не по часам. Иной раз смотришь, в небе вроде ясно, а они забились в ульи, гомонят сердито. Ну, понятно, тут жди дождя. А когда и небо хмурое, но пчелы хоть бы что, спокойно улепетывают за взятком. Стало быть, мне и барометр ни к чему, пчела почище его погоду чует. Вот я и надумал подарить часы Мите, чтоб он в школу больше не опаздывал. Ты как, сынок, согласен получить их на таком условии?..
Мать поначалу не могла понять, шутит отец или всерьез говорит, и, поглядывая то на него, то на сына, лишь молча моргала глазами. А он почему-то сразу поверил отцу, онемел от счастья и не мог произнести ни слова.
Да и кто бы на его месте не лишился дара речи в то время в Сотовке? После войны прошло всего несколько лет, в каждом доме еще оплакивали погибших, многие верили, что они живые и вот-вот вернутся. Жили все в нужде, из колхоза на трудодни почти ничего не перепадало, кормились в основном с огорода. Одевались бедно: мужчины ходили в выцветших фронтовых гимнастерках, женщины облачались в ветхие лицованные-перелицованные платья. Ребятишки носили одежду с чужого плеча: широкие пиджаки до колен, длинные рубахи не пришедших с войны отцов и старших братьев. И во всей Сотовке тогда было лишь двое часов, если не считать настенные и будильники. Карманные, на серебряной цепочке, с давних пор носил завуч школы, горбатенький близорукий старичок, потерявший всех сыновей в войну; да еще наручные, с витым золоченым браслетом, были у председателя колхоза, который пустой рукав аккуратно подтыкал под широкий ремень с пряжкой-звездой. И вот теперь в Сотовке появились третьи часы, да не какие-нибудь, а на семнадцати камнях, с красной секундной стрелкой.
Он нечаянно прикрыл часы ладонями и, ошеломленный, чуть не вскрикнул: оказывается, они еще и светились, горели в темноте зеленым стрелки, каждая цифирька… Его подмывало немедленно бежать к Ванюшке Ползункову, который жил через дом на другой стороне улицы, чтоб поделиться с дружком своей радостью. Конечно, не мог тот уже спать, а если дрыхнет, то поскребет он в оконную раму, как всегда делал, вызовет Ванюшку на улицу. Такие часы и в темноте все показывают…
— Митя, ну что же ты молчишь, будто язык проглотил? — спросил отец и погладил его по голове. — Скажи, ты с часами-то не будешь опаздывать в школу?
У него влажно засверкали глаза. Ну что отец еще выдумывал?.. Как можно опаздывать с такими часами!..
— Я теперь никогда не опоздаю!.. — во весь дух выкрикнул он. — Никогда, никогда!.. Честное слово… вот убей меня молния!..
С того дня Дмитрий больше не опаздывал в школу ни на один урок, за что учителя его ставили всем в пример. И он постепенно так приучил себя к точности, что уже не мыслил, как можно, скажем, опоздать на лекцию в институт, на комсомольское собрание, даже на свидание. Это у него переросло в необходимость, в неписаный закон. Любопытно, что Дмитрий не позволял себе появляться и раньше нужного часа хотя бы на минуту, он любил приходить всегда точь-в-точь, тютелька в тютельку. Если случалось, что оказывался где-то пораньше, чем надо, то не заходил пока туда, а какое-то время бродил поблизости, читал объявления, рассматривал мемориальные доски на домах, соседние памятники. У Дмитрия, как он шутил, развился некий «пунктик»: хоть побей его, хоть казни, но не мог он переступить нужный порог минутой раньше или позже срока. Оттого-то теперь и стоял он у газетной витрины, поглядывая на часы. А когда осталось ровно три минуты до девяти, бросил в урну недокуренную сигарету и размашисто зашагал к воротам больницы.
В этот час на больничном дворе было совсем безлюдно, что Дмитрия не удивило, он знал, больным по утрам гулять некогда. Сейчас они на завтраке, потом начнется врачебный обход, во время которого им надо обязательно лежать в постели. А после обхода кого пошлют на рентген, кого отправят на процедуры, кому придется не меньше часа томиться в ожидании консультации профессора. Лишь незадолго до обеда они выйдут на этот зеленый двор, в примыкающий к нему старинный парк и будут бродить там вдоль аллей, рассказывая один другому все о том же самом, о своей болезни. Дмитрий подумал, что половина всех болезней, пожалуй, отпала бы сама собой, если б человек мог о них напрочь забывать. Конечно, со временем ученые сумеют переключать мысли больных, отвлекать их от этих подтачивающих силы дум, тогда и лечить людей будет гораздо проще.
У парадного крыльца больницы, над которым выступал козырек-навес с декоративными завитушками по закрайкам, Дмитрий встретил застенчивую Наташу Астахову. Он ценил эту хирургическую сестру за ее доброту к больным, за безукоризненную точность во время операции. С ней всегда легко было работать, она как бы заранее угадывала намерение хирурга, в любую секунду знала, какой подать инструмент, какой препарат. И Дмитрию, не верившему ни в какие приметы, все же приятно было, что с утра сегодня он первую увидел именно Астахову.
— Дмитрий Тимофеевич, вы всегда минута в минуту!.. — удивилась Наташа, как обычно краснея. — Ну что за точный вы человек!.. Хоть бы раз немножко опоздали…
— Это моя слабость, Наташа, не могу иначе… Такой уж я чудак-рыбак, — усмехнулся Дмитрий.
— Вы, наверное, какой-нибудь королевский отпрыск… — пошутила Астахова. — Говорят, точность — вежливость королей…
— На мое счастье, в России таковых не было. А наши императоры, кажется, не всегда отличались точностью.
Перед самой дверью Наташа приблизилась к нему, совсем тихо, с тревогой в голосе спросила:
— Скажите, а это правда, будто Дорохина из десятой палаты не хочет, чтоб вы ей делали операцию?
— Совсем наоборот, она ее ждет не дождется, — не задумываясь, ответил Дмитрий. — Да и какой резон?.. Операция не опасная, можно считать, пустяковая. Организм у этой женщины абсолютно крепкий, никаких сопутствующих болезней у нее не обнаружено…
— Нет, вы не поняли. Я слышала, она от вас отказывается… Просит, чтоб ее Калинцев оперировал.
Дмитрий на минуту задумался, ломая широкие, как у отца, брови. Что за чертовщина такая?.. Видно, это недоразумение. Почему она вдруг отказывается?.. И как Калинцев станет ее оперировать, когда он уже второй месяц лечит Дорохину, провел почти всю необходимую подготовку к операции?..
— Этого не может быть, Наташа, — уверенно сказал Дмитрий. — Правда, меня тут два дня не было в больнице, но все равно… Впрочем, ладно, сегодня выясню. — И он придержал дверь парадной, пропуская Астахову вперед.
В девять пятнадцать все врачи сошлись в ординаторскую, где в это время каждый день устраивалась пятиминутка. Поскольку главврач был в отпуске, то вела ее Алиса Васильевна, полная коротконогая женщина средних лет, в своем тесном кургузом халате похожая на кубышку. В больнице ее за глаза все звали Лисой-Алисой, она уже около полугода исполняла обязанности заместителя главного врача по лечебной части и Дмитрию почему-то не нравилась. Если б его спросили, чем не мила ему эта женщина, то он, пожалуй, и не ответил бы, вроде ничего плохого она ему не делала. И все-таки он ее недолюбливал.
Лиса-Алиса сразу заговорила о дисциплине, за которой якобы совсем не следят лечащие врачи, медсестры и дежурные. По ее словам, многие больные нарушают распорядок дня, после отбоя долго не спят и громко разговаривают, во время тихого часа бродят из палаты в палату. Кое-то из них пренебрегает лечением, не принимает и куда попало выбрасывает назначенные лекарства, не изволит ходить на процедуры, уклоняется от уколов… Временный заместитель главврача всегда любила, как говорится, сгущать краски, нагнетать напряжение и выставлять дело так, будто лишь одна она печется о лечении больных, а всем остальным на это наплевать.
У Дмитрия тут мелькнуло в голове, что вот за такие речи, в которых была одна шелуха, искажалась правда, пожалуй, Лиса-Алиса ему больше всего и не нравилась. Она всякий раз ловко выпячивала себя и не замечала ту большую работу, которую вели остальные врачи, сестры, нянечки. Ведь каждый больной, как правило, на редкость мнителен, обидчив, чуток к малейшей фальши. Дмитрий видел, что весь персонал понимает это и относится к больным прямо-таки с материнской заботой, старается поднять у них дух, создать им доброе настроение. А вот Лиса-Алиса почему-то этого упрямо не замечала.
Скоро врачам наскучила ее нудная, пустая речь, и они уже не слушали, недовольно морщились, открыто перешептывались и поминутно заглядывали в широкое окно, будто ждали оттуда избавления от Лисы-Алисы. Но она все-таки оттарабанила свои двадцать минут, потом еще поинтересовалась, нет ли к ней вопросов. Таковых, конечно, ни у кого не было, каждый лишь обрадовался, что она закончила и теперь можно отправляться по своим палатам, заняться настоящим делом.
Все быстро вышли из ординаторской, а Дмитрий, вскочивший первым, снова сел, так как Лиса-Алиса зачем-то попросила его остаться. Пока она собирала на столе свои листки с записями, аккуратно скалывала их скрепкой, Дмитрий вертел в руках портсигар, недавний подарок Кати, и думал о Дорохиной. А все-таки не зря Наташа встревожилась, как-то странно вела себя эта больная. Перед самой пятиминуткой он заглянул в десятую палату и успел узнать о состоянии своих больных. Все они обрадовались, а Дорохина, как ему показалось, вроде чего-то испугалась, отводила глаза в сторону, стараясь на него не смотреть.
Лиса-Алиса наконец собрала свои листки, спрятала их в ящик стола и, сняв дымчатые очки, закрывавшие почти половину ее маленького узкого лица, исподлобья глянула на Дмитрия и минуты две молчала, почесывая острый лисий подбородок, словно забыла, о чем намеревалась говорить. Дмитрий не торопил ее, по-прежнему перебрасывая с ладони на ладонь портсигар, он вспоминал, как Катя растерялась в загсе, когда секретарь спросила, какую фамилию она берет себе после брака. Уже выйдя оттуда, Катя призналась, что побоялась ею обидеть, но ей вначале хотелось в память об отце оставить свою фамилию. Он не мог пойти против ее воли и они сейчас же вернулись в загс и заново переписали свои заявления.
— Так вот, Дмитрий Тимофеевич, — с некоторым волнением в голосе начала Лиса-Алиса, — разговор у нас предстоит не совсем приятный. Но мы на то и коммунисты, чтобы прямо в глаза говорить один другому правду, какой бы она ни была. Я постараюсь быть краткой. Объясните мне, пожалуйста, что случилось у вас с больной Дорохиной, почему она просит заменить ей хирурга? Вы, надеюсь, понимаете, это, можно сказать, ЧП. Больная отказывается от хирурга!.. Случай беспрецедентный, о нем, конечно, узнают в здравотделе, в министерстве…
Напряженно думая о Дорохиной, он некоторое время не отвечал Лисе-Алисе. Тот испуг, какой Дмитрий заметил у больной, когда заходил в десятую палату, ему о многом говорил. Это его наводило на мысль, что сама она не могла от него отказаться. Да и какие у нее на то причины? Лечит он ее так же добросовестно, как и всех остальных. Неделю назад Дорохина даже просила, чтобы он поскорее ее оперировал, мол, ей, такой здоровой, надоело валяться в больнице. И вдруг на́те вам: замените ей хирурга. Нет, тут что-то не так. Скорее всего на Дорохину кто-нибудь повлиял. Женщина она добрая, доверчивая, ее может любой склонить куда хочешь. Но кому и зачем это надо? Кому и зачем?!
И вдруг Дмитрия осенило: это вполне могли быть козни Инги Разменовой. Да, да, именно Инги!.. Недаром тогда в ресторане она, пьяная, грозила: «Пока счастье впереди тебя бежало, а теперь будет наоборот». Разумеется, она не сама подговорила Дорохину, а попросила это сделать Лису-Алису. Ведь Жора как-то говорил, что она вхожа в дом Разменовых. Ну, а Лиса-Алиса и рада была угодить, надеясь с помощью членкора Разменова поправить свое положение. Не зря же все говорят в больнице, что она давно рвется в замы, но главврач против, держит ее пока во временных, а сам ищет на это место другого человека.
— А вы сами не задумывались, чем вызван отказ Дорохиной? — спросил как можно спокойнее Дмитрий, стараясь не выдать своего волнения.
— Этого я знать не могу, — не глядя на него, отвергла Лиса-Алиса. — Может, ей что-нибудь такое сказали… Больные ведь народ ушлый, обо всем знают, о чем мы с вами и не догадываемся. Может, она от кого слышала, что у вас бывали летальные исходы…
— Какое-то странное совпадение… — задумчиво сказал Дмитрий, машинально запихивая портсигар в карман халата. — На прошлой неделе вы мне сказали, что я исключен из кандидатов на участие в симпозиуме. Вчера я получил уведомление из загородной больницы: оказывается, ввиду финансовых затруднений там больше не нуждаются в моих консультациях. А сейчас вы мне преподнесли новый сюрприз. Не слишком ли это?..
На щеках Лисы-Алисы заметались красные пятна, оно нервно полистала откидной календарь, словно надеясь там найти нужный ответ, и как-то неуверенно сказала:
— Из списков участников симпозиума вас вычеркнули в министерстве. Сами понимаете, я уже не в силах что-либо изменить… А относительно загородной больницы ровным счетом ничего не знаю. Тут ваши претензии, так сказать, не по адресу…
— Я и не имел в виду вас, — ответил Дмитрий. — Но, как мне кажется, это все звенья одной цепи. Вы сами знаете, что оно именно так…
Лиса-Алиса удивленно-настороженно посмотрела на него:
— Не могу понять, на что вы намекаете?..
— Я не намекаю, а рассуждаю, — поправил Дмитрий Лису-Алису, прямо глядя ей в глаза. — Последнее время я стал замечать, что вокруг меня все плотнее сжимается кольцо недоброжелательности. Похоже на то, будто я кому-то пришелся не ко двору. Меня это, откровенно признаюсь, не шибко пугает. Я могу хоть завтра уйти от вас, найти себе место в другой больнице. Да и периферия меня не страшит, пожалуйста, согласен завтра же туда уехать. Руки хирургов пока везде нужны. Там тоже хватает несчастных, которым необходима наша помощь. Правда, я готов это сделать добровольно, по воле своего сердца. Но в такой ситуации я никуда не уеду и никуда не перейду!.. Вы, Алиса Васильевна, вначале справедливо заметили, что коммунисты говорят правду в глаза. Так вот я и скажу вам эту самую правду… Если не уладится все с Дорохиной, то я поставлю вопрос на партийном собрании. Сами понимаете, это касается и здоровья больной и моей чести. Я не могу допустить, чтобы Дорохину, которая мной подготовлена к операции, по чьей-то прихоти оперировал другой…
Тут лицо Лисы-Алисы стало белее халата. Она испуганно замигала подслеповатыми глазами, которые казались такими без очков, и, сглатывая слюну, торопливо заговорила:
— Ну что вы, право, так близко принимаете это к сердцу… Конечно, думается, еще можно как-то дело поправить… Оттого я и решила с вами поговорить, чтоб самой узнать, как и что…
Дмитрий только молча кивнул и тотчас вышел из ординаторской.
XXIV
Катя сидела как на иголках, мысленно просила вагоновожатого ехать быстрее, но тот и не думал торопиться, как назло, вел свой трамвай медленно. Откуда ему было знать, что все эти дни Катя радостно возбуждена, каждый свободный час носилась по городу как заведенная и все спешила, спешила. Столько забот свалилось на ее голову, столько хлопот, что, казалось, хоть разорвись на части, хоть не пей, не ешь и ночей не спи, но все равно к сроку не успеть. Два таких события сошлись у нее вместе, свадьба и сдача экзаменов в институт, а какое главнее, она и сама не знала. Оттого и хваталась сразу за все: вечером корпела над учебниками, днем бегала по городу. А что ей еще оставалось, если спустя неделю после свадьбы уже начинался первый экзамен.
Перво-наперво Катя послала письмо матери, не зная еще, как отнесется та к ее скороспелому браку. Катя написала ей длинное-предлинное письмо, где рассказала все хорошее о Дмитрии, ничего не придумала, не соврала ни капли. Он и в самом деле был такой, лучше которого во всем свете не сыщешь. Уж на что Иван Иванович разбирается в людях, а и ему он нравился. Написала матери и о том, как ездила к Дмитрию в деревню, какие у него добрые родители, как они по-родственному ее встретили.
Заранее обдумала Катя, кого пригласить на свадьбу. Поначалу казалось, с ее стороны будет мало народу, а стала прикидывать, набралось порядочно, человек двадцать с лишним. Оля Малышева с Татьяной Николаевной должны быть? Конечно, в самую первую очередь, наравне с Иваном Ивановичем. Две ее любимые школьные учительницы тоже должны. А еще давняя подруга матери с мужем и взрослой дочерью. Да человек восемь с работы, в основном вся ее смена. Вот только насчет Глеба Романовича у нее долго было сомнение. Вроде неловко его не пригласить, а душа не лежала у Кати видеть на своей свадьбе этого старого холостяка. Если говорить начистоту, то он давно ей не нравился, после того самого случая.
Было это в апреле, снег уже сошел, улицы и бульвары казались сразу просторнее, в воздухе горьковато пахло почками тополя, на скверах вовсю кричали птицы, а в их палисаднике давно прилетевшие скворцы усердно таскали в свой домик сухие травинки, разный пух. На душе у Кати тоже было под стать весне: ей все время хотелось смеяться, каждому сказать что-нибудь ласковое, доброе. В тот раз она вышла после работы на улицу, свернула на сквер, где растекался ароматный дымок от костров, на которых жгли прошлогодние листья, и встретила там Глеба Романовича. Он стоял на самом краю сквера, в нескольких шагах от парикмахерской, озирался по сторонам, будто кого-то поджидал.
— Вот мне и попутчица, — обрадовался он Кате, хотя целый день ее видел, и перебросил из одной руки в другую сильно раздутый портфель, с которым всегда ходил на работу. — Или ты на трамвай садишься?..
— Нет, пешком хочу, — ответила Катя, весело сверкая глазами. — В такую погоду грешно не прогуляться.
— Верно, верно, благодать настает, — согласился Глеб Романович и потянул в себя воздух, добавил: — Чуешь, летом уже пахнет… Я представляю, что за красота теперь в Италии!.. Оливы цветут, персики… Небо синее, море синее, ах, рай неземной!..
Они шли рядом по дорожке вдоль сквера, мимо садовых скамеек, выкрашенных свежей краской. Высыпавшие на сквер старушки суетились подле скамеек, как цыплята вокруг наседки, не осмеливаясь на них сесть, о чем-то громко судачили. Когда кончился сквер и Кате надо было сворачивать на тротуар, Глеб Романович осторожно взял ее за локоть, неожиданно предложил:
— А зашла бы на минутку ко мне, Катенька, поглядишь, какие у меня виды Италии… Я ведь тут рядом живу, вон в этом переулке.
Катя, конечно, согласилась: ведь не бывала она в Италии, и, как знать, поедет ли когда-нибудь туда, а Глеб Романович чуть не каждый день рассказывал об этой стране уйму любопытного. Прошли они немного по переулку, в доме с просторным парадным поднялись лифтом на одиннадцатый этаж. Глеб Романович, достав из портфеля увесистую связку ключей, долго возился, пока не отпер входную дверь, которую закрывал на четыре разных замка.
— Вот моя скромная обитель, — сказал он, когда они вошли наконец в его однокомнатную квартиру. — Тут я и тоскую в гордом одиночестве.
— Хорошо-то как у вас!.. — удивилась Катя, переступая порог комнаты, все стены и пол которой были убраны коврами. Темная добротная мебель удачно дополняла ее обстановку. Помимо этого в комнате было много старинных вещей, стояло пианино с подсвечниками. — А вы на пианино играете? — спросила она.
Глеб Романович усадил Катю в мягкое, удобное кресло, раскладывая на столе фотоальбомы, цветшие открытки с журналами, сказал своим вкрадчивым голосом:
— Нет, Катенька, я не музицирую. Мне, как говорится, медведь на уши наступил. Это я так купил, для красоты. Вещь приятная, думаю, пускай глаз радует. Хлеба оно не просит, а деньги всегда верные. Вот женюсь, так, может, супруга на нем станет играть, коль охота будет да уменье.
Катя стала листать альбомы с цветными фотографиями, а Глеб Романович, присевший рядом на подлокотник кресла, пояснял ей, что на каждом снимке. Были там и каналы Венеции, и собор Святого Петра в Риме, и Неаполитанская бухта, и красивая площадь в Милане, и набережная города-курорта Сорренто… Кате, еще ни разу не выезжавшей никуда из Москвы, все казалось интересным.
— А это тоже любопытно… разные грации… — проговорил тихо Глеб Романович, трясущимися руками вынимая из пакета цветные фотоснимки обнаженных женщин и мужчин в непристойных позах.
У Кати от стыда и гнева словно отнялся язык, не вымолвив ни слова, она вскочила с кресла, ринулась из комнаты, с силой рванула на себя дверь квартиры и, ничего не помня, кинулась бегом вниз по лестнице…
Вспомнив об этом сейчас, в трамвае, Катя больше не колебалась: ни за что не пригласит она Глеба Романовича на свою свадьбу. Точно так же, как и Федора Макарыча. Нет, не будут эти люди сидеть у нее за свадебным столом!..
Когда Катя возвращалась с Дмитрием из загса, то ей думалось, как долго еще ждать, шутка ли сказать, впереди целый месяц, да какой месяц, в тридцать один день. И дни-то все летние, длинные. Но потом эти дни стали таять, как весенний снег, быстро текли один за другим и казались такими короткими. Свадьба неумолимо все близилась и близилась, а Катя еще так мало успела, хотя и вставала чуть свет, ложилась за полночь.
Особенно убивали ее магазины, которые отнимали уйму времени, ведь только на поиски туфель она ухлопала чуть ли не всю неделю. Мыкалась по обувным магазинам, что на Ленинском проспекте, на Комсомольском, на улице Горького, в Черемушках и в Медведково, не раз приезжала прямо к открытию в ГУМ, в Центральный универмаг, а все никак не могла выбрать то, что хотелось. Потом, уже отчаявшись, как-то вечером заглянула в обувной недалеко от дома и вдруг увидела там туфли, которые так долго искала: белые, на высоком каблуке, с тонкой перепоночкой, элегантно охватывающей подъем ноги. Надела она эти туфли, подошла к зеркалу, посмотрела на свои ноги и спереди, и сзади, и сбоку и вспомнила мать, которая когда купит какую-либо удачную вещь, то, примеряя ее, радостно восклицает: «Ну, люди, погибель теперь всем комарам и мужчинам!»
А сколько было у Кати волнения, пока выбрала это белое свадебное платье. Да и то еще не совсем уверена, по душе ли купила, в магазине не станешь полчаса вертеться перед зеркалом, не рассмотришь все как надо. Ей так не терпелось скорее быть дома, а трамвай по-прежнему плелся еле-еле, будто на тот свет он собрался. Наконец доскрипел кое-как до ее зеленого островка, со свертком в руках она выскочила из вагона и не пошла, а побежала к своему дому.
В прихожей ее встретил Иван Иванович и сразу весело закрутил головой, догадываясь по форме и размеру свертка, что за покупку принесла Катя. Он был в курсе всех ее забот, знал, что уже куплено, а что еще надо. Кое в чем и сам помогал Кате, скажем, уговорил ее с Дмитрием доверить ему подыскать для свадьбы хороший банкетный зал в кафе или ресторане.
— Что за крокодил такой под мышкой у тебя? — просиял Иван Иванович, кивая на сверток.
— Ой, голова моя бедная!.. — пожаловалась ему Катя. — Выбирала-выбирала, а вдруг совсем не то. Одной трудно очень… Позвонила Оле, но ее, оказывается, дома нету, удрала куда-то. Татьяна Николаевна в дневной смене, девчонки все сегодня заняты…
— Не пужай себя раньше срока, — рассудил Иван Иванович как всегда спокойно. — Лучше надевай-ка поскорей да показывайся главной комиссии…
Катя тут же ушла к себе в комнату примерять платье, а Иван Иванович в нетерпении сновал по кухне, вполголоса напевая: «Наши жены ружья заряжены, вот кто наши жены…» После того как узнал, что Дмитрий будет жить после свадьбы пока у них, Иван Иванович неузнаваемо повеселел и даже меньше стал сутулиться.
Вскоре Катя распахнула настежь дверь сваей комнаты, в волнении крикнула Ивану Ивановичу:
— Комиссия, заходите!..
Иван Иванович в первую минуту не мог вымолвить и слова: вроде Катя и не Катя стояла перед ним в белоснежном длинном платье, плотно обнимавшем узкую талию, в прозрачно-воздушной фате, что прикрывала ее голову, ниспадая дышащим облаком на худенькие плечи. Он закрыл глаза ладонями, какое-то время постоял так, потом покачал головой, в удивлении воскликнул:
— Натуральная царевна-лебедь!.. Самая натуральная!.. Нет, упаси бог на такой жениться! Будь я молодой, ни за что бы не осмелился… Я позвоню вот Тимофеичу, пускай он не делает глупостей, не губит свою головушку… Все одно украдут такую невесту, прямо со свадьбы умыкнут. Завернут в черную бурку — и помчали в горы… Коли уж не отговорю обреченного, то ружьишко надо чистить заранее, без него мне и делать-то нечего на твоей свадьбе…
Катя от радости не могла стоять на месте, все кружила по комнате, подбегала к зеркалу, поправляла то платье, то фату. Глаза ее горели ясно-ясно, щеки нежно румянились, «Вам, правда, нравится? — пытала она Ивана Ивановича. — Скажите, правда, правда?» И опять летала белым лебедем по комнате, все летала, летала, пока не спохватилась, что пора уже на дежурство.
XXV
Она была рада, что опять выпало дежурить с этими ребятами, на которых поначалу обиделась. В прошлый раз на инструктаже в милиции, где впервые их увидела, они, как показалось Кате, были недовольны, что капитан навязал им в помощники девушку. Игорь, который был старше и повыше ростом, сразу что-то шепнул Олегу, плотно сбитому в плечах брюнету, и они оба насмешливо посмотрели на нее. Но потом, когда уже вышли на улицу, стали сами с ней заговаривать, первыми представились. Они, оказывается, работали на соседнем заводе и готовились поступать в авиационный. Узнав, что Катя тоже собирается сдавать в этот институт, ребята и вовсе прониклись к ней уважением, обещали снабдить ее нужными конспектами.
В то дежурство им вменялось следить за порядком у метро ВДНХ, кинотеатра «Космос» да еще присматривать за винным отделом ближайшего магазина. Хотя места эти, как известно, многолюдные и шумные, но весь вечер там было на редкость спокойно, и хлопот у них набралось с воробьиный нос. Единственную заботу им доставил изрядно подвыпивший мужчина с черной папкой на молнии, который никак не мог расстаться с голенастой березкой, росшей по соседству с Аллеей космонавтов. Он все крутился и крутился вокруг березки, прислоняясь к ней грудью и обнимая ее крепко свободной от папки рукой. А стоило ему чуть-чуть оторваться от березки, сделать шаг-другой, как его начинало кидать в разные стороны, пригибать к земле-матушке, и он тут же снова хватался за белоствольную.
Когда они подошли к мужчине с папкой, тот поначалу не понял, что от него хотят, а узрев у них на рукавах красные повязки дружинников, испуганно шарахнулся к кустам, но, пробежав несколько шагов, споткнулся и грузно плюхнулся на ровно подстриженную траву. Они помогли ему подняться, стали спрашивать, где он живет.
— Ничего я вам не скажу… оставьте меня!.. — отвечал он вполне связно, будто и не был пьяный, и обеими руками бережно, но сильно прижимал к себе черную папку. — Нет, не пойду я в милицию, я ничего не сделал дурного… Мы душевного человека провожали на пенсию… Александра Афанасьевича нашего… Да вот, как истинные христиане, все честь по чести… маленько причастились… А разве это возбраняется нашему брату?.. Ну вот, говорю, все было ладно да складно, но потом что-то подвели ноги… Дом уже близко, а ноги вот не идут… А так я в норме, да, я все помню, все соображаю… но ноги… Я интеллигент, за это вы меня под руки и — в милицию… Все по закону, все справедливо… Шпану разную, отпетых пьяниц милиция почему-то не трогает… Что с них взять?.. А нашего брата интеллигента туда хватают, карманы почистят, потом телегу на работу…
Тут Игорь, который был у них за старшего, явно рассердился, ему надоела хмельная словоохотливость мужчины, и он, поглядывая то на Катю, то на Олега, как бы спрашивал: «Ну что будем делать? Дежурную машину вызывать?» Катя даже испугалась вдруг построжавшего Игоря, ей стало жалко мужчину с папкой, выглядевшего скорее беспомощным, чем опасным, и она сказала:
— Не бойтесь, не отправим вас в милицию. — И, просительно глядя на Игоря, добавила: — Мы домой вас отведем, правда, ребята?
— За это, дочка, спасибо, — обрадовался мужчина и вроде бы на глазах стал трезветь, подтянул еще неловким движением спустившийся вниз галстук. — Но это самое… смею ли вас затруднять?..
Ребята не то постеснялись возразить Кате, не то и сами вдруг посочувствовали мужчине с папкой, а только сейчас же согласились проводить его домой. Может быть, здесь главное сыграло то, что жил он, как выяснилось, совсем рядом, на улице Кибальчича. Словом, Катя точно не знала, что побудило ребят с ней согласиться, но после случая с «интеллигентом» ей приятно было снова с ними дежурить.
На этот раз они начали свой обход с кинотеатра «Космос». Сегодня показывали там новый итальянский фильм, и народ с полудня толпился не только у касс, но и на площади перед кинотеатром. Люди стояли небольшими группами, оживленно беседуя, некоторые еще на остановке встречали выходящих из трамваев и троллейбусов, пытая, нет ли случайно лишнего билетика.
— А не махнуть ли нам тоже в кино? — полушутливо, полусерьезно предложил Олег, когда они вышли из троллейбуса. — Наверное, фильм хороший, смотрите, сколько народу.
— Мы тебя можем отпустить, верно, Катя? — сказал Игорь.
— Нет, не выйдет, — возразил Олег, поправляя повязку. — Меня в кино гонишь, а сам останешься с Катей. Но я, может, тебе ее не доверяю, оставь козлу капусту…
Катя улыбнулась, молча посмотрела на ребят. Ее янтарно-табачные глаза засверкали ясным светом, легкая смуглина на лице поплотнела, и такой притягательной сейчас была ее красота, что ребята разом покраснели, будто подглядели нечто запретное.
— Ой, Катюшка, не думала тебя встретить!.. — воскликнула подбежавшая к ним Оля Малышева. — У вас тут такой фильм, такой фильм!.. Альберто Сорди играет… Я вот пришла, жду, а его… — она скосила глаза на понравившегося ей Олега и замялась.
— Ладно, вы поговорите с подругой, а мы пока к кассам пройдем, — сказал Игорь, беря за руку Олега, который как-то удивленно смотрел на подругу Кати. — Потом нас найдете, мы тут будем вертеться.
— Я так за тебя рада, так рада!.. — защебетала Оля, целуя подругу. — Я поздравляю тебя! Мне мать сказала, что ты звонила. Вот и пришло к тебе счастье… А знаешь, я не могу представить тебя дамой, такая тоненькая и — дама. С ума сойти можно!.. Мать говорит, врач он, хирург, квартира кооперативная. Сразу жизнь построишь настоящую. Правда?
— А мы пока у нас будем жить, — пояснила Катя. — Дмитрий согласился. Как же я Ивана Ивановича одного оставлю, он тут же умрет от тоски.
Оля посмотрела по сторонам, ища кого-то глазами, с обидой сказала:
— Видишь, все нету, уже полчаса его жду не дождусь. А вдруг совсем не придет, старая грымза не пустит его. Левушка так боится эту рыжую грымзу, ты представить себе не можешь. Когда звонит ей при мне, заикается, весь бледнеет. Она так его мучает, так мучает!.. Это надо же какая обида, я с трудом билеты достала, он без ума от итальянских фильмов, а грымза, я уверена, его на цепь посадила и ключ в карман спрятала. Подумай только, уже пять минут осталось до начала, а Левушки и близко не видать.
Вытянув полную шею, Оля вертела головой туда-сюда, опять ругала на чем свет стоит рыжую грымзу, жалела несчастного Левушку, погибающего у жены под каблуком. А когда раздался третий звонок, она глянула на часы, пожаловалась, что целых сорок минут ждала Левушку, и тут же отдала билеты двум скромным по виду девушкам с дешевенькими сумками. Те, обрадованные, стали отсчитывать ей деньги, но Оля замотала головой, сказала, не продает им билеты, а дарит. Девушки смутились, поблагодарили Олю и побежали вверх по ступеням.
Оле все не хотелось еще верить, что Левушка не появится, и она какое-то время озиралась по сторонам, с надеждой вглядывалась в идущих от троллейбуса людей, а потом подхватила Катю под руку, повела на Звездный бульвар, стала расспрашивать подругу о женихе, о предстоящей свадьбе.
— Ну ты и молодчина, это так неожиданно!.. — все не переставала удивляться Оля, на ходу закуривая сигарету. — Была одна, одна, и бах — сразу замуж. И человека какого нашла, серьезного, перспективного. Ты умница, что киношника отшила. Я не права была тогда. Нужен он тебе, как рыбке зонтик, этот лощеный пенкосниматель… Ты хоть скажи, как невестой себя чувствуешь? Я сама-то никогда, видно, замуж не выйду…
— Дурочка, что ты болтаешь? — возразила возмущенная Катя и даже замедлила шаг. — А ты забыла, как в десятом классе за тобой Князев гонялся?.. Забыла?..
Оля поморщилась от боли (недавно купленные туфли сильно жали ей ноги), но все-таки не остановилась, прошла еще немного, а затем захромала, и тогда они сели на скамейку.
— Нет, Катюшка, не успокаивай меня по доброте своей, я наперед все знаю… — грустно вздохнула Оля, доставая новую сигарету. — Ничего хорошего меня не ждет, наш род такой несчастный. Видишь, мать всю дорогу за мужика везет, работает как ломовая лошадь, а счастья нет как нет, не к кому голову прислонить. Так и доживать ей свой век в одиночку. Вот и меня та же участь ждет, это точно. Ровесники мои давно меня обходят, а замечают одни женатые-переженатые. Но им-то, сама знаешь, что надо… Вот оттого и пью иногда. Налакаюсь до чертиков, и море по колено…
— Да ну тебя, все глупости, — оборвала ее Катя. — К чему ты себя с матерью сравниваешь? Что у вас общего, в судьбе вашей? Сама знаешь, жених Татьяны Николаевны с войны не вернулся, оттого она и вышла за кого попало. А теперь не война, ты в институте…
В это время где-то сзади них, со стороны сберкассы, раздался страшный женский крик:
— Кассиршу-у-у убили!.. Держите бандита, держите его!..
Они в испуге вскочили со скамейки и сразу увидели, как от сберкассы в зелень бульвара убегал, сильно пригибаясь к земле и подпрыгивая, человек в сером комбинезоне. И, будто подброшенная пружиной, Катя тут же ринулась ему наперерез. Опешившая Оля пока сообразила, что произошло, пока кинулась вслед за подругой, крича на помощь людей, Катя уже мелькала далеко меж деревьев.
Легкая на ногу Катя бежала по кратчайшей прямой, делая порой резкие зигзаги то влево, то вправо, огибая оказавшиеся на пути деревья, кусты жасмина и сирени, ни на миг не выпуская из глаз человека в сером. Неожиданно она сильно ушибла ногу о затаившийся в траве камень, но в горячем порыве и желании во что бы то ни стало догнать и задержать бандита совсем не ощутила боли. Расстояние между ними с каждой секундой сокращалось, и это придавало Кате силы, теперь она была почти уверена, что его настигнет. «Нет, ты не уйдешь, нет, ты все равно от меня не уйдешь!» — подбадривала она себя, но тут вдруг боковым зрением приметила, что на другой стороне бульвара стоял зеленый грузовик, из выхлопной трубы которого толчками вылетал черный дым. Грузовик с работающим мотором, поняла она, как раз и дожидался бандита, и тот сейчас его достигнет, и тогда машина рванет, и все пропало…
От такой мысли у Кати больно сжало в груди, заклинило в горле. И в это время ее дух и тело, будто слившись воедино, с какой-то новой силой бросили ее вперед. Через секунду-другую она уже отчетливо видела большие квадратные уши бандита, кирзовые сапоги на его вывернутых дугами ногах, а спустя еще какое-то мгновенье ее руки коснулись серого комбинезона. Цепко ухватившись одной рукой за рукав, а другой за воротник, Катя чуть подпрыгнула и повисла на спине бандита, пытаясь сдавить своими ногами его короткие кривые ноги. Но тот неожиданно присел, резко рванулся всем телом назад, и она упала на землю. Тут же проворно вскочив на ноги, Катя снова кинулась к нему, на этот раз спереди, и успела увидеть его сизое, широкое лицо с остановившимися в злобе черно-мутными глазами. Тогда он страшно скрипнул зубами и быстро выбросил вперед руку, рассчитывая ударить ее в лицо, но промахнулся: Катя моментально пригнулась, отринула чуть влево, а затем сама с правой ударила его в подбородок. Он закачался, однако на ногах устоял и, кажется, несколько растерялся, не ожидая от хрупкой с виду девушки такой прыти. Но его замешательство длилось доли секунды, после чего он с новой яростью бросился на Катю и неожиданным и сильным пинком в живот свалил ее на землю.
Боль горячей волной обдала Катю, она стиснула зубы, скорчилась и тут услышала голоса бегущих к ней на помощь людей. «Мне хотя бы задержать его еще на минуту, всего на одну минуту… — пронеслось в ее голове. — Иначе они могут опоздать, грузовик уже близко…» И, собрав последние силы, она поднялась на колени, снова вцепилась в его комбинезон. Бандит тут отчаянно рванулся вперед, чуть проволок ее за собой, но потом вдруг резко пригнулся к ней, и тотчас жгучая боль захлестнула грудь Кати, а ее руки ослабли, выпустили комбинезон.
Но в следующую минуту она уже не чувствовала боли, напротив, в ее груди зародилось какое-то сладостное замирание, словно она раскачивалась на качелях. А дышать стало труднее, ей не хватало уже воздуха. Неужели это… конец?.. Неужели она так и уйдет с этой земли, не успев ничего сделать ни для себя, ни для людей?.. Неужели у нее не состоится свадьба, а Дмитрий будет мужем другой женщины?.. Неужели она никогда больше не увидит свою мать и Иван Иванович умрет теперь в одиночестве?..
Ей вспомнилась теплая ночь на берегу залива, когда они лежали под звездами, а потом Дмитрий сказал: «Ты не думай, теперь я тебя еще больше люблю». Ей вспомнилось Светлое озеро, шлепанье о песок раков и впервые после гибели сына небывалое сияние глаз Ивана Ивановича. Ей вспомнилось доброе лицо Тимофея Поликарповича и пестрый лопоухий Никишка, который неожиданно ее напугал… И все это было совсем-совсем недавно, нынешним летом. Какое у нее было удивительное, красное лето!..
Солнце светило ей прямо в лицо, но уже не жгло, как днем, а лишь сеяло ровный ласковый свет на дома, деревья; играло золотом на обелиске космонавтам. От этого его ракета, казалось, вздрагивала, рассыпала во все стороны искры-вспышки и была готова в любую минуту сорваться в бесконечность…
Катя глядела на эту ракету и не понимала, отчего вдруг та удалялась и становилась меньше, а веки у нее тяжелели и слипались. Это было даже странно, спать она не хотела, но веки неумолимо закрывались, и с ними уже трудно было сладить. А синее небо почему-то опускалось над ней все ниже и ниже, пока не слилось совсем с землей. «Куда же девалось небо?» — спросила она вслух и впервые не услышала своего голоса.
Сильно прихрамывая, Оля бежала что было духу. Она видела, как Катя в неравной борьбе с бандитом то взлетала вверх, то падала вниз, а потом уже на краю бульвара, на взгорке, вдруг скорчилась, рухнула на землю и больше не поднималась. Еще Оля слышала, как от нее слева и чуть сзади стучали каблуки бегущих людей, поднятых ее криком. До места схватки оставалось уже мало, наверное, метров тридцать, не больше, когда грузовик, стоявший у обочины дороги, бешено взревел и на полной скорости помчался к Марьиной Роще. В эту же минуту Оля увидела, что бандит резким рывком выхватил из-за голенища нечто сверкнувшее на солнце, а потом побежал от Кати. Но тут из соседнего магазина выскочили трое молодых ребят и бросались навстречу бандиту. Тот сразу круто вильнул вправо, кинулся к кустам, но ребята скоро настигли его и сбили с ног.
Когда Оля подбежала к Кате, вокруг нее уже собрался народ. Она протиснулась на середину и при виде подруги залилась слезами. Катя лежала на траве кверху лицом, на ее голубом платье были красные пятна от крови. Оля опустилась на колени, дрожа всем телом и всхлипывая, поправила разметавшиеся по траве длинные волосы подруги, осторожно пощупала у нее пульс.
— Боже мой, жива она, жива!.. — закричала Оля, поднимая к людям заплаканное лицо. — Катя будет жить, будет жить!.. Она обязательно будет жить!..
Люди, обступившие Катю, негодовали, готовы были разорвать на части убийцу, возмущались, что последнее время развелось много хулиганов, бандитов, с которыми зря либеральничаем, берем их на разные там поруки, устраиваем им товарищеские суды. А они всего лишь смеются над этим и постепенно становятся матерыми преступниками.
— Вот тогда только и беремся за них, когда те совершат что-нибудь страшное, — громче всех сказала высокая женщина интеллигентного вида с короткой прической.
— Истинная правда, — поддержал ее мужчина средних лет в джинсовом костюме. — Спохватываемся слишком поздно. Много ли в том проку, что посадим зверя, который отнял жизнь у хорошего безвинного человека.
— Да таких бандюг без суда надо стрелять не то вешать принародно!.. — подал свой голос опрятно одетый старичок, у которого нервно подрагивала седая острая бородка. — А мы все на гуманизм киваем. Но, скажите на милость, какой это к шутам гуманизм, если честный человек, нужный обществу, гибнет, а гадюка будет жить?..
— Я про то самое и толкую, — еще с большей горячностью заговорила женщина с короткой прической. — Мы кричим на все лады о гуманизме, а как это выглядит на деле? Ударил вас хулиган, ну, его постыдим-постыдим и прощаем. Жулик залез к тебе или государству в карман, а его не судим, видите ли, мало украл, меньше, чем на полсотню. Прямо смех один, будто нарочно жуликов плодим. Вот и выходит, что нашей добротой, нашим гуманизмом пользуются отбросы общества…
Катя по-прежнему лежала неподвижно, будто неживая, с закрытыми глазами и, видно, ничего этого не слышала. Лицо ее заметно побледнело, но красоты своей нисколько не утратило, а только стало чуть построже и дышало каким-то удивительным, почти неземным покоем. Сидевшая рядом на траве Оля каждую минуту прощупывала ее пульс, и ей казалось, что он бьется все тише и тише.
— Господи, вот ироды рода человеческого!.. — пробираясь поближе к Кате и часто крестясь, сказала сухонькая старушка, покрытая черным платком. — На такого ангела руку поднять!.. Ох, нехристи, нехристи… Все святое на земле загадили, храмы порушили, а чего добились?.. Отлучили людей от бога, а что взамен дали? Пытались своего создать, да не вышло: ум короток. Вот без веры-то и расплодилось иродов, только и слышишь: «Человека в подъезде убили… в лифте зарезали… в трубу живьем затолкали…» О господи, господи, услышь и наставь на путь истинный грешную паству свою!..
Полный мужчина в белой рубашке с цветочками, в синем галстуке и хорошо отутюженных светлых брюках взял старушку за локоть, настойчиво посоветовал:
— Иди-ка ты, бабуся, лучше в свой храм божий, а то отведу тебя куда следует.
— А ты мне не указывай, куда идти! — возмутилась старушка, оглядывая мужчину с ног до головы. — Ишь, угрожатель сыскался, сказать не дает. Нет, голубчик, кончилось то время, когда людям глотку затыкали… Гляньте на него, брюхо наел на добре народном и командует. Угрожать, видите ли, мне собрался… А ты что ж тем не угрожаешь, которые людей убивают? Или тебе не страшны они, ты в машине ездишь?..
— Всыпь ему, бабушка, всыпь!.. Обрати его в веру христову!.. — кто-то выкрикнул из толпы.
— Да потише вы, люди, — попросила Оля, обрата-, ясь к толпе. — Человек еле дышит, а им кричать надо…
Наконец приехала «скорая помощь», появилась милиция. Бандита, еще раньше связанного народом, тут же затолкнули в закрытую машину. Катю обступили врачи в белых халатах, милицейские работники, несколько дружинников, среди которых Оля узнала и тех двоих, что недавно видела у кинотеатра. Пожилой врач, у которого из кармана халата высовывался фонендоскоп, видно, был за старшего и скоро дал указание своим коллегам, и те тотчас безмолвно склонились с аппаратами над Катей.
Люди, стараясь не мешать, расступились по сторонам, но не расходились, притихнув, они стояли с напряженными лицами. Выйдя чуть вперед, Оля с тревогой следила за врачами, пытаясь по их поведению определить состояние Кати. Они, как ей казалось, вели себя несуетно, хладнокровно, и это вселяло в нее какую-то надежду. Но скоро Оля заметила, что врачи как бы утратили ту уверенность, которая раньше чувствовалась в каждом их движении, и вроде неожиданно сникли. Волнуясь, она подошла к пожилому врачу и сдавленным голосом сказала, что пострадавшая ее близкая подруга. Врач странно посмотрел на Олю и, кажется, не понял, о чем она говорила.
— Слушаю вас… — бросил он рассеянно.
— Доктор, она будет жить?.. — со слезами на глазах спросила Оля.
— Горько сознавать, голубушка, но жизнь ее уже… оставила…
— Нет, нет, неправда это, неправда!.. Доктор, миленький, умоляю, спасите ее, спасите!.. — взмолилась Оля, прижимая к горлу руки.
— К сожалению, врачи пока не боги… — сказал пожилой врач и отвернулся.
У Оли разом потемнело в глазах, подкосились ноги. Опускаясь на землю, она закрыла лицо руками и зарыдала.
XXVI
Катю Воронцову хоронили на третий день после гибели, в ясный полдень. В Москве было тепло, безветренно, в безоблачном небе еще высоко ходило солнце, и люди оделись по-летнему легко. Иван Иванович с Дмитрием были в черных костюмах, в белых рубашках с черными галстуками, Оля Малышева и Татьяна Николаевна — в темных платьях, с кружевными косынками на голове, другие женщины обрядились тоже в одежды неброские. На многих мужчинах были приглушенного цвета джемперы, простые повседневные рубашки. От всех отличались лишь пионеры, у которых на груди ярко пламенели галстуки.
Народу было много, так много, что в голове отрешенного от всего Ивана Ивановича, который больше не мог и не хотел ни о чем думать, само собой, помимо его воли проклюнулось: «Людей-то сколько!.. А вроде жила Катюша скромно, не выпячивала себя». И пошли потом его мысли виться дальше и дальше, как хмель по дереву. Он особо уже и не противился этому, потому как понимал, что важно оно было. Верно, что жила Катюша, как говорится, не напоказ, да людей, выходит, не обманешь, все одно они чуют главную суть в человеке. А она-то у нее была настоящая, плохому — не в жилу, хорошему — на радость. Но кто заложил ее в Катюшу?.. Да как кто, а все, что пришли сюда сегодня. Вот та же самая пионерия. Разве не на его глазах Катюша бегала с алым галстуком и вместе с такими, как сама, малявками опекала одинокую старушку, что жила тогда на их улице. Воду с колонки ей носила, за лекарствами в аптеку на велосипеде гоняла. Потом на ее школьной форме комсомольский значок заблестел. И опять новые дела: занятия с отстающими, ремонт класса своими силами, поездки вожатой в пионерлагерь. А еще раньше, в малом детстве, от матери многое привилось. Отец-то и вовсе был человек редкий, а вот погиб рано, она его, видно, и не помнила, а мать, конечно, заронила в Катю доброе зерно. Справедливая, честная Ирина Андреевна, да вот не повезло ей, не в срок овдовела. Видать, такая планида ее, и сейчас вот проститься с единственной дочерью не приехала. Наверное, телеграмма запоздала не то погоды нет, а оттуда, где она, лишь на самолете и выберешься.
Рядом с ним стоял Дмитрий с окаменевшим лицом, скорбно опустив голову. Русые волосы, слегка вьющиеся по вискам, у него сползали на глаза, мешая смотреть, а он и не замечал этого. Оглушенный и придавленный внезапным горем, Дмитрий уже третий день жил как в тумане, не узнавал прежнего города с его многолюдьем, скопищем машин, деловой столичной сутолокой. Сейчас он не любил этот город, казавшийся ему безумно огромным, холодным, безразличным к его горю, и не понимал, куда все спешат и спешат люди, на ходу заглядывая в газеты, дожевывая купленные пирожки. И к чему это зазывно крутятся тумбы на крышах голубых палаток-фургонов, продающих тонизирующие напитки, и к чему то загораются, то гаснут цветные огни на домах и башнях, а над улицами перекинуты транспаранты, зовущие к добру и братству? Зачем, зачем все это движение и мелькание, когда ему от безмерного горя хочется кричать и плакать?!
Поглядывая на бледное лицо Дмитрия и не зная, как того утешить (хотя трудно было сказать, кто из них в этом больше нуждался), Иван Иванович слабо стиснул его руку, тихо вымолвил:
— Венков-то сколько Катюше нашей…
И тут опять в угнетенной горем голове Ивана Ивановича потекли мысли о Кате. Да, слов нет, велика была утрата, выше самого неба, но кто теперь в силах отвратить эту страшную беду. Да и то верно, что живым совсем не без разницы, как уходит человек с этой земли. Ведь иной так уйдет, что людям только стыдно за него, и говорят тогда о таком: собаке собачья смерть, туда ему и дорога. А другой коптит небо долго, да толку от этого мало, и когда его не станет, то люди и не хватятся, как будто и не жил человек. А Катюше вон какие почести: духовой оркестр, пионеры, венки с красными лентами… Она и жить-то еще не успела, а люди, выходит, будут помнить о ней. И он до конца дней своих разве забудет ее? Что говорить, может, и ему больше не слышать песни соловья, это вполне вероятно в его годы, за которыми стояла война, а потом потери, потери. Нет, он не тешил себя тем, что жизнь его будет долгой, да и не хотел ее удлинять, если б мог (ведь все самые близкие и дорогие его сердцу люди теперь ушли из жизни), но раз Катюша тогда, после гибели Алексея, воскресила его, хотела, чтоб он жил, он в ее память не уйдет с этой земли прежде срока, для людей и добра осилит свою дорогу до конца.
Духовой оркестр повел прощальную песню, в которой самую высокую и пронзительную печаль, похожую на человеческое рыданье, выкрикивали трубы, и люди склонили еще ниже головы, словно устыдились, что они чувствуют тепло солнца, видят зеленую траву, слышат тихий шелест березы, а у той, которая лежала в белом подвенечном платье, глаза закрыты навсегда, и ей больше не радовать землю своим веселым смехом. И по лицам людей, казалось, пробежала тень вины, что они Катю любили, а вот уберечь ее от гибели не смогли.
Скоро у Дмитрия перед глазами возник какой-то лысый человек, который показался ему вроде бы знакомым, однако он вначале не придал этому значения. Мало ли что ему могло показаться сейчас, когда он смутно понимал происходящее и все видел как во сне. Но этот лысый мужчина малого роста будто нарочно хотел, чтобы Дмитрий непременно его заметил, и все маячил впереди, что-то подсказывая людям, стоявшим на другой стороне вырытой могилы. Было похоже, тот выполнял роль главного и делал какие-то распоряжения, о чем говорила и окаймленная черным красная повязка у него на рукаве. Излишняя и неуместная в такой момент его суетливость стала раздражать Дмитрия, и, не желая того сам, он опять посмотрел на него и на этот раз неприятно удивился: низкорослый мужчина слишком напоминал ему дядю Федю, родного брата матери. Только Дмитрий этому сперва не поверил, нет, не мог здесь быть его дядя, который, как ему помнилось, еще давно занимал какой-то важный пост в одном министерстве. Но тот в свою очередь тоже уставился на Дмитрия, а когда их взгляды встретились, словно бы испугавшись, быстро отвернул лицо в сторону. И теперь он окончательно узнал своего дядю Федора Макаровича, и ему было неприятно, что встретил его здесь.
Последний раз они виделись очень давно, кажется, лет семь назад, когда Дмитрий учился на третьем или четвертом курсе. За это время дядя сильно постарел, блестевшая лысина у него оседлала почти всю голову, и только на самом затылке топорщился жидкий клочок волос. Да и ростом он стал намного меньше, грудь его как-то запала внутрь, не выпирала, как раньше, этаким колесом. Оттого, видно, Дмитрий и не признал сразу дядю, что он в последнюю встречу выглядел иначе. В тот раз они увиделись случайно в метро «Кировская», на самом эскалаторе: один ехал вверх, другой спускался вниз. Заметив его, прямого и стройного, одетого в модный светлый плащ, Дмитрий тогда радостно воскликнул:
— Дядя Федя!.. Ждите, я сейчас поднимусь…
Но дядя вроде бы устыдился его, облаченного в потертую вельветовую куртку, и тотчас замотал головой, крикнул, что куда-то опаздывает, и обещал ему позвонить. А как он мог позвонить, подумал тогда Дмитрий, который по-прежнему жил в общежитии. Но потом успокоил себя, в конце концов в Москве не сотни общежитий студентов-медиков, а дядя у него такой, что все знает и все может. Ведь он, учась в школе, так гордился дядей и в чем-то ему подражал: расчесывал на косой пробор волосы, носил такой же черный берет. А все ребята в школе Дмитрию завидовали, что у него такой солидный дядя. Еще бы, их понять было можно, ведь в ту пору во всей их округе бегало, пожалуй, не больше трех десятков расхлябанных «Побед» и примерно столько же неказистых с виду старых «Москвичей», а его дядя за сотни верст, из самой столицы, однажды летом приехал в Сотовку в гости на служебной «Волге», которую всем хотелось потрогать, так заманчиво она сверкала на солнце черным лаком.
Дмитрию вспомнились слова матери, сказанные ею в тот год, когда он встретил в метро дядю, а потом летом приехал домой на каникулы. Тогда мать, выслушав его, с обидой говорила:
— А ты, сынок, к нему не набивайся… он стыдится нас, бедные мы и деревенские. Вот какой уже год к нам не приезжает, забыл совсем родимые места. Он, видать, так поднялся, что где ж ему оттуда, с этакой высоты, разглядеть нашу Сотовку. — Мать концом платка, который носила и летом, смахнула слезу, опуская глаза, призналась: — Теперь-то покаюсь тебе, я говорила с ним, когда ты на врача решил учиться, просила приглядеть за тобой. Думала, как будешь один в таком большом городе, кругом люди чужие. Хотелось, чтоб ты пожил у него, пока не осмотришься, а он куда там, разом разобиделся, говорит, у него не двор постоялый, на то общежитие есть. Коли, мол, поступит, на улице жить не оставят. А к нему часто люди большие приходят, дескать, неловко… Ты уж, сынок, не беспокой его, не надоедай. Знать, не зря говорят: муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. Это истинная правда. Да что там, ладно, бог ему судья…
После разговора с матерью Дмитрий обиделся на дядю и не искал уже с ним встреч, а тот ни разу ему не позвонил и в родную Сотовку больше не приезжал. И Дмитрию было непонятно, почему тут дядя, да еще в роли как бы главного лица, какого-то распорядителя: он часто к кому-то наклонялся, что-то тихо говорил. Изредка дядя бросал пугливые взгляды в его сторону, делая это украдкой, незаметно. «Почему он здесь?» — совсем некстати подумалось Дмитрию, у которого было горько на душе, а в голове ощущалась удручающая пустота. Или ему все это мерещится, или он уже начинает сходить с ума?.. А впрочем, что ему за дело до причины, которая привела сюда дядю. Если он здесь, то, выходит, тоже причастен к его горю, сочувствует ему. А горе должно объединять людей, а не разъединять… И Дмитрию захотелось подойти к дяде, обнять его, лысого и какого-то затравленного, сказать ему, что не держит на него обиды…
В это время трубы снова выплеснули плач-рыданье, заглушая звуки всех других инструментов, и, будто захлебнувшись в печали, тут же смолкли. А барабан немного запоздал, еще один раз ударил, как бы поставил точку в конце жизни Кати. И тотчас, казалось, замерло все живое, перестали шелестеть листья березы, стоявшей рядом, и от гнетущей, странной тишины у людей заложило уши. А после минутного безмолвия в эту тишину упали торжественно-печальные слова секретаря райкома комсомола, высокого молодого человека с умными светлыми глазами.
Горестно опустив голову, сильно ссутулившись, Иван Иванович стоял неподвижно, вспоминая короткую жизнь Кати, и перед ним как бы заново мелькали год за годом все ее девятнадцать лет, которые прошли у него на глазах. Занятый своими думами, он сперва почти не слышал говорившего, но потом уловил слова, близкие его мыслям.
— …Катя Воронцова совсем не ушла… — донеслись до него слова секретаря. — Она своим подвигом… позвала нас, живых, на штурм зла… Мы клянемся тебе, бесстрашная дочь комсомола, что очистим любимую столицу от всякой нечисти… Катя Воронцова ценою своей жизни задержала убийцу, грабителя народного добра… Ее подвиг останется в памяти нашей… Райком комсомола будет просить… назвать ее именем…
Иван Иванович подумал о том, что Катя теперь будет жить в памяти людей, и эта ее жизнь станет долгой-долгой. Через какой-то срок все они, кто тут стоит, тоже оставят землю. На смену им появятся новые люди, но и те будут помнить о подвиге Кати, ее имя и тогда не будет предано забвению. Память о героях нужна самим живым, это он понял давно, еще на войне. Там смерть всегда ходила рядом, каждый день забирала сотни и тысячи людей. И все равно было тяжко, если погибал человек. Но еще горше терять его теперь, когда бомбы давно не рвутся, а в чистом небе светит солнце. Как надо любить свою землю, людей, чтобы в такие дни броситься навстречу смерти!.. И надо щедро, всенародно чтить подвиги новых героев, как свято чтим тех, что не пришли с войны. Надо и на самом деле называть их именами улицы, площади, парки… Пускай люди, проходящие там каждодневно, всегда помнят тех, кто отдал свою жизнь во имя живущих…
Все это Иван Иванович хотел сказать людям, что стояли рядом с заплаканными лицами, но когда подошел к Кате, его силы разом оставили. Он только низко поклонился ей, как живой, и глухо, сдавленно вымолвил:
— Ну, прощай, доченька…
Вслед за ним у изголовья Кати постоял Дмитрий, поглядел на ее лицо, которое было по-прежнему красивое. Катя, казалось, всего-навсего утомилась, нечаянно задремала на миг и вот-вот откроет глаза. Потом он медленно склонился над ее лицом, еле сдерживая слезы, поцеловал в лоб и вздрогнул: лоб у нее не был холодный. «Она живая, живая…» — забилась в его сердце наивная надежда. Почему же у его бабушки лоб был холодный как лед, а у Кати он только чуть прохладный, как у живого, здорового человека. Но тут Дмитрий заметил, что в лицо Кати светит солнце, слегка пошатнулся и, ничего не помня, отошел в сторону.
Как прощались с Катей другие, куда девался его дядя, как молодые ребята в милицейской форме три раза ударили из пистолетов в воздух — ничего этого Дмитрий не видел и не слышал. Он был в каком-то исступлении и почти не понимал, зачем Оля с Иваном Ивановичем взяли его под руки, зачем вели и усаживали в автобус.
XXVII
Иван Иванович всю неделю сновал как челнок то к Дмитрию, то обратно, всякий раз находя какое-нибудь дело, в котором нужен был либо совет, либо неотложная помощь. Устраивал он это не потому, что ему было тяжко сидеть одному в осиротевшей квартире, а оттого, что опасался за Дмитрия. Тот хотя и казался с виду спокойным, но на редкость трудно переживал потерю Кати: в первые дни совсем плохо ел, ничего не мог делать, все валилось у него из рук. Дмитрий напоминал ему самого себя сразу после гибели Алексея, и как тогда Катя разными уловками сумела вернуть его к жизни, так теперь решил действовать и он.
Сегодня Иван Иванович отправился к нему ни свет ни заря, когда едва тронулись в путь первые трамваи, а в палисаднике пробудились птицы, заверещали на все голоса. Благо жил Дмитрий близко, пешком ходьбы-то совсем ничего, и сестра его Люся еще с уборки не вернулась. День воскресный, Дмитрию идти в больницу не надо, и вот посидят они вдвоем, потолкуют о своей жизни. Ведь вчера Ивана Ивановича расстроил Дмитрий, который прямо и откровенно сказал, что ему тут все немило: сам город, люди, больница; и он, пожалуй, куда-нибудь отсюда уедет, заберется в далекую, глухую клинику. А Ивана Ивановича уговаривал пожить пока в Сотовке у своих родителей. Там занятий ему, мол, предостаточно: и речка рядом, и лес кругом. А будет на то охота, может еще помогать отцу по пчеловодству, который этому только возрадуется. С ходу Иван Иванович не стал разубеждать Дмитрия, все кивал лишь да поддакивал, а теперь вот скажет ему, что не прав тот по всем статьям.
Он поднялся в лифте на шестой этаж, недолго позвонил. Дмитрий, оказывается, тоже не спал и открыл ему дверь в тренировочном костюме. Сильно сутулясь, Иван Иванович вошел в квартиру и сразу посветлел лицом: она нравилась ему своим спокойным убранством, каким-то умным порядком во всем. Каждая вещь в ней была на своем месте, и ничто навязчиво не лезло на глаза, не заявляло о себе особо. У квартиры было что-то схожее с человеком, у которого все по отдельности кажется, обычным (нос как нос, глаза как глаза), а вместе взятое делает его лицо притягательно приятным. И Иван Иванович подумал о том, что хирурга, наверное, можно узнать по квартире, работа, где нельзя ошибаться, где все должно быть точно и на своем месте, приучает его поддерживать порядок и дома.
— Вот хорошо, что вы пришли, — приветливо сказал Дмитрий, кладя руку на плечо Ивана Ивановича и вымученно улыбаясь. — Сейчас мы чайку попьем, позавтракаем.
Он давно уже полюбил Ивана Ивановича, еще с той самой поездки за раками, когда ночевали в копне, а общее горе и вовсе их сблизило, привязало друг к другу. Теперь он относился к нему, как к родному отцу, и его ранний приход обрадовал и в то же время насторожил Дмитрия. Оглядывая низенького, с опущенными плечами Ивана Ивановича, на лице которого воспаленно блестели печальные глаза, Дмитрий догадался, что тот в эту ночь, видимо, мало спал, и еще раз убедил себя, что старика надо всеми правдами и неправдами отправлять в деревню. Там, на свежем воздухе, в тиши и покое, под присмотром отца с матерью, он еще придет в себя, силы к нему могут вернуться. А здесь его надолго не хватит, в городской пыли да копоти, в своем круглом одиночестве он быстро угаснет.
— Ты, Тимофеич, не обессудь птичку раннюю… Что-то, понимаешь, скрутило меня, еле дотащился, — пожаловался Иван Иванович, придерживаясь рукой за левый бок.
Дмитрий про себя подумал, что вот уже дает о себе знать уход Кати, нет, не пережить все это старику, а Ивану Ивановичу сказал как можно спокойнее:
— А мы возьмем да раскрутим вас, так-то вот. Ну, расскажите, где и что у вас болит?
— Вот тут и болит, — показал он на грудь.
— Так, понятно-понятно… А боли какие — тупые, резкие?.. Или саднящие?.. — пытался выяснить Дмитрий.
— Не то и не се, а какая-то одна… сплошная.
Дмитрий попросил его снять рубашку, посадил на стул. Прикладывая металлический пятачок фонендоскопа то к груди, то к спине Ивана Ивановича, велел дышать ему и глубже, и тише, и совсем замирать. Тому было щекотно от касания прохладного прибора, и он, сжимая плотно губы, с трудом сдерживался, чтобы не прыснуть, сохранить страдальческое выражение лица.
— В легких вроде все чисто, — произнес Дмитрий профессиональным тоном врача. — А сердце… Все-таки скажите мне, какой характер боли?
— Да какое там характер, заложило все сплошь, ни туда ни сюда, — пояснил Иван Иванович, потирая грудь. — Вот как выдыхаю, еще ничего, терпимо… А чуть наберу в себя воздуху — сразу жутко как больно.
Дмитрий опять принялся его осматривать: одну руку прикладывал к груди Ивана Ивановича, а пальцами другой отрывисто постукивал по первой. И отчетливо слышен был некий крепкий звон, будто стучал Дмитрий не по его груди, а по запрятанному в ней тугому барабану. Потом он уложил Ивана Ивановича на диван, начал тискать ему живот и снова просил дышать глубже. Дмитрий мял сильными руками хирурга его живот то пониже, то повыше, запускал пальцы под ребра так далеко, что Ивану Ивановичу стало больно и он взмолился:
— Да зря ты, Тимофеич, там ищешь… Я же говорю, в груди у меня что-то… ну, вернее, в левом боку.
— Все равно печень не мешает проверить, — сказал серьезно Дмитрий. — В вашем возрасте она часто пошаливает. А симптомы бывают обманчивы: вроде болит одно, а на деле, глядишь, совсем другое… Я вот думаю, надо вас в хорошую клинику определить. Там вам сделают комплексное обследование, кое-что подлечат. А тогда уж и покатим в деревню здоровым огурчиком.
Иван Иванович хотел было признаться, что никакой бок у него не болит, что все это он придумал. У него просто-напросто стонет душа, ему страшно оставаться одному. А пуще всего он боится за Дмитрия, у которого устойчиво держалась апатия к жизни, зато и прибежал к нему спозаранку. Однако в последнюю минуту он передумал, не стал об этом говорить Дмитрию и лишь наотрез отказался от больницы.
— Нет, Тимофеич, ты уж не сердись, но в твою клинику меня и леший не затянет, — сказал он, надевая рубашку. — Ты подумай, что мне там делать? Сам же говоришь, хвори во мне нету, и ты прав, я чувствую себя вполне прилично. Вот и в груди, кажись, начинает отпускать…
— Ну, смотрите сами… — не стал настаивать Дмитрий и свернул фонендоскоп, запихал в письменный стол. — Я-то думал, вам полезно будет подлечиться после такого…
— Что верно, то верно, — выдохнул трудно Иван Иванович и закивал в знак согласия белой головой. — Тряхнуло нас с тобой крепко, хуже лютому врагу не пожелаешь. Да что теперь поделаешь, лишь время, может, потихоньку все выправит. Я ведь, когда не стало Алексея, сперва тоже на весь белый свет озлился, на всех людей, я видеть никого не мог… И если б не Катюша, сам знаешь, не ходил бы уже давно я по земле. Она тогда во мне будто что перевернула, меня, хочешь верь, хочешь нет, напротив, потянуло к людям. Я наконец понял, одному человеку нельзя, он не зверь какой, чтоб в берлоге сидеть. Видишь, как оно было… А ты хочешь в захолустье забиться, на Москву обиделся, на людей, тут живущих. Нет, что ни говори, а не дело это, я такое, прямо скажу, не одобряю, нет, не одобряю… Это я тебе как сыну говорю, ведь теперь ты у меня один во всем свете остался… Катюши уже нет, а я вот увижу тебя, поговорю с тобой, и мне как-то сразу на душе легчает…
Дмитрий закурил сигарету, несколько раз нервно затянулся, подавленно сказал:
— Трудно мне, Иван Иванович, ходить по этим улицам, видеть эти дома… Тут все напоминает о ней… Порой прямо ну хоть…
— Нет, нет, так нельзя, Тимофеич, это совсем никуда не годится, — взволнованно заговорил Иван Иванович. — Такой путь нам не подходит. Ты коммунист, тебе это не к лицу, а я хоть и беспартийный, но старый солдат. А что тогда остается? Стало быть, только одно — жить… Ты знаешь, мне ведь тоже нелегко, я ее часто во сие вижу. Сегодня вот как-то по-новому приснилась. Будто стоим мы с ней в прихожей в боксерских перчатках, а бой никто начинать не хочет. Я говорю, нападай ты, а она просит, чтоб я. Ну уступил я ей, один раз слабо ударил в плечо. А она не отвечает, стоит с незащищенной грудью и смеется, только в глазах проглядывает что-то вроде укора. Тогда я решил покрепче стукнуть, чтоб вызнать у ней спортивный азарт, и прицелился в другое плечо, выкинул руку вперед. Она в это время крутнула всем корпусом, пригнулась, и я попал ей прямо в лицо. Кровь сразу потекла тонкой струйкой по ее губам, подбородку, а она хоть бы что, все так же стоит и смеется. И опять в ее веселых глазах тот же самый укор…
Вот я теперь я думаю: что означает этот странный сон? Почему она так глянула на меня, как при жизни никогда не глядела? А может, я как раз и есть главный виновник Катюшиной гибели? Я же научил ее этому проклятому боксу… Может, не знай она разных там приемов, то и не кинулась бы так отчаянно на бандита?..
— Ну что вы, что вы, Иван Иванович! — пытался успокоить его Дмитрий, сам расстроенный услышанным рассказом. — Какой же вы виновник?.. Она уж такая была, что не могла обходить зло… А вас поскорее надо увозить отсюда. В деревне, я уверен, вам легче будет…
— Ты обо мне, Тимофеич, голову не ломай, — отмахнулся Иван Иванович. — Мне уж ничего не страшно, я словно задубел. Я, считай, всю жизнь в горе купаюсь, как топляк в воде… Да и так давай рассудим, а какой русский не знал горя? Сполна его хватало в России во все века. Ты вспомни, кто только не лез на нашу землю: монголы с татарами, шведы там разные, эти — как их? — псы-рыцари, французы-шаромыжники, турки, япошки… А еще англичане долговязые, когда Толстой воевал… Потом пошла гражданская, стали свой своего убивать… Ну, а про последнюю-то войну и вспоминать страшно, столько горя она принесла нашему народу!.. Я так тебе скажу, не было такого времени, когда бы русский человек жил в покое да радости. Вот только теперь чуть и расправляет он плечи, уже, слава богу, тридцать с лишним лет войны не знаем. Но чего это стоит? Сколько сил забирают разные там ракеты, бомбы, спутники!.. А что поделаешь?.. Врагов у нас вон сколько, лишь крепким кулаком и можно их образумить…
Да, так ты говоришь насчет деревни… Конечно, спасибо тебе, Тимофеич, что жалеешь старика, а все равно не могу я туда поехать. Сам посуди, это опять мне привыкать к новым людям, незнакомым местам…
В это время зазвонил телефон. Дмитрий сразу встал с кресла и взял трубку, с кем-то вежливо поздоровался, потом сказал: «Да, да, у меня… Конечно, заходите, какой может быть разговор». Положив трубку, сообщил Ивану Ивановичу, что его разыскивает Оля, которая сейчас к ним придет.
— Вот добрая душа… мается… — вздохнул Иван Иванович. — Все боится, что я руки на себя наложу, каждый день прибегает. А сегодня, видишь, опоздала… Вот она и встревожилась.
Дмитрий не раз собирался спросить, не знает ли Иван Иванович его дядю, который почему-то был на похоронах Кати, но все как-то забывал об этом. А сейчас после звонка Оли он снова о нем вспомнил:
— Иван Иванович, а вы не знаете, кто такой тогда распоряжался на кладбище?.. Вот тот, что с повязкой еще был?..
— Это лысый-то такой?.. — Иван Иванович наморщил лоб, напрягая память. — Так то был Катюшин начальник, парикмахерской заведует… Она его что-то не любила. А так я больше ничего о нем не знаю.
«Выходит, скатился дядя, — подумал Дмитрий. — Зато у него и вид был пришибленный. Теперь ясно, отчего он Сотовку забыл. Когда летал высоко, до нее ли ему было, а после падения стыдно туда показываться…»
Прибежавшая к ним Оля в один миг каждому нашла какое-нибудь дело: Дмитрия заставила помыть принесенный ею арбуз, Ивана Ивановича попросила наточить нож.
— Бобыли несчастные… сидят, ждут у моря погоды, — незло выговаривала им Оля. — А в холодильнике хоть шаром покати… Сахару всего три кусочка, хлеба кошке на завтрак не хватит. Прямо дети малые, дороги в магазин не знают.
Иван Иванович с приходом Оли немного повеселел, стал все чаще поглаживать бороду, что всегда делал при добром настроении, и даже изредка пытался шутить.
— Олюшка, милая, а меня-то за что рикошетом? — с деланной серьезностью спрашивал он, глядя на нее слегка ожившими глазами. — Я тут такой же гость, как и ты, всего-навсего. Уж давай тогда пали кучнее, чтоб по главной мишени…
— Оба вы хороши, один другого стоите, — не меняя обвинительного тона, говорила Оля, готовя на плите глазунью, для которой в какой-то кастрюле отыскала два яйца. Одновременно она протирала бумажными салфетками вымытые Дмитрием вилки, тарелки. — Вы гляньте на себя в зеркало, убедитесь, на кого стали похожи. У вас уже не лица, а маски из воска с холодными стекляшками вместо глаз. Каждого только и осталось обрядить да в гроб положить… Это называются мужчины, сильный пол… А где же ваша стойкость, мужество?.. Сидят тут как бирюки и не знают, что творится сегодня на улице…
— А что там такое, Олюшка? — спросил Иван Иванович и посмотрел в открытое окно. Во дворе, играя, бегали с веселым визгом двое мальчишек, а больше ничего он не приметил.
— Сегодня город словно вымер, вот что такое, — нарезая хлеб, ответила Оля. — Улицы совсем без людей, трамваи ходят пустые. Хромые да больные старушки и те снялись с места. От солнца повязали светлые платки, захватили с собой сумки, корзинки и с утра еще выползли за город, С чего бы это, думаю, старушек потянуло вдруг на природу?.. А сейчас зашла на рынок и ахнула. Это надо видеть, что там творится! Все лавки-прилавки закалены сплошь ягодами, грибами. Прямо горы грибов, и почему-то одни белые, с толстыми ножками, крепкими шляпками. Сами в рот так и просятся… Я как увидела эти дары природы, так сразу и подумала: ну все, сейчас вытаскиваю затворников в лес…
— Ты чуешь, Тимофеич, в кого она целится? — сказал Иван Иванович, у которого теперь еще больше оживились глаза. — А может, тут и есть резон, как ты считаешь?.. Оно, конечно, боровичков не мешало бы пошукать…
— Учтите, Дмитрий Тимофеич, — предупредила Оля, сверкая синими глазами, — если у вашей машины убежит в багажник искра, то это все равно вам не поможет…
— Оля, вы напрасно обо мне такого мнения, — возразил Дмитрий и впервые заметил маленькие ямочки на ее круглых розоватых щеках. — Уж когда Иван Иванович высказывает согласие, я тем более не смею противиться.
XXVIII
Обгоняя чуть замешкавшиеся легковушки и редкие по воскресеньям, коптящие черным дымом грузовики, сбавляя скорость лишь на резких поворотах, мостах да крутых спусках, они уже около часа ехали на белых «Жигулях» по узкому Дмитровскому шоссе. Справа и слева им навстречу текли еще вовсю зеленые леса, взбегающие к небу лобастые холмы, пестрые августовские нивы с синими дымками от работающих там машин. Нередко вплотную к дороге прижимались небольшие деревни с закрытыми колодцами, с выставленными по обочинам корзинками и ведрами, доверху наполненными смородиной, черникой, помидорами, молодым картофелем. Там же лежали на табуретках, а то и прямо на земле на разложенных газетах зеленые пучки укропа, петрушка, салата. Если проезжавшая машина вдруг тормозила подле таких самочинных базаров, сейчас же из примыкавших к домам садов и огородов выходили степенные с виду старушки, растолковывали, почем продается их немудреный товар.
Скоро, когда подъехали к очередной такой деревне, Оля, сидевшая рядом с Иваном Ивановичем, неожиданно запрыгала как малое дитя, захлопала в ладоши и громко, восторженно воскликнула:
— Ой, смотрите, смотрите!.. Коза по крыше ходят…
И всем было так любопытно видеть белую козу с круто загнутыми назад рогами, которая словно застыла у самого конька тесовой крыши дома, что Дмитрий тут же сбросил газ, на минуту прижал машину к обочине. Чуть склонив набок голову, коза задумчиво оглядывала сверху землю, как полководец с какой-нибудь высоты озирает поле боя.
Дмитрий сразу вспомнил свою сухонькую, юркую бабушку и на редкость проказливую козу Соньку. В первое послевоенное десятилетие еще тяжелой была жизнь в их Сотовке, и многие сельчане тогда вместо коров заводили коз. В то время отец тоже купил козу, чтоб в доме было хоть какое-то молоко. Паслась коза Сонька всегда на зеленой лужайке за огородом, а присматривать за ней вменялось шестилетнему тогда Дмитрию. И вот как-то убежал он с самодельным самокатом подальше от дома, а когда вернулся назад, то Соньки на лужайке уже не было. Он обегал все кругом, но найти ее нигде не мог, словно провалилась та сквозь землю. Убитый горем, он сел на крыльцо и заплакал. А скоро услышал, как где-то совсем рядом блеет Сонька. Задрав голову, он увидел ее на крыше избы и еще больше разревелся, боясь, что Сонька упадет оттуда и переломает себе ноги. Тогда-то и вышла на крыльцо бабушка, узнав, почему он плачет, погладила его по голове и тут же утешила: «Не лей ты слез понапрасну, глупенький мой. Сонька твоя как туда залезла, так опять и слезет. Ничего с ней, прохвосткой, не поделается».
Вспоминая сейчас об этом, Дмитрий поймал себя на том, что думает о своей любимой бабушке как-то спокойно, легко, как о живом человеке. Неужели когда-нибудь с таким же спокойствием он будет вспоминать и о Кате? От этой мысли ему стало вроде легче, но он тут же ее испугался. «Нет, никогда, никогда!» — вовсю запротивилась его душа. Да, не мог еще Дмитрий поверить, что время поздно или рано помимо его воли возьмет свое, приглушит в сердце чувство утраты, потому что любить можно только живых, а мертвых надо помнить, думать о них светло.
Уже не видно было белой козы, давно осталась позади и сама та деревня, а Оля как истинная горожанка, которой из всех животных только и знала хорошо кошек да собак, все еще продолжала удивляться:
— Ну и коза, ну и чудо!.. Прямо цирк под открытым небом!..
— Это зов крови предков поднял ее на крышу, — рассудил Иван Иванович. — Сколь уже веков прошло, как козу одомашнили, а все одно она тоскует по высоте — по горам, отвесным скалам, откуда глазам открывается больше простору… Вот и ты, Олюшка, вроде сродни той козе… выросла в городе, а тянет тебя в лес… И нас грешных еще ухитрилась сманить. А что-то, голубушка, грибников нам пока не попадается.
— Не волнуйтесь, попадутся, — успокаивала его Оля. — Лес-то настоящий только и начинается.
После Дмитрова с его древним Успенским собором, с вознесшимся над городом монументом защитникам Москвы и на самом деле пошли вроде сплошные леса, а слева вдоль шоссе ровной синей лентой потянулся канал. По его берегам-террасам то тут, то там ярко пестрели палатки туристов, легковые машины, мотоциклы, сновали в просветах между деревьями загорелые люди а купальных костюмах.
— Полюбуйтесь, форменный курорт, — поглядывая на канал, сказал Иван Иванович. — Какая, однако же, здесь благодать!.. Я не пойму, за чем это люди едут куда-то там к морю, за тридевять земель киселя хлебать, когда вот рядом столько красоты. Да и с чем можно сравнить Подмосковье? Скажу я вам, что бывал я и на море, и в горах, а поживешь там неделю-другую, и скука берет, тянет опять к нашей природе. Казалось бы, что в ней уж такого особенного, да все равно манит она к себе русское сердце, как ту козу — высота.
Соглашаясь с Иваном Ивановичем, Оля вертела головой по сторонам, будто впервые видела бегущие навстречу красноватые сосны, высокие прямые березы, называла Подмосковье Швейцарией, в которой сама, конечно, не бывала и куда ее нисколько не тянуло. Любуясь во все глаза скромным нарядом леса, лишенным той назойливой яркости, какая присуща природе юга, Оля пожалела, что нет с ними Левушки, которого рыжая грымза в выходные ни на шаг от себя не отпускала. В такой ясный и жаркий день он томился сейчас в душном городе, тогда как ему-то, художнику, прежде всего надо быть здесь, видеть это своими глазами. И так обидно ей стало за Левушку, за свою непонятную и, может быть, постыдную к нему любовь, от которой страдает она и мается, постоянно раня душу матери.
Иван Иванович, не догадываясь, конечно, какие думы занимали сейчас Олю, по-отечески обнял ее за плечи и немного повеселевшим голосом сказал:
— Спасибо тебе, Олюшка, что вызволила нас из каменных стен… Ты чуешь, Тимофеич, какой тут воздух? У меня в голове прямо этакий хмель, будто я рюмку доброго вина хватил.
Дмитрий лишь молча кивнул и продолжал все так же неотрывно смотреть вперед: за рулем он всегда был малоразговорчив. Обстановка на дороге меняется быстро, каждую минуту тебя кто-то обгоняет, в любой момент жди встречную машину, какую-либо повозку, велосипедиста, наконец, на шоссе может некстати выйти из лесу человек. Он знал, что езда за рулем требует немало собранности, хладнокровия и постоянного внимания. Этого-то ему сейчас и не хватало, он не раз спохватывался, что о чем-нибудь задумывается и тогда невпопад вертит рулем, слишком резко тормозит. Поэтому, заметив безопасный пологий съезд, он только обрадовался и немедленно свернул с шоссе в сторону.
Было уже далеко за полдень, когда они спустились на берег канала, на его нижнюю террасу, и, поставив машину в тень под березы, в первые минуты молча огляделись. В обе стороны от них уходила широкая и прямая, как взлетная полоса, рукотворная река, к берегам которой почти вплотную подступал лес. Зеленые вершины деревьев вперемежку с белыми облаками гляделись в зеркало воды, чуть подрагивая в ней от мелких, едва видимых волн, что незаметно, как бы с опаской нагонял слабый ветер. Но скоро волны начали крепчать, с чмоканьем забились о прибрежные камни — это встревожил воду медленно подходивший пассажирский теплоход. И чем ближе он подплывал, тем все больше вырастал над водой, а сами берега канала и сбегающие к ним деревья на глазах уменьшались, становились ниже и ниже. Когда он поравнялся с березами, под которыми они остановились, то вздымался уже так высоко над всем окружающим, что казался не теплоходом, а какой-то сказочной белой глыбой, огромной, необъятной.
Они долго еще стояли, не отрывая глаз от теплохода, который теперь с каждой минутой удалялся, становясь все меньше и меньше, а сам канал вроде делался шире. Наконец теплоход превратился в белую точку, а скоро и совсем растаял в голубой дали леса и неба.
Зачарованные белым теплоходом, они не сразу заметили метрах в ста от себя бледно-желтую палатку, возле которой слабо дымил костер и хлопотали люди: женщины, возясь с посудой, видимо, готовили еду, а мужчины, сняв рубашки, копались с мотоциклом. Один из этой компании промышлял насчет ухи, прикрыв газетой голову от солнца, он сидел с удочкой на берегу.
— Да тут, кажись, рыбешка водится!.. — оживился Иван Иванович и сейчас же стал сокрушаться, что не захватил с собой рыболовные снасти.
— А у меня в багажнике удочка раздвижная, — обрадовал его Дмитрий.
Иван Иванович сразу забыл про всякие грибы и кинулся искать червяков. Олю он попросил наловить кузнечиков, поскольку не знал пока, что за рыба в канале и на какую наживку она станет лучше клевать. Через какие-нибудь полчаса он уже пристроился на плоский камень у самой воды и тотчас будто замер, кроме красного с белой полоской поплавка, ничего уже не видел.
Дмитрий тем временем решил заняться машиной. Одно колесо у нее почему-то спускало, и он давно собирался заменить его запаской, но до этого все как-то не доходили руки. Сейчас он вытащил домкрат и стал поднимать перед машины. Оля, радуясь, что мужчины наконец при деле, взяла из багажника пластмассовый бидон и пошла в лес за грибами.
Спустя какое-то время в ведре, стоявшем у ног Ивана Ивановича, уже плескались три небольших окунька, и он, поглядывая на них, вспомнил то время, когда вот так же сидел с удочкой на берегу Москвы-реки, а рядом в ярко-синем купальнике стояла вся смуглая от загара и улыбающаяся жена. Маленький еще Алешка, пристроившись на корточках у ведра, пытался погладить пойманного ерша и, уколов руку о его острые плавники, испуганно отскакивал в сторону, с недоумением жаловался: «Пап, а он еще кусается!..»
И тут в голове Ивана Ивановича будто завертелись в обратную сторону какие-то колесики, и перед ним стали возникать одна за другой разные картины прошлого: то ему виделась в лучах огней прожекторов сцена заводского клуба, на которой он стоял с широкой чемпионской лентой на груди, то он слышал усиленный микрофонами свой голос с трибуны Дома Союзов, когда там выступал на собрании новаторов столицы, то перед его глазами мелькали украшенные красными флажками новенькие машины для самых первых целинников, выходящие под гром музыки из ворот их завода…
Как недавно, казалось, все это было, совсем недавно, словно бы вчера. Как же быстро и неумолимо бежит время! И как странно, что сейчас, когда он видит этот зеленый лес, слышит посвист пичуг, чувствует набегающий волнами давно забытый запах реки, в памяти почему-то всплывает только хорошее, светлое. А ведь в его жизни было столько горя!.. Сперва война, ранение, потеря отца с матерью, братьев, потом смерть жены, гибель единственного сына и наконец вот Катюши…
Покончив с перестановкой колес, Дмитрий подошел к Ивану Ивановичу, заглянул в ведро, где, шевеля красными плавниками, пуская мелкие пузыри, тыкались мордами в стенки уже около десятка полосатых окуньков.
— Ого-го, на целую уху натаскали!.. — удивился он.
Иван Иванович, довольный удачливой рыбалкой, сейчас же склонился над ведром и не утерпел похвастать:
— Похоже, близнецы-братья попались… Гляди-ка, гляди, все один к одному… Думается, верных граммов по двести каждый гаврик потянет. Ты как считаешь?..
Дмитрий видел, что окуньки были от силы граммов по сто, а то и меньше, однако, зная извечную страсть рыболовов к преувеличению и не желая омрачать приподнятого настроения Ивана Ивановича, не только согласился с ним, но еще и пролил ему на душу бальзам. Опускаясь рядом на камень, он закурил сигарету и с нарочито серьезным видом сказал:
— А по-моему, все триста в каждом будет…
— Да, да, ты, конечно, прав… Это я уж так, по-скромному прикидываю, — с готовностью согласился Иван Иванович.
В эта время к самому берегу канала неслышно подкатил оранжевый «мерседес» и, чуть скрипнув тормозами, как вкопанный остановился. Распахнув широко дверцу, из него вышла, небрежно потягиваясь, высокая, сухопарая девушка в белых, плотно обтягивающих джинсах и широкой декольтированной блузке. Дмитрий сразу узнал в ней студентку-медичку, что месяц назад проходила у них практику. Да, это была она, дочь академика Хмурова, избалованная и капризная девица, которая за все время практики, кажется, только два раза и появилась в больнице. Вслед за ней, к удивлению Дмитрия, лениво вылез из машины Жора Кравченко в расстегнутой красной рубашке, с тонкой золотой цепочкой на голой груди.
— Ну и жуть с ружьем!.. — дурачась, воскликнул Жора, обнимая девицу за длинную шею. — Ты полюбуйся, Аля, кругом ни души… Вот убьют нас с тобой, ограбят и сбросят в эту мутную канаву.
— Ау как напугал!.. Ну, пугай, пугай, а мне ничуть не страшно, — визгливо захохотала Аля. — Вон машина стоит под березами, вон мотоцикл…
— Уверяю тебя, это разбойники, цивилизованные пираты на колесах… — сказал он и, увидев Дмитрия, запнулся, но потом, не меняя того же игривого тона, закричал еще громче: — Ты посмотри, посмотри, кто это!.. Нет, мир все-таки тесен, срочно нужна атомная война!..
Иван Иванович, сердито кося глаза в сторону нежданных пришельцев, недовольно покашливал и сердито сутулился. Дмитрий понял, что он спасается, как бы Жора своим криком не распугал ему рыбу, и поднялся повыше на берег, подошел к ним.
— Аля, знакомься, это Булавин. — Жора представил ей Дмитрия — Потрошит людишек, все им отрезает и пришивает… Одним словом, великий эскулап нашего мрачного века!.. Да ты и сама должна его знать…
— Да, я помню… видела в больнице, — улыбнулась Аля, сильно растягивая уродливо маленький рот, который чуть не вплотную прижимался к широкому носу с раздутыми ноздрями.
Раньше, встречая мимоходом Алю в больнице, Дмитрий не заметил эту особенность в ее лице, напротив, тогда она ему показалась даже симпатичной. А сейчас его неприятно поразил Алин крохотный отталкивающий рот. Но оранжевый «мерседес» и папа академик многое значили для Жоры, и он, похоже, разыгрывал из себя влюбленного. Во всяком случае, Жора был явно весел: ему наконец подвернулось то, что он так долго искал. А его наивная сестрица в последнем письме еще спрашивает, не заболел ли Жора, который обещал, оказывается, каждое воскресенье приезжать к ней в совхоз, но пока ни разу туда носа не показывал. И теперь Дмитрий был уверен, что Людмилка не дождется Жору.
— Вот Аля хочет окунуться в этой грязной луже. Я ее по-всякому отговариваю, но она меня не слушает, — пожаловался Жора, накручивая на палец висевшую на груди цепочку.
— А я буду, все равно буду!.. — капризно вскидывая голову, стояла на своем Аля.
— Вода здесь чистая, почему же не искупаться, — поддержал ее Дмитрий.
Аля растянула в улыбке уродливый рот и тотчас нырнула в «мерседес» переодеваться. Они еще с минуту молча постояли. Говорить им было не о чем, и это неприятно тяготило Дмитрия. Потом он увидел вышедшую из лесу Олю, обрадовался этому и, ни слова не сказав, быстро зашагал к своей машине. А Жора растерянно глядел ему вслед и все стоял на том же месте, пока его не окликнула Аля.
Скоро оранжевый «мерседес», нервно вздрагивая на кочках, затаившихся в высокой траве, с вороватой торопливостью уплыл в расщелину леса, что вела в сторону шоссе, а они еще долго сидели под березами, задумчиво поглядывая на проходившие мимо теплоходы. Уже давно была пуста и остыла кастрюля, в которой Иван Иванович самолично сварганил окуневую уху, уже давно померкли последние угли в угасающем костре, а они все не уезжали, словно боялись гулом машины спугнуть тревожно-печальное на исходе лета треньканье птиц.
ГОРОД НЕ КОНЧАЕТСЯ Повесть
Глава первая
Мы идем по проспекту Мира. Солнце уже садится, окна в новых высоких домах горят хрусталиками. Летят навстречу автобусы, задевая обсыпанные снегом ветки лип. Потревоженные снежинки вспыхивают белыми искрами, неслышно плывут в воздухе, потом дрожат на волосах Марины, будто устраиваются поудобнее, и скоро гаснут.
Голова у Марины не покрыта. Густые волосы собраны наверху в большой пук, и, если отойти подальше, кажется, на ней турецкая чалма темно-бордового цвета. Странные у нее волосы. Я никогда таких не видел. Марина, конечно, их покрасила, и ей здорово идет этот невообразимый цвет.
— Вам не холодно?
Нет, ей нисколько не холодно. А я давно закоченел. Я всегда мерзну, если девушка очень нравится. Странно! А еще я не могу молчать. Я не люблю, когда люди идут молча. Раз нечего сказать, шагай в одиночку. Молчать лучше всего одному. А вдвоем зачем молчать? Люди потому и ходят по двое, по трое, чтобы говорить и смеяться.
А Марина молчит. На ее черном пальто белая дорожка из пуговиц. Она все время крутит нижнюю пуговицу и молчит. Ну и пускай! Я готов говорить за двоих. Только обидно, что она так быстро идет. Вот уже метро, сейчас Марина взойдет на эскалатор и медленно поплывет под землею, а я буду стоять наверху, пока не потеряю ее из виду.
В вестибюле метро Марина замедляет шаг и говорит:
— Я пришла.
— Очень жаль. Надеюсь, вы живете не в метро? Я мог бы проводить вас дальше.
— Пожалуйста, если вам делать больше нечего.
Я молча иду к кассе и меняю монеты. А когда возвращаюсь с пятачками, Марина уже стоит у самого эскалатора, ждет меня. Я торопливо бросаю в турникет пятачок, делаю два шага. Но тут раздается треск, и мягкие резиновые рычаги преграждают мне путь к Марине. Вот позор!
В свое время я очень радовался, что в метро поставили турникеты. Чудо-автоматы шагнули под землю! А сегодня я готов разнести в щепки этого механического бюрократа. Ему нет никакого дела, что я первый раз провожаю Марину. Он бездушно пунктуален: проходите только слева.
Обиженный на турникет, я несмело подхожу к Марине, и эскалатор бережно везет нас вниз. Марина делает вид, что ничего не заметила. Но я вижу, как подрагивают ямочки на ее щеках. Чтобы не рассмеяться, она опускает глаза, рассматривает свои замшевые сапожки. Я от смущенья чешу бровь, рассеянно оглядываю людей, поднимающихся вверх, и еще ругаю эскалатор: почему он такой длинный.
Скоро ступени, на которых мы стоим, бесшумно убегают под ребристый металлический щит. И сразу: цок-цок. Это Марина вызванивает по отшлифованному граниту тонкими каблуками. Она ловко петляет в толпе пассажиров, только что сошедших с поезда. Я, неуклюже ступая в своих микропорках, все время отстаю и догоняю ее только в вагоне.
На станции «Новослободская» мы выходим. Дом Марины напротив метро, светло-желтый, с волнистыми полосами от дождей. Она живет на улице, к которой я никак не отношусь. Ее не за что любить или не любить. Каляевская — безликая улица. Она не обижена длиной, но здесь нет ни площадей, ни скверов; здесь всегда много людей и машин, но негде пристать такси. А теперь я эту улицу полюблю и надолго запомню.
Возле булочной, что рядом с метро, Марина подает мне руку в перчатке. Я не отпускаю ее руку.
— Когда я вас увижу?
— Не знаю.
— Завтра?
— Нет.
— В четверг?
— Нет.
— В пятницу?
— Я должна подумать.
Марина думает, глядя на витрину, где за стеклом золотятся связки баранок. А я курю. В таком случае всегда лучше закурить. Это очень помогает. Ты сразу при деле, и не надо думать, куда девать руки: одна занята сигаретой, в другой вертишь зажигалку.
— В девять… у цирка, — говорит Марина и бежит к своему дому.
Я стою, пока она не пропадает в черном проеме арки, потом выхожу на Селезневку и направляюсь к площади Коммуны. Под ногами поскрипывает, чавкает. Недавно прошел снег, но дворники уже успели посыпать тротуары песком с солью. У Селезневских бань стоит битюг в упряжке. Ноги толстые, в лохматых щетках. Старик с черной бородой снимает с телеги плотные тюки, подает в раскрытое окно женщине в белом халате.
Мне весело. Баня и… лошадь. У вас одинаковая судьба. Прощальный привет вам, бани и лошади!
Навстречу идут девушки в высоких ярких шапочках, в руках коньки. Щеки розовеют. Марина тоже, наверное, ходит на каток. Ей здесь рядом. А я давно там не был. Вот бы в пятницу заманить ее на каток. Почему она назначила у цирка? И так поздно. Мы ни в какой цирк не попадем.
На площади Коммуны я жду трамвая. На остановке никого. Хожу взад-вперед, оглядываю площадь и не совсем ее узнаю. Летом здесь много зелени. Так много, что самой площади как-то не замечаешь, кажется, идешь по парку. А сейчас она словно раздалась, потеснила дома в разные стороны. И не тронула только Театр Советской Армии. Распахнув гранитные крылья парадного подъезда, он врос в нее прочно.
Мне нравится этот театр. Высокий каменный цоколь, светлые колонны. Взлетевшая в небо звезда-ротонда. Я всегда смотрю на эту ротонду, когда еду по Крестовскому мосту. Она оттуда хорошо видна из окна автобуса.
У подъезда театра стынут машины. Они сбились в кучу, словно жалуются друг другу на своих хозяев, которые сейчас сидят в теплых креслах, смеются, аплодируют. А они должны стоять на холоде и тускло блестеть лаком, пока все актеры разом не выйдут на сцену и не станут кланяться, улыбаться, задирать головы к балконам.
Наконец подходит трамвай. Я сажусь, лезу в карман, выгребаю на ладонь все монеты. Пятнадцать копеек… двадцать… пятьдесят… две копейки, еще две. А трех копеек нет. Бросаю четыре копейки и отрываю билет. Мне неудобно просить сдачи копейку, я отхожу от кассы и сажусь.
Читать мне нечего. Я дышу на замерзшее стекло, приникаю к темной круглой проталине и смотрю на улицу. Бегут навстречу разные дома: голубые, серые, желтые, высокие, низкие, новые, старые. Как много домов в моей Москве! И в одном ее доме живет Марина.
Во дворе нашего дома меня встречает Борька. Он спрятался за круглую колонну и воображает, что я его не вижу. Глупый Борька, как можно его не видеть, если под аркой гудит ветер. Он так треплет уши Борькиной шапки, что кажется, за колонной взмахивает крыльями большая белая птица.
Я делаю вид, что не замечаю Борьку, и быстро прохожу мимо. А ему только этого и надо. За моей спиной тотчас раздается хрюканье.
— Кто там? — я нарочно отскакиваю в сторону и резко оборачиваюсь.
Борька дрожит ст смеха.
— Придумал шуточки. Чуть заикой не сделал.
— Правда, испугался? — заглядывает мне в лицо Борька.
— Конечно, — говорю я. — Ты уроки подготовил?
— Уже давно.
Борька первый вбегает в парадное, давит пальцем на кнопку лифта. Мы поднимаемся на седьмой этаж, открываем квартиру. В нос бьет резкий запах: значит, тетя Даша опять отваривает треску. Она страдает гипертонией и питается в основном треской.
Сняв пальто, Борька топчется в прихожей и не спешит в комнату. Это, конечно, неспроста. Я все его фокусы знаю. Может быть, он залил чернилами стол или копался в приемнике и порвал провода. Разве угадаешь заранее, что мог натворить Борька. Я вхожу в комнату. Вроде все в порядке. Только настольная лампа почему-то закрыта газетой. Я снимаю газету. Ну, все ясно: в зеленом абажуре темным треугольником зияет дыра. Вот почему он встречал меня во дворе — хотел подлизаться.
— Борька, ты куда пропал?
— Я тут, — отзывается он невесело и боком входит в комнату.
— Снимай штаны и ложись на диван животом вниз.
Борька ошалело выкатывает глаза, подвигается к двери. Еще секунда — и след бы его простыл.
— Ладно, — говорю я, — тебе сегодня повезло. У меня хорошее настроение. Но заруби на носу, в другой раз я все припомню. Понял? А теперь доставай свой «БФ».
Повеселевший брат кидается к тумбочке и, присев на корточки, начинает рыться в своем утильсырье. Он выкладывает на пол мотки проволоки, разные шестеренки, гайки, лоскуты клеенки и наконец подает мне тюбик с клеем.
— Алеша, я расставил, — в дверь просовывается седая голова пенсионера Андрея Павловича.
— Сейчас. Вот лампу починим.
Потом я захожу в комнату Ромадиных, перегороженную высоким старинным буфетом. Андрей Павлович уже за шахматами. Рядом пачка «Беломора» и пепельница-раковина. Во время игры он курит не переставая.
— Небось опять тараканом пугать станешь? — выпытывает Андрей Павлович, приглаживая ладонью редкие волосы. А в глазах его лукавая настороженность.
— Защитой Каро-Канн вас теперь не удивишь, — говорю я. — На этот раз будет что-нибудь повеселее.
— Ну, подожди, — грозится Андрей Павлович, — вот куплю себе книгу Кереса о дебютах. Ей-богу, куплю. Уже присмотрел в одном киоске.
Я двигаю пешку.
— Итак, ферзевый гамбит.
Андреи Павлович сразу задумывается. Играть с ним — тяжелое наказание. Будь у нас шахматные часы, он всякий раз попадал бы в цейтнот. После такого заезженного хода и думать нечего, а он все равно думает.
— Андрей Павлович, вы когда-нибудь влюблялись с первого взгляда?
— Э-ээ, ты мне зубы не заговаривай, — оживляется, он и передвигает наконец королевскую пешку.
Я делаю новый ход и думаю о Марине. Как смешно мы с ней познакомились. Она стояла у закрытого газетного киоска, а я подошел и сказал: «Вы последняя за «Вечеркой»? Марине это понравилось, она даже улыбнулась. И после этого я уже не мог от нее отойти.
— Студентка или кто она, твоя любовь с первого взгляда? — все же интересуется Андрей Павлович.
— Не знаю. Может, инженер, космический врач… Может, коктейль готовит в кафе «Юность»… Да разве это важно?
— А как ты думал. Вдруг она шпионка какая. Ведь они, эти самые, больно красивы бывают.
— Что вы, Андрей Павлович, — возражаю я. — Теперь и шпионов земных почти нет. Мало толку от них. Сейчас все больше воздушные.
— А вот у меня был случай, влюбился я в одну шпионку. Ох, красива до чего была! Прямо рассказать не могу. Таврией звали. Больше не встречал такое имя, редкостное оно.
Андрей Павлович мечтательно смотрит на старинный буфет, будто его Таврия туда спряталась, и молчит. Даже про шахматы забыл.
— А что дальше?
— Понятно что, в тюрьму ее закатали. Теперь-то я думаю, может, она никакая там и не шпионка была. Да как установишь, если срок такой прошел.
В прихожей зашаркала заячьими тапочками тетя Даша. Видно, она уже отварила треску. Андрей Павлович сразу наклоняется к шахматной доске. Мне кажется, он делает это умышленно, чтобы спрятать глаза под лохматые белые брови.
— Опять ты парня чепухой занимаешь, — говорит вошедшая тетя Даша. — Ему в институт надо готовиться.
— Это я его соблазнил, — выручаю я.
Тетя Даша забирает тарелку и снова уходит на кухню.
— Фу, фу!.. Чтоб тебя леший съел! — восклицает Андрей Павлович, провожая грустным взглядом черного слона, которого я снимаю с доски и небрежно бросаю в картонную коробку.
В это время оглушительно щелкает замок нашей квартиры, и сразу по паркету тюкают каблуки. Значит, вернулась соседка Люся, продавщица галантерейного отдела ГУМа. Она летом и зимой ходит на работу, как в театр, в дорогих туфлях на высоком каблуке.
— Алеша, ты дома? — Люся мягко барабанит пальцами в дверь нашей с Борькой комнаты.
Я подаю голос.
— Ах, ты здесь… Добрый вечер, гроссмейстеры! — Люся входит и бросает мне на колени хрустящий целлофановый пакет. — Это рев моды.
— Сколько же такая? — Андрей Павлович надевает очки, осторожно щупает белоснежную нейлоновую рубашку в мелкую серую полоску.
— Двадцать два рубля.
— Ого! — качает он седой головой.
Люся смотрит на меня.
— Нравится?
— Хорошая, — говорю я. — Только спасибо, у меня денег сейчас нет.
— Отдашь, когда будут.
Я смотрю на «рев моды» и не знаю, радоваться мне или нет. Люся не первый раз выкидывает такие номера. То она притащит какой-нибудь сверхмодный галстук, то заграничный джемпер, то тупоносые черные туфли, в которые смотреться можно, как в зеркало. Притащит — и все кончено: как ни отказывайся, не поможет.
С одной стороны, это не так уж плохо. Разве не приятно в модных туфлях ходить? Или повязать толстым узлом красивый галстук? А с другой стороны, я должен две недели прятать глаза от ее матери. Выбежишь на кухню чай подогреть, а там Наталья Федоровна картошку чистит. Скажешь ей «доброе утро». Она любезно кивнет и так посмотрит, что все становится ясно: мол, утро-то доброе, но когда ты Люське деньги за туфли отдашь? Будто не знаешь, она не какая-нибудь там дочка генеральская, сама по полсотни в получку приносит. И я на старости лет в подъезде за шестьдесят рублей месяц мерзну, пенсию зарабатываю.
Конечно, Наталья Федоровна, может быть, так и не думает, но у меня всякая охота к чаю сразу пропадает. Для отвода глаз я открываю кухонный стол, беру какую-нибудь чашку и скорее убегаю к себе в комнату.
Вот и выходит так, что мало мне радости от Люсиной опеки. Это хорошо понимает даже Андрей Павлович. Но чтобы меня успокоить, он говорит:
— За такую денег не жалко.
— Конечно, — соглашаюсь я и опять вспоминаю Марину. Странные у нее волосы: темно-бордовые. А глаза зеленые-зеленые, как звезды в сильный мороз. Придет ли она в пятницу? А если не придет? Тогда потеряю я ее. Ведь в Москве можно век прожить, а знакомого человека так больше никогда и не встретить.
— Что-то я не узнаю тебя сегодня, — удивляется Андрей Павлович, забирая второго моего коня. — Совсем в защиту ушел. — Он кладет коня в левую руку. Андрей Павлович всегда выигранные фигуры крепко держит в какой-нибудь руке, словно боится, что они опять перебегут на доску.
В прихожей звонит телефон. Люся сразу уходит.
— Алл-о-о… Привет, Дима! — Люся кокетливо смеется. — Пылкая — не то слово… Что?.. Пора давно знать… Что?.. Нет, нет, только к дому…
— Никуда ты не пойдешь! — Это сердитый голос Натальи Федоровны.
— Мамочка, ты не бережешь свое сердце. Пойми, мне уже восемнадцать. Ну, дай я тебя поцелую.
— Спать-то когда? — вздыхает Наталья Федоровна. — Поздно уже… И возвращаться как?
— Не волнуйся, меня отвезут на машине.
Люся начинает собираться, тюкая каблуками перед зеркалом, которое стоит у нас в прихожей. А пешки-головастики Андрея Павловича упрямо ползут вперед, подбираясь к моему королю. Туда же навострил уши и конь. Странно, почему я его не съел? Обычно я первым делом громлю кавалерию. А не сделай это вовремя — победы не видать. Коняки Андрей Павлович лавирует превосходно.
— Ш-а-ах! — предупреждает он, едва сдерживаясь от смеха.
Мне понятно, чем вызвано его веселое настроение. Мой король может отступить лишь на белое поле. И тогда Андрей Павлович шахнет конем и заберет моего ферзя. Значит, надо сдаваться. Без ферзя я могу выиграть только у Борьки.
— Доставайте талмуд, — говорю я.
Довольный Андрей Павлович вытаскивает из стола большущий блокнот, записывает себе единицу, мне — ноль. А когда сыграем тридцать партий, победитель получит приз. В прошлом нашем турнире выиграл я, и Андрей Павлович подарил мне двух живых цыплят. Этому событию больше всех были рады Борька и Люся. Они целое лето таскали цыплятам червяков, разных мух. Потом тетя Даша поехала на курорт, и цыплят поджарили ей на дорогу. А Борька два дня ходил мрачный.
Андрей Павлович кладет блокнот, усаживается в кресло и разворачивает газету. Перед сном он всегда читает вечерний выпуск «Известий». А я иду к себе.
Борька уже спит. Одеяло, конечно, на полу, майка сбилась под мышки — знакомая картина. Хотя нет, не совсем знакомая. Что это у него сегодня фиолетовый пуп? И тут я падаю на диван и хохочу, зажав рот руками. Надо же додуматься — пуп у Борьки вымазан чернилами.
Ну что мне делать со своим младшим братом? Поставить Борьку завтра с утра пораньше в угол? Он сразу рев поднимет, сбегутся его защитники. Тетя Даша и Наталья Федоровна начнут меня убеждать, что Борька больше чернила в пуп наливать не станет. Я и сам знаю, второй раз Борька этого не сделает, не такой он глупый. У него хватит ума на что-нибудь новое. А вот как угадать это новое, неизвестно ни мне, ни Наталье Федоровне, ни тете Даше, которая всю жизнь проработала воспитательницей в детском саду.
Я укрываю Борьку одеялом, ложусь и читаю. В квартире тихо-тихо, сонный Борька дышит ровно. Хорошо читать ночью!
Глава вторая
Я вздрагиваю и открываю глаза. В синем свете лицо тети Даши. Она легонько трясет меня за ногу и шепчет:
— Алеша… Алеша…
Что? Это уже утро? Ну, конечно, это утро. Ночью трещины на потолке не видно, а теперь она чернеет. И лицо у тети Даши темное. На рассвете оно всегда такое. Это от морщин. А днем лицо у нее белое.
— Я сейчас… Спасибо, тетя Даша. — И когда она выходит из комнаты, я откидываю одеяло.
Борька еще спит. Он проснется, когда на столе запрыгают часы. Раньше меня тоже поднимал будильник, но потом тетя Даша и Наталья Федоровна заохали: зачем нарушать Борькин сон. И теперь меня будят таким древним способом. Если тетя Даша уезжает в гости к старшей дочке, меня за ногу дергает Наталья Федоровна. А когда не окажется дома ни той, ни другой, на помощь приходит Андрей Павлович.
Не зажигая света, я разыскиваю в полутьме тапочки и выбегаю в коридор крутить хулахуп. Это Люся заразила всех в квартире волшебным кольцом, которое «спасло американскую нацию». Правда, в открытую его крутим только мы с Люсей да Борька дурачится. А тайно хулахупом забавляются и тетя Даша и Наталья Федоровна. По словам: Андрея Павловича, первая сгоняет жир, вторая выпрямляет спину.
После гимнастики я захожу в ванную и скребу щеки безопаской. Прошелся раз, другой, а потрогаю — негладко. Черт возьми, уже капельки крови выкатились на губу. И зачем это мужчинам борода? Сколько времени она ворует! Видно, потому мудрые люди и не брились под старость. Вот взять Толстого, Репина, Хемингуэя.
— Алеша, скоро половина пятого, — доносится с кухни голос тети Даши. — И чай вскипел.
О, надо пошевеливаться. Хватит полировать подбородок, все равно он никогда чисто не выбривается. Там у меня настоящая щетина. И растет в разные стороны, вихрами. Я быстро обливаю лицо холодной водой, вытираюсь мохнатым полотенцем и бегу завтракать.
На кухне пахнет свежими огурцами. Оказывается, тетя Даша не только подогрела чай, но и успела положить на мой стол зеленый огурец, разрезанный на тонкие доли. Она часто меня чем-нибудь угощает: то пирожками, то вареньем, то блинами. Я пробовал отказываться — обижается. А Борька, тот никогда не отказывается, ума у него еще кот наплакал. И парень так избаловался, что от супа или каши прямо нос воротит.
Я достаю из холодильника колбасу, масло, делаю бутерброды. В чай добавляю молоко. И пью. Получается вкусно. У нас в квартире все едят на кухне, и Люся часто надо мной издевается, говорит, как можно лакать такие помои. А меня к этому приучила мама. Она очень любила чай с молоком. Даже в день смерти мама попросила такого чаю. Но пить не стала, только смочила потрескавшиеся губы.
Все-таки как дико устроена жизнь. Совсем недавно на этой кухне я завтракал вместе с мамой. Потом она торопливо набрасывала на плечи кожаное пальто и бежала в свою художественную мастерскую. А я шел в школу. Тогда я заканчивал десятый класс. Борька еще был в детском саду. А теперь мамы нет, и я все реже о ней вспоминаю. А Борька маму совсем забыл. По-моему, он с одинаковым чувством смотрит на ее портрет и на репродукцию с картины «Неизвестная», которая висит у нас над письменным столом.
Мне становится не по себе. Я выливаю в раковину недопитый чай, поскорее одеваюсь и выхожу из дома. Во дворе тихо. Снега ночью не было, и наш дворник сегодня не скребет дорожки большой деревянной лопатой. На проспекте Мира тоже никого: ни людей, ни машин. Только у перекрестка ходит милиционер, которого я знаю уже десять лет. До пятого класса я его боялся, а потом полюбил. У него такие веселые глаза, что он и на милиционера не похож.
— Доброе утро, дядя Миша.
— Что, уже идешь? — говорит он и подает мне застывшую за ночь руку.
— Иду.
— Ну, давай, — улыбаясь, козыряет дядя Миша.
Я иду, поглядываю на дома. Все они новые, в несколько этажей, и все Борькины ровесники. А недавно здесь были старые деревянные домики. Они начинались от Рижского вокзала и бежали, оступаясь то на один, то на другой угол, до самого Ростокина. В таком покосившемся доме, окна которого упирались в завалинку, я прожил одиннадцать лет. Потом прикатил бульдозер, разбежался, как козел, и боднул его в бок. И сразу не стало крыши, упала одна стена, вторая. А теперь на том месте, где стоял наш деревянный старик, белеет станция метро.
Проспект начинает постепенно просыпаться. Загорается свет в окнах большого дома, на крышу которого взлетела туфля-реклама, обозначились розовые и голубые квадраты над кинотеатром «Огонек», уже раздаются чьи-то шаги в переулке Бочкова. Но все равно огней в домах еще мало, еще пусты тротуары и мостовые. Это проснулись только водители трамваев, автобусов и троллейбусов, машинисты электричек и шоферы такси. Они всегда встают рано, чтобы все остальные не опоздали на работу и учебу.
Скоро из-за тополей, обвешанных лохмотьями инея, вылетает первый автобус. На середине проспекта он разворачивается. Я узнаю нашу служебную машину и поднимаю руку. Водитель притормаживает, открывает дверцу. Я вбегаю в автобус и громко приветствую ребят.
Все отвечают вяло. А мой друг Игорь Шагаев далее не обернулся. Подняв воротник куртки, он плотно прижался к стеклу и продолжает спокойно спать. Игорь всегда спит, в любом положении. Но окажись рядом красивая девушка, он тут же забывает про сон. Тогда у него словно развязывается узел красноречия, а глаза начинают блестеть как у самого сатаны.
Я подсаживаюсь к Игорю и толкаю его кулаком в бок. (Чтобы разбудить моего друга, надо поменьше вежливости.) Он вначале мычит, потом узнает меня.
— Что тебе надо, февраль?
— Вставай, к парку подъезжаем.
— Неполноценный, убери руку, а то схлопочешь…
Но я все равно тормошу Игоря, и он наконец поднимает голову. Глаза у него круглые, с густыми ресницами, щеки розовые — прямо девушка, хоть замуж выдавай. Первое время Игорь смотрит в одну точку, потом растирает ладонью щеку, на которой отпечатался глубокий след от пуговицы, и говорит:
— Когда ж это ученые заменят сон таблетками?
— А что, во сне на тебе ездят?
— Темный ты человек. Тайга, сразу видно. Ты знаешь, кем бы я уже был, если б не терял время на этот дурацкий сон?
— Генералом, конечно.
— Нет, теперь меня в генералы не тянет. Плохо, когда жизнь расписана по уставу. Ум может угаснуть. Я лучше телепатией займусь.
— Для этого особый дар нужен.
— А он у меня есть, забодай меня бульдозер. Не раз замечал. Веришь, вот иду я по улице и думаю: хотя бы шикарная девушка навстречу попалась. И только так подумаю, смотрю, она выплывает из переулка. Представляешь! Значит, я силен как редуктор, я могу внушить, что…
Но развить мысль дальше Игорю не удается. У самых ворот парка автобус круто разворачивается, и водитель весело кричит:
— Вытряхивайся, братва!
Мы все направляемся к проходной. Игорь на ходу одергивает помятые полы куртки, поправляет свою пыжиковую шапку, сдвигая ее немного набок. Это он хочет показаться в лучшем виде перед диспетчером Верой, которая зовет его кукленком и всегда выдает ему путевку в последнюю очередь.
Короткий прямой переулок упирается в проспект. А дальше — красный глаз светофора, на вид такой веселый, в оранжевых кольцах, словно расплылся в улыбке, но все равно вперед не пускает. Что поделаешь, такая у него служба: не признавать ни чужих, ни своих. Придется сбавить газ и немного постоять. Надо уважать его красное сиятельство, а то с утра пораньше можно неприятность нажить.
Часы на приборной доске настойчиво бубнят: пора, пора, и вот загорается желтый свет, зеленый. Путь свободен, теперь я могу лететь на все четыре стороны, у меня сотни разных дорог, меня никто не ждет и ждут многие. Кому-нибудь я сейчас очень нужен, нужней всего на свете, но мой приемник почему-то молчит, и я, пожалуй, поеду к вокзалу.
Машина легко, будто на крыльях, взлетает на широкий горб Крестовского моста. Я сразу переключаю скорость. Конечно, мост не прогнется и не развалится, если я промчусь даже на самой бешеной скорости, но знак «20 км» все-таки висит. Навстречу плывут перила с седыми от мороза узорами чугунного литья, мелькают острые, как пики, и обнаженные до поры флагштоки, бегут гранитные башни в серых шлемах.
Где-то невдалеке взвизгивает электричка, к центру уже потянулись ранние троллейбусы. Скоро все вокруг заговорит, забегает, закружится, прямо под машину полезут нетерпеливые девушки и рассеянные мужчины с портфелями. А пока они не допили кофе, можно спокойно развернуться и ждать первого пассажира.
Я закуриваю и выхожу из машины. Рижский вокзал, как всегда, выглядит нарядно: светлые сдвоенные и строенные окна, белоснежные пилоны, остроконечные башенки над главным входом. А с крыши уже свесились длинные прозрачные сосульки. Весна все-таки не спит, делает свое светлое дело. Через месяц с небольшим в этом сквере, что напротив вокзала, каштаны выбросят тускло-серебряные цветы-елочки. И там по вечерам будут сидеть влюбленные, воображая, что они на морском бульваре южного города.
Скоро из-за гастронома выкатывается ежиком маленький человек в коротком ворсистом пальто. На углу он останавливается, вытянув шею, смотрит на часы, что на краю сквера, потом решительно подходит к моей машине.
— Ну, поехали? — рассеянно бросает он.
— Пожалуйста.
Человек в ворсистом пальто молча забирается на переднее сиденье. Пошарив за пазухой, он достает байковый лоскут и, что-то мурлыча себе под нос, начинает протирать очки.
— Скажите, вам куда ехать? — говорю я.
— Давайте к центру. И, ради бога, забудьте вы это «куда». Разве мало других слов: в какую вам сторону? далеко ли вас везти?
— Вы что, верите в приметы?
— Нет, не верю я ни в черта, ни в дьявола, но слова этого не терплю.
Мы выезжаем на проспект Мира. Город окончательно проснулся. На тротуарах уже появились люди, навстречу идут троллейбусы, лениво приседая на остановках, над входом в метро закраснело пузатое «М».
— Нельзя ли побыстрее? — говорит мой пассажир.
— Теперь больше шестидесяти не разрешают. А вы очень торопитесь?
— Молодой человек, я всегда тороплюсь. И всю жизнь я спешил, спешил, думал горы свернуть. Но перевалило за шестьдесят, а вроде ничего не успел… Вот мое детище огоньком светится, — кивает он в сторону метро, — но главное сделать не успел. А надо успеть, надо!
Теперь я с тайным уважением посматриваю на человека в ворсистом пальто. Кто он, этот мой первый сегодняшний пассажир? Архитектор? Художник? Инженер? Скульптор? Или бывший проходчик подземной дороги? Что он сделал для метро, где всегда весело, легко и уютно, где люди ведут себя по-особому. В метро никто громко не закричит, не бросит бумажку, не закурит. Я не видел, чтобы там ругались, как часто бывает в трамваях или автобусах. Все люди в метро вдруг становятся добрыми.
— Вы давно водите? — спрашивает пассажир.
— Первый год.
— Эх, люблю скорость!.. Я раб скорости, одним словом.
Мне тоже хочется что-нибудь сказать ему, но тут перед самым нашим носом из переулка выскакивает шустрый «Запорожец». Выехав на улицу, он виляет то влево, то вправо, чтобы не пропустить нас вперед.
Скажите, пожалуйста, что выделывает частный сектор?! И хотя бы машина была приличная, а то всего-навсего жалкий карапуз, трескун-крошка. Стыд один на таком ездить. А он еще и прыть показывает. Ну ничего, сейчас он узнает силу моей «зеленухи».
Я смотрю по сторонам и вижу, что милиционера поблизости нет. Тогда я выворачиваю руль влево, потом прибавляю газу, но совсем чуть-чуть, чтобы вначале раззадорить карапуза. И скоро я уже различаю человека, который сидит за рулем «Запорожца». Для крошки-трескуна он, пожалуй, крупноват. Его высокая шапка из серого каракуля подпирает потолок кабины, а большой живот лежит на руле.
Я не тороплюсь обгонять «Запорожца». Несколько секунд мы идем рядом, голова в голову. Моя «зеленуха» дышит ровно, без напряжения. А карапуз трещит, будто мотоцикл, весь дрожит, вот-вот отдаст душу черту. Его хозяин теперь пригнулся, окаменел, смотрит только вперед, на асфальт. Но скоро нервы у него сдают, он бросает на меня свирепый взгляд, грозит кулаком. Вот и прекрасно, выходит, одного немного проучил. Я выжимаю полный вперед, и частный сектор уже стрекочет сзади нас.
Мой сосед очень доволен. Словно ребенок, он ерзает по сиденью и весело болтает короткими ногами. А в его светлых глазах столько озорства, что я не могу понять, что блестит сильнее: очки или глаза. Видно, он в самом деле раб скорости, и я готов возить его вечно.
У следующего светофора нас задерживает красный свет. Я сбрасываю газ и слежу за двумя девушками, которые встретились в начале перехода, остановились, разговаривают. Я уже немного научился понимать пешеходов. Я не знаю, о чем говорят эти девушки, но я могу угадать, что они сделают. Утром все торопятся, и сейчас какая-нибудь из них спохватится и кинется переходить улицу, когда вперед ринутся машины.
Загорается зеленый свет, мы трогаемся. И точно, одна девушка лезет прямо под машину. Я скорее давлю на тормоз, сбрасываю конус акселератора. «Зеленуха» сразу угрожающе фырчит. Девушка в страхе мечется, растопырив руки, пытается бежать на середину улицы, вдруг резко останавливается, снова бросается вперед, но потом возвращается все-таки назад.
Мой пассажир осуждающе качает головой.
— Женщины всегда так, — говорю я. — Почти перешла улицу — и вдруг назад.
«Зеленуху» начинает мелко трясти. Ее всегда немного лихорадит, когда едешь по Кузнецкому мосту, по звонкой брусчатке, по которой в старину катились легкие пролетки. Эта отшлифованная до блеска брусчатка помнит очень многое. Может, потому ее и не тронули, не залили асфальтом, как не тронули древние камни Красной площади.
Проскочив Кузнецкий, мы пересекаем Неглинку, огибаем ЦУМ, который уже успели оцепить полукольцом нетерпеливые покупатели, и останавливаемся около Большого театра. Мой пассажир рассеянно роется в кармане, наконец находит металлический рубль и подает мне. Я отсчитываю сдачу.
— Ради бога, не надо, — говорит он.
— Нет, нет, возьмите, — настаиваю я.
Он качает головой:
— Первый раз такого чудака встречаю.
Я молча кладу ему на ладонь тридцать копеек. Он смущенно берет монеты, словно делает что-то нехорошее, говорит мне «до свидания» и бежит под светло-желтые колонны. Я смотрю ему вслед и думаю, что сам он чудак, сказал мне не «спасибо», а «до свидания», как будто еще встретимся. Нет, друг, Москва велика, и по ее улицам носятся тысячи такси, так что больше мы не увидимся. Ведь я еще ни разу не встретил ни одного своего старого пассажира, что ни день, что ни час — все новые и новые. Это хорошо и плохо, это весело и грустно. А впрочем, может быть, увидимся, всякое бывает. Я хотел бы тебя встретить, раб скорости, я хотел бы узнать, успеешь ли ты сделать в жизни самое главное.
А что главное в моей жизни? Я как-то ни разу об этом не думал. Когда учился в школе, мама всегда говорила: «Алеша, больше читай — это самое главное». Я ей верил и много читал. Я и сейчас люблю читать, но мне уже не кажется это главным. Теперь, когда стал работать, мне часто говорят: «Рябинин, на линии смотри в оба, машина — не детская коляска. А самое главное — медленно торопись». И я тоже верю, я стараюсь торопиться, но я не думаю, что и это самое главное.
Тротуары уже потемнели от пешеходов, из метро густо хлещет людской поток, а я все стою под колоннами, готовый везти кого угодно, даже старенькую чудачку, которая кружит возле фонтана с черным котом на ремешке, но ко мне что-то никто не подходит. Опустив боковое стекло, я смотрю выше колонн, на четверку летящих в небе коней, и вспоминаю тот вечер, когда мы с мамой были на «Лебедином озере». Тогда мы сидели в первом ряду партера, и я хорошо разглядел всех солистов и даже сосчитал морщины на шее дирижера. А мама была недовольна, что я купил такие билеты, говорила, что балет слишком близко смотреть нельзя — пропадает вся прелесть.
Наконец ко мне подходят двое пассажиров: один высокий, одет скромно, второй маленький, с усами, в дорогом ратиновом пальто.
— Машина свободна? — спрашивает усатый.
Я киваю.
— Подбросьте нас к Павелецкому вокзалу.
Я объезжаю сквер с уснувшим до мая фонтаном, еще раз бросаю взгляд на старушку с черным котом и вливаюсь в поток машин, что устремились к улице Горького. Перед Манежем разворачиваюсь, забираю вправо и сразу сбавляю газ. Я не могу быстро ехать мимо Красной площади, как не могу петь на улице.
Мои пассажиры сзади переговариваются.
— Михалыч, а много ли этих башен, что вокруг Кремля идут? — спрашивает высокий.
— Это можно посчитать, — отвечает другой. И когда мы въезжаем на Москворецкий мост, усатый пассажир приникает к стеклу. — Вот одна, — говорит он, — две… три… пять… восемь… Мать честная, колокольня Ивана Великого мешает, и собор Архангельский, и там разные дворцы… Видать, штук двенадцать.
— Ошиблись почти наполовину, — говорю я. — Всего двадцать.
— Да брось ты! — восклицает усатый. — Ни за что не поверю. Всю жизнь в Москве живу и…
— А вот считайте, — перебиваю я его. — Спасская, Водовзводная, Тайницкая, Набатная, Благовещенская, Комендантская, Беклемишевская, Константино-Еленинская, Троицкая…
— Ты, Михалыч, не спорь, — советует высокий. — Шофер небось лучше знает. Ему, поди, всяких там иностранцев катать доводится.
— А я что, я не спорю, — сдается усатый. — Ясное дело, столичный таксист — это вроде бы гид.
Потом усатый начинает ругать какого-то Льва Аркадьевича, который совсем, кажется, спятил. Старик добился, чтобы сына с третьего курса института забрали в армию, а сам путается с молодой снохой. И они хорошо поступили, что вчера не поехали в гости к этому рехнувшемуся профессору. А высокий рассказывает про своего кума. Того недавно выдвинули на важную работу в область, и теперь неизвестно, кто будет в колхозе председателем.
Мы уже едем по Ордынке, где все дома старые, под-закопченные временем и немного печальные. В центре еще много таких домов. Словно людей, их обычно подмолаживают, замазывая морщины-трещины, и они заметно веселеют, но все равно остаются старыми. Я люблю эти дома, от них пахнет историей.
На этой улице я помню в лицо почти каждый дом. Два года назад здесь жила Наташа Рогова, с которой мы часто удирали с уроков в Третьяковку. В девятом классе нас больше всего потрясали передвижники, Левитан, Врубель. А Наташа еще восхищалась Брюлловым, особенно его «Вирсавией». Однажды она долго стояла у этой картины, потом сказала: «Ты захотел бы быть негритенком, если б я стала Вирсавией?» Я покраснел и ответил, что в негра мне превращаться не хочется. Тогда Наташа надулась и в тот день не разрешила себя провожать.
В десятом классе Наташа быстро-быстро покруглела, стала носить укороченные платья и туфли на высоком каблуке. А за месяц до экзаменов на аттестат зрелости она вышла замуж за летчика-полярника и уехала с ним на Север. В классе прошел слух, что родители от Наташи отказались и она сбежала в одном красном платье, которое я почему-то не любил.
Раньше, когда я ехал по Ордынке, мне всегда хотелось, чтобы улицу перебежала Наташа. Ведь могла же она приехать в отпуск, могла же перебегать улицу в тот момент, когда я проезжаю. А сейчас мне этого не хочется. Даже странно, я вспоминаю Наташу, а вижу перед собой зеленые глаза Марины и радуюсь, что сегодня пятница, и боюсь, что Марина к цирку не придет.
Я бросаю взгляд на приборную доску. Часы показывают половину восьмого. Ах, как долго еще до вечера!
Глава третья
Идет крупный снег. Я снимаю перчатку, выставляю руку вперед. Снежинки белыми бабочками садятся на ладонь и сразу плавятся, превращаясь в прозрачные капли. Края у капель золотятся — это от света фонаря. А рука совсем не мерзнет, мягкие снежинки кажутся теплыми.
Снег все гуще и гуще, но никто не прячется в подъезды. У сверкающего стеклом панорамного кинотеатра «Мир» спокойно раскуривают парни в шапках-москвичках. По Цветному бульвару гуляют девушки. Даже старушка в рыжей цигейке не уходит домой. Рад снегу и ее коротконогий шпиц: он молотит хвостом по ноге хозяйки и довольно фукает черным носом.
Я смотрю на электрические часы. Большая стрелка напрягается и делает новый прыжок. Двадцать минут десятого. А Марины все нет. Неужели она испугалась этого теплого снега? И вообще, чего она боится, а чего не боится? Что она любит и чего не любит? Любит ли Марина гулять по этому бульвару? Года три назад здесь летом всегда пахло белым табаком. Его душистый запах заполнял дома и машины, трамваи и троллейбусы, круглую будку постового на Трубной площади. Отсюда он поднимался по узким переулкам к вечно оживленной Сретенке, плыл по Неглинной в самый центр, разливался по широкой Самотечной. А теперь табак здесь не сеют. Но зато его много стало на Тверском бульваре. Вот бы посидеть там с Мариной, когда зацветет белый табак. Она, конечно, любит цветы. Все девушки любят духи и цветы. Только почему это Марины все нет? За двадцать минут в Москве можно уехать очень далеко. Троллейбус столько идет от центра до нашего дома. А я живу у самой Выставки. Так неужели Марина не придет?
Мимо меня уже третий раз проходит высокая девушка. Она смотрит в мою сторону, и по ее лицу почему-то скользит усмешка. Мне это не слишком приятно. Я отворачиваюсь от девушки и тут вижу Марину. Она сошла с троллейбуса и бежит прямо ко мне. На ней сегодня белая шуба и белая шапочка. Вся белая, как заяц.
— Извините, — говорит Марина. — Я сумку не могла найти. Мама с папой смеются, а мне обидно.
— Я ждал бы вас и больше.
— Ну пошли, — говорит Марина.
— А куда?
Она берет меня под руку, и мы идем к центру.
— Наденьте перчатки, у вас руки замерзнут.
— Нет, мне тепло, — отвечаю я.
Мне и в самом деле тепло. Я только слегка касаюсь локтя Марины, придерживаю несмело. Когда на переходе из переулка неожиданно выезжает машина и Марина резко останавливается, ее локоть выскальзывает из моей ладони. Тогда мне делается даже жарко.
На Трубной площади мы с минуту стоим. Потом Марина поправляет шапочку и говорит:
— Пошли так.
Мы поднимаемся в гору по Петровскому бульвару. Снег уж перестал. Мальчишки успели слепить крепости, и вдоль всего бульвара качалось веселое сражение. Вокруг смех, крики, свист рыхлых снежков.
— Здесь мы лишние, — смеется Марина и тянет меня за руку к тротуару.
Лишние так лишние. Я покорно следую за Мариной. Хотя я тоже не прочь поиграть в снежки. Будь я один, сейчас пульнул бы пару снежков в небо, целясь в Марс, в эту агрессивную планету. Сразу видно, бог войны. Все звезды белые, зеленые, а эта красноватая.
— Скажите, какая ваша любимая звезда?
Марина задирает голову.
— Сейчас звезд не видно, — говорит она. — Нет, вот одна, вот вторая… А моей не видать. Пропала куда-то.
— Ваша Венера?
— Угадали.
— Вы любите мою звезду.
— Нет, это вы мою.
— Я старше.
— Да?.. А сколько вам лет?
— Восемнадцать.
— Я так и подумала… А знаете, на кого вы похожи?
— На Стриженова.
— Вам уже говорили?
— Конечно.
— Как смешно-о-о.
— Почему смешно?
— Просто так…
И тут мы выходим на площадь Пушкина, где снует много народу. Кто пришел в кино, кто ждет свидания, кто стоит у фотовитрин и рассматривает снимки. Вся площадь в огнях. По крыше «Известий» беспрерывно бежит яркая лента рекламы: «Покупайте натуральный кофе. Это вкусный и питательный напиток». То загораются, то гаснут крупные синие буквы на фасаде кинотеатра «Россия».
— Смотрите, Пушкин поседел, — говорит Марина.
Я смотрю на задумчивого Пушкина, который стоит в центре площади. В самом деле, снег подбелил кудрявые волосы поэта, и теперь он издали кажется седым. Очень непривычно видеть Пушкина стариком. Мы подходим ближе к памятнику, молча стоим. У ног поэта красная гвоздика, совсем-совсем свежая. Но это нас не удивляет: цветы здесь всегда. В Москве много разных памятников, но нет такого второго, куда бы люди круглый год приносили живые цветы. А сюда приносят.
Рядом с нами стоят трое мужчин в коротких дешевых пальто. У каждого на груди фотоаппарат. Все трое настоящие семафоры. Я тоже не маленький, метр восемьдесят два, а они выше меня ровно на полголовы. Семафоры разговаривают по-английски, очень быстро. Но я учился в школе с английским языком и успеваю несколько слов понять: «…поэт… большой… России… самый..» Потом один обращается к нам, с трудом выговаривая по-русски:
— Вы можете сказать… скульптор… памятник?
— Кто автор этого памятника? — говорю я по-английски.
— Да, да, — сдержанно улыбаются англичане.
— Скульптор Опекушин.
— Апекуша-е? — повторяют все трое.
— Правильно, О-пе-ку-шин.
— Сенькью. Гуд бай.
— Плиз, гуд бай.
Английские туристы уходят.
— Вы переводчик? — спрашивает Марина.
— Нет.
— А кто?
— Шофер.
— Я серьезно.
— Я тоже.
Марина делает обиженное лицо, смотрит в сторону. Потом говорит:
— Ах, вы, наверное, английского посла возите.
— Вы почти угадали. Я вожу американского посла и все время зубрю язык. Не знай я английского, господин посол давно бы меня уволил. И тогда к четырем миллионам безработных американцев прибавился бы один русский.
Марина хочет рассмеяться, но сдерживается.
— Господин посол, конечно, доволен вами?
— Не совсем.
— Почему?
— Он не любит быстрой езды.
— А вы?
— Я — наоборот.
Марина стучит каблуком о каблук и говорит:
— Пошли, а то ноги мерзнут.
Я крепче сжимаю ее руку, словно боюсь, что кто-нибудь отнимет у меня Марину, и мы выходим на улицу Горького. Вокруг все сверкает, переливается, движется. Горят разноцветными огнями рекламы на стенах домов, вывески магазинов, кафе. В неоновом свете витрин живые карпы и зеленохвостые ананасы, новые книги и сахаристые свиные окорока, бутылки с вином и хрустальные вазы, нейлоновые платья и меховые дамские шляпы, плюшевые мишки и фотографии космонавтов. Играя бликами, с легким шумом проносятся мимо машины. Все тротуары заполнены пешеходами. Люди справа и слева, впереди и сзади, идут по двое и по четверо, торопятся и не спешат, разговаривают и смеются.
Я чувствую, как бесконечность этого движения захватывает меня, зовет куда-то в далекое. Я всегда замечаю такое в себе, когда попадаю на эту веселую улицу или слушаю музыку Чайковского.
Вдруг у меня пропадает упругость в ногах: прямо над нами полыхает красным слово «Центральный». В низких окнах, наполовину задернутых белым, плавают мужские и женские головы. Оркестр так бойко шпарит быстрый фокстрот, что вот-вот вылетят стекла. А в моем нагрудном кармане всего пять рублей, одна новая узкая бумажка. Она до того мала, что ее не сразу и разыщешь.
Марина, как назло, замедляет шаг, молча заглядывает в низкие окна, где маячат противные головы. Сейчас она предложит зайти в ресторан. У нее, наверное, еще не согрелись ноги. (Если замерзли ноги, хорошо выпить коньяку.) И я ни за что не осмелюсь ей отказать, я поведу ее в ресторан и закажу там все, что она захочет. Потом сам пойду к директору, и пускай со мной делают что угодно. Пускай забирают паспорт и звонят на работу, пускай заставляют расчищать снег на улицах. Могут даже отвести в тюрьму. Хотя в тюрьму за это не посадят. Да и куда сажать, если «Таганку» уже сломали, от «Бутырки» рожки да ножки остались.
— Как здорово, что в Москве ломают тюрьмы, — вырывается вдруг у меня.
— Что это вы про тюрьмы вспомнили? — удивляется Марина.
— Да так…
Марина морщится. Видно, ей неприятно слушать о тюрьмах или не нравится, что у памятника Юрию Долгорукому сутулый парень в берете целует рыжую девушку. И в самом деле, скажите, какой шустрый, кругом люди, а он обнял, целует. Игорь говорит, что сейчас модно целоваться в открытую, но я не признаю такой моды, я никогда бы не стал целовать Марину вот так, у всех на виду.
— Не люблю этот памятник, — говорит Марина — Спящий Долгорукий на коне.
— Но глаза у него открыты.
— Все равно спит.
— Может быть, князь любил подремать в седле?
Марина улыбается и смотрит на часы. У нее маленькие золотые часы на тонком красном шнурке. А у меня нет даже простых. Надо все-таки купить себе поскорее часы.
— Ой, скоро одиннадцать, — пугается Марина.
— Вам уже пора домой?
— Завтра зачет по сопромату, а я совсем не готовилась.
Тут я замечаю машину с зеленым огоньком и выбегаю на мостовую, поднимаю руку. Сизая «Волга» резко тормозит, прижимается чуть не вплотную к тротуару, и мы садимся.
В машине все так привычно: сладковато-горький запах бензина, по ногам струится теплый воздух, сиповато тикают часы. Ну-ка поднажми, приятель, обставь эту пузатенькую «Шкоду», набитую булками да кренделями. Она не обидится, куда ей торопиться. Все равно магазины закрываются, а до утра еще долго, до утра булки сто раз остынут. А ты как-никак везешь своего коллегу и, видно, будущего инженера.
— Значит, вы потенциальный инженер? — говорю я.
— Да, экономист.
Я посматриваю сбоку на Марину. Сидит она как-то по-своему, не касаясь спинки сиденья, обняв колени руками. Свет от фонарей скользит по ее лицу.
Водитель наконец разошелся. Он обставил «Шкоду», верткого «Москвича», две голубые «Волги», приземистого «Понтиака». А мог бы особенно не стараться. Мне хорошо рядом с Мариной. На правом повороте она наклоняется в мою сторону, и ее волосы касаются моего виска, и от них пахнет весенней грозой. А впрочем, гони, гони, коллега, все равно больше правого поворота не будет, уже короткая прямая улица Чехова, а там — Каляевская и светло-желтый дом с волнистыми полосами от дождей.
Глава четвертая
С утра мне вроде везло, а потом пошла полоса неудач. Я переезжаю с места на место, я упрямо ищу пассажиров, а они спокойно садятся в автобусы, троллейбусы, прячутся под землю и совсем не нуждаются в моем комфортабельном такси.
Неужели никто не опаздывает на поезд? Неужели никому не надо забрать из родильного дома молодую жену с крохотным ребенком? Неужели перевелись влюбленные, которые должны торопиться с цветами на аэродром? Неужели все стали до того бедные и жадные, что не могут раскошелиться на полтинник для поддержки моего пошатнувшегося плана?
Как нарочно, молчит и «Букет». Заснули там, что ли, красавицы? Я резко давлю на кнопку передатчика, снимаю трубку: «Букет», есть ли заказы в районе Октябрьской?» В ответ женский голос звенит колокольчиком: «Пока ничего нет». Обозленный, я кричу в микрофон: «Благодарю, сеньорита, у вас божественный голос!» И бросаю трубку.
С досады я закуриваю. Потом в уме прикидываю, сколько уже нагонял холостяка. Получается почти половина на половину. Веселый итог! Если дальше так пойдет, мне «ковра» не миновать. И механик колонны меня выгораживать не станет: ведь я не даю ему на чай, как делают некоторые. Ну и пускай не выгораживает, а чаевых он все равно от меня не дождется.
Я гашу сигарету и соображаю, что делать дальше. Видно, придется заворачивать на стоянку и ждать. Другого выхода у меня нет. Лучше постоять на месте, чем крутить холостяка. Я сбавляю скорость, жду, когда загорится зеленый свет, и, выписав крутую петлю, пристраиваюсь в конец очереди.
В центре стоянки собралась шоферская шатия-братия. Ребята курят, хохочут. Но знакомых вроде не видно, и я иду к газетному киоску. Впереди двенадцать машин, пассажиры подходят минут через пять, значит, газет надо прихватить побольше, все равно здесь загорать целый час.
Купив «Правду», «Литературную газету», «Комсомолку», я забираюсь в машину и начинаю читать.
Оказывается, на юге уже вовсю идет сев, в Сибири ввели в строй новую ГРЭС и две шахты. Так, хорошо. А как ведут себя «друзья»-империалисты?
Ага, Франция все-таки не хочет пускать Англию в «общий рынок». Молодцы французы, ничего не скажешь. А рядом со статьей из Парижа крупно: «Руки прочь от острова Свободы». Все понятно, выброшенная контра снова поднимает голову. Ну что ж, получите по шее и на этот раз, братцы-разбойники. Фидель потопит в теплом море ваши грешные души, будет акулам праздничек…
— Старик, привет! — кричит сияющий Игорь и вваливается ко мне в кабину.
— Ты с Марса, что ли? — удивляюсь я.
— Да, примчался на летающей тарелке… А ты все почитываешь?.. Брось, голова распухнет. — Он вырывает у меня «Комсомолку». — Лучше глянь, глянь, какие девочки из «Варшавы» выруливают, ах, пальчики оближешь… Глазки как блестят, кирнули, видать, маленько… О, забодай меня бульдозер, даже и не смотрят… — Игорь толчком ноги отворяет дверцу, начинает петь: — «Я гляжу им вслед, ничего в них нет, а я все гляжу, глаз не отвожу…» А, все-таки обернулись!
— Зря радуешься, видел, одна язык показала.
Игорь весело чешет затылок.
— То-то и оно, раз язык показывает, дело почти верное. Да, да. А если даже головы не повернет, тут лучше не приставать.
— Это личный опыт?
— Впрочем, не мешало бы об этом написать А еще лучше — создать дворец встреч. Современный зал, музыка, столики с вином и разными коктейлями…
— А наверху шпиль с огромным золотым кольцом, как символ любви и верности, — смеюсь я.
— Старик, ничего тут смешного нет, — говорит Игорь вполне серьезно. — В наш прекрасный атомный век невесту воровать нельзя, а рыскать за ней по белому свету нет времени. Я вот одну особу с месяц у метро стерег, да все напрасно. У нее оказалось уже двое детей. А вот когда по проекту Игоря Шагаева будет построен этот самый дворец, такого не случится. Замужнюю красавицу туда не пустят, как теперь во дворец для новобрачных.
— Я не пойму, у тебя есть Вера, а ты все невесту ищешь?
Нахмурив брови, Игорь принимается читать «Комсомолку». Потом упавшим голосом говорит:
— С Верой я все, завязываю. Она призналась, что год встречалась с китайцем.
— Ну и что из этого?
— Я не хочу водить за ручку узкоглазого сына.
— Она ждет ребенка?
— Не ждет, но дети у нее могут быть похожие на китайца. Из-за телегонии.
— По-моему, это ерунда.
— Все может быть, но я человек мнительный.
Тут подходит моя очередь. В заднюю кабину садится мужчина и просит отвезти поскорее в Марьину рощу. Игорь что-то бормочет себе под нос и плетется к своей машине. Его тоже ждет пассажир.
От Октябрьской к Марьиной роще можно проехать по Садовому кольцу или через центр. Последний маршрут, пожалуй, даже короче. И я, включив счетчик, сворачиваю на улицу Димитрова, которая тем и знаменита, что носит имя великого болгарина. А может быть, здесь и жил какой-нибудь гордый сын России? Надо все же почитать Гиляровского.
Машин на улице мало, пешеходов совсем не видать. Это обычное затишье перед обедом в тех местах, где нет больших магазинов. Только в глубине дворов и на скверах сидят пенсионеры. Подставив лицо солнцу, они радуются разгорающейся весне.
Не доезжая немного до «Ударника», я смотрю в зеркало, что висит над смотровым стеклом, и чуть не подпрыгиваю от удивления: на меня уставились знакомые красновато-черные глаза. Выходит, пассажиры все-таки повторяются. Этого человека я хорошо запомнил. Тогда он тоже сел в заднюю кабину и тоже торопился. Ему надо было забрать жену и успеть в театр. На Кутузовском проспекте он попросил подождать, а сам шмыгнул под арку и больше не вернулся.
Это было не так давно, кажется, в феврале. В тот раз он всю дорогу безудержно говорил: ругал московскую погоду, одностороннее движение, восхищался итальянской оперой. А сейчас он поднял воротник, забился в самый угол и скромно молчит.
— Сегодня вы опять жену повезете в театр? — говорю я.
Он руку прикладывает к маленькому уху, стараясь прикрыть ладонью лицо. Значит, этот голубчик тоже меня узнал.
— Я говорю, сдать вас первому милиционеру или отвезти к тому, что стоит на Кутузовском.
На этот раз у моего пассажира прорезается слух.
— Бог ты мой, — притворно говорит он, — я с трудом вас узнал, до того возмужали… Тогда вышло так нехорошо, у меня долго болела душа.
— Я вам сочувствую, вы даже похудели. Видно, вам вреден запах бензина. — Я торможу, притираюсь к тротуару. — Прогуляйтесь пешком, подышите свежим воздухом.
— Это вы напрасно, — вздыхает он уже без притворства. — Мне тут надо в одно место успеть… Я за все заплачу.
— С вас тридцать три копейки, — киваю я на счетчик. — И плюс те рубль сорок.
Неудавшийся пассажир грустно откашливается, нехотя отдает деньги и семенит к автобусной остановке. А я закуриваю и сворачиваю на стоянку, что на берегу канала, рядом с «Ударником».
В новой очереди я оказываюсь третьим. Но радости от этого мало: пассажиры здесь и вовсе не идут. Водители первых двух машин сидят верхом на стене, что обрамляет канал, бросают в воду бумажки. А для меня стоять на месте хуже каторги. Я снова запускаю мотор и еду обедать.
Дядя Костя сидит в дальнем углу раздевалки, читает «Правду». Увидев меня, он как-то неуклюже встает и сразу хватается за спину. Газета с шелестом падает к его ногам.
— Что с вами? — говорю я, поднимая газету.
— Старая песня, — морщится дядя Костя. — Сызнова радикулит меня скрутил.
— Полежать вам надо. И погреть.
— Оно лежать еще хуже, — машет он рукой. — А что касается прогрева, так вчерась старуха весь вечер утюжила спину. И сперва вроде бы отпустило, но поутру все одно в пояснице стрельба началась, холера его возьми… Ну, раздевайся, а то приятель твой скучает.
— Разве Игорь уже здесь?
— Давно пришел… Вот газету мне подарил, — улыбается дядя Костя, — говорит, читай, у нас каждый швейцар должен быть готов управлять государством.
— В таком случае, вот вам еще, — я достаю из кармана куртки свои газеты, отдаю дяде Косте. Потом угощаю его сигаретой и прохожу в зал.
Игорь ждет меня. Он занял место у самого окна, разложил приборы и уткнулся в меню. Однако в меню Игорь вовсе не смотрит. За соседним столом красит губы искусственная блондинка, и он краем глаза следит за ней.
— Игорь, тебе очень пойдут черные очки, — говорю я нарочно погромче.
Блондинка это слышит и лукаво улыбается. Игорь притворяется, что издевки моей не понял, но теперь он смотрит в меню по-настоящему.
— Не знаю, как ты, а я еду в «Арагви», — говорит Игорь так, чтобы услышала блондинка. — Тут сегодня хоть шаром покати.
Блондинка кладет помаду с зеркальцем в сумку-мешок и поднимается. У нее мягкая походка спортсменки, красивые длинные ноги. Игорь провожает взглядом эти ноги до самой двери, потом вскакивает.
— Может, счастье мое уходит, а я сижу как дурак… Подожди, я сейчас.
Я сижу и смотрю в окно. Мне хорошо виден бассейн «Москва», окутанный мутно-сизым паром. Чудо нашего мудрого века! Вокруг снег, а рядом ласковая вода, в которой плавают, ныряют люди. Какой я кретин, что ни разу не купался в этом вечно теплом море. А Игорь тоже кретин: он не был в Большом театре. Люди приезжают в Москву на два, на три дня и то стараются туда попасть, а Игорь там не был. Нет, он кретин почище, чем я.
В зале тихо и пусто. Только в одном углу, под «Березовой рощей» Куинджи, сидят двое мужчин. Они давно поели и теперь аппетитно потягивают сигареты. Молоденькая официантка Зоя, постукивая каблуками, ходит от стола к столу, поливает цветы из огромного медного чайника. Подойдя ко мне, Зоя одергивает белый накрахмаленный фартук, улыбаясь говорит:
— Что-то вы никак не соберетесь. То Игорь вас ждал, теперь вы его. А он куда исчез?
— Сейчас придет, — отвечаю я.
Игорь возвращается минут через десять. Вид у него такой, словно выиграл «Москвича».
— Как зовут? — спрашиваю я.
— Ты слишком многого захотел, — Игорь хлопает своими женскими ресницами. — Мне удалось только выследить. Пошла в бассейн, наверно, инструктор по плаванию. А может быть, врач или медсестра… Теперь она никуда от меня не уйдет.
— А вдруг у нее муж с высотный дом?
— Она без обручального кольца. И потом так на меня смотрела, когда тебя еще не было.
— Ладно, хватит заливать. Лучше скажи, что будем есть?
— Давай закажем по шашлыку, — потирает руки Игорь, — я сильно проголодался.
— Нет, я возьму биточки.
— Что это ты экономить решил? — удивляется Игорь.
— Хочу купить «Чайку».
Игорь лезет в нагрудный карман, высыпает на ладонь десятка полтора серебряных монет. Сосчитав деньги, ухмыляется:
— Два рубля чаевых набралось. Я заказываю шашлык и тебе.
— Нет, мне не надо… А ты по-прежнему чаевые вымаливаешь? Скажи, тебе не стыдно подачки принимать? Ты что, инвалид какой-нибудь? Или зарплату не получаешь?
— А чего стыдиться, раз так принято. Это вроде премии за хорошее обслуживание.
— Тогда и водителю трамвая надо на «чай» давать. Бросать каждому пассажиру, скажем, по копейке в какую-нибудь копилку. А летчику тем более. Так, что ли, жалкий вымогатель?
— Я не вымогаю, мне сами дают, — оправдывается Игорь. — Но я беру не у всех. Если шея жирная, физиономия красная, — с такого беру. Это жулик или спекулянт. Когда до глупости богато одет, — опять же беру. Такой тоже ловчит. А вот вчера села бабуся, бледная, по лицу морщины танцуют, и пальто на ней потертое. Конечно, я от чаевых отказался, хотя она и совала.
К нам подходит Зоя.
— Что будем кушать, мальчики? — спрашивает она, склонив голову набок и заглядывая Игорю в глаза.
Мы говорим.
— Шашлык придется ждать минут двадцать, — предупреждает Зоя и уходит.
— Вот на ком я не женюсь, так это на официантке, — говорит Игорь. — От нее всегда пахнет старой клеенкой. Официантку я за километр учую, если она даже опрокинет на себя пару флаконов самых дорогих духов.
— Я не думал, что ты циник.
— Разве я виноват, что у меня такой нос, — бормочет Игорь.
Зоя приносит нам салаты. Я замечаю, что она успела уже начесать волосы. Высокая прическа сделала ее круглое лицо строже и милее. Все-таки хочется ей понравиться Игорю.
— Старик, ты вечером свободен? — спрашивает Игорь.
— Нет. А что?
— Хотел затащить тебя на бокс.
— Ты все ходишь в эту разбойничью секцию?
— Представь себе, очень аккуратно.
— Хотя бы нос тебе свернули. Тоже нашел занятие. Бьют прямо в лицо — дикость! Я давно бы запретил у нас бокс.
— Я не сомневался, что ты — февраль… Но все же чем ты будешь занят сегодня? Уж не собрался ли на рандеву?
— У нас с Андреем Павловичем шахматный турнир, — говорю я.
Игорь смотрит на меня изучающе.
— Вы что, каждый день играете?
— Нет, мы не закончили партию.
— Старик, в твои годы поздно учиться врать, — Игорь хлопает меня по плечу. — Лучше сразу выкладывай: где познакомился, когда покажешь?
— Она приобретет больше, если тебя никогда не увидит.
Игорь руки складывает на грудь, глаза таращит в потолок и притворно вопит:
— О, забодай меня бульдозер! Этот взрослый ребенок приметил мини-юбку и летит на свиданье. Сто медведей сдохнут враз!
Зоя ставит на стол шашлык, биточки и черный кофе.
— Мальчики, я больше ничего вам не должна? — Она снова смотрит на Игоря.
В это время в кафе вбегает полный мужчина с широким бледным лицом. Волосы у него взъерошены, вид растерянный.
— Товарищи, кто здесь водитель? — кричит он на весь зал. — Женщину срочно в больницу.
Мы с Игорем вскакиваем. Полный мужчина тут же хватает меня за руку, тащит за собой. Дядя Костя ахает:
— Куда же ты раздетый? — И у самого выхода набрасывает мне на плечи куртку.
Я быстро завожу машину, сворачиваю в переулок, лечу со скоростью в сто километров, все время сигналя, распугиваю пешеходов и только слышу срывающийся голос полного мужчины: «Направо… Прямо… Еще направо… Стоп!»
Я торможу и не сразу вижу женщину, которой срочно надо в больницу. На тротуаре толпится несколько человек. Они образовали плотный круг, галдят, суетятся, машут руками. И лишь когда полный мужчина прорывается на середину круга, я замечаю совсем маленькую женщину, которая стонет, корчится.
— Татьяна, дорогая, крепись, — шепчет полный мужчина, усаживая ее в машину. — Теперь в один момент будем… Водитель, скорее в родильный!
Не выключая сигнала, я гоню на полном газу. Мелькают дома, люди, светофоры. Стрелка спидометра застыла на «100». Я подаюсь всем телом вперед, стараясь хоть чуть-чуть повысить скорость. Но стрелка дальше ни с места, а стоны сзади все чаще и чаще. Я на мгновенье бросаю взгляд в зеркало. Маленькая женщина кусает вспухшие губы, прикрывая рот ладонью, чтобы не закричать во весь голос от боли. Бедняжка, маленькая, а сильная! А я слышал, при таком деле надо обязательно кричать, тогда будет легче и все скорее свершится. Сказать ей об этом? Нет, не стоит, ведь мне говорил не врач, а так кто-то. Да и стыдно говорить про такое. Женщина опять стонет. Я еще и еще наклоняю корпус вперед, — ведь больше мне помочь нечем.
— Остается немножко, терпи, милая… — бормочет мужчина, вытирая рукавом широкое лицо.
Во дворе большого дома с высокими окнами мы останавливаемся. Боязливо держа за руку маленькую женщину, я помогаю мужчине довести ее до подъезда. К счастью, она теперь не стонет, но лицо ее по-прежнему бледное, а рука горячая и мокрая от пота.
— Спасибо, большое спасибо, — говорит мужчина и первый раз за все время чуть-чуть улыбается. — Теперь не страшно, тут медицина.
Они скрываются за белой дверью. А я иду назад, закуриваю. Руки у меня дрожат. Сажусь в машину и только тут вспоминаю, что перепуганные пассажиры забыли заплатить за проезд. Вот это весело! И в родильный дом я войти не могу: я боюсь родильных домов. Ну что ж, я и не буду тогда заходить. Все равно деньги небольшие, настучало всего тридцать восемь копеек. Это не спасет моего пошатнувшегося плана. А государство не пострадает — рождается человек!
Я сбрасываю со счетчика кассу и выезжаю на улицу.
Вскоре слышу: свистит постовой. Ну и пускай свистит. Это, конечно, не мне, я ведь ничего не нарушил. Нет, он машет белой крагой в мою сторону, идет наперерез. Черт возьми!.. Придется тормозить.
— Что крылья распустил, мокрая курица? — кричит постовой. — Прошу ваши права.
Ничего не понимая, я достаю права. Руки у меня еще слегка дрожат.
— Какие крылья?
— Полюбуйтесь. — Он белой крагой показывает назад.
Я оборачиваюсь — левая задняя дверца приоткрыта. Как же это я не заметил? Вылезаю, пробую закрыть — не закрывается. Оказывается, полетел замок. Вот так номер! Значит, на сегодня прощай линия. А я наскреб только полплана… Да еще талон может проколоть.
Постовой смотрит на мои руки:
— А ну-ка дыхни!
Я выпячиваю губы и дышу ему прямо в лицо.
— Так… Выходит, права чистенькие.
Голос у него вроде стал помягче. А может, и не проколет. Нельзя же так, чтобы человеку весь день не везло. Только не буду с ним спорить. Это бесполезно, он на линии — бог, царь и генеральный прокурор.
— Извините, не заметил, — говорю я. — Только сейчас женщину в родильный…
— Мне ваши извинения ни к чему, я не барышня. Придется сделать…
— Но я не виноват, что сломался замок.
Постовой считает лишним говорить со мной дальше и достает свой беспощадный дырокол. Раздается знакомый хруст, от которого екает сердце, и на моем новеньком талоне темнеет дырка. Самая обычная круглая дырка, но как она мне неприятна! Уж лучше бы взял штраф.
Потом он идет на свой пятачок, кому-то опять свистит. А я разыскиваю шнур, привязываю дверцу, чтобы не открылась и не стучала, и еду в парк.
Глава пятая
В конторе автоколонны я застаю одного механика Петухова. Обхватив ладонями фиолетовые уши, он склонился над столом, читает какую-то инструкцию. Лицо у него серое и дряблое, как тесто.
— Почему так рано? — хрипит Петухов пропитым голосом.
Я рассказываю про сломанный замок.
— Левосторонних замков, кажется, нету.
— А как же быть?.. Из-за такого пустяка машина должна стоять?
— Будет стоять. Я сам замки не рожаю. Вот напишу заявку, а там действуй.
Забрав заявку, я бегу вниз. По дороге встречаю Вадима Чалого, известного поэта нашей колонны. Вадим зовет меня всегда по-разному: каланча, подъемный кран, малыш, светофор, телеграфный столб, крошка… Мне это не слишком приятно, но я пока терплю.
— Как дела, долговязый? — кричит Вадим.
— Вот с линии вернулся, — неохотно отвечаю я. — Дверной замок полетел.
— Это худо и грустно. Арматурщика не зарядишь — простоишь долго.
— Все будут заряжать — взорвется скоро.
— Валяй, валяй, мышонок, — усмехается Вадим и ныряет за дверь механического цеха.
Арматурщик Фрол Романович, прочитав заявку, морщит усеянный рябинками нос.
— Дело хлопотное, — вздыхает он.
— Я буду вам помогать, — говорю я.
— Какой из тебя помощник, — он машет рукой. — Ты лучше помогай, кому делать нечего. А тут головой соображать надо. Вот сразу вопрос встает: где замок искать?
— Разве на складе замков нет? — говорю я.
— У вас, молодых, все просто получается. Сломал вещь — и море по колено. Мол, поставят новую. А склад — это тебе не дойная корова. Такую дефицитную штуку за милую душу не получишь. Вот что прикажешь делать?
Я молчу. Все ясно, старик на чаевые намекает. Значит, Вадим прав. Только черта с два он от меня получит. Подумаешь, нашел дефицитную штуку. Корабли в космос запускаем, а тут из замка проблему делает. На одной свалке их полным-полно.
— А хотите, я найду вам сразу полдюжины замков? — говорю я.
Фрол Романович оторопело смотрит на меня. Потом на его продырявленном оспой лице проступает улыбка.
— Дорогой мой, я и сам знаю, где разыскать замок, — говорит он нараспев.
— Значит, вы к утру замок поставите?
— Будем стараться, — обещает Фрол Романович.
Я иду к своей машине, облокачиваюсь на багажник и достаю блокнот. Вырвав оттуда лист, пишу своему сменщику:
«Володя! Мне сегодня не везло: план ходил по тротуару, я стоял на мостовой. Потом полетел замок в задней левой дверце. Пришлось вернуться с линии. Фрол Романович поупирался, но обещает к утру поставить новый. Проверь. Остальное все в порядке. Салют!»
Записку я кладу за козырек от солнца. Это наш секретный почтовый ящик. У каждого водителя есть свой тайник, куда он прячет депешу для сменщика. Ведь мы не видимся неделями, и нам без записки порой нельзя. Иногда там всего три слова: «Все в порядке». Или одно: «Позвони».
Потом я сдаю деньги. Кассирша Нина Зеленина, постучав на счетах, вскидывает на меня острые соболиные глаза.
— Что-то не густо, Алеша. Ты, наверное, влюбился? Жаль, жаль. А я собиралась пригласить тебя летом в Пицунду.
— Нина, нецелованных не трогать! — Сзади раздается бас Аркадия Занегина, и через мое плечо в окошечко просовывается его волосатая рука.
Нина вызывающе потягивается:
— А что, может быть, в самом деле наш Алеша невинный?
Мои щеки сразу обдает жаром. Такие разговоры всегда меня вводят в краску.
— Хватит на зеленых заглядываться, — говорит Аркадий. — Ты лучше отвечай, когда пригласишь на свадьбу?
Зеленина улыбается одними глазами. У нее красивые глаза. Темно-карие, с рыжими светящимися огоньками вокруг крупных зрачков.
— А я замуж не собираюсь, — отвечает она. — Это старо, как любовь. Теперь в моде мужья на общественных началах.
Выгребая из кармана деньги, Аркадий уточняет:
— А женатые в такие общественники годятся?
— Не обязательно женатый — обязательно богатый. Не обязательно красивый — обязательно с машиной… А еще играют роль скрытые достоинства, которые у Алеши, по-моему, есть.
На этот раз у меня начинают гореть даже кончики ушей. Я надвигаю шапку на глаза и, не прощаясь, отхожу от кассы.
Аркадий догоняет меня на лестнице.
— Вот, черт побери!.. — басит он. — Попадись такой в лапы. Нет, деньги всегда калечили людей.
— Откуда у Зелениной деньги? Она небось рублей семьдесят получает.
— Алеша, ты чист и наивен, как месячный котенок. Не видишь, что делается под собственным носом. Скажи, ты сколько сегодня денег привез?
— Двенадцать семьдесят. А что?
— Так, так. А вспомни, сколько Зелениной сдал?
— Двенадцать восемьдесят.
— Зачем же ты гривенник послал?
— У меня не было мелких монет.
Аркадий победно поднимает волосатый палец и говорит:
— Вот и я про это толкую. У меня тоже не всегда в ажуре. Но деньги государственные, меньше не дашь. А больше — пожалуйста. Все равно сдачи не получишь. Нина раз красивой ручкой — и смахнула лишние монетки себе в стол. И так с каждым. Вот у нее и набегает тридцатка за две смены. Теперь посчитай, сколько она в месяц имеет.
— Что чужие деньги считать.
— Они не чужие, а наши. Зеленина на эти деньги своих любовников на курорты таскает. Самолетами. Ты, конечно, тоже можешь отличиться. Я видел, как она перед тобой выламывалась.
— Я не альфонс.
— Эх, котенок, начитался литературы… А ты смотри жизни в глаза, в самые зрачки.
Тут из проходной парка выходит директор. На нем черная шапка-москвичка, короткое пальто с поясом, узкие хорошо отглаженные брюки. Сам он прямой и тонкий и, если бы не седые виски, его можно было принять за студента.
Поздоровавшись с нами за руку, директор обращается ко мне:
— Рябинин, а я тебя вызывал. Разве механик не говорил?
Я стою огорошенный. Зачем это я ему понадобился? И механик ничего не сказал. Наверное, хочет устроить разгон. Ведь я третий месяц не привожу плана.
— Если на свидание не торопишься, заходи прямо сейчас.
— Мне все равно, — говорю я осевшим голосом. И, растерянный, шагаю рядом с директором.
Вокруг нас, как назло, шныряют шоферы, механики, техники. Все бойко здороваются с директором. Николай Иванович почти каждому что-нибудь говорит: «Кузов уже заварили», «Аккумуляторы все привез?»; «Почему ведомости не забираете? Еще вчера подписаны». «Передайте Зайцеву, ему завтра с утра в автоинспекцию».
Я иду с опущенной головой, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Я ведь не главный инженер и не парторг парка. Каждому понятно, почему это я вышагиваю рядом с начальством и что меня ждет впереди.
В небольшой приемной директора вовсю стрекочет на машинке секретарь Пуля. Подстриженная под мальчишку, черная, горбоносая, в темно-синей куртке с нагрудными карманами, она похожа на озорника-ремесленника. Эта самая Пуля недавно закрыла Игоря в собственной ванной, вызвала «скорую помощь» и сказала, что он бешеный. Игоря, конечно, тут же отпустили, но к Пуле он больше не пристает и в гости к себе не приглашает.
— Николай Иванович, вам из Моссовета звонили, — говорит Пуля, а сама косит хитрые глаза на меня. Она, видно, догадывается, что Игорь рассказал мне про случай с ванной.
— Хорошо, — кивает Николай Иванович и пропускает меня первым в кабинет.
Раньше я не бывал в кабинете директора, как-то миловала судьба. И первое, что мне бросается в глаза, — это широкий красный ковер. У нас в колонне так часто склоняют слово «ковер», что я теперь смотрю на него с каким-то испугом. Кажется, вот-вот директор нажмет тайную кнопку, и тотчас из-под пола выскочит пара великанов и начнет на этом ковре мять и ломать мои ребра.
— Садись, — Николай Иванович показывает на серое кресло.
Теперь я замечаю, что в кабинете кроме ковра еще столы, стулья, два мягких кресла и два телефона. А на окне стоят цветы, кажется, глоксинии. Я опускаюсь в кресло и начинаю разглядывать свои туфли.
Директор пододвигает ко мне пачку «Казбека».
— Куришь?
— Спасибо, — говорю я. — К сигаретам привык.
— Тогда угощай и меня. От папирос что-то язык стал шершавый… Надо бы совсем бросить курить.
Я кладу на стол пачку «Новости».
Пуская вверх струистые кольца дыма, Николай Иванович смотрит куда-то вдаль, мимо меня. Взгляд у него задумчиво-мечтательный. Без шапки он похож теперь на ученого или художника.
— Ну, как живешь? — Он берет карандаш и что-то пишет на календаре. — Братишка часто двойки приносит?
— Бывает, но редко, — говорю я и удивляюсь, почему это он начинает так издалека.
— А отец знает, что вы остались одни? Или он вам не пишет?
— Знает. Недавно перевод прислал, но я отправил обратно.
Николай Иванович откладывает карандаш и задумывается.
— Вот это, пожалуй, напрасно, — говорит он, немного помолчав. — Ты, Алеша, человек уже взрослый. Разве вы виноваты, что у матери с отцом жизни не получилось. Всякое бывает. Поживешь подольше, поймешь. А помощь вам сейчас не помешает.
Мне сразу вспоминается мама, которая с темна до темна пропадала в мастерской. Мама старалась побольше заработать, чтобы я мог закончить дневную школу. Она себе отказывала, а нам с Борькой все покупала. Мама была слабая и то не хотела принимать подачки от отца, который бросил нас, когда Борьке еще не было и года. А неужели я, такой здоровый, не могу прокормить себя и брата?
— Нет, я не приму от отца помощи, — говорю я.
Николай Иванович долго гасит сигарету, тыкая ею мимо пепельницы. А я снова изучаю свои туфли.
— Да, мать твоя была права, — вздыхает наконец он. — Ты, брат, слишком гордый. Она говорила мне об этом. Ведь я ее много лет знал, еще с фронта… А впрочем, может быть, ты и прав. Сам взрослый, сам глава семейства. Тебе виднее, стало быть.
Тут открывается дверь и входит Пуля.
— Возьмите, пожалуйста, трубку, — пищит она прямо с порога. — Иностранцы звонят.
Николай Иванович снимает трубку, кого-то приветствует по-английски. Разговаривая, улыбается, подмигивает мне. Потом прощается, желает благополучно добраться до Лондона.
— Во, брат! — весело смеется он. — А ты говоришь, таксист не важная фигура. Сам глава делегации звонил. Благодарит нашего Криворученко за культурное обслуживание. Очень их тронуло, что он свободно английским владеет. Да, кстати, а ты язык не подзабыл?
— Начинаю забывать, — признаюсь я. — Англичане редко попадаются.
— Крепись до осени. А там языковые группы в парке создадим. Преподавателей пригласим. Все на широкую ногу поставим. Да, да. А иначе нельзя. Ты видишь, что делается: прут и прут иностранцы. Это, разумеется, неплохо. Пускай новой жизни учатся.
Поправив галстук, Николай Иванович достает новую сигарету и тут же кладет ее обратно.
— Хватит, — говорит он, — а то жена и так пепельницей прозвала. — Потом смотрит на часы, удивленно качает головой: — Да, время не остановишь… Придется закруглять наш разговор. Вот что, Алеша, ты на линии не горячись. Не гоняйся за пассажирами, они сами тебя найдут. Я понимаю, стоять на стоянке и ждать — скучно для молодого человека. Сам был таким. Я семь лет за рулем провел. Поначалу тоже никак не мог на месте стоять, все гонялся за пассажирами, как ты сейчас. Из-за этого дважды от езды отстраняли. С метлой по парку гулял. Потом взял себя в руки и стал с планом приезжать.
В дверь просовывается мальчишеская голова Пули.
— Петр Петрович звонит, — говорит она. — Партбюро начинается.
— Скажи, через пять минут буду, — Николай Иванович заталкивает пачку «Казбека» в карман пиджака. — Вот так, Алеша. Формально я могу, конечно, на месяц снять тебя с машины. Будешь мыкаться по парку за чернорабочего. И получишь за месяц рублей сорок. А у тебя брат еще. Да и мало пользы от такой стажировки молодому водителю. Это же не курсы по повышению квалификации. Ты понимаешь меня?
Я чувствую, как внутри у меня разливается что-то теплое и мягкое. Так со мной бывало, когда мама, отругав за что-нибудь, потом гладила мою шею и приговаривала: «Ты же умница, правда? Ты больше не станешь огорчать маму такими штучками?»
— Понимаю, — говорю я тихо.
— Вот и хорошо. — Николай Иванович встает и подает мне руку. Рука у него упругая, как у шофера.
Глава шестая
Вечером я сижу на кухне и пью чай с молоком. Тетя Даша уже успела подложить мне два пирожка с луком. Под воскресенье она всегда печет что-нибудь вкусное. За окном плотнеют сумерки. С крыш срываются талые капли и, подсвеченные лампочкой, делят окно на две части белыми нитями.
Через открытую форточку я слышу, как кричат во дворе ребятишки. Они больше всех рады весне. В общем крике я часто угадываю голос моего брата, такой еще высокий, как у девчонки, но уже с оттенками будущего баритона. Борьку теперь в дом не загонишь допоздна. А заявится, конечно, мокрый, с красным носом.
— Алеша, прибавь газу! — кричит Люся из ванной.
Я привстаю и отвожу ручку с черным шариком влево. Синее пламя в колонке сразу густеет, а из ванной теперь доносится шипенье падающих струй. Потом его заглушает пение. Люся пропоет немножко, притихнет, словно ждет аплодисментов. И снова начинает: «Каюр погоняет собак, как тысячу лет назад, и я для него чужак, хотя по закону брат. За мной прилетит самолет, за ним прибежит олень, и длинная ночь сомнет короткий полярный день…»
Я люблю слушать, как Люся поет. У нее красивый низкий голос. И поставлен неплохо. Люся занималась в кружке при доме пионеров и мечтала стать актрисой. Но потом заболела мать. Наталья Федоровна два года не поднималась с постели. Тогда Люся поступила на работу и стала учиться в вечерней школе. А теперь она актрисой быть не хочет. Люся собирается поступать в горный институт.
Мне обидно, что она не будет актрисой. У Люси не только хороший голос. У нее на редкость чистая дикция, высокий рост. И потом, Люся добрая — это тоже важно для артиста. По-моему, великим артистом может стать только добрый. А злой играет на сцене лишь самого себя.
Вскоре Люся появляется на кухне. В коротком клетчатом халате, в комнатных туфлях без каблуков она кажется совсем школьницей. И лицо у нее свежее, чистое, как у ребенка. Только глазами Люся играет, словно актриса. Когда она успела научиться?
— Ты чай, конечно, весь вылакал? — спрашивает она.
— Такой посудины на комбригаду хватит.
Люся наклоняется над плитой, приоткрыв крышку, заглядывает в чайник. Полы ее халата слегка расходятся, обнажая розовые после ванны колени. И сразу мне вспоминается одно утро.
Прошлым летом стояла бешеная жара. Весь пожилой народ нашей квартиры сбежал на дачу. Борька был в детском саду. Мы с Люсей остались только вдвоем. И вот однажды утром во дворе выросла воронка из пыли до самой крыши, зазвенели на кухне разбитые стекла. Я выбежал закрыть окно на кухне, смотрю, ветер распахнул и дверь Люсиной комнаты. Я стал прикрывать дверь и невольно увидел Люсю.
Она спала на диване, разметавшись поверх простыней, в красном с белым горошком лифчике и таких же мухоморчатых трусах. Ее смуглое тело лоснилось, будто полированное. И мне показалось, что вовсе это и не Люся, а девушка-амфибия вышла на покрытый снегом берег и легла, заслонив лицо руками.
Тот случай еще больше меня убедил: Люся рождена для искусства. Ей только быть солисткой в балете или выступать в цирке, летать под самым куполом. Вот было бы Люсе аплодисментов!
— Алеша, я тебя поздравляю, — говорит Люся, развешивая в стакане сахар.
Я пожимаю плечами:
— С чем поздравляешь?
— Где ж тебе догадаться, — Люся улыбается вроде с ехидцей. — Голова идет кругом. В пятницу нас с подругой чуть не растоптал и то не заметил… На Пушкинской площади.
У меня от неожиданности открывается рот. Значит, Люся видела нас с Мариной… Это верно, когда я шел с ней, я никого не замечал. Я только думал, что бы сказать поостроумнее, и так волновался, словно весь вечер тащил экзаменационный билет.
— Знаешь, я не одобряю твой выбор, — говорит Люся.
Я молчу, не зная, что сказать. Люся отпивает глоток чаю, смотрит в окно.
— Она, конечно, ничего, яркая. Только у нее лицо асимметричное.
Надо же так сказать о Марине! Я понимаю, Люся сегодня, может быть, не в духе — не звонят что-то ее мальчики. Но при чем тут Марина?
В прихожей раздается звонок, и Люся бежит к телефону.
— Алеша, тебя. И, пожалуйста, не сияй… Мужской голос.
Я нисколько не собирался сиять. Это Люся придумала. Что-то я не узнаю ее сегодня.
— Старик, я адски тружусь, — доносится из трубки голос Игоря. — Учу на память биографию одной вагоновожатой, перечитываю последние газеты.
— А что дальше?
— Дальше — ладу тебя завтра у памятника любимому поэту. В десять утра, в полном блеске. Бороденку забыть дома, робу сменить на бежевое пальто. И все в таком духе.
— Ты что, задумал новую аферу?
— Старик, дело очень серьезное. Но от тебя требуется немного: политическая зрелость, вежливый тон, солидный…
— Давай короче, — перебиваю я Игоря.
— Я все уже сказал.
— Тогда гуд бай.
— Старик, не бросай трубку, — умоляет Игорь. — Честное слово, ты мне очень нужен. Я не могу сейчас рассказать. — Игорь шепчет в трубку: — В комнату вошла мать, она все услышит.
И зачем ему заучивать биографию какой-то вагоновожатой? Что за чертовщина? Видно, мало его проучила Пуля.
— Ты выйди и позвони из автомата, — говорю я.
— Пойми, я в одних трусах. Глажу брюки. А потом, у меня нет двух копеек.
Это Игорю придумать недолго: нет двух копеек, в одних трусах. Так я ему и поверил. Знаю я его. Но только в чем все-таки дело? «Политическая зрелость… вежливый тон…» Даже любопытно.
— Ладно, приду, — соглашаюсь я. — Но запомни, если что-нибудь такое — сверну шею.
— Старик, я тебя люблю! — кричит Игорь.
Я кладу трубку и замечаю, что Люся ушла к себе в комнату. Вот за это она умница. Мне не хотелось бы сейчас с ней разговаривать. Да и Борьку надо искать. Уже скоро десять, а он все носа не показывает.
Я набрасываю пальто и выхожу. У лифта сталкиваюсь с неразлучной парой: Андрей Павлович и тетя Даша возвращаются с прогулки. С приходом весны они бродят вечерами по проспекту.
— Борька там не попадался?
— А его все нет дома? — удивляется тетя Даша. — Это безобразие, Алеша! Мальчик должен в десять часов ложиться. Прямо на шаг отойти нельзя. Сразу режим нарушает.
— Ничего, сейчас найду его, — успокаиваю я тетю Дашу и бегу во двор.
На детской площадке, оказывается, никого уже нет. Все воспитанные дети давно готовятся ко сну. По двору гуляют только подростки лет по пятнадцати. Ходят стаями. При этом ребята сыплют остротами, а девчонки весело хихикают, обнимая друг дружку.
А куда же девался мой Борька? Может, он лепит снежную бабу за теннисным кортом? Я огибаю высокий сетчатый забор, выхожу к большому сугробу. Но Борьки и там нет. По сугробу только носятся две собачонки: одна белая, вторая грязно-серая. И вдруг в одной собачонке я узнаю своего братца. Он бегает на четвереньках за какой-то девочкой и отчаянно лает. Ну прямо настоящий пес!
— Борька, — говорю я сердито, а сам еле сдерживаюсь от смеха.
Он поднимается на ноги, сияя мокрым от снега лицом. Его черная шуба теперь кажется грязно-серой.
— Видишь, десятый час. — Я подношу к его красному носу свои новые часы.
— А как же Ленка? — Борька смотрит на подружку.
— Давай ее проводим.
Девочка в белой шубке мотает головой.
— Я не боюсь. Вот мой дом, — она показывает варежкой на серый многоэтажный корпус.
Но мы с Борькой все же провожаем ее до самого подъезда. И когда она скрывается в парадном, я спрашиваю у Борьки:
— Это твоя подружка?
— Нет, я с девчонками не вожусь, — заявляет он.
— А почему же ты с ней играл?
— Она стишки хорошие знает. Хочешь, расскажу?
— Ну, расскажи.
Борька откашливается, подражая Андрею Павловичу, и, вытянув тонкую шею, начинает читать: «Бабка с дедом на печи протирали кирпичи, бабка охала, кряхтела…»
— Хватит! — перебиваю я Борьку.
— Это еще не конец…
— Запомни, если ты еще кому-нибудь прочитаешь эту чепуху, то будешь целое воскресенье стоять в углу, — говорю я, стараясь повысить голос. — Неужели ты не можешь понять, что это не стихи, а настоящая глупость?
Борька виновато опускает голову и молчит. До самого дома он больше не говорит ни слова.
Глава седьмая
Мы встречаемся у памятника Маяковскому. Игорь без шапки, в новом коротком пальто, с красным шарфом вокруг шеи. И туфли у него так начищены, что смотреть на них больно.
— Что так вырядился? — спрашиваю я.
— Старичок, — ласково говорит Игорь, — ты помнишь ту блондинку, что мы недавно в кафе видели?
— За которой ты гнался до самого бассейна?
— Представь себе, вчера я ее выследил. Ехал с ней в автобусе, потом влетел в дом и сел в лифт. На пятом этаже она выходит, я тоже выхожу. Она открывает свою квартиру, а я топчусь у соседней, делаю вид, что собираюсь звонить. Но как только дверь за ней захлопнулась, я тут же бегу вниз.
— По-моему, ты напрасно не пошел работать в ОБХСС.
— Теперь блондинка в наших руках, — ухмыляется Игорь. — Сейчас зайдем, как будто мы с агитпункта, и познакомимся. Эх, видел бы ты ее в красном пальто!..
— Зря стараешься, я никуда не пойду.
Игорь резко поднимает воротники ежится. Он всегда так делает, если злится. Потом тычет себе пальцем в грудь и кричит:
— Она у меня вот здесь!.. Я думаю о ней ночами, я с таким трудом ее нашел, а теперь — о забодай меня бульдозер! — я могу ее потерять. Ведь в следующее воскресенье уже выборы.
— Раз тебе нужна блондинка, иди один.
— Пойми, я один тут же вызову подозрение.
Я смотрю на Игоря. Играет он или нет? Вроде не играет. Он все время ежится и тянет на уши воротник своего модного пальто. Неужели и правда шалопай влюбился?
— А какой толк от меня? — говорю я. — Все равно я буду молчать.
Игорь подпрыгивает как угорелый, хлопает меня по плечу:
— Старик, я всегда говорил, у тебя сердце не белого медведя. Вперед за мной, весь шар земной!..
Мы пересекаем площадь и спускаемся к ресторану «Пекин». Часы, что темным пятачком прилепились к его стене, показывают половину одиннадцатого. Но народу улицах мало: москвичи любят в воскресенье поспать подольше. А машин еще меньше, носятся в основном такси.
Перед «Пекином» мы сворачиваем в переулок и идем в сторону Белорусского вокзала. В синем небе кувыркаются голуби, а из-под ворот каждого дома выползают ручейки. Блестящей узкой полоской они пересекают тротуары и тут же ныряют в сетки водосточных труб. Чтобы Игорь не забрызгал туфли, мы идем по мостовой. Она уже просохла и стала белесой.
— Вот сюда, — говорит Игорь, и мы огибаем сквер, входим в подъезд большого желтого дома.
У квартиры с белым звонком Игорь откашливается, нервно приглаживает волосы и нажимает на кнопку. Я слышу, как стучит мое сердце.
— Кто там? — спрашивает женский голос.
— С агитпункта, — отвечает Игорь.
Щелкает замок, дверь распахивается, и яркая светлая женщина приглашает нас в квартиру. Я сразу узнаю в ней мать той блондинки. У женщины тоже длинные ноги, крупные серые глаза.
— Проходите, пожалуйста. — Она пропускает нас вперед.
— Спасибо. — Игорь любезно кланяется, а сам косит глазами на стеклянную дверь: дома ли блондинка.
Женщина ведет нас в большую комнату, где много книг и старинных картин.
— Присаживайтесь. — Она доказывает на низкие красные стулья.
Мы садимся. Игорь достает блокнот, авторучку. Вид у него до того серьезный, что я вот-вот рассмеюсь. Хотя бы не переигрывал, черт.
— Скажите, агитатор к вам заглядывает? — вежливо так спрашивает Игорь.
— Бывает, — отвечает женщина. — Несколько раз заходил.
— У вас, кажется, Старостин?
— Я, правда, не знаю фамилии. Высокий такой.
— Он самый, — говорит Игорь. — С Марией Тузиковой из депо, с товарищем Митяевым… Словом, с кандидатами он вас знакомил?
Вот зачем он учил биографию вагоновожатой. Ну и Шерлок Холмс!
— Знакомил, знакомил, — говорит женщина и ставит на стол вазу с яблоками.
Игорь, прикусив нижнюю губу, что-то записывает в блокнот. Я опять с трудом сдерживаю смех: уж больно не идет ему такая умная физиономия.
— У вас никто до воскресенья не уедет? Все здоровы? Урна не нужна будет?
Скажите, как он знает технику голосования! Хоть сейчас его в председатели избирательной комиссии. Не зря второй год агитатором.
— Сами придем, еще не очень старые, — усмехается женщина.
Игорь теперь морщит губы и поглаживает подбородок. Видно, не знает, что говорить дальше. А женщина ставит на стол два стакана, достает чайные ложки.
— Значит, у вас кто голосует? — Игорь приготовился записывать. — Вот вы, муж…
— Все трое, — говорит женщина. — Я с мужем, Светочка в этом году впервые будет.
— Это дочь, наверно? — спокойно спрашивает Игорь, а у самого в глазах хитрые чертики кружатся.
— Да, студентка наша.
— Где ж она учится?
— В университете, — отвечает мать с гордостью. — Будущий филолог… Ну, а Вадим там будет голосовать. Он у нас еще не прописан.
Игорь ерзает но стулу.
— А это… кто?..
— Муж Светланы, — говорит женщина.
У Игоря рука сразу начинает танцевать по блокноту. Он еще пытается что-то писать. Хотя бы не писал, дурачок. Чтобы его выручить, я быстро встаю и говорю:
— Ну, вам пора. А то ко всем не успеем.
— Вы хоть по яблочку возьмите, — женщина пододвигает к Игорю вазу. — Дома когда еще будете.
Игорь вскакивает, припадая на одну ногу, пятится к двери, будто восточная женщина, и бормочет:
— Спасибо, мы сыты… мы спешим…
Женщина, кажется, все понимает.
— Стеснительные какие, — провожая нас, говорит она, а сама прячет лицо в воротник темно-желтого свитера.
Когда дверь захлопывается, мы, не сговариваясь, кидаемся вниз по лестнице, выбегаем из подъезда, молча пересекаем заваленный тающим снегом двор. И только на улице я набрасываюсь на Игоря:
— Лапоть краснопресненский!.. Вечно с тобой влипнешь в историю… Это счастье, что блондинки дома не было. Она бы в два счета раскусила, какие мы агитаторы.
— Я же не знал, что муж, — оправдывается Игорь, вытирая вспотевший лоб.
Тут я вспоминаю, как у него вытянулось лицо, когда женщина сказала, что дочь замужем, я начинаю хохотать. Меня такой душит смех, что хоть падай на асфальт и катайся.
— Не устраивай концерта, а то публику соберешь, — говорит Игорь, озираясь по сторонам.
Но я все равно хохочу. Лишь когда мы заходим в художественный салон на улице Горького, я постепенно успокаиваюсь. Там мы долго стоим у одного эстампа, который вначале принимаем за рассыпавшуюся бочку. Потом узнаем, что это не бочка, а полярное сияние.
— Заверните мне данный кроссворд, — говорит Игорь девушке с бледным лицом.
— Будет вам известно, что это гравюра отличного художника Носикова, — холодно отвечает девушка.
— Потому я ее и беру, — выкручивается Игорь. — А еще мне нравится имя художника: Анатолий — восточный. Звучит!
Девушка молча снимает со стены эстамп, завертывает в непромокаемую бумагу, отдает нам.
— Сейчас хватаем мотор и едем ко мне, — говорит Игорь, когда мы выходим из салона.
— А что я у тебя не видел?
— Ты поможешь мне в одном эксперименте.
— Что?!
— Понимаешь, я решил гипнопедией заняться. Ты же знаешь английский, а я не знаю.
— Отец тебе такую гипнопедию покажет…
— А что мне отец? Это не какое-нибудь шарлатанство, ученые занимаются. К тому же у нас и дома никого нет. Старики в гости умотали, сестра за город уехала. Самый удобный момент.
— Научи тебя языку — ты в иностранку влюбишься.
Игорь поднимает воротник, смотрит на другую сторону улицы, где среди белого дня вдруг зажигаются слова «Ресторан «Якорь». Потом с обидой говорит:
— Тебе, старик, хорошо шутить, ты школу с английским кончал. У тебя перспектива. Получишь первый класс, потом могут за рубеж послать. Нашего посла возить в какой-нибудь там Канаде. Сила! О’кэй!.. А что ждет меня?.. Но если не хочешь, не надо. И другого ассистента найду.
Я смотрю на часы. Скоро уже обед. У Борьки, наверно, кишка кишку давно точит. А я тут липовым агитатором заделался. Это хорошо, что блондинки дома не было. Не то по-всякому могло обернуться, могли бы и в комсомольскую организацию дать тревогу. А теперь Игорь еще гипнопедию придумал. Впрочем, я и сам знаю, что в Киеве за двадцать две ночи студентов обучают иностранному. Это, конечно, здорово! А раз так, то почему бы и нам не попробовать. Ведь таксисту в Москве очень нужен иностранный язык. Даже директор говорил. Ну а Борьку голодным не оставят. Тетя Даша и Наталья Федоровна в честь воскресенья его такими вкусными вещами начинят, дай бог. Вот только стыдно мне за Борьку: он, можно сказать, столоваться перешел к соседям. А насчет денег тетя Даша с Натальей Федоровной и слышать не хотят. Раз попробовал дать им по десятке, так они обиделись.
— Ладно, лови такси, — говорю я Игорю.
— Слушаюсь, мой профессор, — восклицает он и, вылетев на мостовую, начинает махать первой машине с зеленым огоньком.
Я листаю толстую книжку по криминалистике, которая пестрит странными снимками и рисунками. Таких я никогда не видел. Вот отпечатки пальцев, похожие на железные опилки, рассеянные полюсами подковообразного магнита. Просто непостижимо уму, какие бывают отпечатки! И все разные. На земле три миллиарда человек, и нет даже двоих, у которых были бы одинаковые отпечатки. Чем это объяснить? Значит, нет и одинаковых людей. Бывают очень похожие, но все равно они в чем-то разные. И каждый по-своему думает. Люди, видно, никогда не станут думать одинаково. А то скучно будет и пропадет движение к совершенству.
Я ставлю на место «Криминалистику» и беру книжку по экспертизе. В домашней библиотеке отца Игоря много редкой литературы. Он работает следователем и всегда достает книги, которых я нигде больше не встречаю.
— Профессор! — кричит Игорь.
Я захлопываю книжку и иду в другую комнату, где он лежит на диване. По дороге опрокидываю стул. Мы сделали там затемнение, завесили окно одеялом. Это чтобы поскорее Игорь заснул.
— Какого черта не спишь? — говорю я. — Уже двадцать минут прошло.
— Включите свет, профессор, и дайте мне снотворное. Найдите там в буфете. В баночке из-под витаминов.
— Ты что, в своем уме!.. Какой же тогда будет толк?
— Иного выхода нет, профессор. Сон изволит не приходить. Торопитесь, профессор, нас могут накрыть.
Махнув рукой, я даю ему таблетку люминала. И воды в стакан наливаю, чтобы запить. Потом гашу свет и снова иду копаться в необычных книжках. Часы с руки снимаю, кладу на стол, иначе можно зачитаться и про Игоря забыть.
Теперь я смотрю новую книжку, в которой кроме снимков и рисунков есть еще и чертежи. Оказывается, что только не придумывает преступный мир: и фамилии меняет, и волосы красит, и пластические операции делает, и даже… уши обрезает. Прямо жуть!.. Но все равно их ловят. Это потому, что хороших людей во много раз больше, чем плохих. А то бы не просто было разыскать какого-нибудь бандита, который трижды перекраивал лицо — был и курносым, и горбоносым, и прямоносым.
В самом конце книжки я нахожу фотографию какого-то человека. Внешне он ничего, симпатичный. Волосы немного вьются. Кто же это такой? Неужели рецидивист какой-нибудь? Я переворачиваю карточку, и вдруг мои руки начинают дрожать, а во всем теле я чувствую холодный нервный озноб. На обороте простым карандашом написано: «Ованесян, убийца».
Вот он какой, этот Ованесян. А мне всегда казалось, что все убийцы и на лицо страшные. Особенно этот. И зачем отец Игоря хранит такую фотографию? Неужели он забыл про нее? Положил и забыл. Только вряд ли можно забыть об этом нечеловеке. А впрочем, наверное, можно. О таком даже надо забыть, чтобы люди не стыдились самих себя.
Я закрываю книжку, сую ее на полку и тут вспоминаю про свои часы, которые спокойно лежат на столе, и про Игоря, который не подает что-то голоса. Наверно, заснул наконец.
Ступая на носках, я вхожу к Игорю в комнату, прислушиваюсь к его дыханию. Ну, кажется, дрыхнет, кролик подопытный, и дрыхнет вовсю. Надо поскорее включать магнитофон, а то еще проснется.
Я отодвигаю немного одеяло, делаю щель в окне-Теперь все кнопки и клавиши магнитофона мне хорошо видны. Я плавно давлю один клавиш, потом помаленьку прибавляю звука. Получается вроде в самый раз: не тихо — не громко. Запись тоже удачная, даже не верится, что этот чистый баритон, говорящий по-английски, — мой собственный голос. Выходит, ничего у меня голос. Вот бы Марина послушала.
Игорь спит как бог, будто сейчас самая середина ночи. А диски магнитофона крутятся, крутятся, разливая по квартире английскую речь, перемешанную с русской:
— Where shall I take you? — Куда вас отвезти? Do you like Moscow? — Вам нравится Москва? Would you mind smoking? — Разрешите закурить? Please, you can smoke. — Пожалуйста, закуривайте. What is this monument to? — Что это за памятник? This is the monument to Griboyedov — Это памятник Грибоедову. What is the time now? — Который час? Have you ever been to England? — Вы бывали в Англии? No, I haven’t been yet but I’d like to visit England. — Нет, не был, но собираюсь побывать. Farewell! — Счастливого пути! Good night… — Спокойной ночи»…
Запись вскоре кончается, дальше идет джазовая музыка. Вот и отлично, надо включать свет и будить англичанина. А может быть, еще прокрутить? С двух-то раз запомнится лучше. Только пошевеливаться надо: могут старики из гостей прикатить.
Я скорее перематываю пленку. И вдруг на самой середине она обрывается. Вот еще не хватало! Я нашариваю под телевизором граненую бутылочку с уксусной кислотой, склеиваю пленку. Снова перематываю, тороплюсь. И вот уже опять звучит по квартире мой чистый баритон.
А язык английский, пожалуй, приятный. Только чопорный немногой холодный, как и сами англичане. А что, может быть, они и в самом деле холодные, раз не дали миру ни одного великого композитора? Такого, как Чайковский, Бетховен, Григ… Музыку сочиняют сердцем, а у англичан оно, видно, продрогло от вечных туманов.
— Ой!.. Ой!.. Спасите!.. — кричит вдруг Игорь. — Ой!.. Милиция!..
Я кидаюсь к выключателю. С испугу не сразу нахожу его, наконец ловлю пальцами шнурок, дергаю. Люстра зажигается. Я смотрю на Игоря, который, ерзая на диване, дрыгает ногами, стонет, мычит, хватает воздух раскрытом ртом. Что это с ним такое!.. Неужели с головой что-нибудь?..
Схватив за плечи, я трясу его, приговаривая: «Игорь, Игорь, проснись… Игорь, что с тобой?..» А он все стонет, мычит. Наконец вскакивает, садится на диване. Лоб у него вспотел, колени дрожат. С минуту он таращит на меня глаза, потом падает снова на диван и начинает громко хохотать.
— До самого Белорусского гналась, — бормочет сквозь смех Игорь. — Вот забодай меня бульдозер!
— Кто гнался? — не пойму я.
— А мать той блондинки с двумя пистолетами. Ты представляешь, из одного все время вверх палит, а другим прямо в меня целится… Ой, чуть сердце не разорвалось.
Тут и меня душит смех. Это черт знает что! У Игоря вечно не как у людей. Нормальному человеку такое никогда и не приснится. Это только Игорю может. Теперь наш опыт, конечно, полетел кверху тормашками.
— Слушай, а ты по-английски что-нибудь запомнил?
— Где там «запомнил», — машет он рукой — Я чуть свое имя не забыл… Нет, гипнопедии, видно, не всякий поддается.
— Придется тебе тоже в «Метрополь» ходить, — говорю я. — Смотреть фильмы на английском. И на курсы поступать, которые осенью в нашем парке открываются.
— Наверно, придется, — соглашается Игорь и начинает искать пленку, где у него записаны песни из Сопота.
Глава восьмая
— Возьмите папку, — говорит Марина. — Тяжести должны таскать мужчины.
Я беру папку, которую надо передать ее подруге. Марина прячет руки в карманы. Теперь она кажется мне недоступной. Я иду рядом и боюсь взять ее под руку.
По улице валит народ: наверное, в «Художественном» начинается сеанс. А тротуар не очень широк, и меня все время отталкивают от Марины. Из-за этого я еще больше теряюсь и совсем не знаю, что говорить.
— Не люблю весну, — бормочу я и сам понимаю, что говорю глупость. — Вернее, я люблю не каждую весну, — поправляюсь я. — Вот эта только начинается, а я ее уже люблю.
Марина поджимает губы и быстрее идет.
Ее подругу мы встречаем во дворе университета: от памятника Ломоносову к нам скатывается шариком маленькая девушка в красном плаще нараспашку. Глаза у нее черные и блестят, как у цыганки.
— Лара, познакомься с носильщиком твоих конспектов, — кивает Марина в мою сторону.
Я говорю свое имя.
— Мы зовем его Алешей, потому что он хороший, — весело хохочет Лара. — Это я такие стихи сочинила своему трехлетнему племяннику.
— Тогда примите подарок для вашего Пегаса, — говорю я, передавая ей папку с конспектами.
— Спасибо. А тебя, морская девочка, дай поцелую. — Лара приподнимается на носки, чмокает Марину в щеку.
— Ни пуха ни пера, — говорит Марина. — Завтра я буду ругать тебя прямо с утра.
— Пошла к черту, к самому главному. Я сейчас его видела. Вон там прячется. — Лара показывает на Манеж. — Смотрите, не попадитесь ему в лапы. — И она катится шариком к воротам университета.
Мы стоим у светофора, ждем, когда оборвется поток машин. Потом переходим площадь. Из Александровского сада остро пахнет тающей землей. В его глубине, у самой Кремлевской стены, еще кое-где белеет снег.
— Пошли в сад, — говорит Марина.
Но мне не хочется туда идти. Здесь ходят люди, бегают машины, светофоры весело мигают. С гостиницы «Москва» сеют свет прожекторы. И рядом играет джаз. Наверное, кто-нибудь открыл окно или сзади шагает пижон с транзистором. А в саду почти темно, народу не видно, и мне как-то неловко оставаться вдвоем с Мариной.
— Сегодня в «Метрополе» хороший фильм, — говорю я.
— В кино меня не тянет, — морщится Марина.
— Это я так, я тоже не хочу.
В Александровском саду все дорожки уже просохли, по свежим песком еще не посыпаны. А скамейки недавно покрашены и расставлены по местам. У одной скамейки, что на отшибе, за кустами голой сирени, Марина замедляет шаг.
— Давайте посидим, — говорит она.
— А мы не прилипнем?
Марина трогает скамейку, от которой пахнет масляной краской. Небольшой зеленый камень на ее кольце светится живым светлячком. В нашем палисаднике таких светлячков летом Борька набирает десятками.
— Сухая, — говорит Марина и садится на самый край.
В саду вроде теплее. Кажется, это звезды излучают тепло. Здесь они хорошо видны, будто мы в деревне. Вот бы съездить с Мариной к моей тете на Волгу. Я там никогда не был, но уверен, что ей понравится. Волны бегут, пароходы. А в воде звезды светятся, как сейчас на небе.
Я сажусь поближе к Марине, но ее не касаюсь. Закуриваю, откидываюсь назад и Смотрю сбоку на Марину. Откуда-то залетает ветер, смело перебирает ее волосы, собранные наверху в чалму.
— Как поживает ваш посол? — спрашивает Марина. — Он полюбил быструю езду?
И зачем я придумал этого посла? Теперь Марина считает меня обманщиком. Не зря она с такой издевкой спросила про посла.
— Знаете, я тогда пошутил. Вы извините.
— А я сразу догадалась.
— Но это правда, что я шофер.
— Вы водите какой-нибудь огромный грузовик?
— Нет, я работаю в такси.
— Вот интересно… — говорит Марина и чуть запрокидывает голову.
В ее глазах теперь светятся звездочки. Маленькие, пятиконечные. Надо же! Это отражается звезда, что горит на Боровицкой башне. А кажется, что две: в одном зрачке и в Другом.
— В ваших глазах звезда… рубиновая.
— Правда? — удивляется Марина.
— Честное слово.
Марина опускает голову, и звездочки сразу гаснут. Видно, она не хочет, чтобы я в ее глаза смотрел… А нижняя пуговица на пальто у нее расстегнулась, и черная юбка задралась выше колен, и Марина ее не одергивает. Мне стыдно смотреть на белеющие в темноте колени, и я отворачиваюсь в сторону.
— Слышите шепот? — выдумываю я нарочно.
Марина замирает и смотрит на Кремлевскую стену. В ее глазах опять загораются пятиконечные звездочки. Но я об этом ей не говорю.
— Что-то я не слышу.
— У вас под ногами. Это, наверно, Неглинка под землей скучает.
— Бедняжка, — вздыхает Марина и поправляет юбку, прикрывая колени.
Мне тоже жалко Неглинку. Несчастная эта река. Течет по самому центру, а ничего не видит: ни домов, ни людей, ни солнца. Заковали ее в трубы, и она теперь живет в темноте.
На Спасской башне бьют часы. Звонко, по-весеннему. Кажется, кто-то с силой ударяет по клавишу огромного рояля. Ударит — прислушается, потом снова ударит. И так десять раз подряд.
— Я замерзаю, — ежится Марина. — Давайте походим.
Мы выбираемся на дорожку, огибаем Кутафью башню и попадаем на проспект Маркса, где снова люди, огни, машины, где пахнет бензином, весной и духами. Встречные парни, подталкивая друг друга, все как один, таращат глаза на Марину. И я начинаю жалеть, что мы теперь не в саду, где не было этих парней, и думаю еще о том, что ничего у меня с Мариной не получится: слишком она красивая.
— Вы любите гулять по улицам? — спрашивает Марина.
— Любил бы, если б там ходили одни пенсионеры.
— Тогда пошли на Москву-реку. Вы по мостам ходить не боитесь? А то я знаю одного физика, который всегда бормочет что-то про амплитуду и мосты объезжает под землей. Я не знаю, что бы он делал, если б не было метро.
Мне что-то сразу не нравится этот физик. Какое он имеет к Марине отношение? Откуда ей известны его странности? И чтобы выпытать про физика, я говорю:
— Старики всегда с причудами.
— А некоторые люди очень любопытны, — отвечает Марина, разгадав мою хитрость.
Нас обгоняют троллейбусы. Странно, они совсем пустые. А на улицах битком народу. В такой вечер не много охотников ездить. Значит, Володя едва ли вернется с планом. Сейчас торчит где-нибудь у вокзала: одна надежда на приезжих.
Мы идем медленно. Свет от огней рекламы скользит по лицу Марины, и оно все время меняется: то отливает синевой, то розовеет, то вдруг становится матовым. А глаза все равно зеленые. Ей очень идет это имя: Марина — морская. От нее даже пахнет морем. А может быть, у Марины такие духи.
В садике рядом с низким старинным домом женщина с граблями сжигает прошлогодние листья. Дым от костра сизыми барашками плывет к библиотеке Ленина, которая закрывает сразу полнеба. Оттуда выходят студенты и громко спорят. Один, прижав к груди папку, что-то доказывает насчет теории невесомости.
— Понятно и непонятно, — говорю я.
— Вы о чем?
— А вот дети науки и женщина с граблями. Как соединить все это? Перед кем снять раньше шляпу, как говорит наш Андрей Павлович.
— Вы, кажется, начинаете меня забавлять.
— Но я не боюсь ходить по мостам.
— Это одно и то же.
Тут с Каменного моста нам навстречу спускаются трое парней. Они взялись за руки и поют вразброд пот гитару: «Хлопнем, тетка, по стакану, сдвинем души набекрень…» Потом один хриплым голосом кричит:
— Гляньте, а красотка что надо!.. Может, отнимем?
Марина отворачивается от парней и ускоряет шаг. А когда мы приходим на середину моста, она облокачивается на перила и говорит:
— Дальше не хочу.
Я становлюсь рядом. Теперь лицо Марины совсем близко. Ее темно-бордовые волосы касаются моего виска, и я слышу их запах. Так обычно пахнет после весенней грозы. А грудь у Марины при каждом вдохе чуть-чуть поднимается.
Мы стоим и смотрим на Москву-реку. Лед уже прошел. Да она не везде и замерзает. Ветер рябит воду, на которой отражаются огни домов, реклам, светофором.
— Красиво!.. — тихо говорит Марина.
Я молчу. Мне первый раз за весь вечер легко молчать. Ветер треплет ее волосы, и они теперь щекочут мой нос. Приятно так щекочут. Я готов здесь стоять с Мариной до утра. Стоять и смотреть на огни в воде, которые движутся, мигают, дышат. Кажется, это под нами опрокинутое небо и мы стоим ногами на звездном небе.
Потом я провожаю Марину домой, и мы стоим под аркой, оклеенной разными объявлениями. Я рассказываю Марине, как хорошо таксисту ездить ночью и подбирать растерявшихся пассажиров. Но она почему-то меня не слушает, все озирается по сторонам. А вскоре Марина неожиданно уходит, и ее слова «спокойной ночи» уже доносятся из глубины двора.
Глава девятая
Скучно стоять на месте, но я стою. Я больше не гоняюсь за пассажирами. Может быть, Николай Иванович и прав: сами меня найдут. Только что-то не слишком они торопятся. Передо мной всего четыре машины, а я жду уже минут двадцать. Хорошо, что не забыл сегодня словарь. Я достаю его и начинаю зубрить английский.
Справа суетятся самосвалы, ползают взад-вперед бульдозеры, жужжат, как пчелы, компрессоры. Но особенно старается экскаватор. К его стреле прицепили тяжелую грушу, и он молотит ею по старому дому: размахивает, урчит сердито и с силой бухает в ближний угол. И тотчас валится с треском простенок, поднимая красную пыль.
Отложив словарь, я начинаю воображать будущий проспект. Года через два здесь поднимутся высокие дома, гостиницы, вдоль тротуаров вытянутся шеренги молодых лип. Моя «зеленуха» к тому времени постареет, едва ли ей придется бегать по новому проспекту. А может быть, придется, ведь она еще не находила и сорока тысяч километров.
— Машина свободна? — гудит чей-то бас над моим ухом.
Я оборачиваюсь. Рядом стоит полковник с большим чемоданом, опутанным бечевками. Не дожидаясь ответа, он рывком открывает дверцу, кладет чемодан на заднее сиденье и плюхается прямо на словарь.
— На Курский, — строго говорит полковник.
— Между прочим, вы сели на книжку.
Полковник, хмурясь, достает из-под себя словарь, молча бросает мне на колени. Я кладу его за козырек от солнца, разворачиваюсь и выезжаю на Садовое кольцо.
Весна разошлась вовсю. Солнце вылизало последние ручейки, которые еще недавно блестели в глубине дворов, первые листья припудрили улицы, и везде, где нет асфальта, теперь зеленеет молодая трава. На скверах сидят пенсионеры с газетами, весело визжат ребятишки. У метро женщины в белом продают ландыши.
В такой день хочется петь. И я, пожалуй, что-нибудь замурлыкал, если б рядом не сидел этот строгий полковник, который песни, наверное, не любит. Серую папаху он насадил глубоко, до самых бровей, грудь выпятил, а руки держит по швам даже сидя. И все время молчит и по сторонам не смотрит, как будто мы едем не по Москве.
Собственно, он может молчать сколько угодно. Я не собираюсь с ним заговаривать. Да и о чем говорить — о погоде? Мужчины, как правило, говорят с таксистом о погоде. А приезжие женщины, возвращаясь на вокзал, обязательно ругают Москву. Мол, что за город такой суматошный. Все бегут, все торопятся словно угорелые. И каждый читает. Воткнется в книжку или в газету, вокруг ничего не видит. Потом спохватится: ах, остановку свою проехал!.. Нет, они и дня одного не согласились бы тут прожить. Наказание одно. Прямо не нарадуются, что домой наконец едут.
Полковник закуривает. Разрешения, конечно, не спросил. Значит, воспитанием его не угнетали. Дым от папиросы ароматный. Курит, кажется, «Герцеговину Флор». А пепел стряхивает под ноги, прямо на резиновый коврик, который всегда так старательно скребет щеткой наша мойщица тетя Настя.
Я протягиваю руку к панели и выдвигаю пепельницу. При этом незаметно бросаю взгляд на полковника. Вид у него по-прежнему сердитый. Почему он не в духе? Может, от него жена к генералу убежала?
У Курского вокзала полковник, порывшись в карманах, все так же молча дает мне полтора рубля.
— На счетчике рубль, — говорю я, — возьмите лишние деньги.
Полковник забирает полтинник и смотрит внимательно на меня. Теперь я замечаю, что он вовсе не сердитый, просто какой-то задумчивый. А в глазах его грусть и усталость.
— Спасибо, сынок, что быстро довез, — говорит он вдруг мягко, совсем не по-военному. И вроде не торопится выходить. Потом опять весь подбирается, словно в нем разом сжалась какая-то главная пружина, резким движением берет чемодан и идет, ссутулившись, к тоннелю.
Я смотрю ему вслед, и мне кажется его спина знакомой. Где я видел такую же спину в серой шинели? И вдруг вспоминаю: точно так, ссутулившись, уходил из дома отец. Он дождался меня из школы, поцеловал в затылок и неуверенно вышел из дома с большим чемоданом. Мать с красными от слез глазами сидела на диване с маленьким Борькой. И тогда у отца была точно такая же спина, сутулость которой подчеркивала серая шинель.
В то время отец был капитаном. А теперь и он, может быть, полковник. Ведь прошло уже девять лет. Сейчас я, пожалуй, его и не узнаю. Он тоже, наверное, носит серую папаху. Интересно, идет она ему или нет? А впрочем, об этом лучше не думать.
Я закрываю машину и иду на вокзал. Наш Андрей Павлович собрался наконец на грязи. Вчера вечером, надев очки, он долго рассматривал путевку. Потом разгладил все уголки и положил ее в новый бумажник. А утром попросил меня подобрать ему самый удачный поезд: чтобы в Кисловодск прибыл днем, а из Москвы отправлялся вечером не слишком поздно.
Я протискиваюсь к кассам дальнего следования, смотрю на расписание. Наконец выбираю для Андрея Павловича пару подходящих поездов и выхожу. У подъезда, прикуривая у морячка Черноморского флота, слышу сзади разговор:
— Бабушка, вам куда ехать?
— Вон тут написано. Гляньте, я не разберу.
— Так, Ульяновская. Рублевка туда стоит. Деньги-то с собой есть?
— Рупь найдется… Меня доченька должна встретить, да вот не встретила.
— Это бывает.
Тут я оглядываюсь и столбенею: с бабушкой переговаривается Аркадий Занегин. Вот никогда не думал, что он из тех, которые толкаются у вокзалов и вполголоса спрашивают: «Кому на Киевский?», «Кому на Курский?» А набрав четырех человек, получают с каждого по пятьдесят копеек. В итоге выходит ловко: рубль — в кассу, рубль — в карман.
Сейчас машина Занегина стоит где-нибудь в сторонке. Диспетчер, конечно, прикидывается, что ничего не видит, и в цепочку его не ставит. Ведь диспетчеру еще утром он подкинул два рубля, «зарядил» на день. То же самое Занегин сделал на другом вокзале. И теперь маршрут у него прост: Киевский — Курский, Курский — Киевский.
А еще он присматривает «пиджаков». Вокзальщики так называют людей из провинции, таких вот, как эта бабушка, кто не знает Москвы, кого можно везти в центр через Сокольники. Но сейчас у Занегина ничего не выйдет. Нет, не выйдет, будь я не москвич!..
Я подхожу сзади и хлопаю его по плечу. Занегин испуганно вздрагивает, но тут же, взяв себя в руки, выдавливает сухую улыбку.
— Алеша! — восклицает он. — Что здесь делаешь, котенок?
— А ты что?
— Вот мамашу собрался к дочке доставить.
Бабушка моргает светлыми глазами без ресниц.
— Сынок согласился довезти меня, старую.
— Та к, так… А сколько до Ульяновской? — я смотрю на него в упор. — Рубль, говоришь?
На угреватых щеках Занегина вдруг начинают играть желваки. Теперь он понимает, что я все слышал.
— Шпионишь, — зло говорит он. — В партию решил пролезть. Давай, давай, это тоже метод. Только смотри, как бы по шее не накостыляли… — И Занегин, оттопырив зад, наклоняется, чтобы взять старушкин чемодан.
— Оставь бабушку! — кричу я.
Занегин в замешательстве руки засовывает в карманы, а ноги расставляет пошире, словно приготовился к удару. Его карие сверлящие глаза суживаются.
— А ты, оказывается, еще и псих. Душевнобольной, стало быть. Так и доложу начальству.
— Лучше о себе доложи, о своей болезни.
— Нет, раньше надо тебя вылечить, — сквозь зубы говорит Занегин и, сдвинув на глаза фуражку, хищно ныряет в толпу пассажиров, выходящих из тоннеля.
Я стою ошеломленный. Вот, оказывается, какой Аркадий. Недавно ругал Зеленину, что она гривенники собирает, а сам еще почище. Он даже не пожалел эту слабую бабушку.
— Сынок, а как же теперь я? — Бабушка смотрит на меня с мольбой.
— Не волнуйтесь, — говорю я, забираю чемодан и веду ее к своей машине.
Внутри чемодана что-то перекатывается, а сам он тяжелый. Удивляюсь, чем могла бабушка его нагрузить. Наша тетя, собираясь в Москву, всегда ломает голову, не зная, что нам с Борькой привезти: ведь москвичей ничем не удивишь.
— Сынок, вам беречься надо, — говорит бабушка. — Нехороший он человек.
— Пускай он бережется. А мне что — я прав.
— Ох, бывает, что и правые страдают, — вздыхает бабушка. — Вон у нас в поселке днями парня чуть не решили. Он был — фу-ты, забыла! — вот что с повязкой красной ходит…
— Дружинник?
— Вот-вот, дружинщик. Умница такая… А теперь в больницу попал. Бабы говорят, может, не выживет.
— Раз в больницу попал, выживет.
— Дай-то бог, — крестится бабушка.
Я кладу чемодан в багажник, прикрываю за бабушкой дверцу и выезжаю на улицу Чкалова. Машин вокруг невпроворот. Лавируя между легковушками и грузовиками, я наконец пробиваюсь в пятый ряд и разворачиваюсь в обратную сторону.
Бабушка, сев в машину, тут же притихла, ссутулилась и теперь кажется еще старше. Темные от морщин руки она сложила на груди. Глаза у нее испуганные. И всякий раз, когда перекрывается светофор и я чуть не вплотную притираюсь к идущим впереди машинам, бабушка вздрагивает. Наверное, она впервые в Москве и никогда не видела столько машин.
Выехав на Ульяновскую, я с трудом разбираю адрес на потертом конверте, который даст мне бабушка, и вскоре останавливаюсь напротив серого блочного дома. Бабушка руку опускает под кофту, достает оттуда деньги и сует мне рубль.
— Дочь на каком этаже живет? — говорю я, отсчитывая сдачу.
— Пятый, кажись, писала… Да ты, сынок, не беспокойся.
Но я все же веду бабушку в дом. Куда ей с таким чемоданом на пятый. Вон дышит как часто. И руки трясутся. Видно, волнуется, что дочка не встретила.
На пятом этаже нам квартиру открывает девочка лет одиннадцати. Две косички-змейки обнимают ее белую худую шею. Вначале девочка смотрит на нас исподлобья, но потом узнает бабушку и кидается ее целовать.
— А мать-то где? — с тревогой спрашивает бабушка.
— Она завтра вернется. В Горький от завода уехала.
— Ну, слава богу, — вздыхает облегченно бабушка. — А я думала, случилось что.
Теперь в глазах бабушки проглядывает что-то молодое. И руки ее больше не дрожат. Вот и хорошо, живи до ста лет, бабушка!.. Я ставлю чемодан в прихожей и легко бегу вниз по лестнице.
Возле моей машины уже топчется пассажир. На вид такой смешной: в зеленом плаще нараспашку, в одной поле что-то завернуто, из кармана выглядывает бутылка «Столичной».
— На Ленинский подбросишь? — весело спрашивает он.
Я киваю, а сам думаю, что мне, кажется, повезло. До Ленинского расстояние приличное. А там полно магазинов, разных научно-исследовательских институтов. Так что в том районе долго не застоишься.
Когда садимся в машину, я замечаю, что мой пассажир в полу плаща завернул кота, большущего, серого, с крупными желтыми глазами.
— Потапом зовут, — улыбается пассажир. — Он у меня все понимает, бездельник. Ишь как тихо сидит.
— Из дома убежал? — говорю я.
— Не-е, мы с ним на смотрины едем. — Пассажир громко смеется. — Понимаешь, радость у нас. Вызывают сегодня в местком и говорят: «Давай, Максим, танцуй, если хочешь в отдельной квартире жить». Ну, я выдал пару колен под сухую, забрал ордер — и за Потапом. Не терпится новую квартиру посмотреть. Вот осмотрю, а тогда к жене в больницу поеду с докладом, так сказать.
— Что, боитесь, Потапу квартира не понравится?
— Примета такая есть. Хочешь на новом месте ладно жить, перво-наперво кота на порог пусти.
Я сжимаю губы, чтобы не рассмеяться.
За Краснохолмским мостом впереди нас выскакивает совсем новый «Москвич». На его заднем стекле огромный восклицательный знак. Как смеется Игорь, это означает: «Смерть пешеходам!» «Москвич» тормозит где не надо, ползет черепахой и все время мечется из ряда в ряд.
— Обставил бы частника, — советует пассажир.
Но «Москвич» и сам вдруг прижимается к тротуару, останавливается у гастронома. А я делаю поворот, выезжаю на Ленинский к прибавляю газу. Теперь можно и с ветерком проехать: проспект такой, что шире некуда.
Навстречу бегут-торопятся дома. Высокие, новые, и все как-то червонно светятся. Это веселое свечение на Ленинском в любую погоду. Оно идет откуда-то изнутри, будто в каждом доме спрятано по солнцу.
А справа в небе плывет и плывет звезда университетской башни. Ее то закрывают дома, то затушевывают деревья. Мой пассажир, поглядывая на звезду, теребит за уши кота и говорит:
— Во на каком проспекте мы будем жить с тобой, Потап.
Потап вроде понимает. Он трется о плечо хозяина и таращит глаза на пестрые витрины магазинов, на стеклянные фонари-киоски, на людей в нарядных плащах из нейлона. А когда мимо проносятся ослепительно черные ЗИЛы, желтые глаза Потапа и вовсе чуть не выкатываются на лоб.
— Правительство на Внуковский поехало, — говорит пассажир. — Встречать кого-нибудь.
Потом он достает ордер. Склонив голову набок, смотрит на него, смотрит. Помню, когда нас переселяли, мама тоже никак не могла наглядеться на ордер. Она несколько раз за вечер вынимала его из сумочки, показывая соседям, и говорила, что в новой квартире первую ночь просидит в ванне.
— Все законно, — улыбается пассажир. — Печать гербовая, подпись. И ключи в кармане. Но где этот Морской переулок, убей, не знаю.
— А вот «Синтетику» проедем, — говорю я, — повернем направо и упремся в Морской.
Минуты через две я торможу у нового дома, вокруг которого уже дымят листвой молодые липы на привязи.
— Красавец! — радуется пассажир. — Погляди, весь белый, а балконы голубые. Маша не поверит, ей-богу… Слушай, закрывай свою тачку, пошли новоселье справлять.
— Спасибо, за рулем не могу.
— Да ты не робей, — машет он рукой. — После кофейных зерен купим. Пожуешь — и концы в воду.
— Нет, нет, спасибо.
— Дело, конечно, хозяйское, — говорит пассажир. — В таком случае жди меня, еще к Маше поедем. — Он забирает Потапа и уходит.
Оставшись один, я пробую заняться английским. Но в голову ничего не лезет. Перед глазами почему-то все время всплывает Занегин, то согнувшийся с оттопыренным задом, то с засунутыми в карманы руками. Тогда я закрываю словарь и включаю рацию.
Девушка с «Букета», растягивая слова, просит все свободные машины, что вблизи Лужников, следовать на стадион. Значит, там подходит к концу футбольный матч. Интересно, а кто выиграл? Почему бы ей не сказать?
И вдруг все заглушает пение: «Всякий раз слушаю вас, а сердце замирает. Где вас найти, как к вам пройти…» Черт возьми, это, кажется, Игорь? Ну, конечно, он, шалопай. А еще в эфире голос той же девушки, но уже строгий: «Прекратите, пожалуйста! Вы мешаете работать». Но Игорь продолжает петь. Вот дурачок. Опять попадет в историю, он без этого дня не может прожить. И тут песня обрывается, слышен только голос девушки: «Машина 2316, клиент с Вернадского ждет в семнадцать пятьдесят». Потом она снова в эфире: «Машина 3467, ваш заказ отменяется. Следуйте на ближайшую стоянку…»
Минут через тридцать возвращается мой пассажир. Он немного уже покачивается. И без Потапа.
— Слушай, вот чудеса!.. — говорит он громко, и глаза его блестят. — Я тут приятеля встретил, мы с ним десять лет на одном заводе… А теперь соседями будем. Понял?
Я запускаю мотор. Я все прекрасно понял: ни к какой жене сейчас он не поедет. Зря я только простоял. И упустил лучшее время. Теперь все мои научные сотрудники разъехались по домам.
— Ты в обиде, да? — спрашивает он, прощаясь со мной за руку.
— Что поделаешь, у вас такая радость, — говорю я и резко хлопаю дверцей.
Выскочив на Ленинский проспект, я разворачиваюсь и медленно еду к центру. С надеждой поглядываю на тротуары. Но никто меня не окликает, никто не бежит навстречу с вытянутой рукой. Вот и троллейбусы уже не темнеют от пассажиров, просматриваются насквозь. Это настал самый неудачный час: с работы люди проехали, а в театры, на свидание еще не собрались.
Слева показалось кафе «Луна», и его ярко-синяя реклама с издевкой подмигивает мне, словно хочет сказать: «Можете проваливать дальше. Гости наши только что сели за стол, аппетитно потягивают «Твиши», «Тетру», «Напареули», освежаются ароматным мороженым и совсем не собираются покидать зал, наполненный до потолка музыкой».
Но я все-таки торможу у кафе. Я не хочу ехать дальше. Почему бы мне не постоять на этом проспекте, где всегда так хорошо пахнет — только что разломленным арбузом.
А на нашем проспекте пахнет иначе — тополем. В июне он цветет и все тротуары засыпает белым пухом. И тогда кажется, что выпал теплый снег. Он залетает в автобусы, в дома и даже забирается к Андрею Павловичу за очки. Тот, весело покачивая головой, снимает очки, долго дует на них, будто на горячее молоко, потом протирает носовым платком и снова перекидывает через нос. И вот когда идет этот летний снег, на проспекте Мира особенно остро пахнет тополем.
— Хэлло!.. Товарищ!.. — кричит кто-то сзади.
Я оглядываюсь. Из переулка выбегает девушка в красном коротком плаще, с раздутым портфелем. Неужели она кричит мне? Девушка машет рукой и сворачивает к машине.
— Ви, пжалюста, меня повезите, — говорит она с мягким акцентом.
Хе-хе, это, кажется, англичанка. Вон какая высокая, почти что с меня. Значит, сейчас будет инглиш-практикум. Только я не знаю, которую лучше открыть дверцу — переднюю или заднюю. Если она капиталистка, то едва ли сядет рядом. А впрочем, пускай привыкает к социализму заранее.
— Пожалуйста, — я распахиваю переднюю дверцу.
Девушка садится рядом со мной. Выходит, она наш брат, пролетарий. Это уже лучше. Сейчас я с ней потолкую о жизни, сейчас узнаю, до каких пор они там в Англии будут терпеть эксплуатацию. Только я начну, конечно, издалека.
— Вас не продует? — говорю я по-английски, кивая на приспущенное левое стекло.
— Инглиш… — девушка мотает головой. — Я… Прага… чешка… Прага.
— Ах, Прага, вы из Чехословакии… Очень приятно. Скажите, пожалуйста, куда вас отвезти?
— Так… так, — она показывает вперед. — Так… Ленинские горы.
Ну, все понятно. Это студентка МГУ, будущий химик или геолог. Вот какая умница! А я чуть ее за капиталистку не принял. Бывает же такое… Я включаю зажигание и трогаю машину.
Глава десятая
В девятом часу я возвращаюсь в парк. На мойке очереди нет, и я, быстро подняв стекла, ныряю под душ. Тысячи струй-сабель сразу впиваются в кабину, в капот, в крылья; мягкие капроновые щетки обнимают машину с боков, поглаживают сверху. Минуты полторы-две я штурмую искусственный ливень, и вот уже чистая, как богиня, моя «зеленуха» выкатывается на бетонированную дорожку.
— А ну отворяйся!. — кричит тетя Настя, потрясая щеткой.
Я распахиваю настежь все четыре дверцы, вылезаю из машины. Тетя Настя, ловко орудуя щеткой, подметает пол в кабине, протирает сырой мыльной тряпкой сиденья.
— Игорь еще не приехал? — спрашиваю я.
— Да хоть бы он совсем не приезжал, этот твой баламут, — говорит тетя Настя. — Тоже мне сыскал приятеля… Знает только головы девкам крутить.
Я смотрю на тетю Настю. Лицо у нее маленькое, сморщенное, а глаза веселые. И очень молодые, как будто с чужого лица. Странно, почему это у нее глаза не стареют. А у мамы, наоборот, слишком молодое было лицо. Но глаза ее выдавали. Они всегда были грустные и сильно маму старили.
— Про новость-то слыхал? — спрашивает тетя Настя, одергивая свой резиновый фартук.
— Нет, а что такое?
— Кассиршу в диспетчерской сняли.
— Какую кассиршу?
— А вот ту, которая самая красивая… Говорят, не чиста на руку была.
— Значит, это Зеленину. В диспетчерской вроде и нет красивей ее.
— Родной, благородный, закругляй тары-бары!..
Это Михеевич сзади кричит, самый старый водитель нашей колонны. Он, говорят, еще Дзержинского возил. И все может быть: Николай Михеевич добрый старик, вежливый такой.
Я быстро съезжаю с дорожки и гоню машину в колонну.
Механик Петухов, заложив руки за спину, прохаживается вдоль бетонки, которая наполовину заставлена машинами. Мне он велит ехать в самый конец. Мы с Володей не даем ему на чай, и он в свое дежурство нашу машину всегда запихивает подальше. Из-за этого утром полчаса теряешь: чтобы выбраться на выездную дорожку, сколько надо машин отогнать.
— А почему так далеко? — говорю я. — Мой сменщик рано утром выезжает.
— Гони, гони! — хрипит Петухов, не глядя в мою сторону. — Молод еще рассуждать.
Я показываю ему язык и еду в самый конец колонны. Ставлю машину по соседству с Антоном Чувякиным, который ковыряется в моторе. Он поднял капот, пригнулся, а сам зыркает по сторонам.
Э-э, значит, этот голубчик задумал что-нибудь стибрить. В нашей колонне такое бывает. Иной разобьет на линии зеркало, а вернется в парк и быстро переставит с чужой машины целое. Да еще нацарапает на обратной стороне пару закорючек. И тогда попробуй докажи, что оно твое.
Чтобы припугнуть Чувякина, уходя, я говорю:
— Антон, на моей машине дворники, антенна и все остальное помечено. Так что заруби на носу.
Чувякин делает вид, что ничего не слышит.
В диспетчерской, как всегда, полно народу. Но одно окошечко в фанерной стене свободно. Я подхожу туда, подаю завернутые в путевку деньги. И сразу меня обступают остряки, каждый начинает тренировать свой язык:
— Ха-ха, Алеша, опять красотку бесплатно катал.
— Да, силен парень!.. Километры есть, а денег кот наплакал.
— Он теперь со словарем… Видно, решил иностранку охомутать.
— Это трудно. У него в кармане ни шиша.
А за кассой, как назло, сидит Вера. Значит, она теперь вместо Зелениной. Правда, в Веру был влюблен Игорь, а не я, но мне все равно неудобно: ведь я его друг. Вера, будто прочитав мои мысли, вскакивает со стула, просовывает кудрявую голову в окошечко.
— Эй, вы, совесть поимейте! — кричит она. — Сами такими были… Я вот тех, кто особенно старается, в другой раз тут до полуночи продержу.
Но никто и ухом не ведет. Теперь все лишь переключаются на Колю Волкова. Он вместе со мной заканчивал курсы и тоже редко приезжает с планом. Розовея ушами, Коля подвигается к окошечку, а я тем временем ускользаю незаметно за дверь.
Бегу я вниз по лестнице, а у самого на душе словно кошки скребут. Сколько же еще мне терпеть этот позор? Ну ладно, раньше я город плохо знал, ну ладно, раньше я в машине разбирался слабо. А теперь я, можно сказать, с закрытыми глазами по Москве проеду, теперь я на слух машину чувствую. Так в чем же дело?
Николай Иванович говорил, чтобы я за пассажирами не гонялся. А я больше и не гоняюсь за ними. Да что толку. Раньше я по девятнадцать рублей привозил, а теперь по двадцать с хвостиком. Нечего сказать, прибавка. И за это я торчу по полдня на стоянке, как старик. Стыдно даже.
Расстроенный выхожу я за ворота парка и носом к носу сталкиваюсь с Занегиным. После сегодняшнего случая на вокзале мне противно на него смотреть, и я отворачиваюсь. А он как ни в чем не бывало кладет мне на плечо волосатую руку и по-дружески так говорит:
— Домой топаешь?
— Нет, на Луну, — отвечаю я. — И, пожалуйста, убери руку, она у тебя грязная.
— А ты, как я погляжу, малый ершистый, — ухмыляется Занегин.
Резко вывернув плечо, я сбрасываю его руку и сплевываю себе под ноги.
— Тьфу!.. Теперь куртку надо в чистку отдавать.
Занегин впивается в меня суженными глазами.
— Ладно, хватит корчить из себя… — цедит он сквозь зубы. — Говори прямо, ты продашь меня?
— Я бы продал, да никто не купит. Слишком много в тебе навоза.
Занегин закуривает. Я на всякий случай ощупываю карманы. Но в карманах у меня только спички да сигареты. И тут я впервые хвалю Игоря, который занимается боксом. Нет, он, пожалуй, прав, еще рано запрещать у нас этот вид спорта. Наоборот, боксу даже в школе надо учить, раз вот такие не перевелись.
Жадно затягиваясь папиросой, Занегин с минуту идет молча, по-бычьи наклоняясь вперед. Я тоже молчу и только сжимаю в кулак пальцы правой руки. Пусть я не знаю никаких приемов, пусть я ни с кем серьезно ее дрался и мне, конечно, страшно, но я буду защищаться как черт.
— Ты кулаки разожми, а то пальцы посинеют, — говорит Занегин. — Все равно я не собираюсь с тобой цапаться. Не желаю срок из-за дурака тянуть. Я вот поговорить хотел, а ты все ершишься.
— Мне противно с тобой говорить.
— Хорош гусь. — Занегин покачивает квадратной головой. — Увез моего пассажира да еще и нос дерет. Это что, в комсомоле так учат?
— Да, в комсомоле.
— То-то, я смотрю, комсомольцы всюду лезут со своим носом, каждого жить учат, будто у остальных не голова, а так что-то, кочан какой-нибудь… Только ни черта из этого не выйдет — дураков осталось мало. Ты, правда, попался на удочку. И зря. Я мог бы тебя с нужными ребятами познакомить, стал бы кучу денег привозить. И план бы всегда перевыполнял, в почете был бы. Вот как я.
— Не надо мне такого почета, я совесть не продаю.
Занегин морщит красный мясистый нос.
— Значит, ты святой, в рай угодишь. А вот я простой смертный, меня совесть не кормит. Мне деньги нужны, деньги! Понятно тебе, ангел?.. — И он, сильно выворачивая вовнутрь ноги, бежит к приседающему на остановке троллейбусу.
Меня тут же догоняет Игорь.
— Что не подождал? — жарко дышит он в лицо. — Я весь парк обегал. Потом вышел за ворота, смотрю, ты с Занегиным и у вас что-то назревает. Я скорее на другую сторону. Иду, наблюдаю. Если что, думаю, подскочу на выручку… А чего это он к тебе приставал?
Я рассказываю ему про случай со старушкой.
— Вот гад немытый!.. — возмущается Игорь и сворачивает к телефону-автомату, хлопая по карманам, ищет записную книжку. Это значит, он будет звонить новенькой. Телефоны давно знакомых девушек Игорь знает на память.
Мне бы тоже надо позвонить Марине, но вечером страшно: отец может трубку взять. Один раз я уже налетел на него. Правда, он говорил любезно, но я так заикался, что, как вспомню, хоть с моста Крымского бросайся. И теперь я звоню Марине только днем, когда отец на работе.
Игорь заходит в будку, набирает номер. В трубке слышатся частые гудки. Он ждет с минуту, снова опускает монету. На этот раз говорит «алло» и тут же вешает трубку.
— Что, нет дома?
— Понимаешь, познакомился сегодня. — Игорь чешет перчаткой лоб. — Девочка люкс, но оказалась актрисой… Там отвечают: «Участковый Гавриков слушает». Ну ладно, попадется она мне, — успокаивает себя Игорь.
Мы закуриваем и выходим на проспект Мира. Народу повсюду полно. В апреле всегда в Москве вроде теснее. Парки еще закрыты, а дома не усидишь, вот все и бродят по улицам с просветленными лицами. Только мне сейчас и весна не весна.
— Игорь, меня, наверно, с работы выпрут, — говорю я.
— Не выпрут, — успокаивает он. — Водишь ты неплохо…
— Этого мало, я чего-то не знаю, что знают другие. Потому и с планом у меня не клеится.
— Подумаешь, секреты, — смеется Игорь. — Головой надо варить, вот и все. Да еще газеты читать, особенно «Вечернюю Москву». Ведь там все написано: где что открывается и закрывается, начинается и заканчивается. Понятно тебе? Берешь «Вечерку» и сразу видишь, где по тебе пассажиры слезы льют — в Доме Союзов или на стадионе, во Дворце съездов или в парке «Сокольники», в ЦДРИ или там еще где… Вот так, старина, — Игорь хлопает меня по животу, — выше голову!.. А то участковому Гаврикову позвоню.
Вот за это я и люблю Игоря. Многие его несерьезным считают, а он совсем не такой. Игорь просто дурачится и никогда не вешает носа. А коснись дела — он парень что надо. И друг настоящий.
Я провожаю Игоря до трамвая. Он садится и в вагоне плющит нос о стекло, крутит пальцем около уха — грозится позвонить участковому Гаврикову.
Глава одиннадцатая
Все у меня болит. Руки болят, спина болит, плечи болят. Посидеть бы в курилке, передохнуть бы чуть-чуть, да некогда: дел столько, что знай успевай поворачиваться. «Рябинин, волоки эту развалину на свалку. Да поскорее. Машина сейчас придет, надо баллоны в нее погрузить. И бочки из-под масла откати на склад до конца работы».
Я, ни слова не говоря, взваливаю на плечи потный от старости аккумулятор и тащу в самый дальний конец парка. А когда возвращаюсь, машина тут как тут, стоит и ждет грузчика. Я быстро ставлю на попа первый баллон, поднимаю и заталкиваю его в кузов. Потом второй, третий, четвертый… Последний тоже закатил, но не успел вовремя отнять руку и прищемил палец. Ой, как крепко прищемил! Даже сердце зашлось. А палец так ломит, что хоть падай прямо на бетонку и плачь у всех на виду. Я дую на палец, вроде полегче становится. Потом начинаю бочки перекатывать.
Сегодня только третий день, как Петухов отстранил меня от езды, а кажется, что уже целую вечность я мыкаюсь по парку, делая то, делая это, и конца своей работы пока не вижу. Но самое тяжкое для меня не работа, это даже хорошо, что ее много. Когда я тащу что-нибудь тяжелое, то никого не замечаю и меня вроде никто не видит. А вот когда иду пустой обратно, тут мне трудно, тут мне хочется превратиться в невидимку. Пустой я бреду, не поднимая головы, пустой я стараюсь обходить или не замечать знакомых ребят.
Но больше всего я боюсь встретить директора. Николай Иванович так хорошо со мной тогда говорил, он ведь еще в тот раз мог снять меня с машины, но не снял, поверил мне. А я его подвел. Как теперь ему в глаза буду смотреть? Он, конечно, уже знает, что я тут разные бочки да баллоны катаю, Петухов небось доложил.
Первую бочку я откатил удачно: по дороге к бензоскладу и обратно никого из знакомых не встретил. А когда покатил вторую, вижу, мне наперерез идет Вадим Чалый. Что ему надо? Позубоскалить решил? Я сильнее подталкиваю сразу руками и ногами липкую от масла бочку, чтобы опередить Вадима и не встретиться с ним. Но Чалый тоже ускоряет шаг, потом кричит:
— Эй, король масляных бочек, подожди!
Я делаю вид, что не слышу его, и продолжаю катить бочку еще быстрее.
— Оглох ты, что ли? — говорит Вадим, нагоняя все-таки меня.
— Чего надо? — отвечаю я сердито.
— На бюро комсомола тебя вызывают. Ровно в шесть приходи. Румянцев велел не опаздывать.
У меня даже ноги подкосились от таких его слов. Вот оно как дело оборачивается. Мало того, что с машины сняли, еще по комсомольской линии решили позорить, так сказать, воспитывать. Выходит, не только Петухов, а все против меня. Все до одного.
— Ну что молчишь, как воды в рот набрал? — говорит Вадим. — На бюро, смотри, приходи.
— Обязательно приду, без опоздания приду, с радостью приду, — отвечаю я.
И качу бочку еще несколько метров. Потом останавливаюсь. А за каким чертом мне ее катить? Кому нужно это мое старание? Я с силой пинаю бочку, она издает глухой утробный звон и откатывается в сторону от дороги.
Вот и конец. Больше я не хочу терпеть этого позора. Раз не получается из меня шофер, не надо. Найду себе и другую работу. Могу завтра же грузчиком пойти в мебельный. Буду ездить на огромной машине с надписью по бортам: «Доставка мебели населению», буду таскать по этажам гражданам-новоселам новенькие гарнитуры. И не будет там этого чертова плана, потому что нельзя заранее узнать, сколько купят сегодня или завтра разных шкафов, столов, диванов.
Так что зазря хлопочет Румянцев, ни к чему собирает он комсомольское бюро. Все равно представление не состоится. Я приду сейчас на бюро и скажу, что подаю заявление об уходе. И тогда разговор со мной будет короткий, я уже буду чужой, меня незачем будет воспитывать.
Я вытираю о траву масленые руки и смотрю на часы. До начала бюро остается десять минут. А может, мне заранее написать заявление? Я еще успею. Так ведь будет лучше: прийти с готовым заявлением. Когда скажут мне: «Ну хвастай, Рябинин, как ты дошел до такой жизни, что механик отстранил тебя от езды?», я достану из кармана заявление и отдам Румянцеву. Потом поклонюсь низко, по-русски, и гордо уйду.
Да, да, так я и сделаю. В моем положении это лучший выход. Не слушать унизительных нравоучений, перемешанных с насмешками, не лепетать что-либо в свое оправдание, а гордо уйти. Да и что я мог бы сказать? Ничего тут не скажешь, виноват я, не привожу плана, будь он проклят.
Раздобыв в диспетчерской лист бумаги, я пишу в курилке заявление и поднимаюсь на второй этаж, захожу в комнату комитета комсомола, где за продолговатым столом уже сидят члены бюро. Они вроде и не заметили моего прихода, все улыбаются и смотрят в сторону Румянцева, который рассказывает, видно, что-то веселое, как всегда с жестами. Но я знаю, они только вид делают, что не заметили меня, а на самом деле заметили. И довольны, что я пришел. Как же, сейчас будут свое красноречие показывать, каждый стыдить меня начнет, будто от этого я сразу план стану выполнять. Лишь Вадим Чалый не притворяется, незаметно подмигивает мне.
Стоя у двери, я мельком окидываю взглядом сидящих за продолговатым столом. Рядом с Вадимом облокотилась на стуле Римма Рязанцева из бухгалтерии. Она девушка хорошая, всегда мягко так здоровается при встрече, а тут тоже общий фасон держит, игнорируя меня, нерадивого. Справа от нее возвышается светлая голова в завитушках Наташи Серегиной, секретаря главного инженера. С виду эта особа важная, но человек она прямой, на комсомольских собраниях всегда режет правду в глаза. Дальше сидят Миша Кравцов из первой колонны, Юра Зацепкин из четвертой, Женя Скачков из третьей. По другую сторону стола трое ребят, которых я совсем не знаю.
— Алеша, проходи, садись, — говорит вдруг Румянцев. — Ты что там стоишь как чужой?
Все сразу посмотрели на меня, тоже закивали: мол, конечно, садись, что зря стоять. А мне и незачем садиться, мне надо прямо сейчас отдать заявление и поскорее уходить. Пока еще не начался этот унизительный для меня спектакль. Я лезу в карман, чтобы достать заявление, но тут дверь широко открывается и входит Петухов.
— Прошу прощения, молодежь, — хрипит он, шумно отдуваясь и прикладывая руку к груди. — Главный инженер задержал, дела неотложные.
Ах, вот оно откуда все идет. Петухову показалось мало, что снял меня с машины, он еще потребовал по комсомольской линии устроить мне экзекуцию. Значит, правду о нем говорят в колонне: «Петухов если бьет, то бьет до конца».
Растерявшись от появления Петухова, я не отдаю заявления, а прохожу зачем-то вперед, сажусь и вначале никак не могу понять, куда клонит выступающий первым Румянцев. Он странно как-то говорит, вроде не критикует меня, а защищает. Неужели это правда? Или я уже совсем ничего не соображаю? Я встряхиваю головой, снова слушаю Румянцева.
— …Мне кажется, устарела эта мода отстранять от езды водителей за невыполнение плана, — говорит он. — Молодых водителей особенно. Что у нас получается с Рябининым? У парня и так мало опыта, а мы еще снимаем его с машины. Хорошо это? По-моему, нехорошо. Разве когда побегает по парку за разнорабочего, он лучше станет водить? Нет, не станет, наоборот, что-то забудет и потом еще меньше привезет плана.
Теперь я понимаю, что Румянцев в самом деле защищает меня. И Наташа Серегина тоже согласна с Румянцевым. Рассекая воздух ладонью, она говорит резко, словно рубит сплеча:
— Я считаю, это порочная у нас практика. Представьте себе, что будет, если в школе неуспевающего ученика отстранят на какой-то срок от занятий. Тогда он еще больше отстанет, хуже начнет учиться. Но в школе, к счастью, так не поступают. Мне могут сказать, что у нас ведь не школа. А я думаю иначе, у нас тоже школа, школа жизни. Особенно для молодежи. И неопытных водителей нам нельзя снимать с машины, а надо помогать им. Вот Алешу, может быть, стоит прикрепить к кому-нибудь из наших опытных комсомольских водителей. Пусть он поездит с ним час, другой в свободное от смены время. Это только пользу даст, я уверена.
После Наташи поднимается Петухов, и я, стараясь угадать, что он скажет, напряженно смотрю на него. Но серое лицо Петухова вроде ничего не выражает, оно совсем безразлично.
— Вы, товарищи комсомольцы, шибко мягкосердечны, — говорит Петухов. — Это, может быть, и неплохо, но руководителю, я вам скажу, таким быть нельзя. Тут говорили, что я поторопился снять Рябинина с машины. А я считаю, поздно это сделал. Рябинин у нас третий месяц не привозит плана, колонну назад тянет. Так что прикажете делать, на доску Почета его портрет за это вывешивать? Я рад бы, но не могу, для меня план — главное, за него мне шею мылят. Вот и приходится, хочешь не хочешь, — Петухов разводит руками, — наказывать виновных в срыве плана.
Но с Петуховым не соглашаются. Юра Зацепкин и Римма Рязанцева говорят, что я на линии слишком горячусь, мне не хватает выдержки, но я старательный, и мне надо помочь, а не видеть во мне какого-то срывщика плана. Женя Скачков предлагает, чтобы бюро просило дирекцию разрешить мне вернуться на линию, и обещает в свой выходной день со мной поездить.
Я слушаю ребят и начинаю убеждаться, какой я все-таки дурак. Надо же быть таким большим, многоэтажным дураком! Вообразил вдруг себе, что все против меня, и решил характер свой показать, заявление заранее приготовил. Как хорошо, что я не успел его еще отдать!
И когда меня спрашивают, что я сам думаю, какая мне нужна помощь, я стою и молчу: мне стыдно, что я плохо думал о Румянцеве, о всех ребятах. С моей стороны было бы честно признаться им в этом, но у меня не хватает духа, и я только говорю:
— Спасибо, ребята… Я не подведу. Ей-богу… то есть честное комсомольское!..
Глава двенадцатая
Ленинский проспект машет зелеными крыльями нестриженых лип. Летит и машет, летит и машет. А в открытое окно автобуса ломится свежий воздух, и что-то веселое бормочет ветер, и ему помогают колеса. И все это не сон — плечо Марины касается моего плеча. Она в синих узких брюках, в легкой блузке навыпуск, на коленях ее вздрагивает пляжная сумка в крупную клетку.
А еще вчера я в это не верил. Мы долго говорили по телефону, все больше о ее зачетах. Потом была пауза, и я, чтобы не молчать, сказал:
— Поехали завтра в лес?
— В лес?! — удивилась Марина. — В какой лес?
— Ну хотя бы во внуковский… Поехали?
— Угу, — ответила Марина дурачась.
— Я серьезно, — сказал я неуверенно.
— Угу, — она снова вроде дурачилась.
— Тогда я буду вас ждать.
— Конечно, не я — вас, — она цокнула языком.
— У метро «Новослободская»?
— Нет, нет, — быстро сказала Марина. — На площади Революции.
И вот она рядом, и я чувствую ее плечо. Я никогда так близко не сидел с Мариной, и во мне вроде все перевернулось. Сердце, кажется, толкается где-то справа, мурашки тоже сбежались в правое плечо, которое касается Марины. Еще немного, и я не выдержу, еще немного, и я закричу на весь автобус, какой я счастливый.
Впереди нас сидит черноволосый парень с букетом сирени. Он то и дело оборачивается, смотрит на Марину, и глаза его как-то странно блестят. Марина парня будто не замечает, видно, часто на нее так смотрят и она к этому привыкла. А меня парень бесит, я сжимаю его локоть и тихо говорю:
— По мотайте головой, а то шея оборвется.
Парень сразу скучнеет, выдергивает из букета две ветки, дарит Марине.
— Это преступление, — говорит он, — что такая девушка без цветов.
Я, конечно, понимаю, кто преступник, я понимаю его намек. И он хорошо делает, что в нашу сторону больше не смотрит. А то я могу и по шее заехать, а то я могу и его подарок выкинуть за окно, прямо под колеса встречного МАЗа.
Москва неожиданно кончается. Теперь по обеим сторонам шоссе плывут, покачиваясь, дубовые леса, белеют пятнами-веснушками красные грибы-навесы. Иногда к дороге выбегают из леса новые дома, во дворах которых мальчишки режутся в бадминтон. Возле одного такого дома автобус тормозит, и двое пассажиров выходят.
— Сойдем здесь или до конца? — говорит Марина, опуская почему-то глаза.
— Лучше до аэропорта доехать. Самолеты посмотрим.
Она кивает и нюхает сирень. Марина, конечно, любит цветы. А я ни разу не дарил ей цветов и, наверно, не подарю. Мне стыдно с ними появляться на улице. Я скорее провалюсь сквозь землю, чем стану торчать с цветами у метро. Понятно, это дикость с моей стороны, но что поделать. Мне даже неловко бывает за ребят, когда они, вытянув по-гусиному шеи и прижав к груди цветы, топчутся где-нибудь под часами. Какой тогда у них растерянный вид!
На конечной остановке автобус выписывает полукруг и быстро пустеет. Подхватив чемоданы, пассажиры спешат в стеклянные залы регистрировать билеты, оформлять багаж. А мы с Мариной проходим на площадку для встречающих и стоим.
Оглушая нас ревом и грохотом, к вокзалу медленно подплывают реактивные самолеты, похожие на огромные серебристые рыбины. Круглые животы у этих рыбин вспарываются, и оттуда выходят люди.
— Вы летали на ТУ? — спрашивает Марина.
— Нет пока.
— Что за кавалеры пошли, — смеется она. — Настоящий детский сад.
Потом мы покупаем в буфете бутерброды, две бутылки «Сенатора» и идем в лес. Вначале я хотел взять вина, но Марина, оказывается, любит пиво. Смешно даже, девушка, а любит пиво, словно она в Чехословакии жила. Там, говорят, все женщины его пьют.
Пляжная сумка теперь потяжелела, и я забираю ее у Марины. Я в первый раз несу женскую сумку, и мне, как ни странно, приятно с ней шагать. И нисколько не стыдно. А раньше, если мама, посылая в магазин, давала мне хозяйственную сумку, я всегда отказывался и брал с собой небольшой чемодан.
Мы идем по лесу, наверно, с полчаса. Потом на небольшой поляне я собираю в кучу сухие дубовые листья, Марина стелет красное покрывало, которое достает из сумки, и мы садимся. Я закуриваю, стираюсь выпускать дым кольцами, но из-за яркого солнца его совсем не видно. И мне вдруг кажется все нереальным: и коленчатые ветки дуба с припухшими почками, которые вот-вот готовы лопнуть, и пригашенный деревьями гул самолетов, и сидящая на красном Марина с зелеными глазами.
— Алеша, вы давно курите? — спрашивает Марина, вытаскивая из сумки пиво.
— Скоро год.
— Это же вредно!.. Вот возьму и порву все ваши сигареты.
— Пожалуйста, — я протягиваю ей пачку.
— Нет, не буду, — говорит Марина и ложится на сипну, руки гибко закидывает за голову.
Теперь я замечаю, что выше пояса Марина очень тонкая и хрупкая. Ее плечи еще как следует не налились, маленькие груди торчат остро. А ниже талии у Марины все словно бы не ее, чужое. И широкие бедра, туго обтянутые синими брюками, и полные икры, и колени круглые, красивые. И глубоко утопленный пупок, который стыдливо выглядывает из-под задравшейся блузки. Странно, почему это у Марины под блузкой ничего нет? Может, мода такая?..
Я гашу сигарету и пододвигаюсь к Марине. В ее глазах теперь плавают облака, белые-белые, как выводок лебедей. А на щеках подрагивают плотные тени от ресниц. Я молча склоняюсь над ее лицом. Белые лебеди сразу пропадают, ее глаза опять становятся зелеными, и в эту минуту я, ничего не соображая от страха, целую Марину. Я только чуть-чуть касаюсь ее мягких влажных губ и тут же прижимаюсь лицом к ее груди, чтобы спрятать глаза.
И так мы лежим не знаю сколько. Марина молчит и смотрит в небо, и в ее глазах, наверное, снова плавают белые лебеди, а я слушаю ее сердце, чувствую запах ее тела, и мне кажется, что я лечу.
— Алеша, ты не заснул?
Марина говорит мне «ты»!.. И голос у нее какой-то новый: тихий, нежный и вроде виноватый.
— Нет, я умер, — отвечаю я.
— Живой труп, я хочу пива, — уже громче говорит она.
Я вскакиваю, беру бутылку, начинаю раскупоривать. Штопора у нас нет, и я ковыряю пробку карандашом. Он крошится на мелкие части, но пробка ни с места. Тогда Марина дает мне ключ от квартиры, и я проталкиваю пробку вовнутрь.
Пьем мы из бумажных стаканчиков. Пиво мне нравится. Вкусное такое, душистое. И в голове от него легкое кружение, и смелости прибавляется. Вот сейчас я поцелую Марину как следует. И глаз, пожалуй, не буду прятать.
Я привстаю на колени, хочу обнять Марину. Но она отводит мою руку в сторону. Нежно вроде, но отводит. И как-то задумчиво спрашивает:
— Алеша, ты много знаешь стихов?
Конечно, много, даже очень много. На меня иногда что-то находит, и я битый час читаю на память стихи. Читаю Блока, Есенина, Павла Васильева, Маяковского, Ахматову, Василия Федорова, Цыбина — всех подряд, кого я люблю.
— Порядочно, — говорю я.
— Почитай что-нибудь, — просит Марина.
Я читаю. А она отгадывает, чьи это стихи. Она точно отгадывает. Только один раз путает Цыбина с Павлом Васильевым. Некоторые стихи она просит читать по два раза. А одно тут же заучивает. Это крохотное стихотворение Василия Федорова: «Молчи! Ты ссоришься со мной, не ведая пока, что хлещешь по себе самой, а ты во мне хрупка».
Потом мы лежим молча. Ее голова теперь на моей руке. Опершись на локоть, я мну губами ее жесткую челку, но челка никак не мнется, все скручивается в полукольцо, и мне от этого весело. Да что там весело, меня куда-то уносит. Я снова лечу, лечу без крыльев, как спутник.
А Марина что-то спрашивает про Борьку, что-то говорит о грубости таксистов, и я что-то отвечаю, кажется, доказываю, что и таксисты бывают разные, что все зависит от человека. И нахваливаю Игоря, и своего сменщика Володю, и Колю Волкова, который наизусть знает всего «Онегина», и Сашу Румянцева, нашего комсорга.
Потом по лесу разливается треск, и вскоре на поляну выскакивает мотоцикл. За его рулем склонился светлый парень в серой кепке козырьком назад, на втором сиденье подпрыгивает девушка. Покружив на поляне, они выбирают место подальше от нас, что-то стелют на траву. Через минуту их уже не видно за мотоциклом.
— Холодно стало, — поеживается Марина. — Солнце сейчас зайдет.
Солнце и правда скоро спрячется за лес. Длинные тени от дубов уже заслонили всю поляну. Только тонкий розовый луч пробился сквозь ветки и упирается Марине в подбородок.
— Алеша, знаешь что? — говорит Марина.
— Что?
— Ты еще совсем, совсем ребенок.
— Это почему? — спрашиваю я.
— Все потому, все потому, что так положено ему, — напевает Марина. И тут же встает: — Поехали домой.
— Поехали, — соглашаюсь я и вспоминаю, что мне сегодня заступать в ночную.
Глава тринадцатая
Пассажиры сидят сзади в обнимку. Ее голова на его плече. Он что-то говорит ей тихо, чтобы я не слышал. Она только повторяет: «Болтушка, болтушка…» — и смеется.
Мне тоже весело. Впереди идет черный ЗИЛ, два красных луча от его сигнальных огней тянутся к «зеленухе», и кажется, везет он нас на буксире, тащит на огненных канатах в рай. И светофоры словно подменили: Колхозная — зеленый, Самотечная — зеленый, Маяковская — зеленый, Качалова — зеленый…
Да здравствует зеленое!
В самом деле, разве есть цвет лучше? Зеленый светофор — путь свободен. Зеленые листья на деревьях — новая жизнь. Зеленые звезды в небе — жди ясной погоды. Зеленые глаза…
— Постойте минутку, — просит он. — Сигарет надо купить.
Я торможу, жмусь к тротуару.
— А вы красиво водите, — говорит она, когда он уходит.
— Спасибо за комплимент.
— Правда, особенно когда рулем крутите. Прямо сидячий капитан. А когда дергаете разными ручками, получается не так красиво.
Она заглядывает в зеркало, что висит в кабине, поправляет прическу. Потом спрашивает:
— Скажите, а машину трудно водить?
— Нет, нисколько.
— Я тоже хочу таксистом стать. Даже песню про это придумала. Представила, как я уже по Москве еду, и придумала. Хотите, вам спою?
— Спойте, — киваю я.
Она забивается в самый угол, чтобы я не видел в зеркале ее лицо с пухлыми щеками, и начинает петь: «Пожалуйста, пожалуйста, в машину мою быструю, поехали, поехали навстречу ветру чистому. Бегут дома высокие и низкие, старинные, дороги мои разные — короткие и длинные. Бульварами, проспектами летит машина птицею, а город не кончается, как будто без границы он…»
Вскоре он возвращается с сигаретами. Залезает в машину, улыбается. Теперь я вижу, что ему лет семнадцать, не больше. Только ростом высокий, пожалуй, с меня.
— Солистка вас мучает, — говорит он неокрепшим басом. — Знаете, она готова петь это на мусорной свалке для воробьев, лишь бы те ее слушали.
— Напрасно стараешься, Димочка. Я все равно буду шофером. Представляете, — она трогает меня за плечо, — этот человек против и маму подбивает. Объясните ему, что девушки могут не хуже водить.
— В нашем парке все девушки на доске Почета, — говорю я.
— Слышишь, тип отсталый? — Она хватает Димочку за уши.
Тот притворно кричит:
— Ой, оторвешь!.. Сдаюсь… сдаюсь…
Потом она опять кладет голову Димочке на плечо, и они молчат. А я вспоминаю, как мы с Мариной возвращались сегодня из лесу. Обратно мы ехали, на такси, и ее голова вот так же лежала на моем плече. Лесной воздух опьянил Марину, и она несколько раз за дорогу засыпала, ее голова скатывалась ко мне на грудь. И тогда Марина мне не казалась уже недоступной, наоборот, она выглядела беззащитным ребенком, точь-в-точь как Борька.
— Вот здесь направо, — говорит Димочка.
Я сворачиваю в переулок, выезжаю на Фрунзенскую набережную, останавливаюсь перед Крымским мостом. Димочка быстро расплачивается, прощается со мной как с давним знакомым, и они, сцепившись за руки, бегут к подъезду высокого дома. С пятого этажа им уже кричат парни в белых рубашках, но что кричат, не пойму: выставленная на балкон радиола заглушает их голоса.
Мне не хочется искать сразу новых пассажиров. Я помню хорошо этих, хотя они теперь скрылись в подъезде. В моих ушах еще звучит сочный голос Димочки, веселая песня девушки с пухлыми щеками. Она, пожалуй, неплохо придумала о Москве: «А город не кончается, как будто без границы он».
Я закуриваю и открываю дверцу. От Москвы-реки остро тянет свежестью. С того берега, из парка Горького, доносится джазовая музыка. И видно, как медленно вращается все в разноцветных огнях «колесо обозрения». А прямо передо мной, в небе, повис гамак-великан, простреленный звездами, и в нем покачиваются маленькие троллейбусы, машины, люди-карлики.
Неужели и этот чудо-мост тот физик объезжает под землей! Странный у Марины знакомый. И почему она его знает? Если он физик, то не должен учиться в экономическом. А что, если позвонить сейчас Марине? От имени физика. Изменить голос и сказать: «О, наконец-то я слышу прелестный голос!.. Весь день звоню, но увы, увы…» Интересно, признается Марина, что уезжала сегодня в лес?
Нет, глупо это, глупо. Какое мне дело до разных чудаков. Верно, Марина? Ты слышишь? Нет, ты не слышишь, ты спишь давно, ты еще в машине засыпала. А я спать сегодня не хочу. Честное слово. Я хочу смотреть на этот мост, на рассыпанные бусы огней вдоль набережной, я хочу возить разных пассажиров и слушать их песни. А ты спи, спокойной ночи тебе, Марина-морская.
Я запускаю мотор и еду в сторону Лужников. Народу на улицах мало. В мае всегда Москва редеет: кто на дачу уезжает, кто в отпуск. Зато иностранцев прибавляется. Вот и сейчас это, кажется, они собрались в кучу и целятся в метромост фотоаппаратами.
Сбавив скорость, я прислушиваюсь к их голосам. Ну, конечно, иностранцы, лопочут по-французски. И затворами вовсю щелкают. Что ж, пускай щелкают, ничуть не жалко: Москва всегда красивая — и днем и ночью. Только место они выбрали неудачное. Лучше бы на Ленинские горы поднялись, к новому университету. Оттуда видно сразу все: и стадион-громадина, и грустный Ново-Девичий монастырь, и мигающая огнями высотная гостиница «Украина», и сам Кремль с рубиновыми звездами, золотыми куполами, крестами…
Миновав французов, я хочу как следует газануть, а в это время на мостовую выбегает девушка. Ловко зажав чемодан между ног, она голосует обеими руками и громко кричит:
— Стойте!.. Стойте!..
Я торможу, открываю дверцу. Девушка торопливо садится. С виду она не москвичка: волосы заплетены в косы, губы ярко накрашены, на руках красные перчатки в клетку. И чемодан не кладет на заднее сиденье, оставляет на коленях. То ли ей невдомек, что он будет мешать крутить мне баранку, то ли боязно с ним расставаться.
— Вам на какой вокзал? — говорю я и включаю скорость.
— Мне в ближайшую гостиницу, — отвечает она тонким голосом школьницы.
— Здесь рядом «Юность».
— Я только сейчас оттуда — нету мест.
Вот оно что. А где они есть? Я и сам не знаю. Конечно, где-то пустуют даже номера, но попробуй отыщи, если рация барахлит и с «Букетом» связаться нельзя. Черт бы побрал эту модуляцию, в который раз она подводит.
— Тогда придется ехать в центр, — говорю я.
— Все равно куда, лишь бы переночевать. Я ведь первый раз в Москве.
— Учиться приехали? — спрашиваю я, сворачивая на Большую Пироговскую.
— Нет, мне в Министерство просвещения надо.
Скажите на милость, в министерство приехала. Наверное, учительница первых классов И ребята ее называют какой-нибудь Клавдией Ивановной. Смех один! У самой еще щеки сизым пушком дымят, как у нашего Борьки.
— Это Пирогов? — Она резко наклоняется вперед.
— Точно, великий хирург.
— Я сразу его узнала… Сидит в кресле и череп в руках держит.
В начале Кропоткинской вдруг перекрывают движение. Я опускаю стекло, высовываюсь по пояс из машины. Оказывается, тяжелый самосвал царапнул жалкого «Запорожца». И теперь владелец трескуна и водитель что-то доказывают регулировщику, выразительно помогая руками. Тот, покачав головой, кивает на обочину, мол, давайте туда, сейчас разберемся, а нас пропускает вперед.
У гостиницы «Москва» девушка забирает чемодан и, не сразу отворив тяжелую стеклянную дверь, пропадает в глубине вестибюля. А минуты через две она возвращается ни с чем: мест свободных нет. Не везет ей и в «Метрополе», и в «Будапеште», и в «Берлине». Совсем растерявшись, она устало прислоняется к спинке сиденья и не знает, что дальше делать.
Тут я не выдерживаю и начинаю сам бегать из гостиницы в гостиницу. Чтобы растрогать дежурных, я выдумываю, будто у меня в машине инвалид первой группы, пострадавший от пожара. Только это не помогает. Тогда я захожу в «Центральную» и солидно так говорю:
— Здесь бронь должна быть для дублера Терешковой.
Светлая женщина, похожая на сдобную булку, неторопливо надевает очки, начинает перебирать какие-то талоны, скрепленные зажимом. У меня от волнения звенит в ушах.
— Как фамилия? — Она смотрит поверх очков.
Я пожимаю плечами.
— Этого сказать не могу. Вот побывает в космосе, тогда весь мир ее узнает. — И полушепотом добавляю: — А пока, сами понимаете, засекречена.
Дежурная откладывает талоны в сторону, берет толстую книгу, листает короткими пальцами. Потом гулко захлопывает, будто стреляет, и, сделав строгое лицо, сердито говорит:
— Молодой человек, не морочьте мне голову.
— Может быть, она гостиницу перепутала? — отступая к двери, бормочу я. — Сейчас я… сейчас…
Когда я возвращаюсь к машине, моя пассажирка уже дремлет, скрестив руки на чемодане. Ее рыжие косы свисают до самых колен. Красные перчатки упали на коврик. Вздрогнув от хлопка дверцы, она просыпается, косы закидывает за спину.
— Здесь тоже дело табак, — говорю я. — Попробуем теперь подальше от центра отъехать.
И я везу ее в гостиницу «Северную», в «Турист», в «Золотой колос», в «Ярославскую». Но мест свободных, как назло, нигде нет, и я уже сам начинаю теряться. Что эта девушка подумает о Москве, куда приехала в первый раз? А что она подумает обо мне? Ведь на счетчике скоро пять рублей намотает. Еще скажет, нарочно гоняю, чтобы денег побольше выкатать.
— Вот что, — говорю я, — хватит Москву измерять. Повезу вас к себе. Я живу тут рядом.
Девушка поворачивается ко мне, ее руки взлетают как две красные птицы. Она, кажется, хочет обнять мою шею, но не обнимает и только тихо говорит:
— Я боюсь…
— Чего боитесь?
— Я даже не знаю, как вас зовут.
— Это не велика беда.
Она снимает перчатки, мнет в руках. А ее расширенные глаза испуганно перебегают по мигающей надписи «Гостиница «Ярославская», по слеповатым окнам уснувших номеров, по белесому пятну на асфальте, которое высвечивает фонарь.
— Понимаете, — вздыхает она, — с вами… ночевать и не…
Вот дурочка! Честное слово, дурочка. Ну что она говорит? И зачем я с ней связался? Возьму сейчас и высажу. Пускай до утра ходит по улицам со своим бесценным чемоданом. Пока ее министерство не откроется. Только долго еще до девяти, без ног дуреха останется. И напугать кто-нибудь может. Ночь. Город чужой. Нет, не будь я москвич, если не увезу ее домой.
— Алексеем меня зовут, — говорю я резко. — Это вас устраивает?.. А думать а человеке плохо не обязательно, когда его не знаешь…
— Ой, что вы!.. — пугается она. — Я плохо о вас не думаю.
В нашей квартире на кухне горит свет. Это не иначе как Люся вернулась с веранды. Она каждый вечер бегает на танцы и приходит в это время. Сейчас, наверно, проверяет кастрюли. Или проделывает разные фокусы с волосами — накручивает, укладывает, смачивает пивом. Потом наденет на голову капроновый чулок и так ляжет спать.
Я осторожно, чтобы не греметь, захлопываю лифт и открываю квартиру. Зажигаю свет в прихожей, пропускаю девушку вперед. Ока ступает на цыпочках и от арака не дышит. И тут, как нарочно, появляется Люся с капроновым чулком на голове. Остановилась, руки — в бока.
— Добрый вечер, — испуганно говорит девушка.
— Скорее, утро, но милости просим, — отвечает Люся, делая реверанс, и уходит в ванную.
Я веду девушку в комнату, включаю настольную лампу и вижу, что на моей тахте спит Игорь. Вот это весело! Значит, он опять с отцом не поладил. Игорь всякий раз, когда с ним поссорится, убегает ко мне. И живет несколько дней, пока не позвонит мама и не скажет, что гнев у старика прошел. Конечно, Игоря можно разбудить и переселить к Борьке на кровать, но неудобно оставлять девушку с ним в одной комнате.
— Садитесь, — говорю я, показывая на кресло, и начинаю тормошить Игоря.
Тот охает, как старый дед, бормочет всякую несусветицу. Наконец просыпается и, щуря от света глаза, спрашивает недовольным голосом:
— Сколько время?
— Два часа.
— А что так рано сменился?
— Не сменился, видишь, ее привез, — киваю я на девушку, которая села в кресло у самого окна. — Места в гостинице не нашли.
Игорь оборачивается в ее сторону, и сразу сон с него слетает. Он торопливо тянет кверху одеяло, прикрывает голые плечи и, вращая удивленно глазами, ладонью приглаживает торчащие на затылке волосы.
— Свет выключи, — бормочет он. — Должен же я одеться.
Я гашу лампу. Игорь, прыгая на одной ноге, натягивает брюки, надевает рубашку. А когда я снова включаю свет, то вижу, что он успел повязать и свой модный плетеный галстук. Значит, понравилась Игорю девушка.
— Доставай раскладушку и перебирайся в прихожую, — говорю я.
Игорь ухмыляется:
— Но ты даже не познакомил… И потом, хотя бы чаем девушку угостил.
— Пожалуйста, знакомьтесь, — говорю я.
Он подходит к пассажирке, кланяется с изящностью дипломата:
— Меня зовут Игорем, а вас?
— Сима, — смущенно отвечает девушка.
— О, у вас чудесное еврейское имя! — восклицает Игорь. — Серафима — пламенная. Это так подходит к вашим волосам.
Сима краснеет и смотрит на спящего Борьку.
— Ваш брат?.. А не похож… Он в каком классе?
У нас с Борькой и правда нет ничего общего. Он светлый, большие уши оттопырены — вылитый отец. А я вышел в маму: волосы черные, по вискам немного вьются, глаза карие. Мама говорила, что я должен быть счастливым, но она, конечно, не права. Выходит, если Борька похож на отца, то его ждут разные там неудачи. Ничего подобного, Борька сообразительный, он лучше всех ребят во дворе учится и не может быть неудачником.
— Первый заканчивает, — говорю я и иду разогревать чай.
Следом за мной на кухню выбегает Игорь, хватает меня за руку и шепчет в самое ухо:
— Старик, вот на ком я женюсь.
— Перестань, ради бога, — говорю я, бухая в чайник сразу полпачки чаю. — Ты на каждой второй женишься, если это не пенсионерка.
— А теперь все, прощай, моя холостяцкая жизнь. Я давно искал такую — маленькая, уютная, и нос в конопушках. А на голове прямо костер горит.
— Запомни, я эту девушку привез, я за нее и отвечаю.
Игорь вдруг садится на корточки, обхватывает голову руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, приговаривает:
— О, никогда войны не кончатся!.. Мы все идем навстречу взаимному уничтожению.
— Ты что это в пессимизм ударился? — смеюсь я.
— А чего я должен ждать на грешной земле? Мира и согласия?.. Нет, это мечты чудаков. Вот мы с тобой друзья, и то ты меня не понимаешь.
— Тебя сам черт не поймет. Не успел увидеть и уже…
В это время из ванной выходит Люся с полотенцем на плече. Заглянула к нам на кухню, закатила круглые глаза и спрашивает:
— Алеша, ты, никак, невесту среди ночи умыкнул?
Я рассказываю, что мы с Симой чуть не всю Москву объехали и нигде места в гостинице не нашли, что ночью плохо приезжать в чужой город, если никто не ждет, никто не встречает. И Люся тогда говорит, что она девушку заберет к себе, потому что Наталья Федоровна уехала к старшей дочке и кровать ее все равно пустует.
— Люся, зря ты беспокоишься, — говорит Игорь. — Пускай Сима там остается, а я на кухне посижу, книжку почитаю. Все равно я больше спать не хочу.
Тут я вспоминаю, что у меня машина простаивает, и начинаю одеваться.
— Значит, Сима у тебя ночует, — говорю я Люсе, когда ухожу.
Игорь незаметно от Люси показывает мне кулак.
Глава четырнадцатая
На техосмотр номер два машина попадает раз в месяц. В этот день она ползет по конвейеру от механиков к электрикам, от электриков к радистам, от радистов к арматурщикам, — словом, все специалисты ее щупают и трогают, как врачи допризывников на медкомиссии. И тут надо быть начеку. Во-первых, никто лучше тебя не знает самые мелкие, скрытые неполадки; во-вторых, не каждый все внимательно осматривает, другой так и норовит спихнуть поскорее машину к соседям; в-третьих, находятся и такие, которые сделают кое-как, если вовремя не поднять шума.
Поэтому мы с Володей сегодня с утра в гараже. Пришли раньше восьми, чтобы первыми попасть на конвейер. И теперь у нас все хорошо, глядишь, минут через тридцать могут и осмотр закончить. Володя особенно доволен: скоро Кузю увидит.
Кузя — это сын Володи. Ему еще нет и двух месяцев, но Володя без Кузи уже скучает. Он даже на линии о нем все время помнит: кто бы ни был пассажир, а Володя, если едет по Кировской, обязательно домой заскочит, чтобы хоть одним глазком на Кузю посмотреть.
— Володя, а Кузя тебя узнает? — спрашиваю я.
Озабоченное лицо Володи сразу будто бархатом погладили. Его круглый нос теперь наползает на щеки, а маленькие татарские глаза делаются как щелки.
— Еще бы он отца не узнал, — улыбается Володя. — Только увидит и скорее кричать: «Ыть, ыть!»
— А что это значит?
— «Ты, ты», — переводит Володя язык Кузи.
В это время возле нас появляется Игорь. Он в новом сером костюме, в белой нейлоновой рубашке, с бабочкой. И духами от него так разит, что дышать горько.
— Ты, никак, в бочку с одеколоном угодил? — говорю я.
Игорь пропускает это мимо ушей и протягивает мне заявление. Я беру, читаю. Оказывается, он просит шестидневный отпуск. На углу заявления уже есть резолюция начальника колонны: «Разрешить».
— Это какие у тебя семейные обстоятельства?
— Женюсь, старик, — весело отвечает Игорь. — Вернее, отправляюсь в предсвадебное путешествие. Я плыву сегодня с Симой в великий град Углич, чтобы предстать пред очами своей будущей тещи.
Эта новость меня не удивляет. Я знаю, что после той ночи, когда Сима ночевала у Люси, Игорь отвез девушку в гостиницу и теперь каждый день с ней встречается. Он водит Симу в кино, на концерты, бродит с ней допоздна по улицам.
— Поезжай, поезжай, — говорю я. — Теща встретит тебя с кочергой на пороге. Это не Сима, она враз поймет, какой ты правильный шалопай.
Володя его подбадривает:
— Ничего, Игорь, ничего. Парень ты веселый, любой теще понравишься.
— Конечно, он приедет и сразу концерт теще выдаст. Из четырех номеров: вертикальное движение ушами, горизонтальное движение ушами, вращение ушами против солнца, вращение ушами по солнцу. Ведь у Игоря талантливые уши. Правда, пожилые люди не слишком ценят тех, кто шевелит только ушами, но это ничего, ты все равно не робей.
— А я и не собираюсь, — ухмыляется Игорь. — Если что не так — украду Симу. Это ей даже больше понравится. Она у меня смелая.
— Тогда тебе конь нужен. Хотя бы хромой. И бурка простреленная.
Игорь прячет заявление, поправляет бабочку.
— «Ракета» побыстрее коня умчит нас по Волге, — говорит он и уходит.
А мы с Володей гоним «зеленуху» в колонну, уверенные, что теперь она весь месяц будет служить нам безотказно.
В конторе колонны я неожиданно сталкиваюсь с директором парка и сразу теряюсь. Правда, я уже третий день приезжаю с планом, и мне теперь не стыдно ему в глаза посмотреть, но вся беда в том, что начальство меня смущает: я не знаю, о чем с ним говорить. Это осталось еще от школы. Я всегда боялся увидеть учителей где-нибудь в метро или трамвае. И если с ними там встречался, то незаметно выскальзывал из вагона на первой же остановке.
— Ну, как, Алеша, дум спиро, сперо? — говорит директор и подает мне руку.
Я молчу, переминаюсь с ноги на ногу.
— Это латынь, — усмехается Николай Иванович. — «Пока дышу, надеюсь». Мудрые слова, большой смысл в них заложен… Так что, может, по-английски малость покалякаем?
Он ведет меня в курилку, где в землю вкопана бочка с водой, а вокруг стоят скамейки. Мы садимся, закуриваем. И тут Николай Иванович поздравляет меня, что я стал с планом приезжать.
— Рано поздравляете, — говорю я. — Всего три дня приважу план. Могу еще сорваться.
— Это уже не страшно, если и сорвешься, — успокаивает меня Николай Иванович. — Главное, Алеша, чтоб уверенность у человека жила. А она у тебя появилась. И теперь ты сам от себя не убежишь. Да и уменье, что пришло к тебе постепенно, незаметно, уже никуда не денется.
Потом Николай Иванович расспрашивает меня на английском о новых книгах, кинофильмах. Слова он подбирает медленно, заметно волнуется, как ученик на уроке. И мне теперь кажется, что он совсем не похож на директора и что я давно его знаю и могу говорить с ним о чем угодно.
— А где ты собираешься проводить свой отпуск? — спрашивает он снова по-русски.
Отпуск, отпуск… Это первый отпуск в моей жизни. И где я буду его проводить?
— Что задумался? — говорит Николай Иванович и бросает в бочку с водой папиросу. — У тебя когда там по графику?
— В июле.
— Это хуже.
— Почему хуже?
— Хотел тебя в лагерь наш сосватать. На вторую смену. Местком пять хороших комсомольцев требует. Отрядных вожатых не хватает.
— Что вы, разве я могу…
— Ничего, ничего, — перебивает меня Николай Иванович. — Человек все может… А в отпуск пошел бы в августе или в сентябре. В бархатный сезон. Так, что ли?
Конечно, я и позже могу отдыхать. Только дело вовсе не в этом. Главное, какой из меня вожатый, если я с одним Борькой не слажу. Ведь вчера он снова отмочил номер. Поймали они со Степкой французскую болонку какой-то пенсионерки, унесли на чердак и покрасили розовой краской. Только голову оставили белой. После такой химобработки старушка увидела свою собачку и чуть в обморок не упала. Пришлось мне потом извинения просить да чистить болонку весь вечер ацетоном. И самое обидное, что я за это Борьку даже не наказал: рука не поднялась.
— Чтобы быть вожатым, надо призвание, — говорю я.
Николай Иванович приглаживает ладонью темные волосы с седыми прожилками, снова закуривает. Потом кладет мне на плечо руку и говорит:
— Алеша, если бы все кивали на призвание, мы давно бы по миру пошли. Знаешь, вот наш Михеевич всю жизнь мечтал стать врачом, а всю жизнь работает водителем.
— А почему он на врача не учился? — спрашиваю я.
— Пойми, Алеша, закончить институт не каждый может. Вот у Михеевича шесть сыновей, и все, как говорят, в люди вышли. А самому некогда было учиться, надо было на хлеб зарабатывать, чтобы шесть ртов накормить. Вот и остался водителем. Но беды тут нет. Знаешь, какой это водитель? К нему инженеры, механики за советом идут. Это не водитель, а профессор, Да, да, профессор в своем деле.
— Выходит, что призвание — это выдумка, — говорю я.
— Нет, брат, не выдумка. Только главное другое: если человек настоящий, то он любому делу душу отдает.
Тут в курилку вбегает Пуля, чем-то озабоченная и, как всегда, слишком серьезная.
— Вот вы где, — говорит она Николаю Ивановичу. — А я весь парк обегала. Там болгары приехали, делегация.
— Мать родная! — Николай Иванович встает, одергивает пиджак. — Я совсем забыл… — И они с Пулей скрываются за дверью служебного корпуса.
Я некоторое время сижу в курилке, дымлю сигаретой и думаю. Странно как-то получается. У нас в школе уже с восьмого класса каждый говорил о призвании. И, бывало, слушаешь одного, слушаешь другого и веришь, что скоро новые Яблочковы, Грибоедовы, Пироговы появятся. Только трое из класса никак не могли откопать в себе дара. И столько же не решили точно, кем они станут. К последним и я относился. Меня и к химии, и к живописи, и к литературе тянуло.
А когда не стало мамы, я сразу водителем работать пошел: ведь другой профессии у меня не было. За эту и то спасибо матери, что она заставила меня еще в школе окончить шоферские курсы. Мама словно что-то чувствовала. И вот, странное дело, стал я работать, и теперь мне вроде техника нравится. Одно только плохо, мне все кажется, что живу я как-то не так, что иду я не той дорогой. Люди сейчас в барокамерах сидят, золото находят в Каракумах, штуки разные варганят для посадки на Луне, а я кручу себе баранку, объезжаю жизнь стороной. У других ребят тоже вышло не как мечтали: кто не в тот институт попал, кто на конкурсе провалился, кто вдруг работать захотел. И я уже не уверен, что выйдут из них Яблочковы да Пироговы. Мне, конечно, обидно, если так получится: у нас все ребята были хорошие, способные такие. Но может быть, и нет тут беды. Может быть, прав Николай Иванович, что призвание — это не самое главное в жизни. Ведь бывает работа, к которой ни у кого нет призвания, а ее все равно делать надо.
Подумав так, я бросаю в бочку сигарету и иду домой. По дороге встречаю Сашу Румянцева, комсорга нашего парка. Он быстро так шагает, торопится куда-то, как всегда. Поравнявшись, Саша поздравляет меня. Ему, оказывается, тоже известно, что я с планом стал приезжать.
— Может, это у меня случайно получилось, — говорю я.
— Скромность украшает комсомольца, — смеется Саша и шагает дальше, размахивая модной папкой на «молнии».
А у меня в груди приятно так щекочет. Не от Сашиного поздравления, конечно, а оттого, что теперь я вроде равный со всеми в колонне. Меня даже запеть подмывает или бегом припустить. И Марину я сразу вспоминаю, поговорить с ней хочется. А почему бы мне ей не позвонить. Завтра воскресенье, может, на катере по Москве-реке покатаемся. Ведь я две недели не видел Марину. Это все из-за ее экзаменов.
Я захожу в телефонную будку, закуриваю. Когда куришь, вроде умнее говоришь. Затягиваюсь несколько раз подряд, потом набираю номер и слышу голос Марины:
— Алл-о-о…
— Здравствуй, Марина! — говорю я.
— Добрый вечер, Алеша, — отвечает она, и мне приятно, что Марина меня уже по голосу узнает.
— Знаешь, завтра воскресенье… я тебя увидеть хотел.
— Это никак невозможно. Завтра я шагу из дома не сделаю. В понедельник у меня самый страшный экзамен.
— Тогда я позвоню тебе в понедельник.
— Что?.. Ой, извини, за мной зашли. Лечу сейчас в читалку. — И Марина вешает трубку.
Вот опять я не увижу Марину. И Игорь вечером уезжает. Чем же мне завтра заняться? Может, Борьку на Выставку сводить? Он давно просит, но у меня все выходной не совпадал с воскресеньем. А сегодня в кино схожу. И я сворачиваю к кинотеатру «Космос».
Глава пятнадцатая
Борька рад без памяти. Сегодня его и будить не надо было, сам вскочил, погладил форму, смочил водой волосы, прилизал щетинистый хохолок. Парень сразу стал таким опрятным, что куда там.
В десять часов мы выходим из дома. Солнце печет по-летнему, хотя середина мая, на проспекте Мира полно народу — все рады теплу. Мужчины нарядились в светлые костюмы, на женщинах яркие платья, темные очки. В сквере, который прячет наш дом от проспекта, зацвели вишни.
— Непонятно, — говорит Борька, — листьев нет, а цветы есть. У яблони не так.
Я не знаю, как объяснить Борьке эту загадку по-научному, и говорю:
— Вишне торопиться надо. Через месяц ягоды краснеть начнут. Вот цветы и не ждут листьев, некогда.
От нас до Выставки рукой подать, и мы идем пешком. Борька в наутюженных брюках шагает широко, стараясь идти со мной в ногу. Но как только у метро показались автоматы с газировкой, он вылетает вперед и становится в хвост длинной очереди. Теперь будет так все время, Борька не пропустит ни одного автомата.
— А ты будешь? — спрашивает он, опуская трехкопеечную монету в автомат.
— Ладно, наливай и мне, — соглашаюсь я.
Внутри автомата мягко щелкает, раздается короткое «чох», и подставленный Борькой стакан в секунду наполняется игристой газировкой. Я думаю, что этими звуками, быстротой и точностью покоряет автомат моего младшего брата. Приоткрыв рот от удовольствия, Борька первый стакан подает мне, второй пьет сам. Потом вытирает кулаком губы и снова с серьезным видом вышагивает рядом.
Сегодня совсем тихо, но флаги, чуть подбеленные майским солнцем, слегка дышат. Перед Выставкой всегда живет ветер. В Москве, пожалуй, нет площади больше, чем эта. Видно, потому здесь и поставили скульптуру Мухиной, которая похожа на птицу, летящую к солнцу. Если быстро повернуть голову и взглянуть на эту скульптуру, кажется, она летит.
— Скажи, а когда ты мне купишь фотоаппарат? — спрашивает Борька.
— Перейдешь во второй класс, тогда и куплю.
— Это две недели ждать?
— А куда тебе торопиться? Все равно снимать пока не умеешь. Вот поедешь в лагерь, там научишься.
— Я уже умею. Знаешь, Степка залез на мусорный бак, и я его снял. Вышло здорово!.. Так что мог бы и сегодня купить.
— Сегодня у меня денег мало.
— А когда будет много? Завтра будет много?
— Завтра еще не будет.
— Хорошо, когда денег много. Правда?
— Чего же тут хорошего?
— Купить все можно. И велосипед, и фотоаппарат, и маленький приемник, что в кармане носят.
— Я тебе все это куплю.
— Как же купишь, если ты не директор?
— При чем тут директор?
— А ты не можешь получать больше директора.
— Это смотря какой директор.
— Ну, самый настоящий, который как Степкин папа.
— Больше самого настоящего я пока не получаю.
Борька поджимает губы. Он всегда так прячет губы, когда о чем-нибудь думает или сидит над задачками.
— Тогда лучше б ты был директором, — решает наконец он.
— Тебя не поймешь, — говорю я. — Одно время ты жалел, что я не космонавт. Теперь хочешь, чтоб стал директором. Запомни, всем нельзя быть космонавтами и директорами.
В это время нас обгоняют два негра. Оба высокие, прямые, в белых рубашках, которые еще больше подчеркивают черный цвет лица и шеи. Борька таращит глаза на негров, вполголоса спрашивает:
— Они сразу такие или от солнца?
— А как ты думаешь?
— Конечно, от солнца. Я в то лето загорел, и тетя Даша сказала, что я черный, как негр. А там, где негры, даже совсем зимы не бывает. Все время солнце, как сейчас. Зато они и черные.
— Негры такими родятся, — говорю я.
Но Борька про негров тут же забывает. К главным воротам Выставки со всех сторон подходят люди: москвичи с фотоаппаратами и транзисторами, приезжие узбеки в ярко-жгучих тюбетейках, эстонцы и латыши в вышитых рубашках, молодые кубинцы в синих куртках с погонами, индианки-туристки, обернутые в красные с белым полотнища. И Борька, очарованный этой пестротой, непонятным говором, теперь вертит головой то влево, то вправо и пристает ко мне с новыми вопросами:
— Зачем у индианок темное пятно на лбу?
— Почему узбеки ходят в халатах?
Теперь мы у самой арки с колоннами, где народу еще больше, где недолго и потеряться. Я беру Борьку за руку, мы протискиваемся к кассам, покупаем билеты и попадаем наконец на Выставку.
Глаза у Борьки сразу разбегаются: повсюду красные шеренги автоматов с газировкой, палатки и тележки с мороженым, один за другим бегают маленькие поезда-автобусы. И все деревья белые, как зимой, и вдоль аллеи кипят четырнадцать фонтанов, и откуда-то из-за цветущих яблонь взлетает музыка.
— Ух ты!.. — говорит Борька и топчется на месте.
Я смотрю на Борьку и не узнаю его. Первый раз с ним случилось такое. Обычно мой младший брат долго не раздумывает. Он всегда знает, куда ему надо бежать, и тотчас бежит, ему в любую минуту известно, чего он хочет. А тут Борька вдруг растерялся.
Собственно, я и сам толком не знаю, куда нам раньше пойти. Выставка очень большая, ни за день, ни за два ее не обойдешь. А Борьке все интересно. Может, вначале нам сесть на поезд и объехать ее вкруговую?
— Сейчас мы с тобой прокатимся, — говорю я Борьке.
— Давай, — кивает он.
И вот нас везет автопоезд, совсем необычный. Вагоны низкие, без дверей, колеса маленькие, будто игрушечные. В каждом вагоне несколько кабин с сиденьями и кнопки на потолке. Захотел сойти — нажми кнопку, поезд тут же остановится.
Бесшумный автопоезд катится и катится. Пассажиры то и дело давят на кнопки, и он часто останавливается. Кто сходит у ресторана «Ташкент», кто у кинотеатра, кто у павильона с новыми марками автомобилей. Несколько мужчин вылезает у прудов, в зоне тишины.
— Ой, здесь рыбу ловят! — восклицает Борька, заметив сидящих на берегу рыбаков. — Давай посмотрим.
Мы сходим, ныряем в березняк и попадаем на берег. Вода в пруду синяя, стеклянно блестит. Прибрежные ивы разрослись и касаются воды, будто пригнулись напиться. Посредине пруда курчавится, дымит седыми струями фонтан «Золотой колос».
Но Борьку это не трогает: ему подавай рыбу. Цепляясь за кусты, он наклоняется к самой воде, ищет карпов.
— Что-то не видать, — сокрушается Борька.
Стоящий рядом мужчина достает из кармана кусок белого хлеба, кидает в пруд. Вода в том месте сразу закипает: туча темномордых рыб набрасывается на хлеб, с цоканьем рвет его на части.
Борька хохочет:
— Во дают!.. Гляди, гляди, самая большущая схватила!..
Потом мы с Борькой съедаем по мороженому и заходим в «Радиоэлектронику». Стеклянные витрины этого павильона разрисованы всевозможными схемами, стрелками, точками. По стенам тянутся аппараты, щитки с разноцветными огоньками, кнопками, регуляторами. И руки у Борьки прямо чешутся, так и хочется ему потрогать светящийся глазок индикатора, нажать какую-нибудь кнопку. Я все время цыкаю на брата.
— Тогда пошли отсюда, — обижается Борька — Что смотреть, если…
Я беру его за руку и веду в другой зал. Борька вначале ничего не поймет: в зале битком народу, все смеются, и мы зачем-то становимся в очередь, медленно двигаемся вдоль стены. Но вот на экране телевизора появляется знакомая личность с оттопыренными ушами, в сдвинутом набок берете. Борька сразу расплывается в улыбке, смешно дергает рыжим от веснушек носом.
— А ты меня видишь? — беспокоится он, что я могу не узнать на экране его довольную физиономию. — Я тебя вижу. Вот ты, вот!
— Что-то я тебя не вижу, — говорю я нарочно.
— Тогда давай еще…
Мы снова занимаем очередь, и вскоре Борькина физиономия опять маячит на экране. Чтобы я его заметил, теперь он надувает щеки, вытягивает в трубку губы, двигает оттопыренными ушами.
— Вот сейчас я тебя вижу.
Борька сияет. А я думаю о том, что хорошо бы прийти сюда с Мариной. Интересно увидеть ее в телевизоре. Зеленые глаза Марины вдруг станут черными. А пойдут ли ей черные глаза?
— Айда на карусель, — Борька тянет меня за рукав.
Я веду его теперь на карусель. Стараясь держаться в тени деревьев, мы огибаем площадь с фонтанами, выходим к троллейбусному кольцу. Какой-то иностранец, не то индиец, не то непалец, дарит Борьке значок. Тот в свою очередь сует ему козырек от солнца. Иностранец улыбается, кивая на небо, говорит: «Маль сольнця», но подарок все же принимает.
— Чей это? — Борька подает мне значок.
Я верчу его так и сяк. Изображены деревья, горы. Под деревьями — слон с задранным хоботом. А надписи никакой нет. Кто знает, чей это значок. Пожалуй, индийский. Но в Непале тоже слонов порядочно.
— Не знаю, — говорю я.
— Тогда приколи, — Борька подставляет грудь.
Я хочу приколоть ему значок, а в это время мимо нас проносится мотоцикл-«рикша», и у меня сразу темнеет в глазах: в нем сидит Марина! Она в ярко-желтой блузке, ветер относит назад ее волосы. И рядом с Мариной — парень в синем костюме. Я кидаюсь за мотоциклом, но он быстро-быстро удаляется и пропадает за поворотом аллеи.
— Ты куда побежал? — удивленно спрашивает Борька.
Я не отвечаю, захожу в будку телефона-автомата и набираю номер Марины. В трубке раздаются частые гудки. Значит, Марина дома. А мне, наверно, показалось. Я же не видел лица — мотоцикл шел слишком быстро. Конечно, Марина дома. Ведь у нее завтра страшный экзамен, она сейчас готовится и звонит какой-нибудь подруге.
Я снова набираю номер и теперь слышу длинные гудки. Мне отвечает низкий женский голос, видно, трубку взяла мать. Она спрашивает, что передать Марине. Значит, ее нет дома. Бог ты мой, Марины все-таки нет дома!.. А что ей передать?..
— Я потом… я позвоню… — с трудом выговариваю я и, чувствуя жар в глазах, вешаю трубку.
Глава шестнадцатая
Мы встречаемся у метро «Ленинские горы». Обычно Марина опаздывала, а на этот раз не опаздывает. Она приезжает минута в минуту, выходит из вестибюля и как-то без радости сворачивает к автоматам с газировкой, где я топчусь уже с полчаса. Это сразу меня настораживает. Раньше Марина всегда искала меня глазами и еще издали улыбалась, а тут она идет как слепая, вскинув высоко голову, ничего не замечает. Что с ней такое?
— Добрый вечер, — говорит Марина и не останавливается, идет дальше, к набережной.
Теперь я не сомневаюсь, что у нее что-нибудь случилось. Может, заболела. Почему она в плаще, когда на улице так тепло? И лицо бледное. А может, завалила этот страшный свой экзамен.
У клумбы с белым табаком Марина замедляет шаг, молча смотрит на цветы. Потом тихо говорит:
— Алеша, мы не должны больше встречаться.
Мне трудно становится дышать. Я глотаю воздух, еще глотаю и чувствую, он меня душит. Это второй раз в жизни такое со мной. Еще так было, когда умирала мама.
— Почему мы…
— Не должны, и все, — повторяет Марина, и в ее голосе уже решимость.
— Но… я люблю…
Марина чуть отходит назад, словно не хочет слушать меня дальше, смотрит в сторону Москвы-реки и будто ей, а не мне говорит как-то раздраженно:
— Не провожай меня, я прошу.
И она идет медленно к метро. Идет не оглядываясь. А я стою у клумбы, смотрю ей вслед, и мне хочется плакать. Потом, кажется, куда-то бреду.
Мне навстречу идут люди. Все время идут. Но я о них не думаю и не различаю их лица. И ничего не слышу, даже своих шагов. Я только чувствую запах белого табака. Он меня преследует: клумба уже далеко, а я его все слышу. Даже горько во рту от этого сладкого запаха. И кружится голова. И зачем это люди сеют белый табак?..
Я иду, оказывается, вдоль набережной. Вот каменная стена, которой обнесена река. А дальше черная вода с синими полосками от фонарей. Я останавливаюсь, закуриваю и облокачиваюсь на каменную стену. Из-под моста выплывает речной трамвай, облепленный пассажирами, разливает за борта песню: «Вьюга смешала землю с небом, серое небо с белым снегом…» Я люблю эту песню, в другой раз я стал бы тихо подпевать, а сейчас не хочется.
Сейчас мне ничего, ничего не хочется. Совсем ничего. Кажется, жизнь моя остановилась. В голове у меня пустота, и все мне безразлично. В таком состоянии, наверно, легко умирать.
А может быть, мне умереть? Броситься сейчас в реку, нырнуть поглубже и вдохнуть со всей силой в себя воду. Ну что стоит моя жизнь? Ничего она не стоит, конечно, ничего. Умер человек, подумаешь. Москва такая же будет красивая, когда и меня не станет…
Вот только Борька разревется. Бедный мой Борька, не будет у тебя тогда брата. А я фотоаппарат обещал купить тебе к лагерю. И тетя Даша заплачет, и Наталья Федоровна, и Люся, конечно. Андрей Павлович сразу лет на пять постареет. И в шахматы ему не с кем будет играть. Вернется он на той неделе с курорта, а играть не с кем. Игорь и вовсе надолго заскучает. Как-то он там, в Угличе? А мой сменщик Володя в себе замкнется: трудно он с друзьями ладит.
Милые мои, неужели и правда вам всем хуже без меня будет? Неужели я что-то отниму от вас? И вообще, что это за подвиг я выдумал? «Подвиг в кавычках», — сказала бы мама. Она ведь сильная у нас была. А в кого же я такой слабый? Почему я только внешне похож на маму? Мужчине стыдно быть слабее женщины, а я, выходит, слабее, я позорно раскис, я совсем-совсем раскис.
Я бросаю в воду сигарету и иду к метро. Иду и жалею, что нет в Москве Игоря. Был бы он дома, я поехал бы к нему и все рассказал. И тогда мне, может, легче стало б. А сейчас я прямо не знаю, куда деваться. И домой возвращаться рано: в квартире сразу все заметят, что вид у меня мрачный. Тетя Даша первая начнет выпытывать, что такое случилось. Тут как тут окажется и Наталья Федоровна, станет с тревогой поглядывать на меня, потом вздохнет и скажет: «Ты права, Дарья, он что-то скрывает от нас». Так что домой лучше попозже приехать, когда спать все лягут.
В вестибюле метро я пью воду из автомата. Потом спускаюсь под землю, сажусь в электричку. А подъезжая к «Новослободской», чувствую, подмывает меня выйти на этой станции. Я пытаюсь взять себя в руки, зову на помощь свою гордость. Но это не помогает. Все равно, когда за окнами побежали зеленые и красные витражи и поезд остановился, какая-то сила выталкивает меня из вагона, поднимает на эскалаторе вверх.
И вот я уже на улице, стою у булочной, откуда хорошо виден дом Марины и та самая арка, дальше которой она не разрешала себя провожать. Я смотрю на окна и не знаю, на каком задержать, остановить взгляд: дом высокий, в семь этажей, только на улицу глядят его окон двести, и где тут угадаешь окно Марины.
Из метро люди все время выходят, растекаются по Новослободской, Каляевской, многие на Селезневку сворачивают, к парку ЦДСА. И вдруг у меня мурашки по спине заметались: Марина из метро вышла, улицу пересечь примеряется. Я уже бежать за ней хочу, но оказывается, не Марина это, а девушка, издали на нее похожая, она тоже в голубом плаще, тоже в белых туфлях. А может быть, я сейчас и Марину увижу. Не должна же она в такой теплый вечер дома сидеть. Только почему я решил, что Марина дома. Может, она прямо из Лужников на свиданье улетела, может, вчера она с тем самым физиком каталась, который мостов боится.
Я опять на окна поглядываю. Мне бы только узнать, дома Марина или нет. И тогда я тут же уйду, не стану стоять истуканом, вызывая улыбки у прохожих. Странно, а почему они улыбаются? Особенно девушки. Будто им известно, по какому случаю я здесь торчу. Собственно, а зачем я торчу? Что я скажу Марине, если вдруг ее увижу? Ведь когда уходит девушка, тебе уже нечего ей сказать. Что-то говорить надо было раньше…
Тут прямо передо мной такси к тротуару притирается. И водитель так тормознул, что асфальт под колесами взвизгнул. Я смотрю на номер — из нашего парка машина. Кто же это такой у нас лихач? Заглядываю в кабину: оказывается, Вадим Чалый.
— Чего шею вытянул, как аист? — кричит Вадим, открывая дверцу. — Садись, подвезу.
— Ты лучше пассажира возьми, — говорю я.
— Садись, садись, — настаивает Вадим. — Я уже наскреб план, в парк еду. Ты ведь там где-то живешь.
Я плюхаюсь на переднее сиденье. И тут мне вроде легче становится. Огни, люди, дома бегут навстречу. На приборной доске стрелки нежно покачиваются, ровно, чисто мотор дышит. И ведет Вадим так, что завидно даже. Со стороны посмотреть, вроде лениво он все делает: медленно скорости переключает, как бы нехотя тумблерами щелкает, на акселератор давит неторопливо. А на деле у Вадима это от уменья, его движения словно отполированы. Неужели и я скоро буду так водить?
Пока едем по Новослободской, Палихе, Образцовой, Вадим молчит, а когда выбираемся на прямую Трифоновскую, начинает стихи свои читать. Стихи у Вадима так себе, но читает он хорошо, и ему больше всех хлопают на концертах нашей художественной самодеятельности. Правда, одно стихотворение меня задевает, там все так, как у нас с Мариной получилось: девушка уходит от парня и ничего не объясняет.
— Это у тебя удалось, — говорю я Вадиму. — Только без конца оно: ушла, а почему ушла, не ясно.
— Подтекст, — ухмыляется Вадим. — Сейчас так модно. А конец пускай каждый свой придумает. Поэт должен заставлять людей мыслить.
Вскоре мы выскакиваем на проспект Мира, где полно машин, где на каждом перекрестке светофоры. Вадим больше не читает стихи, молча смотрит вперед. Я тоже молчу и снова думаю о Марине. Я понимаю, мне лучше о ней не думать, но она все равно не выходит у меня из головы. Я на что-то еще надеюсь. Ведь я ничем не обидел Марину, я не делал ей ничего плохого.
И вот я уже стою на проспекте Мира и опять не знаю, чем себя занять. Никуда меня не тянет, ничего я не хочу. Даже к сигаретам аппетит пропал. А жизнь не остановилась, нет, жизнь не остановилась. У входа в кафе «Лель» парни и девушки толпятся. Кафе новое, недавно открылось, и там всегда по вечерам очереди. Мимо бегут, торопятся машины, троллейбусы, почти без шума катятся по рельсам уютные чешские трамваи. И всюду люди, люди. Идут по тротуарам, пересекают улицы, заходят в магазины, на почту.
Трудно стоять на месте, когда кругом все движется, и я тоже иду вдоль проспекта, рассеченного пополам обелиском, что в честь космонавтов. Ниже его летящей ракеты слева и справа светятся звезды, и кажется, обелиск острой темной иглой проколол насквозь небо. Я смотрю на эту иглу, уходящую в бесконечность, и мне хочется верить, что все у меня будет хорошо, что Марина ко мне вернется.
— Алеша, ты что так зазнался?.. Проходит и не замечает.
Я останавливаюсь и не сразу узнаю в светлой девушке Нину Зеленину. Раньше у нее черные волосы были. И в лице Нины что-то изменилось, только не пойму что. Но глаза все такие же быстрые, с острым соболиным блеском.
— Ты не узнаешь меня? — смеется Нина.
— Нет, узнал, — говорю я.
Она берет меня под руку, ведет в обратную сторону и начинает расспрашивать, как я живу, какие новости в парке. Я рассказываю. Сама она, оказывается, ничуть не жалеет о старой работе, на новом месте ее очень любят, ей там больше нравится. А еще Нина говорит, что получила новую квартиру и сейчас мне покажет.
У меня нет охоты заходить к Нине. Сейчас она начнет водить по квартире, показывая и кухню, и ванную комнату, а я должен делать веселое лицо, говорить: «Все хорошо, все так здорово» и при этом улыбаться, что едва ли у меня получится. Но всякая воля у меня пропала, я покорно иду за Ниной, и мы скоро сворачиваем к большому белому дому, садимся в лифт и поднимаемся на шестнадцатый этаж…
…В комнате все стало светлым и расплывчатым. И выпуклый экран телевизора, и люстра-спутник под потолком, и книжная полка, с которой свешиваются, как хмель, цветы с мелкими листьями. Волосы у Нины теперь кажутся серебристыми. В голове у меня тоже какое-то озарение, отчего мысли ни на чем не задерживаются, легко перескакивают с одного на другое.
— А где ты сейчас работаешь? — спрашиваю я.
Нина сидит с ногами на широкой софе, облокотясь на подушки. Узкий халат с голубыми звездочками у нее задрался, обнажая загорелые колени. Ногти на ногах покрашены розовым лаком.
— Я уже говорила тебе, в комиссионке. Ты совсем меня не слушаешь. Что сегодня с тобой?
— Нет, я хочу сказать, ты что там делаешь. За прилавком стоишь, да?
— Что ты, это без ног останешься!.. Я в кассе. Сижу весь день и книжки читаю. В комиссионном ведь мало покупают. В основном только смотрят: то покажи, это покажи… Вот продавцам мороки по горло.
— А зачем такая работа, если делать нечего? От скуки помрешь.
— Пока жива, как видишь. Говорят, даже похорошела после вашего парка. Ты не находишь?
Я смотрю на Нину и не пойму, лучше она стала или нет. Какая-то странная она со светлыми волосами. Черные ей вроде больше шли.
— Знаешь, ты какая-то другая теперь, — говорю я.
Нина, не поднимаясь с софы, протягивает руку к журнальному столику, берет бутылку с импортной этикеткой и опять наполняет мою рюмку.
— Выпей еще, — предлагает она. — Или тебе не нравится виски?
— Нет, ничего, — говорю я. — Только запах неприятный.
— Самогонкой отдает, правда?
— Не знаю, я никогда не пил самогонку.
— Эх ты!.. — Нина качает головой: — Ухажер — зеленый мак… В жизни надо все один раз попробовать.
В это время в прихожей затрещал звонок. Я встаю, хочу идти открывать, но Нина меня останавливает: «Сиди, я сама». Звякнула цепь, щелкнул замок. Потом я слышу голос Нины: «Почему так поздно?.. Знаешь, а у меня телевизор зачудил… Спасибо Алешку случайно встретила… Ну, проходи, что стоишь?»
И передо мной вырастает квадратная фигура Занегина. В небольшой комнате с низкой мебелью Аркадий кажется великаном, на которого в насмешку надели тесную тенниску, и он вот-вот развернет плечи, и тогда она затрещит вся по швам.
— Пьем, гуляем?! — кричит Занегин и с такой силой хлопает меня по спине, что я едва не падаю со стула.
— Ты давай полегче, — говорю я. — Чуть стул не сломал.
— Легче не могу, — усмехается Аркадий. — Такой у меня характер нараспашку. А мебель новую куплю. Денег у меня хватит. Правда, Нина?
Она только пожимает круглыми плечами и идет к буфету. Достает оттуда третью рюмку, протирает бумажной салфеткой, ставит на столик. Довольно крякнув, Аркадий расстегивает на тенниске последнюю пуговицу и быстро наливает виски во все рюмки.
Нет, я не буду больше пить, я домой сейчас уйду. Я и так все вижу как в тумане. Лицо Нины мне теперь кажется плоским и серым, руки у Аркадия почему-то стали вдвое толще.
— Ну, до свидания, — говорю я и встаю.
Занегин хватает меня за руку, сажает на место.
— Этот номер не проходит, — ухмыляется он. — Давай сначала выпьем. Мы с тобой по одной дорожке ходим, как бы не так. Или ты боишься со мной пить?
— А чего мне бояться?
— Может, я пьяный нехороший, в драку полезу.
Вот оно как. Видно, не забыл он тот случай со старушкой на вокзале. А что я тогда сделал? Я честно поступил. И пускай говорит спасибо, что в стенгазету не написал. А если еще поймаю, напишу. Нисколько не побоюсь, напишу. И сейчас я нарочно не уйду. Конечно, мне в драке с ним не справиться, но я все равно не уйду.
Нина склоняет голову к плечу Аркадия, улыбается и просит его выпить штрафную. Он не отказывается, тут же опрокидывает рюмку в большой рот и не закусывает. Потом мы пьем все вместе. Пьем за то, чтобы у Нины ко дню рождения был телефон. Это она такой тост предложила.
— А я только страдаю от телефона, — жалуется Аркадий. — Без него мне куда бы легче жилось. Вот другой раз сообразишь с ребятами, а придешь домой — головомойка. Почему не позвонил: волновались, видишь ли. Или заболел кто в колонне — опять тебе звонят: подмени. Нет, для меня телефон — это бич.
— Ой, что ты говоришь! — удивляется Нина. — Как же в Москве без телефона. Ни в магазины позвонить, ни в кинотеатр, ни такси заказать — ничего. А если холодильник сломался, телевизор или…
— …свидание назначить? — подсказывает Занегин.
— В этом тоже телефон не помеха, — смеется Нина и закуривает.
Потом она рассказывает, как три розы долго шли через пустыню к своим любимым. Желтая роза одаривала лепестками всех, кто встречался в пути, и пришла к любимому ощипанная, и он от нее отказался. Белая роза никому не подарила ни лепестка, и ее в дороге сильно жгло солнце, трепал ветер, а ручей не дал ей напиться. Все лепестки у белой розы завяли, и любимый ее тоже не принял. А красная роза подарила по лепестку только солнцу, ручью и ветру и сохранила свою красоту и свежесть. И тот, к кому она шла, еще больше ее полюбил.
— Вот давайте выпьем за красную розу, — говорит Нина.
И мы снова пьем. А после этого тоста я словно куда-то проваливаюсь. Что было потом, я ничего не помню. Прихожу в себя уже на улице. Я почему-то стою в сквере на Мало-Московской, прислонившись к дереву. Голова у меня тяжелая, во рту шершавость. Рядом щелкает зажигалкой Занегин.
— Ты зачем к Нинке ходишь? — спрашивает он.
— Я не хожу к ней, это случайно получилось, — говорю я.
— Брось, брось, не надо темнить, я все вижу… Ты лучше правду руби.
— А я и говорю правду, зачем мне врать?
— Ты вот что… ты не ходи больше к ней. Я тебя прошу… Иначе пропадешь… сгинешь навсегда…
— А ты не угрожай! — вскипаю вдруг я.
Занегин кладет мне на плечо руку и спокойно так говорит:
— Ладно, хватит петушиться… Ты вот что, ты подальше от Нинки держись. Она опасная… И ты не равняй меня с ней…
И он, словно что-то вспомнив, срывается с места, с каким-то беспомощным остервенением перепрыгивает через чугунную ограду и сразу скрывается под аркой с круглыми колоннами. Я еще стою несколько минут в сквере. Уже совсем посветлело, сквозь деревья теперь просматривается улица, по которой прошел огромный рефрижератор. Но людей пока не видно. Только дядя Миша прогуливается у перекрестка. Хотя бы он меня не заметил. Я поскорее ухожу в глубь сквера, потом выбираюсь на тротуар и бреду домой.
Глава семнадцатая
Прошел месяц. Жизнь не остановилась, земля не сорвалась с орбиты, и солнце так же утром скачет по крышам. Я, как и прежде, мыкаюсь на «зеленухе» по городу, и улицы, бульвары, площади текут мне навстречу. Андрей Павлович вернулся с курорта, пять раз подряд обыграл меня в шахматы и переселился с тетей Дашей на дачу. Борька успел размолотить в лагере новые кеды, потерять панаму и в клочья разорвать рубашку. Игорь третий выходной уезжает в Углич и никак не может уговорить Симу выйти за него замуж.
Нет, жизнь не остановилась, и все у меня хорошо. Я люблю свою работу и начинаю ею гордиться, я люблю Борьку и рад, что он закончил первый класс без троек, я люблю Игоря и скучаю, когда он уезжает в Углич, я люблю Люсю и жалею, что она уже не будет актрисой, я люблю даже милиционеров, которые давно не прокалывают мой новый талон.
Да, все у меня хорошо, все хорошо. Вот талька иногда на меня что-то наваливается, наваливается, как-то сразу и со всех сторон. Бывает это вечером. Сидишь у приемника, ловишь разные станции. Идут все джазы, джазы, песни эстрадные. И вдруг — грустная музыка. Вот тут-то и наваливается это на меня. Я взвинчиваюсь и начинаю выбрасывать из шкафа все свои рубашки. Выброшу на стол и выбираю, выбираю, но останавливаюсь всегда на белой нейлоновой, которую весной купил.
Потом костюм темно-серый достаю, галстук. Я галстуки не очень люблю, но тут повязываю и галстук. Туфли черные надеваю. Правда, левая туфля скрипит немного, но это ничего, зато сразу видно, что новые. Старые не стали бы скрипеть. Волосы, наперед причесываю, как у Гамлета — Смоктуновского, и выхожу из дому.
Еду я обычно на метро, Еду и заранее представляю, как все это у меня будет. Выхожу я на «Новослободской», закуриваю, перехожу на ту сторону улицы и останавливаюсь у арки, оклеенной разными объявлениями. Чтобы меньше волноваться, покупаю, в киоске «Вечернюю Москву», разворачиваю, но, конечно, не читаю, а по сторонам все поглядываю.
Стою я так с газетой полчаса, еще полчаса, потом слышу, кто-то сзади подошел. Я оборачиваюсь — бог ты мой, Марина! Она в белой кофточке, и лицо у нее белое, совсем без загара. Смотрит вроде с укором, но глаза зеленые такие, круглые глаза-ее все-таки улыбаются.
— Ты пришел? — говорит она. — Не выдержал, пришел?
— Я уже не раз приходил, — говорю я.
— А почему меня не искал? Тебе гордость мешала? И сейчас стоишь и не ищешь. Не надо быть таким гордым.
— Я не гордый. Я люблю тебя.
— Смешной ты какой, целый месяц не видишь меня, а говоришь — люблю.
— А можно человека не видеть и любить. Бывает же так. Вот и у меня так было.
— Фантазер ты, — улыбается Марина. — Я и не знала, что ты такой фантазер. Ну, чего мы стоим? Пойдем сядем.
Она ведет меня во двор, в его зелени мы садимся на скамейку. И молчим: нам и без слов хорошо. Потом Марина берет мою руку, кладет к себе на грудь и говорит:
— Послушай, как сердце мое бьется…
И тут у меня дух захватывает, так захватывает, что чувствую я, никогда, никогда этого не будет. И мне сразу другая картина видится, совсем-совсем другая. Вроде стою я у той же арки, что объявлениями облеплена, только поближе к газетному киоску стою. Час уже поздний, народу все меньше из метро выходит, а на улице и вовсе никого не видно. Я уже не надеюсь ни на что и время потерянное жалею, как вдруг под аркой шаги раздаются и оттуда Марина выходит с высоким парнем. Я сразу сердце где-то на затылке слышу, и в горле комок застрял и дышать не дает, и ноги вроде в асфальт вросли — ни одну не оторвешь.
А Марина не видит меня и что-то говорит, говорит высокому парню. Он кивает, руку ей на плечо кладет. И она не обижается, наоборот, улыбаться стала. Тут у меня не хватает больше сил, я за киоск ухожу. Спрятался я и не знаю, что делать дальше. А они совсем из-под арки вышли, и теперь Марина меня увидела. Она что-то сказала высокому парню и ко мне идет.
— Алеша, ты что здесь стоишь? — спрашивает Марина.
Ну что тут придумаешь? Ребенок поймет, почему я стою. И я говорю честно:
— Я на тебя пришел посмотреть.
— Значит, ты больше не любишь меня?
— Нет, люблю, поэтому я и пришел.
— По-моему, если любишь человека, не станешь делать так, чтоб ему было плохо.
— А тебе плохо, когда я на тебя даже издали смотрю?
— Понимаешь, Алеша, как-то неприятно, если за тобой вроде подсматривают. Конечно, я не могу тебе запретить, но я верю, что ты сильный…
И вот когда я это представлю, то взвинченность, которая была у меня от грустной музыки, сразу пропадает. И я вроде сильнее себя чувствую. Поезд тормозит у «Проспекта Мира», двери с шипеньем открываются, люди высыпают из вагонов, бегут к эскалатору, на пересадку, а я не иду с ними, я решительно пересекаю платформу и сажусь в обратный поезд.
АРИНА Повесть
В тот вечер мать ходила как потерянная, Антону жалко было на нее смотреть. Прошлепает она в старых тапочках на кухню, постоит там в задумчивости минуту, другую у шкафа с посудой и повернет назад, не помня, что хотела взять. А то вдруг начнет куда-то собираться, плащ новый наденет, платок повяжет, сумку на руку повесит, но потом, глядишь, передумала, уже раздевается. И все время вздыхает, украдкой поглядывает на него тоскливыми глазами, готовая заплакать. Понаблюдай за ней человек посторонний, так вполне будет уверен: в великом горе женщина, ни больше ни меньше — на каторгу оставляет сына.
Вот еще одно доказательство, что детей своих никогда не понимают родители, никогда. А думать иначе — только голову зазря томить, себя не жалея, да впустую время тратить. Ну из-за чего она так убивается, что тут опасного, если он, уже студент третьего курса, заживет свободно и самостоятельно? Да, напротив, ничего лучшего и придумать нельзя, такое счастье и во сне не всегда приблизится. Отныне будет Антон Сеновалов, будущий инженер-строитель, лежать на диване с сигаретой в зубах, закинув руки за голову, слегка щурясь от ласкового сентябрьского солнца, которое после полудня заглядывает в окна квартиры, и, что называется, в ус себе не дуть. Никто ему не скажет, почему это он прямо в костюме разлегся, по какому такому праву закурил в квартире, ботинки скинул в комнате, а не в коридоре. Опять же, некому будет шикать на него, случись, включит он магнитофон в поздний час или, вспомнив свои пионерские годы, поутру затрубит с балкона в полные легкие на трубе: «Слушайте все!.. Слушайте все!..»
Да если пораскинуть умом, какая тут печаль, наоборот, радоваться надо, что ее сын теперь будет жить без подсказки, привыкать к самостоятельности. Ведь когда-то все равно придется подступать к этому, ему как-никак стукнуло девятнадцать, он на третий курс перешел. Сколько же можно его за маленького считать, опекать по всяким там пустякам? Вон Костя Чуриков ему ровесник, а уже глава семейства, сына в коляске катает. Неделю назад он встретил друга на Рождественском бульваре, тот сидит на скамейке с интеллигентным старичком в сером берете и в шахматы сражается. А рядом красная коляска с козырьком от солнца, в которой преспокойно почивает его чадо.
— Надо же, на тебя похож!.. — удивился Антон, с любопытством заглядывая в коляску, где вовсю дрыхнул Костин наследник, овеянный пьянящими запахами осени. Совсем крохотный, в голубом комбинезончике с капюшоном, он показался Антону таким смешным, что вроде и на человека не похож, а скорее напоминал куклу-космонавта.
— Верно, батькина копия, — серьезно сказал старичок в берете и передвинул черную пешку.
Вот, пожалуйста, Костя Чуриков тоже на третьем курсе, но уже батька, солидный человек, а мать готова его, Антона, все время за ручку водить и сейчас никак не может смириться, что он, бедненький-маленький, один останется, будет предоставлен самому себе. Только напрасна ее тревога, потом мать и сама убедится, давно он стал взрослым, кое-что в жизни смыслит и не нуждается ни в чьей заботе.
В голове Антона, занятой такими думами, был полный ералаш, и хотя он упорно сидел за письменным столом, склонившись над широким листом ватмана, но ничего толком у него не получалось, все шло на чертеже и вкривь и вкось, да и сам чертеж почему-то никак не вмещался на бумаге. И Антон наконец отложил в сторону циркуль, закрывая ватман газетой, сказал матери, которая неприкаянно ходила из комнаты в комнату, не зная, чем себя занять:
— Ты зря обо мне беспокоишься, я не какой-нибудь хлюпик-белоручка… Сам все могу и умею…
— Говорить легче, чем делать, — с печалью в голосе ответила мать, останавливаясь у окна. — Без меня тут голодным находишься, весь грязью обрастешь…
Нет, умереть проще, ей-богу, нежели мать его в чем-либо переубедить. Ну что она выдумывает! Послушать ее, так, едва она уедет, сын тут же сгинет как муха по осени. Можно подумать, она в тайге глухой его оставляет. Но коли на то пошло, человек и в тайге не пропадет, на грибах да ягодах продержится, пока подмога не подоспеет. Так о каком это голоде она речь ведет?..
— Смешная ты, мама, — Антон покачал головой и встал из-за стола, прошелся взад-вперед по комнате. — Можно подумать, после твоего отъезда в Москве все магазины закрываются, кафе и буфеты. А бани на слом пойдут, ванны в квартирах будут замурованы…
— Пойми, сынок, на все время надо, — сказала мать, задумчиво глядя в окно. — Сами продукты в дом не прискакают, за ними ведь ходишь, в очереди стоишь. Но бывает и так, что этого сегодня нету, того еще не привезли. Вон вчерась я три целых улицы обегала, пока диетические яйца купила. А у тебя где время по магазинам мыкаться? Утром всегда на лекции торопишься, потом допоздна в библиотеке торчишь. Оттого-то и болит моя душа, что несладко тебе будет. Я уже с тетей Настей толковала, просила ее кой-когда помочь тебе, да, у той своих хлопот полон рот. Трое малых внучат, считай, у ней на руках, от которых на шаг нельзя отойти, жалуется, в магазин даже не выберет время сбегать.
— Спасибо тебе, спасибо. Значит, няньку для сыночка подыскиваешь, позоришь меня перед родственниками, — обиделся Антон и отвернулся к другому окну.
— Няньку не няньку, а глаз за тобой нужен, — стояла на своем мать. — Ты и дверь на цепочку закрывать забываешь, и ключи часто теряешь. А сейчас жуликов столько развелось, еще квартиру обчистят. В магазине бабы в очереди такое про них рассказывают!.. Вон в шестом доме, оказывается, на прошлой неделе квартиру обокрали белым днем, а в двенадцатом сразу две.
— Это все враки, обычные бабьи сплетни, — отмахнулся Антон, ничуть не веря в такое глобальное воровство. — Я вот сколько лет живу, но что-то пока ни одного жулика в глаза не видел.
Мать с тоской поглядела на сына, вздыхая, сказала:
— Как раз это и пугает меня, твоя наивность. Ишь чего придумал, жулика захотел увидеть. Будто жулик на всех перекрестках станет кричать, кто он такой. Не то у него на лбу написано, что он жулик. Да такие нелюди перекрашиваются, выдают себя то за мастера по телевизорам, то за слесаря, то за почтальона. Сам знаешь, не на луне вырос… А еще мне покоя не дают эти твои дружки-приятели. Боюсь, без меня они тут дневать и ночевать станут. Чего доброго, компанию сюда наведете, все полы загваздаете, квартиру дымом прокоптите. Нынче время беспутное, девушки молоденькие — и те табак без роздыху пекут. Ох, изболится мое сердце по тебе, заранее чувствую. Я вот все думаю, может, не ехать мне к Наталье-то?..
У Антона даже дыхание перекрыло от последних слов матери, которая могла, выходит, еще переменить свое решение. Только он настроился на полную свободу, обрадовался, что заживет теперь так, как ему будет любо, а это все, оказывается, пока хрупко и призрачно, на воде вилами писано. И Антон, зная, что мать его слишком самостоятельна, ничьих советов никогда не слушает, напротив, поступает только по-своему, сейчас же принялся ее по-всякому отговаривать от поездки к дочери:
— Правильно, нечего в такую даль тащиться, обойдутся как-нибудь и без тебя. Что они там бабку не могут найти, которая с Машенькой посидит два-три месяца, пока детские ясли достроят. Ребенок уже своими ногами ходит, его не надо все время на руках держать. И говорить умеет, даже тебя по телефону «бабысей» называет. Одно удовольствие любой старушке с такой умной девочкой посидеть. Так что ни к чему тебе ехать.
— Ой, не знаю, Антоша, не знаю, думаю, ты не прав, — пока неуверенно возразила мать. — Наталья не от хорошей жизни меня зовет к себе хотя бы на месяц, наверно, другого выхода у них нету. Бабку-то, о какой ты толкуешь, нынче днем с фонарем не сыскать. Это разных кандидатов наук теперь развелось как собак нерезаных, а вот о человеке, что за ребенком присмотрит, о домработнице можно только помечтать. Даже в больницах, тетя Настя говорит, нянечками не хотят работать, где ж там в семью кто пойдет… Нет, мне, пожалуй, надо ехать. Я прямо места себе не найду, как вспомню про Машеньку. Разве мыслимо такую малютку на работу с собой таскать. А Наталья вынуждена…
Антон, видя, что мать начинает клевать на его удочку, стал еще больше ей возражать, нарочно повышая голос, резко сказал:
— Вот о внучке заботишься, а на меня тебе наплевать…
Мать с удивлением глянула на Антона, усомнившись в искренности его слов, но тот, надувая полные губы и хмуря узкие, как у девчонки, брови, так искусно изображал обиженного, что она ему вдруг поверила и сейчас же его осудила:
— Ну как не стыдно тебе, Антоша?.. Сравнил себя с Машенькой, этакой крошкой беспомощной…
— Сама же говоришь, что мне тут не мед без тебя будет… — умышленно упорствовал Антон.
Но мать уже его не слушала, подогревая себя желанием поступить, как всегда, по-своему, она тут же ушла в другую комнату и стала собирать вещи в дорогу.
На третий день, в воскресенье, Антон провожал мать на поезд. Он еще с утра намеревался заказать такси, чтобы с шиком доставить ее на вокзал, но та, постоянно экономившая на всем, об этом и слушать не захотела. Была, мол, нужда сорить понапрасну рублями, когда маршрутный автобус за какой-нибудь пятачок довезет ее до самого вокзала. Зная, что мать не переубедишь, Антон не стал с ней спорить, молча взял обтянутый чехлом чемодан, большую хозяйственную сумку, и они перед самым обедом вышли из дому.
— Ну вот, глядишь, и сберегли лишний рубль, — сказала мать, когда они уже сели в автобус. — Ты без меня тут, сынок, не транжирь зазря деньги. Сам знаешь, мать у тебя не великий начальник. И отец был шофером, а не министром, пенсию жирную нам за него не платят…
Мать говорила тихо, ее вряд ли кто еще слышал, но Антону казалось, что все в автобусе к ней прислушивались и смотрели на него сочувственно, как на несчастного. Это злило его. Антон никогда не считал себя несчастным, он сердился, когда тетя Настя называла его «бедной сиротинкой». Какой же он сиротинка, если у него есть мать, сестра? Какой же он несчастный, если прошел по конкурсу в тот институт, о котором мечтал еще в седьмом классе? Нет, чушь это абсолютная. И чтобы отвлечь мать от неприятного ему разговора, он нарочно сказал:
— А напрасно, мам, ты не летишь самолетом. Лучшего транспорта и придумать нельзя: быстро, удобно. Часа через четыре уже была бы в Ташкенте. И никаких таких забот о еде. Стюардесса прямо в кресло подаст тебе обед, чай, вовремя поднесет «Взлетные» карамельки…
Мать тотчас замотала головой, замахала руками, давая тем самым понять, что она и думать не желает о самолете, и, сбившись с прежней мысли, стала теперь наказывать Антону, чтобы он каждый день готовил дома горячее, а не бегал по разным там столовым, не портил себе желудок. Просила еще мать допоздна не шататься по городу, пораньше домой приходить, при этом намекнула Антону, что собирается вечерами иногда позванивать из Ташкента и, дескать, ей всегда будет известно, когда он возвращается.
Антону изрядно надоели разные наставления матери, за эти два дня она о чем только не вела с ним речи, вроде бы обо всем было переговорено, но, оказывается, мать еще многое забыла, не успела сказать дома. К тому же Антона угнетало, что она, как ему казалось, говорила с ним так, будто перед ней был неразумный школяр, а не взрослый человек, студент серьезного вуза. Отсюда, оставаясь внешне спокойным, соглашаясь с матерью, обещая поступать так, как она просила, Антон все время раздражался, ему стоило немалого труда сдержать в себе нервную вспышку, и он сейчас желал лишь одного, чтобы автобус побыстрее привез их на вокзал, чтобы скорее расстаться с матерью. Но когда они вошли в вагон поезда и мать, до этого ни на минуту не умолкавшая, неожиданно сникла и словно онемела, силясь найти и никак не находя самые нужные слова на прощанье, Антону стало жалко ее, такую беспокойную, упрямую, ворчливую, но всегда родную. Мать сейчас ему напоминала птицу, которая старалась как можно шире распустить крылья, чтобы укрыть ими своих птенцов, но те уже подросли и слишком далеко убежали друг от друга, и птица-мать, поняв это, замерла в растерянности.
— Мама, ты, пожалуйста, обо мне не беспокойся. Я человек вполне взрослый, все буду делать так, как ты велишь, — с виноватой ласковостью сказал Антон. Он обнял ее, крепко прижал к себе, через силу усмехнулся: — Видишь, какой я стал большущий-пребольшущий, ты, оказывается, мне по плечо. Я никогда не замечал, что ты такая маленькая…
— Но зато удаленькая… — не то с гордостью, не то с грустью ответила мать, смахивая со щеки слезу. — Без отца вас растила, а плохому не научила. Наталье высшее образование дала и тебя, можно сказать, почти в люди вывела…
В это время объявили, что поезд отходит, попросили всех провожающих покинуть вагоны. Антон быстро поцеловал мать и выскочил на платформу. И сразу в нем растаяла та грустинка, что возникла в минуту прощания с матерью, и всю его душу заполнило предчувствие чего-то нового, неясного, но необыкновенного, которое должно с ним свершиться, поскольку отныне он свободен и сам станет решать, чем ему заняться сегодня, завтра, через неделю. Пассажиры только что прибывшего поезда упругой волной захлестнули всю платформу, таща сумки и чемоданы, толкали Антона то в бок, то в спину, но это его не сердило, напротив, ему было приятно бурливое многолюдье, которое ни днем, ни ночью не кончалось на шумных столичных вокзалах. Родившийся и выросший в Москве, Антон давно привык к буйной жизни великого города, он любил побродить там, где больше народу, и не понимал тех людей, что искали тишины и уединения.
Выйдя на привокзальную площадь, он постоял у телефонов-автоматов, еще охваченный незнакомым чувством свободы, от которого все мешалось в голове и не было полной ясности, желанной определенности, а только перед ним как бы распахивалось нечто загадочное и неуловимое, что пока даже не угадывалось ни умом, ни сердцем. Антону казалось, пройдет еще минута, другая, и он наконец поймет то главное, что рождало в душе сладостный трепет, и неясное вдруг станет ясным, и перед ним откроется самое удивительное, что возможно лишь тогда, когда человек волен в выборе своих действий. Однако бежали минута за минутой, он успел купить и съесть мороженое, выпить стакан газировки и выкурить аж две сигареты, но ничего особенного с ним не происходило. Да и вокруг вроде мало что менялось, люди, в эти теплые осенние дни одетые еще по-летнему, в легкие яркие платья, все так же мельтешили по площади с сумками, портфелями, чемоданами, регулярно прибывающие пригородные электрички всякий раз выплескивали на перроны новые партии пассажиров, и те, спеша по своим делам, на глазах растекались в разные стороны: кто нырял в метро, кто шел на автобус или трамвай, кто торопился к стоянке такси. И лишь Антон, околдованный своей свободой, какое-то время столбом маячил на краю площади и не знал, куда и зачем ему спешить.
Вернувшись домой, Антон выпил стакан холодного молока, закурил сигарету и, выйдя на балкон, задумался, с чего начать ему свою самостоятельную жизнь. Конечно, смешно было представить, чтобы он, отныне вольный казак, сразу садился за чертежи и готовился к зачету, который и сдавать-то надо еще бог знает когда. Нет, не к лицу ему сейчас было столь будничное занятие, и Антон, отвергая его напрочь, неотступно насиловал голову в поисках чего-то возвышенного и необычного.
Но, странное дело, прошел уже добрый час, как он торчал на балконе, медленно потягивая сигареты, а что-то ничего необычного пока не придумывалось, напротив, все его мысли, как нарочно, вертелись вокруг этого злосчастного зачета, будто весь мир вдруг замкнулся на нем. И все-таки Антон был уверен, что это необычное где-то близко, совсем рядом, и чтобы найти его, надо только не лениться и как следует подумать, поднатужить ум, а может быть, и друзьям позвонить. Последняя мысль ему больше понравилась, и он вскоре подсел к телефону, набрал номер Игоря Уланова.
В квартире школьного приятеля, который учился ныне в Институте торговли, трубку взяла его мать, что, по убеждению Антона, не предвещало ничего хорошего. Теперь, когда начался учебный год, Варвара Павловна, конечно, посадила Игоря на жесточайший режим и следит за каждым его шагом: любую минуту ей ведомо, куда, к кому и зачем пошел единственный сын. В это время, вплоть до самых зимних каникул, Варвара Павловна накладывает арест и на телефон, и кто бы Игорю ни позвонил, трубку берет непременно сама и, в зависимости от того, кто звонит, единолично решает, стоит подзывать Игоря или нет. Чаще всего она сына к телефону не зовет и каждому отвечает одно и то же: «Игорек сильно занят» или «Он уехал в читалку». Антона Варвара Павловна узнает сразу, по голосу, но никаких исключений ему, как другу сына, никогда не делает, больше того, она, как правило, осаждает его разными вопросами, стараясь незаметно выпытать, ради чего Антон позвонил, не собрался ли он втянуть ее сына в какую-либо предосудительную историю.
На этот раз Варвара Павловна тоже была словоохотлива, она долго рассказывала Антону всякие пустячные новости, потом заранее гадала, куда Игоря отправят в следующее лето на практику. Антон сперва умолчал о том, что мать уже уехала, но из разговора вскоре понял, Варвара Павловна об этом знает (видно, мать сама ей позвонила, наверное, просила, как и тетю Настю, приглядывать за ним, беспомощным дитятею), и сделал вид, будто сильно опечален ее отъездом.
— Понятное дело, трудно тебе будет одному, — посочувствовала Варвара Павловна. — Жить без матери никому не в радость… Ты смотри теперь не вольничай, а главное, про учебу не забывай.
— Это само собой… — сказал Антон.
— Вот и хорошо, будь молодцом, — закругляя разговор, пропела Варвара Павловна. — А мой Игорек нынче с утра за книгами сидит, весь день из-за стола не вылезает. Ты уж не сердись, я не стану его от занятий отрывать, потом передам, что ты звонил.
Ничего другого Антон и не ждал от разговора с Варварой Павловной, а потому спокойно положил трубку и стал расхаживать по квартире, соображая, кому бы еще позвонить. С Олегом Дроздовым, который после школы пошел работать на завод, он еще вчера распрощался, тот уехал отдыхать на Черное море и, как говорится, выпадал из игры. А больше у Антона, собственно, и не было друзей: он трудно с людьми сходился, поскольку напрочь привязывался к одним, а другим уже было не достучаться до его сердца. Правда, оставался еще Костя Чуриков, тот тоже учился в Строительном, но он последнее время почему-то избегал старых школьных друзей, ходили слухи, будто жена запрещает ему водить компании с ними, холостыми ребятами. Вполне возможно, что так оно и было, Антон и сам не раз замечал, какую неучтивость она выказывала к школьным друзьям мужа. Но сейчас у Антона выбора не было, и он после недолгих колебаний все-таки позвонил Косте.
— Ну, старик, я тебе завидую! — радостно закричал в трубку Костя, когда узнал, что мать Антона уехала к дочери. — Ты теперь счастливый человек, сам себе хозяин… А я тут погибаю от безденежья, мне позарез нужны триста рублей. Звоню одному, звоню другому, по никого нету дома… Слушай, старик, вся надежда на тебя, спасай ради бога…
Антону странно было слышать это от Чурикова, который после женитьбы никогда в деньгах не нуждался. Его жена была дочь генерала, ее родители купили им кооперативную квартиру, подарили машину. У Кости постоянно водились личные деньги, и он иногда одалживал ребятам перед стипендией то пятерку, то десятку. А теперь Чуриков вдруг сам убивался из-за денег, как бывало в школьные годы. Они учились с ним в одной школе, и у него, как и у Антона, никогда не водилось лишней копейки. Семья Чуриковых была большая, помимо Кости у них насчитывалось еще трое детей. И все младше его. Отец Кости работал сотрудником в одном НИИ, получал немного, к тому же часто заглядывал в рюмку. Мать служила в аптеке, где зарабатывала еще меньше мужа. Но это, так сказать, все в прошлом, а почему сейчас у него возникла нужда в деньгах?
— Старик, ты что молчишь? — с нервной хрипотой в голосе спросил Костя. — Ты не хочешь мне помочь?..
Мать, уезжая, оставила Антону двести рублей и просила расходовать их экономно, растянуть на два месяца, поскольку до середины ноября она еще не вернется и не сможет выслать ему ни копейки. Антон и сам не думал попусту сорить деньгами, зная, что не так-то легко они достаются матери. Ведь последние три года она работала на двух местах, по утрам убиралась в нотариальной конторе, а вечером бегала мыть полы в обувной магазин. И сейчас Антон был в немалой растерянности: ему хотелось, конечно, выручить Костю, но и самому нельзя было оставаться совсем без денег.
— Понимаешь, у меня нету столько… — сказал наконец Антон.
Костя тут же спросил нетерпеливо:
— А сколько ты осилишь?
— У меня всего двести рублей, которые мать оставила на два месяца.
— Это, старик, не разговор, — обидчиво протянул Костя. — При чем здесь два месяца?.. Давай условимся так: ты берешь все наличные и шлепаешь ко мне. А через три дня я возвращаю тебе долг. На той неделе прилетает из Сочи генеральша, она подкинет нам монет. Договорились?
— А может, ты сам ко мне заглянешь? — предложил Антон, которого еще не покидало приподнятое настроение, вызванное обретенной свободой, и ему не хотелось ехать к Чурикову по столь будничному поводу.
— Ой, старичок, приезжай ты, — взмолился Костя жалобным голосом. — Поверь, я не могу, мне Кирюху не с кем оставить. От него, сам знаешь, на шаг отойти нельзя… А Тамара к врачу убежала.
После женитьбы Чурикова Антон не любил бывать у него, поскольку знал, Тамару не радовал его приход. Больше того, она, как правило, прибегала к разным уловкам, стараясь поскорее выставить Антона за дверь. Стоило ему зайти к Косте, как Тамара тотчас придумывала мужу какое-либо срочное дело: «Костя, сбегай в аптеку за соской», «Костя, иди вытряси ковры», «Костя, отнеси белье в прачечную…» Его друг в ответ лишь пожимал плечами, как бы говоря Антону, не сердись, старик, сам видишь, не пустяками занимаюсь, и тут же кидался исполнять поручения жены. Это каждый раз злило Антона, и он несколько дней назад дал себе зарок больше не приходить к Косте. А сейчас вот складывалось так, что Антон был вынужден ехать к Чурикову, ведь не мог же он заставлять Костю тащиться к нему по городу с грудным ребенком.
Раньше Костя Чуриков тоже жил на Звездном бульваре, вблизи кинотеатра «Космос», а после женитьбы переселился на улицу Гиляровского, в кооперативный дом. Добираться до Кости удобнее всего было автобусом, на котором Антон и приехал к нему ровно через полчаса.
Встретил его Костя в длинном мохнатом халате, в котором любил расхаживать по квартире, и сразу подал Антону огромные тапочки с завязками и без задников, какие посетители музеев обычно надевают поверх туфель. Зная заведенный порядок в доме друга, Антон без лишних слов сунул ноги в тапочки-гиганты и вслед за Костей прошел в большую комнату, тесно заставленную дорогой мебелью. Дверь второй комнаты была открыта, и там в деревянной кроватке на колесиках лежал на животе полураздетый Кирюша и с завидным усердием потрошил едко-зеленую японскую куклу. Узрев Антона, он сейчас же заболтал руками и ногами, что-то залопотал на своем непонятном языке.
— Вот полюбуйся на этот кожан, — сказал Костя, доставая из шкафа темно-коричневое кожаное пальто с рыжим меховым воротником. — Тамара как его примерила, так и рассудка лишилась. Говорит, вовек тебе не прощу, если упустишь такую вещь. Представляешь мое положение? Вот я и верчусь как белка в колесе, весь день ищу чертовы гроши. Ты знаешь, сколько стоит этот кожан? Девятьсот монет!.. И деньги надо отдавать сегодня. Но зато вещь, правда, отменная, первосортная лайка, воротник из ламы… А тебе нравится кожан?
— Красивый, — безразлично сказал Антон, — только слишком дорогой.
— Твердая цена, без всякой переплаты, — пояснил Костя, накидывая на плечи пальто и любуясь им. — Это соседка с верхнего этажа себе купила, да ей оказалось мало. Спекулянты за такой кожан полторы тыщи дерут…
В это время в другой комнате заплакал Кирюша. Костя сразу бросил на диван пальто и побежал в ванную, открыл краны. Услышав плеск падающей воды, Кирюша весело завертел головой, тут же умолк.
— Чуешь, все понимает, разбойник, — усмехнулся Костя, показывая глазами на Кирюшу. — Вмиг перестал реветь… Идем, посмотришь, как он здорово у нас ныряет.
Костя снял с Кирюши распашонку, подхватил его, совсем голого, под мышку, словно это была какая-нибудь вещь, и понес в ванную. Антон пошел за ним. В ванной Костя немного подержал Кирюшу на вытянутых руках над самой водой, а потом неожиданно крикнул: «Опля!» — и отнял руки. Кирюша тут же бултыхнулся в воду, окунаясь с головой, замолотил часто руками, поднимая брызги.
— Что ты делаешь?.. Он захлебнется, утонет!.. — испугался Антон и хотел было выловить Кирюшу.
— Не суетись, старик, не надо, — с невозмутимым спокойствием сказал Костя, отстраняя рукой Антона. — Кирюха уже опытный пловец. Я закаляю его, понимаешь, с младенчества, через день вожу в бассейн одной клиники. Там он минут по двадцать — тридцать плавает. Ну, разумеется, под моим наблюдением.
Кирюша и в самом деле пока не тонул. Смешно выбрасывая в стороны руки и ноги, он вроде бы сносно держался на воде, иногда погружался в нее с головой, но не захлебывался. Если вода попадала ему в рот, он не пугался, не плакал, лишь недовольно фыркал. И все-таки Антону было жалко Кирюшу, который еще и ходить-то не умел, а Косте почему-то взбрело в голову учить его плавать. Антон обрадовался, когда вернувшаяся домой Тамара заглянула в ванную и сейчас же образумила мужа.
— Прекрати этот цирк! — прикрикнула она на Костю. — Нашел чем забавляться… Лучше сходи в овощной, там бананы привезли. Я хотела купить, но очередь большая.
Костя, ни слова не говоря, вытащил Кирюшу из ванны, неумело, по-мужски, вытер его банным полотенцем и отнес в кровать. Сам тут же переоделся, снял с себя халат, облачился в джинсовый костюм и, забирая хозяйственную сумку, с которой собрался за бананами, заискивающе сказал недовольной жене:
— Томик, а кожан теперь твой… Антон нас выручил, двести рублей привез. Ты поблагодари его.
— Спасибо ему… — сказала Тамара, как говорят о человеке, который отсутствует, и прошла на кухню мимо Антона, даже не взглянув на него.
Антон понял, что ему надо уходить.
Домой Антона не тянуло: не хотелось ему, отныне свободному человеку, торчать одному в четырех стенах. И выйдя от Чурикова, он доехал на метро до Выставки, выбрался из подземелья и прошел на Звездный бульвар. Его с детства манило в эти зеленые аллеи, где всегда было шумно и весело. Многих угнетает скопище народа, а Антона, напротив, влекло в гущу людей, его радовало напористое дыхание столичной жизни, и он готов был обнять каждого встречного лишь только за то, что тот тоже москвич или любит Москву, раз приехал в этот город и ходит с удивленными глазами по его улицам.
Антон побродил с полчаса по бульвару, примечая, что посаженные по весне новые деревья стояли уже в листьях, потом свернул к кинотеатру «Космос» и, присев на скамейку, задумался. А скоро рядом с собой увидел светловолосую высокую девушку с родинкой-крапинкой на щеке. Она достала из сумочки сигарету, прикурила от газовой зажигалки и, норовя заглянуть Антону в глаза, с обнаженной доверчивостью спросила:
— Вы хотите мне что-то сказать?
Антон и не думал ничего ей говорить, но признаться в этом постеснялся, считая, что для столь милой с виду девушки у настоящего парня, конечно, всегда найдутся нужные слова. А поскольку таким парнем Антон пока еще не был и в разговоре с незнакомыми девушками всякий раз терялся, то и сказал ей совсем не то, что надо бы сказать:
— Вот курите, а мать, поди, ругает.
— Нет, ей все равно, — слабо усмехнулась девушка.
Антона возмутило, что у девушки такая никудышная мать. Как же так, дочь совсем еще зеленая (ей на вид было лет восемнадцать, не больше), в открытую курит, а матери хоть бы что. Сам-то он только в институте стал покуривать, да и то тайком от матери, а когда та узнала, все никак не могла смириться, не позволяла при себе курить.
— А меня старушка ругала, — признался Антон, — пока вот в Ташкент не уехала.
— Она у вас там живет? — спросила девушка.
— Ребенок у сестры родился, а сидеть с ним некому. Вот и позвали мать. А я теперь кукуй тут один.
— Разве одному плохо?
— Не знаю, наверно, скучно…
— Вы женитесь — сразу станет весело.
— Я бы не против, да мать не разрешит, она меня все за ручку водит…
— А моя ждет не дождется, когда я замуж выйду. Она готова даже объявление на улице расклеить: «Высокая блондинка ищет мужа…» Смотрите, она узнает, что вы холостой, и прилепит такое объявление на дверь вашей квартиры.
Антон чуть откинулся назад и весело рассмеялся. Чувство свободы, которое в нем зажило в ту минуту, когда он, попрощавшись с матерью, вышел из вагона, все еще не оставляло его до сих пор, и ему была приятна эта легкая, никчемная болтовня с незнакомой девушкой. Антон даже подумал, что будет обидно, если она вот докурит сигарету и тут же уйдет в кино: до начала очередного сеанса оставалось несколько минут.
Но девушка, как оказалось, и не собиралась в кино. Погасив сигарету, она чуть сощурила синие широкие глаза и совсем просто и прямо сказала:
— Пойдемте со мной в кафе. Одной, сами понимаете, вечером там появляться неловко. А выпить хочется… На душе тошно.
Такой поворот дела Антона вполне устраивал, и он обрадовался, что нашелся наконец человек, который готов был составить ему компанию. Они тут же встали и пошли вдоль бульвара. Низкое солнце, выглядывая из-за домов, светило им в спину, и впереди по сизому асфальту медленно двигались их одинаковые по длине тени.
Кафе «Лель», куда они пришли, было переполнено, но им все-таки повезло: один стол в малом зале неожиданно освободился. Он был по соседству с банкетным, в котором гуляла свадьба, там громко играл оркестр и шли танцы. Все кружившиеся пары то и знай поглядывали на середину зала, где медленно и степенно двигались в вальсе жених и невеста. Антон поначалу тоже засмотрелся на молодых, но скоро спохватился, протянул меню девушке:
— Выбирайте, пожалуйста.
— Мне сухое вино и черный кофе, — не раскрывая меню, ответила она.
Антона это сразу обескуражило. Во-первых, он успел уже как следует проголодаться и с охотой поел бы что-нибудь горячее; а во-вторых, выходит, ему сегодня придется выказывать себя бог знает каким аристократом, цедить сквозь зубы это противное кислое вино, от которого всегда скулы воротит, да запивать его жидким пустым кофе. Что ни скажите, но не может он для своей лишь персоны заказать сытный ужин, выглядя в ее глазах этаким обжорой трехэтажным.
Недовольный Антон взял меню, стал листать и разом повеселел: в разделе вин он увидел «Твиши». Это теперь редкое, хотя и сухое, вино Антон терпел — оно не было особливо кислым, наоборот, слегка сластило и пилось приятно. К тому же он слышал, что девушкам «Твиши» всегда нравится. И он попросил принести две бутылки такого вина.
Но девушка запротестовала:
— Что вы… хватит вполне одной.
Официантка ей тоже поддакнула, мол, верно, пока одной достаточно, а там видно будет.
Спорить с ними смысла, конечно, не было — разве женщин переубедишь? — и Антон, поджав недовольно губы, распечатал принесенную официанткой пачку «Столичных» и предложил сигареты девушке. Та резко мотнула головой, зыбкая волна прошла по ее светлым волосам, падающим на плечи. Потом достала из сумочки свои сигареты и, прикуривая, опять щелкнула зажигалкой. «Ишь ты, гордая, — мелькнуло у Антона и голове. — Чужие не курит».
В эту минуту к ним подошел длинноволосый парень и, расставив ноги циркулем, застыл у стола выжидательно, приглашая девушку танцевать. Она едва заметно сморщила нос, нехотя положила в пепельницу горящую сигарету и, глянув на Антона вроде бы с укором, поднялась из-за стола, прямая и тонкая, пошла рядом с парнем в банкетный зал, где ярился оркестр.
«Вот и пусть с ним танцует, — подумал Антон, — ей под стать такой волосатик лохматый. Тоже мне гордая душа, красотка недоступная, сама же подсела к нему на бульваре, а теперь от его сигарет нос воротит, вина ей сухого подавай. А в своей компании небось за милую душу водку хлещет да соленым огурцом закусывает. Видели мы таких, видели. Точно так они воображают, идут и словно бы земли под ногами не чувствуют, а сами зимой по вечерам в подъездах дешевый портвейн потягивают вот с такими волосатиками».
Когда длинноволосый привел девушку к столу, официантка принесла уже вино и черный кофе. Антон больше особо не церемонился, тут же налил вина ей и себе, сказал небрежно:
— За ваше здоровье, леди… правда, рабу вашему Антону неизвестно еще, как вас зовут…
— Ариной, — просто сказала девушка и подняла свой бокал с вином.
Антон подивился ее редкому нынче имени и сразу вспомнил школу, Пушкина, его няню Арину Родионовну и свою бабушку. И в который уже раз ему ясно все привиделось: и небольшая поляна в болотистом лесу, и зеленые бугры землянок в низкорослом ольшанике, и вполсилы горящий костер, и чугунный котел с партизанским варевом. Весь отряд с утра ушел на задание, в лагере осталось только двое: безусый парнишка, что прирос с автоматом к рыжей сосне, да молодая партизанка кашеварила без отдыха у чугунного котла. А когда вечернее солнце запуталось в макушках сосен и погасло до нового дня, в лагерь нагрянули каратели, без шума сняли охрану, оцепили лагерь и схватили партизанку прямо у котла. Она опоздала поднять лежавшую на траве винтовку, но успела зачерпнуть ведром из котла и плеснуть кипящим варевом в лицо подскочившему к ней фашисту. Тот сразу упал, вереща по-звериному, стал кататься по земле, но остальные вмиг скрутили партизанку и живую затолкали в котел.
В то время ей шел двадцать девятый год и она не была еще бабушкой. Антон знает ее по фотокарточке, где она снята в полный рост, в военной гимнастерке и пилотке со звездочкой. Она стала бабушкой через пятнадцать лет после гибели, когда появилась на свет сестра Антона. Но имя бабушки так часто повторялось матерью, что Антону порой казалось, будто он знал бабушку живой.
— Мою бабушку тоже звали Ариной, — вздохнул Антон, доставая новую сигарету, и стал рассказывать, как погибла его бабушка.
Арина слушала Антона серьезно и молча курила, а когда он закончил рассказ, с печалью проговорила:
— Вот были люди!.. Теперь почти не осталось таких. Время их рождало, война…
— Я хоть сейчас пошел бы на войну, — с горячностью выпалил Антон.
— Пусть никогда ее не будет, — Арина встряхнула головой, и волны опять прошли по ее белым длинным волосам.
Из банкетного зала стали расходиться гости. Первыми покидали свадьбу пожилые, потом пошла молодежь. А вскоре предупредительно замигали и огни в люстрах: кафе уже закрывалось. И этот мигающий свет будто что-то надломил в Арине, она вдруг опустила низко голову, невесело задумалась, стала нервно затягиваться сигаретой.
Когда официантка подала счет, Арина взяла его и достала кошелек. Антон с удивлением смотрел, как она вынула оттуда рубль, второй, высыпала на ладонь монеты. Она положила на стол еще копеек тридцать, а остальную мелочь опять опустила в кошелек. Тут Антон не выдержал, сердито сказал:
— Что вы чудите весь вечер? — Он отодвинул ее рубли и выложил на стол пятерку.
— Не смейте за меня платить! — вспыхнула Арина, и ее синие глаза сразу потемнели. Потом уже спокойнее добавила: — Не обижайтесь, я никому этого не позволяю.
Официантка, забирая со стола деньги, вопросительно посмотрела на Антона:
— С вас четыре двадцать.
— Все, мы в расчете, — торопливо проговорил Антон и вслед за Ариной поднялся из-за стола.
Когда они вышли из кафе, Арина сама взяла Антона под руку, повела к трамвайной остановке. У светофора постояли, пока не зажегся зеленый свет, затем медленно пересекли почти пустой в этот час проспект.
— Какой теплый вечер, даже не верится, что осень, — подходя к остановке, сказала Арина. — Хоть ночуй на улице.
— А давайте всю ночь гулять, до самого утра, — предложил Антон, вспомнив, что мать уехала и теперь ругать его некому.
— Нет, у меня ноги от каблуков устали, — отказалась Арина.
— Тогда я провожу вас домой. Вы где живете?
Взглянув на часы, Арина сказала задумчиво:
— Половина двенадцатого. Домой меня уже не пустят… Придется мне, пожалуй, опять ночевать на вокзале.
Антон, ничего не понимая, часто заморгал глазами.
— Почему не пустят? — удивился он.
— Меня мачеха из дома выживает. А делает вид, будто мою нравственность блюдет. После десяти ни за что не откроет. Я звоню, звоню, потом махну рукой и еду на вокзал ночевать.
— А часто вы ночуете на вокзале?
— Когда домой возвращаюсь поздно. После работы иногда в библиотеке занимаюсь. В такие дни прихожу часов в двенадцать. А мачеха не верит, считает, что я бываю в веселых компаниях… Я же говорила, она спит и видит, как бы меня замуж выдать, все разных стариков для меня выискивает. Сегодня утром вот из Тамбова приехал ее лысый родственник, так она уже за него сватает. Оттого я и домой не пойду…
— Отец-то у вас есть? — участливо спросил Антон.
— Есть, а толку-то, он у нее под каблуком. Жаль его, да что поделаешь. Он иногда, когда выпьет, подойдет ко мне, прижмется лбом к щеке, виновато скажет: «Ты прости меня, доченька, слабовольный я. Она совсем меня одолела, дыхнуть без позволения нельзя, а поделать с собой ничего не могу. Люблю я ее, больше твоей матери покойной люблю, ты не сердись, ради бога. Я ведь всегда слышу, когда ты поздно звонишь, а отпереть не смею. Подушкой закрываю голову, чтоб звонков твоих не слышать, чтоб сердце не оборвалось. Не дай бог тебе, доченька, мой характер, пропадешь ни за что: влюбишься — на край света за ним пойдешь».
Антон разволновался, схватил Арину за руки.
— Пусть сквозь землю провалится ваша мачеха, — сказал он. — Вы сейчас ко мне поедете, я ж говорил, что один живу, мать к сестре уехала. Пожалуйста, выбирайте себе любую комнату и спите на здоровье.
— Что вы, Антон, разве так можно?.. — усмехнулась Арина. — Это опасно… вдвоем в пустой квартире…
— Да чего вы боитесь? — смущенно пробормотал Антон. — Вот увидите, я не какой-нибудь…
— Нет, Антон, спасибо, — твердо сказала Арина. — Я ведь и к подруге могла бы поехать, но не хочу. Уж такая я несуразная, независимость люблю… Ну, прощайте, Антон. — Она чмокнула его в щеку, напряженно улыбнулась и тут же вскочила в подошедший трамвай.
Не зная, что делать, Антон потоптался на остановке, зачем-то посмотрел на кафе, где уже погасли огни, и понуро побрел домой. Шел он медленно, заложив руки за спину, будто усталый старик. Тополиные листья, угнетенные дымом и пылью, до срока крапленные желтым, изредка шлепались на асфальт тротуара, и Антону казалось, что вовсе не листья это, а крупные слезы деревьев, которые плачут по теплому солнцу и ушедшему лету.
Навстречу ему попадались молодые парни с девушками, старики со своими старушками, люди среднего возраста. Страшась разлуки с недолгим бабьим летом, они никак не хотели забираться в каменные стены домов и все бродили, бродили по улицам. Антон подумал, что и ему еще рано возвращаться, да и как он может пойти спокойно спать, когда знает, Арина сейчас ходит по вокзалу, ищет себе место на диванах, плотно забитых пассажирами. Он тут же свернул к остановке и минут через пять сел в первый трамвай, идущий в сторону Рижского.
Как он и ожидал, народу на вокзале было много. В сентябре там всегда людно: студенты едут на учебу, курортники катят к морю на бархатный сезон, отпускники домой возвращаются. И вот среди этих людей где-нибудь сиротски притулилась в уголке Арина, его случайная знакомая, гордая несчастная душа. Антон осмотрел диваны с пассажирами в одном зале, в другом, но Арины не обнаружил. Он еще раз прошел по всем залам, подольше задерживая взгляд на молодых девушках с белыми волосами, и опять ее нигде не увидел. «Ну куда пропал человек? — с досадой подумал Антон. — Может, по улице ходит или на сквере сидит?»
Он вышел из вокзала, постоял у подъезда, озираясь по сторонам. Не найдя и тут Арины, ушел на сквер, присел на скамейку под каштанами и закурил. От деревьев и цветов несло свежестью и прохладой, но все равно даже в сквере было тепло, и с трудом верилось, что перевалило уже за середину сентября.
— Ну за что ты меня любишь? — вдруг сказал где-то совсем близко мужской голос.
Антон напряг зрение, пригнулся и только тогда различил справа от себя, в кустах два силуэта — мужской и женский.
— За все, — тихо ответил женский голос.
— Это слишком абстрактно.
— Абстрактно?.. Ха-ха-ха!..
— Конечно.
— Ну тогда мне нравятся… твои глаза.
— А это уже детали.
— И вот уши-детали… Ой, какие теплые, как насиженные гнезда.
— Оторвешь! — негромко вскрикнул мужской голос.
— А еще руки, от которых всегда чуть-чуть пахнет бензином, а еще ты сам зна…
Антон прикрыл ладонями уши: ему неловко стало подслушивать то, что предназначалось только для двоих. Посидел так. Но долго сидеть с закрытыми ушами было скучно, и он осторожно, чтобы не скрипнула скамейка, поднялся, незаметно вышел из сквера.
После этих слов неизвестной девушки ему еще больше захотелось отыскать Арину. Он вспомнил ее синие широкие глаза, белые волосы, по которым гуляли волны, яркую родинку на щеке. И ему вдруг подумалось, что Арина, может быть, тоже могла бы сказать ему такие же нежные слова, какие только что говорила кому-то неизвестная девушка.
Он опять зашел в зал ожидания и стал заново осматривать диваны с пассажирами. Одну девушку с белыми волосами, которая подперла подбородок руками и крепко спала, Антон признал за Арину, и с его губ едва не слетели слова: «Вот вы где!» — но в последнюю секунду он понял, что обознался. Какая-то старушка, так замотавшая себя вязаным платком, что был виден только ее длинный острый нос, с приближением Антона всякий раз хваталась обеими руками за лежавший на коленях узел, а потом вертела головой, как сова, не спуская с него глаз, и что-то шептала сидевшей рядом женщине.
Эта подозрительность старушки вскоре образумила Антона. В самом деле, что он бродит из зала в зал, присматривается к пассажирам, будто вор какой. Да и нет здесь Арины, может, она на Казанский уехала, на Курский, чтобы он ее не нашел. В Москве ведь девять вокзалов, попробуй угадай, на каком она. А может, все-таки домой решила поехать и мачеха ей открыла. Или стоит сейчас Арина за дверью, трезвонит, трезвонит, а отец, слыша звонки, трудно вздыхает да плотнее закрывает уши подушкой.
Антон еще раз посмотрел в зал и только теперь заметил: все диваны заняты, нигде не было ни одного свободного места. Он обругал себя. Выходит, зря и искал тут Арину. Вот чудак! Она потому и уехала на другой вокзал, что здесь негде было примоститься. Понимая, что дальше искать ее нет смысла, он вышел на привокзальную площадь и сел в трамвай, поехал домой.
Народу в трамвае было совсем мало, билеты в той и другой кассе уже кончились. Но Антон все равно опустил три копейки и только потом сел, прижавшись щекой к стеклу, стал смотреть в окно. Ночь все-таки позагоняла людей в дома, улицы теперь были пусты, редкие трамваи и троллейбусы шли в одном направлении — в сторону депо.
Скоро Антону надоело глядеть на бегущие навстречу дома, которые ночью казались одинаковыми, он отвернулся от окна, стал прислушиваться к песне, что пели в конце вагона молодые парни. Гитарист, слегка пощипывая струны, мечтательно смотрел в окно, а сидевшие с ним рядом парни вполголоса пели о тайге, которую нельзя вовек забыть. Песня Антону нравилась, и, подъезжая к своей остановке, он пожалел, что ему не удалось ее дослушать до конца.
Выйдя из трамвая у кинотеатра «Космос», Антон постоял немного на площади, посмотрел на белый в ночи памятник Королеву и повернул к Звездному бульвару. Обогнув кинотеатр, он вышел к липовой аллее и пошагал вдоль нее. А когда поравнялся со скамейкой, где они сидели с Ариной, опять вспомнил эту девушку с широкими глазами, и какая-то неясная тревога заняла его душу.
Антон поужинал и собирался лечь спать, но тут он снова вспомнил Арину, и его сердце на этот раз слабо заныло. Ему стало как-то не по себе, что он сейчас ляжет в теплую, мягкую постель, а Арина будет всю ночь в полусне-полудреме маяться на жестком вокзальном диване, поеживаясь от холода в своем легком платьице. Закурив сигарету, он сел в кресло и подумал о том, что ему, собственно, ничего не стоит объехать все вокзалы и разыскать Арину, ведь она не иголка и не может затеряться бесследно. В конце концов он обшарит каждый вокзал и все равно ее найдет, а потом привезет к себе, и пускай она преспокойно спит в комнате матери. Рассудив таким образом, он набросил на плечи новый пиджак и, не мешкая ни минуты, вышел из дому.
Во втором часу ночи рассчитывать на автобус было пустым делом, но Антона это не остановило. У него еще оставалось рублей восемнадцать, так что вполне мог он раскошелиться на такси, благо машины с зелеными огоньками мыкались по городу круглосуточно. У ближайшего перекрестка он поймал свободную машину и через каких-нибудь десять минут уже был на Комсомольской площади, у трех вокзалов, где, по его разумению, вероятнее всего могла быть Арина. Она и на самом деле оказалась там. Едва он вошел в зал ожидания Ленинградского вокзала, как сразу увидел Арину, которая притулилась на диване между крупнолицей смуглой женщиной и худеньким стариком с узкой серой бородкой. Смуглая женщина, откинув голову на спинку дивана, вовсю спала, слегка похрапывая, а старик пока бодрствовал, читая толстую потрепанную книжку. Арина сидела прямо, чуть склонив на грудь голову, держа в руках черную сумочку, и, видимо, только что начинала засыпать. Ее сумочка постепенно скользила вниз, и Арина это чувствовала, то и дело перехватывала ее руками и снопа плотнее прижимала к себе.
Антон с расплывшимся в улыбке лицом остановился напротив и некоторое время молча глядел на ее чуть приоткрытые в полусне губы, на белые волнистые волосы. Старик с узкой бородкой тут же перестал читать и с любопытством уставился прищуренными глазами на Антона, слабо повел плечами. Этого его еле заметного движения, видимо, было достаточно, чтобы Арина проснулась. Она вдруг открыла широкие глаза и, увидев перед собой Антона и вроде бы не сразу признавая его, облаченного теперь в новый синий пиджак фасона а-ля капитан, вначале, кажется, застыдилась, во всяком случае ее прежде бледные щеки почему-то тотчас зарозовели.
— Антон?! Откуда вы взялись?.. — тихо, почти шепотом спросила она, видно боясь разбудить спящих рядом людей.
— Вот за вами приехал… — радостно сказал Антон, словно встретил близкую родственницу или очень хорошую знакомую, которую давно не видел.
Арина пристально посмотрела на него, но ничего не ответила, лишь молча отвела назад спадавшие на грудь волосы. Старик с узкой бородкой снова уткнулся в свою книжку, но, конечно, не читал, а украдкой косил глаза в сторону, с еще большим любопытством следя за Антоном.
— Я такси не отпустил… оно ждет там… — Антон суетливо кивнул в сторону выхода.
— Что за нужда вам всю ночь колобродить?.. — пожимая плечами, сказала Арина.
— А-а, пустяки, ерунда… — усмехнулся Антон и, подавляя свою робость, осторожно взял ее за руку, решительно предложил: — Ну поехали, прошу вас, поехали…
На сей раз Арина еле заметно, как-то затаенно улыбнулась и покорно встала, быстро пошла к выходу, огибая диваны, на которых чутко спали пассажиры. Антон пошагал с ней рядом, довольный тем, что все-таки увел ее из этого погруженного в непрочный сон человеческого муравейника, что выказал наконец свою волю, которую следовало проявить еще раньше, когда они вышли из кафе.
В два часа ночи они подъехали к его дому, поднялись на восьмой этаж, как можно тише прикрыли дверь лифта и, ступая осторожно, без шума, прошли в квартиру, чисто прибранную еще матерью. Мебель в ней была недорогая, но мать сумела ее так расставить, что квартира выглядела нарядной и просторной, соседки, часто забегавшие к матери по разным делам, всегда удивлялись: «Хорошо-то как у тебя, Аверьяновна!.. У нас ведь точно такая, а твоя почему-то кажется намного больше».
Антону хотелось, чтобы Арине квартира тоже понравилась, ради этого он зажег свет на кухне, во всех комнатах, у письменного стола включил торшер. Но Арину его иллюминация не порадовала, напротив, ее вроде раздражал яркий свет от множества ламп, и она, войдя в первую комнату, остановилась у самой двери, недовольно сощурила сонно-усталые глаза. Антону еще показалось, что Арина немного оробела и неожиданно сникла, во всяком случае она плотно прижала к груди свою черную сумочку, опустила голову и настороженно молчала. О чем она думала в эту минуту, что ее тревожило? Может быть, ей стало боязно, что среди глубокой ночи оказалась в квартире почти незнакомого парня, может быть, ее страшила и угнетала неизвестность?
Антона и самого вдруг охватила удручающая скованность. Когда они сидели вечером в кафе, затем гуляли по улице, он мог там, на народе, с ней говорить, казалось, о чем угодно, а сейчас у него вылетели из головы все мысли, прямо-таки отнялся язык. Впервые очутившись в пустой квартире наедине с незнакомой девушкой, Антон сразу растерялся и стыдливо прятал от Арины глаза. Потом он вспомнил, как она внимательно слушала его рассказ о бабушке, быстро прошел в глубь комнаты и, показывая на увеличенную им самим фотографию, что висела на стене в белой рамке, неожиданно сказал:
— Вот ваша тезка…
Арина долго стояла рядом с Антоном, изучающе разглядывала еще совсем молодую красивую женщину в военной гимнастерке, опоясанную ремнем со звездочкой на пряжке; темные густые волосы у нее выбились из-под пилотки и скручивались по вискам в кольца, на груди чуть повыше кармана светлел какой-то довоенный значок.
— Доброе лицо у вашей бабушки, — в тихой задумчивости проговорила Арина. — Глаза такие чистые, безгрешные… Знаете, а вы похожи на свою бабушку, у вас тоже открытое лицо. Вам можно сразу поверить. Я это поняла еще на бульваре, у «Космоса».
— А сами поехали на вокзал, — напомнил ей Антон — Вы вначале меня боялись, правда?
— Нет, нисколько, — мотнула она головой. — Я же говорю, я вам поверила. А вы стали меня жалеть…
У Арины уже не было той настороженной оробелости, какую Антон в ней заметил, когда они только что вошли в квартиру, во всех ее движениях появилась прежняя резковатость, она опять казалась гордо-независимой и простой. По разбросанным на письменном столе книгам и конспектам, по свернутым в трубки листам ватмана она сейчас же угадала, в каком он учится институте, а увидев грампластинки Карела Готта, радостно воскликнула:
— О, вы тоже любите Карела!.. Это чудо-соловей с серебряным голосом. Я могу его слушать бесконечно.
Такая, прежняя, Арина, которая не замыкалась в себе, была Антону понятнее, и он сразу почувствовал некоторую раскованность, к нему снова вернулась обычная веселость. Антону даже захотелось немедленно сделать Арине что-нибудь приятное, и он, недолго думая, придвинул радиолу к электрической розетке, перебирая на столе пластинки, спросил:
— Завести вам Карела?
— Бог с вами, Антон! — не на шутку испугалась Арина. — Уже два часа ночи. Вы всех соседей на ноги поднимете, они вас могут поколотить.
Понимая всю никчемность своей затеи, Антон уже готов был от нее отказаться, но по причине вдруг нахлынувшей на него дурашливости все-таки слабо настаивал:
— Я тихонечко-тихонечко.
— Все равно не надо, — снова возразила Арина и села в кресло, руки положила на плотно сжатые колени.
Стоявший у стола Антон только теперь увидел, какие длинные и красивые у Арины ноги. Его сестра Наталья до замужества все хныкала, страдала, что ее ноги слишком полны и коротки. Антона тогда смешила печаль сестры, он был уверен, у нее хорошие ноги. А сейчас он понял, как проиграли бы ноги Натальи, окажись она рядом с Ариной.
— Тогда я вас угощу чаем, — сказал Антон, вспомнив, что Арина в кафе ничего не ела, а только выпила два бокала вина и чашечку кофе.
— Спасибо, Антон, я ничего не хочу, — вежливо отказалась Арина. — Я вот только душ холодный приняла бы.
Антон сейчас же нырнул в ванную комнату, быстро сгреб в охапку висевшее там на веревке кой-какое белье, запихал его в эмалированный бак, прикрыл крышкой. Секунду подумав, отвязал еще веревку, спрятал ее туда же. Потом ополоснул горячей водой ванну, отыскал и повесил на крючок два чистых полотенца: одно большое, банное, другое маленькое, и, выскочив из ванной с повлажневшим от излишней суеты лицом, сказал:
— Пожалуйста, можете купаться.
Пока она принимала душ, Антон достал из шкафа свежие простыни, выстиранные и поглаженные матерью, из ящика для белья вытащил одеяло с подушкой, все это аккуратно положил на диван, который стоял во второй комнате, и, думая, что бы еще ему сделать, стал бродить по квартире. Один раз он приблизился почти к самой двери ванной, вслушиваясь в плеск падающих струй, представил Арину обнаженной, казалось, даже явственно увидел, как вода стекала с ее чуть покатых плеч, и, охваченный непонятным волнением, поспешно удалился в комнату. А через минуту вышел на балкон, поглядел на ночной бульвар, где в этот час было скучно и не по-городскому тихо. Огни в окнах домов не горели, уличные фонари светили тускло, деревья с кустами казались сверху черными, неживыми. И лишь вездесущие такси изредка сверлили темноту зелеными огоньками, на малый миг разливали шум по бульвару, как бы напоминая людям, что в этом огромном городе ночью никогда все не спят, кто-то обязательно бодрствует, кто-то куда-то торопится, кто-то кого-то ждет.
Корда он вернулся в комнату, Арина уже вышла из ванной и стояла в своем синем платьице посреди прихожей. На этот раз он все-таки уговорил ее выпить чаю, и они еще немного посидели на кухне. За чаем Арина рассказала, что она второй год работает медсестрой и скоро собирается уехать на Север, где, по ее словам, живут лишь отважные люди, рядом с которыми и слабый становится сильным.
— А вы разве слабая? — спросил у нее Антон.
— О себе судить трудно, — неопределенно ответила Арина. — Это виднее со стороны.
После чая он провел ее в комнату матери, пожелал спокойной ночи и тут же вышел. Арина закрыла за ним плотно дверь и, видимо, стала укладываться. Антон слышал, как за дверью шелестело белье, как поскрипывал диван, потом щелкнул выключатель, и все стихло.
Посидев немного в кресле, Антон снял с руки часы, которые показывали без десяти три, завел на половину восьмого будильник и принялся разбирать постель.
Утром Антон проснулся рано. Еще не зазвенел будильник, а он уже вскочил с постели, быстро натянул на себя рубашку с брюками и сразу подошел на цыпочках к двери, что вела в комнату матери, чутко прислушался. В комнате была полная тишина, живой душой там вроде и не пахло. Неужто Арина встала еще раньше и тайком ушла, не сказав ему ни слова? У него даже во рту пересохло от такой мысли. Затаив дыхание, он опять прислушался, но за дверью по-прежнему не было каких-либо признаков жизни. Начиная уже верить в столь внезапное исчезновение Арины и жалея об этом, Антон чуть приоткрыл дверь, осторожно просунул голову в комнату и сразу убедился, что ее там не было. Как и вчера, на диване аккуратной стопкой лежали свернутые им простыни, одеяло, наволочки и рядом белел маленький листок, вырванный из записной книжки. Он тут же взял его и пробежал глазами по строчкам, написанным мелким неровным почерком:
«Милый Антон! Спасибо Вам за все хорошее. Мне надо было уезжать в шесть. Так рано вас будить не хотелось. Я, вероятно, к вам еще зайду. Арина».
Прочитав записку, Антон сначала улыбнулся: ему было приятно, что Арина называла его «милым». А через минуту он уже хмурил брови: его резануло слово «вероятно». Выходило, что она колебалась, еще сама не была уверена, стоит ли к нему заходить. Подумаешь, ну и пускай не заходит. Она потому и убежала так рано, что решила забыть об этом случайном их знакомстве, покончить с его навязчивостью. Разбуди она его утром, пришлось бы ради приличия вести разговор о новой встрече, давать ему свой телефон, а так все решалось очень просто и вроде она оставляла ему какую-то надежду: я к вам, может быть, зайду. Но сама, конечно, и не подумает зайти. Ну что ж, это, разумеется, ее право, она вольна поступать так, как сочтет нужным. Вполне возможно, что Арина тут же забудет его адрес, если уже не забыла. Да в темноте она, наверное, и не разобрала номер дома.
Уже сидя за завтраком, он вспомнил, что Арина сказала, будто собирается уезжать на Север. И вроде скоро. Видимо, вот с этим она и связывала слово «вероятно», боялась, закрутится перед отъездом и не сможет к нему зайти. Но тогда и сердиться на нее глупо, она все честно написала. Только вот одно непонятно: какая нужда ее туда гонит, что она забыла на этом Севере? Да и как ей не боязно при своей хрупкости рваться из веселой, уютной Москвы куда-то на край света, в царство белых медведей, в объятья полярной ночи. Уж не собралась ли Арина к жениху? Ведь куда-то туда весной уехала с бородатым полярником студентка ихнего курса. Вот и Арина, может быть, завела себе полярника, какого-нибудь лихого морячка, что мутит холодные воды своей грузной посудиной. Недаром она уверена, будто там живут лишь смелые да сильные люди.
— Ну и попутного ей ветра! — вслух сказал Антон и, стараясь больше не думать об Арине, стал собираться в институт.
А через минуту он опять о ней думал. И через час думал, и на другой день, и на третий… Антон почему-то верил, что Арина к нему зайдет, и всю следующую неделю сидел вечерами дома. Он, как и прежде, с утра уезжал в институт, не пропускал ни одной лекции, но в библиотеке уже допоздна не засиживался, домой возвращался всегда засветло.
Дома он находил себе какое-нибудь дело, хотя занимался им рассеянно, без особой охоты и каждую минуту прислушивался к ходу лифта. Если его дверь хлопала на восьмом этаже, Антон сейчас же настораживался, ожидая звонка в квартиру. Но ему никто не звонил, и огорченный Антон окончательно терял интерес к своему занятию, начиная расхаживать по комнатам, вспоминал Арину, казалось, даже рядом слышал ее низкий, чуть глуховатый голос.
Укладываясь спать в первом часу ночи, он всякий раз зарекался ждать впредь Арину, но наступал новый день, и Антон опять после лекций торопился домой, опять весь вечер никуда не выходил из квартиры. Он как бы не по своей воле вдруг стал таким прилежным домоседом, что поверг в уныние Игоря Уланова. Когда он отказался пойти с Игорем в кино, чего раньше с ним никогда не бывало, тот увидел в этом недобрый знак и сейчас же прибежал к Антону, дабы воочию убедиться, не рехнулся ли, случаем, его старый друг. Но зато мать, дважды звонившая из Ташкента, напротив, не могла никак нарадоваться на своего «послушного сыночка», ее до слез тронуло, что Антон в семь часов вечера был уже дома, а не мыкался, как прежде, до полуночи по городу.
К концу второй недели своей самостоятельной жизни Антон вдруг обнаружил, что холодильник, который мать перед отъездом набила разными продуктами, основательно опустел. Ни сырокопченой колбасы, ни ветчины, ни любимого им с детства сыра, оказывается, там уже не было. И только на самой нижней полке сиротливо зеленела небольшая баночка зернистой икры. Антон достал эту баночку, повертел в руках, намереваясь открыть ее на завтрак, но потом передумал, поставил на место: он все-таки надеялся, что Арина может к нему неожиданно зайти, и хотел сберечь икру на тот случай.
Вдобавок ко всему у него на исходе был и сахар, кончался даже чай. Обшаривая закутки в буфете, он разыскал лишь совсем маленькую, двадцатипятиграммовую, пачку краснодарского чаю, по распечатывать ее пока не стал все по той же причине. Еще он наткнулся в буфете на пакетик растворимого кофе, в свое время кем-то подаренный матери, точно такой, какие обычно дают пассажирам в самолете. Заварив себе чашку кофе и бросив туда три кусочка сахару, Антон выпил его вместо завтрака и, чувствуя прежнюю пустоту в желудке, ругнул Костю Чурикова.
Потом, когда он ехал в автобусе, сидел на лекциях, его мысли все вертелись вокруг Кости, который, как вышло на поверку, резал его без ножа. Обещая вернуть долг дня через три, он до сих пор не отдал ему ни копейки. И что было удивительно, сам Костя об этом не заводил и речи, больше того, всю минувшую неделю он вроде бы от него прятался. В аудиторию Костя Чуриков теперь вбегал за несколько секунд до начала лекции, садился подальше от Антона, где-нибудь у самой двери, а в перерыве выскакивал в коридор первым и куда-то исчезал. Если ненароком он все же сталкивался нос к носу с Антоном, то молча и с поспешной торопливостью пожимал ему руку и тотчас отходил в сторону, начинал заговаривать с кем-нибудь из девушек. Со стороны можно было подумать, что Антон в чем-то провинился перед Костей и тот, естественно, сердился на него, не хотел с ним разговаривать.
Но сегодня Антон решил во что бы то ни стало поговорить с Костей и весь день усиленно охотился за ним. И как бы ловко Костя ни ускользал от Антона, после лекций он все-таки подстерег его у самого выхода из института. Когда тот с двумя студентками первого курса пробегал мимо, делая вид, что его не замечает, Антон придержал Костю за локоть и неожиданно для Чурикова спросил:
— Ну как твоя теща… прилетела?
— Да лучше б она совсем там осталась… — затравленно глядя по сторонам, сказал Костя. — Ты потерпи, старик, я сам страдаю… — добавил еще Костя и тут же метнулся к выходу, догоняя студенток.
Слова Кости как кипятком ошпарили Антона. Раньше он все надеялся, что не сегодня, так завтра Костя вернет ему долг, а тот, оказывается, пока не собирался его возвращать. Ведь Костя ясно и прямо сказал: потерпи. Но вся беда в том, что Антону было невмоготу терпеть. Во время последней лекции он дважды проверял свои карманы, а все равно наскреб там лишь… двадцать семь копеек. Правда, перед самым обедом у Антона было рубля полтора, но потом, как назло, в перерыве между лекциями к нему подскочила Люся Тюльпанкина, шустрая активистка их курса. Надо сказать, эта стриженная под мальчишку студентка всегда возникает рядом, когда ее не ждешь. Вот и сегодня она схватила Антона за пуговицу на рубашке и неприятным голосом проверещала:
— А-а, Сеновалов!.. Ты-то мне и нужен, я тебя не охватила!.. Ну-ка выкладывай рубль двадцать… В пятницу у нас экскурсия по усадьбам Подмосковья…
Антон, конечно, не мог признаться, что у него и денег-то кот наплакал, а потому небрежно достал из кармана юбилейный рубль, протянул Тюльпанкиной. Потом еще положил ей на ладонь двугривенный. А теперь вот он сидел с опущенной головой в автобусе, рассеянно поглядывал в окно и думал только об одном: где ему раздобыть хоть немного денег.
В четвертом часу дня Антон вышел у нового мебельного магазина, подле которого суетилось десятка полтора покупателей, стояли легковушки, большие крытые машины. Перед входом в магазин, с одной и с другой стороны от распахнутых дверей, сверкали лаком распакованные диваны, шкафы, кресла, стулья. От новой мебели приятно пахло деревом и краской. Антон немного повертелся у огромных витрин, обдумывая, как и с кем лучше начать разговор, и, увидев молодого парня в темно-сером комбинезоне, подошел к нему, спросил, не нужны ли им почасовые грузчики. Парень минуты две не отвечал, будто его не слышал, потом направился к большой крытой машине, кивком головы приглашая Антона следовать за ним.
— Тарасыч, тут один хочет косточки поразмять, — сказал парень. — А у нас с обеда Сашко загулял. Вот я и подумал…
Возле крытой машины на фанерном ящике сидел широкий в плечах мужчина лет пятидесяти и что-то жевал. Он без всякого интереса посмотрел на Антона и вроде бы нехотя просил:
— А ты кто такой будешь?
— Никто… человек, — ответил Антон.
— Студент, наверно… — предположил парень, который тоже стоял рядом.
— Да, студент, — кивнул Антон.
— Так бы сразу и говорил, — проворчал Тарасыч и достал сигарету, стал прикуривать. — Тогда все понятно, дело молодое, за девицами бегаешь… А в таком разе без денег тоска. Скажем, в кино или там на концерт бесплатно пока не пускают. Вот и выходит нашему брату сплошной разор. А куда от этого денешься? Уж такая доля мужская. Ну, верно я толкую али нет?
— Я не знаю… — Антон пожал плечами.
— Ты со старшими не спорь, это нехорошо, — недовольно сказал Тарасыч. — Мне все шалости ваши знакомы, как-нибудь сам молодым был. Пускай я в студентах не ходил, а за институтками — не веришь? — ухаживал… Ей богу!.. Ты лучше вот что скажи, сколько хочешь подработать?
— Да мне хотя бы рубля три… — признался Антон.
Тарасыч чиркнул спичкой, зажег погасшую сигарету, задумчиво глядя на Антона, на его еще жидкие плечи, которым было свободно в купленной матерью на вырост рубашке, с плохо скрытым сочувствием сказал:
— Стало быть, ты, студент, совсем на мели, я так понимаю.
— А что ж отец тебе трешку не даст? — удивился парень.
— Нету у меня отца, — тихо ответил Антон.
— Ладно, будем считать, познакомились, — кладя ему на плечо тяжелую руку, заключил Тарасыч. — А ты, Аркаша, поторопил бы диспетчера, что они там чешутся, в самом деле. Небось опять лясы точат…
Парень в темно-сером комбинезоне сбегал в магазин и скоро вернулся с полной девушкой с завивкой под негритянку. Мельком глянув на Антона, девушка повернула лицо к Тарасычу, протянула ему какие-то бумаги.
— Можете грузить, — сказала она и опять посмотрела на Антона. — Тут два гарнитура, оба в Сокольники.
Аркаша сразу, сел за руль крытой машины и запустил мотор, стал подавать ее назад, то и дело сигналя, к распакованной мебели. Тарасыч, идя рядом, подсказывал ему, когда в какую сторону надо вертеть рулем, наконец вскинул и резко опустил руку, одновременно выкрикнул: «Хорош!» Аркаша вылез из кабины и, открывая двери-створки кузова, подмигнул Антону:
— Ну что, малось разогреемся?..
До вечера они отвезли и подняли на этажи два гарнитура. При этом Тарасыч с Аркашей работали легко, сноровисто и вроде не уморились. Антон, старавшийся от них не отстать, под конец с непривычки как следует упарился, хотя Тарасыч и не позволял ему поднимать самое тяжелое из мебели. Когда по дороге домой он зашел в магазин, у него рубашка на спине была мокрая, по вискам еще стекали редкие капли пота, влажные волосы липли ко лбу. И тем не менее Антон был доволен, как-никак ему подвезло, всего за четыре часа заработал шесть рублей. В его положении это не такие уж малые деньги, считай, на неделю он себя обеспечил, на обеды и завтраки как-нибудь хватит, а от ужина он готов и сам отказаться, его все равно, говорят, лучше отдавать врагу. Словом, он теперь проживет эту неделю, а там получит стипендию, потом, глядишь, Костя вернет ему долг.
В магазине, как нарочно, продавали миноги, расфасованную семгу, в фруктовом отделе были астраханские арбузы, крупный болгарский виноград. В другой бы раз Антон не вернулся домой без арбуза или кусочка серебристо-розовой семги, но сегодня он был вынужден экономить и не поддался подобному соблазну. Чтобы напрасно себя не искушать, он скорее заплатил за три пакета молока и два батона хлеба и сейчас же выскочил из магазина, прижимая к груди покупки, торопливо пошагал домой.
У подъезда его дома в это время заседало «народное собрание». Кто-то из жильцов уже давно так прозвал бабушек-старушек, что все дни напролет сидели на длинной скамейке у самого крыльца. Не то мальчишки, не то взрослые не раз утаскивали эту скамейку подальше от подъезда, ставили ее в зелень двора, где и воздух чище, и покою больше, но через день-другой она почему-то опять оказывалась на старом месте. Сколько Антон помнил, «народное собрание» неизменно заседало справа от крыльца, где не было ничего живого: ни кустика, ни цветочка, ни зеленой травинки. Чем именно это голое место приманивало старушек, никто точно не знал, а были на сей счет только разные догадки. Одни считали, будто бы старушки обосновались на пятачке для того, чтобы приглядывать за подъездом, следить, как бы туда не вошел чужой недобрый человек, другие уверяли, что все объясняется любопытством старушек, которым хотелось побольше узнать о жизни обитателей дома.
Антону говорить со старушками было не о чем, и он, как правило, с ними в беседы не вступал. Он всякий раз только бросал им на ходу «Добрый день!» — и тут же взбегал на ступени крыльца, скрывался за дверьми парадной. Сами старушки с ним тоже не заговаривали, они лишь молча и вяло кивали в ответ на приветствие. А сегодня его вдруг окликнула толстая угрюмая старуха, что жила с ними на одной площадке и которую мать недолюбливала за длинный язык.
— Антон, тут к тебе невеста приходила, — с неприятной ухмылкой громко доложила она.
— А ты откуда знаешь, что к нему? — возразила ей соседка по скамейке, щупленькая старушка с маленькой седой головой. — Может, она твоего внука разыскивала. Чего зазря выдумываешь…
— К нашему такие крали не ходят, — стояла на своем угрюмая старуха.
Антон подумал, что это могла быть Арина, обещала же она зайти к нему, и, не скрывая радости, спросил нетерпеливо:
— Она меня искала, да?
— Ничего она не сказала, но я сразу догадалась, кто ей нужен, — уверенно заявила толстая старуха. — Это та самая, с длинными волосами, что как-то утром от тебя выходила, когда мать уехала.
— Ах, вот оно как… — только выдавил из себя обрадовавшийся Антон и скорее шмыгнул в подъезд.
Его с самого утра одолевал голод, и, вбежав в квартиру, он прежде всего поел хлеба с молоком и лишь потом сбросил с себя пропахшую потом рубашку, до пояса умылся холодной водой и надел красную футболку. Когда уже причесывался перед зеркалом, в квартиру кто-то позвонил. Он сразу кинулся открывать, надеясь, что это Арина, но оказалось, пришла тетя Настя. Антон ей тоже обрадовался, он любил свою тетю, которая была намного старше его матери и давно находилась на пенсии. После гибели отца пятилетнего Антона мать частенько отвозила к тете Насте, тогда она от какой-то швейной мастерской портняжничала на дому и заодно приглядывала за ним. С той поры у него и осталась нежная привязанность к родной тете.
— Ну как ты тут без матери? — заботливо спросила тетя Настя, часто помаргивая добрыми светлыми глазами. — Худо небось одному-то?..
— Ничего, пока терпимо, — бодро ответил Антон, боясь не только ей, но и себе признаться, что без матери ему жилось хуже.
— Гляди-ка, а ты что-то осунулся, — с тревогой сказала тетя Настя. — Не захворал ли, чего доброго?
— Что вы, мне это ни к чему, — усмехнулся Антон и снял с тети Насти старенький темно-синий плащ, взял у нее и поставил в угол большой черный зонтик, без которого она никогда не выходила из дому.
Оглядев бегло прихожую и первую комнату, тетя Настя была, видимо, довольна чистотой, какую он с трудом там поддерживал, и прошла прямо на кухню, вытащила из сумки-плетенки что-то завернутое в фольгу, положила на стол. Антон тут же догадался, что там было, лучше тети Насти никто в их родне не мог печь такие воздушные и вкусные пирожки, которые сами во рту таяли, и вот она принесла ему этого своего домашнего гостинца. Развернув фольгу, тетя Настя выложила пышные румяные пирожки в кастрюлю, поставила их в духовку, зажигая газ, сказала ласково:
— Поешь сейчас горяченьких, а то совсем отощал, моя бедная сиротинка. Мать увидела бы, испугалась. Не приведи господь, как похудел, прямо не знаю, что и подумать. У тебя хоть еда какая-нибудь есть дома, или ты только в буфете питаешься, на одних бутербродах сидишь?
— Все время была, а сегодня кончилась, — ответил Антон и налил в чайник воды, поставил его на конфорку. — Правда, еще банка икры осталась, — добавил он, присаживаясь к столу.
Словно не веря Антону, тетя Настя открыла холодильник, заглянула в его чрево, потянула на себя дверцу морозильника и, убедившись, что там и в самом деле ничего не было, с осуждением покачала головой:
— Батеньки мои, хоть шаром покати… Выходит, он у тебя зазря электричество жрет!.. Нет, Антоша, так дальше нельзя… Ты что, деньги надумал экономить? А может, прокрутил-провертел уже все? Вы, молодые, на такое дело больно скорые. Мать говорила, две сотни тебе оставила. Ты скажи, деньги-то у тебя еще есть?
— Конечно… куда они делись, — с некоторой заминкой проговорил Антон, глядя в сторону.
Эта легкая заминка, с какой Антон ответил, сразу была замечена тетей Настей. Она хорошо знала, ее любимый племянник не умел врать, и то, что он прятал от нее глаза, ее настораживало, заставляло думать, что у него не все ладно с деньгами.
— Ты где хоть деньги держишь? — поинтересовалась тетя Настя. — Гляди, с собой их не таскай, а то еще стянут. Потом голодным находишься. У тебя сколько денег-то осталось? Покажи-ка давай мне.
— Да при себе у меня мало, — честно признался Антон. — Всего рублей пять с мелочью.
— А где же остальные? — испугалась тетя Настя.
— Они, можно сказать, на сберкнижке, — слегка краснея, улыбнулся Антон.
— Это как же понимать? — спросила недоуменно тетя Настя, разводя руками.
— Ну взаймы я тут дал, — беспокойно ерзая на стуле, ответил Антон, заранее предчувствуя, что тетя Настя будет его ругать.
— Кому же ты отвалил столько денег? — суровея лицом, недовольно проговорила тетя Настя.
— Костя Чуриков попросил, — сбивчиво стал пояснять Антон. — Его жене кожаное пальто предложила, ну и срочно деньги потребовались. Теща у него тогда еще в Сочи отдыхала, а больше ему, сказал, взять было не у кого. Только сотни три не хватало, все-то пальто девятьсот стоит.
После его слов тетя Настя обхватила лицо руками и, склонившись над столом, долго сидела молча. Уже закипел чайник, его крышка, подпрыгивая, пронзительно позванивала металлом, но тетя Настя, казалось, ничего не слышала, будто была оглушена. Наконец она отняла от лица руки, и Антон увидел, что тетя Настя плачет. Он растерялся от ее слез, вскакивая со стула, спросил упавшим голосом:
— Тетя Настя, что с вами?
— Господи, ну в кого ты удался у нас такой простофиля!.. — вытирая слезы, горестно воскликнула она. — Точно батька свой, никому ни в чем отказать не можешь. Тот и в сырую землю ушел из-за своей доброты. Пожалел напарника, подряд две смены отработал…
— А на добрых, тетя Настя, мир держится, — сказал Антон.
— А где нынче добрые, укажи мне? — спросила тетя Настя. — Может быть, Костя твой добрый?.. Он, проходимец этакий, в сыру да масле купается, а у тебя последнее забирает. Как же это ты мог отдать ему все деньги?
— Но я не имел права друга не выручить, — попытался возразить Антон.
— Как ты смеешь это говорить?.. Какой он тебе друг?.. — возмутилась тетя Настя и стала ходить взад-вперед по кухне, глухо постукивая разношенными туфлями. — Нашел несчастного человека, который в беду попал. Твой Костя к сладкой жизни потянулся, у него еще усы не выросли, как он скорее женился, боялся, вдруг кто-нибудь генеральскую дочку перехватит. А ты, доверчивый простофиленька мой, оказывается, обязан его выручать. Нет, это просто уму непостижимо!.. Он, видишь ли, с жиру бесится, жене пальто за сумасшедшие деньги покупает, а ты ради этого должен голодным сидеть, во всем себе отказывать. Теперь мне понятно, почему у тебя щеки ввалились, шея стала как у цыпленка. Я вот возьму и позвоню твоей матери, пускай она знает, как ты себя тут ведешь…
— Ну что вы, что вы, тетя Настя, — испугался Антон. — Зачем же мать расстраивать напрасно. Я ведь голодным не хожу. А Костя на днях вернет мне долг. Да еще стипендию через неделю получу. Денег у меня скоро будет много.
Тетя Настя махнула рукой, печально вздыхая, проговорила:
— Никогда у тебя не будет их много, не такой ты человек… Эх, Антоша, Антоша, пропадешь ты ни за что со своей добротой. Разве можно нынче жить с душой нараспашку, если кругом развелось столько хитрецов да всяких там обманщиков…
Слушая тетю Настю, Антон подумал, что она такая же чудачка, как и его мать. Эта в каждом человеке видит обманщика, матери изо дня в день всюду мерещатся одни воры да мошенники, они ей каждую ночь снятся. Если верить им, то, выходит, людей хороших больше не осталось, по словам матери, все они полегли на войне, как и бабушка. Но это неправда. Вот взять хотя бы Тарасыча, разве назовешь его плохим, когда он пожалел совсем чужого человека, которого впервые увидел, не разрешил ему поднимать тяжелый шкаф? Но тете Насте говорить об этом он не стал, так как заранее знал, что ни ей, ни матери никогда ничего не докажешь.
Вскоре тетя Настя вытащила из духовки кастрюлю с пирожками и тут же усадила Антона за стол, велела ему есть пирожки, пока они горячие. Ее «фирменные» пирожки оказались, как всегда, вкусными, и Антон ел и похваливал. Это было приятно тете Насте, она сразу повеселела, стала расспрашивать, давно ли звонила мать, как она себя чувствует в Ташкенте. А перед уходом даже дала Антону десятку, от которой он вначале упорно отказывался.
Проводив тетю Настю на автобус, Антон вспомнил, что утром забыл взять газеты, и на обратном пути открыл почтовый ящик, где среди газет обнаружил белый продолговатый конверт, на котором было аккуратно написано: «Антону». Он тут же, не входя в лифт, нетерпеливо надорвал конверт и прочитал совсем коротенькое письмо:
«Жалко терять людей добрых, но мы часто их теряем. Так уж устроена жизнь… Завтра я улетаю на Север, и мне хотелось бы еще раз Вас увидеть. Если сможете и будет желание меня проводить, приезжайте в пять часов вечера в Шереметьево, Арина».
Антона расстроило письмо Арины, он поднялся к себе в квартиру и какое-то время неприкаянно бродил из комнаты в комнату, лихорадочно думая, как ему поступить. Первым его желанием было отговорить Арину от поездки на Север, любой ценой удержать ее от этого шага. Вполне вероятно, что она и едет-то туда не по своей воле, может быть, доведенная до отчаяния мачехой, она вынуждена без любви выходить замуж за какого-нибудь пожилого капитана дальнего плавания, этакого бывалого морского волка, который ни на минуту не выпускает изо рта причудливо изогнутой трубки. А вот он возьмет и поломает сей неравный брак.
Правда, Антон понимал, что сделать это не так-то просто, ведь Арина ему не жена и не невеста, она может его и не послушаться. Выходит, чтобы ее задержать, ему надо на ней жениться. Ну что ж, лишь бы она согласилась, а он хоть сейчас готов на это. Вот завтра прямо из аэропорта увезет ее к себе, а на другой день пойдут они в загс и встанут на очередь. А когда вернется мать, сыграют свадьбу. Конечно, мать вначале всполошится, будет кричать, плакать, грозиться, что выгонит его из дому. Больше всего станет пугать по линии материальной, мол, как же он будет содержать себя и жену на свою стипендию, когда ему и одному ее хватает лишь на неделю. Дескать, он, бессовестный, собирается посадить на шею бедной матери еще и жену. Но насчет этого мать может не беспокоиться, он и сам сумеет заработать на семью. Скажем, пойдет опять к тому же Тарасычу и обо всем с ним договорится. Ведь сегодня за четыре часа он получил шесть рублей, а если ему по столько подрабатывать через день, то за месяц у него набежит девяносто. Да плюс еще стипендия. Вот уже и все сто тридцать, оклад дипломированного инженера, как раз столько получает сестра Наталья. Кстати сказать, когда она выходила замуж, мать тоже сперва рвала на себе волосы, была против ее брака, а затем смирилась и даже вон укатила за тридевять земель нянчить внучку.
Рассуждая так, Антон уже видел себя женатым, представлял, как они с Ариной выходят под вечер из дому, направляясь в театр. На Арине темно-вишневое длинное платье, из-под него белыми зайчиками выглядывают модные туфли, сам он в новом черном костюме, белой рубашке и галстуке в косую полоску. Мать, провожая их, улыбается, на ходу расправляет складку на платье Арины. Взявшись за руки, они выходят из подъезда и, минуя пятачок, слышат шушуканье в «народном собрании»: «Гляньте, гляньте, какую жену сыскал себе сын Аверьяновны!.. С виду парень ничего особенного, а высмотрел прямо красавицу. Видать, губа у него не дура…»
Но потом Антон спохватывается, что ничего подобного пока нету, что это всего-навсего его пустой вымысел, а в жизни все обстоит иначе, в жизни Арина завтра улетает на Север, и, конечно, никто ее туда силой не гонит, она сама рвется в край безмолвных снегов, с радостью торопится к знакомому пилоту-полярнику, молодому парню в фуражке с золотым крабом, очень красивому в своей летной форме, за которым любая девушка готова ринуться хоть в космос. Вот именно этим и объясняется столь поспешный отъезд Арины, ее желание покинуть Москву.
И Антон, доселе бродивший по квартире, вдруг останавливается перед зеркалом, долго и мрачно смотрит на свое отражение и недовольно морщится: ничего привлекательного в его лице не было. Глаза глуповато-восторженные и словно бы подернуты сизой дымкой, короткий прямой нос книзу слишком расширен, губы не в меру полные и одна толще другой, а волосы неопределенной окраски, сестра Наталья, надо полагать издеваясь над ним, называет этот цвет какими-то нерусскими словами: «пепель-блёнд». Ясное дело, с таким заурядным лицом он не мог понравиться Арине, оттого она и не давала о себе знать целых две недели.
Ну что тут поделаешь, не биться же ему теперь головой о стенку. Да это и не поможет, все равно, как говорится, насильно мил не будешь. Вот только обидно, что из-за Арины он добровольно обрек себя на каторгу, столько вечеров проторчал дома. Выходит, наперекосяк пошла его свободная самостоятельная жизнь, и ни к чему ему было радоваться отъезду матери. Да будь она дома, он не попал бы в эту историю, при ней не поехал бы разыскивать Арину по вокзалам, не привел бы ее в два часа ночи в свою квартиру. А теперь, оказывается, он еще должен ее и провожать. Ну не смешно ли? Все две недели она где-то скрывалась, а накануне отъезда изволила появиться, оставила писульку: проводите меня, пожалуйста. Странно, зачем ей это нужно, что от того изменится, если он на прощанье ей помашет рукой из стеклянного колпака аэровокзала?
И все-таки Антон намеревался проводить Арину, хотя и понимал, что в этом не было никакой нужды. Ну кто ему Арина? Жена? Невеста? Давняя хорошая знакомая? Нет, к сожалению, всего-навсего случайная девушка, с которой он посидел один вечер в кафе, а потом привез ее к себе в квартиру и выпил с ней чаю на кухне. Так с какой же стати, казалось бы, тащиться ему в Шереметьево, провожать чью-то будущую жену? Но тут разум его был бессилен, Антон чувствовал, что не мог он пренебречь возможностью еще раз увидеть Арину.
Весь оставшийся вечер он готовился к завтрашней поездке в аэропорт, обдумывал, какой лучше надеть костюм, старательно наглаживал белую рубашку и галстук, начищал до блеска черные выходные туфли на большом каблуке. Уже укладываясь в постель, он подумал, что проводит Арину с цветами, поскольку деньги у него теперь были, и добрым словом вспомнил тетю Настю, эту божью птичку, которая будто что-то почуяла и неожиданно прилетела, так кстати одарила его десяткой.
Антон не помнил, сколько идет автобус до Шереметьева, а звонить в справочное поленился и потому выехал из дому загодя, в третьем часу дня. И пока забегал в магазин за цветами, пока добирался на метро до городского аэровокзала, пока наконец доехал до Шереметьева, время подступило уже к пяти. Точнее, было без двадцати пять, когда он вошел в сверкающий стеклом аэровокзал, всякий раз поражавший его своей огромностью. Не найдя Арины среди пассажиров, регистрирующих билеты и оформляющих багаж, он понял, что она еще не приехала, и вышел на улицу, стал ждать ее у входа.
Вся площадь, вплотную примыкающая к стеклянной стене аэровокзала, была забита сотнями разных машин, а к его главному входу все прибывали новые автобусы, такси, частные и служебные автомобили, из которых выходили люди с чемоданами и сумками, возбужденные предстоящим полетом, с неестественно резкими движениями, с напряженными улыбками. Расхаживая взад и вперед перед стеклянными дверьми, что беспрестанно то открывались, то закрывались, Антон с волнением вглядывался в каждую девушку, боясь пропустить, не заметить Арину, поскольку не знал, как она будет одета и на чем приедет.
День был тихий, теплый, солнце припекало по-летнему, хотя кончался уже сентябрь, и Антону скоро стало жарко в своем новом коричневом костюме, который мать купила ему перед отъездом в Ташкент. «А на Севере начались холода, — подумал Антон. — Там вовсю гуляют свирепые ветры, сутками идут ледяные дожди. И что все-таки тянет ее туда?» Он расстегнул пиджак, немного ослабил узел на галстуке и только собрался закурить, как увидел вышедшую из такси Арину. Была она в светлом длинном плаще, с непокрытой головой, на плече у нее висела желтая дорожная сумка. Но что такое?.. Вслед за Ариной из машины еще вылезла совсем маленькая девочка в белой шапочке. Откуда она взялась, чья эта девочка? И почему Арина держала ее за руку?
Больше из машины никто не вышел. Шофер достал из багажника объемистый чемодан, поставил его рядом с Ариной и тут же уехал. «Неужели у Арины есть дочь и она улетает с ней к мужу?» — мелькнуло в голове Антона. От этой мысли у него гулко забилось сердце, перед глазами поплыла оранжевая рябь. Выходит, она его обманула, говорила, мачеха ждет не дождется, когда выдаст ее замуж, а сама, оказывается, давно была замужем. У Антона сразу пропало всякое желание видеть Арину, он хотел сейчас же выбросить в урну цветы, которые бережно держал в руках, а затем спрятаться за стоявший вблизи автобус, уйти совсем, но в это время она его заметила и радостно закричала:
— Анто-о-он!.. Анто-о-он!..
Он сделал вид, будто ее не слышит, однако Арина, подхватив чемодан, уже бежала к нему. Девочка в белой шапочке, неуверенно переставляя ножки, семенила рядом, трогательно прижимая к груди красного резинового попугая. И тут Антон не выдержал, увидев улыбающееся лицо Арины, он забыл про все на свете и бросился ей навстречу.
— Ой, как хорошо, что вы приехали!.. — останавливаясь перед ним и опуская на землю чемодан, заговорила Арина. — Боже мой, да еще с цветами!.. А я вчера так расстроилась, что вас дома не застала. Боялась, больше не увидимся. У меня столько суеты было перед отъездом, вы себе и представить не можете. Последнее время я спала по три-четыре часа в сутки. И все равно кажется, будто что-то не успела, что-то забыла… А вы вроде немного похудели. Плохо без мамы, правда?.. Ну как вы живете?.. Вы хоть вспоминали обо мне?..
— Я каждый день вас ждал… — невольно вырвалось у Антона, растроганного тем, с какой радостью его встретила Арина.
— Ах, бедненький, ах, добрый Антон!.. — воскликнула Арина, еще часто дыша после бега. — Какая я нехорошая, бессердечная, зря заставила вас маяться. А меня все сомнение брало, думала, вдруг будете не рады, если я к вам зайду. Ведь я всего вам в тот вечер не рассказала… И теперь вижу, как я виновата перед вами…
— Да в чем ваша вина?.. — снова сник Антон.
— А в том и виноватая, что не до конца вам открылась, — теребя ремешок висевшей на плече сумки, сказала Арина. — Ведь в ту ночь я даже на минутку глаз не сомкнула. Помните, я еще душ холодный приняла? Так это я сон от себя отгоняла. Словом, посидела я тогда часок и решила уйти. Тихо открыла дверь и заглянула в вашу комнату. Вы вовсю спали, уже светало, в квартире хорошо было видно. Я села в кресло и долго смотрела на вас. И вдруг мне захотелось разбудить вас, рассказать вам все, но потом испугалась…
У Антона смешалось все в голове, он слушал Арину и плохо понимал, о чем она говорила. Вроде из-за чего-то казнилась, в чем-то винила себя. Неужели у нее не ладилось с мужем? Ведь могло быть такое: вышла случайно замуж, родила эту девочку, а потом поняла, что мужа не любит. О чем она хотела рассказать ему в то утро? Может, Арину угнетает, что у нее ребенок? Но это его не очень-то пугает, она все равно ему нравится. Да и дочь у Арины хорошая, умная. Вон она стиснула ручонками резинового попугая и спокойно стоит, не плачет, не просит мороженого. Ведет себя как взрослая, хотя совсем еще крошка. Правда, она мало похожа на Арину, особенно глазами. У Арины глаза широкие, далеко расставлены, с налетом едва уловимой грусти, а у девочки они небольшие и слишком веселые, с зелеными искорками возле зрачков. Но все равно она хорошая, такая любому понравится. И зачем только Арина тащит ее куда-то на Север? Нет, видимо, она едет все-таки к мужу, на которого и похожа ее дочь.
— А что вы забыли на этом Севере? — спросил Антон и с обидой поглядел на Арину. — Вы к мужу летите, да?
Арина слегка пожала плечами, сдержанно улыбнулась:
— Нет, Антон, я же вам говорила… Конечно, я вполне понимаю ваше недоумение… Наверно, любой на вашем месте спросил бы то же самое. Но это правда, что я не замужем.
Антон тотчас воспрянул духом, весело сверкая серыми глазами, сказал с радостью:
— В таком случае вам нечего делать на Севере. Тоже мне придумали: там сильные люди. Как будто здесь одни слабые. Поймите, на Севере и сильному трудно, а вам-то…
— Антон, не надо меня жалеть, — перебивая его, попросила Арина. — Вы, пожалуйста, не думайте, что я несчастная или обманутая… Нет, ничего подобного. Просто так сложилась у меня жизнь. Но я ни о чем не жалею…
Девочка, все это время державшаяся за руку Арины, неожиданно опустилась на корточки, хлопнула ладошками и, слегка подпрыгивая на месте, весело засмеялась тоненьким заливистым голоском.
— Оленька, ты за кем там охотишься? — ласково спросила Арина, поправляя на ней белую вязаную шапочку.
— Во, во… гляди-и!.. — Оленька с детской нетерпеливостью тут же разжала кулачок и показала Арине что-то на ладошке.
— Боже мой, мошку поймала! — с радостным удивлением воскликнула Арина. — И как ты ее только увидела!.. Ножки у тебя сильно устали? Ты хочешь ко мне? Ну иди, иди сюда. — Она взяла девочку на руки, нежно поцеловала в щеку. — А вот и тетя Лена провожать нас с тобой приехала! Ты узнаешь ее? Вон она, видишь, из автобуса вышла.
— Визю, визю!.. — смешно залопотала Оленька. — Во бизит, бизит…
Вскоре к ним подбежала невысокая девушка в черной кожаной куртке и узких темно-синих джинсах. Ей было тоже лет восемнадцать — девятнадцать, но из-за полноты, которую подчеркивали плотно облегающие джинсы, она выглядела несколько старше Арины. Чувствовалось, ее сильно огорчал отъезд подруги, и она в нервном порыве крепко обняла Арину с Оленькой и долго не могла от них оторваться. Потом, словно что-то вспомнив, резко обернулась к Антону и вежливо поприветствовала его легким наклоном головы.
— Лена, это Антон, — сказала Арина.
— Я так и подумала, — кивнула ее подруга.
— Зачем же вы отпускаете их к белым медведям? — недовольно спросил он у Лены.
— А теперь люди стали страшнее зверей, — ответила Лена, выжимая скупую улыбку.
— Если насчет империалистов, то это верно, — уточнил Антон. — Озверели насмерть… Особенно Рейган…
Лена попыталась было что-то возразить, но тут Арина посмотрела на часы и вмешалась в разговор:
— Знаете, дети мои, с вашим зверьем мы на самолет опоздаем. Думаю, пора нам уже двигаться.
Она сказала это в полушутливом тоне, но в ее голосе Антон уловил некую надрывность, скрытую печаль и растерянность. Выходило, что не в радости летела она на Север. Да еще не одна, с этой вот крошкой Оленькой. Но как ее удержать, отговорить, какие слова ей сказать — он не знал. Вместе со всеми направляясь к стеклянным дверям аэровокзала, Антон немного приотстал, надеясь, что Арина тоже задержится, но Лена обняла ее и ни на шаг от себя не отпускала. Лишь в просторном длинном зале, где народу было больше, чем на самой бойкой ярмарке, ее подруга, словно что-то сообразив, забрала с собой девочку и отбежала с ней то ли выпить соку, то ли за мороженым. Антон сейчас же схватил руку Арины, нервно сжимая ее похолодевшими вдруг пальцами, заговорил быстро и сбивчиво:
— Вы не должны уезжать!.. Зачем вы это делаете?.. Еще не поздно все поправить, сдать билеты… Если вы не против, я увезу вас к себе… Вместе с дочерью…
— Что вы, глупенький, о чем вы говорите?.. — просияв лицом, встрепенулась Арина. — К чему такая жертва?.. Нет, нет, не нужна она… Я знаю, вы это от доброты, вы опять меня жалеете… Но мне другое надо, я счастья хочу, а оно не приходит вместе с жалостью… В тот день на бульваре ведь я сама к вам подсела, как бы навязалась… А если бы не так, то вы меня и не заметили б…
— Ну что вы придумали!.. — вскипел вдруг Антон и еще крепче сжал ее руку. — Я две недели вас ждал, ни в кино, ни к друзьям не ходил… А вы на Север вот…
— Антон, я не могу больше жить вместе с мачехой, — призналась Арина. — Я все время ей мешаю, а теперь еще и Оленька… Она требует, чтобы я отдала девочку в детский дом. Каждый меня туда гонит…
— Это как же так?.. — возмутился Антон, ничего не понимая. — Родного ребенка — и отдавать…
— В том-то и беда, что Оленька не родная, — сказала Арина, грустно вздыхая. — Это дочь моей умершей подруги. Мне не хотелось говорить, ну да ладно…
«Вот, оказывается, почему она не похожа на Арину, — подумал Антон о девочке. — А куда же девался ее отец?» И Антон спросил об этом Арину.
— Надя не была замужем, — невесело сказала Арина. — Он оказался подлецом, отец Оленьки… Сама Надя детдомовская. Оленьку родила на последнем курсе училища, которое мы вместе закончили. Потом стали с ней работать в одной больнице, все время дружили. Она жила с Оленькой в общежитии, в отдельной комнатке. А вот недавно, в августе, сгорела от самой страшной болезни. Пока Надя лежала в больнице, я брала из яслей девочку к себе на выходные. Она ко мне привыкла, стала звать меня мамой. Бывало, приду в ясли, другие дети тут же скажут ей, мол, мама твоя. И она, бедненькая, бежит, падая, ко мне, еще издали кричит радостно: «Ма-ма!.. Ма-ма!..» А у меня прямо слезы из глаз…
Слушая Арину, Антон вспомнил о вчерашнем разговоре с тетей Настей и опять-таки подумал, что она, конечно, не права. Вот, пожалуйста, сколько добрых, настоящих людей… Только все они скромные и не кричат о своей доброте. А еще Антон почувствовал, как все дороже становится ему эта девушка, которую он совсем не знал и, казалось, знал уже давно.
— Никуда я вас не отпущу!.. — решительно сказал он и обнял ее за плечи, притянул к себе.
Арина не отстранилась, а сама прильнула к Антону и неожиданно его поцеловала. И тут же, видно устыдившись порыва своих чувств, отшатнулась от Антона, прерывающимся голосом попросила:
— Ты, пожалуйста, не расслабляй меня, не отговаривай от Севера. Мне и так тяжело оставлять Москву, уезжать от тебя… Но я все равно должна уехать, другого выхода нету. На Севере живет мой дядя, он поможет мне с работой, у них там медики на вес золота… А ты, ради бога, не горячись, сам пойми, мне нельзя ошибаться, я теперь не одна. Но ты знай, я всегда буду помнить, как мы сидели в кафе, как ты смешно сердился, когда тот длинноволосик пригласил меня танцевать, как ты среди ночи разыскал меня на вокзале…
Тут по радио объявили о посадке на очередной рейс, и у Антона сразу больно сжало сердце, застучало в висках. Он нутром почувствовал, что это тот самый рейс, с которым должна улетать Арина. И он не ошибся. Арина вдруг засуетилась, стала нервно озираться по сторонам, ища подругу с Оленькой. Но Лена и сама, видимо, слышала объявление и уже бежала к ним. Подхватив на руки девочку, Арина сейчас же ушла с Леной регистрировать билеты. А расстроенный Антон какое-то время еще топтался возле чемодана Арины, и теперь его почему-то раздражал устойчиво ровный шум в зале, который шел от людского говора и хождения, от слабо проникавшего с улицы гула самолетов.
Потом они стояли в небольшой толпе у самого выхода на летное поле, и Арина, напряженно улыбаясь, пыталась рассмешить его с Леной какой-то остроумной шуткой. Но Антону все равно было невесело, и он тоскливо поглядывал то на Арину, то на притихшую Оленьку, которая охватила тонкой ручонкой ее шею. А скоро и с лица Арины сбежала та вымученная улыбка, и в ее странно потемневших глазах открыто проглянула леденящая душу печаль. В это время бесшумно раздвинулись двери, и отлетающие пассажиры хлынули навстречу оглушающему реву, в котором вмиг потонули все людские голоса. Однако и в страшном раскатистом громе Антон услышал, а вернее, успел прочитать по дрогнувшим губам Арины выдохнутые ею слова, и он верил, что она ему напишет.
В следующую минуту Антон потерял ее из виду, она словно растворилась в пестрой толпе, что двинулась к огромному самолету. Но у самого трапа, где люди плотно сбились в кучу, он опять ее увидел. Вынырнув из гущи, Арина отошла немного в сторону и махала им с Леной. А еще сквозь туман, набежавший ему на глаза, он различил над головой Арины тоненькую ручку с красным попугаем.

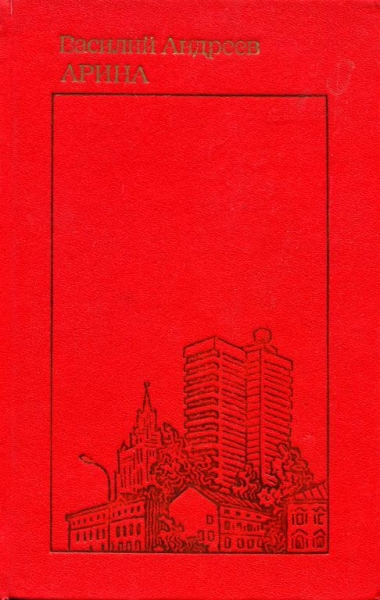


Комментарии к книге «Арина», Василий Степанович Андреев
Всего 0 комментариев